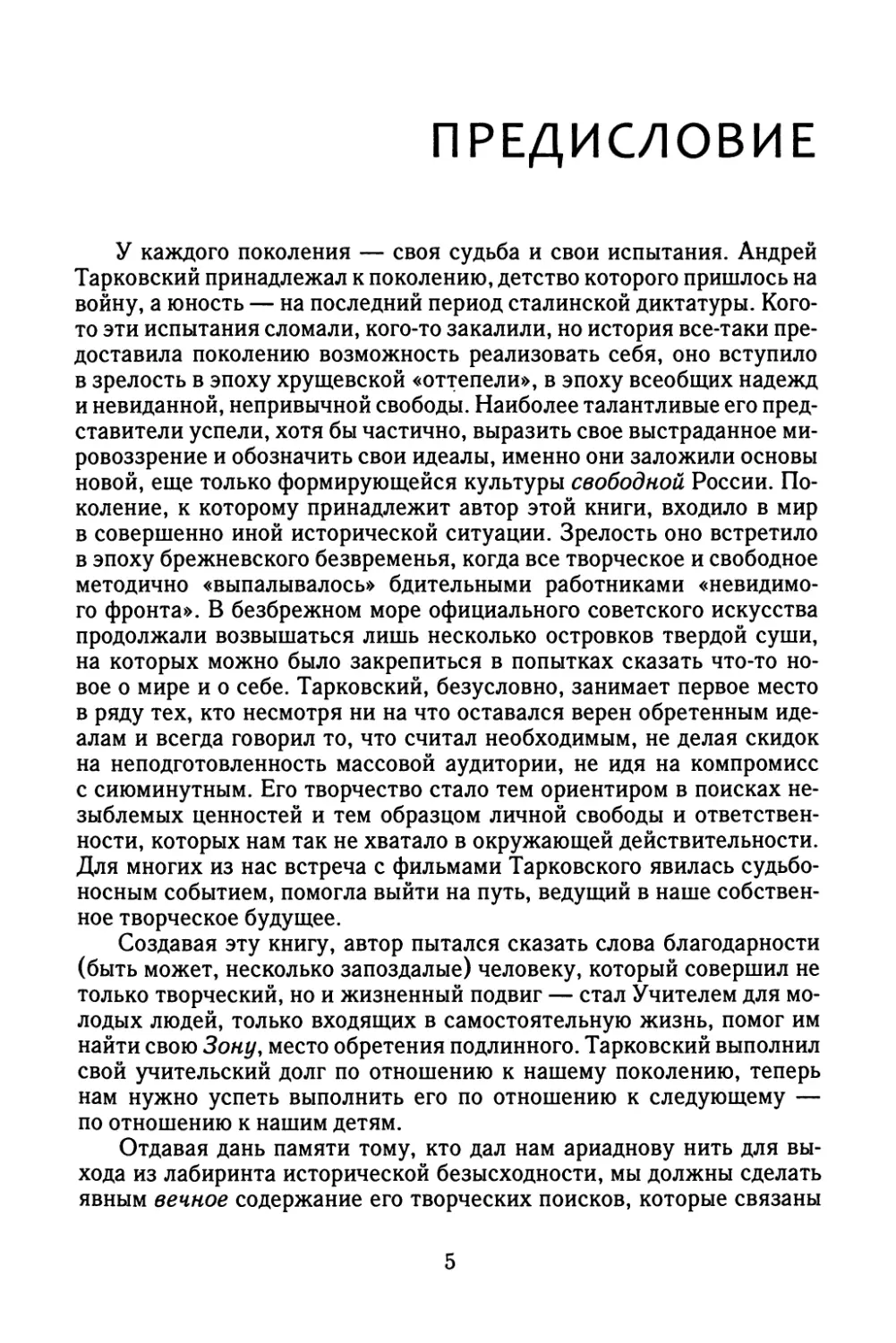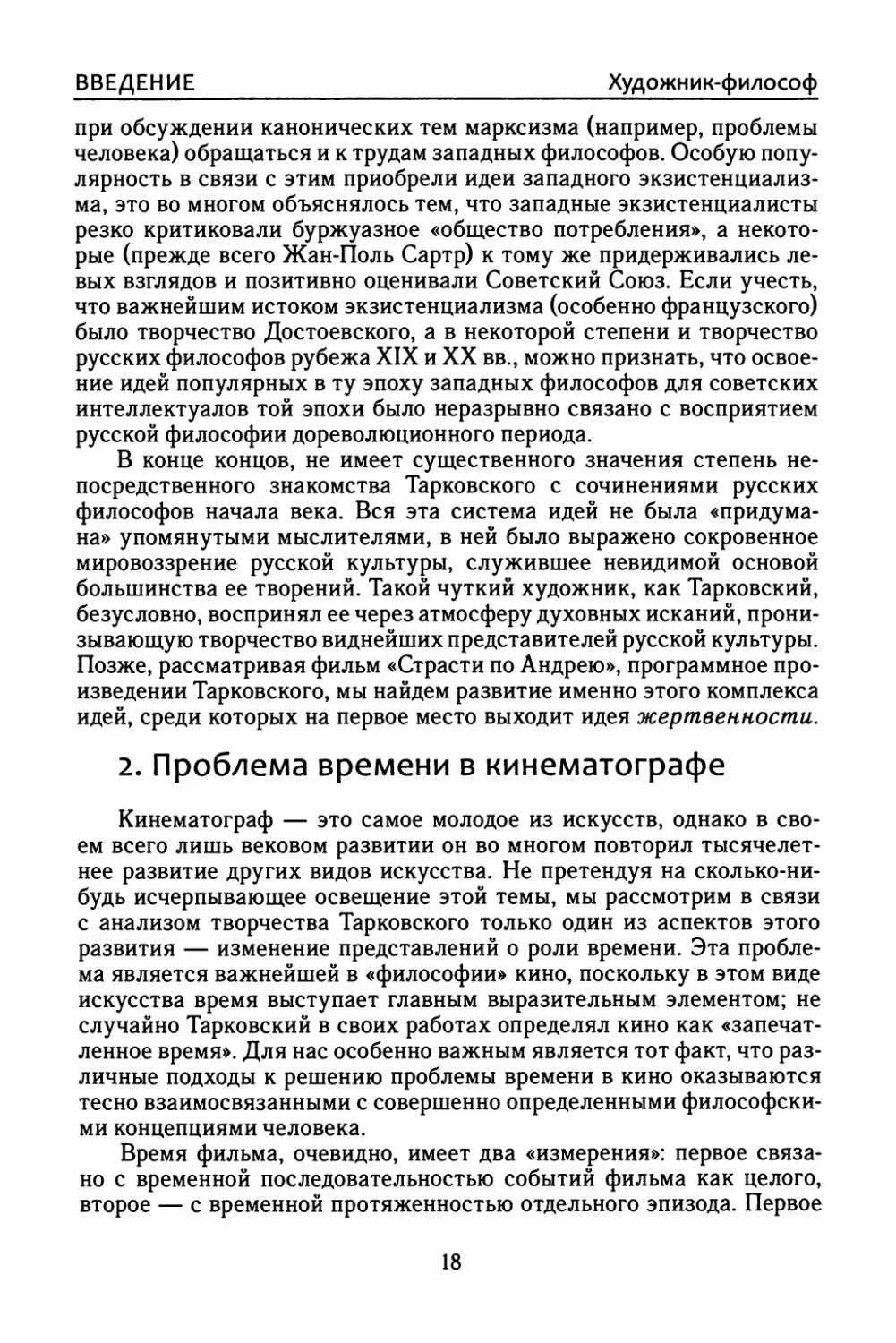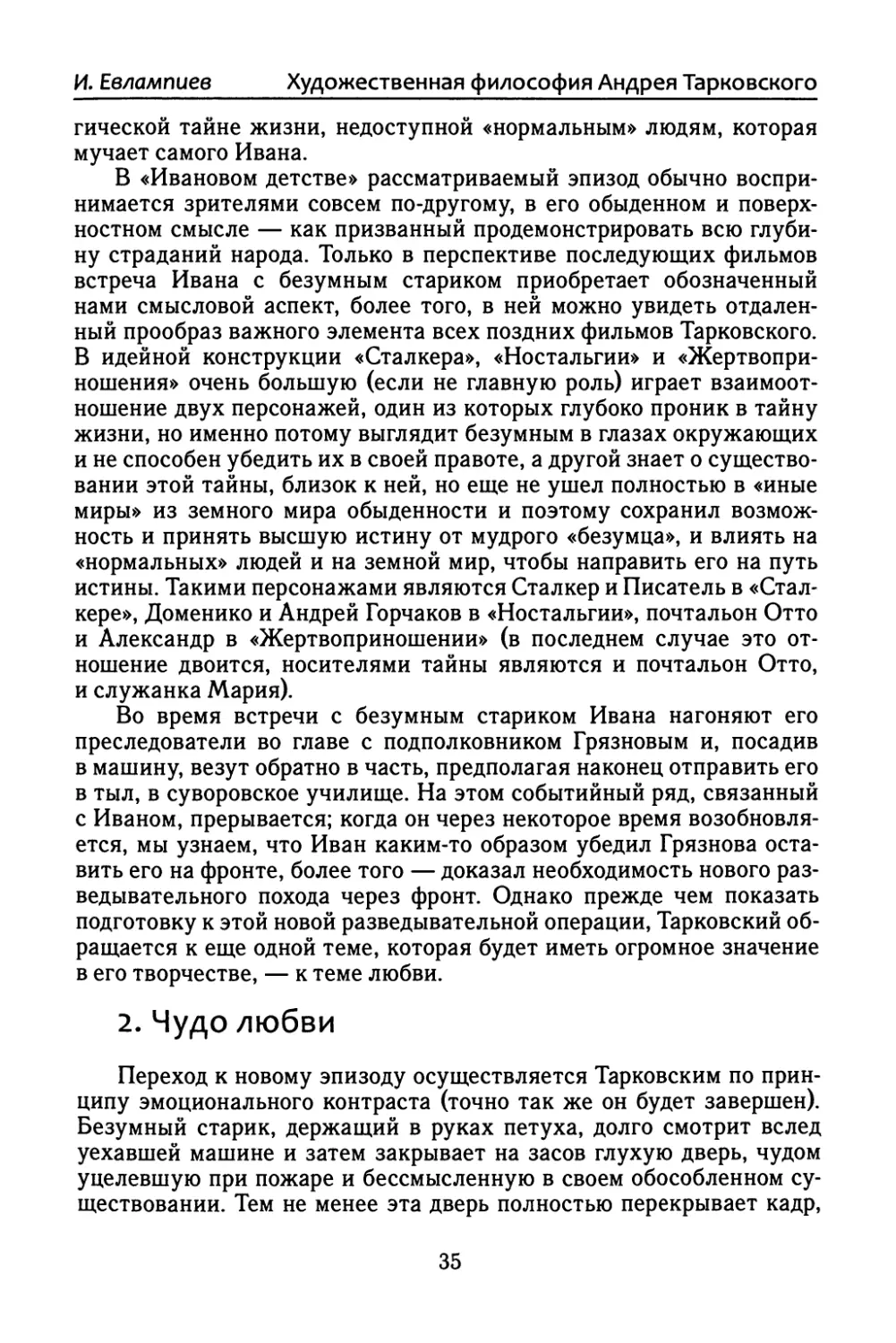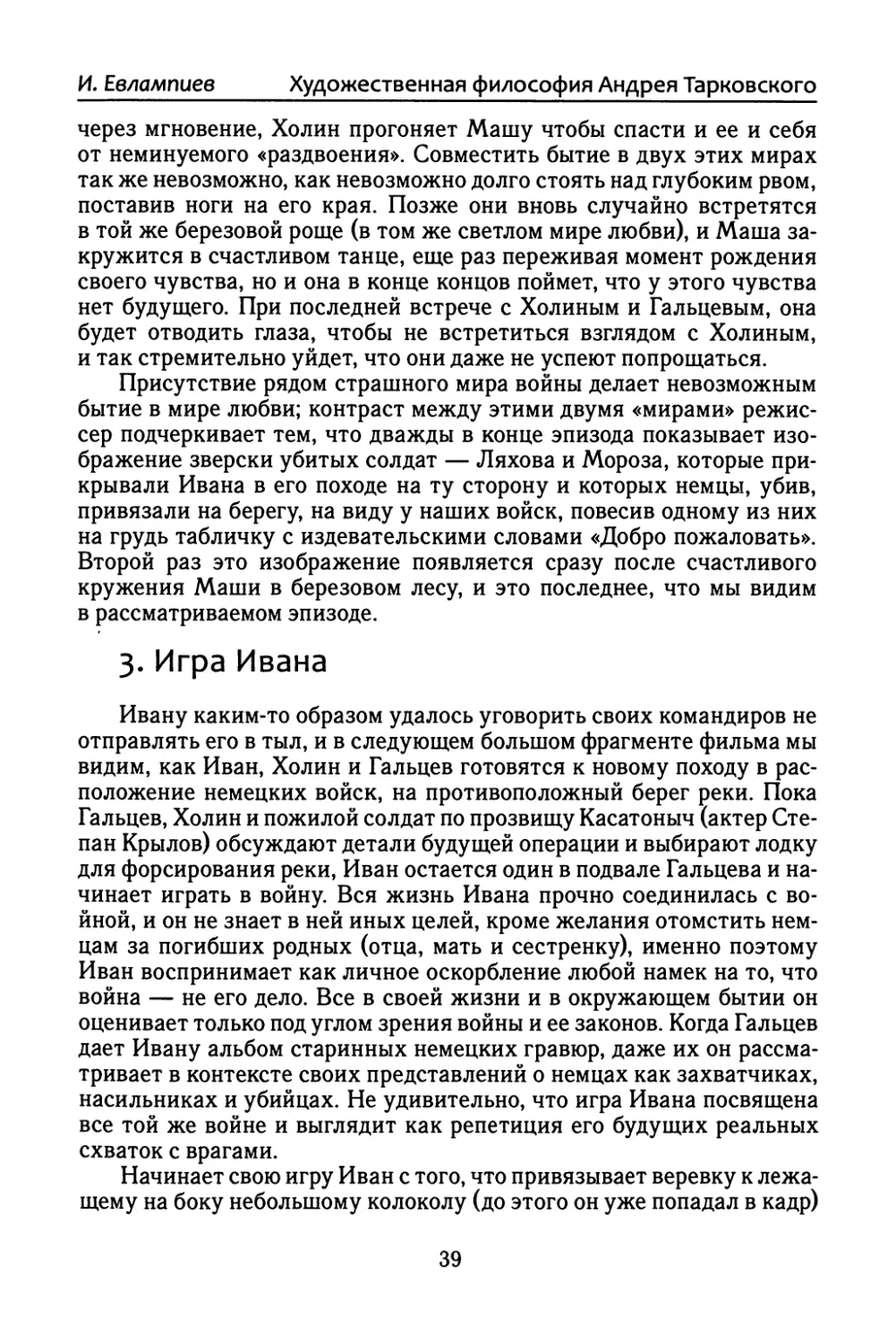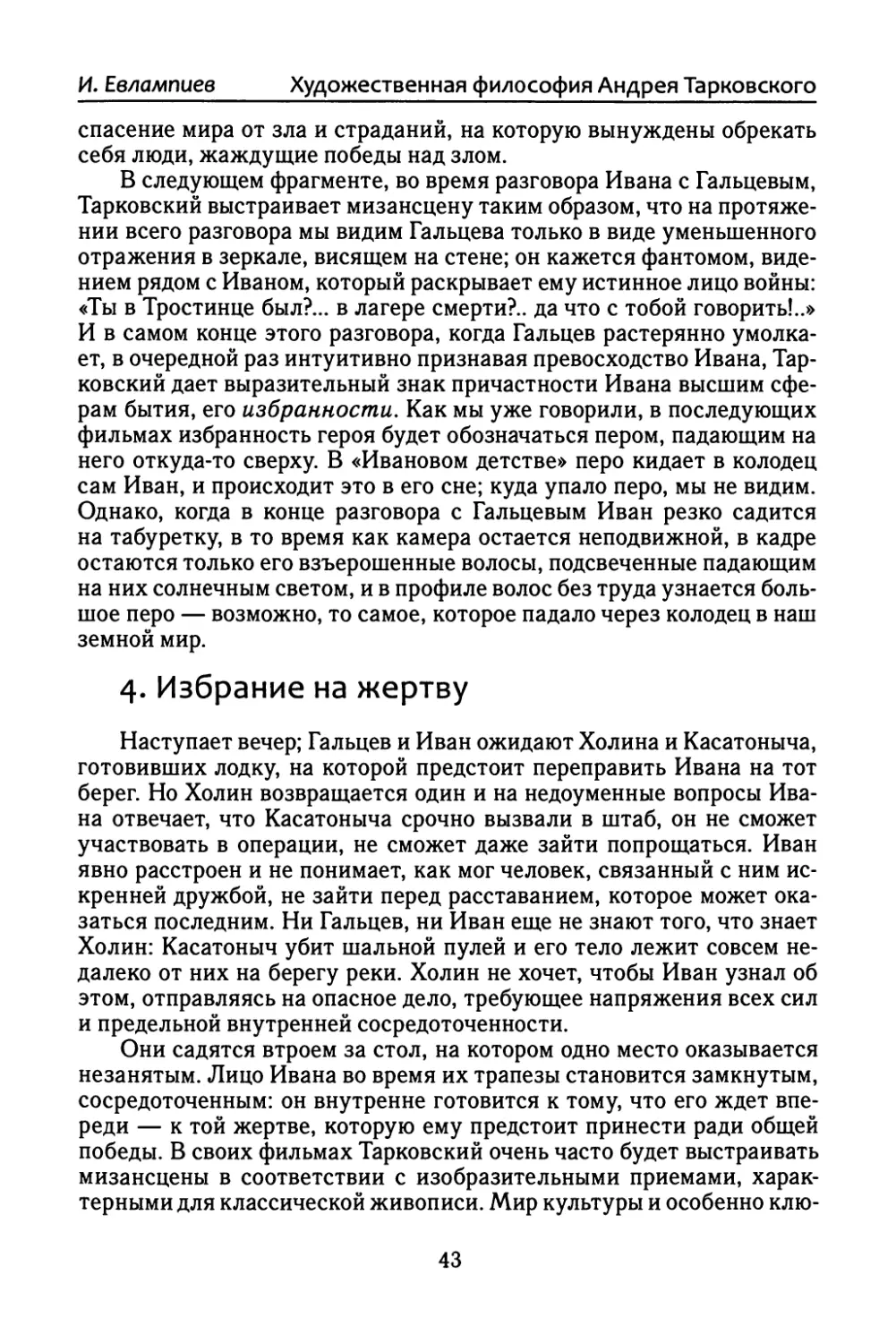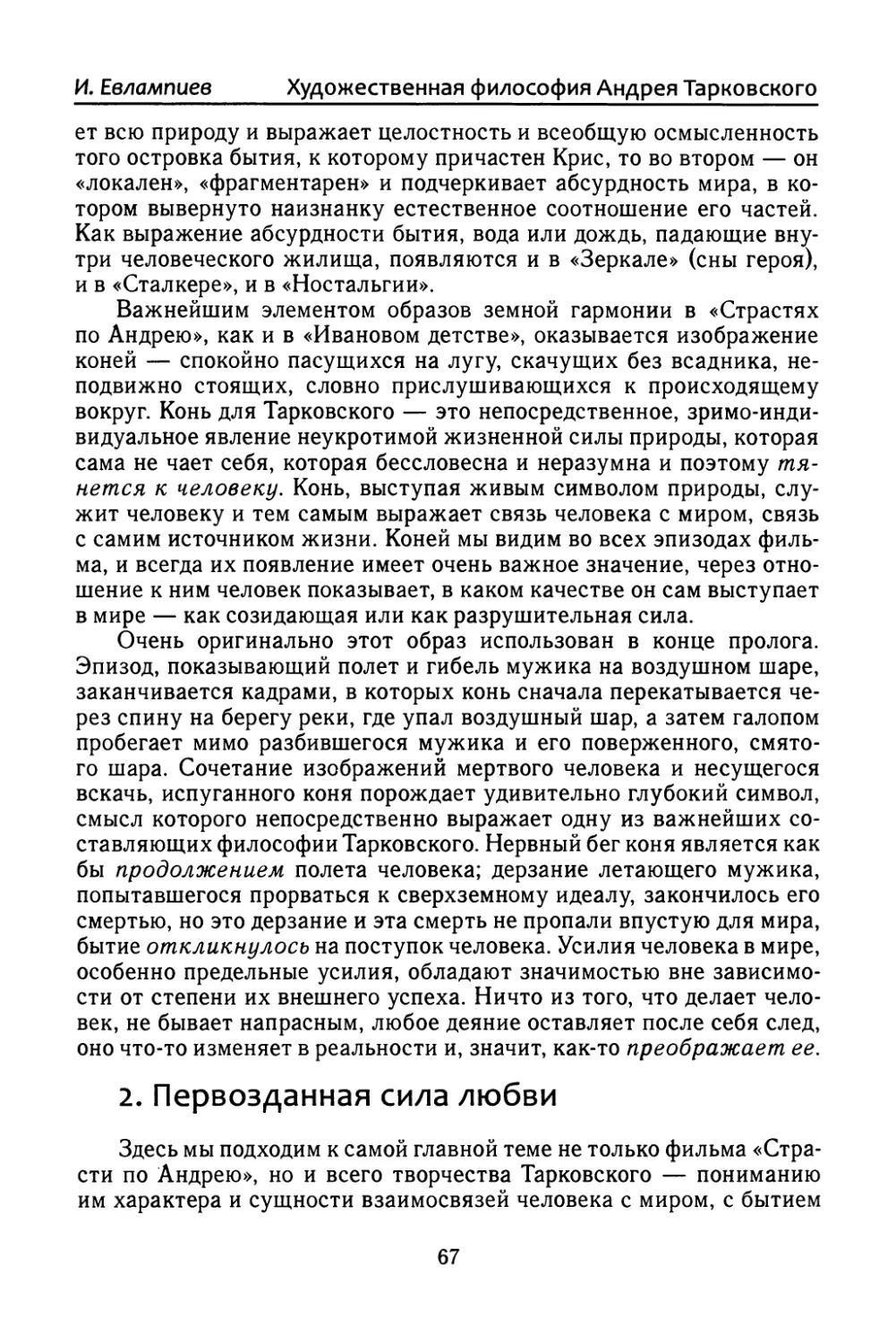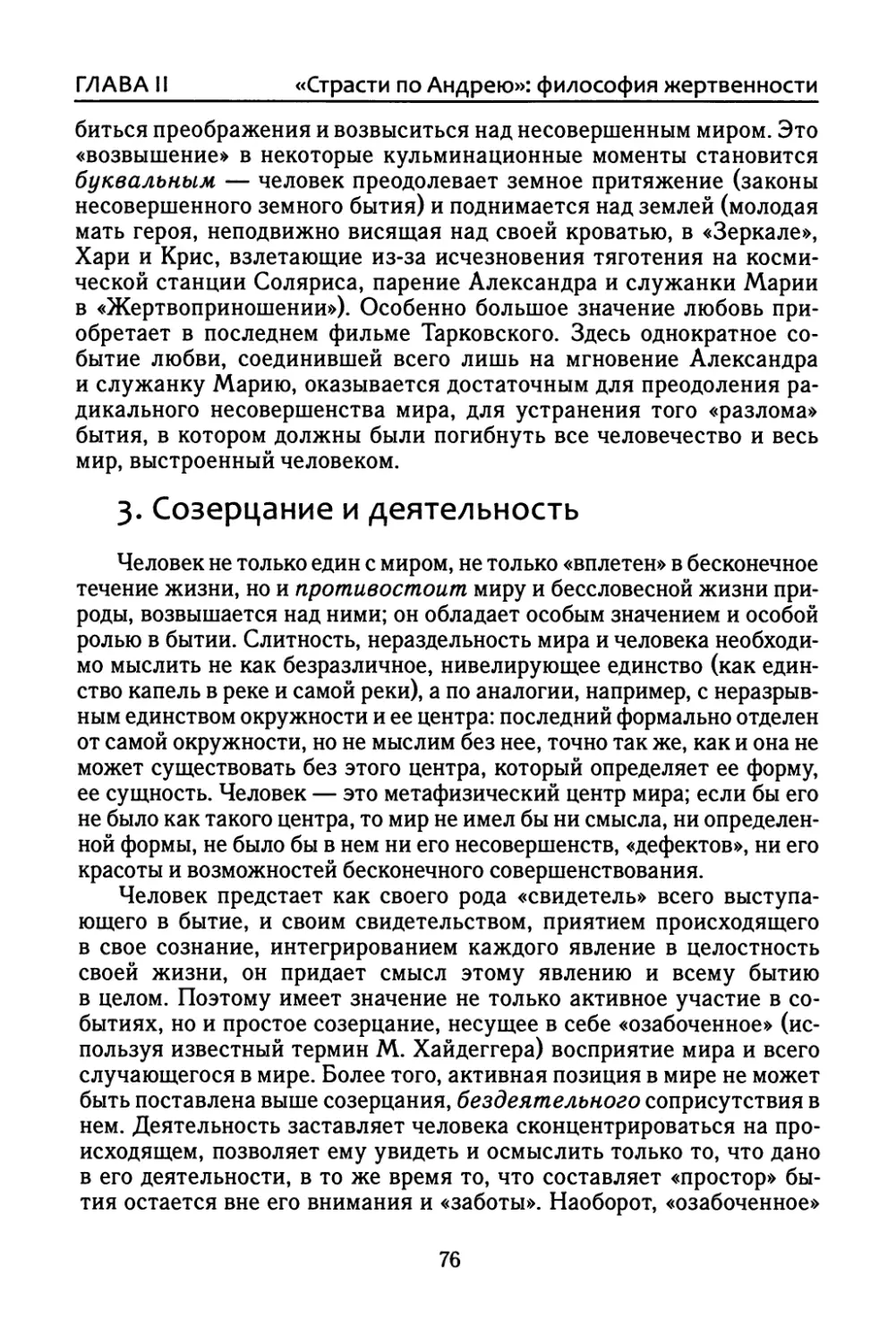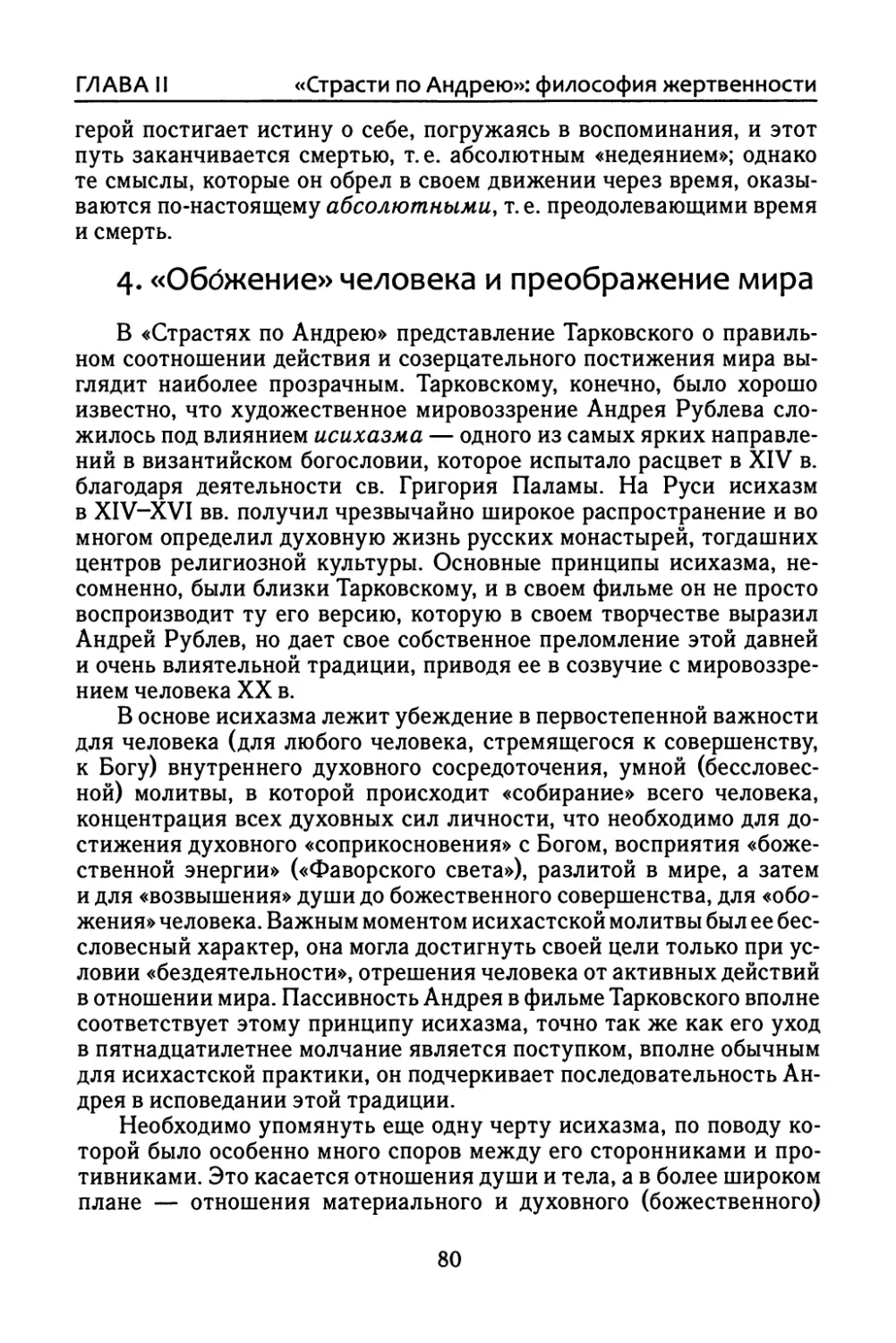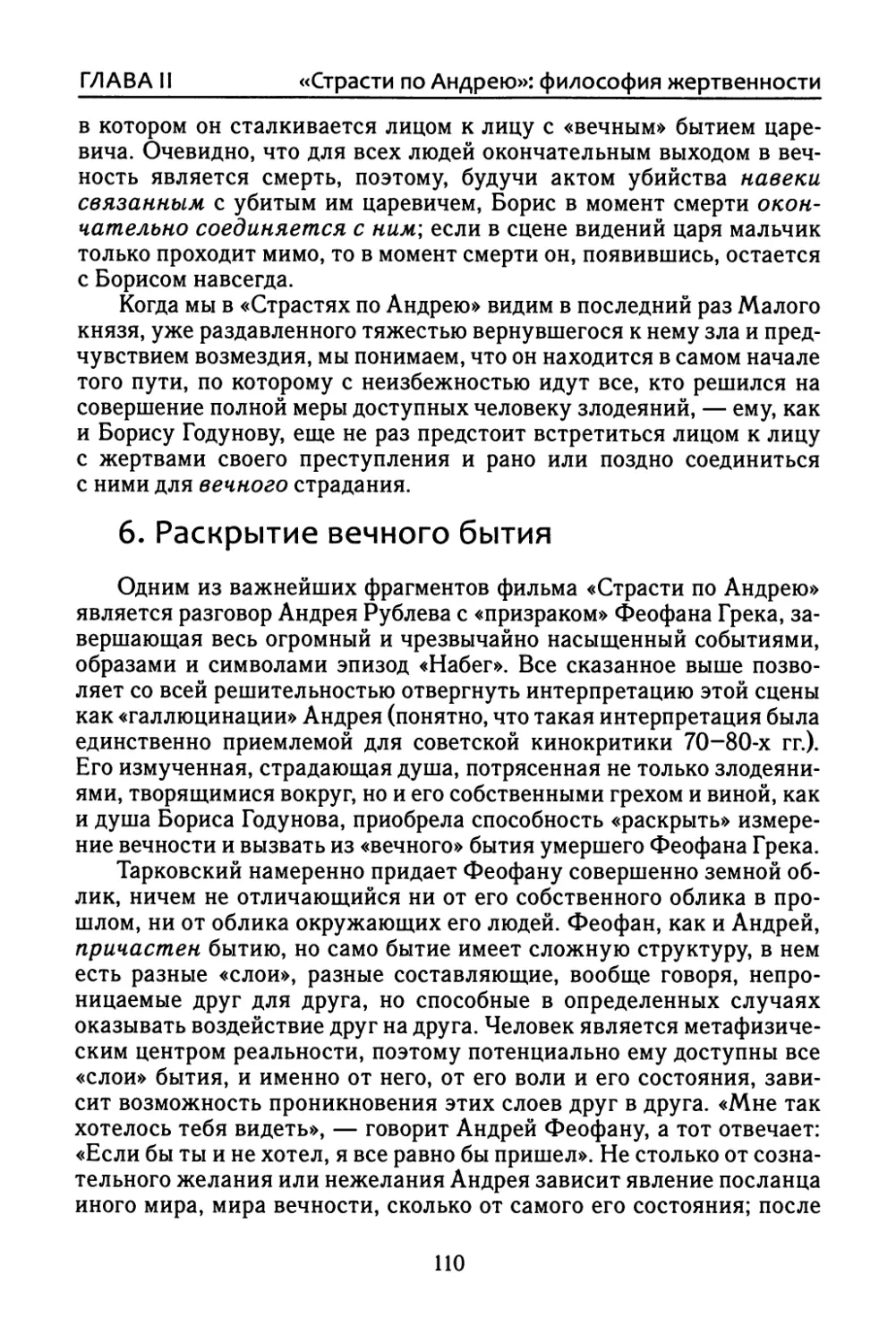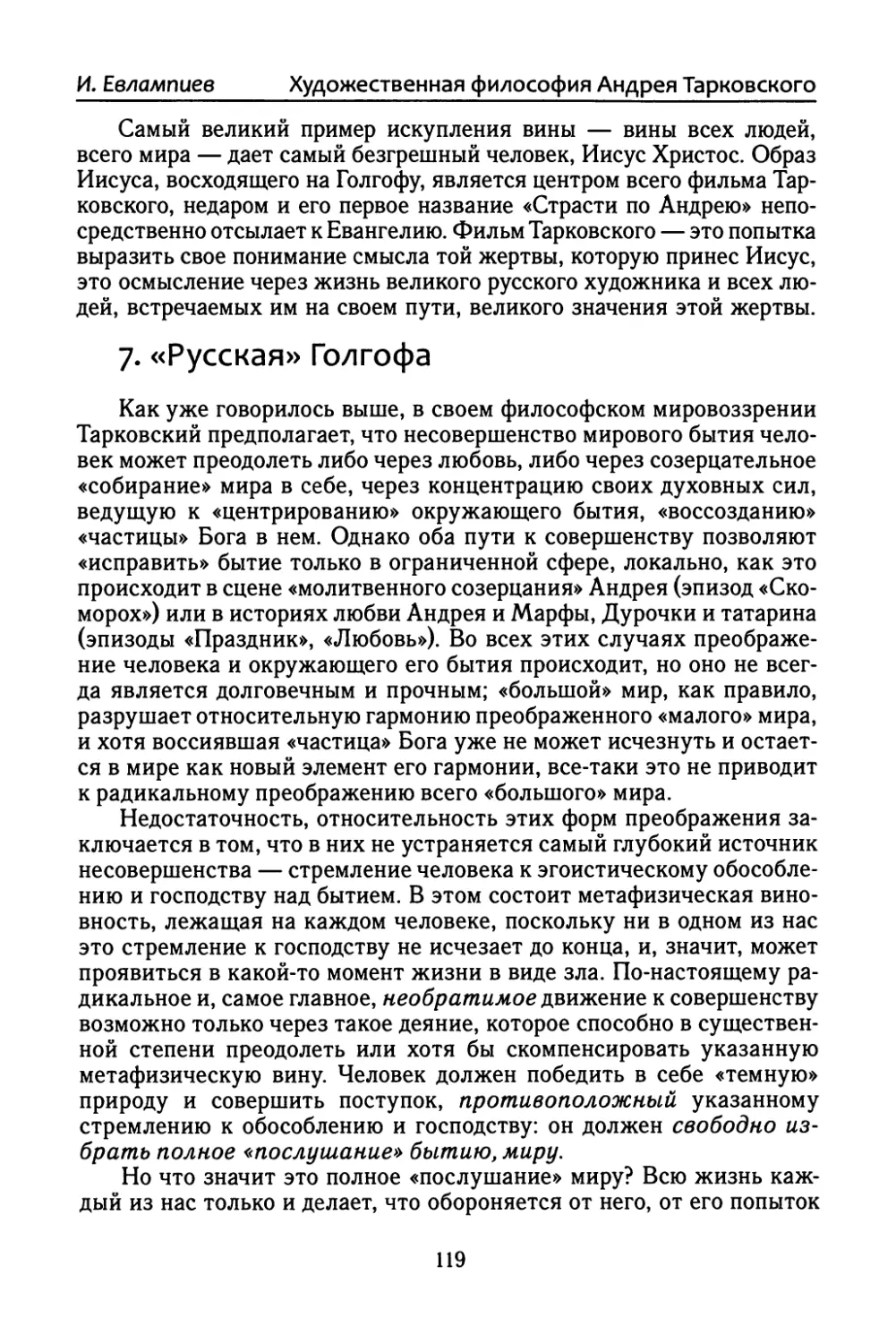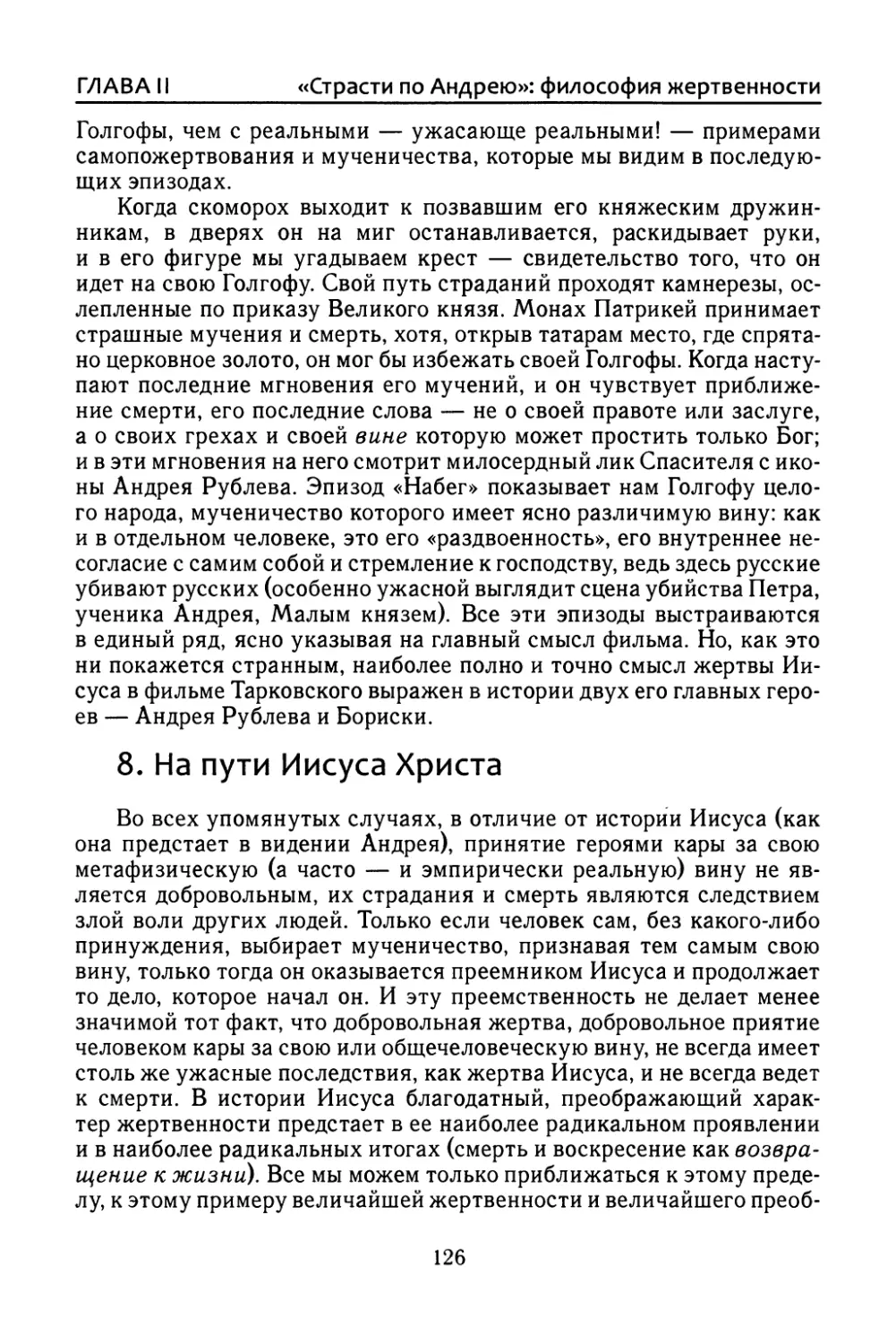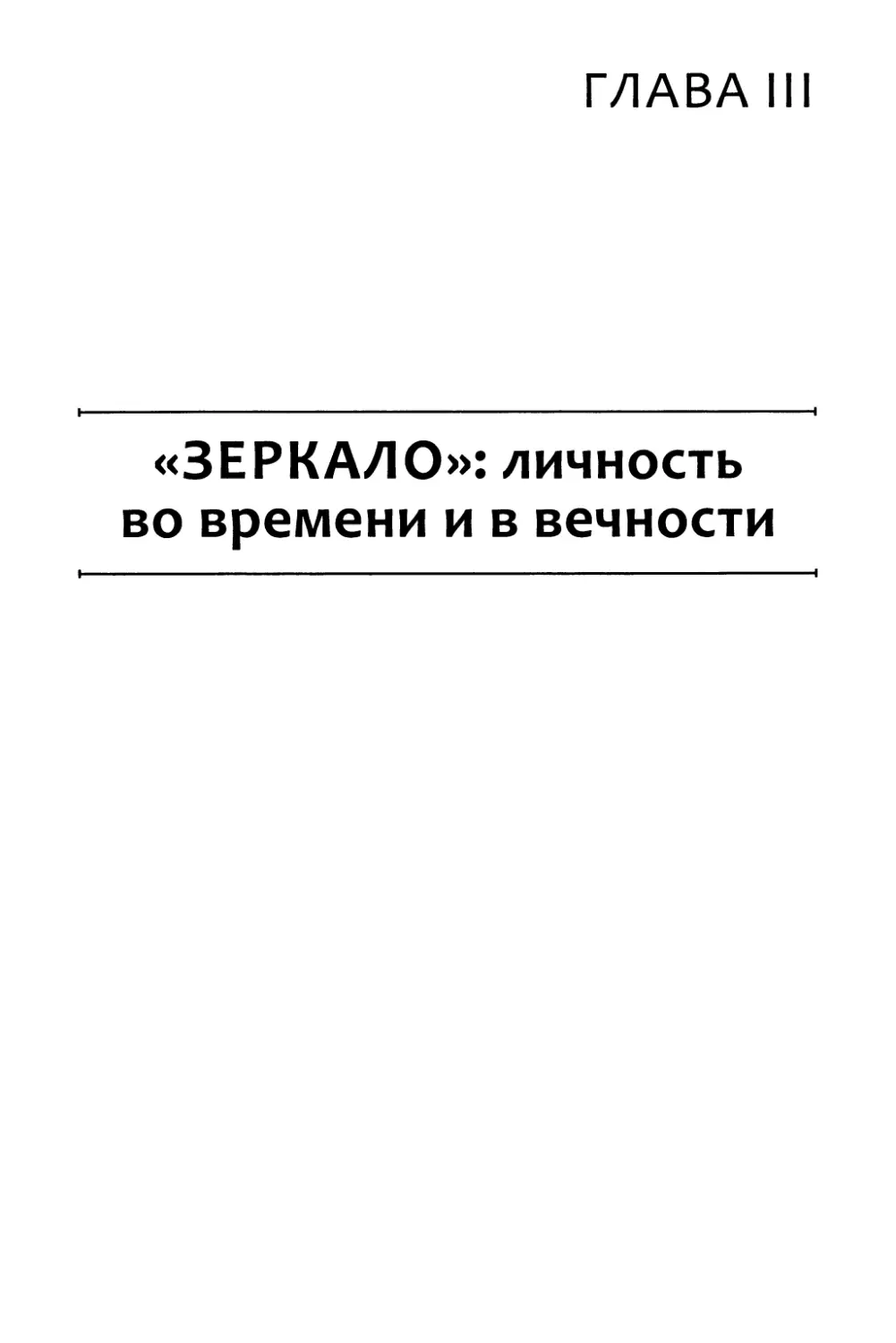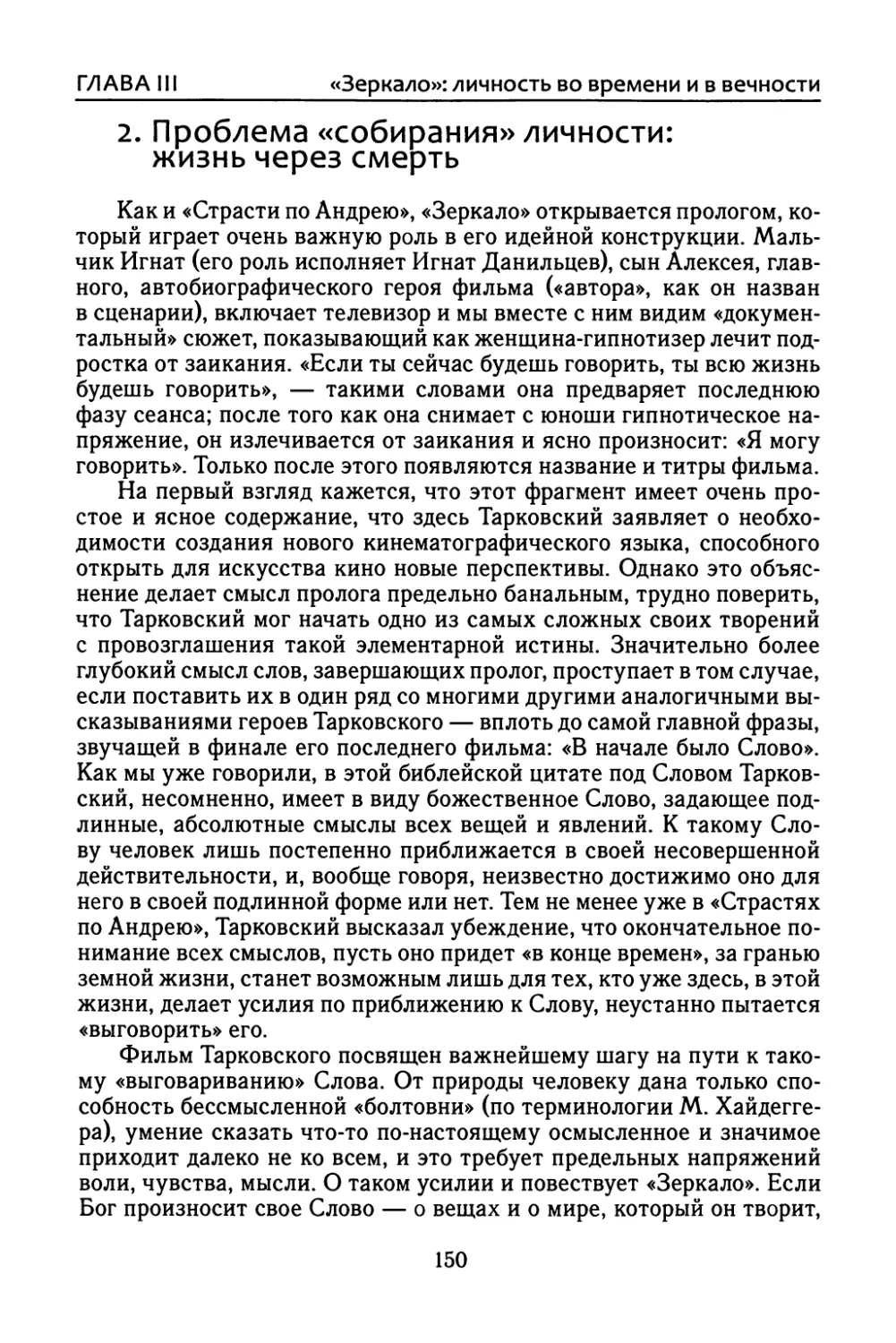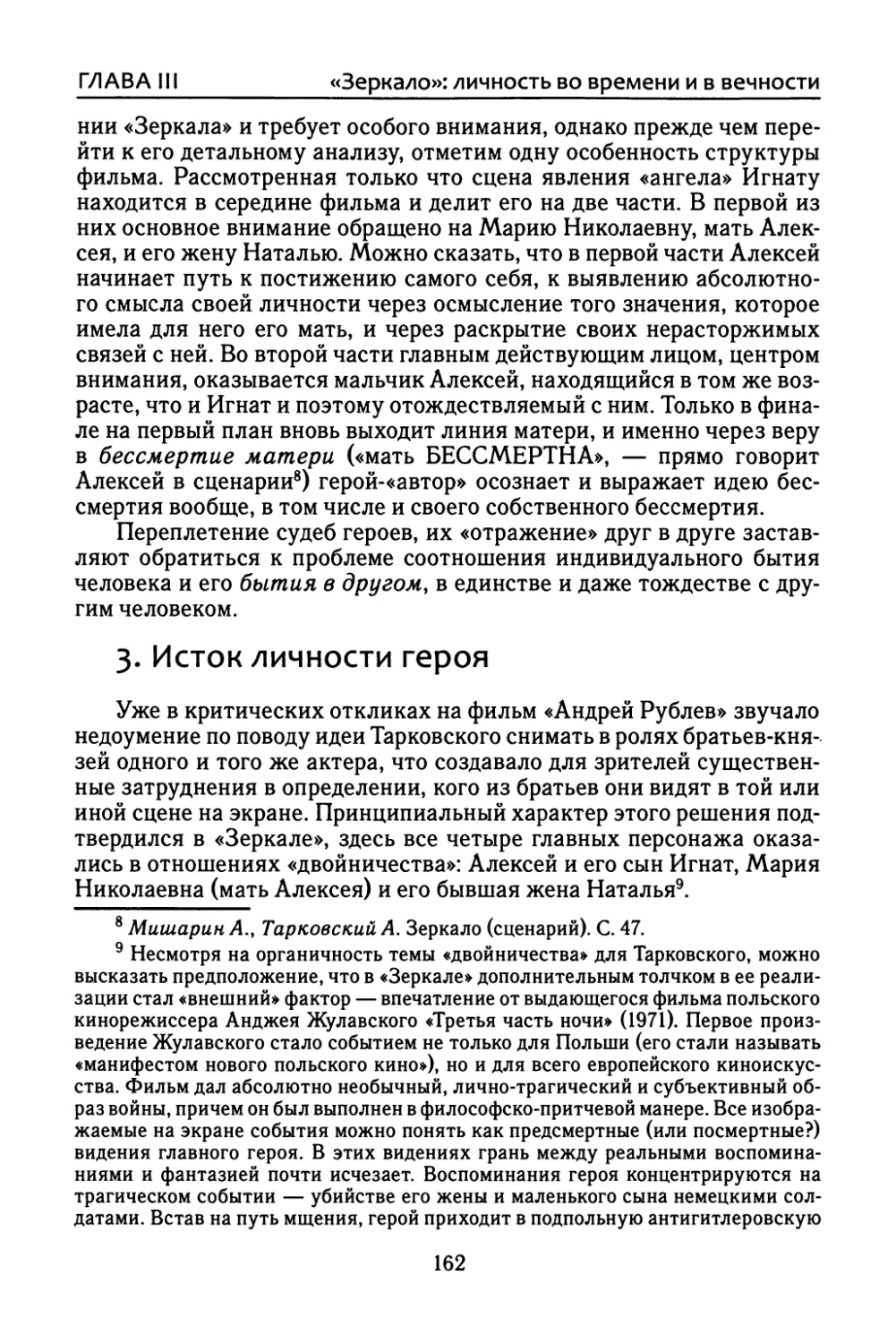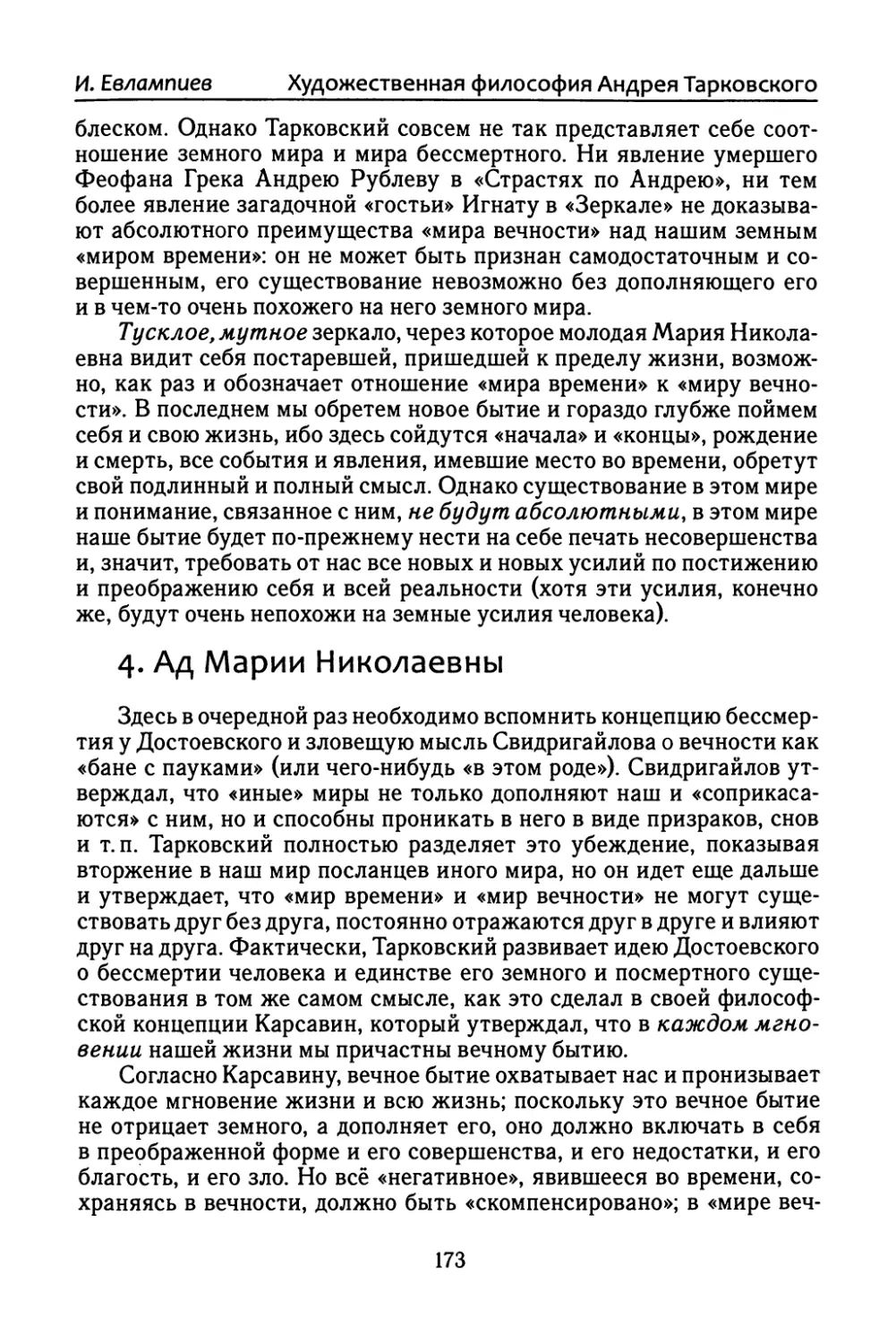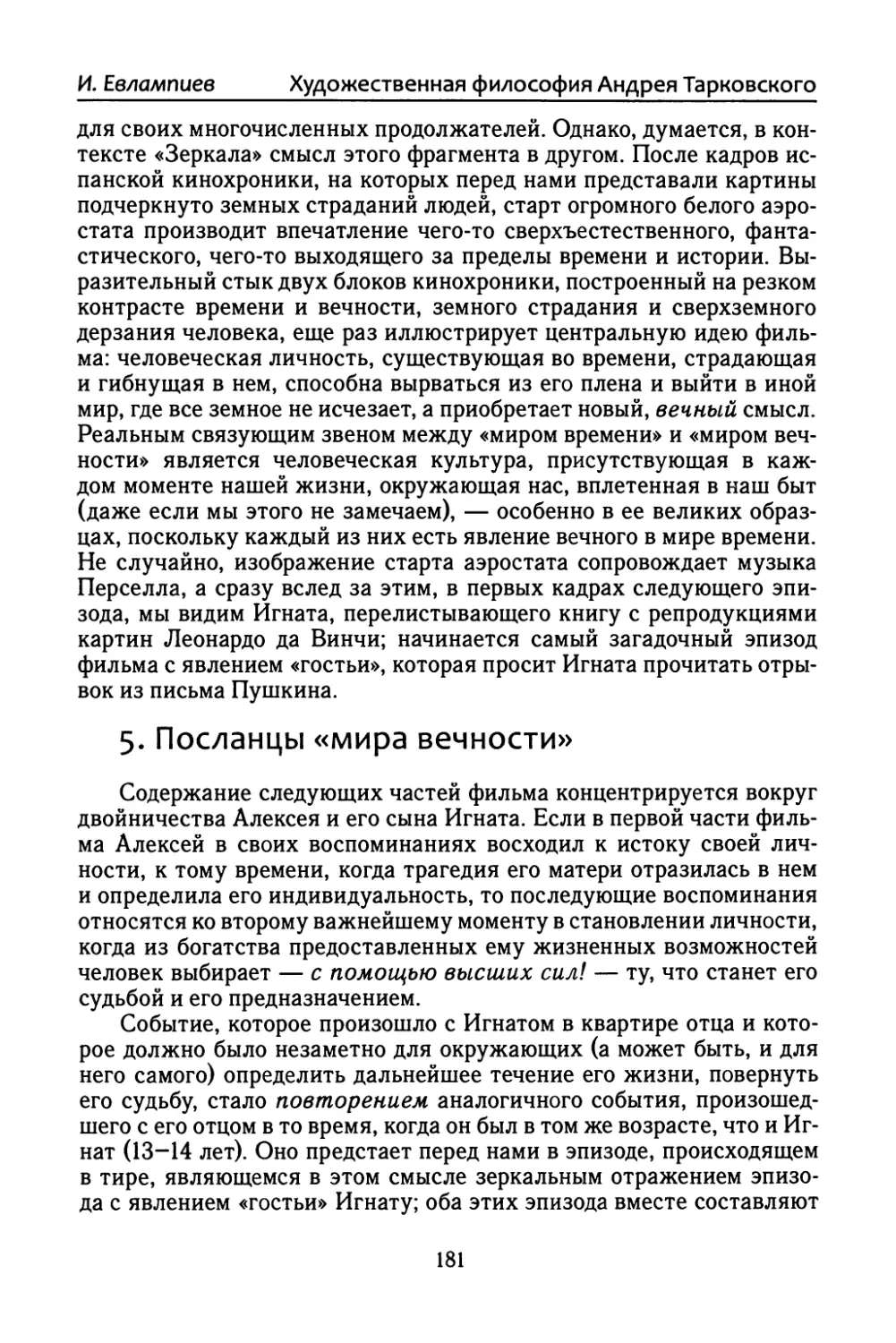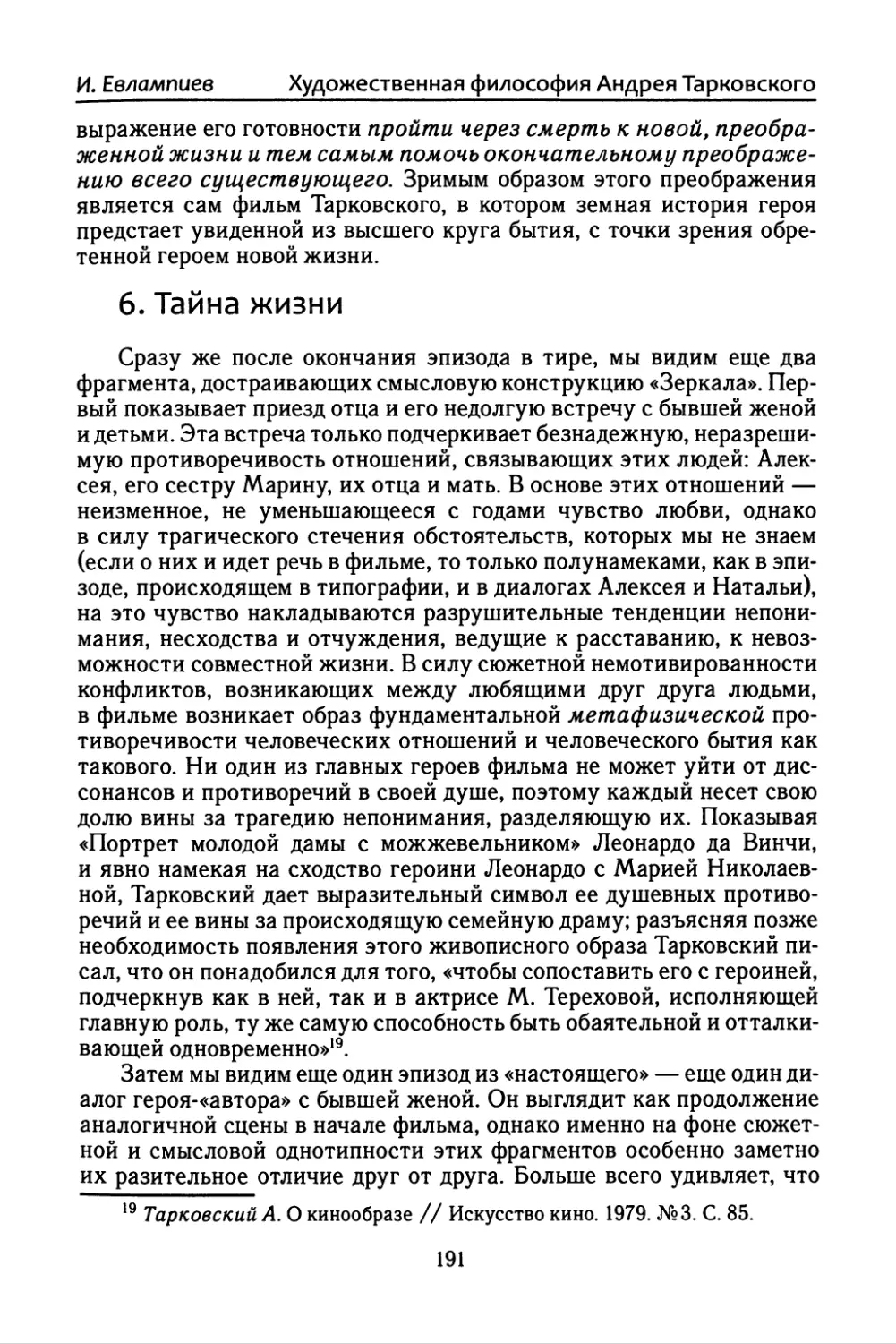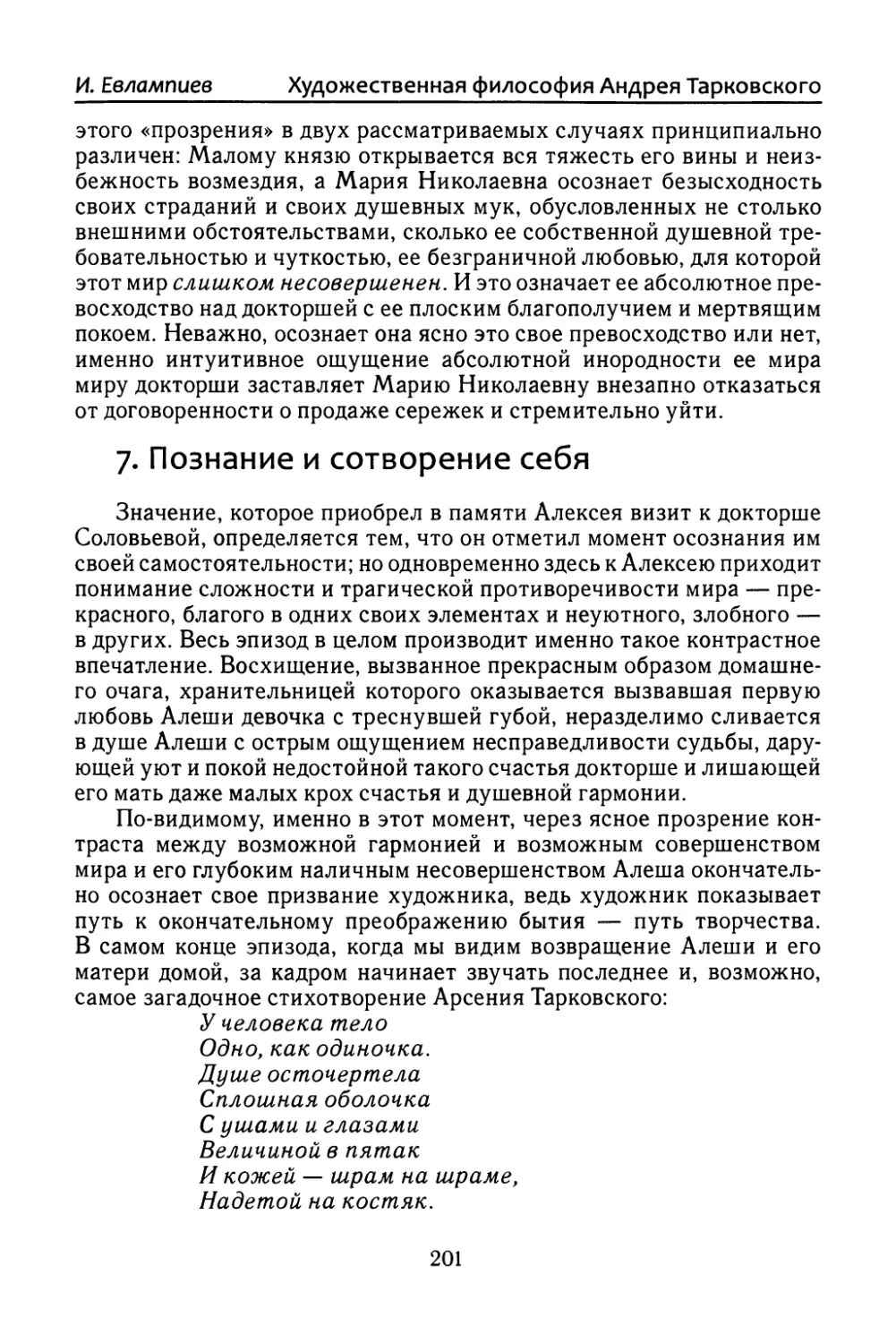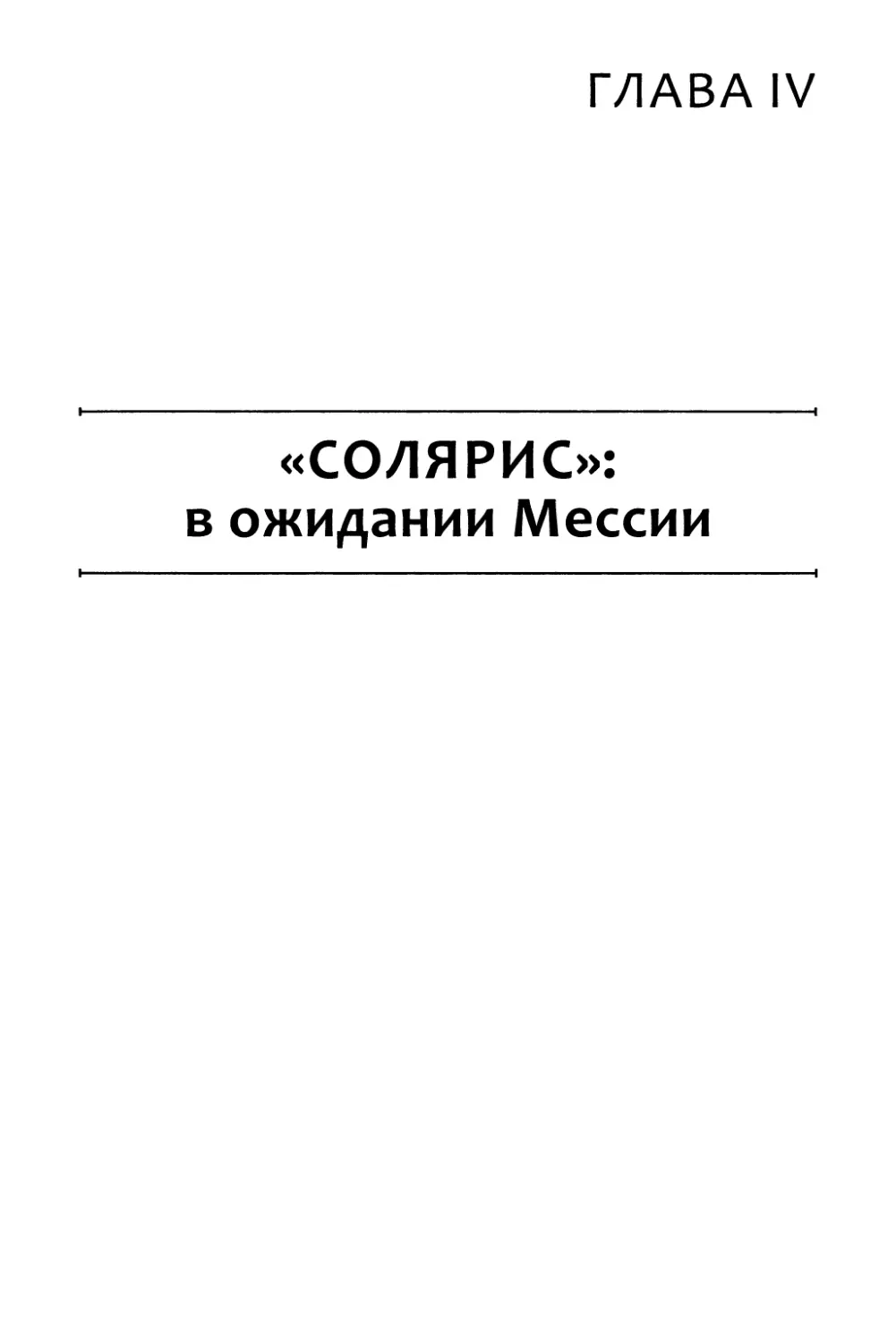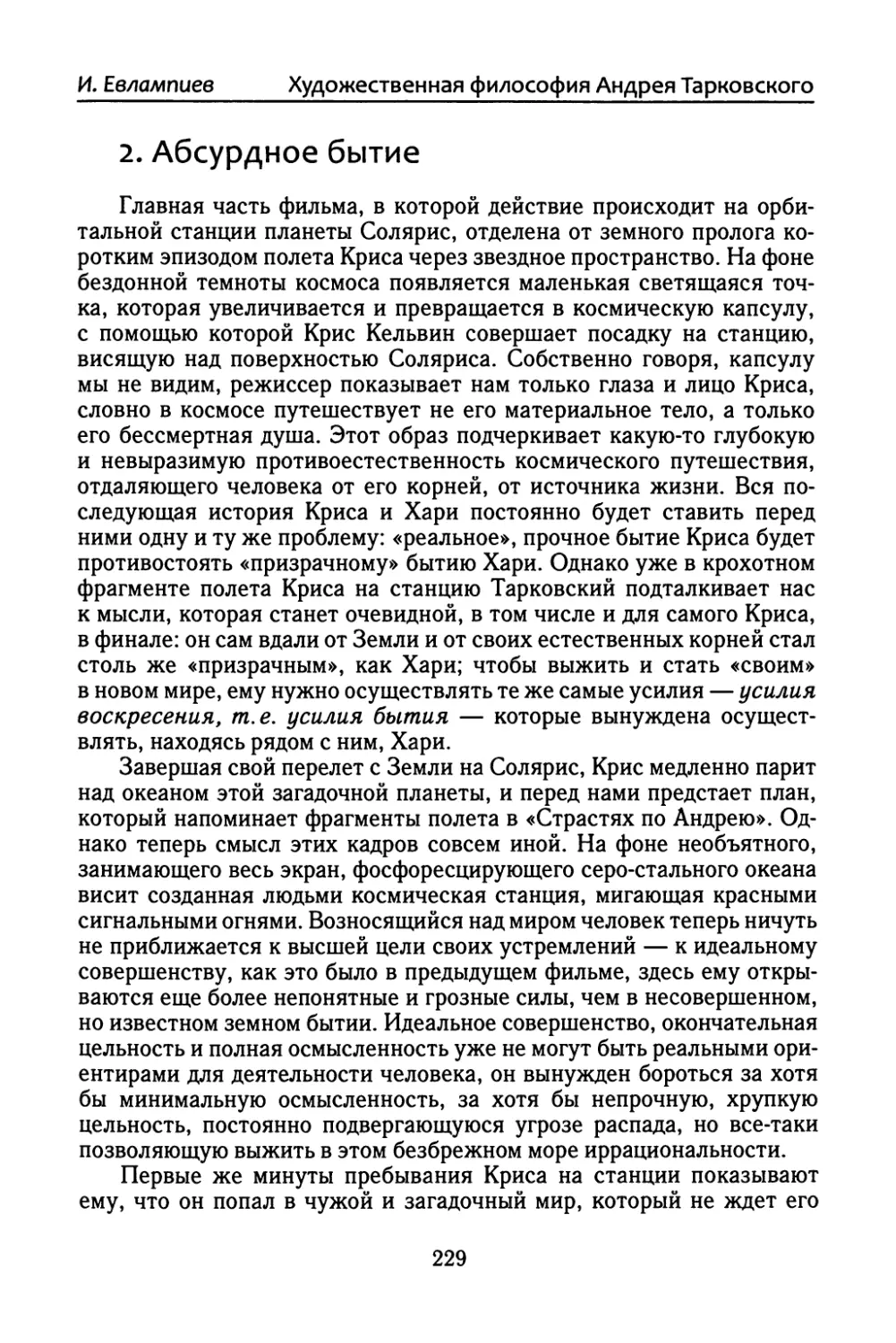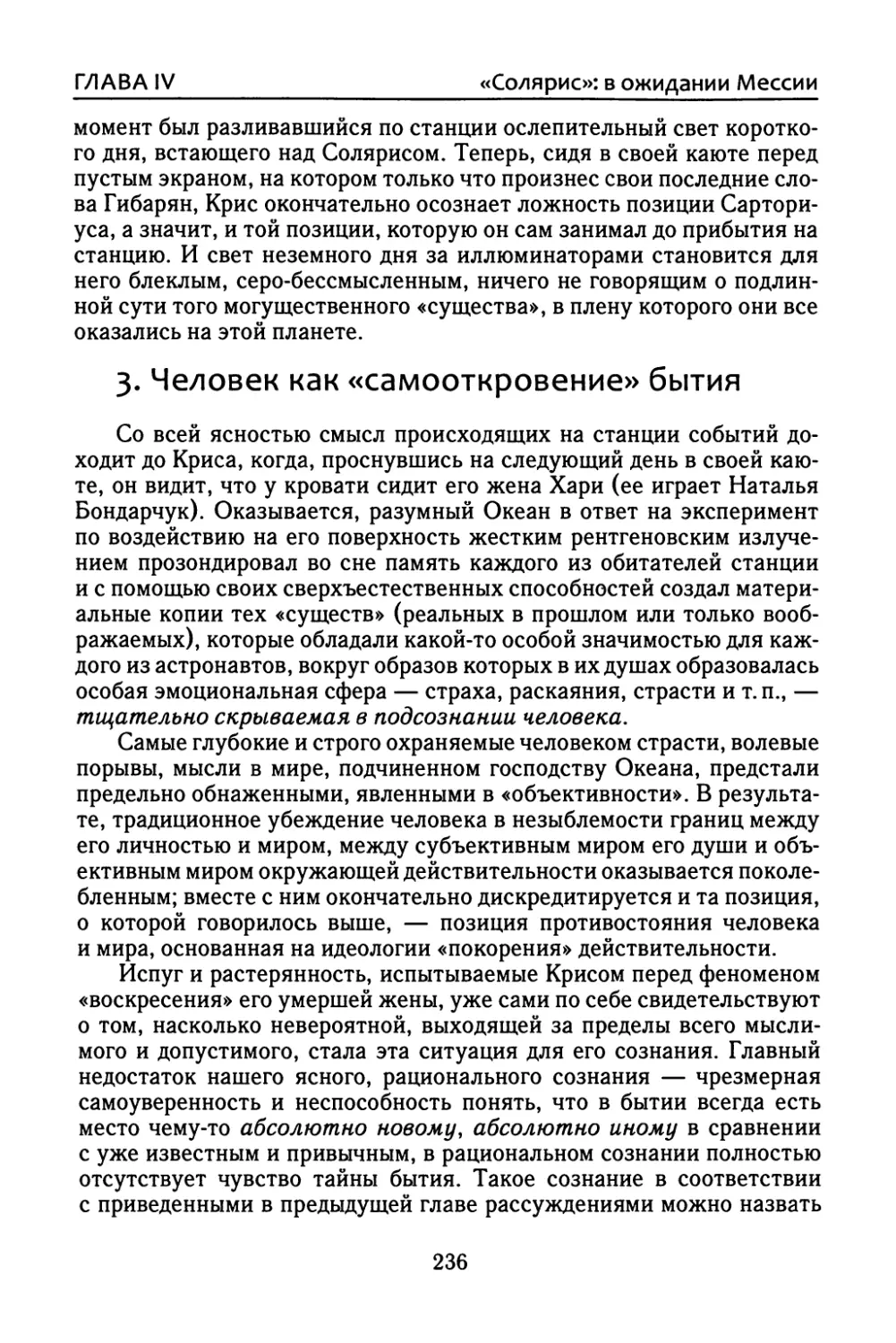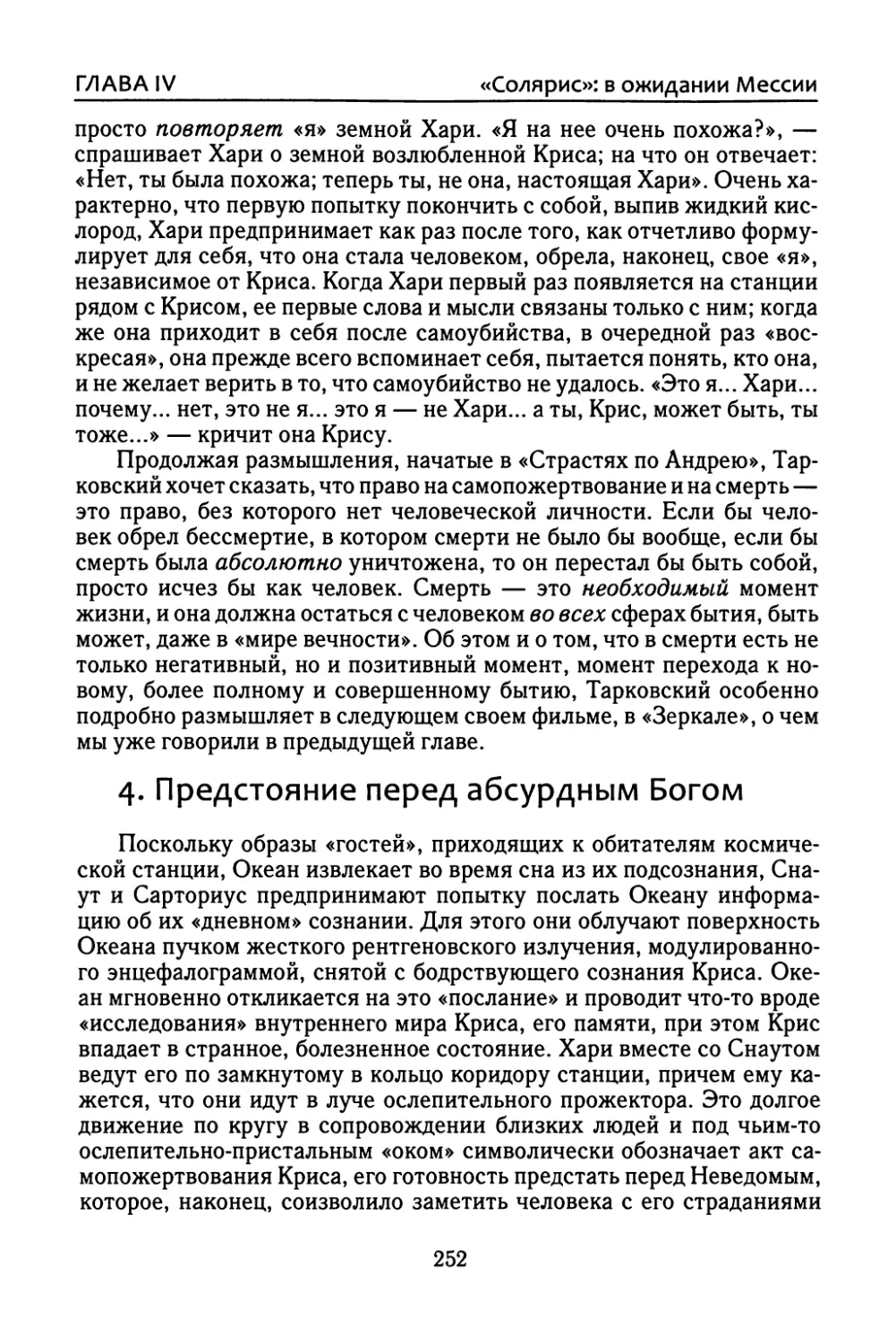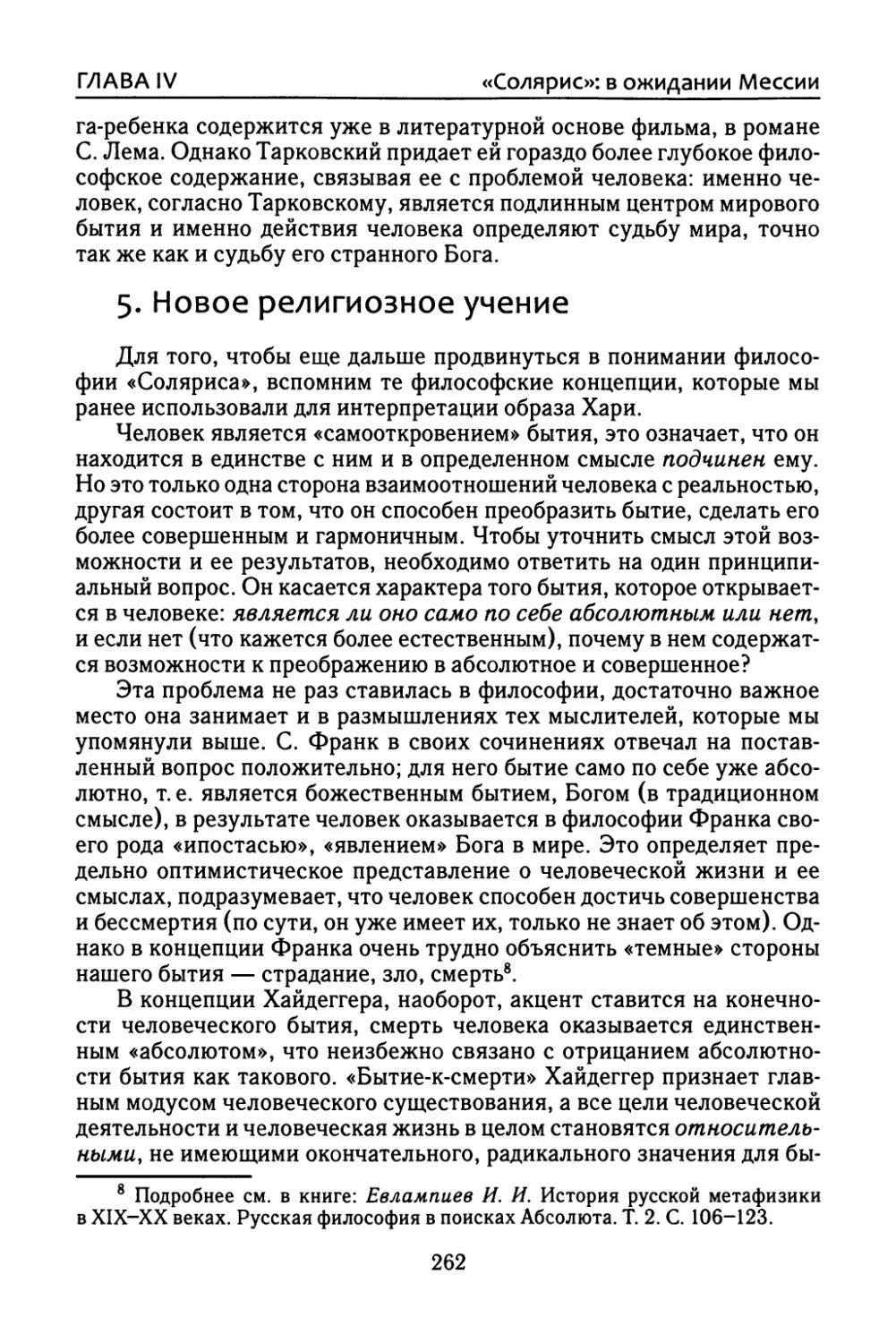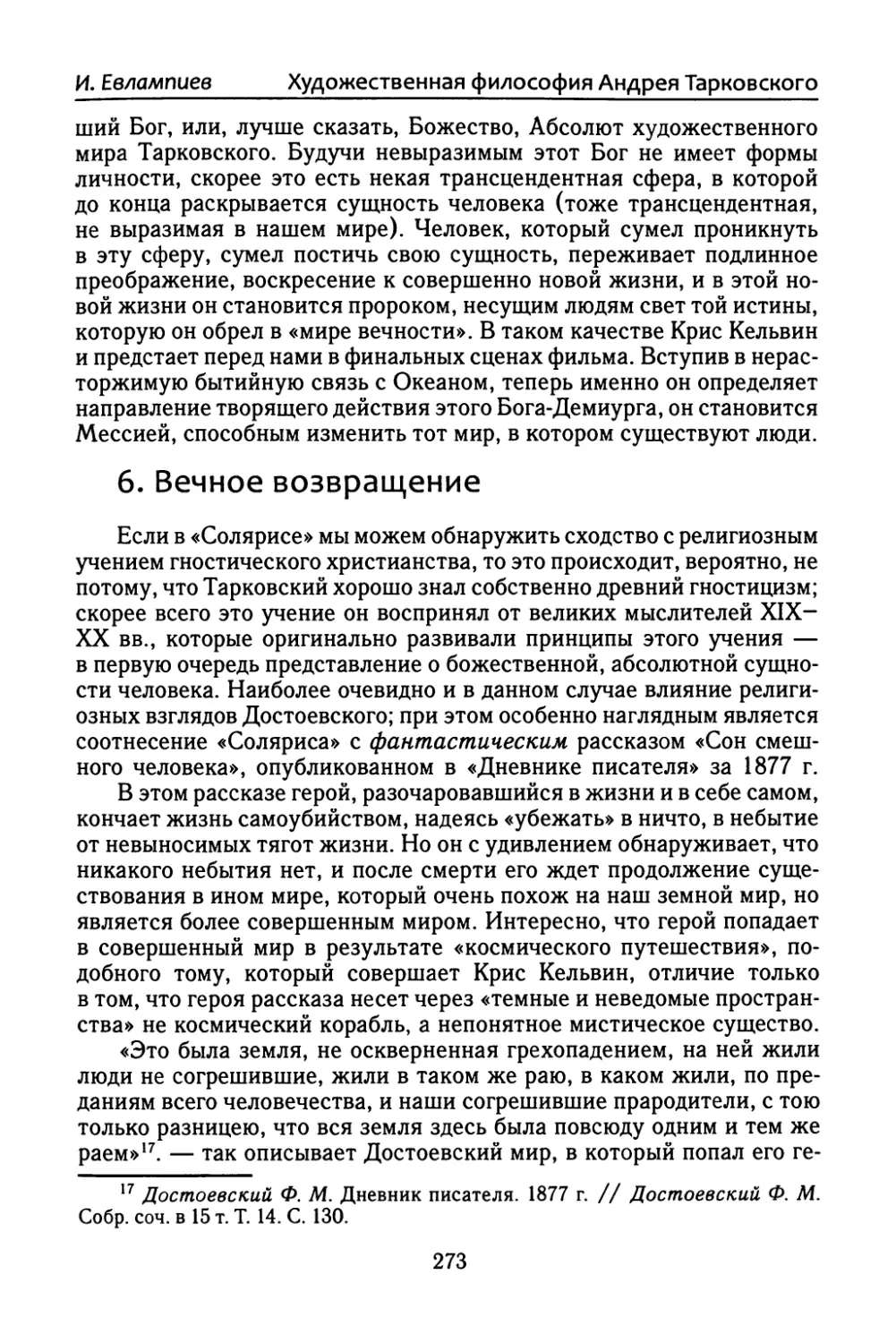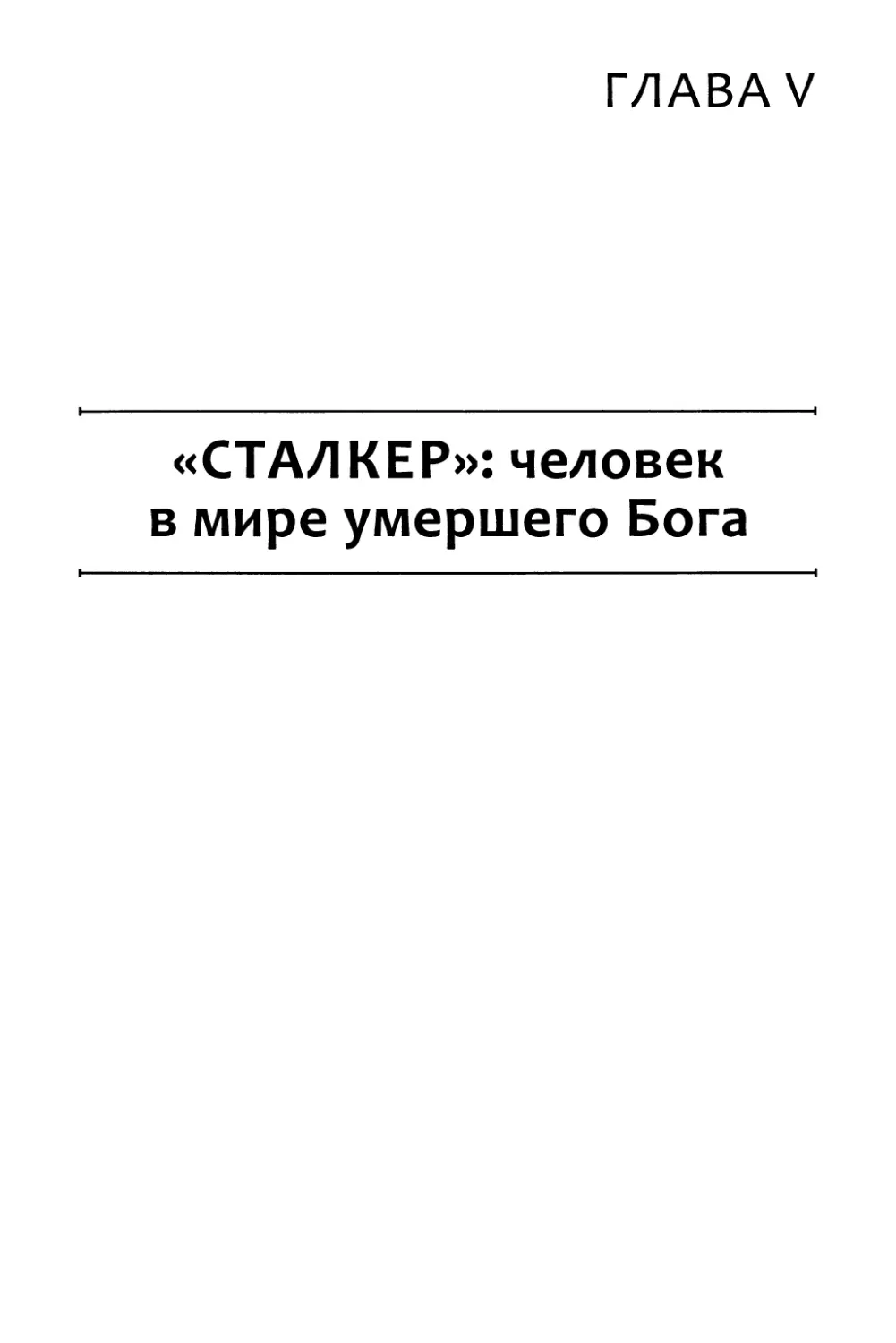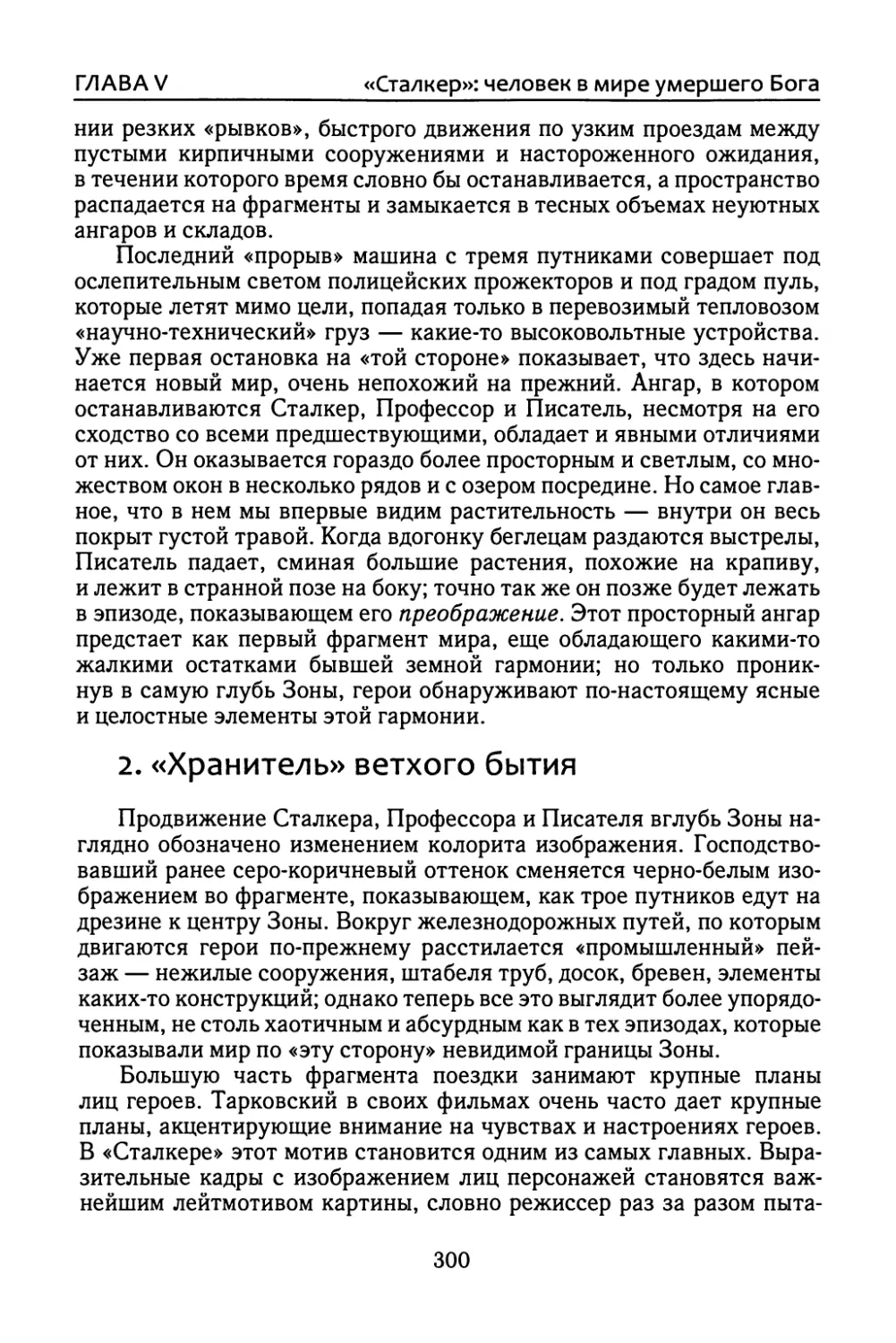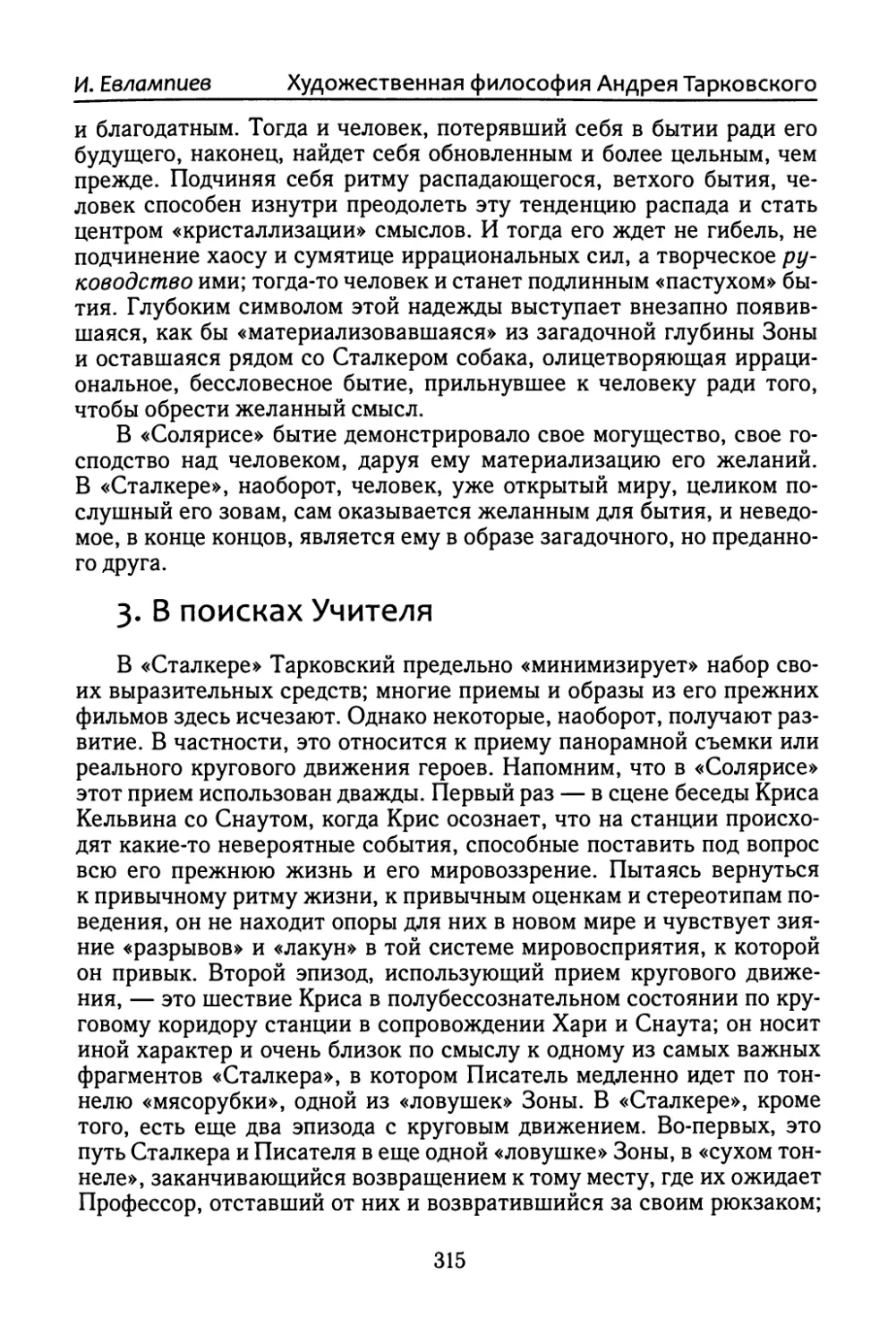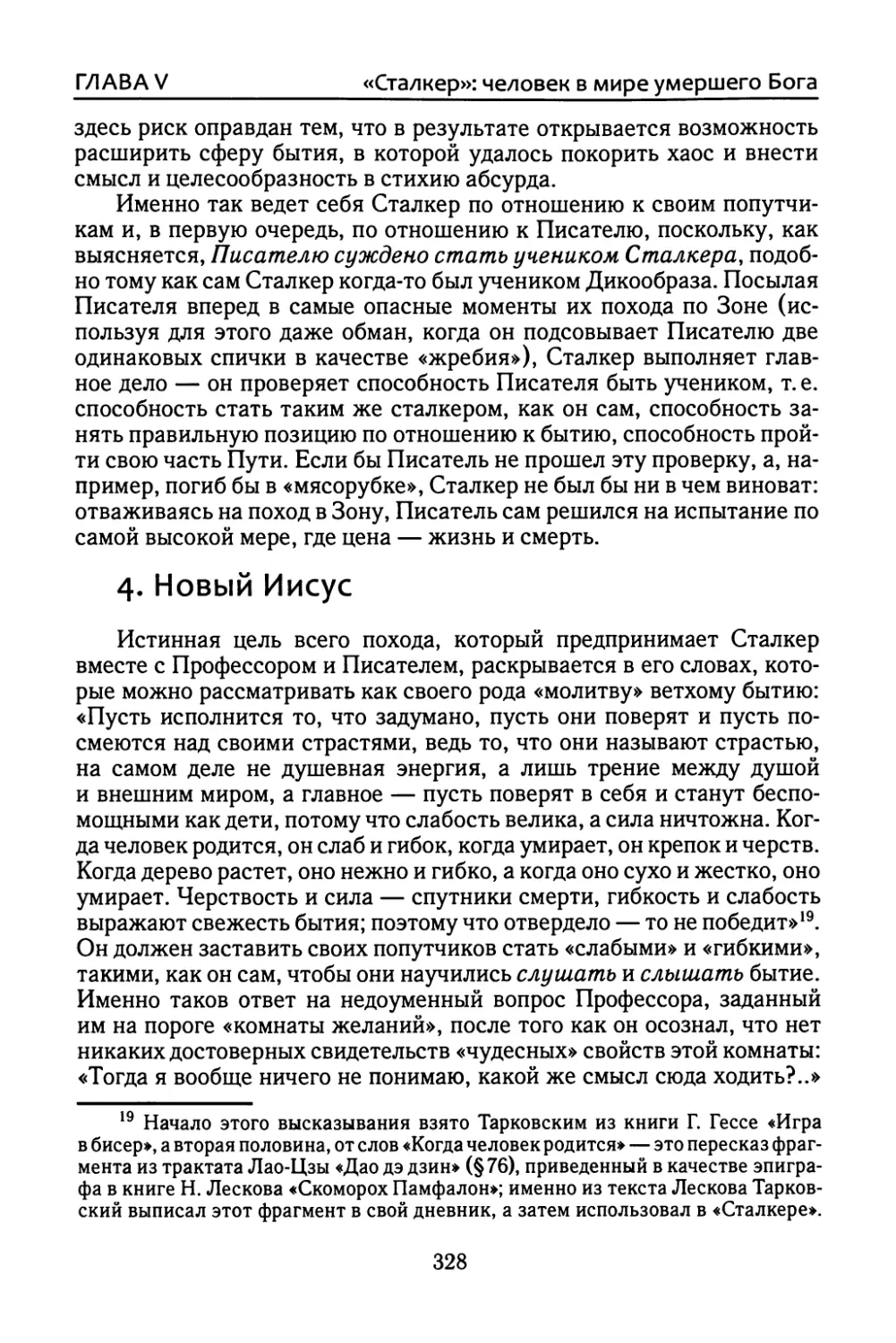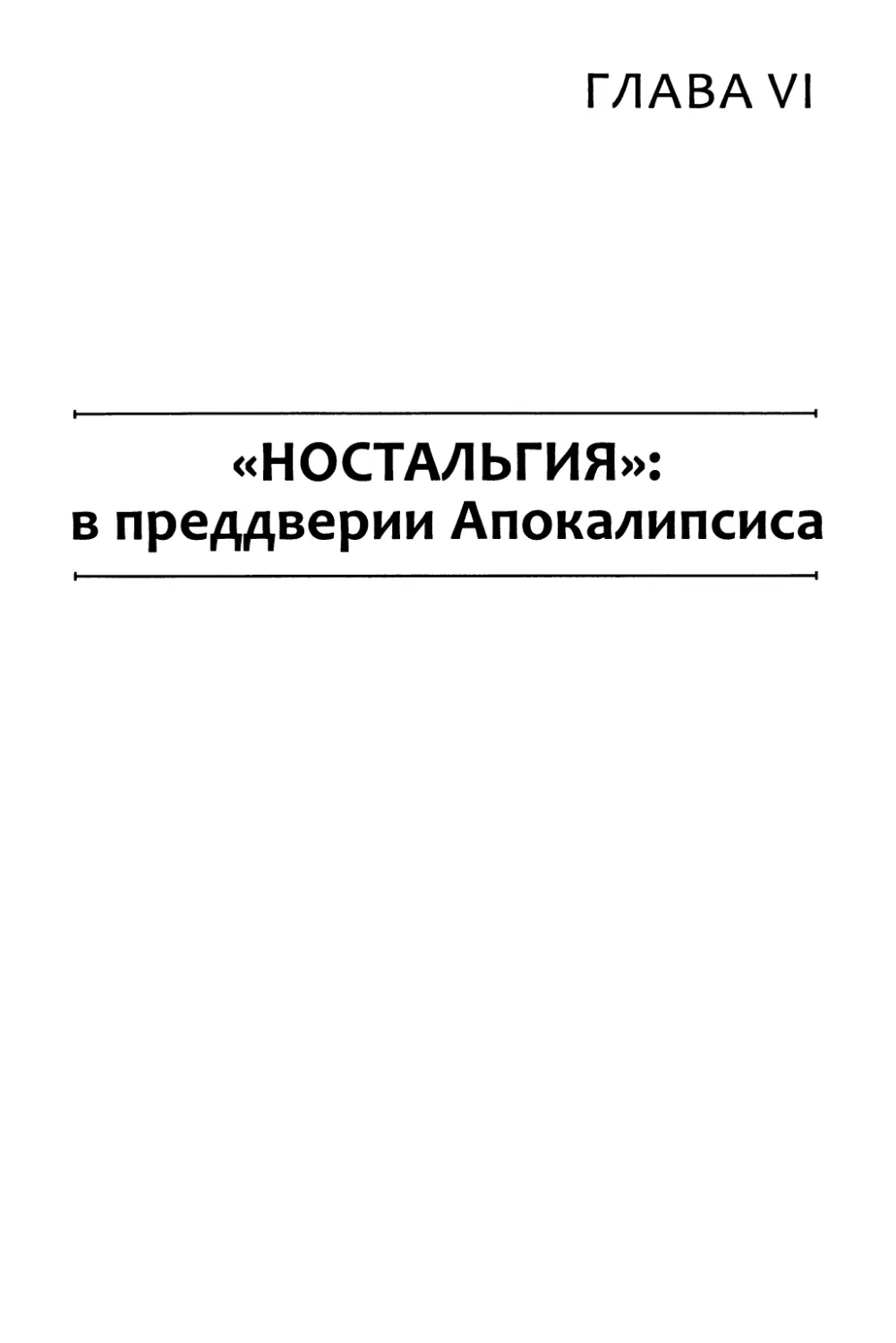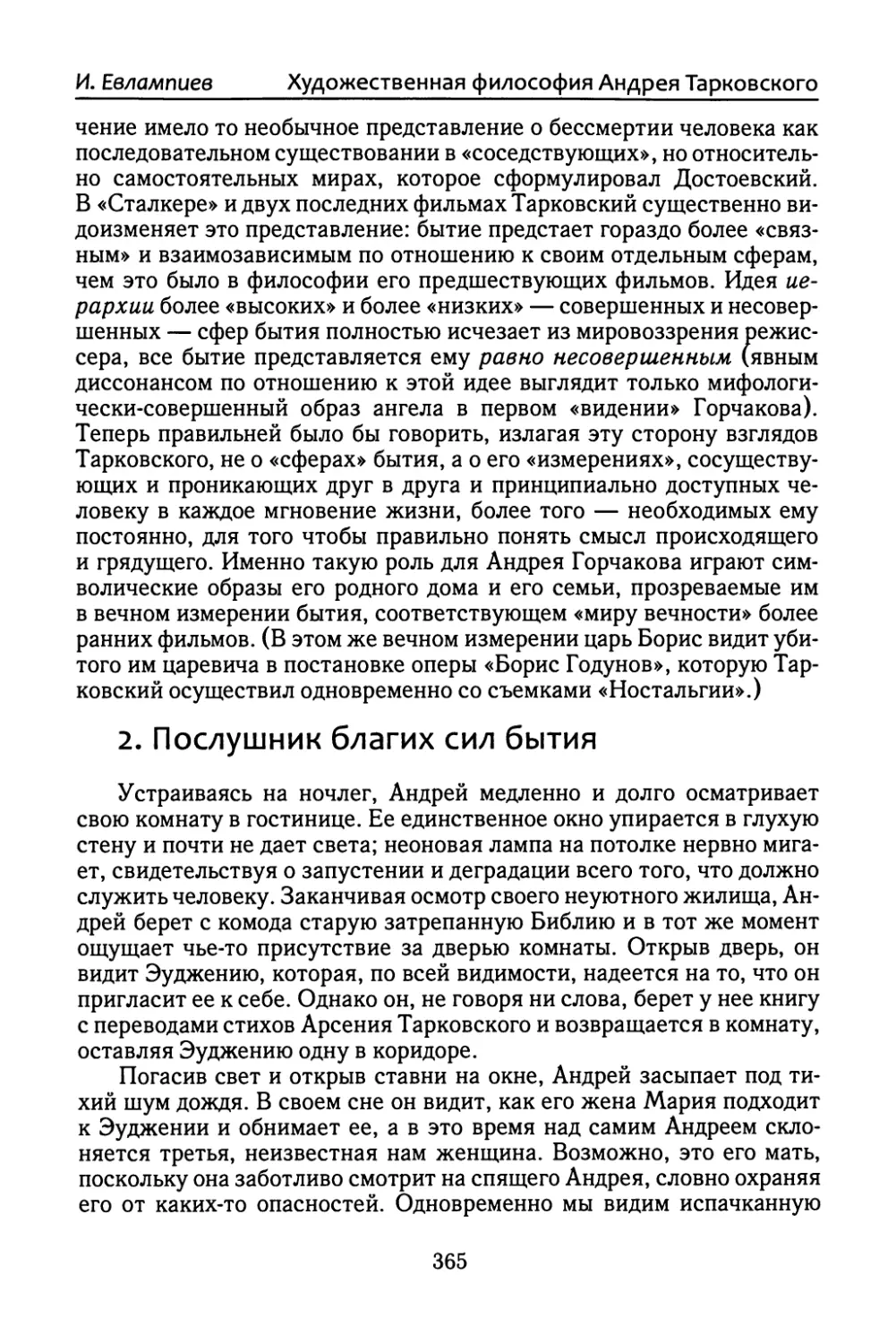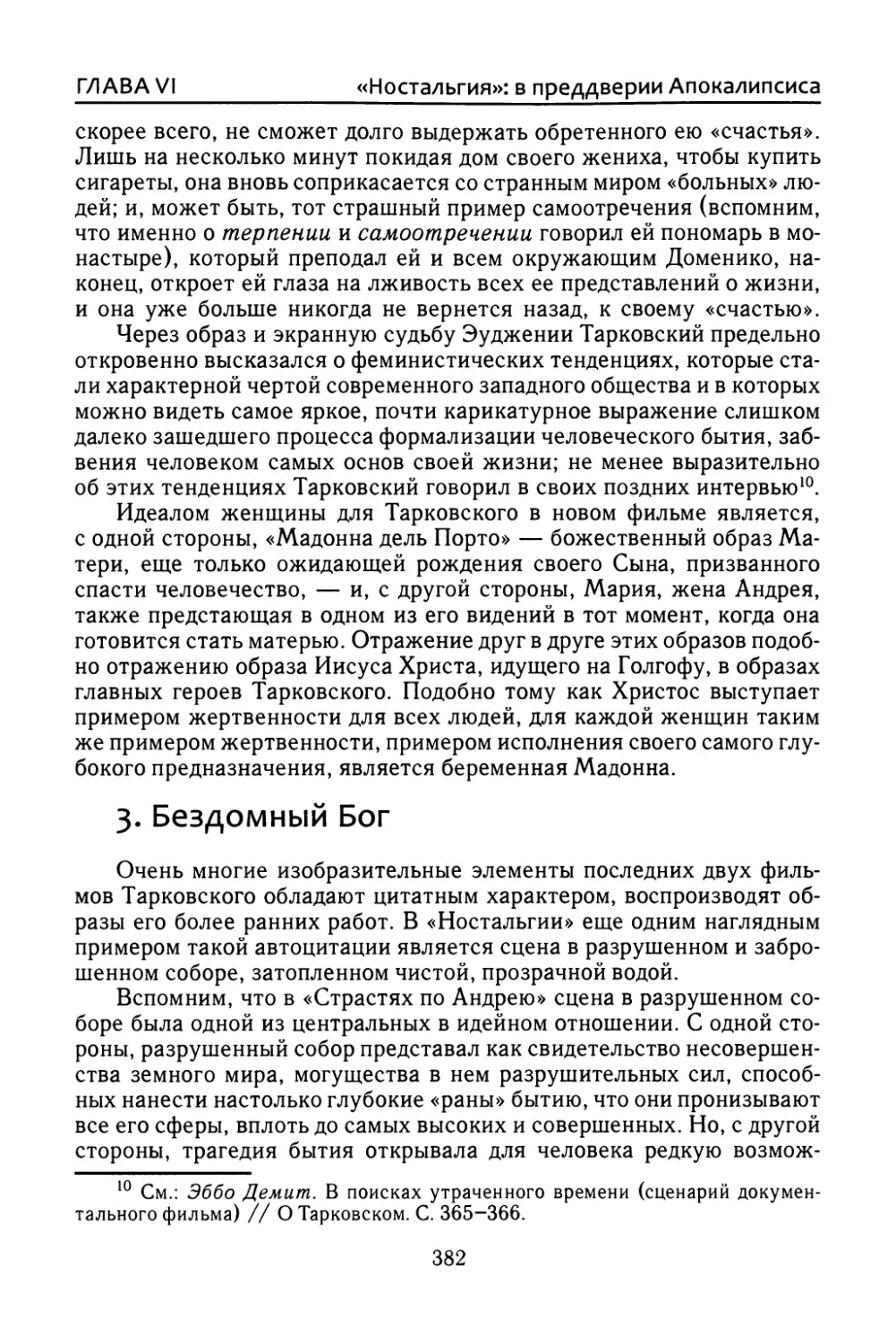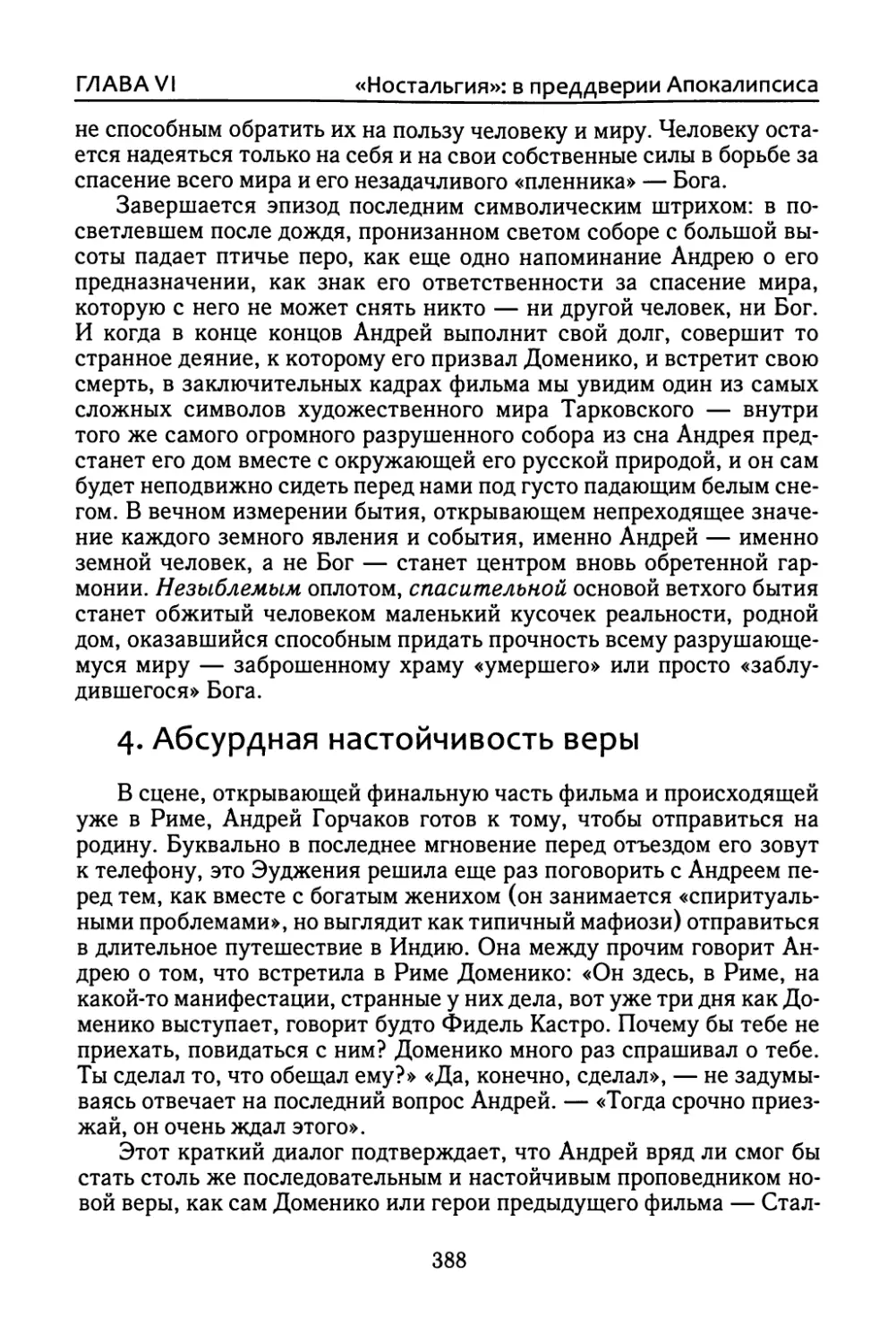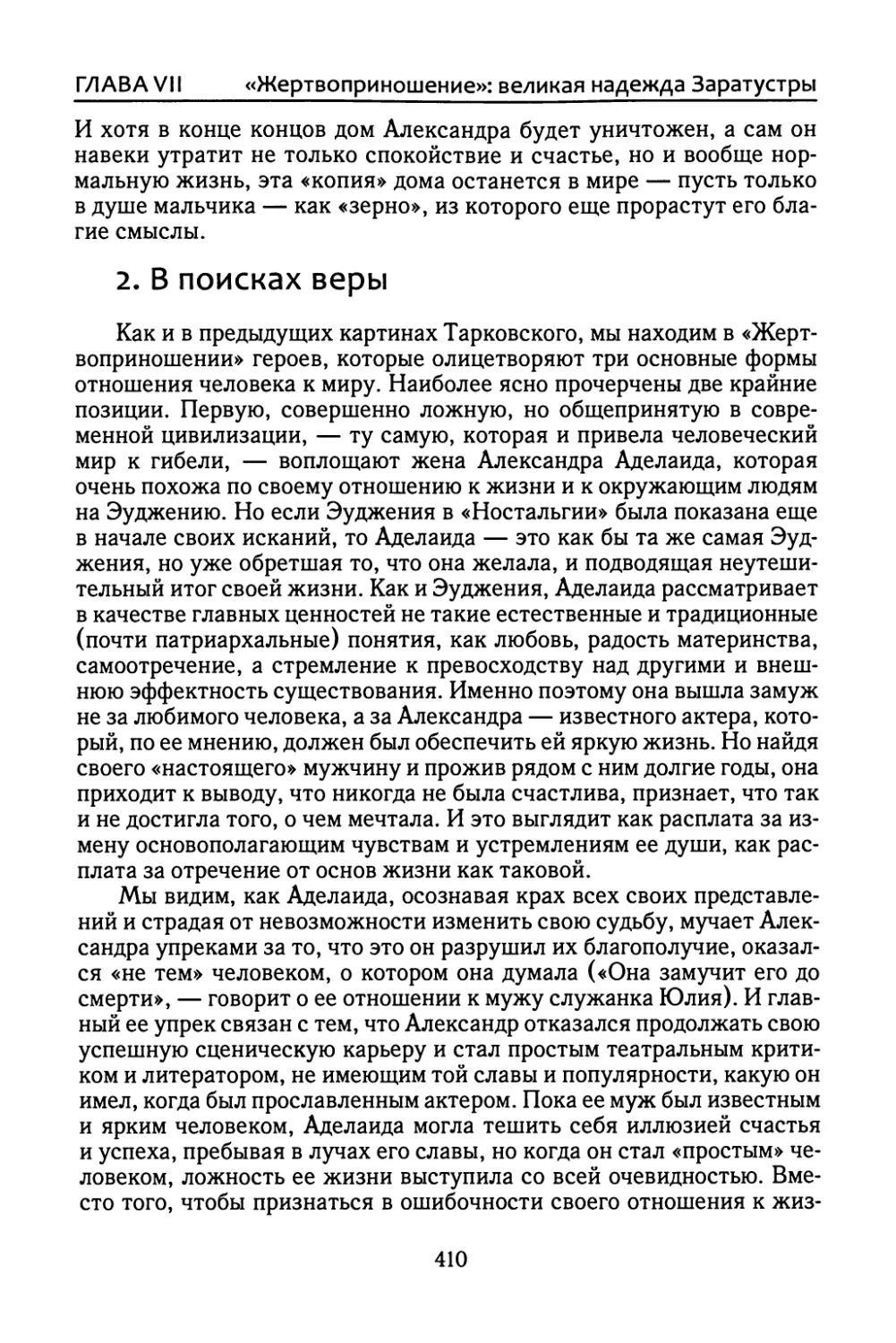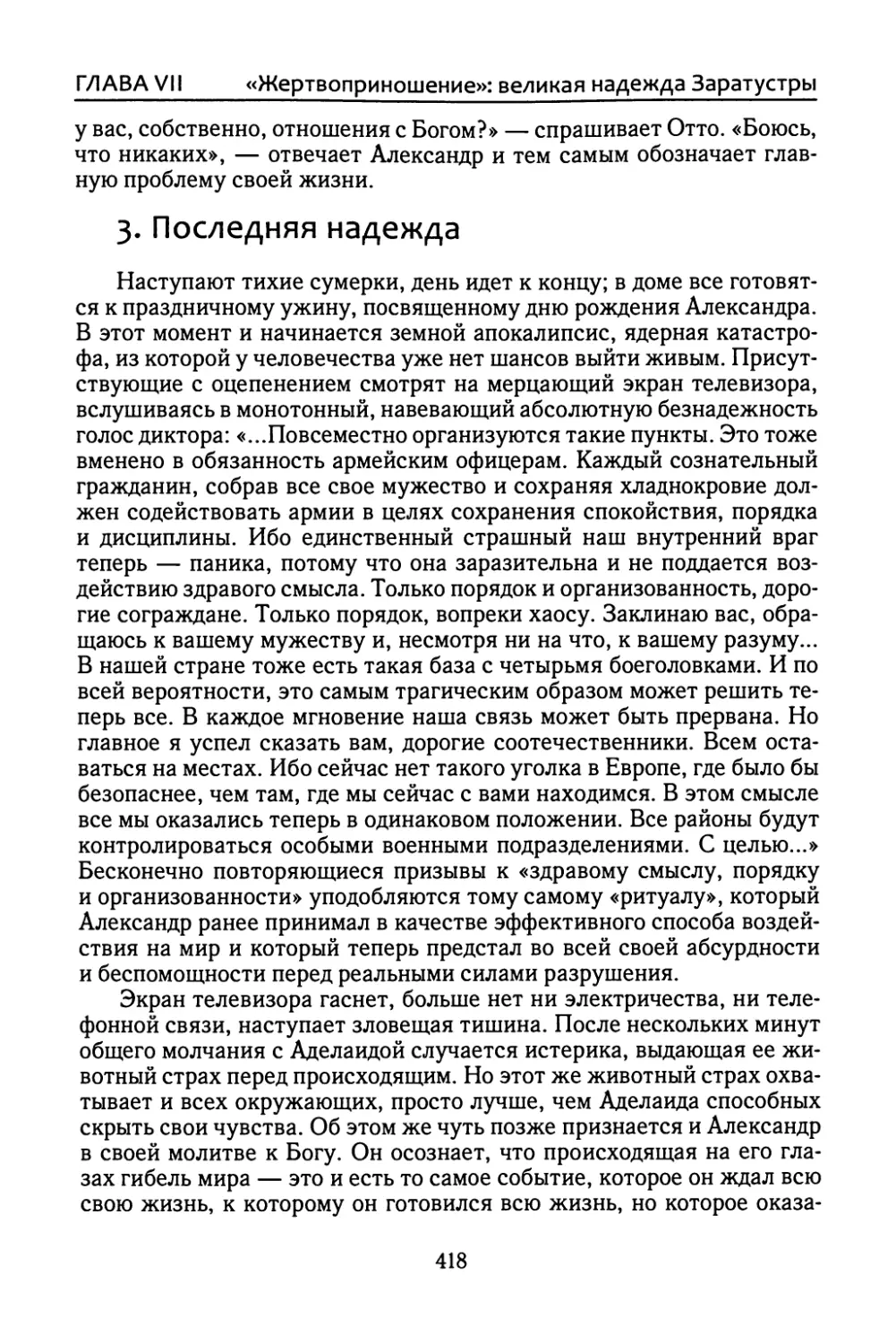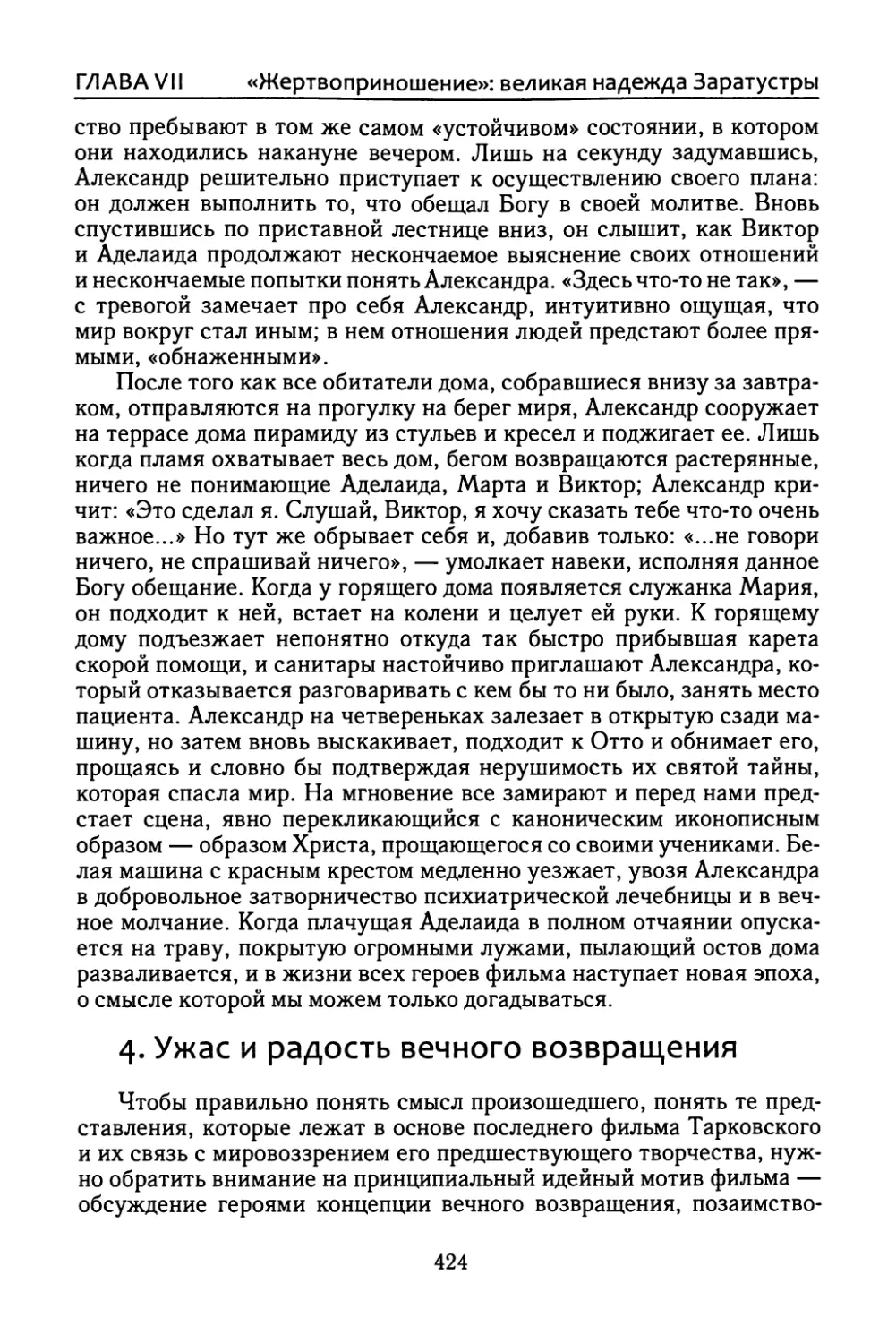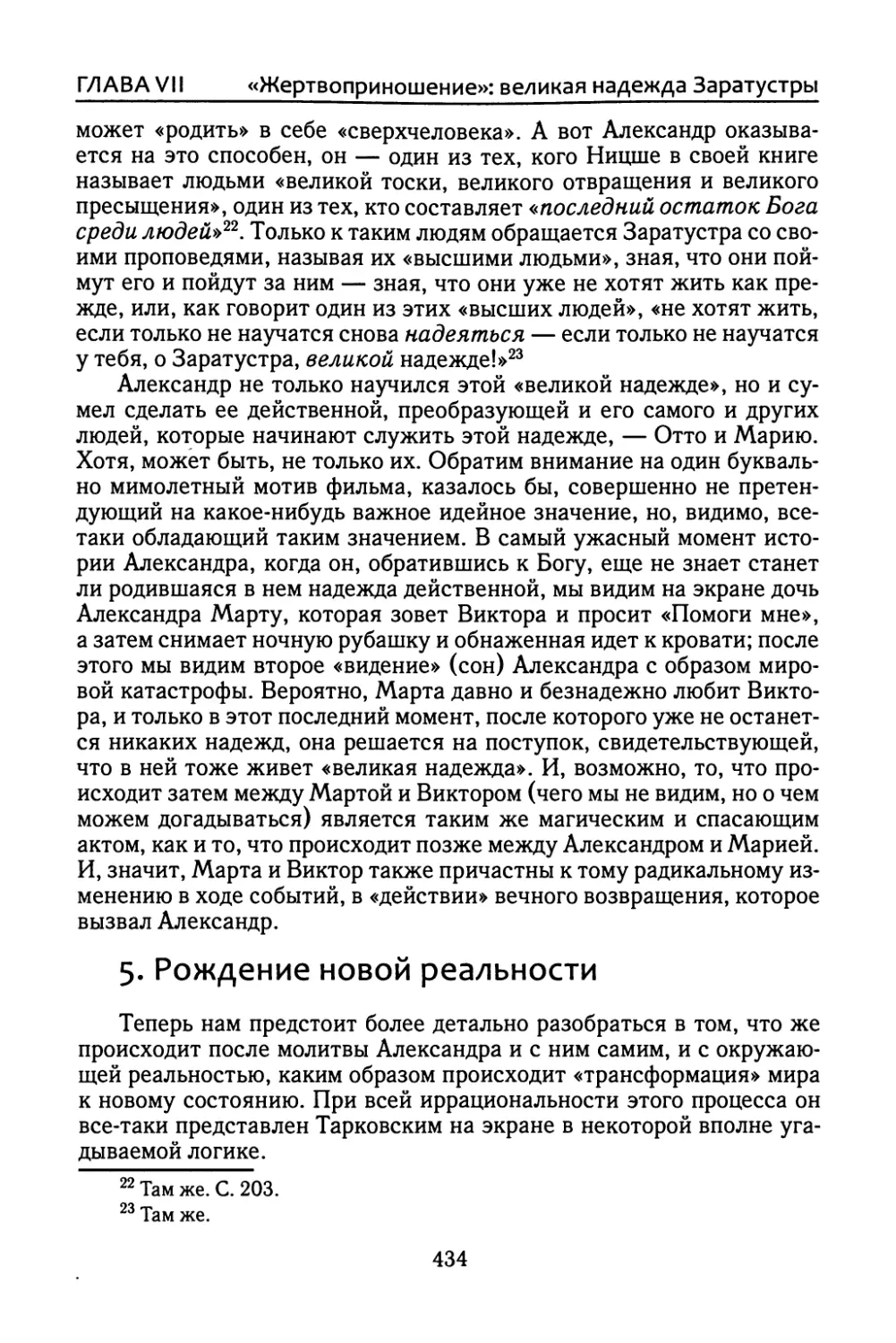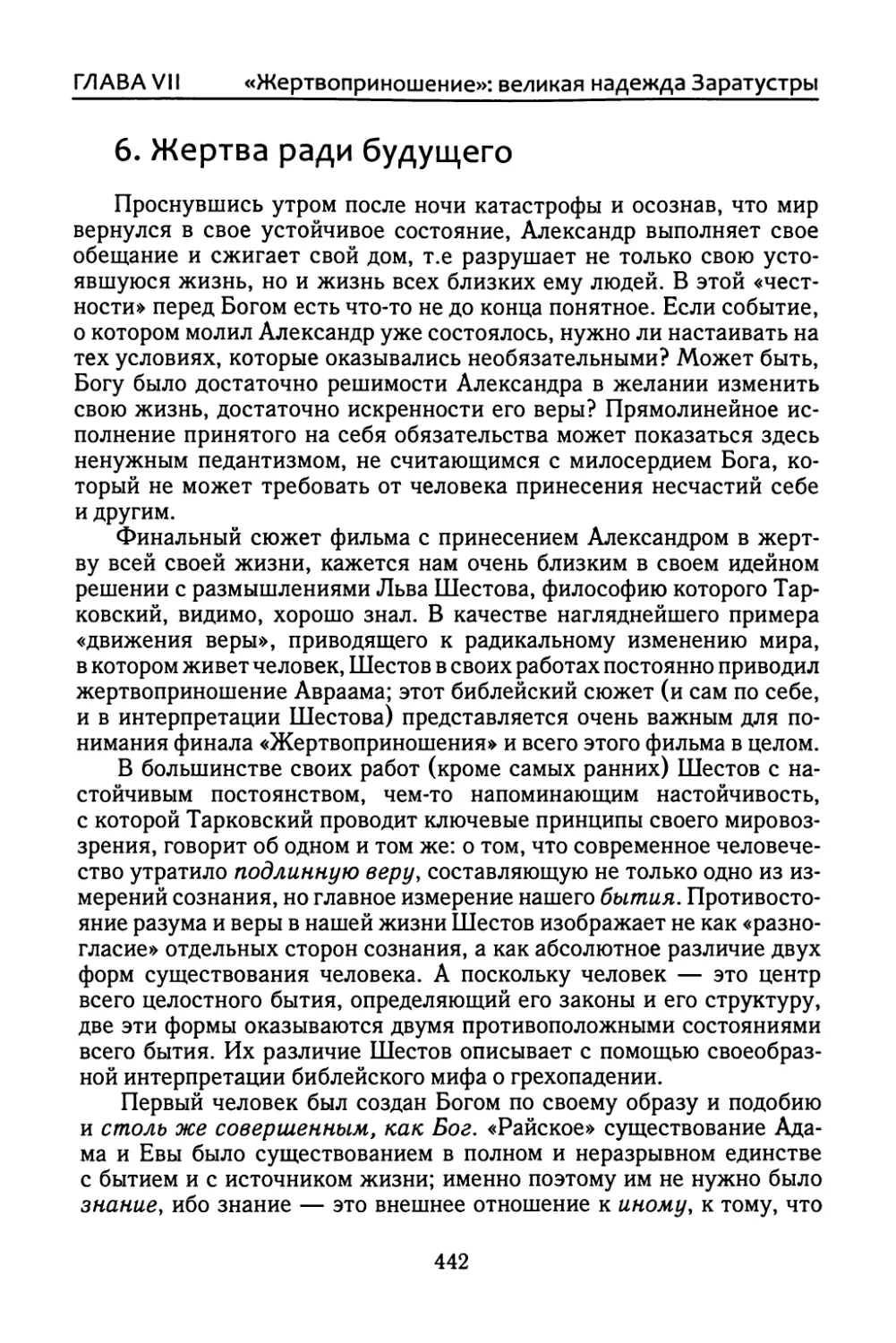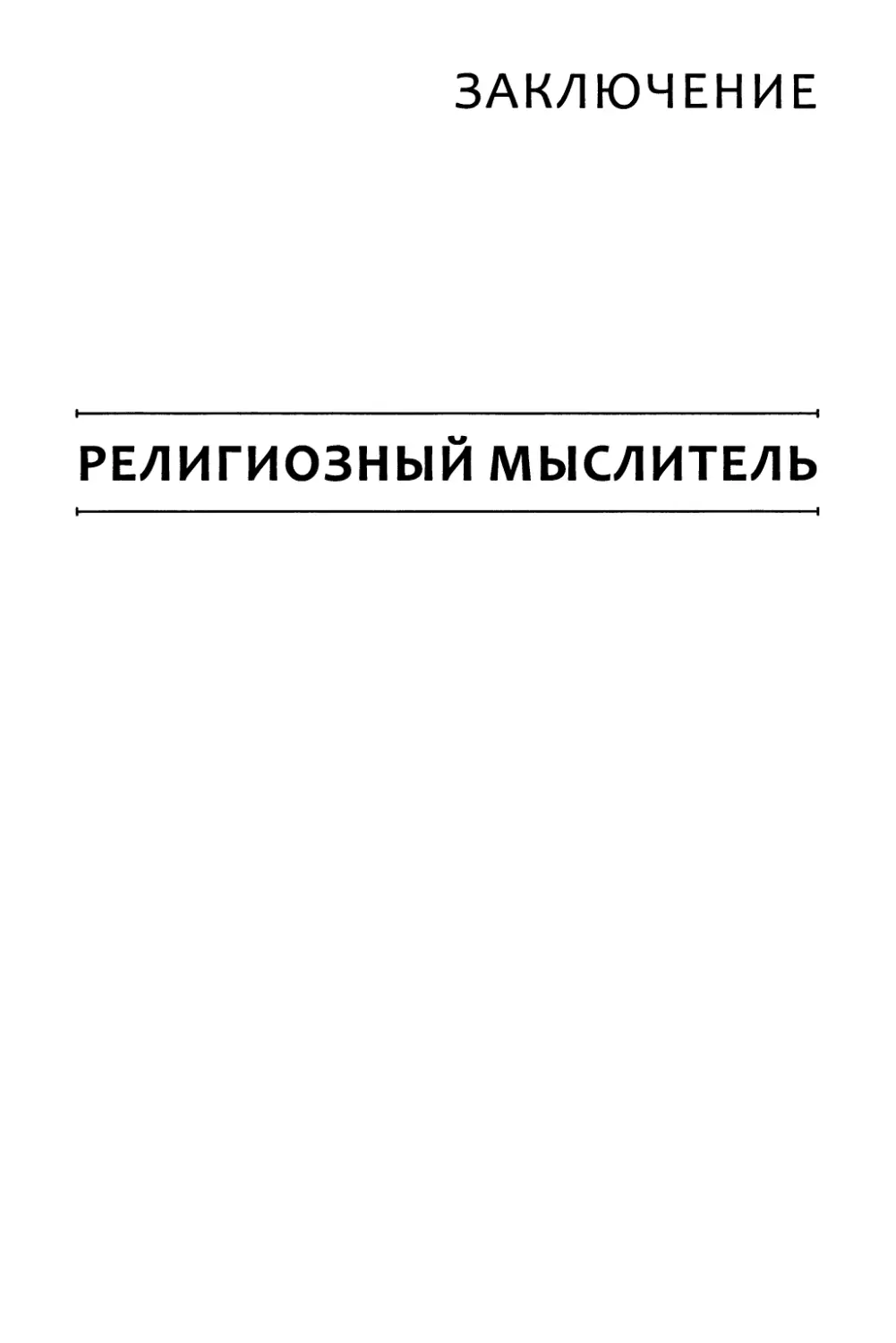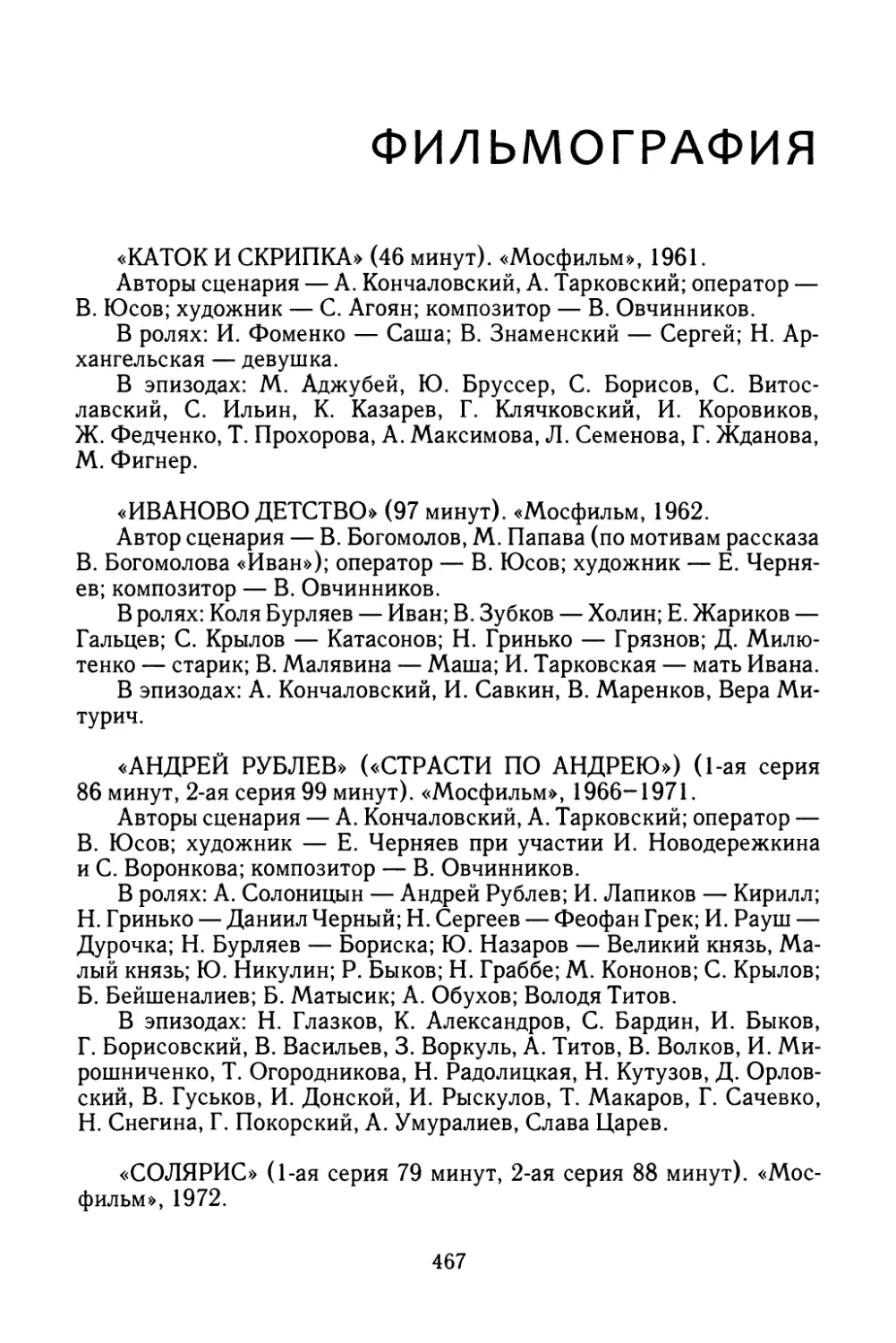Автор: Евлампиев И.И.
Теги: биологические науки в целом философия искусство культура
ISBN: 978-5-905551-02-4
Год: 2012
Текст
Игорь Евлампиев
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ФИЛОСОФИЯ
АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО
Второе издание,
переработанное и дополненное
ББК Ю3(2)6
УДК (47+57)(094)
Е19
Рецензенты
А. И. Тимофеев — доктор философских наук,
профессор Санкт-Петербургского государственного
университета кино и телевидения
H. X. Орлова — доктор философских наук,
профессор Санкт-Петербургского государственного университета
Печатается по рекомендации
Ученого совета философского факультета
Санкт-Петербургского государственного университета
И. И. Евлампиев
Е19 Художественная философия Андрея Тарковского. — 2-е изд.,
переработ. и доп. — Уфа: ARC, 2012. — 472 с. : ил.
ISBN 978-5-905551-02-4
В книге осуществлен детальный анализ философского мировоззрения выдающегося российского кинорежиссера Андрея Тарковского (1932-1986). Фильмы
Тарковского («Иваново детство», «Страсти по Андрею», «Зеркало», «Солярис»,
«Сталкер», «Ностальгия», «Жертвоприношение») рассматриваются в широком
контексте русской и западной философии XIX-XX веков. Творчество Тарковского дает своеобразное преломление и развитие религиозных традиций русской
культуры: в своих произведениях он призывает нас вернуться к мистическим истокам жизни, преданным забвению современной технократической цивилизацией, и напоминает о той катастрофе, которая ожидает человечество, если оно не
сумеет радикально перестроить свои отношения с бытием.
Первое издание книги вышло в 2001 г., при подготовке второго издания книга была существенно переработана и дополнена; она предназначена всем, кто
интересуется творчеством Андрея Тарковского, взаимосвязью киноискусства
и философии.
ББК Ю3(2)6
УДК (47+57)(094)
ISBN 978-5-905551-02-4
9 785905 551024
© И.И. Евлампиев, 2012
© Издательство «ARC», 2012
ПРЕДИСЛОВИЕ
У каждого поколения — своя судьба и свои испытания. Андрей
Тарковский принадлежал к поколению, детство которого пришлось на
войну, а юность — на последний период сталинской диктатуры. Кого-
то эти испытания сломали, кого-то закалили, но история все-таки предоставила поколению возможность реализовать себя, оно вступило
в зрелость в эпоху хрущевской «оттепели», в эпоху всеобщих надежд
и невиданной, непривычной свободы. Наиболее талантливые его представители успели, хотя бы частично, выразить свое выстраданное мировоззрение и обозначить свои идеалы, именно они заложили основы
новой, еще только формирующейся культуры свободной России. Поколение, к которому принадлежит автор этой книги, входило в мир
в совершенно иной исторической ситуации. Зрелость оно встретило
в эпоху брежневского безвременья, когда все творческое и свободное
методично «выпалывалось» бдительными работниками «невидимого фронта». В безбрежном море официального советского искусства
продолжали возвышаться лишь несколько островков твердой суши,
на которых можно было закрепиться в попытках сказать что-то новое о мире и о себе. Тарковский, безусловно, занимает первое место
в ряду тех, кто несмотря ни на что оставался верен обретенным идеалам и всегда говорил то, что считал необходимым, не делая скидок
на неподготовленность массовой аудитории, не идя на компромисс
с сиюминутным. Его творчество стало тем ориентиром в поисках незыблемых ценностей и тем образцом личной свободы и ответственности, которых нам так не хватало в окружающей действительности.
Для многих из нас встреча с фильмами Тарковского явилась судьбоносным событием, помогла выйти на путь, ведущий в наше собственное творческое будущее.
Создавая эту книгу, автор пытался сказать слова благодарности
(быть может, несколько запоздалые) человеку, который совершил не
только творческий, но и жизненный подвиг — стал Учителем для молодых людей, только входящих в самостоятельную жизнь, помог им
найти свою Зону, место обретения подлинного. Тарковский выполнил
свой учительский долг по отношению к нашему поколению, теперь
нам нужно успеть выполнить его по отношению к следующему —
по отношению к нашим детям.
Отдавая дань памяти тому, кто дал нам ариаднову нить для выхода из лабиринта исторической безысходности, мы должны сделать
явным вечное содержание его творческих поисков, которые связаны
5
не столько с «малым» временем конкретной эпохи, сколько с «большим» временем человеческого существования как такового. Глубоко
вовлеченный в историческое время, «уязвленный» его трагическими
перипетиями, Тарковский в каждом неповторимом проявлении личного чувства и в каждом событии истории и личной судьбы искал свечение высшего, сверхземного смысла. Есть художники, способные
даже вечные ценности «приспособить» к потребностям и целям, диктуемым сегодняшним днем, насущной современностью. И, наоборот,
есть творцы, которые, даже говоря о сиюминутном и личном, умеют
увидеть за ними явление вечного. При чрезвычайно глубокой тяге
русской культуры к осмыслению божественных оснований жизни,
мало кого из художников XX в. можно поставить в этом смысле рядом
с Тарковским.
Исследуя творчество таких художников в контексте современной
им культурной и социальной ситуации, мы никогда не дойдем до того,
что сами они считали главным в своих поисках, поскольку эти поиски предполагают только один контекст — контекст вечных смыслов
и вечных ценностей жизни. По отношению к Тарковскому это особенно важно иметь в виду, так как идея причастности человека к вечным
сферам реальности занимает важнейшее место в его мировоззрении.
Читатель не найдет в книге традиционного киноведческого анализа,
в качестве «собеседников» Тарковского в культуре мы будем в основном рассматривать не тех, кто реально окружал его и прямо или косвенно помогал создавать свои фильмы, а тех, кто в той же обостренной форме ставил вопросы о смысле человеческого бытия и о высших
целях человеческой деятельности в мире. Прежде всего это великая
и во многом еще непонятая и недооцененная традиция русской философии, составляющая органичную и очень важную часть всей русской культуры XIX-XX вв.
В связи с этим читателя не должно удивлять появление на страницах этой книги имен известнейших русский философов — от Петра
Чаадаева до Семена Франка, Льва Карсавина, Льва Шестова и других
представителей философии «Серебряного века». Андрей Тарковский
совершенно естественно встает в этот ряд, и мы не сомневаемся, что
со временем его имя будет обязательной принадлежностью не только
любого обзора, посвященного истории русского искусства, но и любого изложения истории русской философии.
В работе над книгой автор опирался на свои многолетние исследования, результатом которых стала двухтомная монография «История
русской метафизики в XIX-XX веках. Русская философия в поисках
Абсолюта» (СПб., 2000). В ней была сделана попытка преодолеть все
еще очень распространенное мнение о какой-то принципиальной несовместимости, существующей между русской (религиозной) фило-
6
Софией XIX — начала XX в. и современной культурой, ориентированной на западные образцы. У людей, приверженных этому мнению,
может вызвать недоумение и даже раздражение стремление сблизить
Тарковского с «устаревшей» традицией, имеющей явные религиозные корни. На это можно ответить известными словами Чаадаева
о том, что печальной особенностью нашего мировосприятия является
неумение правильно оценить и сохранить самое важное в своем историческом наследии и удивительная готовность рабски следовать за
Западом в самых расхожих и плоских его увлечениях. Думается, сам
Тарковский не был склонен к такому культурному «инфантилизму»
(для понимания этого достаточно внимательно вглядеться в два его
последних фильма) и гораздо большее значение, чем некоторые его
«почитатели», придавал традиции и авторитету — тем ценностям,
которые и определяют нашу принадлежность к тысячелетней культуре, завещанной нам предками.
5 января 1998 г.— 5 января 2001 г.
За прошедшие после первого издания книги десять лет убеждение
автора в том, что творчество Тарковского необходимо рассматривать
в контексте русской философии XIX-XX вв., существенно окрепло
и получило новые аргументы. В связи с этим при подготовке второго
издания дополнения были сделаны именно в части параллелей между
идейным содержанием фильмов Тарковского и концепциями русской
философии. В первую очередь это относится к философским идеям
Достоевского. Можно с уверенностью сказать, что творчество Тарковского от начала до конца пронизано образами и идеями Достоевского, при этом в полном объеме тема влияния великого русского
писателя на Тарковского все еще остается нераскрытой. В новой версии книги прослеживание основных линий этого влияния стало еще
более важной задачей.
К сожалению, в исследовании творчества Тарковского за прошедшие годы ситуация мало изменилась. По-прежнему в интерпретации
его фильмов наиболее заметны две полярные точки зрения: в рамках
одной из них он признается художником, ориентированным на самые «модные» западные образцы; в рамках другой рассматривается
как религиозный художник в традиционном понимании этого термина, даже как выразитель «православного» мировоззрения. При всей
полярности этих подходов они в равной степени выражают главную
тенденцию нашего времени: стремление к простым решениям сложных вопросов человеческого существования. Современный человек
все меньше способен видеть глубину и сложность бытия и все больше
привык скользить по поверхности и удовлетворяться самыми шаблонными и банальными формами жизни. Это в равной степени относит¬
7
ся и к активно пропагандируемым ныне формам культуры и религии,
в них трудная духовная работа по освоению культурного наследия человечества, необходимая каждому для того, чтобы стать личностью,
неповторимо-индивидуальным центром бытия, подменяется формальной, «игровой» деятельностью, почти лишенной серьезного содержания. В своем творчестве Тарковский пытался противостоять этой
тенденции, уже угадывавшейся в его время. В эпоху окончательного
торжества «идеологии поверхностности» нам не остается ничего другого, как верить, вместе с ним и его героями, что в конечном счете не
«масса» и не «большинство» определяет ход истории, и одно абсурдное с точки зрения обыденного восприятия деяние может радикально
изменить положение дел в мире. Творчество Тарковского в контексте современной «игровой» культуры само становится похожим на
такое абсурдное деяние, родственное поступкам Андрея Горчакова
и господина Александра. Наверное, и настоящую книгу нужно рассматривать как такое же деяние, совершенное с надеждой на то, что
у кого-то достанет сил для его продолжения.
14 января 2012 г.
Санкт-Петербург
8
ВВЕДЕНИЕ
ХУДОЖНИК-ФИЛОСОФ
ВВЕДЕНИЕ
Художник-философ
1. Философские истоки
Художественный мир Андрея Тарковского странен и загадочен,
образы его фильмов обладают тем необъяснимым магическим воздействием, которое свойственно только самым выдающимся творениям культуры. Но при этом Тарковский ставит и решает глубокие
философские проблемы, рассматривая художественную образность
искусства как наиболее адекватный язык для выражения глубочайших интуиций, касающихся сущности и судьбы человека в нашем
несовершенном, но устремленном к совершенству мире. В этом смысле он является наследником лучших традиций как русской художественной культуры, так и русской философии, которая всегда искала
самого прямого и непосредственного пути к душам людей, минуя холодный, всеразрушающий инструментарий логического мышления.
Рискнем утверждать, что положение Тарковского в русской, советской культуре второй половины XX в. очень похоже на положение
в культуре второй половины XIX в. Ф. Достоевского. Сходство между
двумя этими художниками носит далеко не формальный характер
хотя бы потому, что своим творчеством Достоевский в решающей степени повлиял на творческое и философское мировоззрение Тарковского. Возможно, именно у Достоевского Тарковский позаимствовал
парадоксальный метод философствования художественными образами, точно так же как и основной круг проблем, подлежащих рассмотрению, — предельно важных для современного человека, но очень
часто не допускающих решения в рамках «строгой» философии.
Не написав ни одного в точном смысле слова философского труда, Достоевский по праву является величайшим русским философом,
определившим всемирное значение нашей национальной философской традиции, одной из главных черт которой стало стремление
к непосредственной художественной, иррационально-интуитивной
выразительности. Позднее развитие профессиональной философии
в России вовсе не означало отсутствия у нации глубокого мировоззрения, связанного со своеобразным восприятием мира и оригинальным пониманием целей человеческой жизни: все самые важные его
составляющие были естественно вплетены в ткань художественной
культуры, поэтому его развитие не подчинялось той ясной логике,
которая характерна для рационально изложенных систем взглядов.
Не случайно один из крупнейших мыслителей начала XX в. Евгений
Трубецкой посвятил несколько ярких работ выявлению идейного содержания русской иконописи, которую он характеризовал как «умозрение в красках», т. е. рассматривал как последовательную и цельную
форму выражения национального мировосприятия.
10
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
В XX в. эта особенность нашей национальной культуры приобрела еще большее значение, чем раньше, несмотря на то, что вторая
половина XIX в. стала для России эпохой бурного развития именно
сферы профессионального философствования в духе традиций западного рационализма. Господство марксистской идеологии с 30-х гг.
полностью сковало свободу философской мысли, в результате, оригинальные идеи могли быть высказаны только опосредовано — через
контекст различных форм культуры. Понять русское мировоззрение
XX в. в его подлинной сущности можно только обращаясь к поэзии,
прозе, живописи, музыке выдающихся художников, продолживших
в своем творчестве лучшие традиции русской культуры XIX — начала XX в.
Однако и на этом фоне Тарковский остается почти уникальной
фигурой: в отличии от большинства своих предшественников и современников он не просто использовал или преломлял в своей деятельности отдельные философские принципы, но полностью и вполне
сознательно подчинил свое творчество одной главной задаче — выражению через образы киноискусства определенного философского мировоззрения. Чрезвычайно характерны его слова о предназначении
кинорежиссера: «Только при наличии собственного взгляда на вещи,
становясь своего рода философом, он (режиссер. — И. Е.) выступает
как художник, а кинематограф как искусство»1.
В силу сказанного становится ясным, что любые попытки оценивать творчество Тарковского по меркам «рядового» искусства и тем
более по меркам «рядового» кинематографа неизбежно обречены на
неудачу, на полное непонимание истинных целей и достижений режиссера. Его произведения — это своего рода философия в форме
искусства, и поэтому они существуют по иным законам, чем обычные произведения искусства, не претендующие на радикальное мировоззренческое значение; в своих фильмах Тарковский не столько
следует определенным канонам образной выразительности, сколько
стремится к адекватному и полному соединению идеи и художественной формы. Гениальность художника и мыслителя в данном случае
заключается в способности настолько органично осуществить это соединение, что идея обретает новую глубину и новый смысл, который
не может быть до конца отражен ни в какой ее рациональной формулировке. Соответственно и понимание таких произведений требует
не только развитого художественного вкуса, но и развитой философской интуиции, умения увидеть за «чистыми» образами искусства их
скрытое содержание, связанное с какими-то философскими, идеологическими традициями.
1 Тарковский А. А. Запечатленное время //Вопросы киноискусства. М.,
1967. Вып. 10. С. 80.
11
ВВЕДЕНИЕ
Художник-философ
В связи с этим уместно вспомнить, что большинство сочинений Достоевского оценивалось его современниками весьма неоднозначно, и очень многие критики справедливо указывали писателю
на явные несовершенства его стиля, не вполне соответствовавшего
сложившимся канонам литературного мастерства. Подлинное понимание тех идей, которые пытался выразить в своем творчестве Достоевский, пришло только тогда, когда его произведения стали анализировать не литературные критики, а философы, способные увидеть
в кажущихся несовершенствах и недочетах необходимое и адекватное применение парадоксального метода художественного философствования2. Только в известных работах Л. Шестова («Достоевский
и Ницше (философия трагедии)»), Н. Бердяева («Миросозерцание Достоевского» и др.), М. Бахтина («Проблемы поэтики Достоевского»),
Н. Лосского («Достоевский и его христианское миропонимание») был
достигнут исходный уровень проникновения в сущность художественной образности Достоевского, то предварительное понимание
«законов» его художественного мира, отталкиваясь от которого можно было пытаться раскрыть мировоззрение писателя во всем его богатстве и оригинальности. В этом контексте особенно плодотворной
представляется точка зрения Бердяева, утверждавшего, что главной
составляющей творчества Достоевского, его невидимым центром,
к которому тяготеет вся совокупность конкретных идей и образов,
является метафизика человека.
Этот вывод полностью справедлив и по отношению к Тарковскому: только через выявление метафизических идей, лежащих в основе
образного строя его фильмов, можно прийти к целостному пониманию его творчества и к адекватному описанию смысла используемых
им выразительных средств. При этом очень важно правильно определить истоки (явные или, возможно, неявные) указанных идей. Для
нас является несомненным, что, помимо Достоевского, главным из
таких истоков для Тарковского являлась традиция русской религиозной философии конца XIX — начала XX в.
Отражение некоторых ключевых идей русской философии можно без труда обнаружить уже в «Ивановом детстве», однако по-
настоящему целостное мировоззрение режиссер сумел выразить
во втором своем фильме: именно «Страсти по Андрею»3 являются
подлинным ключом к творчеству Тарковского, без экспликации
философской подосновы этого фильма очень трудно разобраться
в переплетении повторяющихся тем и образов, характерных для его
2 Об этом же см.: Тарковский А. А. Уроки режиссуры. М., 1993. С. 68-69.
3 Мы будем в дальнейшем обращаться исключительно к первой, наиболее
полной версии этого фильма, а не к той, что шла в широком прокате и получила
известность под названием «Андрей Рублев».
12
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
художественного мира. В свою очередь для плодотворного анализа
идейной структуры и этого и всех последующих фильмов полезно
дать краткий обзор идей и концепций, составлявших базис русской
философии начала века, а в более широком смысле — базис всего
мировоззрения русской культуры XX в. Это поможет проследить преемственность творчества Тарковского по отношению к культуре предреволюционного периода.
Пытаясь бегло очертить основные идеи русской философии, мы
должны начать с того принципа, который присутствует в воззрениях
практически всех русских философов от П. Чаадаева до С. Франка
и JI. Карсавина — с принципа всеединства. Этот принцип имеет
давнюю историю в европейской философии. Зародившись в философии Платона, он был впервые ясно проведен в неоплатонизме, затем
стал неотъемлемой принадлежностью христианского мистицизма,
получил наиболее полное выражение в философии Мейстера Эк-
харта, Николая Кузанского и Якоба Бёме и, наконец, наряду с рядом других принципов стал основой грандиозных систем немецкого
идеализма — систем Шеллинга и Гегеля. Русская философия, начав свое бурное развитие в 30-е гг. XIX в., очень чутко восприняла
эту мыслительную традицию, причем это влияние органично
соединилось с важным слагаемым русской культуры — с языческим представлением о магическом единстве мира, о взаимосвязи
всего со всем.
Характерная для русских философов версия концепции всеединства в качестве своего неявного центра включает представление об идеальном состоянии всего мира, состоянии, в котором была
бы преодолена его раздробленность, отчужденность его отдельных
элементов друг от друга. Если бы это всеединое состояние стало
реальностью, мир предстал бы абсолютно гармоничным и цельным,
каждый его мельчайший элемент обрел бы неповторимый смысл
и неповторимую красоту. По отношению к этому идеальному состоянию наличное состояние мира необходимо признать глубоко
«ущербным», несовершенным: с одной стороны, отдалившимся от
идеала, но, с другой — сохранившим некоторые существенные его
черты. В концепции всеединства главный и единственный источник
зла и несовершенства в мире — это разделение бытия, отчуждение
отдельных элементов от мирового, всеединого целого. Только за счет
сохраняющихся, не вполне утраченных взаимосвязей отдельных вещей и явлений с мировым целым у них сохраняется какой-то смысл,
какое-то непреходящее значение, причем степень их совершенства
и осмысленности напрямую зависит от глубины их связей со всем
миром, от богатства отношений со всеми окружающими явлениями
и событиями.
13
ВВЕДЕНИЕ
Художник-философ
С наибольшей последовательностью эту концепцию воплотил
в своем творчестве Владимир Соловьев. Он полагал, что наш мир
возник в результате полумистического процесса «распадения», «деградации» идеального всеединства, причем это произошло из-за раскрепощения негативной свободы отдельных элементов всеединства,
что привело к обособлению элементов друг от друга и воцарению хаоса и зла в возникшем мире. Однако идеальное всеединство, согласно
Соловьеву, продолжает существовать в своей исходной совершенной
форме, являясь по отношению к нашему «отпавшему» и «павшему»
миру некоей трансцендентной основой и целью развития. Это и есть
божественное бытие, это и есть Бог, смысл которого только в ограниченной, несовершенной форме выражают все исторические религии и конфессии.
Особенно большое внимание Соловьев, как и вся русская философия, уделял положению человека в мире, его роли в «падении»
мира и в его грядущем «возрождении», в достижении вновь состояния идеального всеединства. Собственно говоря, именно определенное представление о человеке было целью всех самых оригинальных
построений русской философии, и именно в этом элементе наиболее
заметно ее отклонение от традиций западного рационализма. На протяжении тысячелетней истории в философии и культуре Европы господствовало убеждение в принципиальной вторичности человека,
несущественности его роли в бытии. Представляя себя незначительной частью бесконечного целого мира, человек признавал свою подчиненность многообразным формам и законам мирового целого: этот
принцип, составляя незыблемую основу западной цивилизации, обусловил такие известные черты среднего европейца, как практицизм,
умеренность, трезвое трудолюбие, умение признать естественной
и необходимой свою ограниченность, свое зависимое положение в социальной иерархии. Несмотря на то, что в европейской философии
можно найти выразительные примеры совершенно иного, более «возвышенного» представления о человеке (это особенно характерно для
различных мистических учений, в частности, для традиции немецкой
философской мистики — от Мейстера Экхарта и Николая Кузанско-
го до М. Хайдеггера), она в основном придерживалась именно такой
«модели» человека.
На фоне этой господствующей тенденции та концепция человека,
которая была создана в русской философии благодаря усилиям Ф. Достоевского и Вл. Соловьева, выглядит особенно оригинальной. Для
Соловьева человек — это особый элемент несовершенного, распавшегося бытия, причем именно тот элемент, в котором с наибольшей
полнотой сохраняется содержание идеального всеединства.
Человек — это как бы последний «оплот» всеединства внутри мира,
14
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
распавшегося на отдельные элементы, это точка осмысленности
и связности бытия. Сохраняя в себе мистическую взаимосвязь
с идеальным всеединством, т. е. с Богом, человек спасает весь земной
мир, в котором он существует, от полного распада, хаоса. Претворяя
в мире духовные идеалы добра, цельности, гармонии, которые он несет в себе, которые он извлекает из своей мистической связи с Богом, человек ведет весь несовершенный мир к воссоединению с идеальным всеединством, к новой, высшей цельности и осмысленности.
При этом Соловьев почти во всех своих сочинениях (за исключением
поздних «Трех разговоров») весьма оптимистично оценивал перспективы человека и «ведомого» им к совершенству мира, он верил в то,
что окончательное и полное соединение с Богом не только возможно,
но и будет осуществлено человеком в своей истории.
Понимание человека как единственной силы, ведущей мир
к состоянию идеального, полного всеединства составляет смысл со-
ловьевской идеи Богочеловечества. С одной стороны, в этой идее
заключено убеждение в уже наличном мистическом единстве человека с Богом, или, что то же самое — понимание человека как того
элемента, который внутри земного мира сохраняет содержание идеального всеединства, обеспечивает связность всего мира, предохраняет его от окончательного распада. Но, с другой стороны, в идее
Богочеловечества заключено осознание глубокого несовершенства
и мира, в котором существует человек, и самого человека. Ведь мир
и человек взаимодополнительны, их невозможно мыслить независимыми друг от друга. Поэтому несовершенство мира есть одновременно несовершенство человека, и сколь бы совершенным ни чувствовал
себя человек, это чувство обманывает его, поскольку его подлинное
и окончательное совершенствование должно подразумевать соответствующее преображение всего мира. Поэтому идея Богочеловечества
несет в себе не столько констатацию уже наличного единства Бога
и человека, сколько требование к постоянной работе, постоянной
борьбе за достижение полноты этого единства, т. е. полноты совершенства как самого человека, так и всего мира.
В рамках этой основополагающей концепции последователи
Соловьева (Н. Бердяев, С. Франк, И. Ильин и Л. Карсавин и др.) по-
разному понимали смысл и конкретное содержание той «борьбы»,
которую должен вести человек в мире. Это предполагало также определенное понимание причин, по которым наша земная действительность предстает «зараженной» злом и несовершенством. Несмотря
на значительное различие точек зрения отдельных философов на эту
проблему, можно выделить общий и очень важный элемент их позиций, который ясно различим уже в мировоззрении Достоевского. Источник и причина несовершенства и зла коренится в том же самом
15
ВВЕДЕНИЕ
Художник-философ
измерении человеческого бытия, где пребывает его божественная
сущность, откуда исходит неустанное стремление к совершенству
и добру. В конечном счете, этот источник — наша свобода, необъяснимая, неподвластная ничему, иррациональная. Именно открытие глубокой иррациональной диалектики человеческой души, сочетающей в себе (часто в одном и том же чувстве и помысле) добро
и зло, своеволие и рабство, любовь и ненависть, составляет главную
заслугу Достоевского. Но отсюда следует, что оборотной стороной
стремления к совершенству и добру должно являться осознание своей вины за несовершенство и зло мира, причем эта вина носит «сверх-
эмпирический», абсолютный характер и не должна ограничиваться
эмпирической виной за конкретные проступки, творимые отдельным
человеком. Наша подлинная неснимаемая вина относится к несовершенству всего мира и всех людей, относится ко всему тому злу, которое было, есть и будет в мире. Этот принцип абсолютной, метафизической виновности человека особенно настойчиво обосновывали
в своих философских трудах Иван Ильин и Лев Карсавин (причем
оба с прямой ссылкой на Достоевского).
Осознание своей неустранимой вины за зло и несовершенство
мира, естественно, должно изменить отношение человека к себе
самому, к той системе ценностей, которая обосновывает его жизнь,
к целям его жизни и деятельности. Так, Ильин полагал, что это осознание должно вести к решимости всегда и везде выступать активным
противником зла. Причем в борьбе со злом человек может и должен
использовать все возможные средства вплоть до самых радикальных,
включая убийство злодея.
Особенно парадоксальные выводы из концепции метафизической
виновности человека сделал Карсавин. Смысл нашей вины в том,
что мы своими «неправедными» поступками вносим невосполнимые «дефекты» в бытие, разрушаем сохраняющиеся в нем элементы
совершенства и целостности. Преображение мира невозможно без
устранения указанных «дефектов»: необходимо каким-то образом
скомпенсировать и каждое неправедное деяние, и виновность человека как таковую. Такая «компенсация» означает не просто некоторое
внешнее упорядочивание и усовершенствование элементов бытия.
Источником неправедного деяния и вины в целом является внутренняя свобода человека, которая получает неправильную реализацию
и тем самым отрицает саму себя в своей бесконечной духовной сущности. Поэтому и полная «компенсация» вины возможна только через свободное деяние, имеющее целью отрицание своей свободной
неправедности, виновности. Во внешнем, материальном плане это
означает жертвование себя миру и всем людям, добровольное избрание пути, на котором человека ждут страдания и смерть, но на
16
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
котором именно через свободное избрание страдания и смерти преодолевается непреклонность и абсолютность этих негативных
характеристик бытия и они превращаются в нечто вторичное и незначительное по отношению к подлинной абсолютности человеческой свободы и человеческого творчества. Понятно, что символом
и высшим примером такого жертвования себя миру и другим людям
выступает Иисус Христос и его мученическая смерть на Голгофе.
Помимо Карсавина, у которого идея жертвенности, жертвенного
умирания ради восстановления совершенства мира, ради «восстановления», «воскрешения» Бога, была обоснована в рамках очень
сложной и содержательной философской системы, туже самую идею
в лаконичных и публицистически ярких работах (опубликованных
в полном объеме'только через десятилетия после гибели автора в сталинском ГУЛАГе) развивал Александр Мейер. Рассуждения Мейера
о неизбежности жертвенных актов (как добровольных, так и предопределенных судьбой) в жизни каждого человека можно расома-
тривать как попытку осмысления и своеобразного метафизического
оправдания того порядка вещей, который сложился в Советской России в 20-40-е гг. и обрекал миллионы людей на мучительную гибель
или полурабское существование.
Вряд ли сейчас можно однозначно ответить на вопрос о том, читал ли Тарковский какие-либо сочинения упомянутых философов,
но и помимо этого традиция русской философии должна была быть
хорошо известна ему благодаря отцу Арсению Александровичу.
В конце 20-х — начале 30-х гг., когда Арсений Тарковский учился
на Высших литературных курсах в Москве и начинал свою творческую биографию, сочинения известнейших русских философов были
весьма популярны и все еще составляли интеллектуальную атмосферу эпохи. Вне всяких сомнений, Арсений Тарковский глубоко воспринял известнейшие идеи русских философов, это доказывает все
его последующее поэтическое творчество, в котором философская
составляющая столь же значима, как и в творчестве его сына. Все
упомянутые выше темы русской философии с той или иной степенью
полноты могут быть найдены в поэтических произведений Арсения
Тарковского. Используя стихотворения отца в своих фильмах (причем чаще всего именно стихотворения с глубоким философским подтекстом), Андрей Тарковский прямо признается в том, что он является его идейным наследником.
В этом контексте нужно также вспомнить, что эпоха «оттепели»,
в которую происходило формирования мировоззрения Тарковского
(конец 50-х — начало 60-х гг.), была отмечена бурными интеллектуальными дискуссиями и резким ростом интереса к философии в связи
с тем, что была ослаблена идеологическая цензура и стало возможным
17
ВВЕДЕНИЕ
Художник-философ
при обсуждении канонических тем марксизма (например, проблемы
человека) обращаться и к трудам западных философов. Особую популярность в связи с этим приобрели идеи западного экзистенциализма, это во многом объяснялось тем, что западные экзистенциалисты
резко критиковали буржуазное «общество потребления», а некоторые (прежде всего Жан-Поль Сартр) к тому же придерживались левых взглядов и позитивно оценивали Советский Союз. Если учесть,
что важнейшим истоком экзистенциализма (особенно французского)
было творчество Достоевского, а в некоторой степени и творчество
русских философов рубежа XIX и XX вв., можно признать, что освоение идей популярных в ту эпоху западных философов для советских
интеллектуалов той эпохи было неразрывно связано с восприятием
русской философии дореволюционного периода.
В конце концов, не имеет существенного значения степень непосредственного знакомства Тарковского с сочинениями русских
философов начала века. Вся эта система идей не была «придумана» упомянутыми мыслителями, в ней было выражено сокровенное
мировоззрение русской культуры, служившее невидимой основой
большинства ее творений. Такой чуткий художник, как Тарковский,
безусловно, воспринял ее через атмосферу духовных исканий, пронизывающую творчество виднейших представителей русской культуры.
Позже, рассматривая фильм «Страсти по Андрею», программное произведении Тарковского, мы найдем развитие именно этого комплекса
идей, среди которых на первое место выходит идея жертвенности.
2. Проблема времени в кинематографе
Кинематограф — это самое молодое из искусств, однако в своем всего лишь вековом развитии он во многом повторил тысячелетнее развитие других видов искусства. Не претендуя на сколько-нибудь исчерпывающее освещение этой темы, мы рассмотрим в связи
с анализом творчества Тарковского только один из аспектов этого
развития — изменение представлений о роли времени. Эта проблема является важнейшей в «философии» кино, поскольку в этом виде
искусства время выступает главным выразительным элементом; не
случайно Тарковский в своих работах определял кино как «запечатленное время». Для нас особенно важным является тот факт, что различные подходы к решению проблемы времени в кино оказываются
тесно взаимосвязанными с совершенно определенными философскими концепциями человека.
Время фильма, очевидно, имеет два «измерения»: первое связано с временной последовательностью событий фильма как целого,
второе — с временной протяженностью отдельного эпизода. Первое
18
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
можно назвать объективным временем (фильма), хотя оно, конечно
же, не совпадает с объективным временем самой действительности.
В любом фильме (за исключением крайних случаев, представленных
в экспериментальном кино) последовательность изображенных на
экране в течении 1,5-2 часов событий охватывает гораздо большие
временные промежутки реальных событий, в результате, уже в организации объективного времени фильма неизбежно проявляется
субъективная воля его создателей — сценариста, режиссера, оператора. Этот факт хорошо известен, и вряд ли можно говорить, что он
делает кинофильм, как произведение искусства, более субъективным, чем другие формы искусства.
Гораздо большее значение для понимания связи объективного
и субъективного^ киноискусстве дает анализ структуры времени отдельного эпизода, точнее, соотношения «большого» времени — времени всего фильма, задающего сюжетную логику, и «малого» времени —
времени отдельного эпизода. На первый взгляд кажется, что время отдельного эпизода в наибольшей степени привязано к времени самой
реальности, поскольку эпизод просто воспроизводит «один к одному»
реальное событие, в то время как с помощью «большого» времени
режиссер организует изобразительный материал в соответствии со
своими эстетическими взглядами и целями. Именно такое понимание структуры фильма было господствующим в начальный период
развития кинематографа, наиболее ясное и прямое выражение эта
концепция получила в деятельности Эйзенштейна (более широко —
в технике монтажного кино). Если время одного эпизода понимается как объективное и почти неподвластное воле автора фильма, то
творческая активность режиссера находит себе воплощение в своеобразном сочетании, синтезе эпизодов. При такой интерпретации
сути творческого акта отдельные эпизоды предельно упрощаются,
становятся «атомарными», почти лишенными внутренней структуры,
а техника «стыковки», монтажа принимает на себя все содержание
авторского замысла.
Идеология монтажного кино, предполагающая редукция эпизодов до «атомарного» состояния и господство «большого» времени фильма, неизбежно связана и с определенным представлением
о человеке. «Атомарные» эпизоды, связываемые монтажом, обязаны
представлять событие, заданное в его однозначной внешней форме.
Независимо от того, является или нет человек центром этого события, он понимается как элемент мира, с ним что-то происходит, случается, он выступает как объект, а не как субъект действия. С другой стороны, «большое» время фильма безусловно ориентировано на
выражение смыслов и содержаний, связанных с самой действительностью, человек и в этом аспекте оказывается только одним из объ¬
19
ВВЕДЕНИЕ
Художник-философ
ектов изображения. Таким образом, можно заключить, что монтажное кино в своей идеологической подоснове связано с традиционной
концепцией человека, которую мы упомянули выше и в соответствии
с которой человек понимается только как часть мира, испытывающая
«давление» мира и стремящаяся к тому, чтобы обособиться от него.
Описанный тип кино можно назвать «объективным» или «реалистическим», поскольку его целью является отражение закономерностей
мира (природного бытия и человеческого общества), преломленных
в сознании автора фильма (режиссера), но не потерявших своего объективного характера.
Однако наряду с этим направлением в развитии европейского киноискусства достаточно рано стала проявляться и другая тенденция,
связанная с приоритетом «малого», «локального» времени фильма —
времени отдельного эпизода. Некоторые шаги в этом направлении
сделал уже сам Эйзенштейн в своих поздних фильмах. Если «Стачка», «Броненосец Потемкин» и даже «Александр Невский» выполнены по законам монтажного кино, то «Иван Грозный» и «Бежин луг»
уже сильно отклоняются от строгости исходной модели. В «Иване
Грозном» мы видим неуклонное усиление роли отдельных эпизодов,
приобретающих самостоятельный смысл внутри фильма.
По-настоящему определяющее значение эта тенденция стала
играть в кинематографе 50-60-х гг. в связи с рождением неореализма
и «поэтического» кино, обратившихся от изображения значительных
исторических событий к жизни отдельного («маленького») человека.
В этом случае акцент неизбежно переносится с объективного времени, которому подчинен человек, на субъективное время его переживаний. Одним из первых ярких представителей этого направления
стал Ж. Вико. В дальнейшем оно стало господствующим в киноискусстве и получило наиболее значительное развитие в творчестве таких
известных режиссеров, как JI. Бунюэль, И. Бергман, Ф. Феллини
и др. В творчестве этих художников «субъективизация» экранного
времени привела к тому, что мир, в котором существуют герои, оказывается тесно переплетенным с их внутренним миром. Реальные события, изображаемые на экране, начинают активно взаимодействовать с субъективными образами снов, фантазий, видений героев.
В качестве наглядных примеров, показывающих смысл новой
«философии» кино, можно привести фильм И. Бергмана «Земляничная поляна» и фильм Ф. Феллини «Джульетта и духи», где взаимодействие «субъективного» и «объективного» времени, реальности
и мира фантазий, доведено до той грани, когда уже трудно говорить
о какой-то абсолютно независимой от человека действительности.
В «Земляничной поляне» объективная канва событий, сюжет, задающий объективное время фильма, сведены к минимуму, к одному
20
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
событию, почти лишенному внутреннего драматизма — поездке старого профессора в другой город на церемонию награждения. Все главное в фильме происходит в воображении героя и в его воспоминаниях о своем прошлом. При этом Бергман сознательно разрушает грань
между действительностью и воспоминаниями, создавая иллюзию реального присутствия «здесь» и «сейчас» образов прошлого. Тот же самый прием «разоблачения» объективности присутствует и в фильме
Феллини. Сны и видения Джульетты в своей барочной красочности
и изобразительной избыточности кажутся гораздо более значимыми
и реальными, чем мир ее обыденного существования.
Несомненно, новая «философия» кино означает достаточно радикальный сдвиг в понимании человека. Человек вместе со своим
внутренним миром теперь понимается в качестве центра действительности, только через него каждое событие обретает свой подлинный смысл. В этом случае уже невозможно видеть в человеке незначительную часть бытия, наоборот, приходится признать, что бытие
не обладает самостоятельностью, немыслимо без человека, между
«объективной» реальностью и человеком возникают отношения
взаимодополнительности и взаимообусловленности. Их выражение
и становится важнейшей целью киноискусства в рассматриваемой
линии его развития. Творчество Тарковского, безусловно, принадлежит именно к этой линии, более того, оно дает наиболее полное
и глубокое выражение всех основных принципов указанной новой
«философии» кино.
Говоря о тех влияниях, которые испытал Тарковский, необходимо упомянуть также традицию «идейного кино», особенно ярко проявившуюся в советском кинематографе 40-60-х гг. Все советское
искусство было пронизано идеологией, однако кино оказалось в наибольшей степени подвержено ее влиянию в связи с его способностью
воздействовать на большие массы людей. В творчестве Михаила
Ромма — учителя Тарковского и одного из наиболее ярких советских
режиссеров 30-50-х гг. — «идейная» составляющая кино выступила
со всей очевидностью. Дилогия «Ленин в Октябре» (1937) и «Ленин
в 1918 году» (1939) стала классикой советского киноискусства, призванного «воспитывать» массы в духе марксистско-ленинско-сталинской идеологии. Не меньший идеологический заряд несла и известная трилогия Ромма, посвященная обличению фашизма — «Русский
вопрос» (1948), «Секретная миссия» (1950) и «Убийство на улице
Данте» (1956). Несмотря на очевидную дидактичность, прямолинейность и шаблонность всех этих фильмов, в них есть несомненная кинематографическая выразительность, и они являются выдающимися
творениями киноискусства, поскольку демонстрируют возможность
выражения в фильме определенной системы идей за счет органично¬
21
ВВЕДЕНИЕ
Художник-философ
го сочетания всех доступных художественных средств: текста, сюжета, драматургии отдельных эпизодов, системы ключевых образов
и т.д. Внутренняя творческая последовательность Ромма проявилась
в том, что и после исчезновения грубого идеологического диктата,
в эпоху «оттепели» (конец 50-х-60-е гг.), он продолжал снимать
столь же «идейные» фильмы, развивающие темы его предшествующего творчества; особенно здесь нужно отметить «Девять дней одного года» (1962) и «Обыкновенный фашизм» (1966). Последний фильм
интересен в связи с тем, что в нем Ромм предпринял попытку создания произведения, отражающего глубоко личные убеждения режиссера, исключительно с помощью документального материала. Несомненно, именно от своего учителя Тарковский воспринял стремление
к выражению в искусстве кино «больших», мировоззренческих идей.
Очевидное влияние на Тарковского оказало также творчество
двух представителей более молодого поколения советских режиссеров, сумевших в конце 50-х годов существенно изменить язык киноискусства, избавить его от фальшивых идеологических клише, —
Григория Чухрая и Михаила Калатозова. «Сорок первый» (1956)
и «Баллада о солдате» (1959) Чухрая, а также «Летят журавли» (1957)
Калатозова открыли новую эпоху в советском кинематографе: в этих
фильмах были сломаны стереотипы идеализированного изображения
Гражданской и Великой Отечественной войн, и война предстала не
как цепь подвигов и блестящих побед, а как трагедия, принесшая народу невыносимые тяготы и страдания.
Тема войны была центральной в советском кинематографе
40-60-х гг., не случайно многие значительные художественные произведения этой эпохи были созданы на материале войны. Так это случилось и в творчестве Тарковского. В своем первом фильме «Иваново
детство» Тарковский продолжил движение к более правдивому и глубокому осмыслению войны, начатое Чухраем и Калатозовым, одновременно здесь получает оригинальное воплощение та новая «философия» киноискусства, о которой говорилось выше, переносящая
акцент с объективной реальности на субъективный мир личности.
Наконец, необходимо сказать еще об одном факторе, который,
вне всяких сомнений, оказывал огромное влияние на становление
творческой манеры Тарковского и на образный и идейный строй отдельных его фильмов - это творчество молодого поколения кинематографистов социалистических стран, создававших в конце 50-х
и в 60-е гг. выдающиеся произведения, которые были гораздо более доступными в СССР, чем произведения западных режиссеров.
Чешское, венгерское и польское кино в эти годы было чрезвычайно
богато на талантливые, глубокие фильмы. Точно так же как и в советском кинематографе той эпохи, в кино социалистических стран
22
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
постепенно формировался гораздо более правдивый и даже жестокий
взгляд на прошедшую войну и ее трагические последствия, можно
вспомнить такие фильмы, как «Поколение» (1954), «Канал» (1956),
«Пепел и алмаз» (1958) Анджея Вайды; «Смерть зовется Энгель-
хен» (1963) Яна Кадара и Эльмара Клосса и др. Очень много фильмов
создавалось в притчевой манере, часто с использованием сюрреалистической образности, и все это ради выражения глубоких философских идеи; в результате, кинематограф все в большей степени
воспринимался как оригинальная форма «художественного философствования». Можно назвать целый ряд поистине выдающихся
произведений той эпохи, которые до сих пор остаются образцом высокого, философского кино: «Мать Иоанна от ангелов» (1961) Ежи Ка-
валеровича, «Маргаритки» (1966) Веры Хитиловой, «Барьер» (1966)
Ежи Скалимовского, «Третья часть ночи» (1971) Анджея Жулавского,
«Санаторий под клепсидрой» (1973) Войцеха Хаса, и многие другие.
Достаточно сопоставить, например, «Страсти по Андрею» Тарковского и «Мать Иоанна от ангелов» или «Зеркало» и «Третью часть
ночи», чтобы понять, что Тарковский очень чутко воспринимал достижения своих талантливых современников и коллег и, возможно, не
боялся использовать некоторые их находки. Во всяком случае проблема влияния на Тарковского этого очень богатого пласта киноискусства
остается достаточно важной, хотя и совершенно не исследованной.
23
ГЛАВА I
«ИВАНОВО ДЕТСТВО»:
реквием по человеку
ГЛАВА I
«Иваново детство»: реквием по человеку
1. Мир снов
Первый полнометражный фильм Тарковского «Иваново детство»
(до этого Тарковский снял в качестве дипломной работы короткометражку «Каток и скрипка») принес его автору не только признание
в кинематографических кругах, но и всемирную известность: он был
награжден «Золотым львом» Венецианского кинофестиваля 1962 года.
Даже на фоне целого ряда произведений, по-новому показывающих
войну, фильм Тарковского выделялся необычностью своего изобразительного ряда. Несмотря на то, что наряду с эпическим изображением
подвига народных масс в советском искусстве все больше внимания
уделялось трагедии отдельного человека, фильмы о войне оставались
той зоной кинематографа, в которой абсолютно преобладала объекти-
вистско-реалистическая тенденция; судьба отдельной личности всегда представала как пример некоторых общезначимых объективных
закономерностей, выступала как точка пересечения тех глобальных
потоков и сил, которые формировали движение истории. Именно такой характер носили наиболее известные фильмы, предшествовавшие
фильму Тарковского («Баллада о солдате», «Летят журавли» и др.).
Тарковский полностью ломает сложившиеся и складывающиеся
стереотипы, он вводит в свой фильм такие темы и мотивы, которые
существенно обогащают традиционное представление о взаимоотношении отдельного человека и «большой» истории, его внимание
привлекает не столько события истории, сколько личность и ее внутренний мир. В жизнь героев упомянутых выше фильмов Калатозова
и Чухрая война вносила трагический перелом, заставляя их решать
мучительную проблему соотнесения личного и общественного —
стремления к личному счастью и готовности пожертвовать собой
ради общей победы. Неразрешимость этой проблемы придавала фильмам возвышенное трагическое звучание, однако в них присутствовал
и оптимистический мотив, происходящий из понимания невозможности личного счастья вне контекста общественных ценностей. Грядущая победа в войне, ради которой герои жертвовали своей жизнью
и своим счастьем, искупала все трагедии и представала как главная
и единственная цель всех устремлений. Личная судьба героев и их
личная трагедия выступали как хотя и важные, но все-таки вторичные составляющие объективного движения истории. Такое историческое мировоззрение навязывало произведению киноискусства
традиционную форму, связанную с абсолютным преобладанием объективного времени над субъективным (в рамках той интерпретации
этих понятий, которая была сформулирована выше). Объективный
ряд событий, в который были вовлечены герои, составлял главное
26
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
в сюжетной линии фильма, в то время как их внутреннее эмоциональное состояние, их личное отношение к миру и к происходящему вокруг только дополняли и обогащали этот объективный ряд.
В этом контексте наглядно проявляется новаторство фильма
Тарковского и со стороны его формальной структуры, и со стороны
выраженных здесь представлений о человеке. Главный принцип Тарковского — совмещение и синтез объективного и субъективного.
Тарковский сознательно выстраивает в фильме два противоположных, но взаимодействующих событийных ряда, связанных соответственно с реальным временем войны и с субъективным временем,
обуславливающим внутреннее, личностное бытие главного героя
фильма — маленького разведчика Ивана. Само понимание этих двух
событийных рядов как относительно самостоятельных не является
открытием Тарковского, однако он не просто констатирует их рядо-
положенность и определенное взаимодействие — новаторство режиссера состоит в том, что он отказывается признать первое из
них абсолютно господствующим и определяющим. Тот факт, что
главный герой фильма предстает в ситуации войны, позволяет Тарковскому в более наглядной форме выразить свое убеждение: даже
в тех условиях, когда на человека действуют самые могущественные
и разрушительные силы, они не способны полностью подчинить его
внутреннее бытие «объективному», не способны сделать человека
«марионеткой» в руках судьбы.
В рамках обыденного, спокойного существования независимость
личности формально гарантируется обществом, не претендующим,
как правило, на то, чтобы вмешиваться во внутренний мир человека. Но это касается только тех его проявлений, которые не вступают в противоречие с закрепленным порядком вещей. Это своего рода
«договор» личности и мира, согласно ему человек признает принципиальный приоритет определенных законов и в жизни и истории,
а взамен получает свободу и самостоятельность в тех рамках, которые допускаются указанными законами. Условность этой самостоятельности как раз и демонстрирует война. Здесь потенциальное
господство внешнего мира над личностью превращается в зримое
и реальное, а рамки допустимой свободы сужаются почти до полной
предопределенности не только внешнего поведения, но и основных
составляющих внутреннего бытия личности.
То, что демонстрирует нам Тарковский на примере своего героя,
которого играет Николай Бурляев, совершенно не соответствует
этой модели. Трагедия Ивана состоит не только в том, что война разрушила его счастливое детство и лишила всего самого дорогого: такую же трагедию переживают все люди во время войны. Для Ивана
эта общая трагедия оказалась обостренной тем фактом, что он не
27
ГЛАВА I
«Иваново детство»: реквием по человеку
может и не желает подчиниться течению событий, приспособиться
к страшному миру, принять то, что кажется естественным в сложившейся ситуации.
То внутреннее «измерение» личности, которое оказывается неподвластным объективному бытию вокруг, противостоит ему в абсурдном упрямстве, представлено миром снов и воспоминаний Ивана.
В своих снах Иван постоянно возвращается к образам своего счастливого довоенного детства, среди которых центральное место занимает
образ его матери. Воскрешая в себе свое прошлое, Иван, по существу,
продолжает жить в нем, и оно оказывается не только не менее, но
даже более реальным, чем окружающий его жестокий мир войны.
В дальнейшем (особенно в фильме «Зеркало») Тарковский осуществит детальную художественную разработку проблемы времени, но
главный пункт его убеждений однозначно проявляется уже в «Ивановом детстве»: прошлое — это особое измерение бытия, измерение
вечного бытия, по своему метафизическому статусу не менее реальное, чем то измерение, которое мы называем «настоящим». Тот факт,
что человек осознает себя существующим только в настоящем, является некоторым вторичным феноменом, некоторой загадочной особенностью нашей сущности, которая вовсе не отменяет как такового
нашего существования во всех измерениях вечного бытия — в том
числе в измерении прошлого. История Ивана показывает, что очень
часто (если не всегда; об этом Тарковский также будет подробно говорить в своих последующих фильмах) человек обладает наиболее
подлинным, наиболее «своим» бытием именно в измерении прошлого, а не в измерении настоящего, — последнее, конечно же, обладает
существенной властью над ним, но не способно заставить его полностью отказаться от того, что он сам считает главным в себе.
Хотя основная часть эпизодов фильма описывает реальные события, происходящие с Иваном и окружающими его людьми, Тарковский в определенном смысле уравнивает «реальность» и «сны», это
проявляется в том, что в общей образной структуре фильма он ставит смысловой акцент на первом и последнем эпизодах, в которых
предстает таинственный мир снов Ивана. Важно также отметить, что
символическим центром фильма является сцена игры Ивана в войну;
в ней Тарковский показывает отсутствие четкой грани между миром
снов и фантазий Ивана и окружающей действительностью, и в этом
соединении, схождении в одной точке двух планов бытия наглядно
раскрывается их смысловое равноправие (подробнее об этом будет
говориться ниже).
Нужно добавить также, что сны Ивана представляют собой нечто
значительно большее, чем просто воспоминания о реально происходивших событиях, в них содержится очевидный символический эле¬
28
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
мент; предстающие в сознании Ивана образы не просто повторяют
прошлое, они преображают его к такой форме, в которой выявляется
их вечный смысл. Можно сказать, что в своих «снах» Иван каким-
то образом прикасается не только к измерению прошлого, сосуществующему параллельно с настоящим, но и к той целостной и вечной
основе бытия, в которой в преображенной, символической форме отпечатываются все события человеческой жизни, чтобы сохраниться
навсегда. Уже в первом фильме Тарковского проступают контуры новаторского представления о человеке, радикально отличающегося от
того, которое господствовало в киноискусстве второй половины XX в.
В «Ивановом детстве» еще нет его подробной разработки, это станет
главным для Тарковского в его последующих фильмах. Пока же со
всей определенностью можно сказать лишь об одном: человек предстает у Тарковского как особое сущее, обладающее своим собственным временем, господствующим над объективным временем мира
и объединяющим в себе настоящее, прошлое и будущее. Даже под
влиянием самых мощных сил, действующих на него и способных
уничтожить его, человек может сохранить свою (метафизическую)
самобытность, и даже смерть не способна полностью уничтожить те
вечные смыслы, которые его существование внесло в мир. Символом
этого вечного, абсолютного существования выступают финальные
кадры фильма, показывающие полет Ивана над морем и завершающиеся образом черного обожженного дерева. Эти кадры воспринимаются как чистая метафора, однако в перспективе последующего
творчества Тарковского этому фрагменту, без сомнения, можно приписать более глубокий смысл: это — символическое выражение вечности личности, для которой ее существование во времени, обрывающееся смертью, оказывается хотя и важнейшей, но не единственной
формой бытия.
Реально-событийную канву фильма предваряет первый сон Ивана. Открывая фильм этим эпизодом, Тарковский как бы подчеркивает вне- и надвременной характер того измерения, той сферы бытия,
которая открывается в снах Ивана. Вообще говоря, правильнее было
бы говорить об этих образах не как о сновидениях Ивана, а как о его
видениях, точнее — как о видении им некоторой символической реальности, объективно существующей за пределами нашего простран-
ственно-временного мира. Трагические перипетии жизни Ивана привели его в буквальном смысле на «грань» бытия, и он гораздо острее,
чем все окружающие его люди, ощущает присутствие «рядом» с нами
этого вечного измерения, заключающего в себе абсолютные смыслы
всех явлений и событий земной жизни.
В первых кадрах фильма Иван смотрит на нас через огромную
паутину, растянутую между ветками дерева; переливающаяся на
29
ГЛАВА I
«Иваново детство»: реквием по человеку
солнце паутина, слегка скрывающая его лицо, кажется символической гранью между земной реальностью и миром, в котором пребывает Иван, некоторым аналогом «зеркального стекла» — постоянного
образа последующих фильмов режиссера (в «Зеркале» через такое
помутневшее стекло будет смотреть на нас и на себя саму постаревшая мать главного героя, и это также будет символом близости и соприкосновения земного, реального мира и мира снов и видений). Мы
застаем Ивана как раз в тот момент, когда он приходит в себя после
мгновения какой-то задумчивости, оцепенения; словно он только что
оказался в этом загадочном для него самого мире. Он на наших глазах с некоторой робостью и удивлением осматривается вокруг и несмело идет по солнечному лесу, пытаясь понять, где он и что с ним.
Затем, словно преследуя какую-то цель, бежит по лесу, снова останавливается, следит за полетом бабочки; и в этот момент начинается
его полет. Этот полет, поднимающий Ивана выше деревьев, выше
леса, происходит как бы помимо его воли; на его лице на миг появляется недоумение, удивление происходящим, которое мгновенно сменяется радостью, бесконечным счастьем обретения того, о чем можно
было только мечтать.
После завершения полета, после «приземления» Ивана характер
эпизода резко меняется. Камера скользит по краю какого-то оврага
или просто ямы — словно свежей борозды в теле земли, только что
проведенной гигантским плугом; мы видим свежую взрыхленную
землю и обнаженные корни кустов или деревьев. Чуть озабоченное
лицо Ивана, прислушивающегося к голосу кукушки, подчеркивает
новый эмоциональный мотив — здесь его обступают образы, отражающие трагический излом его судьбы. Кукушка заканчивает свой счет
на одиннадцати, не оставляя Ивану будущего в его земном бытии,
и затем в символической реальности сна он еще раз переживает, точнее, видит навеки пребывающим в своем абсолютном трагическом
значении самое ужасное событие своей недолгой жизни — гибель
матери, застреленной немцами.
Переход от сна к яви изображен Тарковским таким образом, что
возникает явное ощущение связи и взаимозависимости двух миров —
иллюзорно-символического и реального. В последующих фильмах
Тарковский будет постоянно применять один и тот же прием: какие-
то слова или жесты героев, пребывающих в мире видений, будут
получать отклик или продолжение в реальном мире, будут непосредственно воздействовать на события и людей, живущих в эмпирическом времени. В «Ивановом детстве» этот прием намечается уже
в первом переходе от сна Ивана к действительности. Звуки выстрелов и крик Ивана в мире сна пробуждают Ивана, спящего в реальном
мире: он резко поднимается и напряженно прислушивается к про¬
30
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
исходящему вокруг, как бы ожидая повторения выстрелов и крика.
Именно пробуждение Ивана на сеновале заброшенной мельницы
на первый взгляд открывает событийный, «реальный» ряд фильма.
Однако предстающий на последующих кадрах мир изображен в таком ракурсе, что его почти невозможно принять за привычную нам
земную действительность. Сгоревшие остовы каких-то непонятных
машин или конструкций, выжженная земля, грозное, темное небо,
застилаемое черным дымом, пронзительное, зловещее солнце на закате — все это создает совершенно определенный колорит, смысл
которого становится ясным, когда мы вслед за этими картинами видим Ивана, нервными рывками двигающегося по мертвому лесу, стоящему в темной, болотной воде. Из символического бытия своих снов
и видений Иван попадает в адский мир, в мир, где проявлены во всей
своей разрушительной мощи те тенденции и силы, которые составляют сущность зла в земной реальности.
Уже здесь угадывается характерное представление о структуре
бытия, которое Тарковский будет неизменно воспроизводить во всех
последующих фильмах. Более подробно мы будем говорить об этом
в связи с анализом «Страстей по Андрею» и «Зеркала», однако уже
теперь можно сформулировать его главную идею (позже будет показано, что именно в этом моменте ярко проявляется близость философских позиций Тарковского и Достоевского). Тарковский видит
бытие многообразным, состоящим из различных слоев, складывающимся из параллельно существующих и взаимосвязанных миров.
Человек причастен всем этим мирам, хотя и в разной степени. Являясь обитателем привычной ему земной действительности, человек
в определенных ситуациях может проникать и в иные миры, более
гармоничные или, наоборот, наполненные более могущественными
разрушительными тенденциями, чем наш мир. Все события, происходящие с нами, так или иначе отражены в этих мирах, причем есть
особые ситуации, особые мгновения, которые делают связь, зависимость миров, значительно более явной и влиятельной, чем это кажется нам в череде обыденности. И тогда для некоторых людей их
бытие в «иных мирах», за пределами обыденного мира становится
очевидной и грозной реальностью. Именно о таких людях и таких событиях повествуют все фильмы Тарковского.
Мальчик Иван в ситуации войны, раскрепостившей адские
силы бытия, обретает особую чуткость к тем влияниям, которые
«иные миры» оказывают на земную действительность. Он как бы
«соприсутствует» в них и своим собственным существованием являет их действие в нашем мире. Два первых фрагмента фильма (сон
Ивана и его путь к своим через линию фронта) можно понять как
выражение этой «открытости» иным мирам: прежде чем попасть
31
ГЛАВА I
«Иваново детство»: реквием по человеку
в реальный мир, где продолжается «обычная» фронтовая жизнь
и где с нетерпением ждут его, Иван преодолевает две загадочные,
скрытые для остальных людей сферы бытия — символический мир
снов и адский мир своего существования один на один с теми силами, которые вызвали ужасы войны. Тарковский нарочито отделяет
эти два фрагмента от основной сюжетной части: только после них
идут титры фильма.
В первом реально-событийном фрагменте фильма происходит
встреча Ивана, перешедшего линию фронта, с лейтенантом Галь-
цевым (актер Евгений Жариков), командующим тем участком,
где Иван переплыл реку, разделяющую немцев и наших. Начиная
с этой встречи, по ходу фильма Тарковский постоянно обращает
наше внимание на то, что Иван и Гальцев является очень непохожими людьми, причем их различие носит не эмпирический, а как бы
метафизический характер и обусловлено различным отношением к невидимым сферам бытия. Гальцев спит, когда к нему приводят Ивана, и солдат долго трясет за плечо своего командира, чтобы
разбудить его. Медленно посыпаясь, Гальцев ворочается в полной
темноте, и создается впечатление, что он выныривает из небытия,
из состояния, в котором нет ничего — ни снов, ни видений. В начале фильма Гальцев предстает как человек предельно обыденный,
укорененный в земной действительности и абсолютно лишенный
тех связей с «иными мирами», которые делают Ивана столь непохожим на остальных людей, возносят его над всеми окружающими и над канвой реальных событий. Превосходство Ивана над
Гальцевым выглядит особенно парадоксальным в сцене их первой
беседы, когда камера показывает нам Гальцева так, как его видит
Иван — снизу вверх, а Ивана так, как его видит Гальцев — сверху
вниз. Несмотря на все стремление Гальцева показать свое «старшинство» (и в чисто армейском, и в бытовом смысле), он робеет
перед решительностью и напором Ивана, интуитивно соглашается
с его превосходством и выполняет все, что тот велит ему.
Из последующего становится ясным, что Иван не признает ничьего превосходства над собой и поступает всегда так, как сам считает
правильным. Когда его уговаривают добровольно уехать в тыл, в суворовское училище, он решительно отказывается, не желает, чтобы
к нему относились как к ребенку, к несамостоятельному человеку; чувствуя свою абсолютную самостоятельность, он считает своим долгом сражаться на фронте рядом со всеми ответственными людьми. Когда его пытаются силой отправить в тыл, он убегает
и в конце концов вынуждает своего командира, подполковника Грязно-
ва (его играет один из любимых актеров Тарковского—Николай Гринь-
ко), вновь позволить ему отправиться в разведку за линию фронта.
32
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
Несмотря на внешнюю резкость и бескомпромиссность Ивана,
он вызывает неподдельную симпатию у всех окружающих его людей,
они все угадывают в нем какую-то способность, важную для всех, составляющую саму суть человеческого бытия, определяющую реальное жизненное превосходство одних людей над другими. Тарковский
лаконичным штрихом подчеркивает действенный жизненный смысл
этого превосходства: для того чтобы обойти немецкие патрули и вернуться к своим, Иван вынужден переплыть холодную осеннюю реку,
что, по единодушному мнению всех окружающих, чрезвычайно трудно в такую погоду даже взрослому мужчине.
После того как Иван написал донесение в штаб о том, что видел
у немцев, он засыпает в подвале разрушенного дома (по-видимому,
церкви), где обитает Гальцев, и перед нами предстает второй его сон,
второе «видение». Переход от реальности в символический мир сна
Ивана вновь выполнен Тарковским таким образом, чтобы у нас возникло ощущение единства двух миров, непосредственного «перетекания» одного в другой. Камера фиксирует наше внимание на руке
спящего Ивана, свисающей с кровати, и мы видим, как на нее падают
с потолка капли воды; затем начинается движение вверх — и на месте
стен подвала оказываются уходящие далеко вверх бревенчатые стены глубокого колодца. Почти весь последующий фрагмент снят камерой, находящейся на дне колодца, и в этом есть свой символический
смысл: спящий Иван как бы вглядывается в реальность «надземного»
мира, глубокий колодец олицетворяет связь между двумя мирами,
представляет собой своего рода «тоннель» между ними. Сверху в колодец смотрят Иван и его мать (актриса Ирма Тарковская (Рауш), первая жена режиссера), причем в какой-то момент по изображению пробегает рябь, и мы понимаем, что между нами (зрителями и спящим
«реальным» Иваном) и обитателями «высшего» мира находится поверхность воды — еще одно повторение образа «зеркального стекла».
Склонившись над колодцем, Иван кидает сверху большое перо,
которое, быстро вращаясь, падает вниз. Эта выразительная деталь
имеет очень глубокий смысл, который становится ясным только
в контексте последующих фильмов режиссера. Падающее сверху
перо всегда будет обозначать у Тарковского трагическое предназначение героя, его избрание на какую-то важную роль в бытии, оно выделяет человека, находящегося в особом отношении с «иными мирами».
Ни в одном более позднем фильме Тарковский не показывает, откуда падает перо, и только в «Ивановом детстве» мы видим, как перо
бросает Иван, находящийся в символическом мире снов, и падает оно
(если принять приведенную выше интерпретацию образа колодца)
в наш земной мир, как бы отмечая спящего в землянке Ивана в качестве человека особой судьбы, причастного высшим тайнам мирозда¬
33
ГЛАВА I
«Иваново детство»: реквием по человеку
ния. Имея в виду этот образ из первого фильма Тарковского, можно
предположить, что и во всех последующих ситуациях, когда на героя
падает перо, оно оказывается зримым знаком связи миров, и оно отмечает человека, который имеет ясное и глубокое ощущение этой связи.
Мать Ивана, склонившись над колодцем, говорит ему: «Если
колодец очень глубокий, даже в самый солнечный день в нем можно увидеть звезду». — «Какую звезду? — спрашивает Иван и затем
восклицает. — Вижу, мама, вижу!.. А почему она?» — «Потому что
для нее сейчас ночь, вот она и вышла, как ночью». — «А разве сейчас
ночь? — вновь спрашивает Иван. Сейчас день». — «Для тебя — день,
для меня — день, а для нее — ночь». Звезда, пребывающая в ночи
на дне колодца, — это символ нашего мира, который предстает как
сумрачное, теневое повторение иного, символического мира — мира
вечного дня. Соотносясь со всем, что есть в нашем мире, «мир вечного дня» несет в себе не только символы земного совершенства, но
и символы наших страданий и трагедий. Поэтому, проникая в него,
Иван неизбежно сталкивается с одним и тем же образом, который
навеки сохранил в себе миг гибели его матери. Его второй сон, показанный в фильме, как и первый, заканчивается этим образом, и Иван
вновь просыпается от ужаса встречи с ним.
Следующий эпизод начинается с резкого разговора Ивана с подполковником Грязновым о его дальнейшей судьбе. После того как
Иван понимает, что его окончательно решили отправить в тыл, он
убегает из своей части и отправляется к партизанам. Проходя через
сожженную деревню, он ложится отдохнуть под полусгоревшим навесом, но тут же вскакивает, услышав рядом шум. Перед ним предстает полубезумный старик с петухом на привязи, живущий на
пепелище своего дома. Из реплик старика мы понимаем, что в его
сознании явь неразрывно слилась с воспоминаниями и бредовыми
видениями. Пережив, подобно Ивану, трагическое событие — гибель
своей старухи и своего дома — он, точно так же, как Иван, оказался
в некоем «разрыве» бытия, где смешиваются пласты времен и земная
действительность соединяется с «иными мирами». Но в отличие от
Ивана, который все-таки сохранил «центрированность» своей жизни
на земной «реальности» и тем самым остался в круге земного бытия
как равный другим людям, старик позволил «призракам» — обитателям иных миров — полностью вовлечь себя в ритм своего существования и, в результате, утратил те естественные связи с другими,
которые необходимы для признания человека «нормальным». Однако
именно в силу этого Иван признает в нем близкого себе человека. Сострадание и жалость, отразившиеся на его лице, несут в себе гораздо
больше, чем просто отклик на чужое страдание — за ними стоит понимание судьбы этого человека, его причастности той же самой тра¬
34
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
гической тайне жизни, недоступной «нормальным» людям, которая
мучает самого Ивана.
В «Ивановом детстве» рассматриваемый эпизод обычно воспринимается зрителями совсем по-другому, в его обыденном и поверхностном смысле — как призванный продемонстрировать всю глубину страданий народа. Только в перспективе последующих фильмов
встреча Ивана с безумным стариком приобретает обозначенный
нами смысловой аспект, более того, в ней можно увидеть отдаленный прообраз важного элемента всех поздних фильмов Тарковского.
В идейной конструкции «Сталкера», «Ностальгии» и «Жертвоприношения» очень большую (если не главную роль) играет взаимоотношение двух персонажей, один из которых глубоко проник в тайну
жизни, но именно потому выглядит безумным в глазах окружающих
и не способен убедить их в своей правоте, а другой знает о существовании этой тайны, близок к ней, но еще не ушел полностью в «иные
миры» из земного мира обыденности и поэтому сохранил возможность и принять высшую истину от мудрого «безумца», и влиять на
«нормальных» людей и на земной мир, чтобы направить его на путь
истины. Такими персонажами являются Сталкер и Писатель в «Сталкере», Доменико и Андрей Горчаков в «Ностальгии», почтальон Отто
и Александр в «Жертвоприношении» (в последнем случае это отношение двоится, носителями тайны являются и почтальон Отто,
и служанка Мария).
Во время встречи с безумным стариком Ивана нагоняют его
преследователи во главе с подполковником Грязновым и, посадив
в машину, везут обратно в часть, предполагая наконец отправить его
в тыл, в суворовское училище. На этом событийный ряд, связанный
с Иваном, прерывается; когда он через некоторое время возобновляется, мы узнаем, что Иван каким-то образом убедил Грязнова оставить его на фронте, более того — доказал необходимость нового разведывательного похода через фронт. Однако прежде чем показать
подготовку к этой новой разведывательной операции, Тарковский обращается к еще одной теме, которая будет иметь огромное значение
в его творчестве, — к теме любви.
2. Чудо любви
Переход к новому эпизоду осуществляется Тарковским по принципу эмоционального контраста (точно так же он будет завершен).
Безумный старик, держащий в руках петуха, долго смотрит вслед
уехавшей машине и затем закрывает на засов глухую дверь, чудом
уцелевшую при пожаре и бессмысленную в своем обособленном существовании. Тем не менее эта дверь полностью перекрывает кадр,
35
ГЛАВА I
«Иваново детство»: реквием по человеку
и создается впечатление, что она наглухо отделяет старика от всего
остального мира. Затем следует разговор Ивана с Грязновым и Холи-
ным в машине, из которого он еще раз узнает о твердой решимости
его командиров отправить его в тыл. Завершается эпизод печальным
пейзажем, увиденным из движущейся машины: безжизненные скелеты деревьев, абсолютно голые холмы, на которых сиротливо высятся
печные трубы от сгоревших крестьянских домов, неровные, повалившиеся изгороди. Вслед за этим новый эпизод начинается с изображения пронзительно белой березовой рощи, словно из сумеречного
мира безумных видений старика мы мгновенно перенеслись в чистый
и светлый мир любовных грез и мечтаний, еще не знающий никаких
трагедий и зловещих тайн. Контраст двух изображений усилен за
счет их явной формальной связи: березовая роща снята движущейся
камерой, и ее движение непосредственно продолжает движение пейзажа в финале предшествующего фрагмента.
В следующей сцене столь же светлой, сложенной из таких же
точно белых березовых стволов предстает землянка военфельдшера
Маши (актриса Валентина Малявина); здесь Гальцев на правах начальника отчитывает свою подчиненную за нерадивость. Почти сразу
мы понимаем, что Гальцев влюблей в Машу, и его придирки лишены
оснований, с их помощью он просто создает повод для продолжения
общения с ней. Маша робеет, догадываясь об истинной причине упреков Гальцева, при этом совершенно очевидно, что она не отвечает ему
взаимностью. Затем появляется Холин (актер Валентин Зубков), пришедший к Гальцеву по делу (как выяснится позже, он выбрал участок
фронта, которым командует Гальцев для новой разведоперации с участием Ивана); дальше разворачивается история Маши и Холина.
В следующем фрагменте мы видим их в той же березовой роще,
которая появилась в самом начале эпизода, и хотя они только знакомятся друг с другом (первые слова Холина — это вопрос о том, как
зовут Машу), совершенно очевидно, что между ними уже родилась
любовь, и они на какое-то время оказались в светлом мире, бесконечно удаленном от мира войны. Эпизод в березовой роще является хрестоматийным с точки зрения техники режиссерской и операторской
работы (оператором «Иванова детства» был Вадим Юсов, он работал
с Тарковским и над двумя следующими фильмами) — по лаконичной
выверенное™ кадров, по сдержанной, но удивительно емкой динамике, по точному сочетанию крупных и дальних планов (в том числе
в одном кадре) и т. п. Однако в нашем исследовании философского
мировоззрения Тарковского мы должны обратить внимание на более
общие, идейные составляющие этого эпизода.
В понимании сути любви и ее роли в судьбе отдельного человека
и всей реальности Тарковский вновь оказывается прямым продол¬
36
И. Евдампиев Художественная философия Андрея Тарковского
жателем традиций русской философии. Оставляя более подробное
изложение этого вопроса до более подходящего случая (см. следующие главы), отметим пока только самое главное. Любовь Тарковский
рассматривает как ту единственную силу, которая способна спасти
мир, предотвратить его полную гибель, распад, деградацию. Только
любовь, приходя в мир через человека, просветляет всю реальность,
уменьшает сферу господства зла и расширяет сферу, где царит добро
и гармония. Пока человек сохраняет в себе способность к искренней
и глубокой любви, он сохраняют и свою значимость в этом мире;
и пусть таких людей немного, только в них заключена надежда на
спасение — всего бытия и всех людей. Гальцев, Холин и Маша входят в число этих избранных. Пускай они, в отличие от Ивана, не причастны к самым важным тайнам жизни, — они еще способны на это,
они подобны детям, у которых все еще впереди, которые способны
научиться всему и в конце концов принять ответственность за всех
и за все. И не случайно именно Гальцеву в конце фильма предстоит
подвести итог тому, что произошло в фильме и в реальной истории, —
итог жизни Ивана, итог всех испытаний, которые ему самому пришлось вынести на войне, итог трагедии, пережитой народом. Именно он, а не Иван, предстает в фильме ребенком, который постепенно становится взрослым, перенимая опыт у окружающих его людей,
и главный признак его плодотворной «детскости», устремленной
в будущее, — это способность к искренней любви, не признающей
никаких преград. Все сказанное справедливо и в отношении Холина;
не случайно в фильме два раза звучат слова о том, что «его самого
еще воспитывать надо», это мнение, высказанное Грязновым, передает сам Холин.
Еще один существенный элемент представлений Тарковского
о любви, сближающий его с Достоевским и с другими русскими
мыслителями, — это убеждение в существенном неравноправии
мужчины и женщины. Мужчина — это страсть, сметающая на своем пути все преграды; женщина же — это терпение, смирение и податливость, это любовь как послушание, как желание раствориться
в мужчине, стать «материалом» для его воли. Основные черты этого
представления со всей очевидностью намечены в рассматриваемом
эпизоде. Холин неудержимо «атакует» Машу, она до поры до времени уклоняются, отнекивается, отмалчивается, однако в ее душе осуществляется стремительная работа чувства. При этом видно, что все,
происходящее с ней, происходит впервые, на ее лице написано удивление, даже страх перед тем неведомым, что рождается в ее душе.
В какой-то момент взгляды Маши и Холина встречаются, они пристально смотрят друг на друга, и все становится необратимым. Когда
Холин решается на последний «приступ», Маша сдается, открывает
37
ГЛАВА I
«Иваново детство»: реквием по человеку
всю себя его чувству. Упершись ногами в противоположные края
глубокого рва, Холин помогает Маше перепрыгнуть через него, но
в последний момент задерживает ее в своих объятиях и долго целует,
в то время как она безропотно висит над рвом, полностью подчинившись ему. Когда Холин наконец ставит ее на землю, Маша медленно
уходит, словно не чувствуя ног, но затем Холин зовет ее, и она поворачивается, как сомнамбула, подчиненная чужой воле, возвращается
и припадает к его груди.
Маша и Холин, застывшие в поцелуе над рвом, словно повисшие
над бездной, — это первый из ряда выразительных образов Тарковского, показывающих влюбленных, воспаривших над землей. В реалистическом фильме о войне Тарковский по идеологическим соображениям не мог изобразить фантастическую ситуацию буквального
преодоления сил тяжести. Однако он находит образное решение, которое непосредственно соотносится с аналогичными эпизодами из
других фильмов — с образом воспарившей над постелью матери
Алексея из «Зеркала», с эпизодами парения в невесомости космической станции Хари и Криса из «Соляриса» и полета Марии и Александра, слившихся в любовном акте, из «Жертвоприношения». Во всех
этих случаях любовь демонстрирует свою неподвластность законам
земного бытия, свой сверхъестественный характер, свое могущество
по отношению к несовершенной земной материи. Однако в «Иваном
детстве» указанный образ имеет еще один, более явный смысл: это
знак хрупкости любви, невозможности для нее укоренится в том
мире, где существуют герои фильма, — в мире войны, страданий, непреодолимых разрывов и безвозвратных разлук. Этот смысл нарочито подчеркивается дополнительным штрихом: в то время как Маша
и Холин замирают в поцелуе, раздаются резкие звуки выстрелов, напоминающие о войне и смерти, притаившихся рядом.
Когда Маша припадает к груди Холина, закрыв глаза, словно падая в бездну, они вновь на мгновение замирают, но затем совершенно
неожиданно Холин говорит: «А теперь уходи»; и еще раз настойчиво, требовательно, словно боясь не успеть: «Уходи Маша... Слышишь
Маша... иди, иди... скорее уходи, Маша». Мы не видим в этот момент
его лица; но когда Маша наконец осознает, что он говорит, и в растерянности отходит в сторону, он поворачивается, и становится понятным, что все, свершившееся в его душе, стало абсолютно неожиданным, странным, пугающим для него самого. Решив пофлиртовать
с симпатичной фельдшерицей, Холин вызвал в ней такое чувство, которое словно разгоревшееся пламя охватило и его самого; их души помимо их воли посетила истинная Любовь. Осознав подлинный смысл
происходящего, несовместимость того мира, в который их вознесла
любовь, с тем миром, в котором они будут вынуждены оказаться уже
38
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
через мгновение, Холин прогоняет Машу чтобы спасти и ее и себя
от неминуемого «раздвоения». Совместить бытие в двух этих мирах
так же невозможно, как невозможно долго стоять над глубоким рвом,
поставив ноги на его края. Позже они вновь случайно встретятся
в той же березовой роще (в том же светлом мире любви), и Маша закружится в счастливом танце, еще раз переживая момент рождения
своего чувства, но и она в конце концов поймет, что у этого чувства
нет будущего. При последней встрече с Холиным и Гальцевым, она
будет отводить глаза, чтобы не встретиться взглядом с Холиным,
и так стремительно уйдет, что они даже не успеют попрощаться.
Присутствие рядом страшного мира войны делает невозможным
бытие в мире любви; контраст между этими двумя «мирами» режиссер подчеркивает тем, что дважды в конце эпизода показывает изображение зверски убитых солдат — Ляхова и Мороза, которые прикрывали Ивана в его походе на ту сторону и которых немцы, убив,
привязали на берегу, на виду у наших войск, повесив одному из них
на грудь табличку с издевательскими словами «Добро пожаловать».
Второй раз это изображение появляется сразу после счастливого
кружения Маши в березовом лесу, и это последнее, что мы видим
в рассматриваемом эпизоде.
3. Игра Ивана
Ивану каким-то образом удалось уговорить своих командиров не
отправлять его в тыл, и в следующем большом фрагменте фильма мы
видим, как Иван, Холин и Гальцев готовятся к новому походу в расположение немецких войск, на противоположный берег реки. Пока
Гальцев, Холин и пожилой солдат по прозвищу Касатоныч (актер Степан Крылов) обсуждают детали будущей операции и выбирают лодку
для форсирования реки, Иван остается один в подвале Гальцева и начинает играть в войну. Вся жизнь Ивана прочно соединилась с войной, и он не знает в ней иных целей, кроме желания отомстить немцам за погибших родных (отца, мать и сестренку), именно поэтому
Иван воспринимает как личное оскорбление любой намек на то, что
война — не его дело. Все в своей жизни и в окружающем бытии он
оценивает только под углом зрения войны и ее законов. Когда Гальцев
дает Ивану альбом старинных немецких гравюр, даже их он рассматривает в контексте своих представлений о немцах как захватчиках,
насильниках и убийцах. Не удивительно, что игра Ивана посвящена
все той же войне и выглядит как репетиция его будущих реальных
схваток с врагами.
Начинает свою игру Иван с того, что привязывает веревку к лежащему на боку небольшому колоколу (до этого он уже попадал в кадр)
39
ГЛАВА I
«Иваново детство»: реквием по человеку
и поднимает его к низкому потолку подвала. Каждый, кто достаточно хорошо знает творчество Тарковского, увидев, как Иван медленно
поднимает вверх колокол, тут же обнаружит связь этого фрагмента
с образным рядом следующего фильма режиссера. В «Страстях по
Андрею» огромный, только что отлитый колокол будет точно так же
висеть над землей, и все люди вокруг, в том числе и колокольный мастер Бориска, в исполнении того же Николая Бурляева, словно выживший в огне войны и повзрослевший Иван, будут с замиранием
ждать — зазвонит ли он. И когда он зазвонит, станет понятно, что
этот колокол — символ и реальная основа народного единства, символ возрождающейся после долгих лет войны и разрухи русской культуры. Образ из «Иванова детства», по-видимому, необходимо воспринимать в точно таком же смысле. Поверженный, лежащий на полу
колокол символизирует беды, пришедшие на русскую землю, а тот же
колокол, поднятый Иваном над землей и позже зазвучавший, — это
знак начавшегося сплочения нации, преодолевающей нашествие и готовой к новым свершениям. Не менее символично, что именно Иван
поднимает колокол и затем звонит в него, словно созывая всех соотечественников на последний бой с врагом. Раз за разом в своем последующем творчестве Тарковский будет доказывать нам, что люди,
в наибольшей степени значимые в мире, существеннее всего влияющие на наше будущее, почти всегда невзрачны, слабы, беззащитны
в явном, внешнем плане бытия; но в том и заключен парадокс жизни
и истории, что подлинным могуществом, преобразующим бытие, изменяющим мир, обладает не внешняя, материальная сила, а внутренняя убежденность, беззаветность, проникновенность — те качества
личности, которые чаще всего незаметны, неуловимы и скрываются
за внешней слабостью.
Продолжая игру, Иван ползет вдоль стены темного подвала
и вполголоса отдает команды своему воображаемому войску. И внезапно в ответ из темноты доносятся решительные команды на немецком языке — враг тоже готовится к бою; игра становится угрожающе
реальной. На лице Ивана лишь на мгновение появляется растерянность и испуг, он двигается дальше, не смущаясь происходящим смещением пластов бытия: ведь в его жизни это происходит постоянно.
Обводя фонариком темные стены подвала, Иван высвечивает выцарапанную на штукатурке надпись: «Нас 8 человек. Каждый не старше
19. Через час нас поведут убивать. Отомстите за нас!» Ранее она уже
несколько раз появлялась в кадре, но никто не обращал на нее внимания; только когда Иван освещает ее, фиксирует на ней свое внимание,
она выявляет свой смысл и через нее раскрывается прошлое: звучат
голоса пленных, которых немцы держали в этом подвале, перед тем
как расстрелять. Игра Ивана, начавшись, оказывает воздействие на
40
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
реальность, в которой воскресают события прошлого. Прикасаясь
к следам прошлого в окружающей действительности — к тем из них,
которые горят как раны, свидетельствуя о мучениях и гибели людей —
Иван, сам не ведая каким образом, приводит в настоящее образы этих
людей. И поскольку эта способность является следствием его личной
трагедии, она ведет его в его собственное прошлое, где погибли его
мать и сестра и где навсегда остался прежний Иван, так непохожий
на Ивана, ставшего частью мира войны. Поэтому свет фонарика, прыгая по стенам подвала, выхватывает из темноты одни и те же лица —
это сам Иван и его мать. Словно все попавшие в плен и погибшие русские люди стали частью Ивана, его зеркальными повторениями, и их
страдания и смерть должны быть пережиты им как свои собственные
страдания и смерть, многократно, без конца.
Не выдержав этой муки, он кидается к колоколу и начинает звонить. Этот звон прерывает его страдания, страдания всех вновь вызванных к жизни мучеников войны, мы слышим нарастающий крик
победы, ликование людей, словно бы воскресающих к новой, светлой
жизни (в «Страстях по Андрею», в финальной сцене, точно так же зазвонивший колокол вызовет ликование жителей Владимира, и будет
казаться, что перед нами праздник воскресения всех мертвых —
всех погибших, замученных татарами русских людей). И только пережив радость свершившейся победы, Иван вспоминает о своей мести.
Высвеченный его фонариком плащ, висящий на стене, оказывается
немецким офицером — тем самым, который расстрелял его мать и сестру, погубил множество русских людей. В глазах Ивана загорается
радость мщения, он сжимает в руке кинжал, кажется, что сейчас он
набросится на представшего ему призрака. Но оказывается, что это
чувство, сколько бы сам Иван ни говорил о нем, не в состоянии долго
жить в его душе. «Что, трясешься!? — злорадно обращается к воображаемому немцу Иван. — А ну отвечай... — и все более дрожащим
голосом, с трудом подавляя рыдания. — Ты мне за все... понял... да
я тебе... ты думаешь, я не помню... да я тебя судить буду... я же тебя...
я тебя...». Не в состоянии больше сдерживать слезы, Иван опускается
на пол, роняя фонарик и кинжал, и плачет, забыв про жажду мести
и ненависть к немцам.
Плач Ивана заглушается вторжением реальной войны, «настоящей» войны, продолжающейся за стенами подвала: начинается артобстрел, и вместе с грохотом взрывов в подвал врывается поток света из распахнутой двери. Здесь Тарковский оригинально использует
один из характерных приемов монтажного кино: переход к новому
эпизоду вновь осуществляется по принципу эмоционального контраста. Сдавленные рыдания Ивана, подчеркивающие глухую тишину
темного подвала, замкнутого от всего остального мира, сменяется
41
ГЛАВА I
«Иваново детство»: реквием по человеку
резким вторжением реальности и затем переключением внимания
зрителя на других героев фильма. Однако в данном случае режиссер
использует достаточно избитый формальный прием для выражения
чрезвычайно нетривиального и необычного содержания, которое
вряд ли могло быть понято первыми зрителями фильма. Оно проясняется только при сравнении рассматриваемого фрагмента из «Иванова
детства» с похожими фрагментами из следующих фильмов.
В дальнейшем важнейшим элементом философского мировоззрения Тарковского, по-разному преломляющимся в образном строе
его фильмов, станет представление о «пластичности» окружающей
человека действительности, ее существенной зависимости, даже
в самых «объективных» своих качествах и проявлениях, от человека, от состояния его души. Человек предстает в фильмах Тарковского
«взаимодополнительным» по отношению к миру, поэтому наиболее
сильные и глубокие эмоции и состояния героев оказываются способными вызвать катастрофические процессы в окружающей среде, как
бы отражаться в ней. Особенно сильно взаимозависимость личности и мира выступает в жизни тех, кто вышел за пределы обыденной
жизни, раскрыл свою причастность «иным мирам». Таким человеком
и является Иван. Когда пробудившиеся в нем чувства ненависти
к врагам, сострадания к идущим на смерть, ликования от предощущаемой победы достигают высшего напряжения и разрешаются рыданиями, рожденный в его душе эмоциональный заряд как бы провоцирует в самой действительности разрядку напряжения, накопившегося
от долгого противостояния двух войск, ожидающих начала решительного сражения — начинается артобстрел.
Словно понимая истинную причину беспорядочных и бессмысленных взрывов, их абсолютную вторичность по отношению к тому
важному, что только что свершилось в его душе и в его маленьком
мире, хотя и ограниченном этим темным подвалом, но вобравшим
в себя самые главные смыслы напряженного военного бытия, Иван
остается совершенно бесстрастным и спокойным, как будто артобстрел является призрачным сном или фантазией. Когда Гальцев вбегает в подвал, охваченный страхом за Ивана, и почти кричит: «Не
бойся, они кончат скоро!», тот отвечает после невыносимо долгой
паузы, в течении которой мы осознаем его неземное спокойствие:
«А я и не боюсь...». В этот момент Иван словно возносится над земной
действительностью в какую-то высшую сферу, из которой происходящая суматоха кажется незначительным событием, несравнимо менее
существенным чем то, что только что пережил он сам. И сразу вслед
за его словами взрывы умолкают, наступает неожиданная тишина
и мы видим покосившийся православный крест на разоренном кладбище — символ благодатной жертвенности, без которой немыслимо
42
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
спасение мира от зла и страданий, на которую вынуждены обрекать
себя люди, жаждущие победы над злом.
В следующем фрагменте, во время разговора Ивана с Гальцевым,
Тарковский выстраивает мизансцену таким образом, что на протяжении всего разговора мы видим Гальцева только в виде уменьшенного
отражения в зеркале, висящем на стене; он кажется фантомом, видением рядом с Иваном, который раскрывает ему истинное лицо войны:
«Ты в Тростинце был?... в лагере смерти?., да что с тобой говорить!..»
И в самом конце этого разговора, когда Гальцев растерянно умолкает, в очередной раз интуитивно признавая превосходство Ивана, Тарковский дает выразительный знак причастности Ивана высшим сферам бытия, его избранности. Как мы уже говорили, в последующих
фильмах избранность героя будет обозначаться пером, падающим на
него откуда-то сверху. В «Ивановом детстве» перо кидает в колодец
сам Иван, и происходит это в его сне; куда упало перо, мы не видим.
Однако, когда в конце разговора с Гальцевым Иван резко садится
на табуретку, в то время как камера остается неподвижной, в кадре
остаются только его взъерошенные волосы, подсвеченные падающим
на них солнечным светом, и в профиле волос без труда узнается большое перо — возможно, то самое, которое падало через колодец в наш
земной мир.
4. Избрание на жертву
Наступает вечер; Гальцев и Иван ожидают Холина и Касатоныча,
готовивших лодку, на которой предстоит переправить Ивана на тот
берег. Но Холин возвращается один и на недоуменные вопросы Ивана отвечает, что Касатоныча срочно вызвали в штаб, он не сможет
участвовать в операции, не сможет даже зайти попрощаться. Иван
явно расстроен и не понимает, как мог человек, связанный с ним искренней дружбой, не зайти перед расставанием, которое может оказаться последним. Ни Гальцев, ни Иван еще не знают того, что знает
Холин: Касатоныч убит шальной пулей и его тело лежит совсем недалеко от них на берегу реки. Холин не хочет, чтобы Иван узнал об
этом, отправляясь на опасное дело, требующее напряжения всех сил
и предельной внутренней сосредоточенности.
Они садятся втроем за стол, на котором одно место оказывается
незанятым. Лицо Ивана во время их трапезы становится замкнутым,
сосредоточенным: он внутренне готовится к тому, что его ждет впереди — к той жертве, которую ему предстоит принести ради общей
победы. В своих фильмах Тарковский очень часто будет выстраивать
мизансцены в соответствии с изобразительными приемами, характерными для классической живописи. Мир культуры и особенно клю¬
43
ГЛАВА I
«Иваново детство»: реквием по человеку
чевые мотивы живописи старых мастеров постоянно присутствуют
в образной ткани фильмов режиссера. Часто эти мотивы появляются в фильме непосредственно — в виде репродукций живописных
произведений, с которыми «общаются» герои. Но значительно более
важным и глубоким по смыслу их присутствие является в тех случаях, когда Тарковский, не прибегая к прямым живописным «цитатам», выстраивает киноизображение в соответствии с определенным
подразумеваемым «архетипом», когда смыслы, заложенные в произведениях живописи, естественно вплетаются в явно выстраиваемую
в фильме систему идей и придают последней дополнительную многомерность, скрытую глубину. Несколько эпизодов, в которых угадываются известные изобразительные мотивы, можно обнаружить уже
в «Ивановом детстве», и, безусловно, самый явный и очевидный из
них — это сцена вечерней трапезы Гальцева, Холина и Ивана. Вряд
ли можно указать конкретный образец, который Тарковский имел
в виду, выстраивая этот эпизод (скорее всего, это полотна кого-то
из мастеров XVII в.), однако общий «архетип», подразумевающийся
здесь, угадать совсем не трудно — это Тайная вечеря, последняя, сумеречная трапеза Иисуса Христа и его учеников, предваряющая его
жертву, принесенную ради спасения всех людей.
Глубокий религиозный, мистический подтекст происходящего
Тарковский обозначает чрезвычайно выразительным штрихом, который является абсолютно избыточным, если оценивать его с точки
зрения внешней, сюжетно-событийной логики. Сразу после того, как
Холин сообщает Гальцеву, что тот пойдет вместе с ним на другой берег вместо «срочно отозванного в штаб» (на самом деле убитого) Ка-
сатоныча, дверь в подвал с шумом распахивается и мы видим в темноте неясную фигуру стремительно входящего солдата, очень похожего
на Касатоныча. У зрителя, который впервые смотрит фильм и в соответствии с сюжетной логикой еще не знает о смерти Касатоныча,
возникает полное впечатление, что это именно он и что через мгновение ситуация резко изменится: Касатоныч сядет за стол и «преломит хлеб» вместе с тремя другими героями фильма. Самое главное
в этом эпизоде заключается в том, что и Холин, который один знает
о смерти их друга, также на мгновение верит, что входящий человек —
это Касатоныч. Прежде чем иллюзия будет разоблачена и мы вместе с героями убедимся, что вошедший солдат — не Касатоныч, Тарковский фиксирует камеру на сидящих за столом, и мы видим, что
Холин, заслонившись рукой от света, напряженно всматривается
в темный угол подвала, на вошедшего, и на его лице написано ожидание и надежда на то, что это именно Касатоныч. Только когда солдат
входит в круг света и докладывает Гальцеву, что пополнение размещено по казармам, с лица Холина исчезает напряжение и он вновь
44
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
возвращается к действительности: Касатоныч, конечно, не может
присоединиться к их трапезе — он убит.
Неверие в окончательность и бесповоротность смерти, имеющее своей оборотной стороной веру в возможность воскресения,
возвращения к жизни, — вот какой смысл проступает в этом эпизоде; в контексте всей цепи событий, начавшихся с приготовлений
к походу Ивана «на ту сторону» и завершившихся, как мы узнаем
в конце фильма, его жертвенной смертью, этот, на первый взгляд почти случайный и немотивированный, эпизод приобретает огромное
значение, совершенно определенно намекая на то, с какой историей
и с чьей судьбой уместно соотносить историю и судьбу Ивана.
После ужина Гальцев и Холин продолжают обсуждение деталей предстоящего похода, а Иван ложиться отдохнуть. Его взгляд,
обращенный вверх, медленно скользит по грубым плитам потолка,
в который вбиты странные крючья, навевающие мысли об орудиях
пыток, и в конце концов останавливается на такой же точно надписи, какую мы раньше видели на стене: «Через час нас поведут убивать. Отомстите за нас!» Однако совершено очевидно, что это не та
надпись, что была на стене, вообще непонятно, как новая надпись,
буквально повторяющая прежнюю, могла появиться на потолке.
По-видимому, ее вообще вообще невозможно считать реальной, это,
скорее, раз за разом возникающий в сознании Ивана знак людских
страданий, от которых он не может уйти, которые он опознает по их
«следам», оставленным в настоящем, и воскрешает к бытию. Именно эта восприимчивость к чужим страданиям, невероятно развитое
чувство ответственности за всех живущих и умерших не позволяют
Ивану покинуть ряды своих фронтовых товарищей и уйти от неминуемой гибели.
Далее мы видим еще один сон Ивана, и он единственный из всех,
показанных в фильме, не несет в себе ни малейших следов той трагедии, которую пережил Иван. Это как бы прозрение им «райского»
мира, того мира, который является подлинно совершенным миром
самых сокровенных наших чаяний и упований. В его изображении
Тарковский использует все ключевые образы, которые в дальнейшем
будут неизменно выражать идею совершенства бытия: образ коня,
олицетворяющий стихийную, но благую силу природы; проливной
дождь, предстающий как прозрачная сеть, охватывающая мир и связующая его в живительное единство; образ яблока, выражающий
благотворность бытия для нас, его готовность открывать и дарить
себя человеку. Изображаемая в этом сне Ивана реальность является
высшей и конечной целью всех людских усилий и всех приносимых
ими жертв, ради нее Иван, в конечном счете, и идет на гибель. Когда
его будит Холин, первая его мысль — снова о Касатоныче, который
45
ГЛАВА I
«Иваново детство»: реквием по человеку
должен был прийти попрощаться с ним: разминувшись на мгновение
в жизни, они встретятся в смерти, и их жертвенный подвиг, соединившись с миллионами таких же жертвенных подвигов, станет той
грозной силой, которая переборет силы зла и разрушения.
Пока Иван медленно одевает затрепанные, рваные вещи, в которых ему предстоит идти в тыл к немцам, Гальцев и Холин молча смотрят на него, словно оценивая ожидающие его испытания. При этом
в кадре в качестве фона постоянно виден огонь — еще один важный
образ Тарковского, обозначающий и саму человеческую жизнь (тогда
это трепетный и слабый огонь свечи), и высшее напряжение человеческих сил, преобразующих бытие, возносящих человека на вершину
его творческого предназначения. Присев перед дорогой, Иван, Холин
и Гальцев начинают свой путь; последнее, что мы видим, — это надпись на стене, вновь напоминающая о страданиях и смерти, взывающая к мщению.
Выйдя в сумрак наступившей ночи, они еще раз проходят мимо
покосившегося православного креста. В очередной раз фиксируя этот
крест в кадре, Тарковский подталкивает зрителей к пониманию глубокого, неочевидного смысла начавшегося похода. Пока Иван и Холин
устраиваются в лодке, Гальцев отвлекает внимание солдата, стоящего на посту, и внезапно узнает, что Касатоныч погиб, что значит он
идет с Иваном и Холиным вместо него. Когда лодка двигается вдоль
берега, мы видим сгоревший немецкий истребитель, врезавшийся
в землю и так и оставшийся стоять вверх хвостом, причем на фюзеляже самолета угадывается крест. Даже сейчас, через много десятков
лет после войны, может показаться почти кощунственным утверждение, что Тарковский соотносит в одном образном ряду православный
крест на разоренном русском кладбище, мимо которого только что
прошли герои фильма, и крест на немецком самолете, врезавшемся
в берег реки. Однако, как нам кажется, это именно так; гениальный
мыслитель и художник тем и отличается от своих современников,
что он способен преодолеть самые бесспорные стереотипы и обозначить принципы, преодолевающие естественную ограниченность
исторического зрения своей эпохи. Только в самом конце столетия
совместные захоронения русских и немецких солдат стали восприниматься как что-то допустимое и глубоко символичное, Тарковский
же всего через полтора десятка лет после окончания войны, на фоне
еще не остывшей в обществе праведной ненависти к врагу, пытается говорить об общей мученической судьбе русских и немцев —
и тех, кто стал жертвой раскрепощенных сил зла, и тех, кто поддался
этим силам, превратился в исполнителей злой воли. Глубокое осознание единства и невольной спаянности судеб всех людей ведет режиссера к пониманию неизбежной универсальности и значимости для
46
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
всех — и для мучеников, и для мучителей — того пути к спасению,
о котором сдержанно и пока не очень явно говорится в фильме.
Приблизившись к противоположному берегу, лодка проплывает
мимодвухмертвыхсолдат,выставленныхнемцамидляустрашения—
Ляхова и Мороза. Они словно встречают Ивана у входа в царство
смерти. Холин прячет лодку в кустах, и все трое крадучись идут по
тому же самому мертвому лесу, стоящему в воде, по которому Иван
пробирался к своим в самом начале фильма. Очень характерно, что
Тарковский не показывает занятого немцами берега реки, являющегося целью Ивана. Все трое высаживаются из лодки в призрачном,
зловещем, полуфантастическом лесу, стоящем в темной воде; отсюда
Иван один должен дойти до расположения немцев. В этом фрагменте вновь реальный событийный ряд фильма незаметно сплетается
с символическим, даже вытесняется им. Фантастический лес воспринимается как какое-то «иное бытие», «иной мир», даже более
определенно — как адский мир, содержащий в себе в концентрированной, символической форме все негативные качества земной
действительности. Это словно бы темная изнанка нашего «смешанного» (и темного, и светлого) мира, проникать в которую люди
должны только с одной целью — для того, чтобы как-то повлиять на
зло, содержащееся в бытии, как-то преодолеть его в его глубинной
сущности. Именно за этим пришли сюда Холин и Гальцев, для этого
привели сюда Ивана. Холин и Гальцев оба предлагают Ивану разделить его последующий путь в тыл к немцам, но он решительно,
по-взрослому отказывается от их помощи: он должен идти дальше
один. Обнявшись с Холиным и простившись с Гальцевым, Иван уходит в темноту, и становится совершенно очевидным, что он уходит
навсегда. Холин говорит ему на прощание: «Если мы двинемся, жди
нас в Прохоровке» (намекая, что войска могут начать наступление и
занять село, в которое идет Иван), но он ни слова не говорит о том,
где и когда будет встречать Ивана на обратном пути, словно не предполагая, что Ивану суждено вернуться.
Некоторое время Холин и Гальцев выжидают, прислушиваясь
и пытаясь понять, удалось ли Ивану проскочить в тыл к немцам,
и в это время мимо них проходит немецкий патруль — зловещее явление «хозяев» этого адского мира. Когда все вокруг затихает, Холин
отправляется за лодкой, а Гальцев опять погружается в полудремот-
ное ожидание. Все это время в полутьме перед ним и перед нами
предстает то призрачно-реальный лес, то его еще более призрачное
отражение в медленно колышущейся воде; в результате образ леса
двоится: уже непонятно, действительно ли это реальный лес в реальном мире войны или это бытие по ту сторону «зеркального стекла»,
по ту сторону нашей земной действительности.
47
ГЛАВА I
«Иваново детство»: реквием по человеку
Наконец Холин возвращается. Когда Гальцев подходит к лодке, он
видит в ней двух закутанных в какие-то платки людей — это мертвые
Ляхов и Мороз, которых Холин забрал с немецкого берега, рискуя
жизнью. Путь через реку двух живых и двух мертвых людей предстает еще одним символическим образом, естественно вплетающимся
в сложную символику этого большого фрагмента. В то время как Ха-
рон возил людей через реку забвения в Ад, в царство мертвых, Холин
и Гальцев везут своих товарищей в обратном направлении — из царства смерти в мир живых. Словно бы Иван уже частично совершил
то, о чем мечтал и ради чего отправился в «ад»: тот отпустил двоих
своих пленников, силы жизни одержали маленькую, хотя далеко не
окончательную (скорее символическую, чем реальную — ведь мертвые остались мертвыми) победу над силами смерти.
Последняя сцена в рамках основной сюжетной линии фильма
показывает нам Гальцева и Холина, отдыхающих после трудного
возвращения назад: им пришлось вплавь, под пулями немецких пулеметов, преодолевать реку, держась за лодку с сидящими на ней
мертвыми солдатами. Разлив по стаканам водку, Гальцев говорит:
«Давай выпьем за...» — и обрывает себя; они пьют молча, не чокаясь.
Понятно, что оба они думают об Иване, но верят ли, что увидят его
вновь? В этот момент тишина, окружающая их и заставляющая непрестанно думать об Иване и о его судьбе, становится невыносимой,
Холин заводит патефон с единственной пластинкой Шаляпина. Чуть
раньше, когда они в этом же подвале последний раз присели вместе
с Иваном перед тем, как уйти, Гальцев точно так же, не выдержав
тишины, завел патефон. Но Холин резко встал и выключил его: тогда
тишина была благодатна, поскольку с ними был Иван и они как бы
вели последний молчаливый диалог друг с другом. Теперь же отсутствие этого ставшего бесконечно близким для Холина человека делает особенно тягостной молчащую тишину. Холин включает патефон,
и мы слышим голос Шаляпина, исполняющий русскую песню. Голос
кажется неземным, идущим из «иного мира», говорящим о чем-то совершенно чуждом миру, в котором находятся Холин и Гальцев. Поет
Шаляпин протяжную песню о неразделенной любви, о неутолимом
любовном страдании.
В этот момент появляется Маша, чтобы попрощаться перед отъездом: ее госпиталь переводят в другое место. Вновь на мгновение
в сложной мелодике фильма звучит тема любви. Голос Шаляпина, сопровождающий появление и уход Маши, словно намекает на нереальность, призрачность подлинной любви в этом мире. Холин подходит
к Маше и спрашивает о солдате, который беседовал с ней в лесу при
их последней случайной встрече. Солдат-ополченец был явно влюблен в Машу и вспоминал об их прошлой встрече. Маша совсем не
48
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
думает о нем: все ее мысли — только о Холине. Но и для нее уже
стало очевидным, что их любовь невозможна здесь, в этом мире, и она
избегает его прямых взглядов. Холин тянется к ней, чтобы взять ее за
руку, но она не отвечает ему, а когда он на мгновение отходит от нее,
чтобы остановить пластинку, и, вновь подавленный наступившей тишиной, замирает, она столь стремительно уходит, что они даже не
успевают сказать друг другу последние, прощальные слова.
Не в силах больше выносить тишину, Холин подходит к колоколу, поднятому раньше высоко над полом Иваном, и начинает звонить
в него. Точнее, он только один раз ударяет в колокол, но тот продолжает непрерывно звонить, точно так, же как он звонил в сцене игры
Ивана в войну. И точно так же, как и тогда, этот звон означает ликование победы, словно игра Ивана, его жажда грядущего триумфа над
врагом, не ушла в прошлое, а стала реальной силой бытия и превратила победу из мечты в реальность. Начинается эпилог фильма.
Мы видим кадры кинохроники, показывающие радость советских солдат, одержавших победу, и трагедию невинных немецких
детей, умерщвленных их собственными отцами, страшащимися расплаты за свои злодеяния. Тарковский не случайно акцентирует наше
внимание именно на этом мотиве сложной и богатой трагическими
деталями хроники войны. Теперь уже более явно, чем раньше (в эпизоде с русским и немецким крестами), он проводит параллель между
трагическими судьбами двух народов. Перед лицом мертвых детей,
невинных жертв войны, эти судьбы уравниваются, хотя и остаются
бесконечно разными перед лицом палачей. Чрезвычайно выразителен
один из фрагментов кинохроники, где появляется немецкий мундир,
очень напоминающий тот плащ, что висел на стене в сцене игры Ивана в войну. Хозяин этого мундира покончил с собой, и этот факт воспринимается как настигшая его расплата за те злодеяния, которое он
совершил в отношении Ивана и его семьи, в отношении многих других русских людей. Вновь возникает ощущение, что игра Ивана была
не просто игрой — ею он «прочертил» в бытии тот путь, по которому
его боевые товарищи пришли к победе; сам же он должен был отдать
свою жизнь именно для того, чтобы сделать игру реальностью.
Эпилог фильма открывается сценой праздника, ликованием победы, и прежде всего мы видим людей, в радостном энтузиазме подбрасываемых вверх, словно летящих, оторвавшихся от земли, преодолевших проклятие земной тяжести. Вспоминая, какую роль образ
свободно парящего над землей человека имеет в творчестве Тарковского, нетрудно угадать в этих кадрах намек на то, что свершившееся
событие, вызвавшее всеобщую радость, имеет не только явный, вытекающий из сюжета фильма, но и некий скрытый смысл. Жизнь Ивана
и его жертвенная доля, непосредственно ассоциирующаяся с голгоф-
49
ГЛАВА I
«Иваново детство»: реквием по человеку
ской жертвой Иисуса Христа, прочертила путь не только к преодолению эмпирически-реального зла войны, но и — в далекой перспективе — к преодолению зла и несовершенства как таковых. А поскольку
главное свидетельство этого несовершенства, следствие самых разрушительных тенденций в бытии — это смерть, то в конечном счете
именно на преодоление смерти направлены все наши самые важные
деяния. И раз мы способны совершать поступки, в которых заложена надежда на окончательное преодоление смерти, значит, считает
Тарковский, мы уже как-то причастны этой цели. В каких-то слоях
бытия мы обретаем вечную жизнь и преодолеваем, хотя бы частично,
наваждение смерти. Финальные кадры фильма, показывающие Ивана, могут быть поняты именно в этом смысле.
Об этом последнем фрагменте уже невозможно говорить как
о «сне» Ивана: как мы узнаем вместе с Гальцевым в эпилоге, Иван
погиб в застенках гестапо. Последние кадры изображают вечную
жизнь Ивана, вечную жизнь всех убитых и замученных на войне детей. Два первых сна Ивана, показанных в фильме, заканчивались одним и тем же трагическим аккордом: Иван видел свою мать, идущую
от колодца с ведром воды, в это время раздавались выстрелы и она
падала, сраженная пулями. Теперь же, после преодоления, хотя бы
в символическом плане, несовершенства земной действительности,
видение гибнущей матери исчезает, рассеивается. Подойдя к ведру,
Иван пьет из него, затем его мать поднимает ведро и уходит вдаль,
махая ему рукой, прощаясь и оставляя его одного с другими детьми,
как бы на «острове блаженных», в том маленьком уголке бесконечного бытия, где удалось преодолеть его злое начало. Иван начинает
играть с детьми в прятки — в ту игру, которая в нашем мире приучает
детей не бояться смерти и воспринимать мертвых как остающихся
с нами. В обретенном блаженном бытии эта игра напоминает им
о преодоленной, но еще не побежденной окончательно смерти.
Как мы помним, в эпизоде, открывающем фильм, Иван совершал
полет над землей, и он символизировал его неземную, вечную свободу, отнятую у него войной. Однако там его полет выглядел как бы не
вполне сознательным, вызванным некоей внешней силой, хотя и благой, но немного пугающей. В последних кадрах фильма Иван долго
бежит по воде, едва прикрывающей песчаную косу (может быть, это
та же область бытия, что представала ранее в виде мертвого леса,
стоящего в воде во мраке вечной ночи, только освещенная наконец
ослепительным солнцем, рассеявшим призрачный лес и высветившим «ад»), и затем его бег естественно переходит в свободный полет. Теперь, совершив все самое важное, что только может совершить
человек в земной жизни, Иван полностью овладел благими силами
бытия, подчинил их своей воле. Он стал понастоящему свободным
50
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
и счастливым в этом «потустороннем» мире; и лишь сожженное дерево посреди «острова блаженных» напоминает о еще притаившейся
где-то вдали смерти. Поэтому полет Ивана в финале обрывается, как
он оборвался в первом сне; но теперь его обрывает не символический
образ личной трагедии Ивана, а образ смерти как таковой, все еще
присутствующей в мире.
Реальный, а не символический итог фильма чуть раньше подводит Гальцев. Только он из четырех главных героев фильма дожил до
победы (о судьбе Маши ничего не говорится). В эпилоге мы застаем
Гальцева в полуразрушенном здании гестапо; вместе со своими солдатами он разбирает архив гестапо — все, что осталось от погубленных здесь людей. Стоя у большого окна без стекол, глядя в большой
двор, засыпанный бумагами из архива, Гальцев говорит про себя, по-
видимому,продолжая начатые ранее и не прерывающиеся ни на минуту размышления: «Неужели это не самая последняя война на земле...» — и сразу же слышит в ответ чуть насмешливый голос Холина:
«Ну и неврастеник же ты Гальцев, лечиться тебе, брат, надо, вот что».
Этот голос почти не удивляет Гальцева, он торопливо возражает: «Да
нет Холин, погоди, ты ведь убит, а я остался в живых, я должен думать об этом...» — и становится ясным, что этот диалог начался не
сейчас и беседа с погибшим Холиным уже стала привычна для него.
Из своего наивно-детского состояния, в котором мы его застали в начале фильма, Гальцев перешел в то зрелое, умудренное состояние,
которое никак не зависит от возраста человека и определяется только пережитым опытом страданий. Именно таким умудренным
человеком, словно возвышающимся над всеми окружающими, был
Иван. Испытания войны и не в последнюю очередь участие в судьбе
Ивана воспитали в Гальцеве качества, необходимые для того, чтобы
встать вровень с теми немногими, кто обладает высшим предназначением в жизни; и для него, подобно Ивану, открылся бесконечный
простор бытия, он получил возможность общения с «иными мирами»
и с их обитателями, в том числе с ушедшими из нашего мира людьми.
Разбирая архив гестапо, Гальцев случайно находит папку с фотографией Ивана и узнает, что он был казнен. Мученическая судьба
Ивана предстает перед ним во всей своей трагической завершенности. Пытаясь представить себе последние мгновения жизни Ивана,
Гальцев всматривается в окружающие его полуразрушенные помещения здания гестапо, и вокруг него просыпаются голоса, когда-то звучащие в них; ужасные видения обступают его, просясь из прошлого
в настоящее. Впрочем, о них можно только догадываться: режиссер
показывает лишь одно из этих видений — отрубленную на гильотине
голову Ивана, катящуюся по полу. И становится еще более очевидным, что в своем «возмужании» Гальцев достиг той же степени чело¬
51
ГЛАВА I
«Иваново детство»: реквием по человеку
веческой зрелости (в ее самой глубокой, метафизической сущности),
которую через свои страдания так рано приобрел Иван. Вероятно,
теперь жизнь Гальцева наполнилась бесконечным числом мучительных переживаний и размышлений, поскольку ему открыто не только
настоящее с его насущными и понятными проблемами, но и прошлое
с его неумолчной, никуда не уходящей реальностью трагических
столкновений, жестоких утрат, разрывов, смертей. Скорее всего, во
сне он уже не проваливается в небытие, отдыхая от тягот жизни, а,
подобно Ивану, вынужден странствовать по символическим мирам,
содержащим смыслы земных событий. И самое главное — теперь ему
уже никуда не уйти от ответственности не только за себя, но и за всех
людей вокруг, не на кого переложить эту ответственность. Теперь он
слишком много узнал о жизни и слишком высоко вознесся над обыденностью, чтобы иметь возможность отречься от того высшего предназначения, которое имеет в ней человек. Теперь он сам должен пойти по тому пути, который до самого конца прошел Иван.
Идея жертвенного подвига, через который достигается спасение мира и человека, и идея единства нашей общей судьбы, требующей от каждого этого подвига и каждого ведущего к нему, станут
центральными в последующем творчестве Тарковского. Уже «Иваново детство» обозначило основные мотивы оригинального мировоззрения Тарковского; дальше ему предстояло дать более детальную художественную разработку этого мировоззрения.
52
ГЛАВА II
«СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ»:
философия жертвенности
ГЛАВАМ
«Страсти по Андрею»: философия жертвенности
1. Образы земной гармонии
Система философских представлений, выраженная в фильме
«Страсти по Андрею», чрезвычайно сложна и включает множество
различных составляющих. В этом широком художественном полотне Тарковский поставил перед собой поистине титаническую задачу:
обозначить в лаконичной образной форме те «вечные» основы нашего национального мировосприятия, по отношению к которым все
выдающиеся представители русской культуры выступают как наши
современники, а творения ушедших эпох становятся созвучными
современной жизни и современной истории. Главное в той художественной философии, которую развивает Тарковский, — это стремление понять смысл и цели человеческого существования, но на пути
к решению этой задачи он затрагивает очень широкий круг проблем,
и его философское мировоззрение по степени проработанности ничуть не уступает «классическим», рационально изложенным философским концепциям.
Начинается фильм, как и некоторые другие фильмы Тарковского,
прологом, в котором в символической форме задается одна из важнейших его тем. На берегу небольшого озера рядом с православным
собором несколько мужиков готовят к полету воздушный шар. В это
время вдали появляется лодка с людьми, которые имеют явно враждебные намерения, и мужики на берегу начинают спешить. Один из
них поднимается на купол собора, и в то время как люди, высадившиеся из лодки, хватают и жестоко избивают тех, кто участвовал
в подготовке полета (как можно понять, за их «бесовские» намерения), этот «первобытный» воздухоплаватель забирается на связанные внизу стропы воздушного шара. В последний момент один из его
помощников внизу, прежде чем ему ткнут в лицо горящей головней,
успевает перерубить канаты, удерживающие шар, и он начинает
свой полет.
Обомлевший, не верящий тому, что с ним происходит, мужик на
шаре, робко кричит «JIe-чу!» и замолкает, с удивлением и восторгом
глядя на мир с высоты птичьего полета — с той точки зрения, которая
доселе была недоступна человеку. Далее следует долгий и, несомненно, чрезвычайно важный для замысла фильма фрагмент: мы видим
мир глазами мужика на шаре, видим озера, черные деревья, стоящие
на берегу, людей в лодках, с удивлением глядящих вверх, огромные
луга, по которым бегут табуны коней. Этот долгий план, показывающий мир с необычной для человека точки зрения, сопровождается
тревожной музыкой, создающей ощущение прорыв в какую-то сверх-
земную сферу реальности.
60
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
Затем мы слышим свист горячего воздуха, выходящего из воздушного шара; мужик на шаре осознает, что он падает, раздается его
крик, и шар врезается в землю. В последних кадрах пролога мы видим коня, медленно перекатывающегося через спину на берегу реки,
затем он вскакивает и уносится вдаль мимо мертвого мужика и его
смятого шара.
Символическое значение пролога становится понятным в контексте многочисленных последующих фрагментов, показывающих
жизнь природы и взаимодействие человека с природой. Сюжет пролога можно рассматривать как метафорическое выражение неискоренимого стремления человека к идеалу, к такому миру, в котором
господствует абсолютная цельность и отсутствует несовершенство.
Человек из своего эмпирического, земного состояния способен
лишь на мгновение охватить, увидеть каким-то внутренним зрением этот идеальный мир — это мгновение высочайшего напряжения
всех его сил, выводящее за грань обыденности в какую-то мистическую реальность.
Тарковский отказывается рассматривать мироздание как самодостаточное в своей феноменальной ограниченности, он оценивает
все его закономерности и свойства исключительно под знаком его
возможного преображения к идеальному, всеединому состоянию,
в котором исчезнут все его недостатки и станет полностью реальным, зримым его совершенство. В «Страстях по Андрею» эта особенность художественного отношения к миру в равной степени отражает
и представления автора фильма, и взгляды главного героя, Андрея
Рублева, которого играет Алексей Солоницын, любимый актер Тарковского. В многочисленных современных исследованиях убедительно показано, что все творчество Андрея Рублева пронизывает
убеждение в гармонии и совершенстве мира и человека, пусть еще
и не достигнутых, но достижимых и достигаемых в процессе духовного просветления материи, телесного начала1. Как известно, Андрей
Рублев глубоко и органично воспринял принципы влиятельной бо-
гословско-философской концепции восточного христианства — исихазма, и, как мы увидим в дальнейшем, Тарковский в своем фильме не
просто воспроизводит отношение к миру, характерное для исихазма,
но органично воспринимает соответствующее мировоззрение и разрабатывает собственную его версию, отвечающую современной исторической эпохе.
Понятно, что если мир оценивается под углом зрения его соответствия идеалу, сам этот идеал тоже должен получить какое-то, хотя
бы условное, выражение, как своего рода «точка отсчета» для обра¬
1 См. например: Демина Н. А. «Троица» Андрея Рублева. М., 1963;
Плугин В. А. Мировоззрение Андрея Рублева (некоторые проблемы). М., 1974.
61
ГЛАВА II
«Страсти по Андрею»: философия жертвенности
зов несовершенного мира. В «Страстях по Андрею» такое условное,
символическое изображение предвосхищаемого идеала повторяется
дважды и оба раза оно связано со взглядом на мир с высоты: первый
раз в самом начале фильма, в прологе, когда летящий на воздушном
шаре мужик смотрит на проносящийся под ним мир, и в завершении
эпизода «Феофан Грек», когда ученик Андрея Фома (актер Михаил
Кононов) находит в лесу мертвого лебедя и поднимает его за крыло,
и мы вдруг видим проносящийся под нами с огромной скоростью пейзаж — лес, поле, водную гладь, в которой отражаются облака и солнце. Не вызывает никакого сомнения огромное значение этих двух
фрагментов. Первый из них открывает фильм и задает определенный
лейтмотив развертыванию его образного ряда, второй непосредственно примыкает к эпизоду «Страсти по Андрею», в котором Тарковским
дана собственная интерпретация Голгофы, истории Иисуса Христа,
соединяющая в себе все важнейшие темы произведения.
Интересно, что второй эпизод, в отличие от первого, очень слабо
связан с предшествующим и последующим фрагментами, если иметь
в виду сюжетную логику фильма. Невозможно понять, кто видит мир
с высоты птичьего полета и почему этот образ возникает в данном месте. Единственное объяснение — связь по ассоциации: расправляя
крыло мертвого лебедя, Фома представляет себе как воспринимал
мир живой лебедь, паривший над озером и лесом. Именно так обоснован этот фрагмент в сценарии, где сначала Фома и Андрей наблюдают
за живыми лебедями, плавающими в озере, а затем видят, как их убивают дружинники Малого князя. В фильме вся эта сюжетная линия
исчезла, однако образ мира, увиденного в стремительном полете, был
настолько необходим для Тарковского, что он оставил его несмотря на
исчезновение эпизода, в контексте которого тот возник (в прокатном
варианте фильма исчез и сам фрагмент полета). Потеряв связь с сюжетом, этот фрагмент приобрел еще большее символическое значение;
в нем выражено прозрение высшей полноты и гармонии, прозрение воплощенного совершенства, открывающегося «идеальному» взору, который возвысился над конфликтами и противоречиями бытия
и в своем стремительном движении охватывает целое мира. Изображение мертвого, разлагающегося лебедя, предваряющее кадры полета, в этом контексте приобретает дополнительный символический
смысл. Он как бы олицетворяет весь наш мир, который возникает
в результате некоторой «деградации», «падения», «разложения» идеального бытия; подобно тому как мертвый лебедь — это только жалкие тленные останки живой совершенной птицы. В идейной подоплеке
этого образа можно уловить определенные параллели с упоминавшейся ранее идеей Вл. Соловьева, согласно которой наш земной мир
есть результат «падения», «деградации» абсолютного всеединства.
62
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
Центральным элементом образа «идеального» мира является
гладкая поверхность воды, в которой отражаются небо, облака,
солнце и которая ограничена сушей; здесь как бы символически
соединяются в одно целое все стихии природы: вода, воздух, огонь
и земля. Характерно, что в обоих случаях, когда Тарковский воспроизводит сюжет полета, летящий взгляд направлен так, что
в поле зрения отсутствует горизонт: «идеальный» мир целостен
и замкнут, в нем нет границы, «края». Напомним, что похожее изображение мы видим в прологе и финале «Иванова детства», там полет Ивана также свидетельствует о совершенстве мира, предстающего с высоты птичьего полета.
Образ идеального мира достижим человеку лишь на грани или
даже за гранью жизни: в «Ивановом детстве» он предстает как бы за
пределами земного бытия Ивана, а в «Страстях по Андрею», в прологе — в момент последнего взлета, заканчивающегося смертью. Во
всех эпизодах полета музыкальное сопровождение (музыка к обоим
фильмам была создана Вячеславом Овчинниковым) подчеркивает
сверхъестественность совершающегося прозрения, причем в финале
«Иванова детства» и в сцене с мертвым лебедем музыка прямо подчеркивает экстатический характер образа, его обусловленность
совершающимся прорывом в трансцендентные уровни реальности,
за грань всего земного. В прологе «Страстей по Андрею», где полет
осуществляет реальный человек, в музыке кроме того присутствует
чувство тревоги, испытываемое эмпирической личностью перед открывшейся ей картиной сверхземной реальности. Первоначально (на
уровне сценария и первых подходов к этому фрагменту) Тарковский
предполагал показать, что «летающий мужик» использует для своего
полета не воздушный шар, а самодельные крылья. Однако затем он
придал сюжету более прозаическое звучание, поскольку в противном
случае символический, знаковый характер эпизода (новый Икар!)
был бы слишком очевиден, почти навязчив2; тем более что в исходном сценарном варианте в создании крыльев должен был участвовать
Андрей Рублев, и тень этого прямолинейного символизма упала бы
на всю его историю.
То, что свой полет мужик-воздухоплаватель начинает с купола
православного собора, по-видимому, является далеко не случайной
деталью. В фильмах Тарковского христианские храмы появляются постоянно и имеют очень важное символическое значение (напомним,
что уже в «Ивановом детстве» большая часть фильма происходит
в подвале разрушенного храма): они обозначают те точки, или области, реальности, в которых открываются ее сверхземные измерения
и человек способен, соприкасаясь к этими измерениям, понять что-то
2 См.: Тарковский А. А. Запечатленное время. С. 101.
63
ГЛАВА II
«Страсти по Андрею»: философия жертвенности
чрезвычайно важное для земной жизни. Полет мужика на воздушном шаре является выразительным символом укорененного в каждом
из нас стремления к идеалу, идеальному состоянию мира; показывая
в качестве точки отсчета для этого полета православный храм, Тарковский намекает на то, что реализация стремления к идеалу предполагает вхождение в те самые области, где сходятся все измерения
реальности и раскрывается высшая Истина о мире и человеке.
Нетрудно заметить, что в последующих фильмах Тарковского
указанных «сверхземных» образов, образов идеала уже нет, все эпизоды, которые можно понять как изображение гармоничного мира,
статичны и представляют земную действительность, в которой всегда есть горизонт, ограничивающий ее и тем самым делающий близкой и «здешней». В этих образах земной гармонии всегда актуально
присутствует человек как их центр, как неотъемлемое и важное их
звено. Особенно выразителен в этом смысле эпизод из «Зеркала»,
в котором мальчик поднимается на заснеженный холм, и мы видим
прекрасную картину зимней природы, навевающую мысль о совершенстве земного мира. Отсутствие в «Зеркале» и более поздних работах режиссера образов сверхземного идеала, аналогичных тем,
что мы видим в первых двух его фильмах, по всей видимости, связано с изменением представлений Тарковского о доступности для нас
и для нашей действительности абсолютной гармонии. В образном ряде
«Соляриса» присутствуют фрагменты, снятые в том же ракурсе, что
и образы «идеального» мира в первых двух фильмах, но теперь это —
изображения планеты Солярис, и они порождают чувство космической загадки, свидетельствуют о господстве иррациональных сил.
Такой мир, конечно, не является идеальным двойником земного мира
(прозрачным, солнечным и ясным), он является символом бесконечной сложности, непроницаемой загадочности бытия. Позже мы еще
будем говорить о тех изменениях, которые постепенно происходили
в представлениях Тарковского о «сверхземной», «цельной» реальности.
Теперь необходимо обратиться к той теме, которая в «Страстях по
Андрею» является одной из ведущих, — к пониманию земного мира в
его собственной, относительной гармонии, которая очень далека от
абсолютной гармонии идеала, но которая именно поэтому доступна
и особенно значима для человека в его обыденном существовании.
Сжатое поле с отдельно стоящими деревьями, озеро, по противоположному берегу которого неспешно идут всадники на лошадях,
текущая речная вода с медленно колышущимися травами, переплетенные корни, выступающие из влажной черной земли, покрытой белыми пятнами только что проросших цветов, уходящая вдаль дорога,
упирающаяся в одинокое дерево на горизонте, колосящееся поле под
ярким солнцем, кони, пасущиеся на берегу реки под дождем, — все
64
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
это образы относительной гармонии, зримо присутствующей в нашем
земной мире. В отличии от образов сверхземной гармонии, к которой
человек может прикоснуться только в каком-то экстатическом порыве, отталкиваясь от обыденности, эти картины носят будничный
и естественный характер. В фильме эти образы всегда предстают
конкретному человеку, как правило, главному герою, Андрею Рублеву: они появляются либо в его непосредственном восприятии, либо
в воспоминаниях. В них легко обнаружить некоторые повторяющиеся мотивы, которые несут на себе особую символическую нагрузку
и проходят практически через все фильмы Тарковского.
Важнейшим элементом образа земной гармонии выступает проливной дождь, который словно сетью охватывает мир, цементирует
его, связывает все его отдельные составляющие, дает живительную
силу природе. Дождь — это как бы выход «первоосновы» бытия на его
поверхность, в мир, мгновенная открытость бытия, всей его полноты
человеку. Человек либо замыкается в себе, отгораживается от дождя,
«растворяющего» его, манящего к слиянию с бытием, либо поддается
ему, открывает себя, чтобы через соединение с миром понять (точнее, почувствовать всем своим существом) и высшие смыслы жизни
в целом, и смыслы своего собственного существования. Если человек
чувствует земную гармонию и стремится быть причастным ей, он воспринимает дождь как некий дар, впитывает его, идет к нему навстречу: так «купается» в дожде скоморох, так выходит под дождь, чтобы
успокоить свою душу и стать причастным полноте земной жизни
Андрей после решения писать Страшный суд как праздник. Дождь
сопровождает трех монахов, уходящих из монастыря в самом начале
фильма, и это символ открытого им простора, символ бесконечных
возможностей жизни.
Еще более выразительный (пожалуй, даже чересчур прямолинейный) образ земной гармонии дает сон Ивана из «Иванова детства», где под дождем, сверкающим на солнце, предстает картина
утраченного счастья героя. В «земной» части фильма «Солярис»
проливной дождь также является символом совершенства мира:
Крис Кельвин, как и другие герои Тарковского, не прячется от дождя, а воспринимает его как естественную и благодатную связь
с природой. Художник Михаил Ромадин вспоминает, что Тарковский
требовал от Донатаса Баниониса, исполнявшего роль Криса, полной
бесстрастности в этой сцене, герой не должен был замечать дождь,
не должен был реагировать на него. Впрочем, его объяснение этого
требования режиссера — желание показать отчужденность героя от
мира — вряд ли верно3. Тот факт, что Тарковский включил снятый
дубль в фильм несмотря на то, что актер не выполнил его требова¬
3 См.: Ромадин М. Кино и живопись // О Тарковском. М., 1989. С. 165-166.
65
ГЛАВАМ
«Страсти по Андрею»: философия жертвенности
ния (он слегка поеживается под дождем) свидетельствует о том, что
режиссеру важно было продемонстрировать не отчужденность героя, а естественность его поведения.
Но природа не только несет в себе элементы гармонии и цельности, она сложна, бесконечно многообразна, загадочна в своих мельчайших проявлениях, наполнена прихотливым биением жизни. Особенно ясный образ этой стороны мира, появляющийся в «Страстях по
Андрею», — текущая вода с колышущимися в ней травами. И в дальнейшем изображение текущей воды будет постоянно использоваться
Тарковским, станет одним из его любимых образов. Однако уже в «Со-
лярисе» произойдет его знаменательное раздвоение, он приобретет
иррационального двойника: стоячая вода с вкраплением различных
растений и искусственных предметов, символизирующих человеческую культуру, точнее ее фрагменты, «останки», будет олицетворять
действие каких-то разрушительных сил бытия, свидетельствовать
о его коренном несовершенстве, коренной, неисправимой «ущербности». В финале «Соляриса» мы видим то же озеро и ту же воду, что
и в первой, «земной» части, однако эта вода предстает «застывшей»
и оттого ирреальной, пугающей в своей непохожести на земную воду,
полную жизни. Особую зловещую выразительность образ текущей
воды приобретает в «Сталкере», об этом мы будем говорить позже.
Образ дождя, точнее падающей воды, становится в «Солярисе»
и последующих фильмах столь же двойственным. «Дождь» капающий через дыры в потолке жилища Доменико («Ностальгия») —
это свидетельство «болезни» бытия, наличия в нем неустранимых
иррациональных сил, несущих угрозу всеобщего апокалипсиса.
Если проливной дождь в «Ивановом детстве» и «Страстях по Андрею», накрывая весь мир, прочно связывает его сплошной сетью,
соединяет все явления, придает им единый благодатный смысл,
то «дождь» в «Ностальгии» и «Сталкере» можно понимать как хаотичные обрывки, остатки этой «сети», наличие которых, скорее,
подчеркивает общую бессмысленность и бессвязность реальности. Особенно наглядное противопоставление двух смыслов, которые связаны с дождем, мы вновь находим в «Солярисе». В первой
части, на Земле, дождь олицетворяет всеобщую осмысленность
и гармонию природы, которой человек не должен и не может бояться;
об этой гармонии вспоминают обитатели космической станции, привязывая к вентилятору бумажки, имитирующие шум листьев. Прямо противоположный смысл имеет странный образ, возникающий
в финале. Льющаяся с потолка вода в доме отца Криса — это как бы
дождь внутри человеческого жилища, которое создано как раз для
защиты от него. Как и Крис в земном прологе фильма, отец не замечает падающей на него воды, но если в первом случае дождь охватыва¬
66
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
ет всю природу и выражает целостность и всеобщую осмысленность
того островка бытия, к которому причастен Крис, то во втором — он
«локален», «фрагментарен» и подчеркивает абсурдность мира, в котором вывернуто наизнанку естественное соотношение его частей.
Как выражение абсурдности бытия, вода или дождь, падающие внутри человеческого жилища, появляются и в «Зеркале» (сны героя),
и в «Сталкере», и в «Ностальгии».
Важнейшим элементом образов земной гармонии в «Страстях
по Андрею», как и в «Ивановом детстве», оказывается изображение
коней — спокойно пасущихся на лугу, скачущих без всадника, неподвижно стоящих, словно прислушивающихся к происходящему
вокруг. Конь для Тарковского — это непосредственное, зримо-индивидуальное явление неукротимой жизненной силы природы, которая
сама не чает себя, которая бессловесна и неразумна и поэтому тянется к человеку. Конь, выступая живым символом природы, служит человеку и тем самым выражает связь человека с миром, связь
с самим источником жизни. Коней мы видим во всех эпизодах фильма, и всегда их появление имеет очень важное значение, через отношение к ним человек показывает, в каком качестве он сам выступает
в мире — как созидающая или как разрушительная сила.
Очень оригинально этот образ использован в конце пролога.
Эпизод, показывающий полет и гибель мужика на воздушном шаре,
заканчивается кадрами, в которых конь сначала перекатывается через спину на берегу реки, где упал воздушный шар, а затем галопом
пробегает мимо разбившегося мужика и его поверженного, смятого шара. Сочетание изображений мертвого человека и несущегося
вскачь, испуганного коня порождает удивительно глубокий символ,
смысл которого непосредственно выражает одну из важнейших составляющих философии Тарковского. Нервный бег коня является как
бы продолжением полета человека; дерзание летающего мужика,
попытавшегося прорваться к сверхземному идеалу, закончилось его
смертью, но это дерзание и эта смерть не пропали впустую для мира,
бытие откликнулось на поступок человека. Усилия человека в мире,
особенно предельные усилия, обладают значимостью вне зависимости от степени их внешнего успеха. Ничто из того, что делает человек, не бывает напрасным, любое деяние оставляет после себя след,
оно что-то изменяет в реальности и, значит, как-то преображает ее.
2. Первозданная сила любви
Здесь мы подходим к самой главной теме не только фильма «Страсти по Андрею», но и всего творчества Тарковского — пониманию
им характера и сущности взаимосвязей человека с миром, с бытием
67
ГЛАВАМ
«Страсти по Андрею»: философия жертвенности
и роли человека в бытии. Именно в этом пункте отчетливо проявилась
преемственность творчества Тарковского по отношению к русской
дореволюционной философии. Подобно русским философам начала
XX в., Тарковский отверг традиционное представление (продолжавшее господствовать в различных версиях «научного» мировоззрения XX в. — от марксизма до позитивизма) о том, что человек — это
только мельчайшая «песчинка» мироздания, незначительный его
элемент, отличающийся и выделяющийся на фоне целого только наличием разума. Для Тарковского человек — это, во-первых, неотъемлемая и органичная часть природы, всего бытия и, во-вторых,
центр бытия, тот элемент, который осуществляет связь всех остальных элементов друг с другом, через который все мельчайшие частицы бытия получают какой-то смысл, какое-то значение, складываясь
в гармоничное целое.
Во многих фрагментах фильма человек представлен как естественная часть природы, он так соотносится с окружающей средой,
что это отношение превращается в полную слитность, приобретает
характер взаимодополнительности. Предельно наглядно это проявляется в эпизоде «Феофан Грек»; весь изобразительный ряд беседы
в лесу Андрея, Фомы и Феофана Грека (его играет актер Николай
Сергеев) построен на этой слитности человека и природы. В один
из моментов, в самом начале беседы, когда мы видим только Андрея
и Фому и камера медленно следует за их движениями, лицо Андрея
исчезает за стволом дерева и снова появляется; в конце этого фрагмента точно так же исчезает за деревом фигура Фомы, словно растворяясь в природе, и затем вновь «выступает» на ее фоне. Появление
Феофана также обставлено как своего рода «проявление» человека,
до того момента не заметного в цельной ткани природы. Сидящий
с голыми ногами в муравейнике Феофан появляется в кадре так,
словно он внезапно отделился от природного целого, только что материализовался из сгущенной атмосферы этого загадочного леса.
Андрей Рублев в фильме предстает как человек, который очень
глубоко чувствует свою сопричастность природе, всему миру вокруг,
он постоянно всматривается в окружающее бытие и видит едва заметные движения, пульсации жизни. Особенно выразительный образ
единства человека и мира дает эпизод «Праздник». Притягательность
языческих обрядов, в которые вовлекается Андрей, заключается как
раз в демонстрируемой ими открытой простоте и естественности отношений человека с природой и с ее жизненными силами, проступающими и в самом человеке. Кульминация ночного праздника и всего
эпизода — сцена языческого обряда отпускания в плавание по воде
лодки с куклой, изображающей смерть. Здесь происходит соединение
двух важнейших символов Тарковского — текущей воды и коня, ко¬
68
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
торый, стоя в реке, бьет копытом. Раскрепощенная, торжествующая
жизненная сила приходит в гармонию с человеком и обещает бессмертие: обнаженные юноши и девушки стоят двумя рядами по течению реки, и между ними проплывает — уплывает вдаль! — лодка
с такой нестрашной, игрушечной смертью.
Несмотря на все внутреннее сопротивление, несмотря даже на
конфликт с мужиками-язычниками, привязывающими его к столбу,
Андрей не может преодолеть в себе тягу к слиянию с первозданной
силой жизни, он отдается ей, включается в греховный вихрь, увлекающий его к обнаженной женщине, которой суждено стать его первой
и последней возлюбленной. Тем самым он признает, что любовь —
это высшая ценность, даже любовь греховная, плотская, признает,
что эту греховную любовь нужно не отвергать, а просветлять, возвышать до уровня любви духовной и даже божественной. Ведь грех
подстерегает нас не только в любви, но в каждом поступке, и уйти от
него невозможно. И не будет ли воздержание, уклонение от любви
более серьезным грехом, чем следование ее велениям?
Здесь уместно сравнить понимание любви Тарковским и понимание эротической, плотской любви в русской философии XIX — начала XX в. Те философы, которые обращались к этой теме (Соловьев,
Бердяев, Розанов, Карсавин и др.), неизменно подчеркивали значение
эротической любви как важной ступени на пути к высшей, божественной, мистической любви и даже как необходимого элемента последней. Любовь становится греховной только когда происходит разделение ее форм, при этом не только обособленная «низшая» любовь
становится неполноценной, греховной, но и «высшая» сама по себе,
без связи с «низшей», также теряет часть своего содержания, ибо задача человека не в разделении и противопоставлении плоти и духа,
а в их гармоничном соединении — через такое соединение плоть
«просветляется» и обретает высший смысл. Особенно большое значение эротическая любовь приобретала в метафизике Карсавина, который в известной работе 1922 г. прямо утверждал, что без полноты
эротической, земной любви человек не может быть причастен любви
духовной, без нее невозможна также и любовь божественная, любовь
к Богу4. В эротической любви человек частично преодолевает самую
главную причину несовершенства земного мира — материальную обособленность отдельных личностей. Все остальные видимые признаки
его несовершенства — разделенность вещей и явлений в мире и от-
деленность человека от природного бытия, утверждает Карсавин, —
являются только следствием обособленности личностей; преодолевая эту обособленность в ее основе, человек делает самый главный
4 См.: Карсавин Л. П. Noctes Petropolitanae // Карсавин Л. П. Малые сочинения. СПб., 1994. С. 187-190.
69
ГЛАВА II
«Страсти по Андрею»: философия жертвенности
шаг к «воссоединению» всех сил и элементов мирового бытия, соединяется с источником бытия и жизни. Но точно такой же смысл имеет эротическая любовь и в фильме Тарковского, это наглядно видно
в эпизоде «Праздник».
История любви Андрея Рублева в фильме только намечена, угадывается по некоторым намекам, в то же время в сценарии она занимала очень существенное место: здесь мы находим даже предположение, что единственная возлюбленная Рублева, обретенная им
во время языческого праздника, позже была изображена им в сцене
Страшного суда, созданной во Владимирском соборе5. Как утверждают в сценарии Тарковский и его соавтор Андрон Кончаловский, образ одной из женщин на фреске имеет настолько земные, портретные
черты, что не может быть просто фантазией художника — он должен быть связан с какими-то очень важными событиями его жизни.
В фильме эта достаточно произвольная гипотеза исчезла, однако
само отношение к любви как главной ценности и силе жизни осталось. В эпизоде «Страшный суд» тяжкие сомнения Андрея о том, как
расписывать собор, рассеиваются, когда он начинает думать о любви,
ее значении в мире. Это размышление переходит из одного фрагмента, выражающего сомнения и неуверенность героя, в другой, где его
уверенность в себе и в своем творческом предназначении крепнет
и он все более и более твердым и радостным голосом вслух произносит настоящий гимн любви: «Если я говорю языками человеческими
и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал
звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею
любви, — то я ничто. И если отдам я все имение свое и отдам тело
свое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы.
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь
не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся и языки
умолкнут, и знание упразднится, ибо мы отчасти знаем...»
В этом оборванном на полуслове высказывании из 1-го Послания апостола Павла к Коринфянам любовь ставится выше не только
знания, надежды и жизни, но и выше веры. Очень характерно то небольшое изменение, которое Тарковский вносит в текст Послания.
В оригинале следом за приведенными словами, произносимыми
Андреем Рублевым, следует заключение, в котором сконцентриро¬
5 См.: Кончаловский Л., Тарковский А. Андрей Рублев (сценарий) // Искусство кино. 1964. №4, 5 (эпизод «Праздник», финал эпизода «Страшный суд»,
финал эпизода «Колокол»).
70
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
вана самая суть всего этого фрагмента: «Когда я был младенцем, то
по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески
рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы
видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом
к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан.
А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из
них больше». Эти слова выражают принципиальное христианское
отношение к земной жизни: в земной жизни все, что мы можем
знать, во что мы можем верить, к чему можем стремиться, — лишь
приблизительно, неполно отвечает подлинной реальности, подлинному бытию, которое есть только в Боге и к которому мы сможем приблизиться только после смерти, вне этого земного мира. В фильме
Тарковского эти слова также звучат, однако не после слов о любви,
а до них. В новозаветном тексте значение любви признается в земной
жизни, но сама эта жизнь понимается как несовершенное обладание
подлинной Истиной и Жизнью; завершающие строки в значительной
степени снижают пафос предшествующих слов о любви. В фильме,
наоборот, Андрей неуверенным, дрожащим голосом начинает со слов
«когда я был младенцем, то по-младенчески говорил...», а завершает
пророческими, полными силы фразами о превосходстве любви над
знанием и верой. Получается, что для него вера в грядущую встречу
с Истиной «лицом к лицу» — это лишь точка опоры, необходимая,
чтобы закрепиться в мире, не дойти до полного отчаяния; главное
для человека в его земном бытии вовсе не эта вера, а сила любви,
которая и составляет подлинную суть жизни. Возможно, что и сама
грядущая встреча с Истиной должна явиться только следствием
любви и всей нашей земной жизни, а вне ее и без земных усилий человека просто невозможна.
Нужно учесть также, что весь упомянутый фрагмент с размышлениями Андрея Рублева идет следом за эпизодом «Праздник», где любовь представала в ее непосредственном земном облике. В результате
отношение Андрея к любви предстает очень далеким от ортодоксаль-
но-христианского ее понимания: здесь, скорее, возникают параллели
с упомянутой выше интерпретацией любви в русской религиозной
философии, в частности у Карсавина. Дополнительный аргумент
в пользу этого дает другой фрагмент эпизода «Страшный суд». Когда
вся артель Рублева слушает чтение еще одного отрывка из того же
1-го Послания к Коринфянам, где говорится о природной греховности
женщин и необходимости для них покрывать голову, чтобы скрыть
эту греховность, Андрей приходит наконец к пониманию того, как он
должен писать сцены Страшного суда. «Да какая же она грешница,
даже если платка не носит». Прямо противопоставляя библейским
представлениям свое отношению к женщине как носительнице выс¬
71
ГЛАВА II
«Страсти по Андрею»: философия жертвенности
шей человеческой силы — любви, Андрей отказывается признавать
ее природный грех в предназначенности к любви. Через женщину,
через любовь мир возрождается, а не гибнет, и поэтому на Страшном
суде женщина должна выступать как символ спасения, как вестник
освобождения от грехов и от зла. Страшный суд предстает в воображении Андрея радостным праздником всеобщего воскресения, в центре которого находятся Праведные жены — образ женской святости.
Оценка любви, взятой в единстве ее земного и небесного ликов,
как главной метафизической силы, в которой проявляется творческое начало человека, его способность к бесконечному совершенствованию и его устремление к преображению своего собственного
бытия, бытия всех людей, связанных с ним, и даже всего мира, — это
один из важнейших элементов мировоззрения Тарковского. Особенно парадоксальную форму это убеждение приобретает в его интерпретации истории Иисуса Христа. В своем споре с Феофаном Андрей
Рублев утверждает, что не только Иисусом двигала любовь, когда он
восходил на Голгофу, но и распинавшие его люди любили его, ибо «пособили в деле, Богу угодном». Во всей полноте смысл этого эпизода,
составляющего идейный центр фильма, мы рассмотрим ниже.
Наконец, в данном контексте нельзя обойти вниманием еще
один эпизод фильма, который так и называется — «Любовь»6. Это
название кажется непонятным, почти издевательским, поскольку
в эпизоде изображается жизнь Андрея и приютившей его монастырской обители в суровую, голодную зиму. Мы видим тяжелый, скудный быт монастыря, молчание Андрея, разговоры монахов о голоде
и бедах народа, их шутки по поводу странных отношений Андрея
с полоумной девушкой по прозвищу Дурочка (ее играет Ирма Рауш),
которую он не отпускает от себя, с тех пор как ради нее совершил
грех — убил русского воина, пытавшегося ее изнасиловать. На этом
фоне совершается страшное предательство: Дурочка, увидев сытую
и богатую, почти праздничную жизнь заезжих татар, без сомнений
и сожаления отрекается от своего покровителя и уезжает в Орду
с татарином, который пообещал сделать ее одной из своих жен. Однако за этой внешней канвой и поверхностным, слишком наглядным
смыслом (что всегда очень обманчиво у Тарковского) проступает другой, парадоксальный и неожиданный смысловой план.
Центральной в этом эпизоде является сцена стремительного
вторжения татар в смиренный быт монастыря. Поначалу татары про¬
6 В сокращенном, прокатном варианте фильма он был переименован и стал
называться «Молчание». По-видимому, Тарковский смирился с тем, что большая
часть зрителей не способна проникнуть в истинный смысл этого эпизода, и с помощью нового названия переориентировал внимание на более понятное его содержание, напрямую связанное с главной сюжетной линией фильма.
72
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
сто играют со странной девушкой, пытавшейся украсть кусок мяса,
подобно тому как они только что играли с собаками, стравливая их
друг с другом, и эта жестокая игра предвещает страшную развязку.
Однако в какой-то момент эмоциональный вектор эпизода резко меняется. Как это часто бывает в фильмах Тарковского, в структуре сцены
«игры» татар с Дурочкой возникает неожиданная кульминация, задаваемая изобразительным планом (к сожалению, ускользающим от
внимания зрителей), который явно выделяется из контекста по своему ритму и является смысловым ключом ко всему этому фрагменту.
В какой-то момент Дурочка, подняв глаза на татарина, вдруг забывает
о куске мяса, который она только что ела, и в ее долгом взгляде проступает какая-то осмысленность, какое-то задумчивое удивление перед происходящим. В следующем столь же статичном и долгом кадре
мы видим неподвижно смотрящего на Дурочку татарина, на выразительном лице которого наперекор насмешкам окружающих застыло
неподдельное восхищение открывшейся ему красотой этой женщины и, как это ни удивительно, — чувство внезапно вспыхнувшей искренней любви. На фоне всей достаточно большой сцены вторжения
татар, в которой много резкого, порывистого движения, эти два плана
выделяются своей статичностью, переводящей внешнюю динамику в
предельное внутреннее напряжение, возникшее от долгого взгляда
двух людей глаза в глаза. Перед событием, произошедшим здесь, становится неважным, русский ты или татарин, раб или господин: все
внешние различия сводятся на нет перед тем единством, в которое
соединяет людей любовь.
Наш мир устроен так, что в нем «перемешаны», проникают друг
в друга, часто в одном и том же явлении, грех и вина, эгоизм и жертвенность, зло и добро, ненависть и любовь; в человеке связаны и перепутаны обе стороны — «темная» и «светлая», низменные устремления
и жажда идеала. Поэтому что-то настоящее, глубокое очень часто
рождается случайно, в ситуации, когда, казалось бы, господствует
только низменное и злое. Именно это происходит в рассматриваемом
эпизоде. Тот обет, который наложил на себя Андрей, не имеет смысла
для Дурочки; когда для нее вдруг открывается возможность начать
свой собственный путь в жизни, пусть даже он в конце концов приведет ее в никуда, в бездну, она, не задумываясь, вступает на него.
Лишать ее открывшейся возможности (быть может, единственной
в ее жизни) — это грех, подобный тому «греху», который совершил
бы Андрей, отказавшись от земной любви, вызванной в нем язычницей Марфой в эпизоде «Праздник».
Стремительный полет Дурочки верхом на коне рядом с татарином, увозящем ее в Орду, оказывается для нее не падением, не дорогой к унижению и расплате за свое предательство, как это может по¬
73
ГЛАВА II
«Страсти по Андрею»: философия жертвенности
казаться на первый взгляд, а подлинным порывом к преображению.
Чудо преображения, хотя и остается за кадром, но с полной достоверностью подтверждается финальными кадрами фильма, в которых мы
видим прекрасную сдержанную женщину, словно олицетворяющую
ту высшую спасающую любовь, о которой раньше говорил Андрей,
и с удивлением узнаем в ней прежнюю Дурочку. Отметим, что в сценарии весь этот финальный эпизод вообще отсутствует; там преображение Дурочки также происходит, но совершенно в другом контексте. Дурочка оказывается беременной (ее изнасиловал татарин во
время набега), и, разрешаясь от бремени младенцем, в котором явно
видны татарские черты (что лишает основания подозрения монахов
о «грехе» Андрея), она обретает рассудок, хотя и перестает узнавать
Андрея. Понятно, что в этом случае происходящее с ней преображение не имеет того глубокого смысла, который оно получило в фильме
и который позволяет увидеть непосредственную взаимосвязь эпизода «Любовь» (на первый взгляд несколько выбивающегося из единого
смыслового ряда) с образами земной любви из эпизода «Праздник».
Любовь помогла татарину увидеть в Дурочке ту скрытую красоту
и ту возможность преображения, которые не способны были увидеть
в ней окружающие (только Андрей в какой-то степени приблизился
к этому), и любовь совершила чудо, претворив эту возможность в действительность.
Понять идейную подоплеку рассмотренной сцены помогает
сравнение с важнейшей темой упомянутой выше книги Карсавина
«Noctes Petropolitanae»; в одной из ее частей Карсавин использует художественные образы Достоевского для иллюстрации представления
о любви как важнейшей силе бытия. Этой части Карсавин придавал
особое значение и даже опубликовал ее отдельно в виде статьи с парадоксальным названием «Федор Павлович Карамазов как идеолог
любви». Основная идея этой статьи для любого читателя, знакомого с упомянутым персонажем Достоевского (отцом братьев Алексея,
Дмитрия и Ивана), покажется поистине невероятной. За отвратительным, на первый взгляд, качеством Федора Павловича — неукротимым сладострастием, переходящим в откровенную похоть, Карсавин
усматривает глубоко позитивное свойство этого человека — способность увидеть в каждой женщине неповторимое, бесконечно ценное
содержание и способность по-настоящему полюбить ее именно в ее
личностной неповторимости. Карсавин доводит эту идею до абсолютного парадокса, когда утверждает, что именно это положительное
качество заставило Федора Павловича увлечься даже женщиной, которая ни при каких условиях не могла привлечь ни одного нормального мужчину — Лизаветой Смердящей, юродивой, идиоткой, не имеющей крова над головой и живущей подаянием. «Безобразен Федор
74
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
Павлович, — пишет Карсавин, — но чуток к прекрасному; грязен, но
влечется к чистому и святому. И этот же чуткий человек находит,
что Лизавету Смердящую “можно счесть за женщину, даже очень...
Тут даже нечто особого рада пикантное...” Что влекло его к Лизавете, к идиотке ростом “два аршина с малым”? — Он думал, и всякий
думает: не она сама, а особенность наслаждения, “пикантность”. Но
ведь эта “особенность” немыслима без самой Лизаветы, и сознание
в себе такого влечения есть вместе с тем и познание в Лизавете чего-
то непонятного и невидимого для других, самой Смердящей»7.
Такая интерпретация истории отношений Федора Павловича
и Лизаветы Смердящей из романа «Братья Карамазовы» удивительно
созвучна тому, что происходит в фильме Тарковского между татарином и Дурочкой. Можно предположить, что режиссер, выстраивая
рассматриваемый эпизод, имел в виду точно такое же противостояние поверхностного и глубокого смысла изображаемого события: при
поверхностном взгляде мы видим только похоть и предательство, но
в глубине свершается подлинное чудо любви.
В пользу сближения идей Карсавина и Тарковского можно привести еще один выразительный аргумент, связанный уже с фильмом
«Зеркало». В сценарии «Зеркала» присутствует сцена (не вошедшая
в фильм), в которой герой фильма, просыпаясь в деревенской избе рядом со своей женой, сообщает нам, что ему «чудятся голоса»; и далее
мы слышим голос Федора Павловича Карамазова, который рассказывает сыну Алеше о том, как нужно подходить к женщинам, чтобы очаровать их: «..босоножку и мовешку надо сперва-наперво удивить — вот как надо за нее браться. А ты не знал? Удивить ее надо
до восхищения, до пронзения, до стыда, что в такую чернявку, как
она, такой барин влюбился. Истинно славно, что всегда есть и будут
хамы да баре на свете, всегда тогда будет и такая поломоечка, и всегда ее господин, а ведь того только и надо для счастья жизни!»8. Но
ровно те же самые слова Федора Павловича цитирует в своей работе
Карсавин. Это совпадение заставляет предположить, что, возможно,
Тарковский знал (например, через отца) работу Карсавина, которая
вызвала достаточно много критических отзывов в 20-е гг.
Образы любви в «Страстях по Андрею» существенно развивают и углубляют тему, которая впервые прозвучала в самом светлом эпизоде «Иванова детства» (эпизод в березовой роще), эта тема
и связанные с ней образы присутствуют и в последующих фильмах
Тарковского. Любовь у него неизменно оказывается самой могущественной силой, дарованной человеку, через нее человек может до¬
7 Карсавин Л. П. Noctes Petropolitanae. C. 116.
8 Мишарин A., Тарковский А. Зеркало (сценарий) // Киносценарии. 1994.
№6. С. 38.
75
ГЛАВА II
«Страсти по Андрею»: философия жертвенности
биться преображения и возвыситься над несовершенным миром. Это
«возвышение» в некоторые кульминационные моменты становится
буквальным — человек преодолевает земное притяжение (законы
несовершенного земного бытия) и поднимается над землей (молодая
мать героя, неподвижно висящая над своей кроватью, в «Зеркале»,
Хари и Крис, взлетающие из-за исчезновения тяготения на космической станции Соляриса, парение Александра и служанки Марии
в «Жертвоприношении»). Особенно большое значение любовь приобретает в последнем фильме Тарковского. Здесь однократное событие любви, соединившей всего лишь на мгновение Александра
и служанку Марию, оказывается достаточным для преодоления радикального несовершенства мира, для устранения того «разлома»
бытия, в котором должны были погибнуть все человечество и весь
мир, выстроенный человеком.
3. Созерцание и деятельность
Человек не только един с миром, не только «вплетен» в бесконечное
течение жизни, но и противостоит миру и бессловесной жизни природы, возвышается над ними; он обладает особым значением и особой
ролью в бытии. Слитность, нераздельность мира и человека необходимо мыслить не как безразличное, нивелирующее единство (как единство капель в реке и самой реки), а по аналогии, например, с неразрывным единством окружности и ее центра: последний формально отделен
от самой окружности, но не мыслим без нее, точно так же, как и она не
может существовать без этого центра, который определяет ее форму,
ее сущность. Человек — это метафизический центр мира; если бы его
не было как такого центра, то мир не имел бы ни смысла, ни определенной формы, не было бы в нем ни его несовершенств, «дефектов», ни его
красоты и возможностей бесконечного совершенствования.
Человек предстает как своего рода «свидетель» всего выступающего в бытие, и своим свидетельством, приятием происходящего
в свое сознание, интегрированием каждого явление в целостность
своей жизни, он придает смысл этому явлению и всему бытию
в целом. Поэтому имеет значение не только активное участие в событиях, но и простое созерцание, несущее в себе «озабоченное» (используя известный термин М. Хайдеггера) восприятие мира и всего
случающегося в мире. Более того, активная позиция в мире не может
быть поставлена выше созерцания, бездеятельного соприсутствия в
нем. Деятельность заставляет человека сконцентрироваться на происходящем, позволяет ему увидеть и осмыслить только то, что дано
в его деятельности, в то же время то, что составляет «простор» бытия остается вне его внимания и «заботы». Наоборот, «озабоченное»
76
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
внимание, избегающее вмешательства в отдельные явления, охватывает весь «горизонт» мира и способно при его правильной ориентации
схватить смысл каждого события (точнее, придать смысл каждому
событию), исходя из целого, из всего богатства жизни. Такое противостояние активной позиции, претендующей на то, чтобы задать
новые ориентиры, провести новые резкие «борозды» в бытии, и позиции, внешне пассивной, но связанной с глубоким приятием мира
и выявлением всех его бесконечных смыслов и значений, составляет
одну из важнейших линий фильма «Страсти по Андрею».
Первая позиция в ее наиболее радикальном негативном значении представлена братьями-близнецами — Великим и Малым князьями. Но к ней же можно отнести и двух «положительных» персонажей фильма — мужика на воздушном шаре и Бориску. Впрочем,
в истории Бориски есть некоторая двусмысленность. Хотя на первый
взгляд она дает яркий пример активного действия, в решении его образа в значительной степени проступают и черты противоположной
позиции — позиции бездеятельного, но глубоко «озабоченного» созерцания (подробнее об этом будет говориться дальше). Конечно, вторую позицию в фильме наиболее ясно выражает Андрей Рублев.
Критики уже не раз отмечали, что образ Рублева претерпел радикальный и очень выразительный генезис по мере движения фильма
от сценария к реальному воплощению. В сценарии Андрей показан
как человек, постоянно готовый к активным действиям, причем часто
его поступки даже избыточны, безрассудны по отношению к ситуации. Например, он бежит через лес, пытаясь предупредить артель
камнерезов о нападении дружинников Великого князя, бросается
с железным шкворнем на верховых татар, пытается убить татарина,
издевающегося над покорностью русских и т. п. В фильме от всей этой
активности Рублева не осталось и следа. Даже там, где, казалось бы,
от него требуются решительные действия, где все ждут от него этих
действий, он сомневается, колеблется, выбирает (особенно наглядно
это проявляется в эпизоде «Страшный суд»). Чаще всего он является
«наблюдателем», «свидетелем», только фиксирует все происходящее
вокруг; но, соединяя, сплетая смыслы происходящих событий в некоторую цельную картину, он как бы «восстанавливает» утраченную
бытием полноту, то всеединое состояние мира, идеальный образ которого живет в душе каждого человека. И именно через пассивное
по видимости, но глубоко проникновенное, «озабоченное» созерцание мира, через созерцание его недостатков и его совершенств, Андрей приходит к зримому выражению этого идеала, которое должно
помочь всем людям яснее понять направление для своих помыслов
и усилий, способных реально преобразить мир. В фильме ни разу
не показано, как Рублев работает над своими произведениями,
77
ГЛАВА II
«Страсти по Андрею»: философия жертвенности
и это не случайно. Та божественная живопись, которая появляется
в финале фильма, предстает как итог всей жизни Андрея, целиком
посвященной вглядыванию в мир, созерцательному проникновению
в его сущность, молчаливому схватыванию смысла каждого явления
в перспективе идеальной полноты бытия. И по отношению к этому
главному «делу» его жизни все частные дела, в том числе и технический процесс «исполнения» художественных образов в материальной
форме, выступают как не очень значительные детали.
Та библейская фраза, которой заканчивается последний фильм
Тарковского, — «В начале было Слово» — выражает один из главных принципов всего его творчества. То Слово, которое здесь имеется
в виду, — это божественное, изначальное определение точного смысла всех вещей и явлений, взятых в их божественной форме, в контексте божественной, идеальной гармонии. Эти смыслы, это сокровенное Слово и пытаются в мучениях и сомнениях выразить все герои
Тарковского, среди которых первое место принадлежит Андрею Рублеву. Он надеется найти Слово, которое дает первосмыслы бытия
и указывает направление для наших действий, способных возвратить
бытие к идеальному состоянию. Поиски этого Слова и его отдельных
слагаемых — это вся жизнь Андрея; даже его молчание — это то сосредоточение, та духовная концентрация, из которых рождается, наконец, беззвучное Слово его творческого взлета.
Сам термин «слово» подчеркивает недеятельный характер акта выявления первичных смыслов мира. Действие, как правило, искажает
сущность вещей, оно может быть плодотворным только если мир просветлен и в нем открыты все его смыслы; только в этом случае действие
человека может стать не темным порывом, разрушающим еще сохраняющиеся элементы целостности, но абсолютно точным и «любовным»
«подправлением» недостатков бытия. Такое действие должно быть почти незаметным, минимальным, поскольку оно должно не «возмущать»
бытие, а реализовываться в нем как его собственная сила, изнутри
взращивающая зерна его гармонии. Поэтому при всей своей «минимальности» оно бесконечно сложно для осуществления и предполагает
предварительные усилия по глубокому проникновению в смыслы всех
явлений. Человеку редко удается даже раз в жизни осуществить такое
действие, столь точно провести свою «борозду» в бытии, чтобы вокруг
нее началась «кристаллизация» зерен мировой гармонии. Нужно целую
жизнь посвятить проникновенному вглядыванию в мир, чтобы в итоге осуществить абсолютно осмысленное деяние, преобразующее мир
и людей. Двумя самыми выразительными примерами и универсальными формами такого абсолютно осмысленного деяния в фильме Тарковского являются творческое дерзание подлинного художника и трагический акт самопожертвования, символом которого выступает Голгофа.
78
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
Все герои Тарковского предстают на первый взгляд как люди безвольные, пассивные — как созерцатели, а не деятели. Но в каждом
фильме кульминацией всего происходящего является все-таки некое действие, решающий поступок, не столь уж яркий и эффектный
во внешнем плане, но несущий в себе ту самую абсолютную осмысленность, через которую новый, абсолютный смысл входит в мир
и преображает его из хаоса к гармонии, пусть даже в одной очень
ограниченной сфере. Особенно наглядно это проявляется в финале
«Соляриса», где долгий период сомнений и нерешительности героя,
в течении которого он постепенно отказывается от «естественной»
деятельной позиции и учится слышать «голоса» Неведомого, завершается долгожданным прикосновением к какой-то осмысленности
в том абсурдном пространстве, где царствует иррациональный разум
планеты Солярис.
На первый взгляд, наиболее радикальным этот акт «проникновенной» деятельности предстает в двух последних фильмах Тарковского. И самосожжение Доменико в «Ностальгии» и сожжение своего
дома Александром в «Жертвоприношении» — это акты даже слишком радикальные в своей решительности. Однако если присмотреться внимательней, то можно заметить, что они являются лишь «двойниками» по-настоящему значимых деяний, не выглядящих столь же
яркими с внешней, видимой стороны, но несущих тот самый смысл,
который долго искали герои этих фильмов. Ведь самосожжение Доменико — это как бы «прелюдия» к подлинно главному, к тому, что он
так и не смог осуществить и доверил Андрею Горчакову, — к пронесению свечи через старинный бассейн ради магического воздействия на
реальность. Та же самая двойственность очевидна и в «Жертвоприношении»: и здесь сожжение Александром своего дома — это только
выполнение данного им «высшим силам», Богу обещания пожертвовать самым дорогим в своей жизни, если будет спасен мир. Он выполняет это обещание после того, как мир спасен, но само спасение
оказалось возможным в силу деяния, которое осталось незаметным
и неизвестным никому из окружающих, — как результат «магической» любовной связи Александра и служанки Марии.
В двух наиболее сложных и, может быть, наиболее зрелых фильмах Тарковского — в «Зеркале» и «Сталкере», долгий путь постижения мира, всматривания и вслушивания в него, заканчивается парадоксальным «антидеянием» — отречение от того, что, казалось бы,
должно явиться естественным итогом всего предшествующего пути.
В «Сталкере» герои отказываются от того, чтобы войти в «комнату
желаний», поняв всю глубину ответственности за поступок, который
они хотели совершить и который по своему смыслу оказался в противоречии с путем, пройденным до порога этой комнаты. В «Зеркале»
79
ГЛАВА II
«Страсти по Андрею»: философия жертвенности
герой постигает истину о себе, погружаясь в воспоминания, и этот
путь заканчивается смертью, т. е. абсолютным «недеянием»; однако
те смыслы, которые он обрел в своем движении через время, оказываются по-настоящему абсолютными, т. е. преодолевающими время
и смерть.
4- «Обожение» человека и преображение мира
В «Страстях по Андрею» представление Тарковского о правильном соотношении действия и созерцательного постижения мира выглядит наиболее прозрачным. Тарковскому, конечно, было хорошо
известно, что художественное мировоззрение Андрея Рублева сложилось под влиянием исихазма — одного из самых ярких направлений в византийском богословии, которое испытало расцвет в XIV в.
благодаря деятельности св. Григория Па ламы. На Руси исихазм
в XIV-XVI вв. получил чрезвычайно широкое распространение и во
многом определил духовную жизнь русских монастырей, тогдашних
центров религиозной культуры. Основные принципы исихазма, несомненно, были близки Тарковскому, и в своем фильме он не просто
воспроизводит ту его версию, которую в своем творчестве выразил
Андрей Рублев, но дает свое собственное преломление этой давней
и очень влиятельной традиции, приводя ее в созвучие с мировоззрением человека XX в.
В основе исихазма лежит убеждение в первостепенной важности
для человека (для любого человека, стремящегося к совершенству,
к Богу) внутреннего духовного сосредоточения, умной (бессловесной) молитвы, в которой происходит «собирание» всего человека,
концентрация всех духовных сил личности, что необходимо для достижения духовного «соприкосновения» с Богом, восприятия «божественной энергии» («Фаворского света»), разлитой в мире, а затем
и для «возвышения» души до божественного совершенства, для «обо-
жения» человека. Важным моментом исихастской молитвы был ее бессловесный характер, она могла достигнуть своей цели только при условии «бездеятельности», отрешения человека от активных действий
в отношении мира. Пассивность Андрея в фильме Тарковского вполне
соответствует этому принципу исихазма, точно так же как его уход
в пятнадцатилетнее молчание является поступком, вполне обычным
для исихастской практики, он подчеркивает последовательность Андрея в исповедании этой традиции.
Необходимо упомянуть еще одну черту исихазма, по поводу которой было особенно много споров между его сторонниками и противниками. Это касается отношения души и тела, а в более широком
плане — отношения материального и духовного (божественного)
80
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
бытия. Исихасты полагали, что противостояние духа и тела в нашем
земном бытии есть один из признаков его несовершенства, поэтому
процесс «обожения» человека должен предполагать преодоление
этого противостояния. Духовная концентрация в умной молитве не
должна пониматься как отрешение души человека от всего земного
и телесного. Человек может и обязан подчинить все чувственные,
плотские устремления (за исключением, конечно, противодуховных)
единому духовному центру личности, чтобы начать процесс преображения своего несовершенного тела к состоянию обоженной телесности. Вот как характеризует эту сторону исихазма современный исследователь: «Человек преодолевает коренную противоположность
между материальным и духовным через восприятие божественной
энергии, в результате чего, будучи во плоти, может обожиться не
только душою, умом, но и телом стать богом по благодати, и постичь
весь мир изнутри — как единство, а не как множественность, ибо
только благодаря этой энергии един столь дробный и множественный в своих формах земной мир»9. В современной литературе, посвященной творчеству Андрея Рублева, приводятся убедительные
доказательства влияния на него исихазма именно в этой его составляющей, причем главными аргументами в пользу этого являются
не конкретные сведения о жизни Рублева и круге его общения (об
этом почти ничего не известно), а сами его произведения, в которых
больше всего поражают как раз образы божественной телесности,
образы преображенной к абсолютному совершенству земной природы человека10.
В своем фильме Тарковский дал совершенно адекватное выражение этих особенностей мировоззрения Рублева. Наиболее
существенное видоизменение, вносимое им в основополагающие
принципы исихазма, касается вопроса об отношении человека к божественному бытию. В неявной полемике с догматическим православием, согласно которому идеальное состояние мира и человека,
их «обожение», достижимо только через соединение с уже существующим идеальным бытием, с реальным Богом, Тарковский выстраивает гораздо более сложную метафизическую конструкцию.
В ней не предполагается, что идеальное, совершенное бытие актуально существует в какой-то трансцендентной сфере — оно предвосхищается и затем достигается в самой земной действительности
через человека, который и выступает подлинным метафизическим
9 Плугин В. А. Мировоззрение Андрея Рублева (некоторые проблемы).
С. 59; см. также: Прохоров Г. М. Исихазм и общественная мысль в Восточной Европе в XIV в. // Литературные связи древних славян. ТОДРЛ. 1968. T. XXIII. С. 92.
10 См.: Плугин В. А. Мировоззрение Андрея Рублева (некоторые проблемы).
С. 58-75.
81
ГЛАВА II
«Страсти по Андрею»: философия жертвенности
центром всей реальности. Человек должен двигаться к совершенству
не через восхождение к открывающемуся Богу, а через взращивание
в себе самом божественного совершенства, через превращение себя
из относительного центра мира в абсолютный центр. Человек должен стать источником божественной энергии, излияние которой
в мир преображает и мир и самого человека к гармоничному, совершенному состоянию. Откуда она берется в нем, человек не может
знать, но это и не является для него существенным; ему достаточно
понимать, что только через его неповторимую личность эта энергия
приходит в мир, он должен научиться открывать в себе ее истоки
и бережно очищать их от всего случайного, наносного, от того, что
мешает этой энергии, наполняя душу, проливаться в мир.
Нужно отметить, что эту систему идей Тарковский мог воспринять не только из творчества Андрея Рублева, но и из творчества Достоевского, идеи исихазма были одной из опорных точек для формирования философского мировоззрения писателя. Важнейший принцип
этого мировоззрения — убеждение, что только в человеке содержится божественное, абсолютное измерение бытия; призвание каждого
из нас в том, чтобы раскрыть, сделать действенным это измерение —
в том, чтобы «обожиться», приблизиться к высшему совершенству.
И в этом движении к совершенству человек не только преображает
самого себя, он преображает всю реальность, становится центром реальности и приходит в особое состояние гармоничного единства с бытием. Этот философский принцип Достоевский ясно выражает через
образы двух своих самых известных героев-идеологов — Кириллова
из романа «Бесы» и старца Зосимы из «Братьев Карамазовых».
Кириллов представлен Достоевским как человек наиболее далеко прошедший по пути раскрытия в себе божественного содержания,
присущего каждой человеческой личности; он оказывается реальным мистиком, способным пребывать в особых состояниях невероятной, сверхъестественной гармонии. «Есть секунды, их всего зараз
приходит пять или шесть, — говорит Кириллов Шатову, — и вы вдруг
чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой.
Это не земное; я не про то, что оно небесное, а про то, что человек
в земном виде не может перенести. <...> Это чувство ясное и неоспоримое. Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: да,
это правда. Бог, когда мир создавал, то в конце каждого дня создания
говорил: “Да, это правда, это хорошо”. Это... это не умиление, а только так, радость. <...> В эти пять секунд я проживаю жизнь и за них
отдам всю мою жизнь, потому что стоит»11.
С еще большей прямотой та же идея выражена старцем Зосимой.
11 Достоевский Ф. М. Бесы // Достоевский Ф. М. Собр. соч. в 15 т. СПб.,
1988-1996. Т. 7. С. 550.
82
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
Сначала он рассказывает о своем рано умершем брате и повторяет
главную мысль, которую тот внушил ему: «...жизнь есть рай, и все
мы в раю, да не хотим знать того, а если бы захотели узнать, завтра
же и стал бы на всем свете рай»12. Затем он повторяет ту же мысль
в своих проповедях: «...посмотрите кругом на дары божии: небо ясное, воздух чистый, травка нежная, птички, природа прекрасная
и безгрешная, а мы, только мы одни безбожные и глупые не понимаем,
что жизнь есть рай, ибо стоит только нам захотеть понять, и тотчас
же он настанет во всей красоте своей, обнимемся мы и заплачем»13.
Важно отметить, что здесь безбожие человека отождествляется
с неспособностью «захотеть понять», что жизнь есть рай, т. е. вера
в Бога в своей сущности сводится к тому, что демонстрирует Кириллов — к внутреннему преображению человека, открывающему его
неразрывное единство с миром и с другими людьми и выявляющему
божественное основание бытия человека и мира. В этом смысле «захотеть понять» — это, конечно же, не обычное интеллектуальное понимание, а мистическое усилие, раскрывающее неведомые глубины
личности; его в нашем мире могут осуществлять лишь единицы (хотя
призваны осуществить — все), именно они становятся пророками
и святыми. Как и Достоевский, Тарковский изображает в своих фильмах именно таких людей.
Центральная идея исихазма — идея сосредоточения человека
в своем духовном центре — у Тарковского естественно сочетается
с упоминавшимся выше требованием к обретению способности
«вслушивания» и «всматривания» в мир; через эту способность душа
приводится в состояние «созвучия» с миром, душа и мир открываются друг для друга, и это является основой для последующих усилий,
направленных на привнесение в мир большего смысла и гармонии.
Выразительнейшим примером такого сосредоточения человека является сцена «созерцательного молчания» в эпизоде «Скоморох».
Три монаха, прячась от дождя, заходят в какой-то сарай или хлев,
где отдыхающих крестьян развлекает скоморох, и становятся центром всеобщего внимания, вызывая одновременно и любопытство,
и определенную неприязнь своей «инаковостью» (выражающейся
даже в цвете одежды: монахи одеты в черное, в то время как большинство крестьян — в белое). Присев у стены, монахи погружаются
в полудрему и молча оглядываются вокруг; и в этот момент все вокруг
как бы замирает. Только что выкрикивал свою задиристую, непристойную песню скоморох (его играет Ролан Быков), громко смеялись
крестьяне, блеяла коза; и вдруг все звуки замолкают, придавленные
12 Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. Собр. соч.
в 15 т. Т. 9. С. 324.
13 Там же. С. 336.
83
ГЛАВАМ
«Страсти по Андрею»: философия жертвенности
молчанием, временной ритм которого задает музыкальное сопровождение — тихая и пронзительная тема, исполняемая женским голосом. Андрей Рублев внимательно и в тоже время как-то рассеянно
смотрит на скомороха; тот, постояв под дождем, возвращается в помещение и садится посредине этого небольшого пространства. После этого камера, на мгновение остановившись на Андрее, начинает
круговое движение, фиксируя все происходящее, и в конце, совершив
полный поворот, возвращается к Андрею14.
Могло бы показаться, что это панорамное изображение соответствует перемещению взгляда Андрея, рассматривающего окружающих его людей. Однако это очевидно не так. В начале этого фрагмента мы видим, что взгляд Андрея направлен немного в сторону и вниз
(возможно, он смотрит на скомороха, который находится за кадром),
причем этот взгляд словно бы обращен внутрь, кажется, что Андрей
вовсе и не видит никого, настолько он погружен в себя. Последующее
изображение — это не чья-то субъективная точка зрения на мир, не
«отражение» мира в сознании персонажей фильма или его зрителей,
это некоторая форма явленности мира — точнее, маленького «мирка», отгороженного от «большого» мира дождем — в его собственном
объективном бытии, которое раскрылось в совершенно новом содержании, в небывалой непосредственности, цельности, полноте
и гармонии, причем это раскрытие оказалось возможным благодаря
тому, что Андрей в акте духовной концентрации, осуществленной им
с помощью усилия чистого созерцания (молитвенного созерцания, по
терминологии исихастов), внес в этот фрагмент бытия новый смысл.
Отметим, что такой же точно прием круговой панорамной съемки,
в начала и в конце которой мы видим одного и того же героя, используется и в других фильмах Тарковского (в «Солярисе» и в «Ностальгии»)
и означает примерно то же самое: духовное усилие героя по «собиранию» себя «центрирует» окружающее бытие и налагает на человека
абсолютную ответственность за возникшую локальную целостность и осмысленность мира, в который он вошел и «демиургом» которого стал. Интересно, что в «Сталкере» очень похожее круговое
движение, локально замыкающее мир, герои (Сталкер и Писатель)
совершают в реальном пространстве, возвращаясь в ту же точку, из
которой первоначально вышли (попав в «ловушку» Зоны). Однако
в абсурдном мире Зоны, это реальное круговое движение имеет прямо противоположный смысл по отношению к только что описанному:
оно свидетельствует о негативной самостоятельности мира по отношению к человеку, об упорстве его деструктивных тенденций.
14 Подготавливая прокатный вариант фильма, в этом важном эпизоде Тарковский произвел ряд сокращений, в частности, было удалено начало фрагмента
с круговым движением камеры, так что «круг» оказался незамкнутым.
84
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
В «Страстях по Андрею» рассматриваемый фрагмент имеет достаточно ясный смысл, который помогает понять подобные фрагменты и в следующих фильмах режиссера. Он выражает раскрытие
и просветление мира, его преображение, ставшее возможным благодаря созерцательной концентрации духовных сил личности. Нужно
подчеркнуть, что произошедшее преображение носит объективный
характер, ничего общего не имеет с односторонностью и субъективизмом идеального представления о мире в сознании человека. Предстоящее перед нами изображение — это как бы видение мира некими сверхчеловеческими духовными очами, сверхчеловеческим
духовным зрением. И если можно говорить о «субъекте» этого видения, то этот субъект — Бог, но не тот Бог, о котором говорит ортодоксальное христианство, а Бог как внутренняя цельность мира
и человека, потенциально заложенная в них и способная быть «раскрытой» только с помощью духовных усилий человека, осознающего
себя центром всей реальности — не в смысле одной точки или частной позиции, а в смысле вездесущей основы и цели бытия. Именно об
этом говорили многие философы-мистики, например, Николай Кузан-
ский, один из наиболее притягательных для русской философии конца XIX — начала XX века мыслителей: Бог есть окружность и центр,
который нигде и везде. Проводя эту параллель необходимо еще раз
подчеркнуть характерную черту мировоззрения Тарковского. В отличие от влиятельной мистико-пантеистической концепции Бога,
в которой вездесущий «центр» бытия предполагается уже существующим, для Тарковского важно, что этот центр возникает только при
осуществлении духовных усилий человека по преображению, «обо-
жению» мира. В мире есть божественное начало, но его присутствие
только потенциально и требует для своего «освобождения» усилий
человека. «Бог есть, если есть человек, без человека Бог не мог бы
просуществовать ни одного мгновения»; это еретическое убеждение
немецких мистиков (Мейстер Экхарт, Ангел Силезиус, Якоб Бёме),
которое неоднократно повторяет в своих трудах Н. Бердяев15 и которое составляет идейный стержень философских построений многих
русских философов, Тарковский мог бы поставить эпиграфом ко всем
своим фильмам, и в первую очередь — к «Страстям по Андрею». Но
при этом он должен был бы сделать важное добавление: «И мир не
мог бы просуществовать ни одного мгновения без человека, без наших духовных усилий по его просветлению, приданию ему смысла».
При этом нужно учесть еще один момент. «Обожение» человека,
превращение его в сверхсубъективный центр бытия, имеющее результатом преображения бытия, не может быть делом обособленного
15 См.: Бердяев Н. А. Философия свободного духа. М., 1994. С. 42, 132, 163
и др.
85
ГЛАВА II
«Страсти по Андрею»: философия жертвенности
человека, это достигается только через совместные усилия людей,
в той или иной степени осознающих эту цель, способствующих (сознательно или бессознательно, явно или неявно) ее реализации.
В этой связи вспомним, что рассматриваемый фрагмент фильма начинается с кадров, в которых Андрей Рублев и скоморох по очереди и достаточно внимательно смотрят друг на друга. Этот момент особенно
подчеркивался в сценарной разработке фильма, и по поводу обмена
взглядами между героями, после которого «искра пробежала между
ними, и они что-то поняли», между режиссером и исполнителем роли
скомороха возник определенный конфликт16. Исполнитель оценивал
ситуацию с точки зрения здравого смысла и полагал, что между скоморохом и монахом не могло возникнуть какого-либо духовного контакта, в то время как режиссер придавал сцене некий сверхэмпири-
ческий смысл и не считал необходимым придерживаться привычных
психологических стереотипов.
Этот обмен взглядами словно иллюстрирует слова Андрея, произнесенные в одном из главных фрагментов фильма, посвященном
истории Иисуса Христа: «Не получается что-нибудь или устал, намучился, и вдруг с чьим-то взглядом в толпе встретишься, с человеческим, и словно причастился, и всё легче сразу...» Причащение — это
соединение с Богом, с совершенным бытием; в этих словах Андрея
проступает глубокий и совершенно неортодоксальный смысл: встречаясь взглядом с другим, человек обретает новую опору в жизни, он
обретает ту степень уверенности и ответственности, которые доступны только в единстве с абсолютным источником бытия.
Не менее характерен фрагмент разговора между Андреем и Даниилом Черным (его роль исполняет Николай Гринько) перед уходом
Андрея в помощники к Феофану (эпизод «Феофан Грек»). «Я ведь
твоими глазами на мир гляжу, твоими ушами слушаю, твоим сердцем...» — говорит Андрей и тем самым раскрывает одну из важнейших граней своей человеческой гениальности — свою способность
почувствовать духовное единство с другим человеком, почувствовать ту полумистическую связь, которая объединяет людей помимо
реальных усилий общения и составляет основу их индивидуального бытия, точно так же как и основу возможности их преображения,
«обожения».
Русская философия XIX-XX вв. очень много места уделяла этой
стороне человеческой сущности. Еще славянофилы (А. Хомяков
и И. Киреевский), говоря о соборной природе русского православия,
имели в виду не просто какие-то особенности церковной жизни и церковного догмата, но важнейшую онтологическую характеристику
человека как такового. По Хомякову, все — и верующие и неверую¬
16 См.: Быков Р. Философ кинематографа // О Тарковском. С. 172.
86
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
щие — в равной степени причастны мистической Церкви, единому
духовному организму, который не явлен с той же очевидностью, как
явлена наша материальная раздробленность и разъединенность, но
без учета реальности которого невозможно объяснить ни духовное
содержание человеческой культуры, ни общественную организацию,
ни закономерности развития отдельного человека, ни ход истории.
Все последующие философы религиозного направления, начало которому положили славянофилы, в различной форме обосновывали
ту же самую идею о некотором исконном полумистическом единстве
всех людей (сам Хомяков утверждал, что, будучи сверхвременным,
оно, в принципе, включает в себя также души умерших и еще не рожденных). Каждый человек, согласно этой концепции, только в одном
измерении своего бытия предстает как ограниченное в пространстве
и времени материальное тело, в другом, более важном, более существенном измерении он оказывается неотъемлемой составляющей
некоторой общечеловеческой цельности, которую различные мыслители понимали по-разному: как мировое сознание (П. Чаадаев),
как Софию, душу мира (Вл. Соловьев), как «тварное всеединство»
(Л. Карсавин) и т. д. Некоторые считали эту общечеловеческую цельность уже божественной, совершенной по своей сути (например, Хомяков), другие более реалистично полагали, что в своем наличном
состоянии человечество еще далеко от достижения божественного
идеала. Особенно ясно второй вариант выразил Достоевский, и, как
мы увидим дальше, метафизика Тарковского безусловно ближе именно к такому пониманию единства людей.
При всем разнообразии представлений о структуре и степени совершенства общечеловеческой цельности, всех приверженцев философской концепции соборности объединяло убеждение в первостепенной важности этого единства для эмпирической жизни каждого
человека, особенно в отношении таких феноменов, как нравственность и религиозное чувство. В качестве примера достаточно вспомнить историю Раскольникова из романа Достоевского «Преступление
и наказание». Здесь указанная тема является одной из главных. Своим преступлением Раскольников разорвал ту духовную взаимосвязь
с другими людьми, которая позволяет человеку иметь опору в жизни,
разрушил сверхэмпирическое единство людей; в этом и заключается причина того кризиса, который переживает герой; изображая его,
Достоевский «от противного» доказывает существование указанного
сверхэмпирического единства.
Это убеждение оказалось одним из самых принципиальных
и характерных для нашей национальной духовности, его преломление можно найти не только в русской религиозной философии, но
и в самых различных проявлениях русской культуры XIX и XX вв.,
87
ГЛАВА II
«Страсти по Андрею»: философия жертвенности
даже в тех, которые не несут на себе никаких следов православной
религиозности. Не удивительно, что оно безусловно присутствует
и во взглядах Тарковского, который является художником прямо
связанным с традициями русской философии. В фильме «Страсти по
Андрею» этот мотив достаточно явно присутствует во всех рассуждениях Андрея, где он говорит о судьбе страны, о необходимости преодолеть разделение и смуту в народном «организме», о способности
народа в целом идти к Богу, к совершенству и т. п. Однако этот явный
срез философской концепции соборности, прямо выраженный в словах, слишком банален, он имеет вторичное значения в художественном мире Тарковского. Гораздо важнее, что та же самая концепция
и то же самое убеждение, прочувствованные и осмысленные во всей
их глубине, определяют структуру важнейших образов, задают важнейшие черты изобразительного ряда фильма.
Вспомним еще раз фрагмент «молчаливого созерцания» из эпизода «Скоморох». Происходящее здесь преображение мира, выявляющее в нем новый смысл, вносящее в него относительную гармонию
и цельность, осуществляется через «раскрытие» бытия некоторому
«центру», не имеющему пространственной локализации, но пронизывающему и связующему все его элементы; это преображение возникло из внутренней духовной концентрации главного героя, Андрея, которая, в свою очередь, как-то вырастает из обмена взглядами между
Андреем и скоморохом. Можно сказать, что из духовной концентрации Андрея и его духовного контакта со скоморохом в этом локальном «мирке» родилась «частица» Бога, божественного бытия;
став абсолютным центром этого «мирка», она связала его в новое совершенное единство, причем каждый человек ощущает себя и частью
и центром этого единства. Панорамное, круговое изображение преображенного «мирка» все пронизано чувством земной гармонии, которая бесконечно далека от абсолютной, божественной гармонии, но
которая тем не менее на мгновение поднимает его над обыденностью
и рутиной времени и переносит в вечность, сохраняет достигнутое
в нем совершенство, превращая его в еще один маленький оплот грядущей абсолютной гармонии мира.
Нам кажется, что этот эпизод, обладающий чрезвычайно глубоким и нетривиальным смыслом, можно рассматривать как попытку
Тарковского дать художественное выражение исихастскому мировоззрению, которое он воспринял через творчество Андрея Рублева
и которому дал очень оригинальное преломление в духе философских
концепций XX в. Самое главное отличие его представлений от исходной средневековой версии исихазма заключается в том, что он отказывается считать Бога трансцендентным миру и человеку. В «классическом» византийском исихазме человек воспринимает только
88
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
«энергии» Бога, присутствующие в мире, сам же Бог при этом остается за пределами мира и недоступен человеку «по сущности». В мировоззрении Тарковского, выраженном в фильме «Страсти по Андрею»,
человек также должен «уловить» божественные энергии, разлитые
в мире, но, уловив их, он из этих энергий сам «выстраивает» Бога,
который постепенно возникает в земной действительности и,
пронизывая ее, превращает в гармоничную и совершенную. Вторая
черта представлений Тарковского, отличающая их от исходной версии исихазма, — это отказ от характерного исихастского индивидуализма. Духовное сосредоточение, духовная концентрация человека
плодотворна не сама по себе, а только в ее «раскрытии» на других,
в соединении обретенного в себе духовного основания с такими же
духовными основаниями других личностей; только в таком объединении в мире рождается Бог.
Именно это происходит в эпизоде «молчаливого созерцания». Основой земного совершенства «мирка», «малого» мира, является единство обитающих в нем людей, его цельность словно поддерживается
сосредоточенными взглядами тех, кого мы видим в кадре: скомороха, девочки «с лицом мадонны»17, мальчиков, задумчиво смотрящих
в разные стороны, крестьян, тихо переговаривающихся, занятых
едой и приглушенно смеющихся при воспоминании о шутках скомороха, монахов. После того как камера завершает круговое движение
и вновь фиксирует лицо Андрея, он поворачивается, и мы сквозь маленькое окно в бревенчатой стене видим «большой» мир, затянутый
дождем. Словно для контраста с той относительной гармонией, которая установилась внутри, в «малом» мире молчаливого общения,
«причащения» людей, здесь развертывается странная, нелепая драка пьяных мужиков, один из которых размахивает огромной жердиной, но постоянно падает и промахивается мимо своего противника.
И если эта драка свидетельствует только об элементе абсурдности,
таящемся в «большом» мире, то последующее появление дружинников князя — это уже демонстрация его грозных, разрушительных
сил, которые безжалостно уничтожают локальную гармонию «малого» мира, не защищенного от вторжения мирового хаоса. Это вторжение начинается с кадра, в котором мы в последний раз видим образ
земной гармонии, возникшей в маленьком сообществе людей, причем
теперь изображение статично и фронтально: оно дано с точки зрения
внешнего, «большого» мира, собирающегося поглотить этих людей
и разрушить их единство; это статичное изображения резко контрастирует с предыдущим образом «мирка», данным как бы изнутри, из
его духовного сверхэмпирического и сверхчеловеческого «центра» —
с «точки зрения» воссиявшей здесь «частицы» Бога. Теперь в центре
17 По воспоминанию Р. Быкова; см.: там же. С. 173.
89
ГЛАВА II
«Страсти по Андрею»: философия жертвенности
гармонии «малого» мира оказывается скоморох, поскольку именно он
дал основу для того минутного единения людей, через которое произошло преображение их бытия.
Впрочем, вторжение «большого» мира оказывается противоречивым: в нем проявляются не только разрушительные силы,
но и элементы гармонии, созвучной гармонии «малого» мира. Когда дружинники входят в хлев, где спрятались от дождя крестьяне
и монахи, на мгновение выходит солнце и освещает скомороха, погружает его в поток света, подобный световым столбам, в которых
шествуют святые на древнерусских иконах. Это как бы свидетельство непреходящей, абсолютной значимости произошедшего «локального» преображения мира: гармония, возникшая в его маленькой части имеет значение для всего мира и вливается как еще один
световой луч в его всеобщую, хотя и относительную гармонию.
Затем мы видим, как откуда-то сверху, кудахча, нелепо падает курица, и перед скоморохом медленно опускаются несколько перьев.
Это еще один выразительнейший символ, часто используемый Тарковским. Громоздких, совершенно не приспособленных для полета
птиц, падающих или нелепо взлетающих, мы видим также в эпизоде «Праздник» и в эпизоде «Набег». В «Страстях по Андрею» они
обозначают стихийную жизнь природы, неподвластную человеку,
ускользающую от его стремления привнести совершенство в мир, но
в то же время необходимую и миру, и человеку. Падающая птица как
бы нарушает свое предназначение и воспринимается как элемент
дисгармонии, неправильности бытия, как знак некоторой «катастрофы», как предвестник беды; этот образ появляется в тех случаях,
когда в человеческую жизнь врывается непокорная какому-либо
порядку мощь природы (в эпизоде «Праздник») или когда в ней открыто начинают действовать деструктивные, разрушительные силы
(эпизоды «Набег» и «Скоморох»).
С другой стороны, падающее с неба, откуда-то сверху перо во всех
фильмах Тарковского — это знак избрания героя, отметка его особого, трагического предназначения. Два пера, опускающиеся перед
скоморохом, в тот момент, когда входят дружинники, и его заливает поток света, обозначают его избрание на мученичество. Только
что он был центром, со-творцом гармонии «малого» мира, только что
он был причастен «частице» Бога, и теперь с этой высоты он уже не
может спуститься на уровень обыденного существования. Став «частицей» Бога, став творцом новой полноты бытия, он должен принять
всю судьбу Бога — стать жертвой, приносимой людьми и ради людей.
Скоморох не отрекается от своего предназначения, он сам встает
навстречу дружинникам, добровольно идет навстречу своему мученичеству. Перед тем как выйти в «большой» мир навстречу своей Гол¬
90
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
гофе, он раскидывает руки и на мгновение возникает символ, обозначающий тот путь, по которому люди будут проходить без конца вслед
за тем, кто прошел его первым. Позже Голгофа предстанет уже в своем исходном смысле в видении Андрея, и станет ясно, что главный
смысл фильма связан со стремлением Тарковского показать, что Голгофа имеет не только и не столько этический, нравственный смысл,
сколько смысл метафизический: жертва себя миру и людям — это
не подвиг и не героический жест, требующий какого-то сверхчеловеческого мужества, это судьба каждого из нас, это необходимость, заложенная в самом бытии, в его несовершенстве и в его возможности
стать более совершенным через человека.
В последнем эпизоде фильма по этому же пути пойдет Бориска,
и перед ним также упадет откуда-то сверху трепыхающаяся птица,
роняя на него перья — знак трагического избрания; и точно так же,
начав рыть яму для колокола, он вдруг остановится, отойдет в сторону и ляжет на землю, раскинув руки; и мы с высоты увидим все тот
же символ — белый крест на черной земле.
Белое перо отмечает и героев других фильмов Тарковского, особенно выразительно неоднократное повторение этого знака в «Ностальгии», где седая прядь в волосах Андрея Горчакова приобретает
значение такой отметины, предсказывающей грядущее самопожертвование героя.
Смысл акта самопожертвования и его значение в мире становятся до конца явными только на фоне полностью раскрывших себя деструктивных сил бытия и через усмотрение истоков этих сил в самом
человеке, в его своевольном дерзании. В отображении этой «темной»
сферы художественные образы Тарковского оказываются не менее
выразительными, чем в демонстрации возможной гармонии мира.
5. Человек как источник зла
Одной из причин, по которой фильм Тарковского долго не мог
выйти на экраны, был чрезмерный, как считали чиновники Госкино, натурализм некоторых сцен. Хотя уже спустя 10-15 лет после
создания «Страстей по Андрею» эстетика жестокости стала нормой
для европейского киноискусства, фильм Тарковского до сих пор поражает умением минимальными средствами создать образы, которые
заставляют заглянуть в самые глубокие бездны человеческой души.
Особенно яркую «феноменологию» зла дает эпизод «Набег», здесь
Тарковский показывает предельно запоминающиеся картины раскрепощенного зла.
Как мы уже говорили, для Тарковского человек — это не просто
часть мира, это сущностный, метафизический центр реальности.
91
ГЛАВА II
«Страсти по Андрею»: философия жертвенности
Весь мир и все в мире имеет смысл и значение, обладает какой-то
степенью совершенства только во взаимосвязи и взаимодействии
с человеком. Именно поэтому «возрастание» гармонии, воссияние
«частиц» Бога в бытии возможно только через духовную концентрацию личности, через выявление и расширение мистической взаимосвязи людей, через любовь, преодолевающую ограниченность
личности и раскрывающую все заложенные в ней возможности.
Но верно и обратное: все несовершенства и недостатки мира, всё
могущество сил разрушения и зла также, в конечном счете, проистекают из человека, имеют истоком и причиной неправильное
применение им своей свободы, его стремление к эгоистическому
обособлению от других людей и от мира и к подчинению себе всего
окружающего бытия.
В последующих своих фильмах Тарковский придет к более сложному пониманию причин несовершенства и зла, он будет искать
в самой действительности вне человека разрушительные, иррациональные силы, по отношению к которым человек может занять
либо позицию сопротивления, борьбы, либо позицию покорности
и даже содействия; именно последнее приводит к разгулу хаоса
и зла. В «Страстях по Андрею» он решает эту проблему проще: здесь
мир, окружающий человека, предстает исключительно со стороны
его гармонии. В нем заложена возможность движения к абсолютному
совершенству, но сам он не способен реализовать ее, и только в этом
его коренной метафизический недостаток. Зато в человеке заложены
как возможности совершенствования, так и возможности движения
к хаосу и дисгармонии, человек сам выбирает на какую сторону он
встанет, что выберет.
В этом воззрении Тарковский оказался непосредственным преемником давней этической традиции русской философии, родоначальником которой был П. Чаадаев. Согласно Чаадаеву, мир, в котором мы
живем, вполне совершенен, в нем самом нет никаких существенных
причин для зла; только человек, используя свою негативную свободу (свободу как произвол), вносит элементы дисгармонии и разделения в бытие, в результате чего в мире начинают противостоять друг
другу материальное и духовное начала, добро и зло. Исходная и вполне гармоничная целостность мира (мировое всеединство) разрушается и превращается в предстающий перед нами несовершенный мир.
«Да, я свободен, — пишет Чаадаев, — могу ли я в этом сомневаться?
<...> Но с идеей о моей свободе связана другая ужасная идея, страшное, беспощадное следствие ее — злоупотребление моей свободой
и зло как его последствие. <...> Мы только и делаем, что вовлекаемся в произвольные действия и всякий раз потрясаем все мироздание.
И эти ужасные опустошения в недрах творения мы производим не
92
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
только внешними действиями, но каждым душевным движением,
каждой из сокровеннейших наших мыслей»18.
Похожие взгляды на источники и природу зла мы находим
и у других русских философов XIX в.: В. Одоевского, А. Хомякова,
Ф. Достоевского. Только Вл. Соловьев несколько сгладил остроту
этой концепции, признав метафизическим источником зла свободу
сверхэмпирического «существа» — Души мира, Софии, и тем самым
сняв значительную долю ответственности с эмпирической личности.
Однако у некоторых последователей Соловьева убеждение в том, что
источник зла находится в душе эмпирического человека, стало еще
более острым. Об этом писали Н. Бердяев, JI. Карсавин, JI. Шестов.
Но наиболее резко эту позицию сформулировал Иван Ильин в известной книге «О сопротивлении злу силою» (1925). Чуть ниже мы
вернемся к этой теме.
В «Страстях по Андрею» Тарковский полностью разделяет эту
точку зрения. Пытаясь разобраться в происхождении зла, творимого
людьми, он создает выразительные и очень глубокие образы, которые
не просто демонстрируют формы явления зла, но раскрывают его психологическую и метафизическую «механику».
Эта тема начинает звучать уже в самых первых эпизодах фильма.
Когда скомороха хватают и увозят дружинники князя, мы еще не знаем того, что выясниться в самом конце фильма. В финале скоморох
снова появится и расскажет, что просидел в яме 10 лет, причем сразу,
еще тогда, когда его схватили, понял, что именно монахи навели на
него дружинников князя. Сам он был уверен, что его предал Андрей
Рублев, но на деле это был Кирилл, который куда-то выходил, пока
его товарищи отдыхали вместе с крестьянами.
В следующем эпизоде «Феофан Грек» Тарковский продолжит
размышлять о происхождении зла из эгоистического устремления
человека к господству — из присущей ему «воли к власти». В центре
событий здесь вновь оказывается Кирилл. Он приходит к Феофану
Греку, чтобы познакомиться с ним и посмотреть его работы. В конце
концов мы начинаем понимать, что приходит он с тайным желанием
остаться у Феофана для совместной работы. Феофан догадывается об этом и приглашает Кирилла стать его помощником. Вот здесь
и проявляется со всей откровенностью глубоко скрытые доселе негативные черты характера Кирилла. Соглашаясь идти к Феофану
в помощники, она ставит ему — признанному мастеру, которого все
русские иконописцы рассматривают как Учителя, — условие: «Работать я задаром буду, но только ежели ты сам за мной в Андроников
приедешь, сам при всей общине, при владыке самом упросишь меня
18 Чаадаев П. Я. Философические письма // Чаадаев П. Я. Поли. собр. соч.
и избр. письма. В 2 т. М., 1991. Т. 1. С. 375-376.
93
ГЛАВА II
«Страсти по Андрею»: философия жертвенности
к тебе в помощь идти, при братии всей, при Рублеве Андрее. Вот тогда я тебе как раб, как собака служить буду до тех пор, пока не помру».
Невероятная, поистине дьявольская гордыня оказывается самым
главным качеством Кирилла: он настаивает, чтобы Феофан просил
его стать помощником и при этом хочет, чтобы это видел и слышал
Андрей Рублев, с которым он вместе прожил и проработал много лет.
Понимая, что и Феофан и Андрей бесконечно превосходят его в их
общем творческом предназначении, он тем не менее желает, чтобы
хотя бы во внешнем плане, во мнении окружающих они признали его
равным себе.
Когда из Москвы, от Феофана, приезжает гонец и, обращаясь
к Андрею Рублеву, именно ему передает приглашение от Феофана
идти помогать ему в росписях Благовещенского собора, Кирилл воспринимает это как личное оскорбление, как крах всех своих надежд
на обретение жизненной опоры через признание и уважение от человека, которого он считает для себя образцом.
Кирилл до такой степени теряет все привычные жизненные
устои, что решается на полный разрыв с прежней жизнью: он отрекается от монашеского звания и, уходя в мир, проклинает монашескую
братию, с которой делил кров. Пытаясь объяснить свой поступок, он
говорит о меркантильности монахов, об утрате ими чистоты веры, однако все это выглядит как попытка обмануть самого себя; подлинная
причина его ухода имеет глубоко личный и эгоистический характер,
он сам проговаривается об этом: «Может и я бы молчал и терпел всю
мерзость эту, если бы талант был у меня, да что там талант — хотя бы
небольшая способность иконы писать. Не дал Бог таланта, слава тебе
Господи, и счастлив я, что бездарен, потому что честен я и перед Богом чист». Покидая монастырь, проходя через какую-то невидимую
границу, отделяющую его новую жизнь от старой, Кирилл, как и другие герои Тарковского, спотыкается об эту невидимую границу и падает. В его словах к монастырской братии просвечивает неприкрытая
ненависть, и она находит себе в конце концов открытое выражение
в реальном зле: он забивает до смерти палкой свою собственную собаку, которая побежала вслед за ним из монастыря.
Через несколько лет, во время наступившего голода, он вернется в монастырь и будет униженно просить владыку простить его
и принять обратно. Но сколько злых деяний он совершил за эти годы
в миру, после того как темное начало в его душе одержало верх над
светлым?
Эгоизм и гордыня живут в каждом человеке, хотя не в каждом
они приводят к победе злого начала, как это случилось с Кириллом.
Даниил также поддается чувству зависти, когда узнает, что Феофан
пригласил себе в помощники именно Андрея, а не его. Он отказыва¬
94
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
ется идти вместе с Андреем, т. е. идет на разрыв отношений, которые
связывали их много лет. Но все-таки Даниил оказывается способным
подавить негативные чувства, поднявшиеся в его душе. Ему помогает
в этом сам Андрей Рублев: он приходит к Даниилу и признается, что
глубоко страдает от возникшей между ними размолвки. Он говорит
о том, что не может жить без Даниила: «Я твоими глазами на мир гляжу, твоими ушами слушаю, твоим сердцем...» Андрей и Даниил каются друг перед другом за возникшие в них злые чувства — гордыню
и зависть, и примиряются. Позже мы снова видим их вместе, когда
они работают над росписями Успенского собора во Владимире.
В конце фильма постаревший Кирилл, снова прижившийся в Андрониковом монастыре, также делает попытку покаяться перед Андреем; он признается не только в том, что ушел в мир из-за зависти
к таланту Андрея, но даже в том, что именно он выдал дружинникам
скомороха, т.е. совершил откровенную подлость. Но попытка покаяния, которая должна была продемонстрировать победу светлого
начала в его душе, наглядно показывает, что в нем по-прежнему господствует темное начало, а главным чувством в отношении Андрея
остается все та же зависть. «Завидовал я тебе, сам знаешь как, —
говорит Кирилл, — так глодала меня зависть, это что просто ужас,
все во мне изнутри ядом каким-то поднималось. Невмоготу стало,
я и ушел, из-за тебя ушел, истинный Бог, из-за тебя. А как вернулся и узнал, что ты писать бросил, — успокоился, легче как-то стало.
А потом забыл...»
Начав искренний рассказ о своих чувствах, он не удерживается
на позиции раскаяния, темные чувства вновь властно поднимаются
в его душе и легко одерживают верх над светлым началом. Продолжает
Кирилл уже в тоне обвинения: «Да что я каюсь-то, нечего мне перед тобой каяться, ты и сам грешник великий, еще поболее меня. Да, да, поболее; я что — червь ничтожный, с меня и спроса нет, а вот ты... Ты что за
святые дела какие свой талант от Бога получил? В чем заслуга твоя?..»
И затем говорит, что знает о том, что Андрей отослал уже третьего гонца, который привез приглашение от митрополита Никодима
идти расписывать новый Троицкий собор. И снова признается, что
испытывает от этого радость, рожденную завистью: «...в душе моей
грязной, там, в глубине самой, радостишка такая маленькая, тоненькая шевельнулась...»
Но вслед за этим в нем снова просыпается что-то светлое и благородное, и он в прямом противоречии с только что сказанным начинает совестить Андрея за то, что он попусту растрачивает свой талант:
«Ступай в Троицу, пиши и пиши и пиши; ступай, не бери греха на
душу, страшный это грех — искру Божию отвергать...Ты что в могилу
хочешь свой талант забрать?»
95
ГЛАВА II
«Страсти по Андрею»: философия жертвенности
Но и это оказывается не последним движением «маятника» его
души. Поскольку Андрей молчит, ничего не отвечая ни на его обвинения, ни на его призывы (он принял обет молчания и молчит уже
много лет), Кирилл понимает, что он не изменит своего решения и не
примет приглашения митрополита. И в его душе в связи с этим снова
«шевелится радостишка»; он не говорит об этом, но мы видим опечаток этого темного чувства на его лице, когда он уходит от Андрея.
Изображение безысходной борьбы светлой и темной сторон личности Кирилла, не только отравляющей его собственное существование, но и выплескивающейся наружу в виде совершаемого им зла,
оказывается первым примером той «аналитики» зла, которую осуществляет в своем фильме Тарковский. С еще большей наглядностью
режиссер выражает эту тему в другой сюжетной линии фильма —
через изображение взаимоотношений князей-близнецов, Великого
и Малого князя.
Прослеживая неразрешимое, бессмысленное и разрушительное противостояние братьев-близнецов, похожих как две капли
воды, Тарковский создает выразительный символ иррациональной
противоречивости, антиномичности человека — человека вообще,
любого человека, вне зависимости от его социального положения.
В критических комментариях к фильму обычно обращается внимание на историческую подоплеку мотива противостояния двух братьев: одной из главных трагических особенностей русской истории
XIII-XV вв. была постоянная междоусобица князей, боровшихся за
власть и за расширение своих территорий. Однако для отражения
этой темы вовсе не нужно было делать братьев-князей абсолютно
похожими друг на друга. Используя одного и того же актера (Юрия
Назарова) в качестве исполнителя обеих ролей, Тарковский заставляет нас постоянно разгадывать загадку: кого из братьев мы видим.
Несомненно, абсолютное сходство двух героев и во внешности, и в характере, и в поступках было необходимо режиссеру для того, чтобы
подчеркнуть метафизическую двойственность человека, порождающую стремление к парадоксальному «преодолению» самого себя,
а часто и к саморазрушению.
«Негативная» диалектика души, самопротиворечивость человеческого бытия, неустанно стремящегося к цельности и определенности и
не находящего их никогда, — эта тема стала одной из ведущих в философии XX в. (особенно в экзистенциализме); у Тарковского она получает художественное воплощение через образы двойничества человека.
Двойничество братьев-князей в «Страстях по Андрею» — это не первый подход режиссера к данной теме. «Раздвоение» главного героя происходит уже в его первом фильме, где мы видим и реального Ивана —
безжалостного борца и мстителя, и его идеального двойника — оби¬
96
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
тателя снов и воспоминаний. Условность того плана, который связан
со снами Ивана, сглаживает остроту проведения темы двойничества,
однако существует любопытное свидетельство, показывающее, что
уже в первом своем произведении Тарковский пытался реализовать
ее в более резкой форме. Сохранился текст выступления Тарковского
перед художественным советом, который должен был утвердить план
фильма; здесь режиссер так излагает свое видение финала: «У нас был
замысел снять такой эпизод — бежит мальчишка за своим детством
и догоняет его. Был такой вариант: Иван играет в прятки и находит
самого себя в военных сапогах и свитере. Этот второй мальчик бежит
за тем, первым, и пытается его догнать, и на этой погоне мы обрываем.
Но нам показалось, что это тяжеловато и следует дать какой-то светлый, радостный сон»19. Если бы такой эпизод вошел в фильм, «раздвоение» Ивана, делающее для неге? невозможным нормальное, обыденное
существование, приобрело бы предельно ясное символическое воплощение (может быть, в силу этого слишком ясного смысла Тарковский и отказался от этой сцены), акценты были бы в большей степени
смещены в сторону внутренних противоречий в душе Ивана; в то же
время в окончательной версии фильма главное внимание обращено на
конфликт героя с миром. Впрочем, в фильме можно найти частичное
воплощение указанного замысла режиссера: во время игры в войну,
когда Иван видит себя среди русских пленных, ожидающих расстрела, они предстают ему в образе двойников его самого и его матери.
И после «Страстей по Андрею» эта тема осталась одной из самых
глубоких и загадочных у Тарковского. Наиболее заметна она в «Со-
лярисе» и «Зеркале». Вся проблематика «Соляриса» строится на двусмысленности бытия «космической» Хари, которая, постепенно осознавая несамодостаточность своего «воплощения», и сама вынуждена
искать «подлинную» Хари, и заставляет Криса решать головоломку
своего повторного существования. В финале фильма эта тема достигает кульминации: Крис сталкивается уже с целым миром, который
является «двойником» его прошлого, а значит, и его самого, который
воспроизводит в странной, загадочной форме важнейшие составляющие его сокровенной внутренней жизни. Очень может быть, что,
снимая этот фрагмент, Тарковский вспоминал замысел игры в прятки
с самим собой, который должен был стать финалом «Иванова детства». Безусловно, оба замысла выражают одну и ту же мысль — понимание Тарковским трагической раздвоенности человеческой природы, приводящей к тому, что столкновение с самим собой может
стать для человека тяжелейшим испытанием, подобным столкновению с неведомыми и грозными силами бытия.
19 Цитируется по статье: Зоркая Н. Начало // Мир и фильмы Андрея Тарковского. М., 1991. С. 33.
97
ГЛАВА II
«Страсти по Андрею»: философия жертвенности
Художественная структура «Зеркала» также в значительной степени построена на идее двойничества. Тождество героя и его сына,
матери и жены — это не только и не столько тема «вечного возвращения», повторения во времени того, что уже было, сколько демонстрация невозможности найти свою окончательную сущность, невозможности до конца исчерпать себя, понять себя, выразить себя.
Само название фильма и постоянный мотив разглядывания себя
в зеркале также связаны с этой темой. Замкнутость временной структуры фильма подчеркивает относительность смерти и связывает тему
двойничества с темой бессмертия (что можно проследить уже в «Солярисе»); к этой теме мы вернемся ниже, поскольку она возникает
и в «Страстях по Андрею». Наконец, можно заметить, что и в «Ностальгии» два главных героя, несмотря на свою внешнюю непохожесть, по
сути, оказываются «метафизическими» двойниками, поскольку призваны к выполнению одной и той же «миссии». Тарковский дает ясный знак этого, когда показывает сон Андрея Горчакова, в котором
тот видит в зеркале не себя, а своего «двойника» — Доменико. В этом
фильме намечена и еще одна линия двойничества — Андрея Горчакова и крепостного композитора Сосновского, жизнь которого Горчаков
изучает в Италии.
Вернемся теперь к двойничеству братьев-князей в «Страстях по
Андрею». Здесь эта тема не получает еще той многообразной разработки, которую она будет иметь в последующих фильмах Тарковского, в данном случае ее смысл проще и яснее: внутренняя противоречивость и раздвоенность человека рассматривается в ее исключительно
негативном выражении, она предстает как мощный источник зла
в том случае, когда взаимодействует со стремлением, свойственной
каждой личности, к подчинению себе всего окружающего бытия,
в том числе окружающих людей, как конкурирующих центров власти. Бессмысленная борьба братьев-князей друг с другом за право
безраздельного господства наглядно доказывает пагубность радикальной деятельной позиции в мире, противостоящей созерцательному, пассивному, молчаливому приятию мира Андреем Рублевым.
В противоположность Андрею, который постоянно сомневается, выбирает, всматривается, но почти не действует, князья показаны как
целеустремленные личности, без колебаний движущиеся к определенной цели. Однако их деятельность неизбежно приводит к разрушению той относительной гармонии, которую с таким напряжением
духовных сил пытается уловить и упрочить Андрей. Два страшных
примера разрушительных последствий их поступков показывают
эпизоды ослепления артели камнерезов и набега татар на Владимир.
В первом случае приказ об ослеплении отдает Великий князь, чтобы
не позволить камнерезам создать для своего брата более красивые
98
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
хоромы; во втором случае татар к Владимиру ведет Малый князь,
чтобы отомстить старшему брату за унижение, которому тот его подверг в прошлом. В силу того, что братья внешне ничем не отличаются
друг от друга, у зрителя создается впечатление, что оба злодеяния
совершает один и тот же человек, словно преследуемый своей тенью,
ужасным призраком самого себя.
Кажется вполне вероятным, что эта тема в творчестве Тарковского была навеяна некоторыми образами Достоевского. Двойничество
братьев-князей, весьма вероятно, является непосредственным развитием темы, заданной ранней повестью Достоевского «Двойник»,
где главный герой, господин Голядкин, сталкивается со своим двойником, который поступает в его канцелярию и начинает интриговать
против старшего «брата». Достоевский придает этому устремлению
Голядкина-младшего поистине метафизический смысл; Голядкин-
старший характеризует его в обычном для него витиеватом стиле как
«неблагородное фантастическое желание вытеснят других из пределов, занимаемых сими другими своим бытием в этом мире, и занять
их место»20. Делая в своем фильме братьев-князей абсолютно похожими, Тарковский до предела сближает ситуацию их противостояния с ситуацией повести Достоевского.
Однако не менее существенно, хотя, быть может, менее заметно,
влияние на Тарковского того более тонкого проведения темы двойни-
чества, которое можно найти в романе «Братья Карамазовы». Здесь
нет буквального «раздвоения» героев, но Достоевский в каждом из
них показывает противостояние противоположных тенденций, которые борются между собой, определяя трагические перипетии судеб
героев. Причем указанные противоположные тенденции Достоевский понимает в самом радикальном метафизическом смысле: переплетенность добра и зла в поступках человека писатель объясняет
тем, что в его душе одновременно присутствуют и свой собственный
Бог и свой собственный дьявол. В этом смысле главные герои романа не поддаются разделению на строго «отрицательные» и «положительные» типы. Например, Смердякова, которого традиционно рассматривают как исключительно отрицательного персонажа, в одном
месте романа автор называет «созерцателем». Такого рода «созерцатель», утверждает дальше Достоевский, постоянно копит различные
впечатления и, накопив их достаточно за многие годы, может быть,
когда-нибудь вдруг «бросит все и уйдет в Иерусалим, скитаться и спасаться, а может, и село родное вдруг спалит, а может быть, случиться
и то, и другое вместе»21. Смердяков не ушел в Иерусалим; но судя по
20 Достоевский Ф. М. Двойник // Достоевский Ф. М. Собр. соч. в 15 т.
Т. 1. С. 238.
21 Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Т. 9. С. 144.
99
ГЛАВА II
«Страсти по Андрею»: философия жертвенности
этому фрагменту Достоевский допускал, что мог уйти, если бы его
жизнь сложилась по-иному.
Но особенно важно, что два главных «положительных» героя романа — старец Зосима и Алеша Карамазов — несут в себе такое же
антиномическое раздвоение. Для демонстрации внутренней противоречивости личности Зосимы Достоевский подробно повествует о его
гусарской молодости, о том, что он без малейших угрызений совести
мог оскорбить человека и даже из чувства непомерной гордыни готов
был убить возлюбленного молодой женщины, которая отвергла его
ухаживания. Присутствие «дьявольского» измерения в душе Алеши
Карамазова кажется почти невероятным, однако Достоевский ясно
указывает на то, что оно есть и в нем. Это особенно важно зафиксировать, поскольку образ Алеши близок к образу Андрея Рублева из
фильма Тарковского и, как нам кажется, такое совпадение не является случайным.
Внимательно всматриваясь в образ Алеши, мы прежде всего
замечаем, что «смиренник» и монах в одном из разговоров с братом Дмитрием признается, что в нем живет та же «карамазовская»
страстность, которая характерна для его братьев. Рассказывая Алеше о своем прошлом, о своей тяге к разврату и жестокости, Дмитрий
видит, что тот покраснел. Но, как тут же объясняет Алеша, покраснел
он вовсе не от стыда за брата: «Я не от твоих речей покраснел и не за
твои дела, а за то, что я то же самое, что и ты. — Ты-то? Ну, хватил немного далеко. — Нет, не далеко, — с жаром проговорил Алеша. (Видимо, эта мысль давно уже в нем была). — Всё одни и те же ступеньки. Я на самой низшей, а ты вверху, где-нибудь на тринадцатой. Я так
смотрю на это дело, но это всё одно и то же, совершенно однородное.
Кто ступил на нижнюю ступеньку, тот всё равно непременно вступит
и на верхнюю. — Стало быть, совсем не вступать? — Кому можно —
совсем не вступать. — А тебе — можно? — Кажется, нет»22. Очень
может быть, что снимая фрагмент «Праздник» и показывая, как монах Рублев поддается страсти, влекущей его к язычнице Марфе, Тарковский имел в виду этот фрагмент из романа Достоевского.
Однако это еще не все, Достоевский демонстрирует гораздо более
радикальных негативных тенденций в душе Алеши, чем просто «тяга
к разврату». Здесь нужно вспомнить разговор Алеши с влюбленной
в него Лизой Хохлаковой, которая рассказывает ему свой странный
сон: «...мне иногда во сне снятся черти, будто ночь, я в моей комнате
со свечкой, и вдруг везде черти, во всех углах, и под столом, и двери
отворяют, а их там за дверями толпа, и им хочется войти и меня схватить. И уж подходят, уж хватают. А я вдруг перекрещусь, и они все
назад, боятся, только не уходят совсем, а у дверей стоят и по углам,
22 Там же. С. 124.
100
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
ждут. И вдруг мне ужасно захочется вслух начать Бога бранить, вот
и начну бранить, а они-то вдруг опять толпой ко мне, так и обрадуются, вот уж и хватают меня опять, а я вдруг опять перекрещусь —
а они все назад. Ужасно весело, дух замирает. — И у меня бывал этот
самый сон, — вдруг сказал Алеша»23.
Самое радикальное выражение «дьявольского» измерения, присутствующего в каждом человеке, это способность к убийству; Достоевский вполне последовательно приписывает эту способность
каждому из своих героев, в том числе и Алеше Карамазову. В нем
эта способность проявляется в тот момент, когда брат Иван задает
вопрос о том, что нужно сделать с генералом, затравившим собаками
маленького мальчика. И Алеша, не задумываясь, решительно отвечает: «Расстрелять!»
Задачу каждого человека Достоевский видит в том, чтобы добиться победы в своей душе светлой, божественной стороны личности над теменной, дьявольской стороной. Но эта победа никому не
дается легко, и на пути к ней человек может столкнуться с ситуациями, когда в нем на время восторжествует темное начало. Более того,
Достоевский намекает на то, что без определенного раскрепощения
темной стороны личности победа над ней просто невозможна: пока
темное начало не раскрыло себя, человек не знает себя до конца
и, значит, не может считать себя зрелой и ответственной личностью.
Поэтому-то Алеша и признает в разговоре с братьями, что ему еще
придется совершить злые поступки, что он не сможет избежать темных страстей и устремлений — ведь только через такие испытания
он сможет уверенно и окончательно победить в себе темное начало.
Герой Тарковского проходит через такие же испытания и их кульминацией становится совершенное им убийство. Возможно, придавая судьбе Андрея Рублева такой поворот, Тарковский вспоминал
Алешу Карамазова и всю тему антиномичности человеческой души
в романе «Братья Карамазовы».
В фильме раздвоение человеческой сущности, ведущее к противоречиям и порождающее зло в мире, является общей темой, появляющейся во многих сценах. В наиболее общем, социально-историческом
аспекте это раздвоение показано в сценах борьбы русских против
русских в эпизоде «Набег». Многие жестокие сцены этого эпизода
изображают столкновение дружинников Малого князя с владимирцами, защищающимися от нападения. Точно так же от жестокости
«своих» страдают помощники летающего мужика в прологе; после
доноса Кирилла попадает в руки дружинников князя скоморох; те
же дружинники по приказу Великого князя выкалывают глаза камнерезам и хватают крестьян, совершавших языческие обряды и т. д.
23 Там же. Т. 10. С. 82.
101
ГЛАВА II
«Страсти по Андрею»: философия жертвенности
Все человеческие отношения полны злобы и враждебности, никто не
может избежать греха и вины.
Если бы Андрей Рублев строго следовал монашеской практике
исихастов с ее требованием отстранения от мира и духовного одиночества, он, может быть, остался бы вне этой всеобщей судьбы. Но
здесь во всей полноте сказывается убеждение Тарковского в существовании неустранимой связи людей — связи и в добре, и в зле.
Он не считает правильным замыкание на себе ради собственного
совершенства: стать совершенным человек может только в единстве
с другими и с миром. И хотя Тарковский принимает от исихазма
представление о совершенстве через созерцание, через духовную
концентрацию, противостоящую деятельному отношению к миру,
он одновременно признает, что совсем остаться вне деятельности
в мире невозможно, а поэтому невозможно остаться и вне причастности злу и греху.
Тема всеобщей причастности людей к злу и всеобщей виновности является одной из самых характерных для русской философии,
и вновь нужно констатировать, что в ней самое веское слово сказал
Достоевский. В «поучениях» старца Зосимы рядом с его утверждением о том, что «все мы в раю», мы находим и утверждение о всеобщей греховности и вине людей. Однако последнее не противоречит
первому, поскольку, взяв всю вину мира на себя, человек имеет силы
повлиять на всеобщее зло: если и не уничтожить его полностью, то
хотя бы сократить его размах. Именно поэтому человек, правильно
понявший смысл своей жизни, должен «бежать уныния» и главным
своим чувством сделать веселье, радость — то самое чувство, которое Андрей Рублев в конце концов признает целью своего творчества.
«Други мои, — обращается ко всем людям старец Зосима в романе
Достоевского, — просите у Бога веселья. Будьте веселы как дети, как
птички небесные. И да не смущает вас грех людей в вашем делании,
не бойтесь, что затронет он дело ваше и не даст ему совершиться, не
говорите: “Силен грех, сильно нечестие, сильна среда скверная, а мы
одиноки и бессильны, затрет нас скверная среда и не даст совершиться благому деланию”. Бегите, дети, сего уныния! Одно тут спасение
себе: возьми себе себя и сделай себя же ответчиком за весь грех людской. Друг, да ведь это и вправду так, ибо чуть только сделаешь себя
за всё и за всех ответчиком искренно, то тотчас же увидишь, что оно
так и есть в самом деле и что ты-то и есть за всех и за вся виноват»24.
В конце концов Андрей сталкивается с этой неизбежностью зла
и вины, когда совершает убийство дружинника Малого князя во
время набега татар на Владимир. Последующая сцена в разрушенном владимирском соборе, показывающая беседу Андрея с призра¬
24 Там же. Т. 9. С. 359.
102
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
ком Феофана Грека, является одной из кульминационных в фильме.
Раньше, в их первой беседе Андрей решительно возражал Феофану,
утверждавшему абсолютную греховность каждого человека без исключения. «Скоро Страшный суд, все как свечи гореть будем», —
решительно заявлял тогда Феофан. Андрей же отвергал такую абсолютную греховность человека, он верил, что все согрешившие
способны раскаяться и исправиться, понять свой грех и искупить
его. Но этого мало, он верил в то, что существуют безгрешные люди,
которые не способны совершить ничего такого, что налагало бы на
них печать абсолютной, несмываемой вины. Его собственная жизнь,
его поступки, казалось бы, служили лучшим подтверждением справедливости этой веры. Совершив убийство, он сам себе доказал, что
был не прав в споре с Феофаном, с жестокой наглядностью убедился
в неизбежности зла и греха для каждого человека — пусть даже он
будет святым в глазах других. При этом речь должна идти о неизбежности даже самой тяжкой из всех возможных форм греха — убийства. В своей жизни человек постоянно сталкивается с ситуациями,
из которых нет «негреховного» выхода, и почти каждый его поступок
обременен виной: либо за совершенное деяние (в самом радикальном
случае, который пришлось пережить Андрею, — за убийство), либо
за бездеятельность и за ее последствия — за злодеяние, совершенное другим.
Этическая проблема «необходимого убийства», как наиболее радикального случая неизбежной греховности человека, являлась одной из «критических» тем русской философии конца XIX — начала
XX в., в подходе Тарковского к ней мы вновь обнаруживаем глубокую
преемственность его идей по отношению к идеям наиболее известных
русских мыслителей, в первую очередь, Ф. Достоевского, Л. Толстого,
Вл. Соловьева и И. Ильина. Особое значение в обсуждении указанной проблемы в начале XX в. имела книга Ильина «О сопротивлении
злу силою», где Ильин очень ясно, даже с некоторой нарочитой резкостью, обозначил свое видение трагических противоречий, в которые
вовлечен каждый человек. В некоторых важных моментах взгляды
Тарковского, выраженные в его фильмах, очень близки к концепции
Ильина, поэтому имеет смысл рассмотреть некоторые составляющие
последней более детально25.
Прежде всего Ильин решительно подчеркивает, что носителем
и источником зла является сам человек; нигде, кроме человеческой
души, зло не существует в «чистом» виде, все остальное — это материальные проявления «чистого» зла. В свою очередь, его источником
в душе оказывается раздвоенность человеческого бытия, наличие
25 Подробнее см. в книге: Евлампиев И. И. Божественное и человеческое
в философии Ивана Ильина. СПб., 1998. С. 179-231.
103
ГЛАВА II
«Страсти по Андрею»: философия жертвенности
в нем двух противоположных тенденций: к духовному единству
с другими людьми и к отделению, эгоистическому самоутверждению.
При этом Ильин не утверждает, что первая тенденция есть всецело
добро, а вторая — всецело зло. Специфика материального бытия,
присущего каждому из нас, делает вторую тенденцию неизбежной
и в какой-то степени оправдывает ее. Каждый из нас замкнут в своей
материальной оболочке, и эта обособленность лишь частично преодолевается духовной взаимосвязью людей. Полное, абсолютное
единство невозможно в нашем земном мире и поэтому не может
быть целью человека, не может рассматриваться как идеал добра.
Все, что мы можем достичь, — это гармонизировать две указанные
тенденции, предельно сгладить их противоречие и несовместимость,
подчинить стремление к материальной обособленности и независимости личности ее высшему духовному предназначению, которое
становится явным только в единой духовной атмосфере, связующей
всех людей. Зло проистекает из непримиримого противоречия двух
указанных тенденций, из их абсолютной противопоставленности
и полного преобладания второй из них.
Даже если такое полное преобладание, означающее, что в душе
человека победу одержало зло, имеет место, взаимосвязь людей не
исчезает и не может исчезнуть, поскольку она представляет собой
фундаментальную метафизическую характеристику личности. Но
в этом случае она сама становится причиной распространения зла
от одного человека к другому. В соответствии с давней традицией
русской религиозной мысли Ильин утверждает, что «все люди независимо от того, знают они об этом или не знают, желают этого или
не желают, связаны друг с другом всеобщей взаимной связью в добре и во зле...»26. Отсюда следует, что «ни одно доброе или злое событие в личной жизни человека не остается исключительным
достоянием его изолированной души: тысячами путей оно всегда
проявляется, выражается и передается другим, и притом не только
поскольку он этого хочет, но и поскольку он этого не хочет... Люди
непроизвольно облагораживают друг друга своим чисто личным благородством; и столь же непроизвольно заражают друг друга, если они
сами внутренне заражены порочностью и злом»27.
В силу такой взаимосвязи зло постоянно распространяется среди людей, «заражая» даже тех, кто, казалось бы, стоит вне сферы
его господства. Отсюда следует важный вывод. Поскольку зло имеет
тенденцию к разрастанию и захватыванию все большего количества
людей, огромное значение имеет умение человека распознавать зло
26 Ильин И. А. О сопротивлении злу силою // Ильин И. А. Собр. соч. в 10 т.
Т. 5. М., 1997. С. 154.
27 Там же. С. 156-157.
104
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
в себе и в других людях и как можно раньше и решительнее «пресекать» его — либо духовными методами, путем воспитания, убеждения, просвещения, либо, когда духовные методы уже неэффективны,
путем материального, физического воздействия на злодея — вплоть
до его убийства. Ильин в развертывании своей концепции доходит
до самых радикальных выводов; в частности, он утверждает, что акт
убийства является своеобразным метафизическим пределом, своего рода «чистой» формой как самого зла, так и борьбы со злом.
С одной стороны, как пишет Ильин, «в каждом зачатке ненависти,
в каждом оттенке злобы, в каждом отвращении человека от человека, мало того, в каждой неполноте любви — от простого безразличия
до беспощадного пресечения — укрывается в начатке и оттенках —
акт человекоубиения»28. Но, с другой стороны, «есть злодеи, по отношению к которым последняя вспышка угасающей жалости только
и может выразиться в ускорении их смертной казни»29. Каждый из
нас достаточно греховен и достаточно виновен, чтобы быть орудием или хотя бы пассивным пособником убийства другого человека;
и, кроме того, на нас даже лежит обязанность убийства другого,
если этот другой «одержим злом» и представляет угрозу для жизни
множества людей.
В фильме Тарковского мы находим яркую художественную иллюстрацию сформулированным положениям. Способность зла «заражать» людей, переходить от одного человека ко множеству других,
наглядно иллюстрируется в эпизоде «Набег». Злая воля одного человека — Малого князя — приводит к настоящей катастрофе, к разгулу зла, вовлекающего в свой круг тысячи людей. Зло с такой силой
распространяет и усиливает свою власть, что даже вызвавший его
человек ужасается его последствиям. Тарковский выразительно показывает изменение душевного состояния князя. Первоначально он
думает только о мести за свое унижение, которое воскресает в его
памяти пока татары скачут к Владимиру. Но постепенно, по мере выявления всех страшных последствий его предательства в его лице появляются новые черты: это не столько раскаяние за свое злое дело,
сколько все возрастающее чувство подавленности тем злом, которое он раскрепостил и не в силах теперь ограничить или укротить.
Тарковский оказывается более проницательным психологом, чем
Ильин. Последний утверждал, что существуют абсолютные злодеи, которые полностью подчинили свою душу злу и в которых не
осталось ни одной крупицы добра и сострадания к другим людям. Тарковский, наоборот, показывает, что даже человек, отваживающийся
на самое страшное, предельное зло, дошедший до той границы, где
28 Там же. С. 182.
29 Там же. С. 149.
105
ГЛАВА II
«Страсти по Андрею»: философия жертвенности
исчезает все человеческое, — пока он живет среди людей, в какой-то
степени сохраняет связь с другими и, значит, все-таки способен принять в свою душу их страдания, даже против своей воли. Искаженное, потерянное лицо князя, который, кажется, даже дышит и двигается с трудом, в заключительных кадрах эпизода разорения татарами
Владимира наглядно показывает, что помимо его воли и его желания
страдания других людей, вызванные его злым деянием, откликаются
в нем и делают его жизнь невыносимой. По «закону» всеобщей взаимосвязи людей в добре и зле раскрепощенное им зло вернулось в его
собственную душу и опустошило ее, окончательно оторвало его от
благодатной, основанной на добре взаимосвязи с другими и тем самым лишило жизненной опоры.
В то время как татары пытаются взломать ворота собора, в котором укрылись владимирцы, перед нами предстает долгий план, построенный на контрасте двух изображений; сначала мы видим лицо
князя, на котором уже появились признаки какого-то беспокойства,
тягостного недоумения, предчувствия какой-то катастрофы в его собственной душе, а затем — неподвижную, бесстрастную голову белого коня. И далее следует ужасный фрагмент, в котором другой конь
падает с лестницы, ломая ноги, бьется в конвульсиях, перекатывается, пытаясь удержаться на сломанных ногах, заваливается набок и,
наконец, умирает, заколотый подбежавшим татарином. Чуть раньше
в кадре на мгновение появлялась похожая картина: лежащий на земле, бьющийся в агонии конь, которого прирезывает какой-то воин.
Как мы помним, в фильмах Тарковского конь неизменно олицетворял благодатные стихийные начала природы, ее бессловесную
жизнь, тянущуюся к человеку, зависящую от человека, готовую
подчиниться человеку. Это символ глубокой взаимосвязи человека
и окружающего мира, всего бытия. В таком смысловом контексте голова белого коня рядом с потерянным лицом князя обозначает спокойствие, невинную чистоту и бесстрастность мира, в котором самом
по себе нет добра и зла, который не ведает тревоги и страха, пока в
его жизнь не вторгается человек, несущий страдание, разрушение и
смерть. С другой стороны, тот разгул зла, который охватывает людей
и ведет их к гибели (одних — к физической, других — к моральной),
захватывает и мир вокруг, превращается в настоящую катастрофу
бытия, приводит к появлению в нем «разломов», «провалов», разрушает его цельность, ввергает его в хаос. Мучительная гибель коня,
падающего с лестницы, предстает как страшный образ этой катастрофы, вызванной раскрепощением исконного зла, вырвавшегося из душ
людей и сжигающего все вокруг как адское пламя.
После этого мы снова видим человеческое лицо — теперь это
лицо молящейся пожилой женщины в соборе, как и все вокруг ожи¬
106
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
дающей, что туда вот-вот ворвутся татары. В этом лице угадывается
не только сдержанный страх перед предстоящим страданием, а может быть, и смертью, но и неискоренимая вера в добро, никогда не
умирающая в людях, надежда на неминуемую победу добра над
злом. Это человеческое лицо, полное веры и надежды, задает лейтмотив последующего фрагмента разграбления собора и мученичества
церковного ключаря Патрикея — эмоциональной кульминации эпизода «Набег».
Разгул стихии зла захватывает всех, присутствующих в соборе,
и не позволяет уйти от альтернативы: быть убитым или стать убийцей. Этот страшный вихрь увлекает и Андрея Рублева: он убивает
воина, который пытается изнасиловать Дурочку. Показательно, что
убийство, совершаемое им, происходит за кадром. Позже Андрей говорит Феофану: «Как уж там было не упомню, только догнал я его, ну
и... не мог я». В душе Андрея совершенно нет основ для зла, но и он
не может избежать его влияния, когда оно изливается на него из других людей; в то же время он не имеет права бесстрастно смотреть на
злодеяния, не оказывая им посильного сопротивления. Убийство оказывается делом не его «светлой» натуры, а его второго, «темного» я,
которое было разбужено катастрофой бытия, происходящей вокруг.
В центре фрагмента разграбления собора оказывается Малый
князь, обреченный на то, чтобы принять в свою душу все последствия злого деяния. В его памяти вновь (как и в начале эпизода «Набег») возникает воспоминание о попытке митрополита примирить его
с братом. Это примирение обернулось новым унижением: целуя его,
старший брат наступил ему на ногу, тем самым еще раз демонстрируя
свое полное превосходство. По сути, именно этот, столь незначительный на первый взгляд поступок, в котором сконцентрировались
высокомерие, гордыня, жажда абсолютного превосходства, становится, по «закону» распространения зла, причиной набега, уничтожения
огромного города и мученической смерти его жителей.
Для введения в сцену разграбления собора воспоминаний Малого князя Тарковский использует выразительный формальный прием, несомненно, имеющий глубокий идейный смысл. Воспоминание
о попытке примирения приходит к князю в самом конце этой сцены,
когда он уже чувствует на себе тяжесть вызванного им к жизни зла,
и на его лице появляется печать обреченности. Во то время как происходит расправа над Патрикеем (его играет Юрий Никулин), так
и не открывшим татарам, где спрятано церковное золото, князь отходит в сторону, и мы видим, как за его спиной, на фоне тяжелой,
свисающей сверху материи мерно раскачивается маятник (церковное
кадило, подвешенное на длинной цепи). В самый последний момент,
перед тем, как нам предстанет сцена примирения, всплывающая
107
ГЛАВАМ
«Страсти по Андрею»: философия жертвенности
в памяти князя, этот странный маятник уходит за левый край кадра и больше не возвращается, как бы исчезая или, точнее, замирая
в остановившемся времени.
Использованный здесь прием требует особого внимания в связи
с тем, что позже он был повторен Тарковским в постановке оперы
«Борис Годунов» в лондонском театре «Ковент Гарден». Там огромный
маятник раскачивался на заднем плане в те моменты, когда Борис
вспоминал о своем злодеянии, а в финале, в момент смерти Бориса,
маятник останавливался, и рядом с ним появлялся и садился на пол
маленький мальчик в белой рубашке до пят — убиенный царевич
(точно так же он появлялся на фоне качающегося маятника и проходил мимо в предшествовавшей сцене видений Бориса).
Несомненно, и в фильме, и в опере маятник за спиной героя символизирует одно и то же — неумолимый ход времени, которое человек, совершивший зло, чувствует острее, чем все окружающие, поскольку он поставлен лицом к лицу с последствиями своего злого
дела, вынужден занять позицию созерцателя, а не деятеля. Только
деятельная позиция позволяет не задумываться о последствиях, и зло
твориться только людьми «деятельной» натуры. Но рано или поздно
даже злодей оказывается в ситуации пассивности, в ситуации, заставляющей увидеть «простор» мира, и тогда для него открываются
все разрушительные итоги его поступков. Тарковский был убежден,
что каждый человек, даже совершивший самые страшные злодеяния,
сохраняет в себе человеческое, нравственное начало и способен на
чувство вины и раскаяния (не случайно среди театральных планов
Тарковского был замысел постановки «Макбета»). Будучи волей обстоятельств поставлен в позицию пассивного созерцания, лишенный
возможности действовать и, значит, вынужденный увидеть мир по-
настоящему', во всей его полноте, такой человек обречен на всю
глубину нравственных страданий. Непрестанное созерцание последствий своего злого дела становится для него настоящей пыткой,
а время предстает в качестве орудия этой пытки; каждое мгновение
воспринимается как неумолимое приближение расплаты, возмездия.
Это ужасающе медленное и неотвратимое, как повеление античного
рока, движение времени и олицетворяет маятник в «Страстях по Андрею» и в «Борисе Годунове».
Остановка этого маятника означает переход в вечность, которая не противоположна времени и не отделена от него, а едина с ним,
дополняет его. В «Борисе Годунове» это означает смерть; в «Страстях
по Андрею» смысл этой остановки, этого вторжения вечности в мир
времени, иной. Философская концепция времени и вечности, смерти и бессмертия у Тарковского очень сложна и может быть понята во
всей полноте только в связи с его более поздними фильмами (особен¬
108
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
но в связи с «Зеркалом»). Пока нам достаточно повторить то, что было
сказано ранее в связи с фильмом «Иваново детство»: Тарковский не
считает время абсолютно линейным и необратимым, не понимает его
как поток, уносящий все события в бездну небытия. Всё сохраняется
в вечности, в дополнительном измерении времени, и наша память —
это не просто порождение образов прошлого, но реальное повторение событий, сосуществующих в вечности наряду с настоящим, взаимодействующих с ним (подробное философское обоснование такой
концепции времени и памяти дал известный французский мыслитель
Анри Бергсон в книге «Материя и память», мы еще будем говорить
о его идеях в связи с фильмом «Зеркало»). В этом смысле остановка
маятника в тот момент, когда Малый князь вспоминает свое «примирение» с братом, воспринимается как «раскрытие» дополнительного
измерения времени, как «раскрытие» вечности, в которой продолжает
развертываться реальное событие примирения, в каком-то смысле
сосуществующее с событием гибели Владимира и, по сути, являющееся его причиной. Показательно, что первый фрагмент сцены примирения мы видим в самом начале эпизода «Набег», это подчеркивает
определенный «параллелизм» двух рядов событий; соответственно
и кульминация гибели города совпадает с кульминацией сцены примирения. При этом «сосуществуют» (в вечности) и взаимодействуют
между собой события из разных пластов времени только через человека, связывающего их своим сознанием, — в данном случае через
Малого князя.
Все сказанное позволяет уточнить смысл тех двух эпизодов из
оперы «Борис Годунов», в которых Тарковский выводит на сцену
убиенного царевича (во время видений Бориса и в момент его смерти). Режиссер вовсе не пытается придать этим появлениям убитого
мальчика характер художественной метафоры, поэтического символа (как известно, он резко отрицательно высказывался по поводу такой символики) или интерпретировать их как субъективную иллюзию, галлюцинацию Бориса (что кажется наиболее естественным).
В спектакле этот мальчик в длинной, ослепительно белой рубахе не
менее реален, чем все прочие персонажи, — это вторжение «мира
вечности» в бытие того временного мира, где существуют герои
оперы. Это не субъективный образ, возникающий в страдающем сознании царя-злодея, принужденного к позиции целостного созерцания, а действенное раскрытие измерения вечности, вызывающее
убитого царевича к бытию. Другие люди не видят его только потому,
что они слишком спокойны, слишком замкнуты в своем настоящем,
слишком поглощены деятельным освоением настоящего. Для Бориса же его страдания становятся решающим фактором, позволяющим
«разомкнуть» горизонт настоящего и выйти в измерение вечности,
109
ГЛАВА II
«Страсти по Андрею»: философия жертвенности
в котором он сталкивается лицом к лицу с «вечным» бытием царевича. Очевидно, что для всех людей окончательным выходом в вечность является смерть, поэтому, будучи актом убийства навеки
связанным с убитым им царевичем, Борис в момент смерти окончательно соединяется с ним; если в сцене видений царя мальчик
только проходит мимо, то в момент смерти он, появившись, остается
с Борисом навсегда.
Когда мы в «Страстях по Андрею» видим в последний раз Малого
князя, уже раздавленного тяжестью вернувшегося к нему зла и предчувствием возмездия, мы понимаем, что он находится в самом начале
того пути, по которому с неизбежностью идут все, кто решился на
совершение полной меры доступных человеку злодеяний, — ему, как
и Борису Годунову, еще не раз предстоит встретиться лицом к лицу
с жертвами своего преступления и рано или поздно соединиться
с ними для вечного страдания.
6. Раскрытие вечного бытия
Одним из важнейших фрагментов фильма «Страсти по Андрею»
является разговор Андрея Рублева с «призраком» Феофана Грека, завершающая весь огромный и чрезвычайно насыщенный событиями,
образами и символами эпизод «Набег». Все сказанное выше позволяет со всей решительностью отвергнуть интерпретацию этой сцены
как «галлюцинации» Андрея (понятно, что такая интерпретация была
единственно приемлемой для советской кинокритики 70-80-х гг.).
Его измученная, страдающая душа, потрясенная не только злодеяниями, творящимися вокруг, но и его собственными грехом и виной, как
и душа Бориса Годунова, приобрела способность «раскрыть» измерение вечности и вызвать из «вечного» бытия умершего Феофана Грека.
Тарковский намеренно придает Феофану совершенно земной облик, ничем не отличающийся ни от его собственного облика в прошлом, ни от облика окружающих его людей. Феофан, как и Андрей,
причастен бытию, но само бытие имеет сложную структуру, в нем
есть разные «слои», разные составляющие, вообще говоря, непроницаемые друг для друга, но способные в определенных случаях
оказывать воздействие друг на друга. Человек является метафизическим центром реальности, поэтому потенциально ему доступны все
«слои» бытия, и именно от него, от его воли и его состояния, зависит возможность проникновения этих слоев друг в друга. «Мне так
хотелось тебя видеть», — говорит Андрей Феофану, а тот отвечает:
«Если бы ты и не хотел, я все равно бы пришел». Не столько от сознательного желания или нежелания Андрея зависит явление посланца
иного мира, мира вечности, сколько от самого его состояния; после
110
И, Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
совершения убийства оно таково, что Андрей обретает способность
проникать в иные сферы бытия и приводить их вестников в наш мир,
подвластный времени.
«А ты разве не в рай попал?» — спрашивает Андрей. «Господи!.. —
отвечает Феофан. — Скажу только, что там совсем не так, как вы все
тут думаете». В этом ответе — ключ к их разговору и к пониманию
представлений Тарковского о смерти и бессмертии. Без труда можно
понять, что источником этих представлений являются философские
идеи Достоевского. Совпадение взглядов двух великих русских художников становится очевидным, если правильно восстановить весь
комплекс идей Достоевского, касающихся проблемы бессмертия.
К сожалению, несмотря на обилие работ, посвященных его творчеству, этот срез его мировоззрения все еще остается загадочным
и в значительной степени непонятым. Поэтому для целей нашего исследования представляется существенным дать ясную формулировку указанному комплексу идей30.
Одним из наиболее важных и прямо высказанных принципов
мировоззрения Достоевского является его убеждение, что «без веры
в свою душу и в ее бессмертие бытие человека неестественно, немыслимо и невыносимо <...> идея о бессмертии — это сама жизнь,
живая жизнь, ее окончательная формула и главный источник истины
и правильного сознания для человечества»31. Пытаясь уточнить, какой смысл Достоевский придает идее бессмертия, мы прежде всего
должны зафиксировать, что он понимает бессмертие совершенно иначе, чем это характерно для традиционного христианства; именно это,
как правило, ускользает от многочисленных комментаторов и исследователей процитированного места из «Дневника писателя» за 1876 г.
Для того чтобы выявить искомый смысл идеи бессмертия, необходимо обратиться к тем героям Достоевского, которые, решившись на самоубийство, стоят на самой грани между жизнью и смертью и поэтому, возможно, более проницательны, чем все, кто их окружают; это
Ипполит Терентьев из «Идиота», Свидригайлов из «Преступления
и наказания» и Кириллов из «Бесов».
Необходимо прежде всего признать, что для Достоевского идея
бессмертия не совпадает с идеей посмертного существования в раю.
В последней самое главное — это радикальная противоположность
райского и земного бытия, в том смысле, что райское понимается как
абсолютно совершенное, лишенное всех недостатков земного бытия, и, значит, как однозначно благое, ясное и притягательное для
30 Подробнее см. в книге: Евлампиев И. И. История русской метафизики
в XIX-XX веках. Русская философия в поисках Абсолюта. Т. 1. С. 128-160.
31 Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1876 г. // Достоевский Ф. М.
Собр. соч. в 15 т. Т. 13. С. 387, 391.
111
ГЛАВАМ
«Страсти по Андрею»: философия жертвенности
человека. Герои Достоевского, наоборот, несмотря на их безусловную
веру в бессмертие, испытывают страх перед посмертным существованием, поскольку оно для них непонятно и загадочно. Например,
Ипполит Терентьев в романе «Идиот» говорит: «...я никогда, несмотря
даже на все желание мое, не мог представить себе, что будущей жизни и провидения нет. Вернее всего, что все это есть, но что мы ничего
не понимаем в будущей жизни и в законах ее»32.
Наиболее ясно смысл грядущего посмертного существования
разъясняет Свидригайлов в одной из бесед с Раскольниковым. Посмертное существование человека радикально отличается по своим
метафизическим законам от земного, но оно вовсе не является совершенным, оно столь же несовершенно, как и земное. Свидригайлов утверждает, что параллельно с нашим миром, как бы в вечности,
соприсутствуют еще множество миров, способных проникать в наш
земной мир в виде снов и призраков. Смерть — это и есть переход от
бытия в одном мире к бытию в другом, «соседнем» мире. Понятно, что
такой переход имеет мало общего с христианским представлением
о бессмертии души в ее райском состоянии. Согласно Свидригайло-
ву, человек продолжает телесно существовать и в другом мире, однако — по законам, абсолютно непонятным и загадочным для нас. Об
этом свидетельствуют привидения, призраки, которые являются ему
и о которых он рассказывает Раскольникову при их первой встрече.
«Приведения — это, так сказать, клочки и обрывки других миров, их
начало. Здоровому человеку, разумеется, их незачем видеть, потому
что здоровый человек есть наиболее земной человек, а стало быть,
должен жить одною здешнею жизнью, для полноты и для порядка.
Ну а чуть заболел, чуть нарушился нормальный земной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться возможность другого мира,
и чем больше болен, тем и соприкосновений с другим миром больше, так что когда умрет совсем человек, то прямо и перейдет в другой
мир»33. И с особой, парадоксальной резкостью свое представление
о посмертном существовании Свидригайлов выражает в следующих
известных словах: «Нам вот всё представляется вечность как идея,
которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе,
будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая,
а по всем углам пауки, и вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде
иногда мерещится»34.
32 Достоевский Ф. М. Идиот // Достоевский Ф. М. Собр. соч. в 15 т. Т. 6.
С. 416.
33 Достоевский Ф. М. Преступление и наказание // Достоевский Ф. М.
Собр. соч. в 15 т. Т. 6. С. 272.
34 Там же.
112
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
Возможно, именно эту фразу Свидригайлова вспоминал Тарковский, когда вкладывал в уста Феофану слова о том, что «там совсем не
так, как вы все тут думаете». По крайней мере не вызывает сомнений
совпадение общих контуров концепции бессмертия у Достоевского
и Тарковского. Как и для Достоевского, для Тарковского бессмертие
вовсе не тождественно «райскому» состоянию человека, в котором
тот лишен всех несовершенств нашего мира и преображен к чисто
духовной, божественной форме бытия. Мир за гранью смерти очень
непохож на наш, в нем, возможно, мы и станем более совершенными
(«Я и так все знаю», — говорит Феофан Андрею из своего «вечного»
бытия), но и там мы все же не обретем абсолютного совершенства
(как и любой человек Феофан, явившийся после смерти, радуется,
что помнит Писание, т. е. признает, что может и забыть его). Особенно ясно единство в несовершенстве «мира времени» и «мира вечности» проявляется в том, что бессмертный Феофан по-прежнему
способен восторгаться образами земной красоты, которые создает
в своей живописи Андрей Рублев. «Все же красиво все это!..» — говорит Феофан и тем самым окончательно лишает нас возможности
рассматривать его посмертное бытие как божественное, «райское»,
абсолютно совершенное; с точки зрения обретенной божественной
красоты творения земного искусства не могли бы вызвать у него никаких чувств. Это означает, что мы не можем жить, просто уповая на
грядущее совершенство; в том, «посмертном» мире, точно так же как
и в этом, земном, нам все равно придется бороться за него — за свое
собственное совершенство и совершенство всего мира.
Ясный знак единства несовершенного земного мира и столь же несовершенного «мира вечности» Тарковский дает в последних кадрах
эпизода «Набег». В разрушенном соборе идет снег; Дурочка заплетает косу убитой женщине, лежащей среди других таких же мертвых
тел, и затем засыпает между ними под падающим снегом, нарочито
похожим на птичьи перья, которые всегда обладают в фильмах Тарковского ясным знаковым характером — это вторжение вечного
в наш временной мир. В собор входит конь, и это тоже воспринимается как почти мистическое явление, подобное явлению умершего
Феофана, — быть может, этот конь тоже пришел из «мира вечности»,
может быть, это призрак того коня, который чуть раньше принял
мученическую смерть на наших глазах. Собор — это место, где человек пытается понять высшие смыслы своего существования и проникнуть в высшие «слои» бытия, поэтому разрушенный собор — это
уникальный символ трагического несовершенства всего бытия —
и нашего, земного, и потустороннего, «небесного», это открытая
«рана» бытия. Напомним, что в «Ивановом детстве» значительная
часть событий происходила в подвале разрушенного собора; позже
113
ГЛАВА II
«Страсти по Андрею»: философия жертвенности
разрушенный католический храм мы увидим в «Ностальгии», и там
этот образ будет иметь еще более сложный смысл.
«Мир вечности», в который человек попадает после смерти, не отделен абсолютно от нашего временного мира. Разъяснения Свидри-
гайлова о сущности призраков и их роли в нашей жизни помогают
лучше понять не только явление Феофана Андрею, но и рассмотренные выше эпизоды из «Бориса Годунова», в которых царю Борису являлся убитый по его приказу царевич. Когда Свидригайлов говорит
о болезни, позволяющей человеку увидеть «обрывки» других миров,
то, разумеется, он имеет в виду не обычную телесную болезнь человеческого организма, но душевную болезнь, связанную с противоречиями внутренней сущности человека. Именно такая болезнь
одолевает самого Свидригайлова, погубившего свою жену, от этой
же болезни страдают Борис Годунов в опере Мусоргского и Малый
князь в фильме Тарковского; эта же болезнь своим краем задевает
и Андрея Рублева, совершившего убийство. Человек, осуществивший злое дело, особенно, крайнюю форму злодеяния — убийство,
впадает в метафизическую болезнь; здесь больно само его бытие,
поскольку он разрушил его основу — ту невидимую связь всех людей,
без которой они не могут существовать. Теряя опору в своем мире,
в своей сфере бытия, человек, охваченный этой метафизической
болезнью, полностью лишается сил, необходимых для нормальной
жизни, становится одержимым, перед ним постоянно предстают обитатели «вечного мира», связанные с ним его злыми поступками. Он
стремительно движется к смерти, к тому рубежу, за которым оказывается навеки связанным с жертвами своих злодеяний.
Андрей совершает убийство не по злому умыслу, он убивает человека, пресекая его злое дело. Но все равно он чувствует за собой
абсолютную вину, которую уже никогда невозможно будет снять,
искупить, его одолевает та же метафизическая болезнь, от которой
гибнет Борис Годунов. Но в то время как к злодеям в их болезни являются их жертвы, взывающие к возмездию и ускоряющие их смерть,
к Андрею является его друг и учитель, и это явление помогает ему
преодолеть свою болезнь, помогает восстановить связь с людьми
и опору для дальнейшей жизни. Феофан, пришедший из «мира вечности», старается укрепить в Андрее ту веру в доброе начало и в живительное единство людей, которую раньше Андрей отстаивал в споре
с еще живым Феофаном. «Ты вот теперь ошибаешься, а я тогда ошибался», — говорит Феофан и тем самым с высоты своего посмертного,
«вечного» знания подтверждает правоту Андрея в их первой беседе.
Только в одном пункте правота Феофана полностью подтверждается, становится теперь истиной и для Андрея — это его утверждение
о всеобщей виновности людей, всех людей. Теперь и Андрей в полной
114
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
мере ощущает бремя своей виновности, и Феофан подтверждает, что
эта виновность с точки зрения человеческой, земной общности не может быть никогда снята: «Бог-то простит, только ты себе не прощай.
Так и живи между великим прощением и собственным терзанием».
Что же делать человеку в этой ситуации, когда он осознал бремя своей виновности, как ему жить? Здесь имеет смысл еще раз вернуться к книге И. Ильина «О сопротивлении злу силою», поскольку
указанная проблема является в ней одной из центральных. Рассматривая «необходимое» убийство как вынужденную меру, направленную на пресечение злой воли человека, способного принести другим смерть и разрушить духовную связь людей, Ильин называет его
актом «негреховной неправедности». Борьба со злом в нашем мире
неизбежно предполагает физическое воздействие на людей, одержимых им; в этом нравственная трагедия каждого человека, решившегося сопротивляться злу. Поэтому выбор в пользу такой борьбы
оказывается подвигом. «Подвиг здесь не только в ведении самой
борьбы, — пишет Ильин, — но и в том духовном напряжении, которое необходимо для открытого и выдержанного приятия возможной
вины. Напряжение духа нужно здесь не только для того, чтобы убить
злодея, но и для того, чтобы вынести свой поступок и пронести через
жизнь совершённое дело, не роняя своего поступка малодушным отречением от его необходимости, но и не идеализируя его нравственного содержания»35.
Однако предлагая человеку, совершившему акт «негреховной неправедности» (например, убийства злодея), «пронести через жизнь»
свой поступок, осознавая его неправедность, Ильин вовсе не предполагает, что при этом человек должен думать только об искуплении
своей вины, всю свою жизнь подчинить этой цели. По Ильину, осознание своей неправедности и вины должно постоянно присутствовать в сознании человека и вести к трагическому мироощущению, но
поступки человека и вся его жизнь не должны от этого существенно
измениться, более того, человек должен продолжать борьбу со злом
и, если будет необходимо, даже совершить новые акты «негреховной
неправедности» — вплоть до убийства. В этом смысле два слагаемых
идеологии «сопротивления злу силою» — понимание необходимости
активного сопротивления злу и осознание своей неснимаемой вины —
не являются для Ильина равноправными. Второму он уделяет не так
много места в своей книге и не делает из него никаких радикальных
выводов (осознание остается только осознанием), в то же время идея
борьбы, идея «карающего меча», выступает во всем своем радикализме, превращаясь в главную ценность, в непреклонное требование
к каждому человеку использовать все возможные (в том числе не¬
35 Ильин И. А. О сопротивлении злу силою. С. 207.
115
ГЛАВА II
«Страсти по Андрею»: философия жертвенности
праведные) способы борьбы с окружающим его злом. В результате
Ильин оказывается близок к созданию своеобразного «культа» борьбы со злом, который почти заслоняет, отодвигает в тень идею виновности, неправедности36.
В этом пункте позиция Тарковского отличается от позиции Ильина. Для Тарковского вина, которую налагает на человека его, пусть
даже оправданный, греховный поступок, особенно убийство, не может ограничиться просто наличием чувства вины. Вина должна превратиться в реальный центр личности, определяющий все ее поступки и мысли; став виновным в результате своего поступка, человек
должен радикально изменить свою жизнь, всю ее подчинить искуплению своей вины (даже если во всей полноте это невозможно, как
в случае убийства).
Свое отношение к моральной проблематике борьбы со злом и,
в частности, к проблеме «необходимого» убийства Тарковский ясно
изложил в одной из бесед, посвященных постановке «Гамлета»
в Театре имени Ленинского комсомола, записанных его помощником
В. Седовым. «Вообще может ли человек судить другого человека,
и может ли один проливать кровь другого? Я считаю, что человек не
может, не имеет права судить другого. Общество — может! К сожалению, может! И тут ничего не поделаешь... А капля пролитой крови
равна океану. Я считаю, что человек не может убивать другого даже
ради благополучия десяти. Если мне скажут: “Убей вот этого, и тогда
массам будет хорошо!” — я считаю, что я не имею на это права; тогда
я лучше себя убью, как это сделал в определенный момент своей жизни один наш писатель, которому приходилось подписывать смертные
приговоры. <...> Гамлет после встречи с Призраком посвящает свою
жизнь мести и от этого гибнет сам, он сам себя убивает, это самоубийство, он не выдержал крови, кровью невозможно установить добро»37.
Конечно, приводимые здесь Тарковским примеры — писатель,
подписывающий смертные приговоры (имеется в виду Александр
Фадеев), и Гамлет, мстящий за отца, — не вполне соответствуют той
ситуации, которую имел в виду Ильин, когда доказывал необходимость и оправданность убийства злодея, и в которую сам Тарковский
поставил Андрея Рублева в своем фильме. Как и Ильин, Тарковский
не сомневается, что в определенной ситуации человек, почти не задумываясь, должен совершить убийство, чтобы спасти от злодея
других людей, но в отличие от Ильина, он не соглашается признать
36 Против этого чрезмерного смещения акцентов выступали многие критики
книги Ильина (см. приложение к 5-му тому 10-ти томного собрания сочинений
Ильина, где собраны все отклики на его книгу).
37 Цитируется по статье: Седов В. Тарковский и шекспировский «Гамлет»
// Мир и фильмы Андрея Тарковского. С. 296-297.
116
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
такое убийство, хотя и неправедным, но оправданным. Убийство не
может быть оправданным ни в каком случае, и вина, возложенная
на человека его поступком, не может иметь меньшего значения, чем
спасение мира от зла. Все мы в какой-то степени являемся источниками зла, на всех нас лежит вина за зло, происходящее в мире. «Исправить» мир, избавить его от несовершенства можно только если
устранить сам источник зла в душе человека, поэтому борьба с проявлениями зла и со злом в другом человеке не может быть главной
формой борьбы за совершенство мира; в этом случае мы пытаемся
справиться с последствиями «болезни» бытия, а не с ее причинами.
По-настоящему радикально преодолеть несовершенства мира можно
только через борьбу с источниками зла в себе самом; это означает,
что человек прежде всего должен обращать внимание не на зло в другом, а на свою собственную виновность, свое собственное несовершенство, и главным для него должно стать не противодействие
внешней злой воле, а искупление собственной вины. Если Ильин
в своей книге требует от каждого из нас героического подвига сопротивления внешнему злу, то Тарковский в своих фильмах призывает
совсем к другому: каждый должен осознать свою абсолютную, метафизическую вину перед людьми и миром и попытаться искупить ее.
И чем меньше другие люди видят в человеке его конкретную, эмпирическую вину, тем большее значение имеет акт искупления, совершаемый им. Хотя никто не знает и никогда не узнает о вине Андрея,
поскольку нет свидетелей убийства, он всю свою жизнь подчиняет
необходимости искупить ее — и свое пятнадцатилетнее молчание
и свой творческий взлет.
В этом пункте Тарковский вновь оказывается идейным наследником Достоевского, который прямо признавал, что зло искореняется
скорее через собственное внутреннее преображение человека, чем
через внешнее воздействие на носителя злой воли. Об этом в своих
«проповедях» говорит старец Зосима: «Если же злодейство людей
возмутит тебя негодованием и скорбью уже необоримою, даже до
желания отомщения злодеям, то более всего страшись сего чувства;
тотчас же иди и ищи себе мук так, как бы сам был виновен в сем
злодействе людей. Приими сии муки и вытерпи, и утолится сердце
твое, и поймешь, что и сам виновен, ибо мог светить злодеям даже
как единый безгрешный и не светил. Если бы светил, то светом своим озарил бы и другим путь, и тот, который совершил злодейство,
может быть не совершил бы его при свете твоем. И даже если ты
и светил, но увидишь, что не спасаются люди даже и при свете твоем,
то пребудь тверд, и не усомнись в силе света небесного; верь тому, что
если теперь не спаслись, то потом спасутся. А не спасутся и потом,
то сыны их спасутся, ибо не умрет свет твой, хотя бы и ты уже умер.
117
ГЛАВА II
«Страсти по Андрею»: философия жертвенности
Праведник отходит, а свет его остается»38. Именно на этот путь в конце концов встает Андрей Рублев в фильме Тарковского; несмотря на
все свои сомнения, несмотря на осознание тяжести своей вины, он
признает, что его главное призвание в мире — нести людям свет,
преображающий их бытие и спасающий от зла и греха.
Справедливости ради отметим, что Ильин в своих поздних работах (написанных в 40-е гг.) несколько смягчил суровость своих
требований, связанных с необходимостью противостояния злу,
и одновременно стал придавать гораздо большее значение принципу
метафизической виновности человека. Главным выражением всеобщей связи людей, обуславливающей их постоянное бессознательное влияние друг на друга, Ильин признает теперь чувство вины за
страдания других, которое в своей метафизической сущности перерастает в чувство мировой вины, мировой скорби: «...все люди, без
исключения, пока они живут на земле, соучаствуют во всеобщей
мировой вине. <...> Мы соучаствуем в вине всего мира — непосредственно, и через посредство других, обиженных или зараженных
нами, и через посредство третьих, неизвестных нам, но воспринявших наше дурное влияние»39.
В связи с этим важнейшей «характеристикой» человеческого бытия, показывающей степень его подлинности, оказывается страдание (получающее приоритет даже по отношению к борьбе со злом).
Чувство всеобщей взаимосвязи и вины всех перед всеми ведет человека на высший уровень страдания, поскольку, осознав и прочувствовав
свою вину, он обязан открыть себя миру и, не замыкаясь в своих личных страданиях, соучаствовать в страданиях каждого другого человека, каждой твари. «Растение и животное страдают в мире, оставаясь
в его составе и составляя его собою, но им не дано страдать о мире
и за мир. Человеку дан высокий дар возноситься над тварной жизнью
мира и болеть о судьбе всей твари, страдать за нее, страдающую... Мы
должны принять на себя страдания живых существ и понести его, как
общий и единый крест мира; и попытаться постигнуть скрытый, но
глубокий смысл этого мирового креста. Этим мы предаемся мировой
скорби, т.е. страданию о страдании мира. И, предаваясь этой скорби, наш дух возвышается и вступает в дивную близость к Богу...»40
Учитывая указанный генезис взглядов позднего Ильина можно с еще
большим основанием проводить параллели между его философскими
идеями и философскими принципами, лежащими в основе фильмов
Тарковского (особенно это касается фильма «Страсти по Андрею»).
38 Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Т. 9. С. 361.
39 Ильин И. А. Поющее сердце. Книга тихих созерцаний // Ильин И. А.
Собр. соч. в 10 т. Т. 3. М., 1994. С. 246.
40 Там же. С. 307.
118
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
Самый великий пример искупления вины — вины всех людей,
всего мира — дает самый безгрешный человек, Иисус Христос. Образ
Иисуса, восходящего на Голгофу, является центром всего фильма Тарковского, недаром и его первое название «Страсти по Андрею» непосредственно отсылает к Евангелию. Фильм Тарковского — это попытка
выразить свое понимание смысла той жертвы, которую принес Иисус,
это осмысление через жизнь великого русского художника и всех людей, встречаемых им на своем пути, великого значения этой жертвы.
7. «Русская» Голгофа
Как уже говорилось выше, в своем философском мировоззрении
Тарковский предполагает, что несовершенство мирового бытия человек может преодолеть либо через любовь, либо через созерцательное
«собирание» мира в себе, через концентрацию своих духовных сил,
ведущую к «центрированию» окружающего бытия, «воссозданию»
«частицы» Бога в нем. Однако оба пути к совершенству позволяют
«исправить» бытие только в ограниченной сфере, локально, как это
происходит в сцене «молитвенного созерцания» Андрея (эпизод «Скоморох») или в историях любви Андрея и Марфы, Дурочки и татарина
(эпизоды «Праздник», «Любовь»). Во всех этих случаях преображение человека и окружающего его бытия происходит, но оно не всегда является долговечным и прочным; «большой» мир, как правило,
разрушает относительную гармонию преображенного «малого» мира,
и хотя воссиявшая «частица» Бога уже не может исчезнуть и остается в мире как новый элемент его гармонии, все-таки это не приводит
к радикальному преображению всего «большого» мира.
Недостаточность, относительность этих форм преображения заключается в том, что в них не устраняется самый глубокий источник
несовершенства — стремление человека к эгоистическому обособлению и господству над бытием. В этом состоит метафизическая виновность, лежащая на каждом человеке, поскольку ни в одном из нас
это стремление к господству не исчезает до конца, и, значит, может
проявиться в какой-то момент жизни в виде зла. По-настоящему радикальное и, самое главное, необратимое движение к совершенству
возможно только через такое деяние, которое способно в существенной степени преодолеть или хотя бы скомпенсировать указанную
метафизическую вину. Человек должен победить в себе «темную»
природу и совершить поступок, противоположный указанному
стремлению к обособлению и господству: он должен свободно избрать полное «послушание» бытию, миру.
Но что значит это полное «послушание» миру? Всю жизнь каждый из нас только и делает, что обороняется от него, от его попыток
119
ГЛАВА II
«Страсти по Андрею»: философия жертвенности
подчинить себе человека. Вторжение мира — это основа страдания,
а вся полнота подчинения человека миру, в которой окончательно исчезает его обособленность, — это смерть. Поэтому самое радикальное движение к «послушанию» миру и через это к преодолению несовершенства бытия в самом его истоке, — это свободное избрание
страданий и смерти, жертвование себя людям и миру.
В силу фундаментального несовершенства бытия все мы в какой-
то степени страдаем и все рано или поздно умираем, и исток этих
страданий и смерти — в собственной природе человека, в его негативной свободе, избирающей путь обособления и господства и тем
самым разрушающей основание не только его собственного бытия,
но и бытия как такового, поскольку к его сущности принадлежит
быть единым, а не раздробленным. Страдания и смерть, ожидающие
каждого, — это наглядное подтверждение нашей метафизической
вины и неустранимости ее причин. Когда же человек добровольно
избирает страдания и смерть, он, признавая свою метафизическую
виновность, делает призрачными, условными, преходящими ее
причины, поскольку демонстрирует абсолютное превосходство над
негативной свободой своей позитивной свободы, направленной на
упрочение основ нашего существования. Добровольная жертва себя
миру всегда приводит к единению людей и к «исправлению» бытия,
к возникновению в мире абсолютного центра, от которого исходят
благодатные лучи, просветляющие мир.
Такую роль в мире сыграла жертва Иисуса Христа, которая является фундаментальным метафизическим актом, открывающим путь
к радикальному исправлению, преображению всего бытия. Именно
так интерпретировала историю Иисуса русская философия XIX —
начала XX в. Вот, например, как писал об этом Вл. Соловьев: «...Христос приходил в мир не для того, конечно, чтобы обогатить мирскую
жизнь несколькими новыми церемониями, а для того, чтобы спасти
мир. Своею смертью и воскресением Он спас мир в принципе, в корне,
в центре, а распространить это спасение на весь круг человеческой
и мирской жизни, осуществить начало спасения во всей нашей действительности — это Он может сделать уже не один, а лишь вместе
с самим человечеством, ибо насильно и без своего ведома и согласия
никто действительно спасен быть не может. Но истинное спасение
есть перерождение, или новое рождение, а новое рождение предполагает смерть прежней ложной жизни...»41 Человечество, по Соловьеву,
должно осознать, что оно есть Богочеловечество, что каждый из нас
и все мы вместе призваны продолжить и развить то дело, которое начал Христос и целью которого является полное преображение наше¬
41 Соловьев В. С. Об упадке средневекового миросозерцания // Соловьев В. С. Соч. в 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 344.
120
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
го мира — вплоть до окончательного исчезновения в нем страданий
и смерти, вместе с их истоками в негативной свободе человека.
Интерпретация Голгофы в фильме Тарковского полностью соответствует такому пониманию жертвы Христа. В споре Феофана Грека
и Андрея Рублева, в контексте которого возникает образ «русской»
Голгофы, очень характерно противостояние позиций спорящих художников. Феофан прекрасно видит нашу всеобщую греховность,
виновность всех людей без исключения. Поэтому он утверждает, что
страдания и смерть, свойственные человеку, точно так же как и несовершенство мира, непреодолимы, и даже Страшный суд, который
должен вести к уничтожению всего греховного в мире, рисуется ему
как окончательное и абсолютное страдание, искупающее абсолютную вину людей. «Ничего, скоро Страшный суд, — говорит он, —
все как свечи гореть будем». Никто и ничто не способно спасти мир
от греха и несовершенства, его судьба — полное уничтожение, окончательная гибель, и, значит, человек должен пассивно и безропотно
принимать все предназначенные ему страдания, ни на что не надеясь
и видя в Боге только грозного Судию, а не милосердного Отца.
Совершенно не случайно, что в эпизоде «Феофан Грек», прежде чем перед нами появляется сам прославленный иконописец, на
экране предстает сцена жестокой, мученической казни какого-то
человека — злодея, как называет его Феофан. Именно такое недобровольное и заслуженное мученичество является в мировоззрении
Феофана естественным итогом и следствием грехов и вины человека.
«Что же, православные, правдолюбцы да христиане, — кричит народу, наблюдающему казнь, Феофан, — долго будете мучить злодея,
скоро вы это кончите? Он уже семь раз муками своими искупил грехи
все — и свои грехи и ваши. Сами грешники немыслимые, а туда же,
судите, Христа на вас нет». Его протест связан только с требованием
должной меры мучений в качестве искупления вины; превышая эту
меру, казнящие сами совершают грех и накладывают на себя новую
вину. Когда Феофан выкрикивает последние слова «Христа на вас
нет», мы видим на экране созданную им икону — изображенный на
ней Спаситель глядит на нас как грозный Судия, перед которым все
люди виновны и все должны претерпеть свою меру страданий и кары.
Обратим внимание также на то, что в самом начале казни, когда
казнимого человека кладут на дыбу, он несколько раз выкрикивает,
что невиновен. Мы не знаем, правда ли, что этот человек невиновен,
или он действительно «злодей», но в контексте всего последующего
спора Феофана и Андрея эта казнь оказывается зримым выражением представлений Феофана о смысле мученичества Иисуса Христа.
Ведь для него и Христос страдает как все люди вокруг него — страдает не добровольно, а из-за злой воли его палачей, которые уверены,
121
ГЛАВА II
«Страсти по Андрею»: философия жертвенности
что он злодей, поскольку без труда нашли свидетелей, подтвердивших это. И вряд ли Феофан верит, что мученическая смерть Христа
что-то изменила в нашем земном мире: люди как грешили, так и продолжают грешить, и конца этому не будет никогда. Распятие Иисуса
в этом контексте имеет смысл только как наиболее радикальный
грех человечества, как окончательное свидетельство его неискоренимой вины, для которой нет прощения. Оно ведет к полному раскрытию несовершенства мира; после этого мир окончательно
осужден и проклят, и остается только Страшный суд — расплата за
все грехи и полное уничтожение земного начала в человеке, точно
так же как и самого земного бытия.
По контрасту с таким пониманием Голгофы ясно прослеживается
глубокий и совершенно неортодоксальный смысл жертвы Христа, выраженный в образе «русской» Голгофы, предстающей в воображении
Рублева. Тарковский доводит до крайней степени, почти до парадокса,
мысль о добровольности той жертвы, которую приносит людям и миру
Иисус: он утверждает (устами Андрея Рублева), что не только Иисус
любил всех людей, в том числе распинавших его, но и распинавшие
любили его, потому что «подсобили в деле, Богу угодном». Процессия,
сопровождающая Иисуса на Голгофу, в видении Андрея состоит исключительно из простых деревенских детей, женщин и мужиков, т. е.
из самых невинных и безобидных людей. Именно они ведут Иисуса
и помогают ему нести крест, и только в последний момент Иисуса привязывают к кресту двое вооруженных людей, похожих на дружинников Великого князя. Особенно выразителен образ девочки, которая
стоит около дороги и во весь рот улыбается, глядя на Иисуса, идущего
на казнь. Эта девочка как бы чувствует благодатный и преображающий характер происходящего события, через которое в мире родится надежда на окончательное спасение от зла и несовершенства.
По свидетельству В. Юсова42, оператора фильма, Тарковский
хотел изобразить рядом с процессией, идущей на Голгофу, ангелов,
которые имели бы облик обычных мужиков, одетых в белые тулупы, делавших их присутствие на фоне сплошного белого снега ирреальным, неправдоподобным. В окончательном варианте фильма этот
замысел приобрел гораздо более прямой смысл, Тарковский вводит
в этот эпизод не «мужиков», а самых настоящих ангелов в белых
одеждах и с огромными белыми крыльями. При достаточном внимании их можно заметить на высокой скале, по краю которой идет
процессия с крестом; в один из моментов фигура ангела угадывается
во главе вереницы крестьян, идущих вслед за Иисусом. Но особенно
выразительна белая фигура, в которой можно угадать ангела с опущенными крыльями, стоящая позади креста в тот момент, когда на
42 См. воспоминания Юсова в книге: Что такое кино? М., 1989. С. 236.
122
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
него ложится Иисус. Этот мотив очень хорошо согласуется с другими
аналогичными фрагментами в произведениях Тарковского. Особенно
ясные ассоциации возникают в отношении рассмотренной выше сцены в разрушенном соборе, когда Андрею явился умерший Феофан,
и сцен явления убитого царевича в опере «Борис Годунов». Мученическая смерть Христа — это радикальное метафизическое событие,
значимое для всей реальности, оно связывает воедино все сферы бытия, в частности, «мир времени» и «мир вечности». Поэтому в самом
этом событии должны принимать участие не только живущие рядом
с Иисусом люди, но и ангелы — обитатели «мира вечности».
Главный пункт, в котором представления Тарковского расходятся
с догматической христианской традицией, заключается в том, что его
Андрей Рублев очевидно рассматривает Иисуса Христа не как Бога
(и не как Богочеловека), а как человека. Именно это помогает правильно понять странные рассуждения Андрея, в которых, на первый
взгляд, содержится явное противоречие. «Вот ты тут про Иисуса говорил. — обращается Андрей к Феофану. — Так он, может быть, для
того родился и распят-то был, чтобы Бога с человеком примирить.
Ведь Иисус от Бога, значит — всемогущий, и если умер на кресте,
значит, и предопределено это было. И распятие и смерть его дело руце
Божие и должно было вызвать ненависть не у тех, кто распял его,
а у тех, кто его любил, ежели бы они окружили его в ту минуту, ибо
они любили его человеком, а он сам, по своей воле покинул их, показав несправедливость или даже жестокость... Может быть тот, кто
распинал, любил его, потому что подсобили в деле, Богу угодном».
Последняя фраза в контексте предшествующих слов выглядит почти кощунством, поскольку кажется, что речь идет о фарисеях и книжниках, о палачах исторического Иисуса, которых чуть раньше упоминал Андрей. Однако, на самом деле, сделав перед этой фразой паузу,
Андрей радикально меняет смысловой контекст, и его слова относятся уже непосредственно к предстающей на экране «русской» Голгофе.
Предыдущие слова касались евангельского Иисуса Христа и воспроизводили каноническую христианскую трактовку его жертвы, которую
Андрей не может и не хочет принять, поскольку в ней жертва Христа оказывается своего рода «игрой» Бога с людьми. Если Иисус — Бог
и всемогущ, то его распятие выглядит как самопожертвование и имеет
глубокий трагический смысл для людей, только пока они «обманываются» насчет его природы. Узнав, что он Бог и что он воскрес не как чело-
век, а как Бог, — более того, что он заранее знал о своем воскресении —
люди должны возненавидеть Христа, поскольку его воскресение, по
сути, означает, что для людей в их земном бытии воскресения не будет.
Жертва Христа в этом случае предстает как свидетельство грядущего отрицания земной человеческой природы, а не ее преображения.
123
ГЛАВАМ
«Страсти по Андрею»: философия жертвенности
Здесь мы подходим к той же самой проблеме, о которой говорили
выше в связи с идеей бессмертия у Достоевского. Для Тарковского,
точно так же как для Достоевского, Иисус — это человек и только
человек; лишь в таком случае его жертва, его мученичество, смерть
и воскресение — это доказательство бессмертия земного человека,
вечности его земной, телесной природы, доказательство возможности
преображения. У такой интерпретации истории Иисуса в Евангелии
есть лишь одно свидетельство — история воскресения Лазаря, поскольку в ней речь идет именно о воскресении смертного человека
в его смертной природе. Не случайно она играет существенную роль
в творчестве Достоевского (особенно в романе «Преступление и наказание»). Для исторического Андрея Рублева тема воскресения Лазаря
также была одной из важнейших; по мнению современного исследователя творчества русского иконописца, В. Плугина, в иконе на этот
сюжет из Благовещенского собора в Москве с наибольшей полнотой
проявился новаторский характер исканий Рублева — как в чисто живописном, так и в мировоззренческом, философском плане43. «Оригинальной трактовкой образа Лазаря, — пишет Плугин, — Рублев
ярче и определеннее, чем в каком-либо другом произведении, заявил
и о своей причастности к исихазму, и о глубоко индивидуальном восприятии его»44. Характерным элементом этой иконы и близкой к ней
по духовному содержанию иконы «Преображение» выступает сияние
(Фаворский свет), исходящее от Христа и пронизывающее всех персонажей, преображающее апостолов и весь окружающий их мир. «Свет,
исходящий от Христа, понимается Рублевым именно как благодать,
как энергия, которая животворит весь мир. А потому нет ни акцентированного светового потока, ни лучей, нет нужды в подчеркнутой
экспрессии жестов. Никто из апостолов не прикрывает глаза рукой,
ибо сияние не ослепляет, оно как бы уже внутри них. <...> Философия
гармонии, которую исповедует Рублев, одним из своих существенных
компонентов имеет иной взгляд на природу Божества, чем тот, что
был присущ и византийцам, и большинству его соотечественников.
Гармония невозможна при акцентировании контрастов, при подчеркивании расстояния между Богом и человеком. И пафос рублевской ико-
ны — не противоположности, а соразмерности, близости Божества»45.
43 Далеко не все исследователи считают иконы Благовещенского собора
принадлежащими кисти Рублева, однако даже те из них, кто отрицают его авторство, согласны в том, что этот цикл выполнен талантливым мастером (или
двумя мастерами) из круга Рублева и, скорее всего, достаточно точно повторяет
аналогичный несохранившийся цикл самого Рублева. Поэтому указанные сомнения ничуть не препятствуют выводам о характере мировоззрения иконописца на основании сохранившихся в Благовещенском соборе произведений.
44 Плугин В. А. Мировоззрение Андрея Рублева (некоторые проблемы). С. 71.
45 Там же. С. 59.
124
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
Конечно, как глубоко религиозный и церковный человек, Андрей
Рублев не мог дойти до прямого отрицания божественной природы
Христа, однако в его новаторском религиозном мировоззрении, сближавшем Бога и человека, уже содержались предпосылки для той
интерпретации христианства, которая стала нормой для XIX-XX вв.
В этом смысле, приписывая герою своего фильма совершенно недогматические взгляды, Тарковский не столь уж сильно искажает образ
исторического Рублева, он лишь переосмысливает его в контексте
своих собственных представлений, безусловно, созвучных русскому
исихазму, который, испытав расцвет в XV в., вошел в качестве органического элемента в ткань русской культуры.
В рамках мировоззрения, выражаемого Андреем Рублевым
в фильме Тарковского, если и можно говорить об Иисусе как о Боге,
то только в том смысле, что он, частично преобразив мир своей
жертвой и своим воскресением, создал тот абсолютный центр,
от которого преображение должно распространиться на все бытие
и сделать его совершенным и всецело божественным. Иисус, идущий на Голгофу, — просто человек, но пройдя Голгофу и воскреснув,
выступив примером для других, для тех, кто точно так же пройдет
этот путь добровольного самопожертвования, мученичества, смерти
и воскресения, он становится Богом в единстве со всеми людьми
и с преображенным бытием. Именно так понимал историю Иисуса Вл. Соловьев, причем очень важно, что он находил истоки такого
понимания у Достоевского; возможно, это же влияние обусловило
появление «русской» Голгофы и всей рассмотренной интерпретации
жертвы Иисуса Христа в фильме Тарковского.
Жертва Иисуса становится действенным центром преображения
мира, когда она принимается за образец для подражания, когда каждый человек осознает свое единство с Иисусом и оказывается готовым повторить его жертву — точно так же, как Иисус, добровольно
выбрать путь страдания и смерти ради объединения людей, отрицания негативной свободы, коренящейся в его собственной человеческой сущности. Видение «русской» Голгофы — это идейный центр
фильма, однако подразумеваемый в этом образе смысл получает надежное подтверждение и оправдание только через саму жизнь, через
примеры такого же самопожертвования, какое продемонстрировал
Иисус Христос. Именно эта линия является главной в фильме и проходит почти через все его эпизоды. Ее начало обнаруживается уже
в прологе, где краткий полет мужика на воздушном шаре и его смерть
воспринимаются как самопожертвование ради хотя бы мгновенного
прорыва к преображенному — целостному и гармоничному — миру.
Однако этот фрагмент несет в себе слишком заметный символический элемент и в большей степени соотносится с видением «русской»
125
ГЛАВАМ
«Страсти по Андрею»: философия жертвенности
Голгофы, чем с реальными — ужасающе реальными! — примерами
самопожертвования и мученичества, которые мы видим в последующих эпизодах.
Когда скоморох выходит к позвавшим его княжеским дружинникам, в дверях он на миг останавливается, раскидывает руки,
и в его фигуре мы угадываем крест — свидетельство того, что он
идет на свою Голгофу. Свой путь страданий проходят камнерезы, ослепленные по приказу Великого князя. Монах Патрикей принимает
страшные мучения и смерть, хотя, открыв татарам место, где спрятано церковное золото, он мог бы избежать своей Голгофы. Когда наступают последние мгновения его мучений, и он чувствует приближение смерти, его последние слова — не о своей правоте или заслуге,
а о своих грехах и своей вине которую может простить только Бог;
и в эти мгновения на него смотрит милосердный лик Спасителя с иконы Андрея Рублева. Эпизод «Набег» показывает нам Голгофу целого народа, мученичество которого имеет ясно различимую вину: как
и в отдельном человеке, это его «раздвоенность», его внутреннее несогласие с самим собой и стремление к господству, ведь здесь русские
убивают русских (особенно ужасной выглядит сцена убийства Петра,
ученика Андрея, Малым князем). Все эти эпизоды выстраиваются
в единый ряд, ясно указывая на главный смысл фильма. Но, как это
ни покажется странным, наиболее полно и точно смысл жертвы Иисуса в фильме Тарковского выражен в истории двух его главных героев — Андрея Рублева и Бориски.
8. На пути Иисуса Христа
Во всех упомянутых случаях, в отличие от истории Иисуса (как
она предстает в видении Андрея), принятие героями кары за свою
метафизическую (а часто — и эмпирически реальную) вину не является добровольным, их страдания и смерть являются следствием
злой воли других людей. Только если человек сам, без какого-либо
принуждения, выбирает мученичество, признавая тем самым свою
вину, только тогда он оказывается преемником Иисуса и продолжает
то дело, которое начал он. И эту преемственность не делает менее
значимой тот факт, что добровольная жертва, добровольное приятие
человеком кары за свою или общечеловеческую вину, не всегда имеет
столь же ужасные последствия, как жертва Иисуса, и не всегда ведет
к смерти. В истории Иисуса благодатный, преображающий характер жертвенности предстает в ее наиболее радикальном проявлении
и в наиболее радикальных итогах (смерть и воскресение как возвращение к жизни). Все мы можем только приближаться к этому пределу, к этому примеру величайшей жертвенности и величайшего преоб¬
126
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
ражения бытия, но и малое усилие в этом направлении не пропадает,
а соединяется с другими такими же точно усилиями самопожертвования, чтобы в итоге, охватив всех людей, открыть перспективу грядущего окончательного преображения мира — его «воскресения»
в качестве абсолютно совершенного.
Вся жизнь Андрея Рублева в фильме Тарковского — это подготовка к самопожертвованию, в котором он мог бы в максимально возможной степени приблизиться к Иисусу — не столько в радикальности своих страданий, сколько в радикальности воздействия своей
жертвы на мир и людей вокруг него. Когда в эпизоде «Праздник» мужики-язычники, схватив Андрея и насмехаясь над ним, привязывают его «навроде Иисуса Христа», он всеми силами протестует, просит
даже привязать его вверх ногами, чтобы в его позе не было намека на
распятого Христа. Он понимает, что еще не готов к той жертве, которая была бы равна жертве Христа, что она ему еще не по силам. Но
именно потому что он лучше всех понимает подлинный смысл этой
жертвы, он оказывается способным повторить ее, хотя и в иной форме. Совершенное им убийство заставляет его осознать всю глубину
своей виновности и принять добровольную кару — пятнадцатилетнее молчание, через которое он обретает новый опыт созерцательного приятия мира, подчинения себя миру (ведь наши земные слова —
это могущественные орудия господства человека над миром). Только
в результате этих жертвенных усилий, направленных на искупление
своей вины, Рублев создает лучшие свои творения, выражающие ту
высшую гармонию преображенного бытия, путь к которому открывается человеку через всецелое соединение с миром, т. е. через всецелую жертву себя миру. На этом пути для Андрея самым важным
оказывается встреча с сыном колокольного мастера Бориской.
Именно история Бориски, изложенная в последнем и самом большом эпизоде «Колокол», наиболее ясно продолжает линию «русской»
Голгофы. В первой сцене эпизода дружинники Великого князя ищут
мастеров, способных отлить колокол для собора, восстановленного
после набега татар и последовавшей затем эпохи голода и разорения.
Первые кадры, на которых мы видим Бориску, построены на динамическом контрасте: неподвижно сидящему Бориске и столь же неподвижной курице рядом с ним (единственный знак достатка и надежды
на продолжение жизни в деревне, где все умерли от голода) противопоставлены резкие, нахрапистые движения коня (в кадре мы видим
в основном только его круп и хвост). Тающий на солнце снег, река
с талой водой, блестящей на солнце, просыхающая земля, растленные на земле ровными рядами простыни — знаки мира и спокойствия
в природе, знаки немудреной жизни Бориски, в которой не чувствуется течения времени, в которой человек полностью приспособился
127
ГЛАВА II
«Страсти по Андрею»: философия жертвенности
к миру ради поддержания слепого, полуживотного существования.
Но как только Бориска слышит от дружинников, что они ищут мастера, который мог бы отлить колокол, он не раздумывая предлагает себя.
«Возьмите меня», — говорит он и добровольно предает себя в руки
этих верховых людей, ничем не отличающихся от тех, что распинали Иисуса в видении «русской» Голгофы. Когда дружинники решают
взять Бориску, он бежит по разложенным на земле белым простыням
и падает, зацепившись за одну из них. Это резкое движение, заканчивающееся падением — знак прорыва из бессмысленного и безвременного существования к великому дерзанию, через которое только
и можно прийти к преображению. Когда в конце эпизода колокол уже
будет готов, и для Бориски останется последнее и самое страшное
испытание — зазвучит ли колокол — он на мгновение прислонится
к его еще теплой поверхности, и ему в полусне привидятся картины
его прежнего бытия: полосы тающего снега и черной земли и расстеленные простыни, из которых одна так и осталась смятой. Он как бы
сравнивает свою старую жизнь с новой, и смятая простыня, о которую
он споткнулся тогда, становится символом перехода, решительного
деяния, вознесшего Бориску на ту высоту, где могут находится лишь
немногие — призванные к той же роли, что Иисус Христос.
Отметим, что и в других эпизодах фильма Тарковский использует такой же точно прием для того, чтобы обозначить переход героя
в новую жизнь: спотыкается о сноп льна Андрей, когда в самом начале фильма три монаха уходят из Троицкого монастыря, спотыкается
о полено и падает Кирилл перед тем, как проклясть свою монашескую
жизнь и уйти в мир, падает Дурочка перед тем, как уехать с татарином в Орду. Этот же знак мы без труда находим и в других фильмах
Тарковского. Точно так же спотыкается и падает Гальцев, когда идет
за Холиным выбирать лодку для последнего похода Ивана к немцам:
для него начинается новый этап его жизни, в котором через осмысление жизни Ивана он станет по-настоящему зрелым человеком, познавшим сущность жизни.
Разгадку всего эпизода «Колокол» дает сцена начала работы, когда после долгих поисков Бориска выбирает место для колокольной
ямы, и это место — высокий холм, возвышающийся над городом. Помощники Бориски начинают копать яму, а он сам отходит в сторону
и, раскинув руки, откидывается на край ямы; камера взмывает вверх
и в фигуре Бориски мы узнаем символ той жертвы, которую принес
Иисус Христос, и становится понятным, что этот холм — борискина
Голгофа, а изготовление колокола — его способ принесения себя
в жертву людям и миру.
Когда начинают копать, Бориска вытаскивает из земли длинный
корень, а затем задумчиво смотрит на дерево, которому этот корень
128
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
принадлежит. Корень — это как бы «жила» мира, бытия. Деяние Бо-
риски нарушает покой мира, разрушает что-то в нем; позже мы видим, что дерево засохло, Бориска виноват перед ним и перед всем
миром за эту смерть. Но эта вина неизбежна, необходима, без каких-
то разрушений в бытии не обходится ни одно деяние человека в этом
несовершенном мире. Радикальное отличие его деяния в том, что оно
становится его добровольной жертвой, его Голгофой, искупающей
не только его частную вину, но и всечеловеческую, метафизическую
вину, сглаживающей не только те частные «разрывы», которые он сам
вносит в бытие, но и несовершенство бытия как такового.
Как и Иисус в эпизоде «русской» Голгофы, Бориска совершает
свой крестный путь в окружении множества людей — от князя и его
посыльных до его нелепого друга Андрейки и литейщиков, — которые помогают ему и почти все любовно относятся к нему, понимая
великое значение его жертвы. Очень характерно, что он сам почти ничего не делает — отнекивается, сомневается, торопит, — всё делают
за него другие; избрав для себя путь Иисуса, он подобно Иисусу объединяет вокруг себя людей, готовых «пособить в деле, Богу угодном».
Как уже говорилось выше, в художественном мире «Страстей по
Андрею» деятельная позиция является ущербной, не соответствующей высшему предназначению человека. Поэтому для того чтобы
крестный путь человека и его жертва действительно обрели смысл
новой Голгофы, нового шага в направлении преображения мира, должен быть кто-то, кто, не действуя, только наблюдает и принимает
жертву. В традиционном церковном понимании Голгофы жертву, которую приносит Христос, принимает Бог-Отец, она происходит как бы
перед его «очами», перед его судом, и искупает все человеческие грехи.
В мире Тарковского (как и в художественном мире Достоевского) Бог
проблематичен, он, скорее, «конституирутся» жертвой Иисуса,
который приносит ее перед всеми людьми и перед миром — перед
несовершенным бытием. Именно поэтому в эпизоде «русской» Голгофы Тарковский показывает простых людей — крестьянских мужиков
и баб, стоящих в снегу на коленях и принимающих жертву Иисуса.
Эту характерную черту можно заметить во всех эпизодах, представляющих в фильме образы мученичества и жертвенного предназначения человека, здесь всегда присутствуют две «инстанции», принимающие жертву и тем самым придающие ей смысл, включающие
ее в ту нескончаемую цепь, начало которой положила жертва Иисуса.
Прежде всего это определенный человек, которому предстоит сохранить смысл жертвы и, быть может, соединить ее со своей собственной
жертвой, продолжить эту цепь. Это и Никитушка, которому кричит
«Лечу!» мужик на воздушном шаре, и Серега, ученик Рублева, подсмотревший сцену ослепления камнерезов, и сам Андрей Рублев,
129
ГЛАВА II
«Страсти по Андрею»: философия жертвенности
наблюдающий за Бориской и за созданием колокола; даже в Малом
князе, который оказывается в роли свидетеля мученической смерти
Патрикея и мученичества всего Владимира, просыпается что-то человеческое, и даже он оказывается способным уловить смысл этого
мученичества.
Но жертва значима и для всего мира, всего бытия, поскольку, в конечном счете, каждая жертва, как и жертва Христа, имеет целью преображение всего бытия. Поэтому в определенном смысле крестный
путь каждого человека принимает как свою судьбу и как шаг на пути
к совершенству — сам мир, само бытие. В большинстве сцен, показывающих мученичество и самопожертвование человека, присутствует взгляд на событие с большой высоты, который можно считать
как бы «взглядом» самого бытия, принимающего жертву человека.
Перед тем как произойдет ослепление камнерезов, камера показывает лес и дорогу, по которой они идут, с большой высоты, сверху вниз;
в последнее мгновение перед смертью Патрикея его мученичество
также показано сверху, из под купола собора (в этом единственном
случае такой план сюжетно обоснован, так как на Патрикея смотрит
Малый князь, непонятно зачем взобравшийся на хоры собора); эпизод мученичества целого города также завершается взглядом с высоты птичьего полета. Наконец, в самом начале работы над колоколом,
когда Бориска и его помощники копают колокольную яму, камера
взмывает вверх, и мы видим борискину Голгофу, снятую с большой
высоты. Во всех случаях наиболее простой формой объяснения этого
взгляда сверху вниз на разворачивающуюся трагедию было бы признание, что таким образом Тарковский дает символическое обозначение «взгляда» Бога, Спасителя, принимающего искупление человеческих грехов. Однако последний из упомянутых эпизодов позволяет
дать более точную трактовку этого приема.
Перед тем как мы увидим колокольную яму сверху, Бориска вытягивает из земли корень и затем долго смотрит на дерево, растущее
рядом с ямой; после этого и начинается движение камеры вверх до
точки, примерно соответствующей (по крайней мере так кажется
зрителю) верхушке дерева, на которое смотрит Бориска. Создается
впечатление, что этот «взгляд» принадлежит самому дереву, которое
пройдет свой «крестный путь» вместе с Бориской и умрет для того,
чтобы свершилась его жертва и внесла в мир больше смысла и совершенства. Поэтому здесь взгляд сверху — это именно взгляд самого мира, страдающего в своем несовершенстве вместе с человеком,
но устремленного к совершенству и принимающего жертву человека
в надежде на воскресение и окончательную гармонию. Если и можно
назвать это взглядом Бога, то Бога надо здесь понимать не в смысле
традиционного христианства, как уже существующее совершенное
130
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
и абсолютное существо, находящееся вне мира, а в смысле, уже не
раз разъяснявшемся выше, — как центр совершенства и гармонии в самом мире, созданный жертвой Иисуса, упрочивающий и расширяющий пределы своего влияния с каждой новой добровольной
жертвой, приносимой людьми.
В самом конце фрагмента, показывающего борискину Голгофу
с высоты, через кадр наискосок падает нелепо трепыхающаяся птица,
ничем не отличающаяся от птицы, падавшей перед скоморохом в тот
момент, когда его позвали дружинники и он вступил на свой крестный путь, и от птиц, нелепо взлетающих и падающих в темном лесу,
через который крадучись шел Андрей, наблюдая языческий праздник.
Как мы уже говорили, все эти птицы символизируют стихийную силу
природы, ее хаотическое, негативное начало, противящееся человеческому стремлению к гармонии и совершенству (в то время как конь является символом природы и ее внутренних сил со стороны их способности к совершенству и гармонии). Пролетающая над Бориской птица
добавляет еще один штрих в создаваемый режиссером образ: бориски-
на жертва должна перебороть деструктивные тенденции бытия, которые разлиты в мире и вмешиваются в каждое деяние человека.
Сравнение фильма и сценария показывает, что эпизод «Колокол»
претерпел минимальные (в сравнении с другими эпизодами) изменения в процессе реализации исходного замысла. Тем большее значение имеют дополнения, внесенные в него Тарковским во время съемок фильма. Прежде всего отметим любопытный и на первый взгляд
очень странный факт: хотя в сценарии, как и в окончательной версии эпизода, Бориска предстает 16-18-летним юношей, в какой-то
момент Тарковский видел в этой роли тридцатилетнего исполнителя. Как вспоминает Николай Бурляев, которого Тарковский прочил
на роль Фомы, ученика Андрея, когда он в первый раз попытался
убедить режиссера отдать ему роль Бориски, тот ответил решительным отказом:
«— Нет, — ответил Тарковский, — ты молод для этой роли. Бориску будет играть тридцатилетний человек, поэт...
— Но ведь гораздо интереснее, когда колокол по интуиции отольет юный отрок, чем поживший тридцатилетний человек...
— Ты ничего не понимаешь, — отрезал Тарковский...»46
Столь существенное изменение возраста героя, способное радикально повлиять на содержание его образа и всего эпизода, на наш
взгляд может иметь только одно объяснение: в момент съемок Тарковский уже полностью выстроил для себя главную идейную линию
фильма, в соответствии с которой Бориска виделся ему как «двойник» Иисуса Христа, а вся история с изготовлением колокола — как
46 Бурляев Н. Один из всех — за всех — противувсех! // ОТарковском.С.86.
131
ГЛАВАМ
«Страсти по Андрею»: философия жертвенности
повторение Голгофы. Если бы роль Бориски, как и роль «русского»
Иисуса, исполнил непрофессиональный актер тридцати лет, символическое сходство и параллелизм двух эпизодов были бы еще более
очевидными. Однако, может быть, именно по этой причине Тарковский в конце концов все же снял в роли Бориски 18-летнего Бурляева;
слишком прозрачные и очевидные параллели и символы всегда отторгались его художественным чутьем.
Заслуживают особого внимания последние кадры эпизода, которые становятся второй кульминацией фильма, рифмующейся
с образом распятого в снегах «русского» Иисуса. После того как колокол зазвучал, мы понимаем, что борискина Голгофа закончилась
не смертью, а воскресением, причем воскресением не только для
него самого, но и для всего окружающего мира — перед нами предстает тот самый праздник всеобщего воскресения, который Андрей
Рублев изобразил на стенах Владимирского собора в сюжете Страшного суда. Мы видим праздничный, воскресший после татарского нашествия и долгих лет голода Владимир, ликующих, просветленных,
одетых в белое жителей города — словно бы тех же, но воскресших
людей, которые гибли от рук татар и воинов Малого князя в эпизоде «Набег», — видим преображенную Дурочку, словно сошедшую на
землю прямо из сонма Праведных жен, изображенного на иконе Рублева, видим самого Андрея, постаревшего, но, наконец, обретшего
силы для творчества, поскольку к нему вернулась не только речь, но
и способность молитвенного прозрения, способность увидеть наш
мир целостным, гармоничным, просветленным.
Все это свершила та жертва, которую принес людям и миру Бориска, его Голгофа. Но преображение, совершенное в мире бориски-
ным деянием, не является, конечно же, окончательным и полным, оно
должно быть продолжено. Его жертва должна быть принята людьми,
которые, свершая в свой черед добровольную жертву, проходя свой
крестный путь, умирая и воскресая на своей Голгофе, понесут ее
дальше и сделают мир еще более совершенным. В последних кадрах
мы видим, как Андрей Рублев символически принимает борискину
жертву для того, чтобы самому продолжить подвиг Иисуса и всех,
кто шел за ним. В сценарии Андрей находит Бориску лежащим на
грязной дороге; в фильме Тарковский вносит новые и очень характерные штрихи в эту сцену: Бориска идет по лобному месту, на котором
стоят орудия для колесования, и падает у какого-то столба, скорее
всего также предназначенного для пыток и казни. Это — последние
шаги Бориски на его крестном пути; когда Андрей садится рядом
и приподнимает плачущего Бориску, перед нами предстает картина,
выстроенная Тарковским в полном соответствии с иконографической
традицией сцены оплакивания Христа.
132
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
И уже за пределами сюжетной линии фильма, как его завершение, мы видим фрагменты икон Андрея Рублева («Преображение»,
«Воскрешение Лазаря», «Троица»), создающие образ того просветленного и гармоничного мира, который предстал Андрею в итоге его
крестного пути и его Голгофы — всей его жизни, завершившейся подлинным воскресением и бессмертием. Но и это еще не всё; последним, что показывает нам Тарковский, оказывается лик Спасителя,
и последнее слово фильма — это образ Иисуса Христа, это образ жертвенности. Если люди отрекутся от своего предназначения, отрекутся
от Иисуса, образы совершенного мира останутся только образами,
только мечтами художника, возвысившегося над прозой и трагедиями жизни. Судьба Иисуса — человека, а не Бога, — это отражение самой глубокой сущности бытия. Дождь, текущий по иконе Спасителя,
и финальные кадры земной гармонии подчеркивают неразрывное
единство этой судьбы с судьбой мира, показывают, что путь Иисуса —
это единственный путь к преображению мира.
133
ГЛАВА III
«ЗЕРКАЛО»: личность
во времени и в вечности
ГЛАВА III
«Зеркало»: личность во времени и в вечности
После завершения работы над фильмом «Страсти по Андрею» Тарковский начал разработку следующих замыслов. В один и тот же год
(1968) он подал заявки на съемку сразу двух фильмов — «Соляриса»
и «Исповеди». Второй из них Тарковский видел как своего рода документальную хронику о себе и своем прошлом, как «фильм-анкету»; центральным его элементом должно было стать снятое скрытой камерой
интервью с матерью режиссера1. Однако в конце концов Тарковский
отложил съемки второго фильма и стал работать над «Солярисом».
Только в 1973 г. он вернулся к идее «Исповеди», после существенных
трансформаций исходный замысел превратился в сценарий «Зеркала».
В силу того, что Тарковский задумал оба фильма одновременно,
в них можно найти множество точек соприкосновения, например,
само название второго фильма и его главный символический образ
явно ассоциируется с одним из размышлений Снаута из «Соляриса»:
«Мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ... нам нужно зеркало. Человеку нужен
человек!» Однако все-таки в своих главных темах и основополагающих философских идеях эти фильмы оказались принципиально различными, причем «Солярис», безусловно, тяготеет к более позднему
«Сталкеру». В определенном смысле «Солярис» и «Сталкер» составляют философско-фантастическую дилогию в творчестве Тарковского, и размышления, начатые им в первом из этих фильмов, находят
себе прямое продолжение во втором (точно так же как своего рода
дилогию можно рассматривать два последних фильма Тарковского).
В самой этой фантастической дилогии центр тяжести лежит на
«Сталкере», который вообще можно считать вершиной творчества режиссера, произведением, в котором он выразил самые парадоксальные и глубокие принципы своего мировоззрения.
В связи с этим «Солярис» выглядит более органично в одном
контексте со «Сталкером», мы обратимся к нему после того, как проанализируем «Зеркало». Такая последовательность рассмотрения
творчества Тарковского естественна еще и потому, что «Зеркало»
в гораздо большей степени, чем «Солярис» взаимосвязано с первыми
двумя фильмами — с «Ивановым детством» и «Страстями по Андрею».
Обращение к фантастическому сюжету в «Солярисе» позволило Тарковскому существенно переосмыслить проблемы, поставленные им
в предыдущих своих произведениях. В «Страстях по Андрею» он исходил из убеждения в потенциальной взаимодополнительности, гармонии личности и бытия. Эта гармония представала как идеальное
и должное состояние мира, в сравнении с которым наличное состояние осознавалось как ущербное и неполноценное, как требующее
1 См.: Туровская М. 7 х/v или Фильмы Андрея Тарковского. М., 1991.
С. 100-102.
144
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
преображения и допускающее такое преображение. В «Солярисе»
акцент сделан совсем на другом — на абсолютной, непреодолимой
загадочности, иррациональности отношений человека с миром,
на недостижимости гармонии в этих отношениях. Такая точка зрения
обозначает радикальное изменение философской концепции, задающей понимание структуры бытия и места человека в нем.
В «Зеркале» режиссер все еще убежден в достижимости указанной гармонии, поэтому, пытаясь понять развитие философских
взглядов Тарковского, мы от фильма «Страсти по Андрею» должны
непосредственно перейти к «Зеркалу». Центральной проблемой этого
фильма оказывается проблема времени, его сущности и его значения для человека. Здесь мы вновь находим элементы преемственности размышлений Тарковского по отношению к традициям русской
религиозной философии начала XX в., поскольку и в ней проблема
времени занимала важное место.
1. Философия времени и вечности
Во всей своей парадоксальности характерное для русской философии отношение к проблеме времени высказал уже П. Чаадаев. Как
уже упоминалось выше, Чаадаев рассматривал человека как главный
«дезорганизующий» фактор в бытии. Мир сам по себе абсолютно
целостен и абсолютно гармоничен, но человек постоянно разрушает, искажает эту целостность и гармонию тем, что отваживается на
своевольные действия, в основе которых лежит его негативная свобода — свобода как произвол. В самом всеедином мире нет никакого
пространства и времени, поскольку и пространство и время, по Чаадаеву, разделяют элементы бытия, обособляют их друг от друга,
являются признаками отклонения действительности от состояния
всеединства. Поскольку причиной этого отклонения является свобода человека, она же обуславливает формы пространства и времени
в нашем земном мире.
Со стороны своей подлинной — благой и совершенной — сущности человек охватывает все бытие и является центром всего бытия.
Однако со стороны своего «темного», деструктивного начала — начала негативной свободы — он выступает как источник разделения
мирового всеединства, его «деградации», результатом чего выступает
наш несовершенный мир, в котором даже самому себе человек уже
предстоит не как вечное и бесконечное существо, а как существо,
ограниченное в пространстве и подчиненное течению времени. «Время и пространство — пишет Чаадаев, — вот пределы человеческой
жизни, какова она ныне. Но прежде всего, кто может мне запретить
вырваться из удушающих объятий времени? Откуда почерпнул я са¬
145
ГЛАВА III
«Зеркало»: личность во времени и в вечности
мую идею времени? — Из памяти о прошедших событиях. Но что же
такое воспоминание? — Не что иное, как действие воли: это видно
из того, что мы помним не более того, что желаем вспомнить; иначе
весь ряд событий, сменяющийся на протяжении моей жизни, оставался бы постоянно в моей памяти, теснился бы без перерыва у меня
в голове <...> Мы строим образы прошлого точно так же, как образы
будущего <...> Все времена мы создаем себе сами, в этом нет сомнения; Бог времени не создал; он дозволил его создать человеку <...>
беспредельность есть естественная оболочка мысли; в ней-то и есть
единственное, истинное время, а другое — мы создаем себе сами,
а для чего — не знаю»2.
Эта основополагающая идея прослеживается и у многих других
русских философов, полагавших, что человек, человеческое сознание, душа, существует как бы в двух измерениях — в измерении времени и в измерении вечности. Мы уже говорили, что в фильме «Страсти по Андрею» без труда можно найти образы, показывающие, что
Тарковскому были очень близки взгляды Достоевского на проблему
бессмертия, близко представление Достоевского о существовании
человека после смерти в ином мире (или даже множестве миров) —
в сфере вечности. Однако теперь речь идет о другой концепции (впрочем, тесно взаимосвязанной с описанной ранее концепцией бессмертия), здесь подразумевается, что человек уже в земной жизни одновременно существует в двух планах бытия — временном и вечном.
Эта последняя концепция вышла на первый план в русской философии после Соловьева и была особенно популярна у тех мыслителей
начала XX в., которые испытали влияние Анри Бергсона. В первую
очередь здесь необходимо упомянуть С. Франка и JI. Карсавина.
В своих сочинениях Бергсон сформулировал совершенно новую
теорию душевной жизни человека, в которой попытался преодолеть
радикальное различие между материей и духом, между ограниченностью человека (в традиционном его понимании) и безграничностью
мира вокруг него. Прежде всего Бергсон отверг два важнейших принципа, которые даже не ставились под сомнение в философии XIX в.,
являясь выражением «очевидных» представлений здравого смысла
на природу и структуру человеческой души.
Во-первых, Бергсон признал невозможным понимать внутренний мир человека с точки зрения традиционного (механистического)
принципа соотношения целого и его частей. Душевный мир человека нельзя трактовать как целое, составленное из своих отдельных
элементов-частей — мыслей, эмоций, переживаний, аффектов, —
сосуществующих в некоем психологическом «пространстве» и сме¬
2 Чаадаев П. Я. Философические письма // Чаадаев П. Я. Поли. собр. соч.
и избр. письма в 2-х т. Т. 1. М., 1991. С. 361-362.
146
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
няющих друг друга в потоке субъективного времени. По Бергсону,
душа есть такое целое, которое не может быть разделено на части
или составлено из каких-то элементарных частей, ее качественная
определенность неразложима, хотя и меняется во времени. Наше
убеждение в сосуществовании отдельных независимых элементов
в душе (например, определенной мысли и определенной эмоции)
Бергсон считал незаконным перенесением на внутренний мир представлений, применимых только к «внешней» действительности.
Во-вторых, Бергсон доказывал отсутствие жесткой «границы»
между «внутренним» (душой) и «внешним» (миром), он признал
душу неким «срезом» самой действительности. Рассматривая принципиальный вопрос о характере различия между реальным объектом
и его образом в сознании, Бергсон утверждает, что этого различия
не существует: объект и образ тождественны. Сознание отдельного
человека — это как бы система отношений между всеми элементами
мира, фиксация отдельного объекта в сознании (например в суждении «я вижу стол») есть просто выделение этого объекта (стола) на
фоне всей остальной действительности за счет перестройки его взаимосвязей с окружающими объектами. В этом смысле сознание «пронизывает» весь мир и все объекты в мире; причем материальное,
физическое тело человека выступает только в качестве своеобразной
«точки отсчета» для указанной системы отношений. Сознание существует не в теле (и тем более не в мозгу), а вне тела или, точнее, по
отношению к телу.
В своей концепции сознания как системы отношений, охватывающей весь мир, т. е. все его элементы («образы»), Бергсон особое значение придавал человеческой памяти, которая представала как объективная характеристика связности всего бытия. Все те события и
явления (образы мира), которые имели место в прошлом и доступны
нашему воспоминанию, по своему онтологическому статусу не менее
реальны, чем те, которые мы называем действительными в данный
момент. Различие между первыми и вторыми только в том, что они
включаются в целостность реальности, в целокупность всеобщего
опыта, с помощью различных форм связности: в основе образов настоящего, по Бергсону, лежит непосредственная реакция, действие,
а в основе образов прошлого — пассивное созерцание.
Память оказывается при этом не просто неким субъективным
багажом воспоминаний, принадлежащих данному конкретному
человеку, но объективным «измерением», или «срезом» всего цельного бытия, исследование которого не менее важно для понимания
структуры бытия и его всеобщих смыслов, чем, например, изучение
просторов Вселенной. Именно под влиянием этого вывода Бергсона
(и даже на его основе) разрабатывал свой художественный метод
147
ГЛАВА III
«Зеркало»: личность во времени и в вечности
М. Пруст, романы которого представляют собой наглядный образец
исследования прошлого, сохраненного памятью, — исследования,
направленного на обретение нового «знания» (точнее — новой системы смыслов) не только о личности отдельного человека, но и обо всей
реальности.
В русской философии начала прошлого столетия идеи Бергсона
были восприняты через призму концепции всеединства; соответствующая система представлений была наиболее ясно выражена
JI. Карсавиным. Он исходил из того, что понимание мира как всеединства должно основываться на принципе тождества целого и части.
В идеальном, абсолютном всеединстве каждая отдельная его часть
полностью тождественна целому и содержит в себе все содержание
целого. Если бы мир был идеальным всеединством, а человек — частью такого мира, то каждая личность была бы тождественна вселенной, заключала бы в себе смыслы всего существующего. Собственно
говоря, в этом случае все «части» мира были бы личностями, не было
бы ничего, что не было бы личностью, поскольку по самому определению личности, даваемому Карсавиным, она есть всецелое единство
многообразного; «абсолютное всеединство» и «личность» — это
тождественные понятия.
Только в силу того, что наш мир несовершенен, что он не является абсолютным всеединством, в нем есть не только личности, но
и «не-личности», «вещи», более того, каждая человеческая личность — не вполне личность, в ней содержатся противоречащие ее
личностному началу элементы и содержания (физическое тело, биологические элементы и процессы, материальные наклонности души
и т.д.). Тем не менее можно утверждать, что в той степени, в какой
каждый человек является личностью, осознает себя как абсолютный
центр бытия, он сохраняет хотя бы неполное, частичное тождество
со всем миром и, значит, возвышается над своей собственной видимой
пространственной и временной ограниченностью. Существование во
времени, в настоящем, в постоянной утрате прошлого — это только
одна сторона человеческого бытия, в то время как другая — это существование над временем, в единстве со всем миром: со всем, что есть
в мире в каждый момент настоящего, и со всем, что было в прошлом
и будет в будущем. Как пишет Карсавин3, душа не только временна, но и всевременна, охватывает все возможное время и включает
все существующее; в этом контексте понятие «всевременность» отличается от понятия «вечность», первое является более богатым, чем
второе, поскольку второе просто исключает из себя все временное,
противостоит времени. Такой подход к определению сущности лично¬
3 Карсавин Л. П. О свободе// Карсавин Л. П. Малые сочинения. СПб.,
1994. С. 220-233.
148
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
сти заставляет по-новому взглянуть на цели человеческой жизни, их
понимание в философии Карсавина очень близко к тем представлениям, которые мы обнаружили у Тарковского. Карсавин и Тарковский
совершенно одинаково оценивают роль человека в бытии: человек выступает центром «кристаллизации» всеединства, той точкой, от которой распространяются взаимосвязи, превращающие несовершенное
единство в совершенное, причем особое значение для преображения
несовершенного мира имеют деяния подлинной любви, созерцательное собирание мира и его смыслов в сознании и жизни личности и,
наконец, жертвование себя миру.
Важно подчеркнуть, что условием «эффективности» человеческого деяния, существенности его воздействия на положение дел
в мире, должно быть правильное понимание человеком себя и своего места в окружающей действительности, только в этом случае
любовь может стать настоящим метафизическим актом преодоления
разделенности бытия, а не мгновенной вспышкой желания, молитвенное созерцание — объективным соединением со скрытыми смыслами бытия, а не субъективной игрой воображения, жертва — реальным актом преображения через воскресение, а не безрассудным
поступком, не оставляющим следов в памяти потомков. Человек прежде всего должен понять себя и «собрать» себя в своем внутреннем духовном мире. Именно такому «собиранию» себя, концентрации личности посвящает всю свою жизнь Андрей Рублев в фильме
Тарковского, однако мы только догадываемся об этом внутреннем
процессе, протекающем в душе человека, — в «Страстях по Андрею»
все внимание обращено на внешние формы взаимоотношения личности с миром, на деятельный итог долгого периода концентрации
и постижения себя.
В последующих фильмах Тарковский вновь и вновь обращается
к теме, ярко прозвучавшей в «Страстях по Андрею», вновь и вновь
пытается проникнуть в суть отношений человека с несовершенным
миром. «Зеркало» в этом смысле стоит несколько особняком в творчестве Тарковского. Постоянно отстаивая идею взаимодополнительно-
сти личности и мира, Тарковский и здесь не может обойти ее вниманием, однако в данном случае он использует эту идею для того, чтобы
более глубоко понять сущность самой личности, раскрыть ее абсолютное значение. Не случайно здесь на первый план выходит проблема времени, ведь именно время является важнейшим определением
личности, конституирующим ее конкретную живую структуру, тогда
как для мира время выступает внешней характеристикой, значимой
только в той степени, в какой мир взаимосвязан с личностью и зависит от нее.
149
ГЛАВА III
«Зеркало»: личность во времени и в вечности
2. Проблема «собирания» личности:
жизнь через смерть
Как и «Страсти по Андрею», «Зеркало» открывается прологом, который играет очень важную роль в его идейной конструкции. Мальчик Игнат (его роль исполняет Игнат Данильцев), сын Алексея, главного, автобиографического героя фильма («автора», как он назван
в сценарии), включает телевизор и мы вместе с ним видим «документальный» сюжет, показывающий как женщина-гипнотизер лечит подростка от заикания. «Если ты сейчас будешь говорить, ты всю жизнь
будешь говорить», — такими словами она предваряет последнюю
фазу сеанса; после того как она снимает с юноши гипнотическое напряжение, он излечивается от заикания и ясно произносит: «Я могу
говорить». Только после этого появляются название и титры фильма.
На первый взгляд кажется, что этот фрагмент имеет очень простое и ясное содержание, что здесь Тарковский заявляет о необходимости создания нового кинематографического языка, способного
открыть для искусства кино новые перспективы. Однако это объяснение делает смысл пролога предельно банальным, трудно поверить,
что Тарковский мог начать одно из самых сложных своих творений
с провозглашения такой элементарной истины. Значительно более
глубокий смысл слов, завершающих пролог, проступает в том случае,
если поставить их в один ряд со многими другими аналогичными высказываниями героев Тарковского — вплоть до самой главной фразы,
звучащей в финале его последнего фильма: «В начале было Слово».
Как мы уже говорили, в этой библейской цитате под Словом Тарковский, несомненно, имеет в виду божественное Слово, задающее подлинные, абсолютные смыслы всех вещей и явлений. К такому Слову человек лишь постепенно приближается в своей несовершенной
действительности, и, вообще говоря, неизвестно достижимо оно для
него в своей подлинной форме или нет. Тем не менее уже в «Страстях
по Андрею», Тарковский высказал убеждение, что окончательное понимание всех смыслов, пусть оно придет «в конце времен», за гранью
земной жизни, станет возможным лишь для тех, кто уже здесь, в этой
жизни, делает усилия по приближению к Слову, неустанно пытается
«выговорить» его.
Фильм Тарковского посвящен важнейшему шагу на пути к такому «выговариванию» Слова. От природы человеку дана только способность бессмысленной «болтовни» (по терминологии М. Хайдеггера), умение сказать что-то по-настоящему осмысленное и значимое
приходит далеко не ко всем, и это требует предельных напряжений
воли, чувства, мысли. О таком усилии и повествует «Зеркало». Если
Бог произносит свое Слово — о вещах и о мире, который он творит,
150
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
то человек должен начать с себя, с попыток высказать истину о себе
самом — т. е. с попыток сотворить себя; только после этого для него
открывается возможность по-настоящему глубокого постижения
мира, и появляется надежда на то, что его поступки способны что-то
изменить в действительности.
Перемещение центра тяжести с проблемы взаимодействия человека и мира на проблему «собирания», «концентрации», «сотворения»
личности, прояснения человеком своей собственной сущности, приводит к резкому изменению угла зрения на все происходящие на экране события. В «Страстях по Андрею» почти все события и явления
выступают как объективная данность, изображаются как бы с точки
зрения самого мира; это подчеркивается тем, что главный герой фильма почти все время находится в кадре, именно на нем сконцентрировано внимание «объективного наблюдателя». В «Зеркале», наоборот,
Тарковский ни разу не показывает нам автобиографического героя
фильма (за исключением картин прошлого, где он еще мальчик), мы
слышим только его голос (в исполнении Иннокентия Смоктуновского). Лишь в самом конце, когда герой уже тяжело болен, мы видим
его лежащим в постели, причем и в этом случае показано только его
тело, но не лицо, — и это можно рассматривать как символическое
свидетельство близости смерти. Все предстающие нам на экране
сцены встают в духовном средоточии личности рассказчика, «автора», это его точка зрения на мир, на свое прошлое, на себя самого;
когда в этом внутреннем духовном зрении предстает тело человека,
это воспринимается как своего рода отделение души от тела.
Первоначально Тарковский предполагал в конце фильма показать
героя на смертном одре, причем в этой сцене он хотел снять самого
себя. Он отказался от этого идеи, возможно, из-за чрезмерной прямолинейности возникающих здесь ассоциаций; в фильме развязка
выглядит немного неопределенной, приходится только догадываться, что героя настигла смерть. Позже сцену на смертном одре, подобную той, что так и не была реализована для «Зеркала», Тарковский
снял для «Жертвоприношения», однако и там снятый эпизод не был
включен в окончательную версию картины. Настойчивость, с какой
режиссер пытался воплотить этот замысел, показывает, что он был
для него предельно важным, связанным с каким-то чрезвычайно существенным принципом его мировоззрения.
Смерть подводит черту под жизнью личности и тем самым придает ей определенность и завершенность. Эта тема подробно разрабатывалась в философии XX в., особенно в экзистенциализме,
который был чрезвычайно популярен в 60-70-е гг. и, несомненно,
повлиял на мировоззрение Тарковского. Однако в своем отношении
к смерти Тарковский все-таки гораздо ближе к традициям русского
151
ГЛАВА III
«Зеркало»: личность во времени и в вечности
философствования. В западном экзистенциализме (М. Хайдеггер,
Ж.-П. Сартр и др.) смерть рассматривается как феноменальное выражение неустранимой конечности человеческого бытия, она выступает
абсолютным пределом, открывающим бездну Ничто, в которой исчезают все смыслы. В русской традиции, наоборот, смерть воспринималась не столько как «обрыв» всех смыслов и граница для устремлений
человека, сколько как выход в сферу вечности, где относительные
цели и устремления, имевшие значение только в нашей земной жизни, обретают абсолютное измерение, раскрывают свое вечное содержание. Смерть не противоположна рождению, а выступает как
вторая точка рождения — рождение для новой жизни. Смерть не
является абсолютной границей, она есть подчиненный момент жизни, ее кульминация, в ней выявляются и сходятся воедино все самые
важные смыслы личного бытия.
Пример такого подхода дают размышления И. Ильина, который
постоянно подчеркивал в своих философских трудах, что только
смерть «оформляет» жизнь и дает критерий подлинных жизненных
содержаний, т. е. позволяет разделить истинные и мнимые ценности.
«Идея смерти, — пишет он, — как бы открывает мне глаза и вызывает во мне какой-то неутолимый голод, жажду истинного качества,
волю к божественным содержаниям, решение выбирать и отбирать, верно, не ошибаясь и не обманываясь. Я постепенно учусь
различать — что действительно хорошо и прекрасно перед лицом
Божиим и что мне только кажется хорошим, а на самом деле лишь
соблазняет, прельщает и разочаровывает. И проходя этот жизненный
искус, я все более и более убеждаюсь, что в жизни есть многое множество содержаний, занятий и интересов, которыми не стоит жить
или которые не стоят жизни; и, напротив, есть такие, которые раскрывают и осуществляют истинный смысл жизни. А смерть дает мне
для всех этих различений и познаний — верный масштаб, истинный
критерий»4.
Впрочем, Ильин понимал посмертное бытие человека в достаточно традиционном смысле, как «райское» состояние, состояние
в единстве с Богом, вне земной, несовершенной действительности. Представления Тарковского в этом пункте гораздо ближе к неортодоксальной интерпретации идеи бессмертия у Достоевского
и Л. Карсавина (см. предыдущую главу). Смерть завершает человеческую жизнь и придает ей новую осмысленность и цельность, — однако не потому что ставит перед лицом Ничто (как считали западные
экзистенциалисты) или Бога (как считал Ильин), а потому что переводит человека в новый круг бытия, который все же не является аб¬
4 Ильин И. А. Поющее сердце. Книга тихих созерцаний // Ильин И. А. Собр.
соч. в 10-ти т. Т. 3. С. 338.
152
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
солютно совершенным. Преимущество его только в том, что из него
личность способна «обозреть» всю свою жизнь, «осветить» ее новым
светом и тем самым выявить ее единую внутреннюю логику. Это
в свою очередь позволяет придать пройденной жизни новую осмысленность и цельность — качества, сохраняющие свое значение во
всех сферах реальности.
По первоначальному замыслу Тарковского фильм должен был начинаться со сцены похорон. По-видимому, здесь смерть должна была
выступать в только что обозначенном смысле, как переход в новый
круг бытия и одновременно как начало процесса «собирания» личности — процесса, управляемого из этого круга. Согласно сценарию,
сцену похорон должен был сопровождать звучащий за кадром монолог героя-«автора», он интересен тем, что в нем прямо сформулирован
один из ключевых философских принципов, положенных в основу
«Зеркала»: здесь выражено то же самое убеждение в бессмертии человека, которое было характерно для Достоевского.
«Иногда мне кажется, — должен был говорить герой (Алексей)
в этой сцене, — что лучше ничего не знать и стараться не думать
о смерти так же, как мы не могли думать и ничего не знали о своем
рождении.
Зачем, кому это нужно, чтобы жизнь уходила так жестоко, безвозвратно, почему нужно мучиться отчаянием и опустошенностью,
откуда у людей столько сил? За что они расплачиваются? Почему,
чем больше мы любим, тем страшнее, непоправимее потеря? Почему, по какому праву мы так привыкли к смерти? Зачем природа
заставляет нас быть настолько легкомысленными, что мы забываем
о ней? Ведь и так, кажется, мы уже все вынесли. Разве недостаточно
людей умерло?»5 (курсив мой — И. E.).
После этого Алексею приходят на память строки пушкинского
стихотворения «Пророк»; словно возражая всеобщему убеждению
в неумолимости и неминуемости смерти, он читает слова о воскресении человека к новому бытию, преображенному по отношению
к прежнему, возвышающему человека до сверхземного, божественного состояния, до состояния пророческого прозрения Истины.
Как труп в пустыне я лежал.
И Бога глас ко мне воззвал:
Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.
5 Мишарин А., Тарковский А. Зеркало (сценарий) // Киносценарии. 1994.
№6. С. 4.
153
ГЛАВА III
«Зеркало»: личность во времени и в вечности
«Земля поднимется и упадет в сторону, и гроб выйдет из могилы,
и откроется крышка, и люди отойдут в оцепенении, и слезы вернутся
обратно»6.
Последние слова, следующие в сценарии за стихотворением Пушкина, недвусмысленно соединяют его с историей воскресения Лазаря
и показывают, что воскресение в этом стихотворении Тарковский понимает не как аллегорию, а как реальный факт. Эти слова позволяют увидеть ясную преемственность философских идей, выраженных
в «Зеркале», по отношению к философской концепции преображения
человека и мира, которую мы ранее обнаружили в фильме «Страсти
по Андрею».
Возможно, Тарковский отказался от сцены похорон из-за того,
что между ней и последующим изобразительным материалом возник
бы явный «зазор». Почти весь фильм представляет собой внутренний
монолог героя, и психологически он оправдан только «изнутри» земной жизни. Взгляд «извне» (как бы из бытия после смерти) выглядел
бы несколько инородным в чисто художественном отношении, хотя
и вполне оправданным с точки зрения заявленных в фильме философских принципов. В сравнении с этим предварительным замыслом
сцена «расставания» души с телом в финале выглядит более естественной и придает фильму большую цельность.
Тем не менее основополагающая идея Тарковского, задающая
внутреннюю логику повествования, представляется достаточно ясной: «собирание» собственной личности, осуществляемое главным
героем фильма, происходит с «посмертной» позиции, из той сферы,
в которую он переходит в момент смерти, фактически — из «мира
вечности», не раз упоминавшегося выше в связи с анализом фильма
«Страсти по Андрею» и постановки оперы «Борис Годунов». Перед
нами проходит весь круг человеческого бытия — от рождения (даже
от зачатия) до смерти, причем замкнутость и цельность жизни
Алексея выразительно подчеркивается в финале, где момент смерти,
изображенный в настоящем, оказывается тождественным выходу
в «мир вечности» — здесь оказываются рядом, в органической связи
друг с другом все важнейшие события этой жизни: мы видим мать
и отца Алексея, которые еще только мечтают о рождении сына, и постаревшую мать, которая уже пережила своего сына, и маленького
мальчика, находящегося на том пороге, когда формируется его личность, когда начинается его собственная осознанная жизнь.
Стихотворения Арсения Тарковского, отца режиссера, звучащие
за кадром в авторском исполнении, дают ясную формулировку некоторым ключевым идеям художественного мировоззрения «Зеркала».
Пожалуй, самым важным из них является стихотворение, сопро¬
6 Там же. С. 5.
154
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
вождающее кадры военной кинохроники в эпизоде, происходящем
в тире.
Предчувствиям не верю и примет
Я не боюсь. Ни клеветы, ни яда
Я не бегу. На свете смерти нет.
Бессмертны все. Бессмертно всё. Не надо
Бояться смерти ни в семнадцать лет,
Ни в семьдесят. Есть только явь и свет,
Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете.
Мы все уже на берегу морском,
И я из тех, кто выбирает сети,
Когда идет бессмертье косяком.
Живите в доме — и не рухнет дом.
Я вызову любое из столетий,
Войду в него и дом построю в нем.
Вот почему со мною ваши дети
И жены ваши за одним столом, —
А стол один и прадеду и внуку:
Грядущее свершается сейчас,
И если я приподнимаю руку,
Все пять лучей останутся у вас.
Я каждый день минувшего, как крепью,
Ключицами своими подпирал,
Измерил время землемерной цепью
И сквозь него прошел, как сквозь Урал.
Я век себе по росту подбирал.
Мы шли на юг, держали пыль над степью;
Бурьян чадил; кузнечик баловал,
Подковы трогал усом, и пророчил,
И гибелью грозил мне, как монах.
Судьбу свою к седлу я приторочил;
Я и сейчас, в грядущих временах,
Как мальчик, привстаю на стременах.
Мне своего бессмертия довольно,
Чтоб кровь моя из века в век текла.
За верный угол ровного тепла
Я жизнью заплатил бы своевольно,
Когда б ее летучая игла
Меня, как нить, по свету не вела.
В поэтической форме здесь выражено то же самое убеждение
в «многомерности» человеческого бытия, которое ранее уже не раз
воспроизводилось нами со ссылкой на выдающихся представителей
русской философии от Достоевского до Карсавина. Подлинная суть
155
ГЛАВА III
«Зеркало»: личность во времени и в вечности
человеческой личности не ограничивается тем, что явлено в ней
и для нее в ограниченном отрезке ее собственной истории. Каждый
человек в полноте своего существования охватывает и подчиняет
себе, связывает воедино, все планы бытия и все пласты истории.
Это означает, что процесс «собирания» и «концентрации» личности
должен включать в себя не только «обзор» и «выстраивание» своей
личной истории, но и истории как таковой, всей временной динамики
жизни — и того, что находится рядом, и того, что кажется бесконечно далеким; ведь ограниченность человека иллюзорна во всех ее формах и проявлениях, каждая личность столь же бесконечна и вечна,
как огромный мир вокруг.
Основные изобразительные линии фильма с разной полнотой
и в разных ракурсах показывают процесс обретения личностью окончательного смысла своего бытия, в них даны разные формы и уровни
«концентрации» личности, выявления ее вечной составляющей. Самая значительная и самая явная тематическая сфера — это личная
история автобиографического героя-«автора», взаимосвязанная
с личными судьбами его близких — матери, отца, бывшей жены,
сына. Вторая сфера, также достаточно широко представленная
в фильме, — это современная герою история, обозначенная с помощью многочисленных вставок документальной кинохроники. Наконец, третья сфера — это «большая» история, вся история человечества, осознание причастности к которой также необходимо для
реализации подлинного смысла личного бытия человека. Она явлена
в фильме через элементы культурного наследия человечества, окружающего героев, пронизывающего их быт и их жизнь.
Согласно первоначальному плану фильм должен был включать
сцену «Рассвет на поле Куликовской битвы», которая была задумана Тарковским еще для фильма «Страсти по Андрею». Как видно из
сценария «Зеркала», эта сцена должна была находиться в середине
фильма и выступать в качестве его идейного центра, объединяющего
все три упомянутые выше сферы, — должна была обозначать связь
личной истории с историей народа и всего человечества. Однако,
по-видимому, Тарковский в конце концов осознал, что, делая более
ясной его философскую концепцию, эта чисто историческая вставка нарушила бы художественную цельность и логичность фильма,
поэтому он отказался от нее. Для выражения единства личности и
«большой» истории он использовал не столь прямолинейный и гораздо более изысканный прием; это единство реализуется через образы
мировой культуры, которые предстают в фильме и в своей собственной форме (живопись и музыка великих мастеров прошлого), и отражаясь в облике героев, в явлениях и событиях их жизни (сходство
Марии Николаевны с Марьей Лебядкиной, героиней романа «Бесы»,
156
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
ее же сходство с образом молодой женщины с портрета Леонардо да
Винчи, параллель между Игнатом, поджегшим ветки во дворе дома,
и Моисеем, которому явился ангел в виде горящего куста, сходство
зимних пейзажей в эпизоде в тире с пейзажами П. Брейгеля и т. п.).
Убрав сцену, изображающую поле Куликовской битвы, Тарковский
сделал идейной кульминацией фильма другой фрагмент, — сцену «явления» мальчику Игнату загадочной женщины, предложившей ему
прочесть отрывок известного письма Пушкина к Чаадаеву, в котором
говорится об исторической судьбе и предназначении России. Не выбиваясь из изобразительного и сюжетного ряда фильма, этот фрагмент
несет в себя очень сложный смысл и придает фильму очень глубокое
философское содержание. Этот фрагмент говорит о том, что и личная
судьба человека, и современная ему история, и история ушедших эпох
обладают равным значением перед лицом «мира вечности», который не
удален от нашего «мира времени», а един с ним и в любой момент может проявиться в нем, указывая человеку его судьбу, помогая понять
смысл жизни и осуществить свое предназначение в ней. По своему
содержанию этот фрагмент очень похож на сцену явления умершего
Феофана Андрею Рублеву в фильме «Страсти по Андрею». Здесь, как
и в предшествующем своем фильме, Тарковский показывает вторжение «мира вечности» в «мир времени», схождение и соединение
всех уровней бытия, осуществляемое благодаря личности и через нее.
Указанный фрагмент начинается с того, что Игнат остается впервые один в новой квартире отца. Уже во время его расставания с матерью, которая в спешке уходит по каким-то делам, начинается своеобразное «растворение» настоящего в вечном. Наталья (которую, как
и молодую мать главного героя, играет Маргарита Терехова) роняет
сумку, и когда они вдвоем собирают выпавшие из нее вещи, Игната
«бьет током» от одной из монет, и к нему приходит загадочное чувство, что все происходящее уже было с ним когда-то. «Как будто это
уже было один раз, тоже деньги собирал... А я вообще тут первый
раз», — говорит он. Ситуация с рассыпанной сумкой, останавливающей порывистое движение матери Игната, обладает явным символическим смыслом, аналогичным мотиву падения, который повторяется во всех фильмах Тарковского и обозначает усилие преодоления,
усилие перехода в новую жизнь или в новую сферу бытия, осуществляемое героями (о чем уже говорилось выше в связи с фильмом
«Страсти по Андрею»). В данном случае «вектора» движений двух героев направлены в противоположные стороны: мать Игната пытается
«догнать» ускользающее время, пытается быть в ногу с настоящим
и воспринимает произошедшую задержку как досадное недоразумение, для Игната, наоборот, это событие становится отправной точкой
для выхода в сферу вечного.
157
ГЛАВА III
«Зеркало»: личность во времени и в вечности
В этот момент в ткани фильма появляется едва различимое поначалу звуковое сопровождение — металлический звук, в конце всего
фрагмента переходящий в хор, поющий на одной ноте; оно привносит в эмоциональную палитру эпизода элемент напряженного ожидания, неуклонно нарастающего вместе с нарастанием мощности
звука вплоть до срыва в гулкую паузу, разрешающуюся телефонным
звонком, который обозначает возвращение Игната в сферу времени,
в настоящее. Звуковое сопровождение здесь в своем символическом
значении подобно музыкальному сопровождению фрагмента «полета» (образ идеального мира, мира абсолютной гармонии) из эпизода
«Феофан Грек» в фильме «Страсти по Андрею» (можно вспомнить
также и финал «Иваново детства»). В обоих случаях за счет звукового сопровождения создается атмосфера экстатического порыва
в сверхземные или сверхвременные сферы бытия. Различие только
в том, что в «Страстях по Андрею» этот порыв не имел «субъекта»,
и его результатом был «объективный» образ идеального мира, в то время как в «Зеркале» прорыв в сферу вечности осуществляет конкретный
человек, который в своей личной судьбе и своими личными усилиями
соединяет «распавшееся» бытие (как мы помним, эти усилия вовсе не
обязательно должны быть выражены в поступке, в радикальном воздействии на мир). Поэтому соответствующий фрагмент в структуре
«Зеркала» выглядит гораздо более органичным и многозначным, чем
«полет» в «Страстях по Андрею», он непосредственно связан (сюжет-
но и идейно) с предыдущими и последующими эпизодами фильма.
Обратим внимание на еще одну существенную деталь. Квартира
отца Игната в рассматриваемом фрагменте предстает совершенно
иной, чем в других эпизодах фильма. Как мы можем понять, Алексей
только недавно переехал в нее, и это объясняет некоторую неухоженность и запущенность в ней. Однако та комната, в которой появляются перед Игнатом странная «гостья» вместе с пожилой женщиной-
прислугой, не просто неухожена, она несет на себе печать какой-то
фундаментальной ирреальности. Во-первых в ней почти отсутствует мебель; помимо стола и стула, на котором сидит незнакомая Игнату женщина, мы видим также книжный шкаф, но он находится не
в самой комнате, а в коридоре около двери. Во-вторых, стены этой
комнаты совершенно лишены какой-либо отделки, обоев, украшений. Их серая, неровная и потрескавшаяся поверхность выражает
какую-то первозданность, перво-бытийность этого места. В обычном
человеческом жилище стены всегда несут на себе отпечаток условий
существования человека и его вкусов; они обладают своим собственным «лицом», по которому можно узнать характер обитателей дома
и угадать эпоху, царящую за этими стенами. Тарковский показывает
нам жилище, в котором все это отсутствует, это жилище человека
158
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
в вечности, в пра-бытийном состоянии за гранью определенных эпох,
конкретных вкусов и частных пристрастий. Это как бы символ человеческого дома в бытии вообще, в том его средоточии, где сходятся
и соединяются все его сферы.
Отметим, что именно в этой комнате в самом начале фильма
герой-«автор» Алексей пробуждается от сна и говорит с материю, позвонившей ему по телефону. При этом он совершенно не представляет, в какое время он проснулся, вечер сейчас или утро. Словно эта
странная комната — особое место на земле, вырванное из обычного
пространства и времени и находящееся в особой связи с какими-то
сверхэмпирическими, сверхземными сферами бытия. Во время телефонного разговора Алексея с матерью мы видим на одной из стен
плакат фильма «Андрей Рублев». В сцене с появлением загадочной
«гостьи» та стена, где висит плакат, не видна, однако его скрытое,
угадываемое присутствие в этом месте, символизирующем связь
«мира времени» и «мира вечности», безусловно, не случайно. Вероятно, Тарковский хочет сказать этим, что его творчество есть своего рода «общение» с «миром вечности», и его произведения — это не
просто преходящие феномены эмпирической действительности, уходящие в небытие с течением времени, но элементы божественного,
вечного Слова, которое стремится выговорить человек и которое, по
сути, представляет собой «речь» самого бытия.
И другие образные элементы рассматриваемого фрагмента «Зеркала» также работают на создание атмосферы «иного», «вечного»
мира. Окно загадочной комнаты, где перед Игнатом предстает неизвестно откуда взявшаяся «гостья», упирается в грубую кирпичную
стену, которая полностью замыкает это помещение в себе, порождая
ощущение оторванности, удаленности от реального мира. В течении
того времени, пока женщина за столом, попросившая Игната прочитать ей отрывок из письма Пушкина, пьет чай, несколько раз происходит резкая смена освещения: комната то погружается в свинцовую
полутьму, то освещается золотистым, неестественно ярким солнечным светом. Очевидно, что свет может падать только из второго
окна, но оно не видно, и поэтому изменение освещения кажется обусловленным эмоциональным состоянием Игната и слушающей его
женщины. В какой-то момент Тарковский создает чисто живописную
композицию: стол со стоящим на нем серебристым бокалом на фоне
серо-стальной стены навевает воспоминания о натюрмортах французских художников 20-30-х гг. XX в., особенно близко это изображение к стилистике полотен Андре Дерена.
Наконец, особо нужно сказать о самой «гостье», появившейся
перед Игнатом. Ее играет Тамара Огородникова, которую Тарковский впервые снял в «Страстях по Андрею» (она была директором
159
ГЛАВА III
«Зеркало»: личность во времени и в вечности
этого фильма), в сцене «русской» Голгофы. Исполнительница вспоминает, что убеждая ее сыграть там небольшую, но важную для замысла фильма роль Богоматери, Тарковский говорил, что считает ее
внешность наиболее точным воспроизведением внешности русского
человека — «прежнего» русского человека7. Однако тот факт, что
Тарковский снял ее вновь в одном из ключевых эпизодов «Зеркала»,
заставляет усомниться в точности этого объяснения. На наш взгляд,
более правильным будет предположить, что в Огородниковой Тарковский увидел тип «вечного» человека, не обладающего явными
национальными или историческими чертами и потому наиболее подходящего на роль посланца «мира вечности». Это предположение подтверждается тем, что та же женщина (в исполнении Огородниковой)
появляется еще в двух эпизодах «Зеркала». В самом начале фильма, в отрывке, показывающем воспоминания героя о своем детстве
и о том времени, когда от них ушел отец, мы видим как она берет на
руки маленькую девочку — сестру Алеши. И в конце фильма у постели умирающего Алексея мы вновь видим ее вместе с его матерью.
Она предстает в фильме как ангел-хранитель семьи, ангел-хранитель Алексея и Игната — отца и сына.
Появление «гостьи» перед Игнатом, по-видимому, необходимо понимать как желание «высших сил» повлиять на его судьбу, соединить
ее с судьбой России, ведь именно о предназначении России говорится
в письме Пушкина, которое, немного запинаясь, читает Игнат:
«Нет сомнения, что разделение церквей отъединило нас от Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий...
событий, которые ее потрясали, но у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили
монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные
границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели
мы должны были вести совершенно особое существование, которое,
оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми
христианскому миру... Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться... Положа руку
на сердце, разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем
положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка?..
Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь
всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как
человек с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, что
ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее
дал. — Из письма Пушкина Чаадаеву. 19 октября 1836 года».
7 См.: Туровская М. 7 1 /2, или Фильмы Андрея Тарковского. С. 76.
160
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
В фильме мы несколько раз слышим от отца и матери Игната, что
он плохо учится, что его ждет незавидное будущем, что у него отсутствует сила воли. В этом контексте явление «ангела» и чтение Игнатом по его просьбе письма, посвященного высшим духовным смыслам развития России, нужно рассматривать как поворотный пункт
в становлении и развитии личности Игната, как начало обретения себя
и своего собственного предназначения в жизни. Во взаимосвязи
с этой сценой становится вполне прозрачным и последующий эпизод
с горящими ветками во дворе, являющийся своего рода комментарием к произошедшему ранее мистическому событию. Когда Игнат поджигает во дворе ветки, и его мать Наталья пытается вспомнить, кому
явился ангел в виде горящего куста, Алексей с иронией отвечает:
«Во всяком случае не Игнату». Однако для вестников «мира вечности» все люди равны, и судьба для своих целей может выбрать самых
неприметных. Когда Алексей, наконец, вспоминает, что ангел в виде
горящего куста явился Моисею — пророку и спасителю великого народа, он и не подозревает, что его сын уже тоже избран, и посланник
иного мира уже дал ему знак его избранничества.
Очень выразительным, почти нарочитым, элементом рассматриваемого фрагмента является странное неузнавание друг другом Игната и его бабушки, матери Алексея, пришедшей навестить сына. Звонок в дверь квартиры прерывает чтение письма, однако мы в отличие
от героев не слышим его (к сожалению, отсутствие звонка в звуковой
ткани фильма зрители воспринимают только как дефект записи). По-
видимому, это нужно понимать в том смысле, что происходящее с Игнатом событие вырвало его из времени и из привычного мира, — все,
что связано с нашим миром, с трудом пробивается на «островок» вечности, в эту загадочную комнату, пребывающую в ином измерении
бытия. Открыв дверь перед своей бабушкой, Игнат не узнает ее, как
и она его, — ведь они смотрят друг на друга из разных пластов бытия,
разделенных непреодолимой бездной, способной поглотить время.
И странные гулкие звуки, которые врываются в открытую дверь,
когда Игнат распахивает ее перед стоящей на лестнице Марией Николаевной, — это шумы и звуки междумирия, блуждающее в нем
эхо, оторвавшееся от вызвавших его событий в «мире времени» и затерявшееся в «провалах» и «разломах» бытия. Только второе вторжение «мира времени» — телефонный звонок отца — приводит к тому,
что Игнат окончательно возвращается в него. Впрочем, возникшее
в телефонном разговоре воспоминание Алексея о своем детстве вновь
переносит нас из реальности настоящего в реальность прошлого,
где мы видим Алексея тем же самым мальчиком, что и его сын Игнат.
Мотив двойничества, особенно ясно выступающий в последующих эпизодах, является одним из центральных в идейном содержа¬
161
ГЛАВА III
«Зеркало»: личность во времени и в вечности
нии «Зеркала» и требует особого внимания, однако прежде чем перейти к его детальному анализу, отметим одну особенность структуры
фильма. Рассмотренная только что сцена явления «ангела» Игнату
находится в середине фильма и делит его на две части. В первой из
них основное внимание обращено на Марию Николаевну, мать Алексея, и его жену Наталью. Можно сказать, что в первой части Алексей
начинает путь к постижению самого себя, к выявлению абсолютного смысла своей личности через осмысление того значения, которое
имела для него его мать, и через раскрытие своих нерасторжимых
связей с ней. Во второй части главным действующим лицом, центром
внимания, оказывается мальчик Алексей, находящийся в том же возрасте, что и Игнат и поэтому отождествляемый с ним. Только в финале на первый план вновь выходит линия матери, и именно через веру
в бессмертие матери («мать БЕССМЕРТНА», — прямо говорит
Алексей в сценарии8) герой-«автор» осознает и выражает идею бессмертия вообще, в том числе и своего собственного бессмертия.
Переплетение судеб героев, их «отражение» друг в друге заставляют обратиться к проблеме соотношения индивидуального бытия
человека и его бытия в другом, в единстве и даже тождестве с другим человеком.
3. Исток личности героя
Уже в критических откликах на фильм «Андрей Рублев» звучало
недоумение по поводу идеи Тарковского снимать в ролях братьев-кня-
зей одного и того же актера, что создавало для зрителей существенные затруднения в определении, кого из братьев они видят в той или
иной сцене на экране. Принципиальный характер этого решения подтвердился в «Зеркале», здесь все четыре главных персонажа оказались в отношениях «двойничества»: Алексей и его сын Игнат, Мария
Николаевна (мать Алексея) и его бывшая жена Наталья9.
8 Мишарин А., Тарковский А. Зеркало (сценарий). С. 47.
9 Несмотря на органичность темы «двойничества» для Тарковского, можно
высказать предположение, что в «Зеркале» дополнительным толчком в ее реализации стал «внешний» фактор — впечатление от выдающегося фильма польского
кинорежиссера Анджея Жулавского «Третья часть ночи» (1971). Первое произведение Жулавского стало событием не только для Польши (его стали называть
«манифестом нового польского кино»), но и для всего европейского киноискусства. Фильм дал абсолютно необычный, лично-трагический и субъективный образ войны, причем он был выполнен в философско-притчевой манере. Все изображаемые на экране события можно понять как предсмертные (или посмертные?)
видения главного героя. В этих видениях грань между реальными воспоминаниями и фантазией почти исчезает. Воспоминания героя концентрируются на
трагическом событии — убийстве его жены и маленького сына немецкими солдатами. Встав на путь мщения, герой приходит в подпольную антигитлеровскую
162
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
При анализе фильма «Страсти по Андрею» мы подчеркивали, что
двойничество братьев-князей выражает идею неразрешимой внутренней противоречивости человека, «разорванности» его сущности,
приводящей к порождению зла и разрушению относительной гармонии мира и человеческого общества. Однако двойничество героев
можно понять не только в негативном, но и позитивном смысле —
как выражение глубокого единства людей. В воспоминаниях Юрия
Назарова, сыгравшего обе роли братьев-князей, сохранилось упоминание о том, как Тарковский представлял себе заключительную сцену истории вражды Малого и Великого князей. «После набега татар
и страшной, кровавой битвы, — со слов А. Солоницына рассказывал
Назаров, — Рублев, потрясенный и обессиленный, бредет по дороге
организацию, но на первом же задании попадает в засаду. Его спасает только то,
что гестаповцы во время долгого преследования хватают случайного человека,
похожего на него, в то время как он сам прячется в его квартире и обнаруживает,
что жена этого незнакомца как две капли воды похожа на его убитую жену (эти
две женские роли играет одна актриса). Герою приходится решать трагическую
дилемму: он пытается повторить с внезапно встреченной женщиной («вторым воплощением» его жены) свою прежнюю жизнь и одновременно старается сделать
все возможное, чтобы вызволить ее мужа из гестапо — даже ценой собственной
жизни. Фильм Жулавского имеет чрезвычайно сложную, сюрреалистически-
дробную структуру, и в то же время в нем чувствуется ясная идейная логика —
он выражает идею глубокой взаимозависимости людей, их «отражение» друг
в друге. Фильм повествует о том, что Апокалипсис уже наступил, хотя мы не замечаем этого и продолжаем жить с надеждой на будущее (фильме открывается
и завершается чтением Откровения Иоанна Богослова, само его название — это
слова из Апокалипсиса).
В фильме Жулавского столь много художественных и идейных мотивов,
сближающих его с «Зеркалом», что трудно отделаться от мысли о возможном
влиянии произведения Жулавского на Тарковского и на его фильм, работа над
которым шла в 1973-1974 гг., как раз в то время, когда вся европейская кинообщественность обсуждала произведение польского режиссера. Отметим также,
что истоки художественного и философского мировоззрения Жулавского лежат
там же, где и истоки мировоззрения Тарковского — в творчестве Достоевского.
Позже Жулавский снял два фильма, используя мотивы «Идиота» и «Бесов» —
как раз тех двух романов Достоевского, которые всю жизнь мечтал экранизировать Тарковский. Конечно, такие сближения не являются случайными — два
выдающихся мастера кино в своем творчестве двигались в одном направлении
и не боялись заимствовать художественные открытия друг у друга. В своих интервью А. Жулавский признается, что всегда восхищался Тарковским (который
был старше его и начал свою режиссерскую карьеру гораздо раньше) и испытал
влияние его искусства; будучи в Москве в середине 60-х гг. в группе Анджея
Вайды, снимавшего тогда фильм «Пепел», он близко познакомился с Тарковским,
который даже предложил ему сыграть «роль» Иисуса Христа в «русской Голгофе»
из «Страстей по Андрею». В первом фильме Жулавского Тарковский мог узнать
своеобразное воплощение идей, который зрели в его собственном творчестве,
возможно, это и вызвало окончательную «кристаллизацию» замысла «Зеркала»,
который до этого мыслился Тарковским совершенно иным.
163
ГЛАВА III
«Зеркало»: личность во времени и в вечности
и натыкается на Малого князя с копьем промеж лопаток. Тот просит
воды, Рублев подтаскивает умирающего к луже, и тот пьет из нее,
как собака. Князь испускает дух на руках у монаха, а перед смертью
говорит: “Как бы я брата любил, если б не жажда власти!” И в это
же самое время под Великим князем, возвращающимся из Литвы,
спотыкается конь. Князь хватается за сердце: “Что-то сердце мне недоброе вещует! Кто-то из близких моих умер...” А умер его брат и его
же злейший враг. Вот такое сплетение любви и ненависти, кровной
близости и жестокости»10.
Хотя этот замысел не был реализован, он показывает, что Тарковский в мотиве двойничества князей видел не только негативную сторону, но и позитивную — идею глубокой мистической связи людей,
обеспечивающей их взаимопонимание и гармонию их отношений.
В «Страстях по Андрею» эта тема не нашла себе отражения; видимо,
режиссер решил, что ее развернутое изложение приведет к чрезмерному усложнению идейного содержания картины, и без того весьма
непростой. Но в «Зеркале» она стала одной из важнейших; двойни-
чество главных героев, выражающее их сверхвременное духовное
единство, является ключевым образным элементом, через который
Тарковский обозначает свое понимание идеи бессмертия. В этом контексте и название фильма приобретает очень глубокое метафорическое содержание.
Как мы уже говорили, фильм посвящен изображению важнейшего процесса, который когда-либо обязан совершить каждый человек, — процесса «собирания», «концентрации» своей личности,
выявления абсолютного смысла своего бытия. Но личность несамодостаточна, человек формируется, развивается и реализует
себя только в отношениях с миром и с другими людьми. Ребенок
становится взрослым, обретает себя за счет того, что на него воздействуют (сознательно и бессознательно) окружающие его люди,
за счет того, что близкие ему люди отражаются в нем, и их «отражения» остаются в нем как часть его существа. И даже сформировавшись как личность, человек остается в поле «силового воздействия» других, он воспринимает влияние окружающих и сам
оказывает влияние на них. Для того чтобы понять себя и смысл
своего присутствия в бытии, он должен восстановить, сделать для
себя явными все эти многообразные взаимосвязи: с одной стороны,
найти в себе, в самой интимной и важной сфере своей души,
отражения близких людей, оказавших наибольшее влияние на
формирование личности, а с другой — найти в окружающих,
в связанных с ним людях свои собственные отражения, найти
в них себя самого.
10 Назаров Ю. Мне дорог Тарковский-реалист // О Тарковском. С. 128.
164
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
Эту двуединую задачу и решает герой-«автор» фильма. Вся первая часть фильма — это его попытка восстановить в себе образ молодой матери и понять этот образ как живое основание собственной
личности. В большинстве эпизодов этой первой части сам Алексей
или вовсе отсутствует (как в эпизоде, происходящем в типографии),
или присутствует пассивно, даже не воспринимая происходящее
(например, в первом эпизоде во время беседы матери с прохожим он
показан спящим). Однако влияние матери на него было столь всеобъемлющим и глубоким, что все события ее жизни (особенно те,
которые определили ее и его судьбу) даже помимо его воли и участия
отразились в его личности, стали частью его жизни. Не случайно,
все эпизоды первой части относятся (прямо или косвенно) к одному
и тому же событию — к уходу отца, которое заставило мать Алексея
осознать, что она осталась одна, привело ее к решению пожертвовать собой ради детей. Это событие стало для Алексея истоком
сознательного отношения к миру, стало лейтмотивом его воспоминаний о своем прошлом; именно оно отметило значение матери в развитии его личности.
Первый эпизод фильма достаточно ясен в своем сюжетном содержании (далеко не исчерпывающем всех его смыслов), он изображает
тот момент в жизни Марии Николаевны, когда она решила посвятить всю себя детям. Ее случайная встреча с врачом, идущим в Том-
шино, явно содержит в себе возможность каких-то более глубоких
отношений, ведь с первых слов, несмотря на резкую реакцию Марии
Николаевны, между нею и врачом устанавливается какая-то невидимая связь, открывается способность понимать друг друга с полуслова (как это часто бывает между героями романов Достоевского). Эта
возможность тем более притягательна, что появление врача символически обозначает исчезновение последней надежды на возвращение мужа. «Если он от куста свернет в сторону дома, то это отец,
если нет, то это не отец, и это значит, что он не приедет уже никогда», — так передает Алексей за кадром мысли матери, наблюдающей
за фигурой приближающегося издалека человека. Но этот человек
оказывается не ее мужем.
В тот момент, когда врач, которого играет Солоницын, прикуривает у Марии Николаевны папиросу, она оборачивается и смотрит
на своих детей, спящих в гамаке. Мы почти физически ощущаем ее
положение между этим странным, но притягательным мужчиной
и детьми. Только во время стремительного ухода врача Мария Николаевна делает единственный шаг ему навстречу, она окликает его: «Послушайте, у вас кровь за ухом». Врач ощупывает шею, машет рукой
и идет дальше, но вдруг останавливается и оборачивается; он осознает,
что в этом оклике было что-то большее, чем просто знак вежливости.
165
ГЛАВА III
«Зеркало»: личность во времени и в вечности
Мы видим, как он долго смотрит на Марию Николаевну, она тоже пристально смотрит на него. Эта пауза, во время которой два человека —
мужчина и женщина — долго смотрят друг на друга, наполнена
скрытой энергией и заставляет вспомнить очень похожий момент из
«Страстей по Андрею», где точно так же долго и выразительно смотрели друг на друга Дурочка и татарин. Здесь, как и там, раскрывается
чудо любви, однако в данном случае на мгновение рождается только
возможность любви — слишком эфемерная, почти невозможная;
это подчеркивается тем, что Марию Николаевну и врача, когда они
смотрят друг на друга, разделяет огромное расстояние, которое уже
невозможно преодолеть. Мы видим, как врач дважды поворачивается
и как бы делает усилие к тому, чтобы вернуться, возобновить прерванный разговор; однако всё уже невозвратимо. И оба раза по полю пробегает резкий, порывистый ветер, пригибающий к земле высокую траву и кусты, подхватывающий врача, который с трудом удерживается
на ногах. Эти порывы ветра — отражение в природе, в окружающем
мире мгновенного всплеска чувств в душе человека.
В конце концов врач с некоторой обреченностью взмахивает рукой и окончательно уходит. Мария Николаевна также окончательно
делает свой выбор — возвращаясь к спящим детям, она выбирает свою
собственную голгофу. Вспыхивающий внезапно пожар — пожар под
дождем! — это прорвавшийся в мир отблеск той душевной катастрофы, которую переживает Мария Николаевна. Прежде чем
на экране предстанет пожар, мы видим выразительный образ ее страданий: она пытается сдержать слезы, кусая губы, и ее лицо освещено
тревожным желто-красным светом — этот свет словно исходит от
нее самой, это сполохи «пожара», бушующего в ее душе. Он и вызывает соответствующий зловещий отклик в сине-зеленом, гармоничном,
влажном мире вокруг.
Выбор человеком жертвенного пути в жизни вырывает его из пут
обыденности, выводит в простор бытия, в точку соединения «мира
времени» и «мира вечности». И кем бы ни был этот человек, он встает
вровень с обитателями «мира вечности» — именно поэтому мы видим
рядом с Марией Николаевной ту же загадочную женщину-ангела, которая позже явится Игнату, чтобы определить его судьбу, и которая
будет рядом с Алексеем в момент его смерти. Беря на руки сестру
Алеши, она как бы помогает его матери сделать первые шаги на ее
крестном пути, точно так же как помогали Иисусу крестьяне в сцене
«русской» Голгофы из «Страстей по Андрею».
Для маленького (трехлетнего11) Алеши пожар оказался той точкой, от которой начался отсчет его прошлого, всего его сознательно¬
11 В фильме мать вспоминает, что пожар и уход отца произошли в 1935 году,
а Тарковский, изобразивший в образе Алексея самого себя, родился в 1932.
166
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
го бытия. Это означает, что формирование его личности в качестве
истока имело ту душевную катастрофу, которую испытала его мать.
Окончательное расставание с мужем и решение пожертвовать собой
ради детей — это главное событие, определившее жизнь Марии Николаевны на долгие годы вперед, и именно это событие и связанный
с ним образ матери отразились как в зеркале в душе ее сына и обозначили его характер, особенности его личности, запечатлелись во
всей его жизни. Не удивительно, что тема ухода из семьи отца проходит через весь фильм и сплетается с зеркально отраженной в ней
темой ухода из семьи самого Алексея. Почти все разговоры Алексея
с матерью и бывшей женой Натальей концентрируются вокруг этой
сдвоенной темы, и когда в конце фильма мать Алексея упоминает
о чувстве вины, которое мучит его, возникает впечатление, что в этом
чувстве соединены вместе и его собственная вина и вина его отца.
Важное место в рассматриваемом эпизоде играет стихотворение
Арсения Тарковского, звучащее за кадром и связующее все фрагменты
эпизода начиная от ухода врача и кончая началом пожара. В нем контрапунктом к теме расставания и утраты звучит тема метафизического, абсолютного значения любви, выводящей человека за грань обыденности, в мир «с той стороны зеркального стекла» — в «мир вечности».
«Свиданий наших каждое мгновенье
Мы праздновали, как богоявленье,
Одни на целом свете. Ты была
Смелей и легче птичьего крыла,
По лестнице, как головокруженье,
Через ступень сбегала и вела
Сквозь влажную сирень в свои владенья
С той стороны зеркального стекла.
Когда настала ночь, была мне милость
Дарована, алтарные врата
Отворены, и в темноте светилась
И медленно клонилась нагота,
И, просыпаясь: “Будь благословенна/” —
Я говорил и знал, что дерзновенно
Мое благословенье: ты спала,
И тронуть веки синевой вселенной
К тебе сирень тянулась со стола,
И синевою тронутые веки
Спокойны были, и рука тепла.
А в хрустале пульсировали реки,
Дымились горы, брезжили моря,
И ты держала сферу на ладони
Хрустальную, и ты спала на троне,
167
ГЛАВАИ1
«Зеркало»: личность во времени и в вечности
И — Боже правый! — ты была моя.
Ты пробудилась и преобразила
Вседневный человеческий словарь,
И речь по горло полнозвучной силой
Наполнилась, и слово ты раскрыло
Свой новый смысл и означало: царь.
На свете все преобразилось, даже
Простые вещи — таз, кувшин, — когда
Стояла между нами, как на страже,
Слоистая и твердая вода.
Нас повело неведомо куда.
Пред нами расступались, как миражи,
Построенные чудом города,
Сама ложилась мята нам под ноги,
И птицам с нами было по дороге,
И рыбы поднимались по реке,
И небо развернулось пред глазами...
Когда судьба по следу шла за нами,
Как сумасшедший с бритвою в руке».
Проступающее здесь отношение к любви и ее значению в мире
созвучно идеям Л. Карсавина, о которых мы упоминали ранее. Как
и в философии Карсавина, в этих строках проступает убеждение
в том, что каждое событие подлинной любви — это метафизический
акт, оказывающий радикальное воздействие не только на личное бытие любящих, но и на весь мир. В этом акте происходит радикальное
«исправление» несовершенства мира, в него вносится новый элемент
гармонии, который остается навеки, не исчезая даже после гибели
любви и любящих.
Вне зависимости от того, правильно ли такая интерпретация отражает замысел автора стихов, к ней с очевидностью подталкивает
система художественных образов, создаваемых Тарковским, и она
справедлива не только в отношении символического ряда «Зеркала», но и в отношении других его фильмов. В контексте такой системы идей слова стихотворения о раскрытии новых смыслов и новой силы в человеческой речи и о преображении всех окружающих
вещей после акта любви нужно понимать не в переносном смысле,
а буквально, как выражение свершившегося преображения человека
и всего зависимого от него мира. Любовь помогает человеку понять
многомерность своего существа, — не только конечного, смертного,
но и бесконечного, вечного — помогает прорваться, хотя бы на миг, из
«мира времени» в «мир вечности».
Заключительные кадры первого эпизода фильма, показывающие
пожар под дождем, смонтированы с изображением лежащего в по¬
168
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
стели мальчика Алеши, вслушивающегося в тишину. Тихие, но пронзительные звуки дудочки, которые он слышит (или это ему только
кажется?) обозначают его страх, его детскую тревогу12, явившуюся
откликом на душевные терзания его матери. Алеша садится на кровати, и затем перед нами на экране предстает черно-белый образ, который затем повторяется в фильме еще несколько раз: неестественно
резкий порыв ветра, буквально сминает тонкие деревья, кустарник,
высокую траву. После этого вновь повторяется (теперь в черно-белом
изображении) только что показанная сцена: вновь мы видим Алешу,
просыпающегося от звуков все той же дудочки. Но теперь, проснувшись, он зовет папу, и вся сцена оказывается началом сна, который
видит взрослый Алексей.
Странный повтор одного и того же мотива (пробуждения Алеши)
сначала в цвете, а затем в черно-белом изображении на первый взгляд
кажется каким-то излишеством, чуть ли не ошибкой монтажа. Однако очевидно, что этот прием был нужен Тарковскому для выражения
какой-то важной идеи. Ясно, что указанный повтор более четко обозначает сюжетную логику, помогает состыковать различные планы
изображения: в первом случае мы видим реальный эпизод далекого
1935 г., в котором происходили все разрушительные для семьи события, во втором — сон взрослого Алексея о реальных событиях далекого прошлого, именно поэтому изображение становится черно-белым
(как все сны в фильмах Тарковского). Но за этим поверхностным и
очевидным смыслом можно попытаться открыть более глубокий, хотя
и не столь очевидный смысл. Это даже необходимо сделать, поскольку сформулированное простое объяснение порождает неизбежный
вопрос, без прояснения которого невозможно понять не только философию фильма, но и его художественную логику. Как нужно понимать
сцены прошлого в фильме: как «объективный» взгляд «стороннего»
наблюдателя или как воспоминания Алексея? Почти очевидно, что
в этой альтернативе правильным является второе предположение,
тем более что мы постоянно слышим за кадром комментарии Алексея
по поводу происходящих на экране событий из его прошлого. Но это
в значительной степени лишает основания приведенное элементарное объяснение повтора одной и той же сцены как необходимой формы соединения воспоминания и сна; ведь сон и воспоминание состоят
из одной и той же «материи» и выражают одни и те же смыслы, и непонятно, зачем вообще режиссеру нужно было соединять их в одном
фрагменте. Чтобы дать более глубокое объяснение этого повтора,
нужно рассмотреть его в более широком контексте и прежде всего
попытаться понять смысл сна, который видит Алексей.
12 См.: Артемьев Э. Он был и навсегда останется для меня творцом... //
О Тарковском. С. 218.
169
ГЛАВА III
«Зеркало»: личность во времени и в вечности
Маленький Алеша, проснувшись, зовет папу, садится в постели,
прислушиваясь к звукам дудочки, доносящимся из тишины, затем
встает и идет к открытой двери, ведущей в соседнюю комнату. Там
перед нами предстает странная картина: на мгновение появляется
отец Алеши, а затем мы видим Марию Николаевну, которая моет
свои длинные волосы в тазу с водой, причем когда она распрямляется мокрые волосы свисают так, что полностью закрывают ее лицо.
В углу стоит газовая плита с неестественно ярким и высоким пламенем на всех четырех конфорках; стены этой комнаты выглядят так,
словно они почернели от огня, а с потолка падает вода вместе
с огромными кусками штукатурки. Этому сюрреалистическому образу вряд ли можно дать однозначную трактовку, однако все-таки можно сделать предположение о том, что пытается сказать с его помощью
Тарковский: здесь содержится символическое выражение той же самой жизненной катастрофы, которую мы только что видели в образах
«реального» прошлого Алексея. Это словно бы отражение, инверсия
«извне» «внутрь» события, ставшего знаком этой катастрофы, — пожара под дождем, но теперь оно выглядит уже не как элемент «мира
времени», не как однократное событие во времени, а как неотъемлемая принадлежность «мира вечности», как «разлом» и «катастрофа»
всего бытия, вносящая невосполнимую дисгармонию не только во
внутренний мир Марии Николаевны, но и в связанные с ним личностные «миры» — Алексея, его бывшей жены, его сына, — а через них
и в другие, все более и более расширяющиеся круги бытия.
Используя эту мысль, повтору сцены пробуждения Алеши можно дать новое объяснение. Повторим еще раз, что в основе «Зеркала» (как и в основе всех последующих фильмов Тарковского), лежит
представление о том, что уже в своем земном существовании каждый
из нас причастен не только «миру времени», но и «миру вечности».
Личность человека цельна, отдельные измерения ее бытия должны
дополнять друг друга и находится в единстве (что, конечно, не исключает наличия радикальных противоречий и конфликтов в душе). Это
означает, что все важнейшие события земной жизни должны как
в зеркале отразиться в том измерении личности, которое относится к «миру вечности», и наоборот, все элементы ее «вечного» бытия
должны найти себе какое-то (более или менее полное) отражение во
временной динамике жизни.
Первый эпизод фильма, заканчивающийся пожаром, показывает
нам не столько реальные события прошлого, сколько отражение образа матери и ее жизненной катастрофы в душе Алексея. Как мы уже
говорили, эта катастрофа имела решающее значение для обретения
им себя, поэтому первый эпизод — это как бы раскрытие Алексеем оснований своей собственной личности в ее земной, временной
170
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
«ипостаси». Но та же самая катастрофа, безусловно, должна иметь
преломление и «отражение» в том измерении его бытия, которое относится к «миру вечности». Такое преломление и демонстрирует его
сон. Образ того дня, когда уход отца стал непреклонным фактом,
а мать окончательно поняла, что должна пожертвовать собой ради детей, отпечатался в его земной «ипостаси», стал неотъемлемой частью
его внутреннего мира — об этом повествует первый эпизод фильма.
Но он составил столь же неотъемлемую составляющую той стороны
его личности, которая принадлежит «миру вечности» — это выражает сон Алексея. Две эти формы выражения жизненной катастрофы
могли бы быть самостоятельными и независимыми друг от друга, но
Тарковский предполагает, что они являются отражением друг друга, определяют друг друга (точно так же как в целом определяют друг
друга «мир вечности» и «мир времени»); образно их взаимодействие
можно представить как связь двух воронок, обращенных в разные
стороны и соединенных в одной точке, которая выступает как точка
схождения «мира времени» и «мира вечности» и одновременно как
начало, исток личности Алексея. Последнее и обозначено символически с помощью мотива пробуждения, вызванного еще непонятным
Алексею, но уже вполне реальным и навсегда остающимся в нем страхом. Пробуждение — это рождение личности, ее явление из Ничто;
и в своем истоке, в начале, личность равно принадлежит и «миру времени» и «миру вечности», в этот момент она еще не успела замкнуться в своей земной оболочке, забыв про свою причастность вечному и
бесконечному бытию. Именно поэтому образ просыпающегося Алеши одинаково запечатлен и в его земной памяти, и в вечном бытии.
В связи со всем сказанным изображение порыва ветра, сминающего деревья и кусты, поставленное Тарковским между двумя вариантами сцены пробуждения, можно рассматривать как символическое
обозначение «границы» между «миром времени» и «миром вечности».
Важность этого образа очевидна из того, что он еще три раза повторяется в заключительной части фильма, причем там этот мотив получает развитие: камера медленно движется, словно следуя порыву
ветра, и мы видим как ветер переворачивает забытые кем-то предметы — обломанный, засохший кусок хлеба, керосиновую лампу, картофелины — на грубом деревянном столе, который вкопан в землю
посреди заросшей высокой травой поляны. Весь этот фрагмент снят
рапидом, и это придает движениям деревьев, кустов, предметов на
столе абсолютно ирреальный характер. Это как бы запечатленный
в вечности образ движения, порыва, причем, по-видимому, здесь
имеется в виду не естественное движение самой земной природы,
а реакция природы на внутреннее усилие, внутреннее движение
человеческой личности — подобная той, которую мы видели, когда
171
ГЛАВА III
«Зеркало»: личность во времени и в вечности
врач, уже расставшись с Марией Николаевной, вдруг останавливался и несколько мгновений стоял в нерешительности, глядя на нее,
и в это время по полю пробегали резкие порывы ветра. Четыре раза
повторенный на протяжении фильма фрагмент (отметим, что мы видим четыре различных варианта одного и того же мотива, а не повторение одного дубля) дает еще один ключ к разгадке нетривиального
смысла названия картины; изображение загадочного порыва ветра —
это символ двух форм зеркального отражения: отражения в земной природе, в мире, окружающем человека, его внутренних порывов, эмоциональных движений и отражения всего земного бытия
(и личности, и мира) в вечном бытии, в «мире вечности».
Итак, сон Алексея — это воспроизведение в вечности важнейшего события, которое в форме его воспоминаний было показано в предшествовавшем (первом) эпизоде фильма. В самом конце сна появляется мотив, явно связывающий «Зеркало» со «Страстями по Андрею».
В заключительных кадрах молодая Мария Николаевна подходит
к огромному зеркалу и смотрит на себя, затем в пустом пространстве зеркала мы видим приближающуюся из глубины постаревшую
Марию Николаевну, которая, подойдя вплотную к зеркалу, пытается протереть рукой его мутную поверхность. Возможно, снимая эту
сцену, Тарковский вспоминал слова из 1-го Послания к Коринфянам
апостола Павла, которые звучали в фильме «Страсти по Андрею»
и, безусловно, обладали для него очень важным значением: «Теперь
мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом
к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан».
В Новом Завете эти слова выражают противоположность земного,
смертного знания и понимания и того высшего «знания», которое
ожидает нас в нашем бессмертии, в единстве с Богом, в «мире вечности». Сны, посещающие героев Тарковского, как раз и обозначают
их способность проникать в «мир вечности». В данном случае иррационально-символический характер этой сцены подчеркнут тем, что
в зеркале, из глубины которого выступает постаревшая Мария Николаевна, мы видим в качестве фона прекрасный живописный пейзаж
эпохи Возрождения — это как бы знак выхода в «большую» историю
человечества и за пределы истории вообще, знак «мира вечности».
Выход в этот мир всегда есть прорыв к высшему «знанию», которое, как об этом говорится в новозаветной фразе, загадочно, недоступно нашему земному рассудку. Прикосновение к краю Истины
согласно христианским представлениям должно сопровождаться
чувством абсолютного превосходства ее откровения над всем,
что известно нам в земной жизни. Подобно этому и явление ангела в канонической христианской традиции описывается как явление
абсолютной красоты, поражающей человека своим ослепительным
172
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
блеском. Однако Тарковский совсем не так представляет себе соотношение земного мира и мира бессмертного. Ни явление умершего
Феофана Грека Андрею Рублеву в «Страстях по Андрею», ни тем
более явление загадочной «гостьи» Игнату в «Зеркале» не доказывают абсолютного преимущества «мира вечности» над нашим земным
«миром времени»: он не может быть признан самодостаточным и совершенным, его существование невозможно без дополняющего его
и в чем-то очень похожего на него земного мира.
Тусклое, мутное зеркало, через которое молодая Мария Николаевна видит себя постаревшей, пришедшей к пределу жизни, возможно, как раз и обозначает отношение «мира времени» к «миру вечности». В последнем мы обретем новое бытие и гораздо глубже поймем
себя и свою жизнь, ибо здесь сойдутся «начала» и «концы», рождение
и смерть, все события и явления, имевшие место во времени, обретут
свой подлинный и полный смысл. Однако существование в этом мире
и понимание, связанное с ним, не будут абсолютными, в этом мире
наше бытие будет по-прежнему нести на себе печать несовершенства
и, значит, требовать от нас все новых и новых усилий по постижению
и преображению себя и всей реальности (хотя эти усилия, конечно
же, будут очень непохожи на земные усилия человека).
4. Ад Марии Николаевны
Здесь в очередной раз необходимо вспомнить концепцию бессмертия у Достоевского и зловещую мысль Свидригайлова о вечности как
«бане с пауками» (или чего-нибудь «в этом роде»). Свидригайлов утверждал, что «иные» миры не только дополняют наш и «соприкасаются» с ним, но и способны проникать в него в виде призраков, снов
и т.п. Тарковский полностью разделяет это убеждение, показывая
вторжение в наш мир посланцев иного мира, но он идет еще дальше
и утверждает, что «мир времени» и «мир вечности» не могут существовать друг без друга, постоянно отражаются друг в друге и влияют
друг на друга. Фактически, Тарковский развивает идею Достоевского
о бессмертии человека и единстве его земного и посмертного существования в том же самом смысле, как это сделал в своей философской концепции Карсавин, который утверждал, что в каждом мгновении нашей жизни мы причастны вечному бытию.
Согласно Карсавину, вечное бытие охватывает нас и пронизывает
каждое мгновение жизни и всю жизнь; поскольку это вечное бытие
не отрицает земного, а дополняет его, оно должно включать в себя
в преображенной форме и его совершенства, и его недостатки, и его
благость, и его зло. Но всё «негативное», явившееся во времени, сохраняясь в вечности, должно быть «скомпенсировано»; в «мире веч¬
173
ГЛАВА III
«Зеркало»: личность во времени и в вечности
ности» каждое злое, или хотя бы несовершенное, неблагое, деяние
должно быть отрицаемо воздаянием за него, т. е. карой, наказанием (символом такого воздаяния можно считать, например, появление убитого царевича в момент смерти царя Бориса в опере «Борис
Годунов», поставленной Тарковским в Лондоне). Карсавин выводил
отсюда реальность ада, причем реальность не мифологическую
и иносказательную, а совершенно буквальную — в силу взаимопроникновения и единства «мира времени» и «мира вечности» значимую для человека не только в «посмертном» существовании, но уже
и в его земном бытии.
Реальность вечного ада парадоксальна; она означает не только
греховность каждого человека (ведь все люди постоянно совершают
неправедные поступки, и поэтому все обретают свой ад), но и безусловную возможность спасения и воскресения для каждого, так как
через реальность ада грех и вина человека искупаются его страданием, его жертвой. Вот как выражает Карсавин эту парадоксальную
противоречивость бытия ада: «...нет вечного адского бытия, ибо оно
существует лишь для того, чтобы не быть, ибо вся тварь спасена <...>
и есть вечное адское бытие, ибо “все согрешили, все до единого”. <...>
Эта апория очевидна всякому, кто непредвзято читает Новый Завет,
в котором равно утверждается и вечные адские муки, и спасенность
всех. Все спасены несмотря на то, что все в аду. Вечность адских мук
не противоречит вечности и Божественности, т.е. единственности
рая, спасенности всех и блаженству всех. Адское страдание включается в блаженство, которое, таким образом, есть не наслаждение,
а наслаждение чрез страдание или жизнь чрез смерть»13.
Эту вечную реальность ада, присутствующего непосредственно в
нашей земной жизни (в виде «личного» ада отдельного человека или
«коллективного» ада социальной жизни) Тарковский дает нам почувствовать в эпизоде, происходящем в типографии. Подобно тому как
ангельский, светлый «мир вечности», вместе со своими посланниками, лишь тонкой гранью отделен от нашего земного мира, так и соприсутствующий рядом с нами ад непосредственно слит с нашим миром
и не производит впечатления чего-то абсолютно ужасного, чуждого
законам земного бытия. Наоборот, он выглядит предельно упорядоченным и рациональным, — это совершенный, бездушный механизм,
подчиненный одной единственной задаче, мучению пребывающих
здесь «грешников».
Уже начало эпизода символически показывает нам дорогу в ад:
Мария Николаевна долго бежит по улице, пересекает проволочное
заграждение, переходит через еще одну улицу, ставшую под внезапно
13 Карсавин. Л. Я. О личности // Карсавин Л. П. Религиозно-философские
сочинения. Т. 1. М., 1992. С. 226.
174
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
начавшимся дождем похожей на реку (река забвения?), затем входит
в проходную, где охранник внимательно изучает ее пропуск, и, наконец, спускается по длинной лестнице вниз — словно в подземелье,
причем мельком мы видим еще одного охранника, который следит
за Марией Николаевной. Эти охранники в форме похожи на бесов,
управляющих ходом событий в этом адском месте; как и «ангелы» из
«мира вечности», они способны вмешиваться в нашу земную жизнь
и нарушать ее ход. По-видимому именно об этих «бесах», мешающих
нашему счастью, повествует стихотворение, звучащее за кадром в то
время как Мария Николаевна идет по бесконечно длинному белому
коридору, в котором не видно ни одного предмета, способного напомнить о естественном тепле человеческого жилища.
С утра я тебя дожидался вчера,
Они догадались, что ты не придешь,
Ты помнишь, какая погода была?
Как в праздник! И я выходил без пальто.
Сегодня пришла, и устроили нам
Какой-то особенно пасмурный день,
И дождь, и особенно поздний час,
И капли бегут по холодным ветвям.
Ни словом унять, ни платком утереть...
И пустые коридоры, по которым проходит Мария Николаевна,
и редакторская комната, где она, переворачивая все бумаги, ищет корректуру, чтобы проверить, не пропустила ли ошибку, и помещения типографии с нелепыми, монотонно лязгающими машинами, похожими
на живых чудовищ, абсолютно лишены какой бы то ни было бытовой
обустроенности, которую Тарковский с таким вниманием и любовью
изображает в других эпизодах «Зеркала», точно так же как и в других
своих фильмах. Даже растение в огромном горшке на подоконнике,
у которого Мария Николаевна проверяет корректуру книги, похоже
на какого-то «призрака», на палимую адским зноем грешную душу —
настолько оно предстает высохшим, безжизненным, гибнущим.
Адская атмосфера этих замкнутых пространств, навевающих
мысли о тюрьме, концлагере или камерах пыток, подчеркивается
ослепительно белыми (в черно-белом регистре фрагмента) шарами
ламп, стоящих на столе в редакторской комнате и висящих под потолком. В этой гнетущей атмосфере человеку стоит огромных усилий
каждый шаг, каждое движение: постоянно используя съемку едва заметным рапидом, Тарковский создает отчетливое ощущение физической тяжести, сковывающей героев. Здесь невозможно гармоничное
общение — люди не понимают друг друга, говорят не о том, ошибаются, ссорятся, рыдают, расстаются. Даже элементарные требования
жизни не могут быть здесь удовлетворены; то, что в нормальном мире
175
ГЛАВА III
«Зеркало»: личность во времени и в вечности
служит человеку, здесь оказывается орудием новых мучений — когда
Мария Николаевна идет в душ и начинает мыться, вода прекращает течь из крана, все что ей остается — это безнадежно засмеяться
и расплакаться.
И уже прямое указание на то, что это место — своего рода ад,
соприсутствующий с нашим миром в вечности и способный оказывать грозное воздействие на наш мир, дает огромный плакат в одном
из цехов типографии, через который проходят Мария Николаевна
и ее подруга Лиза (актриса Алла Демидова). Этот плакат с достаточно длинным текстом в несколько рядов лишь на мгновение появляется в кадре, так что очень трудно прочитать его полностью. Однако главные слова проступают достаточно ясно: в плакате идет речь
о том, что «большевистская печать-пресса коммунизма» несет в массы огненное слово «Ленинско-Сталинской правды». В противовес
божественному Слову, поиски которого составляют смысл жизни
каждого человека, поскольку в нем ключ к совершенству и гармонии всех вещей, здесь «выковывается» адское слово, несущее кару,
страдания, смерть. И от этого слова никуда и никогда не уйти: ни
в «мире времени», ни в «мире вечности» нет абсолютного совершенства и абсолютного знания, и, значит, божественное Слово всегда
переплетено с адским словом. В наших поисках первого мы обречены
постоянно выговаривать последнее и страдать от него.
Сама причина, которая приводит Марию Николаевну в типографию, непосредственно связана с «адским» характером слов, выходящих отсюда в мир. Божественное Слово допускает выражение во
множестве материальных форм, оно может твориться и в полном молчании; часто молчаливое выражение даже более адекватно его содержанию, чем многословная «болтовня». Наоборот, адское слово всегда
требует полной однозначности и определенности, оно не допускает
вариативности своей материальной формы, в нем холодный, механический расчет убивает душу и жизнь. Ошибка, неоднозначность,
произвол, равносильный какой-то внутренней динамике, — все это
недопустимо в рамках адского слова и безжалостно карается. Марии
Николаевне почудилось, что она в важном гослитовском издании
пропустила опечатку, делающую текст «неприличным» — т. е. смешным, не опасным для жизни, несущим в себе не только смерть, но
и элемент жизни. И она бежит в типографию, чтобы проверить себя,
понимая, что если ошибка — такая ошибка! — допущена, ее ждет
немилосердная кара, неминуемая расплата по законам адского мира.
Явное обозначение того места, где происходит действие, содержится в двух важных литературных аллюзиях, которые Тарковский вставляет в конце эпизода. Лиза, подруга Марии Николаевны,
без явного повода начинает резко говорить с ней и сравнивает ее
176
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
с Марьей Тимофеевной Лебядкиной, одной из героинь романа Достоевского «Бесы». Помимо ясного намека, содержащегося в самом
названии романа, можно вспомнить, что Лебядкина принадлежит
к числу парадоксальных, фантастических персонажей Достоевского.
Она одновременно — и святая, которой открывается будущее, в видениях которой раскрывается божественная гармония земного мира,
и одержима «силами тьмы», «бесами», мучающими ее и ведущими
к полному безумию и гибели.
«— Боже мой, ты знаешь, на кого ты сейчас похожа». — говорит
Лиза.
«— На кого?» — недоуменно спрашивает Мария Николаевна.
«— На Марию Тимофеевну. <...> Ну, была такая Мария Тимофеевна Лебядкина, сестра капитана Лебядкина, жена Николая Всеволодовича Ставрогина.
— При чем тут все это?
— Нет, я просто хочу сказать, что ты поразительно похожа на Ле-
бядкину.
— Ну хорошо, допустим. А чем же именно я на нее похожа?
— Нет, все-таки Федор Михайлович... что бы ты тут ни говорила...
— Что “я ни говорила”?
— “Лебядкин, принеси воды!” “Лебядкин, подавай башмаки!” —
Вся только разница в том, что братец ей не приносит воды,
а бьет ее смертным боем. А она-то думает, что все свершается по ее
мановению...
— Ты прекрати цитировать и объясни, я не понимаю...
— Да вся твоя жизнь — это “принеси воды” да “подавай башмаки”. А что из этого выходит? Видимость независимости. Да ты же
пальцем пошевелить попросту не умеешь. Если тебя что-нибудь не
устраивает, ты или делаешь вид, что этого не существует или нос воротишь. Чистюля!
— Кто меня бьет, что ты такое городишь».
Мария Николаевна почти не скрывает слез, но Лиза уже не
в состоянии остановиться и идет в своей жестокости до конца.
«— Нет, я просто поражаюсь терпению твоего бывшего муженька, по моим расчетам он гораздо раньше должен был бы убежать.
Опрометью!
— Я не понимаю, что она от меня хочет.
— Да ты разве сознаешься когда-нибудь в чем? Даже если
сама виновата? Да никогда в жизни! Нет, это просто поразительно! Ведь ты же собственными руками создала всю эту
ситуацию. Господи! Да если ты не сумела довести своего дра¬
177
ГЛАВА III
«Зеркало»: личность во времени и в вечности
жайшего супруга до этого твоего бессмысленного эмансипированного состояния, то будем считать, что он вовремя спасся. А что
касается детей, то ты определенно сделаешь их несчастными...»
Произнося последние — самые жестокие и несправедливые —
слова, Лиза сама не может сдержать слез. Мария Николаевна до
конца осознает смысл сказанного и, подавив слезы, резко выпрямляется; наконец, она дает решительный отпор Лизе. «Перестань
юродствовать», — жестко говорит она и уходит. Лиза понимает, что
была неправа, что перешла грань, за которой рушатся все отношения
и вместо любви воцаряется отчуждение и ненависть. Она бежит за
Марией Николаевной, окликает ее; мы чувствуем, что она жалеет
о сказанном, хочет извиниться, восстановить отношения любви
и взаимопонимания. Но теперь уже Мария Николаевна не желает
слушать ни ее извинений, ни ее призывов к пониманию.
Страдая в адском мире, человек сам в значительной степени
является его творцом; ад — это то измерение человеческой жизни,
в котором господствуют самые негативные черты характера личности, и в результате в отношениях с близкими исчезает любовь, воцаряются разделение, отчуждение и даже ненависть. Именно так
понимал ад Достоевский, выразивший эту мысль в романе «Братья
Карамазовы» словами старца Зосимы: «Отцы и учители, мыслю: “Что
есть ад?” Рассуждаю так: “Страдание о том, что нельзя уже более
любить”»14. Отвергая представление о «пламени адском материальном», Зосима добавляет, что понимает муки ада только как духовные
и внутренние: «...если б и был пламень материальный, то воистину
обрадовались бы ему, ибо, мечтаю так, в мучении материальном хоть
на миг позабылись бы ими страшнейшая сего мука духовная. Да
и отнять у них эту муку духовную невозможно, ибо мучение сие не
внешнее, а внутри их»15.
Сравнение Марии Николаевны с Марьей Тимофеевной Лебядки-
ной, которое Лиза, видимо, давно сформулировала для себя, наблюдая жизнь своей подруги, наглядно выражает неразрешимую анти-
номичность внутреннего мира героини, и многое позволяет понять
в ней и в ее отношениях с мужем и детьми. Здесь вспоминается идея
Достоевского о вине, лежащей на каждом из нас (см. предыдущую
главу); в силу этой вины никто не бывает только жертвой, но всегда
в какой-то степени и источником страданий и трагедий, испытываемых им самим и окружающими людьми.
После резких слов Лизы Мария Николаевна идет в душ и запирается там, а Лиза стоит у закрытых дверей и взывает к прощению. Но
Мария Николаевна не отвечает, и Лиза, пожав плечами, уходит, по
14 Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. Т. 9. С. 362.
15 Там же. С. 363.
178
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
пути исполняя странный танец; ее последние слова — переиначенные, примененные к самой себе две первые строки из «Божественной
комедии» Данте:
Земную жизнь пройдя до половины,
Я заблудилась в сумрачном лесу...
Лес, который упомянут здесь, скрывал вход в ад; пройдя через него,
Данте достиг рая, божественного мира; у Данте мы читает дальше:
Каков он был, о, как произнесу,
Тот дикий лес, дремучий и грозящий,
Чей давний ужас в памяти несу!
Так горек он, что смерть едва ль не слаще.
Но, благо в нем обретши навсегда,
Скажу про все, что видел в этой чаще.16
Может быть, и Тарковский, изображая ад Марии Николаевны,
думал о том, что пребывание в нем несет не только муку, но и очищение, и, пройдя через него, она (как и все живущие вообще, ведь
ад соприсутствует с нашим миром в вечности, и только его «историческая» форма меняется) обрела ту зоркость духовного зрения и ту
степень жизненного мужества, которые передались сыну и внуку
и помогли им выстоять в испытаниях.
После заключительных кадров эпизода, происходящего в типографии, на которых мы видим плачущую Марию Николаевну, на
мгновение возникает цветное изображение — высокое пламя, встающее над зелено-голубым холмом. Этот загадочный образ вызывает
две ассоциации: может быть, это еще одно обозначение «личного» ада
Марии Николаевны, а может быть — воспоминание о пожаре и об
уходе мужа, о той катастрофе, которая навсегда расколола мир Марии Николаевны и стала источником всех ее мук и страданий.
Следующий большой эпизод происходит уже в «настоящем»,
в той точке земного времени, где больной Алексей вспоминает свое
прошлое и выясняет отношения со своей бывшей женой Натальей.
В центре этого фрагмента находится сцена с испанцами, которые еще
детьми были вывезены в Советский Союз (по-видимому, это произошло в начале гражданской войны в Испании, т. е. в 1936 г.), он посвящен той же самой теме, которая возникла в первом эпизоде фильма, —
значению для человека его воспоминаний, их роли в становлении
и развитии личности.
Главное место в воспоминаниях испанцев занимает трагическое
событие их детства — расставание с родиной. Подобно тому как уход
отца и связанная с этим жизненная катастрофа матери стали тем
рубежом, от которого отсчитывает свою жизнь и осмысливает свою
личную судьбу Алексей, так и для испанцев трагедия их детства пре¬
16 Данте А. Божественная комедия. М., 1982. С. 17.
179
ГЛАВА III
«Зеркало»: личность во времени и в вечности
вратилась в точку отсчета для оценки себя и своего места в мире. Она
не ушла в прошлое, не осталась только воспоминанием, она вошла
в их плоть и кровь, отравила их души, поставила перед необходимостью без конца решать проблему обоснованности своего бытия.
Трагедия матери Алексея, отразившись в его душе и войдя в его
личность, превратила его в несносного человека, постоянно вступающего в конфликт с окружающими людьми, даже самыми близкими
ему — с матерью, женой, сыном. «Мы никогда не могли с тобой по-
человечески разговаривать. <...> ты ни с кем не сможешь жить нормально», — говорит ему Наталья. Так же точно и детская трагедия
русских испанцев, трагедия безвозвратного расставания с родиной
и близкими, сделала их странными людьми, не способными на нормальные, безконфликтные отношения друг с другом и с миром. Они
грезят об Испании, постоянно говорят и думают о ней, но уже утратили понимание ее духовной сути. Не названный в фильме по имени
испанец долго и очень эмоционально говорит об известном матадоре
и корриде — символах самобытной души Испании, — но другой комментирует его рассказ резким замечанием: «Какая чушь!»; а пожилая
испанка Луиса с горечью подводит итог: «Болтун, был в Испании
и ничего не понял!» Тот же самый испанец дает пощечину своей дочери только за то, что она правильно исполнила фрагмент выразительного испанского танца: «Учили тебя, учили, ничего у тебя не получалось, а оказывается, ты умеешь!» Сама Луиса в конце фрагмента
стремительно встает и уходит, не в силах больше слушать разговоры
об Испании и о том прошлом, которое все так же живет в них, но не
может быть в гармонии с их сегодняшним состоянием.
В заключение этого эпизода мы видим большой блок документальной кинохроники, показывающей начало войны в Испании и проводы
детей в Советский Союз, подальше от ужасов гражданской войны.
Плачущие, растерянные дети еще не осознают, что происходит —
что они больше не увидятся со своими родителями; но именно этот
момент войдет в их память в качестве вечной основы их индивидуального бытия. И звучащий вместе с последними кадрами громкий
пароходный гудок навсегда останется для них таким же знаком непонятного, почти метафизического страха, каким стали для Алексея
тихие звуки дудочки, звучащие в ночи.
Последующие документальные кадры показывают подготовку
к старту и старт советского аэростата — пример человеческого дерзания, нередко заканчивающегося гибелью (как известно во время
одного из полетов, осуществлявшихся в 30-е годы, экипаж аэростата погиб). Этот фрагмент можно поставить в один ряд с прологом из
«Страстей по Андрею», где мы видели «первобытного» воздухоплавателя, впервые дерзнувшего подняться в небо и открывшего путь
180
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
для своих многочисленных продолжателей. Однако, думается, в контексте «Зеркала» смысл этого фрагмента в другом. После кадров испанской кинохроники, на которых перед нами представали картины
подчеркнуто земных страданий людей, старт огромного белого аэростата производит впечатление чего-то сверхъестественного, фантастического, чего-то выходящего за пределы времени и истории. Выразительный стык двух блоков кинохроники, построенный на резком
контрасте времени и вечности, земного страдания и сверхземного
дерзания человека, еще раз иллюстрирует центральную идею фильма: человеческая личность, существующая во времени, страдающая
и гибнущая в нем, способна вырваться из его плена и выйти в иной
мир, где все земное не исчезает, а приобретает новый, вечный смысл.
Реальным связующим звеном между «миром времени» и «миром вечности» является человеческая культура, присутствующая в каждом моменте нашей жизни, окружающая нас, вплетенная в наш быт
(даже если мы этого не замечаем), — особенно в ее великих образцах, поскольку каждый из них есть явление вечного в мире времени.
Не случайно, изображение старта аэростата сопровождает музыка
Перселла, а сразу вслед за этим, в первых кадрах следующего эпизода, мы видим Игната, перелистывающего книгу с репродукциями
картин Леонардо да Винчи; начинается самый загадочный эпизод
фильма с явлением «гостьи», которая просит Игната прочитать отрывок из письма Пушкина.
5. Посланцы «мира вечности»
Содержание следующих частей фильма концентрируется вокруг
двойничества Алексея и его сына Игната. Если в первой части фильма Алексей в своих воспоминаниях восходил к истоку своей личности, к тому времени, когда трагедия его матери отразилась в нем
и определила его индивидуальность, то последующие воспоминания
относятся ко второму важнейшему моменту в становлении личности,
когда из богатства предоставленных ему жизненных возможностей
человек выбирает — с помощью высших сил/ — ту, что станет его
судьбой и его предназначением.
Событие, которое произошло с Игнатом в квартире отца и которое должно было незаметно для окружающих (а может быть, и для
него самого) определить дальнейшее течение его жизни, повернуть
его судьбу, стало повторением аналогичного события, произошедшего с его отцом в то время, когда он был в том же возрасте, что и Игнат (13-14 лет). Оно предстает перед нами в эпизоде, происходящем
в тире, являющемся в этом смысле зеркальным отражением эпизода с явлением «гостьи» Игнату; оба этих эпизода вместе составляют
181
ГЛАВА III
«Зеркало»: личность во времени и в вечности
идейный и сюжетный центр фильма.
Во время разговора по телефону, завершающего сцену с явлением
Игнату женщины-ангела, Алексей предлагает сыну пригласить кого-
нибудь в гости и тут же сам вспоминает о девочке, в которую он был
влюблен в ту пору, когда был в возрасте Игната. Это воскрешает в его
памяти воспоминание, имеющее для него столь же важное значение,
как и воспоминание о том лете, когда их навсегда покинул отец. За девочкой, которая нравилась Алексею, ухаживал военрук, обучавший
эвакуированных детей азам военного дела; именно он становится
центральным персонажем эпизода в тире, точнее говоря — главным
земным персонажем, поскольку эпизод построен на противостоянии
двух главных героев — военрука, как представителя «мира времени»,
и представителя «мира вечности», мальчика Асафьева из блокадного Ленинграда. Это противостояние реализуется как странное непонимание Асафьевым того, что говорит военрук.
Это непонимание только на первый взгляд имеет чисто «филологическую» природу, по существу, здесь имеется в виду противоречие
и несовместимость божественного Слова, называющего вещи и явления в соответствии с их истинной (божественной) сущностью, и человеческой речи, в которой очень часто преобладает составляющая
«адского» слова — механическая, формальная, убивающая жизнь
и смысл. «Кругом!» — командует военрук, и Асафьев, поворачиваясь,
возвращается в прежнее положение. «“Кругом” по-русски означает
кругом, — говорит он, — именно то, что я сделал. Поворот кругом, как
мне кажется, означает поворот на 360 градусов». И дальше продолжается диалог непонимания: «На огневую позицию шагом марш!» — «Что
за огневая позиция, не понимаю». — «Огневая позиция — это огневая
позиция, понял!?» О сути последнего утверждения военрука, нарочито тавтологичного, уничтожающего всякую возможность расширения
и обогащения смысла, свидетельствует само содержание использованного здесь прилагательного: «огневая позиция» явно рифмуется
с «огненным словом», упомянутом ранее на плакате в типографии.
Сущность «адского» слова не допускает никаких разночтений
в определениях; синонимия и многозначность неприемлемы для него,
ведь эти качества препятствуют проведению однозначных и непере-
ходимых границ, установлению жестких структур. Будучи рабом
«адского» слова, военрук не является его творцом и источником, он
подчинен ему и страдает от него, однако в своей душе он сохраняет
контакт с божественным Словом и, значит, возможность освободить
себя из сетей «адского» слова. Запинки и невнятица в речи военрука
вводят в этот эпизод мотив заикания и сближают его с прологом17,
17 Этот факт тонко подмечен в статье: Баткин JI. Не боясь своего голоса //
Мир и фильмы Андрея Тарковского. С. 103.
182
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
где мы видели подростка, который с помощью врача-гипнотизера делал усилия по преодолению своей болезни, пытался заговорить —
овладеть Словом, открывающим простор бытия, соединяющим со
смыслами вещей. Подобно этому подростку, военрук также оказывается способным уйти из под власти «адского» слова и доказать
свою способность быть в сфере Слова, выводящего к истокам жизни, переступающего все разделительные линии и границы, вплоть до
последней, которую полагает смерть. Ему помогает в этом его «противник», посланец «мира вечности» — мальчик Асафьев (отсутствие
у него родителей служит как бы дополнительным доказательством его
«неземного» происхождения). То испытание, которому он подвергает
военрука, кажется жестоким и бессмысленным. Но можно ли оценивать по человеческим меркам повеления высших сил, например, данное Аврааму повеление принести в жертву Богу собственного сына?
Посланцы иного мира знают больше, чем люди: призывая совершить
абсурдные или жестокие по представлениям нашего мира деяния,
они выводят нас к истинным целям и ценностям человеческой жизни.
Поставленный Асафьевым перед жестоким выбором: с ужасом
смотреть на гибель детей или пожертвовать собой ради них, военрук,
не колеблясь, выбирает самопожертвование. Под броней «адского»
слова оказывается скрытой личность, причастная сонму избранных,
способная на деяние, освященное примером Иисуса Христа. «Адское»
слово господствует в речи этого человека, но в душе его молчаливо
звучит божественное Слово; именно оно определяет его поступки —
точно так же как оно определяло творчество Андрея Рублева после
пятнадцати лет молчания, вело Бориску к сотворению колокола, секрет которого он не знал, помогало матери Алексея выстоять среди
житейских бурь и служить защитой и опорой своим детям. Кинувшись на гранату, которую бросил Асафьев, и накрыв ее своим телом,
военрук отдает жизнь ради спасения своих учеников. И подобно выразительному жесту ангела, останавливающего руку Авраама, занесенную над сыном, в оглушительной тишине, отмеряемой ударами сердца военрука, ожидающего взрыва, звучат слова Асафьева — ангела
жизни, а не смерти: «Она же учебная». И происходит воскрешение
и преображение: военрук ползет на четвереньках, словно не веря еще
своему спасению, но затем встает на ноги и без всякой злобы говорит:
«А еще ленинградец, блокадник». Поднимаются, словно воскресая
из мертвых, и ученики, вповалку попадавшие на землю. Но прежде,
когда мы видим на экране одиноко стоящего Асафьева, абсолютно
статичную сцену перебивает фрагмент военной кинохроники, где запечатлена маленькая катастрофа — во время переправы через реку
переворачивается плот вместе со стоящим на нем артиллеристским
орудием; она почти ничего не значила в масштабах жестокого военно¬
183
ГЛАВА III
«Зеркало»: личность во времени и в вечности
го времени, но, подобно только что представшему перед нами на экране событию, проверяла духовную стойкость людей, способность к преодолению выпавших на их долю трудностей. Возможно, тот же самый
«ангел-испытатель», явившийся теперь в облике мальчика Асафьева,
там тоже был в центре происходящего, и поэтому его появление сводит воедино, совмещает через время и пространство эти события; а,
может быть, не только их, но вообще все случившиеся и случающиеся
в жизни людей и в их истории большие и малые, возвышенные и почти
незаметные примеры самопожертвования.
Выполнив и на этот раз свою миссию, Асафьев должен вернуться в «мир вечности»; это возвращение символически обозначено
его подъемом на холм и вызывает очевидные ассоциации с путем на
Голгофу18 — точно такой же холм мы видели в фильме «Страсти по
Андрею» в сцене распятия Христа и в эпизоде «Колокол». На этом
пути мальчик спотыкается и падает, как все обычные, земные герои
Тарковского (особенно многозначительно сравнение с Иисусом, падающим под тяжестью креста), и тем еще раз демонстрирует, что несмотря на свое происхождение, свою принадлежность к «миру вечности», он во многом подобен земному человеку, его бытие так же
несовершенно, как и наше. Приходя в наш мир и призывая людей
к подвигу самопожертвования, он делает это не потому, что уже достиг цели, ради которой живет человек, не потому, что имеет абсолютное знание. Его отличие от обитателей земного мира только в том,
что он лучше, чем они, усвоил урок, преподанный человечеству две
тысячи лет назад; хотя он не постиг всей полноты Истины, он знает,
что есть только один путь к ней, и каждый из нас должен пройти свою
часть этого пути. В меру своих сил и своего знания, все-таки возвышающегося над нашим, поскольку это знание претворено в вечность
и охватывает все земные времена, он помогает людям сделать первый
шаг на их общем Пути, в конце которого они обретут не только Истину, но и Жизнь, полностью побеждающую страдания и смерть.
Образ этого единого общечеловеческого Пути представлен в документальном фрагменте, показывающем переход советских солдат
через Сиваш во время Великой Отечественной войны. Этот фрагмент
кинохроники — самый большой из всех, использованных в фильме;
он вызвал в свое время недоумение у зрителей, настолько странный —
негероический и вневременной — образ войны возникает здесь на
экране. Но именно этого и добивался Тарковский. Для него война —
это только одно, хотя и наиболее жестокое проявление главного за¬
18 Об этом пишет М. Туровская; см.: Туровская М. 7 1/2, или Фильмы Андрея Тарковского. С. 233. В сценарии фильма прямо отмечено, что холм, на вершину которого поднимается Астафьев, находится рядом с церковью и возвышается над всей окружающей местностью.
184
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
кона бытия, согласно которому деструктивные силы, господствующие
в мире, могут быть укрощены и несовершенство мира в какой-то степени «исправлено» только через жертвенное деяние человека, через добровольное принятие каждым и всеми судьбы Иисуса Христа.
Бесконечное, тягостное в своей медлительности и нескончаемости,
происходящее как бы вне исторического времени и вне земного бытия, в вечности, движение солдат, несущих снаряды, оружие, какие-
то деревянные конструкции, вызывает только одну, почти очевидную
ассоциацию — это крестный путь Иисуса, ставший общей и единой
долей всех людей. Можно обратить внимание на один эпизод внутри
большого блока военной кинохроники, который Тарковский показывает три раза (два раза — крупно и один — в некотором отдалении).
В этом эпизоде солдаты, пошатываясь под своей ношей, несут какие-
то конструкции; и это чрезвычайно напоминает несение креста на
Голгофу. Третий показ этого фрагмента завершает изображение перехода через Сиваш, и в этом последнем случае он сделан размытым, нечетким; возможно, с помощью этого приема, стирающего конкретные
черты происходящего, Тарковский хотел добиться превращения этого
образа во всеобщий, абсолютный символ человеческого самопожертвования, происходящего всегда и везде, затрагивающего каждого.
И следующие затем документальные кадры, изображающие ликующих жителей освобожденных городов, танки на улицах Берлина,
флаг над рейхстагом, мертвого Гитлера и салют Победы, можно было
бы счесть тем самым праздником всеобщего воскресения, о котором
мечтал Андрей Рублев в фильме «Страсти по Андрею», если бы после
них не были показаны другие фрагменты истории: атомный взрыв над
Хиросимой, демонстрация народной любви к Мао Цзе Дуну в Пекине, нападение хунвейбинов на советских пограничников. Философия
«Зеркала» гораздо менее оптимистична, чем философия «Страстей по
Андрею»: история XX в. дает мало надежд на близость окончательного
воскресения и преображения. Всякая победа над силами зла и всякий
сдвиг в сторону большего совершенства мира — только относительны, не отменяют необходимости новых актов самопожертвования.
Параллельно с бесконечно долгим движением солдат через Сиваш мы слышим стихотворение Арсения Тарковского (оно уже воспроизводилось выше), которое наиболее ясно излагает центральную
философскую идею фильма о существовании человеческой личности
не только в «мире времени», но и в «мире вечности».
...На свете смерти нет.
Бессмертны все. Бессмертно всё.
Живите в доме — и не рухнет дом.
Я вызову любое из столетий,
Войду в него и дом построю в нем.
185
ГЛАВА III
«Зеркало»: личность во времени и в вечности
Вот почему со мною ваши дети
И жены ваши за одним столом, —
А стол один и прадеду и внуку:
Грядущее свершается сейчас,
И если я приподнимаю руку,
Все пять лучей останутся у вас...
Внутри большого блока документальной хроники, непосредственно после кадров перехода солдат через Сиваш и перед изображением Победы и сценами послевоенной истории, мы видим завершение эпизода, начавшегося в тире. Весьма показательно, что сразу
следом за указанным выше фрагментом кинохроники, в котором
солдаты несут странный конструкции, похожие на кресты, мы видим Астафьева, медленно поднимающегося на вершину холма, вызывающего явные ассоциации с Голгофой. В середине своего пути
он спотыкается и падает; камера следит за его движением с высоты,
и когда он доходит до вершины, мы видим, что он плачет, хотя одновременно насвистывает какую-то мелодию. Взойдя на холм, Асафьев
останавливается; далее следует один из самых запоминающихся
и многозначных образов кинематографа Тарковского. Из левого нижнего угла в кадр медленными толчками влетает маленькая птица
и садится на голову мальчика, который поднимает руку и берет ее.
Вся эта небольшая сцена снята рапидом и сопровождается все учащающимся и нарастающим по мощности звуковым ритмом, что придает ей характер какой-то мистерии, чего-то такого, что нарушает
законы земного мира, размыкает его границы, вводит в сферу вечности. Это подчеркивается и тем, что кадры, на которых мы видим
мальчика Асафьева на вершине холма, перемежаются с уже упоминавшимися выше фрагментами кинохроники, показывающей наиболее грозные и трагичные эпизоды истории XX в. — от салюта Победы до советско-китайского пограничного конфликта.
Происходящее в этот момент на экране событие принадлежит
к тому же ряду «вечных» событий, не погруженных во время, а господствующих над ним, к которому принадлежит распятие Иисуса,
его воскресение и вознесение в «мир вечности». Образ птицы, зажатой в руке, повторяется в фильме дважды, и совершенно очевидно,
что соответствующие фрагменты имеют между собой глубокую внутреннюю взаимосвязь. В конце фильма умирающий Алексей берет
больную, не способную улететь с его постели птицу и подкидывает
ее, словно помогая ей обрести способность к полету. Наиболее банальное (и поэтому вряд ли верное) объяснение последнего эпизода
связано с предположением, что птица, которую «отпускает» на волю
Алексей, — это его душа, расстающаяся с телом в момент смерти.
Однако, принимая такое объяснение, мы оставляем вне поля зрения
186
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
явно подчеркнутый режиссером момент — птица, лежащая на постели рядом с Алексеем, так же точно больна, как и он сам, мы видим,
с каким трудом она дышит, вздрагивая от напряжения.
Только через взаимное отражение двух эпизодов, в одном из которых мальчик Асафьев хватает рукой севшую ему на голову птицу, а во
втором — умирающий Алексей подкидывает больную птицу, пытаясь
вернуть ей способность летать, можно понять смысл обоих. Мальчик из первого эпизода — это посланец «мира вечности», «ангел-ис-
пытатель», и его восхождение на холм под взглядами потрясенных
детей, только что поднявшихся с земли, словно воскресшие покойники (вспомним слова о разверзшихся могилах из первого эпизода
сценарного варианта фильма), — это демонстрация праведного пути
для каждого человека, пути к своей голгофе, которая должна стать
Голгофой, нашей общей судьбой. Обратим внимание на то, что когда
Асафьев выходит из тира, с земли поднимаются двенадцать мальчиков — ровно по числу апостолов — которые затем неподвижно стоят,
обратив свои взоры на Асафьева, восходящего на холм. Но Голгофа —
это не только место самопожертвования, мучения и смерти, это место,
где происходит воскресение и преображение — прежде всего преображение самого человека, но с ним вместе и всего мира, всего бытия.
Несовершенное бытие, подверженное темным силам, тяготеющее
к распаду, к хаосу, может преобразиться лишь через человека, только
вместе с ним, и оно жаждет этого преображения, оно готово подчиниться человеку, отдать себя в его руки. Символом этой взаимосвязи и этой «жажды» и выступает птица, слетевшая на голову
мальчика в том самом месте, где сходятся и выявляются все смыслы
бытия и все смыслы человеческой жизни. В этом месте время сходится с вечностью, «земля» — с «небом», люди становятся равными
ангелам; здесь истоки всех эпох и всех исторических событий; здесь
человек становится Богочеловеком, хотя и не Богом, поскольку остается несовершенным; здесь он получает полную меру ответственности за все происходящее в мире.
То отношение между человеком и бытием, которое символически
продемонстрировано в сцене с птицей, отдающей себя в руки мальчику Асафьеву, в той или иной степени проявляется в жизни каждого
человека; но для тех, в чью судьбу вошли посланцы иного мира, это
должно стать фактором, определяющим каждое мгновение жизни,
должно стать судьбой. Именно такое значение имело для Алексея
произошедшее в тире событие. Оно явно перекликается с более ранним событием — с решением Марии Николаевны пожертвовать собой ради своих детей. Ведь Асафьев также заставляет военрука совершить акт самопожертвования, и целью этого акта также является
спасение детей — Алексея и его одноклассников. Оба этих траги¬
187
ГЛАВА III
«Зеркало»: личность во времени и в вечности
ческих события, показывающих степень взаимозависимости людей
и степень их ответственности друг перед другом, отражаются в душе
Алексея и оказывают решающее влияние на его судьбу. Первое заложило основы его личности, а второе, как можно понять из фильма,
помогло постичь свое предназначение в жизни.
Здесь нужно вспомнить, что Алексей — это автобиографический
герой Тарковского, и хотя в фильме нигде не упоминается род его профессиональных занятий, несомненно, что он — художник, творец,
и это призвание определяет все ценности и цели его жизни. Но, как
Тарковский пытался доказать в фильме «Страсти по Андрею», подлинный художник — это тот, кто умеет быть в согласии с бытием,
умеет «слышать» бытие. Эта способность не дается от рождения,
к ней нужно идти всю жизнь, как шел к этому в своем пятнадцатилетием молчании Андрей Рублев. Формированию этой способности в решающей степени способствует воздействие событий, происходящих
вокруг, влияние окружающих людей. И особенно большое значение
в этом случае играет вмешательство высших сил, оно даже необходимо, без него человек не может состоятся как художник. Ведь отличие
художника от окружающих его людей в том, что он уже в земной жизни причастен «миру вечности», он обитает в двух мирах и призван
к тому, чтобы служить связующим звеном между ними. Естественно, что открыть человеку глаза на его призвание, показать причастность «миру вечности» могут только сами посланцы этого мира. Не
случайно в самом начале сценарного варианта фильма Тарковский
использует стихотворение Пушкина «Пророк», где речь идет именно
об этом — о таком вмешательстве высших сил в жизнь человека, которое превращает его в пророка, в особое существо, служащее посредником между земным и небесным. В конечном счете
это и является главной темой «Зеркала», поскольку в центре фильма
находятся два эпизода, демонстрирующих явление посланцев «мира
вечности» Алексею и его сыну.
Очень характерно, что пушкинское стихотворение поставлено
в сценарии в контекст, который придает ему дополнительный смысл —
это не только описание преображения человека, превращающегося
в пророка, творца, но и выражение идеи воскресения всех людей. Все
люди бессмертны и когда-нибудь обретут воскресение и преображение, станут причастны «миру вечности», но некоторые уже при жизни
достигают этого и становятся посредниками, соединяют временное
и вечное в своей жизни и в своем творчестве — это и есть гениальные
художники, без которых человечество утратило бы понимание своей
высшей цели и потеряло бы путь к ней.
В фильме сцена на кладбище и все рассуждения о смерти и воскресении, которыми открывается сценарий, исчезли из-за их чрез¬
188
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
мерной прямолинейности, но сама тема творческого призвания
человека и взаимосвязи этого призвания с идеей бессмертия и существования человека в двух мирах сохранила свое значение. Событие
в тире оказало радикальное влияние на судьбу Алексея (иначе он не
вспоминал бы его вместе с другими важнейшими событиями своей
жизни); можно предположить, что именно через него он осознал свое
призвание художника, основная задача которого — быть выразителем «голосов» бытия, быть «пастухом» бытия, «хранителем» его истины (вновь используя выражения М. Хайдеггера). В этом контексте
птица, пойманная Асафьевым, обозначает предназначение Алексея;
это символ покорного и послушного бытия, открывающегося человеку в том случае, когда он сам открыт ему и желает согласия с ним.
В силу этого согласия, болезнь и смерть человека отражаются в мире,
уход человека становится утратой для мира, выражает несовершенство бытия. Но это несовершенство и эта утрата могут и должны быть
преодолены, если и не в эмпирическом времени, где человек уходит
безвозвратно, то в перспективе полного и окончательного воскресения, когда бытие станет цельным и всеединым. Все наши высшие
дерзания направлены в конечном счете к этой цели, и особенно значимы для ее реализации творческие усилия художника, поскольку
они направлены на прорыв в «мир вечности», в полноту бытия, на соединение времени и вечности.
Болезнь, от которой страдает и в конце концов умирает Алексей,
имеет нравственный, а не физический характер, она связана с тем,
что он «потерял» (как проницательно констатирует врач у его постели) своих близких — мать, жену, сына.
Сцена у постели больного (умирающего) Алексея — последняя
в сюжетной логике «настоящего» времени фильма. Помимо врача
у его постели дежурят его мать и уже известная нам загадочная женщина в исполнении Огородниковой — видимо, «ангел хранитель»
Алексея и всей его семьи. На вопрос матери: «Неужели ангина могла дать такие последствия»; врач отвечает: «Причем тут ангина. Это
обычный случай. <...> Неожиданно умирает мать жена, ребенок... несколько дней и человека нет, а был совершенно здоров». И на возражение здравого смысла: «Но ведь у него никто не умирал»; добавляет:
«Ну, есть совесть, память...»
Утрата взаимопонимания и духовного единства с близкими людьми означает утрату части себя самого, возобладание деструктивных тенденций внутри личности. Художник значительно более
чутко, чем окружающие его люди, чувствует несовершенство всего
существующего и более остро страдает от своей нецельности, именно
поэтому он всего себя отдает посильному восстановлению совершенства в мире. Но он не Бог, не способен окончательно победить темные
189
ГЛАВА III
«Зеркало»: личность во времени и в вечности
силы и спасти мир и себя самого. Алексея влечет к смерти та же самая
«метафизическая болезнь», которая настигла Малого князя в фильме
«Страсти по Андрею» и царя Бориса в опере «Борис Годунов». Во всех
этих случаях личность страдает и гибнет потому, что она оторвалась
от всеохватной духовной основы, объединяющей всех людей, а через
них и все бытие. В силу особой чуткости, свойственной художникам,
«метафизическая болезнь» Алексея вызвана гораздо менее радикальными противоречиями в его отношениях с окружающими и в нем самом, чем те, которые обусловили преступные деяния Малого князя
и Бориса Годунова. Неизбежность возникновения этих противоречий
в душе Алексея была обусловлена особенностями формирования его
личности, воздействием, оказанным на него жизненной катастрофой
его матери, которая повторяется и в его жизни.
Художник так же смертен, как и все остальные люди; несмотря
на его способность проникать в иные миры, в гораздо большей степени ощущать целостность реальности, и он вынужден признать
торжество смерти в нашем земном мире. Но чем он принципиально отличается от всех людей, так это непоколебимой уверенностью
в относительности этого торжества смерти. Он знает, что есть более высокая сфера, в которой смерть теряет свое прежнее значение
и становится подчиненным элементом самой жизни, неизбежным
только в силу сохраняющегося несовершенства бытия. В то время
как с точки зрения земного мира смерть означает демонстрацию превосходства и неискоренимости темных сил, с точки зрения этой высшей сферы в смерти есть позитивное содержание, поскольку она не
только полагает предел земному человеческому существованию, но
и выводит личность в «простор» бытия; и только от самой личности
зависит, какой из аспектов смерти станет главным. Если человек
и при жизни, и в момент смерти способен на «усилия воскресения» —
на усилия к предельной полноте своего существования, выходящего
за пределы земной действительности, — то для него смерть станет
еще одним, решающим шагом к овладению этой полнотой; и это будет иметь значение не только для него самого, но и для всего бытия,
поскольку в этом случае его преображенная личность станет основой для восстановления полноты всего мира.
По всей видимости, именно эту мысль Тарковский хотел выразить в сцене смерти Алексея. Когда человек страдает от «метафизической болезни», она захватывает все бытие (птица тоже больна),
и его смерть — это утрата для всего бытия. Однако человек может
и должен жить и умереть так, чтобы эта утрата была не абсолютной,
а относительной, разоблачила свою иллюзорность, стала новым шагом на пути к идеалу. Символический жест Алексея, подбрасывающего птицу для того, чтобы она снова обрела способность летать, — это
190
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
выражение его готовности пройти через смерть к новой, преображенной жизни и тем самым помочь окончательному преображению всего существующего. Зримым образом этого преображения
является сам фильм Тарковского, в котором земная история героя
предстает увиденной из высшего круга бытия, с точки зрения обретенной героем новой жизни.
6. Тайна жизни
Сразу же после окончания эпизода в тире, мы видим еще два
фрагмента, достраивающих смысловую конструкцию «Зеркала». Первый показывает приезд отца и его недолгую встречу с бывшей женой
и детьми. Эта встреча только подчеркивает безнадежную, неразрешимую противоречивость отношений, связывающих этих людей: Алексея, его сестру Марину, их отца и мать. В основе этих отношений —
неизменное, не уменьшающееся с годами чувство любви, однако
в силу трагического стечения обстоятельств, которых мы не знаем
(если о них и идет речь в фильме, то только полунамеками, как в эпизоде, происходящем в типографии, и в диалогах Алексея и Натальи),
на это чувство накладываются разрушительные тенденции непонимания, несходства и отчуждения, ведущие к расставанию, к невозможности совместной жизни. В силу сюжетной немотивированности
конфликтов, возникающих между любящими друг друга людьми,
в фильме возникает образ фундаментальной метафизической противоречивости человеческих отношений и человеческого бытия как
такового. Ни один из главных героев фильма не может уйти от диссонансов и противоречий в своей душе, поэтому каждый несет свою
долю вины за трагедию непонимания, разделяющую их. Показывая
«Портрет молодой дамы с можжевельником» Леонардо да Винчи,
и явно намекая на сходство героини Леонардо с Марией Николаевной, Тарковский дает выразительный символ ее душевных противоречий и ее вины за происходящую семейную драму; разъясняя позже
необходимость появления этого живописного образа Тарковский писал, что он понадобился для того, «чтобы сопоставить его с героиней,
подчеркнув как в ней, так и в актрисе М. Тереховой, исполняющей
главную роль, ту же самую способность быть обаятельной и отталкивающей одновременно»19.
Затем мы видим еще один эпизод из «настоящего» — еще один диалог героя-«автора» с бывшей женой. Он выглядит как продолжение
аналогичной сцены в начале фильма, однако именно на фоне сюжетной и смысловой однотипности этих фрагментов особенно заметно
их разительное отличие друг от друга. Больше всего удивляет, что
19 Тарковский А. О кинообразе // Искусство кино. 1979. №3. С. 85.
191
ГЛАВА III
«Зеркало»: личность во времени и в вечности
второй фрагмент (отделенный от первого во времени) снят в чернобелом изображении, в то время как первый был цветным. Кажется
достаточно естественным, когда в цветном фильме мы видим чернобелые вставки, представляющие сны героя, но использование чернобелого изображения в сцене, которая отражает главную сюжетную
линию фильма и определяет его «настоящее», выглядит совершенно
необоснованным с точки зрения традиционной киноэстетики. Поэтому очень важно понять причины, по которым Тарковский дает некоторые эпизоды «Зеркала» в черно-белом изображении.
Прежде всего таковы, как уже сказано, все сны и «видения» героев. В этом случае смысл противопоставления цветного и черно-бе-
лого изображения достаточно прозрачен, оно выражает противоположность «мира времени» и «мира вечности». Все реальные события
земной действительности, происходящие или происходившие во
времени, должны представать как естественная часть нашей жизнь,
во всем многообразии красок. Но когда человек во сне или видении
осуществляет прорыв в «мир вечности», в высшие сферы бытия, он
сталкивается с реальностью, радикально отличающейся по своей метафизической сущности и законам существования от всего земного, —
это мир символов и смыслов, противостоящих текучести и непостоянству жизни (хотя и связанных с ней), поэтому для его изображения более подходит черно-белый изобразительный ряд. Отметим, что
точно так же можно понять и почти все фрагменты кинохроники (за
исключением эпизода отправки испанских детей в Советский Союз),
поскольку все они представляют не само прошлое, в его жизненной
конкретности, а как бы его всеобщее содержание, запечатленное
в «мире вечности».
Однако в «Зеркале» мы находим и еще один вариант противопоставления цветного и черно-белого изображения. Его смысл наиболее очевиден в эпизоде, происходящем в типографии. Богатству
и полноте жизни противостоит не только символическая многомерность и загадочность «мира вечности», но и «выморочность», однозначность, механичность «адского» мира, проступающего в самом
земном бытии, когда в нем начинают преобладать темные силы, когда
в человеке «адское» слово полностью подавляет животворящее божественное Слово. Как известно, цвет дьявола — серый; поэтому в изображении ада, проступающего в нашей жизни и омертвляющего ее,
может быть использован только этот цвет.
Последнее рассуждение помогает понять причины, по которым
Тарковский дает в черно-белом регистре вторую беседу Алексея
и Натальи. Весь их разговор пронизан чувством безнадежности, порожденным воцарением отчуждения в отношениях Алексея со всеми близкими людьми. «Знаешь, ты очень изменился», — с горечью
говорит в конце Наталья, подводя итог длинной череде обвинений
192
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
и упреков. Алексей уже почти утратил контакт с сыном, который отказывается переехать к нему и жить с ним, хотя и скучает об отце («Ты
хоть бы чаще появлялся у нас, знаешь ведь, как он скучает», — говорит
Наталья). Взаимные обиды и непонимание отдалили его от матери. «Ты
почему матери не звонишь, — упрекает его Наталья, — она после смерти тети Лизы три дня лежала... Самому трудно сделать первый шаг?»
В самой Наталье он теперь уже не видит сходства с матерью — того
сходства, которое было основой взаимопонимания и близости даже
в разлуке. И даже его советы бывшей жене («Выходи скорее замуж») выглядят больше как издевательство, чем как желание понять и помочь.
Можно сказать, что в этом эпизоде мы видим воцарение ада
в жизни Алексея, подобно тому как в эпизоде в типографии перед
нами представал личный ад Марии Николаевны, обусловленный как
ее личными качествами, противоречиями ее характера, так и исторической средой, в которую она оказалась «заброшенной». Личный ад
Алексея целиком обусловлен противоречиями его личности, таившимися до времени внутри, но теперь вдруг прорвавшимися наружу
и разрушающими все его связи с другими людьми и миром. Весь эпизод наполнен глубоким трагизмом, поскольку он свидетельствует
о близости смерти, конечная причина которой всегда в распаде цельности человеческой личности. И только возникающий в самом конце
разговора образ ангела, явившегося в виде огненного куста Моисею,
вносит в эмоциональную палитру эпизода некоторую оптимистическую ноту, поскольку здесь содержится намек на состоявшееся ранее
мистическое событие, определившее предназначение Игната. В нем,
возможно, повторится предназначение Алексея, его отца, и, значит,
несмотря на видимое распадение всех связей, глубокое духовное единство отца и сына сохранится, и его не сможет разорвать даже смерть.
После завершения эпизода, обнажившего кризис отношений
Алексея с близкими людьми, на экране внезапно еще раз появляется тот же самый фрагмент, показывающий порыв ветра, сминающего деревья и кусты, о котором подробно говорилось выше и который
как бы обозначает переход в «мир вечности». Затем следуют картины самого раннего детства Алексея, во многом перекликающиеся
с теми, что проходили перед нами в начале фильма. Но если в первом
случае в них ощущалась тягостная атмосфера, порожденная уходом
отца и страданиями матери, и они завершались пожаром — зримым
выражением происходящей в семье трагедии, то теперь они пронизаны солнечным светом и дарят Алексею радость возвращения
к истокам жизни, к самому ценному, что есть в его памяти. После
беседы Алексея и Натальи, рождающей ощущение безнадежности
и конца, эти светлые картины вновь говорят о вечности человека,
о неуничтожимости наиболее глубоких оснований его личности. Эту
193
ГЛАВА III
«Зеркало»: личность во времени и в вечности
же тему развивает идущий следом черно-белый фрагмент, изображающий сны Алексея, точнее основные мотивы его снов: старый дом
в темном лесу, заросшая бурьяном поляна, внезапно начинающийся
проливной дождь, спасаясь от которого мальчик бежит к дому, запертая дверь, не позволяющая войти в дом, эта же дверь, открывающаяся сама собой и т.д. Многие из этих мотивов буквально повторяют
в черно-белом изображении и замедленном ритме предшествующие
картины воспоминаний; мы видим здесь те же самые образы, но перенесенные в «мир вечности», обнажившие свой вечный, сверхземной
и поэтому загадочный смысл. И вновь, как и в начале фильма, лейтмотивом ряда загадочных черно-белых «символов», запечатленных
в «мире вечности», выступает все тот же образ: резкий порыв ветра,
сминает деревья и кусты и переворачивает предметы на столе, стоящем посреди дикой поляны в лесу.
Последний большой эпизод, завершающий рассказ о формировании личности Алексея, — это его воспоминание о попытке Марии
Николаевны продать свои сережки и кольцо. Эта история из прошлого Тарковского, по-видимому, имела для него особенно большое значение, поскольку именно она была в центре первых набросков сценария и даже была опубликована им в виде отдельного рассказа под
названием «Белый день» (совпадающим с одним из первоначальных
вариантов названия всего фильма)20.
Мария Николаевна с Алешей идут в деревню Завражье в дом врача Соловьева, коллеги давно умершего деда Алеши. Мария Николаевна надеется продать жене доктора Соловьева свои сережки и кольцо, чтобы хоть как-то прокормить детей во время их вынужденного
пребывания в Юрьевце, куда они приехали из Москвы, спасаясь от
немецких бомбежек. Застав докторшу Соловьеву одну, мать Алеши
сначала договаривается о продаже сережек, однако затем отказывается от сделки и уходит вместе с сыном обратно. Внутри этой простой
сюжетной логики скрыто несколько очень важных деталей, объясняющих, почему этот эпизод прошлого запечатлелся в памяти Алексея
и стал одним из решающих моментов в становлении его личности.
Эмоциональная атмосфера эпизода целиком определяется контрастом между бедной, неустроенной, неуютной жизнью Марии Николаевны и ее сына и зажиточной, самоуверенной жизнью докторши
Соловьевой (ее играет Лариса Тарковская). Когда промокшие под
дождем после двухчасового пути Мария Николаевна и Алеша предстают перед докторшей, одетой в богатый атласный халат, та с явной
настороженностью и даже недоброжелательностью слушает Марию
Николаевну, пытающуюся объяснить, кто они такие и зачем пришли
к ней. После некоторых колебаний, заставив своих нежданных го¬
20 См.: Тарковский А. Белый день // Искусство кино. 1970. №6. С. 109-114.
194
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
стей лишнюю минуту выстоять под дождем, она впускает их в сени,
а затем уводит мать Алеши в дом на переговоры по поводу сережек,
оставив его самого в одиночестве. Именно здесь и происходит нечто
важное, что отмечает значение этого эпизода для всей последующей жизни Алексея. Оглядев окружающее его небрежное изобилие
чужой жизни — мы видим на комоде брошенные как попало картофелины и пролитое молоко, а рядом огромный прозрачный кувшин,
полный молока, — Алеша останавливает взгляд на зеркале, висящем
напротив комода. Долго вглядываясь в свое отражение в зеркале, он
словно пытается узнать себя самого, оценивает себя, в то время как
его образ в зеркале меняется из-за резкого изменения освещения.
Для того чтобы понять смысл этого молчаливого вглядывания
в свое отражение (сопровождающегося в фильме музыкой Баха), полезно обратиться к литературному источнику этой сцены — рассказу
Тарковского «Белый день». «Я остался один, — описывает Тарковский
это мгновение своей жизни, — сел на стул, стоящий напротив зеркала, и с удивлением увидел в нем свое отражение. Наверное, я просто
отвык от зеркал. Оно казалось мне предметом совершенно ненужным
и поэтому драгоценным. Мое отражение не имело с ним ничего общего. Оно выглядело вопиюще оскорбительным в резной черной раме.
Я встал со стула и пересел на сундук»21.
Вряд ли можно признать Тарковского в такой же степени талантливым литератором, в какой он был гениальным кинорежиссером.
В данном случае описание вполне банально и не содержит никакого
особенно важного смысла. Тем не менее оно интересно тем, что в нем
обнажается чувство противоположное тому, которое Тарковский
вложил в соответствующий фрагмент фильма. Говоря о «вопиющей
оскорбительности» своего отражения в сравнении с резным, «драгоценным» зеркалом, Тарковский, очевидно, имеет в виду преследующее
мальчика Алешу (в рассказе он назван Сергеем) чувство своей никчемности, незащищенности, неспособности к действию, о чем чуть раньше шла речь в рассказе. В контексте истории с продажей сережек этот
«комплекс неполноценности» обретает особенно болезненную форму,
поскольку здесь Алеша и его мать оказываются в ситуации просителей,
вынужденных искать расположения у высокомерной и самодовольной
докторши. Но в том-то и состоит различие исходной литературной основы эпизода и его окончательного изобразительного решения, что
в фильме эта ситуация, наконец, помогает герою обрести себя. Долго
и пристально рассматривая себя в зеркале, Алеша словно бы впервые
узнает себя, приходит к осознанию себя как личности, к пониманию ответственности за свою судьбу и судьбу близких ему людей.
21 Тарковский А. Белый день. С. 113 (с небольшими изменениями этот фрагмент вошел и в сценарий фильма).
195
ГЛАВА III
«Зеркало»: личность во времени и в вечности
В двух предшествующих эпизодах фильма, изображавших прошлое Алеши (жизненную трагедию его матери и случай в тире), мы
наблюдали события, которые помимо его сознательного желания
отражались в его детской душе и формировали его личность. Но человек только тогда становится собой, когда он осознает себя в своей
неповторимой индивидуальности и начинает сознательное и волевое саморазвитие вопреки давлению обстоятельств. Именно это
и происходит с Алешей в эпизоде продажи сережек: его волевая решимость становится откликом на внезапно открывшуюся ему, ставшую очевидной беззащитность его матери. Докторша, хвастаясь своим сыном, ведет Марию Николаевну и Алешу в его спальную, и они
видят спящего пухлого мальчика, под шелковым одеялом на кровати
со спускающимися сверху кружевными занавесками. Но вместо того
чтобы умилиться этой картиной и разделить гордость докторши за
своего ребенка, Мария Николаевна испытывает приступ дурноты
и почти выбегает из комнаты обратно в сени, настолько остро она воспринимает чудовищную противоположность своей трудной жизни,
наполненной страданиями и борьбой за благополучие детей, и благодушно-счастливой жизни докторши.
В рассказе именно возникшее в этот момент чувство «боли и отчаяния» становится причиной поспешного ухода Марии Николаевны,
отказывающейся от уже оговоренной сделки и возвращающейся домой ни с чем. В фильме Тарковский добавляет еще один сюжетный
ход, словно бы понимая недостаточную психологическую обоснованность внезапного отказа от продажи сережек, т.е. от столь необходимых денег. Мария Николаевна готова остаться у докторши
и даже переночевать в ее доме, поскольку для получения денег нужно дождаться ее мужа. Докторша осознает, что ее гости смертельно
устали и продрогли после долгой дороги и, приняв их, наконец, за
«своих», начинает хлопотать по поводу ужина и устройства на ночлег.
И здесь судьба ставит Марию Николаевну перед новым испытанием,
выдержав которое, она уже не может больше оставаться в этом доме.
Докторша предлагает ей зарубить петуха — выполнить обычное
и простое, на ее взгляд, дело, к которому она неспособна только из-за
преследующей ее «дурноты», вызванной беременностью. Когда Мария Николаевна пытается отказаться, докторша без малейших колебаний предлагает сделать это Алеше — и становится ясным, что ей
никуда не уйти от этой тяжкой обязанности.
Именно в этот момент до конца обнажается не только различие внешних обстоятельств жизни докторши и матери Алеши,
но и принципиальная противоположность самого их отношения
к жизни, их мироощущения. Мария Николаевна принадлежит
к кругу людей, глубоко чувствующих всю бесконечность и загадоч¬
196
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
ность бытия и поэтому ищущих в своей собственной жизни не простоты и покоя, а какой-то притягательной сложности, пусть даже
чреватой конфликтами и противоречиями, какой-то проникновенности. Очень ясно эту жизненную позицию выразил в своем мимолетном появлении в первом эпизоде фильма врач, идущий в Томши-
но. Присев на изгородь, которая не выдерживает тяжести и тут же
ломается, он вместе с Марией Николаевной падает в траву и, громко
рассмеявшись, несколько секунд лежит, молча оглядываясь вокруг,
после чего медленно поднимается и говорит: «А знаете, вот я упал,
и такие тут какие-то вещи, корни, кусты... А вы никогда не думали,
вам никогда не казалось, что растения чувствуют, сознают, может
даже постигают: деревья, орешник вот этот... никуда не бегают. Это
мы всё бегаем суетимся, всё пошлости говорим... Это всё оттого, что
мы природе, что в нас, не верим... всё какая-то недоверчивость, торопливость что ли, отсутствие времени, чтобы подумать»22. Мария
Николаевна реагирует на эти слова как вполне здравомыслящий человек, она прозрачно намекает на его ненормальность. «Я это уже
слышал», — отвечает врач, как бы подтверждая, что с точки зрения
«здравого смысла» его мысли не вполне нормальны. Однако не вызывает сомнений, что Мария Николаевна понимает, о чем он говорит, и в какой-то степени разделяет его отношение к окружающему
миру. Возникающее между нею и врачом притяжение отражает их
духовное родство, их равную принадлежность к кругу людей, причастных тайне жизни.
Но это именно то, что абсолютно закрыто для докторши (по всей
видимости, и для ее мужа, врача Соколова, — в этом смысле встреча
с врачом в начале фильма и визит к докторше в конце получают дополнительный смысл за счет отражения друг в друге). В размеренном
и благополучном бытии, организованном ею для своей семьи, нет места не только какой-либо тайне, но даже необходимому многообразию, вариативности жизни. Здесь все заранее известно и предписано,
и расплатой за отсутствие конфликтов и трагедий оказывается отсутствие свободы и глубины чувств. Даже наивные вопросы маленького
сына докторши, только начинающего свое познание жизни, касаются
денег — главной меры материального благополучия («А почему пять
копеек больше, а десять меньше?» — спрашивает он у отца).
22 Отметим, что в этих словах мы в очередной раз можем заметить отражение тем и идей Достоевского. Один из героев Достоевского — полковник Роста-
нев из повести «Село Степанчиково и его обитатели» — высказывает очень похожую мысль: «Какой сок, какие листья! какое солнце! как после грозы-то все
вокруг повеселело, обмылось!.. Ведь подумаешь, что и деревья понимают тоже
что-нибудь про себя, чувствуют и наслаждаются жизнь...» (Достоевский Ф. М.
Село Степанчиково и его обитатели // Достоевский Ф. М. Собр. соч. в 15 т.
Т. 3. С. 195).
197
ГЛАВА III
«Зеркало»: личность во времени и в вечности
Противостояние двух форм человеческого бытия и двух форм отношения к миру и к жизни — тема, неоднократно затрагивавшаяся
во многих философских сочинениях XX в. Достаточно вспомнить
известное различие «подлинного» и «неподлинного» существования в философии экзистенциализма (особенно у М. Хайдеггера
и Ж.-П. Сартра). Однако и в данном случае более уместно сравнение
идей Тарковского с идеями русской дореволюционной философии.
Очень выразительно о различии двух отношений к жизни писал
в своих работах И. Ильин, которого мы уже не раз упоминали выше.
Существование, целиком подчиненное поверхностному материальному благополучию, исключающее прикосновение к тайне жизни,
Ильин называл пошлым существованием (отметим, что именно это
слово, характеризуя неправильность нашей жизни, использовал
врач-прохожий в первом эпизоде фильма).
В своих поздних сочинениях Ильин настойчиво подчеркивал, что
пошлость по своей сути означает отсутствие глубокого религиозного
чувства, благодаря которому человеку открывается целостное бытие Бога, его «свечение» в каждом земном объекте. «Настоящая
религиозность состоит в том, — пишет Ильин, — что человек подходит ко всем вещам, делам и отношениям в жизни, оставаясь сам в Бо-
жием луче, освещая все эти отношения, дела и вещи Божиим лучом
и отыскивая во всем ответный Божий луч. Этот Божий луч есть главное во всем, важнейшее, драгоценнейшее и руководящее; от него все
делается значительным, глубоким и священным; без него все оказывается пустым, скудным, мелким, незначительным, ничтожным.
Для этой пустоты и скудости, для этой незначительности и немощи
русский язык еще сто лет тому назад нашел и установил особое имя
и понятие — пошлости. <...> Пошлый акт воспринимает жизненные содержания и относится к жизненным предметам так, как если
бы в них не жила священная тайна бытия; он берет предметы —
не по главному и не из главного; он берет неглавное в них, так, как
если бы главного совсем и не было в них»23.
Ильин, говоря в этом отрывке о религиозном чувстве и пребывании человека в «Божием луче», имеет в виду каноническую православную традицию и каноническое понимание отношений человека
и Бога, в то время как та религиозность, которая безусловно присутствует в мировоззрении Тарковского, очень далека от церковного,
догматического христианства (о чем уже говорилось выше)24. Тем не
23 Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта. М., 1993. С. 208, 215.
24 Впрочем, при внимательном рассмотрении можно прийти к выводу, что
и взгляды Ильина не столь уж точно согласуюся с догматическим учением христианства; подробнее см. в книге: Евлампиев И. И. Божественное и человеческое в философии Ивана Ильина. С. 262-296.
198
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
менее приведенные слова очень точно выражают смысл того противостояния двух форм отношения человека к миру, к себе самому и к другим людям, которое подразумевается в эпизоде с продажей сережек.
Наиболее наглядно это противостояние проявляется в отношении
к чужой жизни и к возможности ее пресечения. В предыдущей главе
эта проблема была затронута в ее наиболее сложном и трагическом
аспекте — как проблема «необходимого» убийства и вины за такое
убийство. Но богатство жизни, многообразие ее форм делает ее значимой по отношению ко всем живым существам; именно об этом
говорил врач в первом эпизоде фильма, уравнивая жизнь человека
и жизнь «низших» существ и даже отдавая предпочтение последним.
Эта проблема во всей остроте встает перед Марией Николаевной,
когда докторша просит, почти обязывает ее или Алешу убить петуха.
В «пошлом», лишенном религиозного трепета существовании, характерном для мира докторши, смерть превращается в малозначительную, механическую деталь бытия. Нечуткость к тайне жизни отнимает у человека возможность испытывать священный трепет перед
смертью, что в свою очередь не позволяет ему самому подготовиться к смерти и к усилию воскресения. Для человека, обладающего такой чуткостью и таким отношением к смерти, отнять жизнь у другого
существа — это поступок не имеющий себе равных по степени радикальности и ответственности; даже если он необходим и неизбежен,
он ни при каких условиях не может превратиться в нечто формально-механическое, как это понимает докторша. Мария Николаевна совершает этот поступок только потому, что в противном случае это
пришлось бы сделать Алеше, она в очередной раз жертвует собой
ради душевного спокойствия своего сына. Для ее чуткой души это
оказывается таким же абсолютным, «сверхземным» испытанием, каким было убийство русского воина для Андрея Рублева. «Переступив
через кровь» (пусть это только кровь петуха), она вырывает себя из
обыденности и из земных взаимосвязей с миром и людьми, и, точно
так же как Андрею Рублеву в фильме «Страсти по Андрею», ей на
мгновение открывается «мир вечности». В таком раскрытии вечного
бытия человеку является то, что составляет главное в его жизни, что
символизирует его самые возвышенные дерзания и самые трагические конфликты его души. Андрею Рублеву являлся умерший Феофан Грек, в споре с которым он осознавал свое предназначение; Мария Николаевна, поставленная на ту же грань между двумя мирами,
прозревает вечную основу своего бытия — свою бесконечную и таинственную, как сама жизнь, любовь к отцу Алеши: мы видим один из
самых притягательных и многозначных образов Тарковского, образ
любви, преодолевающей законы земного бытия — женщину, неподвижно парящую над своей кроватью.
199
ГЛАВА III
«Зеркало»: личность во времени и в вечности
Но прежде чем этот символический образ предстанет на экране,
Тарковский показывает лицо Марии Николаевны, загадочно — то ли
по-ангельски, то ли по-дьявольски — улыбающейся, да еще кроме
того снятой рапидом и в неестественном боковом освещении. Позже в своих лекциях по режиссуре он высказал сожаление о том, что
включил этот план в фильм, поскольку «здесь слишком педалируется эмоция героини, выражение становится литературным, состояние героини оказалось “разжеванным”, легко читаемым, тогда как
его надо было погрузить в атмосферу некоторой таинственности»25.
Эта самокритика достаточно понятна: требовательность Тарковского
к самому себе никогда не позволяла ему признать свои фильмы совершенными и удавшимися во всех своих элементах; однако в данном случае его слова трудно признать справедливыми. Более того,
кажется, что он и не вполне искренен в своем суждении. Фактически, здесь он критикует этот фрагмент, исходя из той самой весьма
распространенной и достаточно банальной эмоционально-психологической интерпретации своих картин, против которой решительно возражал во многих других своих выступлениях и статьях. Ведь
большая часть «странных» образов Тарковского изображает вовсе
не эмоциональное состояние героев, а, если можно так сказать, их
метафизическое состояние, которое, конечно же, невозможно оценивать по законам обычной психологии. Это относится и к данному
фрагменту. Состояние Марии Николаевны после «убийства» петуха
изображено в фильме не с точки зрения его психологических доминант (хотя именно это Тарковский утверждает в процитированном
отрывке из лекций по режиссуре), а с точки зрения его принципиальной инородности всему естественному и «психологическому». Кадры,
на которых мы видим загадочно улыбающуюся Марию Николаевну,
изображают не реальную женщину в реальных условиях ее земного
существования, а символический образ ее перехода в иную, более высокую сферу бытия. «Нереалистичность», точнее «сверхреальность»,
этого образа, ничего общего не имеющего с психологией, подчеркивается «фирменным» знаком Тарковского — на заднем плане, за спиной
Марии Николаевны, мы видим текущую по стене воду.
Наконец, нетрудно подметить отдаленное сходство изображения
Марии Николаевны, «переступившей через кровь», и изображения
в фильме «Страсти по Андрею» Малого князя, осознающего всю тяжесть совершенных им преступлений. Там, как и в рассматриваемом
фрагменте из «Зеркала», Тарковский применил съемку рапидом, что
очень часто обозначает у него состояние человека, выходящего за пределы обыденного существования, встающего на самую грань земного
бытия, прозревающего что-то неведомое, страшное. Только вот итог
25 Тарковский А. Уроки режиссуры. С. 48.
200
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
этого «прозрения» в двух рассматриваемых случаях принципиально
различен: Малому князю открывается вся тяжесть его вины и неизбежность возмездия, а Мария Николаевна осознает безысходность
своих страданий и своих душевных мук, обусловленных не столько
внешними обстоятельствами, сколько ее собственной душевной требовательностью и чуткостью, ее безграничной любовью, для которой
этот мир слишком несовершенен. И это означает ее абсолютное превосходство над докторшей с ее плоским благополучием и мертвящим
покоем. Неважно, осознает она ясно это свое превосходство или нет,
именно интуитивное ощущение абсолютной инородности ее мира
миру докторши заставляет Марию Николаевну внезапно отказаться
от договоренности о продаже сережек и стремительно уйти.
7. Познание и сотворение себя
Значение, которое приобрел в памяти Алексея визит к докторше
Соловьевой, определяется тем, что он отметил момент осознания им
своей самостоятельности; но одновременно здесь к Алексею приходит
понимание сложности и трагической противоречивости мира — прекрасного, благого в одних своих элементах и неуютного, злобного —
в других. Весь эпизод в целом производит именно такое контрастное
впечатление. Восхищение, вызванное прекрасным образом домашнего очага, хранительницей которого оказывается вызвавшая первую
любовь Алеши девочка с треснувшей губой, неразделимо сливается
в душе Алеши с острым ощущением несправедливости судьбы, дарующей уют и покой недостойной такого счастья докторше и лишающей
его мать даже малых крох счастья и душевной гармонии.
По-видимому, именно в этот момент, через ясное прозрение контраста между возможной гармонией и возможным совершенством
мира и его глубоким наличным несовершенством Алеша окончательно осознает свое призвание художника, ведь художник показывает
путь к окончательному преображению бытия — путь творчества.
В самом конце эпизода, когда мы видим возвращение Алеши и его
матери домой, за кадром начинает звучать последнее и, возможно,
самое загадочное стихотворение Арсения Тарковского:
У человека тело
Одно, как одиночка.
Душе осточертела
Сплошная оболочка
С ушами и глазами
Величиной в пятак
И кожей — шрам на шраме,
Надетой на костяк.
201
ГЛАВА III
«Зеркало»: личность во времени и в вечности
Летит сквозь роговицу
В небесную криницу,
На ледяную спицу,
На птичью колесницу
И слышит сквозь решетку
Живой тюрьмы своей
Лесов и нив трещотку,
Трубу семи морей.
Душе грешно без тела,
Как телу без сорочки, —
Ни помысла, ни дела,
Ни замысла, ни строчки.
Загадка без разгадки:
Кто возвратится вспять,
Сплясав на той площадке,
Где некому плясать?
И снится мне другая
Душа, в другой одежде:
Горит, перебегая
От робости к надежде,
Огнем, как спирт, без тени
Уходит по земле,
На память гроздь сирени
Оставив на столе.
Дитя, беги, не сетуй
Над Эвридикой бедной
И палочкой по свету
Гони свой обруч медный,
Пока хоть в четверть слуха
В ответ на каждый шаг
И весело и сухо
Земля шумит в ушах.
В этих словах выражено острое чувство неудовлетворенности земным бытием, земной оболочкой души и мечта о «другой душе, в другой одежде» — о преображенном человеческом бытии и гармоничном
мире, находящемся в согласии с человеком. Позже Тарковский признал лишними последние кадры эпизода, показывающих возвращение
Алеши и Марии Николаевны домой, с этим можно согласиться: в этом
заключительном фрагменте смысловой акцент поставлен на стихотворении, в то время как изображение просто сопровождает его начало.
Стихотворение заканчивается уже в следующем фрагменте
фильма, который имеет такую же точно структуру, как и фрагмент,
предварявший эпизод с продажей сережек, он состоит из двух равно¬
202
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
правных частей: черно-белого «видения» Алексея и цветного «воспоминания». Два фрагмента, обрамляющие эпизод с продажей сережек,
имеют очевидное смысловое сходство и столь же очевидно противостоят друг другу, как два проведения одной и той же темы в фуге.
Поэтому понять их значение в структуре фильма можно, только сравнивая друг с другом.
Обратим внимание на слова Алексея, сопровождающие первый
из рассматриваемых фрагментов (предваряющий эпизод с продажей
сережек). «Мне с удивительной постоянностью снится один и тот же
сон; он будто пытается заставить меня непременно вернуться в те до
горечи дорогие места, где раньше стоял дом моего деда, в котором
я родился сорок с лишним лет тому назад, прямо на обеденном столе,
покрытом белой крахмальной скатертью. И каждый раз, когда я хочу
войти в него, мне всегда что-то мешает... Мне часто снится этот сон,
я привык к этому... И когда я вижу бревенчатые стены, потемневшие
от времени, и полуоткрытую дверь в темноту сеней, я уже во сне
знаю, что это мне только снится, и непосильная радость омрачается
ожиданием пробуждения. Иногда что-то случается и мне перестает
сниться и дом и сосны вокруг дома моего детства. Тогда я начинаю
тосковать, я жду и не могу дождаться этого сна, в котором я опять
увижу себя ребенком и опять почувствую себя счастливым, оттого
что еще все впереди, еще все возможно...»
Прежде всего бросается в глаза очевидное противоречие между
словами Алексея и изобразительным рядом фильма: хотя он говорит
о том, что главный мотив его сна — невозможность попасть в дом
своего детства, на экране мы видим кадры воспоминаний, где дом
предстает как раз изнутри. Однако это противоречие легко разрешается, если мы вспомним, что в этом фрагменте цветные и чернобелые кадры представляют совершенно различные образы сознания
Алексея, или, точнее говоря, различные планы его бытия. Цветная
часть фрагмента — это квинтэссенция его воспоминаний, это как бы
образное раскрытие глубин его души, основ его личности. И не случайно перед нами предстает изображение дома его детства изнутри,
дом — это символ неповторимой личности Алексея, и стремление понять себя равносильно для него воспоминанию о жизни в этом доме.
С другой стороны, черно-белые кадры — это уже не воспоминания и вообще не образы реального, земного бытия, это выражение
причастности личности к сверхземному «миру вечности». Возникающие здесь символы свидетельствуют не столько об индивидуальном
пути личности в земном мире, сколько о ее отношениях со всей вечной и бесконечной реальностью, о ее значении в бытии как таковом.
И здесь дом выступает символом окончательного и полного понимания себя, а значит и всего, что есть в мире, поскольку личность че¬
203
ГЛАВА III
«Зеркало»: личность во времени и в вечности
ловека есть средоточие и центр мира. Невозможность войти в дом —
такой родной и знакомый — означает неисчерпаемость и загадочность человеческой личности и человеческого существования. Однако постижение себя является одной из важнейших целей, стоящих
перед человеком, поэтому сон Алексея, хотя он и выражает недостижимость этой цели, является для него источником радости, источником жизненных сил и надежд.
В самом конце фрагмента (в черно-белом «сне») маленький Алеша дергает ручку запертой двери и не может войти в дом, но когда
он уходит, дверь сама собой открывается, и мы видим Марию Николаевну, чистящую картошку, а рядом с ней собаку, которая ни разу
до этого не появлялась на экране. Этот маленький отрывок, как нам
кажется, имеет чрезвычайно глубокий смысл, символически обозначая важнейшую философскую идею фильма. Запертый дом и невозможность попасть в него — это выражение бесконечной сложности
того главного «задания», которое личность имеет в мире и которое
состоит в постижении себя, всей своей неизреченной полноты. Однако после неудачной попытки Алексея открыть дверь она распахивается сама собой, и за ней оказываются вместе и бесконечно знакомое и близкое Алеше существо (его мать), и существо загадочное
и незнакомое (собака).
Здесь нужно отметить (о чем уже говорилось ранее), что в первых трех фильмах Тарковского особым символическим значением
обладал образ коня. Конь олицетворяет у Тарковского бессловесное,
немое бытие, по отношению к которому человек выступает и как «хозяин», «пастух», ведущий его к какой-то идеальной, возвышающей
и преображающей цели, и как разрушительная сила, уничтожающая относительное совершенство. В «Зеркале» это символ исчезает,
и его место занимает птица, в эпизоде, происходящем в тире, и собака,
в рассматриваемом эпизоде (особенно важную роль этот новый символ
будет играть в «Сталкере» и «Ностальгии»). Последнее замещение, по-
видимому, связано с тем, что отношения человека с собакой являются
гораздо более «тесными» и «интимными», чем с конем. Конь в большей
степени символизирует самодостаточную гармонию природы. Появление образа собаки обозначает существенное смещение акцентов
в представлении Тарковского о взаимосвязи человека и мира. Теперь
для него главное — зависимость бытия от человека, его способность
беззаветно «отдаться» человеку, «служить» ему. Здесь в еще большей
степени подчеркивается ответственность человека за свои поступки,
каждый из которых определяет судьбу всего мира.
В этом контексте сама собой открывающаяся дверь и собака,
выходящая через нее из дома, могут быть поняты как символы «открытости» бытия, его готовности отдать человеку всю свою бесконеч¬
204
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
ную полноту. И тогда главной причиной всех трагедий нашей жизни,
а значит, и трагедии самого бытия, является несовпадение нашего стремления к постижению себя (и всего существующего через
себя) и этой тенденции к открытости, присущей бытию. Преодолевая
это несовпадение, чутко улавливая «призывы», исходящие от бытия,
человек делает самый важный шаг на пути к преображению мира —
к той самой цели, о которой мечтают все главные герои Тарковского,
раскрытию и разъяснению которой он посвятил все свои произведения. В «Зеркале» непоколебимую веру в возможность достижения
этой цели демонстрирует финал фильма.
Второй фрагмент (или второй вариант) «сна» Алексея, следующий за эпизодом с продажей сережек, показывает как раз такое совпадение усилия личности и «зова» бытия: мальчик Алеша, наконец,
беспрепятственно входит в дом, открытый всем ветрам, всей природе, всему миру (мы видим, как ветер развевает длинные полотенца, развешанные внутри). И в руках у него — тот самый стеклянный
кувшин с молоком, который в эпизоде с продажей сережек символизировал совершенную, счастливую жизнь, недоступную Алеше и его
матери. Алеша подходит к зеркалу, и Тарковский фиксирует долгий
план, подчеркивающий совпадение отражения в зеркале с самой
реальностью (правда сама эта «реальность» относится не к земному
миру, а к «миру вечности»); в аналогичном фрагменте в начале фильма, как мы помним, молодая Мария Николаевна в зеркале видела
себя подошедшей к пределу жизни. В результате весь этот фрагмент
предстает как символ осуществления главной цели человеческой
жизни, символ свершившегося постижения себя, проникновения
в абсолютную, вечную основу своей личности. Не случайно параллельно с этими кадрами мы слышим окончание стихотворения «Эв-
ридика», где говорится о «другой душе, в другой одежде», о преображенном бытии человека, выявляющем свою вечную составляющую
и свое единство со всем существующем.
Но все эти образы только символически обозначают возможность преображения личности и всей земной действительности. Их
можно рассматривать как своего рода «откровение», пришедшее из
«мира вечности» и призывающее человека к реальным усилиям, направленным на постижение и преображение себя; без этих реальных
усилий «обетование» новой жизни останется только «сном», мечтой.
Сюжетная логика «Зеркала» как раз и показывает цепь этих усилий,
осуществляемых художником. Полнота жизни и целостность внутреннего мира являются его главными творениями, в то время как все
художественные произведения — лишь материальными «осколками»
его главного творческого деяния, творения себя. Финал фильма, начинающийся после прозрения Алексеем в «мире вечности» высшего
205
ГЛАВА III
«Зеркало»: личность во времени и в вечности
смысла своей жизни, показывает уже не символ, а реальный результат постижения себя, достигнутый художником. Здесь уже не символически, а реально (в смысле той реальности, которая представлена не одной сферой бытия, но всем бытием в его цельности) сходятся
«начала» и «концы» земного существования героя, время соединяется с вечностью, и благодаря этому каждое событие, произошедшее во
времени, обретает абсолютный смысл, и все они соединяются друг
с другом в неразрывное целое: молодые мать и отец мечтают о еще не
рожденных детях, а рядом постаревшая Мария Николаевна ведет за
руку маленьких Алешу и Марину, и старый дом, словно выросший
из этой вечной земли, всегда ждет своих обитателей и готов дарить
им покой и уют (даже если он разрушился и исчез в земной действительности), и даже звуки дудочки, вызывавшие у Алеши страх, становятся всего лишь знаком бесконечного пути и бесконечного поиска.
В этом гармоничном целом находится место для всего многообразия
и богатства форм жизни, даже для тех, что кажутся несовершенными
и незначимыми для человека; оттого так удивительно красивы изображения покрытых изумрудным мхом камней, полусгнивших бревен, вросших в землю, черной гнилой воды в заброшенном колодце,
каких-то деловито ползающих по разлагающемуся дереву насекомых, — всего того мира, о котором говорил врач-прохожий в первом
эпизоде фильма.
Происходящее на наших глазах преображение не является полным и окончательным, поскольку в мире остается смерть. Предшествующая сцена фильма, предваряющая финал и происходящая
в «настоящем», в земном времени показывает умирающего Алексея.
Но его смерть все-таки оказывается подчиненным элементом новой
жизни. Являясь неизбежным и осознанным итогом принятия всей
полноты своей вины, она оказывается одним из необходимых звеньев
в цепи тех событий и свершений, которые ведут человека к новой
жизни. Проницательные слова врача у постели Алексея: «Все будет
зависеть от него самого» — не о выздоровлении к прежней жизни,
а как раз об этом последнем усилии воскресения и преображения.
«Ничего, ничего, все обойдется, все будет, а?!» — полувопросом,
полуутверждением отвечает Алексей, и в этих словах проступает
и вера в ожидающее его и уже свершающееся преображение, и понимание того, что это преображение зависит только от него, от тех усилий, которые он должен совершить и в каждый момент своей жизни,
и в момент смерти.
В первоначальном замысле «Зеркала» Тарковский пытался выйти за рамки традиционных представлений о художественном произведении и соединить художественный вымысел с документальным
исследованием жизни своей матери; в фильме должны были присут¬
206
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
ствовать эпизоды, в которых его мать отвечала бы на самые разные
вопросы о себе, своей семье, об истории и культуре. Отказавшись от
этой необычной формы, Тарковский не отказался полностью от идеи
превратить фильм в повествование о своей семье и о себе самом.
В итоге фильм стал своего рода автобиографией режиссера, уникальной по своей форме. Помимо обычного эмпирического плана повествования, изображающего реальную жизнь автора и его близких,
в фильме есть, так сказать, мистический план, в котором
режиссер как бы возвышается над всей своей жизнью и выражает
вечный смысл своего творчества.
Но наиболее явно необычный характер автобиографического
замысла фильма проявляется в тот момент, когда в финальных кадрах появляется 66-летняя мать Тарковского Мария Николаевна.
В последнем фрагменте фильма, как бы уже за гранью смерти, старая мать берет за руку своих маленьких детей и уводит их в бескрайнее поле, где они теряются в высокой траве. Этот финал очень похож
на финал фильма «Иванова детства» и выражает ту же самую мысль:
человек — вечное и бессмертное существо, и его смерть — это не
уничтожение, а переход в другие сферы существования. Подлинно
великий художник, в отличие от обычных людей, не боится думать
о смерти и даже предвосхищает свою смерть, это связано с тем, что
он видит то, что будет за ней, провидит ту бесконечную реальность,
в которой станут более ясными смыслы всех событий его жизни.
Мать была для Тарковского тем человеком, который не только физически, но и духовно создал его; именно ей он был обязан своим рождением как художника. Поэтому он не боится заглянуть и за грань
ее смерти, чтобы убедиться в том, что за свою неустроенную жизнь,
посвященную детям, она заслужила бытие на «острове блаженных»,
в прекрасном и гармоничном мире, сохраняющем все самое главное
из ее земной жизни.
207
ГЛАВА IV
«СОЛЯРИС»:
в ожидании Мессии
ГЛАВА IV
«Солярис»: в ожидании Мессии
1. Научный разум и тайна человеческой души
«Солярис» стал единственным фильмом «зрелого» Тарковского,
который имел вполне благополучную съемочную и прокатную судьбу. Первое предложение о фильме было подано на киностудию «Мосфильм» в 1968 г. (одновременно с заявкой фильма «Исповедь», позже
ставшего «Зеркалом»), съемки были закончены к 1972 г.; «Солярис»
сразу был принят в прокат и представлен на Каннский кинофестиваль, где получил две премии (специальный приз жюри «Серебряная
пальмовая ветвь» и премия экуменического жюри).
С определенной долей условности «Солярис» можно назвать более «простым» фильмом по сравнению с предыдущими и последующими произведениями Тарковского. Он обладает ясным, фантастиче-
ски-увлекательным сюжетом и, на первый взгляд, выражает вполне
очевидные этические идеи. Именно поэтому в откликах на «Солярис»
нет такого разнообразия и противоречия точек зрения, а также такого
непонимания подлинных целей режиссера, как это было характерно
для критических откликов на другие его фильмы, начиная со «Страстей по Андрею». Однако это, конечно же, не означает, что «Солярис» является менее значимым и менее философски насыщенным. За
относительной простотой сюжетной логики фильма и внешней очевидностью его моральной проблематики скрыты чрезвычайно важные для Тарковского поиски новых подходов к осмыслению загадок
человеческого бытия. В «Страстях по Андрею» и «Зеркале» режиссер
погружается в бесконечное многообразие конкретной исторической
эпохи, в полноту жизни, чтобы внутри этой полноты нащупать звенья
нерасторжимой связи явлений и событий, в центре которой находится человеческая личность. В «Солярисе» он поступает по-другому, он
как бы ставит «чистый» эксперимент, устраняет из жизни своих героев все второстепенное и обнажает некоторую простейшую схему отношения человека к себе подобным и к миру, искусственно помещает
героев в фантастическую ситуацию, в которой проявляются качества
личности, скрытые в нашем обыденном существовании.
В «Солярисе» на первый план выступают совершенно новые проблемы в сравнении с теми, которые занимали внимание Тарковского
в «Страстях по Андрею», причем их полное и всеобъемлющее решение откладывается до следующих работ режиссера. Частично эти
новые проблемы отразятся в «Зеркале», но наиболее полно будут
осмыслены и подвергнуты анализу в «Сталкере», поэтому особенно ясная линия идейной преемственности связывает «Солярис» со
«Сталкером». В «Зеркале», как мы попытались показать в предыдущей главе, Тарковский в большей степени возвращается к тем идеям,
216
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
которые занимали его в «Страстях по Андрею», а в двух последних
своих фильмах, снятых после «Сталкера», он пытается свести вместе главные идейные линии всех своих более ранних работ и в связи
с этим несколько «упрощает» и «облегчает» их.
Начиная разговор о «Солярисе», мы все-таки должны обратить
внимание на те элементы, в которых отразилась преемственность этого (Ьильмя по отношению к ппеттытппттей пяботе Тяпкояского ня (Ьоне
этой преемственности станет еще более наглядной новизна философской проблематики «Соляриса». Как мы помним, в центре философской конструкции «Страстей по Андрею» была идея потенциального совершенства мира; образы, выражавшие эту идею, составляли
сквозную изобразительную линию фильма, вокруг нее строилась вся
его сюжетная и философская «драматургия». Начало «Соляриса»,
показывающее последнюю встречу главного героя Криса Кельвина,
которого играет Донатас Банионис, с отцом перед отлетом на космическую станцию планеты Солярис, выглядит как почти цитатное
повторение образного ряда, воспроизводившего в «Страстях по Андрею» бесконечное многообразие и гармонию земного мира. Медленно текущая вода с огромными ярко зелеными водорослями, поляна,
вся покрытая высокими белыми цветами, ровные зеленые лужайки,
окружающие маленькое спокойное озеро с темной заболоченной водой, лошадь свободно бегущая по берегу этого озера — все это буквальное воспроизведение ключевых образов «Страстей по Андрею».
Единственное существенное отличие, которое кажется только «техническим», но, несомненно, имеет и достаточно глубокое идейное содержание, — это появление цвета, придающего образам природы еще
большую жизненность и конкретность. В дальнейшем, когда действие
фильма будет перенесено на космическую станцию, затерянную где-
то в бесконечных просторах вселенной, цветовая палитра фильма станет более сдержанной (с преобладанием желтого и красного цветов),
и тогда яркие картины земной природы, выполненные в зелено-синих
тонах, будут в воспоминании зрителей противостоять опустошенности и противоестественности мира, попавшего под контроль нечеловеческого разума планеты Солярис.
Как и в «Страстях по Андрею» в прологе «Соляриса» центром земной гармонии оказывается человек. В самом начале фильма мы видим
Криса Кельвина неподвижно стоящим на поляне с белыми цветами,
и его странная напряженная поза свидетельствует о стремлении впитать, вобрать в себя, запомнить надолго окружающее богатство и спокойствие природы, чтобы сохранить духовный контакт с земным миром даже в долгой разлуке с ним. В руках у Криса — металлическая
коробка из под хирургических приборов, в которой он увезет с собой
в космос землю и зерно маленького земного растения, мы увидим его
217
ГЛАВА IV
«Солярис»: в ожидании Мессии
проросшим в самом конце фильма на космической станции, как крохотную, беззащитную копию Земли, как воспроизведение ее непрочной, но и неистребимой гармонии.
Андрей Рублев в предыдущем фильме Тарковского был вечным
странником, путником, не имеющим приюта, он стремился к тому,
чтобы охватить в своем творчестве все существующее, выразить всеобщее абсолютное сояептттенстяо В «Стпястях по Анттпею» относительная гармония земной действительности понималась как первая
ступень, как основа для грядущего достижения абсолютной гармонии, для преображения бытия к сверхземному, идеальному состоянию, в котором для человека домом станет весь бесконечный и многообразный мир. В «Солярисе» именно в этом пункте происходит наиболее заметное изменение. Уверенность в достижимости такой
абсолютной гармонии исчезает из мировоззрения Тарковского,
остается только вера в возможность упрочения и развития земной,
относительной гармонии. Последняя не охватывает весь мир, является ограниченной, ее центром всегда оказывается конкретный человек; поэтому ее символом и наиболее зримым выражением выступает
земной, личный дом человека, как оплот его бытия, как место, где находится исток всех его надежд и устремлений.
В этом моменте особенно заметно сходство «Соляриса» и «Зеркала», в обоих фильмах дом является центральным элементом изобразительного ряда. В прологе «Соляриса» дом отца Криса предстает
как незыблемая основа локального земного мирка, порядок в котором
поддерживается только благодаря усилиям его хозяина. Не случайно
сам дом укоренен в истории, в прошлом. Об этом говорит отец Криса:
«Этот дом похож на дом моего деда, он мне очень нравился, и мы с матерью решили построить такой же». Именно отец Криса в исполнении
Николая Гринько, а также его сестра Анна, которую играет Тамара
Огородникова, являются подлинными хранителями дома и несут на
себе ответственность за весь маленький мир, связанный с ним. Не-
абсолютность земного совершенства нагляднее всего проявляется
в том, что дом, построенный человеком, ставший основой его личного
мира и оплотом его усилий по преображению окружающего бытия,
подвержен действию времени, он рано или поздно гибнет. Однако
у человека есть силы, чтобы бороться со временем и с тем разрушением, которое несет время; он способен восстановить свой дом и тем
самым перешагнуть, хотя бы условно, через смерть.
Но самое главное, что помимо этого условного преодоления, осуществляемого во внешней материальной природе и только «имитирующего» продолжение жизни (все-таки дом, построенный отцом Криса, не тождествен своему «прообразу» — дому прадеда Криса), у человека есть возможность (еще не осознанная им до конца) преодолеть
218
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
смерть в самой ее сути, «упразднить» ее абсолютное метафизическое
значение. Это собственно и является одной из важнейших идейных
линий «Соляриса». Дом отца, возникающий в финале фильма, уже не
созданный человеком, а как бы вышедший из самых глубин мирового бытия, становится символом такого окончательного преодоления
смерти, точнее, символом возможности такого преодоления, которая для Криса Кельвина и других героев «Соляриса» остается, скорее,
бесконечно трудной задачей, не вполне ясной целью, чем свершившимся фактом; более подробно о том, как он видит путь к реализации
этой задачи и достижению этой цели Тарковский расскажет в «Зеркале». Впрочем, в этом же пункте намечается и радикальное отличие
«Соляриса» от «Зеркала» и «Страстей по Андрею»: в «Солярисе» Тарковский ясно осознает иррациональность бытия, не желающего подчиняться нашему стремлению ко всеобщему совершенству. Иррациональность, заложенная не только в основаниях бытия как такового,
но и в основании человеческого бытия, выражается в парадоксальной
диалектике смерти и бессмертия, которую герои Тарковского обозначают своей собственной судьбой: несомненное и неотъемлемое право
человека на бессмертие в абсурдном мире своей обратной стороной
имеет право на смерть. В дальнейшем мы будем подробно говорить
об этом в связи с историей Криса и Хари.
Как и в «Страстях по Андрею», выразительным знаком земной
гармонии в прологе оказывается внезапно начавшийся проливной
дождь, омывающий этот яркий, праздничный, прекрасный мир. Крис
стоит неподвижно под проливным дождем, словно впитывая его, словно сливаясь с той благодатной сетью взаимосвязей, которая, охватывая все бытие, придает ему цельность и совершенство. Точно так же
как и в двух предшествующих фильмах, символом свободной красоты
природы и ее стихийной, но благой силы выступает конь, пробегающий по дорожкам того леса, где в последний раз перед расставанием
с Землей медленно проходит Крис.
Тем не менее прекрасный, гармоничный мир, изображенный
в прологе, оказывается только маленьким островом в земном бытии,
которое в целом очень далеко от совершенства и подвержено господству мертвящих, бесчеловечных сил. «Большой» мир, окружающий
этот «остров», оказывается совсем другим — механическим, однообразным, безжизненным; его образ возникает во время долгой поездки
на автомобиле старого астронавта Бертона, возвращающегося домой
после резкого разговора с Крисом Кельвином. Продолжительный
план, показывающий бесконечную ленту шоссе, унылые серые тоннели, едва освещенные искусственным светом, огромные эстакады,
напоминающие страшных замерших чудовищ, часто вызывает недоумение у зрителей, однако очевидно, что он был необходим Тарков¬
219
ГЛАВА IV
«Солярис»: в ожидании Мессии
скому для демонстрации уныло-монотонной, бездушной сущности
грядущей человеческой цивилизации — для того, чтобы в восприятии
зрителей возник резкий контраст между двумя фрагментами, выражающими разные формы отношения человека к бытию. «Островок»
земной гармонии оказывается окруженным «океаном» безжизненных
порождений холодного человеческого разума. Символом всеразруша-
ющей силы последнего, его способности к неограниченной экспансии и выступает бесконечное движение по искусственным тоннелям
и эстакадам, не имеющее в рамках экранного времени никакой цели
и никакого смысла. Проблема соотношения двух интенций человеческой души — той, которая направлена на глубокое восприятие, сохранение и развитие зерен гармонии в мире, и той, которая вносит
в мир поверхностную, рассудочно-механическую упорядоченность,
заслоняющую, но не преодолевающую иррациональность бытия, —
становится в фильме одной из самых важных, особенно остро она раскрывается в судьбе главного героя, Криса Кельвина.
Нужно обратить внимание на то, что фрагмент, показывающий
поездку Бертона с внуком по автостраде, противостоит предшествующему отрывку в чисто кинематографическом смысле — в отличие
от показанных ранее картин земной природы, он почти полностью лишен цвета. Формально это можно объяснить тем, что Бертон возвращается домой уже вечером, в связи с чем вечерние сумерки скрадывают все цвета. Но режиссер лишает эту естественную логику каких-
либо оснований: некоторые кадры внутри этого фрагмента являются
цветными, и в самом конце фрагмента, когда окончательно наступает
вечер, и сумерки переходят в ночную тьму, мы видим цветное изображение огромного города, мерцающего огнями рекламы и прочерченного светящимися реками автодорог. Причем это последнее, цветное
изображение дано уже не с точки зрения Бертона, а с точки зрения
некоего «внешнего» наблюдателя, который смотрит на человеческий
мегаполис с небольшой высоты. Вероятно, соединение черно-белых
кадров и завершающего цветного изображения нужно понимать в том
смысле, что обесцвечивание, механизация мира происходит в восприятии самого человека, находящегося «внутри» созданного им рационального порядка вещей; являясь его источником и причиной, он сам
прежде всего и страдает от этого порядка. В фильмах Тарковского изображение происходящих событий очень часто дается с точки зрения
конкретного человека, как правило, с точки зрения главного героя;
Тарковский не признает «абсолютно объективного» взгляда на вещи,
совершенно независимого от человека. Используя популярные философские категории, можно сказать, что для него человек всегда есть
«бытие-в-мире», а мир всегда есть «пред-ставленное бытие» — бытие,
данное в горизонте кого-то присутствующего и наблюдающего (чело¬
220
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
века). Поэтому кризис, испытываемый человеком, распад его связей
с другими, с бытием, с самим собой — это кризис всего мира, центром
которого он является; в этом случае мир становится бесцветным,
теряет главное качество, выражающее его полноту и совершенство.
Впервые снимая фильм в цвете, Тарковский находит очень выразительный и очень характерный для его последующего творчества прием контрастного соединения цветного и черно-белого изображения.
Мы уже говорили в предыдущей главе о двух мотивах использования
черно-белого изображения в цветном фильме: во-первых, это изображение снов героя, в которых тот проникает в иные сферы бытия,
в «мир вечности», во-вторых — представление действительности глазами человека, теряющего естественные, необходимые для нормальной жизни связи с другими людьми. В «Солярисе» Тарковский лишь
один раз показывает нам сон, или, может быть, видение героя (Криса),
вызванное воздействием на его сознание непонятных сил разумного
океана Соляриса, причем это видение дано в сначала в цвете и только
в конце переходит в черно-белый регистр. О причинах перехода к черно-белому изображению в этом фрагменте мы будем говорить позже,
они достаточно нетривиальны. Все остальные черно-белые вставки
в фильме связаны только со вторым мотивом, они отражают ситуации,
в которых имеет место кризис личностного бытия героя, как-то связанный с кризисом всей окружающей действительности, зависящей
от него. Фрагмент, показывающий поездку Бертона, дает наиболее
наглядное выражение этого мотива. В этом моменте жизни Бертона
сходятся воедино, как бы дополняя друг друга, два «кризиса», две «катастрофы», совместно разрушающие естественные жизненные связи,
делающие безжизненным, зловеще-механическим его восприятие
действительности, — личная трагедия Бертона, не сумевшего донести до Криса Кельвина то, что он считал самым важным из постигнутого им в своей жизни, и трагедия всей человеческой цивилизации,
выстроившей свои отношения с миром на неправильных основаниях,
выбравшей неверные ориентиры в своем движении вперед.
Значительно менее очевидны причины, заставившие Тарковского сделать изображение черно-белым в большом фрагменте пролога,
повествующем о событии, случившемся с Бертоном много лет назад
во время его участия в экспедиции на планету Солярис. Самое простое и естественное объяснение — необходимость показать прошлое
в том настоящем, где пребывают герои фильма, — было бы исчерпывающим для любого кинофильма 70-х годов, но абсолютно недостаточно в отношении фильма Тарковского. Уже находясь на космический
станции, Крис вместе с появившейся из небытия Хари будет смотреть
любительские фильмы, сохранившие их прошлое, и эти фильмы будут
выразительно цветными, ничем не отличающимися по колориту от
221
ГЛАВА IV
«Солярис»: в ожидании Мессии
пролога, столь же ярко демонстрирующими богатство земного бытия.
В контексте сюжетной логики фильма невозможно найти никакого
естественного объяснения тому факту, что официальная хроника заседания комиссии по «делу Бертона» и киносъемка, выполненная им
во время полета над океаном Соляриса являются черно-белыми; этот
«дефект» изображения выглядит особенно странным, если мы учтем,
что все происходящее в фильме относится к далекому, технократическому будущему человечества.
На наш взгляд, черно-белое изображение и в данном случае применяется Тарковским для того, чтобы показать ситуацию кризиса,
утрату взаимопонимания, без которого невозможно плодотворное
движение вперед, к более полному постижению себя и окружающего мира. Выступая перед комиссией с рассказом о том, что он видел
на Солярисе, Бертон надеется, что его свидетельство поможет разрешить одну из загадок вселенной, в которой, быть может, отразились
и какие-то загадки нашего собственного существования. Во время
своего длинного монолога, с которого начинается весь этот черно-бе-
лый фрагмент, Бертон (его играет Владислав Дворжецкий) стоит на
фоне двух светлых панно, изображающих Циолковского и Гагарина,
затем, когда ракурс изображения меняется, на заднем плане появляются такие же панно с портретами американских астронавтов. Бертон говорит только о том, что он сам видел на Солярисе, но возникает
впечатление, что он выступает от имени всего человечества, устремленного в космос. За его частным случаем, за его личным столкновением с Неведомым, проступает ситуация предстояния всего человечества перед теми «инстанциями» бытия, которые больше, чем мы, причастны Истине, которые, возможно, уже знают все то, что в мучениях
и борьбе ищут обитатели Земли. Но люди, окружающие Бертона оказываются нечутки к «призывам», доносящимся из глубин Неведомого; диктатура «здравого смысла» и «точных» объяснений не допускает
их в наш мир. Кто слишком ясно расслышал эти «призывы» и слишком настойчиво призывает других откликнуться на них, изменить
себя и свою жизнь в соответствии с их требованиями, объявляется
по законам этой диктатуры «безумными», не имеющим права голоса
в обсуждении главных проблем человечества.
Бертон становится прообразом героев-юродивых трех последних
фильмов Тарковского — Сталкера, Доменико, почтальона Отто, —
осознавших ложность традиционных ценностей и надеющихся донести до других людей открывшуюся им истину. Подобно тому как
Сталкер пытается найти среди тех, кого он ведет в Зону, продолжателя своего дела, а Доменико и почтальон Отто — того, кто, совершив
определенное «магическое» действие, «спасет» человечество, уведет
его с ложного пути, так и Бертон пытается убедить Криса Кельвина
222
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
в необходимости преодолеть диктатуру самоуверенного научного разума, отбросить стереотипы «здравого смысла» и поверить в возможность контакта, который, как мы узнаем в дальнейшем, на деле окажется не встречей с внеземным разумом, а откровением неведомых
глубин человеческой души.
В достаточно простой сюжетной логике черно-белого фрагмента,
повествующего о молодом Бертоне и о заседании комиссии, созданной для оценки свидетельств виденного им на Солярисе, есть один
элемент, который обладает скрытым смыслом и может быть понят
только в соотнесении с другими фильмами Тарковского (прежде всего
с «Зеркалом»). Имеется в виду «особое мнение» профессора Мессенджера. Среди членов комиссии он один принял всерьез рассказ Бертона об острове с причудливым земным садом и о фантастическом четырехметровом младенце с голубыми глазами, которых Бертон видел
в волнах океана Соляриса. В своем «особом мнении» он убеждал коллег не отвергать как недостоверные свидетельства Бертона и предлагал провести более детальное исследование его доклада.
Мессенджер оказывается среди земных героев «Соляриса» персонажем, подобным мальчику Асафьеву и загадочной «гостье» из «Зеркала» — фильма, посвященного как раз изображению неразрывной
взаимосвязи двух сфер бытия человека, «мира времени» и «мира вечности». В качестве дополнительного аргумента в пользу этого предположения можно указать на одну деталь рассматриваемого фрагмента:
когда перед показом пленки, снятой Бертоном на Солярисе, в зале
гаснет свет, мы видим как на карниз большого светлого окна откуда-
то сверху слетает ворон и неподвижно замирает, глядя внутрь; после
этого идут кадры с изображением планеты Солярис. Этот ворон воспринимается как символ каких-то таинственных сил, которые готовы
открыть себя людям и внимательно следят за тем, правильно ли люди
поймут их явление и их знаки. Точнее, ворон предстает как спутник
и помощник вестника этих сил, Месенджера, который хочет помочь
людям раскрыть важную тайну их собственного существования.
Когда показ пленки заканчивается, и все с недоумением смотрят
на Бертона, Мессенджер первым с некоторой досадой говорит: «И это
все; и это весь Ваш фильм?», не найдя в пленке никаких доказательств
обещанной тайны. В этой реплике слышится не сомнение в правоте
Бертона, а разочарование по поводу того, что Бертону не удалось выполнить свою миссию среди людей — обратить их внимание на открывшуюся ему тайну. И «особое мнение» Мессенджера выглядит
как последняя попытка помочь Бертону в его деле. «Я придерживаюсь
на этот счет иного мнения, — говорит Мессенджер после оглашения
решения комиссии, в котором все виденное Бертоном признается галлюцинацией, — мы стоим на пороге величайшего открытия, и мне бы
223
ГЛАВА IV
«Солярис»: в ожидании Мессии
не хотелось, чтобы на наше решение оказал влияние тот факт, что мы
опираемся на наблюдения человека безо всякой ученой степени; хотя
не один исследователь мог бы позавидовать этому пилоту, его присутствию духа и таланту наблюдателя. И потом, мне кажется, что в свете
последних сведений мы не имеем никакого нравственного права прекращать исследования. <...> Ведь речь идет о вещах более важных,
чем изучение соляристики, речь идет о границах человеческого познания. Не кажется ли вам, что искусственно устанавливая такие границы, мы тем самым наносим удар по идее безграничности мышления
и, ограничивая движение вперед, способствуем движению назад».
Наконец, прямое и ясное указание на истинную сущность Мессенджера в фильме дает его имя, говорящее само за себя: messenger —
это посланец, вестник. Отметим, что история пилота Бертона и особое мнение профессора Мессенджера есть и в литературном прообразе фильма, в одноименном романе С. Лема, но там Крис Кельвин
знакомится с этой историей по книгам, и она не имеет такого существенного значения, как в фильме Тарковского; вряд ли и в имя Мессенджера писатель вкладывал какой-либо скрытый смысл.
Последний фрагмент земного пролога фильма, следующий за долгим эпизодом поездки Бертона по серым автострадам, происходит
уже поздно вечером и это объясняет, почему изображение вновь теряет цвет, становится землисто-коричневым. Однако и в данном случае естественное объяснение не является главным и единственным.
Мы видим последние моменты пребывания Криса Кельвина среди
родных людей, он прощается со всем земным, в том числе с самым
близким человеком — отцом; символически это расставание выражается в том, что он сжигает на костре все ненужные бумаги — все свое
прошлое. В этот миг Крис воспринимает земную действительность
только как ее собственное бесцветное подобие, как уже отдалившийся и ставший безжизненным символ прошлой жизни, к которой, как
полагает Крис, никогда не будет возврата (ни он, ни его отец не
надеются встретиться вновь).
Рядом с костром, на котором Крис сжигает бумаги, мы видим лежащую на земле фотографию его жены Хари, покончившей с собой
много лет назад; в этот момент кажется, что Крис хочет сжечь и эту
фотографию, как бы окончательно вычеркивая из памяти воспоминания о Хари. Однако затем мы узнаем, что ее портрет Крис взял с собой
на космическую станцию, и станет понятно, что образ Хари является
одним из тех слагаемых его душевной жизни, без которых он не мыслит свое существование.
В «Страстях по Андрею» Тарковский изобразил диалектику человеческой души, сочетающей в себе, с одной стороны, жажду единения с бытием и с другими людьми, мечту о всеедином состоянии,
224
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
о воплощенной гармонии и, с другой стороны, стремление к обособлению, к эгоистической самостоятельности, предполагающее не
равноправное взаимодействие с окружающим миром, а господство
над ним. Там эти два начала нашей души олицетворяли разные персонажи — Андрей Рублев и братья-князья. Однако очевидно, что они
постоянно борются друг с другом в каждом человеке и в равной степени ппояштяются R его поступках и жияни Для Кпися Кельииня ппо-
блема их противоборства приобрела невероятную остроту, поскольку
в том странном мире, где он очутился, привычные формы разрешения
душевных противоречий, точно так же как и привычные формы отношения к действительности, оказались не только неэффективными, но
даже разрушительными — вместо того, чтобы обеспечивать стабильность существования, они вступили в неразрешимый конфликт с важными и в то же время скрытыми от него самого слагаемыми его души.
Зародыш этого будущего конфликта обнаруживает себя уже
в прологе. С одной стороны, Крис, безусловно, обладает чутким восприятием земной красоты, совершенства земного мира; он для того
и приехал в дом отца перед долгим расставанием с Землей, чтобы
еще раз очутиться в том маленьком гармоничном мирке, в котором
он вырос и который сформировал его личность. Быть может, не на
уровне рациональных рассуждений, а на уровне глубокой интуиции
Крис понимает, что неразрывно связан с этим крохотным островком
совершенства в земном бытии и должен нести ответственность за его
сохранение, поскольку его гибель будет означать духовную гибель
самого Криса, гибель чего-то основополагающего в его душе. Этот мирок хрупок и беззащитен перед вторжением темных сил, несущих разрушение и смерть, его существование возможно только при наличии
постоянных усилий по сохранению и чуткому «взращиванию» зерен
его гармонии. К сожалению, люди все меньше осознают необходимость этих усилий, все меньше понимают смысл этой гармонии и ее
значение: внук Бертона, увидев в гараже лошадь, испуганно убегает,
он не знает этих странных для него существ и не понимает их природной красоты.
Однако чувство ответственности за маленький мир, связанный
с домом отца, не является определяющим в душе Криса. Он воспринимает это чувство только как часть своих отношений с отцом, считает
его значимым лишь в узкой сфере семейных проблем. В его душе господствует одно убеждение и одна «вера» — вера в научный разум,
ставящий себе целью окончательное познание и покорение мира.
Убежденный в величии и могуществе человеческого разума, он все
свои силы отдает служению его идеалам, среди которых самое важное
(отдает он себе в этом отчет или нет) — достижение господства над
всем бесконечным бытием, окружающим человека.
225
ГЛАВА IV
«Солярис»: в ожидании Мессии
Тот факт, что отношения с отцом и связанные с ними чувства Крис
вовсе не воспринимает как что-то существенное, способное встать
в один ряд с «главными» его целями, мельком констатирует сам отец,
сетующий на то, что они очень редко общаются друг с другом: «Мы
не так уж часто беседуем с тобой». На это Крис отвечает: «Я рад, что
ты так говоришь, хотя и в последний день»; и эта фраза явно намекает ня неппостые отношения отття и сыня. ня кякое-то непонимяние
разделявшее их до сих пор и отошедшее на второй план только в перспективе окончательного расставания. Визит к отцу перед отлетом на
Солярис является для него, скорее, привычным ритуалом, чем глубокой духовной потребностью; даже здесь он думает главным образом
о своей будущей работе.
Поставив себя на службу разуму, познающему и покоряющему мир, Крис подавляет в себе естественные человеческие чувства,
они кажутся ему нелепыми и ненужными на фоне «главных» дел
и целей. Недаром в прологе дважды по отношению к нему применено
определение «бухгалтер». Сначала в разговоре с Бертоном отец говорит о нем с некоторой иронией, имея в виду его постоянные занятия
соляристикой: «Он мне напоминает бухгалтера, готовящего годовой
отчет». Даже прогулка Криса по земному миру своего детства, с которой начинается фильм, является в некотором роде вынужденной,
поскольку это отец (как мы узнаем из его разговора с Бертоном) потребовал от Криса, чтобы тот делал перерывы и гулял по часу каждый
день. Затем то же самое определение в сердцах, уходя, бросает отцу
Криса Бертон, которому не удалось убедить Криса в особом значении
его задания: «Он бухгалтер, а не ученый, ты был прав».
Выразительную характеристику Криса дает его беседа с Бертоном. Как мы помним, последний специально приехал, чтобы поговорить с Крисом, рассказать о тех загадочных явлениях, с которыми ему
пришлось столкнуться во время работы на Солярисе, и убедить в важности продолжения исследований этой планеты и ее разумного Океана. «Поймите меня правильно, — возражает Бертону Крис, — мне
кажется, что соляристика зашла в тупик именно в результате безответственного фантазирования. Меня интересует истина, а вы хотите
сделать из меня предвзятого сторонника. Я не имею права выносить
решения руководствуясь душевными порывами, я не поэт. У меня
вполне конкретная цель — или прекратить исследования, снять станцию с орбиты, узаконив тупик и кризис соляристики, ну... или принять крайние меры, возможно даже воздействовать на Океан жестким
излучением». «Только не это, — горячится Бертон, — вы что же хотите уничтожить то, что мы сейчас не в состоянии понять, простите,
но я не сторонник познания любой ценой. Познание только тогда истинно, когда оно опирается на нравственность». «Нравственной или
226
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
безнравственной, — назидательно и спокойно продолжает Крис, —
науку делает человек, вспомните Хиросиму». «Ну так не делайте ее
безнравственной», — еще больше горячится Бертон. Завершается
разговор после того, как Крис тем же спокойным тоном заявляет:
«... ведь вы и сами не уверенны, что все, что вы видели там, не было
галлюцинацией»; и Бертон, чувствуя себя оскорбленным, резко встает
и уходит, не попрощавшись ни с Крисом ни с его отцом.
Именно в противостоянии странной, не вполне понятной горячности Бертона и рассудительной и логичной позиции Криса скрыто
зерно того трагического конфликта, который ожидает Криса на космической станции. Крис абсолютно спокоен и уверен в себе, он не
сомневается, что в какой бы ситуации не оказался во время экспедиции, он сумеет выйти из нее с честью, опираясь на способность научного разума решать любые проблемы. Он согласен с тем, что наука
должна быть согласована с нравственностью, и кажется, что Бертон
ломится в открытую дверь, пытаясь убедить Криса в необходимости
нравственного отношения к самой истине. Но совершенно очевидно,
что их спор имеет причиной не только разное понимание смысла одних и тех же слов. Их разногласие имеет фундаментальный характер
и связано с различным пониманием той «инстанции», которой человек может доверить себя и которую он должен сделать критерием
всех оценок.
Для Криса такая «инстанция» — всечеловеческий разум, абстрактная научная истина, не различающая индивидуальных особенностей своих носителей и не признающая их индивидуальный
мир существенным фактором своего развития. Признавая роль
нравственности в науке, Крис понимает ее как «раздел» истины, как
вторичное знание о целесообразности или нецелесообразности применения новых научных открытий. Безнравственное применение науки с этой точки зрения есть не что иное, как ее «неправильное»,
«нецелесообразное» применение, и связано оно только с неправильным или неокончательным познанием нравственной истины. Возможность такого безнравственного применения не должна останавливать исследователя на его пути к точному знанию. Наоборот,
он должен стремиться наиболее прямым и решительным способом
добыть обе формы истины: и чисто научную, и нравственную; их соединение и даст ту абсолютную истину, в рамках которой уже невозможна ошибка и с помощью которой человек окончательно станет
господином всего сущего.
В сравнении с этой позицией точка зрения Бертона кажется необоснованной и даже нелогичной. Прикоснувшись всего лишь на
краткий миг к тайне странного мира планеты Солярис, он вынес из
этого прикосновения убеждение, что этот мир существует по зако¬
227
ГЛАВА IV
«Солярис»: в ожидании Мессии
нам, которые в принципе не поддаются разгадке с помощью самоуверенного человеческого разума. И под нравственностью Бертон
в споре с Крисом понимает совсем иное, чем последний. Для него
нравственность — это не «раздел» разума, а совершенно чуждая разуму сфера души, определяющая самое главное в человеке и одновременно связанная с каким-то важным измерением всей реальности,
проникнуть в которую разум не в силах. Единство нравственности
и науки означает подчинение разума и всех связанных с ним приемов
и форм господства человека над природой более глубокой способности — способности непосредственного, индивидуально-личностного,
ответственного восприятия бытия, его странных, нерационализируе-
мых «призывов» и «голосов».
Самое странное, даже шокирующее во встрече Бертона с миром
Соляриса состояло в том, что на этой планете, бесконечно удаленной от нас в пространстве и бесконечно отличающейся от Земли по
формам своего бытия, он столкнулся с явлениями, повторяющими
в виде какой-то фантасмагории самые простые явления человеческой
жизни. Во время своего полета над планетой, он видел нечто похожее на земной сад — как бы гипсовую копию обычного земного сада,
а затем огромного, четырехметрового земного младенца, плавающего
в фантастическом океане. Уже после разговора с Крисом и резкого
расставания с ним и его отцом, во время поездки по автостраде, Бертон вспоминает важную деталь, которая придает еще большее значение событиям, произошедшим много лет назад на Солярисе. Он вызывает по видеотелефону отца Криса и, не замечая, что в дверях комнаты стоит сам Крис и слушает его, просит передать ему эту важную
деталь: оказывается, четырехметровый младенец, обнаруженный им
в океане Соляриса, был точной копией маленького сына астронавта
Фехнера; именно поисками пропавшего во время экспедиции Фехне-
ра и был занят Бертон в том полете, о котором он рассказывал Крису. В своем служении научному разуму и научной истине, которые,
казалось бы, раз и навсегда отодвигают на второй план все сугубо
личное, «слишком человеческое», он столкнулся с необходимостью
рассматривать именно личное как ключ к пониманию законов существования чуждых человеку космических форм бытия. Эта загадка
и перевернула все его устоявшиеся убеждения.
Крис, несколько иронично, свысока оценивая в этот момент Бертона с его неразумной горячностью («нелепый какой-то человек», —
говорит он отцу), еще не догадывается, что позже сам будет обречен
на разгадывание той же самой загадки, которая предстанет перед ним
как загадка его собственного существования. И как прямое пророчество звучат последние слова Бертона: «Сейчас, перед стартом ему не
надо слишком думать об этом, но там — пусть вспомнит».
228
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
2. Абсурдное бытие
Главная часть фильма, в которой действие происходит на орбитальной станции планеты Солярис, отделена от земного пролога коротким эпизодом полета Криса через звездное пространство. На фоне
бездонной темноты космоса появляется маленькая светящаяся точка, которая увеличивается и превращается в космическую капсулу,
с помощью которой Крис Кельвин совершает посадку на станцию,
висящую над поверхностью Соляриса. Собственно говоря, капсулу
мы не видим, режиссер показывает нам только глаза и лицо Криса,
словно в космосе путешествует не его материальное тело, а только
его бессмертная душа. Этот образ подчеркивает какую-то глубокую
и невыразимую противоестественность космического путешествия,
отдаляющего человека от его корней, от источника жизни. Вся последующая история Криса и Хари постоянно будет ставить перед
ними одну и ту же проблему: «реальное», прочное бытие Криса будет
противостоять «призрачному» бытию Хари. Однако уже в крохотном
фрагменте полета Криса на станцию Тарковский подталкивает нас
к мысли, которая станет очевидной, в том числе и для самого Криса,
в финале: он сам вдали от Земли и от своих естественных корней стал
столь же «призрачным», как Хари; чтобы выжить и стать «своим»
в новом мире, ему нужно осуществлять те же самые усилия — усилия
воскресения, т.е. усилия бытия — которые вынуждена осуществлять, находясь рядом с ним, Хари.
Завершая свой перелет с Земли на Солярис, Крис медленно парит
над океаном этой загадочной планеты, и перед нами предстает план,
который напоминает фрагменты полета в «Страстях по Андрею». Однако теперь смысл этих кадров совсем иной. На фоне необъятного,
занимающего весь экран, фосфоресцирующего серо-стального океана
висит созданная людьми космическая станция, мигающая красными
сигнальными огнями. Возносящийся над миром человек теперь ничуть
не приближается к высшей цели своих устремлений — к идеальному
совершенству, как это было в предыдущем фильме, здесь ему открываются еще более непонятные и грозные силы, чем в несовершенном,
но известном земном бытии. Идеальное совершенство, окончательная
цельность и полная осмысленность уже не могут быть реальными ориентирами для деятельности человека, он вынужден бороться за хотя
бы минимальную осмысленность, за хотя бы непрочную, хрупкую
цельность, постоянно подвергающуюся угрозе распада, но все-таки
позволяющую выжить в этом безбрежном море иррациональности.
Первые же минуты пребывания Криса на станции показывают
ему, что он попал в чужой и загадочный мир, который не ждет его
229
ГЛАВА IV
«Солярис»: в ожидании Мессии
и не рад ему, в котором ему не так просто будет освоиться. Выйдя
из космической капсулы, доставившей его на Солярис, Крис в недоумении стоит посредине посадочного отсека, не понимая, почему его
никто не встречает, затем делает несколько неуверенных шагов и внезапно падает. Как и в других фильмах Тарковского, это падение является знаком окончательного и бесповоротного перехода — перехода
к новой форме жизни, которая потребует от человека радикального
изменения всего себя. Удивленный отсутствием интереса к своему
прибытию, Крис шутливо восклицает: «Эй, где вы все. Здесь гости..»
Зловещий подтекст его слов станет понятным позже: ведь «гости» —
это те самые загадочные существа, которые появились на станции неизвестно откуда и которые при всей их похожести на земных людей,
кажутся землянам, работающим здесь, ужасными монстрами, не имеющими оправдания своему существованию. Шутливо называя себя
«гостем», Крис как бы предрекает все то, что произойдет с ним и что
наглядно докажет необоснованность его собственного бытия.
Проходя по коридорам станции Крис с недоумением осматривается вокруг, замечая везде следы запустения и неухоженности, словно
людям, живущим здесь, внезапно стала не нужна, безразлична вся
техническая мощь, порожденная научным разумом, которому они посвятили всю свою жизнь. В дальнейшем мы не увидим в фильме никаких фантастических явлений, никаких сверхъестественных действий
загадочного разумного океана; все странные события, происходящие
на станции, представляют собой только небольшой «сдвиг» прочной,
обыденной реальности в сторону невероятных возможностей, которые люди сами несут в своих душах. Но именно это и оказывается
невыносимым. Встреча с абсолютно фантастическим, с противоестественным, чуждым не может быть столь разрушительной, поскольку
человек всегда готов к борьбе с Неведомым. Но когда Неведомое принимает облик его самых сокровенных мыслей и чувств, позиция борьбы и покорения становится гибельной, поскольку всю мощь, обретенную в опыте борьбы, человек вынужден обратить на самого себя.
Детский мяч, катящийся по коридору станции, хрупкая девочка
в странной полупрозрачной накидке, входящая в морозильник, где лежит тело покончившего с собой Гибаряна, полукарлик-полуребенок
в лаборатории Сарториуса, наконец, странная надпись «человек», сделанная неуверенной детской рукой на листе, вырванном из книги, —
уже эти знаки смещения пластов бытия, выводят Криса из равновесия и заставляют задуматься о том насколько тонка грань между реальностью и кошмаром, нормой и безумием.
Пытаясь понять, что происходит на станции, Крис настойчиво
добивается встреч с двумя другими ее обитателями — микробиологом Сарториусом (Анатолий Солоницын), и кибернетиком Снаутом
230
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
(Юрий Ярвет), — однако те упорно избегают общения с ним. При
первой встрече с Крисом Снаут смотрит на него со страхом и неприязнью, он не может решить, кто это — реальный человек или фантом,
созданный Океаном. Но даже осознав, что перед ним находится человек, прилетевший с Земли, он с трудом находит с ним общий язык, поскольку уже находится в другой «системе координат», в другом «пласте» бытия: понять nnvr nnvra Кпис и Chavt cmofvt только после того
как Крис до конца войдет в новый мир, представший ему, и примет
его законы. Когда во время второй их встречи Крис попытается принудить Снаута к откровенности своими резкими вопросами, предполагающими возможность точного и окончательного ответа, тот не выдерживает и наносит ответный удар: «А ты... кто ты такой?» В новом
мире, оторванный от своих корней, Крис не может претендовать на
существенно большую реальность и большие права, чем все фантомы,
«гости», созданные Океаном. В тот момент, когда звучат эти слова,
со стола, разделяющего Криса и Снаута, само собой падает осколок
стекла — взрыв эмоций во внутреннем мире двух людей разряжается
во внешнее бытие и вызывает в нем маленькую «катастрофу».
В эпизоде второй встречи Криса со Снаутом, Тарковский применяет прием панорамной съемки, в точности повторяющий тот, что
был использован им в сцене «молитвенного созерцания» в фильме
«Страсти по Андрею». Когда Крис входит к Снауту, последний сидит
в кресле; затем камера начинает движение влево и за время их короткой беседы дважды описывает полный круг. В тот момент, когда Крис
уходит, Снаут вновь оказывается сидящим в том же самом кресле
у двери, и весь эпизод обретает своеобразную замкнутость во времени
и пространстве. Формально круговое движение камеры обусловлено
тем, что она следит за движениями то Криса, то Снаута, которые быстрыми рывками перемещаются по замкнутому пространству каюты,
однако при этом Тарковский нарочито разрушает наши ожидания по
поводу того, где должен находится каждый из героев. Начав следить
за движениями Снаута, мы внезапно натыкаемся на Криса, стоящего в противоположном углу по отношению к тому месту, где мы его
видели всего мгновение назад; точно так же, прослеживая в заключение фрагмента движение Криса к двери, мы с удивлением видим, что
Снаут, который мгновение назад стоял вдали от выхода, теперь вновь
спокойно сидит в кресле. Это мгновенное перемещение героев из одной точки экранного пространства в другое придает всему эпизоду,
формально очень похожему на сцену «молитвенного созерцания» из
«Страстей по Андрею», существенно иной колорит. Там панорамное
изображение выражало новую, более глубокую, чем раньше, осмысленность мира, ставшую возможной благодаря совместным усилиям
(сознательным или бессознательным) людей. В «Солярисе» беседа
231
ГЛАВА IV
«Солярис»: в ожидании Мессии
Криса со Снаутом становится кульминацией того кризиса, который
переживает Крис, столкнувшись с непонятной, абсурдной сферой бытия; его усилия по осмыслению этой сферы, «скрепления» ее сетью
привычных смыслов оказываются безрезультатными, они соединяют
отдельные фрагменты и куски, но оставляют в цепи событий и явлений зияющие разрывы, пробелы. Скачкообразный, рваный характер
(Ьпягментя и яыпяжярт чтот итог
Первые попытки изменить себя и свое отношение к происходящему Крис предпринимает в беседе с Сарториусом, который оказывается еще более твердым и радикальным сторонником позиции, казавшейся Крису абсолютно очевидной на Земле. В основе этой позиции,
помимо уже упомянутой веры в непреклонную мощь разума, лежит
убеждение в незыблемости той границы, которая разделяет человека,
его субъективный внутренний мир и чуждую человеку объективную
реальность. Это убеждение предельно упрощает отношения человека с миром; как чуждое человеку, враждебное начало, мир должен
быть «покорен» с помощью технической силы, превращен в покорного «слугу» человеческих потребностей. Соответствующее мировоззрение, ставшее основой современной человеческой цивилизации,
детально описал в своих философских трудах М. Хайдеггер. Всецело
ориентируясь в своем разумном освоении мира на его ясные и точные
формы (на «сущее», по терминологии Хайдеггера), человек перестает
ощущать бесконечную глубину и таинственность бытия, составляющего и его собственную потаенную основу. Вместо того чтобы попытаться уловить свое единство с бытием и в этом единстве проникнуть
к невыразимым в рациональной форме, индивидуально-неповторимым проявлениям бытия, человек «унифицирует» реальность, превращает бесконечное многообразие тайны в «постав» (das Gestell) —
в объективную пред-ставленность перед человеком (т.е. в отделении и отдалении от него) однозначных и повторяемых материальных
и идеальных форм, понимаемых исключительно как средства для его
жизнедеятельности1. Отношение человека с миром в этой парадигме
всецело сводится к стереотипу борьбы, мыслиться в терминах «победы» и «поражения». Если сил человека не хватает для «победы» над
всей совокупностью сущего, для овладения ею и подчинения своим
разумным целям, то человек должен временно отступить — до нового, решающего столкновения.
Именно эту точку зрения в фильме выражает Сарториус. «Я знаю
свое место, — говорит он в одной из сцен Крису, — я работаю. Человек создан природой, чтобы познавать ее; бесконечно двигаясь
к истине, человек обречен на познание, остальное — блажь!» Этого
1 См.: Хайдеггер М. Вопрос о технике // Хайдеггер М. Время и бытие. М.,
1993. С. 221-238.
232
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
же мнения придерживался и Крис в момент его прибытия на Солярис — ведь его задача заключалась, по сути, в ликвидации станции,
в признании временного поражения человека перед лицом Неведомого. Но он оказался более глубоким и более гибким человеком, чем
Сарториус и Снаут. Всего нескольких часов пребывания на станции
ему хватило для того, чтобы осознать хотя бы частичную правоту Бертона в их споре на Земле. В первой беседе с Сарториусом он уже сам
возражает последнему, защищая точку зрения, которую раньше считал неразумной и необоснованной.
Перед тем как постучать в дверь лаборатории Сарториуса, Крис
долго и пристально всматривается в кромешную тьму за иллюминатором, пытаясь увидеть Океан. Последующий разговор Сарториуса
и Криса снят таким образом, что иллюминаторы станции не видны,
они находятся в той стороне, откуда смотрят зрители. Начинается
разговор в полутьме, подчеркивающей глухую инопланетную ночь, но
буквально через минуту освещение резко меняется: ослепительный
свет постепенно заливает внутренности станции. В тот момент, когда
это дополнительное (и пока не совсем понятное по своим причинам)
освещение достигает максимума, диалог Сарториуса и Криса приобретает особенно резкий характер. «Вы не о том думаете, — нравоучительно говорит Сарториус, — сейчас следует думать лишь о долге». —
«Перед кем?» — «Перед истиной». — «Значит перед людьми...» —
«Вы не там ищите истину». После этой фразы Сарториус отводит
взгляд от Криса, смотрит прямо перед собой, на нас, и, кивнув в сторону иллюминаторов станции, за которыми стремительно встает светило Соляриса, добавляет, тоном человека, обретшего истину: «Вот!»
Кромешная тьма и ослепительный свет — это как бы точки отсчета для разума, который способен ориентироваться только во внешнем
и поверхностном, который оперирует ясными противоположностями
и контрастами, но не способен схватить «полутона», услышать тихие
«голоса» — то, что предстает в качестве знаков настоящей истины,
глубоко скрытой под поверхностью явлений. В тот момент, когда
Сарториус произносит свое «вот!», глядя прямо перед собой, зачарованный ослепительным восходом космического светила, стеклянная
дверь, которую он заслоняет своим телом, начинает сотрясаться от
ударов, словно подлинная Истина, насмехаясь над его высокомерием,
решила явить себя во всей своей абсурдной недоступности для человеческого разума. С лица Сарториуса исчезает выражение обретенного откровения, и именно в этот момент Крис говорит с горячностью,
ничем не отличающейся от горячности Бертона в их беседе на Земле:
«Ваша поза нелепа, ваше так называемое мужество бесчеловечно,
слышите, вы...» В конце концов Сарториус не может сдержать натиска непонятного существа с той стороны двери, она распахивается,
233
ГЛАВА IV
«Солярис»: в ожидании Мессии
и из нее выскакивает карлик в нелепой пижаме. Сарториус подхватывает его и уносит обратно в лабораторию, после чего вновь появляется в дверях и говорит Крису: «Уходите, вы, как я понял излишне
впечатлительны, вам надо привыкнуть... Доброго здоровья».
Андрею Рублеву в предыдущем фильме в ситуации кризиса, когда было поставлено под вопрос само существование его личности,
явился из «мира вечности» его друг и учитель Феофан Грек, чтобы
из своего посмертного бытия помочь Андрею найти правильный путь
в жизни. То же самое происходит и с Крисом; к нему «является» его
друг, психолог Гибарян, покончивший с собой за несколько дней до
прибытия Криса на станцию. Перед тем как сделать себе смертельный
укол, Гибарян записал на видеокассету обращение к Крису, поэтому
его «явление» вполне обосновано сюжетно, не выглядит столь сверхъестественным, как явление Феофана в «Страстях по Андрею».
Гибарян умер как обычный земной человек, и он уже не воскреснет в нашем мире, пусть даже это не Земля, а планета Солярис. Но
он вечен в целостном бытии и продолжает существовать в «иных мирах», поэтому его обращение к Крису, пусть это просто видеозапись
его предсмертных слов, имеет явно читающийся подтекст — даже
после смерти Гибарян связан с миром, в котором существует Крис,
и способен влиять на него. Определенное равноправие Криса и Гиба-
ряна, переплетенность прошлого и настоящего Тарковский подчеркивает несколькими лаконичными штрихами. Крис смотрит видеозапись
сначала в каюте Гибаряна, а затем в своей каюте и в обоих случаях
экран занимает почти целую стену, в результате, Гибарян на экране
выглядит как реальный человек, подобный Крису. В один из моментов
с экрана доносится резкий стук и голос Сарториуса, призывающего
Гибаряна открыть дверь. Крис резко оборачивается к двери своей каюты, словно эти звуки из прошлого переместились в его настоящее.
Отметим, что такой же точно прием, подчеркивающий переплетенность прошлого и настоящего, был использован в том фрагменте земного пролога, где Крис смотрел пленку с записью заседания комиссии
по делу Бертона: Крис и его тетка во время просмотра задавали вопросы, на которые «отвечали» с экрана участники заседания.
Как и запись заседания по делу Бертона, запись предсмертных
слов Гибаряна является черно-белой — несомненно, по тем же самым причинам. Гибарян обращается к Крису в тот момент, когда он
оказался в ситуации абсолютной безысходности и безнадежности.
Не в состоянии объяснить Снауту и Сарториусу то, что с ним происходит, испытывая невыносимые нравственные мучения от того, что
какая-то тайна, скрытая в глубине его души, вдруг предстала в бесстыдной обнаженности, Гибарян утрачивает естественные связи с общей «тканью» жизни, с другими людьми. Когда Крис смотрит первую
234
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
часть записи в каюте Гибаряна, он еще не осознал до конца насколько
трудные испытания ждут на станции его самого, поэтому цветное изображение его настоящего, выразительно противостоит черно-белому
прошлому Гибаряна. Во время просмотра окончания записи он уже
находится в том же «разломе» бытия, что и все остальные обитатели
станции, поэтому настоящее Криса и прошлое Гибаряна полностью
уравниваются в своей черно-белой опустошенности.
Заметим также, что в первом фрагменте, когда Крис находится
в каюте Гибаряна, изображение настоящего является ярко-цветным
несмотря на то, что на Солярисе наступила ночь; осматривая жилище своего умершего друга Крис внимательно смотрит в огромный иллюминатор, за которым простирается кромешная тьма, навевающая
первобытный страх. Однако в тот момент Крис еще не потерял уверенности в себе, еще сохраняет веру в свою способность разобраться
в происходящих событиях и найти единственно верный выход. Интересно, что и в словах Гибаряна, обращенных к Крису из прошлого,
в этот момент все еще проступают остатки былой самоуверенности,
основанной на вере во всемогущество научного разума. На мгновение
забыв о положении, в котором он находится, Гибарян неожиданно
твердым голосом произносит: «Что касается дальнейших исследований, я склоняюсь к предложению Сарториуса подвергнуть плазму
Океана жесткому рентгеновскому облучению. Я знаю, это запрещено, но другого выхода нет, мы... вы только завязнете». Запнувшись
на последней фразе, он заканчивает уже другим тоном: «Быть может
это все сдвинет с мертвой точки... Это единственный шанс на контакт
с этим чудовищем. Другого выхода нет...»
Наоборот, когда Крис смотрит окончание видеозаписи в своей
каюте, за иллюминатором виден свет взошедшего светила Соляриса; тем не менее настоящее Криса остается совершенно бесцветным,
однотонно-серым. Эта деталь наглядно показывает, что переход от
цветного изображения к черно-белому, однотонному никак не связан
с реальными обстоятельствами предстающих перед нами событий,
он целиком обусловлен внутренним состоянием героя, глазами которого мы видим все происходящее. Гибарян, обращающийся к Крису
в последние минуты своей жизни, уже полностью утратил веру в понимание других («Никто этого не сможет понять...» — говорит он)
и теперь хочет только одного — помочь Крису, спасти его от страшной участи, подобной той, которая выпала ему: «Крис, знай, что это не
безумие, здесь, скорее, что-то с совестью... Мне так хотелось, чтобы
ты скорее прилетел, Крис».
Совсем недавно, в беседе с Сарториусом, Крис отверг убеждение
последнего в необходимости опираться только на «очевидности», на
явные и зримые формы действительности, символом которых в тот
235
ГЛАВА IV
«Солярис»: в ожидании Мессии
момент был разливавшийся по станции ослепительный свет короткого дня, встающего над Солярисом. Теперь, сидя в своей каюте перед
пустым экраном, на котором только что произнес свои последние слова Гибарян, Крис окончательно осознает ложность позиции Сартори-
уса, а значит, и той позиции, которую он сам занимал до прибытия на
станцию. И свет неземного дня за иллюминаторами становится для
него блеклым, серо-бессмысленным, ничего не говорящим о подлинной сути того могущественного «существа», в плену которого они все
оказались на этой планете.
3. Человек как «самооткровение» бытия
Со всей ясностью смысл происходящих на станции событий доходит до Криса, когда, проснувшись на следующий день в своей каюте, он видит, что у кровати сидит его жена Хари (ее играет Наталья
Бондарчук). Оказывается, разумный Океан в ответ на эксперимент
по воздействию на его поверхность жестким рентгеновским излучением прозондировал во сне память каждого из обитателей станции
и с помощью своих сверхъестественных способностей создал материальные копии тех «существ» (реальных в прошлом или только воображаемых), которые обладали какой-то особой значимостью для каждого из астронавтов, вокруг образов которых в их душах образовалась
особая эмоциональная сфера — страха, раскаяния, страсти и т. п., —
тщательно скрываемая в подсознании человека.
Самые глубокие и строго охраняемые человеком страсти, волевые
порывы, мысли в мире, подчиненном господству Океана, предстали
предельно обнаженными, явленными в «объективности». В результате, традиционное убеждение человека в незыблемости границ между
его личностью и миром, между субъективным миром его души и объективным миром окружающей действительности оказывается поколебленным; вместе с ним окончательно дискредитируется и та позиция,
о которой говорилось выше, — позиция противостояния человека
и мира, основанная на идеологии «покорения» действительности.
Испуг и растерянность, испытываемые Крисом перед феноменом
«воскресения» его умершей жены, уже сами по себе свидетельствуют
о том, насколько невероятной, выходящей за пределы всего мыслимого и допустимого, стала эта ситуация для его сознания. Главный
недостаток нашего ясного, рационального сознания — чрезмерная
самоуверенность и неспособность понять, что в бытии всегда есть
место чему-то абсолютно новому, абсолютно иному в сравнении
с уже известным и привычным, в рациональном сознании полностью
отсутствует чувство тайны бытия. Такое сознание в соответствии
с приведенными в предыдущей главе рассуждениями можно назвать
236
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
пошлым, скользящим по поверхности явлений, не признающим в них
неисчерпаемой глубины. С особой прямолинейностью это отношение
к миру выражает Сарториус. В отличие от него, Крис, преодолев первый период растерянности и поняв, что его прежние убеждения ни
в малейшей степени не соответствуют происходящему, оказывается
способным пересмотреть их и стать выразителем противоположной
точки зрения, той самой, которую он столь уверенно и даже иронично
опровергал в споре с Бертоном.
Первая реакция Криса на событие, не укладывающееся в рамки
привычного, оказывается такой же, как и реакция других обитателей
станции, — соответствующей стереотипам рационального сознания,
стереотипам непримиримой «борьбы» с миром. Не признавая в появившейся перед ним женщине своей бывшей жены, он ведет ее к ракете и, заставив войти в нее, захлопывает люк и отправляет в космос, на
орбиту планеты Солярис. Так же точно «борются» со своими «гостями», как можно понять из фильма, Снаут и Сарториус (об их «гостях»
мы почти ничего не узнаем, за исключением отдельных намеков). Однако в данной ситуации идеология «борьбы» и «покорения» является
абсолютно бесперспективной, принимая ее, обитатели станции только усиливают свои страдания. Океан — это своего рода космический
Бог, он способен создавать бесконечное количество «дубликатов»
«гостей»; кроме того, постоянно поддерживая их существование, он
наделяет их способностью к неограниченной «регенерации», восстановлению жизненных функций после сколь угодно сильных, сколь
угодно разрушительных физических воздействий.
Когда на следующее утро Крис видит у своей кровати новую «копию» Хари, он уже не пытается уничтожить ее или каким-то иным
способом избавиться от нее. Более того, он не просто смиряется
с присутствием рядом с ним этого загадочного существа, но начинает
относится к ней как к своей воскресшей жене. Это как раз то, на что
не способны Снаут и Сарториус, которые по-прежнему рассматривают своих «гостей» только как часть враждебного и чуждого мира, не
признают их за часть себя, за «продолжение» своей личности в бесконечном бытии. Именно об этом различии говорит Хари: «Мне кажется, что Крис Кельвин более последователен, чем вы оба. В нечеловеческих условиях он ведет себя по-человечески, а вы делаете вид, что
все это вас не касается и считаете своих “гостей” — вы, кажется, так
нас называете — чем-то внешним, мешающим, а ведь это вы сами, это
ваше собственное...»
Постепенно изменяя всю систему представлений о себе и своем
месте в мире, Крис отрекается от убеждения в абсолютной разнородности человека и мира и от чувства «превосходства» человека над
природой, он осознает свою ответственность за все случающееся
237
ГЛАВА IV
«Солярис»: в ожидании Мессии
в бытии и свою вину перед миром. Из воспоминаний Криса мы узнаем, что именно он был виноват в том конфликте, произошедшем много лет назад, который стал причиной разрыва его отношений с женой
и самоубийства Хари. Вина за смерть Хари и желание вернуть ее
к жизни стали самыми глубокими и сильными чувствами в душе Криса, и не случайно именно их Океан обнаружил, вторгшись в тайники
его подсознания. В этом смысле явление воскресшей Хари было исполнением самого заветного, самого тайного и самого безнадежного желания Криса. Безнадежно, неисполнимо оно было потому, что
противоречило законам, которые установил и которым добровольно
подчинился разум. Но в той сфере бытия, где выявилась ложность
претензии разума на всеведение и всемогущество, вторая, скрытая,
«неразумная» ипостась личности Криса оказалась более мудрой, чем
его рациональное сознание. Вся история взаимоотношений Криса
и Хари на станции демонстрирует борьбу двух сторон его личности
и постепенную победу более глубокой, «теневой» ипостаси, той, ко-
торая способна желать невозможного, — над «светлой», поверхностной, над той, которая главным своим достижением полагает рабскую покорность законам необходимости.
Отметим характерную деталь. Когда Крис убеждается, что странная девочка, которую он увидел сразу после прибытия на станцию,
не галлюцинация, он в беседе со Снаутом задает совершенно естественный вопрос, подразумевающий незаконность ее появления:
«Откуда она взялась?» Но когда на следующее утро он видит Хари,
сидящую на его постели, он после мгновенной запинки, задает совсем
другой вопрос, — исходящей от той ипостаси его личности, которая
была уверена, что Хари бессмертна, и всегда желала ее возвращения
в земное бытие: «Откуда ты узнала, где я?» После этого рациональное начало на некоторое время восстанавливает свое господство,
и Крис поступает с Хари, созданной Океаном, так, как требует разум,
исходя из незаконности ее «воскресения» (отправляет ее в космос).
Но затем он окончательно отвергает претензии разума и признает
правоту тех чувств и желаний, которые раньше считал запретными
и не допускал в свое сознание.
Все последующие события показывают как «космическая» Хари
в общении с Крисом постепенно обретает те черты, которые имела
земная реальная Хари, это и означает, что она становится собственно человеком. Но при этом не менее важные изменения происходят
в Крисе, в опыте общения с Хари он становится другим. В его новом
состоянии и новом отношении к миру на первый план выходит чувство вины. Рациональные аргументы, доказывающие бесполезность
этого чувства, не способного повлиять на законы необходимости, теперь уже не имеют для него силы; осознание своей вины перед Хари,
238
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
а в более широком контексте — перед всеми людьми, перед всем бытием, становится главной составляющей его личности, дополняющей
чувство любви к воскресшей жене. Тот факт, что Хари «воскресла»
и снова находится рядом с ним, не только не делают это осознание менее острым, но, наоборот, усиливает его постоянным напоминанием
о прошлом. Ведь это разум убеждает нас, что вина «компенсируется»
послеttvtottthmh ттобпыми ттелями r отношении того челояекя. kotooomv
мы причинили зло. В глубине души, в «неразумной» сфере своего «я»
каждый знает, что любая вина неискупима — столь же неискупима,
как и вина перед человеком, которого уже нет в живых. Поэтому душевные терзания по поводу своей вины — неотвратимый жребий каждого, если только не заслоняться от него лживыми постулатами разума.
Лишь самопожертвование способно стать поступком равным
по своему значению тому, который стал виной человека, может исправить «разрыв», внесенный в бытие виновным. Именно к этому
идет Крис, он хочет пожертвовать собой, всей своей прошлой жизнью ради «призрака», «гостя», к которому Снаут и Сарториус не хотят и не могут относиться как к человеку и даже готовы уничтожить
с применением самых изощренных средств. Крис символически обозначает эту свою решимость, когда встает на колени перед Хари
в библиотеке станции во время встречи всех героев фильма по поводу
дня рождения Снаута. В итоге именно эта решимость Криса спасает
всех земных обитателей станции: принося свое прошлое и свою память в «жертву» Океану, Крис добивается того, что тонкая ниточка
понимания протягивается между людьми и этим могущественным, но
абсурдным Неведомым. Добровольно обрекая себя в финале фильма
на существование среди «двойников» близких ему людей, Крис делает возможным (сколь бы призрачной ни была эта возможность) грядущее просветление иррациональных глубин Неведомого.
Новое мировоззрение, обретенное Крисом в трагическом опыте
общения с космическими «гостями», очень далеко от однозначности
и рациональности его прежних взглядов, оно не дает никаких четких
правил и схем поведения, поскольку в нем отвергается сама возможность существования таких правил и схем по отношению к бесконечному многообразию бытия. Жизнь таинственна, и все, что в ней происходит, всегда происходит в первый раз и требует ответственного
решения здесь и сейчас, а не на основании заранее принятых стереотипов. Есть только одно правило, или принцип, — человек ответствен
за все, что происходит с ним и вокруг него, и он должен поступать
так, словно никто кроме него не способен разрешить предстающую
перед ним проблему: поддержать то, что требует поддержки, внести
гармонию в то, что разрушается диссонансами, дать возможность
жизни тому, что на его глазах идет к гибели. И он должен совершить
239
ГЛАВА IV
«Солярис»: в ожидании Мессии
все это, не думая о себе и о своем будущем; единственная позиция,
имеющая для человека оправдание в этом мире, — это позиция самопожертвования. Не господствовать над бытием, а добровольно подчиниться ему и жертвовать собой призван человек, только в этом
случае, пусть даже через страдания и смерть, он сможет достичь относительной гармонии с миром, а значит, и с самим собой, поскольку
МИП ^ТО еПИНСТЯРННЯЯ ОСНОКЯ ИСТИННОЙ ЧРЛОНРЧРСКОЙ CVTTTHOCTH.
а не его враждебное окружение.
Очевидно, что в этом пункте мировоззрение Криса совпадает с мировоззрением Андрея Рублева в «Страстях по Андрею». Однако в «Со-
лярисе» Тарковский по-другому расставляет акценты в этой системе
идей, особое внимание обращая на переосмысление традиционных
представления о человеке и смысле его существования. Символом нового понимания человека в фильме становится «космическая» Хари.
Ее образ — это наглядная иллюстрация диалектики свободы и зависимости, определяющей сущность человека. Человек одновременно
и абсолютно свободен, ускользает от всех законов действительности
и метафизически «несамостоятелен», зависит от бытия другого — от
бытия другого человека и от мирового бытия, поскольку только через них, через опору на уже существующее, он может упрочить свое
собственное существование, стать тем, чем он может и должен стать.
В течении всего XX в. европейская культура шла к совершенно новому представлению о сути человеческого бытия, и в конце столетия
Тарковский в определенной степени подводит итог длительному периоду исканий нового образа человека. В этом пункте его взгляды оказываются в очевидном созвучии с тем, что было высказано в сочинениях
русских и западных философов XX в., прежде всего философов-экзи-
стенциалистов, таких как М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю и др.
Но, конечно, еще более явным оказывается сходство философских
идей Тарковского с идеями самых известных русских представителей
этого направления — JI. Шестова, Н. Бердяева, С. Франка, которые
развивали новаторскую модель человека, выраженную в творчестве
Достоевского (собственно говоря, здесь же находится исток западного экзистенциализма). Особенно ясные параллели возникают при
сравнении мировоззрения, выраженного в «Солярисе», с философским мировоззрением самого фундаментального (в метафизическом
смысле) русского философа первой половины XX в. Семена Франка.
Подобно другим русским философам, Франк категорически отвергает характерное для рационалистической традиции убеждение
в том, что сущность человека коренится в его разуме. Разум — это
способность, с помощью которой человек выстраивает однозначную
и простую систему отношений с миром, но он сам возможен только
на основе уже наличного и действенного единства человека и мира.
240
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
Разум не является самостоятельной и полноправной инстанцией человеческой души, он «произрастает» из некоторой «почвы», в которой и находится подлинное средоточие личности, «я», души человека.
В качестве такой «почвы» Франк рассматривает совокупность простейших, нерефлектируемых, целостных «переживаний», подобных
переживаниям тоски, беспричинного страха, ужаса, любви. Впрочем,
само слово «переживание» не вполне адекватно отражает подразумеваемое здесь содержание, поскольку имеет явный психологический
отпечаток, предполагает наличие некоторого «субъекта», испытывающего соответствующее «переживание». Франк имеет в виду совсем
иное: он утверждает, что в душе человека есть некоторый исходный
слой бытия, где личность дана самой себе помимо всех привычных
разделений на субъект и объект, «я» и мир, душу и тело, сознание
и содержащееся в нем содержание и т. п. На этом уровне человеческое бытие не есть в чем-то или по отношению к чему-то, оно просто есть и просто есть в себе самом, здесь допустимо лишь указание
на эту данность. По отношению к указанным первичным «переживаниям» также можно применять обычные высказывания, например,
можно сказать: «это я испытываю тоску» или «это я люблю»; однако
нужно иметь в виду, что в этом случае само «я» не первично, а вторично по отношению к «переживанию». Первична именно «тоска»
или «любовь» как само бытие, и только в результате наложения на
это исходное бытийное обстояние более сложных систем отношений
внутри самого бытия конструируется некоторый смысловой центр,
обозначаемый как «я»2.
Человек отличается от всего, что существует в мире, от всех
«предметов» только тем, что в нем бытие открывается себе самому
в форме указанных первичных «переживаний» и тем самым из «просто» бытия становится «самобытием». Наша душа в этом наиболее
фундаментальном смысле, как пишет Франк, есть «лишь живая, реальная точка бытия, которая от всего на свете отличается тем, что
это есть точка, в которой бытие есть непосредственно для себя
и именно в силу того действительно есть безусловно»3.
Такое понимание человеческого бытия можно пояснить простой
аналогией, которая близка некоторым ключевым образам многовековой традиции европейского мистицизма (от Платона и неоплатоников
до М. Хайдеггера). Само по себе мировое бытие является «темным»
и «бессловесным», однако в нем есть способность испускать «свет»,
который освещает его самого и оттеняет в нем его «провалы» и «вер¬
2 Подробнее об этом см. в книге: Евлампиев И. И. История русской метафизики в XIX-XX веках. Русская философия в поисках Абсолюта. СПб., 2000. Т. 1.
С. 359-413; Т. 2. С. 5-51.
3 Франк С. Л. Предмет знания. Душа человека. СПб., 1995. С. 493.
241
ГЛАВА IV
«Солярис»: в ожидании Мессии
шины». Этот «свет», испускаемый бытием, и есть человек, существующий как бы на «границе» бытия и за счет «сил» самого бытия.
Освещая бытие, он делает его ясным и прозрачным, выявляет в нем
отдельные элементы — предметы и явления — сущее, и тем самым
превращает «темное» бытие в «мир». Именно это имеет в виду Франк,
когда пишет: «...душа... есть не замкнутая в себе отрешенная от всего
иного субстанция, а как бы субъективное "зеркало вселенной” или —
говоря точнее — субъективное единство пропитанного стихией
душевной жизни и своеобразно преломленного или сформированного объективного бытия»4.
Душа каждого человека пронизывает и охватывает все бытие, различна только «глубина» ее «проникновения» в различные его элементы, или лучше сказать, «угол освещения» бытия тем «светом», который воплощен в человеке, в его жизни. Как пишет Франк, поскольку
мир, предстающий каждому человеку в его обыденном восприятии,
«не копия предметного бытия, а тождественно ему самому, то этот
субъективный мир мы должны будем признать не “идеей”, не “отображением” объективной вселенной как другой, замкнутой в себе реальности, а особым родом бытия самой же объективной “вселенной”.
Сказать, что вселенная существует, во-первых, объективно, сама
в себе и, сверх того, отражается в бесчисленных копиях в индивидуальных сознаниях или душах, — значит выразиться лишь грубо приблизительно и упрощенно. <...> Более правильно соотношение между
индивидуальным сознанием и объективным бытием можно было бы
определить так, что объективное бытие, существуя само в себе, во
всей бесконечной полноте своих содержаний или — что то же самое —
в свете всеобъемлющего и всеозаряющего абсолютного знания,
вместе с тем существует не в отражениях или копиях, а в слабых
и субъективных освещениях под разными углами. Представим себе
картину, которую можно осветить или на которую можно смотреть
с разных сторон, под разными углами зрения и сосредоточивая свет или
созерцание на разных ее частях. Тогда все образы, открываемые этим
освещением или созерцанием, будут частями, и притом своеобразно-
сформированными, единого в себе содержания самой картины. Таково
же отношение между индивидуальными сознаниями и объективным
бытием. Последнее, существуя в себе, т. е. во всей своей объективной
полноте, вместе с тем частично и несовершенно содержится в индивидуальных сознаниях, тем самым в этой частичности обнаруживая
своеобразную сформированность, чуждую ее объективному бытию»5.
Мир, в той форме, как он явлен нам и познается в качестве «объективного», существует только потому, что есть человек, человек
4 Там же. С. 577.
5 Там же. С. 577-578.
242
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
взаимодополнителен миру, как «взаимодополнительны» свет и освещаемые им предметы; но человек в свою очередь существует только
через бытие, составляющее основу и мира и человека, существует
как его сила, как излучаемый им «свет», направленный на него самого. И главная трагедия человека, как это прекрасно сформулировал
Хайдеггер, — в «забвении» бытия, в том, что он пытается устроиться
о мипр гтгм^ттгтг» по га а итп пи uauto и го\лглгггг\аггс> пк-
ное, а бытие вокруг себя и в себе рассматривает не более как совокупность средств для поддержания и упрочения своего существования.
Встреча Криса с материализацией своей умершей жены, с «космической» Хари, в определенном смысле может рассматриваться как
встреча и столкновение двух «мировоззрений» и двух «концепций»
о сущности человека и его роли в мире. То, что в споре Криса с Бертоном было лишь «теорией» в истории Криса и Хари становится самой
жизнью. Крис в момент прилета на станцию абсолютно уверен в себе,
не сомневается в своей самодостаточности и в своем превосходстве
над миром, в противоположность этому Хари — это образ человека
как «самоявленности», «самооткровения» бытия, как голоса бытия, обращенного к самому бытию. Этот художественный образ открывает в человеке то же самое, что открыла философия С. Франка
и М. Хайдеггера. Человек зависим от бытия и един с ним, в своем существовании он есть «явление» бытия самому себе, есть просто «са-
мобытие». В «Солярисе» это «явление» носит однозначно трагический
характер (в этом смысле мироощущение Тарковского ближе к пессимистическому мироощущению Хайдеггера, чем к метафизическому
оптимизму Франка). Для Хари ситуация «заброшенности» в этот мир
есть не поэтическая метафора, а жестокий смысл ее существования.
Хари — это «проект» «брошенный» в бытие памятью Криса, самого
дорогого для нее человека, причем явленность этого «проекта» в бытии определена самим бытием, той основой Криса, которая глубже
уровня рациональности, уровня сознания, оперирующего с однозначными понятиями и идеями (с хайдеггеровским «сущим»).
Крису помогает верить в «твердость», «основательность» его
субъективности его память. У Хари ее нет, ее личность — это просто
«центрированность» самого бытия (используя выражение Франка).
Вся ее внутренняя жизнь сводится к набору «чистых переживаний»,
которые еще не замкнулись в себе, не обособились от окружающего
мира, наоборот, целиком определены миром и выражают неотчуж-
денность Хари от окружающего. Очень важный штрих ее бытия —
это ее неспособность спать. В художественном мире Тарковского
сон обладает двумя очень разными функциями: с одной стороны, он
обозначает замкнутость личности на себе, ее способность полностью
уйти в свой субъективный мир, отгородившись от всей окружающей
243
ГЛАВА IV
«Солярис»: в ожидании Мессии
реальности; с другой стороны, сон есть выход в иные сферы реальности, он «размыкает» ограниченное бытие человека, выводит его на
простор бытия. При всей противоположности этих функций их объединяет то, что их осуществляет именно личность, обладающая очевидной независимостью от мира: она либо «культивирует» эту независимость, еще больше отгораживаясь от мира во сне, либо преодоле-
BQPT скэ г* пг»мг»тттк1г» r*T4Q Птта Yanu vnTnnaa и гъги*м игулпипм ^итии up
обладает самостоятельностью и пребывает в единстве с окружающей
реальностью и то, и другое оказывается невозможным. Пытаясь быть
похожей на земных людей, она имитирует сон, но при этом признается Крису: «Я не умею спать. Нет, правда, это не сон, это как-то так...
вокруг, как будто не только во мне, а гораздо дальше». Пытаясь заснуть, она тут же теряет границу между своим «я» и миром, поскольку сама эта граница еще очень условна, невыражена. Но, постепенно
становясь подобной всем земным людям, Хари обретает определенную независимость своего внутреннего бытия и важнейшую способность обычных людей — способность спать.
Весь мир для Хари сконцентрировался в любимом человеке,
в Крисе, и всё вне его она воспринимает только в той степени, в какой
это взаимосвязано с Крисом и играет какую-то роль для него. Она как
бы видит в самом Крисе то, что давно стало закрытым для него самого, — его «растворенность» в окружающем, причастность ко всему,
что есть в бытии. Для нее Крис — это не часть мира, но одно из измерений мира, измерение каждого явления и каждого события, сколь
бы они ни казались далекими и независимыми от «реального» Криса,
существование которого ограничено в пространстве и времени.
И не случайно, что исходным, самым фундаментальным «переживанием», через которое бытие открывает себя в Хари, является любовь — сила, или форма, бытия, не имеющая (в своей метафизической
сущности) ни причины, ни обоснования. Как говорит в самом конце
фильма Крис, «любовь — это чувство, которое можно переживать, но
объяснить нельзя; объяснить можно понятие, а любишь то, что можно потерять — себя, женщину, родину». Именно через углубление
и усложнение этой основополагающей силы, направленной на соединение всего распавшегося и разъединенного, на осмысление всего абсурдного и бессмысленного через вбирание в себя все новых и новых
сфер окружающего бытия, человек «выстраивает» себя, становится
личностью, обретает развитое «я». Фантастическая ситуация, созданная в фильме, позволяет проследить этот процесс в чистом виде.
В момент ее создания Океаном «космическая» Хари почти ничего не имеет в своей душе, вся она — воплощенная любовь к Крису,
и все, что она знает, — это Крис и непосредственно связанные с ним
люди, явления и события. О себе самой она не знает ничего, точнее, ее
244
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
и нет еще как обособленной, самостоятельной личности с замкнутым
внутренним миром. Но осваиваясь в мире, вбирая своей безграничной
любовью в себя все, что имеет значение для Криса, она становится человеком, приобретает свой собственный внутренний мир и даже
память о прошлом, которого у нее не было. Крис показывает Хари
старую видеозапись, на которой он запечатлен мальчиком, потом юношей, на которой она видит его мать и отца и в самом конце — свой
земной «прообраз», земную Хари, покончившую с собой. И когда она
начинает расспрашивать Криса о деталях всех давно прошедших на
Земле событий, к ней вдруг приходят воспоминания об этих событиях.
«А... Та женщина в белой шубке, вот кто меня ненавидел», — говорит Хари. «Не выдумывай, она умерла раньше, чем мы с тобой познакомились», — пытается обмануть ее Крис, полагая, что она не может ясно помнить то, что было не с ней. Но здесь он ошибается: Хари
вспоминает все и даже уличает его в обмане. «Я не понимаю, зачем
ты мне морочишь голову... Я же прекрасно помню, как мы пили чай,
и она выгнала меня вон. Я, естественно, встала и ушла; я прекрасно
помню». Хари с особым ударением произносит последние слова, настаивая на том, что она обладает памятью о прошлом.
Откуда пришли эти воспоминания к Хари, которая существует
всего несколько дней с момента своего появления на космической
станции? Может быть, из памяти Криса, раскрытой Океаном и перенесенной в созданное им существо, может быть, из «мира вечности», из
той сферы бытия, в которой пребывает бессмертная «ипостась» каждого человека, в том числе и бессмертная личность земной Хари, «призраком» которой стала «космическая» Хари. Впрочем, оба этих ответа
верны в равной степени и говорят об одном и том же: о том, что человек — это бесконечное и вечное существо, занимающее центральное
положение в бытии и не сводимое к его ограниченной материальной
оболочке, существующей в пространстве и времени. При этом Хари не
является пассивным «приемником» приходящих к ней откуда-то воспоминаний, мы видим, как она прилагает колоссальные усилия, чтобы
восстановить свое прошлое, понять себя и тем самым по-настоящему
стать собой. В каком-то смысле это есть ее усилия воскресения.
И не случайно «восстановление» собственной личности она начинает с того события в прошлом, которое стало главным в ее короткой
земной жизни: с события ссоры с матерью Криса и окончательного
разрыва с ним самим. В истории земных отношений Криса и Хари
можно увидеть пунктирное предвосхищение важнейшей темы «Зеркала»: здесь, как и в следующем фильме, Тарковский показывает, как
личные недостатки людей и вызванные этими недостатками конфликты разрушают их бытие, превращают жизнь в ад. Хари в результате
этой ссоры погибла, покончила с собой, не выдержав разрыва с Кри¬
245
ГЛАВА IV
«Солярис»: в ожидании Мессии
сом, но и он после произошедшей трагедии стал другим. Воспоминание о Хари и вина за ее смерть стали невидимым центром его личности, определяющим все его бытие; это и стало явным на Солярисе.
Однако вернемся к сцене, в которой Хари пытается «восстановить» свое прошлое. Это «восстановление» дается ей непросто. Сразу после настойчивых слов о том, что она «прекрасно помнит» ссору
с матерью Криса, она признается, что не помнит, что было потом. Крис
вынужден продолжить: «А потом я уехал, и с тех пор мы больше уже
не виделись». «Куда ты уехал?» — в недоумении спрашивает Хари,
и мы понимаем, что пока она обрела память только о самом важном —
о событии ссоры. Крису приходится помогать ей вспоминать дальше.
«В другой город, — отвечает он на вопрос Хари, — меня перевели».
«Почему ты уехал без меня?» — продолжает допытываться Хари. «Ты
же сама не захотела», — отвечает Крис, приоткрывая вход в сферу
самых болезненных воспоминаний об окончательном разрыве. И для
Хари этого оказывается достаточным: она в тот же момент обретает
эти воспоминания (хотя только что еще не имела их), «восстанавливает» еще один фрагмент своей личности — личности земной Хари, которая любила Криса. «А вот это я помню...» — едва слышно говорит она.
Но Хари не просто «восстанавливает» в себе личность земной
Хари, она является ее новым «воплощением», она является новой личностью, которая помимо трагедии земной Хари несет в себе свою собственную трагедию — трагедию «повторного» и значит, незаконного
по земным меркам существования. «Я совсем себя не знаю, не помню, — говорит Хари сразу после просмотра фильма о прошлом Криса
и его семьи, — я закрываю глаза и уже не могу вспомнить своего лица.
А ты? Ты себя знаешь?». «Как каждый человек», — отвечает Крис, не
понимая жестокости этого ответа: ведь это означает, что Хари еще не
является человеком в обычном, земном значении этого слова.
В конце этой сцены, после того, как Хари вспоминает ссору с матерью Криса, а потом и разрыв с ним самим, после ее последних слов
(«а вот это я помню...»), она подходит к зеркалу и пристально смотрит
на себя, словно очнувшись от долгого сна или болезни; затем камера
сдвигается вправо и мы видим стену, по которой струится откуда-то
сверху вода, — точно так же как в заключительных кадрах эпизода
с петухом из «Зеркала», где была показана Мария Николаевна, преступившая грань земного бытия и прозревающая вечную основу своей
личности, свою абсолютную любовь к отцу Алексея, — а в это время
за кадром женский голос выводит мелодию, почти буквально повторяющую музыкальную тему, которая звучала в «Страстях по Андрею»
(в эпизоде «Скоморох») и обозначала духовную концентрацию личности, выводящую человека за пределы обыденности. Здесь точка пересечения главных идейных линий всех трех фильмов: рассматривание
246
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
себя в зеркале выступает символом самопознания, постижения себя
через освоение тех духовных богатств, которые содержатся в «вечной»
памяти личности и выводят ее в «простор» бытия. Человек всю жизнь
должен «собирать» себя, упрочивать основы своей личности — через
молитвенное обращение к Богу и окружающему бытию, как это делает
Андрей Рублев, или через восстановление и раскрытие своей собственной памяти, как что ттеляет Алексей п «Зепкяле* и Хяпи п «Соляписе»
Но в отличие от других людей для Хари этот процесс «собирания» себя
имеет особое значение, поскольку без этого она в буквальном смысле
не имеет себя, не знает себя, не есть личность в том смысле, как любой
земной человек. В ее космическом мире путь к «восстановлению» себя
лежит только через общение с Крисом и через восприятие культуры,
в которой заключена память всего человечества.
Хари очень быстро проходит этот путь. В следующей сцене она задает Крису самые важные вопросы о себе. Проснувшись ночью, Крис
спрашивает Хари, почему она не спит. В ответ она говорит ему о том,
что больше всего беспокоит ее: «Ты не любишь меня». И дальше формулирует самую главную проблему своего существования: «Крис, ты
ведь понимаешь, что я не знаю, откуда я взялась. Но, может быть, ты
знаешь? <...> Но если ты знаешь, только не можешь сейчас сказать,
то, может быть, когда-нибудь... А, Крис?» Крис вновь, как и в предыдущей сцене пытается обмануть ее и уйти от ответа: «Что ты говоришь,
я ничего не понимаю, честное слово». Но Хари настойчиво продолжает разговор и в конце концов добивается своего — добивается от
Криса равноправных отношений. Когда он отказывается отвечать
на ее вопросы, она сама говорит о главном: «Не хочешь, боишься. Ну,
тогда я скажу. Я не Хари. Та Хари умерла, отравилась. А я...я совсем
не то...» Признавшись, что ей об это рассказал Сарториус, она продолжает: «Лучше бы ты сам мне сказал об этом. <...> Как ты жил все
это время? Ты любил кого-нибудь?» «Не знаю», — вновь уходит от ясного ответа Крис. «Обо мне ты помнил?» — «Помнил... Но не всегда,
только когда мне было плохо».
Постепенно становясь личностью, Хари обретает и настоящую
человеческую любовь, вместо той иррациональной привязанности,
которую наделил ее разумный Океан. Она начинает понимать, что
ее присутствие рядом с Крисом — это тяжелое испытание для него,
и в ее любви появляется сострадание и желание жертвовать собой
ради любимого: «Ты знаешь, мне кажется, что мы кем-то обмануты.
И чем дальше будет длиться этот обман, тем ужасней все кончится
для тебя, именно для тебя, Крис. Как мне помочь тебе?» Она завершает «созидание» себя из приходящей к ней памяти о прошлом и при
этом окончательно отделяет себя от той, прежней Хари, которая
жила и умерла на Земле. «Скажи, — спрашивает она Криса, — ас ней,
247
ГЛАВА IV
«Солярис»: в ожидании Мессии
с той... что с ней случилось?» И Крис наконец говорит ей всю самую
страшную правду, которую он пытался скрыть и от нее и от себя самого; теперь и он видит, что новая Хари достаточно самостоятельна и ответственна, чтобы понять эту правду и принять ее: «Мы поссорились, в последнее время мы часто с ней ссорились. Я собрал
вещи и ушел. Она дала мне понять... — не сказала так прямо, но если
с кем-нибутть ппожил гопы, то чтого и не нужно Я был VReneH. что
это только слова, но на другой день вспомнил, что оставил в холодильнике препараты; я принес их из лаборатории и объяснил ей тогда, как
они действуют. Я испугался, хотел пойти к ней, но потом подумал,
что это будет выглядеть, будто я принял ее слова всерьез. На третий
день я все-таки не выдержал и отправился. Когда я пришел, она уже
умерла. На руке был след от укола».
Этот след от укола был демонстративно обнажен на руке Хари,
когда она впервые появилась перед Крисом на космической станции,
и это означает, что в памяти Криса именно этот образ, символ его несмываемой вины, болел незаживающей раной, и именно его обнаружил Океан как самое важное воспоминание при «зондировании» памяти Криса. «Космическая» Хари стала материализацией вины Криса, которую он пытался спрятать от самого себя; принимая теперь во
всей полноте эту вину, Крис вместе с Хари становится по-настоящему
человеком, и в этом проявляется его превосходство над Снаутом
и Сарториусом. Он прямо говорит последнему о своей вине и на недоуменный вопрос последнего о том, перед кем же он виноват, добавляет: «И перед вами тоже». Здесь вновь звучит тема Достоевского
о всеобщей вине людей. Признавая во всей полноте свою вину перед
Хари, Крис тем самым признает и свою вину перед всеми людьми, поскольку в силу неразрывной связи людей, вина перед одним конкретным человеком оборачивается виной перед всеми. И искупить вину
перед отдельным человеком можно, только радикально перестроив
свои отношения со всеми. Проходя вместе с Хари путь познания себя,
Крис, как и она, приходит к необходимости самопожертвования —
ради пересозидания своей личности и преодоления свою вину перед
Хари и перед всеми людьми.
В центральной сцене фильма все герои собираются в библиотеке,
чтобы отметить день рождения Снаута. Здесь происходит еще одно
и наиболее острое столкновение двух позиций, двух мировоззрений,
о которых говорилось выше. Снаут, у которого, видимо, были «гости»,
опаздывает на полтора часа, но когда он все-таки приходит, Сарториус, подавляя раздражение, все-таки предлагает выпить за его мужество и чувство долга перед наукой. Но Снаут к этому времени уже существенно изменил свои взгляды на жизнь; проделав примерно такой
же драматический путь, как и Крис, он уже не верит во всемогуще¬
248
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
ство науки и в «спасающий» характер научного разума. Поэтому он
иронично «отводит» тост Сарториуса. «Наука — чепуха. — говорит
он. — В этой ситуации одинаково беспомощны и посредственность
и гениальность. Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос, мы хотим расширить землю до его границ. Мы
не знаем, что делать с иными мирами, нам не нужно других миров,
нам нужно Землю. Мы бьемся над контактом и никогда не найдем его.
Мы в глупом положении человека, рвущегося к цели, которой он боится, которая ему не нужна. Человеку нужен человек». И предлагает
выпить за Гибаряна, который погиб по причине своей чрезмерной человеческой чуткости.
Сарториус, возмущенный словами Снаута, срывается и в резкой
форме обвиняет и Снаута и Криса Кельвина в измене тому единственному предназначению, которое есть, по его мнению, в их жизни —
служению научному разуму, всеобщей истине. «Все эти душераздирающие переливы, — говорит он, — просто достоевщина и ничего
более. <...> Я знаю свое место, я работаю. Человек создан природой,
чтобы познавать ее; бесконечно двигаясь к истине, человек обречен
на познание. Все остальное — блажь». И затем он называет Криса
«бездельником», который забыл о долге, увлеченный только романом
со своей бывшей женой.
В этот спор внезапно вмешивается Хари, показывая, что она уже
очень хорошо разбирается в тех чувствах, которые обуревают обитателей станции, и в существующих в их взглядах противоречиях. «Но
мне кажется, — дрожащим от волнения голосом говорит Хари, —
что Крис Кельвин более последователен, чем вы оба. В нечеловеческих условиях он ведет себя по-человечески, а вы делаете вид, что
все это вас не касается и считаете своих “гостей” — вы, кажется, так
нас называете — чем-то внешним, мешающим, а ведь это вы сами,
это ваше собственное...» Понимая, что рискнув вмешаться в их спор
и даже обвинить их в непонимании каких-то глубоких основ жизни,
Хари ставит себя в один ряд с ними, земными людьми, Сарториус
дает ей отпор, полагая, что защищает общие всем людям ценности,
которые Хари пытается поставить под сомнение. «Да вы не женщина
и не человек — говорит он — поймите вы наконец, если вы вообще
способны что-нибудь понимать. Хари нет, она умерла, а вы только ее
повторение, механическое повторение, копия, матрица». «Да, может
быть, — отвечает Хари, — но я... я становлюсь человеком и чувствую
нисколько не меньше, чем вы, поверьте. Я уже могу обходиться без
него. Я люблю его. Я человек. Вы очень жестоки». Хари плачет и, чтобы успокоится, пытается выпить воду из стакана, но давится ею, наглядно показывая, что в самом элементарном физиологическом смысле она не является человеком.
249
ГЛАВА IV
«Солярис»: в ожидании Мессии
Крис до этого момента почти не участвовал в разгоревшемся споре, но именно он ставит в нем последнюю точку: вместо того, чтобы
говорить какие-то слова, которые всегда опосредованно служат нашему разуму, он просто подходит к Хари и встает перед ней на колени,
и этот жест говорит больше всяких слов о его любви к Хари, о его
вине и о готовности служить не внечеловеческому разуму, а самому
человеку — конкретному человеку, который не может жить без него.
И это ответ оказывается настолько неожиданным и точным, что Сар-
ториус не выдерживает и кричит: «Встаньте, немедленно встаньте».
И после паузы уже совершенно другим голосом: «Дорогой вы мой,
ведь это же легче всего...» И мы понимаем, что в душе Сарториуса
идет точно такая же борьба двух противоположных сил, двух интенций личности, которая происходила в Крисе в момент его прибытия
на станцию. И если до сих пор та сила, которая подчиняла его личность научному разуму, была более влиятельной, это не означает, что
она полностью победила противоположную — силу иррациональной
«человечности»; не исключено, что когда-нибудь последняя заставит
Сарториуса признать, что и для него главное в жизни не абстрактная
истина, а конкретный человек рядом с ним.
В самом конце рассматриваемой сцены Тарковский показывает,
как Хари долго и задумчиво рассматривает полотна П. Брейгеля из
цикла «Времена года», словно окончательно восстанавливая в себе
память о Земле, на которой она никогда не была; и становится ясным,
что в ней завершился процесс обретения себя. Когда Крис, проводив
Снаута, возвращается в библиотеку, опасаясь, что Хари как всегда
страдает без него, он с удивлением обнаруживает, что она даже забыла о его существовании, полностью погрузившись в свои мысли
и в свои чувства. Воссоздав в себе память о прошлом, Хари уже не
столь привязана к Крису и уже способна жить в своем собственном
внутреннем мире, как обычный человек. И именно в этот момент любовь Криса и Хари становится любовью двух равноправных людей
и поэтому настоящей любовью — тем магическим чувством, которое в художественном мире Тарковского способно сотворить чудо: мы
видим, как Крис и Хари воспаряют над землей, преодолев тяготение
(сюжетно этот эпизод обоснован тем, что станция делает маневр, из-
за чего на несколько мгновений наступает невесомость).
Вспомним упоминавшуюся ранее (см. главу 2) идею «соседствующих» миров, которую излагал Свидригайлов в романе Достоевского
и которую мы признали важным элементом философских воззрений
не только Достоевского, но и Тарковского. Мир космической станции
Соляриса можно рассматривать как художественный образ «иного
мира» по отношению к нашему обычному земному миру. Хари, умершая на Земле, «воскресает» к «бессмертному» (телесному!) существо¬
250
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
ванию в мире, который отличается по своим законам от земного, хотя
и обладает сходством с ним в главном — в возможности для человека иметь те же чувства и помыслы, что и в земном мире. Трагедия
Хари, как и трагедия Криса, в том, что здесь происходит «наложение»
различных миров, и земной Крис заново выстраивает отношения
с «космической» Хари, с «призраком» реальной Хари. Если бы ее явление произошло на Земле, Крис без колебаний принял бы точку зрения
здравого смысла, которую выражает Сарториус, обращаясь к Хари:
«Хари нет, она умерла, а вы только ее повторение, механическое повторение, копия, матрица». Но здесь, на станции, через радикальную
перестройку своих представлений о мире и человеке, через кризис
личного бытия Крис идет к признанию новой Хари за ту женщину, которую он знал много лет назад, — за свою воскресшую жену, ставшую
в этом новом мире более зрелым и глубоким человеком, чем раньше.
Для Хари фантастическая идея Свидригайлова о вечности как
«бане с пауками» оказывается не метафорой, а жестокой реальностью. Ее «вечность» — это та жизнь, которую ей даровал Океан; но
в обретенном «воскресении» и «бессмертии» главным оказывается не
радость новой вечной жизни, а ужас невозможности смерти. В соответствии с сомнениями некоторых героев Достоевского ее посмертное бытие предстает еще более абсурдным, чем земное; ей было дано
чувство безмерной любви, но в новом, сверхземном мире это чувство
несет только страдания и ей самой и Крису, на которого направлена
ее любовь. В новом мире повторяется в еще более острой форме тот
конфликт непонимания, который привел ее к самоубийству в земной
жизни, и она вновь пытается покончить с собой. В этом акте не только стремление самой уйти от невыносимых страданий, но и желание
спасти Криса. Став человеком, она понимает, что существование
в новом мире, рядом с ней — бесконечно любящей Криса, бесконечно
зависимой от него и бессмертной — это слишком тяжелое испытание
для Криса. Его личность, его «субъективность» выстроена на основе
мира, в котором Хари нет; и для того чтобы снять с него непривычный
груз ответственности за новую, непредсказуемую действительность,
спасти от безумия, она пытается восстановить для него (хотя бы в общих чертах) тот мир, в котором он привык жить. «Она сделала это
для тебя», — печально говорит Снаут Крису об исчезновении Хари,
когда ей все-таки удалось умереть в этом мире бессмертия — она попросила Сарториуса уничтожить ее с помощью сконструированного
им аннигилятора.
Именно этот акт — акт самопожертвования — больше всего говорит о том, что Хари стала человеком, что она уже обладает своим
собственным внутренним измерением, своим собственным «я», которое независимо от «я» Криса и действительно продолжает, а не
251
ГЛАВА IV
«Солярис»: в ожидании Мессии
просто повторяет «я» земной Хари. «Я на нее очень похожа?», —
спрашивает Хари о земной возлюбленной Криса; на что он отвечает:
«Нет, ты была похожа; теперь ты, не она, настоящая Хари». Очень характерно, что первую попытку покончить с собой, выпив жидкий кислород, Хари предпринимает как раз после того, как отчетливо формулирует для себя, что она стала человеком, обрела, наконец, свое «я»,
независимое от Криса. Когда Хари первый раз появляется на станции
рядом с Крисом, ее первые слова и мысли связаны только с ним; когда
же она приходит в себя после самоубийства, в очередной раз «воскресая», она прежде всего вспоминает себя, пытается понять, кто она,
и не желает верить в то, что самоубийство не удалось. «Это я... Хари...
почему... нет, это не я... это я — не Хари... а ты, Крис, может быть, ты
тоже...» — кричит она Крису.
Продолжая размышления, начатые в «Страстях по Андрею», Тарковский хочет сказать, что право на самопожертвование и на смерть —
это право, без которого нет человеческой личности. Если бы человек обрел бессмертие, в котором смерти не было бы вообще, если бы
смерть была абсолютно уничтожена, то он перестал бы быть собой,
просто исчез бы как человек. Смерть — это необходимый момент
жизни, и она должна остаться с человеком во всех сферах бытия, быть
может, даже в «мире вечности». Об этом и о том, что в смерти есть не
только негативный, но и позитивный момент, момент перехода к новому, более полному и совершенному бытию, Тарковский особенно
подробно размышляет в следующем своем фильме, в «Зеркале», о чем
мы уже говорили в предыдущей главе.
4. Предстояние перед абсурдным Богом
Поскольку образы «гостей», приходящих к обитателям космической станции, Океан извлекает во время сна из их подсознания, Сна-
ут и Сарториус предпринимают попытку послать Океану информацию об их «дневном» сознании. Для этого они облучают поверхность
Океана пучком жесткого рентгеновского излучения, модулированного энцефалограммой, снятой с бодрствующего сознания Криса. Океан мгновенно откликается на это «послание» и проводит что-то вроде
«исследования» внутреннего мира Криса, его памяти, при этом Крис
впадает в странное, болезненное состояние. Хари вместе со Снаутом
ведут его по замкнутому в кольцо коридору станции, причем ему кажется, что они идут в луче ослепительного прожектора. Это долгое
движение по кругу в сопровождении близких людей и под чьим-то
ослепительно-пристальным «оком» символически обозначает акт самопожертвования Криса, его готовность предстать перед Неведомым,
которое, наконец, соизволило заметить человека с его страданиями
252
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
и вглядывается в его сущность. И теперь этот акт Крис совершает не
только ради Хари и даже не ради всех обитателей станции, а ради всего человечества, которое он представляет здесь.
Сразу вслед за этим Крис, лежа на кровати в своей каюте, видит
как она преображается. Она оказывается частью земного дома его
отца; одновременно перед ним предстает его мать и Хари. Все это можно было бы счесть галлюцинацией Криса, если бы мы не были уверенны, что в загадочном мире Соляриса все «сны» и «видения» оказываются реальными благодаря «божественной», творящей мощи Океана.
Перед Крисом предстает материализация его памяти, и здесь обнаруживается самая ясная точка соприкосновения идейного замысла
«Соляриса» с центральной смысловой линией «Зеркала». В «Зеркале»
герой пытается понять себя через восстановление в памяти кульминационных моментов развития своей личности (уход отца, самопожертвование военрука в тире, поход к докторше Соловьевой), то же самое
мы видим и в данной сцене. Океан, восприняв информацию о личности Криса, выделяет то, что составляет самое главное в ней; как и для
героя «Зеркала», для Криса важнейшее значение имели два уже ушедших от него человека — мать и жена, и именно они предстают перед
ним в сцене «опознания» Океаном главного в его личности. Точно так
же и совпадение образов матери и жены, характерное для «Зеркала»,
проявляется уже в «Солярисе» — в рассматриваемой сцене мать говорит с Крисом голосом Хари.
Явным намеком на замысел следующего фильма выглядят самые
первые кадры «видения» Криса, его каюта преображается в комнату
с зеркальными стенами, потолком и полом. Первоначально Тарковский хотел включить в фильм отдельную сцену с комнатой, составленной из сплошных зеркал6, однако из всего этого большого эпизода (уже
снятого), в окончательную версию фильма вошло всего несколько кадров. Тем не менее идея бесконечного «зеркального» умножения образов человека присутствует здесь в достаточно радикальной форме —
мы видим множество воплощений Хари.
Сложный фрагмент «видений», вызванных Океаном перед Крисом
(именно перед ним, непосредственно в реальном мире, а не только
в его сознании), заканчивается точно так же, как он и начинался —
мы видим Криса спящим в своей кровати на станции, просыпаясь, он
зовет Хари. Нетривиальность этого финала заключается в том, что
пробуждение Криса показано дважды: сначала в черно-белом изображении (как и предыдущие кадры его «видений»), а затем в цветном. Этот повтор не вызвал бы никаких вопросов (зрители в силу
краткости и «проходного» характера этой сцены вообще не замеча¬
6 См.: Туровская М. 7 ‘Д. или Фильмы Андрея Тарковского. М., 1991.
С. 210-211.
253
ГЛАВА IV
«Солярис»: в ожидании Мессии
ют этой ее особенности), если бы мы уже не знали, что в следующем
фильме точно такое же удвоение одной и той же сцены, причем тоже
сцены пробуждения, будет иметь принципиальное значение, будет
выражать очень важное представление о существовании человека одновременно в «мире времени» и «мире вечности». Именно сравнение
с аналогичным фрагментом из «Зеркала», показывающим пробуждение маленького Алексея и обозначающим начало существования его
самостоятельной личности, позволяет понять смысл финальной сцены «видений» Криса, а также «расшифровать» прихотливую логику
его «видений».
Этот повтор, по нашему убеждению, нужно рассматривать, как
и соответствующий фрагмент в «Зеркале», в качестве обозначения
точки схождения «мира времени» и «мира вечности». В «Солярисе»
еще нет детальной разработки представления о «мире вечности», оно
еще не играет такой важной роли, как в «Зеркале». Однако невозможно отрицать его присутствие в системе философских представлений
Тарковского, ведь оно угадывалась (хотя в достаточно неопределенной форме) уже в «Ивановом детстве». Поскольку герои «Соляриса»
пребывают в фантастическом мире за пределами земной действительности, само противопоставление «мира времени», т.е. земной, обыденной реальности, и «мира вечности», трансцендентного по отношению к реальному миру, не имеет здесь достаточно веских оснований.
Однако эта идея была настолько важна для Тарковского, что один раз
он все-таки обозначил ее и в этом фильме.
Обратим внимание на то, что фрагмент «видений» Криса четко
делится на две части. В первой, цветной части мы видим ту же каюту Криса, которая представала во всех предшествующих сценах.
Только присутствие в ней нескольких «воплощений» Хари, матери
Криса, бульдога из его детства и множества предметов, которых здесь
раньше не было и которые являются материальными «реликвиями»
прошлого Криса, говорит о том, что перед Крисом происходит радикальная метаморфоза его «обыденного» бытия, вызванная разумным
океаном Соляриса. Но затем начинается вторая, черно-белая половина этого фрагмента; она начинается с того, что Крис встает с постели
(до этого он наблюдал за всем происходящим лежа) и оказывается,
что он находится уже не в каюте космической станции, а в своем родном доме, только несколько преображенном, наполненном множеством предметов из его космической действительности. Переход от
цветной части к черно-белой подчеркнут резким изменением звукового сопровождения: в цветной части постоянно звучал тревожный,
почти «экстатический» электронный мотив, мало похожий на музыку, видимо, обозначающий действие загадочных сил Океана во всем
происходящем; в черно-белой части этот звуковой мотив замирает
254
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
и наступившую тишину подчеркивает звук перекатывающейся на
стуле стеклянной пробки от графина — словно брошенной сюда кем-
то мгновение назад.
Структура всего фрагмента «видений» оказывается полностью
идентичной структуре того фрагмента, который в «Зеркале» следует за сценой несостоявшейся продажи сережек, Как там, так и здесь
черно-белая часть фрагмента в определенном смысле повторяет цветную, причем цветная часть передает реальное бытие героя (в «Зеркале» — в прошлом), а черно-белая — ее символическое преломление
в «мире вечности». Поэтому черно-белая часть имеет гораздо более
«выстроенный» смысл, в то время как цветная часть более неопределенна и «хаотична», как сама жизнь. Черно-белая часть, хотя и не
является буквальным повторением того, что реально происходило
в жизни Криса, но дает символическую суть всех главных и самых
трагических событий его жизни. Как и в «Зеркале», здесь представлен
в виде окончательного итога процесс познания Крисом собственной
личности, ее оснований, заложенных отношениями с близкими людьми, — прежде всего с матерью.
Обнимая мать в начале этого фрагмента, Крис извиняется, что опоздал на два часа, в ответ мать встает и хочет подвести отстающие часы.
В этих противоположно направленных мотивах — Крис опаздывает,
не успевает в обозначенному времени, а его мать хочет устранить малейшее отставание самих часов, отсчитывающих опоздание Криса, —
можно усмотреть символическое отражение тех трагических диссонансов в отношениях с матерью, которые стали причиной жизненной катастрофы Криса. Видимо, мать всегда хотела точности и определенности
в его жизни, а он не в состоянии был отвечать этому ее требованию.
Ну, и, конечно же, мотив опоздания в словах Криса имеет еще одно,
зловещее значение — это неотвязное напоминание о самом главном
опоздании в его жизни, когда он промедлил и не успел спасти Хари.
Прямо глядя на мать, Крис говорит: «Ты знаешь, мне очень неловко... я совсем не помню твое лицо». Это очень похоже на столь же странное суждение в «Зеркале», точно так же противоречащее происходящему на экране: герой-«автор» говорит о том, что в своих снах он не может
войти в дом своего детства, а в это время на экране мы видим как раз
изображение дома изнутри. В обоих случаях противоречие между изображением и словами героя доказывает, что в данном фрагменте нам
представлены не воспоминания и не реальные события «мира времени», а именно символическое выражение важнейших смыслов жизни
героя в «мире вечности». Констатация неспособности вспомнить лицо
матери, возможно, означает признание Крисом того факта, что он недостаточно любил мать и оказывал ей недостаточно внимания; это
еще один знак трагических диссонансов, разрушавших их отношения.
255
ГЛАВА IV
«Солярис»: в ожидании Мессии
Второй сюжет этого фрагмента может быть легко раскрыт в своем символическом значении, если его связать с сюжетом опоздания.
Мать замечает, что у Криса сильно испачкана рука, и она моет ее
в большом керамическом тазу, поливая водой из огромного кувшина.
Позже точно такая же сцена появится в «Жертвоприношении»: служанка Мария, используя точно такие же таз и кувшин, будет мыть
руки Александра, испачкавшегося при падении с велосипеда. В «Ностальгии» также есть намек на тот же самый мотив: в одном из снов
Андрея Горчакова на экране предстает упертая в кровать рука, очень
похожая на руку Криса в рассматриваемом эпизоде «Соляриса», правда, о том, что она испачкана, можно будет только догадываться.
Грязная, запачканная рука — это символ вины Криса. Поскольку
тема его неискупаемой вины проходит через весь фильм, не удивительно, что ее символический образ представлен и в «мире вечности».
Но в «мире вечности» эта вина уже не является неискупаемой; самое
близкое существо, которое определило и физическое и духовное бытие Криса, его мать, в «мире вечности» оказывается равной Богу, она
способна искупить, снять его вину, хотя он сам никогда не снимет ее
с себя — как об этом говорил Феофан Грек Андрею Рублеву: «Бог-то
простит, только ты себе не прощай. Так и живи между великим прощением и собственным терзанием».
В заключение мать гладит Криса как маленького мальчика, а он
начинает плакать и сдавленным голосом говорит «Мама». — Все-
таки, несмотря на все противоречия и разногласия, он никуда не может уйти от понимания того, что образ матери, воспоминания о ней
являются какой-то невидимой иррациональной основой его личности.
Именно это и составляет главный итог его самопознания, выраженный в символической форме в этом видении из «мира вечности». Как
и в «Зеркале», Тарковский придает всем образам, пришедшим из
«мира вечности» сюрреалистический оттенок, в данном фрагменте
«Соляриса» он достигается избыточным хаосом деталей, мешаниной
вещей, часть из которых мы видели в земном доме Криса, а часть —
в его космической каюте. Кроме того отдельные части комнаты покрыты целлофаном, словно экспонаты музея, не предназначенные
для взора посетителей, это в наибольшей степени придает обстановке
комнаты иррациональный характер.
В контексте всего сказанного финальные кадры фрагмента «видений», повтор пробуждения Криса, становятся достаточно понятными.
Это выражение свершившегося соединения «мира времени» и «мира
вечности», произошедшего в результате акта самопознания и обозначающего новый этап существования Криса, начало его новой жизни.
Можно сказать, что образ пробуждения в данном случае, как и в сцене пробуждения маленького Алексея в «Зеркале», означает акт рож¬
256
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
дения личности: там это был акт буквального начала существования
личности, здесь — радикальная трансформация, переход в новую
эпоху жизни. В этом смысле весь рассмотренный фрагмент можно
рассматривать в качестве лаконичного наброска, предвосхищающего
художественную и идейную структуру «Зеркала». В результате фантастического воскрешения его умершей жены Крис был вынужден
чянояо пепежить и пепеосммслить rсе сямме тпягичные события ппо-
шлой жизни; сводя воедино смыслы этих событий, он осуществляет
акт самопознания, результаты которого выражаются в символических образах «мира вечности». Подводя таким образом итог прожитой жизни, Крис переживает символическую смерть и воскресение
к новой жизни. В этой новой жизни он оказывается гораздо более
зрелым и мудрым человеком, способным выдержать величайшие испытания и совершить, наконец, прорыв в то Неведомое, к которому
он раньше стремился, не понимая насколько страшным испытанием
будет встреча с ним. В отличие от «Соляриса» в «Зеркале» эта идейная конструкция приобретет более ясный смысл, поскольку будет
относиться к обычной земной жизни человека, заканчивающейся реальной, а не символической смертью. В свою очередь «мир вечности»
в следующем фильме предстанет именно в своем мистическом,
сверхземном значении, что не так очевидно в «Солярисе».
«Исследование» Океаном личности Криса и «опознание» ее основ,
того, что составляет ядро его «я», — это только первый этап «контакта», возникшего между человеком и гигантским разумом планеты
Солярис. Сцена «исследования» души Криса заканчивается исчезновением всех «двойников» матери и Хари; даже «очеловечившаяся»
Хари добивается, наконец, с помощью Сарториуса победы над своим
бессмертием. Вставая на колени пред Хари в сцене в библиотеке,
Крис демонстрировал свою решимость пожертвовать собой ради нее;
в немалой степени благодаря его жертвенным усилиям Хари стала
человеком и обрела независимость от него. Но именно потому, что
она стала подлинным человеком, она в свою очередь приносит себя
в жертву Крису, пытаясь спасти его от неминуемого безумия и гибели
рядом с «новой» Хари.
Перед тем, как мы увидим финал фильма, Тарковский показывает ту металлическую коробку из под хирургических инструментов,
в которой Крис привез на станцию частицу Земли, за прошедшее время
в ней успело прорасти небольшое земное растение, совсем беспомощное, но тянущееся к свету неведомого для него светила. Это проросшее в космическом мире растение выступает символом и предвосхищением финального эпизода, развивающего и существенно дополняющего центральную идею фильма «Страсти по Андрею». Возникший
в просторах фантастического океана фрагмент Земли вместе с домом
257
ГЛАВА IV
«Солярис»: в ожидании Мессии
отца Криса — это «проросший» в иррациональном бытии элемент
земной гармонии, «зерном» для которого стала память Криса.
Кажется почти очевидным, что финальный фрагмент фильма нужно рассматривать как своего рода продолжение и развитие «видений»
Криса, которые мы видели ранее; по крайней мере такой точки зрения придерживается большинство интерпретаторов «Соляриса». На
самом ттеле смысл чтих гЬпягментои сонептттенно пяяличный. ппичем
выявление сути этого различия представляется чрезвычайно важным
для понимания замысла фильма и тех философских идей, которые пытался вложить в него Тарковский.
Обратим внимание на то, что финал на первый взгляд кажется
избыточным: по всей идейной и сюжетной логике фильма действие
должно было бы закончиться на разговоре Снаута и Криса в библиотеке станции, происходящем после того, как Крис пришел в себя
после своего странного забытья-видения и узнал об окончательном
исчезновении Хари. Снаут сообщает ему главную новость: после
того, как Океану с помощью рентгеновского излучения была послана
энцефалограмма дневного сознания Криса, «гости» перестали появляться, т. е. жизнь на станции вернулась в нормальное русло. После
этого кажется непонятным появление в Океане целого области земной реальности, повторяющей прошлое Криса. Ведь это означает, что
Океан продолжает свои «эксперименты» над людьми, и, значит, самопожертвование Криса не принесло результата.
Возникающее здесь противоречие можно разрешить, только если
признать, что явление прошлого Криса в финале фильма имеет совершенно иной смысл, чем то «видение», которое предстало перед
ним ранее. «Видение» было вызвано проникновением Океана в сознание Криса, это была его жертва ради спасения обитателей станции. В этом акте он отдал самое важное в себе, отдал всего себя иррациональному бытию, олицетворяемому Океаном, он соединился
с этим безбрежным бытием, и пережил нечто подобное смерти. Но его
жертвенная смерть оказалась шагом к высшему обретению себя, обретению окончательного смысла своего существования. Из своей действительности, из «мира времени» Крис прорвался в «мир вечности»,
который возвышается не только над его обыденной, человеческой
действительностью, но и над действительностью могущественного Океана. Черно-белый фрагмент «видений» Криса и выражает это
возвышение над всеми уровнями «посюстороннего» бытия, проникновение в «мир вечности», причем этот акт он совершает уже независимо от Океана, своими собственными силами, подобно тому как его
осуществляет с помощью своей художественной интуиции Алексей
из следующего фильма Тарковского. В этом фрагменте Крис выступает уже не качестве пассивного объекта воздействия Океана, а как
258
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
самостоятельная личность, обретающая окончательное постижение
своих высших бытийных истоков. Обратим внимание на характерное
различие: в цветной части фрагмента «видений» Крис неподвижно
лежит на кровати, с некоторым страхом наблюдая за происходящим,
а в черно-белой — встает и непринужденно разговаривает с матерью,
забыв о существовании Соляриса.
Возвращение Криса в действительный мир, в «мир времени» —
это его воскресение и преображение, воскресение к новой жизни,
в которой он обладает уже совсем другими свойствами и способностями, чем обычный человек. Вслушаемся в странный разговор, который
ведут Снаут и Крис.
«Ты давно оттуда?» — спрашивает Крис, и затем продолжает:
«Послушай, после того, как ты прожил здесь столько лет, ясно ли
ты ощущаешь свою связь с жизнью там». «А ты любитель крайних
вопросов. — с некоторой иронией отвечает Снаут. — Боюсь, что
скоро ты спросишь меня о смысле жизни. <...> Это банальный вопрос. Когда человек счастлив, смысл жизни и прочие вечные темы
его редко интересуют. Ими следует задаваться в конце жизни». —
«А когда наступит этот конец, мы же не знаем, вот и торопимся». —
«А ты не торопись, самые счастливые люди — это те, кто никогда не
интересовались этими проклятыми вопросами». «Вопрос это всегда
желание познать, — непонятно, возражает или соглашается Крис, —
а для сохранения простых человеческих истин нужны тайны — тайны
счастья, смерти, любви». «Может быть, ты и прав, — примирительно
говорит Снаут, — но попробуй не думай об этом обо всем». «А думать
об этом, — подводит итог Крис, — все равно, что знать день своей
смерти. Незнание этого дня практически делает нас бессмертными».
Смысл этого разговора угадывается с трудом7, но все-таки можно
обратить внимание на некоторые смысловые акценты, расставленные
в нем. Прежде всего нужно отметить, что Крис с явным ударением
спрашивает Снаута о том, ощущает ли он связь с жизнью там. Кажется, что речь идет о Земле, но Крис почему-то избегает прямо называть Землю. В связи с этим также нужно задуматься, почему такой
простой и естественный вопрос Снаут называет «крайним вопросом»
и приравнивает к вопросу о смысле жизни.
7 Можно предположить, что Тарковский был просто вынужден выражать
нужные ему мысли в такой «зашифрованной» форме, чтобы не вызывать раздражения у кинематографических начальников, ведь в советское время прямой разговор о проблеме воскресения и бессмертия в фильме, не связанном с историей,
был невозможен. Тем не менее даже в таком завуалированном виде его религиозные идеи легко прочитываются в фильме; недаром в числе замечаний, предъявленных Тарковскому при приемке фильма, были и такие: «Изъять концепцию
Бога. <...> Изъять концепцию Христианства» (Тарковский А. А. Мартиролог.
Дневники 1970-1986. [Флоренция], 2008. С. 67).
259
ГЛАВА IV
«Солярис»: в ожидании Мессии
Все это не случайно; Тарковский подводит нас к мысли, которую,
кажется, в этот момент уже ясно осознали герои его фильма: мир
планеты Солярис, в котором они очутились, — это иной мир по отношению к земному миру, возвышающийся над земным миром, это
мир «божественного» бытия, и его центром, т. е. Богом, является
разумный Океан Соляриса. Смысл разговора Криса и Снаута можно
тогда понять как сравнение бытия человека в двух мирах — в земном
мире и в «божественном» мире. В первом из них человек смертен, боится узнать день своей смерти и мучается вопросом о смысле жизни,
который неразрешим, как все рациональные вопросы, поставленные
нашим самоуверенным, но радикально ограниченным разумом. В «божественном» мире Соляриса Крис и Снаут окончательно осознали
(к этому же, видимо, в конце концов придет и Сарториус), что разум —
ограничен и бессилен по отношению к главным тайнам жизни, поэтому они отказываются задаваться этими вопросами. Но самое главное,
что в этом «божественном» бытии они уже не боятся смерти, не желают знать, когда она придет, и тем самым становятся бессмертными.
И это не просто субъективное убеждение; благодаря эксперименту
с энцефалограммой Океан по-настоящему «заметил» присутствие людей в своей сфере и установил с ними бытийную связь, а это и означает, что он придал им новые свойства — прежде всего бессмертие.
Вспомним, что в предыдущем фильме звучал известный фрагмент
из 1-го Послания к Коринфянам апостола Павла: «Теперь мы видим
как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». В этом
тексте сопоставляется истина, доступная людям в земном мире,
и Истина, которая станет открытой им в божественном бытии, причем
Тарковский уже в «Старстях по Андрею» характерным образом трансформировал этот отрывок, сглаживая абсолютное противопоставление «гадательного» земного знания и абсолютного божественного
познания. Нам кажется, что в разговоре Криса со Снаутом в финале
«Соляриса» имеется в виду тот же самый евангельский текст, но Тарковский идет еще дальше в переосмыслении традиционных христианских воззрений. Теперь «познание» он целиком связывает с земной
действительностью, а в «божественном» мире признает возможным
и должным только иррациональное принятие главных бытийных тайн:
счастья, смерти, любви.
Здесь уместно вспомнить еще одно высказывание из предыдущего
фильма Тарковского, а именно слова, которые произносит «призрак»
Феофана Грека, явившегося Андрею Рублеву в разрушенном соборе:
«...там совсем не так, как вы все тут думаете». Как там обстоят дела
Тарковский и показывает в «Солярисе». И оказывается, что обретаемое в «божественном» мире (в «раю») бессмертие вовсе не является
260
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
таким уж благодатным, как доказывает своей трагической судьбой
Хари; подобно тому как в земном мире человек страшится своей смертности и надеется преодолеть ее, в «божественном» мире он вполне может ужасаться своего бессмертия и пытаться преодолеть его. Именно
поэтому Крис абсолютно нейтральным тоном говорит о том, что обрел
бессмертие; он еще не знает — хорошо это или плохо. Бессмертие,
up гвачаиилр г* г'лвАПШРиг'тцлм nnrrwun up отплел пэттгтэ'ги ирттар-
ка, сколько вызывать чувства заботы и страха. Здесь вновь очень ясно
звучит тема, заданная Достоевского в его концепции бессмертия —
в свидригайловском образе «вечности» как «бани с пауками».
Тарковский вслед за Достоевским (и вслед за многими великими мыслителями и художниками европейской истории) отвергает
наивное, «черно-белое» представление догматического, церковного
христианства о дихотомическом устройстве реальности — представление об абсолютном противостоянии радикально несовершенного
земного мира и абсолютно совершенного божественного. В такой
модели реальности человек оказывается «тварным ничтожеством»
перед абсолютным и всемогущим Богом, а такие понятия как свобода,
творчество, ответственность теряют свой глубокий смысл и, по сути,
не могут быть применимы к человеку. В том мировоззрении, которое
объединяет Тарковского с Достоевским, реальность состоит из множества очень разных миров, равно причастных времени и по-своему
стремящихся к совершенству (сейчас мы говорим только о структуре
«мира времени», если использовать терминологию предыдущей главы, оставляя пока «мир вечности» за пределами рассмотрения). Все
эти миры составляют иерархию, на вершине которой находится «божественный» мир, в котором наиболее открыто проявляют себя все
силы, действующие в бытии, пронизывающие все миры и по-разному
преломляющиеся в них. Фантастическая ситуация фильма «Солярис»
позволяет Тарковскому изобразить бытие людей в этом «божественном» мире; в этом смысле Океан планеты Солярис, действительно,
оказывается образом Бога в мировоззрении Тарковского. В отличие
от традиционного христианства, «божественное» бытие здесь оказывается не противопоставленным всему остальному бытию, а едино
с ним; но самое главное, что здесь с предельной ясностью выявляется
связь человека с бытием, т.е. с Богом, понятым как квинтэссенция
творящих сил бытия. Такой Бог, являясь центром бытия, возможно,
являясь его Творцом, или, лучше сказать, Демиургом, тем не менее
не есть всемогущее, абсолютное и совершенное существо. В нем
самом содержится какая-то иррациональная «ущербность», какое-то
радикальное несовершенство. По сути, он является Богом-безумцем
или Богом-ребенком, не способным правильно управлять заложенными в нем самом могущественными силами. Понимание Океана как Бо¬
261
ГЛАВА IV
«Солярис»: в ожидании Мессии
га-ребенка содержится уже в литературной основе фильма, в романе
С. Лема. Однако Тарковский придает ей гораздо более глубокое философское содержание, связывая ее с проблемой человека: именно человек, согласно Тарковскому, является подлинным центром мирового
бытия и именно действия человека определяют судьбу мира, точно
так же как и судьбу его странного Бога.
5. Новое религиозное учение
Для того, чтобы еще дальше продвинуться в понимании философии «Соляриса», вспомним те философские концепции, которые мы
ранее использовали для интерпретации образа Хари.
Человек является «самооткровением» бытия, это означает, что он
находится в единстве с ним и в определенном смысле подчинен ему.
Но это только одна сторона взаимоотношений человека с реальностью,
другая состоит в том, что он способен преобразить бытие, сделать его
более совершенным и гармоничным. Чтобы уточнить смысл этой возможности и ее результатов, необходимо ответить на один принципиальный вопрос. Он касается характера того бытия, которое открывается в человеке: является ли оно само по себе абсолютным или нет,
и если нет (что кажется более естественным), почему в нем содержатся возможности к преображению в абсолютное и совершенное?
Эта проблема не раз ставилась в философии, достаточно важное
место она занимает и в размышлениях тех мыслителей, которые мы
упомянули выше. С. Франк в своих сочинениях отвечал на поставленный вопрос положительно; для него бытие само по себе уже абсолютно, т. е. является божественным бытием, Богом (в традиционном
смысле), в результате человек оказывается в философии Франка своего рода «ипостасью», «явлением» Бога в мире. Это определяет предельно оптимистическое представление о человеческой жизни и ее
смыслах, подразумевает, что человек способен достичь совершенства
и бессмертия (по сути, он уже имеет их, только не знает об этом). Однако в концепции Франка очень трудно объяснить «темные» стороны
нашего бытия — страдание, зло, смерть8.
В концепции Хайдеггера, наоборот, акцент ставится на конечности человеческого бытия, смерть человека оказывается единственным «абсолютом», что неизбежно связано с отрицанием абсолютности бытия как такового. «Бытие-к-смерти» Хайдеггер признает главным модусом человеческого существования, а все цели человеческой
деятельности и человеческая жизнь в целом становятся относительными, не имеющими окончательного, радикального значения для бы¬
8 Подробнее см. в книге: Евлампиев И. И. История русской метафизики
в XIX-XX веках. Русская философия в поисках Абсолюта. Т. 2. С. 106-123.
262
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
тия. Помимо всего прочего это означает, что все наши представления
и идеалы о совершенном, абсолютном состоянии мира и человека не
имеют под собой никакого реального основания, являются фикциями,
только заслоняют от человека трагическую сущность его жизни, неразрывно связанную со временем и безвозвратно исчезающую в нем.
Как уже было сказано, представление о человеке, выраженное
в «Солярисе», безусловно, гораздо ближе к трагическому мировоззрению Хайдеггера, чем к малооправданному оптимизму Франка
(в то время как в «Страстях по Андрею» и в «Зеркале» этот оптимизм
частично присутствует). Бытие, которое являет себя в Хари, никак
невозможно назвать абсолютным, поскольку абсолютное бытие, было
бы гармоничным и цельным; несмотря на неполноту, ограниченность
своего «самооткровения» в человеке оно не могло бы представать
столь абсурдным, не могло бы приносить человеку столько страданий, ставить его на грань безумия и смерти (как это происходит
в истории Хари и Криса). Символом всего мирового бытия, его главных сил, в фильме выступает Солярис, и очень характерно, что в его
изображении Тарковский в наибольшей степени стремится к «фантастическому» впечатлению; перед нами предстает какое-то невероятное зрелище, поражающее своей полной иррациональностью. При
этом еще раз обратим внимание на то, что многочисленные изображения Океана визуально даны в том же ракурсе, что и образы идеальной гармонии мира в фильме «Страсти по Андрею», Океан предстает
с большой высоты — с борта космической станции. Совпадение «углов
зрения» в этих образах мирового бытия из двух фильмов подчеркивает их смысловую близость (интересно также, что в обоих фильмах они
слабо мотивированы сюжетно и вступают в определенный контраст
с окружающим изобразительным материалом), в обоих случаях здесь
задается определенное понимание бытия как такового, по отношению
к которому человек должен самостоятельно выбирать свою позицию.
Но в «Страстях по Андрею» бытие оказывается близким к абсолютному: целостным и всеединым, обладающим идеальной, сверхземной
гармонией, понятной для человека, поскольку она отражается в несовершенном виде и в нашем земном мире, а в «Солярисе», наоборот, —
загадочным, иррациональным, совершенно непонятным человеку.
Тем не менее мировоззрение Тарковского нельзя полностью отождествить с философским мировоззрением Хайдеггера. Несмотря на
то, что в «Солярисе» и в последующих фильмах (кроме «Зеркала»)
Тарковский отказывается от представления о близости бытия, мира
в целом, к идеальному, абсолютному состоянию, он все-таки не может
признать живущее в человеке стремление к идеалу, к преображению
себя и всего мира, всего лишь ложной иллюзией, играющей исключительно негативную роль в жизни человека, мешающей ему правильно
263
ГЛАВА IV
«Солярис»: в ожидании Мессии
понять свое место в мире. Неискоренимость веры людей в воскресение и преображение — лучшее свидетельство ее обоснованности,
содержательности. И даже тот факт, что в самом бытии мы не находим, на первый взгляд, оснований для реализации наших чаяний, не
опровергает этой веры, не позволяет счесть ее иллюзорной и ложной.
Отметим, что Хайдеггер, который в главных своих работах (в первую очередь, в книге «Бытие и время») решительно отверг идею Абсолюта и связанную с ней веру человека в возможность радикального преображения мира, преодолевающего смерть и несовершенство,
в поздние годы, видимо, осознал, что такая позиция в исторической
перспективе ведет человечество в тупик, поскольку лишает каких-
либо ясных целей и ясного будущего (альтернативой чему является
только полная и окончательная гибель всего и всех). Именно поэтому
в своих поздних трудах он уже говорит об «измерении Священного»
в бытии9, наличие которого оправдывает веру в основательность человека и его дел в мире.
Тарковский в этом вопросе вновь следует за Достоевским, занимая позицию, промежуточную между полярными позициями Франка
и Хайдеггера. Хотя бытие не является абсолютным, оно содержит в себе
потенцию совершенства, тенденцию к становлению абсолютным и гармоничным. В «Страстях по Андрею» это движение к совершенству было
представлено особенно наглядно, его можно выразить метафорой «становления» Бога в мире — Бог «возникает» в мире благодаря совместным жертвенным усилиям людей. В этом случае Бога нужно мыслить не
в духе догматических христианских представлений — противопоставленным земному миру, а скорее в духе еретических концепций мистического пантеизма, т. е. в нерасторжимом единстве с миром и человеком.
В «Солярисе» представления Тарковского о реальности усложняются, соответственно изменяется и образно-метафорический ряд для
их выражения. Теперь он мыслит реальность («мир времени») состоящим из иерархии миров, на вершине которой находится «божественный» мир, или собственно Бог. Но этот Бог понимается в еще более разительном отличии от того, что принято в догматической традиции, —
как могущественное, но несовершенное и неабсолютное начало, просто как концентрированное выражение творящих сил бытия, иррациональных по своей сути. Главная мысль Тарковского заключается
в том, что только человек, осознав себя творением указанных сил, порождением этого странного Бога, слившись с ними, отдав себя творящим силам, может «просветлить» эти иррациональные силы, направить творящую мощь Бога на позитивную цель, на хотя бы частичную
реализацию идеала гармонии и совершенства.
9 См.: Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Хайдеггер М. Время и бытие.
С. 213.
264
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
Восприняв тот «зародыш» гармонии и целостности, который содержался в памяти Криса Кельвина, в глубинах его личности, абсурдное могущество Океана приобрело органичную форму, стало
«материей», «почвой», необходимой для «прорастания» этого «зародыша» — в космической бездне родился отраженный образ земной
гармонии. Поскольку бытие, создавшее этот отраженный образ, по
своей сути нерационально, загадочно, то и возникающая здесь гармония оказывается искаженной, несущей на себе явные элементы
того абсурда, в котором и силами которого он был порожден. В финале фильма на экране предстает та же самая земная природа, что
и в начале (в прологе), однако словно бы покрывшаяся тонким слоем
льда, «застывшая», утратившая существенную часть своей внутренней
жизненной энергии. Самым выразительным знаком абсурда в этом образе выступает текущая с потолка в доме отца Криса вода. Мы уже говорили о том, что в фильмах Тарковского образу проливного дождя как
символа связности и цельности мира, символа гармонии, противостоит
изображение воды, текущей внутри человеческого жилища, выступающее символом иррациональности бытия, нарушения его естественных
законов. Тарковский подчеркивает сходство-противоположность образов родного дома в земном прологе и в финале с помощью музыкального
сопровождения. В прологе мы слышим прекрасную и загадочную фа-
минорную прелюдию Баха, в которой выражены и высшее совершенство всего земного и его бесконечная, неисчерпаемая глубина. В финале, когда Крис проходит по тем же дорожкам, проложенным в лесу вокруг дома его отца, рядом с тем же озером, что и в прологе, мы слышим
ту же музыку Баха, но уже несколько искаженную, или, может быть,
«преображенную»: в нее незаметно и вполне органично вплетены более
современные ритмы, и она воспринимается как «вечная» земная гармония, направленная теперь на «укрощение» космических диссонансов.
И тем не менее, несмотря на все недостатки гармонии, «проросшей» в абсурде, она обладает одним решающим преимуществом перед своим «прообразом», перед неабсолютной и неполной (но гораздо
более органичной) земной гармонией. Это воплощение, этот «дубликат» Земли обретает бессмертие в новом мире, и само его существование, пусть даже внутри абсурда и иррациональности, гарантирует
неискоренимость, основательность тех целей, к которым устремлен
человек, ради которых он жертвует собой, страдает и идет на смерть.
Когда его отец выходит из дверей дома, Крис встает перед ним на
колени, прильнув к нему. В очередной раз перед нами предстает образ, перекликающийся с живописными полотнами старых мастеров,
в данном случае это мотив возвращения блудного сына (особенно
наглядно сходство с известным полотном Рембрандта). Повторяя
жест, с помощью которого он демонстрировал Хари свою решимость
265
ГЛАВА IV
«Солярис»: в ожидании Мессии
пожертвовать собой ради ее будущего, Крис подтверждает, что эта
решимость не была мгновенным порывом, а отвечает самым глубоким
желаниям и идеалам его души, которые теперь стали подлинной основой его личности, подчинили себе все в его внутреннем мире.
В «Солярисе» Тарковский продолжает развивать и обогащать свою
философскую концепцию, которая кроме того получает еще более ясное религиозное измерение, поскольку вся изобразительная и идейная
логика фильма подталкивает в выводу, что Океан — это некий ирра-
ционально-несовершенный Бог, а пережитый Крисом в результате воздействия на него Океана кризис — это нечто подобное воскресению
и преображению. Нужно особенно подчеркнуть этот парадокс: в на-
учно-фантастическом фильме, посвященном будущему человечества,
Тарковский гораздо более ясно и глубоко, чем в предыдущем фильме,
выражает именно религиозные аспекты своего мировоззрения.
На первый взгляд кажется, что религиозная идей фильма весьма необычна, однако можно без труда указать на весьма популярное
в истории религиозно-философское учение, соответствующее представлениям Тарковского, — это гностицизм, который в церковной
интерпретации рассматривался как христианская ересь, но, по сути,
является гораздо более фундаментальным и важным религиозным
движением — является альтернативной версией христианства.
Хотя многие исторические стереотипы, связанные с безраздельным господством церковной идеологии, все еще сильны и сегодня,
история раннего христианства постепенно освобождается от многовековых наслоений лжи и предстает в своем подлинном, поистине
трагическом виде. Ведь эта история является историей подмены возвышенного учения Иисуса Христа его искусной подделкой, которую
мы и знаем под именем «христианства» и «христианской церкви».
Факт этой подмены надежно зафиксирован в истории: около 144 г.
в Риме Маркион, известный и влиятельный член христианской общины, выступил против руководителей тогдашней римской церкви, обвиняя их в сознательном искажении основ христианского учения, изложенных в самых важных для той эпохи христианских писаниях, —
в Евангелии Господне, в котором были изложены деяния и речения
Иисуса Христа, а также в Посланиях апостола Павла, самого верного последователя Иисуса и главного идеолога раннего христианства.
В доказательство своих обвинений Маркион предъявил подлинные,
еще неискаженные версии этих священных текстов, которые отличались от их версий, имевших хождение в Риме.
Римские иерархи ответили решительно, дав пример идеологической
«чистки», ставшей образцом для всех последующих акций такого рода:
Маркион был объявлен злостным еретиком, а предъявленные им подлинные тексты — подделкой, которую якобы он и совершил. Для ней¬
266
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
трализации выступления Маркиона вскоре были «обретены» (на самом
деле, видимо, написаны в «нужном» духе на основе того Евангелия Господня, которое предъявил Маркион), три синоптических Евангелия (от
Луки, Марка и Матфея), которые и легли в основу церковного учения10.
Описанная история и стала точкой отсчета для противостояния
двух версий христианства: церковного (догматического) и гностического, причем исходное учение Иисуса Христа жило именно в гностическом христианстве; его единственным древнейшим памятником,
сохранившимся в истории, т. е. единственным подлинно христианским памятником, является Евангелие от Иоанна (за вычетом существенной правки, сделанной в этом Евангелии ревнителями церкви
в том же II в.). Только в XX в. был найден еще один и, видимо, самый
древний текст, сохранивший подлинные слова Иисуса Христа, —
Евангелие от Фомы. И совершенно не случайно, что он совершено
естественно вписывается в гностическую традицию и совершенно не
согласуется с церковным христианством.
Гностическая версия христианства, сохранившая в себе главные черты учения Иисуса Христа, была направлена против иудаизма, отвергая его как религию закона, лишавшую человека свободы
и мистической связи с Богом. В противоположность иудаизму здесь
утверждалось, что человек является потенциально божественным,
совершенным существом, задача которого — раскрыть свою божественную сущность, достичь божественного совершенства в земном
мире и мистически соединиться с Богом.
Именно в этом главном принципе церковное христианство произвело «исправление» учения Иисуса Христа. Это учение было искусственно соединено в Ветхим Заветом, против которого оно и было
направлено. Из Ветхого Завета в первую очередь была взята идея грехопадения и неискоренимой греховности, лежащей на человеческом
роде, с помощью которой была «нейтрализована» идея божественной
природы человека. В церковном христианстве человек оказывается
немощным и бессильным, спасаемым только внешней божественной
силой. Соответственно и главным достоинством человека оказывается не духовное совершенствование, не имеющее предела и ведущее
к сущностному единению личности с Богом, а послушание закону
и «власти» — церковной и политической.
Несмотря на беспощадную борьбу церкви с гностицизмом, он не
только продолжал жить в европейской культуре, но и обусловил ее
самые значимые достижения. Например, феномен Возрождения ста¬
10 Подробнее о выступлении Маркиона и о современном состоянии исследований по истории раннего христианства см. в работе: Алексеев Д. Античное
христианство и гностицизм // Евангелие истины: двенадцать переводов христианских гностических писаний. Ростов н/Д, 2008. С. 15-91.
267
ГЛАВА IV
«Солярис»: в ожидании Мессии
новится понятным, только если мы увидим в его основе стремление
восстановить подлинный смысл христианства как учения о божественном совершенстве человека. Наиболее значимые успехи гностическое христианство сделало в европейской философии. В Средние
века и в эпоху Возрождения оно получило наиболее адекватное и талантливое выражение в традиции мистического пантеизма (Мейстер
Экхарт, Николай Кузанский), в Новое время отразилось в гениальных
системах Лейбница, Фихте, Шеллинга и Гегеля. Но наиболее ясно
и осмысленно — именно в прямом противостоянии церковному христианству — эта религиозная традиция воплотилась в неклассической философии второй половины XIX — начала XX в.: в системах
А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, в экзистенциализме11.
В связи с оценкой взглядов Тарковского важно подчеркнуть, что
развитие оригинальной русской философии в XIX и начале XX в. было
связано именно с разработкой гностической версии христианства. Самой яркой чертой русской религиозной философии было критическое
отношение к историческому христианству и исторической церкви,
в которых русские философы видели слишком слабое и слишком искаженное отражение возвышенного духовного учения Иисуса Христа.
Поэтому они постоянно искали подлинного смысла христианства
и искали его вне догматики и церкви — в гностической традиции.
Высшей точкой этих поисков стало творчество Ф. Достоевского и
Вл. Соловьева. Достоевский вообще может быть назван величайшим
гностическим мыслителем новейшей истории12. Вл. Соловьев больше известен радикальной критикой церковной традиции, особенно
важны для понимания этой критики его работы «Об упадке средневекового миросозерцания» (1891) и «Три речи в память Достоевского»
(1884). Нужно подчеркнуть, что свою критику исторического христианства Соловьев обосновывал с помощью идей Достоевского.
Если в XIX в. прямо высказывать свою приверженность гностическим взглядам было опасно по цензурным соображениям, то философы начала XX в. уже не боялись причислять себя к этой традиции. Например, Н. Бердяев прямо называл свою философию «христианским
гнозисом»; был близок к этой традиции Л. Карсавин. Василий Розанов
очень выразительно противопоставлял «светлое» и «темное» христианство, сетуя, что в истории победило именно «темное», «придавившее» человека идеей греха, а не «светлое», которое учило о совершенстве земного мира и земного человека13. При этом Розанов также воз¬
11 Подробнее об этом см. в книге: Евлампиев И. И. Становление европейской
неклассической философии во второй половине XIX — начале XX века. СПб., 2008.
12 См.: Евлампиев И. И. Миф о человеке в романе Ф. Достоевского «Братья
Карамазовы» // Вопросы философии. 2008. № 11. С. 70-83.
13 Розанов В. В. Около церковных стен. М., 1995. С. 18-19.
268
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
водил свою критику церковного христианства к идеям Достоевского.
Вряд ли Тарковский знал изложенные выше перипетии ранней
истории христианства, однако он безусловно понимал ложность того
религиозного учения, носительницей которого была христианская
церковь. В своем творчестве он вслед за упомянутыми русскими мыслителями пытался возродить дух подлинного учения Иисуса Христа,
сохраненный в гностической традиции, и показать его актуальность
для человека XX в. Нетрудно подтвердить это словами самого Тарковского. Например, вот как он писал о церкви: «...человек всегда
неудовлетворен, устремленный не к каким-то конкретным конечным
задачам, а к самой бесконечности... Даже церковь неспособна утолить эту жажду человеком Абсолюта, существуя, увы, как придаток,
слепок, как карикатура на общественные институты, организующие
практическую жизнь. Во всяком случае, сегодня церковь оказалась
неспособной сбалансировать крен в материально-техническую сторону призывом к духовному пробуждению»14.
Особенно важное значение для понимания религиозных представлений Тарковского имеет один из фрагментов, записанных им
в 1970 г., как раз в период активной работы над «Солярисом»: «Несмотря на то, что в душе каждого живет Бог, способность аккумулировать вечное и доброе, в совокупности своей человеки могут только
разрушать. Ибо объединились они не вокруг идеала, а во имя материальной идеи. Человечество поспешило защитить свое тело. <...>
И не подумало о том, как защитить душу. Церковь (не религия) сделать этого не смогла. <...> Дух и плоть, чувство и разум никогда уже
не смогут соединиться вновь. Слишком поздно. Пока еще мы калеки
в результате страшной болезни, имя которой бездуховность, но болезнь эта смертельна. Человечество сделало все, чтобы себя уничтожить. Сначала нравственно, и физическая смерть — лишь результат
этого. <...> Спастись всем можно, только спасаясь в одиночку. Настало время личной доблести. Пир во время чумы. Спасти всех можно,
спасая себя. В духовном смысле, конечно. Общие усилия бесплодны.
Мы люди, и лишены инстинкта сохранения рода, как муравьи и пчелы. Но зато нам дана бессмертная душа, в которую человечество плюнуло со злобной радостью. Инстинкт нас не спасет. Его отсутствие
нас губит. А на духовные, нравственные устои мы плюнули. Что же
во спасение? Не в вождей же верить, на самом деле! Сейчас человечество может спасти только гений — не пророк, нет! — а гений,
который сформулирует новый нравственный идеал. Но где он, этот
Мессия? <...> История человечества слишком уж похожа на какой-то
чудовищный эксперимент над людьми, поставленный жестоким и не
14 Тарковский А. А. Запечатленное время // Андрей Тарковский. Архивы.
Документы. Воспоминания. М, 2002. С. 344.
269
ГЛАВА IV
«Солярис»: в ожидании Мессии
способным к жалости существом. Что-то вроде вивисекции. И объясниться ли это когда-нибудь? Неужели судьба людей — лишь цикл бесконечного процесса, смысл которого они не в силах понять? Страшно подумать. Ведь человек, несмотря ни на что, ни на цинизм, ни на
материализм, — верит в Бесконечное, в Бессмертие. <...> Человека
просто растлили. Вернее, постепенно все друг друга растлили. А тех,
кто думал о душе — на протяжении многих веков, вплоть до сегодняшнего дня, — физически уничтожали и продолжают уничтожать.
Единственное, что может спасти нас, — это новая ересь, которая сможет опрокинуть все идеологические институты нашего несчастного,
варварского мира»15.
Различая церковь и религию, Тарковский мечтает о возрождении
религиозного чувства в человечестве и о создании совершенно нового
религиозного учения, «новой ереси». В «Солярисе» он в определенном смысле реализует эту цель (в связи с этим можно предположить,
что процитированный отрывок имеет прямое отношение к замыслу
фильма), причем возникающее здесь религиозное мировоззрение не
является абсолютно новым, оно представляет оригинальную версию
гностического мировоззрения.
Некоторые черты этого мировоззрения можно было угадать
и в предшествующем фильме. Прежде всего это касается совершенно неортодоксальной трактовки образа Иисуса Христа и смысла Голгофы. В споре Феофана Грека и Андрея Рублева о смысле Голгофы
Феофан выражает точку зрения, близкую к церковной традиции,
согласно которой жертва Христа только «принципиально» искупила
грехи человечества, но никак не повлияла на его состояние в земном
мире — оно было греховным и радикально несовершенным и осталось
таковым. В этой традиции Христос, при все подчеркиваемом в христо-
логическом догмате единстве божественной и человеческой природ,
все-таки в большей степени воспринимается как Бог, а не как человек. В противоположность этому Андрей Рублев понимает Христа исключительно как человека, а значение Голгофы видит в том, что она
дала пример пути к совершенству и бессмертию для всех людей. Это
очень близко к гностическому пониманию образа Христа, который
рассматривается не как искупитель грехов, — их не нужно искупать,
поскольку в человеке нет никакой непреодолимой его собственными
силами греховности — а как великий Учитель, несущий нам истину
о нашем божественном совершенстве.
В контексте гностического христианства становится вполне понятным и необычный «религиозный индивидуализм» Тарковского,
ясно выраженный не только в процитированном отрывке, но и во многих других фрагментах его дневников. Он абсолютно несовместим
15 Тарковский А. А. Мартиролог. Дневники 1970-1986. С. 32-33.
270
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
с церковным христианством, для которого все люди равны в своей греховности и неспособности спасти своими силами даже себя самих, не
говоря уже обо всех. Тарковский же, как и гностики, думает совсем
по-другому: большая часть людей полностью погрязла в материальном, лишена духовных сил, необходимых для спасения; поэтому вся
надежда — на тех избранных, которые еще способны на духовное,
мистическое деяние, спасающее прежде всего их самих, и только как
следствие — всех.
Наиболее явно стремление Тарковского к выработке определенного религиозного мировоззрения выступает в «Солярисе», а затем
и в «Сталкере». В обоих фильмах режиссер изображает некий аналог Голгофы; в «Солярисе» — это самопожертвование Криса, которое призвано принести спасение обитателям космической станции,
а в более широком смысле, как мы понимаем в финале фильма — всему человечеству. В данном случае еще более очевидно, в сравнении
с Голгофой «Страстей по Андрею», что жертву приносит именно человек, а не Бог, в итоге своей жертвы он переживает преображение
своего существа к состоянию, близком к божественному и совершенному, хотя не достигает и не может достичь абсолютно совершенного
состояния (иначе он перестал бы быть человеком). В результате, он
и становится тем самым Мессией, о котором Тарковский пишет в приведенной выше дневниковой записи.
К этой самой важной теме финала фильма мы вернемся чуть позже,
а пока обратим внимание на самый яркий мотив «Соляриса», который
делает выраженную в нем религиозную концепцию очень похожей на
учение гностического христианства. В последнем очень важное место
занимает представление о двух Богах. Высший, подлинный Бог предстает здесь как непостижимый и невыразимый в своих качествах, как
абсолютно трансцендентный нашему миру; наиболее глубокую разработку этой идеи дали средневековые философы-мистики, самым
ярким примером здесь является учение Мейстра Экхарта, который
называл высшего Бога Божеством и Божественным Ничто. Второй
Бог, или Демиург — это творец нашего мира, который сам был сотворен высшим Богом, но оказался несовершенным, ущербным Богом, он
забыл свое происхождение от высшего Бога и полагает себя центром
и творцом бытия, хотя имеет творящую силу только от высшего Бога.
Несовершенство Бога-Демиурга приводит к тому, что сотворенный им
мир является несовершенным, наполненным злом, причем все существа мира, как и Демиург, не знают своего подлинного высшего Творца
и не стремятся к нему, считая Демиурга своим истинным Богом.
В контексте этой идеи особенно ясно выступает превосходство
человека: в отличие от всего, что существут в нашем мире, он был создан не только Демиургом, но и высшим Богом — последний вложил
271
ГЛАВА IV
«Солярис»: в ожидании Мессии
в человека частицу своей собственной сущности, именно поэтому человек — единственный, кто знает о высшем Боге, т. е. ему единственному открыта вся полнота Истины. И если человек окажется способен раскрыть в себе «божественную искру», он станет существом,
более возвышенным и совершенным, чем сам Демиург.
В исходной, древней версии гностического христианства человек,
раскрыв в себе «божественную искру» должен был бежать из мира,
созданного Демиургом, к высшему Богу. Однако в более поздних
философских разработках этого учения как раз в этом пункте произошли наиболее заметные изменения: человек призван не бежать
из мира, а духовно преобразить мир, обретя высшие, божественные
силы для этого. Именно так цели человека стали пониматься в русской философии, прежде всего двумя наиболее известными ее мыслителями — Достоевским и Соловьевым; соответствующие представления мы подробно описывали во введении.
Изложенная религиозная концепция без труда угадывается
в фильме Тарковского. В фильме достаточно ясно выражена мысль,
что Солярис — это не просто один из уголков нашего бесконечного
земного мира, а иной мир (хотя и взаимосвязанный с земной действительностью); будучи одним из множества миров, слагающих
реальность, существующую во времени, этот мир является высшим,
«божественным» во всей иерархии миров. Именно в нем находится
творец всей этой реальности — Океан, который полностью подобен
гностическому Демиургу: он иррационален, неразумен, а потому
и сотворенный им мир оказывается наполненным абсурдом, иррациональностью и злом. Но все-таки реальность может быть спасена от абсурда и зла, и эту возможность несет человек, который хотя и подчинен Океану-Демиургу, но связан с трансцендентным миром, миром
подлинного, высшего Бога. Раскрывая в себе эту связь, мистическую
связь с запредельным, человек обретает независимость от Демиурга
и получает возможность направлять его действия, сделать их более
разумными и гармоничными.
Теперь становится ясным, какую роль в идейной структуре «Соляриса» играет «мир вечности», занимающий существенное место
в «Зеркале», следующем фильме Тарковского. Мы уже говорили, что
в «Солярисе» «мир вечности» появляется только в одном эпизоде —
в черно-белой части «видений» Криса. Но теперь можно понять, насколько важным является этот элемент16. «Мир вечности» — это выс¬
16 Выразительным свидетельством того, что этот маленький фрагмент составляет идейный центр фильма, является запись в дневнике, которую Тарковский сделал в день сдачи фильма: признаваясь, что у него еще нет ясного впечатления о том, получился ли фильм, он называет этот фрагмент самым удавшимся
в нем (Тарковский А. А. Мартиролог. Дневники 1970-1986. С. 66).
272
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
ший Бог, или, лучше сказать, Божество, Абсолют художественного
мира Тарковского. Будучи невыразимым этот Бог не имеет формы
личности, скорее это есть некая трансцендентная сфера, в которой
до конца раскрывается сущность человека (тоже трансцендентная,
не выразимая в нашем мире). Человек, который сумел проникнуть
в эту сферу, сумел постичь свою сущность, переживает подлинное
преображение, воскресение к совершенно новой жизни, и в этой новой жизни он становится пророком, несущим людям свет той истины,
которую он обрел в «мире вечности». В таком качестве Крис Кельвин
и предстает перед нами в финальных сценах фильма. Вступив в нерасторжимую бытийную связь с Океаном, теперь именно он определяет
направление творящего действия этого Бога-Демиурга, он становится
Мессией, способным изменить тот мир, в котором существуют люди.
6. Вечное возвращение
Если в «Солярисе» мы можем обнаружить сходство с религиозным
учением гностического христианства, то это происходит, вероятно, не
потому, что Тарковский хорошо знал собственно древний гностицизм;
скорее всего это учение он воспринял от великих мыслителей XIX-
XX вв., которые оригинально развивали принципы этого учения —
в первую очередь представление о божественной, абсолютной сущности человека. Наиболее очевидно и в данном случае влияние религиозных взглядов Достоевского; при этом особенно наглядным является
соотнесение «Соляриса» с фантастическим рассказом «Сон смешного человека», опубликованном в «Дневнике писателя» за 1877 г.
В этом рассказе герой, разочаровавшийся в жизни и в себе самом,
кончает жизнь самоубийством, надеясь «убежать» в ничто, в небытие
от невыносимых тягот жизни. Но он с удивлением обнаруживает, что
никакого небытия нет, и после смерти его ждет продолжение существования в ином мире, который очень похож на наш земной мир, но
является более совершенным миром. Интересно, что герой попадает
в совершенный мир в результате «космического путешествия», подобного тому, который совершает Крис Кельвин, отличие только
в том, что героя рассказа несет через «темные и неведомые пространства» не космический корабль, а непонятное мистическое существо.
«Это была земля, не оскверненная грехопадением, на ней жили
люди не согрешившие, жили в таком же раю, в каком жили, по преданиям всего человечества, и наши согрешившие прародители, с тою
только разницею, что вся земля здесь была повсюду одним и тем же
раем»17. — так описывает Достоевский мир, в который попал его ге-
17 Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1877 г. // Достоевский Ф. М.
Собр. соч. в 15 т. Т. 14. С. 130.
273
ГЛАВА IV
«Солярис»: в ожидании Мессии
рой. Однако этот мир имеет мало общего с раем в традиционном христианском смысле. Ведь рай — это бытие вне времени, в вечности,
причем бытие в единстве с Богом и в абсолютном совершенстве,
главным признаком которого является отсутствие смерти. Но люди
совершенного общества в рассказе Достоевского смертны, хотя эта
смертность является относительной: после смерти их ждет иное бытие в ином мире, еще более совершенном. «У них почти совсем не
было болезней, хотя и была смерть; но старики их умирали тихо, как
бы засыпая, окруженные прощавшимися с ними людьми, благословляя их, улыбаясь им и сами напутствуемые их светлыми улыбками.
<...> Подумать можно было, что они соприкасались еще с умершими
своими даже и после их смерти и что земное единение между ними не
прерывалось смертию. Они почти не понимали меня, когда я спрашивал их про вечную жизнь, но, видимо, были в ней до того убеждены
безотчетно, что это не составляло для них вопроса. У них не было
храмов, но у них было какое-то насущное, живое и беспрерывное единение с Целым вселенной; у них не было веры, зато было твердое знание, что когда восполнится их земная радость до пределов природы
земной, тогда наступит для них, и для живущих и для умерших, еще
большее расширение соприкосновения с Целым вселенной. Они ждали этого мгновения с радостию, но не торопясь, не страдая по нем,
а как бы уже имея его в предчувствиях сердца своего, о которых они
сообщали друг другу»18.
Как видно, совершенство этого мира и людей в нем не было абсолютным, поскольку они ожидали «еще большего расширения соприкосновения с Целым вселенной»; но самое главное, что совершенство их бытия было обусловлено вовсе не Богом — о нем вообще нет
речи в рассказе. Упоминаемое здесь Целое вселенной можно понять
как некий Абсолют, некий идеальный предел совершенства, только
предвосхищаемый людьми, но, возможно, даже не существующий реально; конечно же, его никаким образом невозможно отождествить
с христианским Богом-творцом. Недаром здесь же сказано, что в этом
совершенном обществе нет храмов и нет веры в нашем понимании.
Описание Достоевским парадоксального единства смертности
и бессмертия людей совершенного общества позволяет понять и то
бессмертие, о котором говорит Крис в финальной беседе со Снаутом
и которое он, вероятно, обрел в результате своего преображения: это
не полное отсутствие смерти, а устранение страха смерти и невосполнимого разрыва, вносимого смертью, такое бессмертие есть обретение цельности и связности жизни даже через сохраняющуюся смерть.
Совершенство людей в рассказе Достоевского проявляется также
в том, что они отвергли науку, как ложный способ постижения бы¬
18 Там же. С. 131-132.
274
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
тия и установили с природой какие-то особые, внутренние, глубокие
отношения. Вот как это передает герой рассказа: «...знание их было
глубже и высшее, чем у нашей науки; ибо наука наша ищет объяснить, что такое жизнь, сама стремится сознать ее, чтобы научить других жить; они же и без науки знали, как им жить <...> Они указывали
мне на деревья свои, и я не мог понять той степени любви, с которою
они смотрели на них: точно они говорили с себе подобными существами. И знаете, может быть, я не ошибусь, если скажу, что они говорили
с ними! Да, они нашли их язык, и убежден, что те понимали их. Так
смотрели они и на всю природу <...>»19.
Все это точно соответствует не только той критике научного познания ради непосредственности жизни, которая является важнейшей идейной тенденцией «Соляриса», но и выраженному в «Зеркале»
врачом-прохожим убеждения в возможности и необходимости для
человека какого-то глубокого проникновения в жизнь природы, соединения с этой жизнью.
Но самое главное происходит в финале рассказа. «Смешной человек» (он ни разу не назван по имени), который повествует нам о своем
мистическом путешествии, признается в том, что он «развратил» совершенное общество. Как бацилла чумы, попавшая в город, он «заразил» людей фантастического общества несовершенством, научил их
лжи, сладострастию, жестокости, эгоизму — всем тем качествам, которые делают наше общество столь несовершенным; и совершенное
общество далекой планеты, похожей на Землю, в результате действия
этих возродившихся в людях качеств стало полностью подобным нашему обществу.
Этот поистине загадочный поворот сюжета рассказа по-разному
интерпретируется исследователями творчества Достоевского. На наш
взгляд, Достоевский этим хочет подчеркнуть, что достигнутое людьми
совершенство является результатом их собственных усилий. Именно
поэтому оно не является абсолютно незыблемым и необратимым; если
люди ослабят свои усилия по поддержанию и развитию своего относительного совершенства, оно может быть утрачено. В человеке, в его
душе, есть темное и светлое начала, дьявол и Бог, и они вечно борются
друг с другом. Люди могут добиться приоритета божественного начала,
но опасность «падения» и деградации, содержащаяся в темном начале,
всегда остается достаточно реальной. А поэтому необходимо постоянно бороться за совершенство, за преобладание Бога в нашей душе;
и в этой борьбе людей должны вести и направлять те, кто лучше других
понимают ее смысл, ее высшую цель. Именно на такую позицию, на
позицию проповедника, пророка и встает герой рассказа после всего
произошедшего с ним, после того как он возвращается к земной жизни.
19 Там же. С. 130-131.
275
ГЛАВА IV
«Солярис»: в ожидании Мессии
Он признается, что не знает до конца, было ли его приключение
реальным, или это только сон, галлюцинация. Но это ровным счетом
ничего не значит для него теперь, поскольку в этом «сне» ему была
дана абсолютная Истина, которая имеет свидетельство достоверности в себе самой, в своей непререкаемой очевидности. «Я поднял
руки, — передает свое состояние после «пробуждения» герой рассказа, — и воззвал к вечной истине; не воззвал, а заплакал; восторг, неизмеримый восторг поднимал все существо мое. Да, жизнь, и — проповедь! О проповеди я порешил в ту же минуту и, уж конечно, на всю
жизнь! Я иду проповедовать, я хочу проповедовать, — что? Истину,
ибо я видел ее, видел своими глазами, видел всю ее славу!»20
На такую же позицию встает и Крис Кельвин в финале «Соляриса». Вспомним завершение той беседы Криса и Снаута, начало которой мы воспроизвели выше. После многозначительного суждения об
обретенном бессмертии Крис после некоторой паузы продолжает:
«Ну хорошо, во всяком случае миссия моя окончена. Но что дальше?
Вернуться на Землю? — Понемногу все войдет в норму, даже возникнут новые интересы, знакомства. Но я не смогу отдаться им до конца,
никогда... А вправе ли я отказываться пусть даже от воображаемой
возможности контакта с этим Океаном, которому моя раса десятки
лет пытается протянуть ниточку понимания. Остаться здесь, среди
вещей и предметов, до которых мы оба дотрагивались, которые помнят еще наше дыхание. Во имя чего? Ради надежды на ее возвращение? Но у меня нет этой надежды. Единственное, что мне остается —
ждать. Чего ждать? Не знаю. Новых чудес...»
Можно подумать, что Крис в этот момент думает все-таки только
о себе и о Хари, но чуть раньше он говорил слова, которые более точно обозначают смысл его решимости остаться на Солярисе: «Ну, вот
я тебя люблю, но любовь — это чувство, которое можно переживать,
но объяснить нельзя. Объяснить можно понятие, а любишь то, что
можно потерять: себя, женщину, родину... До сегодняшнего дня человечество, Земля были попросту недоступны для любви. Ты понимаешь, о чем я Снаут? <...> А может быть мы вообще здесь только для
того, чтобы впервые ощутить людей как повод для любви?» Последний, видимо, риторический вопрос показывает, что Крис, действительно обретает сознание Мессии, который в отличии от обычных
людей оказывается способным любить все человечество и который
может поставить свою жизнь на службу этой любви. И это также
совпадает с тем, как герой рассказа Достоевского понимает высший
смысл своей пророческой миссии среди людей: «Главное — люби других как себя, вот что главное, и это все, больше ничего не надо: тотчас
найдешь как устроиться. А между тем ведь это только — старая ис¬
20 Там же. С. 136.
276
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
тина, которая биллион раз повторяли и читали, да ведь не ужилась
же! “Сознание жизни выше жизни, знание законов счастья — выше
счастья” — вот с чем бороться надо!»21
«Знаешь, Крис, по-моему тебе пора возвращаться на Землю», —
говорит Снаут, завершая долгий разговор с Крисом. Но эти слова, как
и все предшествующие, нужно понимать не в их прямом и банальном
смысле, а в той же самой логике постепенно выявляющегося высшего
предназначения Криса. Крис чуть раньше говорил о невозможности
своего возвращения на Землю, понимая это как возврат в обыденную,
старую жизнь, Снаут же говорит о другом — о необходимости идти
вперед и выполнить то предназначение, которое и он почувствовал
в Крисе: восстановить связь Земли, неуклонно двигающееся к гибели,
с источником жизни, с Океаном.
Обратим внимание на то, как Тарковский выстраивает изобразительный ряд в сцене беседы Снаута с Крисом. Во время завершения
первой части беседы, когда Крис говорит о бессмертии, камера медленно приближает его лицо и в конце останавливается на мочке уха;
мы словно погружаемся в Криса, сливаемся с его бытием, он как бы
вбирает в себя все человечество, становится носителем всех наших
надежд и чаяний. Затем резким монтажным стыком идет изображение Соляриса с большой высоты, это как раз такой же образ полета,
который в «Страстях по Андрею» выражал прорыв к неземной гармонии. Причем в данном случае в этом полете нам видны только проносящиеся мимо белые облака и поверхность Океана, совершенно не
похожая на сюрреалистические образы, которые мы видели раньше,
это изображение вполне можно принять и за вид земного океана.
В связи с этим полет неожиданно обретает амбивалентный смысл —
он может быть понят и как полет над Солярисом, и как полет над
Землей; две планеты, разделенные бесконечным пространством, пребывающие в двух различных мирах, вдруг сливаются в одном образе
универсальной гармонии, точнее в образе порыва к гармонии. Это
слияние двух разных миров и этот порыв к гармонии осуществляет
Крис, его преображенная личность оказывается раскрытой на «Целое
вселенной» и способной соединить все распадающееся и гибнущее.
И следующий далее финальный фрагмент, изображающий уголок
прекрасной земной природы, воссозданной на Солярисе, выражает
небольшой, относительный, но все-таки прочный результат указанного порыва к гармонии и целостности мироздания.
Можно вспомнить, что Тарковский в процитированной выше
дневниковой записи противопоставлял пророка, который только говорит об истине, и Мессию — того, кто реально осуществляет преображение мира на основании понятой истины. В отличие от героя рас¬
21 Там же. С. 137-138.
277
ГЛАВА IV
«Солярис»: в ожидании Мессии
сказа Достоевского Крис Кельвин является не просто пророком, он
становится Мессией, центром воссозданной вселенской гармонии.
Но почему же эта гармония приобретает форму земного мира прошлого Криса, почему она буквально повторяет это прошлое? Этот
вопрос может показаться избыточным, однако, как нам кажется, Тарковский дает намек на то, что такой вопрос вполне законен и даже
имеет вполне понятный ответ, связывающий религиозную концепцию
фильма с еще одной важной интеллектуальной традицией.
Вспомним начало того эпизода, в котором изображено болезненное состояние Криса, вызванное действием на него Океана, осуществляющего исследование его личности. Подходя к Снауту, рассматривающему поверхность океана Соляриса, Крис, уже находящийся в по-
лубредовом состоянии, говорит: «Знаешь, проявляя жалость, мы опустошаемся. Может быть, это и верно. Страдания придает всей жизни
мрачный и подозрительный вид... Но я не признаю, нет я не признаю...
То, что не составляет необходимости для нашей жизни, то вредит ей?
Нет, не вредит, не вредит, конечно, не вредит. Ты помнишь Толстого,
его мучения по поводу невозможности любить человечество вообще».
В этой на первый взгляд малоосмысленной тираде Крис воспроизводит, с некоторыми искажениями две цитаты из трактат Ф.Ницше
«Антихрист». У Ницше мы читаем: «Сострадание <...> делает саму
жизнь мрачною и возбуждающею сомнение»; «Что не обуславливает
нашу жизнь, то вредит ей <...>»22. Кажется, что в своем путанном
рассуждении Крис отвергает точку зрения Ницше23, солидаризируясь
с Толстым, который выступал одним из первых резких критиков немецкого мыслителя. Однако в русской философии благодаря гениальным работам Льва Шестова, написанным в начале XX в. («Добро в
учении гр. Толстого и Фр. Ницше», «Достоевский и Ницше (философия трагедии)» и др.), получило распространение мнение о том, что
Ницше и Толстой, точно так же как Ницше и Достоевский были не
столько идейными противниками, сколько мыслителями, выражавшими очень близкие системы идей, в равной степени ставившие в
центр философии конкретного человека в его бесконечном, божественном содержании.
В отношении Ницше важно добавить, что его резкая критика
христианства вовсе не означает принятие атеистической позиции;
в философии Ницше явно различим религиозный мотив: он критикует
историческое христианство за то, что оно извратило учение Иисуса
22 Ницше Ф. Антихрист // Ницше Ф. Соч. в 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 636, 638.
23 Отметим, что главный герой «Жертвоприношения» Александр в своем
монологе о неправильности нашей цивилизации процитирует высказывание Гурджиева, которое почти буквально совпадает с фразой Ницше: «Грех — это то, что
не является необходимым».
278
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
Христа, превратив его в свою противоположность (отметим, что критика исторической церкви у Ницше во всех основных пунктах совпадает с аналогичной критикой, которую осуществлял Вл.Соловьев).
В «Антихристе» дано вполне позитивное описание образа Христа:
самое главное в опыте его жизни Ницше видит в том, что он уничтожает различие между Богом и человеком. «’Трех”, все, чем определяется расстояние между Богом и человеком, уничтожен, — это
и есть “благовестив”. Блаженство не обещается, оно не связывается с какими-нибудь условиями: оно есть единственная реальность;
остальное — символ, чтобы говорить о нем <...>. Не “раскаяние”, не
“молитва о прощении” суть пути к Богу: одна евангельская практика ведет к Богу, она и есть “Бог”! — То, с чем покончило Евангелие,
это было иудейство в понятиях “грех”, “прощение греха”, “вера”,
“спасение через веру”, — все иудейское учение церкви отрицалось
“благовестием”»24. Нетрудно видеть, что здесь выражена та же самая
гностическая религиозность, которая составляет основу философии
Достоевского; сходство основных религиозных интуиций Достоевского и Ницше делает вполне понятным интерес Тарковского к Ницше.
В последнем фильме Тарковского герои будут прямо говорить
о Ницше, причем будет упомянута одна из известных идей немецкого
философа, которая чрезвычайно интересовала режиссера (об этом мы
будем подробно говорить в последней главе) — идея вечного возвращения. Именно о ней заставляет вспомнить финал «Соляриса».
У этой идеи в философии Ницше есть и позитивное и негативное
содержание. Негативное связано с ужасом механического повторения «того же самого», не оставляющее человеку пространства для
свободы и непредсказуемости, без которых не может существовать
его индивидуальность. Но в этой же идее есть очень глубокое позитивное содержание, которое было уловлено многими русскими мыслителями начала XX в. Вечное возвращение — это критерий подлинности того, что переживает и делает человек.
Ты должен решить, объясняет эту идею ницшевский Заратустра,
действительно ли ты сейчас проживаешь жизнь так, что она достойна
стать вечной. Проверь себя — представь, что этот миг будет повторяться без конца — достанет ли у тебя сил выдержать его и себя вместе с ним? Вот как об это сказано у самого Ницше (здесь Заратустра
обращается к высшим людям):
«”Я хочу наследников, — так говорит все, что страдает, — я хочу
детей, я не хочу себя”. —
Радость же не хочет ни наследников, ни детей, — радость хочет
себя самое, хочет вечности, хочет возвращения, хочет, чтобы все
было вечным. <...>
24 Ницше Ф. Антихрист. С. 658-659.
279
ГЛАВА IV
«Солярис»: в ожидании Мессии
Утверждали ли вы когда-либо радость? О друзья мои, тогда утверждали вы также и всякую скорбь. Все сцеплено, все спутано, все
влюблено одно в другое, —
— хотели ли вы когда-нибудь дважды пережить мгновение, говорили ли вы когда-нибудь: “Ты нравишься мне, счастье! миг! мгновенье!” Так хотели вы, чтобы все вернулось!
— все сызнова, все вечно, все сцеплено, все спутано, все влюблено одно в другое, о, так любили вы мир, —
— вы, вечные, любите его вечно и во все времена; и говорите также к скорби: сгинь, но вернись назад! А радость рвется — в отчий
дом\ <...>
Ибо всякая радость хочет себя самое, вот почему хочет она также сердечной муки! О счастье, о скорбь! О сердце разбейся! Высшие
люди, научитесь же, радость хочет вечности,
— радость хочет вечности всех вещей, она рвется в свой кровный, вековечный дом\»25.
Только человек, который способен жить не только во времени, но
и в вечность, который связывает время и вечность в себе, у которого
хватает сил выдержать любой миг и сохранить его в себе, т. е. в вечности, — только тот имеет право вести других и имеет возможность совершить поступок, который способен спасти всех. В основной части
фильма Крис еще не способен выдержать бесконечного повторения
радости и боли, которое несет явление его прошлого в образе бессмертной Хари. Но после преображения он становится тем «высшим
человеком», о котором учит Заратустра, и он сам требует возвращения не только Хари, но всего своего прошлого.
Теперь и ему самому и нам кажется, что он сумеет выдержать это
возвращение в свой отчий и вековечный дом.
25 Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Ницше Ф. Соч. в 2 т. С. 234-235.
280
ГЛАВА V
«СТАЛКЕР»: человек
в мире умершего Бога
Г/l ABA V
«Сталкер»: человек в мире умершего Бога
1. Триумф рациональности
Среди работ Тарковского «Сталкер» (снятый в 1979 г.) отличает-
ся тем, что несмотря на устойчивый зрительский интерес он привлекал гораздо меньшее вниманием исследователей, чем другие фильмы.
С одной стороны, он предельно прост по своей сюжетной и изобразительной структуре, в нем нет сознательно придуманных «загадок»,
подобных тем, которые в большом количестве присутствуют в «Страстях по Андрею» и в «Зеркале», но, с другой стороны, он выглядит
абсолютно непонятным, странным, совершенно непохожим на предшествующие работы режиссера.
В «Сталкере» получает дальнейшее развитие те представления,
которые Тарковский пытался выразить в «Солярисе». В «Солярисе»
для того чтобы понять подлинные, неискаженные формы отношения
человека с бытием, Тарковский перенес действие в удаленный уголок
вселенной; в «Сталкере» «фантастический» колорит происходящих
событий остался, однако теперь этот прием оказался сведенным к минимуму, в изображении Зоны, по которой идут герои фильма, мы не
находим никаких явно фантастических элементов — это просто часть
самой Земли, в которой вдруг обнаружились закономерности, скрытые в обычной жизни, но определяющие самое важное в ней.
В сущности, Зона является аналогом мира, представшего перед
нами на далекой планете Солярис. Только теперь те законы, которые
определяли жизнь обитателей станции, раскрылись в обычной земной природе. И, в отличие от обитателей станции, герои «Сталкера»,
особенно главный герой, уже не удивляются новым формам своих отношений с действительностью, они пытаются освоиться в этом мире,
стать его естественной частью, пытаются даже использовать его
в своих целях. Если в «Солярисе» Океан «даровал» людям помимо их
воли материализацию их подспудных желаний, то в «Сталкере» все
три путешественника сознательно идут к средоточию Зоны — к «комнате желаний», для того чтобы, побывав в ней, добиться исполнения
своих самых глубоких чаяний.
В «Солярисе» представление Тарковского о структуре реальности, о присутствии в ней разнородных сфер бытия было несколько
искусственным, поскольку искусственной была сама ситуация противостояния вечной земной гармонии и иррационального начала, или
Бога-Демиурга нашего мира, олицетворяемого океаном планеты Солярис. Здесь мы видели и совершенное, все еще близкое к идеалу земное бытие (дом отца Криса), и сферу земной действительности, уже
искаженную холодным разумом (мир бесконечных автострад), и саму
иррациональную основу мирового бытия (Океан), и новое воплоще¬
288
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
ние совершенства, реализованное усилиями человека в иррациональном начале («дубликат» дома отца Криса в финале). В «Сталкере» мы
находим гораздо более простое и гораздо более ясное представление
о сферах реальности.
Прежде всего исчезает вера в возможность сохранения гармонии в земном мире — вообще идея гармонии окончательно исчезает
из мировоззрения Тарковского1. Не случайно, в «Сталкере» Тарковский отказался от самых выразительных символов земной совершенной природы: мы не видим здесь ни коня, ни проливного дождя,
ни яблока. «Он сказал: яблока не будет, положите апельсин, гнилой, около кровати; ну а лошадь собакой заменил», — вспоминает
М. Чугунова, ассистент режиссера на фильмах «Солярис», «Зеркало»
и «Сталкер»2. Замена яблока гнилым апельсином не требует никаких комментариев, но и замена лошади собакой несет в себе достаточно очевидный смысл: в образе коня слишком силен элемент
красоты, природной гармонии, в то время как собака — это одновременно и символ стихийной, опасной силы, и символ готовности
служить, быть преданным и верным человеку. Все эти изменения,
в конечном счете, связаны с переоценкой той ситуации, в которой
находится реальность, окружающая человека, и новым пониманием
задач и возможностей человека.
Собственно говоря, замена символического образа коня образом
собаки произошла уже в «Зеркале». Несмотря на то, что дом, где прошло детство главного героя «Зеркала», чем-то напоминает (не внешне, а по своему значению в художественной структуре произведения)
дом отца Криса, Тарковский ни разу не показывает рядом с ним коня,
как это было в «Солярисе». Впрочем, и образ собаки не столь выразительно использован в «Зеркале», как в последующих фильмах. Он возникает только в одном (правда, очень важном) фрагменте «сна» героя.
Очень интересно взаимодействие двух этих образов в «Солярисе»,
это единственный фильм, где они на равных присутствуют в изобразительном и идейном рядах. В земном прологе конь играет такую же
точно роль, как и в «Страстях на Андрею» — как символ земной гар-
1 Это, безусловно, связано с нарастанием трагических мотивов
в мироощущении Тарковского. Например, в период работы над «Сталкером»
(23 декабря 1978 г.) он записывает в дневнике: «Последнее время я все с большей
определенностью ощущаю, что приближается времена трагических испытаний
и несбывшихся надежд. <...> Боюсь будущего: китайцев, катаклизмов,
апокалиптических бедствий. Боюсь за детей, за Ларису. Боже, дай сил и веры
в будущее, дай будущее для прославления Твоего. Мне! Ведь я тоже хочу
участвовать в этом!» (Тарковский А. А. Мартиролог. Дневники 1970-1986.
С. 188). Здесь исток тех апокалиптических предчувствий, которые с наибольшей
силой отразились в последнем фильме режиссера.
2 См.: Туровская М. 7 1 /2, или Фильмы Андрея Тарковского. С. 119.
289
ГЛАВА V
«Сталкер»: человек в мире умершего Бога
монии. Образ собаки используется здесь в двух очень разных смыслах. Собаку-бульдога мы видим и в земном прологе, и на космической
станции (как образ из прошлого Криса и его семьи, запечатленный
на кинопленке) и в финале (на «острове» в океане Соляриса, рядом
с «дубликатом» дома Криса). Режиссер сознательно демонстрирует
нам в этих ситуациях, разделенных и временем и пространством,
одну и ту же собаку, превращая ее в символ неизменного, вечного
значения прошлого Криса. Не случайно, в этой собаке подчеркнуто
«искусственное» начало и почти отсутствует печать первозданной,
дочеловеческой природы. Еще большее значение имеет второе появление образа собаки, хотя оно столь мимолетно, что часто ускользает
от внимания зрителей. Крис Кельвин, выйдя из своей каюты, обращает внимание на лист бумаги, лежащий на полу в коридоре станции.
Подняв его, он видит, что это иллюстрация, вырванная из книги, и на
ней изображены не то волки, не то дикие собаки. Человек создал себе
верного друга, приручив одного из самых свирепых и злобных хищников: образ дикой собаки, которой еще предстоит долгий путь, чтобы
стать помощником и другом человека, точно соответствует главной
идейной линии «Соляриса». Крис Кельвин и другие обитатели космической станции (а вместе с ними и все человечество) находятся в самом начале пути, ведущего к «приручению» иррационального бытия,
подчинения его непредсказуемой силы тем целям и идеалам, которые
несет в себе человек.
Конь также присутствует на космической станции в виде изображения, рисунка, мы видим его на стене каюты Гибаряна. Гиба-
рян был, если можно так сказать, самым «земным» и самым ранимым
членом экипажа станции, он, судя по одной фразе Сарториуса, был
наиболее привязан к своему земному прошлому. «Умереть может
каждый из нас, — говорит Сарториус о его самоубийстве, — но он
завещал похоронить себя на Земле, а разве космос плохая могила
для него. Но Гибаряну захотелось в землю, к червям... Я хотел пренебречь, но Снаут настоял...» Именно поэтому его каюта в гораздо
большей степени похожа на обычное земное жилище, чем каюта Сна-
ута и лаборатория Сарториуса, которые заполнены научными приборами. Когда Крис осматривает ее, он видит на столе раскрытый альбом с фотографией грузинского христианского храма, а на стенах —
ковер и красивый рисунок с изображением коня — выразительные
знаки земного совершенства.
В «Сталкере», как и в «Зеркале», образ коня отсутствует, а собака появится в середине фильма и будет именно дикой, «приблудной»,
прибежавшей неизвестно откуда из Зоны (Сталкер скажет о ней
в эпилоге: «Там пристала, не бросать же ее»). Это образ будет иметь
тот же смысл, что и изображение диких собак в «Солярисе».
290
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
Не менее заметно также резкое «обеднение» музыкальной палитры «Сталкера» по отношению ко всем предшествующим фильмам.
Если раньше основу музыки в произведениях Тарковского составляли
достаточно большие фрагменты классических сочинений, то теперь
все сводится к двум кратким фрагментам — один из «Болеро» Равеля
и другой из «Оды к радости» Бетховена, которые звучат в эпилоге.
Большая часть музыкального сопровождения, созданного композитором Э. Артемьевым, — это музыка, записанная на синтезаторе и обозначающая «шумы» и «ритмы» иррационального бытия.
Эти ритмы выступают уже в самом начале фильма, когда идут
титры. В грязном баре официант зажигает свет, с досадой смотрит
на одну из неоновых ламп, которая непрерывно мигает, и приступает
к уборке, готовясь принять ранних посетителей. Эти первые кадры
поражают своей черно-белой опустошенностью и неестественностью, не имеющей прецедентов в предшествующих произведениях
режиссера. Доводя до предела контрастность изображения, Тарковский добивается того, что из кадра исчезают все полутона и реальность на экране предстает в каком-то схематическом виде, как
бы лишенная всех деталей, необходимых для того, чтобы признать
ее живой. Нейтрально-желтый цвет титров на этом фоне смотрится
почти вызывающе ярким.
Еще более резко, чем это было в «Солярисе», в «Сталкере» выделяются три противостоящих друг другу части: «земной» пролог,
основная часть фильма, описывающая путешествие героев в фантастическую Зону, и эпилог, в котором совершается определенное преображение земного бытия, изображенного в прологе (хотя и совсем
в ином смысле, чем в «Солярисе»). Только средняя, основная часть является собственно цветной, однако пролог и эпилог уже не могут быть
названы просто черно-белыми, Тарковский выстраивает значительно
более сложную систему цветовых соотношений внутри фильма.
Строго черно-белым является только первый фрагмент, на фоне
которого идут титры. Но и он, как только что было сказано, выполнен
не просто как черно-белое изображение реальной, «цветной» жизни,
а именно как схема живой действительности, потерявшая не только
свой цвет, но и свое многообразие, естественную детализацию. Последующие сцены пролога, точно так же как и весь эпилог, выполнены в серо-коричневых тонах разных оттенков, которые Тарковский не
применял в предшествующих двух (цветных) фильмах. С помощью
такой цветовой гаммы режиссер дает гораздо более точное, чем раньше, указание на то, что предстающая на экране реальность является
«больной», в каком-то смысле «ущербной», утратившей свою естественную полноту. В «Зеркале» и «Солярисе» черно-белые вставки
обозначали, как правило, видение мира глазами человека, теряющего
291
ГЛАВА V
«Сталкер»: человек в мире умершего Бога
или уже утратившего естественные связи с людьми и естественную
опору в жизни. Противостояние черно-белых и цветных фрагментов
было, с одной стороны, слишком резким и заметным, но, с другой —
скорее внешним, чем внутренним, ведь черно-белое изображение способно передать все самые тонкие «нюансы» бытия, и лишенность цвета выглядит, скорее, как какой-то субъективный недостаток зрения
отдельного индивида. Само равноправное существование цветного
и черно-белого кино даже после окончания черно-белой эпохи говорит в пользу того, что их противостояние имеет больше внешний, чем
внутренний смысл.
Переход же к монохромному, но не черно-белому изображению
резко меняет ситуацию; в этом случае предстающий на экране мир
действительно ощущается как предельно обедненный, утративший
все свои детали. При этом серо-коричневый оттенок, применяемый
Тарковским в прологе выразителен еще и в том смысле, что он навевает мысль о какой-то «ржавчине», до основания разъевшей этот мир,
покрывшей его однотонным налетом. Теперь этот цвет воспринимается в большей степени как объективная характеристика самой изображаемой действительности, а не как субъективный «угол зрения»
индивида, по-разному выстраивающего свои отношения с миром.
Кроме того, Тарковский умело применяет принцип различного цветового оформления отдельных сцен внутри пролога и эпилога. Разные
фрагменты внутри них имеют разное оформление: от серо-стального
оттенка самых первых кадров до просветленно-коричневого и сдержанно цветного колорита самого последнего эпизода, показывающего
дочку Сталкера. Эти различия также имеют достаточно важное значение и передают различные смысловые нюансы, о чем мы еще будем
говорить в дальнейшем.
Первый эпизод пролога показывает раннее утро в доме Сталкера.
В кадре мы видим полуоткрытые двери и за ними кровать, на которой спят Сталкер, его жена и дочь. Медленное движение в сторону
полуоткрытых створок двери словно вводит нас в мир Сталкера. Затем изображение резко меняется; мы видим снятый сверху маленький
круглый столик, стоящий рядом с постелью, на котором лежит гнилой
апельсин, стоит стакан с водой, небрежно разбросаны другие предметы. Камера начинает медленное движение влево, показывая спящих.
Мы видим, что Сталкер лежит с открытыми глазами, сосредоточенно
думая о чем-то. После этого камера совершает обратное движение,
и теперь уже и жена Сталкера лежит с открытыми глазами. Наконец,
Сталкер, которого играет А. Кайдановский, быстро встает с постели,
одевается и выходит из комнаты в кухню.
Мотив пробуждения, точно так же как изображения спящего героя, присутствуют во всех фильмах Тарковского, и всегда соответ¬
292
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
ствующие фрагменты несут существенную идеиную нагрузку, сон —
это не забвение себя, а раскрытие своей личности, соединение
с бесконечным бытием, поэтому в состоянии сна для достаточно чуткого человека открывается истина о себе и обо всей реальности. Но
в очередной раз изображая спящего героя, Тарковский не показывает нам его снов; только в середине фильма, во время «привала» трех
путников, идущих к «комнате желаний», возникнет фрагмент, который можно интерпретировать как сон Сталкера. Однако и там мы
не увидим ничего особенного, кроме самого спящего героя, причем
различие между образом сна и реальностью будет минимальным —
его фиксирует только различие цветной гаммы изображения, сон
будет черно-желтым, подобным по колориту первому эпизоду пролога, показывающему комнату Сталкера. Это странное исчезновение
«мира снов», безусловно, требует объяснения, поскольку во всех
остальных фильмах этот «мир» выполняет очень важную функцию,
и отсутствие этой сферы должно быть связано с какими-то очень существенными причинами.
Прежде всего можно еще раз обратить внимание на то, что в самом первом фрагменте фильма Сталкер не спит, он лежит в постели
с открытыми глазами. Подчеркнутое режиссером бодрствование героя, несомненно, не является случайным. Сталкер, как мы узнаем чуть
позже, только Зону считает своим «домом» и только в Зоне чувствует
себя в гармонии с собой и с действительностью. Именно поэтому он
будет спать в Зоне; в то время как в своем «обычном» жилище он не
спит даже тогда, когда спят все вокруг. В мире вне Зоны в силу радикальной неправильности его устройства Сталкер утрачивает контакт
с «иными мирами», поэтому сон перестает быть важной составляющей его жизни, помогающей раскрыть смыслы своего существования,
и превращается в чистое небытие, которое пугает своей близостью
к смерти (именно об этом говорится во фрагменте из романа Сервантеса, который читал Крис Кельвин в одной из сцен «Соляриса»).
С другой стороны, нужно обратить внимание на то, что комната,
где спят Сталкер и его семья, производит точно такое же впечатление, как и комната с загадочной «гостьей» из «Зеркала». Огромная
пустая стена над кроватью, покрытая неровной штукатуркой, подсвеченная резким боковым светом, идущим из окна, создает сюрреалистическое впечатление пространства за пределами земного времени,
как бы вырванного из естественных связей земной действительности.
Как и весь мир вне Зоны, эта комната принадлежит «больному» бытию, окончательно утрачивающему цельность, поэтому его отдельные
элементы, выпадая из единства целого, предстают в каком-то иррациональном свете, лишенными признаков живой реальности, естественной печати времени. Но можно увидеть здесь и другое. Вспоминая
293
ГЛАВА V
«Сталкер»: человек в мире умершего Бога
эмоциональным колорит снов героев из предшествующих и последующих фильмов Тарковского, нетрудно понять, что комната Сталкера
в первом эпизоде пролога чрезвычайно напоминает некоторые фрагменты этих снов, обозначающих выход в «мир вечности». Вспомним,
что и явление «гостьи» Игнату в «Зеркале» обозначало вторжение
«мира вечности» в наш земной мир. Изображая комнату Сталкера
в первом фрагменте пролога, чрезвычайно похожей на комнату, где
Игнату явилась его «гостья», и на мир снов, Тарковский, может быть,
хочет сказать, что «болезнь» бытия, захватив все его сферы, сломала
естественные и необходимые границы между ними, смешала «мир
времени» и «мир вечности». Позже в одной из самых важных сцен
фильма Писатель скажет, что мы живем в эпоху, когда «будущее слилось с настоящим», и эти слова будут иметь зловещий подтекст: наступили последние времена, когда решается судьба всего существующего, когда мир близится к апокалиптическому концу, и время теряет
свою привычную последовательность. Первый фрагмент фильма намекает как раз на такое смешение всех пластов бытия, когда рвутся
его «скрепы» и мир приходит к границе своего устойчивого и ясного
существования.
Следующий фрагмент пролога показывает разговор Сталкера
с женой, которую играет Алиса Фрейндлих. Мы узнаем, что Сталкер
лишь недавно вернулся из тюрьмы, где просидел 5 лет за свои походы
в Зону. Жена упрекает его за то, что он собирается взяться за старое, снова идет в Зону. На его слова «я скоро вернусь», она отвечает
в сердцах: «В тюрьму ты вернешься, только теперь тебе дадут не
5 лет, а 10; и ничего у тебя не будет эти 10 лет — ни Зоны, ничего...» Сталкер не отвечает на эти упреки, и только, когда она грозит
ему тюрьмой, восклицает: «Господи, тюрьма! Да мне везде тюрьма...»
Везде — это в мире вне Зоны; когда чуть позже три путешественника попадут, наконец, в Зону, первыми словами Сталкера будут: «Ну
вот, мы и дома». Именно Зона является для него настоящим домом,
а вся «обычная» земная действительность выглядит как тюрьма. Здесь
происходит чрезвычайно характерное смещение акцентов по отношению к тому представлению о «доме», которое мы обнаружили в «Солярисе». Там мир космической станции представал иррациональным,
фантастическим и чуждым человеку, а подлинным его оплотом был
земной дом, хотя уже теснимый мертвыми порождениями разума, но
все-таки сохраняющий свою прочность, свое значение в качестве начала все еще возможной всеобщей гармонии и места, куда человек
всегда может вернуться, как возвращаются к своим истокам. В «Сталкере» Тарковский показывает ситуацию, когда все земное бытие оказывается захваченным теми разрушительными тенденциями, которые
в «Солярисе» представали в виде холодных пространств бетонных ав¬
294
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
тострад. Человек уже не может сохранить даже отдельных островков
гармонии в этом новом мире, он не может спасти от окончательного
разрушения то наследство, которое досталось ему от предков, не может избежать полного подчинения ритму существования, навязываемого распадающимся и механически организованным бытием.
В этих условиях остается только одна надежда, которая была
подсказана финалом «Соляриса». Если «связь времен» утрачена
в привычной нам земной действительности, можно попытаться через
раскрепощение самых глубоких, хотя и иррациональных, сил бытия
возродить утраченную гармонию, попытаться воскресить ее через
соединение стихийной мощи бытия с тем идеалом, который все еще
живет в душе человека, несмотря на то, что его основа в самой реальности утрачена навсегда. Поэтому своим домом Сталкер называет
загадочную и в чем-то опасную Зону, а не обыденное земное жилище.
Только там, в Зоне, его личность может найти для себя опору, найти
то подлинное, что упрочивает ее существование, а не разрушает его.
Выйдя из своего жилища, Сталкер проходит по железнодорожным путям и встречается с Писателем, которого он должен вести
в Зону, в «комнату желаний». Писателя играет Анатолий Солоницын,
и в создаваемом им образе обнаруживается парадоксальное развитие образа микробиолога Сарториуса из предыдущего фильма. Это
словно бы тот же Сарториус, которого мы видели на космической
станции планеты Солярис, но только переживший кризис, близкий
к тому, что пережил Крис Кельвин, и, подобно последнему, пытающийся изменить себя и свое отношение к окружающему. Если Сарториус
в «Солярисе» настаивал на беспрекословном исполнении каждым заповедей точного разума — ради окончательной реализации целей человеческой жизни, то Писатель уже подводит неутешительный итог
этого «окончательного» исполнения, приведшего мир в его нынешнее
плачевное состояние.
«Дорогая моя, — слышим мы слова, которые Писатель говорит
своей случайной знакомой, — мир непроходимо скучен, и поэтому
ни телепатии, ни приведений, ни летающих тарелок — ничего этого
быть не может. Мир управляется чугунными законами; это невыносимо скучно; и законы эти, увы, не нарушаются, они не умеют нарушатся. И не надейтесь на летающие тарелки, это было бы слишком интересно». «А как же Бермудский треугольник, — кокетливо возражает
дама, — вы же не станете спорить, что...» «Стану спорить, — невозмутимо отвечает Писатель, — нет никакого Бермудского треугольника, есть треугольник ABC, который равен треугольнику А^С1. Вы
чувствуете, какая унылая скука заключена в этом утверждении? Вот
в Средние века было интересно: в каждом доме жил домовой, в каждой церкви — Бог; люди были молоды. А теперь каждый четвертый —
295
ГЛАВА V
«Сталкер»: человек в мире умершего Бога
старик. Скучно, мой ангел, ой как скучно». «Но вы же сами говорили,
что Зона — порождение сверхцивилизации, которая...» «Тоже наверное скука, — подводит итог Писатель, — тоже какие-нибудь законы,
треугольники, и никаких тебе домовых, и уж, конечно, никакого Бога.
Потому что, если Бог это этот самый треугольник, то я уж просто
и не знаю...»
Уже здесь мы чувствуем, что за внешним цинизмом Писателя
скрывается глубокая душевная боль; расставаясь с прежними убеждениями, сознательно разрушая свое прежнее, «спокойное», но на
самом деле безосновное, идущее к гибели, существование, он еще не
может до конца осознать, что ждет его впереди и какие усилия ему
предстоит совершить, чтобы спасти себя, главное в своей душе. Уже
здесь мы можем зафиксировать сходство Писателя с одним из известнейших героев Достоевского, с «подпольным человеком», «автором»
«Записок из подполья», который очень похожим образом «протестовал» против законов природы — против «дважды два четыре» и «каменной стены» (которую, ведь не прошибешь!); мы еще будем дальше
подробно говорить об этом сходстве.
Сталкер ведет Писателя в тот самый бар, который предстал перед
нами в первых кадрах фильма и в котором их ожидает третий участник похода в Зону — Профессор; на крыльце перед самой дверью, ведущей в бар, Писатель поскальзывается и падает, подобно тому, как
упал Крис Кельвин перед тем, как войти внутрь космической станции.
В обоих случаях это падение означает переход в новую жизнь, где герою предстоят чрезвычайные испытания, после которых он должен
стать другим человеком.
Следующий маленький фрагмент, во время которого три героя,
приготовившиеся к походу в Зону, стоят вокруг стола в баре, склонившись друг к другу, завершает обрисовку предварительного «портрета» Писателя. С удивлением разглядывая не вполне трезвого Писателя, Профессор (Николай Гринько), слушает еще один его монолог,
раскрывающий душевное состояние этого человека. Узнав, что Профессор занимается физикой, «точным» познанием, Писатель иронично замечает: «Тоже, наверное, скука, поиски истины... Она прячется, а вы ее всюду ищите — то здесь копнете, то там... В одном месте
копнули: ага, ядро состоит из протонов; в другом копнули — красота,
треугольник ABC равен треугольнику А^С1». И затем продолжает,
уже не скрывая боли в голосе: «А вот у меня другое дело. Я эту самую истину выкапываю, а в это время с ней что-то такое делается, что
выкапывал-то я истину, а выкопал кучу, извините, не скажу чего...
Вам-то хорошо. А вот стоит в музее какой-нибудь античный горшок,
в свое время в него объедки кидали, а нынче он вызывает всеобщее восхищение лаконичностью рисунка и неповторимостью формы. Все оха¬
296
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
ют, ахают. А вдруг выясняется, что никакой он не античный, а подсунул его археологам какой-нибудь шутник веселья ради. Аханья, как ни
странно, стихают. Извините...» «И вы все время об этом думаете?» —
с удивлением спрашивает Профессор. «Боже сохрани, — отвечает
Писатель, — я вообще редко думаю, мне это вредно». «Ведь невозможно писать, — вдруг меняет тон Профессор, — и при этом все время думать об успехе или, скажем, наоборот, о провале». «Но с другой
стороны, — возражает Писатель, — если меня не будут читать через
сто лет, то на кой мне хрен тогда вообще писать?» И в завершение
признается, имея в виду цель своего похода к «комнате желаний»:
«Вдохновенье, профессор, утеряно вдохновенье; иду выпрашивать».
В этот момент Сталкер слышит свисток тепловоза, вслед за которым они должны проникнуть в Зону, и все трое выходят из бара. Когда
Писатель подходит к двери, он на мгновение останавливается и оборачивается; в кадре мы видим его напряженное лицо, он словно бы всматривается в ту жизнь, которую оставляет и к которой уже никогда не
вернется. После этого он выходит на крыльцо и вдруг вспоминает, что
забыл купить сигареты, но когда пытается вернуться, его останавливает Профессор: «Не возвращайтесь, не надо». «Ну вот, все вы такие,
верите во всякую чепуху», — ворчит Писатель, но не возражает и не
пытается больше вернуться. Порог пройден, и теперь ему придется
идти до самого конца. Глубокий смысл тех сомнений, тех переживаний, которыми охвачена его душа, и истинная цель его похода в Зону,
становится ясным, когда в следующем фрагменте, в одной из пауз он
завершает свои размышления: «Вот я давеча говорил вам... Вранье все
это, плевал я на вдохновенье... А потом, откуда мне знать, как назвать
то, чего я хочу? И откуда мне знать, что на самом-то деле я хочу того,
чего я хочу? Или, скажем, что я действительно не хочу того, чего я не
хочу. Какие-то неуловимые вещи, стоит их назвать, и смысл их исчезает, тает, растворяется, как медуза на солнце... Видели когда-нибудь?
Сознание мое хочет победы вегетарианства во всем мире, а подсознание изнывает по куску сочного мяса... А чего же хочу я... я?»
На риторический вопрос Писателя Профессор отвечает с нескрываемой иронией: «Да мирового господства, по меньшей мере». В конце фильма станет ясно, что жажду мирового господства Профессор
подозревает у всех идущих в Зону, и его собственное путешествие
к «комнате желаний» имеет целью спасение человечества от это угрозы. Но в этом своем подозрении, точно так же как и в своем желании
«спасти» человечество, он сам оказывается в плену прямолинейных
и ложных стереотипов научного разума, не способного понять истинный смысл той тайны, что скрыта в Зоне. Только сомневающийся
и разочаровавшийся в себе и в своей жизни Писатель в финале приблизится к разгадке этой тайны, и единственным ключом к ней станет
297
ГЛАВА V
«Сталкер»: человек в мире умершего Бога
как раз этот наполненный скрытой душевной болью вопрос: «А чего
же хочу я... я?»
Занимая по отношению к миру позицию противостояния и борьбы, человек обрекает бытие, а тем самым и себя самого, на деградацию
и распад. Чтобы остановить этот распад, остановить окончательное
раскрепощение иррациональных тенденций, приходится устанавливать жесткую, примитивно-механическую систему управления, контроля за ходом вещей, причем предельная внешняя рациональность
этой системы контроля вступает в разительный контраст с усиливающимся и абсолютно неизбежным хаосом в каждой детали, в каждом
элементе. Вся мощь разума оказывается бессильной против этого хаоса и этого разгула иррациональных тенденций; в этой ситуации не
могут выжить никакие «островки гармонии», и весь мир становится
грандиозным механизмом, «колеса» и «шестеренки» которого распадаются и идут в разнобой, несмотря на все попытки общечеловеческого разума установить порядок и добиться хотя бы относительной
цельности. Начало и конец «Сталкера» (пролог и эпилог) показывают
нам именно такой «распадающийся» мир, в котором «окончательную»
победу одержал холодный разум, и эта победа оказалась пирровой.
Можно сказать, что снятый в серо-коричневом цвете пролог рисует апокалиптическую картину мира, если признать, что апокалипсис может разрушать наше земное бытие не только через мгновенную
катастрофу, но и через методичное и малозаметное, но совершенно
неотвратимое раскрепощение его внутренней иррациональности, которую холодный научный разум не в состоянии обуздать, которую он,
наоборот, освобождает, заставляя нас обращать внимание только на
поверхность бытия, подавляя в человеке способности, направленные
на проникновение вглубь. Своеобразным символом этого «победного» шествия разума по «поверхности» жизни, уничтожающего все
трепетное и проникновенное, оказывается периодически звучащий
в доме Сталкера, оглушающий шум от проходящих поездов. Тарковский не ограничивается воспроизведением этого шума, а присоединяет к нему музыкальную тему, которая рельефно обозначает его
смысл. В прологе в шуме явно слышится музыка бравурного марша,
подчеркивающая триумф всесокрушающей силы. Позже, в конце
фильма, в двух других случаях музыкальное сопровождение такого
же шума будет иным — это будет «Болеро» Равеля и «Ода к радости»
из 9-ой симфонии Бетховена — соответственно, совершенно иным
будет и смысл этих звуковых фрагментов, здесь уже можно говорить
о преодолении и преображении формальной и разрушительной мощи
технического разума.
Неэффективность силы, управляющей распадающимся бытием,
наглядно явлены в той легкости, с которой Сталкер и двое его по-
298
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
путников прорываются в Зону. Пограничный район, по которому они
блуждают, напоминает разрушенный завод или территорию какого-то
давно заброшенного склада. Весь этот промышленный пейзаж лучше
всего иллюстрируют бессмысленную активность разума, способного
внести в мир лишь формально-механическую упорядоченность, ничуть
не уменьшающую общую абсурдность бытия. Огромное пространство
застроено бесчисленными сооружениями с выбитыми дверьми и окнами, покрыто хламом, грязью, перегорожено маслянистыми лужами
и совершенно лишено каких-либо признаков земной растительности.
В конечном счете, единственным, хотя бы относительно эффективным средством сдерживания и покорения здесь остается грубая сила,
олицетворяемая полумифологическими полицейскими. Однако несмотря на всю их нарочитую бдительность, они оказываются удивительно бессильными перед стремлением Сталкера проникнуть в Зону.
Кажется почти невероятным при их огромном внимании к охране всех
возможных путей в Зону, что Сталкеру, Профессору и Писателю удается все-таки прорваться через их вооруженные кордоны. Вероятно,
Тарковский сознательно пытался создать контраст между видимой
внушительностью охраны и ее реальной несостоятельностью, чтобы
продемонстрировать совершенное бессилие разума и всех связанных
с ним традиционных форм воздействия на мир перед настоящей решимостью человека, знающего нечто, что недоступно разуму и неподвластно его силам.
Разрушение самых фундаментальных связей между элементами
действительности Тарковский демонстрирует через странное смещение естественных закономерностей событий. В один из моментов машина с тремя героями с большой скоростью уносится вдаль по длинной улице, а сразу вслед за этим камера показывает, как по железнодорожным путям, параллельным этой улице проходит поезд, вслед за
которым из ближайшего же к нам переулка выскакивает притаившаяся там машина Сталкера; хотя по нашим ожиданиям в этот момент она
должна была находится очень далеко от этого места. После того, как
машина проскакивает вслед за поездом, какой-то рабочий закрывает
ворота, перегораживающие проход между кирпичными сооружениями. Он долго смотрит вслед машине, а затем бежит в противоположную сторону. Потом мы вновь видим машину Сталкера, которая перед
новым «броском» притаилась в каком-то ангаре. Сталкер медленно
и долго крадется вдоль стены, затем смотрит через окно на железнодорожные пути; и в этот момент рабочий из предыдущих кадров продолжает свой бег с того же самого места, в котором мы оставили его несколько минут назад. Возникает ощущение радикального нарушения
привычных пространственных и временных зависимостей явлений.
Весь рассматриваемый фрагмент в целом выстроен на противостоя¬
299
ГЛАВА V
«Сталкер»: человек в мире умершего Бога
нии резких «рывков», быстрого движения по узким проездам между
пустыми кирпичными сооружениями и настороженного ожидания,
в течении которого время словно бы останавливается, а пространство
распадается на фрагменты и замыкается в тесных объемах неуютных
ангаров и складов.
Последний «прорыв» машина с тремя путниками совершает под
ослепительным светом полицейских прожекторов и под градом пуль,
которые летят мимо цели, попадая только в перевозимый тепловозом
«научно-технический» груз — какие-то высоковольтные устройства.
Уже первая остановка на «той стороне» показывает, что здесь начинается новый мир, очень непохожий на прежний. Ангар, в котором
останавливаются Сталкер, Профессор и Писатель, несмотря на его
сходство со всеми предшествующими, обладает и явными отличиями
от них. Он оказывается гораздо более просторным и светлым, со множеством окон в несколько рядов и с озером посредине. Но самое главное, что в нем мы впервые видим растительность — внутри он весь
покрыт густой травой. Когда вдогонку беглецам раздаются выстрелы,
Писатель падает, сминая большие растения, похожие на крапиву,
и лежит в странной позе на боку; точно так же он позже будет лежать
в эпизоде, показывающем его преображение. Этот просторный ангар
предстает как первый фрагмент мира, еще обладающего какими-то
жалкими остатками бывшей земной гармонии; но только проникнув в самую глубь Зоны, герои обнаруживают по-настоящему ясные
и целостные элементы этой гармонии.
2. «Хранитель» ветхого бытия
Продвижение Сталкера, Профессора и Писателя вглубь Зоны наглядно обозначено изменением колорита изображения. Господствовавший ранее серо-коричневый оттенок сменяется черно-белым изображением во фрагменте, показывающем, как трое путников едут на
дрезине к центру Зоны. Вокруг железнодорожных путей, по которым
двигаются герои по-прежнему расстилается «промышленный» пейзаж — нежилые сооружения, штабеля труб, досок, бревен, элементы
каких-то конструкций; однако теперь все это выглядит более упорядоченным, не столь хаотичным и абсурдным как в тех эпизодах, которые
показывали мир по «эту сторону» невидимой границы Зоны.
Большую часть фрагмента поездки занимают крупные планы
лиц героев. Тарковский в своих фильмах очень часто дает крупные
планы, акцентирующие внимание на чувствах и настроениях героев.
В «Сталкере» этот мотив становится одним из самых главных. Выразительные кадры с изображением лиц персонажей становятся важнейшим лейтмотивом картины, словно режиссер раз за разом пыта¬
300
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
ется проникнуть в их внутренний мир, в тайну человеческого бытия — главную тайну мироздания. Пристально всматриваясь в лица
Сталкера, Профессора и Писателя, Тарковский демонстрирует нам
и их глубинное сходство, единство их устремления к постижению
себя и мира, и различия в их представлениях о тех путях, которые
должны привести нас всех к обретению желанных целей, к обретению
себя. Нужно отметить, что в «Сталкере», как и в других своих фильмах, Тарковский тонко использует известные живописные мотивы;
в данном случае — это, по-видимому, живопись конца XIX — начала
XX в. Особенно заметно сходство образа Сталкера с одним из автопортретов Ван Гога. Ярко-красочные пейзажи Зоны также заставляют
вспомнить произведения Ван Гога. Весьма вероятно, что некоторые
крупные планы героев возникли под влиянием портретных образов
Сезанна, Ренуара или Модильяни.
Уже первые кадры, показывающие Зону, создают резкий контраст по отношению ко всему предшествующему изобразительному
материалу. Изумрудно-зеленая, прекрасная, несмотря на свою природную «необузданность», растительность заполняет весь экран,
и на ее фоне все признаки технического могущества человека теряют свою зловещую силу, как бы «сморщиваются», «сминаются», утопают в обволакивающей их живой материи. В дальнейшем, во время
путешествия трех героев по Зоне, в кадре постоянно будут возникать
элементы каких-то технических конструкций и сооружений, и всегда
они будут выглядеть полуразложившимися, безнадежно испорченными, утратившими не только свое функциональное значение, но и свои
естественные формы. То, что в мире вне Зоны выступало как грозная
сила, разрушающая естественные связи реальности, иссушающая
жизнь, здесь само оказывается немощным, бессильным противостоять напору иррационального начала жизни.
Благодаря этому началу, в конечном счете, существует каждый
человек, хотя не каждый ощущает эту самую глубокую основу своей личности. Именно поэтому первые слова Сталкера после того, как
они достигли центра Зоны: «Ну вот, мы и дома». И как человек, который долго отсутствовал в своем родном доме, Сталкер первым делом
хочет остаться в одиночестве, чтобы восстановить контакт с благими силами, сохранившимися в этой сфере; он оставляет Профессора
и Писателя и, спустившись с железнодорожной насыпи, ложится на
землю среди высокой густой травы, и мы видим, как по его руке быстро ползет крохотная гусеница — представитель того бесконечного
и загадочного мира, о котором говорил врач-прохожий в предыдущем
фильме Тарковского.
Тем временем в разговоре Профессора и Писателя начинают проясняться история возникновения Зоны и парадоксальные законы ее
301
ГЛАВА V
«Сталкер»: человек в мире умершего Бога
существования. «Примерно лет двадцать тому назад, — говорит Профессор, — здесь будто бы упал метеорит, спалил дотла поселок. Метеорит этот искали, ну, и, конечно, ничего не нашли. Потом тут стали
пропадать люди, уходили сюда и не возвращались. Ну, и, наконец, решили, что метеорит этот не совсем метеорит, и для начала поставили
колючую проволоку, чтобы любопытствующие не рисковали. Вот тут-
то и поползли слухи, что где-то в Зоне есть место, где исполняются
желания. Ну, естественно, Зону стали охранять как зеницу ока, а то
мало ли у кого какие возникнут желания». «А что же это было, если
не метеорит», — спрашивает Писатель. «Ну, я же говорю, неизвестно». — «Но сами-то вы, что думаете». — «Да ничего я не думаю; что
угодно. Послание человечеству, как говорит один мой коллега, или подарок». «Ничего себе подарочек. — иронично замечает Писатель. —
Зачем им это понадобилось?» «Чтобы сделать нас счастливыми», —
почти веселым голосом завершает беседу Сталкер, появляясь из-за
насыпи и присоединяясь к Профессору и Писателю.
После этого он заводит дрезину, на которой они прибыли в Зону,
и отправляет ее обратно. Писатель смотрит вслед уезжающей дрезине
и спрашивает: «А как же мы вернемся?». «Здесь не возвращаются», —
отвечает Сталкер. «В каком смысле?» — удивленно восклицает Писатель, но его вопрос остается без ответа. Позже Сталкер еще раз произнесет ту же фразу, но сделает важное уточнение: «Здесь не возвращаются тем же путем». Однако в конце фильма станет понятным, что
в своем ответе Писателю Сталкер имел в виду другое: пройдя Зону,
человек уже не может вернуться к своей прежней жизни и к прежнему себе; тот, кто вошел в Зону, действительно, уже не возвращается назад. В первую очередь это будет относится именно к Писателю.
Наконец, три путника начинают осторожное движение по Зоне,
среди ее роскошного природного изобилия, в котором «утонули»,
сгинули и люди, и все военные и технические средства, посланные
на «покорение» таящихся здесь сил. Первая кульминация в неторопливом путешествии героев наступает в тот момент, когда Писатель
без всякой цели, ради простого любопытства начинает вытягивать из
земли какой-то длинный корень. Сталкер пытается остановить его, но
поскольку тот не реагирует на его крики, хватает ржавый металлический прут и кидает его в Писателя, заставляя оставить корень в покое. Взрыв эмоций, конфликт между Сталкером и Писателем заканчиваются тем, что последний, отказываясь подчиняться требованиям
своего вожатого, его осторожной тактике продвижения к зданию,
в котором находится «комната желаний», решает идти напрямик —
ведь до этого здания «рукой подать».
Медленное движение Писателя к стоящему вдали полуразрушенному зданию, под напряженными взглядами Сталкера и Профессора,
302
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
рождает ожидание чего-то фантастического и страшного. Это чувство передается и самому Писателю. Последние его шаги на прямом
пути к «комнате желаний» сняты уже со стороны здания, к которому
он идет, кажется, что это сама Зона внимательно наблюдает за непозволительным дерзанием человека. Замедленный ритм движений
Писателя (этот фрагмент снят рапидом) подчеркивает иррациональный характер свершающегося события. Когда Писатель на мгновение
останавливается, раздается странный треск, словно рвется огромная
паутина, затем через экран сверху вниз падает что-то подобное обрывку этой огромной паутины, и звучат резкие слова, произносимые
голосом Писателя: «Стойте, не двигайтесь!» Писатель быстро возвращается назад и с недоумением спрашивает у Сталкера: «Зачем вы
меня остановили?» Поняв, что ни Сталкер, ни Профессор не произносили этих слов, он начинает осознавать всю опасность пребывания
в Зоне. Это же до конца осознает и Профессор, который даже готов
отказаться от мысли побывать в «комнате желаний» и хочет остаться
на месте, чтобы дожидаться возвращения своих попутчиков. Именно в этот момент Сталкер пытается разъяснить им смысл того бытия,
с которым они столкнулись в Зоне, смысл ее «законов».
«Зона — это очень сложная система ловушек, что ли; и все они
смертельны. Не знаю, что здесь происходит в отсутствии человека, но
стоит тут появиться людям, как все здесь приходит в движение. Бывшие ловушки исчезают, появляются новые, безопасные места становятся непроходимыми, и путь делается то простым и легким, то запутывается до невозможности. Это Зона... Может даже показаться,
что она капризна; но в каждый момент она такова, какой мы ее сами
сделали, своим состоянием. Не скрою, были случаи, когда людям
приходилось возвращаться с полдороги не солоно хлебавши. Были
и такие, которые гибли у самого порога комнаты. Но все, что здесь
происходит, зависит не от Зоны, а от нас...» «Хороших она пропускает, — иронично комментирует слова Сталкера Писатель, — а плохим
отрывает головы». «Не знаю, не уверен, — продолжает Сталкер, —
мне так кажется, что пропускает она тех, у кого надежд больше никаких не осталось. Не плохих или хороших, а несчастных. Но даже
самый разнесчастный гибнет здесь в три счета, если не умеет себя вести. Вам повезло, вас она предупредила, а могла бы не предупредить».
В этот момент Профессор и Писатель оказываются поставленными перед ясным выбором. Либо они останутся в рамках того отношения к миру, которое определяло их бытие вне Зоны и которому
привержены все «нормальные» люди, и тогда их ждет быстрая гибель
в Зоне, либо они примут совершенно новое мировоззрение и совершенно новые правила поведения, станут похожими на Сталкера,
и тогда их, возможно, ждет в Зоне что-то такое, что способно стать
303
ГЛАВА V
«Сталкер»: человек в мире умершего Бога
новой вехой в их жизни, сделать их другими. Хотя этот выбор совпадает с выбором, представшим перед Крисом Кельвином после его прибытия на космическую станцию Соляриса, теперь Тарковский более
точно и более реалистично оценивает смысл альтернатив, обнажающихся здесь перед человеком.
В «Солярисе» Крис Кельвин, осознав, в конце концов, различие
двух мировоззрений и двух форм отношения к бытию, поняв невозможность оставаться в рамках первой из них, отдающей человека
во власть холодного разума, все-таки еще только искал путь к новой
жизни, только готовился к тому, чтобы принять позицию единства
с миром, подчинения миру; он еще не был уверен в том, что сможет
стать естественной частью той странной сферы, в которой отношения
человека с реальностью становятся совершенно иными по сравнению
с тем, к чему мы привыкли в обыденной жизни.
В отличие от него Сталкер уже освоился в этой сфере и воспринимает его как свой подлинный дом, как то место, где он может реализовать себя, где он может быть собой. Именно поэтому никто не
в силах остановить его, воспрепятствовать его желанию вновь и вновь
идти в Зону; для него вся жизнь вне Зоны — это жизнь в тюрьме,
и только в Зоне он чувствует себя свободным. В самом конце фильма
он скажет: «...моего вы у меня не отнимайте! У меня и так уже все отняли, там за колючей проволокой, все мое — здесь, понимаете, здесь,
в Зоне, — счастье мое, свобода, достоинство, все здесь...» Впрочем,
все привычные понятия в Зоне приобретают новый смысл. Свобода,
счастье и достоинство, обретаемые в Зоне Сталкером, очень непохожи на те их «прообразы», которые известны нам из нашей обычной
жизни. Обыденные значения этих слов связаны с традиционным противостоянием человека и мира, «субъективности» личности и «объективности» бытия. Это противостояние, ставшее основой нашего миропонимания, пронизывает всю культуру и помимо нашего сознания
определяет смыслы самых элементарных понятий. Особенно наглядно это проявляется в отношении понятия свободы, которое в рамках
традиционного мировосприятия означает независимость человека
от окружающей действительности и его способность господствовать
над ней, навязывать ей свои законы и цели.
Сталкер имеет в виду совсем иное. Говоря о противостоянии мира
и человека, мы неизбежно употребляем в качестве главных терминов такие, как «стойкость», «мужество», «воля»; они же определяют
и наше понимание свободы. В первый раз столкнувшись с миром, в котором «вывернуто наизнанку» наше «я», человек пытается освоится
в нем, используя привычные приемы: он пытается бороться с этим миром, подчинить его себе. От этого никуда не ушел Крис Кельвин в «Солярисе». От первых «грубых» приемов этой борьбы (вспомним, как он
304
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
отправил «первую» Лари в космос,! он переходит к более достойным,
учитывающим, что этот мир уже не вполне чужой (Крис пытается повторить с Хари, созданной Солярисом, ту жизнь, которая была прожита с реальной Хари), однако он все-таки стремится навязать этому миру свою систему ценностей, укорененную в его субъективном
«я». Принимая мир таким, какой он есть, вслушиваясь в его зовы, он
все-таки надеется на возможность грядущей гармонии, надеется на
то, что и в этом мире можно будет сохранить самое главное в своем
«я», пусть даже окажется, что оно не столь устойчиво и прочно, как
казалось вначале. Финал «Соляриса» несет в себе эту надежду: слившись с Океаном, открыв ему свою личность, Крис, возможно, сумеет
сохранить себя в том новом мире, который возникает из непрочного
единства земной гармонии с иррациональными силами бытия.
В «Сталкере» эта надежда почти исчезает, как исчезает возможность вести диалог с неведомым с позиции силы. Малейшая попытка
занять эту позицию кончается гибелью. Человек, способный жить
в этом мире, способный стать его подлинным со-участником — это человек почти стерший все самодостаточное в своем «я», лишенный
сильных желаний и стремления к самоутверждению. Именно таким
предстает в фильме его главный герой — Сталкер. Однако в еще большей степени, чем другие фильмы Тарковского, этот вовлекает нас
в странные парадоксы. Безволие, бесстрастность, своеобразная «немощность» Сталкера вдруг оказывается достоинством на фоне рассудительности и целеустремленности Профессора и интеллектуальной
глубины (впрочем, главным образом — глубины цинизма) Писателя.
В странном мире Зоны выявляется неистинность, вторичность, иллюзорность всех страстей, желаний, целей и идей. Дойдя до заветной
комнаты, где исполняются самые глубокие, самые искренние желания, все три героя обнаруживают пустоту в глубине своих душ. Пройдя через Зону и выжив в ней, и Профессор и Писатель должны будут
снова вернутся в нее, чтобы стать двойниками Сталкера, отбросив все
те ценности, которые не прошли проверку Зоной.
«Сталкер» — это рассказ о безосновности человека, о том, что
истинной и последней его основой является ничто (онтологическое
начало, противоположное бытию). Поэтому человеку для того, чтобы стать подлинным, необходимо отбросить все слишком «свое», все
«слишком человеческое» и стать сталкером (stalker) — преследователем бытия, идущим в-след за бытием.
Вернемся еще раз к «Солярису» и зададимся вопросом, что бы
случилось с обитателями станции через несколько лет после изображенных в фильме событий? Смог бы выжить в этих условиях Крис,
вынужденный заново строить в настоящем отношения с близкими
людьми, предстающими иррациональными чудищами, находящими
305
ГЛАВА V
«Сталкер»: человек в мире умершего Бога
опору своим человеческим чувствам только в самом Крисе г* Финал
«Соляриса» выглядит оптимистично, но все-таки положительный ответ на этот вопрос не кажется очевидным. Но вот Хари, останься она
в живых, несомненно стала бы естественной частью этого иррационального мира, — именно потому, что у нее отсутствовало то «слишком
человеческое», которое отгораживало Криса от реального бытия и которое требовало замыкания в себе, требовало построения себя из себя
самого. Сталкер — это и есть двойник выжившей Хари, освоившейся
в этом мире, способной слышать зовы этого мира и отвечать на них.
В определенном смысле Сталкера можно было бы назвать «человеком будущего», образцом человека той культуры, которая идет на
смену традиционной европейской культуре, благополучно развивавшейся в течении многих столетий, но теперь подошедшей к своему
пределу. Вглядываясь в черты этого нового человека, приходится
отказаться от прямолинейного прогрессистского оптимизма в понимании истории. Грядущие изменения, возможно, не только обогатят
человека новыми формами отношения к миру, но и отнимут многие
привычные и дорогие для нас ценности; и главную из них — ценность
самодостаточности, ценность обособленной индивидуальности. Не
случайно, герои фильма не имеют имен, а только клички, причем когда в самом начале Писатель хочет назвать себя по имени, Сталкер
грубо обрывает его: ведь имя — это главный признак индивидуальности. В лице Сталкера мы видим человека, который сознательно расстался с ценностями, ставшими лживыми в новом мире, и пытается
помочь расстаться с ними другим. Однако это расставание весьма
болезненно; и не только потому, что мы привыкли к определенным
ориентирам в построении своего бытия и не можем представить свое
существование без них. Здесь встает ряд вопросов, значение которых
выходит за рамки трагического изменения мироощущения отдельного человека, которые касаются трагедии всего нашего человеческого
бытия, трагедии самой реальности.
Отказаться от своей самобытности человек готов только в том случае, если взамен ему будут дарованы какие-то еще более высокие ценности, в рамках которых и значимость индивидуального человеческого бытия также будет учтена, востребована. Вера в возможность построения такой новой системы ценностей, не просто уничтожающей
ценность отдельной (и значит, относительной) индивидуальности,
но преодолевающей ее ограниченное значение, преобразующей ее
в форму абсолютной индивидуальности, пронизывает всю историю
европейской культуры. Особенно напряженный характер эта вера
носила в русской культуре. Русская философия от славянофилов до
Вл. Соловьева и его последователей стремилась доказать, что развитие
человека и общества неизбежно должно привести к преодолению обо-
306
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
соОленности личностеи, к возникновению такого состояния общества
и всего мироздания, в котором будет радикально преодолена ограниченность человеческих индивидов, за счет их вхождения в качестве относительно самостоятельных, пронизанных всеобщими духовными взаимосвязями элементов в абсолютную божественную личность —
Всеединство. В этом случае «преодоление» индивидуальности выглядит достаточно оптимистично. Человек ничего не потеряет при таком
«преодолении» из своего духовного достояния (за исключением чисто эгоистических и злых интенций), но, наоборот, приобретает то
духовное богатство, которое доселе оставалось для него неведомым,
будучи сокрытым в изолированных внутренних мирах других людей
и в глубине божественного бытия в целом.
Но вот как раз здесь, в вопросе о возможности достижения окончательного благого всеединства, между русскими философами наметилось существенное и очень характерное расхождение. Петр Чаадаев первым уверенно говорил о том, что нет никаких серьезных препятствий для реализации в мире абсолютного всеединства, нужно только, чтобы человек правильно понял свою задачу в бытии — подчинение, а не раскрепощение своей эгоистической свободы. Вл. Соловьев
также был убежден, что указанная перспектива является абсолютно
реальной, более того она гарантирована человеку и человечеству
в их историческом развитии: рано или поздно произойдет благодатное
преображение и человечества и зависимой от него природы к всееди-
ному и абсолютному состоянию. Как уже говорилось выше, примерно
так же оптимистично представлял себе перспективу человеческого
и общемирового развития С. Франк.
Однако более влиятельной и более глубокой оказалась противоположная тенденция, которую впервые явно обозначил Достоевский
(в полемике с Вл. Соловьевым, с которым он был близко знаком в последние годы жизни). Вспомним рассказ «Сон смешного человека»,
о котором говорилось в предыдущей главе. Изображая, как герой рассказа своими негативными качествами «заразил» людей совершенного общества и «развратил» их, вызвав процесс деградации до несовершенного состояния, Достоевский доказывает, что достигнутое
людьми совершенство не было абсолютным и окончательным. От него
можно было двигаться как «вверх», к еще большему совершенству,
к недостижимому идеалу окончательного совершенства, так
и «вниз», в сторону все большего несовершенства, абсурда, иррациональности. В конце рассказа героя ясно формулирует этот итог:
«...пусть, пусть это никогда не сбудется и не бывать раю (ведь уже
это-то я понимаю!), — ну, а я все-таки буду проповедовать. А между
тем так это просто: в один бы день, в один бы час — все бы сразу
устроилось! Главное — люби других как себя, вот что главное, и это
307
ГЛАВА V
«Сталкер»: человек в мире умершего Бога
все, больше ничего не надо: тотчас найдешь как устроиться»0 с*то высказывание отражает убеждение Достоевского в том, что совершенство, «рай», является только идеалом и никогда не может быть достигнуто — ни в земной жизни, ни в посмертной. Если бы совершенство
стало реальным, оно бы «уничтожило», «растворило» человека как
динамическое, противоречивое существо. Бог — это только идеал,
живущий в душе человека и заставляющий его стремиться к преображению себя и всего мира. Бога, как его представляло историческое христианство и рационалистическая философия (как наличное
«совершенство») нет и не было (он «умер»); существует только Бог
в человеке, и он не подавляет, а поддерживает и обосновывает бытие
человека, наглядно являя себя в любви и самопожертвовании.
Очень талантливо эти представления в начале XX в. развивали наследники Достоевского — JI. Карсавин и И. Ильин. Карсавин создал
чрезвычайно оригинальную метафизическую конструкцию; в ней Бог
является абсолютным, творящим существом, однако наряду с Богом
и в независимости от него существует иное онтологическое начало —
ничто, которое, по существу, ограничивает божественное всемогущество. Акт Творения Карсавин понимает как акт «перемещения» Богом своего бытия в сферу ничто, это приводит к тому, что Бог принимает форму ограниченности, становится «конечным» и «временным»
Богом, т. е. человеком. В результате, получается, что никакого Бога
вне земного мира нет, причем Бог реально присутствует только в человеке, как его «божественная глубина».
При всей кажущейся экзотичности таких представлений о Боге
и акте Творения, они имеют давнюю историю, центральные элементы
своей философии Карсавин заимствует из средневековых гностикомистических учений. Например, очень похожие представления можно найти у Николая Кузанского (на которого Карсавин очень часто
ссылается). Как пишет Кузанец, «множество вещей возникает благодаря пребыванию Бога в ничто: отними Бога от творения — и останется ничто»4. Или о том же самом: «...допустимо при здравом понимании
согласиться с изречением Гермеса Трисмегиста, что Бог именуется
именами всех вещей, а все вещи — именем Бога, так что человека
можно было бы назвать очеловечившимся Богом (deus humanatus),
а этот мир — чувственным Богом, как думал и Платон»5.
Из развиваемого им представления о человеке Карсавин выводит
достаточно радикальные этические выводы; о некоторых из них мы
3 Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1877 г. С. 137.
4 Николай Кузанский. Об ученом незнании // Николай Кузанский. Соч.
в 2 т. М., 1979-1980. Т. 1. С. 105.
5 Николай Кузанский. О даре Отца светов // Николай Кузанский. Соч.
в 2 т. Т. 1. С. 327.
308
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
уже говорили во введении. Являясь «конечным», «временным» Богом,
человек должен восстановить в себе подлинного Бога, для этого он
должен «раскрыть» свое бытие на весь мир, соединиться со всем миром и тем самым сделать мир более цельным и единым, чем он есть
в своем несовершенном состоянии. Это и есть, согласно Карсавину,
жертвование себя миру, смерть человека ради мира; в таком жертвовании в мире рождается Бог. Но этот родившийся Бог не может
существовать в «чистом» виде, поскольку его «пронизывает» иррациональное ничто, «разлагающее» его абсолютное бытие. Поэтому Бог
лишь на миг рождается в жертвенных усилиях человека и тут же поглощается «пропастью» ничто. Это обуславливает трагическую судьбу человека — вечно борющегося за «восстановление» Бога в мире
через себя и вечно терпящего поражение в этой борьбе6.
Очень похожую концепцию, с похожими этическими выводами,
создал И.Ильин (о некоторых принципах его этики мы уже не раз
говорили ранее). Самым главным его философским трудом является
книга «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека» (1918), в которой он осуществил парадоксальную интерпретацию
философии Гегеля, превратив Гегеля из известнейшего рационалиста
в последовательного иррационалиста. Согласно Ильину, в философии
Гегеля описывается трагическая судьба Бога в мире. Бог создал мир,
но мир в силу какой-то непонятной иррациональности (видимо, заключенной в самом Боге) оказался неподвластным своему Творцу —
абсурдным, непредсказуемым. Тогда Бог, пытаясь «исправить» свое
творение, довести свой замысел до благого результата, соединяется
с миром, чтобы «изнутри» переделать его, довести до совершенства и
полной благости. Однако и этот акт оканчивается неудачей: иррациональность мира оказывается сильнее благости и могущества Бога.
В результате, не Бог победил абсурдность и иррациональность мира,
а иррациональность мира поглотила Бога и свела его бытие к ограниченной форме человека. И вот, в образе человека Бог продолжает
бесконечную и безнадежную борьбу за восстановление своего совершенства и своей абсолютности — против иррациональности мирового бытия. Во как об этом пишет Ильин: «...“предел человека” есть
нечто большее, чем его предел или его “грех” это есть предел самого
Божества, придавшего себе человеческий образ и антропоморфный
способ существования»7. В форме человека Бог оказывается «страдающим Богом», страдание — это его главное качество, в котором реализуется его борьба за собственную абсолютную сущность. «Путь Божий в мире есть путь побеждающего страдания: ибо, если и все в мире
6 См.: Карсавин Л. П. О личности. С. 181-234.
7 Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека. СПб., 1994. С. 468.
309
ГЛАВА V
«Сталкер»: человек в мире умершего Бога
есть Бог, то не все в мире и в Боге божественно; отсюда страдание
в мире и необходимость победы: ибо всякое страдание есть страдание
самого Божества, побеждающего страданием своим. Но победа эта
трагически растягивается и отходит в бесконечность»8.
Ильин писал свою книгу о Гегеле в самом начале XX в., в 30-40-е
гг. по этому же пути пошли французские неогегельянцы во главе
с Александром Кожевом (Кожевниковым), который, возможно, испытал влияние Ильина. Известная книга Кожева (выросшая из циклов
лекций) «Введение в чтение Гегеля» (1947) стала одним из важнейших источников французского экзистенциализма, одного из самых известных и популярных философских течений второй половины XX в.
Все эти философские концепции, признающие человека «страдающим Богом», борющимся за совершенство, но никогда недостигающим
его, очень естественно соотносятся с представлениями Тарковского,
выраженными в «Сталкере». В «Страстях по Андрею» и «Зеркале» господствовало достаточно оптимистическое представление о будущем
человека. Человек, открывая свою подлинную роль в бытии, вовлекая
себя в бытие, ничего не терял из своего духовного достояния. Мир
становился при этом более «прозрачным», целостным, гармоничным.
Бытие, которому открывался человек и которое открывалось человеку, выявляло только свою светлую, божественную сущность.
В «Солярисе» сделан больший акцент на тех трагических проблемах, в которые вовлекается человек в тот момент, когда он пытается преодолеть традиционное разделение мира на «объективное»
и «субъективное» и принимает свое новое положение в мире. Однако
и здесь чувствуется скрытая вера в то, что все трагедии получают разрешение, и в новом мире новый человек обретет высшую гармонию,
не утратив ничего из своего внутреннего богатства.
В «Сталкере» оптимистическое представление о грядущем человеке полностью развеивается. Открывая себя бытию и отрекаясь от
всего внутреннего, «своего» ради высшего единства и высшей подлинности «я», человек не достигает тех целей, ради которых это отречение происходит. «Открывшееся» бытие оказывается несовершенным,
нецельным, бессмысленным как в отдельных своих проявлениях, так
и в целом.
Зачем же нужно человеку это новое положение в мире, не лучше ли попытаться сохранить свое «я», свою «субъективность» и еще
решительнее отгородиться от «объективности», грозящей бедами
и утратами? Но все дело в том, что выбора у человека уже нет, и не
в его воле остановить те изменения, которые происходят в нем и которые стали неизбежными; другого пути попросту нет. Мир по
самой глубокой свое сути таков, как это представлено в фильме
8 Там же. С. 498-499.
310
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
Зоной. В этом смысле очень важным представляется высказывание
самого Тарковского о замысле фильма: «В “Сталкере” фантастической можно назвать лишь исходную ситуацию. <...> Внутри же самой ткани происходящего никакой фантастики не будет, видимо-реальной будет даже Зона. Все должно происходить сейчас, как будто
бы Зона уже существует где-то рядом с нами»9. Хотя пейзажи Зоны
удивительно похожи на гармоничные, совершенные пейзажи «Зеркала», это сходство оказывается обманчивым, теперь за внешней гармонией разверзается пропасть. Если мы закроем глаза на тот факт, что
мир является совсем не таким, как мы его полагаем в спокойствии
нашей обыденной жизни, и поэтому должны стать другими мы сами,
то нас ждет скорая гибель. Об этом Тарковский недвусмысленно скажет в двух своих последних фильмах — в «Ностальгии» и, особенно,
в «Жертвоприношении».
Человек призван быть «хранителем» бытия, и если оказалось, что
бытие не обладает качествами цельности и божественности, значит
человеку предстоит быть «хранителем» этого ущербного, распадающегося, ветхого бытия. Тема ветхого бытия, «хранителем» которого должен стать человек, чтобы спасти себя — отдавая себя ему
и тем самым удерживая его от полного распада, придавая ему минимум смысла и связности — наиболее выразительная и загадочная тема
«Сталкера». Несмотря на предельную лаконичность выразительных
средств в фильме больше всего поражает эта магическая, завораживающая круговерть иррациональных деталей бытия — вещей, явлений,
событий. Герои фильма вовлекаются в эту круговерть и вынуждены
подчиниться ее ритму, любая попытка противостоять этому ритму,
сохраняя позицию обособленной «субъективности», ведет к гибели.
Профессор и Писатель, первый раз оказавшись в Зоне, еще пытаются выстроить все происходящее вокруг в какую-то рациональную систему, пытаются выявить единый смысл, охватывающий все
это хаотическое мельтешение бессвязных деталей бытия. Но итогом
всего их путешествия оказывается полное отрицание какой-либо рациональности и какого-либо глобального смысла. Зона, — это мир,
переживший метафизическое событие «смерти» Бога. «Здесь все
кем-то выдумано, — проницательно говорит Писатель, — это чья-то
идиотская выдумка, неужели вы не чувствуете. Вам, конечно, до зарезу нужно знать чья... а почему? Что толку от ваших знаний, чья совесть от них заболит?..»
Здесь еще раз стоит подчеркнуть отличие представлений о структуре реальности, характерных для «Сталкера», от аналогичных представлений в «Солярисе».
9 Тарковский А. О киноискусстве (интервью) // Мир и фильмы Андрея Тарковского. С. 322-323.
311
ГЛАВА V
«Сталкер»: человек в мире умершего Бога
В более раннем фильме угадывалась модель многообразия, иерархии взаимосвязанных миров, причем на вершине этой иерерхии
находился мир «божественного» бытия, в котором пребывал Океан —
Бог-Демиург всей реальности, существующей во времени. Этот
странный Бог ничего общего не имел с традиционными христианскими представлениями. Помимо приводившегося ранее соотнесения
такого образа Бога с гностической традицией, можно вспомнить еще
одну концепцию, которую, возможно, имел в виду Тарковский, создавая этот образ, — это концепция «мировой воли» Артура Шопенгауэра. Воля выступает здесь как Абсолют, т. е. в качестве своеобразного
Бога, однако Шопенгауэр противопоставляет свое понимание Абсолюта всем тем, которые были характерны для предшествующей традиции — и для христианства, и для европейской рационалистической
философии. Это различие он проводит в двух важнейших моментах.
Во-первых, он отказывается считать свой Абсолют рациональным,
разумным, благим, как это принято в христианстве. Именно поэтому
он понимает его как обобщение человеческой воли, которая по своей
сущности противостоит разуму, является спонтанной, не подчиняется никакому закону. В этом смысле волю Шопенгауэра можно было
бы назвать безумным Богом, который, обладая всемогуществом, не
обладает никакой последовательностью и логичностью в своих творящих действиях. Во-вторых, Шопенгауэр, решительно настаивает на
нерасторжимом единстве, почти тождестве, воли отдельного человека и «мировой воли». Такое отождествление Абсолюта и отдельного человека невозможно выразить и понять рациональным образом,
поэтому Шопенгауэр отрицает всю рациональность и построенное на
ней научное познание как неспособное достичь высшей истины.
Отрицая историческое христианство как ложную форму понимания Бога и человека, Шопенгауэр позитивно оценивает только
различные мистические учения (в том числе учение ранних христи-
ан-гностиков), которые провозглашали единство Бога и человека;
в качестве единственной философской системы, близкой к своей философии, он признает только мистический пантеизм Мейстера Экхар-
та, имеющий гностические истоки10.
Океан Соляриса, понятый как Бог-Демиург, во многом похож на
шопенгауэровскую волю. Но совпадение мыслей русского режиссера
и немецкого философа не ограничивается только пониманием Бога,
нравственные размышления Тарковского в некоторых своих мотивах
также заставляют вспомнить этику Шопенгауэра. В своей этике Шопенгауэр утверждал, что человек достигает высшей формы своего существования, когда он возвышается над волей, укрощает ее в себе,
10 См.: Шопенгауэр А. О четверояком корне... Мир как воля и представление.
T. I. Критика кантовской философии. М., 1993. С. 599-605.
312
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
а поскольку воля отдельной личности тождественна «мировой воле» —
то он укрощает и волю как таковую, как Абсолют. Это вполне соответствует идейной логике «Соляриса», где Крис Кельвин, прозревая свою
сущность в «мире вечности», «возвышается» над Океаном и, соединяясь с ним, заставляет его следовать собственным представлениям
о целях и смыслах бытия.
Правда у Шопенгауэра полностью отсутствует концепция «двух
Богов», которая играет большую роль в конструкции «Соляриса»
и которая сближает философию этого произведения с более ранней
и более точной версией гностического мировоззрения — с философией Мейстера Экхарта.
В «Сталкере» взгляды Тарковского существенно изменяются.
Философия Шопенгауэра во многом была непоследовательной, в ней
были гениальные идеи, открывающие новые перспективы понимания
мира и человека, но они противоречиво сочетались с рудиментами
рационалистической традиции. В окончательной форме новаторское
содержание этих идей было раскрыто прямым наследником Шопенгауэра — Фридрихом Ницше. Он окончательно отбрасывает главный
элемент классической традиции — внечеловеческий Абсолют, и признает в качестве абсолютного начала только саму человеческую личность, взятую в ее внутренней бесконечности. Именно этот смысл
и выражает известный тезис Ницше «Бог умер».
Генезис, который проделывает мировоззрение Тарковского,
в чем-то подобен тому сдвигу в понимании человека и его отношений
с бытием, который осуществляет Ницше, окончательно преодолевая
представления классической философии. Если в «Солярисе» все еще
был Бог-Демиург, подобный шопенгауэровской воле, то в «Сталкере»
он исчезает; бытие окончательно лишается «попечительства» Бога,
пусть даже иррационального и неразумного. Это приводит к тому, что
в философских воззрениях Тарковского именно человек становится
метафизическим центром всей реальности, единственным оплотом
осмысленности и целостности бытия.
Можно добавить, что представление о реальности, характерное
для «Сталкера», явно ассоциируется с еще одной философской концепцией, упоминавшейся ранее. Это французский экзистенциализм,
который в 60-70-е гг. была чрезвычайно популярен в Советском Союзе. Тарковский не прошел мимо этого общего увлечения, об этом
свидетельствует его желание экранизировать роман Альбера Камю
«Чума», являвшийся художественным манифестом атеистического
экзистенциализма.
Косвенное отражение философских идей Камю можно угадать
в одном из фрагментов фильма «Солярис». Когда Крис Кельвин приходит в себя после «видений», посланных ему Океаном, и узнает об
313
ГЛАВА V
«Сталкер»: человек в мире умершего Бога
исчезновении Хари, он мучительно переживает вхождение в новую
жизнь и со страданием в голосе говорит Снауту (имея в виду Океан):
«Послушай, Снаут. за что он нас так мучает». На это Снаут отвечает: «Знаешь, по-моему, мы потеряли чувство космического, древним
оно было доступнее. Они бы никогда не спросили “за что”, “зачем”.
Вспомни миф о Сизифе». Упоминание мифа о Сизифе в этом случае,
возможно, намекает на главную философскую работу Альбера Камю
«Миф о Сизифе. Эссе об абсурде». Но еще важнее, помимо чисто формального использования образа одного и того же мифологического
персонажа, совпадение глубоких интенций философской мысли Тарковского и Камю. Ведь оба они пытался понять, как должен действовать человек в мире, в котором воцарился абсурд, в котором исчезло
божественное «попечительство» над бытием. Нужно также отметить,
что в своей философии Камю постоянно обращается к творчеству Достоевского; можно сказать, что вся его философия есть творческое
развитие некоторых философских принципов Достоевского. Тесная
связь Камю с Достоевским могла быть дополнительным стимулом для
восприятия идей французского философа Тарковским.
Представление о реальности в «Сталкере» в еще большей степени, чем в «Солярисе», соотносится с философией Камю, поскольку
здесь полностью исчезает традиционно понятый Бог, и реальность
в своей «абсурдности» становится еще более похожей на ту, что изображает атеистический экзистенциализм Камю и Сартра. Однако
в абсолютном отрицании Бога содержится внутреннее противоречие,
о котором мы уже говорили выше: в этом случае очень трудно придать
осмысленность жизни и поступкам человека. В это смысле метафора
Ницше «Бог умер» оказывается гораздо более глубокой: ведь оборотной стороной тезиса о «смерти» Бога выступает тезис о возможности
«воскресения» Бога; указанная метафора наиболее точно отражает
то состояние мира, которое изображает Тарковский в своем фильме.
Свидетельством того факта, что Бог был в мире, является «локальная» осмысленность бытия, частичная его целостность. Однако после
«смерти» Бога перспектива полной осмысленности утрачена. Только
человек в соответствии с загадочными законами своей сущности продолжает нести в себе призрачный идеал, мечту о совершенстве и осмысленности мира. Здесь и проявляется его значение в этом мире.
Отказываясь от себя, от своей изолированной и частичной целостности, он не может надеяться на достижение всеобщего и абсолютного
смысла. Но его самопожертвование уже само по себе, в своей абсурдной настойчивости, в своей безнадежной надежде привносит дополнительные крупицы смысла и надежды в бытие. И, может быть, со
временем этих «крупиц» накопится достаточно для того, чтобы бытие
приобрело некий всеобщий смысл и стало по-настоящему цельным
314
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
и благодатным. Тогда и человек, потерявший себя в бытии ради его
будущего, наконец, найдет себя обновленным и более цельным, чем
прежде. Подчиняя себя ритму распадающегося, ветхого бытия, человек способен изнутри преодолеть эту тенденцию распада и стать
центром «кристаллизации» смыслов. И тогда его ждет не гибель, не
подчинение хаосу и сумятице иррациональных сил, а творческое руководство ими; тогда-то человек и станет подлинным «пастухом» бытия. Глубоким символом этой надежды выступает внезапно появившаяся, как бы «материализовавшаяся» из загадочной глубины Зоны
и оставшаяся рядом со Сталкером собака, олицетворяющая иррациональное, бессловесное бытие, прильнувшее к человеку ради того,
чтобы обрести желанный смысл.
В «Солярисе» бытие демонстрировало свое могущество, свое господство над человеком, даруя ему материализацию его желаний.
В «Сталкере», наоборот, человек, уже открытый миру, целиком послушный его зовам, сам оказывается желанным для бытия, и неведомое, в конце концов, является ему в образе загадочного, но преданного друга.
3. В поисках Учителя
В «Сталкере» Тарковский предельно «минимизирует» набор своих выразительных средств; многие приемы и образы из его прежних
фильмов здесь исчезают. Однако некоторые, наоборот, получают развитие. В частности, это относится к приему панорамной съемки или
реального кругового движения героев. Напомним, что в «Солярисе»
этот прием использован дважды. Первый раз — в сцене беседы Криса
Кельвина со Снаутом, когда Крис осознает, что на станции происходят какие-то невероятные события, способные поставить под вопрос
всю его прежнюю жизнь и его мировоззрение. Пытаясь вернуться
к привычному ритму жизни, к привычным оценкам и стереотипам поведения, он не находит опоры для них в новом мире и чувствует зияние «разрывов» и «лакун» в той системе мировосприятия, к которой
он привык. Второй эпизод, использующий прием кругового движения, — это шествие Криса в полубессознательном состоянии по круговому коридору станции в сопровождении Хари и Снаута; он носит
иной характер и очень близок по смыслу к одному из самых важных
фрагментов «Сталкера», в котором Писатель медленно идет по тоннелю «мясорубки», одной из «ловушек» Зоны. В «Сталкере», кроме
того, есть еще два эпизода с круговым движением. Во-первых, это
путь Сталкера и Писателя в еще одной «ловушке» Зоны, в «сухом тоннеле», заканчивающийся возвращением к тому месту, где их ожидает
Профессор, отставший от них и возвратившийся за своим рюкзаком;
315
ГЛАВА V
«Сталкер»: человек в мире умершего Бога
во-вторых, это прямолинейное и в то же время «замкнутое» (в «неевклидовом» смысле) движение камеры в сцене «сна» Сталкера, показывающей знаки ветхого бытия — различные предметы, лежащие
в тонком слое воды, покрывающем кафельный пол, — которое начинается изображением лица спящего Сталкера, лежащего посреди странного пространства, покрытого водой, а заканчивается изображением
его руки. В двух этих эпизодах рассматриваемый прием использован
по-разному: во втором случае это условное движение, как бы обозначающее духовную концентрацию личности, а в первом — реальное
движение героев в пространстве.
Круг — это образ совершенной замкнутости. В европейской христианской культуре круг всегда выступал в качестве символа божественного начала, преодолевающего негативную бесконечность материи, замыкающего материю в совершенные, самодостаточные формы.
Круг всегда обладает центром, и этим центром, в абсолютном смысле,
является Бог, замыкающий все бесконечное бытие в себе. При этом
ясно, что Бог не может быть «точечным» центром, он должен выступать вездесущим «наблюдателем», перед которым «расстилается» все
пространство событий. Именно в этом смысле нужно понимать слова Николая Кузанского, которые мы уже приводили выше: Бог есть
окружность и центр, который везде и нигде11.
Согласно мировоззрению Тарковского, Бог «рождается» и «живет» в мире только через человека, он «конституируется» его духовными усилиями, собирающими бытие вокруг, как это демонстрирует
сцена «молитвенного созерцания» в «Страстях по Андрею». Однако
в этом же фильме Тарковский доказывает нам, что одних духовных
усилий человека недостаточно для преображения мира, для создания
абсолютного центра, стягивающего все бытие. Такой центр возникает в результате самопожертвования человека; в этом акте возможность цельности и осмысленности, родившаяся из духовной концентрации человека, становится реальностью через его жертвенное
деяние. В «Страстях по Андрею» единство этих двух актов — духовной концентрации и самопожертвования — только намечалось, но не
было выражено в зримых образах; в последующих фильмах это единство привлекает особое внимание режиссера.
Вспомним, что в «Страстях по Андрею» Тарковского вдохновляла
вера в потенциальное совершенство земного мира; задача человека —
в том, чтобы превратить потенциальное совершенство в актуальное,
раскрепостить благие тенденции бытия, а самому стать источником,
из которого в мир изливается божественная энергия, преображающая его. В рамках такого оптимистического мировоззрения Тарковский мог полагать, что человек находится в потенциальной гармонии
11 Николай Кузанский. Об ученом незнании. С. 134.
316
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
с миром, и ему достаточно привести самого себя в состояние «открытости» бытию, чтобы начать преображение мира, чтобы внести новый
смысл в окружающую его сферу действительности.
В «Солярисе» и тем более в «Сталкере» мировоззрение Тарковского становится более пессимистическим. Он уже не верит в потенциальную гармонию личности и мира, действительность воспринимается им как «непокорная» человеку, «дикая», наполненная иррациональными силами, которые не так-то просто свести к целостности
и заставить служить идеальным целям. В таких условиях духовная
концентрация человека, его замыкание в себе, направленные на преображение себя и мира, уже не приближают к искомой цели. Духовная концентрация, предполагающая самодостаточность личности,
оказывается даже невозможной теперь, поскольку, замыкаясь в себе,
человек теряет себя, теряет связь с бытием — хотя и иррациональным, несовершенным, но все-таки необходимым в качестве источника
жизненной энергии. Исихастское мировоззрение, которое отразилось
в фильме «Страсти по Андрею», предполагает, что незыблемой основой
как человека, так и окружающего его мира является по-настоящему
цельное и благое божественное начало. И задача человека состоит
в том, чтобы выявить, раскрыть его в себе и затем добиться раскрытия
этой благой основы в каждой вещи. В мире «Соляриса» и «Сталкера»
Бог оказался «умершим», исчезнувшим, затерявшимся в иррациональном хаосе самовольного бытия. В результате этого человек, удаляющийся от мира и замыкающийся в себе, находит не прочную основу своей личности, а бездну ничто, в которой тают все смыслы. Это не
означает, что Тарковский вовсе отказывается от идеи духовной концентрации личности, просто теперь она понимается им в существенно
ином смысле. Человек должен не отстраняться от мира, а следовать
его ритмам и течениям, пусть даже абсурдным и опасным; в самом
этом следовании человек должен попытаться так изменить указанные
ритмы и течения, чтобы они приобрели более осмысленную форму,
стали благими, творческими, а не разрушительными и гибельными.
Именно этот смысл угадывается в эпизодах кругового движения в
«Сталкере». Сталкер и Писатель, двигаясь по «сухому тоннелю», попадают в ловушку Зоны и в конце своего пути выходят к тому же месту, из которого вышли. Точно так же почти полный круг в пространстве описывает Писатель, двигаясь по тоннелю «мясорубки» — еще
одной ловушки Зоны. В обоих случаях герои вынуждены подчиниться
«топологии» того пространства, в котором они находятся. И делается это, в конечном счете, ради того, чтобы внести в иррациональный
ритм бытия крупицы смысла, чтобы превратить «ловушки» в «тропы»,
по которым можно идти без боязни. Осознав, что он вместе с Писателем миновал ловушку, Сталкер говорит после выхода из «сухого
317
ГЛАВА V
«Сталкер»: человек в мире умершего Бога
тоннеля»: «Я ведь никогда не знаю заранее, каких людей я веду. Все
выясняется только здесь, когда уже поздно бывает». Пройти через ловушку, выжить в ней и сделать ее «проходимой» может не каждый.
Зона — это место, где бытие становится точным отражением всех самых глубоких потенций и задатков человека — как разрушительных,
так и созидательных. Входя в ловушку, человек обращает их на себя
самого и либо уничтожает себя, усиливая хаос и бессмыслицу окружающего, либо приходит к постижению себя в своем «инобытии»,
в мире, ставшем продолжением и дополнением его личности. Именно последнее происходит с Писателем, за этим же раз за разом приходит в Зону Сталкер.
Не случайно, после того, как они благополучно преодолели «сухой тоннель» Сталкер и Писатель обретают более глубокое понимание себя, — далее следует центральный фрагмент фильма, в котором
оба они формулируют (первый неявно, второй явно) истинные цели
своего похода в Зону.
Во время импровизированного «привала», объявленного Сталкером, все три героя ложатся на землю посреди ряда дождевых луж,
и Писатель возвращается к рассуждениям о смысле своего путешествия. «Плевал я на человечество, — продолжая свой бесконечный
спор с Профессором, говорит Писатель, — во всем вашем человечестве меня интересует только один человек, я то есть; стою я чего-нибудь, или я такое же дерьмо как некоторые прочие. <...> Положим,
войду я в эту комнату и вернусь в наш Богом забытый город гением.
Но ведь человек пишет потому, что мучается, сомневается; ему все
время надо доказывать, что он чего-то стоит. А если я буду знать
наверняка, что я гений, зачем мне писать тогда, какого рожна? <...>
Во всяком случае вся эта ваша технология, все эти домны, колеса
и прочая маета-суета, чтобы меньше работать и больше жрать, все
это — костыли, протезы; а человечество существует для того, чтобы создавать произведения искусства. Это во всяком случае бескорыстно, в отличие от всех других человеческих действий... великие
иллюзии, образы абсолютной истины!»
Подлинная цель похода Писателя в Зону заключается в желании
найти себя. В отличие от большинства «нормальных» людей, которые не сомневаются в самодостаточности и «прочности» своего «я»
и непоколебимо уверены в своем праве на спокойствие и счастье,
Писатель предстает как человек, осознавший «иллюзорность» своего прежнего «я», понявший необходимость нового основания для
своей жизни. И это основание он видит в преследовании «великого
и невозможного», говоря словами Ницше12. «Великие иллюзии, об¬
12 Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Ницше Ф. Соч. в 2-х т.
М., 1990. Т. 1. С. 218.
318
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
разы абсолютной истины» — вот что должно вдохновлять человека
в жизни, и пусть у этих идеалов нет надежной опоры в мире, утратившем божественное руководство; тот факт, что они живут в его душе
и неискоренимы в ней, подтверждает их непреходящее значение для
всего мироздания.
Словно подтверждая правоту Писателя в его поисках себя, своей новой жизни, Сталкер в заключение сцены «привала» почти без
какой-либо связи с предшествующим говорит: «Вот вы говорили тут
о смысле жизни, бескорыстности искусства. Вот, скажем, музыка.
Она и с действительностью-то менее всего связана; вернее, если
и связана, то безыдейно, механически, пустым звуком, без ассоциаций.
И тем не менее музыка каким-то чудом проникает в самую душу. Что
же резонирует в нас в ответ на приведенный в гармонию шум и превращает его для нас в источник высокого наслаждения, и объединяет,
и потрясает? Для чего все это нужно и главное — кому? Вы ответите —
никому и ни для чего, так, бескорыстно. Да нет, вряд ли. Ведь все
в конечном счете имеет свой смысл... и смысл, и причину...» Особенно
многозначно звучат его слова: «Для чего все это нужно, и главное —
кому?» Этот риторический вопрос, который он отказывается считать
бессмысленным, живет в душе каждого человека, нужно только уметь
расслышать его и правильно оценить его содержание.
Этот фрагмент заставляет еще раз высказать предположение
о существенном влиянии философии Шопенгауэра на Тарковского,
поскольку одним из известных слагаемых системы немецкого философа было представление о музыке как важнейшей форме не только
искусства, но и всей сферы человеческого существования. Шопенгауэр утверждал, что именно через музыку, через вызываемые ею в душе
человека переживания осуществляется самая непосредственная
и прямая связь отдельной человеческой личности с Абсолютом, с волей; музыка выводит человека из сферы обыденного существования
и показывает, что у него есть более возвышенные цели, чем стремление к земному счастью.
Тарковский похожим образом интерпретирует значение музыки.
«Умерший» Бог оставил нам «в наследство» веру в гармонию и совершенство, и эта вера — единственное, что достойно усилий человека
и что способно спасти его среди разгула стихийных сил. Музыка — это
как бы отзвуки, отражения той гармонии, которая звучала в мире, пока
в ней был Бог. Но теперь она уже непонятна в своем подлинном значении, в ней есть призыв, есть тоска по идеалу, но нет откровения свершившейся Истины, достигнутой цельности бытия. Теперь человек своими силами должен воссоздать Истину и цельность бытия, и для этого
он должен войти в хаос и сумятицу жизни, слиться с иррациональными
течениями бытия и изнутри преобразить их своим упорным трудом.
319
ГЛАВА V
«Сталкер»: человек в мире умершего Бога
Строки из Откровения Иоанна Богослова, повествующие о начавшемся Апокалипсисе, звучащие в сне Сталкера, обозначают ту
перспективу, которая ожидает всех и всё, если человек не выполнит
задач, возникающих перед ним в мире «умершего» Бога. Близость
этого апокалиптического будущего обозначена тем, что распад бытия
захватил все его сферы и сделал их близкими друг другу, почти разрушил естественные границы между ними. В предшествующих фильмах
две сферы реальности — «мир времени» и «мир вечности» — были
ясно отделены друг от друга и радикально отличались по своему содержанию. «Мир вечности» содержал в себе символическое отражение всех событий земной жизни; проникая в него, человек получал
новое откровение о себе, о смыслах и целях своей жизни. «Сны»,
в которых герои проникали в «мир вечности», всегда были благими
событиями, помогающими выстоять в испытаниях.
В «Сталкере» всё становится иным. Образы «мира вечности»,
возникающие перед главным героем во время его полудремы, ничем не отличаются от образов земной реальности. В них мы видим
Сталкера, лежащего посреди воды, как и в земной действительности,
только в другой позе и с другим, более умиротворенным выражением
лица. Если раньше Тарковский верил, что в «мире вечности» хотя бы
в какой-то степени становятся реальными и зримыми та осмысленность и то идеальное совершенство, которые мы ищем в земном мире,
то теперь от этой веры почти ничего не остается. «Мир вечности»
столь же абсурден и несовершенен, как и наш мир, поскольку в его
основе лежит то же самое ветхое бытие. И открывающиеся в нем
символические образы почти ничем не отличаются от образов земной
действительности. Можно сказать, что Тарковский с предельной последовательностью воспроизводит в своем фильме тезис Ницше «Бог
умер». Ведь при поверхностном понимании смысла этого тезиса, особенно в рамках возникшей в «Солярисе» идеи «двух Богов», можно
подумать, что он относится только к Богу-Демиургу «мира времени»;
«мир вечности» мог бы по-прежнему пониматься как Абсолют, как
сфера вечных, неизменных и абсолютных смыслов, в которых человек
находит единственную и окончательную опору для своего существования. Но Тарковский проводит указанный тезис с такой же последовательностью, как сам Ницше, отвергавший все возможные «метафизические миры». «Мир вечности» Тарковский теперь понимает не
в противопоставлении, а в единстве с «миром времени» и по аналогии
с ним; он предстает неабсолютным и даже подверженным какому-то
парадоксальному процессу деградации, обусловленным неким метафизическим аналогом времени.
Не случайно и самое наглядное изображение ветхого бытия предстает перед нами как образ «мира вечности»; этот фрагмент в чем-то
320
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
напоминает панорамное изображение из сцены «молитвенного созерцания» в более раннем фильме, но теперь перед нами проплывают
всевозможные «останки», «осколки» культуры — самые разные вещи,
лежащие на кафельном полу, покрытом слоем воды. Хотя в этом фрагменте камера движется равномерно вверх, он является «замкнутым»,
поскольку начинается с изображения лица спящего Сталкера, а заканчивается изображением его же руки, лежащей в воде. Выполненный в черно-желтом колорите, этот фрагмент дает символическое выражение той главной цели, которая стоит перед Сталкером и перед
его попутчиками в Зоне, а значит, и во всем бытии. Ветхое, распадающееся бытие сохраняет последние остатки и зерна целостности,
связности только благодаря тому, что в нем есть человек, и только человек скрепляет частицы существующего в цельный горизонт смыслов. Однако те усилия, которые в «Страстях по Андрею» приводили
к локальному преображению бытия к божественному, совершенному
состоянию, теперь способны только задержать его на самой границе
полного распада и хаоса. Не об окончательной гармонии и полной
осмысленности должен думать человек, а только о крупицах смысла
и мельчайших зернышках гармонии, которые он способен еще внести
в окружающую действительность.
Символом сохраняющейся надежды на спасение становится
черная, пугающе-загадочная собака, появляющаяся одновременно
и в «сне» Сталкера (в «мире вечности»), и в действительности Зоны.
Если человек по-настоящему готов к самопожертвованию ради спасения бытия от окончательного распада, то оно само тянется к нему,
чувствуя благую и спасающую силу его жертвенных деяний. В этом
смысле образ собаки в «Сталкере» в чем-то близок к образу птицы,
слетевшей на голову мальчику Асафьеву, в предшествовавшем фильме Тарковского.
Незаметный, «тихий» апокалипсис, ведущий мир к гибели, может
быть остановлен только через усилия людей, готовых радикально изменить свою жизнь и стать последователями и «учениками» Сталкера, точно так же как он сам когда-то был учеником своего учителя —
Дикообраза.
Никакие другие меры не могут предотвратить грядущую катастрофу. Среди трех путников Профессор представляет позицию самого технического разума, осознающего пагубность пути, по которому
он ведет человечество. Но внутри сферы разума, даже при понимании
всех таящихся в нем опасностей, невозможно найти путь к спасению.
Техническая сила может разрушать, «корежить» бытие, но возродить
и преобразить его может только совершенно иное к нему отношение.
История Профессора и тот замысел, который привел его в Зону, наглядно показывают, что научный разум не способен даже правильно
321
ГЛАВА V
«Сталкер»: человек в мире умершего Бога
определить источник опасности. Разгул деструктивных сил в мире
Профессор объясняет действием «комнаты желаний», в которой каждая «сволочь», мечтающая о мировом господстве, может добиться
своего. «Вы представляете, — говорит он, — что будет, когда в эту самую комнату поверят все и когда они все кинутся сюда. А ведь это —
вопрос времени: не сегодня, так завтра, и не десятки, а тысячи, все эти
несостоявшиеся императоры, великие инквизиторы, фюреры всех мастей, этакие благодетели рода человеческого, и не за деньгами, не за
вдохновением, а мир переделывать. <...> Да никто из сталкеров и не
знает, с чем сюда приходят и с чем отсюда уходят те, которых вы ведете. А количество немотивированных преступлений растет — не ваша
ли это работа? А военные перевороты, а мафия в правительствах —
не ваши ли это клиенты? А лазеры, а все эти сверхбактерии, вся эта
гнусная мерзость, до поры до времени спрятанная в сейфах?..» И он
несет в Зону бомбу, чтобы уничтожить источник мирового зла. Однако против настоящих причин зла и хаоса не помогут никакие бомбы,
сколько бы килотонн они в себе не несли. В конце концов это понимает и сам Профессор.
Уже в этот момент Писатель демонстрирует, что именно он глубже всех понимает смысл того, что происходит с человеком в Зоне
и в «комнате желаний». Возражая Профессору, он говорит: «Не может быть у отдельного человека такой ненависти или такой любви,
которая распространялась бы на все человечество. Ну, деньги, бабы,
ну, там месть — чтобы начальника машиной переехало. Ну, это туда-
сюда. Но власть над миром, справедливое общество, Царство Божие
на земле — это ведь не желания, а идеологии, действие, концепции.
Неосознанное сострадание еще не в состоянии реализоваться, ну, как
обыкновенное, инстинктивное желание. <...> Мечтаешь об одном,
а получаешь совсем другое». «Комната желаний» обнажает абсолютную основу человека, то, что он, чаще всего даже не знает в себе.
Ложное мировоззрение современной цивилизации заставляет нас
считать главным, определяющим то, что порождает и выдвигает на
первый план наш разум, но именно он бесконечно далек от оснований
личности и чаще искажает, а не раскрывает это основание.
Спасение бытия, а с ним и всего человечества, зависит от того,
насколько быстро люди сумеют перейти к новому миропониманию,
расстаться с ложными идеалами, с ложным отношением к реальности. Но поскольку это новое миропонимание выступает против претензий разума, оно может стать доступным человеку только через его
собственное, индивидуальное жизненное усилие, оно не может быть
внедрено в сознание таким же образом, как в него входят всеобщие
научные истины. Человек должен отказаться от уверенности в том,
что он знает Истину, и «стать как дети» — незнающим и только взы¬
322
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
скующим ее. На этом пути первостепенную роль играет способность
стать послушным учеником, способность обрести Учителя, уже обладающего Истиной, или хотя бы немного приблизившегося к ней.
В «Сталкере» Тарковский говорит не столько о возможностях сделать мир более совершенным, гармоничным (в сравнении с его наличным не вполне совершенным состоянием), сколько о спасении мира
от окончательного распада, об удержании его на краю гибели, пусть
даже в очень несовершенном состоянии. Тема апокалипсиса, вселенской катастрофы, ведущей к окончательной гибели всего осмысленного и целостного в бытии, к окончательному воцарению хаоса
и абсурда, впервые появляется во всей своей силе именно в «Сталкере»; в двух следующих фильмах она станет ведущей. В кульминационном эпизоде фильма, во время «привала» трех путников, идущих
через Зону, Сталкер в своем странном полусне-полувидении слышит
женский голос (голос своей жены), читающий строки из Откровения
Иоанна Богослова, где речь идет о начале вселенской катастрофы:
«...и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно
как власяница, и луна сделалась как кровь; и звезды небесные пали
на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои; и небо скрылось, свившись как свиток; и всякая
гора и остров двинулись с мест своих; и цари земные м вельможи,
и богатые и тысяченачальники и сильные... и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на нас
и скройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо
пришел великий день гнева Его, и кто сможет устоять?»
При этом в кадре медленно проплывают выразительные знаки
«ветхости» бытия: в воде, покрывающей тонким слоем поверхность кафельного пола, плавает какая-то грязь, полусгнившие растения, лежат
самые разные забытые предметы — шприц, монеты, ржавая пружина,
брошенное оружие и т. п. Среди всех этих деталей ветхого бытия есть
и два очевидно символических образа, которые важны для понимания
главной идейной линии фильма. Это обрывок репродукции с изображением Иоанна Крестителя из Гентского алтаря, исполненного Ван Эй-
ком, и маленький стеклянный сосуд с плавающими в нем крохотными
рыбками. Как известно, в Евангелии Иоанн Креститель выступает как
провозвестник Иисуса Христа, как человек начавший обращать людей в новую веру еще до того, как пришел Учитель, выразивший суть
этой веры и давший пример жизни в согласии с ней. С другой стороны,
рыбы — это наиболее распространенный символ Христа. Поэтому оба
этих образа намекают на одно и то же: главная цель походов Сталкера
в Зону — это поиски такого ученика, который сможет перерасти своего учителя и станет настоящим Учителем для всех людей, пойдет дальше его в деле спасения ветхого бытия, удержания мира от катастрофы.
323
ГЛАВА V
«Сталкер»: человек в мире умершего Бога
Окончательно проснувшись, возвращаясь к реальности, Сталкер
как бы в ответ на произнесенные ранее слова о начинающемся апокалипсисе по памяти произносит фрагмент из Евангелия от Луки,
где речь идет о том, как воскресший Христос подошел к двум своим
ученикам, которые не узнали его: «В тот же день двое из них шли
в селение, отстоящее стадий на шестьдесят от... (Иерусалима), называемое... (Еммаус), и разговаривали между собою о всех сих событиях.
И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и Сам... (Иисус) приблизившись пошел с ними; но глаза их были удержаны, так
что они не узнали Его. Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны? Один из них именем...» (при
чтении Сталкер опускает названия городов и имя Иисуса). Явная параллель между тремя евангельскими путниками, один из которых —
неузнанный еще Иисус, и тремя путниками Зоны заставляет предположить, что и среди них находится еще не раскрывший себя и даже
не понявший свое призвание Учитель. Только в самом конце «путешествия», перед порогом заветной комнаты, станет ясно, что этим Учителем суждено стать Писателю, хотя и там этот факт все еще не будет понят самим Сталкером — Иоанном Крестителем нового Христа.
Несмотря на все свое отличие от двух первых фильмов режиссера, «Сталкер» удивительным образом воскрешает в новом звучании
главные темы «Страстей по Андрею». Единственный путь к спасению
мира и человека показал людям Иисус Христос, Учитель. Тема Иисуса, его жизненного деяния, — как примера самопожертвования
и примера отношения Учителя и его учеников — с новой силой проявляется в «Сталкере», хотя и не в столь очевидной и прямой форме, как
в «Страстях по Андрею». Мы уже не раз говорили, что Тарковский
очень далек от традиционного христианства, и наиболее ясно это
проявляется в его интерпретации истории Иисуса Христа. Для него
Иисус — это человек и только человек13, значение его истории не
в том, что Иисус принес людям божественное обетование, а в том,
что он как человек оказался способен на жизненный подвиг, показавший всем людям путь к спасению. Нельзя сказать, что это спасение уже было осуществлено через жизнь Иисуса, значение его жизни
в том, что он дал решающий пример, следуя за которым человечество
13 Всего за два месяца до смерти, уже чувствуя приближение конца, Тарковский размышляет только об одном сюжете, который он все еще надеется воплотить на экране, — это Евангелие, причем не в канонической версии,
а в интерпретации Рудольфа Штайнера. В одной из последних дневниковых записок, посвященных разработке этого замысла, а именно центрального эпизода
будущего фильма — изображения Голгофы, Тарковский записывает: «Иисус —
человек: сомнения, страх: а) Моление о Чаше. / б) На кресте — зачем Ты оставил меня. / Судорога ужаса. / Одиночество» (Тарковский А. А. Мартиролог.
Дневники 1970-1986. С. 593).
324
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
само добьется своего спасения. В «Страстях по Андрею» история
Иисуса рассматривалась почти исключительно в свете идеи жертвенности, вырастающей из осознания каждым своей вины перед другими людьми и перед всем миром; соответственно, следование завету
Иисуса представало как готовность к самопожертвованию, как цепь
актов самопожертвования, осуществляемых ради других и «передаваемых» от одного человека к другому (эта тема, как мы видели, прослеживается и в «Зеркале»).
В «Сталкере» идея Голгофы, идея самопожертвования проведена не столь явно, как это было в более ранних фильмах Тарковского.
И тем не менее именно в «Сталкере» Тарковский формулирует свое
окончательное видение образа Иисуса Христа и его значения для человечества, стоящего на пороге «тихого» апокалипсиса. Мы можем
абсолютно уверенно утверждать, что именно в этом Тарковский видел главную цель своего фильма, поскольку об этом он прямо говорит в своем дневнике, только начиная работу над «Сталкером»: «Пожалуй, я нашел цель — следует снять фильм об Иисусе» (запись от
22 февраля 1976 г.; эта фраза идет сразу следом за первым наброском
сюжетных линий будущего фильма)14. В этом смысле «Сталкер» вбирает в себя все скрытые религиозные темы предшествующего творчества Тарковского и становится итогом его религиозной философии.
В дневниковых записях режиссер несколько раз подчеркивает именно
религиозную составляющую нового фильма. В записи от 25 декабря
1974 г. Тарковский впервые высказывает сомнения в целесообразности работы над давно вынашиваемыми замыслами — экранизацией «Идиота» и биографическим фильмом о Достоевском — и вдруг
понимает, что должно стать основой его нового и самого главного
фильма: «Совершенно гармоничной формой для меня сейчас мог бы
быть фильм по Стругацким: непрерываемое, подробное действие, но
уравненное с религиозным действом, чисто идеалистическое, то есть
полутрансцендентальное, абсурдное, абсолютное»15. И чуть позже
(7 января 1975 г.) об этом же (здесь только-только задуманный фильм
назван так же, как повесть Стругацких, по мотивам которой он в итоге был поставлен): «Чем-то мое желание делать “Пикник” похоже на
состояние перед “Солярисом”. Уже теперь я могу понять причину.
Это чувство связано с возможностью легально коснуться трансцендентного. <...> В “Солярисе” эта проблема решена не была. Там с трудом удалось организовать сюжет и поставить несколько вопросов»16.
При всех изменениях в мировоззрении Тарковского ядром его
мировоззрения остается та же самая, что и раньше, интерпретация
14 Тарковский А. А. Мартиролог. Дневники 1970-1986. С. 149.
15 Там же. С. 129.
16 Там же. С. 131-132.
325
ГЛАВА V
«Сталкер»: человек в мире умершего Бога
образа Иисуса Христа — понимание его как человека, который раскрывает в себе божественное измерение, присутствующее в каждом
из нас, но подавленное и извращенное господством ложной рациональности, ложного знания. Об этом Тарковский также прямо пишет
в дневниковых записях, относящихся ко времени завершения работы
над «Сталкером»: «Картина о существовании Бога в человеке и о гибели духовности по причине обладания ложным знанием»17 (запись
от 23 декабря 1978 г.).
Но, конечно, важно увидеть и те изменения, которые происходят
в этом ключевом элементе его философских представлений. Пример
Иисуса значим теперь для Тарковского не в его наиболее известном
и трагическом итоге, а в незаметном, но не менее существенном жизненном содержании — как пример послушания перед бытием, служения бытию. В истории Иисуса важен не только подвиг последних
минут его жизни, ведь в возможном подражании ему есть большой
риск самовознесения (само слово «подвиг» — из лексикона нашего
традиционного отношения к миру), но и терпеливость и методичность
учительского призвания. Дело Иисуса живо и развивается, пока
живы ученики этого дела, пока оно передается в незаметном жизненном служении и послушании от учителя к ученику.
И суть этого процесса не меняется от того, что Иисус, как мы верим, был совершенным человеком, в то время как уже его ближайшие ученики оказались далекими от совершенства (вспомним хотя
бы Петра). Принятие послушания и готовность пройти свою часть
Пути уже делает человека причастным высшей доле, и даже если он
сохраняет на себе печать своего неискоренимого несовершенства, он
способен в свою очередь передать достигнутое им дальше, своим ученикам, чтобы и они внесли свой вклад в то общее дело, начало которому положил Иисус и которое способно спасти всех и вся. Об этом,
в частности, и повествует фильм Тарковского.
Рассказывая о своей судьбе, Сталкер дает понять, что он был
учеником Дикообраза, и уважительно называет последнего Учителем. Почти одновременно с этим мы узнаем, что Дикообраз изменил
своему призванию и однажды пришел в Зону с корыстными целями,
более того, ради этого погубил своего собственного брата. Сам Сталкер в один из моментов своего пути совершает весьма двусмысленный
в моральном отношении поступок; он, подсовывая две длинных спички Писателю, заставляет его «по жребию» идти в тоннель, прозванный за его опасный характер «мясорубкой».
Однако в Зоне теряют свой привычный смысл не только «незыблемые» законы бытия, устанавливаемые научным разумом, но и привычные нам этические законы, которые ведь также обязаны своим
17 Там же. С. 188.
326
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
существованием всечеловеческому разуму и его «рассудительности».
В раскрытии этой темы Тарковский вновь следует за известными традициями русской философии. О связи законов необходимости, навязанных нам разумом, с этическими законами, например, выразительно писал JI. Шестов в книге, посвященной интерпретации экзистенциальной философии Серена Кьеркегора: «...как могло случиться, что
“этическое”, с которым люди связывают все, что есть самого значительного, нужного, ценного в жизни, пришло со своим “ты должен”
на защиту бессмысленной, отвратительной, тупой и слепой Необходимости? Может ли человек жить в мире, пока в нем господствует
Необходимость? Может ли человек не прийти в отчаяние, когда он
убеждается, что Необходимость, не довольствуясь находящимися
в ее распоряжении средствами внешнего принуждения, ухитрилась
переманить на свою сторону его собственную “совесть” и заставить
ее слагать гимны своим злодейским делам?»18
Согласно Кьеркегору и Шестову, это означает, что в борьбе с Необходимостью, мы должны преодолеть «этическое», встать, говоря словами Ницше, «по ту сторону добра и зла». Именно это и демонстрирует
Сталкер в фильме Тарковского, он знает, что в Зоне отношения с бытием и с другими людьми строятся на иных основаниях, чем в привычном
мире, основанном на незыблемых законах Необходимости и Этики.
Для Кьеркегора «необходимость» и «этическое» преодолеваются
в «религиозном», преодолеваются истинной верой, которая означает
соединение с Богом; через это соединение «отменяются» законы природы и человеческой морали. Мировоззрение Тарковского и похоже
на концепцию Кьеркегора (и JI. Шестова), и отличается от нее. Здесь
также предполагается, что есть высший уровень отношений человека с реальностью, который также можно назвать «религиозным»,
однако, как мы помним, в художественном мире Тарковского «Бог
умер», и на этом уровне человек обретает единство не с всемогущим
и благим Богом, а с ветхим бытием — именно ему он подчиняется,
отказываясь следовать законам необходимости и этики. У Кьеркегора
в сфере «религиозного» человек восходит к Богу и его более совершенному бытию, у Тарковского на «религиозном» уровне, на уровне
искренней веры, человек, наоборот, «нисходит» к ветхому бытию и,
подчиняясь его велениям, пытается исправить его несовершенство.
При этом нарушение законов этики означает не подчинение более
«возвышенным» законам, а всего лишь признание того, что главным
для человека теперь является не его «субъективное» бытие и не его
индивидуальные цели, а само бытие, бытие как таковое. И если
ради удержания его от хаоса и абсурда требуется пожертвовать своей
этической праведностью, человек обязан сделать это; содержащийся
18 Шестов Л. Киркегард и экзистенциальная философия. М., 1992. С. 46.
327
ГЛАВА V
«Сталкер»: человек в мире умершего Бога
здесь риск оправдан тем, что в результате открывается возможность
расширить сферу бытия, в которой удалось покорить хаос и внести
смысл и целесообразность в стихию абсурда.
Именно так ведет себя Сталкер по отношению к своим попутчикам и, в первую очередь, по отношению к Писателю, поскольку, как
выясняется, Писателю суждено стать учеником Сталкера, подобно тому как сам Сталкер когда-то был учеником Дикообраза. Посылая
Писателя вперед в самые опасные моменты их похода по Зоне (используя для этого даже обман, когда он подсовывает Писателю две
одинаковых спички в качестве «жребия»), Сталкер выполняет главное дело — он проверяет способность Писателя быть учеником, т. е.
способность стать таким же сталкером, как он сам, способность занять правильную позицию по отношению к бытию, способность пройти свою часть Пути. Если бы Писатель не прошел эту проверку, а, например, погиб бы в «мясорубке», Сталкер не был бы ни в чем виноват:
отваживаясь на поход в Зону, Писатель сам решился на испытание по
самой высокой мере, где цена — жизнь и смерть.
4. Новый Иисус
Истинная цель всего похода, который предпринимает Сталкер
вместе с Профессором и Писателем, раскрывается в его словах, которые можно рассматривать как своего рода «молитву» ветхому бытию:
«Пусть исполнится то, что задумано, пусть они поверят и пусть посмеются над своими страстями, ведь то, что они называют страстью,
на самом деле не душевная энергия, а лишь трение между душой
и внешним миром, а главное — пусть поверят в себя и станут беспомощными как дети, потому что слабость велика, а сила ничтожна. Когда человек родится, он слаб и гибок, когда умирает, он крепок и черств.
Когда дерево растет, оно нежно и гибко, а когда оно сухо и жестко, оно
умирает. Черствость и сила — спутники смерти, гибкость и слабость
выражают свежесть бытия; поэтому что отвердело — то не победит»19.
Он должен заставить своих попутчиков стать «слабыми» и «гибкими»,
такими, как он сам, чтобы они научились слушать и слышать бытие.
Именно таков ответ на недоуменный вопрос Профессора, заданный
им на пороге «комнаты желаний», после того как он осознал, что нет
никаких достоверных свидетельств «чудесных» свойств этой комнаты:
«Тогда я вообще ничего не понимаю, какой же смысл сюда ходить?..»
19 Начало этого высказывания взято Тарковским из книги Г. Гессе «Игра
в бисер», а вторая половина, от слов «Когда человек родится» — это пересказ фрагмента из трактата Лао-Цзы «Дао дэ дзин» (§76), приведенный в качестве эпиграфа в книге Н. Лескова «Скоморох Памфалон»; именно из текста Лескова Тарковский выписал этот фрагмент в свой дневник, а затем использовал в «Сталкере».
328
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
«Комната желаний» занимает особое место в структуре фильма,
являясь как бы символом той странной «религии», послушником которой выступает Сталкер. Хотя именно эта комната формально является целью всех трех путешественников, стоя перед входом в нее, никто из них не может понять, почему он поверил в нее, не может вспомнить ни одного примера, когда эта комната исполнила бы чьи-нибудь
желания, кроме случая с Дикообразом. Но Дикообраз получил совсем
не то, что хотел получить, и пребывание в комнате желаний кончилось для него жизненной трагедией и самоубийством. Комната, где
исполняются желания, — это объект веры, а не знания, это мечта человека о гармонии с бытием; ее можно рассматривать как форму веры
во всемогущего Бога, управляющего миром. Но эта вера и эта мечта
оказываются неисполнимыми, Зона — это мир «умершего» Бога.
Без веры человек не может жить, но объект этой веры не обязательно
является реальным, вера значима сама по себе, потому что дает надежду и силы для того, чтобы бороться за преображение бытия в соответствии с неискоренимой мечтой человека в реальность совершенства. «Ведь ничего не осталось у людей на земле больше, — кричит
Сталкер Профессору, который принес в Зону бомбу, чтобы взорвать
«комнату желаний», — это единственное место, куда можно прийти,
если надеяться больше не на что». Хотя придя сюда, человек вовсе
не получит исполнения своих желаний, надежда, живущая в нем, не
умрет, а окрепнет, поскольку человек получит больше, чем просто исполнение желаний — он поймет, что все его прежние желания лживы
и только уводят его от себя самого и от подлинного смысла жизни.
Здесь он заново научится желать, и его новые желания будут совершенно непохожими на прежние.
Именно такой духовный путь проходит в Зоне Писатель. В своем
первом появлении в фильме он предстает как циничный человек, сам
не очень ясно понимающий, зачем он идет в Зону. Своей судьбой он
наглядно демонстрирует тот тупик, в который ведет человека последовательное исповедание традиционной идеологии «покорения» мира.
Модный литератор, Писатель добился всего, что только может пожелать человек в мире конкуренции, в мире, где главное — борьба за
материальное и духовное превосходство. Но окончательная и полная
победа в этой борьбе оборачивается для него духовным кризисом. Он
оказывается достаточно глубокой и чуткой личностью, чтобы понять
бессмысленность всех своих успехов, их губительность для чего-то самого главного в его душе, без чего его жизнь полностью теряет смысл.
Пытаясь сохранить эту непонятную ему самому духовную глубину, он
и идет в Зону, надеясь с помощью «комнаты желаний» обрести душевное равновесие, обрести самого себя. Как ни странно, но его случай —
это как раз тот, о котором кричит Профессору Сталкер: Зона — это
329
ГЛАВА V
«Сталкер»: человек в мире умершего Бога
единственное место, куда можно прийти, «если надеяться больше не
на что». Неудачник, ничего не имеющий в жизни, всегда может надеяться, что его судьба изменится и ему будут дарованы какие-то жизненные блага. Но человек, достигший всего, чего только можно желать
в этой жизни, и несмотря на это испытывающий пустоту в душе, не находящий опоры для своего существования в мире, — это как раз тот,
кому уже, действительно, не на что больше надеяться, кроме как на
чудо. И самое парадоксальное, что это чудо свершается в Зоне, правда,
совсем не в том смысле, как мог бы предполагать сам Писатель.
В отличие от Профессора он поначалу скептически относится ко
всем рекомендациям и требованиям Сталкера и ведет себя в Зоне так
же точно, как в мире вне Зоны. Его поведение и едкие, ироничные замечания по поводу осторожности и предусмотрительности Сталкера отдают явным цинизмом, и кажется, что если Зона, как уверяет Сталкер,
«наказывает» слишком самоуверенных и неосторожных людей, Писатель должен очень быстро почувствовать ее суровый «нрав». Однако
вскоре мы начинаем осознавать удивительную вещь — под маской
цинизма в Писателе скрыта почти детская непосредственность и искренность, скрыты те самые «слабость» и «гибкость», которым пытается научить своих попутчиков Сталкер. Уже в первом столкновении со
странным «характером» Зоны, выясняется, что Зона готова «терпеть»
его выходки и только «предостерегает» его от безрассудных поступков.
Именно в этот момент он встает на путь ученичества и начинает понимать, что предстоящие испытания способны вывести его на новый жизненный путь и дать ту надежду, о которой он уже почти и не мечтает.
Подобно сказочным героям, Писатель трижды проходит проверку
Зоной. Сначала он отваживается на то, что, по словам Сталкера, всегда ведет к гибели, — он пытается прямым путем пройти к «комнате
желаний». Но Зона не «наказывает» его, а «предупреждает», причем
предупреждает его собственным голосом. Если мы вспомним, что
в Зоне окружающая человека действительность предстает в качестве
точного отражения самых глубоких тайников его души, можно сказать, что в этом эпизоде выявляется подлинная суть Писателя как
осторожного и ответственного человека; по существу, с этого момента Зона становится его вторым «я», именно он своим состоянием
определяет все происходящее здесь, и его путь в Зоне оказывается
как бы путем к истокам своей личности. Второй раз Писатель благополучно проходит испытание, когда они вместе со Сталкером попадают в ловушку «сухого тоннеля». Поскольку с ними нет Профессора,
именно Писатель, которого Сталкер всегда посылает вперед, делает
«ловушку» «проходимой», т.е. вновь доказывает соответствие своих
духовных устремлений самым глубоким тенденциям бытия. Наконец, третье испытание он проходит в «мясорубке», и оно оказывается
330
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
главным. В конце концов Сталкер ясно формулирует превосходство
Писателя над двумя своими спутниками: «Еще там, под гайкой, Зона
пропустила вас, и стало ясно: уж если кому и суждено пройти “мясорубку”, то это вам, а уж мы — за вами».
Нужно отметить, что роль Писателя стала актерским шедевром
Анатолия Солоницына, ему удалось создать удивительно глубокий
образ, весь построенный на контрастах, образ человека, нарочито демонстрирующего свое неверие и в то же время несущего в себе почти
невозможную, нестерпимую жажду веры. Писатель не только обретает эту веру — он становится ее главным апостолом, становится
тем Учителем, который поведет новых учеников по пути к Истине. Это становится ясным после того, как Сталкер посылает Писателя в «мясорубку», в самое страшное место Зоны. Писатель пытается возражать против того, чтобы и в этот раз идти первым, поскольку во всех предыдущих случаях именно его Сталкер посылал вперед
и Писатель безропотно подчинялся его указаниям. Тогда Сталкер
предлагает тянуть жребий и обманывает Писателя, подсовывая две
одинаковые длинные спички. Как выясняется позже, тот понял, что
его обманывают, однако и в этом случае подчиняется Сталкеру, поскольку уже осознал, что должен пройти до конца путь «ученичества»,
уже предчувствует свое особое предназначение, которое должно
стать явным в Зоне. Его согласие идти в длинный темный тоннель,
в «мясорубку», — это согласие пожертвовать собой, согласие на ту
роль, которую ему предназначил Сталкер, — роль последователя
и преемника Иисуса Христа. Его долгий, мучительный путь в тоннеле предстает как аналог и символ пути на Голгофу (в середине пути
Писатель поскальзывается и падает, подобно тому, как упал под тяжестью креста Иисус), а произошедшее после выхода из тоннеля странное событие — единственный показанный в фильме пример воздействия Зоны на человека — как аналог смерти и воскресения Иисуса.
После выхода из тоннеля Писатель поднимается по лестнице
в большую комнату, всю покрытую маленькими песчаными барханами, и, нарушив запрет Сталкера, пытается пересечь ее. В этот момент
с ним и происходит фантастическая метаморфоза. Он зажмуривается от ослепительного света, а затем происходит нечто загадочное:
неизвестно откуда взявшаяся черная птица летит над песчаной поверхностью и в конце своего полета исчезает, после чего полет повторяется, и теперь уже птица, заканчивая его, садится на песок
и неподвижно сидит в дальнем конце комнаты. После этого мы видим
Писателя, в нелепой, неестественной позе лежащего рядом с каким-
то колодцем, выполненным в виде огромной металлической трубы,
уходящей глубоко в землю. Медленно поднимаясь — воскресая — он
произносит слова, в которых подводит итог прошлой жизни, навсег¬
331
ГЛАВА V
«Сталкер»: человек в мире умершего Бога
да расставаясь с ней: «Вот еще эксперимент... Эксперименты, факты,
истина в последней инстанции... Фактов вообще не бывает, а здесь
и подавно. Здесь все кем-то выдумано, это чья-то идиотская выдумка,
неужели вы не чувствуете. Вам, конечно, до зарезу нужно знать чья...
а почему? Что толку от ваших знаний, чья совесть от них заболит, моя?
У меня нет совести, у меня есть только нервы. Обругает какая-нибудь
сволочь — рана; другая сволочь похвалит — еще рана. Душу вложишь,
сердце свое вложишь — сожрут и душу и сердце; мерзость вынешь из
души — жрут мерзость. <...> Какой из меня к черту писатель, если
я ненавижу писать, если для меня это мука, болезненное, постыдное
занятие, что-то вроде выдавливания геморроя. Ведь я раньше думал,
что от моих книг кто-то становится лучше, — да не нужен я никому.
<...> Ведь я думал переделать их, а переделали-то меня, по своему образу и подобию. Раньше будущее было только продолжением настоящего, а все перемены маячили где-то там за горизонтами, а теперь
будущее слилось с настоящим. Разве они готовы к этому? Они ничего
не желают знать, они только жрут!» Особенно многозначны последние
слова о том, что теперь «будущее слилось с настоящим», ведь это означает наступление «последних времен», и осознание этого предполагает принятие абсолютной ответственности за судьбу гибнущего мира.
Итог всего произошедшего подводит краткий диалог Писателя и
Сталкера. «Ну и везет же вам, — восторженно произносит Сталкер, —
Боже мой, да теперь... теперь вы сто лет жить будете!» «Да, —
устало отвечает Писатель, — а почему не вечно, как вечный жид?»
Здесь еще раз нужно вспомнить, что Зона — это мир ветхого бытия, мир умершего Бога, поэтому даже воскресение в таком мире —
это еще не гарантия вечной жизни и абсолютного совершенства.
Даже величайшее самопожертвование, заканчивающееся подвигом
воскресения, здесь не становится радостным и просветляющим событием, как это было в мире героев «Страстей по Андрею»; здесь это,
скорее, тяжкая необходимость, всего лишь очередной, но далеко не
последний и не решающий шаг к спасению. Судьбой «воскресшего»
апостола оказывается не торжество победы и наслаждение обретенной славой и могуществом, но новые тяготы преодоления смерти и несовершенства, новые, нескончаемые усилия по удержанию бытия на
грани его «тихого» апокалипсиса и новый, бесконечный, путь через
«мясорубки» и «ловушки» Зоны, через «пропасти» и «бездны» ветхого
бытия. Возникающий в последних словах Писателя образ евангельского персонажа, обреченного на вечное странствие по миру, на вечное и неизбывное беспокойство, становится необходимым дополнением к каноническому образу Иисуса Христа, той необходимой «поправкой» к его образу, которая диктуется странными законами Зоны,
законами ветхого бытия.
332
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
Чуть позже, уже у самого порога «комнаты желаний», Писатель
наденет на себя самодельный терновый венец, и перед нами предстанет редкое для Тарковского прямое указание на главную смысловую
линию фильма. Пройдя короткий, но насыщенный путь ученичества
у своего учителя Сталкера, повторив в странных условиях Зоны самопожертвование Иисуса, пройдя через обращение и преображение,
Писатель становится тем человеком, который лучше других знает
Зону и понимает смысл ее отношений с человеком. Именно он разъясняет этот смысл Сталкеру и Профессору перед входом в «комнату желаний». «Да ты просто юродивый, — говорит он Сталкеру, — ты ведь
понятия не имеешь, что здесь делается... Вот почему по-твоему повесился Дикообраз?» «Он в Зону пришел с корыстной целью, — отвечает Сталкер, — и брата своего загубил в “мясорубке”, из-за денег».
«Это я понимаю, — продолжает Писатель, — а почему он все-таки
повесился, почему еще раз не пошел, теперь уж точно не за деньгами,
а за братом, а? — как раскаялся? <...> Да здесь он понял, что не просто желания, а сокровенные желания исполняются... а что ты там
в голос кричишь... здесь то сбудется, что натуре твоей соответствуют,
сути, о которой ты понятия не имеешь, а она в тебе сидит и всю жизнь
тобой управляет. <...> Дикообраза не алчность одолела; да он по этой
луже на коленях ползал, брата вымаливал, а получил кучу денег,
и ничего иного получить не мог, потому что Дикообразу — дикообра-
зово; а совесть, душевные муки — это все придумано, от головы. Понял он все это и повесился...»
Отказываясь после этого идти в «комнату желаний», он объясняет это так: «Не пойду я в твою комнату. Не хочу дрянь, которая
у меня накопилась, никому на голову выливать. Даже на твою. А потом, как Дикобраз, в петлю лезть. Лучше уж я в своем вонючем писательском особняке сопьюсь тихо и мирно. Нет, Большой Змей, паршиво ты в людях разбираешься, если таких, как я, в Зону водишь...».
Однако чуть раньше (после «мясорубки») гораздо более точную характеристику Писателя, подводя итог их похода через Зону, дает Сталкер: «Вы, наверное, прекрасный человек, я, правда, и не сомневался
почти, но все же вы такую муку выдержали...» Истинная причина его
отказа — точно та же, что и у Сталкера, который никогда не входит
в эту комнату. Пройдя через Зону, Писатель стал другим человеком —
таким же, как Сталкер, по сути, сам стал сталкером. И с точки зрения
той новой позиции, которую он занял по отношению к бытию, смысл
понятия «желание» стал для него принципиально иным, — теперь это
обозначение всего ложного и иллюзорного в прежней его жизни, отброшенной раз и навсегда. В этом и состоит настоящий смысл существования «комнаты желаний»: человек, дойдя до нее, должен понять ложность прежней жизни и отказаться от всего того, что он раньше назы¬
333
ГЛАВА V
«Сталкер»: человек в мире умершего Бога
вал «желаниями»; если же он не поймет необходимости преображения
своего существа и всей своей жизни и все-таки войдет в эту заветную
комнату, он действительно получит исполнение своих желаний — подлинных и глубоких желаний, укорененных в его ложно ориентированной в мире душе, — и это станет крахом всего его бытия, его гибелью.
Как и во всех предшествующих фильмах, в «Сталкере» можно
увидеть отражение тем и образов Достоевского. Более того, как нам
кажется, в данном случае зафиксировать происхождение некоторых
мотивов фильма из творчества Достоевского особенно важно, поскольку это позволяет прояснить самые сложные идеи Тарковского.
В первую очередь это относится как раз к образу Писателя, который
мы рассматриваем как идейный центр фильма, как выражение упоминавшегося выше замысла Тарковского «снять фильм об Иисусе».
Неоднозначность, сложность, внутренняя противоречивость Писателя делает очень трудными какие-то определенные оценки его образа.
Но эта сложность и оказывается его главным качеством, его главным
преимуществом не только по отношению к немногочисленным героям «Сталкера», но, возможно, и по отношению ко всему ряду главных
героев Тарковского.
Тарковский очень любил высказывание Достоевского о том, что художник (писатель) не просто изображает жизнь, а «сам создает жизнь,
да еще такую, какой в полном объеме до него и не было...»20 Действительно, в самых главных своих персонажах Достоевский изображал
такие проявления жизни, которые никогда не встречаются в реальных
людях. При этом Достоевский представлял человека глубоко антиномическим существом, в котором происходит непрерывная борьба между добром и злом, дьяволом и Богом, поэтому именно наиболее живые
его герои демонстрируют эту борьбу во всей ее невероятной остроте,
и соответственно они оказываются вне однозначных оценок, применимых только к стандартным и односторонним проявлениям жизни. Но
они представляют наибольший интерес и наибольшую ценность, поскольку помогают нам дойти до самых глубин в понимании себя.
В решении образа Писателя Тарковский в наибольшей степени сумел приблизиться к вершинам художественного метода Достоевского,
изобразил человека, который в наибольшей степени выражает «живую жизнь» — саму суть нашей жизни, поэтому его герой оказался
чрезвычайно схожим с главным персонажем такого типа в творчестве
Достоевского — с героем-«автором» повести «Записки из подполья».
Привычка к стандартным и поверхностным оценкам привела
к тому, что героя «Записок из подполья» принято интерпретировать
как исключительно отрицательный тип, созданный писателем в «назидание», и противоположный положительным типам, вроде Алеши
20 Тарковский А. А. Запечатленное время. С. 310.
334
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
Карамазова и старца Зосимы. К сожалению, и литературоведы и кинокритики очень любит «картонных» персонажей, абсолютно определенных в своей положительности или отрицательности, и совершенно теряется перед созданиями гениальных художников, которых
невозможно уложить в прокрустово ложе дихотомии «отрицательный
тип» — «положительный тип». В герое «Записок из подполья» Достоевский изображает подлинно живого человека, который противоречив, неоднозначен, изменчив, как сама жизнь, и который поэтому
совершенно не похож ни на «картонных» злодеев, ни на «картонных»
добрецов традиционной литературы21.
О своем отличие от «обычных людей», живущих «по книжке»,
подпольный герой сам говорит в финале повести: «...мы все отвыкли
от жизни, все хромаем, всякий более или менее. Даже до того отвыкли, что чувствуем подчас к настоящей “живой жизни” какое-то
омерзение, а потому и терпеть не можем, когда нам напоминают про
нее. Ведь мы до того дошли, что настоящую “живую жизнь” чуть не
считаем за труд, почти что за службу, и все мы про себя согласны,
что по книжке лучше. <...> Что же собственно до меня касается, то
ведь я только доводил в моей жизни до крайности то, что вы не осмеливались доводить и до половины, да еще трусость свою принимали
за благоразумие, и тем утешались, обманывая сами себя. Так что я,
пожалуй, еще “живее” вас выхожу»22.
Главное качество героя повести, которое делает его гораздо более «живым», чем «обычные люди» — это абсолютное самосознание,
стремление до конца разобраться в себе самом, понять свои истоки
в бытии. Парадокс в том, что, пытаясь разобраться в себе, найти основания собственной личности, герой постоянно вступает в противоречие с собой и в конце концов упирается в ничто23, не находит ничего
ясного и твердого. «Ну а как я, например, себя успокою?» — рассуждает подпольный человек. — «Где у меня первоначальные причины,
на которые я упрусь, где основания? Откуда я их возьму? Я упражняюсь в мышлении, а следственно, у меня всякая первоначальная причина тотчас же тащит за собою другую, еще первоначальнее, и так
далее в бесконечность. Такова именно сущность всякого сознания
и мышления»24. Нетрудно увидеть, что рассуждения Писателя о себе
21 Подробнее об этом см: Евлампиев И. И. «Записки из подполья» Ф. Достоевского: «живая жизнь» против «мертвой жизни» // Соловьевские исследования. 2011. №3. С. 6-45.
22 Достоевский Ф. М. Записки из подполья // Достоевский Ф. М. Собр.
соч. в 15 т. Т. 4. С. 549.
23 Понимание ничто как основания человека в XX в. стало самой характерной
чертой различных версий экзистенциализма. Наиболее радикально этот
принцип был проведен в философии Ж. П. Сартра (в книге «Бытие и Ничто»).
24 Достоевский Ф. М. Записки из подполья. С. 463.
335
ГЛАВА V
«Сталкер»: человек в мире умершего Бога
самом буквально повторяют эту логику самосознания.
В этом на первый взгляд негативном результате, открывающем
ничто в основании нашего сознания, обнаруживается глубокая и парадоксальная («негативная») диалектика, поскольку ничто есть одновременно и «дьявольская» пустота небытия и Божественное Ничто
как абсолютная полнота возможностей. Позитивный момент этой
диалектики — признание условности, неабсолютности законов необходимости, которым в этом мире подчинен человек и которые, как
нам кажется, радикально ограничивают нашу свободу. Эта очень известная интенция рассуждений подпольного человека, безусловно,
является одной из главных составляющих философии Тарковского,
почерпнутых в творчестве Достоевского. «Господи Боже, да какое
мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь
эти законы и дважды два четыре не нравятся? Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить, но
я и не примирюсь с ней потому только, что у меня каменная стена
и у меня сил не хватило»25.
В абсурдном протесте подпольного человека против «дважды два
четыре» и «каменной стены», точно так же как и в протесте Писателя
против законов природы и Бога, понятого как «треугольник», содержится одно и то же глубочайшее убеждение по-настоящему живых
людей — убеждение, что мир, в котором мы существуем, не может
быть «более абсолютным», чем мы сами, что Бог скрыто присутствует
прежде всего в нас, а не в мире. И если в своей жизни мы сумеем раскрепостить «дремлющего» в нас Бога, то мы сможем изменить мир,
«отменить» его законы, в том числе главный из них — закон смерти.
Именно о таком мистическом преображении мира силами преображенного человека говорят главные герои-идеологи Достоевского —
Кириллов, который в свои «пять секунд» испытывает состояние достигнутой гармонии с миром, и старец Зосима, который верит, что
стоит только «захотеть» и станет на всей земле рай. О том же говорит
и герой рассказа «Сон смешного человека», но только он более реалистично оценивает перспективы такого преображения: оно совсем не
так легко достижимо, как можно понять из суждений Зосимы; самое
главное препятствие — это ограниченность отдельного человека, наложенная им самим на себя в соответствии с требованиями ложно
устроенного общества («всемства» Достоевского). Поэтому очень
важно научить людей по-настоящему жить, не оглядываясь на стереотипы и навязанные нормы, решительно преодолевая их ради более
свободной и ответственной жизни. Это требование изменить свое
существование, чтобы жить по-настоящему, т.е. не в мире материальной стандартности, а в бесконечной творческой изменчивости
25 Там же. С. 460.
336
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
и индивидуальности духовного бытия, — и составляет суть учения
Иисуса Христа, освобожденного от ложных наслоений исторического «христианства» с его фетишем всемогущего Бога-Творца и проклятием абсолютного, неискоренимого греха. Именно о таком Иисусе
говорили великие мыслители, открывшие горизонты современной
философской и религиозной мысли — Достоевский и Ницше; именно
такого Иисуса ищет Тарковский в каждом своем фильме и находит
наконец в образе Писателя из «Сталкера».
Иисус — это не однажды случившееся событие и не однажды достигнутый результат (так Тарковский думал еще в «Страстях по Андрею» и в «Солярисе»), а предназначение каждого человека. Если кто-
то встал на это путь, осознал ограниченность и ложность той жизни,
которую он вел, начал очищение своей души от всего наносного, относительного ради рождения в ней прочного духовного центра (достижимого только через жертвенность, открытость миру, ведь замыкание на
себе приводит только к провалу в ничто) — то он пошел по пути Иисуса
и стал новым Иисусом который призван вести по тому же пути других.
Пример Дикобраза показывает, что даже на этом пути человека
может ждать крах, он не становится совершенным и безгрешным,
как тот мифологический Христос-Бог, которому поклоняется церковь. Ни один человек не может искоренить «дьявола» в своей душе,
и в определенных условиях этот дьявол может увлечь человека на
путь гибели. Но он может добиться прочной победы своего Бога над
своим дьяволом, и тогда для него откроется возможность что-то изменить в себе и в мире, наперекор законам необходимости, для него
откроется истина о том, что не мы зависим от мира, а мир зависит
от нас. И чем дальше, тем больше станут те изменения, которые подвижники этой подлинной веры сумеют внести в окружающее бытие.
Дождь, который идет в «комнате желаний», намекает именно
на такие изменения. Вспомним, что в первых фильмах Тарковского
дождь всегда выражал гармонию мира, его цельность и осмысленность. Его негативным двойником является образ текущей внутри человеческого жилища воды, он демонстрирует абсурдность мира, распад естественных связей в бытии. Но в «Сталкере» мы видим совсем
необычный образ, совмещающий эти два полярных смысла: в «комнате желаний» идет настоящий дождь, и это подчеркивается тем,
что мы слышим раскаты грома, как при обычном земном дожде. Это
можно понять как частичное восстановление в мире, где господствует
абсурд, естественного смысла вещей. И, видимо, это — отклик бытия на те усилия, которые осуществили путники Зоны в своем движении, замкнувшемся в круг. Преобразив себя, очистив себя от ложных
представлений, целей и желаний, они сумели установить прочную
творческую связь с бытием и придали ему новую осмысленность.
337
ГЛАВА V
«Сталкер»: человек в мире умершего Бога
Позже, в беседе со своей женой Сталкер скажет очень резкие
слова о своих попутчиках: «Еще называют себя интеллигентами, эти
писатели, ученые; они же не верят ни во что, у них же орган этот,
которым верят, атрофировался, за ненадобностью... Боже мой, что за
люди... Ты же видела их, их глаза пустые. Они каждую минуту думают
о том, чтобы не продешевить, чтобы продать себя подороже, чтобы
им все оплатили, каждое душевное движение. Они знают, что не зря
родились, что они призваны, они живут только раз. Разве такие могут
во что-нибудь верить»26. Однако, очевидно, что эти слова относятся
не столько к ним (тем более, что они противоречат другим не менее
искренним высказываниям Сталкера), сколько ко всем окружающим
людям, ко всему человеческому миру, построенному на ложных ценностях эгоизма и материального благополучия. А может быть, через
эти слова Сталкера Тарковский хотел еще раз показать, насколько
наш человеческий мир далек от совершенства, сколько еще непонимания, неразрешимых противоречий содержится в нем — даже среди
людей, обретших путь к новой жизни. Не случайно и Писатель высказывает в отношении Сталкера абсолютно «симметричное» суждение,
столь же несправедливое, как и суждение Сталкера о нем и о Профессоре: «Я же тебя насквозь вижу: плевать ты хотел на людей, ты же
деньги зарабатываешь на нашей тоске. Да не в деньгах даже дело, ты
же здесь наслаждаешься, ты же здесь царь и Бог. Ты, лицемерная гнида, решаешь кому жить, а кому умереть. Он еще выбирает, решает.
Я понимаю, почему ваш брат сталкер сам никогда в комнату не входит; а зачем — вы же здесь властью упиваетесь, тайной, авторитетом,
какие уж тут еще могут быть желания».
Подлинный итог похода Сталкера заключается в том, что он выполнил дело всей своей жизни — обрел, наконец, такого ученика, который смог пойти дальше своего учителя.
В эпилоге фильма мы вновь видим тот бар, в котором в самом
начале картины герои готовились к походу в Зону. Жена Сталкера
сажает Мартышку, их увечную, не способную ходить дочку, на скамейку и заходит внутрь, где Сталкер, Профессор и Писатель молча
стоят вокруг столика. Хотя эта сцена повторяет начало пролога, сразу же бросается в глаза совершенно иной колорит изображения. Те¬
26 Вызывает искреннее удивление, с какой легкостью некоторые авторы работ о Тарковском и его творчестве принимают эти слова Сталкера за «чистую
монету» (т. е. признают их в качестве окончательной оценки Писателя и Профессора). Можно подумать, что режиссер сознательно поставил здесь ловушку для
своих прямолинейных интерпретаторов, чтобы посмеяться над ними. Отметим,
что слова об атрофии органа, которым верят, Тарковский в своем дневнике относил и к боготворимому им Достоевскому (см.: Тарковский А. А. Мартиролог.
Дневники 1970-1986. С. 197, 204; записи от 10 февраля и 16 апреля 1979 г., во
время завершения работы над «Сталкером»).
338
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
перь он светло-коричневый, кажется, что этот несовершенный и, по-
видимому, обреченный мир на мгновение «просветлел», обрел большую прозрачность по сравнению с тем состоянием, в котором он пребывал в начале. Можно было бы даже назвать это «преображением»,
если бы это не было столь далеко от того, что обычно имеется в виду
под этим словом и что сам Тарковский подразумевал в нем, снимая
финал «Страстей по Андрею». Теперь свершившееся «преображение»
слишком незначительно, почти незаметно; но иного не дано — у нас
не остается ничего другого, как только верить в то, что этот малейший сдвиг в структуре бытия не пропадет, а получит развитие, будет
дополнен новыми, столь же исчезающе малыми сдвигами, которые
в сумме уведут мир от кажущегося неотвратимым конца. И этому могут помочь только новые походы в Зону, новые усилия по «приручению» бытия, новые акты самопожертвования, в которых человек отдает себя ради «скрепления» распадающегося мироздания.
Все, на что он может опереться, — это безрассудная, необоснованная вера и надежда. Об этом говорит в эпилоге и Сталкер, и его жена.
«Никто не верит, — подавляя слезы, говорит Сталкер, — не только
эти двое, никто. Кого же мне водить туда?.. Господи, самое страшное,
что не нужно это никому, что никому не нужна эта комната; и все
мои усилия ни к чему... Не пойду я туда больше ни с кем». «Ну, хочешь, я пойду с тобой, туда... — говорит жена Сталкера, — хочешь?
Думаешь, мне не о чем будет попросить?» «Нет, это нельзя...» —
«Почему?» — «Нет, нет... А вдруг у тебя тоже ничего не выйдет...»
В той вере, ради которой живет Сталкер, больше сомнения, чем надежды, но другой уже не может быть в этом мире; и остается только
раз за разом с упорством Сизифа идти вперед и вперед.
И все-таки финал фильма, скорее, оптимистичен, чем пессимистичен. Если последние слова Сталкера — о невозможности твердой
веры и настоящей надежды, то его жена говорит как раз о той настойчивости веры, в которой и рождается подлинная надежда. Обращаясь
прямо к зрителям (прием, абсолютно нехарактерный для Тарковского), она говорит о своей жизни и о своей любви, которая и является
последним оплотом среди разразившихся в мире катастроф. «Вы знаете, мама была очень против, вы ведь, наверное, уже поняли. Он же
блаженный, над ним вся округа смеялась, а он растяпа был, жалкий
такой. А мама говорила: “Он же сталкер, он же смертник, он же вечный арестант, и дети, вспомни, какие дети бывают у сталкеров”. А я,
я же... я даже и не спорила, я и сама про все это знала: и что смертник,
и что вечный арестант, и про детей. А только, что я могла сделать,
я уверена была, что с ним мне будет хорошо. Я знала, что и горя будет много. Ну, только уж лучше горькое счастье, чем серая унылая
жизнь. А, может быть, я все это потом придумала. А тогда он просто
339
ГЛАВА V
«Сталкер»: человек в мире умершего Бога
подошел ко мне и сказал: “Пойдем со мной”; и я пошла и никогда потом не жалела. Никогда. И горя было много и страшно было и стыдно было. Но я никогда не жалела и никогда никому не завидовала.
Просто такая судьба, такая жизнь, такие мы. А если бы не было в нашей жизни горя, то лучше б не было, хуже было бы, потому что тогда
и счастья тоже не было бы и не было бы надежды».
Именно женская, «слепая» любовь в гораздо большей степени,
чем мужской расчет и мужская разумная вера доказывает, что в мире
еще есть что-то прочное, что-то такое, на что может опереться тот,
кто готов отдать всю свою жизнь ради спасения всех. И нет сомнений,
что Сталкер еще вернется в Зону и поведет туда новых послушников
своей веры, и эта вера не иссякнет. И, быть может, когда-нибудь он
или его преемники найдут человека с такими сильными и искренними
желаниями, что он сможет войти в заветную комнату и совершить то,
о чем постоянно думает, но чего боится и не смеет сделать Сталкер, —
сможет пожелать невозможного и совершить невозможное. Недвусмысленный намек на приход такого человека, Спасителя, дает образ
дочери Сталкера. Ее прирожденное уродство тяжкой виной лежит на
совести Сталкера, но в ней же обнаруживается парадоксальное воплощение его мучительной веры.
«Люблю глаза твои, мой друг,
С игрой их пламенной, чудесной,
Когда их приподнимешь вдруг
И словно молнией небесной
Окинешь бегло целый круг.
Но есть сильней очарованье:
Глаза потупленные ниц,
В минуты страстного лобзанья,
И сквозь опущенных ресниц
Угрюмый, тусклый огнь желанья».
Мартышка с такой недетской страстью читает эти стихи Тютчева,
что становится понятным: это человек той породы, о которой только мечтает Сталкер. Демонстрируя телекинетические способности,
передвигая взглядом предметы на столе, она показывает, какие возможности таятся в ее ущербном, уродливом теле. В ней, в ее будущем
кроется та надежда, о которой говорит Сталкер и его жена. И летящий по воздуху пух, который в других фильмах Тарковского обозначал раскрытие «мира вечности», теперь, возможно, свидетельствует
о рождении прочных благих сил в бытии, способных со временем
осуществить окончательное преображение. Восторженные, ликующие звуки «Оды к радости», прорывающиеся из ритмично-хаотичного
шума проходящего поезда, намекают на это грядущее преображение,
которое сделает мир по-настоящему иным.
340
ГЛАВА VI
«НОСТАЛЬГИЯ»:
в преддверии Апокалипсиса
ГЛАВА VI
«Ностальгия»: в преддверии Апокалипсиса
1. В поисках своей Зоны
Два последних фильма Тарковский снял за пределами России:
«Ностальгию» (1982) — в Италии, «Жертвоприношение» (1986) —
в Швеции; и это, безусловно, наложило на них свой отпечаток. В предыдущих фильмах Тарковский показывал отчужденность героев от
привычной жизни, используя для этого специальные изобразительные приемы. В «Солярисе» этой цели служила сама ситуация — все
действие происходило внутри космической станции, висящей над
загадочным океаном планеты Солярис, причем интерьеры станции
ничем не напоминали обычный, обжитой человеческий дом. В «Сталкере» мотив отстраненности героя стал одним из ведущих в идейной
структуре фильма и был реализован за счет того, что пролог и эпилог
фильма, показывающие «обычную» жизнь Сталкера и его семьи вне
Зоны, были сняты в монохромном регистре — в серо-коричневом цвете, обозначающем выморочное, бесцветное, лишенное глубины существование человека. Этот же прием, впрочем не столь однозначно
и прямо, был использован и в «Зеркале», где черно-белые эпизоды (за
исключением снов и видений) демонстрировали то же самое состояние распада индивидуального мира личности.
В двух последних картинах чувство отчужденности и дискомфорта,
связанное с утратой естественных связей со своим окружением, сопровождает героев на протяжении всего экранного времени. Особенно наглядно это видно в «Ностальгии», где появляется новый выразительный
мотив: чуждая герою языковая, природная, культурная среда. В каком-
то смысле ситуация, в которой пребывает Андрей Горчаков, главный
герой «Ностальгии», очень похожа на ситуацию героев «Соляриса»
и «Сталкера», только теперь она совпадает с земной жизнью, а не конструируется с помощью фантастического сюжета. В «Солярисе» и «Сталкере» неправильное, отчужденное состояние героя «моделировалось»
через противопоставление двух сфер реальности — бесконечно удаленных друг от друга, как удалена планета Солярис от Земли, или близких,
но разделенных труднопреодолимой границей, как Зона и обычный мир
в «Сталкере». Несмотря на то, что жизнь Андрея в Италии не является
в такой же степени «необычной», как жизнь героев «Соляриса» на
космической станции или путешествие героев «Сталкера» по Зоне,
сама проблема «истинного» и «ложного» существования поставлена
в «Ностальгии» столь же остро, причем теперь она теряет свой фантастический антураж и выявляется в обыденной жизни героев; теперь
«истинное» и «ложное» тесно переплетены друг с другом в самой земной реальности, как это было в «Зеркале». Однако в целом философия
«Ностальгии» гораздо ближе к философии фантастической дилогии.
348
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
«Ностальгия» не дает никакого существенного сдвига в понимании важнейших проблем, которые волновали Тарковского. Можно
согласиться с оценкой режиссером «Сталкера» как своего лучшего
фильма1, в нем он наиболее ясно выразил свое окончательное мировоззрение. Два следующих его произведения только конкретизировали отдельные детали этого мировоззрения, несколько изменили соотношение отдельных его слагаемых, но в основном все-таки только
повторяли идеи предшествующих фильмов. Можно даже заметить,
что отдельные мотивы «Ностальгии» и «Жертвоприношения» вступают в противоречие с достаточно стройной идейной конструкцией
предшествующего творчества режиссера. Хотя, конечно, искусство
невозможно оценивать исключительно с позиции «идейного развития» (даже имея в виду такого «идейного» художника, как Тарковский), поэтому, не находя в последних фильмах режиссера принципиально новых идей, мы должны признать существенную новизну
их образного строя, что также имеет большое значение и рождает
новые смыслы.
Подобно герою-«автору» «Зеркала», главный герой «Ностальгии»
показан в критический момент его жизни, когда он занят «собиранием» своей личности, самой судьбой поставлен перед необходимостью
решать проблему смысла своего бытия. Согласно сюжетной линии
фильма его душевный кризис вызван длительным пребыванием за
границей, однако это обоснование является внешним и формальным.
Пребывание в чужой стране выступает всего лишь символом ложного
существования, о котором Тарковский говорил почти во всех своих
фильмах, но особенно ясно — в предшествовавшей фантастической
дилогии. Вся наша жизнь — жизнь всех людей во всех странах мира —
выстроена так, что нацелена только на внешнее, на потребительское, «техническое» (в самом широком смысле) отношение к миру.
В изображении этого «технического» отношения к действительности, восторжествовавшего в нашей цивилизации и подчинившего
себе всю жизнь человека, Тарковский отказывается от слишком явных и прямолинейных приемов, подобных изображению бесконечного движения по серым автострадам в «Солярисе» или демонстрации
унылой разрухи «пограничных» сооружений в «Сталкере». Ложное
отношение к миру не убивает мгновенно его гармонии, не уничтожает полностью единства человека с истоками жизни, оно поначалу
только искажает гармонию и скрывает нашу связь с основой бытия;
но сохранение этой ложной позиции приводит к «деградации» бытия
и к окончательному «забвению» человеком своей близости с ним, т. е.,
1 «А “Сталкер”, кажется, получился самым лучшим из всех моих фильмов»
(Тарковский А. А. Мартиролог. Дневники 1970-1986. С. 204; запись от 16 апреля 1979 г.; см. также: С. 197; запись от 10 февраля 1979 г.).
349
ГЛАВА VI
«Ностальгия»: в преддверии Апокалипсиса
в конечном счете, к гибели самого человека и цивилизации. «Ностальгия» повествует о том, как все-таки возможно преодолеть эту ложную
позицию и остановить неотвратимое приближение апокалипсиса.
В самом начале фильма мы видим, как после долгой и утомительной дороги Андрей Горчаков (Олег Янковский) и его переводчица
Эуджения (Домициана Джордано) добрались до отделенного монастыря, в котором находится известная фреска Пьеро делла Франчески
«Мадонна дель Порто». Неожиданно Андрей, мечтавший посмотреть
фреску и заставивший Эуджению предпринять эту долгую поездку,
отказывается идти в монастырь. Эуджения идет туда одна, а Андрей
остается у автомобиля в сыром вечернем тумане, скрывающем все вокруг. Когда Эуджения поднимается по косогору в сторону монастыря,
он тихо произносит слова, которые задают смысл всех его последующих поступков: «Надоели мне все ваши красоты хуже горькой редьки... Не хочу я больше ничего для одного себя только. Никакой вашей
красоты... Не могу больше, хватит...»
В этом «мизантропическом» отрицании красоты — а ведь речь
идет о красоте подлинных произведений искусства, которые всегда
выступали для Тарковского наиболее точным и адекватным выражением всеобщей гармонии, — просматривается изменение мировоззрении режиссера. В какой-то степени это действительно так, однако
произошедший сдвиг только завершает генезис, ясно обозначившийся уже в предыдущем фильме. В «Сталкере» Тарковский создал предельно наглядный образ негативного воздействия нашей «неправильной» цивилизации на окружающий мир; подчиненная человеку часть
мира изображалась как лишенная какой-либо красоты и гармонии,
которые оказались полностью разрушенными бессмысленной силой
технического разума. Похожий негативный образ был и в «Солярисе»; там сохраняющееся в мире совершенство было представлено
в виде хрупкого «острова», в центре которого находился дом отца Криса Кельвина. Теперь, в «Ностальгии», Тарковский более реалистично
изображает структуру отношений человека с бытием. В нем мы не находим явно выделенных «островов» или «зон», содержащих элементы его совершенства в противоположность господствующим вокруг
деструктивным тенденциям. Жизнь была бы проще и ясней, если бы
человек мог пространственно переместиться из «моря» иррациональности на надежный «остров» совершенства, в этом случае, найдя для
себя твердую опору, он мог надеяться распространить эту гармонию
на окружающую сферу хаоса. На деле иррациональные силы действуют в каждой точке мироздания, и от них не укрыться даже там, где
на первый взгляд господствует гармония. Эта переплетенность сил
и тенденций бытия приводит к тому, что, даже сталкиваясь с красотой
и совершенством, человек далеко не всегда способен занять правиль¬
350
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
ную позицию, даже красоту он может использовать «технически»,
превращая в подсобное средство для своих разрушительных потребительских интересов.
В «Страстях по Андрею» творческое деяние колокольного мастера Бориски и творческий взлет Андрея Рублева Тарковский приравнивал по своему значению к жертвенному деянию Иисуса Христа.
При этом в своем наличном состоянии мир представал достаточно
устойчивым и самодостаточным, не требующим немедленного «спасения», речь шла о путях, на которых он станет более гармоничным.
Уже в «Сталкере» Тарковский высказался совсем в другом смысле:
нужно отбросить иллюзии и понять, что дело идет не о степени совершенства или несовершенства, а о самом существовании мира и человека в нем. Там, где под вопрос поставлена жизнь, не место мечтам
о большем совершенстве. Тем более, что сама красота оказывается
бесстрастной к добру и злу и может служить не только жизни, но
и смерти. Если в «Страстях по Андрею» (частично также в «Зеркале»
и «Солярисе») Тарковский, по-видимому, разделял известное убеждение одного из героев Достоевского (которое вряд ли точно выражает
взгляды самого писателя): «Красота спасет мир», — то в «Сталкере,
а тем более в «Ностальгии» и «Жертвоприношении», он уходит от
этого убеждения. Теперь только жертвенный и учительский подвиг
Иисуса выступает для него примером и образцом для подражания,
только в нем Тарковский видит залог возможного удержания мира на
краю гибели, укрощения незримо действующих разрушительных сил.
Относительное противостояние между сферами реальности, где
господствуют деструктивные тенденции, и сферами, где еще сохраняются действие животворных сил, в «Ностальгии» все-таки сохраняется, но получает иное изобразительное решение, чем в «Солярисе»
и «Сталкере». Теперь «зоны» бытия, в которых хотя бы в какой-то степени сохраняется действие благих, преобразующих сил, оказываются
разбросанными по всему миру и скрытыми; люди по большей части
даже не замечают их, не понимают их значения для спасения мира,
а иногда даже пытаются использовать их в своих корыстных интересах. Задача тех, кто хочет хоть что-то сделать для изменения ситуации
в мире, оказывается еще сложнее, поскольку теперь еще труднее понять,
на что нужно направить свои усилия. И тем более значимой становится
роль учителей, послушников истиной веры, которые сумели открыть
для себя ее смысл, сумели понять, на что она должна быть направлена.
Теперь граница между скрытыми «зонами» и остальным миром
становится подвижной, легко преодолимой, а часто и почти незаметной. Это видно уже в первом эпизоде фильма, показывающем посещение Андреем и Эудженией монастыря в Порто. Они подъезжают
к монастырю поздним вечером и вся окружающая природа уже покры¬
351
ГЛАВА VI
«Ностальгия»: в преддверии Апокалипсиса
та глубоким вечерним сумраком; поднимающийся от земли рваными
клубами туман довершает образ сырого, неуютного мира, лишенного жизненной теплоты и красочности — этот фрагмент выполнен
в серо-фиолетовом колорите. Ему противостоит цветное изображение
происходящего в монастыре события, в центре которого оказывается
живописный образ Мадонны Пьеро делла Франчески.
Отказываясь идти с Эуженией в монастырь, чтобы смотреть на
«Мадонну дель Порто», Андрей Горчаков вовсе не ставит под сомнение то подлинное и глубокое содержание, которое несет в себе это
произведение искусства и которое он прекрасно чувствует и понимает
(недаром именно он выступил инициатором этой поездки). Андрей пытается преодолеть инерцию обстоятельств и не желает играть роль потребителя красоты. По поводу соответствующего отношения к миру
и к «зернам» его гармонии, говорит Эуджении пономарь в монастыре:
«К сожалению, когда сюда приходят ради развлечения, без любви, тогда ничего не происходит». «А что должно произойти?», — спрашивает
Эуджения. «Все, что ты пожелаешь, все, что тебе нужно. Но как минимум тебе надо встать на колени». Но даже этот самый первый, самый
элементарный жест послушания Эуджения не способна совершить.
Она остается приверженной традиционному — «современному» —
стилю жизни, в котором главное — потребление и использование бытия, а не вслушивание в его «голоса» и проникновенное соединение
с ним ради раскрепощения и усиления его благодатных и творческих
тенденций (особенно явных в элементах красоты).
Андрей еще не вполне осознает, какова та новая позиция, которая
противоположна позиции использования «только для себя» сохраняющихся в мире «зерен» гармонии и красоты. Но он не хочет больше
участвовать в «потреблении» ради «развлечения» и предпочитает
остаться в сырых сумерках; а в это время в монастыре реализуется
подлинная суть того феномена, который явлен в «Мадонне дель Порто», но доступен далеко не всем. Если для Эуджении он представляет
собой «только» произведение искусства, то для пришедших в собор
простых женщин из окрестных городов и сел в нем открывает себя
глубочайшая благая сила, помогающая им жить и укреплять непрочное человеческое бытие, помогающая им стать матерями.
После краткого разговора с пономарем Эуджения, несколько раздраженная, оттого что получила не те ответы, на которые рассчитывала, собирается уходить, но пономарь на мгновение задерживает ее,
и она видит кульминацию магического обряда. Между тонкими, почти хрупкими колоннами медленно двигается процессия из женщин,
несущих подставки со множеством свечей и сделанную из самых простых материалов фигуру мадонны. Они ставят носилки с мадонной перед алтарем, на котором также горят десятки свеч, ярко освещающих
352
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
все вокруг; затем к мадонне подходит одна из женщин и медленно
расстегивает платье у нее на животе. Из полого пространства статуи
мадонны с беспорядочным чириканьем вылетают воробьи, символически обозначая рождение будущих детей, а женщина в это время
произносит странную молитву: «О матерь блаженная, матерь страстотерпица! О матерь ликующая, всеблагая! Благословенная, пречистая, богоблаженная, терпеливая, всепрощающая. Мать, знающая
боль всех матерей; мать, знающая радость всех матерей; мать всех
дочерей, знающая радость всех матерей, мать всех дочерей, знающая
боль всех матерей; о мать заступница, помоги своей дочери стать матерью». Происходящее в соборе событие, которое должно стать чудом, должно вернуть бесплодным женщинам радость материнства,
касается всего бытия, раскрывает творческое, созидательное начало
бытия; его «мистическая» сущность, выводящая причастных к нему
людей из сферы обыденности и эмпирического времени в сферу вечности, как и во всех других фильмах Тарковского, обозначается падающими сверху на алтарные свечи птичьими перьями.
Но падающее сверху перо — это не только знак открывающихся
«бездн» бытия, знак открывающегося «мира вечности», это одновременно и знак избрания человека, знак его особого предназначения.
Маленькие воробьиные перья, густо ложатся на алтарь перед «Мадонной дель Порто», и одновременно огромное белое перо падает перед
Андреем, стоящим на серой дороге вдали от собора. Это воспринимается как часть или проявление того события, которое происходит
в соборе; сам отказ Андрея от привычного потребительского отношения к красоте мира, уже делает его причастным тайне бытия, тому, что
остается абсолютно недоступным для «любопытствующей» Эуджении.
Подняв перо с земли, Андрей долго смотрит на него, и здесь мы
замечаем у него на голове огромную белую прядь, словно застрявшее
в волосах белое перо. Этот человек уже отмечен судьбой, и вот теперь
это упавшее сверху перо обозначает, что пришло время для реализации его призвания, теперь для него настал срок выполнить главное
в своей жизни. Повернув голову, он видит не черные вечерние холмы, мимо которых он только что проехал на автомобиле, а свой дом,
оставшийся в далекой России. Событие, происходящее в этот момент
в соборе, раскрывает для Андрея все сферы реальности, и он видит
самое главное в себе, символ всей своей жизни, — свой родной дом,
единственное место, где он может быть подлинным, где может находиться в наиболее естественных отношениях с миром.
Отметим, что в «Ностальгии» соотношение образов реальности и
образов «мира вечности» оказывается существенно иным, чем раньше. Во всех предшествующих фильмах герои проникали в «мир вечности» почти всегда только во сне, сон был универсальной формой
353
ГЛАВА VI
«Ностальгия»: в преддверии Апокалипсиса
открытости человека всему бытию. Теперь Тарковский показывает,
как герой не только во сне, но и в своем обычном, дневном сознании
способен видеть образы «мира вечности». Андрей Горчаков несколько раз в первой части фильма видит свой родной дом, оставленный
в России, и эти образы переплетаются с его восприятием настоящего.
Можно было бы предположить, что во всех этих случаях он просто
вспоминает свой дом или, может быть, каким-то мистическим зрением видит его через пространство, отделяющее его от России, т. е. что
здесь мы имеем не образы «мира вечности», а восприятие реальности, только удаленной во времени и пространстве. Однако Тарковский дает явные знаки того, что перед нами не реальность, а именно
некий особый мир за пределами реальности. Особенно очевидно это
в самой первой сцене, где появляется образ родного дома.
Когда Андрей, стоя недалеко от церкви поднимает с земли перо
и повернувшись видит вместо итальянского пейзажа свой дом, оставленный в России, мы замечаем, что перед домом (находящемся на
достаточно большом расстоянии) медленно проходит белая фигура
ангела с огромными крыльями. Этот ангел чрезвычайно похож на тех
ангелов, которых Тарковский вывел в сцене распятия в фильме «Страсти по Андрею». Кажется, что Тарковский сознательно придает этой
сцене «цитатный» характер, прочерчивая линию взаимосвязи между
новым фильмом и его ранним произведением, посвященном русскому
иконописцу. В связи с этим и совпадение имен главных персонажей
также не выглядит случайным.
Если внимательно всмотреться во все нюансы рассматриваемого
фрагмента с появлением ангела, то он предстает гораздо более логичным и сознательно выстроенным, чем кажется на первый взгляд.
Неподвижно стоя на дороге, Андрей слышит в полной тишине звон
колокольчиков; видимо, этот звон слышится сверху, поскольку он
поднимает глаза наверх и затем прослеживает взглядом чье-то движение как раз в ту сторону, где через полминуты мы увидим его дом.
После этого он еще раз смотрит вверх и на него падает огромное перо.
Соединяя эти моменты с последующим образом ангела, проходящего
около дома, мы понимаем, что этот ангел только что пролетел над Андреем и затем «приземлился» рядом с домом, и именно его перо упало
перед Андреем на дорогу.
Этот фрагмент с образом ангела в конце является преломлением
изобразительного мотива, который очень давно (еще во время работы над «Зеркалом») был задуман Тарковским и, видимо, был для него
чрезвычайно дорог. Он даже привел его подробный режиссерский
сценарий в тексте «Запечатленного времени», главной своей теоретической работы. Здесь дано символическое изображение пересечения
судеб отца-поэта (он читает за кадром стихотворение «Я в детстве за¬
354
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
болел»), его сына и его внука, конец эпизода описан таким образом:
«...дороги, лужи, жухлая трава. Сверху в лужу, кружась, падает белое
перо. <...> Крупно. Сын смотрит на упавшее перо, затем вверх на небо.
Нагибается, выходит из кадра. Перевод фокуса на общий план. —
Сын на общем плане поднимает перо и идет дальше. Скрывается за
деревьями, из-за которых, продолжая его путь, появляется внук поэта. В руке у него белое перо. Смеркается. Внук идет по полю... Наезд
трансфокатором на крупный план внука в профиль, который вдруг замечает что-то за кадром и останавливается. Панорама по направлению
его взгляда. На общем плане на опушке темнеющего леса — ангел»2.
Так и не снятый в том виде, как он задан указанным сценарием,
этот эпизод можно рассматривать как общую «модель» всех упоминавшихся ранее сцен явления посланцев «мира вечности» к героям
фильмов Тарковского. Но в «Ностальгии» режиссер все-таки рискнул
наиболее полно представить эту «модель» и показал непосредственно мифологический образ ангела, а не человека, выполняющего его
функцию, функцию посланника и помощника. Хотя вполне можно понять мотивы Тарковского, который в наиболее автобиографическом
(по его собственному признанию) фильме захотел дать в чистом виде
идею связи «мира вечности» и «мира времени», одновременно можно
высказать сомнение в художественной оправданности этого решения
с его прямолинейным символизмом. Впрочем, появление ангела на
экране столь мимолетно, а его фигура так неясна, что большая часть
зрителей просто не замечает этого образа, достаточно принципиального для идейной конструкции фильма3.
В последующих «видениях» Андрей будут видеть только близких
людей — жену, сына, дочь, мать жены, однако «нереалистичность»,
«запредельность» этих образов будет обозначена нарушением естественных пространственных соотношений, а также замедленным
ритмом изображения, намекающим на то, что происходящее связано
не с обычным временем, а с некоторым его метафизическим аналогом
в сфере вечности.
2 Тарковский А. А. Запечатленное время. С. 199-200.
3 Любопытно, что этот важнейший образ умудряются не заметить даже исследователи творчества Тарковского. Так Н. Болдырев, подробно анализируя замысел
нереализованной короткометражки на мотив стихотворения «Я в детстве заболел»,
видит только его очевидную связь со сценой в разрушенном соборе в «Ностальгии»,
но совершенно не замечает, что гораздо более прямо эта тема была реализована
в первом «видении» Андрея Горчакова. Болдырев сумел увидеть в фильме только
одного ангела — мраморную скульптуру, покрытую водой, внутри разрушенного
собора. «Есть и ангел, — подводит итог своим размышлениям исследователь, — но
он явлен в виде небольшой белой статуи, почти совершенно затонувшей среди храмовых развалин. Не каждый зритель догадается, что видит чуть торчащее из воды
крыло...» (Болдырев Н. Жертвоприношение Андрея Тарковского. М., 2004. С. 95).
355
ГЛАВА VI
«Ностальгия»: в преддверии Апокалипсиса
Оценивая всю совокупность образов «мира вечности» в «Ностальгии», нужно признать, что она не производит цельного и ясного впечатления. Здесь явно присутствует не один, а два ряда образов, по-разному
связанных с реальностью, в которой существуют герои фильма: одна линия — это образы дома Андрей, он видит их переплетенными со своим
настоящим; другая линия — это его сны, в которых он видит похожие
по колориту, но совершенно иные по содержанию образы — встречу
жены Марии с Эудженией, большой разрушенный готический собор,
пустынную улицу города с хаосом брошенных вещей. В финале фильма,
в последнем «видении», в образе «посмертного» существования Андрея,
эти линии соединяются — его родной дом оказывается внутри разрушенного готического собора. Однако само различие двух рядов образов
внутри фильма выглядит не очень мотивированным. Это особенно заметно в сравнении с художественной логикой «Зеркала» и «Сталкера».
В «Зеркале» взаимодействие «мира времени» и «мира вечности»
было важнейшей темой; личность человека (героя-«автора» фильма), находясь в центре всех планов бытия, соединяла эти два мира,
и в этом соединении достигала абсолютного значения, преодолевая
проклятие смерти. В «Сталкере» «метафизика» человека выглядела совершенно иной. Тарковский отказался от противопоставления
«мира времени» и «мира вечности», понимая их, скорее, как соотнесенные измерения глубоко несовершенного, ветхого бытия. Именно
поэтому образы «мира вечности» стали немногочисленными и мало
отличающимися от самой реальности, в которой пребывают герои
фильма. В «Ностальгии» происходит достаточно искусственное соединение этих представлений. Как и в «Зеркале», «мир вечности»
предстает через большое количество разных образов, обозначающих
важнейшие смыслы жизни героя, однако, как и в «Сталкере» он перестает быть жестко отделенным от реальности (по крайней мере в образах родного дома), он кажется переплетенным с «миром времени».
Нужно также повторить, возвращаясь к первой сцене «видений» Андрея, что появляющийся здесь огромный ангел, вносит в образ родного дома слишком нарочитый символизм, которого в предшествующих
фильмах режиссер старался избегать.
В следующей за этим «видением» короткой сцене Андрей и Эуд-
жения в полутемном холле провинциальной гостиницы ожидают
хозяйку, чтобы устроиться на ночлег. Коридор и холлы гостиницы
и дальше будут местом, где разворачиваются значимые для героев события, где они будут выяснять свои отношения. Эти серые, скудно освещенные пространства символически обозначают благоустроенное,
но невероятно унылое, лишенное творческой энергии существование
современного «благополучного» общества, контрастом к этому образу будет выступать ярко-красочное изображение «островков» бытия,
356
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
еще сохраняющих скрытую возможность творческого преображения: дом Доменико, загадочный бассейн с серной водой, имеющий непонятно важное значение для странной веры Доменико, разрушенная
церковь, где Андрей встречает пугливую девочку-подростка. Только
в заключительной части фильма, когда действие будет перенесено
в Рим, изобразительный контраст двух сфер реальности полностью
исчезнет, и все фрагменты станут одинаковыми, ярко-цветными.
В «Ностальгии» вновь, как это было в «Зеркале» и «Солярисе»,
смена монохромных, «сумрачных» фрагментов и фрагментов ярких,
по-настоящему цветных можно понять как выражение разных состояний главного героя, как различные формы его субъективного восприятия действительности. В первой половине фильма Андрей находится
в состоянии кризиса, он осознает ложность той жизни, которая его
окружает, ищет чего-то нового, но еще не знает, где он сможет обрести это новое. Интересно в этой связи, что Тарковский подчеркивает
сходство состояния Андрея Горчакова с состоянием Алексея в «Зеркале» с помощью такого выразительного мотива как «выпадение» героя
из реального времени. Когда мы первый раз слышим голос Алексея
в «Зеркале», он не может понять, какая сейчас часть суток — утро или
вечер. Точно так же в «Ностальгии» при первой встрече с Доменико
у серного бассейна Андрей хочет немедленно пригласить его на обед
и с удивлением узнает от Эуджении, что сейчас еще только 7 часов утра.
Встреча с Доменико открывает ему глаза, помогает, наконец, понять, в чем состоит неправильность жизни и на каких путях можно
обрести надежду на спасение. Эта появившаяся надежда и просветляет восприятие Андрея; самые трагические эпизоды фильма — самосожжение Доменико и мучительный переход Андрея через бассейн
с зажженной свечой, заканчивающийся его смертью, — оказываются самыми яркими в фильме, словно пламя, в котором сгорают Доменико и Андрей, освещает бытие и придает ему небывалую, давно
утраченную красоту.
Итак, после визита в монастырь Андрей и Эуджения в холле гостиницы ждут хозяйку. Эуджения мягко упрекает Андрея за то, что
он так и не зашел в монастырь посмотреть на Мадонну Пьеро делла
Франчески. Андрей не отвечает на ее упреки и, словно продолжая не-
прекращающийся внутренний спор со всем миром и с самим собой,
убеждает Эуджению в коренной неправильности жизни в обществе,
разделенном на отдельные государства и культуры, не понимающие
и не желающие понять друг друга. Узнав, что Эуджения читает стихи Арсения Тарковского в «хорошем» итальянском переводе, Андрей
требует, чтобы она «выбросила» книгу, поскольку стихи непереводимы, как «непереводима» любая национальная культура. «Что же нам
делать тогда, чтобы узнать друг друга», — спрашивает Эуджения.
357
ГЛАВА VI
«Ностальгия»: в преддверии Апокалипсиса
«Надо разрушить границы», — отвечает Андрей. «Какие границы». —
«Государственные». В этот момент Андрей оборачивается, словно услышав чей-то голос, и перед нами предстает на мгновение его жена,
она стоит на том же самом косогоре рядом с домом, который мы уже
видели в предыдущем фрагменте «видений» Андрея, и улыбаясь протирает большой хрустальный фужер.
После этого разговор между Андреем и Эудженией продолжается. Она без всякой видимой связи с предшествующими их словами
рассказывает о служанке, которая подожгла дом своих хозяев только для того, чтобы вернуться в родные края, к родному дому. Здесь
впервые прямо звучит тема ностальгии, тоски по родному очагу, вдали от которого человек теряет себя, утрачивает опору в жизни и идет
к быстрой гибели. Первое проведение этой темы в фильме выглядит
парадоксально. Эуджения спрашивает Андрея о судьбе композитора
Сосновского, жизнь которого Андрей изучает в Италии. «Почему он
хотел вернуться в Россию, если знал, что опять станет крепостным?»
Андрей не отвечает сразу, а затем вместо ответа дает Эуджении письмо Сосновского к своему другу; его содержание мы узнаем позже,
когда Эуджения окончательно покинет Андрея. «Когда Сосновский
вернулся в Россию, у него был успех? Был ли он счастлив?» — спрашивает снова Эуджения. «Он сильно запил, а потом...» — «Покончил
с собой?» — «Именно так», — подтверждает Андрей. «О господи...»
В истории композитора Сосновского, не принявшего свободу и вернувшегося к своей крепостной зависимости и гибели, отражается судьба самого Тарковского, уехавшего на съемки «Ностальгии» по официальному разрешению советского правительства, но позже заявившего
о своем отказе вернуться в Советский Союз по идейным и творческим
соображениям. Он не повторил буквально судьбу закадрового героя
своего фильма, однако можно предположить, что последовавшая через
несколько лет преждевременная смерть режиссера была связана с мучившей его ностальгией, с невозможностью принять и сделать своей
культуру и стиль жизни Западной Европы, успокоившейся в своем благополучии и забывшей о тех высших ценностях человеческой жизни,
которые во всех своих творческих работах провозглашал Тарковский4.
4 Еще в 1974 г. (3 мая) Тарковский записывает впечатления от поездки в Италию на премьеру «Соляриса»: «Италия на этот раз произвела на меня ужасное
впечатление. Все говорят о деньгах, о деньгах, о деньгах. <...> Раньше я подумывал о возможностях заграничных. Теперь я их боюсь. Страшно мне. Тяжело там.
И жить, и работать» (Тарковский А. А. Мартиролог. Дневники 1970-1986. С. 116).
Даже прижившись в конце концов в Италии, участвуя в различных творческих
проектах, Тарковский продолжал испытывать чувство абсолютного дискомфорта, отравлявшее его жизнь. Например, 25 мая 1983 г. он записывает в дневник:
«Очень плохой день. Тяжелые мысли. Страх... Пропал я... Мне и в России не жить,
и здесь не жить...» (там же. С. 489).
358
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
Наконец в холл гостиницы входит хозяйка и ведет новых постояльцев в их комнаты. Когда Андрей встает и берет чемоданы, чтобы
идти в свой номер, на мгновение его лицо освещается красноватым
светом, и перед ним вновь предстает образ его жены, оставшейся
в России, причем теперь его «видение» оказывается более сложным;
мы видим косогор с телеграфными столбами без проводов и родной
дом Андрея, рядом с ним разворачивается самая обычная сценка: дочь
Андрея бежит по косогору, останавливается и кидает палку, за которой бросается собака, с шумом пересекающая огромную лужу.
Образ родного дома в «Ностальгии» одновременно и очень похож
на аналогичные образы в «Солярисе» и «Зеркале», и отличен от них.
В «Солярисе» дом отца Криса был абсолютно реальным в прологе
и таинственным, загадочным в эпилоге; он выражал сохраняющееся совершенство земной действительности, на «островки» которого
человек всегда мог опереться в своих попытках занять подобающее
ему место и выстроить правильные отношения с бытием. Но, с другой
стороны, эпилог демонстрировал, насколько трудной является задача
преображения к совершенству всего мира. Противостояние земного
дома и его космического двойника в самой резкой форме ставило главную проблему — проблему такого отношения к миру, которое позволило бы «исправить» недостатки «взращенной» гармонии, сгладить
в ней следы иррациональности и сделать ее адекватным повторением
в вечности недолговечной земной гармонии.
В «Зеркале» та же самая тема была проведена совсем по-другому
и выражала гораздо более оптимистическое мировоззрение, чем
в «Солярисе». Образ родного дома, к которому относились все размышления героя-«автора» о себе и своем предназначении в мире,
здесь также «удваивался», однако совсем не в том смысле, как в «Солярисе». Наряду с конкретным, «реальным» образом дома, постоянно
присутствовавшем в душе Алексея и составлявшем ядро его личности,
ему было дано прикоснуться и к вечному образу дома, обладающему
невыразимым для земного мира смыслом. Именно эта способность
Алексея прозреть в «мире вечности» незыблемую основу своего «я»
составляла его преимущество перед другими людьми, определяло его
призвание художника, находящегося в особых отношениях с бытием.
В этом контексте особенно заметно, что в «Ностальгии» образ
родного дома героя уже не раздваивается на «воспоминание» и «видение», выражающие соответственно «временное» и «вечное» слагаемые этого образа в душе героя, и кроме того он до предела упрощается, становится абсолютно лаконичным, почти схематичным. Прежде
всего он полностью теряет ту жизненную силу и богатство красок,
которое отличало и образ дома в прологе «Соляриса» и воспоминания
о доме детства в «Зеркале». В «Ностальгии» все картины «видений»
359
ГЛАВА VI
«Ностальгия»: в преддверии Апокалипсиса
Андрея Горчакова, представляющие его семью и его простой крестьянский дом, выполнены в землисто-сером (почти черно-белом) колорите, отдаленно напоминающем колорит изображения дома Сталкера
из предыдущего фильма. Как мы уже говорили, достаточно очевидно,
что в данном случае Тарковский показывает не «воспоминания» героя, а вечный образ его дома и его родины, подобный аналогичным
образам «Зеркала» (где все соответствующие фрагменты также были
монохромными, черно-белыми, и снятыми рапидом).
Ирреально-загадочный характер этих эпизодов («видений») особенно заметен в последнем и самым большом из них, завершающем
всю их серию и поэтому имеющем особую смысловую нагруженность.
Ему предшествует сцена ссоры и окончательного разрыва между Андреем и Эудженией. Прежде чем окончательно уйти, Эуджения подходит к закрытым дверям комнаты Андрея, чтобы вернуть ему письмо
Сосновского. Но затем она вдруг решает прочитать его. «Любезный
сударь мой, Петр Николаевич, — слышим мы голос Сосновского, повествующего своему другу о важнейшем моменте своей жизни, — вот
уже два года как я в Италии, два года важнейшие для меня как в отношении моего ремесла, так и в житейском смысле. Сегодняшней ночью
мне приснился мучительный сон: мне снилось, что я должен поставить
большую оперу в домашнем театре графа, моего барина. Первый акт
шел в большом парке, где были расставлены статуи, их изображали
обнаженные люди, выбеленные мелом, вынужденные во время всего
действия стоять без движения на постаменте5. Я тоже исполнял роль
одной из статуй. Я не смел шелохнуться, ибо знал, что буду строго наказан, ведь за нами наблюдал сам наш барин. Я чувствовал, как холод
поднимался по ногам моим, упирающимся в ледяной мрамор пьедестала, а осенние листья ложились на мою воздетую к небесам руку. Я,
казалось, совершенно окаменел. А когда уже совсем обессилел, я почувствовал, что вот-вот упаду; я в ужасе проснулся, ибо догадался, что
это был не сон, а правда моей горькой жизни. Я мог бы попытаться не
возвращаться в Россию, но лишь помысел об этом убивает меня. Ибо
мысль, что я не увижу больше родной деревни, милых берез, не смогу
более вдохнуть в грудь воздуха детства, для меня невыносима. Низко кланяюсь тебе. Твой бедный, покинутый друг Павел Сосновский».
У Андрея внезапно идет носом кровь, и он ложится на диван в холле гостиницы. Сразу вслед за этим мы видим жену Андрея, просыпающуюся в своей постели оттого, что она слышит, как Андрей зовет ее:
«Мария». Она встает, медленно идет по большой просторной комнате
в их доме и отдергивает занавеску на окне, тревожно оглядывая при
5 Отметим, что Тарковский применил этот прием — изображение статуй
с помощью неподвижно стоящих актеров с побеленными лицами — в своей постановке «Бориса Годунова».
360
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
этом комнату, словно чувствуя чье-то присутствие. Затем вся семья
Андрея выходит в предрассветные сумерки на крутой косогор около дома и перед нами открывается вид на затянутую колышущимся
туманом долину с широкой рекой, на берегу которой странным белым пятном выделяется неподвижная лошадь. После этого в явном
противоречии с возможной пространственной и сюжетной логикой
эпизода мы видим всех членов семьи Андрея неподвижно стоящими
уже совершенно в другом месте косогора, в противоположной от дома
стороне и на большом удалении от него. При этом ирреальный характер происходящего подчеркивается тем, что в медленном панорамном
развертывании изображения мы дважды видим всех персонажей —
сначала крупным планом, а затем, когда непрерывное движение камеры открывает нам перспективу на удаленный теперь дом Андрея,
стоящими вдали от нас, чуть ближе к дому — словно они мгновенно
перенеслись на несколько десятков метров. Завершается эпизод, когда над крышей дома появляется восходящее солнце (в этот момент
раздается приглушенный звук, похожий на гудок далекого парохода на реке), и все стоящие медленно поворачиваются в его сторону.
Ощущение иррациональности, мистической загадочности происходящего возникает и из-за отсутствия цвета, и из-за замедленности
всех движений, и из-за разрушения естественных пространственно-
временных связей элементов изображения, и особенно из-за какой-то
нарочитой статичности изображения, рождающей ощущение чего-
то надвременного, преодолевающего время даже в самом движении.
В этой связи уместно обратить внимание на самого странного «персонажа» всех рассматриваемых фрагментов, представляющих «видения» Алексея, — на белую лошадь, неподвижно стоящую в отдалении.
В последней сцене, завершающейся восходом солнца над домом, эта
лошадь, которую мы чуть раньше видели в совершенно другом месте,
у реки в глубине долины, стоит достаточно близко, чтобы мы могли
осознать, что живая лошадь не может быть столь неестественно неподвижной, абсолютно неподвижной, — что это не живое существо,
а муляж, макет. Если вспомнить, что в первых фильмах Тарковского
образ коня неизменно выступал в качестве символического обозначения жизненной красоты и богатства природы, подчеркнутое превращение этого совершенного животного в «муляж» выглядит важным
симптомом изменений, произошедших в мировоззрении режиссера
еще в эпоху работы над «Сталкером». Представление о мире как гармоничном и самодостаточном целом, по отношению к которому
человек выступает как сила, ведущая его к еще большему совершенству, преображается в представление о ветхом бытии, распадающемся, полном иррациональных, деструктивных сил. Именно поэтому образ, служивший раньше символом красоты и самодостаточно¬
361
ГЛАВА VI
«Ностальгия»: в преддверии Апокалипсиса
сти земной природы, замещается своего рода иллюзорным подобием
самого себя, обманной видимостью гармонии, которая оборачивается
абсурдом при более внимательном рассмотрении.
Как мы уже отмечали, заметное отличие образов родного дома
в «Ностальгии» от аналогичных образов «Зеркала» — в том, что теперь они в гораздо большей степени вплетены в саму реальность,
в цепь событий, переживаемых Андреем Горчаковым. Очень выразительно связь «настоящего» и «видения» предстает в рассмотренном фрагменте, заканчивающемся восходом солнца. Начинается он
с того, что Андрей из «настоящего» окликает свою жену по имени,
и она просыпается от этого окрика в его «видении»; завершается этот
фрагмент тихим окриком Марии, зовущей Андрея, после чего Андрей
в своем «настоящем» оборачивается на этот зов.
Стремление режиссера сблизить «видения» и реальность заметно
даже в тех случаях, когда мы явно видим сон героя. Например, большой черно-белый эпизод в середине фильма, показывающий «встречу» Эуджении и жены Андрея, формально должен быть понят как сон
Андрея, однако и в этом случае Тарковский таким образом выстраивает изображение, что различие между реальностью и сном исчезает.
После того как Андрей, не раздевшись, ложится на кровать в своем
номере, в комнату непонятно откуда входит собака, которую мы видели в его «видениях», и устраивается у его постели; сразу вслед за этим
и начинается «сон», происходящий в каком-то ирреальном помещении с неестественным боковым освещением, резко подчеркивающим
грубую, изъеденную временем поверхность стен. В этом помещении
мы видим ту же самую кровать, на которой заснул Андрей, и он лежит
на ней в той же самой позе. И в конце фрагмента переход от «сна»
к реальности происходит так, что граница между ними кажется легко преодолимой, условной. На той же кровати теперь лежит Андрей
и его беременная жена; затем Андрей встает с постели и уходит
в сторону, после этого мы слышим доносящийся из «реальности» стук
и голос Эуджении, зовущей Андрея, и в этот момент за счет изменения освещения кровать погружается в темноту, а стена за ней высвечивается, и оказывается, что это уже кровать в номере Андрея, и он
сам лежит на ней в той же позе, в какой заснул поздно вечером.
Если принять, что образы этого сна Андрея, точно так же как
и образы его родного дома, есть элементы «мира вечности», в котором
открывается вечный смысл явлений нашей земной действительности
(как это было в «Зеркале»), то отмеченное стирание границ между
«настоящим» и «видениями» имеет очень важное идейное значение.
В «Страстях по Андрею» представления Тарковского о «мире вечности» наиболее ясно отразились в сцене в разрушенном соборе, где Андрею Рублеву являлся умерший Феофан Грек. «Мир вечности» высту¬
362
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
пал здесь как сфера бытия, в которой продолжают свое существование
в новой, преображенной форме люди, умершие в земном мире («мире
времени»). Эту сферу нельзя было назвать абсолютной, в ней человек не достигал полного совершенства, преимущество этого мира перед
нашим земным проявлялось только в том, что в нем обретали ясный
и вечный смысл все явления земной действительности и жизнь человека
в целом. «Мир вечности» возвышался над «миром времени» только
в той степени, в какой в нем открывался простор бытия, и бытие представало более целостным и просветленным. При этом он становился доступным для земного человека только в самые важные и самые трагические моменты жизни; в «Страстях по Андрею» это происходило дважды: в только что упомянутой сцене в разрушенном соборе и в эпизоде
русской Голгофы, в сцене распятия Иисуса Христа, в которую Тарковский ввел мистических участников — ангелов. Белые, просветленные
фигуры ангелов и умершего Феофана Грека яснее всего обозначали
все-таки присущее «миру вечности» преимущество над земным миром.
Концепция двух «миров» особенно большое место занимает
в «Зеркале», однако здесь она несколько видоизменяется. По-
прежнему полагая эти «миры» отделенными друг от друга, Тарковский почти полностью отказывается от представления о большем совершенстве «мира вечности»; его посланцы (мальчик Асафьев и женщина, явившаяся Игнату) внешне уже ничем не отличаются от земных людей. В «мире вечности» раскрывается вечный смысл не только
светлых, позитивных сторон и явлений земного бытия, но и темных,
негативных (например, сюрреалистические образы сна Алексея в начале фильма раскрывали вечный смысл жизненной катастрофы его
матери); поэтому если и можно говорить о его превосходстве над «миром времени», то только в том смысле, что его «обитатели» обладают
большей близостью к Истине и поэтому способны помогать земным
людям в осознании их предназначения.
Но и этот последний признак превосходства исчезает в «Сталкере». «Сталкер» резко выделяется на фоне других произведений Тарковского как раз тем, что в нем на первый взгляд вообще нет «снов»
и «видений», нет образов «мира вечности». Что-то подобное им появляется только в эпизоде отдыха путников, идущих через Зону. После
того как Сталкер ложится на траву между небольшими лужами, мы
видим перемежающиеся фрагменты цветного и черно-белого изображения; хотя и те, и другие показывают спящего Сталкера, в них
есть подчеркнутое несходство: на черно-белых кадрах Сталкер показан лежащим на крохотном островке посреди воды, разлившейся вокруг, но при этом он лежит совсем в другой позе, чем в «реальности».
Именно в черно-белом фрагменте, который можно счесть «видением»
или «сном», к Сталкеру по воде подходит большая собака, которая,
363
ГЛАВА VI
«Ностальгия»: в преддверии Апокалипсиса
уже в реальности, останется с ним до конца фильма. Наконец, именно
в этом фрагменте перед нами проходит выразительный образ ветхого
бытия со всеми его многочисленными абсурдными деталями, среди которых, однако, выделяются два предельно осмысленных элемента —
изображение Иоанна Крестителя и сосуд с маленькими рыбками;
а в это время за кадром женский голос читает отрывок из Откровения
Иоанна Богослова о начале всемирной катастрофы.
В этом эпизоде черно-белые (точнее черно-желтые) фрагменты
представляют «мир вечности», в котором некоторый символический
смысл обретают не только жизнь человека и все значимое в ней, но
и все бессмысленное, абсурдное в бытии. В своих формах «мир вечности» оказывается просто таинственным зеркальным отражением
«мира времени». Граница между ними становится столь же условной,
как и граница между предметом и его зеркальным отражением, и в той
же степени условным, иллюзорным становится превосходство «мира
вечности». Он постоянно присутствует в самом «мире времени», точнее, рядом с ним, как его зеркальное дополнение, он теряет даже свою
самодостаточность, поскольку в такое же степени не может существовать без «мира времени», как тот немыслим без него. И если герои
«Страстей по Андрею» и «Зеркала» в своей жизни лишь иногда соприкасались с «миром вечности», и эти моменты становились поворотным
пунктом их судеб (это есть и в «Солярисе», где Крис встречается с давно умершей матерью), то теперь обращение к «миру вечности» становится почти обыденным и постоянным для людей, достаточно глубоко
чувствующих суть своего существования и свое место в мире.
Нужно отметить, что в «Ностальгии» не только Андрей Горчаков,
но и другие герои в той или иной степени проникают в вечное измерение бытия, где находят символическое отражение самого главного
в своей судьбе. Для Доменико трагической кульминацией его жизни стало расставание со своей семьей, с женой и детьми, которых он на семь
лет запер в своем доме, но не смог сделать похожими на себя. Поэтому
в его «настоящее» вплетены картины «видений», показывающие, как
полиция взламывает двери его дома и уводит жену и детей, — сцену его
трагедии и его позора. Точно так же и в жизни закадрового персонажа,
русского композитора Сосновского, как и Андрей Горчаков, уехавшего
в Италию и страдавшего от ностальгии, символическим выражением
его личной трагедии стал сон, который он подробно описывает своему
другу, оставшемуся в России. Наконец, и Эуджения в сцене окончательного разрыва с Андреем рассказывает ему свой сон, символически обозначающий, по ее мнению, сущность их странных отношений. В этом
сне ей на голову падает огромный мягкий червяк, которого она сбрасывает с головы и пытается раздавить, но никак не может этого сделать.
Как мы уже говорили, для Тарковского всегда очень большое зна¬
364
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
чение имело то необычное представление о бессмертии человека как
последовательном существовании в «соседствующих», но относительно самостоятельных мирах, которое сформулировал Достоевский.
В «Сталкере» и двух последних фильмах Тарковский существенно видоизменяет это представление: бытие предстает гораздо более «связным» и взаимозависимым по отношению к своим отдельным сферам,
чем это было в философии его предшествующих фильмов. Идея иерархии более «высоких» и более «низких» — совершенных и несовершенных — сфер бытия полностью исчезает из мировоззрения режиссера, все бытие представляется ему равно несовершенным (явным
диссонансом по отношению к этой идее выглядит только мифологи-
чески-совершенный образ ангела в первом «видении» Горчакова).
Теперь правильней было бы говорить, излагая эту сторону взглядов
Тарковского, не о «сферах» бытия, а о его «измерениях», сосуществующих и проникающих друг в друга и принципиально доступных человеку в каждое мгновение жизни, более того — необходимых ему
постоянно, для того чтобы правильно понять смысл происходящего
и грядущего. Именно такую роль для Андрея Горчакова играют символические образы его родного дома и его семьи, прозреваемые им
в вечном измерении бытия, соответствующем «миру вечности» более
ранних фильмов. (В этом же вечном измерении царь Борис видит убитого им царевича в постановке оперы «Борис Годунов», которую Тарковский осуществил одновременно со съемками «Ностальгии».)
2. Послушник благих сил бытия
Устраиваясь на ночлег, Андрей медленно и долго осматривает
свою комнату в гостинице. Ее единственное окно упирается в глухую
стену и почти не дает света; неоновая лампа на потолке нервно мигает, свидетельствуя о запустении и деградации всего того, что должно
служить человеку. Заканчивая осмотр своего неуютного жилища, Андрей берет с комода старую затрепанную Библию и в тот же момент
ощущает чье-то присутствие за дверью комнаты. Открыв дверь, он
видит Эуджению, которая, по всей видимости, надеется на то, что он
пригласит ее к себе. Однако он, не говоря ни слова, берет у нее книгу
с переводами стихов Арсения Тарковского и возвращается в комнату,
оставляя Эуджению одну в коридоре.
Погасив свет и открыв ставни на окне, Андрей засыпает под тихий шум дождя. В своем сне он видит, как его жена Мария подходит
к Эуджении и обнимает ее, а в это время над самим Андреем склоняется третья, неизвестная нам женщина. Возможно, это его мать,
поскольку она заботливо смотрит на спящего Андрея, словно охраняя
его от каких-то опасностей. Одновременно мы видим испачканную
365
ГЛАВА VI
«Ностальгия»: в преддверии Апокалипсиса
руку, которая почти цитатно повторяет соответствующий образ из
центральной сцены «видений» Криса Кельвина в «Солярисе». Странность всей этой комбинации образов заключается в том, что запачканная рука не может быть рукой Андрея Горчакова, поскольку он
ничком лежит на кровати, а рука опирается на кровать, т. е. должна
принадлежать человеку, который сидит на ней.
Позже в одном из фрагментов Андрей остановит Эуджению в коридоре гостиницы и, с восхищением глядя на нее, скажет: «Постой...
Ты такая красивая под этим светом. Рыжая, рыжая...» И станет понятно, что он увлечен ею, что его мучает неразрешимое внутреннее противоречие: одной стороной души он крепко привязан к жене
и к оставшейся в России семье, а другой — тянется к Эуджении. Сон,
в котором Мария и Эуджения обнимают друг друга, обозначает его
мечту о невозможной гармонии между чувствами, разрывающими его
сердце, о той гармонии, на которую надеется мужчина, но которую
никогда не примет женщина. Затем на кровати мы видим Андрея и его
беременную жену; Андрей встает с постели, и в кадре остается выразительный образ женщины с огромным животом, готовящейся стать
матерью, — повторяющий, «зеркально отражающий» образ Мадонны
с полотна Пьеро делла Франчески (напомним, что жену Андрея зовут
Марией, а в более позднем разговоре с Доменико Андрей скажет, что
его жена похожа на Мадонну, изображенную на этой картине). В этот
момент раздается стук дверь, и Андрей просыпается; Эуджения зовет
его на утреннюю прогулку.
В следующей сцене перед нами предстает бассейн с серной водой, на поверхности которого нелепо торчат головы людей, принимающих лечебные ванны. Эуджения и Андрей молча наблюдают за
этим странным зрелищем^ а в это время на экране появляется Доменико (его играет Эрланд Йозефсон) — еще один знаковый персонаж
Тарковского, во многом похожий на Сталкера. Из разговора «голов»,
торчащих над водой бассейна, мы узнаем, что Доменико имеет славу
«юродивого», «полусумасшедшего», прославившегося тем, что в течении семи лет продержал взаперти в своем огромном темном доме
жену и детей (дочку и сына). В конце концов полиция взломала двери
и освободила семью Доменико; теперь он живет один в своем разоренном доме вместе с собакой — своим вечным спутником. Она сопровождает Доменико и в этой ранней прогулке у бассейна. Мы сразу
понимаем, насколько необычным является этот человек: он постоянно ведет беседу с собакой, обращаясь к ней как к разумному существу
и как бы «воспитывая» ее — словно ребенка, еще только постигающего мир. Собака — это символ особых отношений Доменико с миром,
его неразрывного единства с бытием; когда он не видит ее рядом, он
начинает беспокоиться, испытывать страх. Вспомним, что Сталкер
366
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
только в конце своего путешествия в Зону обрел бессловесного друга,
который символизировал ведущее его и ведомое им бытие. В то же
время к Андрею Горчакову такая же точно собака (можно сказать, та
же сама собака, т. е. символизирующая ту же самую идею) приходит
только в его видениях и снах, и это означает, что он только ищет новых отношений с реальностью.
«Сделай вид, что их здесь нет, иди своей дорогой, — говорит Доменико собаке, имея в виду бессмысленные разговоры «голов» в бассейне, — а впрочем, послушай, всегда есть чему поучиться... Что бы
не случилось — будь в стороне. Понятно? Кстати, ты слышал их разговор, ты не должен быть таким. Ты знаешь, почему они торчат в воде?
Потому что хотят жить вечно... Наблюдай, наблюдай за ними».
Этот разговор помогает разгадать тот смысл, который имеет
в идейной структуре фильма образ странного бассейна. Люди, готовые по целым дням торчать в бассейне, надеются, что это поможет им
«жить вечно». Но ведь в этом состоит самое глубокое и сильное желание всех людей на свете — от этого главного желания зависят и из
него проистекают все остальные наши желания. В результате, бассейн,
от которого ожидают исполнения этого желания, оказывается неким
аналогом «комнаты желаний» из предыдущего фильма. Тот факт, что
в местечко, где он находится, не раз наведывалась Святая Екатерина, общавшаяся с Богом, является дополнительным свидетельством
в пользу его магических свойств. В «Сталкере» место, где исполнялись
все желания, находилось в фантастической Зоне, обладающей явными
чудодейственными качествами, в «Ностальгии», как мы уже говорили, Тарковский устраняет четкую грань между двумя сферами — той,
в которой господствуют силы разрушения и подготавливается всеобщий апокалипсис, и той, в которой еще сохраняются благие и живительные силы бытия. Поэтому «островки», излучающие лучи, спасающие
и преображающие все бытие, оказываются скрытыми и незаметными
в его безбрежных просторах; на них лежит печать заброшенности и запустения, люди забыли об их подлинном предназначении и готовы поверить в их действенность только для реализации своих личных желаний.
Сталкер был своего рода хранителем и служителем главного объекта новой веры — «комнаты желаний», точно такую же роль играет
серный бассейн в жизни и вере Доменико. Как и Сталкер, Доменико
в глазах окружающих его людей выглядит сумасшедшим, однако это
как раз то состояние «не от мира сего», благодаря которому человек становится причастным Истине и в отличие от всех «нормальных» видит
близость приближающейся вселенской катастрофы. Оба этих героя отмечены тем, что они оказались способны до конца преобразить свои отношения с миром и сделать главным в своей жизни не «использование»
и «покорение» сущего, а «вслушивание» в «голоса» бытия, следование
367
ГЛАВА VI
«Ностальгия»: в преддверии Апокалипсиса
за его «течениями» ради раскрепощения его творческих и спасающих
потенций. Но Сталкеру, для того чтобы осуществить это, достаточно
было проникнуть в Зону, которая становилась его подлинным «домом»,
его «родиной», где он обретал себя, смысл своего существования; путь
Доменико к обретению себя и своего места в мире оказался гораздо
сложнее, он должен был в обычном земном мире найти свою Зону.
Жестокий и нелепый поступок Доменико, на семь лет запершего
себя и свою семью в огромном мрачном доме, — это и есть трагическая
попытка «выстроить» свою Зону и заставить близких людей занять новую, более правильную позицию по отношению к миру. Хотя эта попытка закончилась неудачей — жена и дети ушли от него обратно в обманчиво красивый и привычный мир — сама эта неудача в соответствии
с парадоксальными законами ветхого бытия обернулась его победой:
после того, как он остался один в своем доме, лишившимся признаков
обычного человеческого жилища, он обрел то, что искал, дом становится для него местом «открытости» бытия — тем, чем была Зона для Сталкера. Не случайно, в изображении дома Доменико особенно заметно
повторение многих образных элементов, которые Тарковский использовал в «Сталкере». Этот дом, в частности, очень похож на то странное
сооружение, в котором находилась «комната желаний» и в котором проходили все финальные сцены «Сталкера» (не считая эпилога).
Подобно Сталкеру, Доменико в художественном мире «Ностальгии» оказывается единственным, никем не понятым служителем своей парадоксальной веры; как и Сталкеру, ему больше всего нужны
ученики, которые смогли бы пойти дальше него и возжечь огни новой
веры во всем мире, в душах других людей. Учениками Сталкера становились те, кто, пройдя через Зону, сумели понять, что уют и рациональная упорядоченность их существования во «внешнем» мире обманчивы, что подлинный смысл бытие сохраняет только в Зоне. Точно
так же и Доменико в конце концов обретает своего «ученика» за счет
того, что открывает Андрею Горчакову свой дом; этот дом становится
для Андрея местом обретения подлинного — того, что он никак не мог
найти в своем бесконечном странствии по чужой стране, в красотах
которой он угадывал все тот же знак распада, печать ветхого бытия6.
6 В этом смысле, конечно же, абсолютно неверно утверждение, что «Италия
для Горчакова приобрела значение Зоны» (Богомолов Ю. «Я свеча, я сгорел на
пиру...» // Мир и фильмы Андрея Тарковского. С. 162). Проблема героев «Ностальгии» как раз в том, что в отличии от героев «Сталкера» у них нет своей
Зоны, они должны найти ее «островки» в земной действительности. И неудовлетворенность Андрея Горчакова своей жизнью в Италии объясняется прямо противоположным образом по отношению к тому, как это делает автор процитированной статьи. Несмотря на все свои красоты Италия для Горчакова оказывается
все тем же постылым обыденным миром, каким был мир вне Зоны для Сталкера.
Только встреча с Доменико помогает Андрею найти, наконец, вход в свою Зону.
368
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
Не случайно в «Ностальгии» практически нет видов Италии, а из
ее прекрасных культурных памятников мы видим только «Мадонну
дель Порто» Пьеро делла Франчески, да и к этому шедевру старого искусства Андрей отказался прикоснуться. Наш обыденный мир в фильме представлен в виде темных, невыразительных холлов и коридоров
гостиницы и столь же темной и неуютной комнаты Андрея. В изображении этой комнаты выделяются два образа, явно обозначающих
ветхую подоснову нашего мира. Осматривая свой номер, Андрей находит на комоде, стоящем у стены, старую, истрепанную Библию —
в нее вложена столь же старая, грязная расческа с застрявшими в ней
волосами. Чуть позже Андрей ложится на кровать и в открытом окне
комнаты мы видим глухую стену, по которой хлещет вода, — под воздействием нескончаемых потоков воды верхний слой штукатурки, покрывающий стену, кусками сползает вниз, словно бы демонстрируя
неспешный и незаметный, но абсолютно неотвратимый процесс «разложения», «распада» бытия.
Уже при первой встрече с Андреем у бассейна Доменико чувствует, что в этом человеке есть что-то такое, что выделяет его среди
окружающих, делает близким ему самому. Именно поэтому нелюдимый Доменико, всегда избегающий общения, внезапно обращается
к Эуджении с просьбой дать ему сигарету, хотя при этом признает,
что сам не курит. Их первый разговор оказывается предельно кратким, но в нем звучат очень важные слова. Почти сразу же покидая
Андрея и Эуджению, Доменико говорит им: «Никогда не забывайте того, что Он сказал ей» (имея в виду Бога и Святую Екатерину).
И затем воспроизводит слова Бога: «Ты не та, что ты есть, Я же — Тот,
который есть»7. «Он не сумасшедший, — говорит о Доменико Андрей,
после того, как тот уходит, — у него есть вера. <...> Никто не знает,
что такое безумие, они всем мешают, они неудобны. Мы не хотим понять их, они страшно одиноки. Но я уверен, они ближе нас к Истине».
Здесь получает продолжение тема, звучавшая в «Солярисе»
и «Сталкере». Человек несамостоятелен и не может выстроить свою
жизнь, опираясь только на себя и на свои «внутренние» силы. Чтобы
стать подлинным, чтобы стать собой, человек должен прежде всего
7 Отметим любопытную деталь. Согласно житийной традиции, Бог сказал
Святой Екатерине Сиенской совсем другие слова: «Я есть Тот, Кто Есть; ты есть
та, кого нет». Изменение смысла этой фразы в фильме Тарковского достаточно
существенно, чтобы это можно было счесть ошибкой или случайностью. Учитывая тот факт, что во время съемок «Ностальгии» Тарковский уже активно разрабатывал сценарий «Жертвоприношения», в котором центральную роль играют
идеи Ницше (см. об этом подробнее в главе 7), можно высказать парадоксальное,
но вполне обоснованное утверждение, что в «уста» Бога Тарковский вкладывает
в несколько измененном виде одну из максим Заратустры: «Стань таким, каков
ты есть!» СНицше Ф. Так говорил Заратустра. С. 171).
369
ГЛАВА VI
«Ностальгия»: в преддверии Апокалипсиса
отречься от себя — от ложного себя, выстроенного на основе представлений о своем господстве над всем существующем и о потенциальном всемогуществе своего разума. Став «слабым», «незнающим»,
только взыскующим истины, человек должен найти опору для нового
себя в самом бытии, в скрытых божественных, преобразующих силах
бытия, которые одновременно действуют и в нас самих; чтобы найти
путь к этим силам, он должен обрести Учителя, способного помочь
ему в его новой жизни, направить к истине. На этот путь и предстоит
встать Андрею — он должен стать «учеником» Доменико, примкнуть
к его загадочной вере.
Осознав значимость этой цели, Андрей сам ищет общения с Доменико. В следующей сцене мы видим, как он и Эуджения стоят около дома Доменико и пытаются заговорить с ним. Однако Доменико
резко отвергает все попытки Эуджении познакомить его с Андреем,
и на первый взгляд это кажется странным, ведь совсем недавно Доменико сам искал знакомства с этим необычным человеком из России.
Однако понять причины его страной непоследовательности не так уж
трудно. Доменико не признает отношений, выстроенных по правилам
«хорошего тона», подчиненных тем «рациональным» законам, по которым существует все современное, ложно устроенное человеческое
общество. Поскольку именно к этому подталкивает его Эуджения, он
отвергает ее предложение и почти грубо прогоняет ее от себя. Только
после того, как рассерженная Эуджения уходит («пойми же, — говорит она Андрею, — он сумасшедший, и не от меня зависит, захочет
он говорить или нет»), Андрей подходит к Доменико, и общение становится возможным. Оно становится возможным потому, что Андрей
отбрасывает все привычные условности и прямо говорит о том, что
составляет самое важное для Доменико и для него самого, то, что уже
объединяет их в некоем таинственном знании, неведомым «обычным»
людям: «Мне кажется, я знаю, зачем ты это сделал... с твоей семьей».
Этих слов оказывается достаточно; Доменико молча уходит в дом,
приглашая Андрея последовать за ним. Далее следует своего рода обряд посвящения Андрея в ту таинственную религию, апостолом которой является Доменико. Когда Андрей входит внутрь, Доменико
включает музыку, и мы слышим фрагмент «Оды к радости» Бетховена,
которая в «Сталкере» звучала в последних кадрах и вносила оптимистическую ноту в сумрачный колорит фильма, намекая на то, что благие силы еще способны преобразить мир. Теперь та же самая музыка
встречает нового послушника веры, общей для Сталкера и Доменико.
Однако в данном случае она обрывается в момент апофеоза: еще не
настало время радоваться и ликовать, то дело, которое свело вместе
Доменико и Андрея, еще очень далеко от завершения, и впереди —
еще огромный труд по реализации осознанных ими целей в жизнь.
370
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
Своими собственными силами выстроив себе Зону, Доменико
потерял свою семью и не смог убедить окружающих в правоте своей жизни, в необходимости всем, хотя бы в какой-то степени, стать
такими, как он. Но, даже оставшись в одиночестве, он все-таки частично добился того, ради чего обрек на страдания своих близких: его
дом стал местом, где сохраняются и продолжают действовать благие,
преображающие силы. В изображении дома Доменико можно угадать
элементы, символически обозначающие ветхое бытие (старое, мутное зеркало, изъеденные временем стены, потоки дождя, льющегося
через дырявый потолок и т.п.), однако здесь бытие открыто человеку и в своих светлых, и в своих темных тенденциях, и поэтому человеку легче понять каким образом он должен строить свои отношения
с ним, чтобы раскрыть и усилить первые и бороться со вторыми. Дом
предстает как своего рода открывшаяся «трещина» бытия, обнажившаяся «рана»; в этом небольшом пространстве становятся зримыми,
выходят на «поверхность» противоречия созидательных и разрушительных, божественных и иррациональных тенденций. Изображение
дома Доменико сознательно выстроено Тарковским на резких контрастах, демонстрирующих столкновение этих противоположных тенденций бытия. Здесь мы находим очень многие приемы, применявшиеся режиссером в предшествующих фильмах.
Войдя в дом, Андрей попадает в темное помещение без какой-ли-
бо мебели, похожее на огромную прихожую. Он подходит к дверному
проему, ведущему в другое помещение; когда он медленно открывает
старые, растрескавшиеся дверные ставни, перед ним предстает чрезвычайно странная картина. Все пространство небольшой комнаты, от
двери до настежь открытого окна, занимает «макет» какой-то местности, расположенный на уровне окна: прихотливо изгибающаяся,
но лишенная признаков реального течения, словно покрытая стеклом
река; покрытые зеленой травой луга; желтые глинистые откосы резко вздымающихся над рекой холмов — все это неестественно неподвижное, как бы перенесенное в вечность. Камера, следуя за взглядом Андрея, медленно поднимется, продвигаясь вдоль «течения» реки,
и в этом медленном движении миниатюрный пейзаж, находящийся
внутри комнаты, незаметно «перетекает» в пейзаж за открытым окном.
Этот фрагмент заставляет вспомнить характерный прием из
«Страстей по Андрею», где снятые сверху, в быстром движении пейзажи представляли образы идеального мира, задававшие цель всех
усилий человека. Там эти образы были вполне реальными, в них
представал сам несовершенный мир, но только увиденный с необычной, «идеальной» точки зрения, и это означало, что его преображение вполне допустимо, что в нем самом, в его потенциальной полноте, заключена своего рода «гарантия» грядущего преображения. Еще
371
ГЛАВА VI
«Ностальгия»: в преддверии Апокалипсиса
большее сходство представший перед нами образ имеет с финальными кадрами «Соляриса», где мы видели «остров» земной гармонии,
возрожденной в иррациональном начале бытия с помощью усилий
человека. В «Солярисе» это стало результатом самопожертвования
Криса Кельвина, который открыл свою душу, все тайники своей памяти Неведомому — ради его просветления, ради соединения с ним
и придания его творческой мощи более осмысленного и целостного
характера. В «Ностальгии» этот образ имеет похожий смысл: в сфере
бытия, раскрывшейся в доме Доменико, «воскресла», была воссоздана жертвенными усилиями Доменико основа для будущей гармонии,
которая со временем должна распространиться на весь мир. И это
означает, что жертвы, принесенные Доменико, не были напрасны,
ему удалось превратить свое жилище в новый действенный источник
благих сил, и эти силы сумели воссоздать здесь «зернышко» гармонии. Не случайно, изображение в этом фрагменте построено так, что
миниатюрный, искусственный пейзаж в комнате незаметно «перетекает» в пейзаж, расстилающийся за окном — возникает ощущение
неразрывной связи между взращенным в доме Доменико элементом
совершенного бытия и реальным несовершенным бытием за пределами этой локальной сферы (отметим, что пейзаж за окном выглядит
гораздо более безжизненным, пустынным, чем «макет» внутри комнаты). Словно бы от этого элемента гармонии наружу распространяются лучи преображения, пока еще слишком слабые, чтобы их можно
было заметить, но все-таки чрезвычайно существенные для судьбы
всего мира. При этом нужно подчеркнуть, что «макет» пейзажа предстает почти лишенным красок, в почти черно-белом регистре, поэтому здесь можно говорить только о движении к совершенству, но, конечно, не о его достигнутом состоянии.
За фрагментом, в котором Андрей рассматривает «макет» и реальный пейзаж за окном, следуют кадры, показывающие самого Андрея,
причем его изображение также дано в плавном движении, словно
кто-то в свою очередь рассматривает его со стороны — точно так же
как он только что рассматривал пейзаж перед собой. Подобно тому
как Крис Кельвин в «Солярисе» «предстоял» перед Неведомым, перед
иррациональным бытием и был готов отдать себя ему, так и Андрей
Горчаков в «Ностальгии», войдя в дом Доменико, вступил в область,
где он вынужден принять позицию «открытости» бытию, вынужден
«предстоять» перед ним.
Пока Андрей рассматривает «макет» в комнате, мы слышим птичьи голоса, создающие атмосферу умиротворенности, подтверждающие благой характер этой искусственной гармонии, способной стать
основой и образцом для реального преображения всего бытия. Однако когда его взгляд в плавном движении достигает пейзажа за окном,
372
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
звуковое сопровождение резко меняется: теперь мы слышим, хотя
и тихий, но пронзительно-резкий звук циркулярной пилы, как будто
здесь выступают на первый план деструктивные силы, незаметно, но
неотвратимо подтачивающие основу всего прочного и целостного,
механически «разрезающие» живую действительность на лишенные
смысла элементы. В дальнейшем этот механический звук вновь появится в звуковой палитре эпизода и будет конкурировать с еще одним
звуковым образом гармонии, очень характерным для фильмов Тарковского, — с шумом проливного дождя, охватывающего дом Доменико
снаружи и словно скрепляющего его прочной сетью основоположных,
божественных смыслов. В течении следующего эпизода Доменико
и Андрей будут несколько раз проходить мимо широко открытого окна
в самой благоустроенной и обжитой комнате дома, и мы постоянно будем видеть этот проливной дождь, идущий перед окном, заросшим буйной растительностью и наполовину закрытым изящной занавеской.
Резкие контрасты и конфликты бытия, ставшие явными в этой его
сфере, обозначены также и с помощью других ясных образов. Дождю, идущему за окном и выражающему естественную земную гармонию, противостоит «дождь», падающему с потолка в огромном зале
с открытыми окнами. Яркий солнечный свет, пробивающийся через
какие-то цели и дыры в крыше дома (несмотря на проливной дождь)
соседствует с внезапно наступающей тьмой, скрывающей все вокруг.
В центральной сцене всего фрагмента Андрей и Доменико находятся в маленькой комнате, за окном которой, закрытым густой зеленой листвой, идет проливной дождь и одновременно светит солнце. Войдя в эту комнату, Андрей неуверенно осматривается, а затем
подходит к огромному мутному зеркалу в углу; оно явно навевает
воспоминание о таком же огромном зеркале, в которое смотрелась
мать Алексея, главного героя фильма «Зеркало», в одном из его снов.
Чуть позже Доменико долго и пристально будет рассматривать себя
в нем. Но когда Андрей подходит к зеркалу, он не смотрит в него, погруженный в какие-то мысли. Затем он поворачивается; когда камера медленно прослеживает направление его взгляда, мы вновь видим
его — теперь он стоит в другом углу, спиной к нам, и внимательно
вглядывается в тот угол, где висит зеркало. Возникает ощущение, что
не только зеркало удваивает и повторяет образ человека, но в самой
этой комнате заключена способность «удваивания»; здесь Андрей получает возможность в буквальном смысле взглянуть на себя со стороны, чтобы лучше понять себя.
В этом фрагменте Тарковский использует также и прием кругового движения, имевший важное идейное значение в его предшествующих фильмах. Во время разговора Андрей и Доменико непрерывно
двигаются по маленькой тесной комнате, в силу этого вся сцена ка¬
373
ГЛАВА VI
«Ностальгия»: в преддверии Апокалипсиса
жется очень динамичной, однако лишь однажды камера совершает
полный круг, следя за движениями Андрея, и это воспринимается как
доказательство определенной целостности данной сферы бытия, выстоявшей под действием разрушительных сил и способной противостоять им и в дальнейшем.
Приняв из рук Доменико хлеб и вино, Андрей проходит своего
рода «обряд причастия» и принимает его веру, в которой самое главное — единство людей в их решимости жертвовать собой ради всех.
«Сперва я был эгоистом, хотел спасти свою семью, а спасать надо всех,
весь мир», — говорит Доменико Андрею. Идея духовного единства людей, утраченного и забытого ими в процессе ложного развития цивилизации, занимает особое место в рассуждениях Доменико. Пожалуй,
ни в одном предшествующем фильме эта идея не проводилась с такой
прямолинейностью и настойчивостью, как в «Ностальгии» (хотя она
всегда присутствовала в системе философских идей Тарковского).
Возможно, на это повлияло длительное пребывание Тарковского в Западной Европе. Столкнувшись с западным образом жизни, наглядно
почувствовав силу западного индивидуализма и западной «мелкобуржуазности», Тарковский сделал особый акцент на одной из важнейших
составляющих русской духовной культуры — на чувстве неразрывного полумистического единства всех людей, которое впервые получило философское оформление у славянофилов в понятии соборности8.
«Одна капля, потом еще одна образуют одну большую каплю,
а не две», — говорит Доменико Андрею перед тем, как дать ему хлеб
и вино и призвать к поступку, который должен стать актом самопожертвования ради всеобщего единства людей. Об этом он вновь прямо скажет в своей последней «проповеди»: «Люди должны вернуться
к единству, а не оставаться разъединенными». Все мы должны почувствовать свою причастность к забытому, но все еще живому и все еще
животворящему нас и нашу культуру единству, включающему в себя
не только всех ныне живущих, но и всех умерших людей. «Голос какого предка говорит во мне? — вопрошает Доменико. — Я не могу
примирить мои мысли с моим телом. Вот почему я не могу быть всегда
одним и тем же. В единый миг я могу ощутить бесконечное множество
явлений...» Когда чуть позже в своем сне Андрей почувствует свое
тождество с Доменико и увидит в зеркале не свое отражение, а отражение Доменико, он наглядно продемонстрирует, что стал верным
учеником Доменико и последовательным адептом его веры.
8 В своем главном теоретическом труде Тарковский использует этот термин,
говоря о целях искусства: «...искусство, несомненно, несет также сугубо коммуникативную функцию, так как человеческое взаимопонимание — объединение и
в конечном смысле — соборность, один из важнейших аспектов в конечной цели
творчества» (Тарковский А. А. Запечатленное время. С. 136).
374
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
Поняв, что Андрей готов стать его учеником и последователем
и исполнит то, что требует его вера, Доменико сообщает Андрею суть
того поступка, который он должен совершить. Этот поступок пытается совершить сам Доменико, но ему не удается это из-за противодействия окружающих. «Нужно перейти через воду с зажженной свечой,
через горячую воду, в бассейне Святой Катерины, рядом с гостиницей, — воду, что дымится», — говорит Доменико Андрею. «Когда», —
машинально спрашивает Андрей. «Прямо сейчас», — мгновенно отвечает Доменико и продолжает: «Как только я зажигаю свечу и иду
к воде, они оттаскивают меня назад, они гонят меня, кричат, что я сумасшедший». Он не может исполнить непонятный, но важный обряд
и поэтому поручает свершить его Андрею.
Андрей явно озадачен тем, что сказал Доменико. Как рациональный человек, как человек своего времени, он, даже понимая неправильность своей жизни и желая изменений, мыслит эти изменения по
модели представлений своего времени — как ясные и осмысленные
в своей сути, в своем противостоянии разрушительным тенденциям
цивилизации. Однако в том, что ему предлагает Доменико, ничего этого нет. Предлагая принять его веру, Доменико требует отказа от рациональности и разумности как таковых. И новая жизнь, в которую ему
предлагает войти Доменико в гораздо большей степени отличается от
старой, чем это представлялось Андрею: в ней главными качествами
должны стать послушание и принятие Непостижимого в его откровенной абсурдности, а не осмысленность и понятность привычного.
Тарковский выразительно показывает нам растерянность Андрея, его
сомнения по поводу уже, казалось бы, принятого решения следовать за
Доменико. Сначала он берет свечу и соглашается совершить тот поступок, о котором его просит Доменико. Но в этот момент он слышит крики таксиста, который зовет его, чтобы повезти в Рим, и это внезапное
вторжение обыденной жизни с ее необходимостью словно «отрезвляет» его, он кладет свечу на полку, как бы признавая весь разговор с Доменико и свой порыв к новой жизни самообманом, какой-то иллюзией.
Но в конце концов, после минутного колебания, Андрей все-таки
берет свечу, которую обещал пронести через бассейн, и уходит. Доменико идет провожать его, и они пересекают огромный странный
зал, больше всего напоминающее помещения, в которых разворачивались последние сцены «Сталкера», происходившие в Зоне. Хотя
оно совершенно не приспособлено к нормальной жизни — с дырявого
потолка падает вода, весь пол покрыт лужами, на окнах отсутствуют
стекла — именно здесь стоит кровать Доменико, над которой натянута полиэтиленовая пленка, спасающая от падающего сверху дождя. Вновь нужно вспомнить, что сон для героев Тарковского — это
важнейшая часть их жизни. Сталкер не мог спать в своем «земном»
375
ГЛАВА VI
«Ностальгия»: в преддверии Апокалипсиса
доме именно потому, что тот находится в сфере, где деструктивные
тенденции зашли слишком далеко, где целостность бытия оказалась
полностью утраченной, поэтому сон не давал желанного проникновения в «иные миры», точнее, в иные измерения одного и того же несовершенного бытия. В своих последних словах, сказанных в Зоне,
он выражал желание перебраться вместе с семьей в Зону и остаться
здесь жить, несмотря на видимость разрухи, господствующей вокруг.
Ведь «разруха» Зоны имеет совсем другую сущность, чем разруха
«рационального» человеческого мира вне Зоны. В Зоне она отражает
«невинное» состояние бытия, из которого в равной степени возможно
и движение «вверх», к большему совершенству, и движение «вниз»,
к гибели и окончательному хаосу. Здесь все зависит от человека и от
его способности бороться за идеалы, живущие в его душе. В мире вне
Зоны все по-другому — здесь из-за ложной направленности наших
устремлений бытие приведено в такое состояние, из которого уже невозможно вернуться к началу пути, где был открыт путь к спасению.
В «Ностальгии» Доменико реализовал то желание, которое высказывал Сталкер: он уже живет в своей Зоне. Но расплатой за это стала
утрата семьи, ему одному приходится бороться за распространение
обретенных им здесь благих сил на всех и все.
Провожая Андрея к выходу, Доменико проходит через нелепую, отдельно стоящую дверь, которая заставляет вспомнить эпизод
с безумным стариком из «Иванова детства», где такая же точно дверь,
оставшаяся от сожженного немцами дома, отделяла старика, жившего на пепелище, от всей «нормальной» действительности и «нормальных» людей. В «Ностальгии» эта странная дверь может быть понята как символ осознаваемой Доменико необходимости постоянного
перехода в новое состояние, постоянного преодоления себя, своего
обыденного «я» — ради исправления несовершенств этой сферы реальности. Абсурдность этой сферы, ее внутренняя иррациональность,
обозначена в надписи на плакате, который висит на одной из стен:
«1 + 1 = 1». Но эта же надпись свидетельствует о возможности «просветления» указанной иррациональности — через слияние с ней,
через «плодотворное» безумие, которому подвержены многие герои
Тарковского. Ведь превратив ее в закон своего бытия, выразив ее,
подчинив ей свой несовершенный разум, человек может сделать
иррациональность новой формой рациональности — гораздо более
плодотворной и творческой, чем рациональность холодного, механического рассудка.
«Извини, но почему именно я?» — спрашивает Андрей у Доменико, но тот вместо ответа сам задает вопрос: «У тебя дети есть?..
А жена у тебя красивая?..» Андрей должен сделать то, о чем его просит
Доменико, ради себя, ради своих близких, ради всех людей, которые
376
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
только кажутся далекими, а на самом деле связаны с нами невидимой
«тканью общения». И точно так же свою часть общего дела, которому
посвятил себя Доменико, должны совершить все люди, осознающие
свою нерасторжимую связь с другими, со всем миром.
Прощаясь, Доменико и Андрей обнимаются как кровные братья,
встретившиеся после долгих лет разлуки и осознавшие свою близость. В это время в сознании Доменико воскресает событие, навеки
разделившее его жизнь, обозначившее и его самое горькое поражение
и его долгожданную победу: он видит, как полиция выводит из темного дома его плачущую жену, отрекшуюся от него и не принявшую его
целей, и его детей (в этом фрагменте в звуковом сопровождении вновь
появляется и становится особенно резким звук циркулярной пилы).
В серо-коричневом видении Доменико его маленький сын бежит по
ступенькам каменной лестницы и останавливается у края террасы,
с которой открывается цветной, прекрасный в своей жизненной обыденности, вид на долину внизу, пересеченную черной асфальтовой
дорогой. «Папа, это и есть конец света?» — спрашивает маленький
мальчик, пытаясь понять те истины, которым в течении этих долгих
семи лет, учил его отец. Сумеет ли он принять его правду, сможет
ли за внешней красивостью привычной жизни, в которую его возвращают теперь, разглядеть зловещие признаки распада, сможет ли сам
встать на путь, выбранный Доменико? Его отцу не остается ничего,
как только верить в это и надеяться на то, что брошенное им в душу
сына зерно не погибнет, даст в конце концов плоды; и сын выберет ту
же судьбу, что и он.
Андрей уезжает на такси, а Доменико возвращается в свой дом;
но в конце эпизода мы вновь видим на экране ту же самую сцену:
толпа зевак наблюдает, как полиция выводит из дома Доменико его
жену и детей, а его самого ожидает карета скорой помощи. Возникает ясное ощущение, что эта сцена — не видение Доменико, а вечная
реальность, соприсутствующая «рядом» с реальностью настоящего
и постоянно напоминающая о себе вторжением в наш мир, выявляющаяся в нем под действием любого сильного чувства — не только
самого Доменико, но и связанных с ним людей.
Образы трех главных героев «Ностальгии» — Доменико, Андрея Горчакова и Эуджении — имеют очевидное сходство с образами главных героев предшествующего фильма. О сходстве Доменико
и Сталкера уже говорилось; пожалуй самым важным в той линии преемственности, которую Тарковский выстраивает в отношении двух
своих героев, является совпадение смысла проповедуемой ими парадоксальной веры. Очень наглядно это совпадение проступает в сцене самосожжения Доменико — в словах его странной «проповеди»,
очень похожей на «молитву» Сталкера. Подобно тому как Сталкер
377
ГЛАВА VI
«Ностальгия»: в преддверии Апокалипсиса
призывал людей стать «слабыми» и «гибкими», чтобы уметь слышать
бытие и следовать его творческим импульсам, так и Доменико осуждает цивилизацию за неумение слушать «голоса», неумение «растягивать» душу ради принятия всего, что есть в бытии; он осуждает
«здоровье» — те качества косности и жестокости, под господством
которых человек ничего не ведает кроме себя и своих эгоистических
материальных целей, — и призывает людей стать такими же «больными» и «сумасшедшими», как он сам, чтобы понять, наконец, что мир
стоит на пороге катастрофы.
«Голос какого предка говорит во мне, — выкрикивает Доменико
свою «проповедь» с импровизированной трибуны на античной статуе
Марка Аврелия, — я не могу примирить мои мысли с моим телом, вот
почему я не могу быть всегда одним и тем же. В единый миг я могу
ощутить бесконечное множество явлений. Истинное зло нашего времени состоит в том, что не осталось больше великих учителей. Мы
должны вслушиваться в голоса, которые лишь кажутся нам бесполезными. Нужно, чтобы наш мозг, загаженный канализацией, школьной
рутиной, страховкой, снова отозвался на гудение насекомых. Надо,
чтобы наши глаза, уши, все мы пропитались тем, что лежит у истоков
великой мечты. Кто-то должен воскликнуть, что мы построим пирамиды, и не важно, что потом мы их не построим. Нужно пробудить
желания, мы должны во все стороны растягивать нашу душу, словно
это полотно, растягиваемое до бесконечности. Если вы хотите, чтобы
жизнь не пресеклась, мы должны взяться за руки, мы должны смешаться между собой, так называемые “здоровые” и так называемые
“больные”. Эй, вы, “здоровые”, что значит ваше здоровье? Глаза всего
человечества устремлены на водоворот, который нас всех вот-вот затянет. Кому нужна свобода, если вам не хватает мужества взглянуть
в наши глаза, есть, пить и спать вместе с нами. Только так называемые здоровые люди довели мир до грани катастрофы. <...> Великое
недолговечно, только малое имеет продолжение. Люди должны вернуться к единству, а не оставаться разъединенными. Достаточно присмотреться к природе, чтобы понять, что жизнь проста. И нужно лишь
вернуться туда, где вы вступили на ложный путь. Нужно вернуться
к истокам жизни и стараться не замутить воду. Что же это за мир, если
сумасшедший кричит вам, что вы должны стыдиться самих себя?..»
Как мы помним, Сталкер в своих походах в Зону надеялся найти
ученика, который мог бы пойти дальше его самого и стать учителем новой веры, объединить людей силой своей личности и силой своей веры
и направить на верный путь. О том же самом мечтает и Доменико. «Истинное зло нашего времени состоит в том, что не осталось больше великих учителей», — выкрикивает он, понимая, что сам не годится на
роль «великого учителя». Он только «послушник» и «служитель» но-
378
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
вой веры, но ему необходимо найти среди «так называемых здоровых
людей» ученика, способного стать учителем. Именно этим объясняется странный характер его отношений со «здоровыми» людьми, он не
верит им, относится к ним с презрением, но обращается к ним со своей
проповедью, надеясь разбудить в них желание стать другими.
Интересно, что это высказывание Доменико Тарковский почти
буквально повторил уже от себя в дневниковой записью от 22 мая
1983 г. (после завершения «Ностальгии»): «Я сейчас все время думаю
о том, насколько правы те, которые думают, что творчество — состояние духовное. Отчего? Оттого, что человек пытается копировать
Создателя? Но разве в этом добродетель? Разве не смешно, подражая
демиургу, думать, что мы ему служим? Наш долг перед Создателем,
пользуясь данной нам Им свободой воли, борясь со злом внутри нас,
устранять преграды на пути к Нему, расти духовно, драться с мерзостью внутри себя. Надо очищаться. Тогда мы не будем ничего бояться. Господи помоги! Пошли мне учителя! Я устал его ждать...»9
Видно, что в этот момент Тарковский уже не ощущает себя
в роли «великого учителя», хотя герои его первых фильмов, а значит,
и он сам, как их создатель, выступали именно с такой позиции: это
достаточно ясно в отношении Андрея Рублева; и даже Крис Кельвин
в финале «Соляриса», идя навстречу своей новой жизни, возможно,
думает об этом. Недаром Тарковский именно во время работы над
«Солярисом» записал мысль об ожидании прихода Мессии, который
своими единоличными деяниями сможет спасти мир. В «Ностальгии»
Тарковский уже сомневается в приходе такого Мессии, и, видимо,
отождествляет себя со своими «слабыми» героями, которые способны
сделать только маленький шаг на пути спасения, даже не очень ясно
понимая его смысл.
Параллель между Андреем Горчаковым и Писателем из «Сталкера» гораздо менее очевидна, чем параллель Сталкер-Доменико. Наиболее явный ее знак состоит в том, что Андрей в «Ностальгии» также является писателем. Если бы, как первоначально и предполагал
Тарковский, роль Горчакова исполнял А.Солоницын, сходство персонажей из двух фильмов было бы более очевидным. В исполнении
О. Янковского эта роль приобрела совсем другой оттенок по сравнению с тем, как она могла выглядеть, если бы Солоницына не постигла
преждевременная смерть. Писатель-Солоницын в «Сталкере» своей
внешностью, манерой поведения, речью представлял типичного ин-
теллектуала-неврастеника, мучающегося от раздвоения своей личности, одна сторона которой жаждет славы, успеха, материальных благ,
а другая боится утратить свое подлинное достояние — способность
к проникновению в суть бытия и к пониманию других людей. Горча¬
9 Тарковский А. А. Мартиролог. Дневники 1970-1986. С. 488.
379
ГЛАВА VI
«Ностальгия»: в преддверии Апокалипсиса
ков-Янковский в «Ностальгии» выглядит гораздо более уравновешенным и цельным человеком, если можно так выразиться, — гораздо более «средним», вряд ли способным на столь возвышенные творческие
взлеты и столь глубокие нравственные падения, какие можно угадать
в Писателе. Но, может быть, именно в силу этого различия двум героям уготована разная судьба и разное предназначение.
Оба совершают важнейшее в своей жизни деяние, совершают акт
самопожертвования ради новой, только что обретенной веры, причем
Андрей Горчаков действительно отдает свою жизнь, в то время как
Писатель, формально, возвращается к своей старой, «ложной» жизни. Однако за этим внешним различием скрывается прямо противоположное соотношение содержаний. Вне всяких сомнений, Писатель,
испытавший обращение в Зоне, стал другим человеком, призвание
которого быть Учителем, водителем всего человечества. В то же время Горчаков, хотя и сумел сделать то, что было недоступно Доменико,
все-таки остался «рядовым» подвижником его веры. Его деяние стало очередным звеном в бесконечной цепи актов самопожертвования,
совершаемых самыми разными людьми и с самыми разными целями,
только в сумме, в соединении друг с другом обеспечивающих ту минимальную степень цельности и осмысленности нашей жизни, которая
позволяет отодвинуться хотя бы на шаг от ожидающей весь мир бездны апокалипсиса.
Наиболее спорным в этом ряду выглядит сближение Эуджении
с Профессором из «Сталкера». Его нужно понимать только в том смысле , что через образы своих героев Тарковский пытается обозначить одну
и ту же позицию, одно и то же ложное мировоззрение, к сожалению,
ставшее общепринятым в современном обществе. Как и Профессор,
Эуджения всецело разделяет предрассудки мира «нормальных» людей
и принятые в этом мире стереотипы поведения: даже самые искренние
и благородные порывы своей души она воплощает в формы, по сути,
уничтожающие их глубокое содержание, — подобно тому как в жизни
Профессора благородный порыв борьбы с мировым злом превратился
в банальное желание уничтожить Зону вместе со всеми ее тайнами.
После одной из бесед с Андреем на пороге его комнаты в гостинице, когда она в очередной раз осталась в недоумении от его беспричинной меланхолии, от его непонятной тоски, в основе которой она видит
только неумение бороться за свое счастье и благополучие, Эуджения
осуществляет странный «забег» по гладкому мраморному полу гостиничного коридора, заканчивающийся ее нелепым падением. В этом
парадоксальном соединении неуемной и по своему выразительной целеустремленности с полным отсутствием значимой цели и реального
результата проступает глубокая трагедия Эуджении и всего огромного
мира «нормальных» людей; все достигнутое им могущество, все его са¬
380
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
мые радикальные усилия расходуются впустую, во вред ему самому,
только приближают крах всех его идеалов и миг его гибели.
Испытывая какое-то непонятное ей самой любопытство к людям,
обладающим подлинной верой и не так, как она, воспринимающим
мир, Эуджения делает движение навстречу пониманию, однако оказывается неспособной на необходимые здесь усилия, на пересмотр
принятых стереотипов. Все это с очевидностью проявляется в ее беседе с пономарем в соборе «Мадонны дель Порто». «Как по-вашему, —
спрашивает Эуджения, — почему только женщины так часто молятся?.. Отчего женщины набожнее мужчин?.. Я этого никогда не понимала». «Я человек простой, — отвечает пономарь, — но, по-моему,
женщина нужна для того, чтобы рожать детей, растить их с терпением и самоотречением». И после удивленного и даже негодующего
возгласа Эуджении: «И больше по-вашему она ни на что не годиться?», он заканчивает: «Я знаю, ты, верно, хочешь быть счастливой, но
в жизни есть нечто более важное...»
Пономарь вовсе не пытается навязать Эуджении свою точку зрения, конечно же, совершенно неприемлемую для такой «современной», эмансипированной женщины, как она («ты же спросила меня
о том, что я думаю», — почти оправдывается он). В его традиционализме главное — не стремление к чему-то принудить другого, а призыв
к пониманию основ нашего бытия, забвение которых лишает смысла
все формы жизни, сколь бы красивыми с внешней стороны и «современными» они ни были. Услышав вопрос Эуджении, он не сразу отваживается на прямой ответ, он говорит ей: «Ты должна это знать лучше
моего», — подразумевая, что женщина находится в более «близких»
отношениях с бытием, и поэтому никто кроме самой женщины не может выразить суть ее веры и смысл ее молитв. Но Эуджения не понимает его, в ее жизни те формы отношений с миром, которые доступны
только женщине (и которые с предельной ясностью иллюстрировала
судьба «космической» Хари в «Солярисе»), оказались полностью замещенными чисто внешними и формальными отношениями, управляемыми ясным и точным («мужским») рассудком. Даже свою искреннюю любовь к Андрею она пытается реализовать в привычной для
современной эмансипированной женщины форме — в форме «красивого» адюльтера. Поскольку Андрей, как можно догадаться, также неравнодушен к ней, его нежелание следовать очевидному стереотипу
поведения она рассматривает исключительно как следствие его «бесхарактерности», «слабости», что в рамках ее мировоззрения выглядит
как приговор. Окончательно порывая с ним, она уверенно заявляет,
что добьется своей цели — найдет «настоящего» мужчину.
Впрочем, найдя позже своего «настоящего» мужчину, Эуджения,
как можно предположить, не слишком довольна своей судьбой и,
381
ГЛАВА VI
«Ностальгия»: в преддверии Апокалипсиса
скорее всего, не сможет долго выдержать обретенного ею «счастья».
Лишь на несколько минут покидая дом своего жениха, чтобы купить
сигареты, она вновь соприкасается со странным миром «больных» людей; и, может быть, тот страшный пример самоотречения (вспомним,
что именно о терпении и самоотречении говорил ей пономарь в монастыре), который преподал ей и всем окружающим Доменико, наконец, откроет ей глаза на лживость всех ее представлений о жизни,
и она уже больше никогда не вернется назад, к своему «счастью».
Через образ и экранную судьбу Эуджении Тарковский предельно
откровенно высказался о феминистических тенденциях, которые стали характерной чертой современного западного общества и в которых
можно видеть самое яркое, почти карикатурное выражение слишком
далеко зашедшего процесса формализации человеческого бытия, забвения человеком самых основ своей жизни; не менее выразительно
об этих тенденциях Тарковский говорил в своих поздних интервью10.
Идеалом женщины для Тарковского в новом фильме является,
с одной стороны, «Мадонна дель Порто» — божественный образ Матери, еще только ожидающей рождения своего Сына, призванного
спасти человечество, — и, с другой стороны, Мария, жена Андрея,
также предстающая в одном из его видений в тот момент, когда она
готовится стать матерью. Отражение друг в друге этих образов подобно отражению образа Иисуса Христа, идущего на Голгофу, в образах
главных героев Тарковского. Подобно тому как Христос выступает
примером жертвенности для всех людей, для каждой женщин таким
же примером жертвенности, примером исполнения своего самого глубокого предназначения, является беременная Мадонна.
3- Бездомный Бог
Очень многие изобразительные элементы последних двух фильмов Тарковского обладают цитатным характером, воспроизводят образы его более ранних работ. В «Ностальгии» еще одним наглядным
примером такой автоцитации является сцена в разрушенном и заброшенном соборе, затопленном чистой, прозрачной водой.
Вспомним, что в «Страстях по Андрею» сцена в разрушенном соборе была одной из центральных в идейном отношении. С одной стороны, разрушенный собор представал как свидетельство несовершенства земного мира, могущества в нем разрушительных сил, способных нанести настолько глубокие «раны» бытию, что они пронизывают
все его сферы, вплоть до самых высоких и совершенных. Но, с другой
стороны, трагедия бытия открывала для человека редкую возмож¬
10 См.: Эббо Демит. В поисках утраченного времени (сценарий документального фильма) // О Тарковском. С. 365-366.
382
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
ность прикоснуться к «высшим сферам»; в разрушенном соборе перед
Андреем Рублевым представал посланец «мира вечности», умерший
Феофан Грек, который своим просветленным обликом и своей сверх-
земной мудростью доказывал если и не абсолютное, то очевидное относительное превосходство «мира вечности» над «миром времени».
Это соприкосновение с «миром вечности» было равносильно для
человека прикосновению к Истине, к высшему смыслу бытия, давало
понимание подлинного смысла своей жизни и своего предназначения.
После этого человек вновь обретал силы для жизни и для борьбы со
злом и несовершенством земного мира, и веру в то, что все самые
глубокие «раны» бытия будут «залечены» и цельность мира восстановлена. «Вы уйдете, а мы все вновь отстроим», — говорил Патрикей
перед своей мученической смертью, и одна эта фраза в большей степени выражала непоколебимую веру героев Тарковского в бессмертие и в причастность целостному бытию, чем длинные абстрактные
рассуждения или искренние молитвы. В финале фильма мы видели
заново отстроенный праздничный, ослепительно белый город с возвышающимся в центре восстановленным собором, и это был символ
непоколебимого превосходства добра над злом, смысла над абсурдом,
символ единства в совершенстве «мира времени» и «мира вечности» — дополняющего их единство в несовершенстве.
В «Ностальгии», как мы только что говорили, «мир вечности» теряет
все свое превосходство над «миром времени» и предстает как его «зеркальное» дополнение, столь же несовершенное. В результате, единство
в несовершенстве двух «миров» уже не восполняется никаким реальным, или хотя бы потенциальным, совершенством. Это и демонстрирует
образ разрушенного и не восстановленного людьми собора.
Начинается эпизод с изображения быстро текущей воды с колышущимися в ней водорослями, или травами, — один из любимых
образов Тарковского, обозначающий полноту, жизненную силу
и возможную гармонию природы. Однако теперь он нагружен дополнительным парадоксальным значением: в воде мы видим лежащего
на боку ослепительно белого мраморного ангела, — поверженного
ангела, ставшего пленником земного мира, — выразительный образ
«мира вечности», все еще прекрасного в отдельных своих элементах,
но уже утратившего свою мощь и свое былое значение для человека.
Дальше эта символика получает развитие и предстает в еще большей
жизненной конкретности: внутри собора перед Андреем появляется
уже настоящий представитель «мира вечности» — маленькая юркая
девочка, прячущаяся в развалинах; когда Андрей спрашивает ее имя,
она отвечает: «Анджела», — ангел. На фоне этого очень оригинального и тонкого образа особенно прямолинейным в своем символизме
выгляди «реальный» ангел первого «видения» Андрея.
383
ГЛАВА VI
«Ностальгия»: в преддверии Апокалипсиса
В мире, где «умер» Бог, ангелы, его посланцы, становятся беззащитными и беспомощными; все еще сохраняя былую красоту и непосредственность отношений с бытием, они уже не могут ничего сделать
с окружающим их несовершенством, не способны реально влиять на
положение дел в мире, более того, они утратили даже свой «дом»
в бытии и вынуждены «скрываться» вблизи тех мест, где раньше сходились все планы реальности и высшие силы властно вмешивались
в земную жизнь, придавая ей большее совершенство.
Направляясь к входу в разрушенный собор, Андрей медленно
бредет по колено в воде и вполголоса читает стихотворение Арсения
Тарковского:
«Я в детстве заболел
От голода и страха. Корку с губ
Сдеру — и губы облизну; запомнил
Прохладный и солоноватый вкус.
А все иду, иду, иду,
Сижу на лестнице в парадном, греюсь,
Иду себе в бреду, как под дуду...
Жарко
Мне стало, расстегнул я ворот, лег, —
Тут затрубили трубы, свет по векам
Ударил, кони... (поскакали), мать
Над мостовой летит, рукою манит —
И улетела...
И теперь мне снится
Под яблонями белая больница...
Я в детстве заболел...»
В отрывочных фразах этого стихотворения можно угадать
скрытый смысл, который дает еще один повод вспомнить соответствующий фрагмент «Страстей по Андрею». Там раскрытие «мира
вечности» и схождение разных планов бытия было в немалой степени обусловлено «метафизической» болезнью Андрея Рублева, овладевшей им после совершенного во время набега татар убийства
дружинника Малого князя. Андрей Горчаков, входя в разрушенный
собор, также говорит о болезни, причем воспроизводимые им поэтические строки, по всей видимости, нужно понимать в метафорическом смысле, как обозначение некоей неизлечимой «болезни»,
преследующей каждого из нас с момента рождения и связанной
с радикальной «болезнью» самого бытия. Слова о «затрубивших
трубах», о «свете, ударившем по векам», и «поскакавших конях»
явно ассоциируют эту «болезнь» с Апокалипсисом, с грозящей всему миру катастрофой, а ее симптомы наглядно предстают в образе
разрушенного собора.
384
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
Увидев Андрея, девочка-ангел, живущая в соборе, прячется и, только поняв, что он не представляет для нее опасности, выходит из укрытия и садится у стены с видом хозяйки. В то время как на Андрея сверху
моросит мелкий дождь, на Анджелу падает солнечный свет, который,
отражаясь от белой поверхности стены, окружает ее светлым ореолом.
И в течении долгого плана, показывающего нам сидящую девочку, за
кадром тихий голос начинает читать еще одно стихотворение Арсения
Тарковского, где речь идет об ангеле, который живет в каждом из нас,
которым является каждый из нас. Этот ангел умирает вместе с человеком, отдавая все свои силы миру и другим людям, и возрождается
вновь в мире, чтобы снова стать человеком и нести в себе частицу того
света, источник которого погас в мире вместе со «смертью» Бога.
«Меркнет зрение — сила моя,
Два незримых алмазных копья;
Глохнет слух, полный давнего грома
И дыхания отчего дома;
Жестких мышц ослабели узлы,
Как на пашне седые волы;
И не светятся больше ночами
Два крыла у меня за плечами.
Я свеча, я сгорел на пиру.
Соберите мой воск поутру,
И подскажет вам эта страница,
Как вам плакать и чем вам гордиться,
Как веселья последнюю треть
Раздарить и легко умереть,
И под сенью случайного крова
Загореться посмертно, как Слово».
Завершение стихотворения приходится на долгий план, в котором
мы видим толщу прозрачной воды, стоящей в разрушенном соборе
и покрывающей следы разрухи и запустения, — еще один образ ветхого бытия, воцарившегося даже в тех сферах и областях, где раньше господствовали светлые, божественные силы. И если в сцене из
«Страстей по Андрею» в разрушенном соборе падал снег, ничем не
отличимый от птичьих перьев, обозначавших раскрытие «мира вечности» вместе с его благими, спасающими и преображающими, потенциями, то в «Ностальгии» на Андрея Горчакова, стоящего по колено
в воде в самом центре заброшенного храма, падает мелкий, почти не
заметный дождь, который, как и во всех подобных случаях (вода, текущая внутри дома в эпилоге «Соляриса» и с потолка комнаты в сне
Алексея из «Зеркала», вода, падающая на Писателя в тоннеле, названном «мясорубкой» в «Сталкере» и т.д.), обозначает иррациональность, абсурдность сфер, с которыми соприкасается человек.
385
ГЛАВА VI
«Ностальгия»: в преддверии Апокалипсиса
Странная история, которую рассказывает Андрей девочке — причем рассказывает по-русски, словно бы подчеркивая универсальное
значение заложенного в этой истории содержания, — может быть
естественно «встроена» в символический ряд, располагаемый перед
нами Тарковским. Андрей рассказывает, как один человек вытаскивает, «спасает» из глубокой лужи другого, после чего выясняется, что
спасенный вовсе и не хотел чтобы его спасали, поскольку он живет
в этой луже. Помимо почти очевидных для каждого русского ассоциаций, связанных с традиционным отношением Запада к России,
которую на Западе принято рассматривать как объект «воспитания»
и «спасения», эта история имеет и более глобальный смысл. По сути,
здесь речь идет о невозможности спасти кого бы то ни было без его
воли и его собственных усилий. И, значит, спасение всего мира от
грозящей ему катастрофы возможно только как наше общее дело,
в котором каждый должен принять посильное участие.
Завершается эпизод в разрушенном соборе еще одним сном Андрея, который радикально отличается от всех других его снов и видений, поскольку здесь он видит не родной дом и семью, а себя самого,
причем не в России, а в Италии. Этот сон состоит из двух очень разнородных частей. Сначала мы видим Андрея, медленно идущего по узкой улочке старинного итальянского города, причем вдоль всей улицы
лежат беспорядочно брошенные вещи, и она выглядит так, словно по
ней совсем недавно в панике бежали люди, спасаясь от какого-то неведомого нам бедствия. Когда Андрей проходит мимо стоящего прямо
на улице шкафа с большим зеркалом, что-то его останавливает, он на
мгновение задумывается, и после этого мы слышим его внутренний
монолог, который на первый взгляд выглядит абсолютно непонятным:
«А почему я должен об этом думать, мало мне своих забот?..» И затем после паузы: «Боже мой, зачем, зачем я это сделал, это же мои
дети, моя семья, моя кровь... как же я мог... годами не видеть солнца,
бояться дневного света, ну зачем это, зачем эта беда...» Все становится понятным, когда Андрей возвращается к шкафу и смотрит на себя
в зеркало. Мы вместе с ним видим в зеркале не его собственное отражение, а отражение Доменико.
Проникая в этом сне в вечное измерение бытия, Андрей прозревает единство своей судьбы и судьбы Доменико, единство, доходящее
до полного отождествления себя и своей жизни с жизнью Доменико.
Первая фраза его внутреннего монолога — это обычный жест «самосохранения», естественная реакция личности, не желающей открывать себя бытию и принимать на себя бремя ответственности за мир
и за других людей. Но Андрей уже преодолел все стереотипы обыденного мировосприятия. Он осознает нелепый поступок Доменико,
запершего всю свою семью на много лет в своем доме, как свой соб¬
386
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
ственный поступок, как свою собственную трагедию, как неизбежность своей жизни. Этот сон выступает как знамение ожидающего исполнения призвания Андрея: он должен вслед за Доменико и вместе
с ним осуществить жертвенное деяние, которое в соединении с такими же деяниями всех других людей способно остановить приближение вселенской катастрофы.
Сразу же после этого мы видим еще один сон Андрея, еще один
символический образ, извлеченный им из вечного измерения бытия
и помогающий понять смысл своей жизни и смысл всего происходящего в мире. Андрей идет по огромному разрушенному собору, во много
раз превосходящему по своей величине тот, который мы только что
видели в его «настоящем» и в котором он несколько мгновений назад
заснул. От этого собора остался один «скелет», одни стены, и внутри
него уже давно растет трава; проходя через его огромное пространство,
Андрей продолжает прижимать к лицу белый платок — в связи с этим
возникает ощущение непосредственной взаимосвязи этого фрагмента
и со сценой его разрыва с Эудженией, когда у него пошла носом кровь,
и с последовавшем затем «видением», где мы видели дом Андрея и его
близких, ожидающих восхода солнца. Все эти параллели и связи еще
раз подчеркивают взаимозависимость и взаимодополнительность «настоящего» и «видений» — двух зеркально отражающихся друг в друге
измерений бытия, которым Андрей в равной степени причастен и из
взаимодействия которых и рождается осмысленность его жизни.
Небольшой разрушенный собор, в котором заснул Андрей, символизировал процесс «деградации» бытия, захвативший даже сферы, казавшиеся оплотом всемогущих и всепобеждающих благих сил.
Огромный разрушенный собор из сна Андрея, охватывающий все видимое пространство, оказывается выразительным символом всеобщей
катастрофы, символом всей реальности, пришедшей в «упадок»,
утратившей цельность в результате исчезновения или радикального искажения силы, ведущей бытие к совершенству. И в звучащем за кадром странном диалоге Бога с человеком обращает на себя
внимание не столько подтверждение существования Бога, к которому
со страстной молитвой обращается невидимая нами женщина, сколько какая-то радикальная «нелепость» этого все еще существующего
Бога, его несообразность своей сущности: «Господи, Ты видишь, как
она молится, почему Ты ей ничего не скажешь?» — «Ты только вообрази, что случиться, если она услышит мой голос». — «Ну хотя бы дай
ей понять, что Ты есть». — «Я все время даю ей это понять, но только
она этого не замечает». В мире, превратившемся в огромный разрушенный и запущенный храм, Бог, подобно маленькой девочке-ангелу
в небольшом соборе, становится неприкаянным и неузнаваемым обитателем, все еще обладающим остатками своего могущества, но уже
387
ГЛАВА VI
«Ностальгия»: в преддверии Апокалипсиса
не способным обратить их на пользу человеку и миру. Человеку остается надеяться только на себя и на свои собственные силы в борьбе за
спасение всего мира и его незадачливого «пленника» — Бога.
Завершается эпизод последним символическим штрихом: в посветлевшем после дождя, пронизанном светом соборе с большой высоты падает птичье перо, как еще одно напоминание Андрею о его
предназначении, как знак его ответственности за спасение мира,
которую с него не может снять никто — ни другой человек, ни Бог.
И когда в конце концов Андрей выполнит свой долг, совершит то
странное деяние, к которому его призвал Доменико, и встретит свою
смерть, в заключительных кадрах фильма мы увидим один из самых
сложных символов художественного мира Тарковского — внутри
того же самого огромного разрушенного собора из сна Андрея предстанет его дом вместе с окружающей его русской природой, и он сам
будет неподвижно сидеть перед нами под густо падающим белым снегом. В вечном измерении бытия, открывающем непреходящее значение каждого земного явления и события, именно Андрей — именно
земной человек, а не Бог — станет центром вновь обретенной гармонии. Незыблемым оплотом, спасительной основой ветхого бытия
станет обжитый человеком маленький кусочек реальности, родной
дом, оказавшийся способным придать прочность всему разрушающемуся миру — заброшенному храму «умершего» или просто «заблудившегося» Бога.
4. Абсурдная настойчивость веры
В сцене, открывающей финальную часть фильма и происходящей
уже в Риме, Андрей Горчаков готов к тому, чтобы отправиться на
родину. Буквально в последнее мгновение перед отъездом его зовут
к телефону, это Эуджения решила еще раз поговорить с Андреем перед тем, как вместе с богатым женихом (он занимается «спиритуаль-
ными проблемами», но выглядит как типичный мафиози) отправиться
в длительное путешествие в Индию. Она между прочим говорит Андрею о том, что встретила в Риме Доменико: «Он здесь, в Риме, на
какой-то манифестации, странные у них дела, вот уже три дня как Доменико выступает, говорит будто Фидель Кастро. Почему бы тебе не
приехать, повидаться с ним? Доменико много раз спрашивал о тебе.
Ты сделал то, что обещал ему?» «Да, конечно, сделал», — не задумываясь отвечает на последний вопрос Андрей. — «Тогда срочно приезжай, он очень ждал этого».
Этот краткий диалог подтверждает, что Андрей вряд ли смог бы
стать столь же последовательным и настойчивым проповедником новой веры, как сам Доменико или герои предыдущего фильма — Стал¬
388
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
кер и Писатель. Если бы не случайный звонок Эуджении, он бы забыл
о Доменико и о данном ему обещании, и вернулся к прежнему существованию, в котором нет ясного осознания подлинных целей человеческой жизни. Однако после напоминания Эуджении, он решительно
меняет свои планы (что частично искупает его ложь) — откладывает
на два дня свой отъезд и сразу же направляется к магическому бассейну, чтобы выполнить задание Доменико.
Когда Андрей подходит к бассейну, оказывается, что из него
спущена вся вода, и какие-то люди занимаются неспешной очисткой его дна, покрытого серо-зелеными пятнами. Намек на какую-то
связь бассейна со Святой Екатериной заставляет предположить, что
он может рассматриваться как некий символический аналог купели
для крещения, как место, где должно происходить обращение людей
в подлинную веру. Тот факт, что сейчас он служит людям, не желающим ничего знать о вере и о необходимости стать иными, показывает,
что в мире утрачено ясное осознание целей жизни и тех опасностей,
которые грозят ей: в разрушенных соборах уже не ведутся службы,
а в бассейне, который должен помогать людям обрести веру, теперь
«мокнут» те, кто без всякой веры и без всяких усилий хотят обрести
«вечную жизнь». Андрей уже был обращен Доменико в свою веру,
и ему нет необходимости вступать в воды бассейна. Его призвание
в другом — он должен совершить предписанный от века магический
обряд, который, может быть, вернет этому старинному сооружению
его подлинный, неискаженный смысл, сделает его священным местом, источником благих сил, оплотом новой веры. И эти благие силы
как бы сами способствуют этой цели, желанной для всего бытия, —
бассейн оказывается первозданно пустым, еще только готовящимся
к исполнению своей настоящей задачи.
В это время Доменико реализует другую «акцию», цель которой —
обратить внимание всех на необходимость возвращения к истокам
жизни, к благим силам, забытым людьми. «Если вы хотите, чтобы
жизнь не пресеклась, мы должны взяться за руки, мы должны смешаться между собой — так называемые “здоровые” и так называемые
“больные”... Человек, выслушай меня, в тебе — вода, огонь и еще пепел, и кости в пепле, — кости и пепел... Где я, если не в реальности
и не в своем воображении? Я заключаю новый договор с миром: да
воссияет солнце ночью и падет снег в августе. Великое недолговечно,
только малое имеет продолжение. Люди должны вернуться к единству, а не оставаться разъединенными. Достаточно присмотреться
к природе, чтобы понять, что жизнь проста; и нужно лишь вернуться
туда, где вы вступили на ложный путь. Нужно вернуться к истокам
жизни и стараться не замутить воду. Что же это за мир, если сумасшедший кричит вам, что вы должны стыдиться самих себя». «А теперь —
389
ГЛАВА VI
«Ностальгия»: в преддверии Апокалипсиса
музыку», — завершает Доменико, но старый патефон не заводится,
а в это время спорые помощники подают ему канистру с керосином.
«О, мать, — произносит последние слова своей молитвы Доменико, —
воздух так легок, что кружится вокруг твоей головы и становится все
прозрачней, когда ты улыбаешься». Облив себя керосином, он достает
зажигалку и на мгновение замирает. В это время мы видим тех людей,
к которым Доменико обращается со своей проповедью. Его аудитория
воплощает идею о соединении «здоровых» и «больных» — пациентов
психиатрических лечебниц и праздных зевак, случайно оказавшихся
в этом месте. Но и те и другие остаются абсолютно бесстрастными во
время его проповеди, символически обозначая глухоту современного
человечества к призывам тех, кто, подобно Доменико, видит близкую
катастрофу и пытается объяснить людям ее причины.
Странная, неестественная статичность этой сцены делает ее
очень похожей на «видения» Андрея и Доменико, это сходство подсказывает, что свершающееся событие значимо не только в «мире
времени», но и в «мире вечности», что оно соединяет все измерения
и сферы бытия. Когда огонь охватывает Доменико, начинает звучать
музыка; первые, искаженные звуки сливаются с его криками, но затем мы слышим апофеоз «Оды к радости» — на котором Доменико
оборвал эту музыку во время своей встречи с Андреем в своем доме.
Тогда она была неуместна, поскольку дело, объединившее Доменико
и Андрея, было далеко от завершения; теперь же Доменико свершил
предназначенное ему, и эта музыка обозначает рождение нового
смысла в бытии. Упав вниз со статуи Марка Аврелия, объятый пламенем Доменико поднимается и делает несколько шагов, прежде чем
окончательно замереть на мостовой, раскинув руки. В очередной раз
мы видим символ, появляющийся во всех фильмах Тарковского и обозначающий жертвенный подвиг Иисуса Христа, — огненный факел,
в котором делает свои последние шаги Доменико, приобретает отчетливую форму креста.
Именно в этот момент начинает свой путь Андрей — свой крестный путь ради той же цели, которой отдал свою жизнь Доменико.
Мучительно долго, с напряжением всех своих сил, Андрей идет через
бассейн, защищая от порывов ветра трепетный огонь свечи. Дважды ему приходится возвращаться и начинать свой путь с начала.
В третий раз ему, наконец, удается сохранить огонь и донести его до
противоположного края бассейна, и за миг до того, как он поставит
свечу и умрет от сердечного приступа, мы слышим отдаленный лай собаки из его «видений», — свершающееся событие раскрывает и связывает воедино все сферы бытия, и в центре этого единства, в вечном
и цельном бытии оказывается сам Андрей, «возвратившийся» на свою
подлинную родину, в тот самый отчий и вековечный дом, о котором
390
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
говорит Заратустра в своем понимании вечного возвращения — как
перенесения в вечность высшего совершенства и высшей радости человека (см. главу 4).
В долгих финальных кадрах фильма, выполненных в том же колорите, что и все предшествующие «видения», Андрей неподвижно
сидит на земле неподалеку от своего дома, оставшегося в России,
около крохотного озера, и на него и на лежащую рядом с ним собаку
падает густой снег. Когда в медленном движении перед нами открывается перспектива на эту картину, мы видим, что обретенный Андреем
«островок» гармонии находится внутри того самого огромного разрушенного храма, который в одном из его «видений» символизировал
весь наш мир, во всем противоречии его созидательных и разрушительных тенденций.
Пожалуй, самым странным в истории Андрея Горчакова, рассказанной в фильме, выглядит то, что он соглашается совершить действие, являющееся абсолютно нелепым, и не уточняет, какой смысл
оно должно нести и в чем его значение для Доменико, для Андрея
и для всех людей, которых Доменико пытается направить на путь Истины. Во всех фильмах Тарковского мы видели примеры самопожертвования, однако они всегда носили осмысленный и целесообразный
характер, всегда осуществлялись ради жизни и благополучия других
людей или ради творческого развития всего человечества. Такими
были акты творческого самопожертвования Андрея Рублева и Бориски в «Страстях по Андрею», самопожертвование матери Алексея
и военрука в «Зеркале», Хари и жены Сталкера в фантастической дилогии. По сравнению с этим самопожертвование Доменико и Андрея
в «Ностальгии» кажется совершенно бесцельным, абсурдным. Для
того чтобы понять, какой смысл вкладывает в него Тарковский и его
герои, нужно еще раз вспомнить главное изменение, произошедшее
в мировоззрении режиссера после завершения «Зеркала».
Если мир, в котором живет человек, является осмысленным
и относительно гармоничным, в той же степени осмысленными являются его поступки, а значит, и его самопожертвование всегда имеет
ясную и достижимую цель. Но в мире «умершего» Бога, в мире, основу которого составляет ветхое бытие, не приходится надеяться на
осмысленность всего совершаемого нами. Поступки человека всегда соответствуют имеющимся у него представлениям о целях своей
жизни и осмысленности бытия, однако если эти представления не
соответствуют реальности, вся его деятельность будет иметь только
видимость целесообразности. Человек будет выстраивать свой мир
с верой в его устойчивость и прочность, но у этого мира не будет основы, он будет всего лишь миражом, обреченным на мгновенную гибель в бездне распадающегося бытия. Главная ошибка человека в том,
391
ГЛАВА VI
«Ностальгия»: в преддверии Апокалипсиса
что не находя благой и разумной основы для своих действий в мире,
он отваживается на то, чтобы сделать такой основой самого себя, признает свое собственное изолированное существование абсолютной
ценностью, достаточной для придания цельности и целесообразности
всему миру и всей своей цивилизации. Он забывает, что «умерший»
Бог, все равно остается Богом, и в мире, который был создан в расчете на «руководство» благой и всемогущей силой, человек в своей
ограниченной индивидуальной сущности не может стать заменой
Богу, не может претендовать на то, чтобы быть прочным основанием действительности. Бытие, даже потерявшее своего Творца, даже
ставшее ветхим бытием, остается основой и всего мира и человека.
Забывая об этом, человек не отодвигает, а приближает тот час, когда
эта распадающаяся основа его самого превратит в хаос все то, что он
так долго и тщательно выстраивал.
Вновь привести бытие в благое и цельное состояние можно только возвратив в него элементы осмысленности, утраченные им вместе
со «смертью» Бога. Эти элементы сохранились в человеке, но, противопоставляя себя миру, человек лишает их смысла, они становятся
иллюзорными и уже не могут противостоять натиску абсурда и хаоса.
Человек в своей жизни, а не в своем сознании и разумении есть частица осмысленности в хаосе ветхого бытия; поэтому выполнить свою
роль в деле спасения бытия он может только через отречение от себя,
от своей обособленности, и через возвращение той частицы смысла
(«частицы» Бога), что живет в нем, в саму реальность. Не навязывать
миру свои призрачные идеалы, построенные на противопоставлении
своей индивидуальности и мира, а отдавать себя всему существующему предначертано человеку.
Смысл самоотречения и самопожертвования, к которым призван человек, не может быть понят им самим, более того, этот смысл
не может сформироваться, высветиться в однократном акте самопожертвования, как не может быть ручьем или рекой одна капля.
Только нескончаемая последовательность таких актов, непонятных
и бессмысленных в своей оторванности от целого, формируют в своей абсурдной настойчивости долгожданный и уже негасимый свет
всеобщего смысла, связующий бытие и возвращающий ему утраченную божественную основу. Именно об этой абсурдной настойчивости самопожертвования ради грядущего всеобщего спасения и повествует «Ностальгия».
Если бы Андрей Горчаков оценивал то деяние, которое его призвал
совершить Доменико, с точки зрения традиционных представлений
мира «нормальных» людей — с точки зрения «осмысленности», «целесообразности» и даже «возвышенности» этого деяния — он никогда бы не совершил его. Только отвергнув все эти традиционные пред¬
392
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
ставления, признав истину мира «больных» людей — мира «слабых»
и «гибких» — Андрей обретает непоколебимую веру в правоту того,
к чему призывает его Доменико. В своем мучительно долгом пути через бассейн, защищая и охраняя слабое, едва видимое пламя свечи,
он сжигает себя самого ради поддержания этого слабого огня —
одной из искр того пламени, в котором погиб Доменико. Только
в такой преемственности самопожертвования, в отказе от «возвышенности» и абсолютной целесообразности того, что предназначено
каждому «послушнику» новой веры, рождается смысл и надежда на
спасение от хаоса и абсурда.
Только совершив свое «нелепое» деяние и отдав всего себя ради
неведомого грядущего смысла, Андрей оказывается причастным ему
в сохраненном от распада измерении вечности, где его личность
становится одним из центров всеобщего смысла, скрепляющего бытие, — это и показывает финал фильма.
Тем не менее в заключение мы должны обратить внимание на
один едва заметный мотив фильма, содержащий намек на суть тех
возможностей, которые отроет перед людьми их окрепшая вера, если
она сумеет по-настоящему раскрепостить благие силы бытия. Вспомним разговор Эуджении с пономарем церкви «Мадонны дель Парто»
в самом начале фильма. Пономарь говорит: «К сожалению, когда сюда
приходят ради развлечения, без любви, тогда ничего не происходит».
«А что должно произойти?», — спрашивает Эуджения. «Все, что ты
пожелаешь, все, что тебе нужно...» — отвечает он. Такой ответ выглядит как преувеличение, как метафора всемогущества Бога, которую даже в устах священнослужителя трудно понимать буквально,
ведь здесь предполагается возможность здесь и сейчас изменить реальность по своему усмотрению. Но в фильме Тарковского эту фразу нужно понимать именно в таком радикальном смысле. Подлинная
вера практически исчезла среди людей, но если человек все-таки обретет ее через послушание бытию, и кроме того он окажется на одном
из тех невидимых «островков», где усилиями подлинно верующих
уже были раскрыты благие силы бытия, он сможет в своем личном
усилии веры «воскресить» Бога и добиться того, что его творческая
мощь на мгновение восстановится в мире и изменит его — изменит
в любом направлении. Именно о таком произвольном изменении
мира говорит Доменико в своем последнем обращении к людям, в своем призыве соединиться в общей вере: «Я заключаю новый договор
с миром: да воссияет солнце ночью и падет снег в августе».
В этом мотиве «Ностальгии» Тарковский выражает самое сокровенное свое убеждение и самую важную свою идею о том, что мир
«пластичен» и подлинная вера способна преобразить его, сделать более совершенным и согласованным с желаниями человека. Эта тема
393
ГЛАВА VI
«Ностальгия»: в преддверии Апокалипсиса
очень ясно звучит в дневниках Тарковского. Например, 27 января
1979 г. в связи с прочтением книги Карлоса Кастанеды Тарковский
пишет: «Перечитал Кастанеду: "Уроки Дона Хуана". Замечательная
книга! И очень правдивая, потому что 1) мир совсем не такой, как он
представляется, и 2) он вполне может стать другим при определенных условиях»11. Кастанеда настолько увлекает его, что в этот момент
он даже размышляет о том, чтобы снять фильм по этой книге. Почти
буквально та же самая мысль повторена в записи от 4 ноября 1981 г.,
в контексте размышлений о постановке фильма «Искушение Святого
Антония»: «Если бы меня спросили, каких убеждений я придерживаюсь (если возможно “придерживаться” убеждений) во взгляде на
жизнь, я бы сказал: во-первых — то, что мир непознаваем, и, (следовательно) второе, что в нашем надуманном мире возможно все»12.
Однако, можно заметить, что так буквально воспроизводя этот
принцип в «Ностальгии», Тарковский немного «спрямил» сложную
логику отношений человека с бытием, которая была предметом осмысления в «Сталкере». С одной стороны, «комната желаний» и там
являлась выражением убеждения в том, что в нашем мире для человека «возможно все», но, с другой стороны, главное в предыдущем фильме было связано как раз с демонстрацией невозможности для человека в его нынешнем несовершенном состоянии обладать настоящими
желаниями — такими, которые идут из бытийной глубины личности
и «резонируют» с сохранившимися в бытии творческими силами, а не
являются фантомами, обозначающими глубоко ложное представление человека о себе и мире. В этом смысле вряд ли слова пономаря обращенный к Эуджении («Все, что ты пожелаешь»), можно рассматривать всерьез, имея в виду ее вполне «современное» мировоззрение.
Да и слова Доменико, конечно, трудно принять как выражение его реальных желаний и целей, это скорее метафорическое обозначение его
«символа веры», доступного только таким же посвященным, как он.
Художественное чутье Тарковского не позволило ему с еще
большей прямотой выразить в «Ностальгии» свою мысль о том, что
в мире «все возможно». Тем не менее именно это убеждение он сделал
идейным центром своего последнего фильма. И для того чтобы оно не
выглядело слишком прямолинейным и не вступило в явное противоречие с мировоззрением его предшествующих работ, ему пришлось
изобразить такое желание человека, которое ни при каких условиях
нельзя было принять за вторичное и искусственное, за такое, которое
обусловлено ложными стереотипами нашей неправильной жизни.
11 Тарковский А. А. Мартиролог. Дневники 1970-1986. С. 195.
12 Там же. С. 368.
394
ГЛАВА VII
«ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»:
великая надежда Заратустры
ГЛАВА VII «Жертвоприношение»: великая надежда Заратустры
1. Предчувствие катастрофы
В «Жертвоприношении» Тарковский показывает то, что только
предугадывалось и представало как угроза в воображении героев его
предшествующих картин; неминуемо приближающийся апокалипсис
здесь становится реальностью. Главная тема фильма — изображение
трагедии гибнущего мира, в котором человек осознает себя «хозяином» и «господином», но который он не знает в его истине. «Жертвоприношение» — гораздо более «прямолинейный» и дидактичный
фильм в сравнении со всеми предшествующими работами режиссера.
В нем Тарковский гораздо меньше внимания уделяет символической
образности и выражению сложных философских идей; все изобразительные средства сконцентрированы на проведении одной единственной мысли, одного убеждения: мир не просто стоит на грани катастрофы, эта катастрофа уже началась, и если она еще не докатилась до
всех тихих уголков человеческого мира, еще не затронула каждого,
то это только последняя небольшая отсрочка, уже почти ничего не
решающая. Если и есть надежда на спасение, то его нужно ждать как
чуда. Впрочем само это чудо может свершиться лишь в результате
радикальных усилий самих людей, готовых на абсолютное самопожертвование и абсолютную веру.
Мотив жертвоприношения и дара, становящегося жертвоприношением, проходит через весь фильм и задан уже в первых кадрах.
Титры фильма идут на фоне данного крупным планом фрагмента
неоконченного полотна Леонардо да Винчи «Поклонение волхвов»:
один из волхвов, встав на колени, протягивает младенцу Иисусу свой
дар. При этом за кадром звучит прекрасная мелодия из «Страстей
по Матфею» Баха. После того как титры заканчиваются, музыка замолкает, и мы слышим отдаленные крики чаек, которые вводят нас
в ту реальность, где будет происходить действие фильма, а в это время камера начинает движение вверх, и в кадре проплывают другие
фрагменты того же самого полотна Леонардо: Мадонна с Иисусом,
затем странные люди, стоящие вокруг Мадонны, резко жестикулирующие и почему-то имеющие испуганные лица, затем едва прорисованные всадники на вздыбленных конях и, наконец, огромное дерево
с неестественно черной кроной.
Репродукция с картины Леонардо, висящая на стене в комнате
Александра, главного героя фильма, затем еще несколько раз появится в кадре; когда она привлечет внимание почтальона Отто, одного
из друзей Александра, тот, пристально вглядевшись в нее, с испугом
отшатнется и скажет: «Боже, как страшно. Я всегда ужасно боялся
Леонардо». Это полотно выступает в качестве зловещего предзнаме¬
402
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
нования приближающейся, а затем и наступившей катастрофы. Оно
несет в себе не столько благую весть о рождении Спасителя, сколько
пророчество о хрупкости земной действительности, в которой таятся
какие-то страшные силы, не проявляющие себя до времени, но способные в конце концов погубить мир. Символом этих сил становятся неразборчивые всадники на заднем плане и дерево с черной кроной. В творчестве Тарковского сожженные и мертвые деревья имеют
очень важный смысл, они обозначают заключенное в самой природе,
в самой сердцевине жизни темное начало, начало смерти, которое
и выступает в качестве главного источника всех несовершенств
и всех трагедий мироздания. Наоборот, начало жизни в фильмах Тарковского всегда проявляет себя в виде многокрасочного богатства
природы. В противоположность этому, на картине Леонардо мы видим живое дерево с черной кроной, причем эта крона — самое темное
пятно на полотне, выполненном в светло-коричневых тонах. Это дерево олицетворяет природу, в которой темное начало распространило
свою власть даже на саму жизнь, превратило живое дерево в нечто
зловещее, вызывающее ужас и предчувствие смерти.
Отметим, что все живописные произведения Леонардо навевают
мысль о чем-то надвременном, вечном, в них словно бы выступают
перед нами какие-то «иные миры». В «Зеркале», в эпизоде с явлением «гостьи», Игнат рассматривал книгу с репродукциями картин Леонардо, и это было первым его соприкосновением с «миром вечности»,
за ним следовало уже непосредственное вторжение обитателей этого
мира в жизнь Игната. В «Жертвоприношении» Тарковский использует
то произведение Леонардо, которое и по своему колориту ничем не отличается от «снов» и «видений» его героев. Репродукция с этой работы
в комнате Александра — это постоянно присутствующий рядом с ним
образ из «мира вечности», напоминающий и о самой великой надежде, связанной с рождением Спасителя, и о страшной угрозе, нависшей
над миром, которую люди по большей части не замечают, занятые благоустройством своей жизни. Главный герой фильма, которого играет
Эрланд Йозефсон, оказывается достаточно чутким человеком, чтобы
почувствовать приближающуюся катастрофу, однако и он «заблудился» в своей жизни и не может понять, что же нужно делать, чтобы
отодвинуть миг гибели. В этом смысле он очень похож на Андрея Горчакова из «Ностальгии»; подобно Андрею, Александр только в самый
последний момент и при помощи людей, находящихся ближе, чем он,
к Истине, сумеет совершить поступок, ради которого он жил.
«Жертвоприношение» включает три существенно различных части: пролог, основную часть и эпилог, — по этому формальному признаку последний фильм Тарковского похож на «Сталкера». Однако на
фоне этого сходства проявляется чрезвычайно выразительное разли¬
403
ГЛАВА VII
«Жертвоприношение»: великая надежда Заратустры
чие. В «Сталкере» пролог и эпилог были монохромными, а основная
часть, в которой действие происходило в Зоне, — цветной. С помощью такого приема Тарковский обозначал неуклонное приближение
мира вне Зоны к катастрофе и сохранение положительных тенденций
в самой Зоне. В «Жертвоприношении», наоборот, пролог и эпилог
выполнены в цвете, в то время как основная часть, где и происходят
главные события, является в основном монохромной, с преобладанием темно-коричневого цвета (формально это объясняется тем, что
действие происходит поздним вечером и ночью). Как и в «Ностальгии», в «Жертвоприношении» Тарковский убежден, что в каждой точке бытия и в каждой его сфере действуют и борются между собой благие и злые силы, поэтому внешняя привлекательность и красочность
мира вовсе не свидетельствуют о его однозначно благой природе
и о его прочной гармонии. Фильм повествует как раз о хрупкости и иллюзорности этой внешней красоты, еще сохраняющейся в некоторых
областях земной действительности. На деле силы зла окончательно
одолели благие силы, и всеобщий апокалипсис, незаметно начавшийся
и распространяющийся на все области реальности, из скрытой формы
переходит в явную; наступают те самые «последние времена», о которых герои Тарковского говорили в предшествующих фильмах только
как о предполагаемом будущем — возможно еще не очень близком.
Основная часть «Жертвоприношения» показывает это явное действие апокалиптических сил, мгновенно уничтожающих последние
островки гармонии в земном мире. Через весь фильм проходит мысль
о том, что дом Александра, расположенный в тихом уголке Швеции,
является воплощением его мечты о спокойном и ясном существовании, лишенном тех забот и проблем, которые одолевали его в прежней жизни, признанной им ложной. Этот дом в чем-то похож на дом,
о котором вспоминает Алексей, главный герой «Зеркала», и на дом
отца Криса, выступающий в качестве оплота гармонии и совершенства в «Солярисе». Но теперь, найденный в долгих поисках истинной
формы жизни, он оказывается слишком непрочной основой для человека, для его счастья. Даже став реальностью, он остается только мечтой, идеалом; если человек не поймет, что этот идеал невозможен,
и будет слишком настойчиво стремится к его полному воплощению,
он упустит последний шанс спасти себя самого и мир. Этот единственный шанс состоит как раз в отречении от счастья, от покоя, от мечты
о возможном совершенстве своей жизни и своего маленького жизненного «мирка». Мы должны признать наши идеалы невоплотимыми
и отказаться от надежды обрести их — ради того, чтобы сохранить их
для наших детей. Только через самопожертвование, через принесение
в жертву себя самого и всего самого дорогого в своей жизни у человека остается последняя возможность отвратить катастрофу, которая
404
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
уже началась и скоро доберется до самых тихих уголков земного мира.
Еще одна заметная особенность «Жертвоприношения», безусловно связанная с той же самой мыслью о начавшемся и уже охватившем
огромные сферы реальности апокалипсисе, — это резкое изменение
характера «видений», предстающих главному герою. Проникая в вечное измерение бытия, Александр видит одни и те же ужасающие картины, демонстрирующие неотвратимое распространение апокалипсиса. Здесь еще раз можно вспомнить мрачноватую идею Свидригайло-
ва о том, что, возможно, в посмертном существовании мы обнаружим
себя не в «раю», не в благой вечности, о которой повествует церковное
христианство, а в еще более жуткой и абсурдной реальности, чем наш
несовершенный земной мир. Именно это и открывает в своих «видениях» Александр. Самое главное измерение бытия уже находится
в полной власти иррациональных сил, и вместо того, чтобы служить
основой и гарантией грядущего преображения нашего земного мира,
оно предрекает скорое и неминуемое воцарение хаоса и абсурда.
В последнем фильме Тарковского происходит окончательное «обращение» ясно выраженного в его ранних фильмах отношения между
«миром времени» и «миром вечности». «Болезнь» бытия теперь предстает настолько глубокой и радикальной, что ею оказывается захваченным даже «мир вечности», именно в нем всеобщий апокалипсис
уже вершит свое дело; и только в «мире времени», в земной действительности человека, в силу непонятных и парадоксальных законов
реальности, еще таится возможность отвратить всеобщую гибель.
Хотя в «Жертвоприношении» Тарковский впервые заставляет своего
героя непосредственно обращаться к Богу, причем обращаться с канонической христианской молитвой, именно здесь в наиболее радикальной степени проводится мысль о том, что только в самом человеке все еще сохраняются силы, способные радикально изменить мир.
В этом смысле сам фильм можно рассматривать как последний призыв Тарковского, обращенный ко всему человечеству и персонально
к каждому из нас: мы должны, наконец, понять серьезность нашего
положения и встать на единственно возможный путь, позволяющий
надеяться на спасение и возрождение1.
1 В этом смысле свои фильмы режиссер рассматривал не столько как произведения искусства, сколько как жизненные примеры, образцы для подражания.
Вот как об это Тарковский пишет в своем дневнике (запись 21 апреля 1982 г.,
сделанная после встречи с советским послом в Италии): «Сейчас здесь в одном
кинотеатре идут по очереди мои картины. Зашел разговор о кино, о зрителях. Об
итальянцах и американцах, и я подумал с ощущением стыда о том, что люди приходят в кино и смотрят мои фильмы. Со стыдом, потому что все, что я делаю, это
не кино, и не надо мои картины смотреть. Их надо переживать вместе со мной, но
кто же способен на это. А так — стыдно» (Тарковский А. А. Мартиролог. Дневники 1970-1986. С. 414).
405
ГЛАВА VII «Жертвоприношение»: великая надежда Заратустры
В первой сцене фильма мы видим Александра и его маленького
сына, которого все называют просто малышом или мальчиком. На берегу удивительно спокойного, словно застывшего моря они воткнули
в землю сухое дерево, и Александр рассказывает сыну историю о православном монахе, три года упорно поливавшем такое же точно сухое
дерево и добившемся того, что дерево расцвело. В это время по бе-
лесо-желтой дороге, протянувшейся среди изумрудно-зеленых лугов,
к ним подъезжает на велосипеде почтальон Отто (эту роль исполняет
Аллан Эдвалл). Он передает Александру поздравительное письмо его
старинных друзей-актеров, из которого мы узнаем, что сегодня день
рождения Александра. Сам Александр пребывает в каком-то мелан-
холически-задумчивом настроении. День рождения не принес ему
радости, скорее, дал повод для тяжких раздумий о целях своей жизни, привел Александра к выводу о том, что в ней так и не состоялось
что-то главное.
В своем монологе, обращенном к сыну, который не только не имеет имени, но кроме того все время молчит, так как недавно перенес
операцию на горле, Александр рассказывает о том, как они вдвоем
с мамой мальчика нашли это место и поняли, что могут быть счастливы здесь всю оставшуюся жизнь, «до самой смерти». И, внезапно
перебивая свои размышления, он говорит: «Не бойся, не бойся малыш, нет никакой смерти. Есть, правда, страх смерти, и очень он
мерзкий страх этот; и очень многих он частенько заставляет делать
то, что люди делать бы не должны. Как бы все изменилось, перестань
мы бояться смерти».
Здесь Александр почти буквально повторяет мысли некоторых героев Достоевского, размышлявших на ту же тему; особенно близки
его слова к идеям Кириллова в романе «Бесы». Отвергая канонические представления о посмертном райском бытии, Кириллов отрицает
существенность смерти. «Жизнь есть, а смерти нет совсем», — говорит он и добавляет, что верует «не в будущую вечную, а в здешнюю
вечную» жизнь2. Он мечтает о будущих свободных поколениях, которым «будет все равно, жить или не жить». «Жизнь дается теперь за
боль и страх, и тут весь обман. Теперь человек еще не тот человек. Будет новый человек, счастливый и гордый. Кому будет все равно, жить
или не жить, тот будет новый человек. Кто победит боль и страх, тот
сам Бог будет»3. Здесь подразумевается то самое представление, о котором мы уже не раз говорили выше. Смерть — это условная граница,
отделяющая земную жизнь человека от жизни в «иных мирах», поэтому смерти как абсолютной грани земной жизни просто нет. Имея
в виду именно это, Александр говорит о том, что, поняв эту истину,
2 Достоевский Ф. М. Бесы // Достоевский Ф. М. Собр. соч. в 15 т. Т. 7. С. 225.
3 Там же. С. 112.
406
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
люди должны освободиться от страха смерти и с надеждой смотреть
в то будущее, которое ожидает их после смерти. Однако через несколько минут, когда его сын, играя, набросится на него сзади, Александр отбросит его в испуге в сторону, и сам упадет на землю без
сознания. В этот момент ему откроется та реальность, о которой он
только что говорил с таким оптимизмом, реальность «иного мира»,
и он увидит картину ужасного бедствия, вселенской катастрофы, разрушающей все человеческое, осмысленное, внедряющее непреодолимый абсурд в жизнь человека.
«Видение» Александра очень похоже на одно из «видений» Андрея Горчакова в «Ностальгии». Мы видим небольшую площадь, по
которой недавно в панике бежали люди; ветер переворачивает мусор,
одежду, пакеты, беспорядочно рассыпанные по всему пространству
площади, а на переднем плане лежит на боку автомобиль с развороченным мотором. Позже, в самом последнем из трех «видений» Александра, та же самая площадь предстанет как раз в тот момент, когда
по ней бегут в разные стороны люди, стремясь спрятаться от чего-то
ужасного и не находя нигде спасения. Во втором и самом сложном
«видении» сам Александр будет медленно идти по земле, покрытой
тонким слоем снега, и у полуразрушенного здания увидит своего маленького сына, который точно так же, как эти люди, будет прятаться
от какой-то неведомой смертельной угрозы. Смысл этой угрозы станет понятным в самом конце этого «видения», когда резкий порыв
ветра обернется страшным огненным смерчем, стелющимся по земле
и сжигающим все на своем пути.
Эти «видения» открывают Александру жестокую истину, разоблачающую одну из главных иллюзий его жизни, он поймет, что вера
в посмертное существование, в то, что смерть не является абсолютной
границей нашего бытия, вовсе не означает устранения страха смерти.
Наоборот, страх абсурда, ожидающего нас после смерти, оказывается еще более ужасным, чем страх полного уничтожения. Но именно
так понятый «страх смерти», страх ожидающего нас вечного и абсолютного абсурда, способен, наконец, заставить людей что-то сделать
для радикального изменения существующего порядка вещей.
Рассматривая в следующей сцене альбом православных икон,
подаренный ему Виктором, их семейным врачом и его личным другом, Александр говорит о том, что современный человек совершенно
утратил способность молится, способность духовной концентрации,
духовной связи с благими силами бытия, с Богом. Он еще не подозревает, насколько прав в этом своем суждении и в какой трагической
форме чуть позже перед ним самим будет поставлена именно эта проблема — проблема восстановления глубокой связи с чем-то основополагающим в бытии.
407
ГЛАВА VII
«Жертвоприношение»: великая надежда Заратустры
Александр вспоминает о своем прошлом, о том времени, когда он
был известным актером, но не был удовлетворен собой; в этот момент
в дом входит его жена Аделаида (актриса Сьюзен Флитвуд) и, услышав его слова о неправильности прошлой жизни, начинает упрекать
за то, что, отказавшись от карьеры актера, он обманул ее ожидания
и лишил возможности выстроить свою жизнь так, как она хотела.
«Просто ты знал, что мне нравилось, что ты актер, вот ты и ушел
из актеров. <...> Сначала он соблазнил меня своим театром, потом
умыкнул меня из Лондона, а потом бросил. Мне нравилось быть женой знаменитого актера, я не вижу в этом, простите, ничего ужасного», — резко говорит Аделаида. «Друзья, только прошу не сегодня,
сегодня же день рождения Александра», — вмешивается Виктор,
и становится понятным, что эта тема — постоянный источник споров
и скандалов между Александром и его женой.
В это время появляется почтальон Отто, который везет на велосипеде огромную старинную карту Европы, заключенную в громоздкую
раму. Эту карту XVII в. он привез в подарок Александру; когда тот
говорит, что это очень дорогой подарок, Отто подтверждает: любой
подарок — это своего рода жертвоприношение. Затем Отто рассказывает о своем странном увлечении: он собирает загадочные факты,
которые не поддаются объяснению в рамках традиционной рациональности и свидетельствуют о неведомой людям магической стороне земной действительности. Для придания большей убедительности
фиксируемым им явлениям Отто скрупулезно собирает документальные доказательства их реальности — показания очевидцев, справки
из официальных органов, архивные материалы и т. п.
Все собравшиеся слушают Отто со смешанным чувством тревожного интереса и недоверия, и он горько констатирует: «Мы совершенно слепы, мы ничего не видим». В этот момент происходит событие,
которое доказывает правоту Отто: подтверждает справедливость его
утверждения о присутствии рядом с нами реальности, в которой происходит что-то очень важное для нас, и одновременно — доказывает,
что сам Отто является человеком особого рода, способным видеть то,
что не видят другие, способным быть в более глубоких отношениях
с миром, чем это доступно обычным людям. Проходя по комнате, он
внезапно резко взмахивает рукой, словно отталкивая кого-то, и затем
падает на пол без чувств. Пролежав без движения минуту, он приходит в себя и, сев на стул, говорит: «Меня коснулся злой ангел». Виктор иронично замечает на это: «Шутить с нами изволите, господин
почтальон». «Шутить... Доктор! Шутки здесь не причем...» — с тревогой отзывается Отто. Буквально через несколько секунд его слова
о вторжении в наш мир злого ангела получают зловещее подтверждение. Тишину раскалывает резкий дребезжащий звук, под действием
408
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
вибрации начинают звенеть стеклянные бокалы на подносе — это где-
то рядом на низкой высоте проносятся военные самолеты. Огромный
стеклянный кувшин с молоком — точно такой же, какой в «Зеркале»
обозначал мечту Алексея о счастливой и гармоничной жизни, — падает из раскрытого буфета и разбивается: мирное существование
семьи Александра закончилось навсегда, разбилось вдребезги, как
и существование всех людей в одряхлевшей и слишком спокойной,
слишком самодовольной Европе.
В это время Александр, вышедший в спускающиеся вечерние
сумерки, обнаруживает в расположенной неподалеку рощице непонятно откуда взявшийся крохотный макет своего дома. Увидев служанку Марию, возвращающуюся домой, он окликает ее, и Мария открывает ему секрет: макет дома сделал вместе с Отто маленький сын
Александра, как подарок к дню рождения отца. Символическое значение этого эпизода становится понятным, как только мы сравним его
с соответствующим эпизодом «Ностальгии», где Андрей Горчаков
рассматривал в доме Доменико странный макет, изображающий
какую-то местность с рекой. Эти загадочные образы имеют один и тот
же смысл: у человека есть возможность своими собственными силами
воссоздать «зерна» гармонии в мире, неуклонно теряющем свое естественное совершенство и идущем к хаосу. Доменико в «Ностальгии»
оказывается способным сделать это потому, что он обрел свою Зону,
сумел выстроить свои отношения с реальностью по-иному, чем все
«нормальные» люди, сумел найти верный путь в ложно устроенной
жизни современного человечества. В «Жертвоприношении» то же
самое оказывается по силам маленькому мальчику, который только
еще начинает свою жизнь (правда, ему помогает в этом человек, обладающий магическим знанием, — почтальон Отто). Вспомним, что
Доменико, закрыв свою семью в доме, надеялся на то, что его дети,
в первую очередь его маленький сын, встанут на тот путь, который он
обрел через свое «сумасшествие». Ту же надежду питает Александр.
Понимая неправильность жизни всех людей вокруг, но не осознавая
до конца, что нужно сделать, чтобы привести ее в согласие с сохраняющимися в бытии благими силами, Александр надеется, что это станет возможным для его сына. И оказывается, что его сын, несмотря на
свой малый возраст, сумел проникнуть в его самые глубокие чаяния.
Создавая макет дома, он демонстрирует готовность продолжить те
поиски чего-то основополагающего в жизни, которые ведет его отец.
Александр обнаруживает макет дома, сделанный его сыном, как
раз в тот момент, когда в мире начинается последняя «фаза» апокалипсиса, когда наступают последние мгновения спокойной жизни
его семьи. Но именно эта хрупкая копия гибнущего счастья оказывается символом последней надежды на спасение от всеобщего хаоса.
409
ГЛАВА VII «Жертвоприношение»: великая надежда Заратустры
И хотя в конце концов дом Александра будет уничтожен, а сам он
навеки утратит не только спокойствие и счастье, но и вообще нормальную жизнь, эта «копия» дома останется в мире — пусть только
в душе мальчика — как «зерно», из которого еще прорастут его благие смыслы.
2. В поисках веры
Как и в предыдущих картинах Тарковского, мы находим в «Жертвоприношении» героев, которые олицетворяют три основные формы
отношения человека к миру. Наиболее ясно прочерчены две крайние
позиции. Первую, совершенно ложную, но общепринятую в современной цивилизации, — ту самую, которая и привела человеческий
мир к гибели, — воплощают жена Александра Аделаида, которая
очень похожа по своему отношению к жизни и к окружающим людям
на Эуджению. Но если Эуджения в «Ностальгии» была показана еще
в начале своих исканий, то Аделаида — это как бы та же самая Эуджения, но уже обретшая то, что она желала, и подводящая неутешительный итог своей жизни. Как и Эуджения, Аделаида рассматривает
в качестве главных ценностей не такие естественные и традиционные
(почти патриархальные) понятия, как любовь, радость материнства,
самоотречение, а стремление к превосходству над другими и внешнюю эффектность существования. Именно поэтому она вышла замуж
не за любимого человека, а за Александра — известного актера, который, по ее мнению, должен был обеспечить ей яркую жизнь. Но найдя
своего «настоящего» мужчину и прожив рядом с ним долгие годы, она
приходит к выводу, что никогда не была счастлива, признает, что так
и не достигла того, о чем мечтала. И это выглядит как расплата за измену основополагающим чувствам и устремлениям ее души, как расплата за отречение от основ жизни как таковой.
Мы видим, как Аделаида, осознавая крах всех своих представлений и страдая от невозможности изменить свою судьбу, мучает Александра упреками за то, что это он разрушил их благополучие, оказался «не тем» человеком, о котором она думала («Она замучит его до
смерти», — говорит о ее отношении к мужу служанка Юлия). И главный ее упрек связан с тем, что Александр отказался продолжать свою
успешную сценическую карьеру и стал простым театральным критиком и литератором, не имеющим той славы и популярности, какую он
имел, когда был прославленным актером. Пока ее муж был известным
и ярким человеком, Аделаида могла тешить себя иллюзией счастья
и успеха, пребывая в лучах его славы, но когда он стал «простым» человеком, ложность ее жизни выступила со всей очевидностью. Вместо того, чтобы признаться в ошибочности своего отношения к жиз¬
410
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
ни, она обвиняет мужа в неспособности соответствовать ее «идеалу»,
т. е. видит свою главную ошибку в том, что выбрала мужчину, который казался ей «настоящим», но на деле оказался недостойным этого
«звания» и этого выбора. И она пытается исправить эту ошибку методом вполне соответствующим принятому ею мировоззрению; она
находит для себя своего «настоящего» мужчину в Викторе, который,
как можно понять по намекам, звучащим в разговорах героев фильма,
является для Аделаиды не только другом.
Виктор играет свою жизненную роль в полном соответствии
с создавшейся ситуацией (в отличие от Андрея Горчакова из предыдущей картины). Будучи другом Александра, он одновременно втянут в роман с его женой и, кроме того, находится в странных отношениях притяжения-отталкивания с его дочерью Мартой. Но, точно
так же как и Аделаида, он бесконечно страдает от какой-то глубокой
неправильности своей жизни; не умея преодолеть эту неправильность в ее основах, не будучи в состоянии радикально изменить свои
отношения с другими людьми, он пытается просто «сбежать» от всех
этих сложностей. В прологе и эпилоге упоминается о его желании
уехать в Австралию, и это его намерение вызывает раздражение
и слезы у Аделаиды.
На другом полюсе, обозначающем противоположную мировоззренческую позицию, находятся два персонажа — почтальон Отто
и служанка Мария. Можно утверждать, что это люди того же склада,
что Доменико и Сталкер, однако в данном случае необходимо сделать
существенные оговорки к этому утверждению. Упомянутые герои
двух предыдущих фильмов Тарковского воплощали в себе абсолютно
чуждое современной цивилизации, но истинное по своей сути, отношение человека к бытию, причем в их изображении Тарковский не
жалел деталей и подробностей, показывающих, чем это правильное
отношение отличается от ложного, традиционного для нашей жизни.
Сталкер и Доменико выступали как носители частиц высшей Истины, как пророки-юродивые, через которых человечество должно
найти правильный путь — путь к спасению. Их жизненная задача, их
призвание состояло в том, чтобы донести свое «знание» до всех людей
или, если это не удастся, — хотя бы до некоторых, которые могли бы
сохранить зерна Истины, не дать им бессмысленно погибнуть.
Отто и Мария в «Жертвоприношении» предстают совсем по-
другому. Про них также можно сказать, что они являются носителями
неведомой остальным людям истины и им открыты возможности, недоступные другим. Однако теперь конкретное содержание этой истины
остается загадочным и непонятным не только для окружающих Отто
и Марию людей и для нас, наблюдающих эту историю со стороны, но
и для самих причастных этой истине. Не случайно, почтальон
411
ГЛАВА VII
«Жертвоприношение»: великая надежда Заратустры
Отто просто собирает, коллекционирует загадочные факты, не пытаясь привести их в систему и дать им объяснение. Он просто фиксирует недостаточность наших знаний и, соответственно, ложность нашего технократического отношения к миру, но не в состоянии убедить
людей в необходимости радикально изменить их позицию, поскольку
и сам очень далек от проникновенного приятия этой новой позиции.
Он является внешним наблюдателем загадок и тайн бытия и, в отличие от Сталкера и Доменико, не может открыть для себя те сферы,
где пребывают эти загадки и тайны, не может стать их обитателем.
О служанке Марии мы узнаем в фильме еще меньше, чем о почтальоне Отто, в то время как именно она оказывается наиболее полно
причастной к таинственным силам мироздания, именно ее Отто называет ведьмой и к ней посылает Александра для того, чтобы осуществилось абсолютно невероятное, чудесное спасение гибнущего мира.
Собственно говоря, кроме утверждения Отто в фильме нет ни одного
указания на особые способности Марии. Сама она ничем не отличается от всех окружающих ее людей, и ее дом, в который поздно ночью
приходит Александр, выглядит как самый обычный человеческий дом,
ничем не напоминающий странные области реальности, представленные в предшествующих картинах Зоной и домом Доменико. У зрителя
до самого конца фильма остается сомнение, действительно ли Мария
является колдуньей, и действительно ли ночной визит к ней Александра имел итогом спасение всего мира от начавшейся катастрофы, или
это все — выдумки не совсем нормального Отто, внушившего весь
этот «бред» Александру.
Однако даже если признать все случившееся правдой, все равно
остается вопрос о том, насколько сильны магические способности
Марии, и является ли спасение мира всецело делом ее рук и ее желания. Когда Александр приходит к ней, он обнаруживает, что она ничего не знает о начавшейся катастрофе, о том, что где-то рядом гибнут
люди, города и целые страны. Очевидно, что Мария не обладает ни
достаточной проницательностью, ни достаточным могуществом своей
колдовской силы, чтобы самостоятельно увидеть приближение катастрофы и предотвратить ее. В конечном счете, приходится признать,
что именно Александр «спасает» мир, хотя для этого он и прибегает
к «помощи» Марии. Ему нужно соединиться с ней, стать одним существом, «одной плотью», чтобы те незримые силы, которые таятся
в Марии и в самом Александре, стали явными и смогли реально повлиять на положение дел в мире. Не случайно, единственным сверхъестественным событием, наглядно показанным в фильме, является
«парение» Александра и Марии, слившихся в любовном акте, над постелью в ее доме. Этот образ — одна из немногих деталей фильма,
показывающих его прямую преемственность по отношению к пред¬
412
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
шествующим картинам Тарковского; аналогичный образ, как мы помним, присутствует в «Солярисе» и «Зеркале».
Наиболее заметным качеством Марии в фильме является ее
скрытность. Всегда, когда мы видим ее, она пытается поскорее уйти,
«спрятаться», не хочет, чтобы о ней что-либо узнали. Этот образ явно
перекликается с образом девочки-ангела из «Ностальгии», об этом,
в частности, свидетельствует тот факт, что Мария, как упоминает
Отто в разговоре с Александром, живет около закрытой церкви. Быть
может, Мария — это тоже ангел, добрый ангел, способный помочь людям, но утративший своего «умершего» Господина и поэтому вынужденный скрываться, прятаться от «злых ангелов», воцарившихся в бытии и делающих свое злое дело — ведущих мир и человека к гибели.
В фильме есть определенные намеки также и на «сверхъестественное» происхождение Отто. В первом эпизоде, во время беседы с
Александром, рассказывая о своем увлечении философией Ницше, он
вскользь говорит, что не знал Ницше «лично», словно его собеседник
мог заподозрить его в таком личном знакомстве. Странное впечатление, что Отто каким-то образом связан не только с нашим временем,
но и с давно ушедшими эпохами, усиливается, когда он дарит Александру карту Европы, выполненную в XVII в., и вопреки сомнению
окружающих настаивает на том, что эта карта — подлинная.
Очень важно, что и Отто и Мария имеют особенно близкие отношения с сыном Александра. Маленький мальчик оказывается
единственным «послушником» и другом Марии и Отто, только на
его жизнь они оказывают непосредственное влияние, быть может,
достаточное для того, чтобы направить его на правильный путь. По-
видимому, не случайно у мальчика в фильме нет имени; он еще не
стал самодостаточной личностью, еще подвержен и положительным
и отрицательным влияниям, его судьба только еще формируется, и у
него пока еще нет своего лица.
Впрочем, в «Жертвоприношении» детали взаимоотношений отдельных персонажей по большей части остаются за пределами сюжетной логики, о них можно только догадываться. Все внимание режиссера приковано к главному персонажу — к Александру, и к тому
духовному процессу, который происходит в нем в ответ на чудовищное событие, случившееся в мире.
Образ Александра, несомненно, можно рассматривать как продолжение и развитие образа Андрея Горчакова. Однако и здесь нужны некоторые оговорки, хотя и не столь существенные, как в отношении образов других героев двух фильмов. Как мы помним, главной
чертой духовного «портрета» Андрея Горчакова в «Ностальгии» была
его неудовлетворенность жизнью, построенной в соответствии с традициями мира «здоровых» людей. Отказываясь от позиции «хозяина»
413
ГЛАВА VII
«Жертвоприношение»: великая надежда Заратустры
и «потребителя» сущего, Андрей искал нового мировоззрения и новых форм отношения с бытием, способных вывести и его самого и все
человеческое общество из того тупика, в который их завела цивилизация, построенная на фантоме технического прогресса и рационального постижения жизни. С помощью Доменико он обретал это новое
мировоззрение и вступал на путь, ведущий к долгожданному спасению, осуществляя тем самым свое предназначение, пусть даже через
принятие смерти.
Монологи Александра, звучащие в первой части «Жертвоприношения», в предельно откровенной и прямой форме выражают то же
самое неприятие ложной человеческой цивилизации и то же стремление найти правильный путь в жизни. «Человек всегда защищался от
других людей, от природы, частью которой был, осквернял ее непрерывно, — говорит Александр, обращаясь к своему сыну, — ив результате возникла цивилизация, основанная на силе, власти, страхе и зависимости. А весь наш так называемый технический прогресс всегда
служил только для того, чтобы изобретать или предметы комфорта,
или орудия силы для сохранения власти; мы как дикари употребляем
микроскоп в качестве дубинки. Нет, я не прав, дикари гораздо духовнее нас, я ошибся. Любое достижение науки мы немедленно обращаем во зло. А что касается комфорта, то один умный человек сказал
как-то, что грех — это то, что не является необходимым. Если это
так, то вся наша цивилизация от начала до конца построена на грехе.
Мы пришли к ужасной дисгармонии, несоответствию, то есть, между
развитием материальным и духовным, наша культура, вернее, цивилизация в корне ошибочна, сынок. Ты, скажешь, что нужно изучить
проблему и сообща искать выход. Может быть, если бы не было так
поздно, слишком поздно. Боже, как я от всего этого устал. Слова,
слова, слова... Наконец-то я понял, что имел в виду Гамлет. Он был
сыт по горло пустословием. И я тоже... Но почему я все время говорю. Если бы кто-нибудь перестал болтать, а вместо этого сделал что-
нибудь или попытался сделать».
Именно разочарование в навязанных цивилизацией ложных стереотипах поведения привело Александра к расставанию с карьерой
актера, несмотря на тот успех, который сопутствовал ему на сцене.
Он вдруг понял, что в этой деятельности скрыто стремление к отказу от своего подлинного «я», нежелание стать самим собой и честно
взглянуть в лицо своей судьбе. «Мне почему-то вдруг стало стыдно, —
говорит он, — стыдно стало притворяться кем-то другим, изображать
чужие чувства. А главное стало стыдно быть искренним на сцене.
<...> “я” актера растворяется в его персонажах, а мне не хотелось,
наверное, растворяться. Во всем этом было что-то греховное, в этом
растворении, что-то женственное, безвольное».
414
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
Тот факт, что Александр поставил в один рад «греховное» и «женственное», вызывает раздражение у его жены Аделаиды, и это напоминает реакцию Эуджении на слова священника в монастыре о том,
что женщина нужна только для того, чтобы рожать детей и растить
их «с терпением и самоотречением». Однако очевидно, что смысл
слов Александра вовсе не таков, как его поняла Аделаида. Он имеет
в виду, что у мужчин и женщин разные основы бытия и разные задачи в жизни. Современная цивилизация, уравнивая и стандартизируя людей, заставляет их забыть эти основы и это различие целей
и смыслов жизни. Если женщина предназначена для того, чтобы растворяться в мужчине, отдавать всю себя, все свое существо мужчине
и своим детям, и это для нее равносильно святости, то для мужчины
это становится грехом и ведет к утрате себя и своего предназначения.
Интересно, что и сам Александр и все, кто вспоминает в фильме
о его актерском прошлом, отмечают его особый успех в ролях Ричарда
III и князя Мышкина, т. е. его особую способность выразить и образ
абсолютного злодейства и образ абсолютной святости. Это можно
рассматривать как свидетельство таланта Александра-актера, однако
Тарковский здесь, скорее всего, имеет в виду другое — внутреннюю
податливость Александра, способного подражать кому угодно, но не
способного на самое главное, на то, чтобы быть самим собой — его неспособность быть самостоятельной и целеустремленной личностью.
Александр ясно осознает, что не совершил ничего значимого, ничего
такого, что стало бы оправданием его жизни и выражением его судьбы. В разговоре с Виктором он признается: «Я готовил себя к жизни
более высокой, скажем, изучал философию, историю религии, эстетику, а кончил тем, что надел на себя кандалы, совершенно добровольно
впрочем, и счастлив тем самым». На вопрос Виктора о том, считает ли
он свою жизнь неудавшейся, Александр, чуть помедлив отвечает утвердительно, но замечает, что все изменилось после рождения сына.
Тем не менее даже рождение сына не смогло заставить его отказаться от убеждения в своем особом призвании в мире, наоборот, понимание того, что он отвечает не только за себя, но и за своих близких,
еще больше обострило предчувствие какого-то грядущего радикального переворота, который потребует от него поступка, решительного действия, освещающего новым смыслом всю его несостоявшуюся
судьбу. Александр настолько наполнен ожиданием этого переворота,
что это без труда замечают окружающие его люди. Об этом проницательно говорит почтальон Отто в первой беседе с Александром: «Вот,
вы — известный журналист, литературный и театральный критик,
лекции по эстетике в университете молодым людям читаете, эссеист
также, а все невеселый какой-то. <...> Не сокрушайтесь очень-то и не
тоскуйте, и не ждите так, не стоит так упорно ждать, никому не сто¬
415
ГЛАВА VII
«Жертвоприношение»: великая надежда Заратустры
ит». «Как это не ждите, — возражает Александр, — да кто вам сказал,
что я жду чего-то». «Все мы ждем чего-то, — продолжает Отто, — вот,
скажем я, в качестве, так сказать, примера, всю жизнь чего-то жду.
Всю жизнь чувствовал себя как на вокзале, честное слово. И всегда
мне казалось, что то, что уже было, это еще не жизнь, а так, ожидание
жизни, ожидание чего-то настоящего, главного. А у вас разве не так?»
«Нет, в этом смысле, конечно, — нехотя признает Александр; — просто я не предполагал, что вас могут занимать подобные вопросы».
В конце концов момент для совершения поступка, для выражения
и реализации в мире своего «я», для принятия полной меры ответственности за все вокруг, наступает, и Александр делает то, к чему
призван, точно так же как это делает в «Ностальгии» Андрей Горчаков. Однако отличие Александра от Андрея в том, что он не только
ожидает этого мгновения, но и пытается приблизить его, сам ищет
форму для реализации своего предназначения. Об этих исканиях он
говорит своему сыну в самом начале фильма. Александр рассказывает мальчику историю о том, как православный монах Иоанн Колов,
выполняя завет своего учителя, в течении трех лет каждый день поднимался на гору с ведром воды и поливал засохшее дерево, посаженное его учителем. И, наконец, его упорство одержало верх над смертью, дерево ожило и зацвело. «Все-таки, как ни говори, — делает из
этой истории вывод Александр, — метод, система — великое дело. Ты
знаешь, мне иногда кажется, что если каждый день, точно в одно и то
же время совершать одно и то же действие — как ритуал, систематически и непреложно, каждый день, в одно и то же время непременно,
— то мир измениться, что-то измениться, не может не измениться. Ну
скажем, утром ты просыпаешься, встаешь ровно в семь часов, идешь
в ванную, наливаешь стакан воды из-под крана и выливаешь воду
в унитаз, только и всего...»
В этой проповеди «ритуала», ведущего к изменению мира, проступают два противоположных момента, один из которых свидетельствует о том, что Александр знает, где находится путь к Истине,
а другой — что он не избежал стереотипов ложного мировоззрения,
господствующего в современном человеческом мире. С одной стороны, он жаждет какого-то свершения в своей жизни, хочет стать одним
из подвижников грядущего спасения и преображения, именно поэтому его привлекла история Иоанна Колова, простого монаха, который
сумел совершить значимое для мира деяние не потому, что обладал
какими-то необычными способностями, а только в силу своего упорства и своей веры. Однако в самом этом примере Александр выделяет
лишь одну сторону — упорство и методичную настойчивость Иоанна, упуская при этом подлинно главное — его веру. В том действии,
которое он приводит в качестве примера «ритуала», необходимого
416
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
для внесения изменений в мир, остается только тупая методичность
и системность, доведенная до полного абсурда. Александр не замечает, что здесь он подпадает под власть той самой системы ценностей,
которую пытается отвергнуть и опровергнуть. Ведь вся наша ложная
цивилизация выстроена на рациональной упорядоченности и системности, на идеале бесконечно повторяющихся и повторяемых действий, превращающих жизнь человека в нечто механическое. Изменить этот мир, используя средства, обеспечивающие его господство
над природой и душами людей, конечно же, невозможно. Упорство
и методичность действия — только внешние характеристики подвижничества, они обретают смысл лишь в том случае, если за ними стоит глубокая вера, которая превращает каждый поступок и каждое
действие человека в абсолютно неповторимое усилие его личности,
каким бы стандартным и повторяющимся оно ни казалось.
Проблема различия между простым ритуалом и настойчивостью
подлинной веры несколько раз возникает в фильме. В один из моментов, когда Александр говорит о том, как сложно найти истину, Отто
внезапно рассказывает историю о таракане, который бежит по краю
тарелки, а считает, что бежит по прямой и приближается к какой-
то цели. Виктор, слушающий разговор Отто и Александра, добавляет: «Быть может, он совершает своего рода ритуал». «Да, да, может
быть», — соглашается Отто и добавляет: «А мы со своей истиной, истиной... все время думаем об истине...» В этом контексте истина оказывается таким же точно ритуалом, из которого исчезло подлинное
содержание и который не приближает нас к осмысленной цели4.
Об этой же противоположности стремления к истине (с маленькой буквы), превратившегося в пустой ритуал, и веры, которая может и должна превратить этот ритуал в преображающее мир усилие,
а истину сделать Истиной, с еще большей прямотой Отто говорит
в первой беседе с Александром в самом начале фильма. «А какие
4 В своей достаточно интересной книге «Киногерменевтика Тарковского»
Д. Салынский приходит к выводу, что понятие «ритуального поведения» — самое главное для понимания поздних фильмов Тарковского. «Режиссер абсолютно
уверен в эффективности ритуального поведения», — утверждает автор; и даже
более того: «...ритуал значил для него так бесконечно много, что он посвятил
ему всю свою жизнь» (Салынский Д. Киногерменевтика Тарковского. М., 2009.
С. 456, 461). С этим выводом невозможно согласиться. Может быть, Д. Салынский как-то по-особенному понимает ритуал, но в понимании Тарковского все
современное ложное общество построено именно на десакрализированных ритуалах. Было бы странно, если бы Тарковский полагал, что исправить положение
можно только за счет того, что этим ритуалам снова будет придано сакральное
значение. Мир может спасти не бессмысленно повторяющийся ритуал, а абсолютно индивидуальный ответственный поступок человека, необратимо изменяющий мир. В связи с этим очень важно увидеть два варианта понимания вечного
возвращения в «Жертвоприношении», о чем речь пойдет ниже.
417
ГЛАВА VII
«Жертвоприношение»: великая надежда Заратустры
у вас, собственно, отношения с Богом?» — спрашивает Отто. «Боюсь,
что никаких», — отвечает Александр и тем самым обозначает главную проблему своей жизни.
3. Последняя надежда
Наступают тихие сумерки, день идет к концу; в доме все готовятся к праздничному ужину, посвященному дню рождения Александра.
В этот момент и начинается земной апокалипсис, ядерная катастрофа, из которой у человечества уже нет шансов выйти живым. Присутствующие с оцепенением смотрят на мерцающий экран телевизора,
вслушиваясь в монотонный, навевающий абсолютную безнадежность
голос диктора: «...Повсеместно организуются такие пункты. Это тоже
вменено в обязанность армейским офицерам. Каждый сознательный
гражданин, собрав все свое мужество и сохраняя хладнокровие должен содействовать армии в целях сохранения спокойствия, порядка
и дисциплины. Ибо единственный страшный наш внутренний враг
теперь — паника, потому что она заразительна и не поддается воздействию здравого смысла. Только порядок и организованность, дорогие сограждане. Только порядок, вопреки хаосу. Заклинаю вас, обращаюсь к вашему мужеству и, несмотря ни на что, к вашему разуму...
В нашей стране тоже есть такая база с четырьмя боеголовками. И по
всей вероятности, это самым трагическим образом может решить теперь все. В каждое мгновение наша связь может быть прервана. Но
главное я успел сказать вам, дорогие соотечественники. Всем оставаться на местах. Ибо сейчас нет такого уголка в Европе, где было бы
безопаснее, чем там, где мы сейчас с вами находимся. В этом смысле
все мы оказались теперь в одинаковом положении. Все районы будут
контролироваться особыми военными подразделениями. С целью...»
Бесконечно повторяющиеся призывы к «здравому смыслу, порядку
и организованности» уподобляются тому самому «ритуалу», который
Александр ранее принимал в качестве эффективного способа воздействия на мир и который теперь предстал во всей своей абсурдности
и беспомощности перед реальными силами разрушения.
Экран телевизора гаснет, больше нет ни электричества, ни телефонной связи, наступает зловещая тишина. После нескольких минут
общего молчания с Аделаидой случается истерика, выдающая ее животный страх перед происходящим. Но этот же животный страх охватывает и всех окружающих, просто лучше, чем Аделаида способных
скрыть свои чувства. Об этом же чуть позже признается и Александр
в своей молитве к Богу. Он осознает, что происходящая на его глазах гибель мира — это и есть то самое событие, которое он ждал всю
свою жизнь, к которому он готовился всю жизнь, но которое оказа¬
418
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
лось гораздо радикальнее и ужаснее всех предположений и предчувствий и мгновенно опрокинуло, сделало ничтожными и глупыми его
представления о необходимом «поступке», способном хотя бы что-то
исправить в окружающем мире. Александр оказывается достаточно
проницательным и глубоким человеком, чтобы понять свои ошибки,
понять, что в своих попытках уйти от ложного мировоззрения, он не
был до конца последовательным и не преодолел самого главного, самого коренного недостатка — не изжил в себе убеждения в самодостаточности и силе отдельного человека. Сам его протест был
протестом одиночки, протестом человека, уверенного в своем значении и в своей правоте и поэтому противопоставляющего себя всем
другим людям и всему миру, который он желает спасти.
Духовная борьба Александра с ложным строем жизни заставляет
вспомнить взгляды Профессора и Писателя до их похода в Зону. Оба
они, видя все недостатки традиционного человеческого существования, противопоставляли им свою самобытную индивидуальность как
единственный оплот «подлинного». Именно эту их ошибку и разоблачила Зона. Пройдя через нее, они (особенно Писатель) осознали, что
обособленная индивидуальность человека не может быть прочной основой нового образа жизни. Задача человека не в том, чтобы, исходя
из своей индивидуальности, «субъективности», навязывать миру свои
представления, а в том, чтобы, слившись с бытием, «отдавшись» ему,
приняв его порядок и его закономерность, изнутри преобразить его,
исправить его недостатки.
У героев «Сталкера», точно так же как и у героев «Соляриса»,
была возможность войти в ту сферу, где человек мог легко осуществить перестройку своих отношений с бытием, поскольку здесь само
бытие наглядно демонстрировало необходимость этих новых отношений. В том мире, где существуют герои «Ностальгии» и «Жертвоприношения», такой сферы уже нет, и человеку приходится в своей обычной жизни искать путь, ведущий к новому порядку вещей. В связи
с этим главная проблема теперь — успеет ли человек найти этот путь,
успеет ли совершить по нему хотя бы несколько верных шагов, чтобы
отдалиться от той пропасти, к которой он уверенно шагал до сих пор
вместе со всеми. В «Жертвоприношении» Тарковский полагает, что
времени для поисков уже не осталось. Мы полностью утратили понимание тех процессов, которые идут вокруг — в ветхом бытии, все
более и более распадающемся под действием невидимых деструктивных сил. И даже самым проницательным и ищущим уже не дано стать
сознательными носителями Истины, не дано стать учителями человечества, способными направить его на новый путь.
Что же остается? Безропотное ожидание катастрофы? Но человеку свойственно надеяться всегда — даже тогда, когда для этого
419
ГЛАВА VII
«Жертвоприношение»: великая надежда Заратустры
уже нет никаких оснований. Именно об этой надежде и о той вере,
на которой зиждется эта надежда, повествует история Александра,
рассказанная в фильме. В той ситуации, когда для надежды, казалось
бы, вовсе нет места просто потому, что событие, которого опасались,
уже произошло, уже стало реальностью, Александр продолжает надеяться и обращается к Богу — к силе, не игравшей до сих пор никакой роли в его мировоззрении. Чуть раньше Александр в разговоре
с Виктором обронил фразу о том, что мы, современные люди, утратили способность к молитве; и вот теперь, после случившейся катастрофы, он открывает в себе эту способность и обращается к Богу
с традиционной церковной молитвой.
Когда Александр начинает произносить эту молитву, он стоит
у стены, подсвеченной сбоку лампой, и в этом освещении репродукция с полотна Леонардо выглядит почти как черный провал на светлом фоне — словно изображение обнажило свою подлинную сущность и предстало как открывшаяся бездна, открывшийся вход в ад.
«Отче наш, — начинает тихо читать Александр, рассеянно глядя
в пространство, — сущий на небесах! да святится имя Твое; да при-
идет Царствие Твое; да будет воля Твоя, и на земле, как на небе; хлеб
наш насущный дай нам на сей день. И не введи нас в искушение, но
избави нас от лукавого. Ныне и присно и во веки веков. Аминь». Важно отметить, что Александр делает две «купюры» в каноническом тексте. Он пропускает фразу: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим»; этот пропуск понятен: данное высказывание
не очень соответствует трагической ситуации, в которой находится
Александр. Второй пропуск имеет гораздо более важный смысл, поскольку касается самого Бога: «Ибо Твое есть Царство и сила и слава
во веки». Это «упущение» явно свидетельствует о том, что вера Александра имеет мало общего с церковной верой, подробнее об этом мы
будем говорить ниже.
Только в завершение слов молитвы он встает на колени, а затем
садится на пол и продолжает: «Господи, спаси нас в эту ужасную минуту, не дай погибнуть моим детям, друзьям моим, моей жене, Виктору, всем, кто любит тебя, верит в тебя, кто не верит в тебя, потому
что слеп и не успел о тебе задуматься, потому что еще не был по-
настоящему несчастен, — всем, кто в эту минуту лишается надежды,
будущего, жизни, возможности подчинить свои мысли тебе, кто переполнен страхом и чувствует приближение конца; страхом не за себя,
а за своих близких. За тех, кому некого кроме тебя защитить. Потому
что война эта — последняя, страшная, после которой не останется
ни победителей, ни побежденных, ни городов, ни деревень, ни травы,
ни деревьев, ни воды в источниках, ни птиц в небесах. Я отдам тебе
все, что у меня есть, брошу свою семью, которую люблю, уничтожу
420
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
свой дом, откажусь от малыша, стану немым, не буду разговаривать
больше ни с кем и никогда, откажусь от всего, что связывает меня
с жизнью, — но только сделай так, чтобы все было, как раньше, как
утром, как вчера, чтобы не было этого тошнотворного, животного
страха. Помоги, Господи. Я сделаю все, что тебе обещал». Он просит
Бога совершить, по сути, невозможное — вернуть мир в то состояние,
в котором он пребывал до катастрофы, сделать так, чтобы всего происшедшего не было. И дает обещание: если его просьба будет выполнена, он откажется от всей своей прошлой жизни, разрушит ее вместе
с ее основой — своим домом, и уйдет в вечное молчание.
Александр ложится на диван, и в тяжелом забытьи видит второе
из своих «видений». Сначала он бежит по коридору своего дома, затем сидит перед окном, причем, когда он выглядывает на улицу, то
буквально в десятках метров мы вместе с ним видим дом служанки
Марии, который на самом деле расположен на другом берегу озера,
т. е. очень далеко отсюда. Он словно уже знает в вечном измерении
своего бытия, что ему предстоит сделать для спасения мира. Александр идет по мокрой, проседающей под ногами земле между заброшенными строениями какого-то поселка. В конце раздается оглушительный шум от пролетающих на низкой высоте самолетов, по земле
проносится огненный смерч, и Александр с ужасом замечает своего
маленького сына, ставшего беспризорным, испуганным зверьком,
прячущимся среди развалин, — выразительный символ бедствий последней войны.
Звук пролетающих рядом самолетов соединяет два пласта реальности — «сон» и «явь», — Александр просыпается в своей темной
комнате. По лестнице, приставленной к балкону его комнаты, расположенной на втором этаже, крадучись поднимается Отто. После того
как Александр впускает его через балконную дверь, он объясняет,
зачем пришел. «Есть еще один шанс... шанс, последняя надежда... —
говорит он Александру. — Мария может...Мария... Вы должны пойти
к ней и уговорить ее... Понимаете. <...> Вам надо немедленно идти
к Марии... Прислуга ваша. Я сейчас все объясню. Она живет на хуторе, на том берегу залива, позади церкви, ну, которая сейчас не
действует. <...> В общем вам надо идти к Марии. Вы хотите, чтобы
все это кончилось? Все, все это... Это все может кончиться. Да, вы
должны пойти к Марии и переспать с ней. Я сказал, вы должны переспать с Марией. Она живет одна и если при этом вы будете желать
только одного, чтобы кончился весь это ужас, и все кончиться... Вы
не понимаете. Это правда, святая правда...» И в ответ на смех и недоумение Александра добавляет: «У нее особый дар, я собрал доказательства, она ведьма». «В каком смысле ведьма», — переспрашивает
Александр. «В хорошем смысле», — говорит Отто. «Вы считаете меня
421
ГЛАВА VII
«Жертвоприношение»: великая надежда Заратустры
дураком, давайте, продолжайте свои ницшеанские штучки» — говорит Александр. Но Отто решительно заканчивает: «А у вас другой выход есть? Ведь нет альтернативы. Нет...»
Упоминание Ницше очень важно тем, что связывает этот центральный эпизод фильма с его началом, в котором обсуждалась идея
Ницше о вечном возвращении; именно идеи Ницше задают тот контекст, в котором можно понять, что же дальше происходит в фильме.
Но об этом мы будет говорить подробнее позже.
После ухода Отто Александр несколько минут пребывает в раздумье, но затем спускается по приставной лестнице вниз, незаметно
берет из сумки Виктора пистолет и отправляется к служанке Марии
на велосипеде, оставленном Отто. Уже в самом конце своего пути он
падает, а когда поднимается, вдруг решает повернуть назад. Но и на
этот раз обретенная Александром вера и надежда, основанная на этой
вере, оказываются сильней соображений здравого смысла, и он все-
таки направляется к дому Марии.
Открыв Александру дверь и впустив его в дом, Мария ждет от
него объяснения столь странного позднего визита, но вместо этого
Александр рассказывает ей историю из своего прошлого о том, как
он навестил свою больную мать и решил привести в порядок ее запущенный сад. Две недели он трудился в саду: выравнивал дорожки,
копал землю, подстригал деревья, полол газоны. Но когда в конце
взглянул на преображенный сад, то ужаснулся: от его стихийной
красоты не осталось и следа, «порядок» и «организованность», внедренные разумом в природу, уничтожили что-то очень важное в ней,
лишили ее жизненной силы. На дважды повторенный вопрос Марии
о том, что же стало с его матерью, когда она увидела преображенный
таким образом сад, Александр не отвечает, но весь его рассказ выглядит как признание своей вины перед матерью и как окончательное расставание с главным заблуждением своей жизни — уверенностью в том, что рациональность, возведенная в метод и соединенная
с упорством и настойчивостью, может радикально исправить несовершенства нашего существования.
Вспомнив о цели своего позднего визита, Александр, наконец,
говорит самое главное: «Вы могли бы полюбить меня, Мария... Полюбите меня, я прошу вас, спасите меня, спасите нас всех. Я знаю,
кто вы, все знаю, он мне сказал... Я молю тебя, спаси нас, я прошу
тебя». Когда Мария отвечает на его слова так, как ответила бы любая женщина, — удивляется словам Александра и просит его уйти,
он достает пистолет и, приставив его к виску, произносит: «Не убивай
нас, спаси нас Мария...» Поняв всю глубину его страданий и охватившего его ужаса, Мария обнимает Александра и пытается успокоить
его, как успокаивают испуганного ребенка.: «Что с вами, кто вас так
422
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
напугал. Успокойтесь, успокойтесь. Я ведь понимаю, дома, наверное
что-нибудь, знаю я ее, злая она, обидела вас. Напугали вас. Не бойтесь ничего, все будет хорошо, успокойтесь. Не бойтесь ничего, все
хорошо. Бедненький вы мой. Бояться нечего. Не бойтесь. Ничего с тобой не случиться. Не плачь, не плачь. Все будет хорошо. Просто люби
меня. Бедненький ты мой. Что же они с тобой сделали. Ты ничего не
должен бояться. Все будет хорошо. Все будет хорошо...» Следом за
этим мы видим, как обнявшиеся любовники медленно возносятся над
постелью, и Мария продолжает успокаивать рыдающего Александра.
В следующем далее «видении» или «сне» Александра по той же
площади, которую мы видели в его первом «видении», бегут в панике люди, а среди этого хаоса спокойно спит маленький мальчик (как
кажется зрителю — сын Александра). Этот последний «сон» показывает событие, которое «предшествовало» событиям, представленным
в первых двух «видениях» («снах»), словно в параллельном измерении
бытия время пошло вспять, и Александр вплотную приблизился к той
точке, где произошла катастрофа, — для того, чтобы преодолеть ее,
исправить дефект бытия, вызвавший ее, и вернуть мир в прежнее состояние. В заключение возникают еще два образа. Сначала мы видим
Александра лежащим среди деревьев в роще недалеко от своего дома,
а рядом сидит спиной к нам его жена Аделаида; когда она поворачивается, оказывается, что у нее лицо Марии. В следующем фрагменте по коридору рядом с комнатой Александра на втором этаже дома
обнаженная Марта, его дочь, гонит прочь куриц. Отличие этого последнего «видения» от всех предшествующих в том, что оно, подобно
«видениям» Андрея Горчакова в «Ностальгии», непосредственно слито с той реальностью, в которой существуют герои фильма. Причем
в отличие от всех остальных оно является цветным. При плавном повороте камеры мы сначала видим Аделаиду — она словно прячется за
шторой и затем подходит к комнате — а затем и саму комнату Александра. Камера останавливается, фиксируя изображение комнаты,
и «видение» плавно переходит в реальность; проснувшись, Александр
с недоумением оглядывается вокруг, не понимая, в какой точке бытия
находится. Начинается эпилог фильма: перед нами предстает та же
многоцветная, живая реальность, которую мы видели в прологе, до
того, как началось безумие «последних времен» и смешались разные
измерения и пласты бытия.
Встав с дивана, Александр натыкается на рояль, стоящий в комнате, и после этого, постоянно потирая ушибленную ногу, уже сам не
знает — то ли это последствие его падения с велосипеда во время ночного визита к Марии, то ли свежая ссадина от удара о рояль. Позвонив по телефону своему редактору, он узнает, что тот озабочен своими обычными проблемами, и, значит, мир и все человеческое обще¬
423
ГЛАВА VII «Жертвоприношение»: великая надежда Заратустры
ство пребывают в том же самом «устойчивом» состоянии, в котором
они находились накануне вечером. Лишь на секунду задумавшись,
Александр решительно приступает к осуществлению своего плана:
он должен выполнить то, что обещал Богу в своей молитве. Вновь
спустившись по приставной лестнице вниз, он слышит, как Виктор
и Аделаида продолжают нескончаемое выяснение своих отношений
и нескончаемые попытки понять Александра. «Здесь что-то не так», —
с тревогой замечает про себя Александр, интуитивно ощущая, что
мир вокруг стал иным; в нем отношения людей предстают более прямыми, «обнаженными».
После того как все обитатели дома, собравшиеся внизу за завтраком, отправляются на прогулку на берег миря, Александр сооружает
на террасе дома пирамиду из стульев и кресел и поджигает ее. Лишь
когда пламя охватывает весь дом, бегом возвращаются растерянные,
ничего не понимающие Аделаида, Марта и Виктор; Александр кричит: «Это сделал я. Слушай, Виктор, я хочу сказать тебе что-то очень
важное...» Но тут же обрывает себя и, добавив только: «...не говори
ничего, не спрашивай ничего», — умолкает навеки, исполняя данное
Богу обещание. Когда у горящего дома появляется служанка Мария,
он подходит к ней, встает на колени и целует ей руки. К горящему
дому подъезжает непонятно откуда так быстро прибывшая карета
скорой помощи, и санитары настойчиво приглашают Александра, который отказывается разговаривать с кем бы то ни было, занять место
пациента. Александр на четвереньках залезает в открытую сзади машину, но затем вновь выскакивает, подходит к Отто и обнимает его,
прощаясь и словно бы подтверждая нерушимость их святой тайны,
которая спасла мир. На мгновение все замирают и перед нами предстает сцена, явно перекликающийся с каноническим иконописным
образом — образом Христа, прощающегося со своими учениками. Белая машина с красным крестом медленно уезжает, увозя Александра
в добровольное затворничество психиатрической лечебницы и в вечное молчание. Когда плачущая Аделаида в полном отчаянии опускается на траву, покрытую огромными лужами, пылающий остов дома
разваливается, и в жизни всех героев фильма наступает новая эпоха,
о смысле которой мы можем только догадываться.
4. Ужас и радость вечного возвращения
Чтобы правильно понять смысл произошедшего, понять те представления, которые лежат в основе последнего фильма Тарковского
и их связь с мировоззрением его предшествующего творчества, нужно обратить внимание на принципиальный идейный мотив фильма —
обсуждение героями концепции вечного возвращения, позаимство¬
424
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
ванной из философии Ницше. Об этом говорит почтальон Отто в самом начале фильма, после того как он вручает Александру последние
пришедшие по почте поздравления с днем рождения. «Иногда такая
чушь в голову лезет, честное слово. Например, вроде карлика этого,
карлика пресловутого», — говорит Отто. «Какого карлика, — недоумевает Александр, — вы мне уже совсем голову заморочили». «Ну
как же, вы же понимаете, о чем я. Ну, этого горбатого, карлика Ницше, от которого Заратустра в обморок упал. <...> Ну и лезет иногда
в голову что-нибудь в духе этого дурацкого вечного возвращения, скажем. Вот живем, мучаемся, ждем чего-то, надеемся, теряем надежду,
страдаем, умираем — умираем наконец. И тут же снова рождаемся,
но только не помним о том, что уже было, и все начинается с начала. Не буквально так же, пусть, в другой манере, а все-таки так же
безнадежно и неизвестно зачем... Нет! именно так же, как было, без
малейших отклонений, совершенно так же. именно буквально следующий “сеанс”, так сказать. Я именно так сделал бы, если бы от меня
зависело. Есть в этом что-то веселенькое?». «Да, — безразлично реагирует Александр, — я все это слышал, ничего нового. Не думайте,
что это вы изобрели. Неужели вы в самом деле верите, что человек
способен соорудить конструкцию, ну, что ли, универсальную, смоделировать, так сказать, абсолютный закон, абсолютную истину. Да это
все равно, что создать новую вселенную, стать демиургом. Вы сами-то
верите в своего карлика, в возвращение свое дурацкое?». — «Да иногда верю, понимаете. А раз верю, значит, так и будет. “Каждому по
вере его” — так оно и случится!»
Особенно многозначительно выглядят последние слова Отто
о том, что «так и будет». Напомним, что в фильме Отто явно предстает
как человек, обладающий какими-то неведомыми другим людям способностями, более того, возможно, даже как «пришелец» из другого
мира, укрывшейся от вселенской катастрофы в мире людей5; поэтому
к его словам приходится относиться с полной серьезностью.
Прежде всего заметим, что интерес к идее вечного возвращения
и принятие ее (в определенном смысле) Тарковским, несомненно,
связан с тем, что эта идея по смыслу весьма близка к пониманию
бессмертия человека, характерному для Достоевского, которое Тар-
5 О том, что Тарковский верил в наличие среди людей такого рода
«пришельцев» из какого-то более истинного мира, свидетельствуют некоторые
заметки в его дневнике. Например, в записи от 7 января 1982 г. читаем: «Дато
Эристави дал мне экземпляр ксерокопии книги Розенберга “Проблемы
буддийской философии”, начал читать. Говоря о “Сталкере” (единственный
фильм, который он видел), Дато сказал: “И это не фильм, это — учение”. Потом,
а вернее раньше он сказал, исследуя мое поле, что я пришелец. Имея в виду, что
я в прошлом был оттуда. Извне. Надо поточнее узнать у Дато, что он имеет в виду
под этим» (Тарковский А. А. Мартиролог. Дневники 1970-1986. С. 382).
425
ГЛАВА VII «Жертвоприношение»: великая надежда Заратустры
ковский безусловно также разделял. Как мы уже не раз говорили,
Достоевский был убежден, что после смерти человек попадает не
в христианский «рай», полностью противоположный земному миру
в своем абсолютном совершенстве, а в иной мир, подобный земному —
может быть более совершенный, а может быть более абсурдный, чем
он. Череда таких миров, ожидающих человека, бесконечна, в этом
и заключается наше бессмертие, однако абсолютное совершенство
не будет достигнуто никогда. Как мы уже говорили в главе 4, именно
это смысл можно увидеть в странной идейной логике рассказа «Сон
смешного человека».
Однако помимо этой весьма нетривиальной концепции, у Достоевского можно найти признаки идеи вечного возвращения и в более
простой форме почти буквально совпадающей с тем, что говорит
Отто. Ее ясно и лаконично выражает черт, явившийся Ивану Карамазову в его «галлюцинации»; рассказывая Ивану «анекдот» об атеисте,
который, попав на тот свет, отказался поначалу выполнить наложенное на него наказание — пройти квадрильон километров «во мраке»,
но затем исполнивший его и «допущенный» в рай, черт между прочим
добавляет: «Да ведь ты думаешь все про нашу теперешнюю землю!
Да ведь теперешняя земля, может, сама-то биллион раз повторялась;
ну, отживала, леденела, трескалась, рассыпалась, разлагалась на составные начала, опять вода, яже бе над твердию, потом опять комета,
опять солнце, опять из солнца земля — ведь это развитие, может, уже
бесконечно раз повторяется, и все в одном и том же виде, до черточки.
Скучища неприличнейшая...»6
Тем не менее Тарковского идея вечного возвращения чрезвычайно привлекала именно в том варианте, который присутствует в книге
Ницше «Так говорил Заратустра». Следы этого чрезвычайного интереса легко найти в его дневниках. Тарковскому было хорошо известно, что сам Ницше заимствовал эту идею из античной философии,
где она была весьма популярна. Так, 5 сентября 1981 г. Тарковский
выписывает в свой дневник высказывание Сенеки: «Ничто исчезающее с наших глаз не уничтожается — все скрывается в природе, откуда оно появилось и появляется снова. Есть перерыв, гибели нет.
И смерть, которую мы со страхом отвергаем, прерывает, а не прекращает жизнь. / Опять придет день, когда мы снова явимся на свет, хоть
многие отказались бы возвращаться, если бы не забывали все» (Сенека. Письмо XXXV). И добавляет от себя достаточно показательный
комментарий: «Опять “вечное возвращение”!..» Далее он выписывает
еще один фрагмент из того же письма Сенеки: «...Ни младенцы, ни
дети, ни повредившиеся в уме смерти не боятся — и позор тем, кому
разум не дает такой же безмятежности, какую дает глупость...» (Там
6 Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы. С. 150.
426
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
же). И вновь добавляет от себя: «NB для “Ведьмы”»7. Это означает,
что еще в то время, когда только готовились съемки «Ностальгии»,
Тарковский одновременно думал над замыслом следующего фильма,
и в качестве одной из центральных его идей уже видел идею вечного
возвращения. В конце того же года (22 декабря) Тарковский записывает в дневник: «Немедленно прочесть “Заратустру” Ницше. Достать
поскорее»8. Чувствуется, что он буквально одержим этой идеей и хочет до конца понять ее смысл в философии Ницше.
И наконец, начиная работу над сценарием нового фильма, Тарковский снова думает только об идее вечного возвращения и даже
рассматривает возможность изменить название фильма, чтобы
явно указать на эту идею, как на центральную (запись от 24 ноября
1983 г.): «Вчера начал “Жертвоприношение”. Поработал немного,
но не слишком успешно. В каком-то возбуждении. Кое-что определилось. “Вечное возвращение”. Название? (Никак не могу найти
в “Заратустре” историю с Карликом. Нашел. 137-я страница, но это
не то. Стр. 194, 195.)»9
В первом из упомянутых здесь Тарковским мест книги Ницше Заратустра рассказывает о том, как, взбираясь на гору, он почувствовал,
что на нем сидит карлик («дух тяжести»), который тянет его вниз. Собрав все свое мужество, Заратустра вызвал карлика на поединок и тот
спрыгнул с него. И тогда Заратустра высказывает «самую бездонную»
свою мысль — мысль, которую только он, Заратустра, может вынести. Он указывает карлику на ворота, на которых написано «Мгновение», и спрашивает:
«Взгляни <...> на это Мгновенье! От этих врат Мгновенья уходит
длинный, вечный путь назад: позади нас лежит вечность.
Не должно ли было все, что может идти, уже однажды пройти
этот путь? Не должно ли было все, что может случиться, уже однажды случиться, сделаться, пройти?
И если все уже было — что думаешь ты, карлик, об этом Мгновенье? Не должны ли были и эти ворота уже — однажды быть?
И не связаны ли все вещи так прочно, что это Мгновенье влечет за
собою все грядущее? Следовательно — еще и само себя?
Ибо все, что может идти, — не должно ли оно еще раз пройти —
этот длинный путь вперед\
И этот медлительный паук, ползущий при лунном свете, и этот
самый лунный свет, и я, и ты, что шепчемся в воротах, шепчемся
о вечных вещах, — разве все мы уже не существовали?
7 Тарковский А. А. Мартиролог. Дневники 1970-1986. С. 351.
8 Там же. С. 378.
9 Там же. С. 514. Тарковский ссылается на дореволюционное издание книги
«Так говорил Заратустра» (СПб., 1911), только оно было доступно в его время.
427
ГЛАВА VII
«Жертвоприношение»: великая надежда Заратустры
— и не должны ли мы вернуться и пройти этот другой путь впереди нас, этот длинный жуткий путь, — не должны ли мы вечно
возвращаться»10.
Но это только первый подход Заратустры к осмыслению своей
«глубочайшей» мысли. Вторая и главная ее формулировка появляется позже и является кульминацией всей книги Ницше, на это место
и указывает Тарковский, подразумевая, что именно здесь заключены
идеи, которые должны стать основой его фильма. Однако, прежде чем
воспроизвести этот фрагмент, обратим внимание на некоторые мысли
Ницше высказанные между первым и вторым проведением темы вечного возвращения и прямо связанные с этой идеей.
Впервые пришедшая к Заратустре мысль о вечном возвращении
настолько ужасает его, что он обозначает этот ужас с помощью образа молодого пастуха, которому во время сна в рот заползла змея
и укусила его за горло. Чтобы спастись, он должен был откусить голову змее и выплюнуть ее. Но, освободившись от своего ужаса, он
стал преображенным и просветленным, и он смеялся. Он перестал
быть человеком, он стал выше человека! Точно так же в конце концов
преодолевает ужас вечного возвращения Заратустра; образ преображенного пастуха, который выплюнул из себя все самое черное и злое
и стал выше человека — это метафора главного понятия Ницше, понятия сверхчеловека, именно оно становится для Заратустры основой в его борьбе с ужасом вечного возвращения.
Чуть позже он снова вступает в поединок с духом тяжести, который
раньше представал в виде карлика, т. е. с представлением о том, что жизнь
тяжела, что она ничего не стоит. Заратустра побеждает духа тяжести
с помощью мысли о том, что нужно научиться любить себя самого. Имея
в виду человека, который «не умеет еще летать», Заратустра говорит:
«Тяжелой кажется ему земля и жизнь; так хочет дух тяжести! Но
кто хочет быть легким и птицей, тот должен любить себя самого, —
так учу я.
Конечно, не любовью больных и лихорадочных: ибо у них и собственная любовь дурно пахнет!
Надо научиться любить себя самого — так учу я — любовью цельной и здоровой: чтобы сносить себя самого и не скитаться всюду. <...>
И поистине, это вовсе не заповедь на сегодня и на завтра — научиться любить себя. Скорее, из всех искусств это самое тонкое, самое хитрое, последнее и самое терпеливое.
Ибо для собственника все собственное бывает всегда глубоко зарытым; и из всех сокровищ собственный клад выкапывается последним — так устраивает это дух тяжести»11.
10 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. С. 112-113.
11 Там же. С. 378.
428
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
Мы не сомневаемся, что именно из этого призыва Заратустры
происходит удивляющая многих мысль Тарковского о том, что спасение нужно начинать с любви к самому себе. Она присутствует в дневниках Тарковского, но наиболее известна в связи с его выступлением
в Лондоне, посвященном Апокалипсису (оно состоялось в 1984 г., т. е.
как раз во время работы над сценарием «Жертвоприношения»): «Постольку, поскольку человек сам выбирает свой путь благодаря свободе воли, он не может спасти всех, но может спасти только себя. Именно поэтому он может спасти других. Мы не знаем, что такое любовь,
мы с чудовищным пренебрежением относимся сами к себе. Мы неправильно понимаем, что такое любить самого себя, даже стесняемся
этого понятия. Потому что думаем, что любить себя — значит быть
эгоистом. Это ошибка, потому что любовь — это жертва. В том смысле, что человек не ощущает ее — это можно заметить со стороны, третьим лицом. И вы, конечно, знаете это, ведь сказано: полюби своего
ближнего, как самого себя. То есть любить самого себя — это как бы
основа чувства, мерило. И не только потому, что человек осознал сам
себя и смысл своей жизни, но и потому, также, что начинать всегда
следует с самого себя»12. Здесь Тарковский буквально воспроизводит
парадоксальную мысль Ницше о своеобразной «вторичности» любви
к ближнему по отношению к любви к себе: «Любите, пожалуй, своего
ближнего, как себя, — но прежде всего будьте такими, которые любят самих себя <...>»13.
Мысль о том, что подлинная любовь есть жертва, также присутствует в проповедях Заратустры; он с презрением говорит о «безусловном» человеке, который считает себя образцом, но именно поэтому совершенно не видит своего глубокого несовершенства: «...он сам
недостаточно любил: иначе он меньше сердился бы, что не любят его.
Всякая великая любовь хочет не любви: она хочет большего»14. Отсюда, между прочим, следует известный и совершенно неправильно понимаемый лозунг Заратустры о преодолении сострадания и о необходимости «пожертвовать» ближним; эта жертва точно так же является
следствием жертвы собой, как и любовь к ближнему должна являться
следствием любви к себе: «...всякая великая любовь выше всего своего сострадания: ибо то, что она любит, она еще хочет — создать! /
“Себя самого приношу я в жертву любви своей и ближнего своего,
подобно себе” — так надо говорить всем созидающим»15. Заратустра имеет в виду, что настоящая любовь, которая всегда должна
начинаться с любви к себе, т. е. со стремления стать по-настоящему
12 Тарковский А. А. Слово об Апокалипсисе // Искусство кино. 1989. №2.
13 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. С. 123.
14 Там же. С. 212.
15 Там же. С. 64.
429
ГЛАВА VII
«Жертвоприношение»: великая надежда Заратустры
собой, в своей самой глубокой сущности есть желание выявить в себе
все те потенции, которые делают человека равным Богу. И любовь
к ближнему должна стремиться к тому же, т. е. к преодолению несовершенной «данности» ближнего ради его возможного преображения.
Это как раз то, что имеет в виду Доменико в «Ностальгии», воспроизводя с существенной смысловой поправкой (см. сноску 7 в главе 6) обращение Бога к Святой Екатерине: «Ты не та, что ты есть, Я же — Тот,
который есть»; здесь Доменико явно использует мысль Заратустры,
который учил всех и каждого: «Стань таким, каков ты есть!». Стать же
«таким, каков ты есть», в логике Заратустра значит преодолеть своего
«духа тяжести», свою ограниченность, стать сверхчеловеком. И если
понять сверхчеловека правильно — как перспективу раскрытия божественного содержания в каждой личности, то можно признать, что
эту же самую цель имеет в виду Тарковский, когда говорит о все еще
возможном спасении себя самого и всех.
С помощью идеи сверхчеловека Заратустре удается преодолеть
ужас, вызываемый у него его «самой бездонной» мыслью о вечном
возвращении. Но происходит это не сразу. Возвратившись после долгих странствий в свою пещеру на высокой горе Заратустра еще раз
«вызывает» в себе мысль о вечном возвращении:
«Я, Заратустра, заступник жизни, заступник страдания, заступник круга, — тебя зову я, самую глубокую из мыслей моих!
Благо мне! Ты идешь — я слышу тебя! Бездна моя говорит, свою
последнюю глубину извлек я на свет!»16
Но и на этот раз вызванная им мысль порождает в нем такой ужас,
что он падает и долго лежит как мертвый (именно это упоминает
в своем монологе о Ницше почтальон Отто). Придя в себя он семь дней
лежит больным, не способный ни есть, ни пить. Но наконец он встает
и выходит из пещеры к зверям, которые служили ему. И именно звери
Заратустры говорят ему о том, что случилось с ним и как теперь он
воспринимает вечное возвращение. Вероятно, Ницше заставляет говорить зверей, а не самого Заратустру, чтобы подчеркнуть, что идея
вечного возвращения, в новой — радостной, а не ужасной форме, есть
главная идея не только Заратустры и не только всех людей, но всей
природы, всего бытия. Говоря о том, что теперь Заратустра наконец
обрел свою «великую судьбу», звери объясняют это так:
«Ибо твои звери хорошо знают, о Заратустра, кто ты и кем должен ты стать: смотри, ты учитель вечного возвращения, — в этом
теперь твое назначение! <...>
И если бы ты захотел умереть теперь, о Заратустра, — смотри, мы
знаем также, как стал бы ты тогда говорить к самому себе; но звери
твои просят тебя не умирать еще.
16 Там же. С. 157.
430
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
Ты стал бы говорить бестрепетно, вздохнув несколько раз от блаженства: ибо великая тяжесть и уныние были бы сняты с тебя, о самый терпеливый!
“Теперь я умираю и исчезаю, — сказал бы ты, — и через мгновение я буду ничем. Души так же смертны, как и тела.
Но связь причинности, в которую вплетен я, опять возвратится, —
она опять создаст меня! Я сам принадлежу к причинам вечного возвращения.
Я снова возвращусь с этим солнцем, с этой землею, с этим орлом,
с этой змеею — не к новой жизни, не к лучшей жизни, не к жизни,
похожей на прежнюю:
— я буду вечно возвращаться к той же самой жизни, в большом
и малом, чтобы снова учить о вечном возвращении всех вещей,
— чтобы повторять слово о великом полдне земли и человека,
чтобы опять возвещать людям о сверхчеловеке.
Я сказал свое слово, я разбиваюсь о свое слово: так хочет моя вечная судьба, — как провозвестник, погибаю я!
Час настал, когда умирающий благословляет самого себя. Так —
кончается закат Заратустры”»17.
Как раз этот фрагмент книги «Так говорил Заратустра» Тарковский отмечает в своем дневнике как самый важный для замысла
его фильма.
Если сравнить первое высказывание Заратустры о вечном возвращении (в споре с карликом) с последней формулировкой, которую
произносят его звери, возникает естественный вопрос: почему первое
проведение этой темы настолько ужаснуло Заратустру, что он в конце
концов упал от него замертво, в то время как второе вызывает в нем
радость? На первый взгляд никакого существенного различия здесь
не видно, более того, во втором случае говорится о гибели Заратустры
в силу его «вечной судьбы». Эта гибель помимо прочего противоречит
идее вечного возвращения — как можно погибнуть, если все должно
вечно повторяться?
Все становится ясным, если обратить внимание на два важнейших
мотива процитированного фрагмента. Во-первых, Заратустра говорит
о том, что он сам принадлежит «к причинам вечного возвращения». Но
в этом смысле «Заратустра» — это метафора человека, включенного
в «кольцо вечного возвращения»; поскольку эта «причина» обладает
свободой, вечное возвращение только до тех пор является абсолютным
повторением «того же самого», пока сам человека смиряется с этим,
принимает повторение как должное. А принимает он это и соглашается с этим только в силу добровольного подчинения «духу тяжести»,
внушающему нам, что жизнь «непроницаема» для нас и чужда нашим
17 Там же. С. 160-161.
431
ГЛАВА VII
«Жертвоприношение»: великая надежда Заратустры
самым искренним чаяниям. Об этом Заратустра говорит, в очередной
раз встречая своего главного врага: «...снова нашел я своего старого
демона и заклятого врага, духа тяжести, и все, что создал он: насилие,
устав, необходимость, следствие, цель, волю, добро и зло»18.
Если же человек поборет в себе «духа тяжести», станет поистине
свободным, то именно он станет главной «причиной» вечного возвращения и в последнем исчезнет его самая ужасная черта — необходимость. Эту мысль составляет самый важный мотив того нового понимания вечного возвращения, которое выражают звери Заратустры:
Заратустра возвращается вместе со всеми вещами не ради самого возвращения, а ради того, чтобы «повторять слово о великом полдне земли и человека, чтобы опять возвещать людям о сверхчеловеке». Это
означает, что вечное возвращение будет возвращать «то же самое»
не вечно, а только до тех пор пока истина о сверхчеловеке не станет
реальностью в мире людей. И радость, которую теперь испытывает
Заратустра от мысли о вечном возвращении связана как раз с тем, что
оно обязательно приведет людей к этой истине — на то оно и вечное!
Но, приведя к этой истине людей, оно само станет другим: оставшись
вечным, оно перестанет быть возвращением «того же самого». Сверхчеловек, раскрывшийся в человеке, устранит проклятие необходимости и сделает ход вещей танцующим, «а мир — выпущенным на свободу, невзнузданным, убегающим обратно к самому себе»19. Это не
означает, что вечное возвращение исчезнет совсем, оно не может исчезнуть, как самый главный «закон» бытия, но когда человек (в форме
сверхчеловека) выйдет из подчинения вечного возвращения и станет
выше его, станет сам определять его, он сделает его избирательным.
Именно об этом идет речь в самом конце книги «Так говорил Заратустра», соответствующий фрагмент мы уже цитировали в последнем
разделе главы 4. Человек будет «переносить» в вечность, «отдавать»
вечному возвращению только то, что определяет его высшее состояние, его полноту бытия, его радость.
Отметим, что возникающий здесь образ сверхчеловека, «разрывающий» «кольцо вечного возвращения» и переносящий в вечность
свою высшую радость, имеет очевидную параллель в творчестве Достоевского. Имеется в виду одно из рассуждений Кириллова в романе «Бесы». В беседе со Ставрогиным он говорит: «Когда весь человек
счастья достигнет, то времени больше не будет, потому что не надо.
Очень верная мысль». И на вопрос Ставрогина о том, куда время
«спрячут», добавляет: «Никуда не спрячут. Время не предмет, а идея.
Погаснет в уме»20. Нужно иметь в виду, что в устах Кириллова «сча¬
18 Там же. С. 142.
19 Там же.
20 Достоевский Ф. М. Бесы. С. 225.
432
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
стье» — это как раз абсолютная полнота существования человека,
к которой он сам уже приблизился, поэтому смысл его высказывания
близок к тому, что имеет в виду Ницше: в состоянии сверхчеловека
человек сможет подчинить время вечности, выстраивать свое временное бытие «с точки зрения вечности». Можно предположить, что Тарковский видел сходство сложных метафизических идей, выраженных
Кирилловым и Заратустрой, поскольку процитированный фрагмент
из романа «Бесы» он сделал эпиграфом к той главе своей книги «Запечатленное время», которая посвящена проблеме времени (отметим,
что этот эпиграф очень слабо связан с материалом соответствующей
главы, создается впечатление, что Тарковский поставил его здесь, думая не о самой книге, а о фильме, над которым он в то время работал).
Важно уточнить еще один момент в представлениях Ницше
о вечном возвращении. Заратустра проповедует, что раскрывшаяся
божественная сила сверхчеловека сумеет преодолеть не только необходимость, господствующею над будущим, над грядущим, но даже
и ту страшную и непоколебимую необходимость, которая делает прошлое безнадежно неизменным. Заратустра верит, что сумел донести
и эту благую весть о самом главном «избавлении» до людей:
«...как поэт, отгадчик и избавитель от случая, я научил их быть
созидателями будущего и все, что было, — спасти, созидая.
Спасти прошлое в человеке и преобразовать все, что “было”, пока
воля не скажет: “Но так хотела я! Так захочу я”. —
Это назвал я им избавлением, одно лишь это учил я их называть
избавлением»21.
Как раз о таком «избавлении» и повествует фильм Тарковского.
Если у Ницше «преобразование» прошлого все-таки можно понять
как метафору, то Тарковский настаивает на буквальном и прямом
смысле указанного «избавления».
Теперь связь замысла «Жертвоприношения» с ницшевской концепцией вечного возвращения, на наш взгляд, выглядит совершенно очевидной. Пересказывая в начале фильма эту концепцию, Отто
имеет в виду только ее «ужасающее», а не «радостное» понимание,
именно поэтому он делает акцент на том, что от этой идеи Заратустра упал в обморок, но совершенно не упоминает, что он преодолел ее ужас. Это означает, что сам Отто не верит в «сверхчеловека»
и в «избавление», о котором говорит Заратустра. И даже если он сам
является «пришельцем» из иного мира и обладает каким-то более
широким пониманием бытия, чем люди, он всецело покорился законам земного мира с его вечным возвращением и его необходимостью.
И хотя он приносит Александру весть о возможности «избавления»,
сам он не способен совершить нужное для этого деяния, сам он не
21 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. С. 142.
433
ГЛАВА VII
«Жертвоприношение»: великая надежда Заратустры
может «родить» в себе «сверхчеловека». А вот Александр оказывается на это способен, он — один из тех, кого Ницше в своей книге
называет людьми «великой тоски, великого отвращения и великого
пресыщения», один из тех, кто составляет «последний остаток Бога
среди людей»22. Только к таким людям обращается Заратустра со своими проповедями, называя их «высшими людьми», зная, что они поймут его и пойдут за ним — зная, что они уже не хотят жить как прежде, или, как говорит один из этих «высших людей», «не хотят жить,
если только не научатся снова надеяться — если только не научатся
у тебя, о Заратустра, великой надежде!»23
Александр не только научился этой «великой надежде», но и сумел сделать ее действенной, преобразующей и его самого и других
людей, которые начинают служить этой надежде, — Отто и Марию.
Хотя, может быть, не только их. Обратим внимание на один буквально мимолетный мотив фильма, казалось бы, совершенно не претендующий на какое-нибудь важное идейное значение, но, видимо, все-
таки обладающий таким значением. В самый ужасный момент истории Александра, когда он, обратившись к Богу, еще не знает станет
ли родившаяся в нем надежда действенной, мы видим на экране дочь
Александра Марту, которая зовет Виктора и просит «Помоги мне»,
а затем снимает ночную рубашку и обнаженная идет к кровати; после
этого мы видим второе «видение» (сон) Александра с образом мировой катастрофы. Вероятно, Марта давно и безнадежно любит Виктора, и только в этот последний момент, после которого уже не останется никаких надежд, она решается на поступок, свидетельствующей,
что в ней тоже живет «великая надежда». И, возможно, то, что происходит затем между Мартой и Виктором (чего мы не видим, но о чем
можем догадываться) является таким же магическим и спасающим
актом, как и то, что происходит позже между Александром и Марией.
И, значит, Марта и Виктор также причастны к тому радикальному изменению в ходе событий, в «действии» вечного возвращения, которое
вызвал Александр.
5. Рождение новой реальности
Теперь нам предстоит более детально разобраться в том, что же
происходит после молитвы Александра и с ним самим, и с окружающей реальностью, каким образом происходит «трансформация» мира
к новому состоянию. При всей иррациональности этого процесса он
все-таки представлен Тарковским на экране в некоторой вполне угадываемой логике.
22 Там же. С. 203.
23 Там же.
434
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
После того как Александр и Мария сливаются в магическом любовном акте, поднимающим их, наперекор силе тяжести, мы видим
самый важный и самый сложный по смыслу фрагмент «видений»
Александра. Сначала разворачивается образ разразившейся всемирной катастрофы — бегущие по городу люди в разорванных одеждах,
ищущие спасения и не находящие его. Но в конце этого «видения»
на прозрачном козырьке, возвышающимся над площадью с бегущими людьми, появляется спящий мальчик, причем лица его не видно.
Кажется, что это сын Александра, которого мы несколько раз до этого видели в постели, причем, как ни странно, ни в одном случае он
не спал, хотя и притворялся спящим. По ходу фильма не раз звучал
намек на что, что сын Александра, несмотря на свою молодость, обладает какой-то странной глубиной, что он не обычный мальчик, что
ему предназначена какая-то особая роль в мире, и к этой роли отец
уже интуитивно готовит его. В этом контексте тот факт, что мальчик
не спит в то время, когда в мире разразилась катастрофа, указывает
на его чуткость — в своих снах, он, возможно, как и его отец, видит
те же ужасные картины гибели и распада бытия, поэтому он не может спать и вместе со взрослыми переживает ужас происходящего
(вспомним, что и Сталкер не спал в обычном мире вне Зоны).
Учитывая сказанное, можно предположить, что мальчик, который предстает спящим в «видении» Александра, — это не его сын,
а он сам в раннем детстве. Черно-белые «видения» Александра вполне соответствуют образам «мира вечности» в «Зеркале», нам кажется,
что именно так их и нужно рассматривать. Это означает, что в них
в концентрированной форме выражаются главные смыслы личного
бытия Александра и происходящих в его жизни событий. Соединение
образа мировой катастрофы с образом спящего мальчика — самого
Александра в тот момент, когда он только становится личностью, как
бы готовится «проснуться» к полноценному существованию, можно
понять как символическое выражение мысли, ясно выраженной им
самим раньше в разговоре с Отто: всю свою жизнь он ждал какого-то
решительного события, в котором должен был выразиться смысл всей
его жизни, и таким событием оказалась мировая катастрофа. Этот образ, соединяющий его судьбу с катастрофой всего человечества, подтверждает ему, что его предназначение, определенное в вечности —
быть спасителем человечества, быть тем, кто пожертвовав собой,
спасет всех. Дополнительным аргументом в пользу того, что в своем
«видении» Александр видит не своего сына, а самого себя в детстве,
является тот факт, что проснувшись он зовет маму, т. е. продолжает
пребывать в образе ребенка.
Во второй части «видения» Александра, т. е. образа «мира вечности», он лежит на поляне в лесу, а рядом с ним сидит женщина, очень
435
ГЛАВА VII
«Жертвоприношение»: великая надежда Заратустры
похожая осанкой и одеждой на его жену Аделаиду. Но когда она поворачивается к нам, мы видим, что у нее лицо служанки Марии. На
первый взгляд этот образ имеет достаточно простой смысл: ведь став
любовником Марии, Александр как бы уравнял ее с женой, и этот образ выражает это «уравнивание». Однако такое объяснение было бы
удовлетворительным, если бы у Александр с Марией была обычная
любовная связь в условиях обычной жизни. Но в данном случае происходит акт мистической трансформации реальности через акт любви. Соединение Александра и Марии призвано «исправить» глубокое
несовершенство мирового бытия, но частным выражением этого мирового несовершенства является неудавшаяся жизнь самого Александра. В соответствии с той идеей, которую Тарковский высказывал
вслед за Ницше, чтобы спасти мир, человек сначала должен спасти
себя. Этот образ и является символом такого спасения. Соединяясь
с Марией, Александр как бы «исправляет» главный недостаток своей
жизни — свое неудачное супружество; это становится основой для
спасения, преображения всего мира, который зависит от него, так
же как и от каждого человека — но только каждый не знает об этом,
а Александр сумел сделать действенной эту великую надежду нашего существования.
Следом за черно-белым образом Александра и его жены с лицом
Марии следует уже цветной эпизод, который начинается с того, что
обнаженная Марта гонит по коридору куриц. Затем камера плавно поворачивается, мы видим Аделаиду стоящую у дверей в комнату Александра, а затем и саму эту комнату, где он сам спит на диване. После
некоторой паузы Александр просыпается и начинается финальная
часть фильма, в которой он сжигает свой дом.
Этот цветной фрагмент, безусловно, является самым загадочным во всем фильме. Его загадочность связан с тем, что совершенно
невозможно ясно понять, где в нем пролегает грань между «видением» и реальностью. Начало эпизода, как кажется, нужно признать
завершением предшествующего «видения» Александра; образ обнаженной женщины, прогоняющей куриц вполне естественно вписывается в ряд сюрреалистических образов не только «Жертвоприношения», но и других фильмов Тарковского. Но, с другой стороны,
изображение обнаженной Марты, прогоняющей куриц без каких-
либо монтажных стыков переходит в изображение Аделаиды, стоящей у комнаты Александра, а затем и в изображение самой этой
комнаты, последняя уже безусловно существует в реальности —
в той новой реальности, которая возникла после мистического любовного акта Александра и Марии.
Загадочная цельность этого фрагмента, соединяющего «видение»
и реальность, уже привлекала внимание исследователей. Д. Салын¬
436
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
ский в своей интерпретации фильма Тарковского высказал мысль,
что раз начало этого фрагмента можно понять как сон или «видение»
Александра, то и весь финал фильма, непосредственно продолжающий этот фрагмент, является всего лишь сном, и на деле никакого
спасения мира не произошло24. Соглашаясь, что такой вывод возможен на основе чисто формальных особенностей построения этого фрагмента, мы все-таки не можем его принять, поскольку в этом
случае станет совершенно непонятной идейная конструкция фильма.
Режиссеру в этом случае искусственно приписываются стереотипы
постмодернистской игровой культуры, которая ничего не желает принимать всерьез. Тарковский же со своей «несовременной» верой в духовные и религиозные ценности не укладывается ни в постмодернистскую, ни даже в модернистскую модель культуры, его искусство скорее заставляет вспомнить лучшие страницы романтизма и даже эпохи
Возрождения (кстати, явное тяготение к романтизму и Возрождению
можно обнаружить и в творчестве Ницше).
Д. Салынский совершенно прав в том смысле, что рассматриваемый эпизод нужно рассматривать как абсолютно целостный и однородный, без какого-либо перехода реальности в сон или наоборот. Но
это должно вести не к признанию всего происходящего «сном», а наоборот, к признанию всего того, что мы видим в этом эпизоде, реальным. Нужно не «сновидческий» характер образа обнаженной Марты
переносить на последующие события, а наоборот, признать этот образ принадлежащим к той самой реальности, которую мы видим
в следующих кадрах. Это утверждение, конечно, требует дополнительного обоснования и уточнения.
Прежде всего нужно заметить, что во всех своих фильмах Тарковский четко различает «видения», в которых герой проникает в иную
реальность, в «мир вечности», и «обычные» сны, тождественные воспоминаниям, передающие события прошлого буквально так, как они
происходили. Это различие зафиксировано достаточно устойчивым
различием колорита: «видения» почти всегда являются черно-белыми
(единственное исключение — «сны» Стралкера, но и они имеют выморочный, черно-желтый колорит), а сны о прошлом и воспоминания —
цветными, полностью подобными реальности настоящего25. Вероятно, этим Тарковский хочет сказать, что прошлое никуда не уходит,
24 Салынский Д. Киногерменевтика Тарковского. С. 224-226.
25 Исключениями здесь являются сцена в типографии в «Зеркале», а также
репортаж о полете Бертона и запись обращения Гибаряна к Крису Кельвину
в «Солярисе»; однако это так раз такие исключения, которые подтверждают
правило. Они черно-белые по тем же самым причинам, по каким черно-белыми
иногда являются картины настоящего — из-за переживаемого героями кризиса,
личностной катастрофы.
437
ГЛАВА VII
«Жертвоприношение»: великая надежда Заратустры
оно продолжает существовать в особом измерении реальности наряду
с настоящим; и некоторые особо чуткие люди способны в своих снах
проникать в эту особую реальность прошлого (такое понимание прошлого и памяти было развито в философии А. Бергсона, которую Тарковский скорее всего знал). В противоположность этому все образы,
приходящие из «мира вечности», т.е. из подлинно трансцендентного
мира, резко отличаются и от явлений нашего земного мира, и от восприятия прошлого в снах; это как раз и фиксируется их сюрреалистическим характером и черно-белым колоритом.
Единственный раз «видение», явно не являющееся воспоминанием о прошлом, предстает полноценно цветным в «Солярисе», но
там это объясняется тем, что его создает в самой реальности «богоподобный» Океан, т.е., по существу, его вообще нельзя назвать «видением», это скорее процесс трансформации реальности под действием могущественных сил, заключенных в ней самой, но раскрепощенных по воле человека. При этом образ, приходящий к Крису
Кельвину из «мира вечности» (разговор с матерью), и в «Солярисе»
является черно-белым, резко отделенным от цветного «видения»,
вызванного Океаном.
Соотнесение рассматриваемого нами эпизода из «Жертвоприношения» с цветным «видением» Криса в «Солярисе», помогает уточнить «статус» образа Марты в этом эпизоде. Хотя он несет на себе оттенок ирреальности, «сюрреалистичности», но тем не менее передает саму реальность, а именно реальность, которая на наших глазах
теряет свои привычные устойчивые формы, теряет свои главные
качества — закономерность и необходимость, обретает пластичность и становится иной. «Видение», представавшее перед Крисом,
демонстрировало процесс трансформации реальности, вызываемой
действием на нее Океана, точно так же изображение обнаженной
Марты и следующие за ним кадры показывают нам свершающийся
процесс трансформации «больного» мира, процесс его «исправления», — то, о чем молил Бога и что вызвал мистическим актом любви
сам Александр.
Отметим, что ничего принципиально сверхъестественного в изображении обнаженной Марты, прогоняющей куриц, нет, более того,
это изображение вполне согласуется с более ранним эпизодом, в котором мы видели, как она звала Виктора и затем появлялась в кадре
обнаженной. Эти два эпизода очевидно дополняют друг друга и являются симметричными, обрамляющими ту часть фильма, в которой
происходят «мистические» события — явление Отто к Александру
и затем визит Александра к Марии.
Наконец, отметим еще один важный мотив этого фрагмента.
Между черно-белым «видением», представляющим Аделаиду с ли¬
438
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
цом Марии, и следующим фрагментом с обнаженной Мартой режиссер вставляет крупный план картины Леонардо, причем в данном
случае видна только та часть полотна, на котором изображена Мадонна с младенцем Иисусом и волхвы, протягивающие ей дары. При
этом картина дана в измененном цветовом регистре — фон изображения окрашен в синие тона. Мы уже говорили, что репродукция
полотна Леонардо является важным лейтмотивом фильма; она постоянно попадала в кадр, словно демонстрируя постоянную связь
«мира времени» и «мира вечности», и одновременно символизируя
напряженную борьбу в каком то «центре», «средоточии» бытия позитивных и негативных тенденций. В самом начале фильма, когда
полотно Леонардо было показано в первый раз, камера двигалась
от Мадонна вверх и остановилась на дереве с черной кроной, воплощавшей какие-то страшные, разрушительный силы бытия.
Теперь, при последнем появлении картины, выделенным оказывается именно ее позитивное начало, причем изменение колорита
полотна с коричневого на синий выразительно подчеркивает победу преобразующих и спасающих тенденций бытия. Рассматривая полотно Леонардо как образ «мира вечности», присутствующий в земном мире, невозможно признать его в данном фрагменте
фильма, даже в измененном колорите, за «видение» Александра;
это, вне всяких сомнений, само реальное полотно, которое преображается на наших глазах, как бы «резонируя» на те мистические
изменения, которые происходят в мире вокруг. Но тогда мы не
можем не признать принадлежащим реальности и образ обнаженной Марты; кадры, показывающие Мадонну на полотне Леонардо, проводят очевидную границу между «видением» Александра
и изображением реального мира.
В результате, можно прийти к заключению, что совсем небольшой эпизод, в начале которого Марта прогоняет куриц, является центральным во всем фильме, только он дает нам «подсмотреть», как
происходит поистине мистическое событие трансформации реального мира — перехода от одного причинного ряда событий, от одного
«кольца вечного возвращения», к совершенно другому, с другими
формами прошлого и будущего. В связи с этим становится еще более
обоснованной и веской высказанная ранее мысль: на деле, не только
Александр и Мария, но не в меньшей степени Марта и Виктор осуществили акт мистической трансформации мира. И, значит, Марта не
в меньшей степени, чем Мария, является «ведьмой в хорошем смысле», как выразился Отто.
В творчестве Тарковского дети и подростки, только вступающие
во взрослую жизнь, предстают особыми существами, находящимися
в тесных взаимосвязях с «миром вечности» и с теми силами бытия,
439
ГЛАВА VII
«Жертвоприношение»: великая надежда Заратустры
которые обладают творящей и преобразующей мощью. Таковы Иван
в первом фильме Тарковского, Бориска в «Страстях по Андрею», маленький Алексей и его сын Игнат в «Зеркале», дочь Сталкера. Нам
кажется, что Марту в «Жертвоприношении» Тарковский также наделяет особыми способностями и особым призванием, и она реализует
это призвание, вместе с другими спасая гибнущий мир.
Очень характерно, что спасающими актами в данном случае являются акты любви. Здесь еще раз ярко проявляется убеждение Тарковского, о котором мы подробно говорили в связи с фильмом «Зеркало», —
что любовь, даже в мимолетном своем проявлении является могущественной силой, способной преобразить и отдельного человека
и даже весь мир.
Особое внимание Марты к Виктору проявляется уже в первой
части фильма; в ситуации разразившейся катастрофы, которая должна погубить не только их чувства, но и их самих, Марта решительно
проявляет свою любовь — и она оказывается мощной силой, спасающей всех окружающих. На следующее утро, когда мир оказывается
в прежнем безмятежном состоянии, Марта предстает уже совершенно другим человеком. Когда Аделаида пытается отослать ее, чтобы
она не слышала ее с Виктором спор, слишком обнажающий их отношения, Марта решительно заявляет: «Я же не ребенок», — словно
за эту ночь она окончательно повзрослела. Затем она решительно
говорит, что не отпускает Виктора в Австралию, куда он решил спрятаться от всех проблем, связанных с его запутанными отношениями
с членами семьи Александра.
С отъездом Виктора в Австралию связан еще один важный момент. Виктор впервые говорит об этом своем намерении в прологе
фильма, и это слышат только Александр и Марта, причем Марта никак не реагирует на это сообщение, словно оно ей безразлично. Но
на следующее утро именно Марта рассказывает матери об этом намерении Виктора, добавляя, что еще вчера вечером слышала об этом,
и Аделаида бурно реагирует на это сообщение, почти впадая в истерику. В этот момент мы четко понимаем, что временная последовательность событий не прерывалась, несмотря на все «мистические
обстоятельства».
Александр, встав утром с дивана в своей комнате, в которой он
непонятно каким образом оказался, — ведь до этого мы его видели
у Марии — не может понять, каково его настоящее: то ли это новый
день после той ночи, в которую началась всемирная катастрофа, то
ли — повторение предыдущего дня, т. е. дня до катастрофы; именно
поэтому он в своей записке пишет про сухое японское дерево, посаженное им вместе с малышом — «которое мы вчера посадили, или сегодня, не помню». Когда он звонит своему редактору, тот поздравляет
440
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
его с днем рождения, и здесь можно подумать, что Александр снова
находится в предыдущем дне, что мы видим повторение прошлого
(хотя, очевидно, что поздравление уместно и на следующий день после дня рождения). Но слова Марты однозначно фиксируют, что, по
крайней мере для нее, это утро — не повторение предыдущего, а следующее после ночи катастрофы, т. е. реальность не вернулась вспять,
в прошлое, а именно была трансформирована усилиями людей,
в духе того «избавления» («спасения того, что было»), о котором пророчествовал Ницше словами своего Заратустры.
Однако вернемся к тому фрагменту фильма, который начинается изображением Марты, прогоняющей куриц, а заканчивается
пробуждением Александра. Обратим внимание на звуковое сопровождение и этого фрагмента и предшествующего фрагмента, показывающего «видение» Александра. Начало «видения», в котором
предстают бегущие люди и гибнущий город, сопровождается японской музыкой (как мы позже узнаем, она звучит из проигрывателя
в комнате Александра), однако в конце «видения», когда появляется
спящий мальчик, за кадром вновь, как и в предыдущей сцене с Марией, слышен голос плачущего, испуганного Александра, которого
успокаивает чей-то женский голос. Но теперь это уже голос не Марии, а Аделаиды, которая дает Александру какое-то питье: мы слышим стук ложки и дребезжанье стакана. Вся эта звуковая картина
вполне соответствует следующему цветному фрагменту, начинающемуся с изображения обнаженной Марты: мы видим Аделаиду,
которая стоит рядом с комнатой Александра со стаканом, а затем
подходит к комнате и заглядывает в нее. Позже, когда все кроме
Александра соберутся за столом рядом с домом, Аделаида скажет,
что рано утром она пришла к Александру, включила его любимую
японскую музыку и принесла ему кофе. Получается, что изображение Аделаиды около комнаты Александра безусловно является
реальным событием, что в еще большей степени делает оправданным признание реальным и предшествующего события с участием обнаженной Марты. Впрочем, в изображении Аделаиды присутствует некая странность: ее движения несколько замедленны
и она как будто сам не понимает, что она делает. Можно попытаться
проинтерпретировать всю эту последовательность событий следующим образом. Если изображение обнаженной Марты, прогоняющей
куриц, представляет тот самый момент, когда происходит мистическая трансформация реальности, не укладывающаяся в привычные
стереотипы, в формы обыденной жизни, то последующее изображение Аделаиды со стаканом около комнаты Александра является как
бы началом новой последовательности событий в новой, преображенной реальности.
441
ГЛАВА VII «Жертвоприношение»: великая надежда Заратустры
6. Жертва ради будущего
Проснувшись утром после ночи катастрофы и осознав, что мир
вернулся в свое устойчивое состояние, Александр выполняет свое
обещание и сжигает свой дом, т.е разрушает не только свою устоявшуюся жизнь, но и жизнь всех близких ему людей. В этой «честности» перед Богом есть что-то не до конца понятное. Если событие,
о котором молил Александр уже состоялось, нужно ли настаивать на
тех условиях, которые оказывались необязательными? Может быть,
Богу было достаточно решимости Александра в желании изменить
свою жизнь, достаточно искренности его веры? Прямолинейное исполнение принятого на себя обязательства может показаться здесь
ненужным педантизмом, не считающимся с милосердием Бога, который не может требовать от человека принесения несчастий себе
и другим.
Финальный сюжет фильма с принесением Александром в жертву всей своей жизни, кажется нам очень близким в своем идейном
решении с размышлениями Льва Шестова, философию которого Тарковский, видимо, хорошо знал. В качестве нагляднейшего примера
«движения веры», приводящего к радикальному изменению мира,
в котором живет человек, Шестов в своих работах постоянно приводил
жертвоприношение Авраама; этот библейский сюжет (и сам по себе,
и в интерпретации Шестова) представляется очень важным для понимания финала «Жертвоприношения» и всего этого фильма в целом.
В большинстве своих работ (кроме самых ранних) Шестов с настойчивым постоянством, чем-то напоминающим настойчивость,
с которой Тарковский проводит ключевые принципы своего мировоззрения, говорит об одном и том же: о том, что современное человечество утратило подлинную веру, составляющую не только одно из измерений сознания, но главное измерение нашего бытия. Противостояние разума и веры в нашей жизни Шестов изображает не как «разногласие» отдельных сторон сознания, а как абсолютное различие двух
форм существования человека. А поскольку человек — это центр
всего целостного бытия, определяющий его законы и его структуру,
две эти формы оказываются двумя противоположными состояниями
всего бытия. Их различие Шестов описывает с помощью своеобразной интерпретации библейского мифа о грехопадении.
Первый человек был создан Богом по своему образу и подобию
и столь же совершенным, как Бог. «Райское» существование Адама и Евы было существованием в полном и неразрывном единстве
с бытием и с источником жизни; именно поэтому им не нужно было
знание, ибо знание — это внешнее отношение к иному, к тому, что
442
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
чуждо человеку и оторвано от него. Но человек совершил грехопадение, смысл которого может быть выражен только метафорически,
и его результатом стало отделение от Бога и бытия. Сделавшись самостоятельным и «отдельным», человек был вынужден воспринимать
окружающий мир как враждебную и чуждую среду, а главной формой
своего отношения к миру сделал рациональное познание, управляемое и направляемое разумом. Но, полагая, что только «открывает»
законы мира, разум на деле накладывает на мир свойственные ему
самому, удобные для него законы. В результате бесконечно богатое
и полное неисчерпаемых возможностей бытие предстает перед человеком скованным Необходимостью.
Подчинив с помощью разума (подлинного прообраза библейского
змея) мир и свое собственное существование непоколебимым законам Необходимости, человек сам страдает от их «жестокости» и неумолимости. Но приняв воззрение, ставящее превыше всего разум
и его могущество, мы лишаем себя надежды на избавление от гнета
Необходимости, поскольку в этом случае предполагается, что даже
Бог подчинен законам, которые устанавливает человеческий разум, и
не в состоянии изменить или нарушить их. Именно такое понимание Бога, согласно Шестову, восторжествовало в европейской культуре и в историческом христианстве. А поскольку одним из наиболее
фундаментальных принципов рационального познания мира является
незыблемость прошлого, то в рамках «современного» мировоззрения
мы вынуждены признать, что даже для Бога невозможно изменить
прошлое, и никакая вера не может посягать на то, что уже свершилось.
Однако наряду с этим никогда не умирало и другое понимание
Бога, восходящее к ветхозаветным пророкам: стремясь восстановить
это понимание и связанную с ним веру, Шестов разоблачает ложность нашей цивилизации, пытается показать необходимость радикального изменения структуры наших отношений с миром, что должно привести к изменению нас самих и нашего будущего. «Для пророка — прежде всего всемогущий Бог, творец неба и земли, потом —
истина. Для философа — прежде истина, потом Бог. Философ покоряется и аду и смерти, и в этой “вольной” покорности находит свое
высшее благо, пророк вызывает на страшный и последний бой и ад,
и самое смерть»26. Именно в этом контексте Шестов особенно часто
обращается к двум библейским персонажам — Иову и Аврааму.
Иов, у которого судьба отняла все — стада, богатство и сыновей,
не смиряется перед необходимостью и продолжает «упорствовать»
в своем страдании и в своем нежелании принять все выпавшее на его
долю как должное. И в своем упорстве он оказывается прав; Бог вер¬
26 Шестов Л. Умозрение и апокалипсис. Религиозная философия
Вл. Соловьева // Шестов Л. Умозрение и Откровение. Париж, 1964. С. 45-46.
443
ГЛАВА VII «Жертвоприношение»: великая надежда Заратустры
нул ему все — стада, богатство, сыновей. Абсурдная возможность
стала реальностью. Еще большие парадоксы для нашего разума содержит история Авраама, «отца веры». Бог повелел Аврааму принести в жертву сына, и Авраам безропотно принял это повеление,
и занес над сыном нож. При этом он оказался выше того, что требует
необходимость, даже выше всего этического. Но именно это и означает, что он сумел совершить «движение веры», сумел принять Бога
как силу, которая способна реализовать все возможности. «Авраам
верил, что если он даже убьет сына — он ему будет возвращен: для
Бога нет невозможного»27.
И вот, Александр в фильме Тарковского оказывается способным
именно на такую веру, на веру Иова и Авраама, которая не просто
ограничивает разум в его правах (как требовал Кант), а отрицает
разум, делает его власть иллюзорной, не имеющей оснований ни в человеке, ни в мире, поскольку такая вера посягает на самое прочное
и безусловное в рациональном устройстве бытия — на прошлое. Само
название фильма, на наш взгляд, совсем не случайно ассоциируется
с устойчивым словосочетанием, бесчисленное число раз упоминаемым на страницах сочинений Льва Шестова — с жертвоприношением
Авраама. Подобно Аврааму Александр оказался способным на веру,
преодолевающую и законы необходимости и законы этики, он оказался способным пожертвовать самым ценным, что есть в его жизни, своим домом, своим семейным очагом.
Но именно на фоне сходства истории Александра с историей Авраама особенно ярко выступает различие, которое показывает, что,
используя достаточно известные образы и идеи, Тарковский остается
абсолютно самостоятельным мыслителем и художником, сохраняющим последовательность и преемственность своих убеждений.
Главный недостаток шестовской интерпретации отношений Бога
и человека заключается в том, что здесь происходит абсолютное умаление значения человека перед лицом всемогущего и абсолютно непредсказуемого Бога. В противоположность этому, Тарковский, отвергая традиционное новоевропейское представление об изолированном субъекте, не умаляет, а возвышает человека, поскольку считает, что только человек, соединившись с бытием, восстановив свое
единство с миром, способен своими усилиями преобразовать и мир
и себя самого. Как мы помним (см. главу 2), сам Бог в художественном мире Тарковского «конституируется» как итог жертвенных усилий человека, как своего рода центр спасенного и преображенного
бытия — спасенного и преображенного в результате нескончаемых
жертвенных деяний множества людей, соединившихся друг с другом
в своем порыве к совершенству. Тот факт, что в «Жертвоприноше¬
27 Шестов Л. Киркегард и экзистенциальная философия. М., 1992. С. 141.
444
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
нии» Тарковский использует текст канонической христианской молитвы, нисколько не делает его взгляды более ортодоксальными, чем
прежде (отметим, что отрывки из библейских текстов звучат также
в «Страстях по Андрею» и в «Сталкере»). Здесь, как и раньше, обращение к Богу, по сути, оказывается обращением к тем неведомым,
загадочным силам, которые содержатся в человеке, точнее, к тем силам, которые заложены в самом бытии, но могут быть раскрепощены, направлены на преображение всего мира только с помощью
совместного усилия всех людей.
Здесь нужно еще раз обратить внимание на то, что, произнося
молитву «Отче наш», Александр делает очень характерный пропуск
в этой молитве. Он опускает фразу: «Ибо Твое есть Царство и сила
и слава во веки» (Мтф. 6, 13). Эта фраза, по существу, является главной в молитве, поскольку она удостоверяет, что человек обращается ко всемогущему Богу, Творцу и Управителю мира. Опуская ее,
Александр явно демонстрирует нам, что тот Бог, к которому он обращается, является «немощным», «страдающим» или даже «умершим»
Богом; и прежде чем ждать от него избавления и спасения, его еще
нужно «воскресить» в мире, нужно «восстановить» его могущество —
и это возможно только силами людей.
Тот факт, что Тарковский явно намекает в фильме на ключевые
идеи философии Ницше, делает особенно нелепыми попытки приписать ему церковное понимание веры и Бога. Тот Бог, к которому обращается Тарковский — это бесконечная глубина в самом человеке,
и ее раскрытие в акте веры, который сумел осуществить Александр,
означает раскрытие сверхчеловека в нем; это понятие является вполне органичным для художественной философии Тарковского.
В последнем фильме Тарковского вновь на первый план выходит
мысль, составлявшая главный смысл «Страстей по Андрею»: единственный способ для человека обрести веру и стать причастным тем
всемогущим силам, которые все еще таятся в основах бытия, заключается в самопожертвовании, в готовности к полному отрицанию своей самодостаточности ради единства всех людей, ради восстановления нашего единства со всем существующим. Здесь заключается одно
из самых радикальных отличий жертвоприношения Александра от
жертвоприношения Авраама. Вера Авраама не признает значения человеческой личности перед всемогущим и «абсурдным» Богом, поэтому в своем служении Богу Авраам готов покуситься на жизнь своего
сына. Перед той силой, с которой жаждет соединиться Авраам, жизнь
любого человека ничтожна. Вера Александра требует совсем другого:
она требует принесения в жертву себя и всего своего — всего того,
что отделяет человека от мира и от других людей и порождает иллюзию самодостаточности, — ради раскрытия подлинного в бытии.
445
ГЛАВА VII «Жертвоприношение»: великая надежда Заратустры
То «свое», которым должен пожертвовать человек, может включать
даже жизнь, но это не является принципиальным в его жертве, ведь
человек вечен в полноте своей причастности бытию (вера в бессмертие человека для Тарковского столь же незыблема и фундаментальна,
как и для Достоевского): отдавая свою земную жизнь, человек помогает другим людям в их земной жизни бороться за причастие «божественной» силе и одновременно делает себя центром иных планов или
горизонтов бытия, символом чего был финал «Ностальгии». Однако
он никогда не имеет права жертвовать жизнью других; в противоположность самопожертвованию это ведет к радикальному разрушению
цельности бытия и подавлению его благих сил (об этом мы уже говорили в главе 2 в связи с идеями И. Ильина).
Важно подчеркнуть еще один момент. Жертвоприношение Авраама, по сути, оказалось мнимым. Бог послал ангела, который в последний момент отвел руку Авраама, приготовившегося зарезать своего
сына. Точно так же и вера Иова, его стенания о своих детях и своих
стадах, его молитвы дали благоприятный «результат»: Бог вернул ему
стада и детей. Но это означает, что Богу и не нужно было реального
изменения их жизни. Пройдя «проверку» своей веры, человек получал обратно все то, что он потерял или отдал Богу, он возвращался
к тому же самому порядку жизни, который был раньше и который
будет всегда. В этом аспекте вера Авраама и Иова, полагающая человека абсолютно ничтожным перед всемогущим Богом, как это ни парадоксально, сходится с полным отрицанием Бога и каких-либо сил,
способных изменить мир. Человек способен создать идеал совершенного, преображенного мира, однако во втором случае (при отрицании
Бога) в мире не существует сил, которые могли бы помочь ему реализовать этот идеал, а в первом (при полагании Бога всемогущим) —
сам этот идеал оказывается запретным дерзанием, покушающимся на
то, что находится во власти Бога: если Бог создал мир таким, каков
он есть, несовершенным и полным зла, значит на то была его воля,
и дело человека — терпеть, верить и надеяться на то лучшее, что может даровать только Бог.
Именно о такой безнадежности, когда человек ничего не может
изменить в своей судьбе и в окружающей действительности, говорит в начале фильма почтальон Отто, излагая свое понимание идеи
вечного возвращения. Шестов в своей философии во многом следует
за Ницше, но идею вечного возвращения он берет только в ее первой
версии, ужасавшей Заратустру: ведь Бог Авраама и Иова, вновь даруя
им отнятые ранее блага, просто повторяет их существование в «подправленной» форме. На эту особенность религиозного мировоззрения
Шестова обращал внимание его друг и коллега Николай Бердяев: «...
отравленный Сократ может быть воскрешен, в это верят христиане,
446
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
Кьеркегору может быть возвращена невеста, Ницше может быть излечен от ужасной болезни. Л. Шестов совсем не это хочет сказать.
Бог может сделать так, что Сократ не был отравлен, Кьеркегор не
лишился невесты, Ницше не заболел ужасной болезнью. Возможна
абсолютная победа над той необходимостью, которое разумное познание налагает на прошлое»28. Бог не просто в настоящем исправляет
то, что было разрушено в судьбе человека в прошлом, он изменяет
само прошлое. Получается, что, когда Шестов интерпретирует истории Иова и Авраама, он идет дальше самой Библии. В Библии сказано, что Бог вернул Иову стада и сыновей в том смысле, что он получил
новых сыновей и новые стада взамен утраченных, но Шестов в своем уповании на божественное всемогущество утверждает, что Иову
было «даровано» другое прошлое, в котором не было никаких утрат.
Но если Бог способен изменить прошлое, способен «бывшее сделать никогда не бывшим» (по выражению Петра Дамиани, западного
богослова XI в.), то человеку никуда не уйти от наваждения бесконечного повторения того же самого, при этом его личность теряет какое-либо значение, поскольку личность человека — это его прошлое.
И если человек — центр мира, и его личное существование обладает
вечным значением в структуре всех горизонтов бытия, то его прошлое не может исчезнуть, раствориться в бессмысленном круговороте повторений. Ни один миг из жизни человека не может повторить
предшествующий, поскольку с каждым мигом прошлое меняется,
и меняется личность.
Именно поэтому, проснувшись утром следующего дня и поняв,
что мир изменился, вернулся в прежнее состояние, в состояние до
катастрофы, Александр поступает совсем не так, как поступили Иов
и Авраам, он не успокаивается в своем повторном благополучии
и счастье. Поднявшись над своей прежней жизнью, преодолев все ее
иллюзии, совершив поступок, раскрепостивший благие силы, преобразившие весь мир, «подправившие» его радикальное несовершенство, даже изменившие прошлое, Александр поднялся на ту высоту,
с которой уже невозможно спуститься в уют обыденного существования. В прошлом всего мира и всех людей событие мировой катастрофы теперь отсутствует, никакой катастрофы как бы и не было, и, казалось бы, можно забыть о ней и жить так, словно все это было только
дурным, тяжким сном. Но если так поступят все, если и Александр
забудет об этом событии или будет считать его галлюцинацией, то
рано или поздно мы будем обречены на то, чтобы вновь пережить его.
Кто-то должен помнить это событие каждое мгновение своей жизни,
сделать его неотъемлемой частью себя и своего прошлого — именно
28 Бердяев Н. Основная идея философии Льва Шестова // Шестов J1.
Умозрение и Откровение. С. 5.
447
ГЛАВА VII «Жертвоприношение»: великая надежда Заратустры
для того, чтобы оно не повторилось, ибо если в человеке будет сохранено всё, то в мире ничего не повторится.
Сжигая в финале фильма свой дом, Александр делает это вовсе
не из «честности» перед Богом. Ведь вовсе не Бог стал источником
изменений, произошедших в мире, их совершили те силы, которые
Александр сумел раскрепостить вместе с Отто и Марией, вместе со
всеми людьми, невидимо соучаствующими в его молитве и в его вере,
ведь подлинная вера должна быть делом всех людей — умерших, нынешних и грядущих. И он приносит свою жертву именно перед этим
общечеловеческим единством и ради него, ради того, чтобы обретенную им веру приняли другие люди, и она помогла им, точно так же
как и ему, соединиться с «божественными» силами бытия и сделать
эти силы зримыми в нашей общей жизни. Он обязан разрушить свою
прежнюю жизнь, поскольку она несла только видимость счастья
и благополучия, но была ложной в своей основе. И не важно, что это
«разрушение» происходит после обретения веры и проверки ее способности преобразить мир (хотя должно было быть наоборот), обретенная
вера именно потому является подлинной и действенной, что она несовместима с прежней спокойной (хотя и наполненной ожиданием) жизнью Александра. Если бы он смалодушничал и принял свою жизнь в ее
прежнем виде, «забыв» все, что произошло, то это бы означало, что он
на самом деле не обрел необходимой ему веры, в этом случае он не смог
бы совершить поступок, спасающий мир. Сжигая свой дом и уходя
в вечное молчание, Александр всего лишь завершает свое деяние, которое обязано быть цельным, для того чтобы быть действенным.
Здесь мы еще раз должны вспомнить тот отрывок из книги Ницше «Так говорил Заратустра», который Тарковский берет в качестве
идейной основы своего фильма. В конце этого отрывка сказано, что
Заратустра должен погибнуть, поскольку он «разбивается о свое слово». Как же может Заратустра погибнуть, если он провозглашает вечное возвращение «к той же самой жизни»?
Парадокс гибели Заратустры разрешается, если мы увидим в рассматриваемом отрывке книги Ницше два очень разных образа Заратустры. Один Заратустра — это «прошлый» Заратустра, который еще
не преодолел в себе ужас вечного возвращения и который бесконечно
возвращается в мир, чтобы возвещать людям о сверхчеловеке. Сверхчеловек — это его надежда и опора, но он все еще остается далеким идеалом, поэтому вечное возвращение все еще незыблемо в своей повторяемости «того же самого». Но здесь ж есть и образ нового Заратустры, который окончательно преодолел ужас вечного возвращения и стал выше
человека, раскрыл в себе сверхчеловеческую глубину. Как мы уже
говорили, это означает, что Заратустра становится свободной «причиной» вечного возвращения и может изменить его ход, «отменить» его
448
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
замкнутость на абсолютном и неотвратимом повторении «того же самого», раскрепостить мир, сделать его свободным и непредсказуемым. Но
теперь к этому утверждению нужно сделать важную поправку.
Даже раскрыв в себе сверхчеловеческую глубину, Заратустра не
стал сверхчеловеком в полном смысле этого слова: поэтому он и не
говорит о себе как о сверхчеловеке, даже преодолев ужас вечного возвращения, хотя намекает на это через образ пастуха. Ведь «сверхчеловек» — это не отдельный человек, это скорее обозначение той эпохи
в истории человечества, когда все люди станут другими, станут «тем,
что они есть», по выражению Заратустры, выявят в себе «божественные», сверхчеловеческие потенции и совершенно по-другому выстроят свои отношения с миром и друг с другом. Эта эпоха еще впереди,
еще далеко он нас. Поэтому Заратустра еще не сверхчеловек, а только
провозвестник сверхчеловека, «первенец» на пути к сверхчеловеку.
Но это и определяет его трагическую судьбу: «О братья мои, кто первенец, тот приносится всегда в жертву. А мы теперь первенцы. / Мы все
истекаем кровью на тайных жертвенниках, мы все горим и жаримся
в честь старых идолов <...> В нас самих живет еще он, старый идольский жрец, он жарит наше лучшее себе на пир. Ах, братья мои, как
первенцам не быть жертвою! / Но так хочет этого наш род; и я люблю
тех, кто не ищет сберечь себя. Погибающих люблю я всею своей любовью: ибо переходят они на ту сторону»29.
Ницшевский Заратустра — это новый Христос, который несет
людям учение об их грядущем совершенстве, или, еще точнее, это
подлинный Христос, тот Христос, который принес людям великое
пророчество, но был забыт в господствующей церкви, навязавшей
нам его абсолютно ложный образ — образ «Бога-искупителя». Восстанавливая подлинного Христа (в «Так говорил Заратустра» и «Антихристе»), Ницше прекрасно понимает неизбежность его жертвы.
Ведь подлинный Христос не обещает людям никакого «дарового» рая,
обеспеченного могуществом Бога, наоборот, требует от людей решительных усилий для того, чтобы войти в то «Царствие небесное», которое он уже принес с собой и которое рядом с каждым из нас, точнее
одновременно и в каждом из нас и в мире вне нас, хотя мы и не замечаем его30. Мы слишком привязаны к ложным формам нашей жизни,
29 Ницше Ф. Так говорил Заратустра. С. 144.
30 Об этом выразительно говорит сам Христос в евангельском тексте, который,
вероятно, является самым древним и безусловно подлинным христианским текстом:
«Если те, которые ведут вас, говорят вам: Смотрите, царствие в небе! — тогда птицы небесные опередят вас. Если они говорят вам, что оно — в море, тогда
рыбы опередят вас. Но царствие внутри вас и вне вас.
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы — дети
Отца живого. Если же вы не познаете себя, тогда вы в бедности и вы — бедность»
(Евангелие от Фомы, 2-3.).
449
ГЛАВА VII «Жертвоприношение»: великая надежда Заратустры
ставим себя в зависимость от них и тем самым лишаем себя благодатной свободы. Жертва Христа, «первенца», необходима для разоблачения ложности этой старой жизни, она должна стать примером
для каждого человека — каждый должен осознать ложность своего
обыденного существования и изменить его — пожертвовав ради этого
всем тем, что он ценил раньше.
В жертвенном деянии Александра в очередной раз, как и во всех
предшествующих фильмах Тарковского, мы видим отражение все
того же жертвенного пути Иисуса Христа. Он спасает мир от гибели, но это только начало его дела и его призвания. Как новый пророк
и Мессия, открывающий людям новый Путь, новую религиозную истину, требующую перерождения, он должен дать радикальный пример такого перерождения, отказа от прежней жизни. И он дает его
в самой трагической форме.
Жертвоприношение Александра встает в один ряд с жертвенными деяниями двух главных героев предшествующего фильма Тарковского. Огонь, охватывающий дом Александра, — той же «природы»,
что огонь, сжигающий Доменико, и огонь свечи, которую проносит
через бассейн Андрей Горчаков. Всё это — искры одного и того же
очищающего пламени, уничтожающего все ложное и неистинное
в нашей жизни, все то, что охраняет и поддерживает покой и уют обособленного существования.
В последнем эпизоде фильма режиссер возвращает нас в то место
на берегу моря, где происходил первый эпизод. Маленький мальчик,
сын Александра, медленно идет по дороге с огромным ведром воды,
а поодаль стоит еще одно такое же ведро; мальчик по очереди переносит эти ведра по дороге в сторону сухого дерева, которое они посадили накануне вечером вместе с отцом. В тот момент, когда мальчик,
наконец, добирается вместе со своим ведрами до дерева, на дороге
появляется машина скорой помощи, увозящая Александра. Одновременно сюда поспевает служанка Мария, догнавшая машину, поскольку поехала от горящего дома напрямик через луга. Она стоит около
дороги как свидетель последней встречи отца и сына.
Проследив за проехавшей мимо него машиной, мальчик выливает
воду из ведер под дерево, а затем ложится рядом с ним и начинает говорить, хотя раньше Виктор утверждал, что он сможет говорить только через неделю: «В начале было Слово; почему так, папа?» Повторяя
то, чему его учил отец, произнося фразу, которая задает высшее значение мыслей, слов и поступков человека в мире и его главную цель —
поиски божественного основания своей жизни и всего существующего — мальчик как бы обозначает начало своего по-настоящему самостоятельного бытия, начало своей собственной судьбы. Он хорошо усвоил все самое важное из того, что рассказывал ему отец. Он уже об¬
450
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
ладает настойчивостью, восхищавшей Александра в истории монаха
Иоанна Колова, в нем эта настойчивость уже соединилась с верой —
с верой в возможность преображения земной действительности наперекор «здравому смыслу» и «порядку». Поливая сухое дерево, как
это делал Иоанн в легенде, мальчик демонстрирует то мужественное
безрассудство, которое только и может быть стержнем настоящей
веры и началом поистине великих свершений в нашем мире. Святую
истину, обретенную Александром в долгих и мучительных исканиях,
мальчик принял от отца, чтобы пронести через всю жизнь и превратить в реальные дела, способные сдвинуть мир с его незыблемого основания, называемого «Необходимостью».
Тарковский посвятил свой фильм сыну Андрюше «с надеждой
и верой», но за этим личным посвящением угадывается не высказанное явно, но ясно обозначенное всем его творчеством посвящение —
обращенное ко всем сыновьям и дочерям всех отцов и матерей.
В преемственности надежды и веры, соединяющей детей с родителями, утверждает Тарковский, — самый верный путь к прочному будущему для всех и самый верный способ исполнения учительского долга, к которому причастен и призван каждый из нас.
В начале фильма, в его первых кадрах, перед нами проплывали
фрагменты картины Леонардо; в самом конце этого первого эпизода
появилось дерево с черной кроной, олицетворявшее начало смерти,
поселившееся в самом сердце живого бытия. Заканчивается фильм
кадрами, на которых в плавном движении вверх перед нами предстает
сухое дерево посаженное Александром и его сыном. Живое дерево на
полотне Леонардо демонстрировало господство темных сил в нашем
мире, но, наперекор этому, мертвое дерево в финале является знаком
той безрассудной надежды и той веры, которые должны стать основой
победы божественного начала, начала жизни в земной действительности. Крона дерева на полотне Леонардо была зловеще черной, а крона сухого дерева на фоне залитого солнцем, сияющего моря начинает
мерцать, светиться, едва заметно трепетать, словно бы то преображение, о котором мечтают все герои Тарковского, надежда на которое
живет в глубине души каждого из нас, уже началось, словно бы установленное от века равновесие жизни и смерти, наконец, нарушилось,
и смерть стала отступать под натиском жизни, и близится то время,
о котором говорилось в начале сценарного варианта «Зеркала» —
когда «земля поднимется, и гроб выйдет из могилы, и откроется
крышка, и люди отойдут в оцепенении, и слезы вернутся обратно».
В первом своем фильме, в «Ивановом детстве», задавая главную
тему своего творчества, Тарковский подчеркивал глубокую трагедию человеческого стремления к совершенству, к вечной жизни.
В оптимистическом, светлом финале фильма, где Иван в вечном из¬
451
ГЛАВА VII
«Жертвоприношение»: великая надежда Заратустры
мерении бытия обретал, наконец, свое утраченное детство, последние
кадры показывали черное, сожженное дерево; это был мрачный символ смерти, распространившей свою власть даже на сферу вечности.
В фильме, подводящем итог творческим исканиям режиссера, ощущение безысходности и трагичности человеческого существования доводится до последней грани, когда, кажется, уже не остается никаких
сил не только для борьбы за совершенство, но даже для самой жизни.
Но в завершение фильма мы видим сухое дерево, которое охвачено
светлым ореолом, мерцает в неземном свете, побеждающем смерть
и преображающем несовершенное бытие. Как и его великие предшественники, составившие славу русской культуры, Тарковский убежден, что только из самой глубокой бездны, из самого глухого тупика
безысходности открывается путь к высотам настоящих свершений,
силы для которых есть у каждого из нас и которые возможны только
через нас самих — через усилие истинной веры, веры в божественное предназначение человека.
452
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕЛИГИОЗНЫЙ МЫСЛИТЕЛЬ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Религиозный мыслитель
Для меня чрезвычайное значение имеют
русские культурные традиции, идущие от Достоевского...
Андрей Тарковский. Запечатленное время. Глава 7
Мы живем в эпоху радикального духовного кризиса. Цивилизация, достигшая невиданного материального могущества, стремительно утрачивает понимание того, что выше материальных ценностей
есть что-то еще, определяющее бытие человека. Этот кризис начался
давно, и его глубинной причиной была утрата европейской культурой
своих религиозных, христианских оснований. В русской культуре
XIX — начала XX в. эта тема была одной из важнейших, однако большевистская революция и долгая эпоха коммунистического правления
в России пресекли эту традицию. В наше время очень много говориться о возрождении великой традиции русской религиозной философии, однако все попытки буквального ее возрождения выглядят достаточно неубедительно и искусственно. Невозможно дважды войти
в одну и ту же реку. Мы живем в эпоху, когда стремление серьезно
и свободно говорить о религиозных проблемах выглядит страшным
анахронизмом, и в этом виновато не только сформировавшееся в течении последнего столетия потребительское общество, не желающее
ничего знать о высшем предназначении человека, но и христианская
церковь, которая давно уже не несет в себе ни подлинной духовности,
ни подлинной религиозности.
Во второй половине XX в. в России по-настоящему глубоко и откровенно ставить проблемы духовного и религиозного развития цивилизации могли лишь немногие по-настоящему великие мыслители
и художники. И даже в большей степени художники, поскольку сфера
философской мысли находилась под почти полным диктатом марксизма. Андрей Тарковский стоит одним из первых в ряду таких художников, причем он не просто использовал в своем творчестве отдельные
аспекты религиозных представлений, но сумел в художественной
форме создать очень целостное религиозно-философское мировоззрение, которое вобрало в себя достижения русской и европейской
культуры последних полутора столетий.
Тарковский всю жизнь живо интересовался историей философской и религиозной мысли и достаточно хорошо разбирался в ней.
В его творчестве можно найти самые разные идейные тенденции
и влияния, причем ему удалось удивительно органично соединить их
в своем творчестве, не впадая при этом в чрезмерное пристрастие
к «модным» тенденциям эпохи. Озарения христианских мистиков
в его творчестве совершенно естественно «рифмуются» с самыми радикальными концепциями А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, восточные
мотивы (буддизм, ведантизм, даосизм) — с идеями западного атеи¬
460
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
стического экзистенциализма, современные оккультные и мистические учения (от Е. Блаватской и Р. Штейнера до К. Кастанеды) —
с вполне рациональными философскими представлениями И. Канта,
Вл. Соловьева и А. Бергсона.
Но, конечно, тем «стержнем», на который Тарковский «нанизывал» все это многообразие идей была русская религиозная философия, в центре которой находится Ф. Достоевский — ведь именно
он придал нашей национальной философской традиции подлинную
оригинальность и глубину. Приверженность этой традиции объясняет интеллектуальную «всеядность» Тарковского; как известно, Достоевский выделил эту черту в качестве определяющей для русского
национального характера, называя ее «всемирной отзывчивостью»
русской культуры. Соединяя в своем творчестве самые различные
влияния, Тарковский идет по тому же пути, по которому шли великие русские мыслители во главе с Достоевским. Хотя можно добавить, что стремление к определенному универсализму, в частности,
к синтезу традиций европейской философии с идеями великих восточных систем было характерно и для западной философии в эпоху ее
неклассического развития, начавшегося в середине XIX в. Это ярко
проявилось уже в творчестве родоначальников новой традиции: например, Шопенгауэр неоднократно подчеркивал близость своих идей
к буддийской философии, а Ницше сделал главным выразителем своего учения восточного пророка Заратустру.
Ясно, что при такой сложности истоков религиозного мировоззрения Тарковского требуется чрезвычайно широкая философская эрудиция для того, чтобы правильно оценить значение различных слагаемых внутри этого мировоззрения. К сожалению, характерный для
современной эпохи упадок философской культуры и философского
образования наглядно сказывается в исследовательской литературе
о Тарковском. Мало кто из тех, кто берется анализировать творчество режиссера обладают познаниями, сравнимыми с теми, которыми
обладал сам Тарковский. Понятно, что в таких условиях невозможно получить сколько-нибудь адекватной и целостной оценки самого
главного слагаемого его творчества — его религиозно-философского
учения. Каждый видит в фильмах Тарковского только тот идейный
аспект, который известен ему самому, и остается глух к совершенно
очевидным идеям из неизвестной ему области философских и религиозных представлений1. Наиболее часто это происходит с «восточными
1 Особенно наивными выглядят работы авторов, которые бояться сделать
хотя бы шаг за пределы церковного канона, они демонстрируют удивительное
умение не видеть самого главного в фильмах режиссера, см., например, книгу:
Салъвестрони С. Фильмы Андрея Тарковского и русская духовная культура.
М., 2007.
461
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Религиозный мыслитель
мотивами» в фильмах Тарковского2. Они выразительны, бросаются
в глаза каждому, хорошо подкрепляются его теоретическими суждениями о превосходстве Востока над Западом, и поэтому позволяют легко сделать претендующий на «оригинальность» вывод о своеобразии
религиозного мировоззрения кинорежиссера. Однако по этому поводу уже было справедливо замечено, что «Восток» Тарковского — это
достаточно известный «западный» Восток, который есть, например,
у Г. Гессе, Дж. Сэлинджера и у многих других западных художников
XX в., но который имеет мало общего с аутентичной восточной культурой и восточным мировоззрением. «Восток» в этом контексте —
это некоторый идеал, некая мечта об утраченной цельности бытия,
и понятна она только изнутри западной культурной парадигмы. По
всем главным своим принципам мировоззрение Тарковского принадлежит, конечно же, к западным (русским и европейским) культурным
и философским традициям и развивает именно эти традиции.
Еще одним чрезвычайно распространенным стереотипом в отношении творчества Тарковского (взаимосвязанным с его мнимой
ориентацией на восточную философию) является утверждение о том,
что он отвергал любые формы рациональности в пользу некоего абсолютно невыразимого мистического, интуитивного постижения мира
и человека. Даже при учете того, что Тарковский кое-где прямо вы-
2 Например, П. Волкова в своем обзоре творчества Тарковского пишет по поводу образа Океана в фильме «Солярис»: «Океан Андрея Тарковского одновременно "ВСЕ" Даосов. Абсолютная родящая субстанция, зеркало мира, не имеющая
формы праматерия и вне числа» (Волкова П. Д. Стать самим собой // Тарковский А. А. Архивы. Документы. Воспоминания. М., 2002. С. 52). При чем тут даосы? Подразумеваемая здесь концепция («ВСЁ») вовсе не является характерным
признаком даосизма, под именем «Всеединства» соответствующее представление
является неотъемлемым элементом мистической традиции в европейской философии от Платона и неоплатонизма до Николая Кузанского, Шеллинга, Шопенгауэра, Вл.Соловьева, Бергсона и т.д. Не говоря уже о том, что даосский Абсолют
не может быть дан ни чувственному восприятию, ни рациональному мышлению,
а Океан Соляриса мы вполне зримо наблюдаем в фильме Тарковского.
До совершенной нелепости доходит Н.Болдырев, который утверждает: «Как
художник Тарковский был чистым дзэнцем, чье время и пространство до глубин промыто светом» (Болдырев Н. Жертвоприношение Андрея Тарковского.
С. 362). «Дзэн-буддизм» Тарковского автор видит в осознании священного характера всех вещей, плотского мира, и при этом констатирует наличие неразрешимой антиномии в душе художника между этим представлением и «христианским
мифом о плоти, пленившей дух и насилующей его» (там же). При таком уровне
понимания дзэн-буддизма и христианства вряд ли можно рассчитывать на какое-
то адекватное понимание философии Тарковского. Впрочем, книгу Н.Болдырева
трудно счесть серьезным исследованием творчества режиссера, она написана
в духе модного ныне жанра «ЖЗЛ», автор страницами переписывает дневники
Тарковского, воспоминания знавших его людей и в очередной раз воспроизводит
уже достаточно известные подробности его биографии.
462
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
сказывается в таком духе о своем творчестве, можно уверенно утверждать, что это ничего общего не имеет с действительностью. Такого рода высказывания содержатся в основном в интервью, когда собеседники Тарковского слишком настойчиво требовали «расшифровки»
замысла того или иного фильма. В этом случае режиссер просто не
хотел демонстрировать вполне рациональную структуру своих произведений, которая сама по себе, в отрыве от сложного идейного смысла
фильмов, могла быть понята очень превратно.
В самом начале своего главного теоретического труда Тарковский, рассматривая принципиальный вопрос о задачах искусства,
прямо говорит о том, что искусство нужно для того, чтобы человек
смог по мере возможности овладеть «абсолютной истиной».
«С того самого момента, когда Ева съела яблоко с древа познания,
человечество было обречено на бесконечное стремление к истине. <...>
Так вышло, что человек, этот “венец природы”, явился на Землю
для того, чтобы познать, для чего именно он явился. Или был послан.
А при помощи человека Создатель узнает самое себя Этот путь принято называть эволюцией, путь, который сопровождается мучительным
процессом человеческого самопознания. <...>
Так что искусство, как и наука, является способом освоения мира,
орудием его познания на пути движения человека к так называемой
“абсолютной истине”»3.
Далее Тарковский подчеркивает принципиальное отличие искусства как способа познания мира и человека от науки, но совершенно
очевидно, что он не хочет абсолютно противопоставлять эти формы
познания. Обобщая все очень разные высказывания на этот счет самого режиссера и героев его фильмов, можно сказать, что Тарковский
осуждает не саму научную рациональность как таковую, а ее обособление и самопревознесение в качестве единственной формы отношения к миру. Здесь он, как и во многих других случаях, следует по пути,
давно освоенном европейской философией. Еще Николай Кузанский
в своем известном труде «Об ученом незнании» говорил о двух способностях познания, доступных человеку: один — это обычная научная рациональность, оперирующая конечными структурами и направленная на природу вокруг человека, вторая — высшая способность
постижения Абсолюта, способность схватывания бесконечного (это
Николай и называет «ученым незнанием»). Обе способности неразрывно связаны между собой и первая должна основываться на второй,
которая реализует себя в философии и художественном творчестве.
Такое понимание структуры человеческого познания было возрождено позже в немецкой философии; его можно найти у Шеллинга,
Фихте и Гегеля, а затем в особенно ясной форме у Шопенгауэра, Ниц¬
3 Тарковский А. А. Запечатленное время. С. 132-133.
463
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Религиозный мыслитель
ше и Бергсона. Оно было чрезвычайно популярно и в русской философии, в качестве примера можно указать на «интуитивизм» H. Лос-
ского и С. Франка, опирающийся на идеи Бергсона. Тарковский, вне
всяких сомнений, находится в русле этой же традиции, которая, к сожалению, в современной философии была оттеснена на второй план
воинствующим научным позитивизмом, не признающим ни в мире ни
в человеке ничего абсолютного и бесконечного и, соответственно, отрицающим необходимость особых (высших!) форм познания наряду
с конечной научной рациональностью.
В этом смысле Тарковский очень далек от того интуитивно-мистического «безмыслия», которое ему иногда приписывают; его произведения обладают очень точной и рациональной структурой, хотя
гениальность Тарковского-художника в том и заключается, что вполне рациональное построение его фильмов служит основанием для
выведения зрителей в сферу сверхрациональных, абсолютных истин
о человеке, мире и Боге. Эти истины органично явлены в тех образах,
которые создает воображение художника, но это не означает, что их
нельзя выразить более или менее адекватно в рациональной форме.
Тарковский никогда не отрицал связи искусства и философии, более
того, считал свое творчество глубоко философским по своей сути.
А для европейской философии двух последних столетий (имея в виду,
конечно, ее метафизическое, а не позитивистское направление) выражение абсолютной, сверхрациональной истины было главной целью,
которую она успешно реализовала в лице своих самых ярких представителей. Это непосредственно объясняет замысел нашей работы —
с помощью идей русской и западной философии XIX-XX вв. выразить
основные составляющие мировоззрения великого художника XX в.
В своем настойчивом стремлении к абсолютной истине и абсолютной художественной выразительности Тарковский выглядит глубоко «несовременным» человеком, словно пришедшим из другой эпохи в наше кризисное время. При этом совсем нетрудно понять, из какой эпохи он черпал свои вдохновения. Это, конечно, эпоха Возрождения, которая до сих пор остается не до конца понятой, загадочной
в своем неуклонном творческом «горении». Два самых известных и популярных фильма Тарковского — «Страсти по Андрею» и «Зеркало»,
несут на себе очевидную печать идей и образов Возрождения, сама их
художественная гармоничность делает их в чем-то подобными произведениям той великой эпохи. В то же время в двух других фильмах из
главной «тетралогии» Тарковского — в «Солярисе» и «Сталкере» —
возрожденческая гармония образов дополнена острым сознанием экзистенциальной трагедии человека и всего бытия.
Нам кажется, что такое явное тяготение Тарковского к Возрождению, к эпохе, которая, как может показаться, давно «пройдена» и пере-
464
И. Евлампиев Художественная философия Андрея Тарковского
жита европейской культурой, не только не является случайным, но связан с самым важным слагаемым его художественного и философского
мировоззрения. Но для того, чтобы понять сущностную связь творчества художника XX в. с этой давней эпохой, нужно увидеть Возрождение вне тех ложных стереотипов, которые, к сожалению, продолжают
безраздельно господствовать в нашем историческом сознании.
Согласно общепринятому мнению, суть эпохи Возрождения — это
возвращение к античному идеалу красоты, т.е. отказ от христианства
ради языческого любования миром. В рамках такого исторического стереотипа Возрождение очень часто считается точкой отсчета для всех
секулярных и антирелигиозных тенденций последующей европейской
истории и, значит, истоком современного духовного кризиса. Так оценивали Возрождение очень многие историки и философы и на Западе
и в России; например, так полагали А. Лосев и поздний И. Ильин.
Однако существует и совершенно иная точка зрения, высказанная еще в 70-80 гг. выдающимся русским философом, одним из самых глубоких религиозных мыслителей России конца XX в., Владимиром Бибихиным. Будучи великолепным знатоком культуры и философии Возрождения (ему принадлежат классические переводы на
русский язык сочинений Петрарки и Николая Кузанского), Бибихин
убедительно доказывал, что подлинной целью гуманистов, создававших идеологию Возрождения (первым из них Бибихин считал Данте),
было не возвращение «музейной» античности, а возрождение подлинного, живого христианства.
Являясь идейным наследником Ф. Ницше, Вл. Соловьева и В. Розанова, Бибихин продолжает и развивает их критику исторического
христианства; он признает, что начиная с первых веков своего существования церковь изменила заветам своего основателя, Иисуса Христа. «Христианская церковь стоит у истоков всего исторического зла
современного нигилизма, — констатирует Бибихин, — хотя оно и не
единственный виновник. Главная ошибка церкви в том, что она отодвинула Бога в слишком трансцендентную даль. Если Бога нет, то все
позволено. Но еще вернее будет сказать, что если Бог неприступен
в своей вечности, то на долю человека остается холодное одиночество. <...> Важная тема христианской догматики, первородная греховность человека, усилиями поколений проповедников укоренилась
в массовом сознании в виде обреченного чувства, что все дела людей
скрывают в себе роковую гниль. Человек заранее пойман в сети зла,
и всё что делается на земле заранее осуждено уже тем, что бесконечно удалено от трансцендентного Бога»4.
Значение Возрождения состоит в том, что на фоне прогрессирующего духовного паралича церкви, гуманисты пытались возродить ре¬
4 Бибихин В. В. Новый ренессанс. М., 1998. С. 219-220.
465
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Религиозный мыслитель
лигиозное чувство в той форме, которая была дана самим Иисусом —
в форме признания божественной бесконечности человека, выражающейся в его столь же бесконечном и абсолютном культурном
творчестве (об этом мы уже подробно говорили в главе 4). Как пишет Бибихин, «через все ступени отношений между ренессансной
культурой и церковью неизменной проходит уверенность поэта, художника, ученого, что вдохновение, самопознание, духовное усилие
лучше отвечают смыслу христианства чем обряд, ритуал, культ, т. е.
уверенность, что христианство в своей сути не религия»5.
Но, как констатирует Бибихин, Возрождение не удалось. Контрреформация и Реформация совместными усилиями вернули человека в прежнее состояние; к концу XVI в., как гениально выразился
Ж. Мишле, «люди возвращаются в свои тюрьмы — тюрьмы-церкви,
тюрьмы-государства, тюрьмы-войны»6. Тем не менее, даже не удавшись как новый путь культурного развития, Возрождение осталось
образцом жизни в соответствии с высшими религиозными и духовными идеалами. И все, кто наперекор господствующей традиции пытались возродить в себе и в окружающих религиозное чувство, пытались осознать себя причастными творящему могуществу Бога, неизменно обращались к Возрождению, как к эпохе, где единственный
раз в истории состоялось полное раскрытие сущности человека.
Поэтому так притягивало Возрождение Достоевского, поэтому оно
играло такую огромную роль в творчестве Тарковского.
Самого Тарковского с полным правом можно назвать «возрожденческим человеком», человеком того типа, представителей которого
в европейской истории мы знаем поименно; это те люди, который были
способны воспринять как свою собственную трагедию трагическую
судьбу европейской цивилизации, лишенной своих религиозных корней
и неуклонно двигающуюся к гибели. И с героическим безрассудством,
характерных только для титанов Возрождения и для тех, кто видел
в Возрождении свой высший идеал (это и немецкие романтики, и Ницше и Достоевский), он пытался своим творчеством направить цивилизацию на новый, более правильный путь. В этом смысле его художественное творчество было, конечно, больше, чем просто творчество, и даже
больше, чем жизнь — это было служение тем абсолютным ценностям,
которые он, в отличие от людей, погруженных в обыденность, все время
видел в качестве основания всего нашего человеческого существования. И если мы все еще смотрим его фильмы, если они все еще вовлекают нас в свой особый бытийный ритм, значит, и у нас остается возможность прикоснуться к этим абсолютным ценностям, остается надежда
на то, что когда-нибудь они вернуться в нашу жизнь и нашу культуру.
5 Там же. С. 358.
6 Там же. С. 405.
466
ФИЛЬМОГРАФИЯ
«КАТОК И СКРИПКА» (46 минут). «Мосфильм», 1961.
Авторы сценария — А. Кончаловский, А. Тарковский; оператор —
В. Юсов; художник — С. Агоян; композитор — В. Овчинников.
В ролях: И. Фоменко — Саша; В. Знаменский — Сергей; Н. Архангельская — девушка.
В эпизодах: М. Аджубей, Ю. Бруссер, С. Борисов, С. Витос-
лавский, С. Ильин, К. Казарев, Г. Клячковский, И. Коровиков,
Ж. Федченко, Т. Прохорова, А. Максимова, Л. Семенова, Г. Жданова,
М. Фигнер.
«ИВАНОВО ДЕТСТВО» (97 минут). «Мосфильм, 1962.
Автор сценария — В. Богомолов, М. Папава (по мотивам рассказа
В. Богомолова «Иван»); оператор — В. Юсов; художник — Е. Черняев; композитор — В. Овчинников.
В ролях: Коля Бурляев — Иван; В. Зубков — Холин; Е. Жариков —
Гальцев; С. Крылов — Катасонов; Н. Гринько — Грязнов; Д. Милю-
тенко — старик; В. Малявина — Маша; И. Тарковская — мать Ивана.
В эпизодах: А. Кончаловский, И. Савкин, В. Маренков, Вера Ми-
турич.
«АНДРЕЙ РУБЛЕВ» («СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ») (1-ая серия
86 минут, 2-ая серия 99 минут). «Мосфильм», 1966-1971.
Авторы сценария — А. Кончаловский, А. Тарковский; оператор —
В. Юсов; художник — Е. Черняев при участии И. Новодережкина
и С. Воронкова; композитор — В. Овчинников.
В ролях: А. Солоницын — Андрей Рублев; И. Лапиков — Кирилл;
Н. Гринько — Даниил Черный; Н. Сергеев — Феофан Грек; И. Рауш —
Дурочка; Н. Бурляев — Бориска; Ю. Назаров — Великий князь, Малый князь; Ю. Никулин; Р. Быков; Н. Граббе; М. Кононов; С. Крылов;
Б. Бейшеналиев; Б. Матысик; А. Обухов; Володя Титов.
В эпизодах: Н. Глазков, К. Александров, С. Бардин, И. Быков,
Г. Борисовский, В. Васильев, 3. Воркуль, А. Титов, В. Волков, И. Мирошниченко, Т. Огородникова, Н. Радолицкая, Н. Кутузов, Д. Орловский, В. Гуськов, И. Донской, И. Рыскулов, Т. Макаров, Г. Сачевко,
Н. Снегина, Г. Покорский, А. Умуралиев, Слава Царев.
«СОЛЯРИС» (1-ая серия 79 минут, 2-ая серия 88 минут). « Мосфильм», 1972.
467
Авторы сценария — Ф. Горенштейн, А. Тарковский (по одноименному роману С. Лема); оператор — В. Юсов; художник — М. Ромадин; композитор — Э. Артемьев.
В фильме использована фа-минорная хоральная прелюдия
И.-С. Баха.
В ролях: Д. Банионис — Крис Кельвин; Н. Бондарчук — Хари;
Ю. Ярвет — Снаут; В. Дворжецкий — Бертон; Н. Гринько —
отец Криса; А. Солоницын — Сарториус; С. Саркисян — Гибарян.
В эпизодах: О. Барнет, В. Кердимун, О. Кизилов, Т. Малых,
А. Мишарин, Б. Оганесян, Т. Огородникова, Ю. Семенов, В. Стацин-
ский, В. Суменова, Г. Тейх.
«ЗЕРКАЛО» (108 минут). «Мосфильм», 1974.
Авторы сценария — А. Мишарин, А. Тарковский; оператор —
Г. Рерберг; художник — Н. Двигубский; композитор — Э. Артемьев.
В фильме использована музыка И.-С. Баха, Перголези, Перселла.
Стихи Арсения Тарковского в исполнении автора.
В ролях Матери и Натальи — М. Терехова. В ролях: И. Даниль-
цев, Л. Тарковская, А. Демидова, А. Солоницын, Н. Гринько, Ю. Назаров, О. Янковский, Т. Огородникова, Ф. Янковский, Ю. Свентиков,
Т. Решетникова, Э. Дель Боске, Л. Корреччер, А. Гутьеррес, Д. Гарсия, Т. Памес, Тереза и Татьяна Дель Боске.
Текст от автора читает И. Смоктуновский.
«СТАЛКЕР» (1-ая серия 65 минут, 2-ая серия 96 минут). « Мосфильм», 1979.
Авторы сценария — А. Стругацкий и Б. Стругацкий (по мотивам повести «Пикник на обочине»); оператор — А. Княжинский;
художник — А. Тарковский; композитор — Э. Артемьев. Стихи —
Ф. И. Тютчева и Арсения Тарковского.
В ролях: А. Кайдановский — Сталкер; А. Фрейндлих —
жена Сталкера; А. Солоницын — Писатель; Н. Гринько — Профессор.
В эпизодах: Наташа Абрамова, Ф. Юрна, Е. Костин, Р. Рэнди.
«ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВИЯ» (65 минут). Производство «Джениус» С. Р. Л. (Италия), 1982.
Авторы сценария — Тонино Гуэрра, А. Тарковский; оператор —
Лучано Товоли. Текст А. Тарковского читает Джино Ла Моника.
«НОСТАЛЬГИЯ» (130 минут). Производство «РАИ канал 2», Ренцо Росселлини, Маноло Болоньини для «Опера Фильм» (Италия) при
участии «Совинфильма» (СССР), 1983.
Авторы сценария — А. Тарковский, Тонино Гуэрра; главный опе¬
468
ратор — Джузеппе Ланчи; главный художник — Андреа Кризанти.
В фильме использована музыка Дебюсси, Верди, Вагнера.
В ролях: О. Янковский — Андрей Горчаков, Домициана Джордано — Эуджения; Эрланд Йозефсон — Доменико; Патриция Те-
ренто — жена Горчакова; Лаура Де Марки; Делия Боккардо; Милена Вукотич; Рафаэле Ди Марио; Рате Фурлан; Ливио Галасси.
«ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ» (145 минут). Производство Шведского киноинститута (Стокгольм), «Аргос Фильм С. А.» (Париж) при
участии «Филм Фор Интернейшнл» (Лондон); «Йозефсон и Нюквист
ХБ»; Шведского телевидения СВТ 2; «Сэндрю Филм Театер АБ»
(Стокгольм); при содействии Министерства культуры Франции, 1986.
Продюсер Анна-Лена Вибум.
Автор сценария — А. Тарковский; главный оператор — Свен
Нюквист; главный художник — Анна Асп.
В фильме использована музыка И.-С. Баха, шведская и японская
народная музыка.
В ролях: Эрланд Йозефсон — Александр; Сьюзен Флитвуд — Аделаида; Валери Мерис — Юлия; Аллан Эдвалл — Отто; Гудрун Гис-
ладоттир — Мария; Свен Вольтер — Виктор; Филиппа Францен —
Марта; Томми Чэльквист — Малыш.
469
ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ 5
ВВЕДЕНИЕ. Художник-философ 9
1. Философские истоки 10
2. Проблема времени в кинематографе 18
ГЛАВА I. «Иваново детство»: реквием по человеку. .25
1. Мир снов .26
2. Чудо любви 35
3. Игра Ивана 39
4. Избрание на жертву. .43
ГЛАВА II. «Страсти по Андрею»: философия жертвенности .59
1. Образы земной гармонии 60
2. Первозданная сила любви 67
3. Созерцание и деятельность 76
4. «Обожение» человека и преображение мира 80
5. Человек как источник зла 91
6. Раскрытие вечного бытия 110
7. «Русская» Голгофа 119
8. На пути Иисуса Христа 126
ГЛАВА III. «Зеркало»: личность во времени и в вечности 143
1. Философия времени и вечности 145
2. Проблема «собирания» личности: жизнь через смерть. 150
3. Исток личности героя 162
4. Ад Марии Николаевны 173
5. Посланцы «мира вечности» 181
6. Тайна жизни 191
7. Познание и сотворение себя .201
ГЛАВА IV. «Солярис»: в ожидании Мессии 215
1. Научный разум и тайна человеческой души .216
2. Абсурдное бытие .229
3. Человек как «самооткровение» бытия .236
4. Предстояние перед абсурдным Богом .252
5. Новое религиозное учение .262
6. Вечное возвращение 273
470
ГЛАВА V. «Сталкер»: человек в мире умершего Бога 287
1. Триумф рациональности 288
2. «Хранитель» ветхого бытия 300
3. В поисках Учителя 315
4. Новый Иисус 328
ГЛАВА VI. «Ностальгия»: в преддверии Апокалипсиса 347
1. В поисках своей Зоны 348
2. Послушник благих сил бытия 365
3. Бездомный Бог 382
4. Абсурдная настойчивость веры 388
ГЛАВА VII. «Жертвоприношение»: великая надежда Заратустры 401
1. Предчувствие катастрофы .402
2. В поисках веры .410
3. Последняя надежда .418
4. Ужас и радость вечного возвращения .424
5. Рождение новой реальности .434
6. Жертва ради будущего .442
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Религиозный мыслитель. 459
Фильмография .467
471
Научное издание
Игорь Иванович Евлампиев
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ
АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО
Второе издание,
переработанное и дополненное
Главный редактор: В. В. Постован
Ответственный редактор: О. Ю. Ялалетдинова
Оформление и верстка: И. X. Гизетдинов
Технический редактор А. С. Савченко
Художественное оформление обложки 3. Ш. Кафиева
Корректор И. В. Исаенко
Подготовка иллюстраций:
ШШШШ р мит
•ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР*
г. Уфа, ул. Чудинова, 14,
тел. 8 (347) 266-82-12
Переплетные работы выполнены
в Государственном унитарном предприятии Республики Башкортостан
Уфимский полиграфкомбинат
www.upkrb.ru
Печать с готового оригинал-макета 15.03.2012.
Формат 60x84/16. Уел. печ. л. 27,52. Тираж 1000 экз. Заказ № 12-2
Издательство "ARC"
450083, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 35
www.arc-press.ru
E-mail: arc-books@mail.ru
тел. 8 (917) 734-67-11