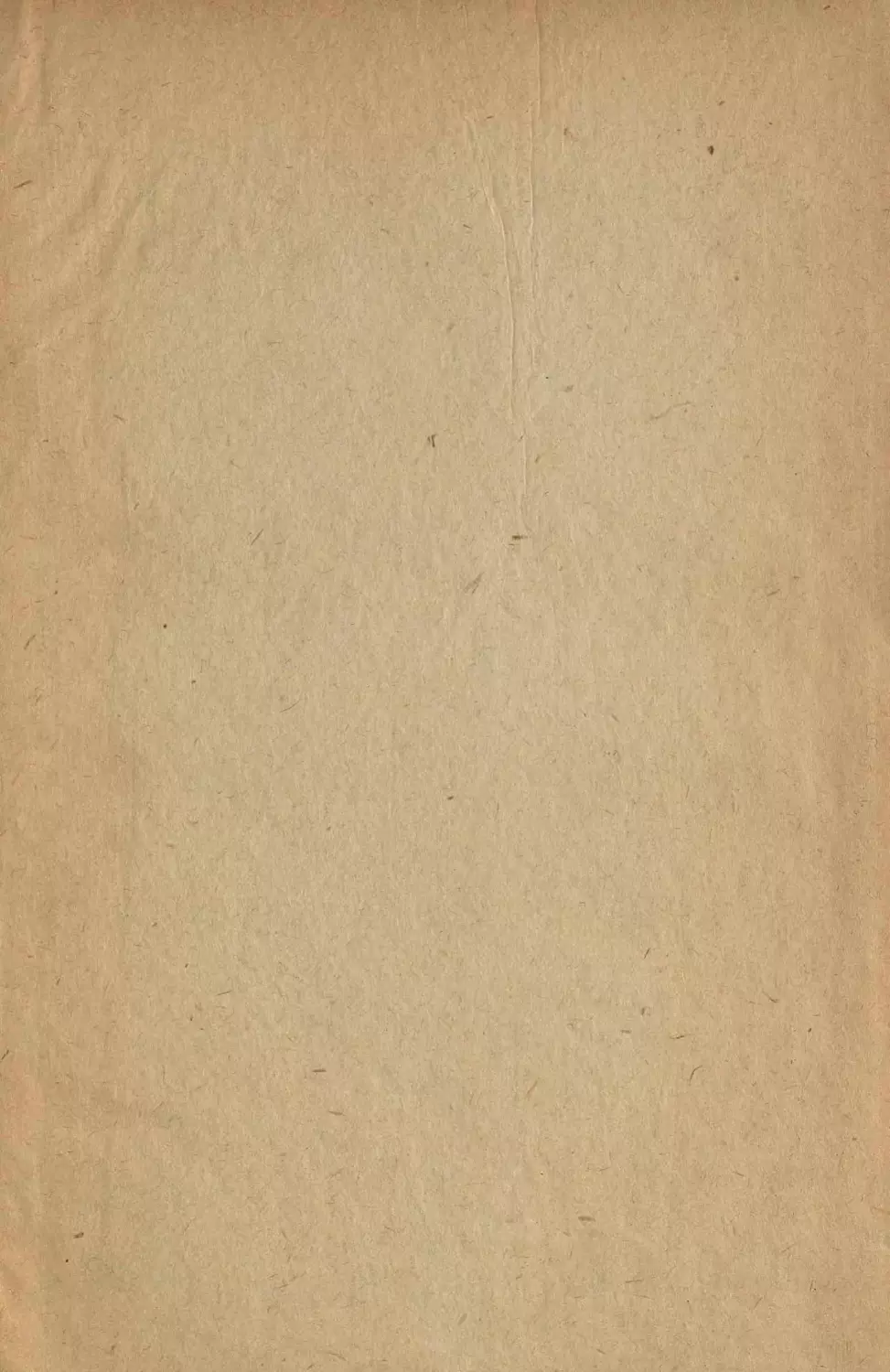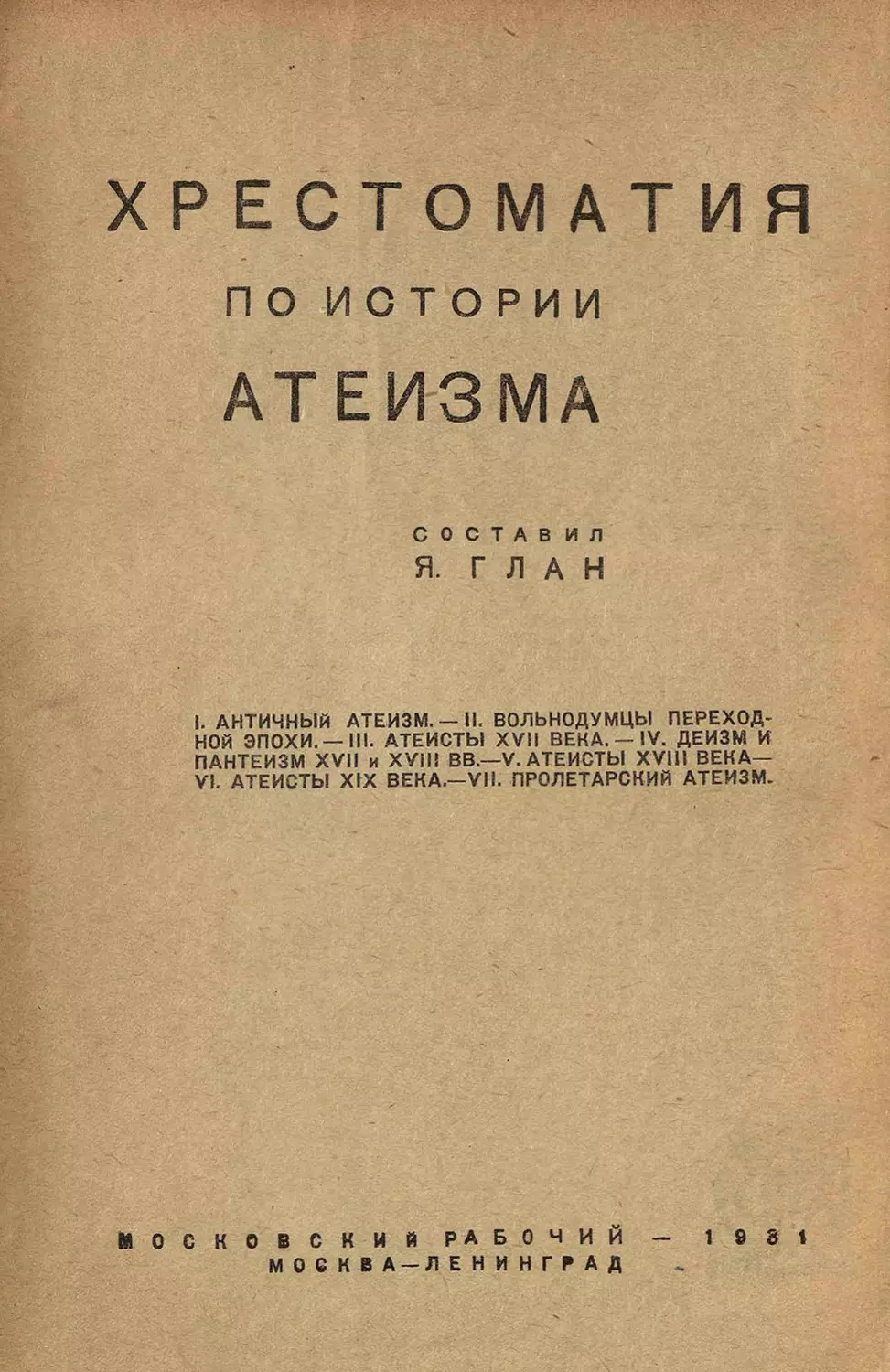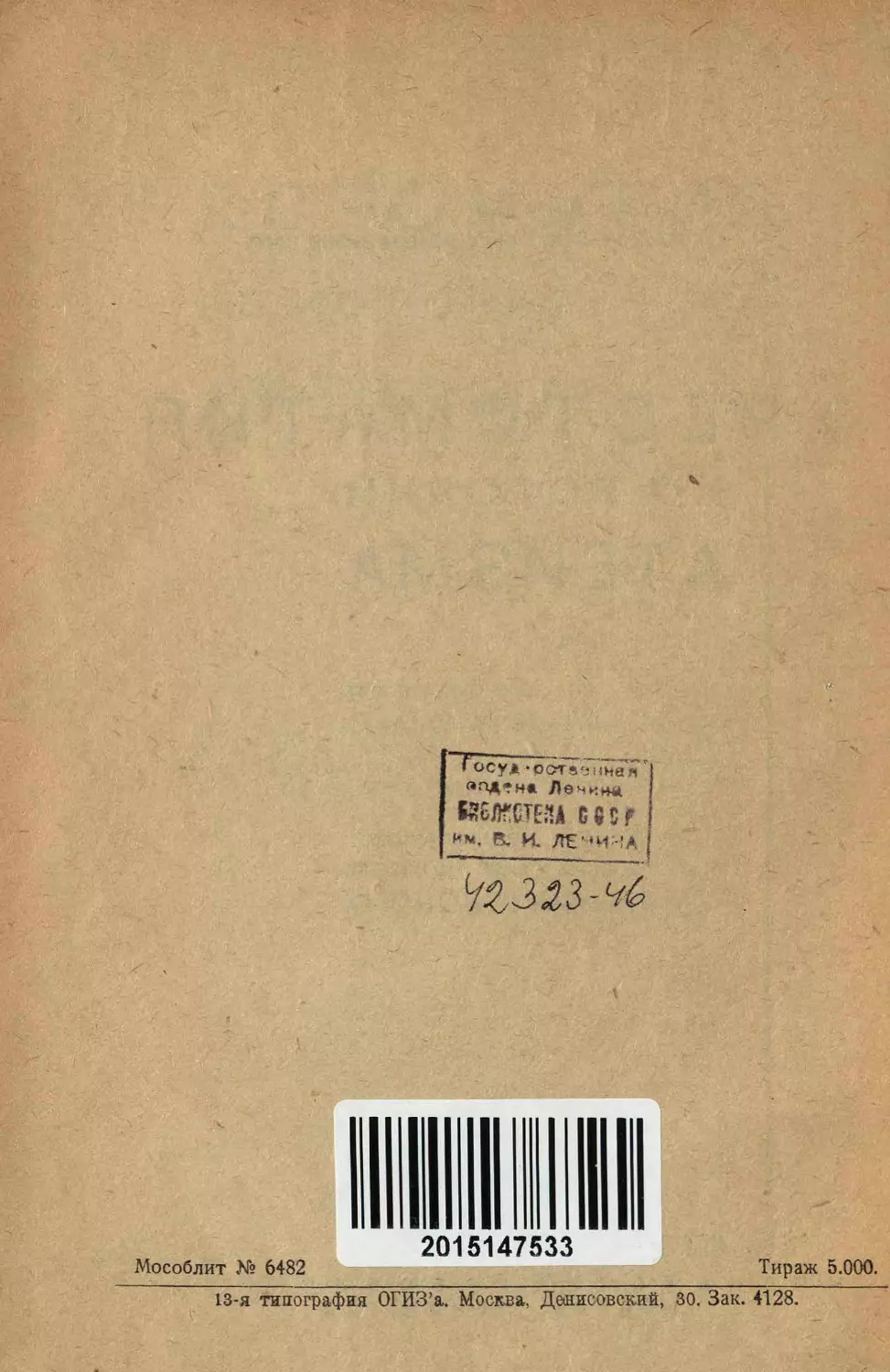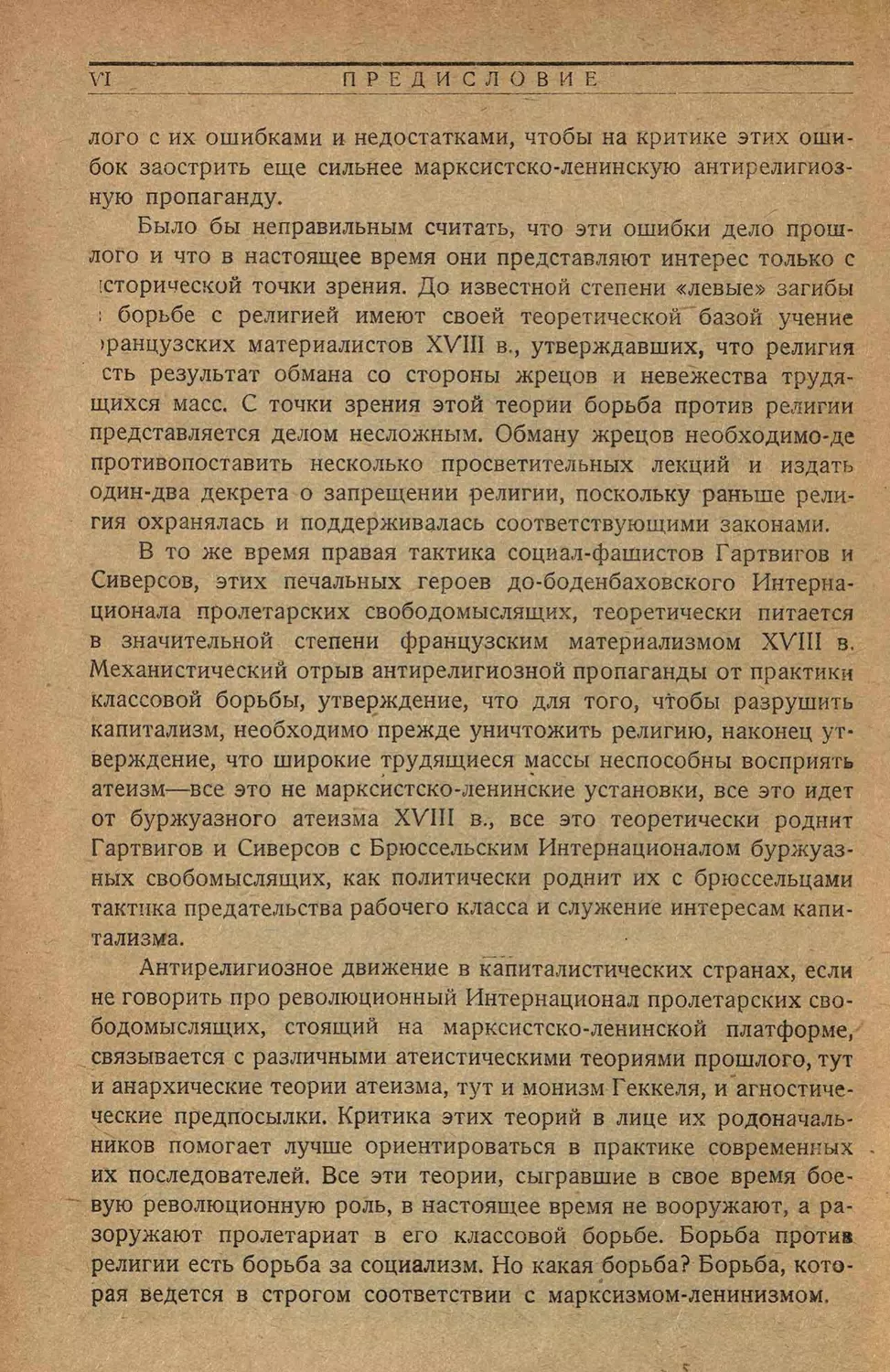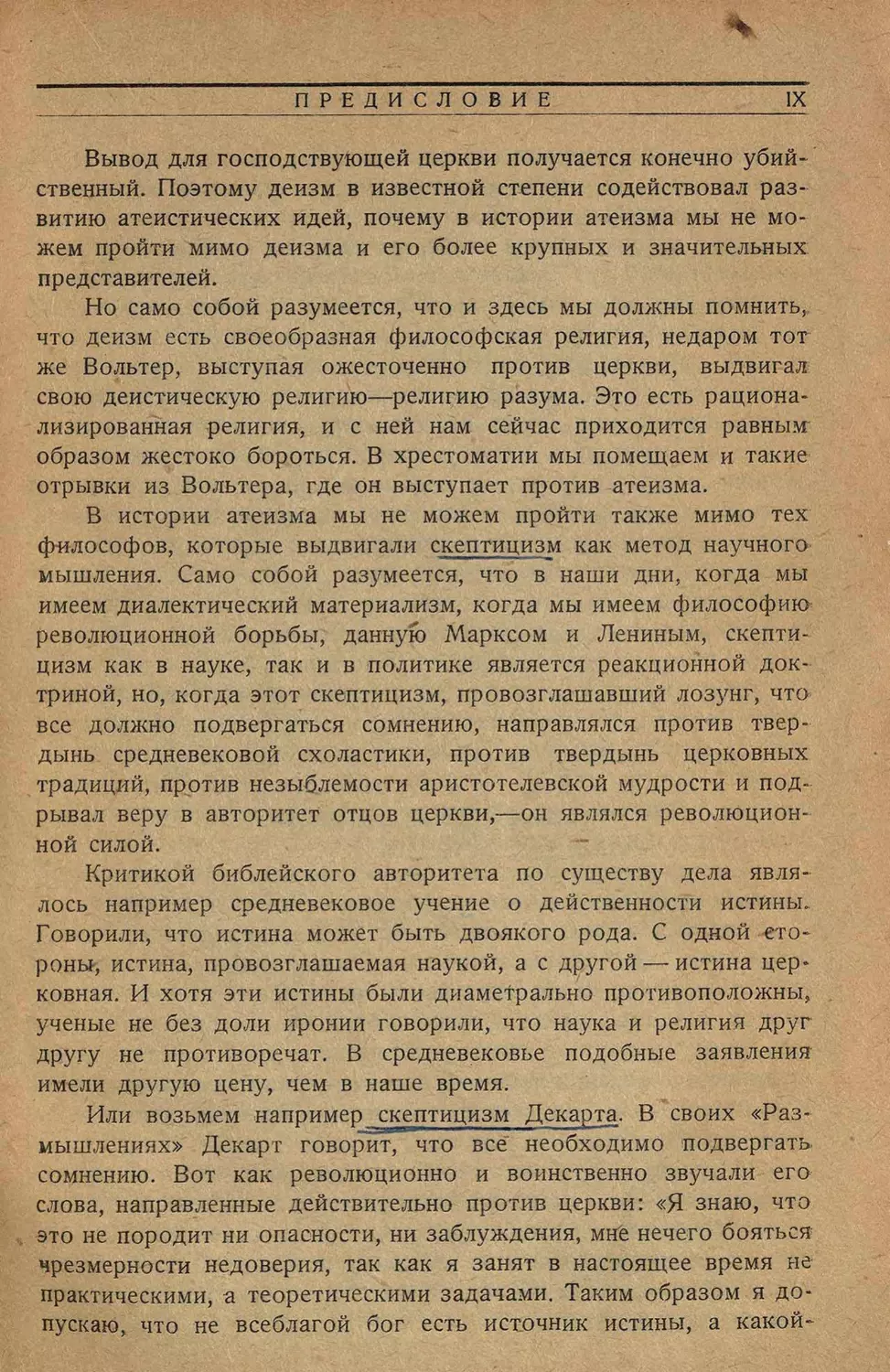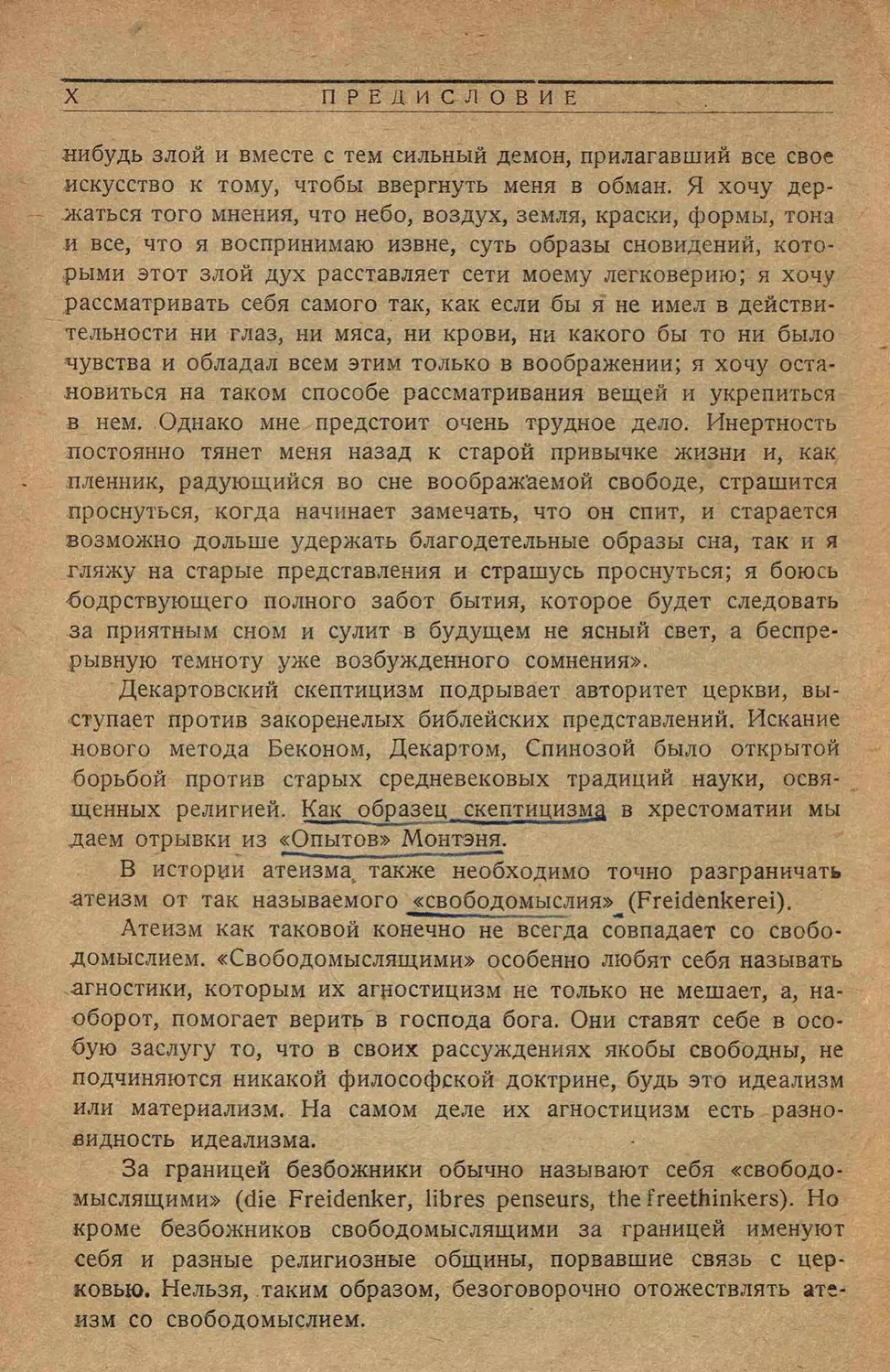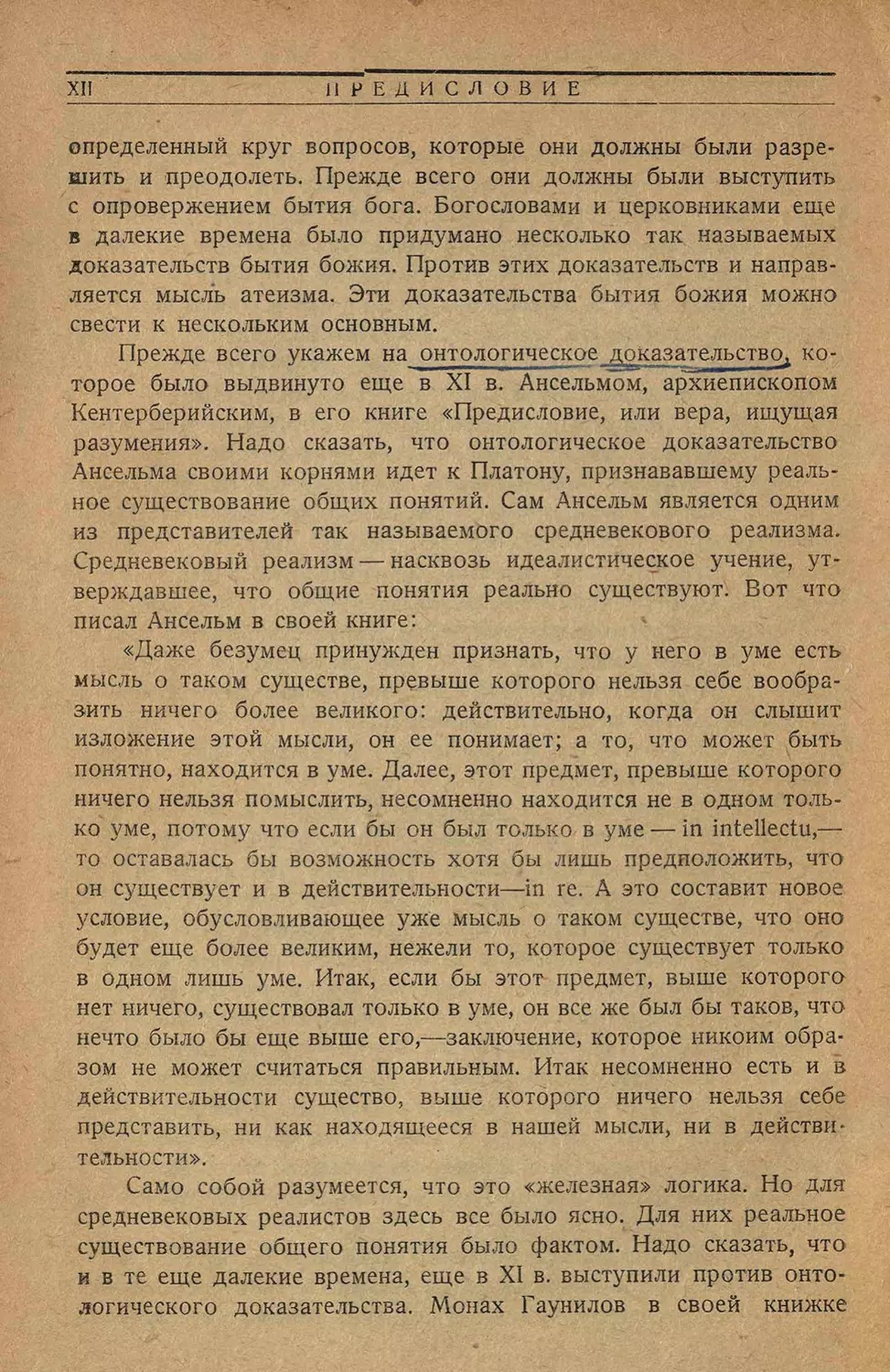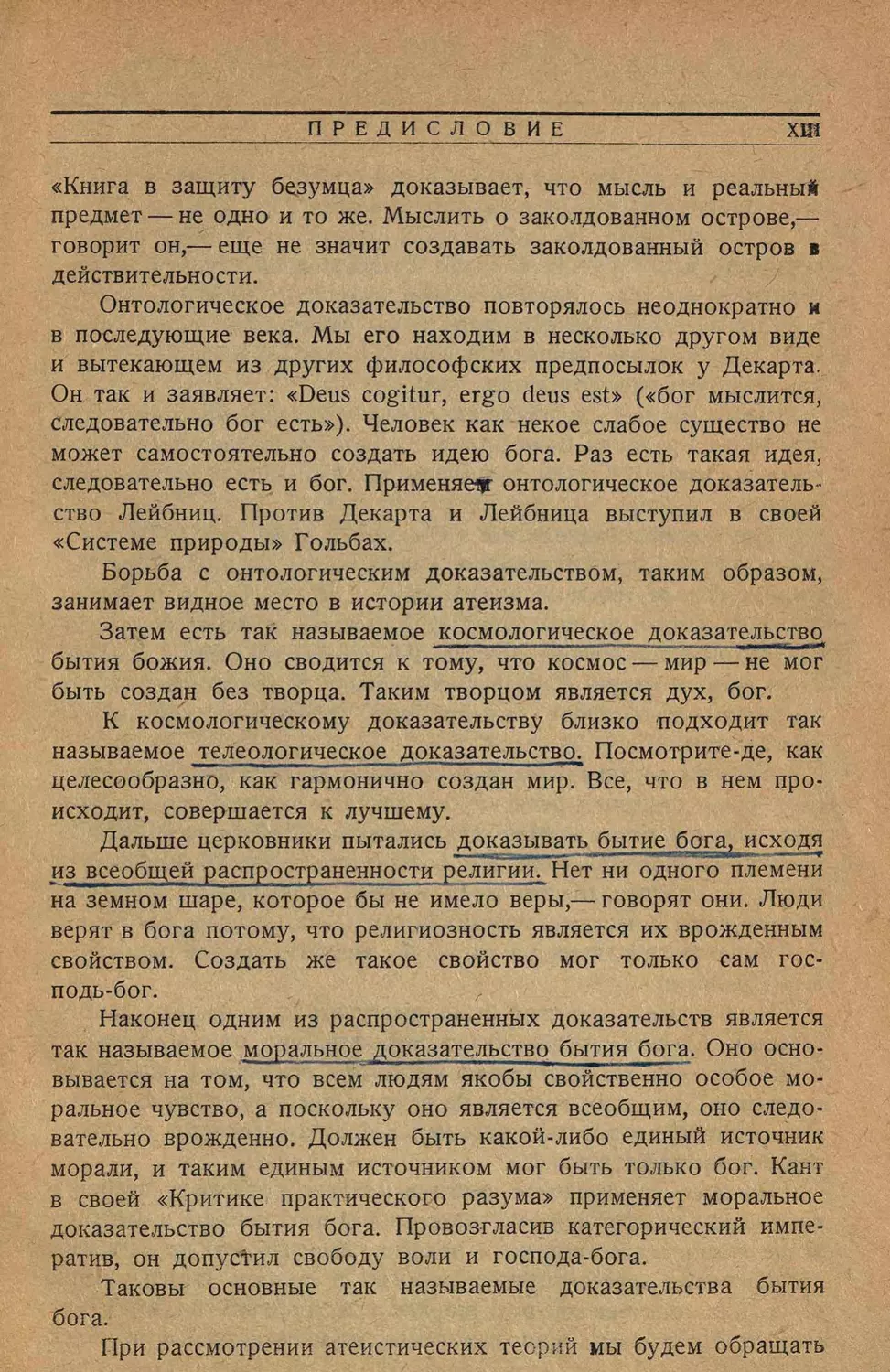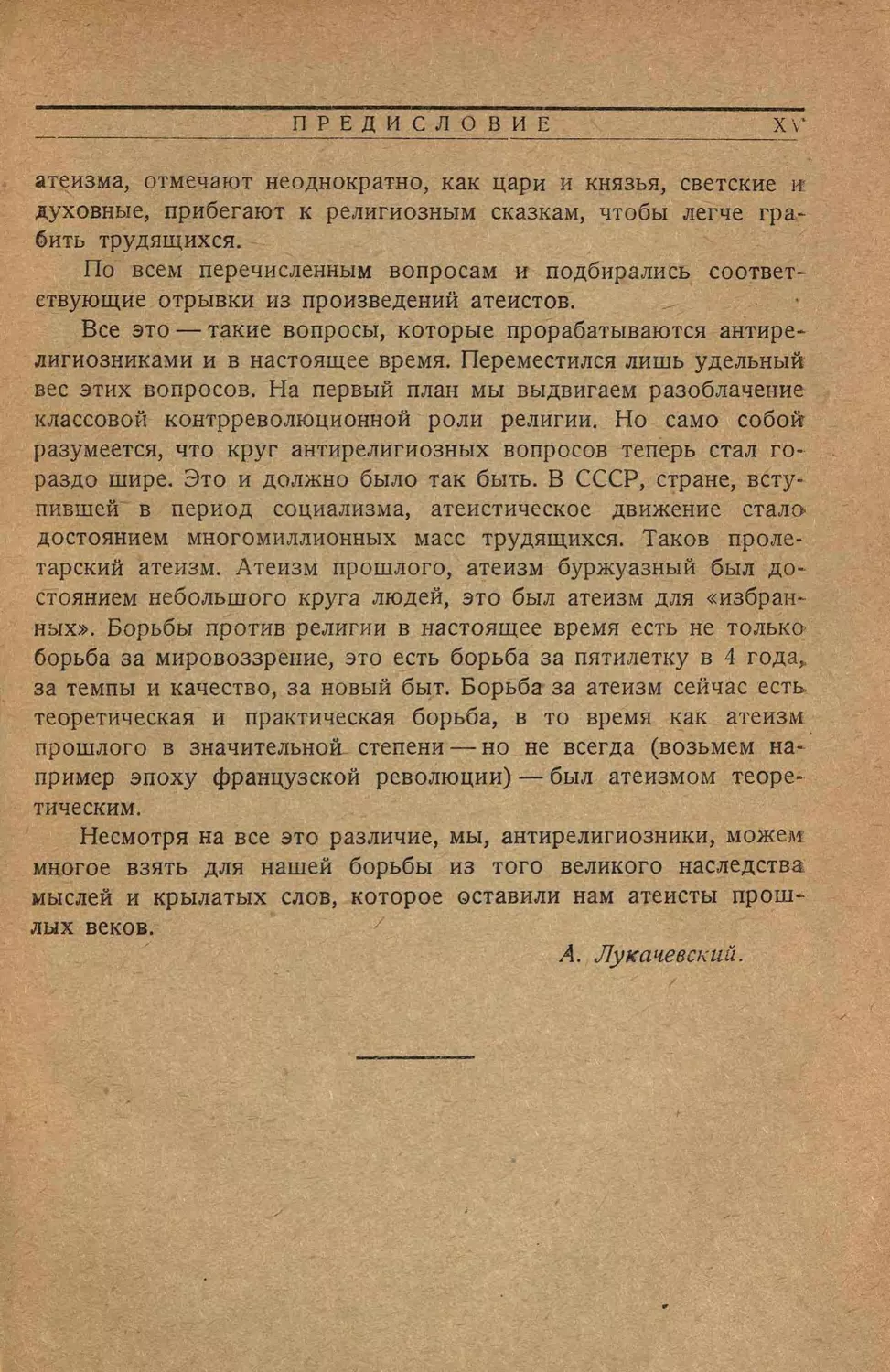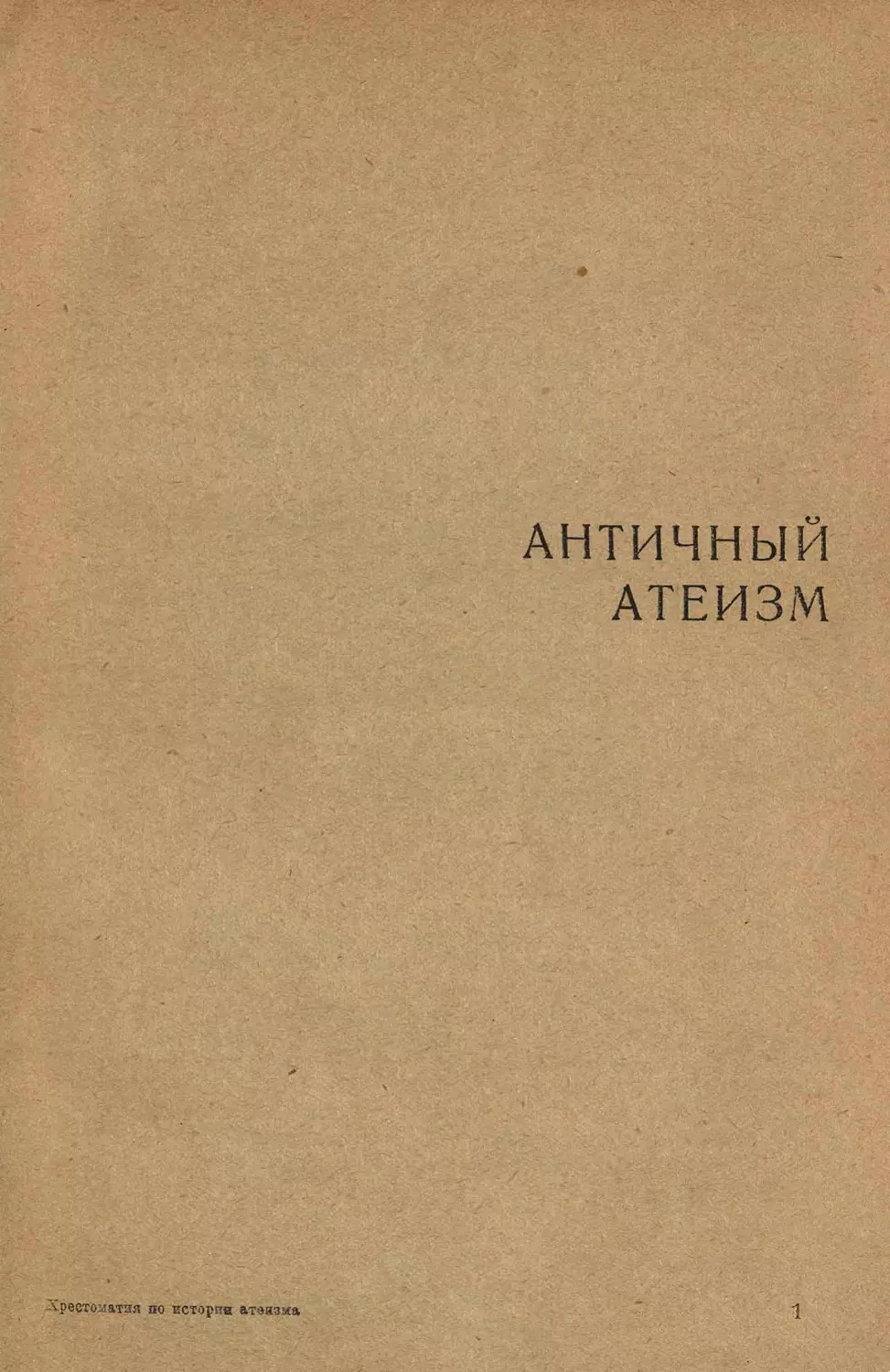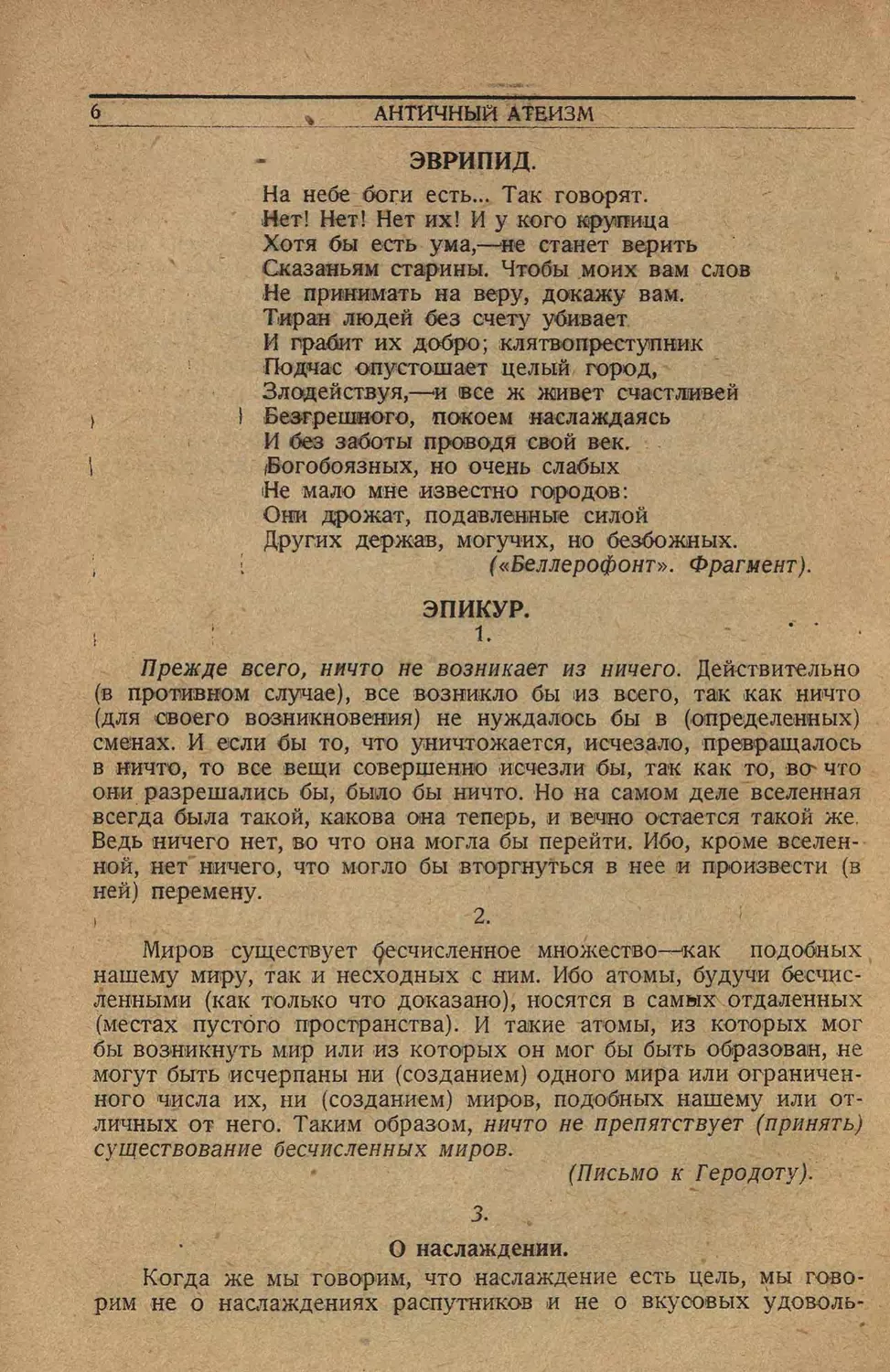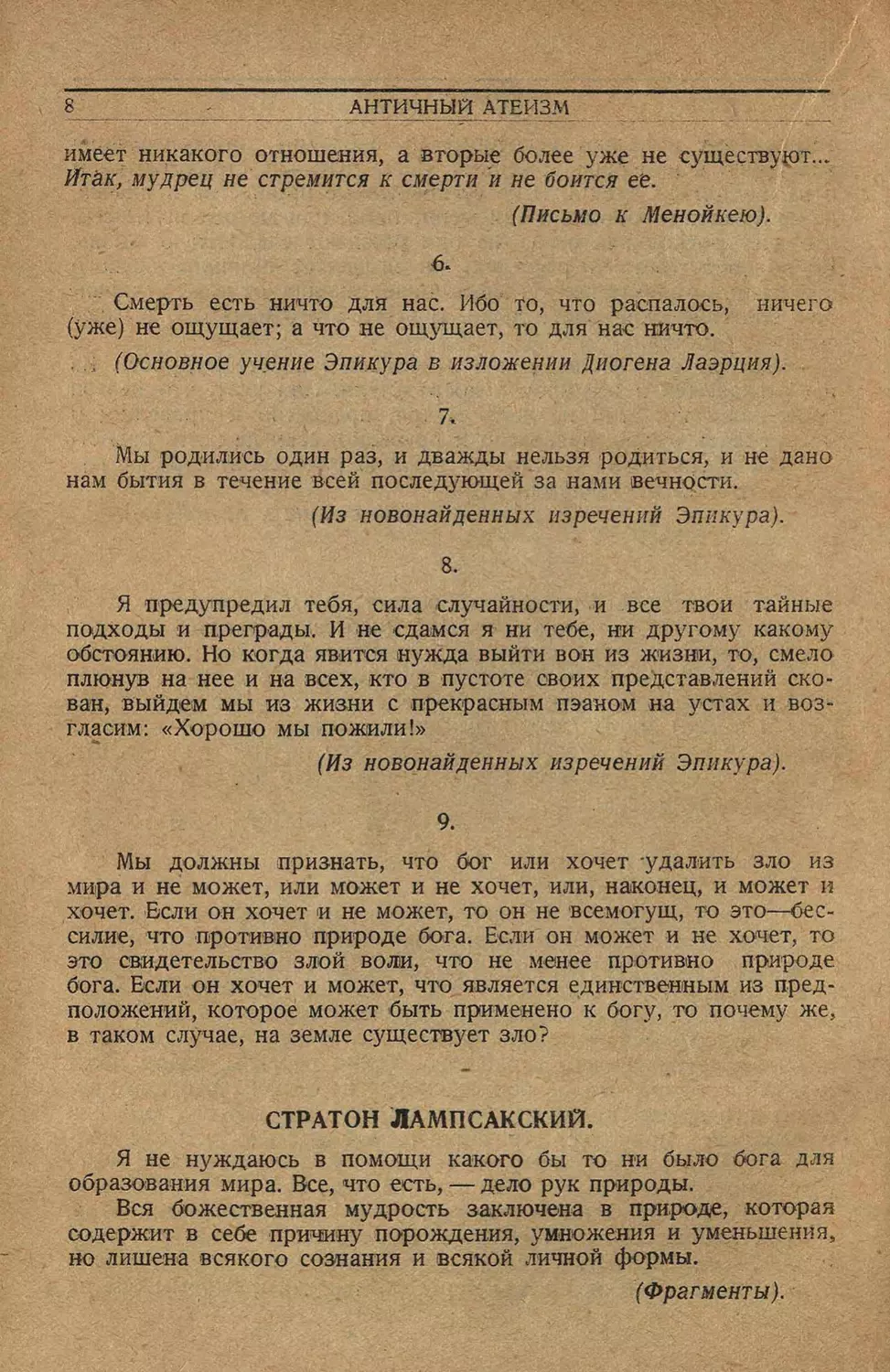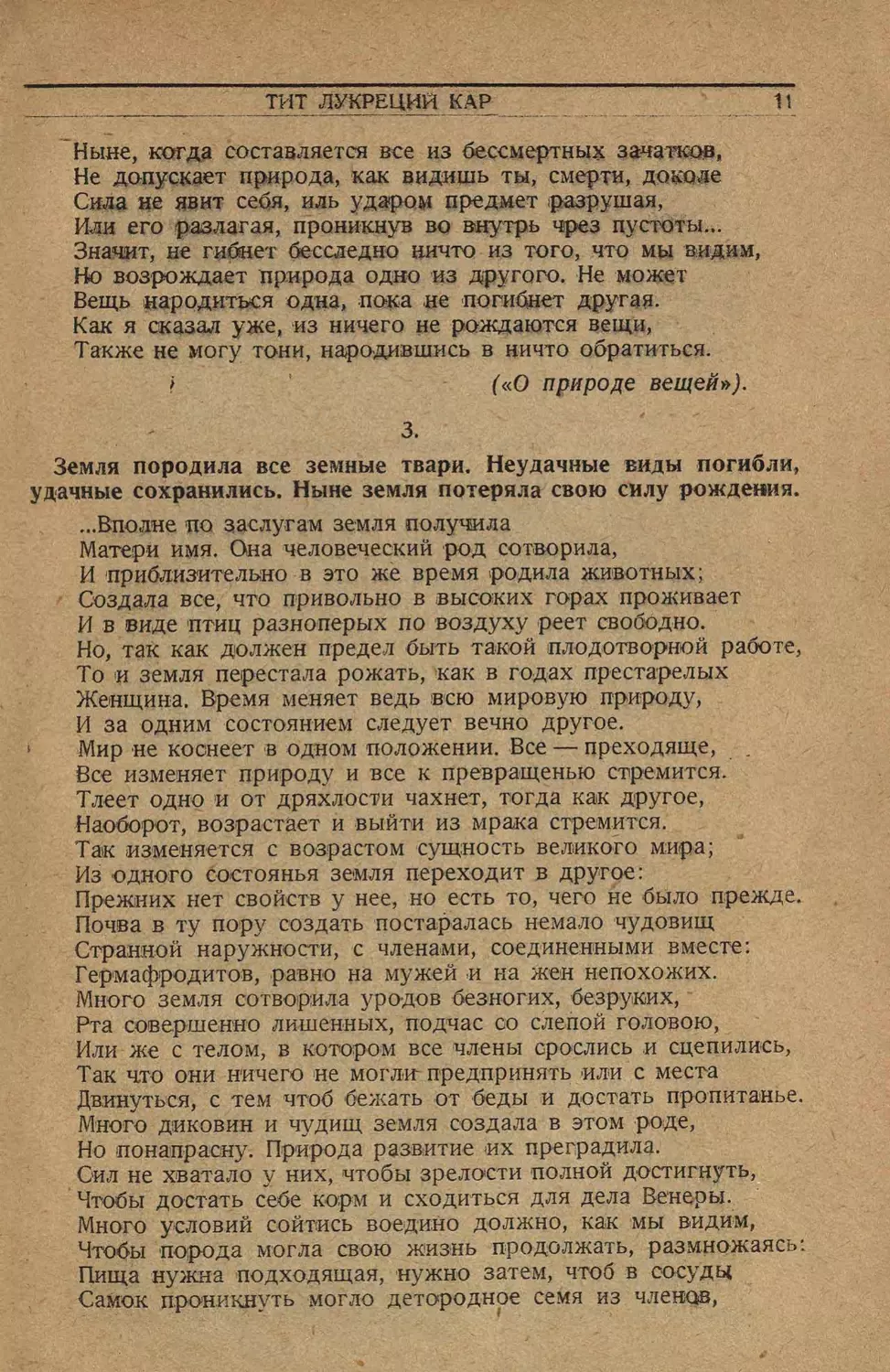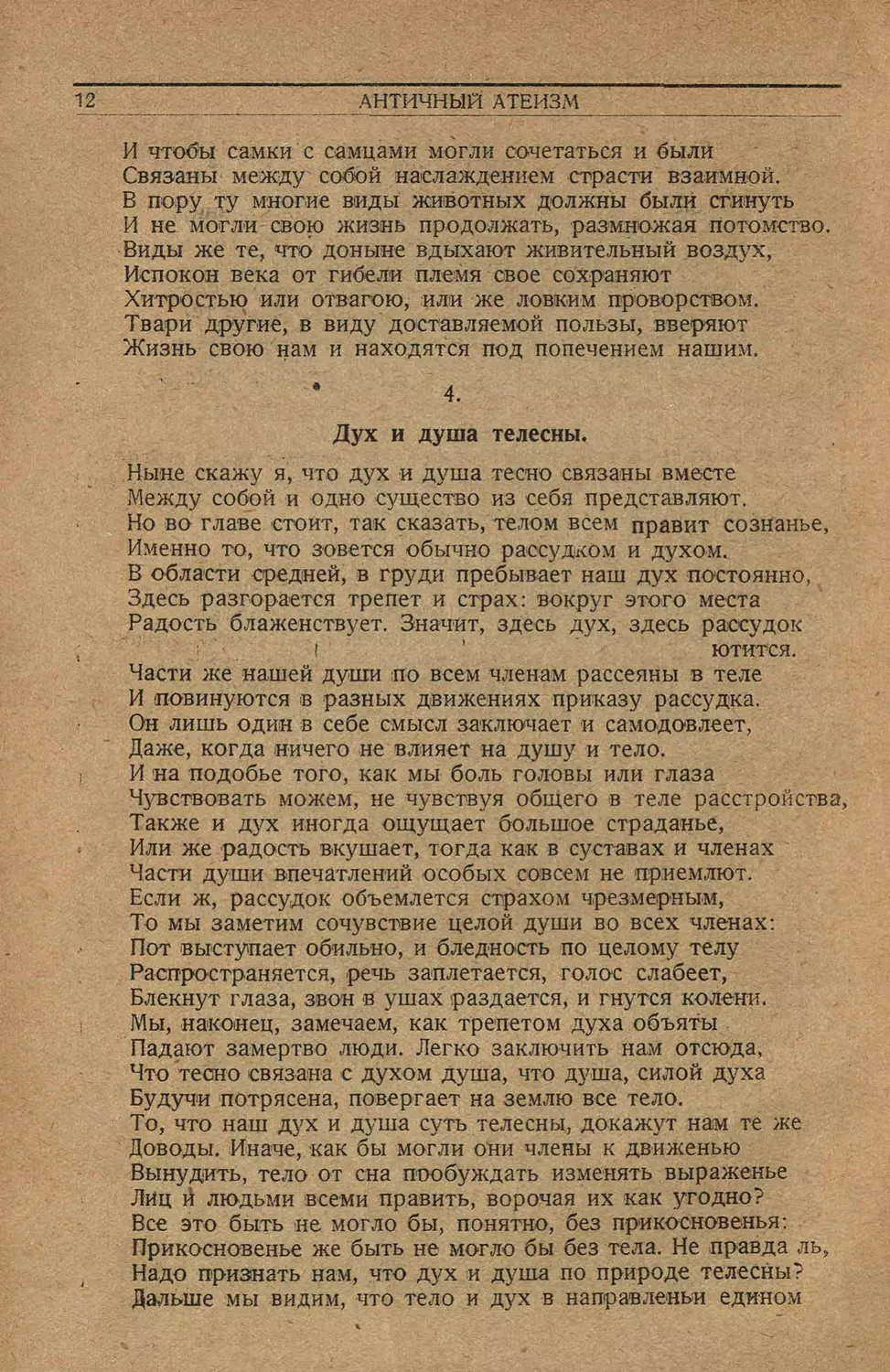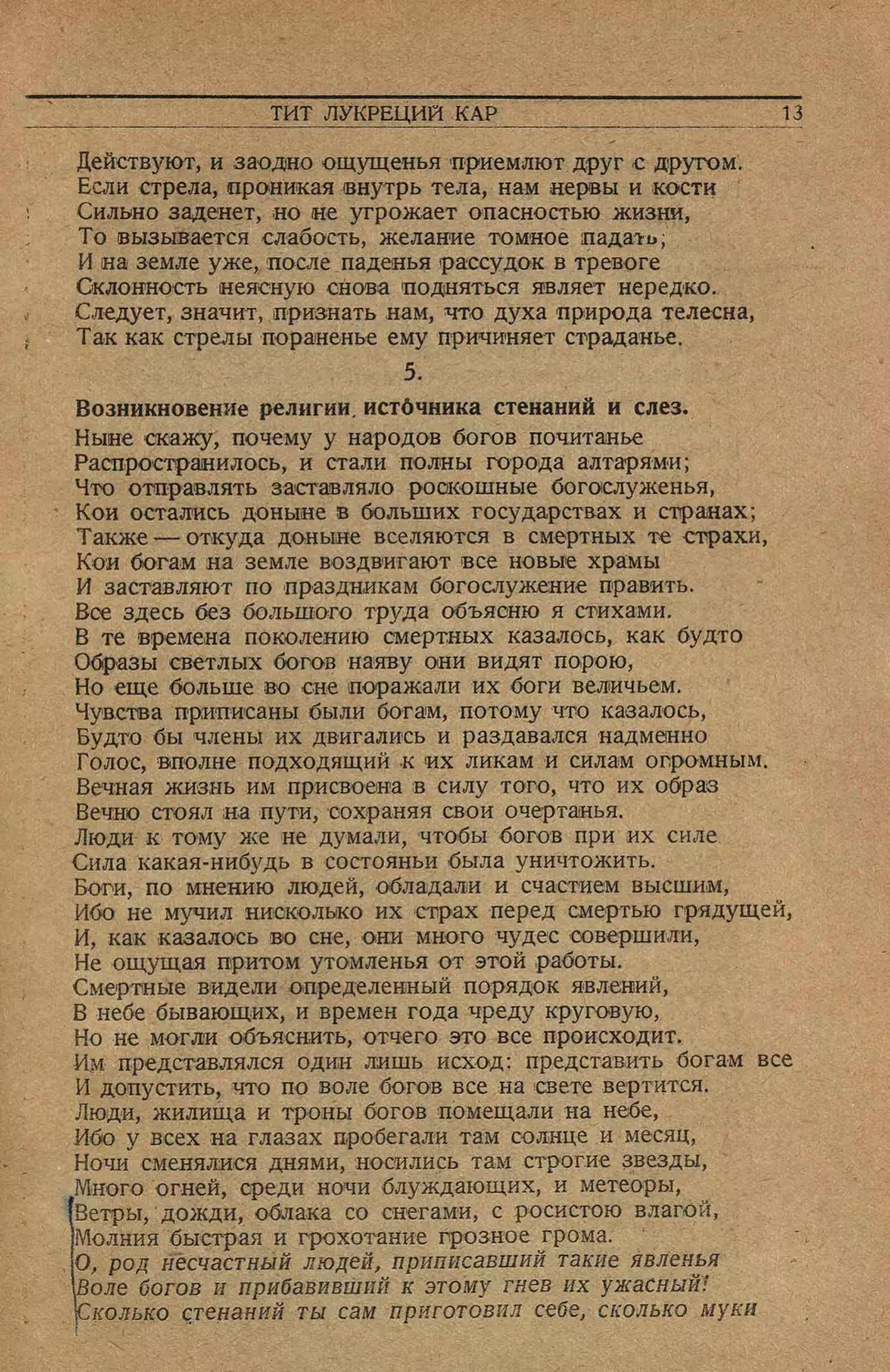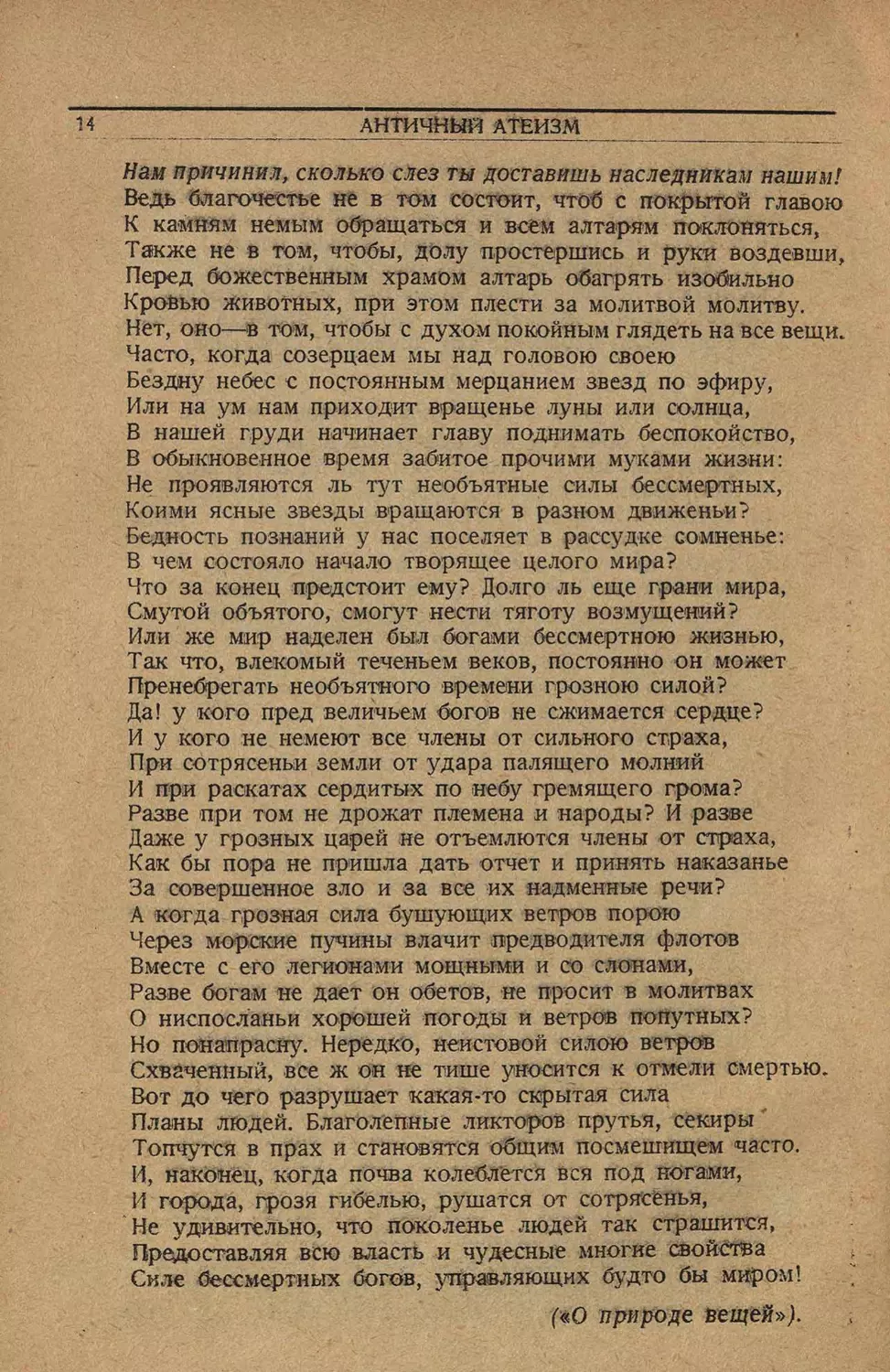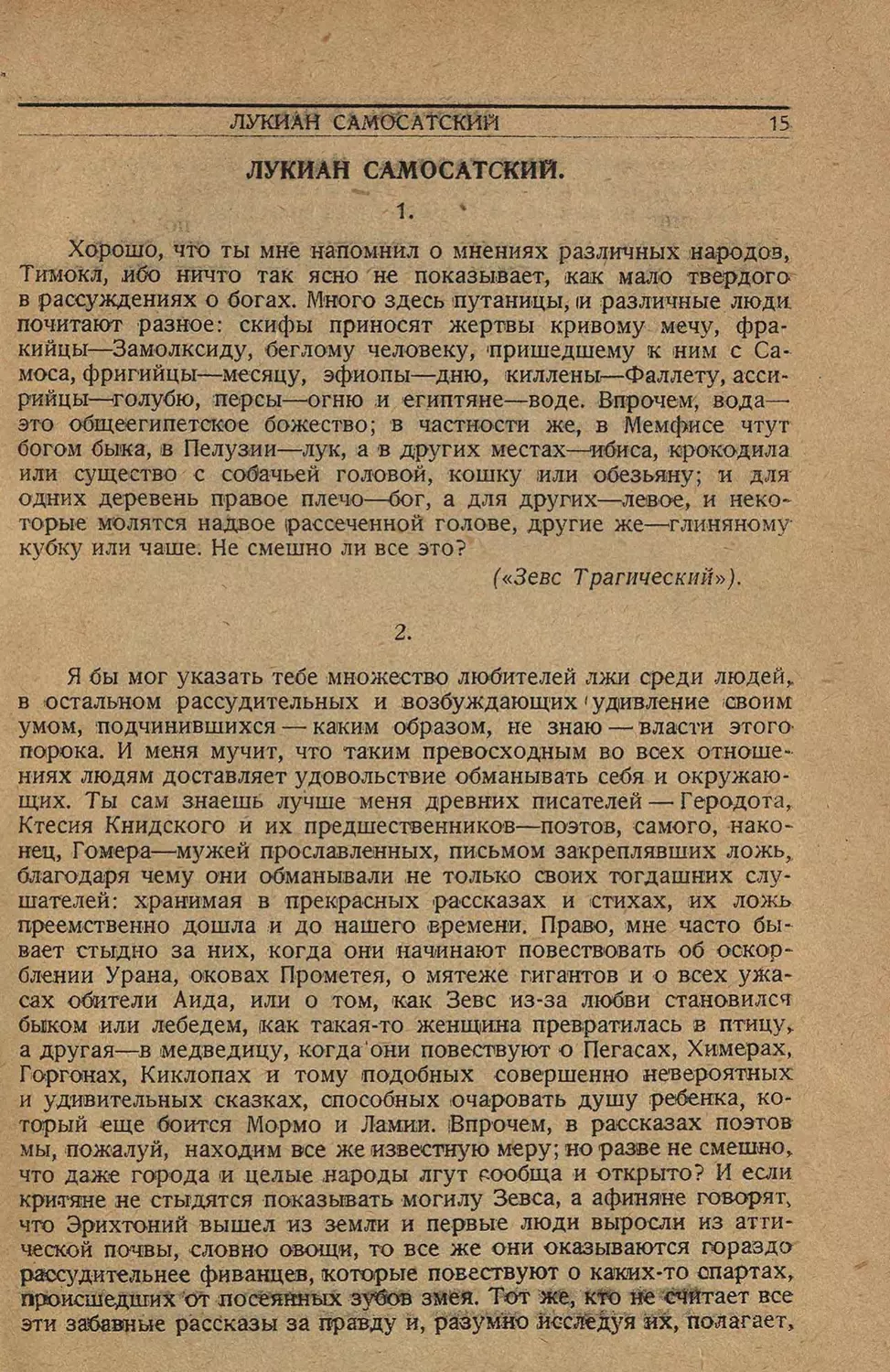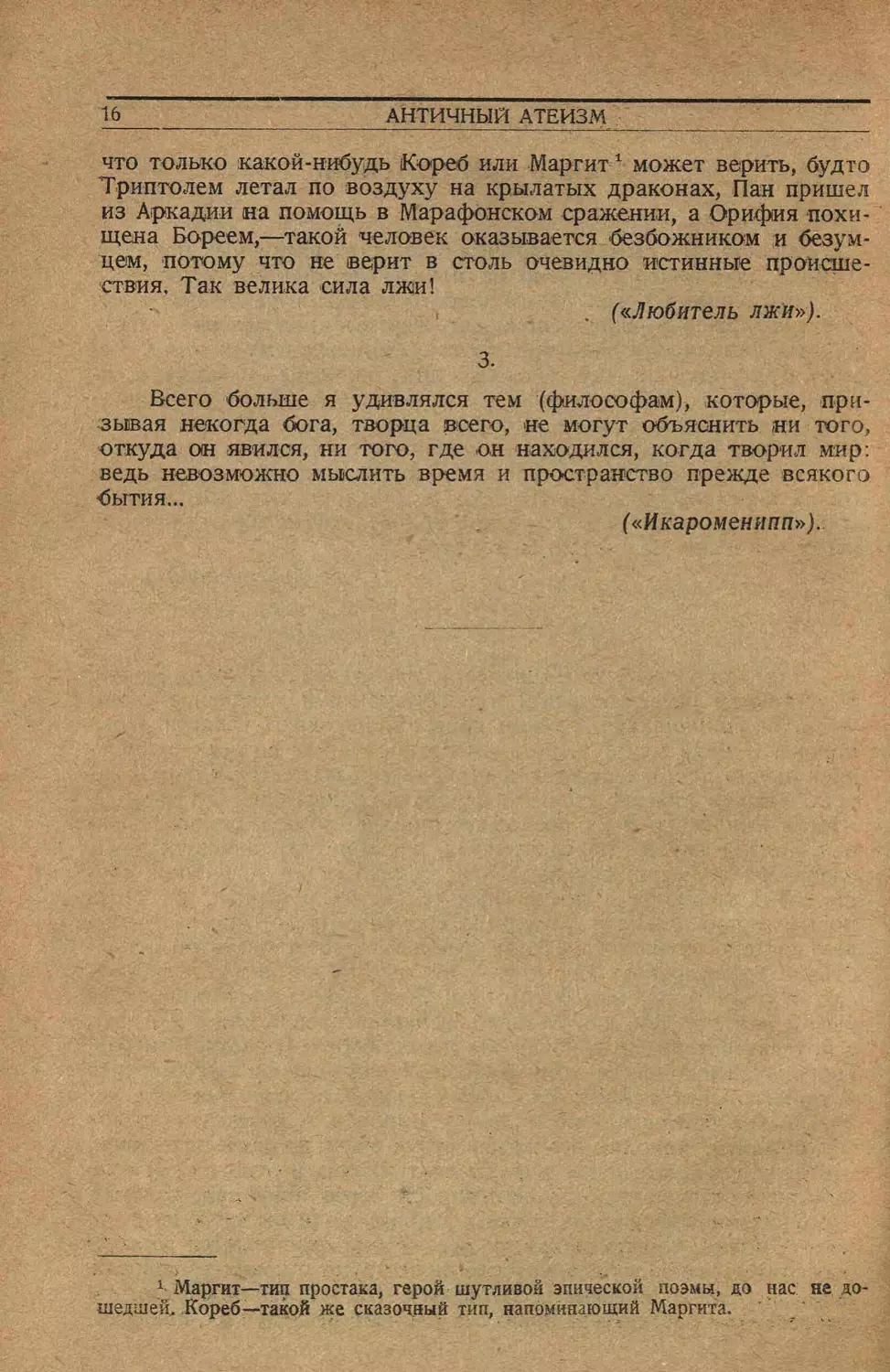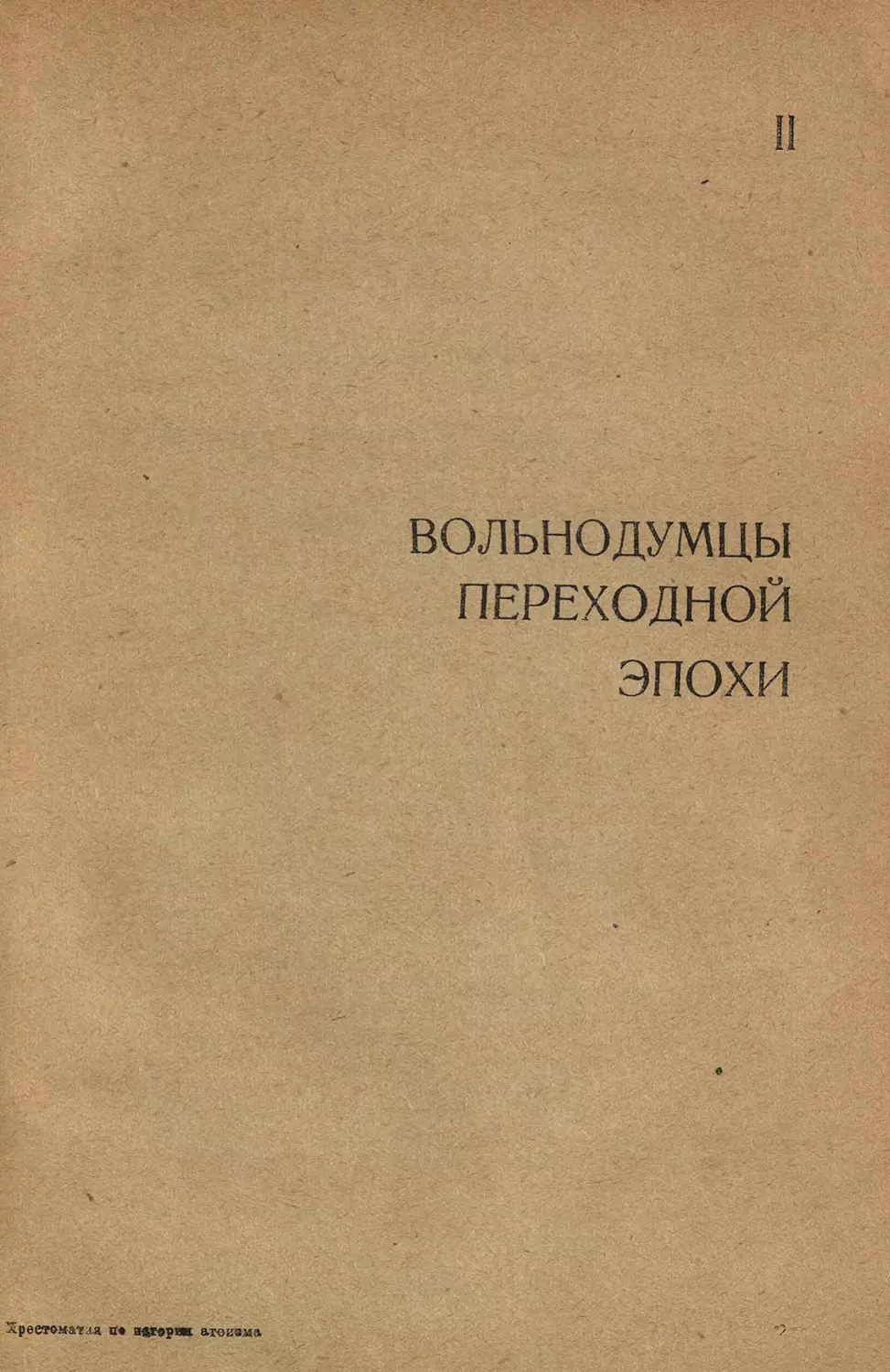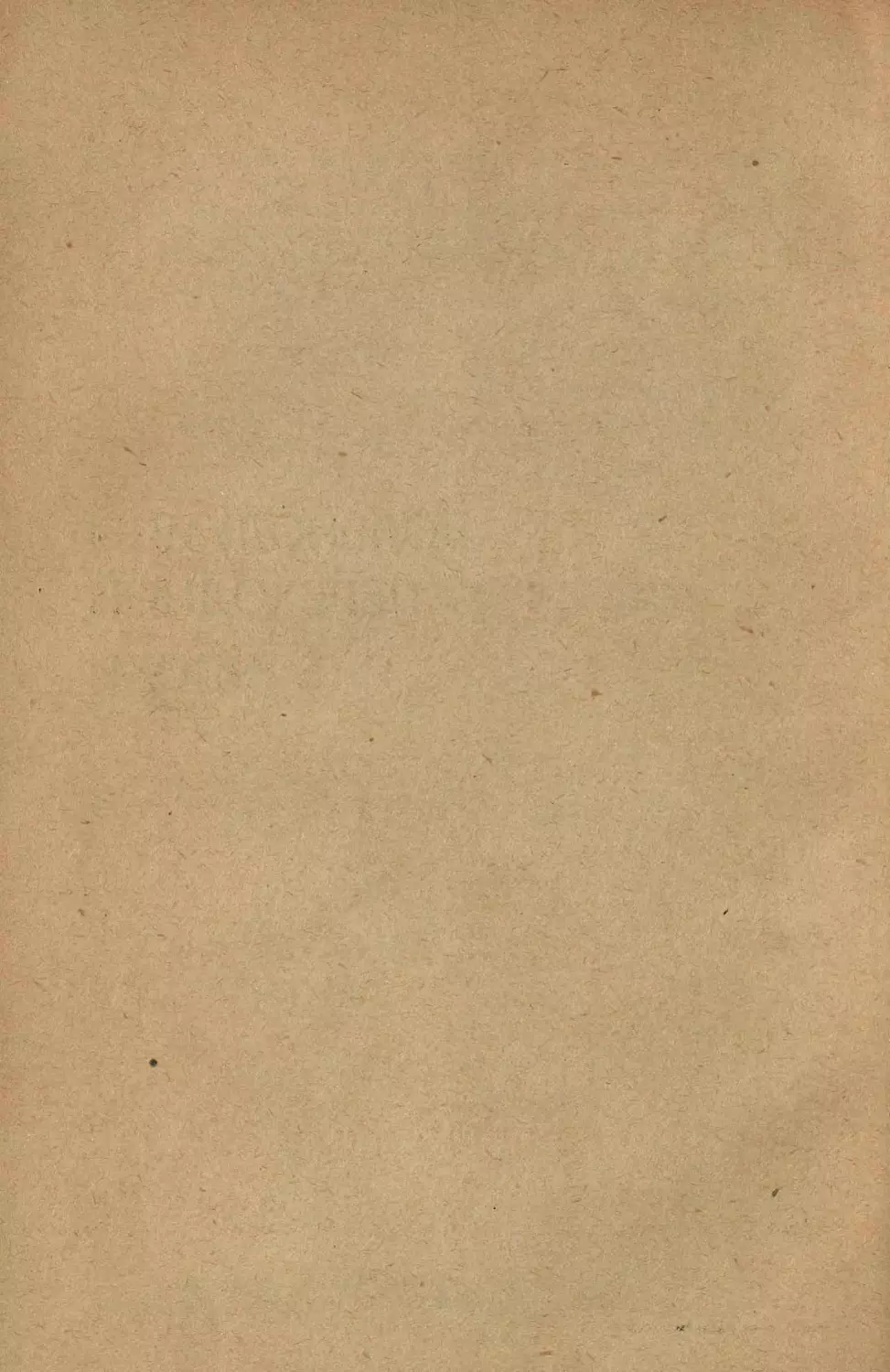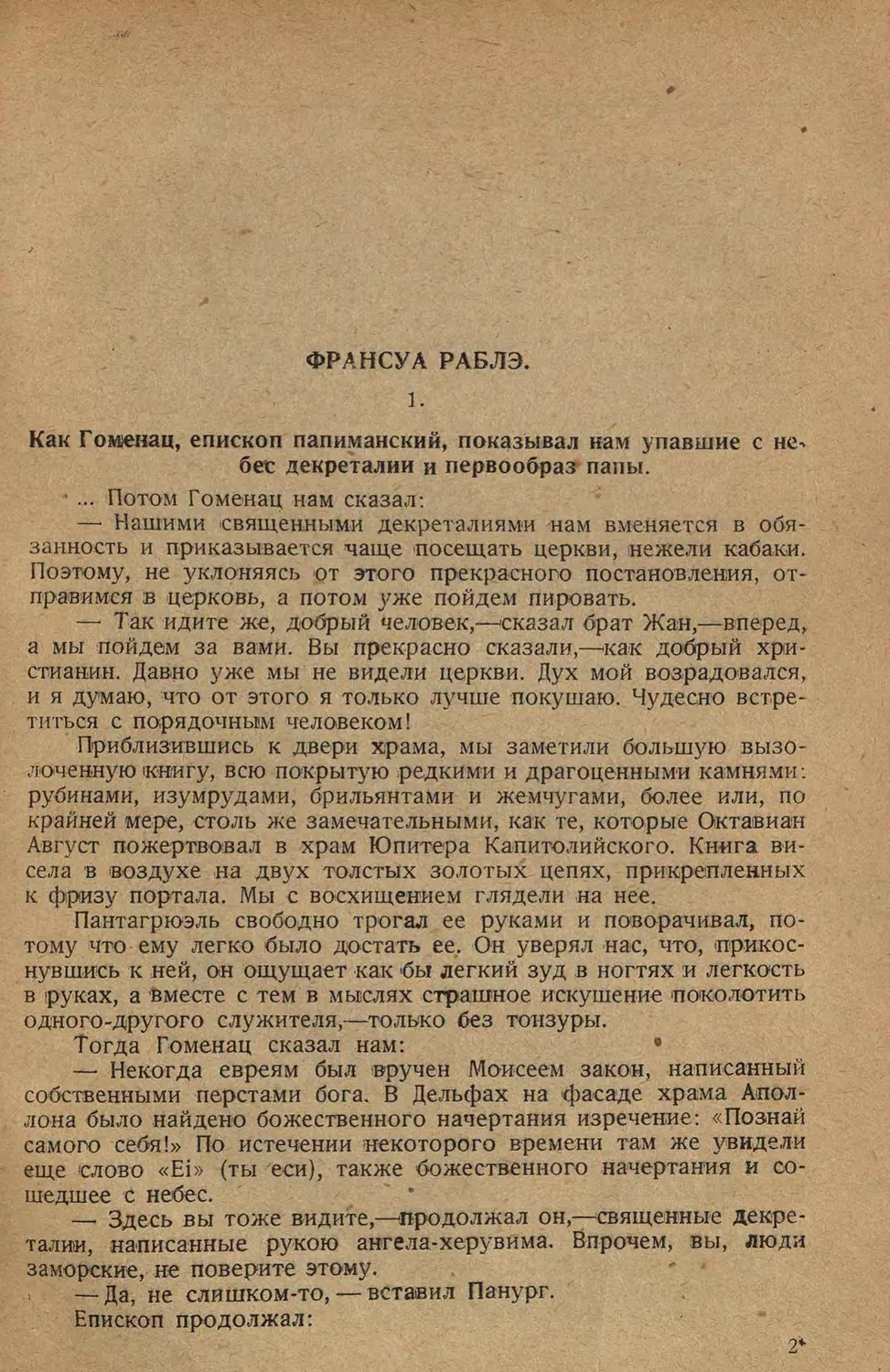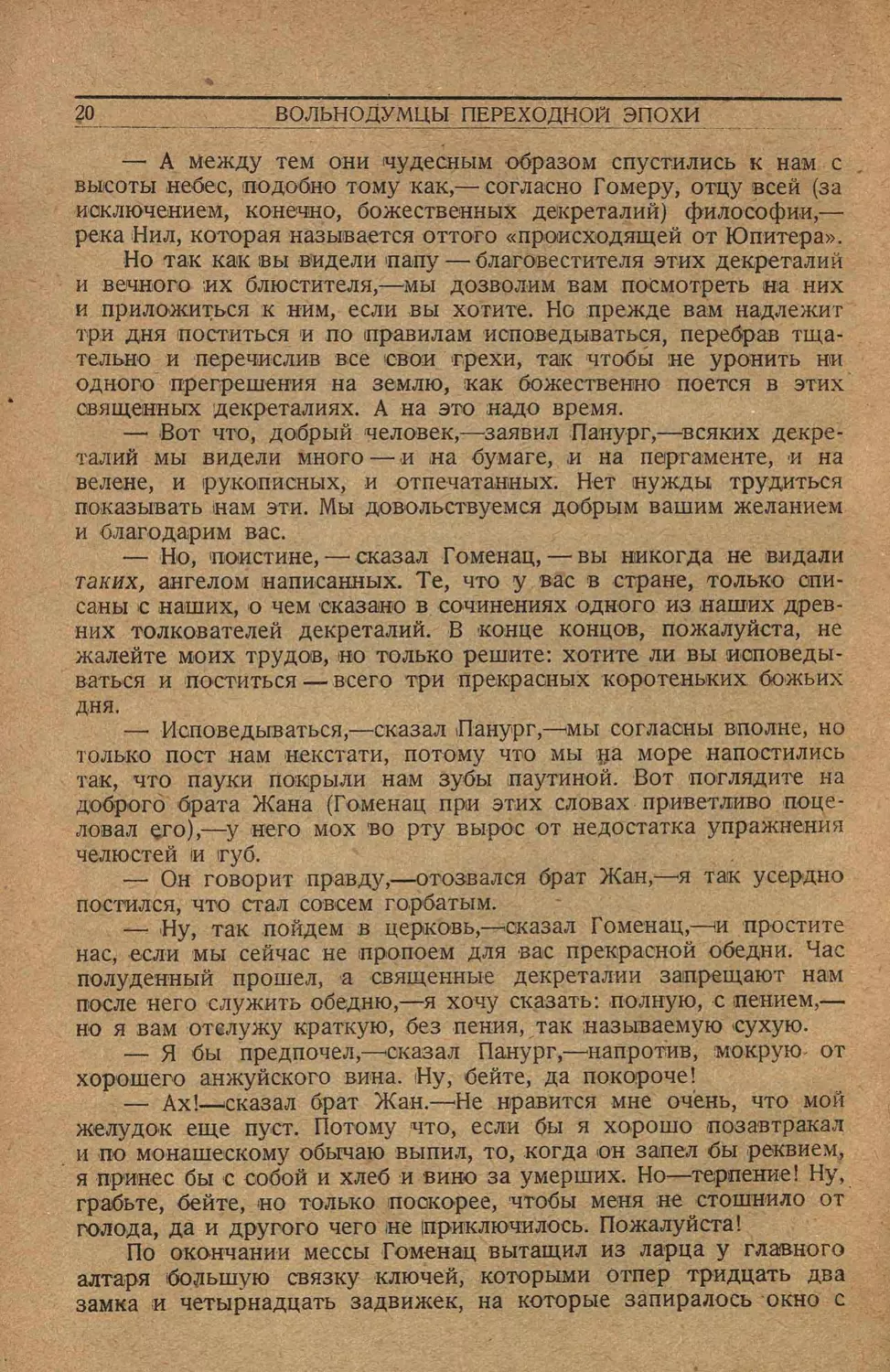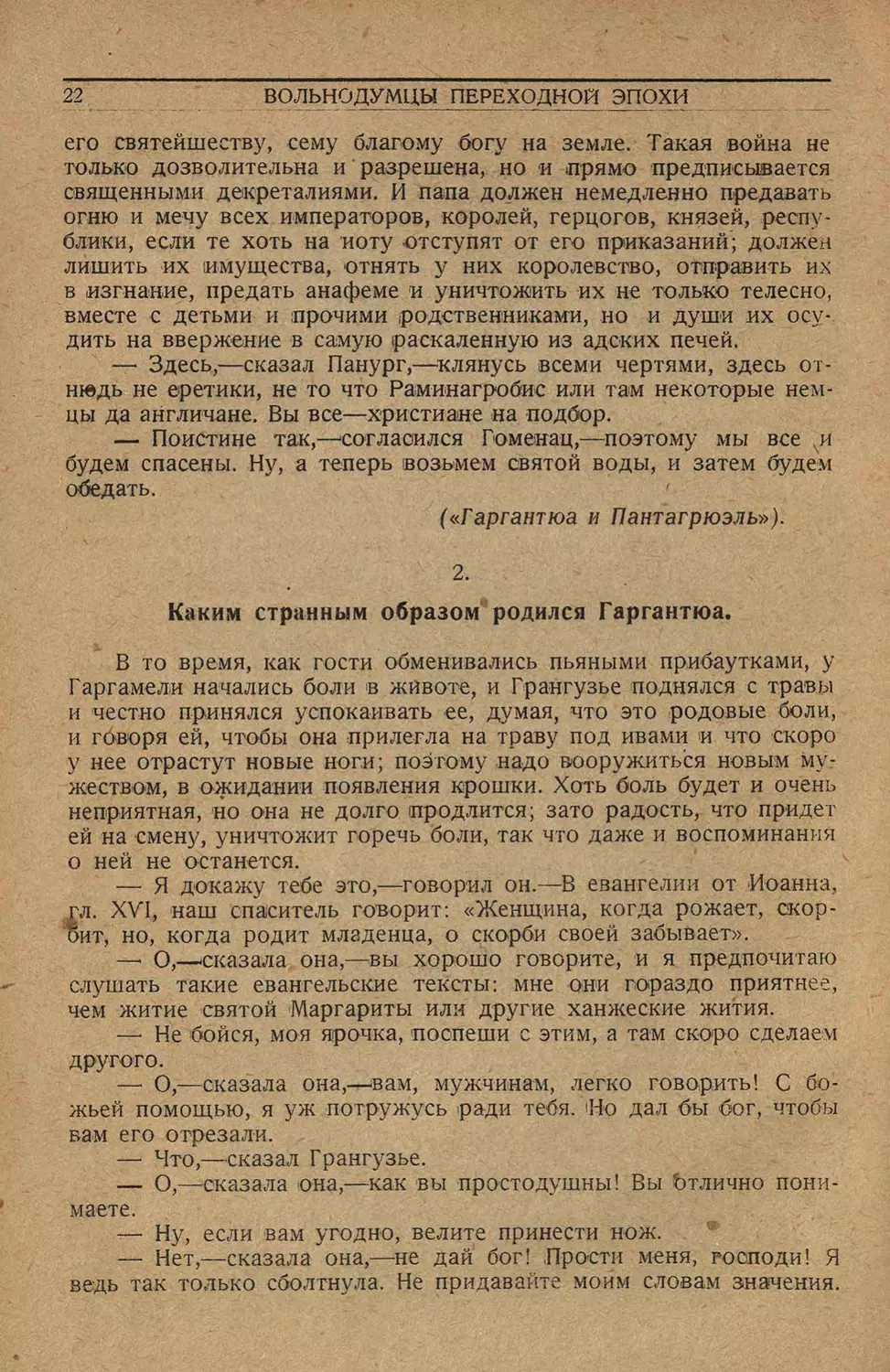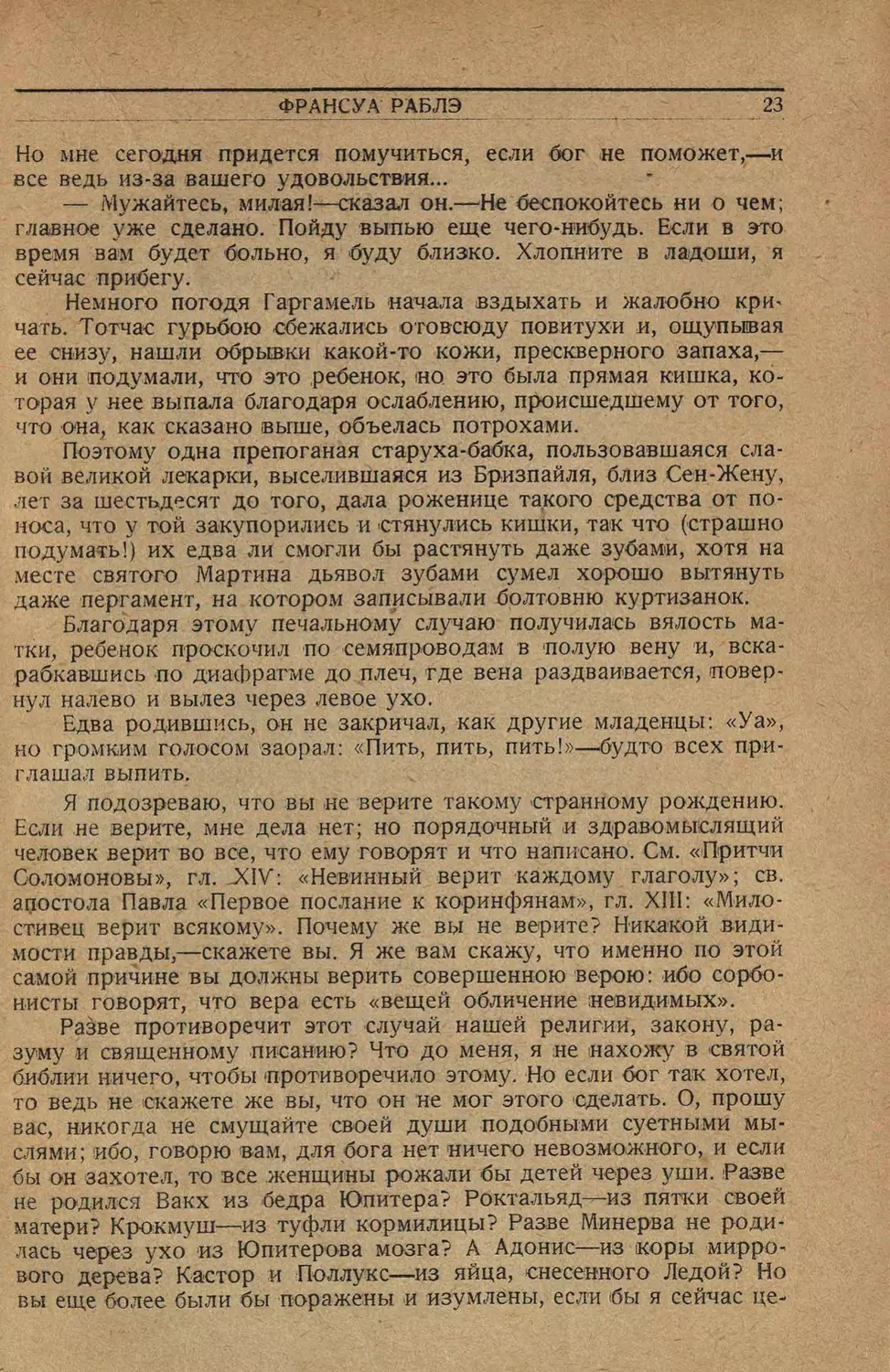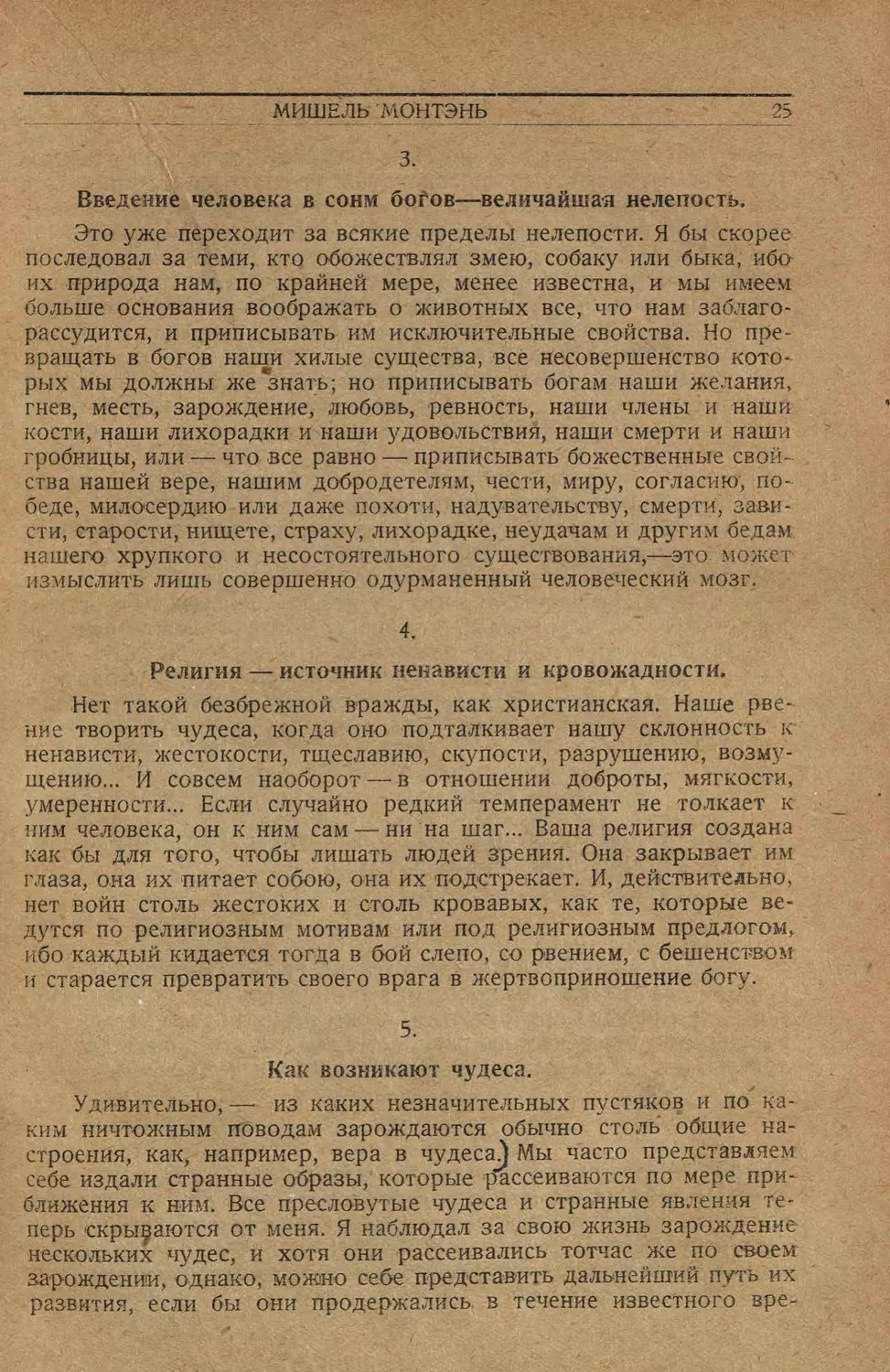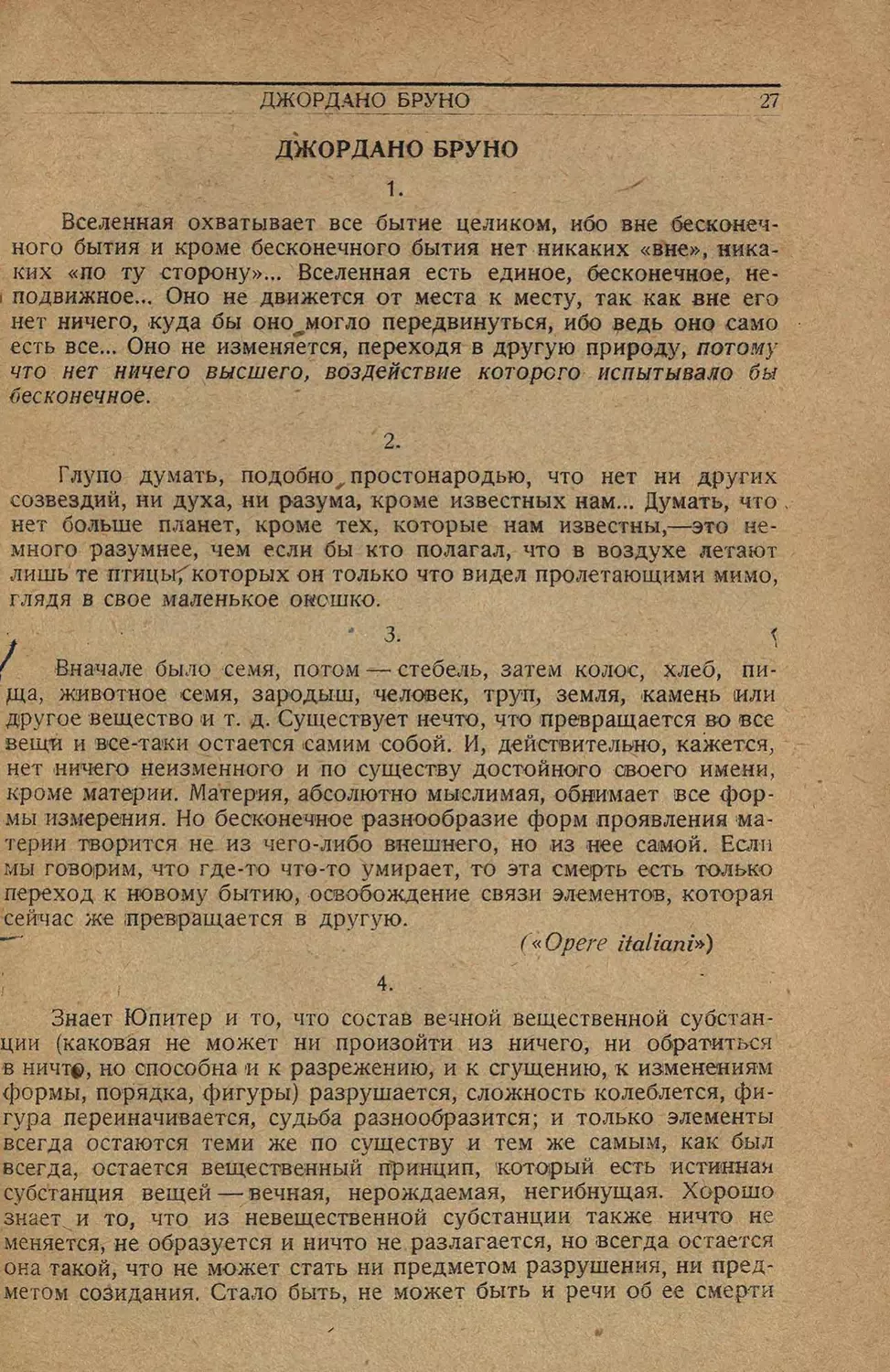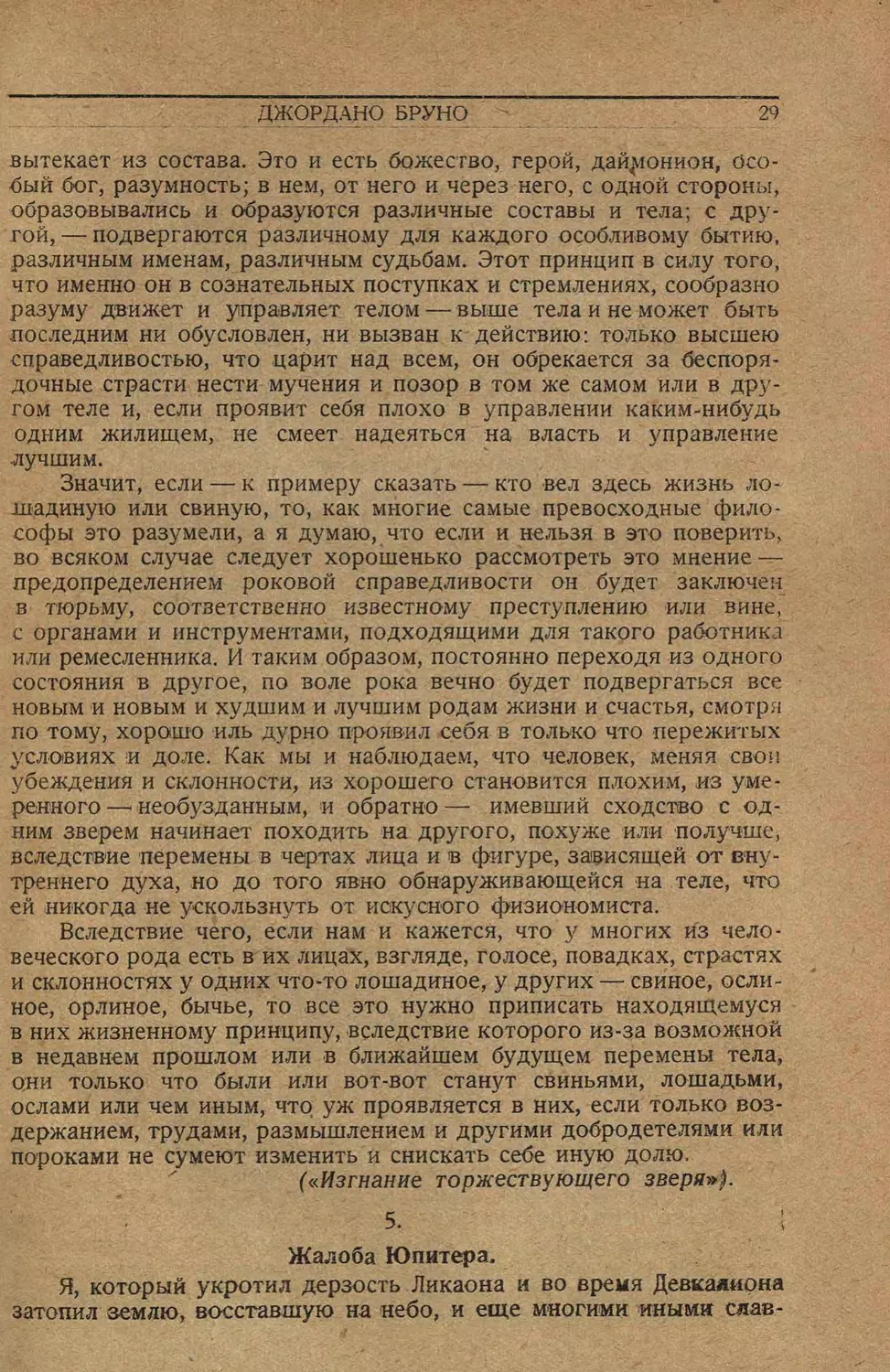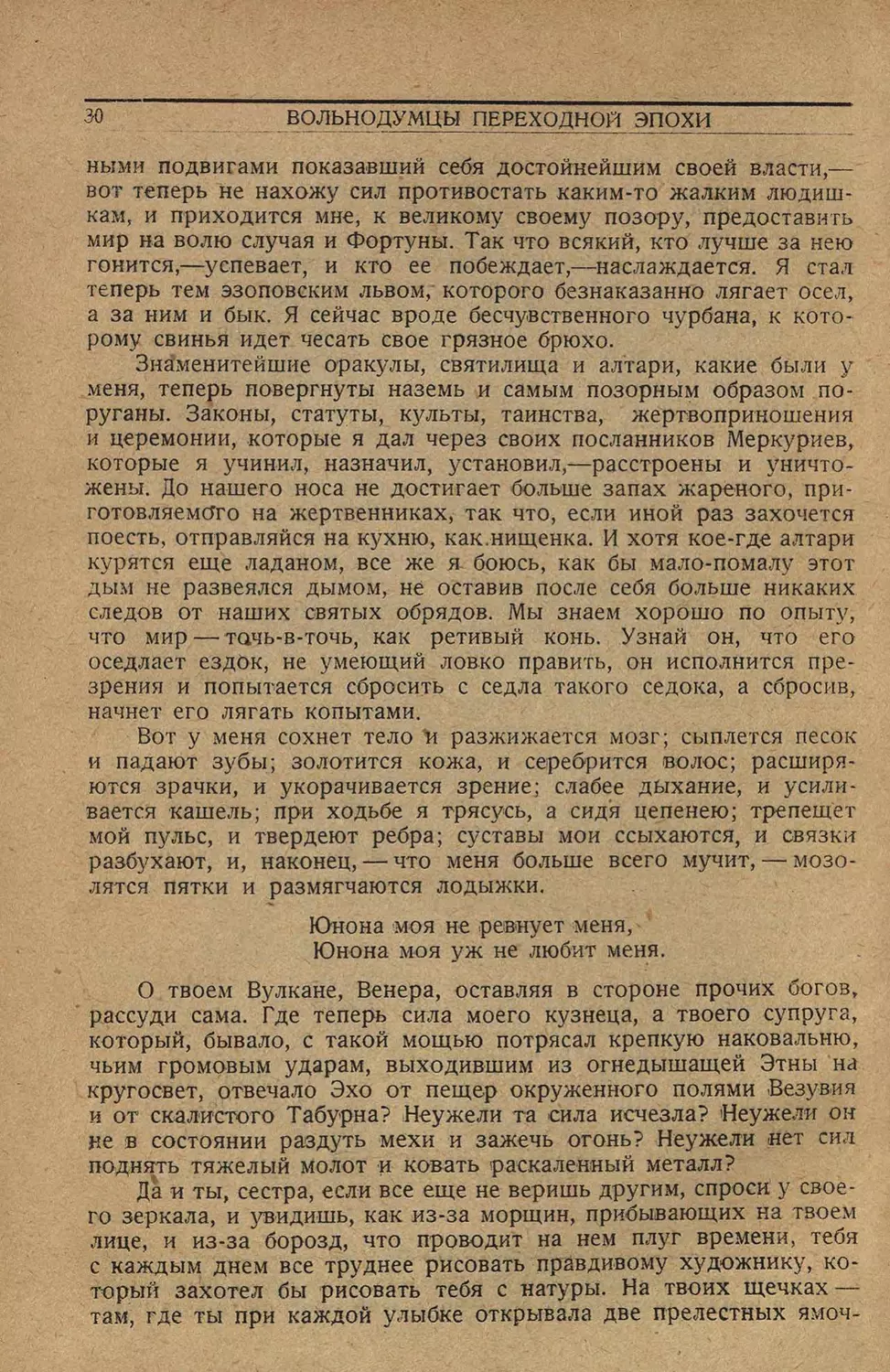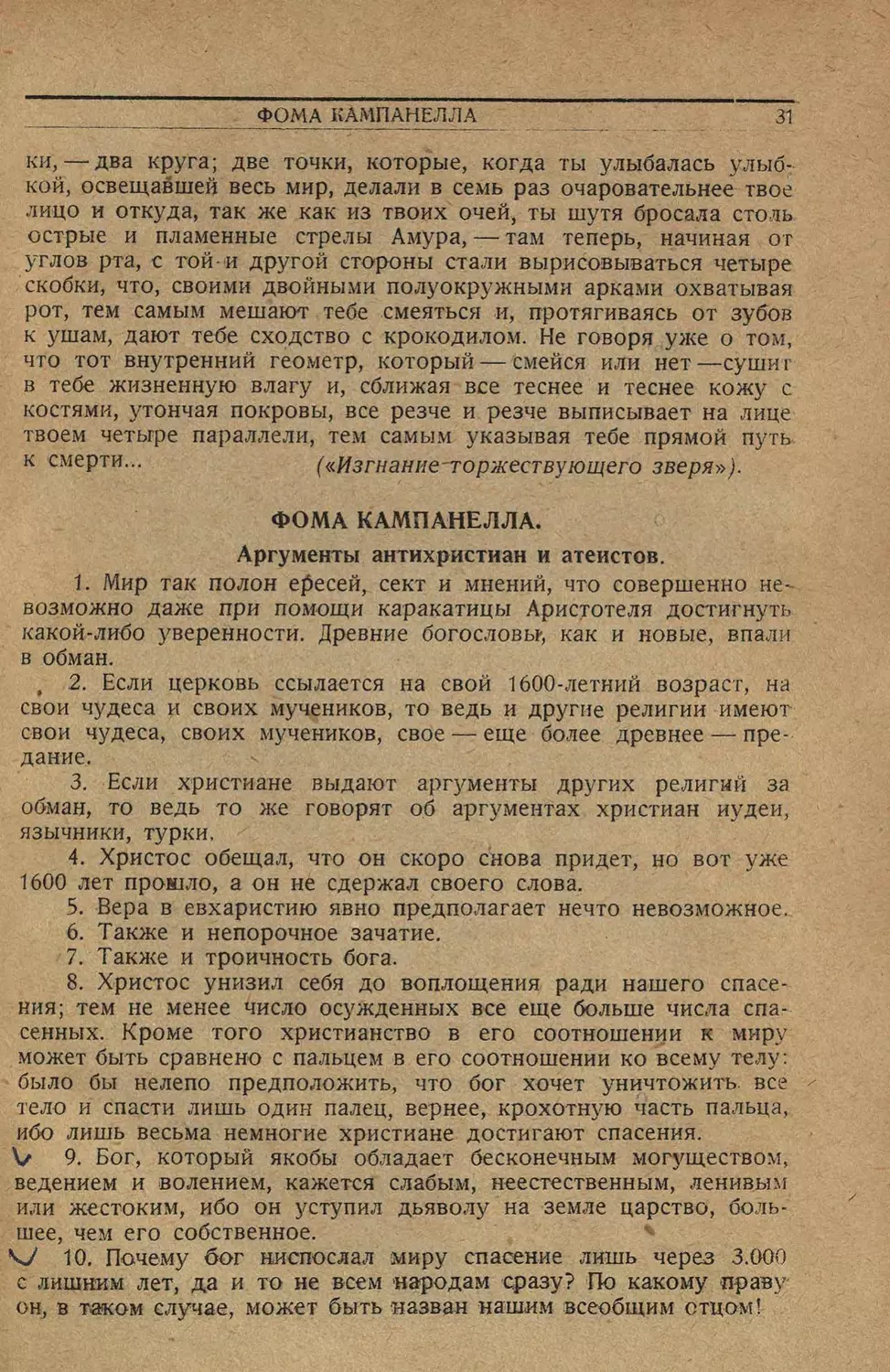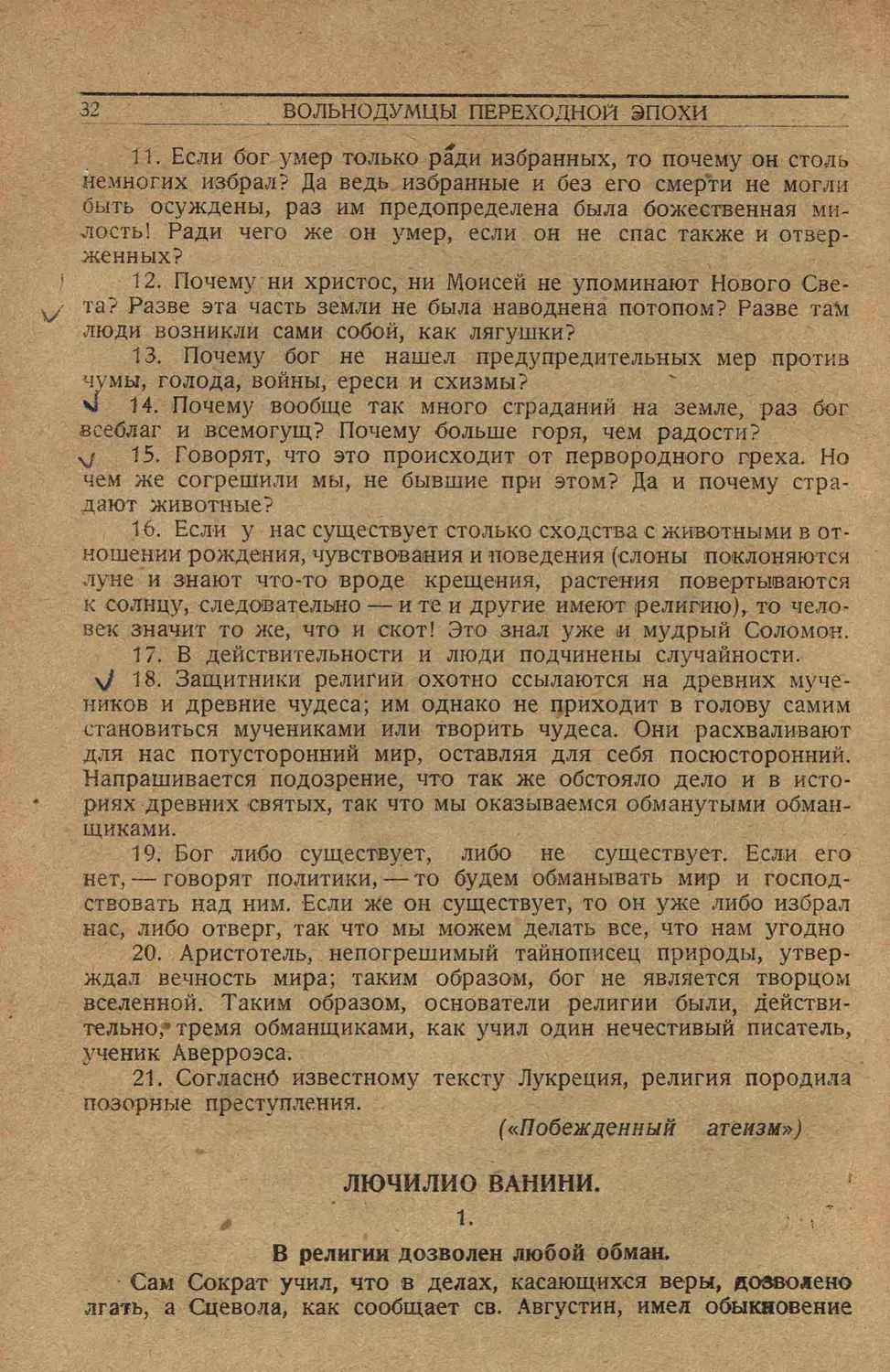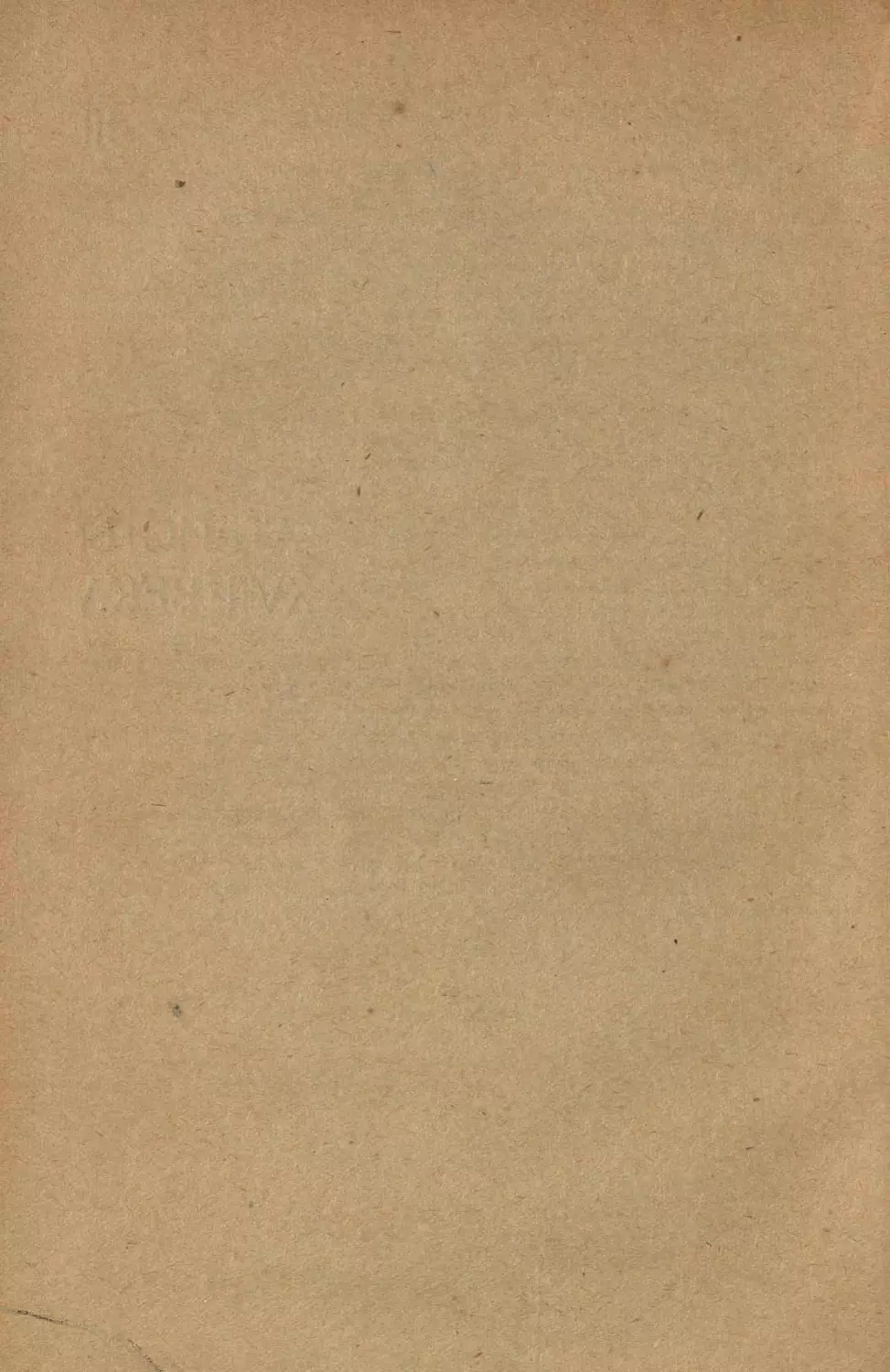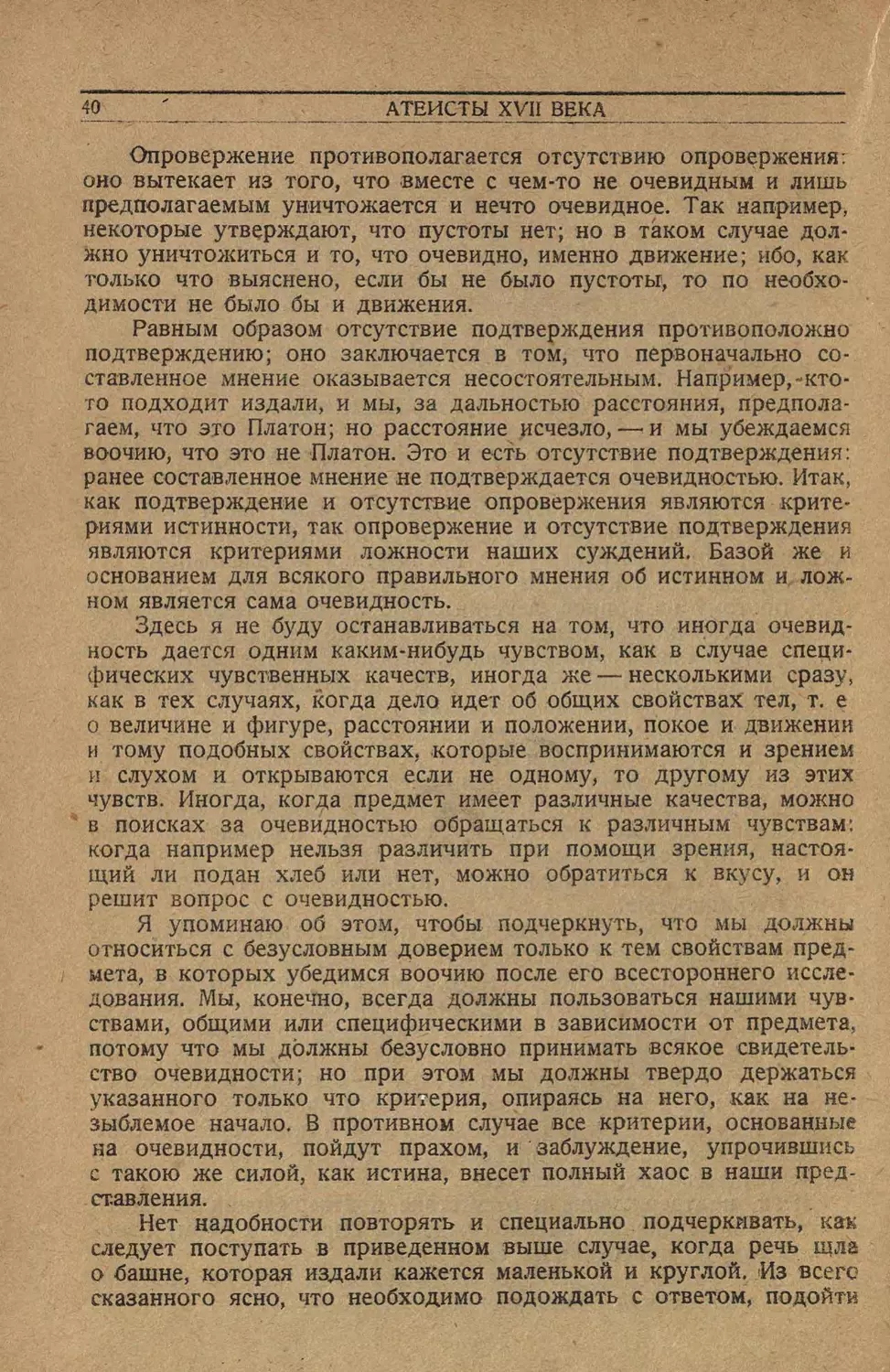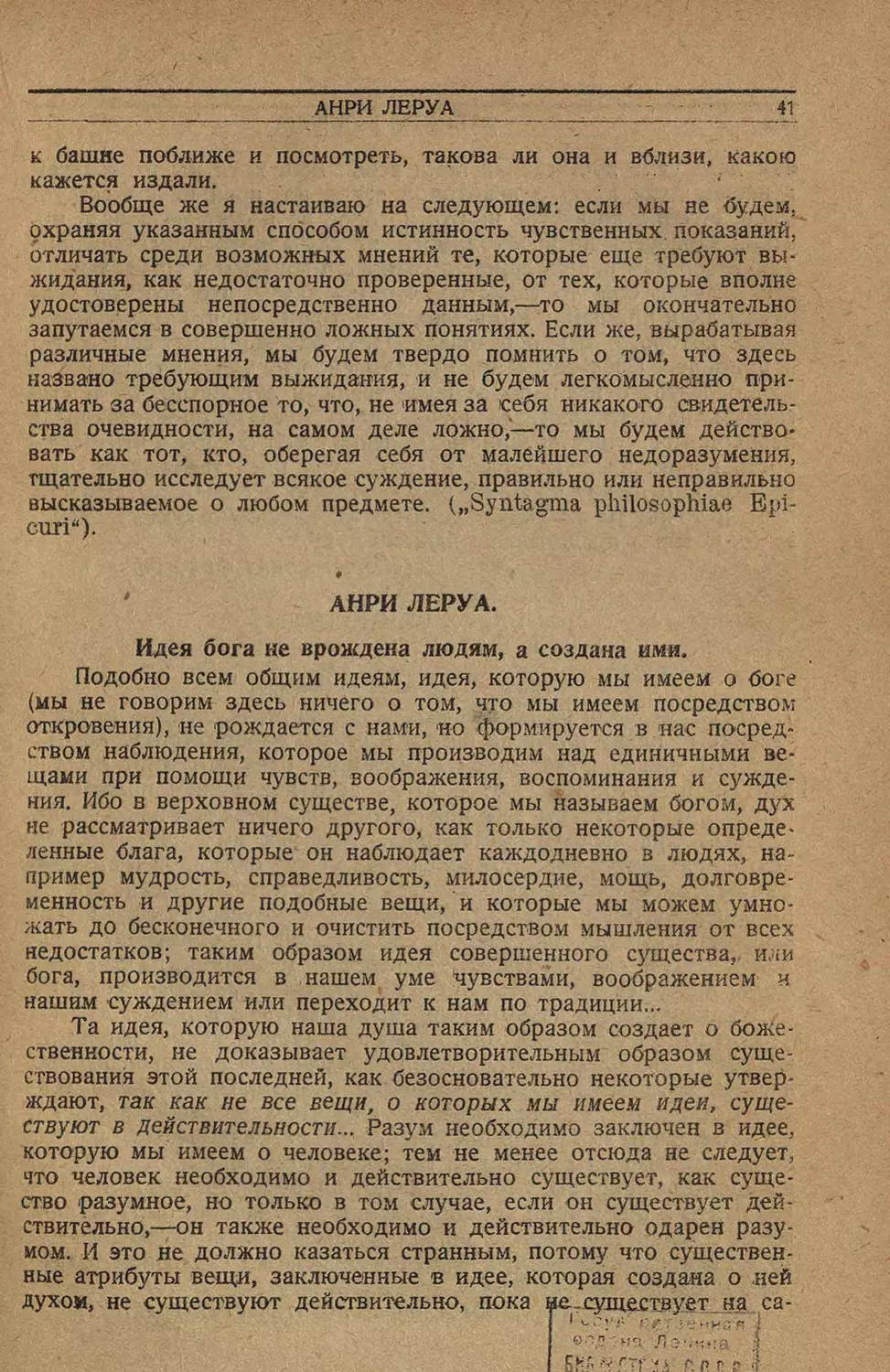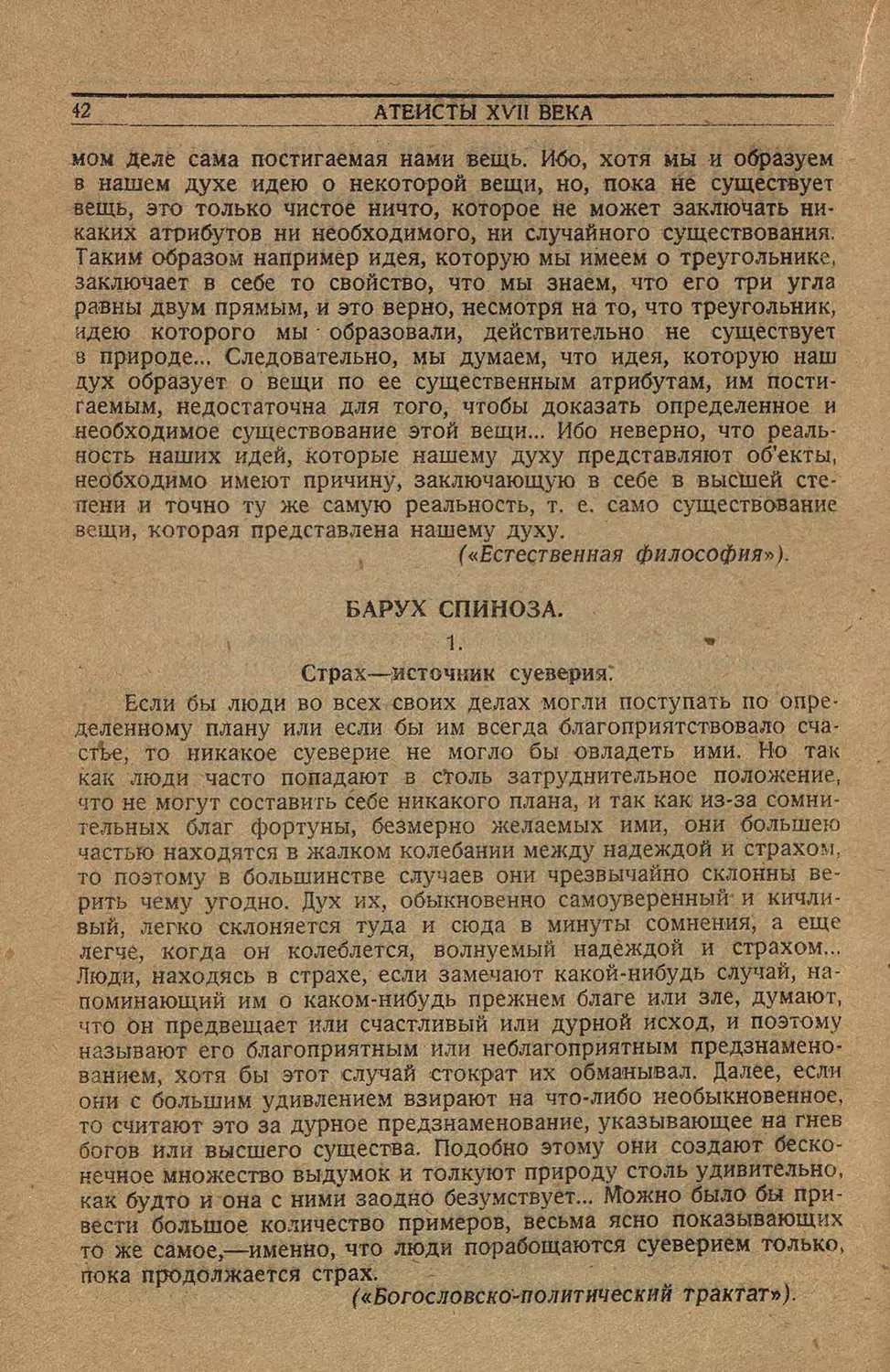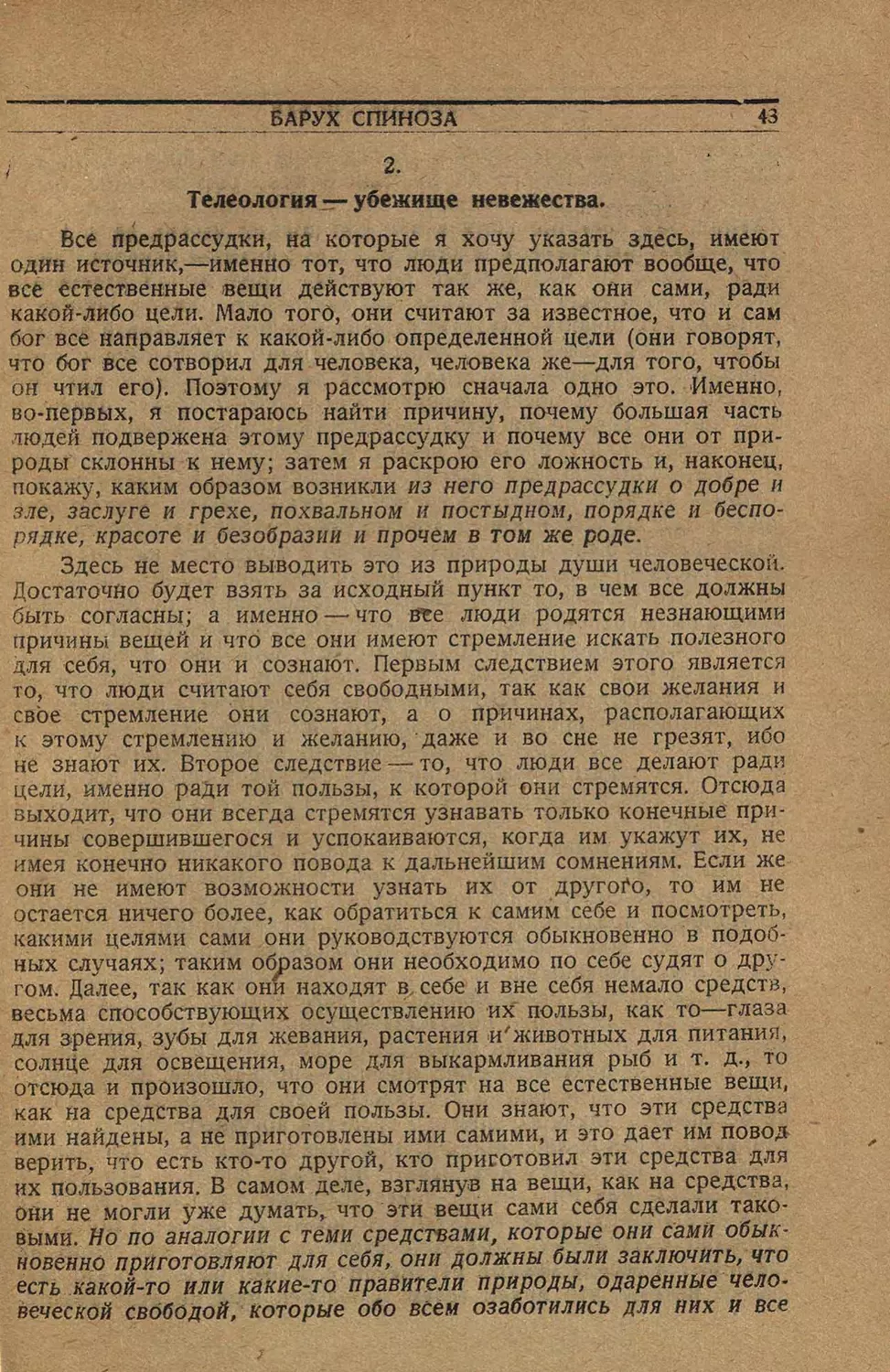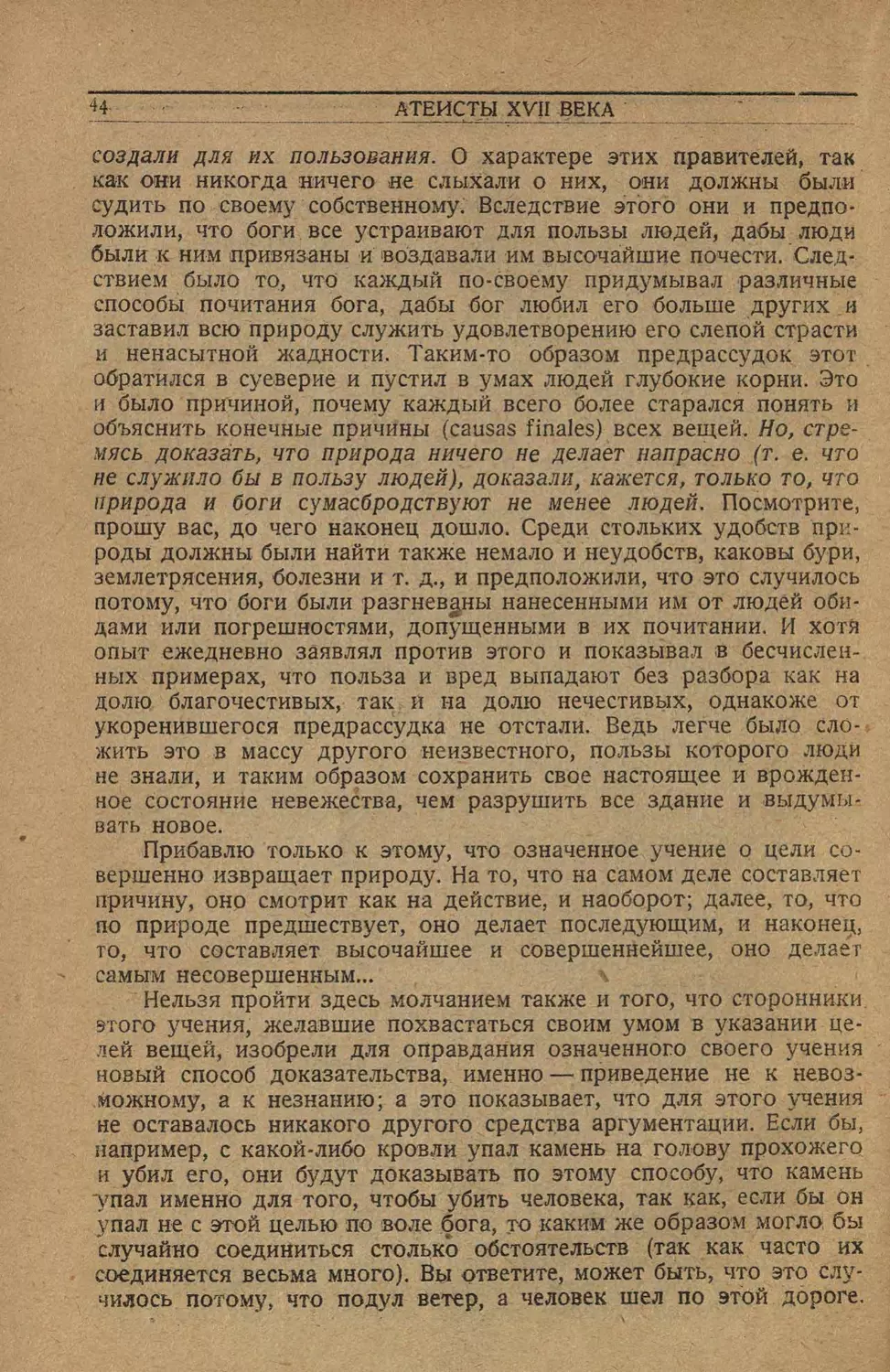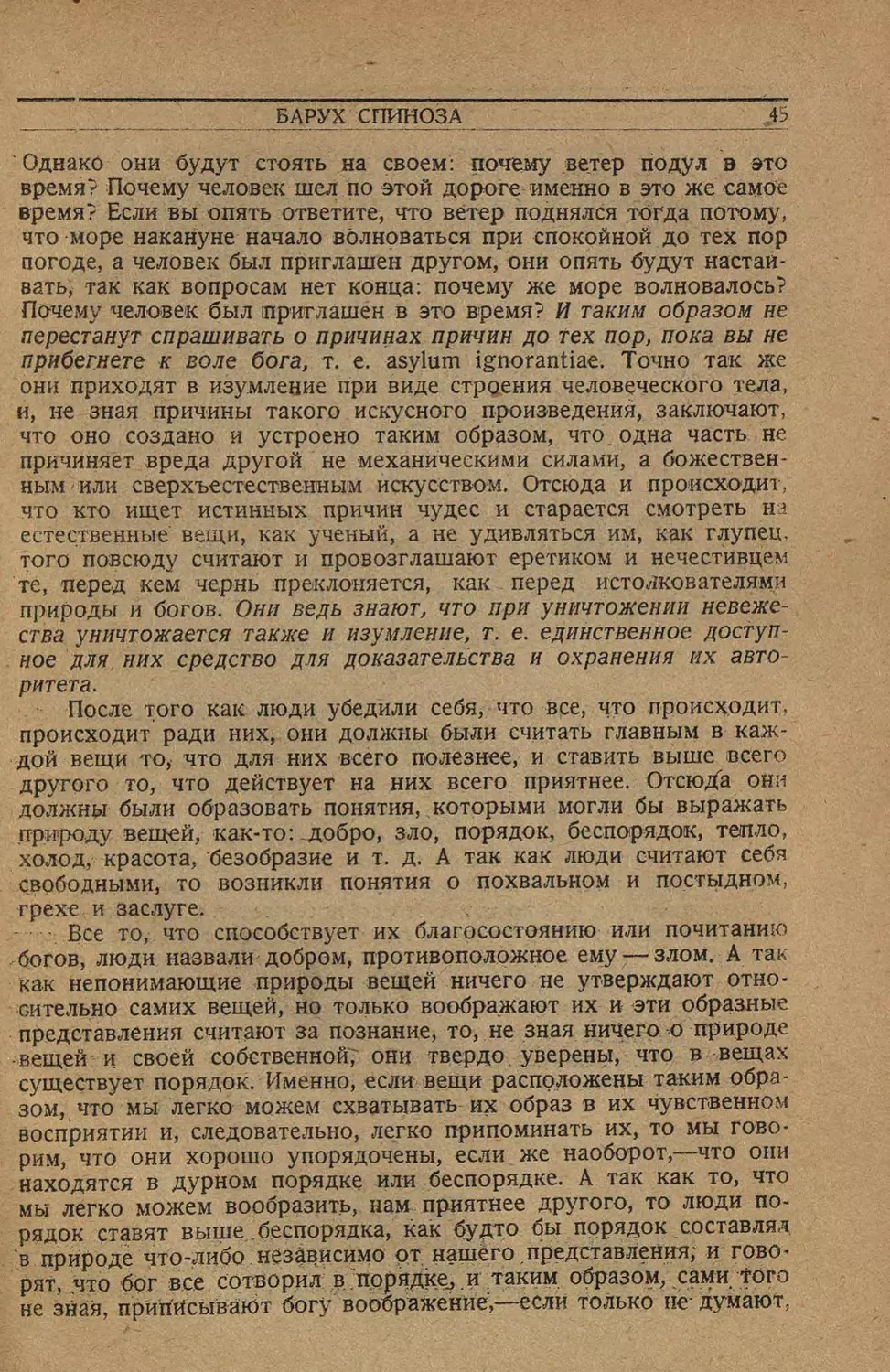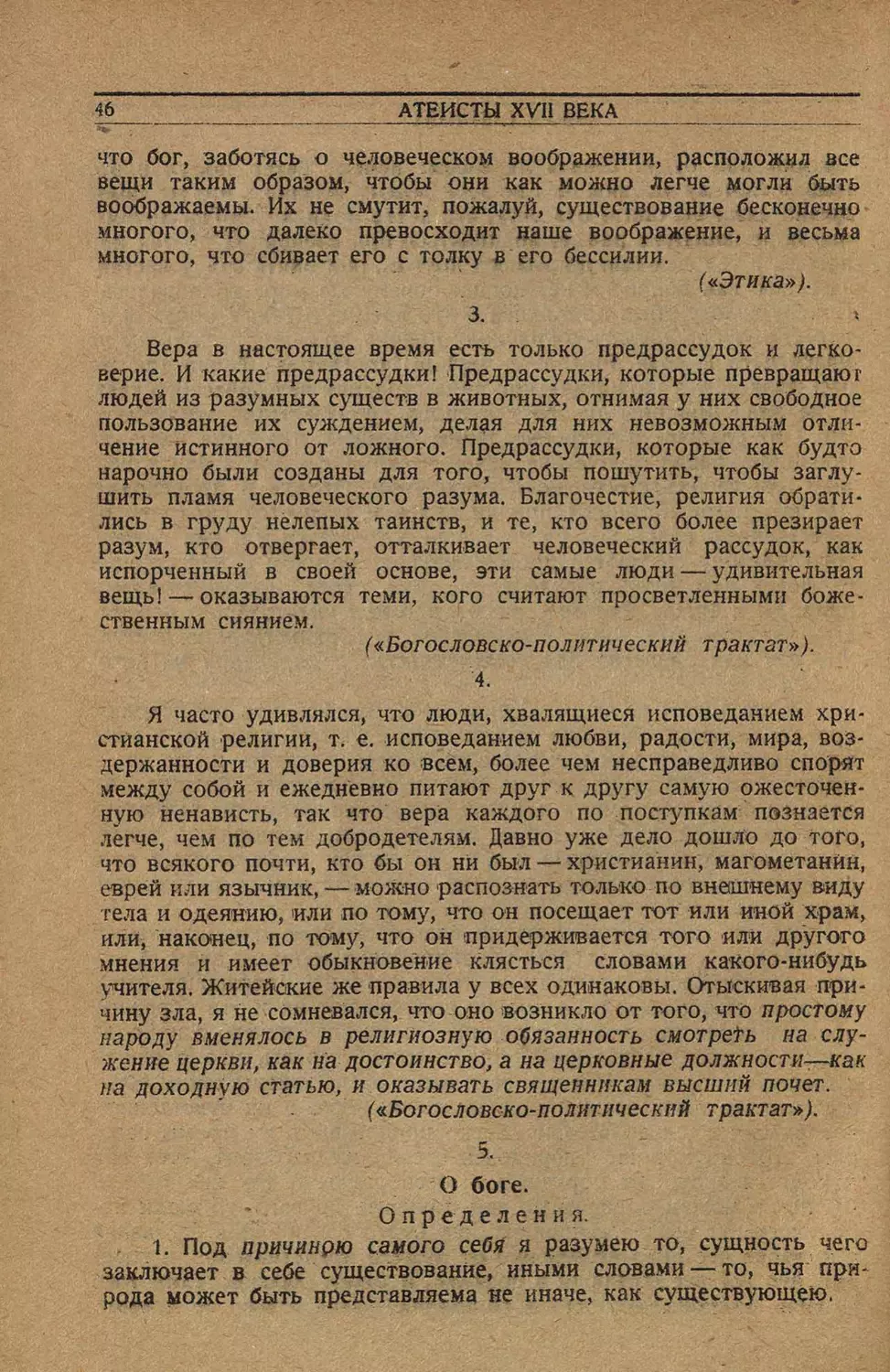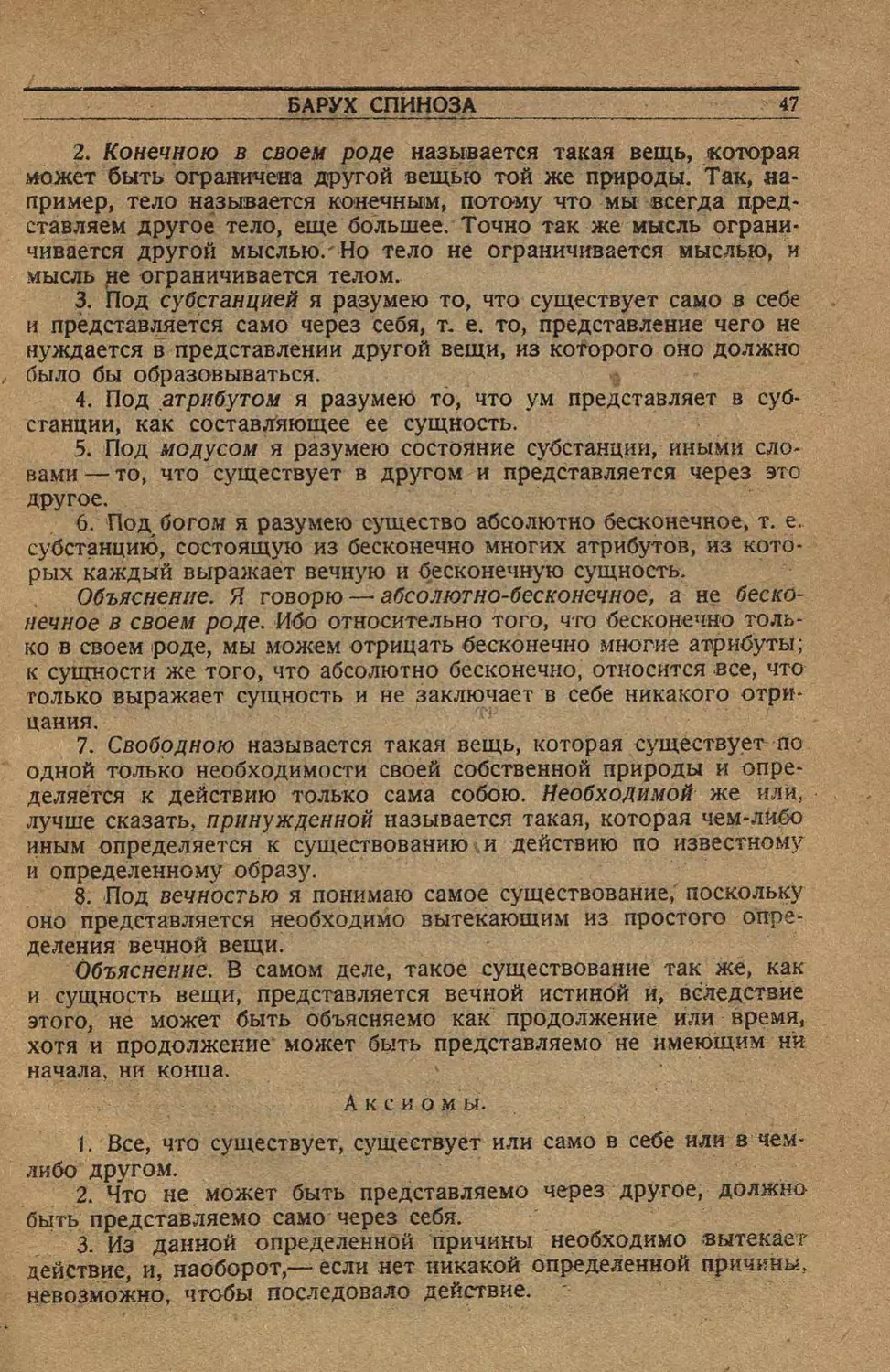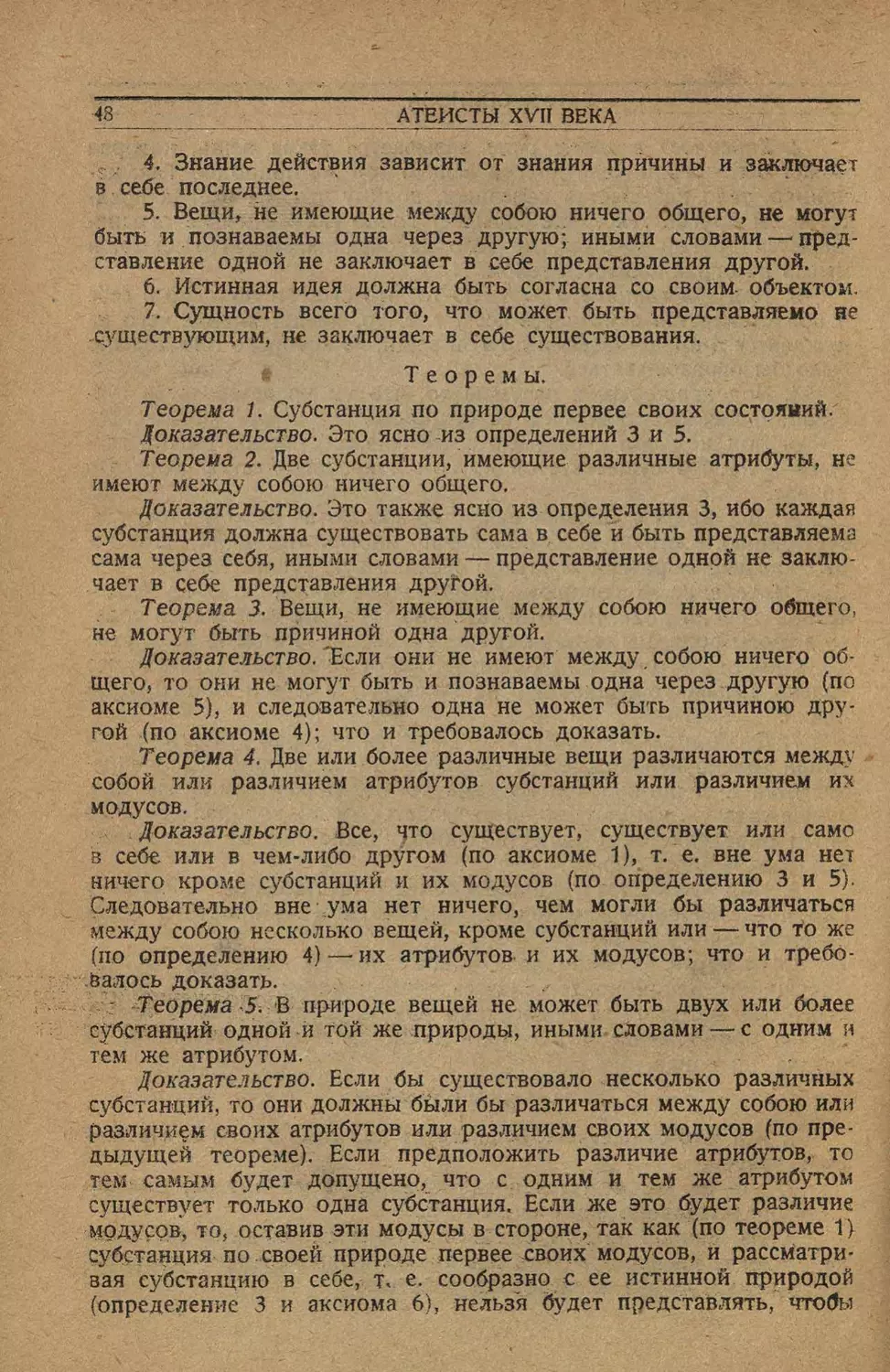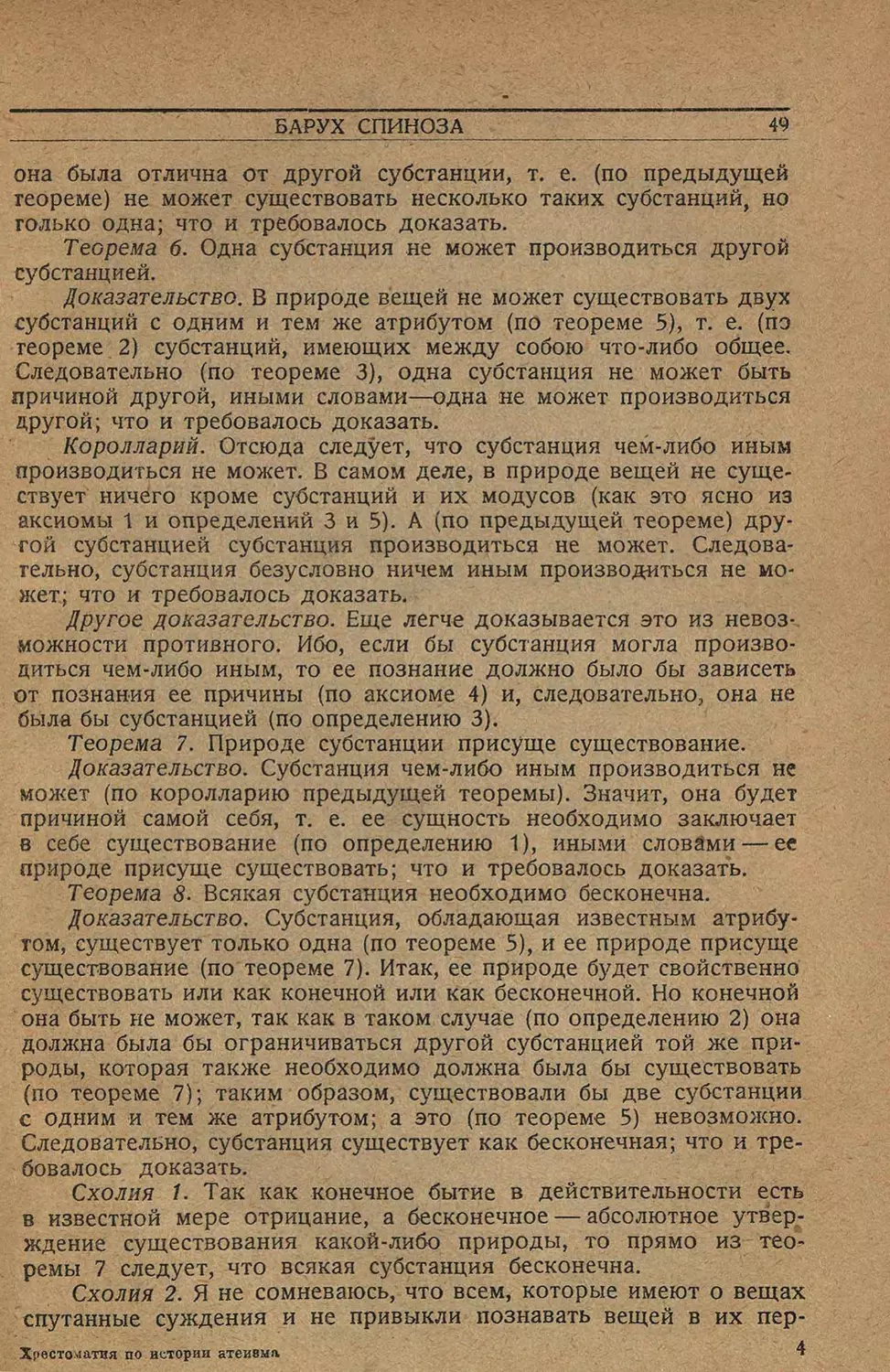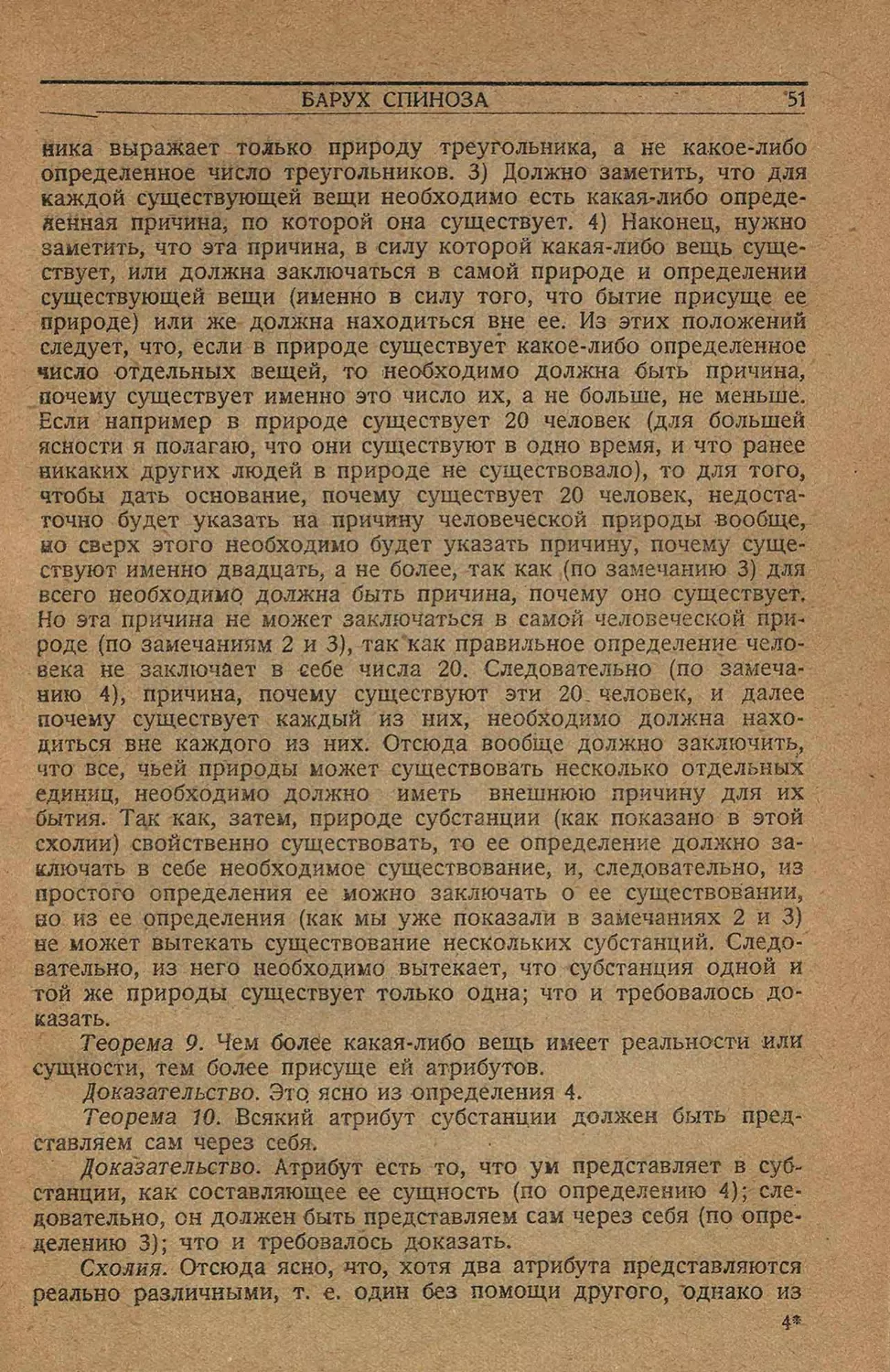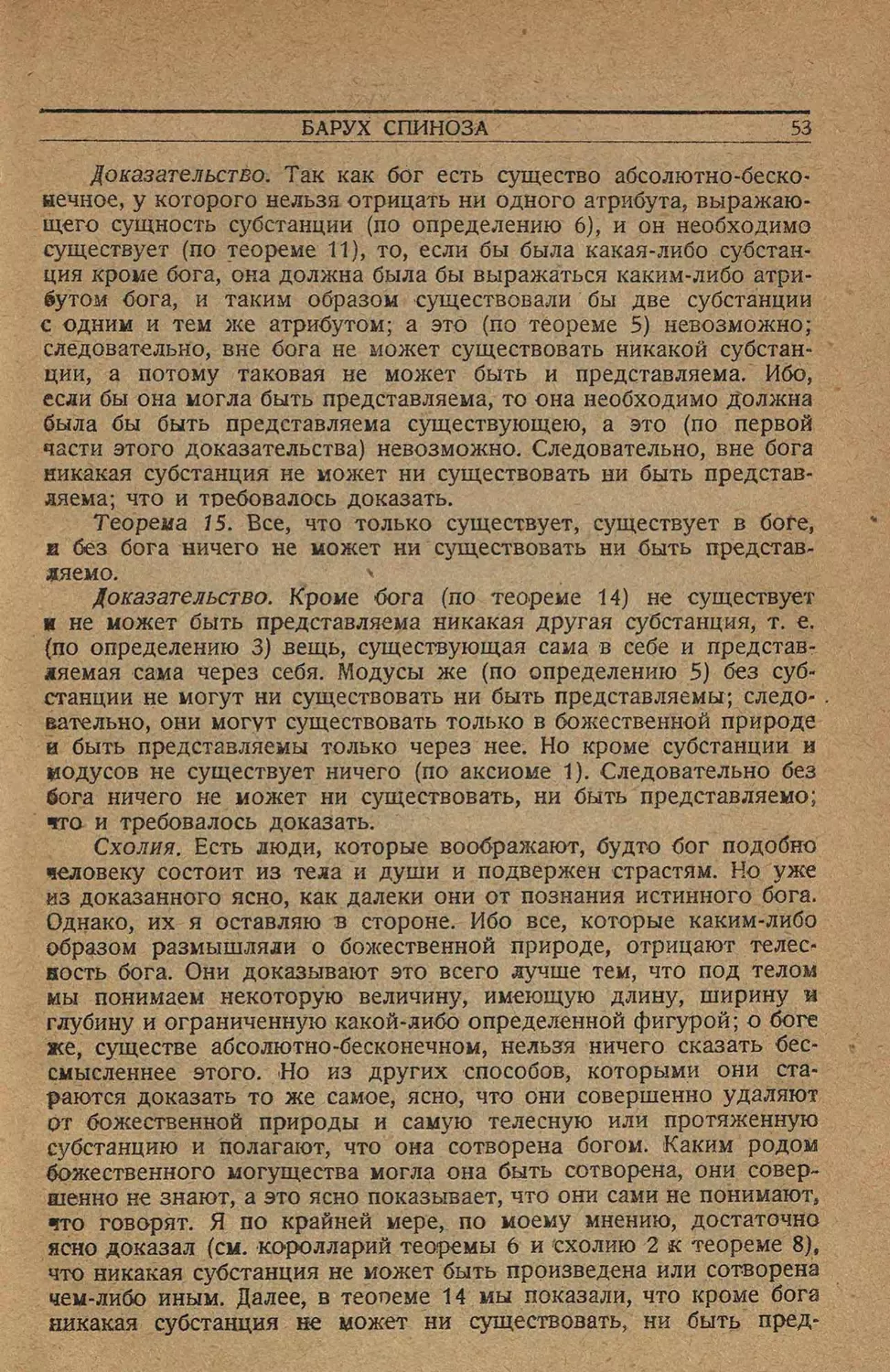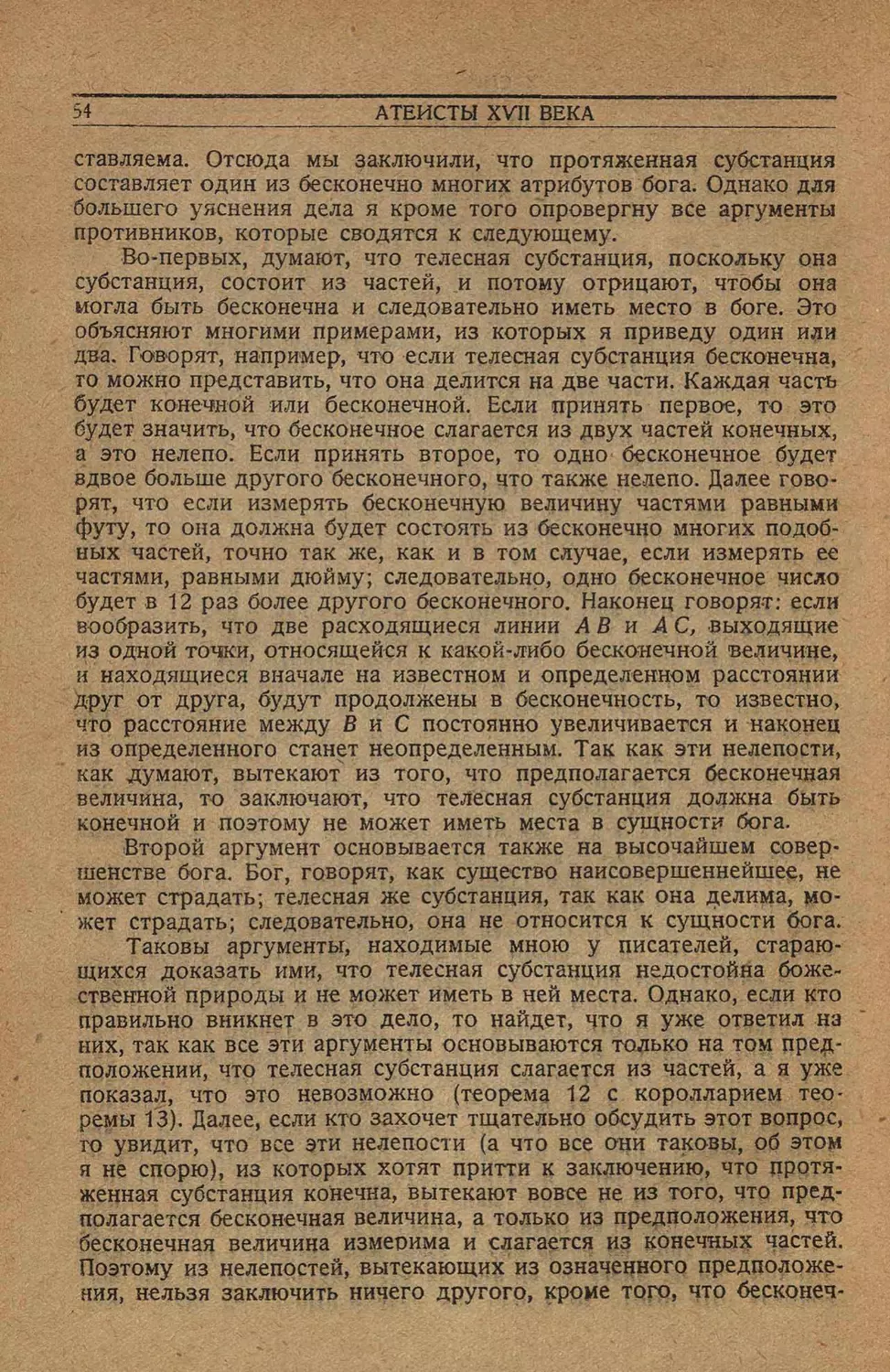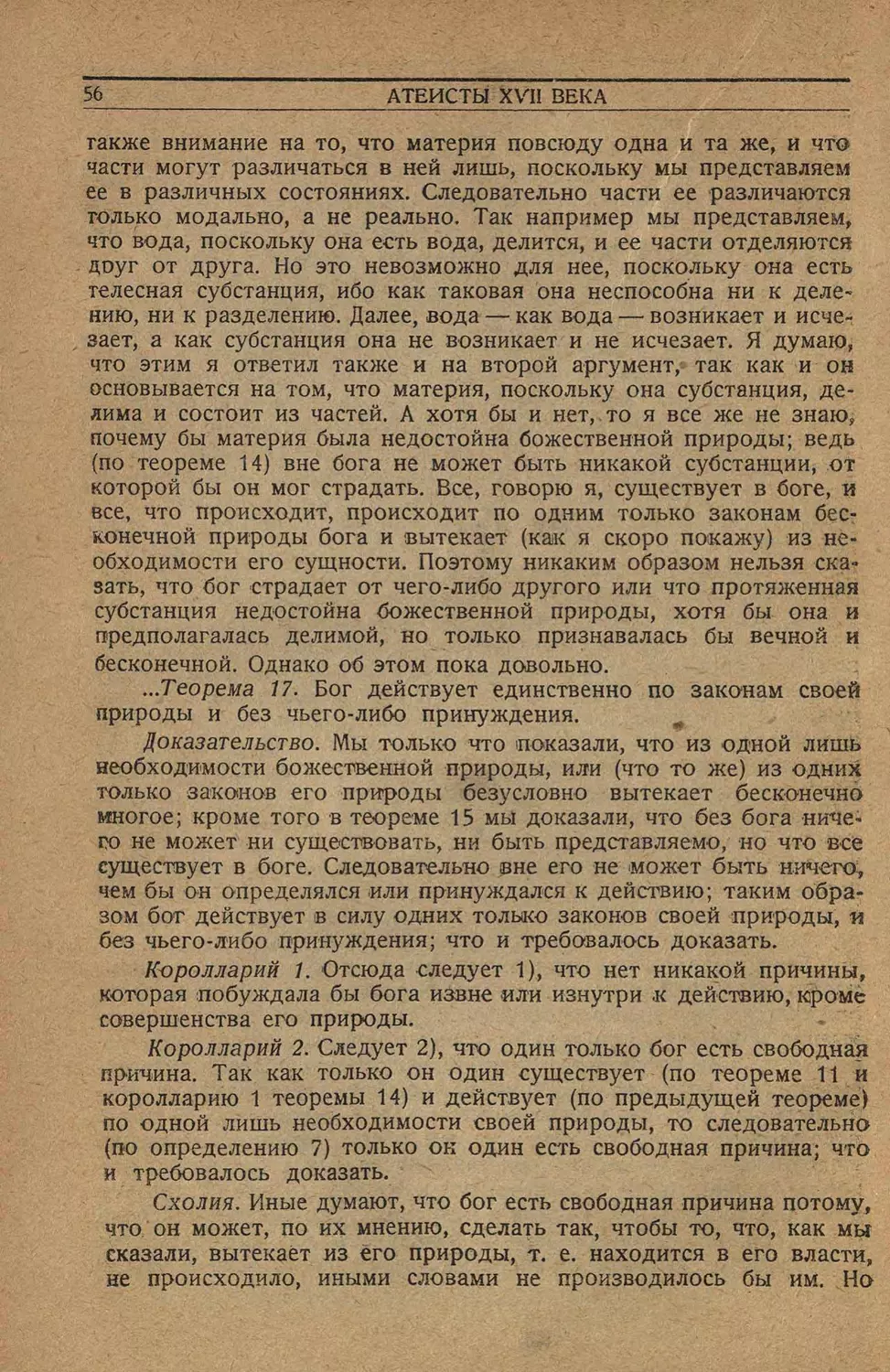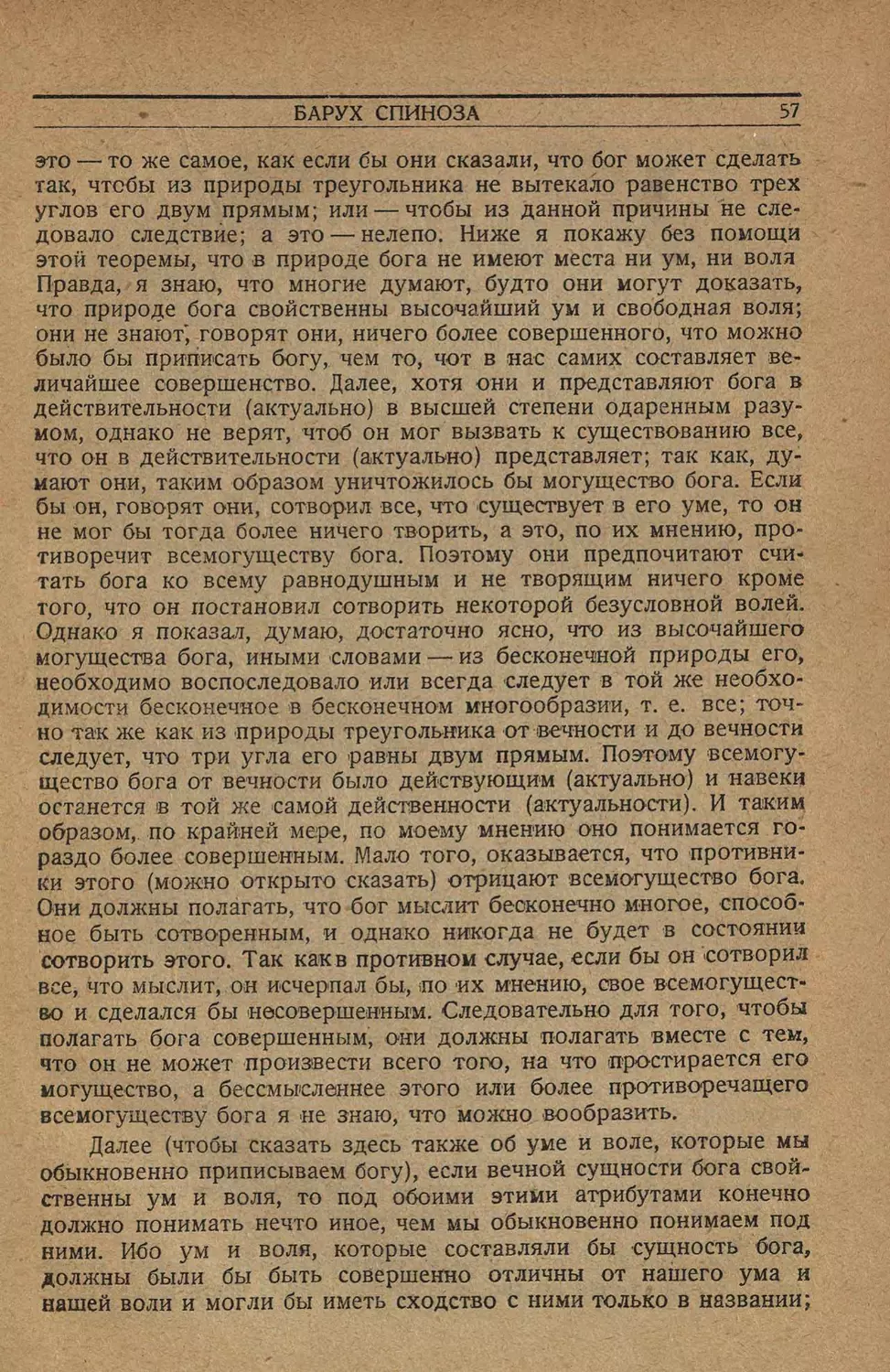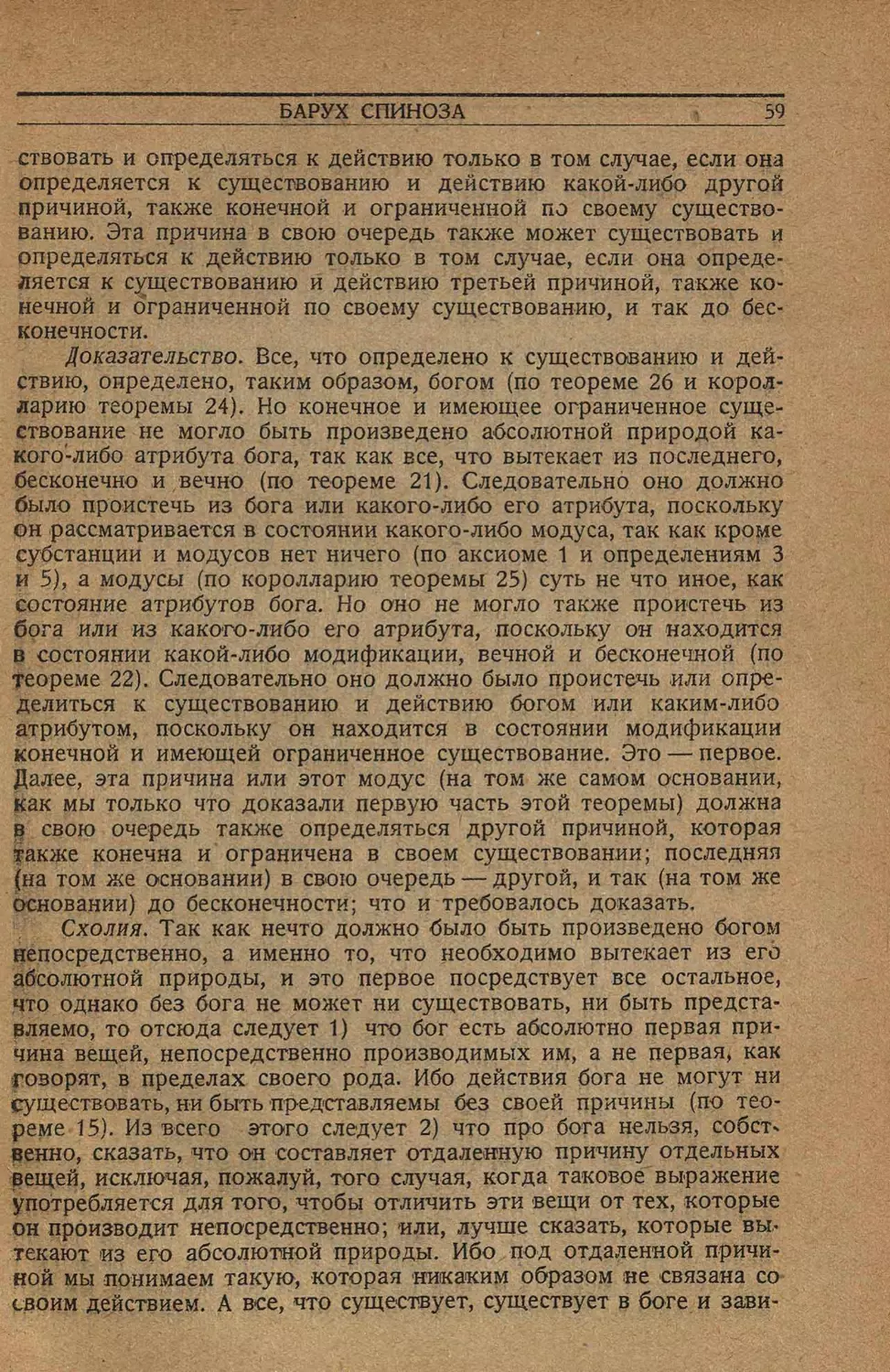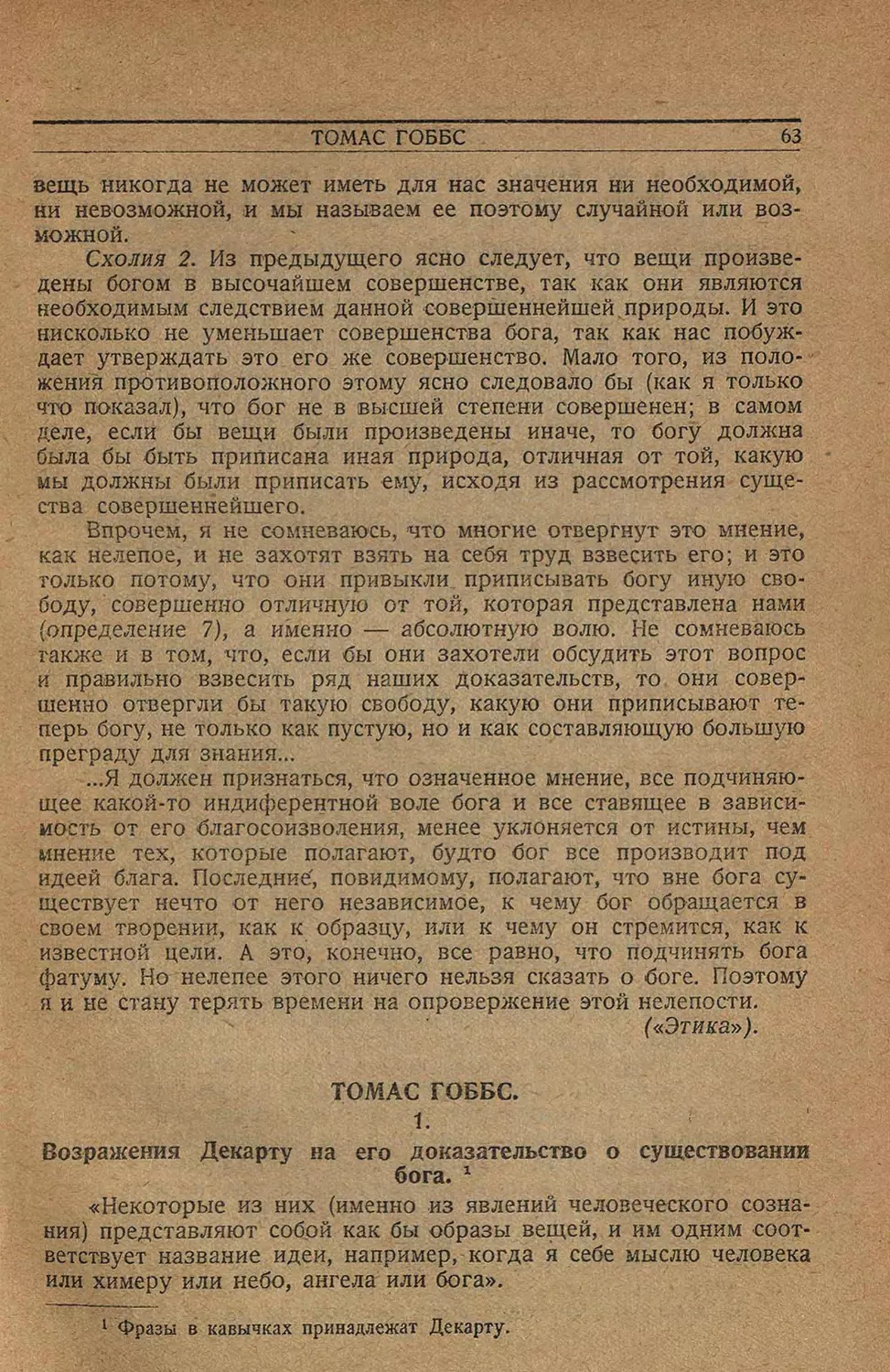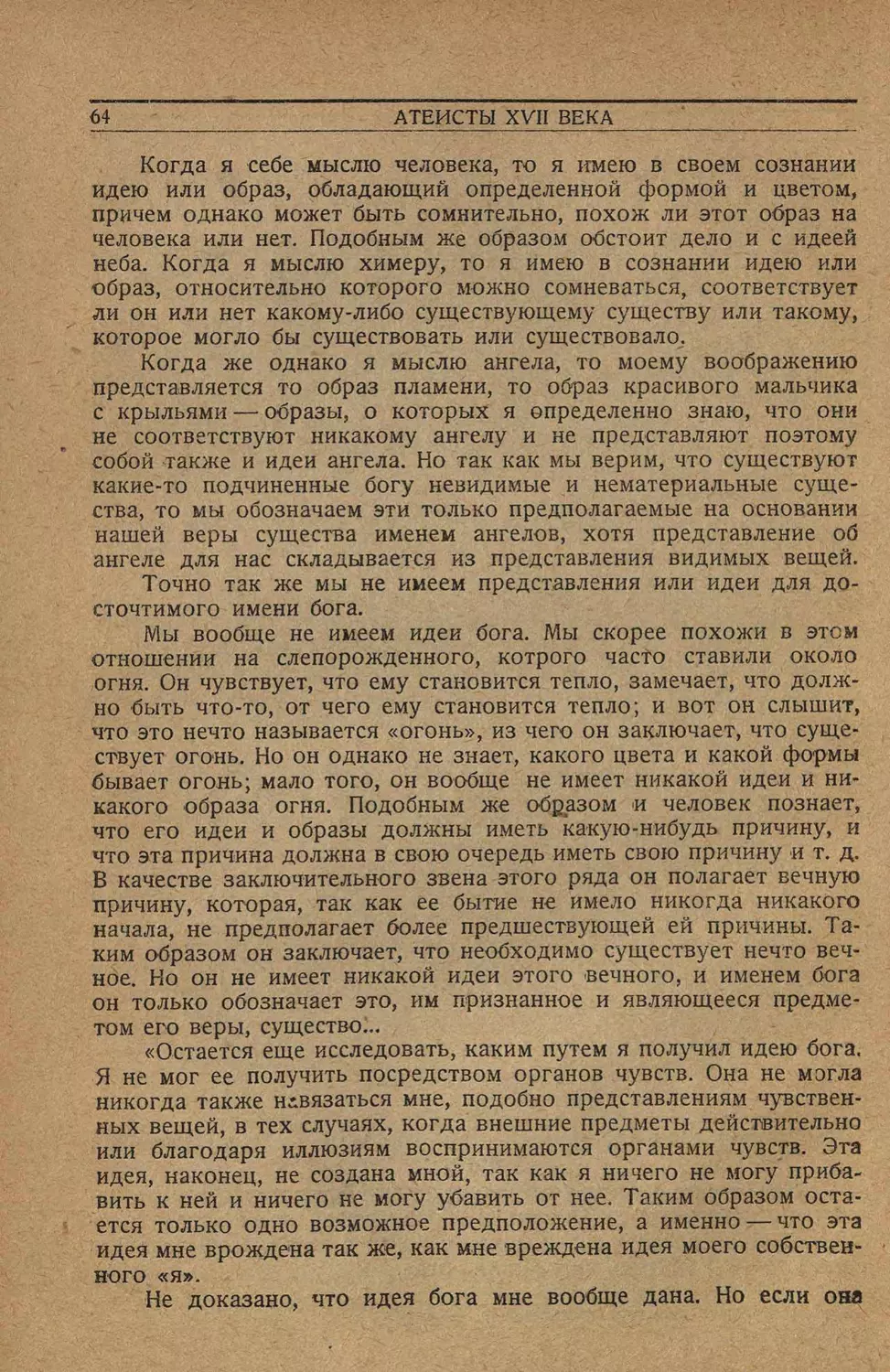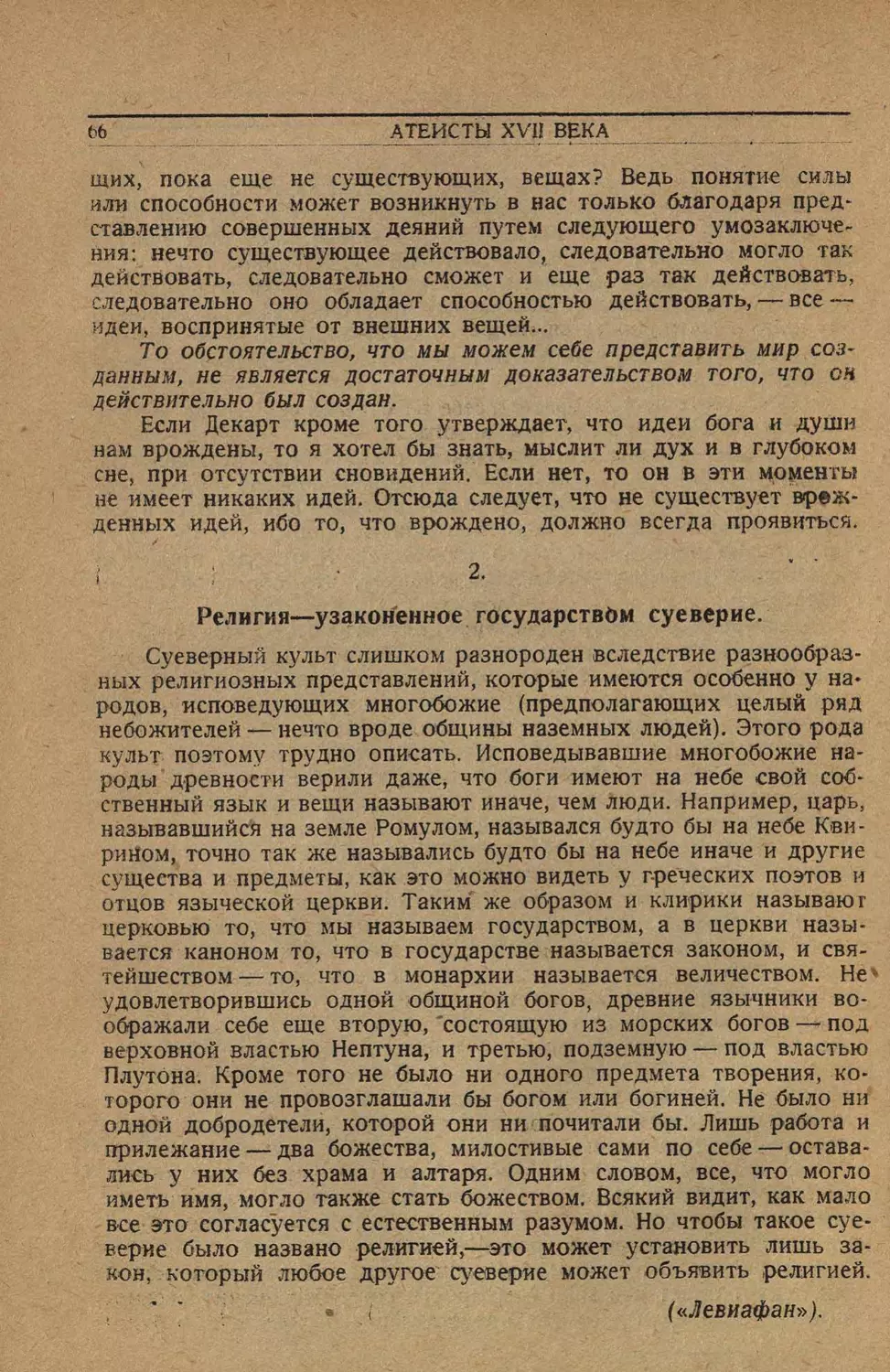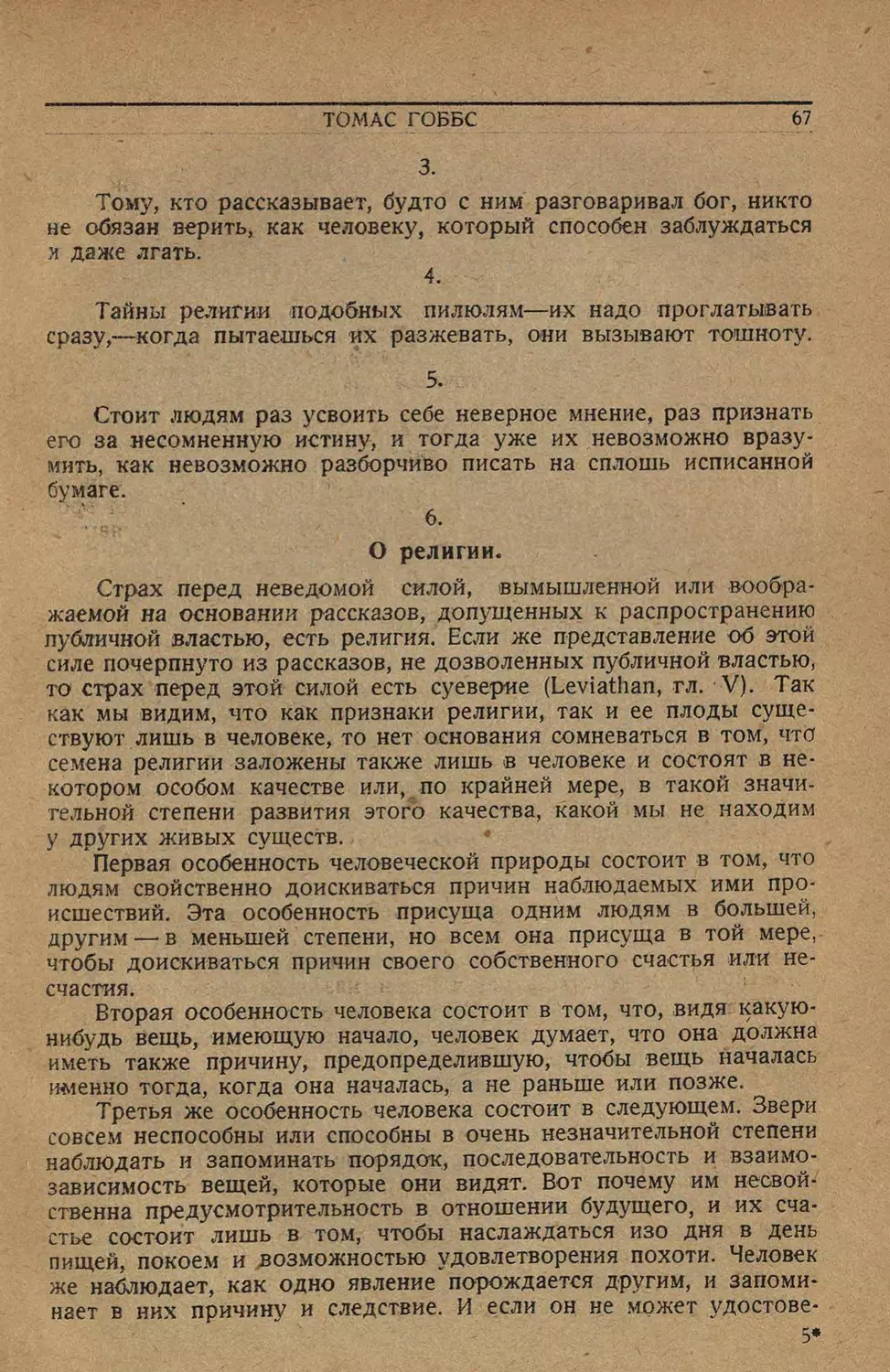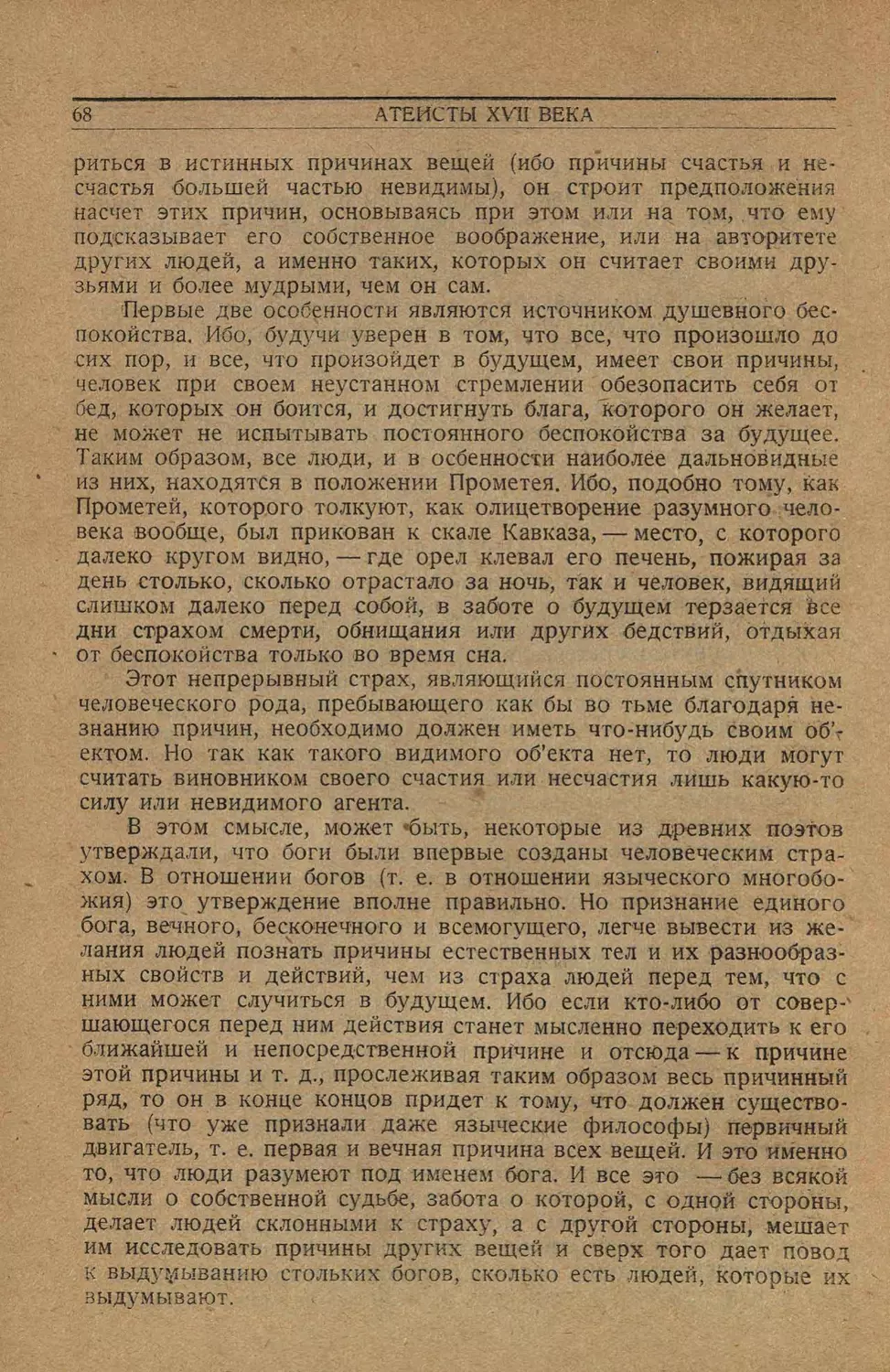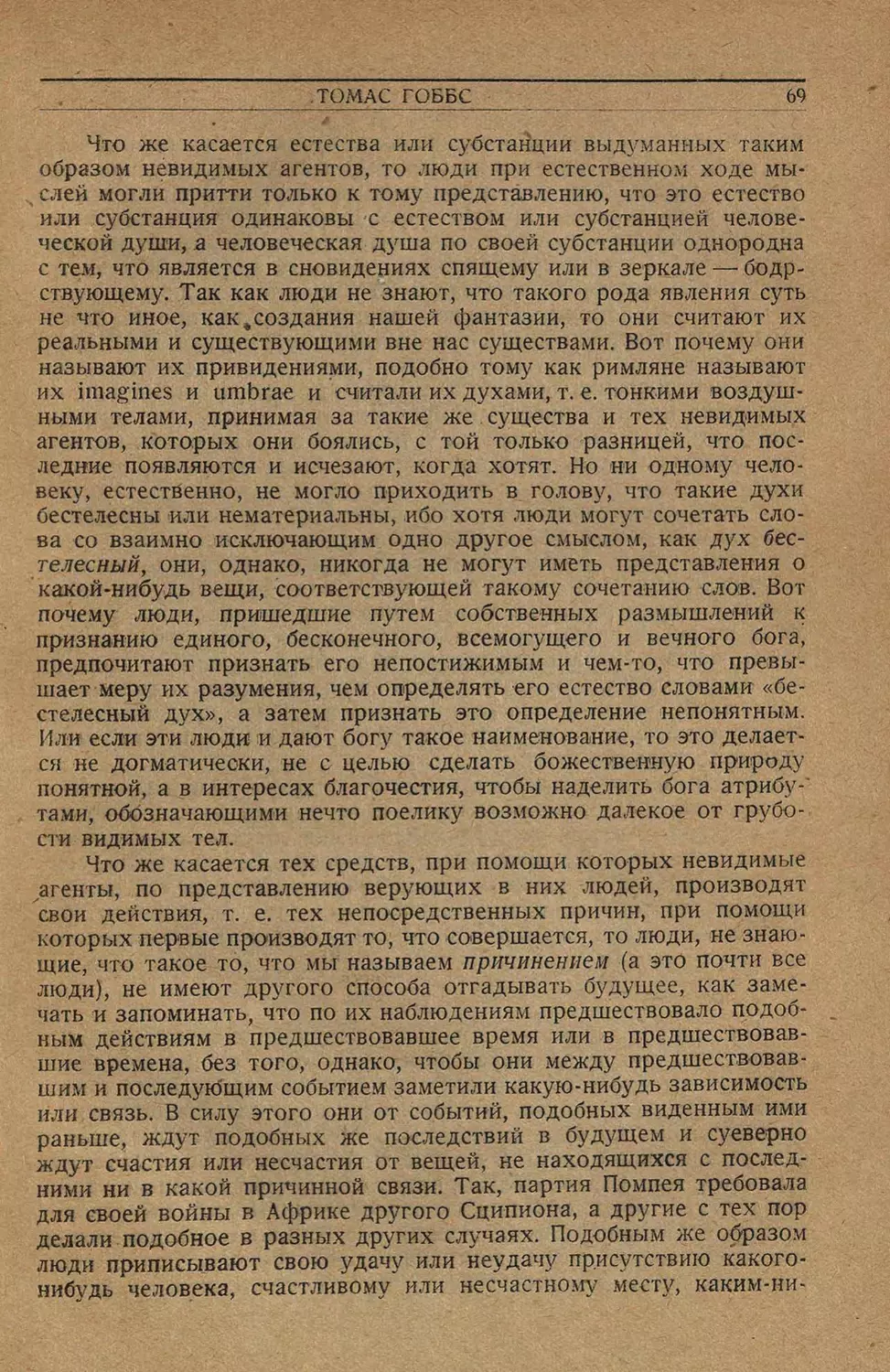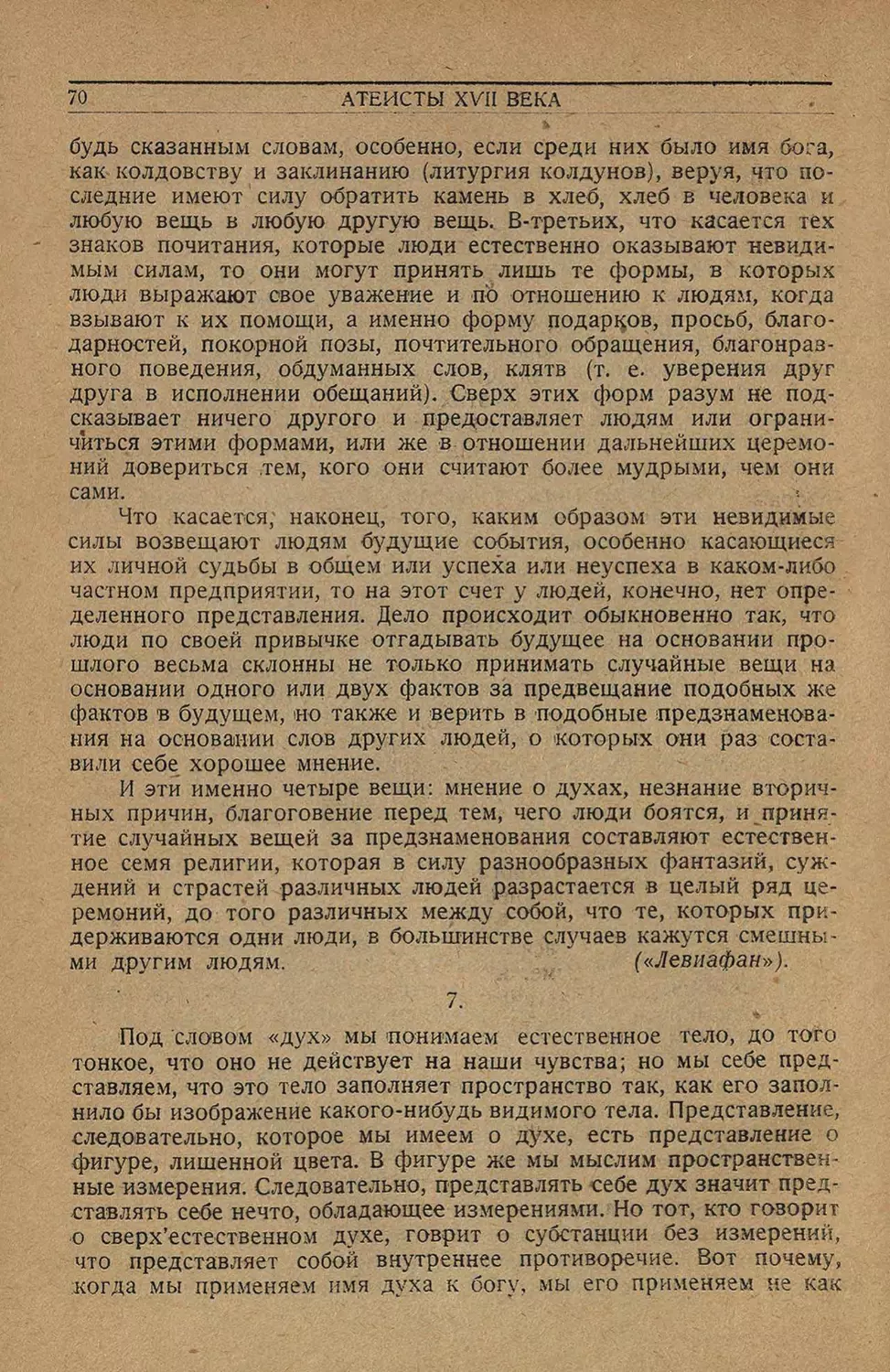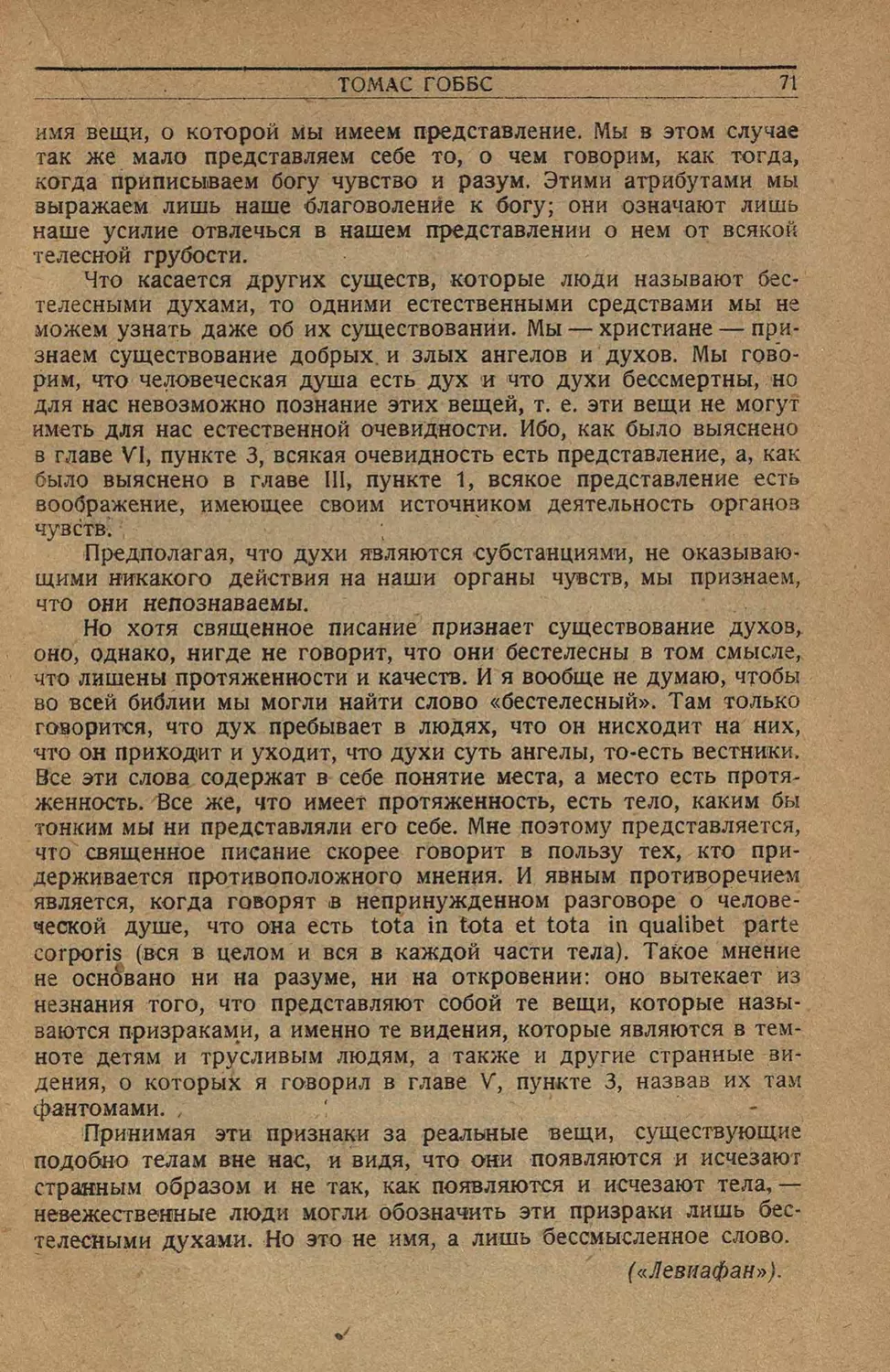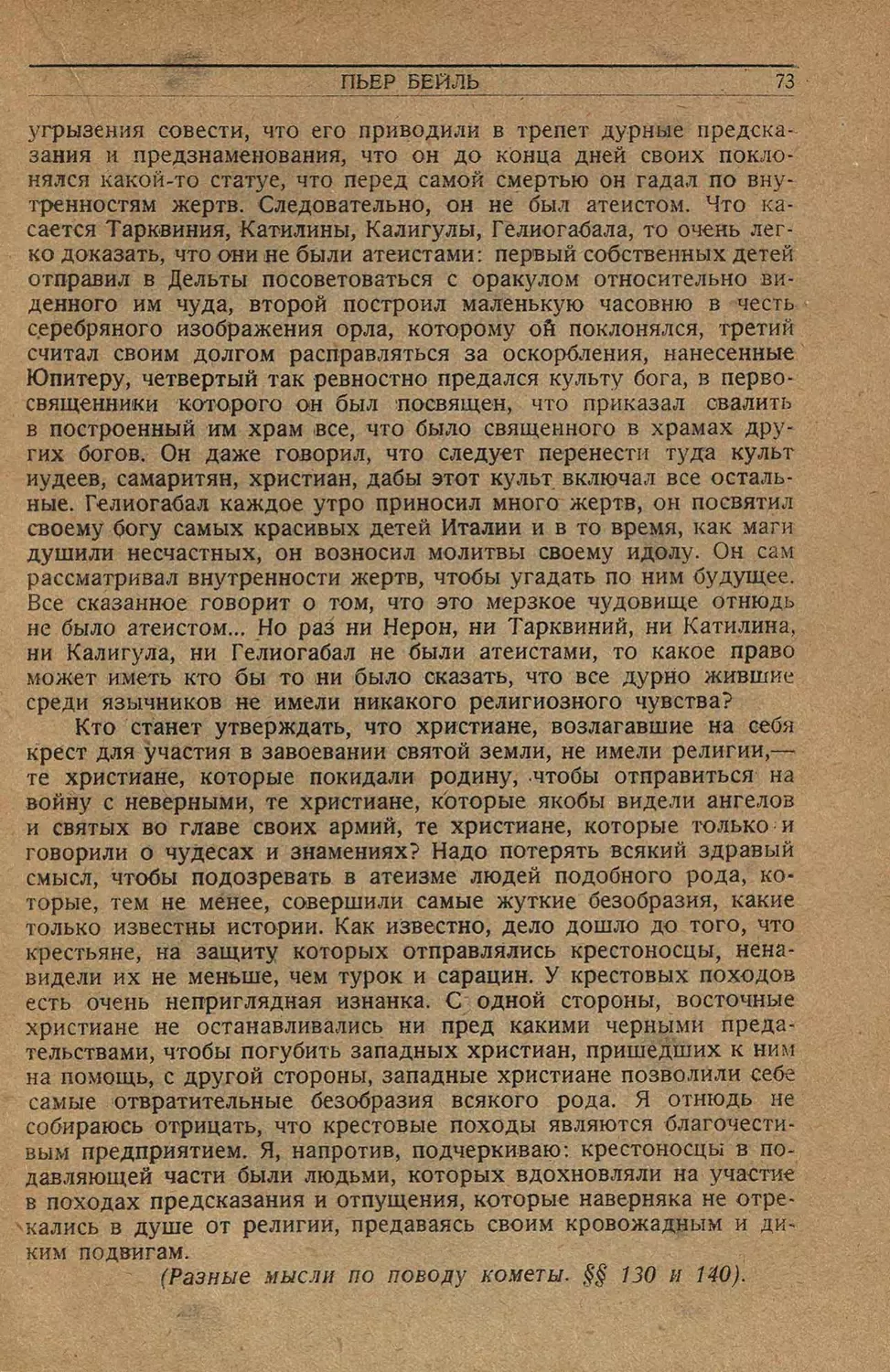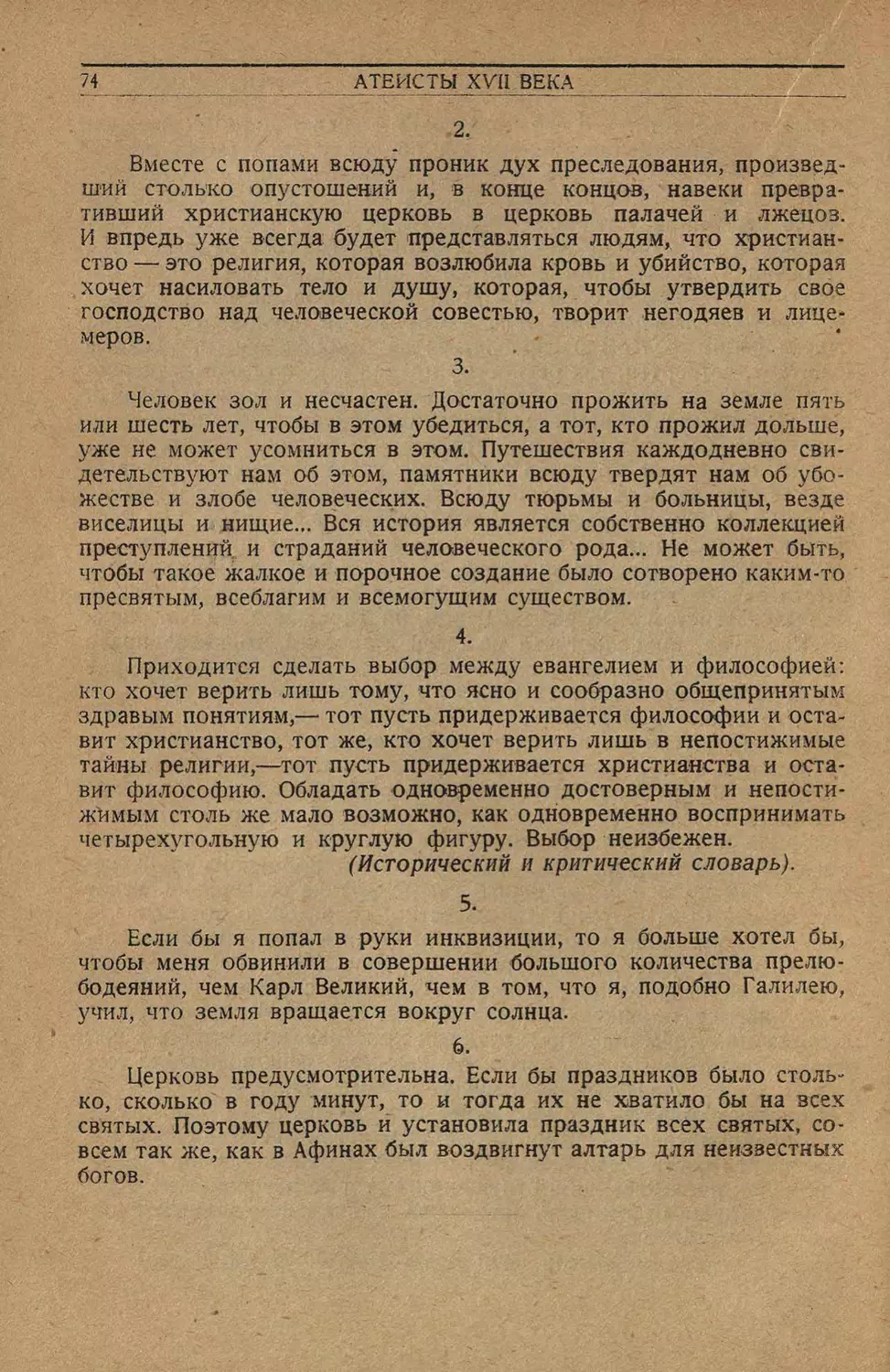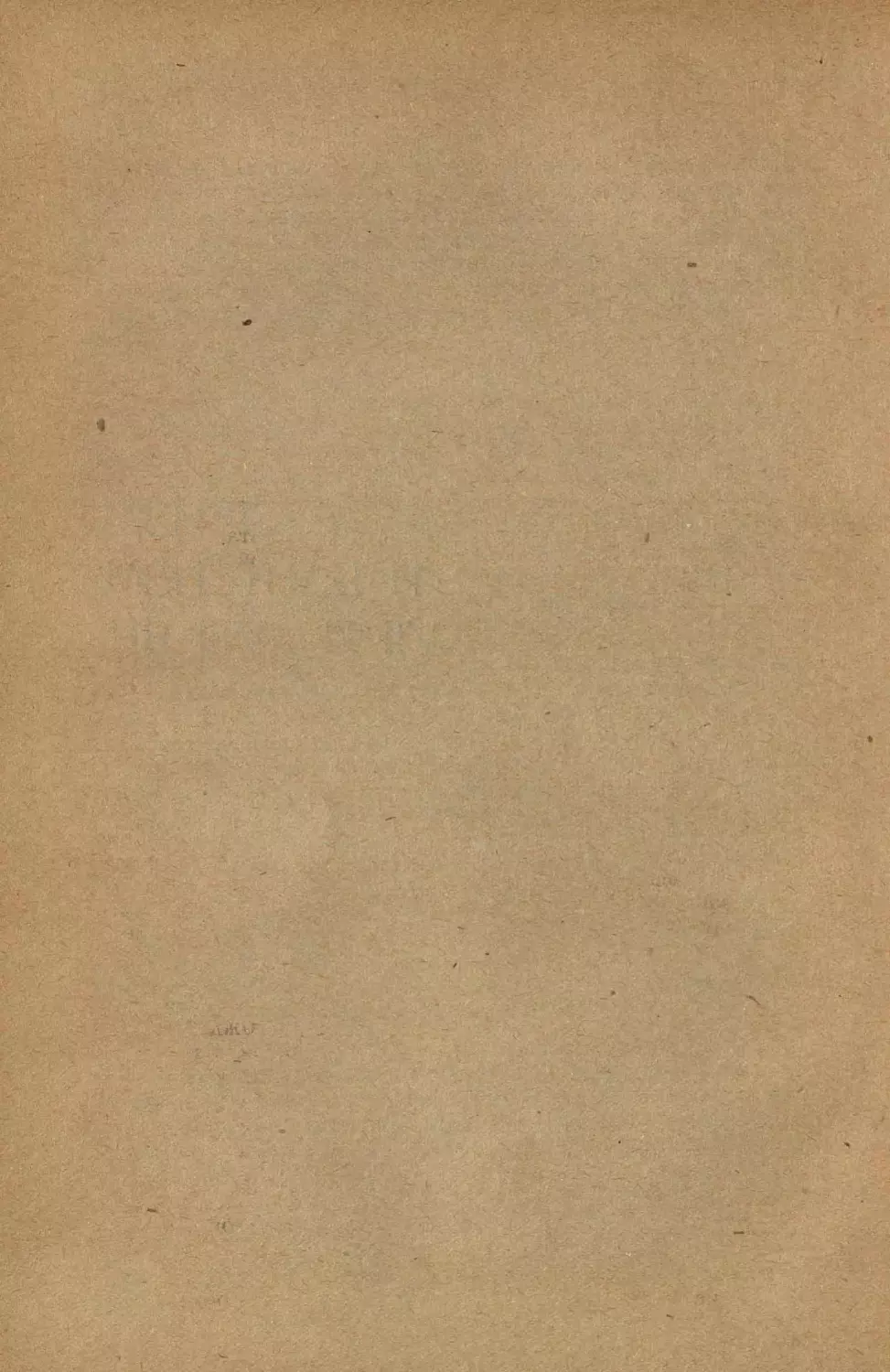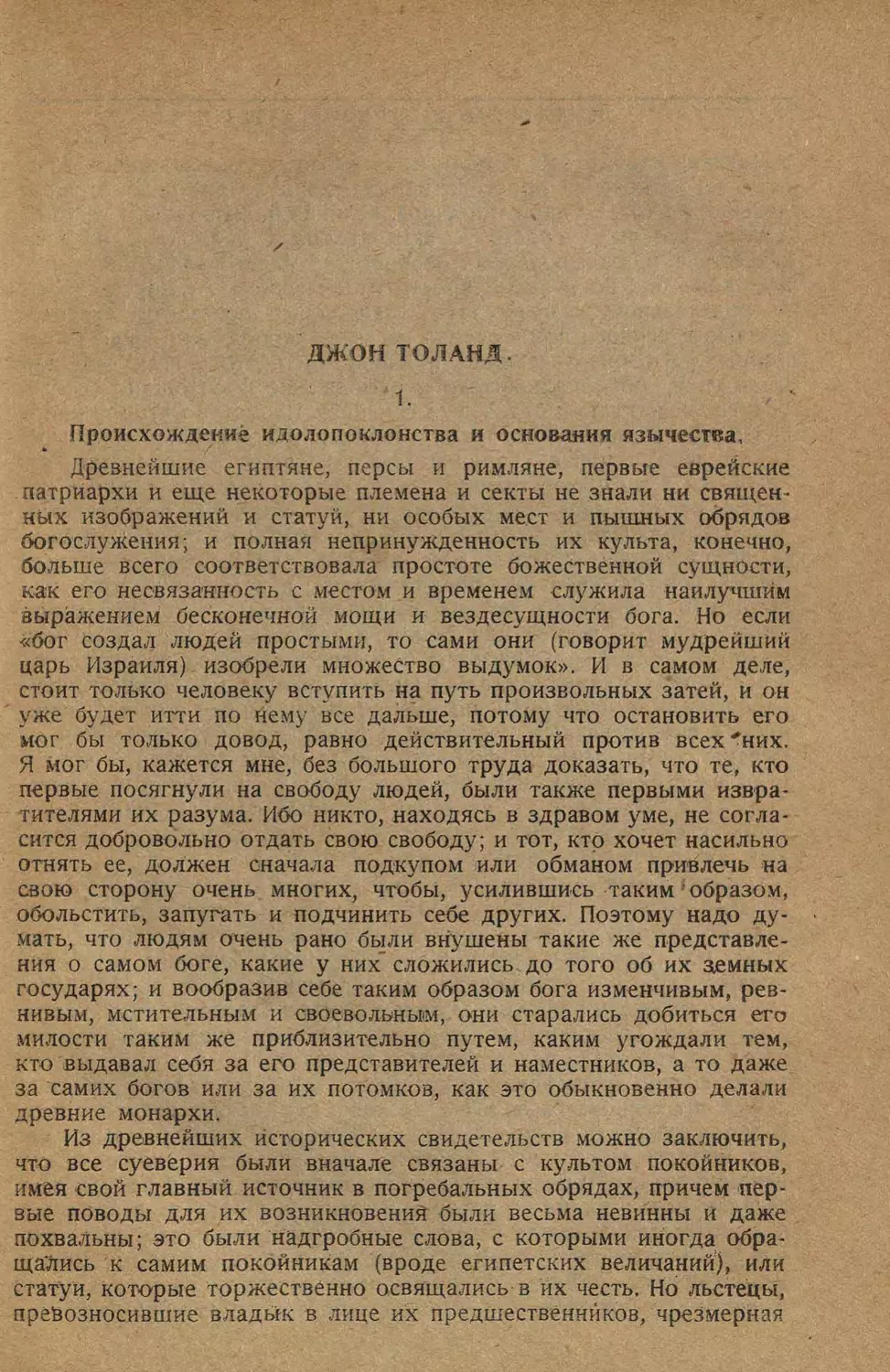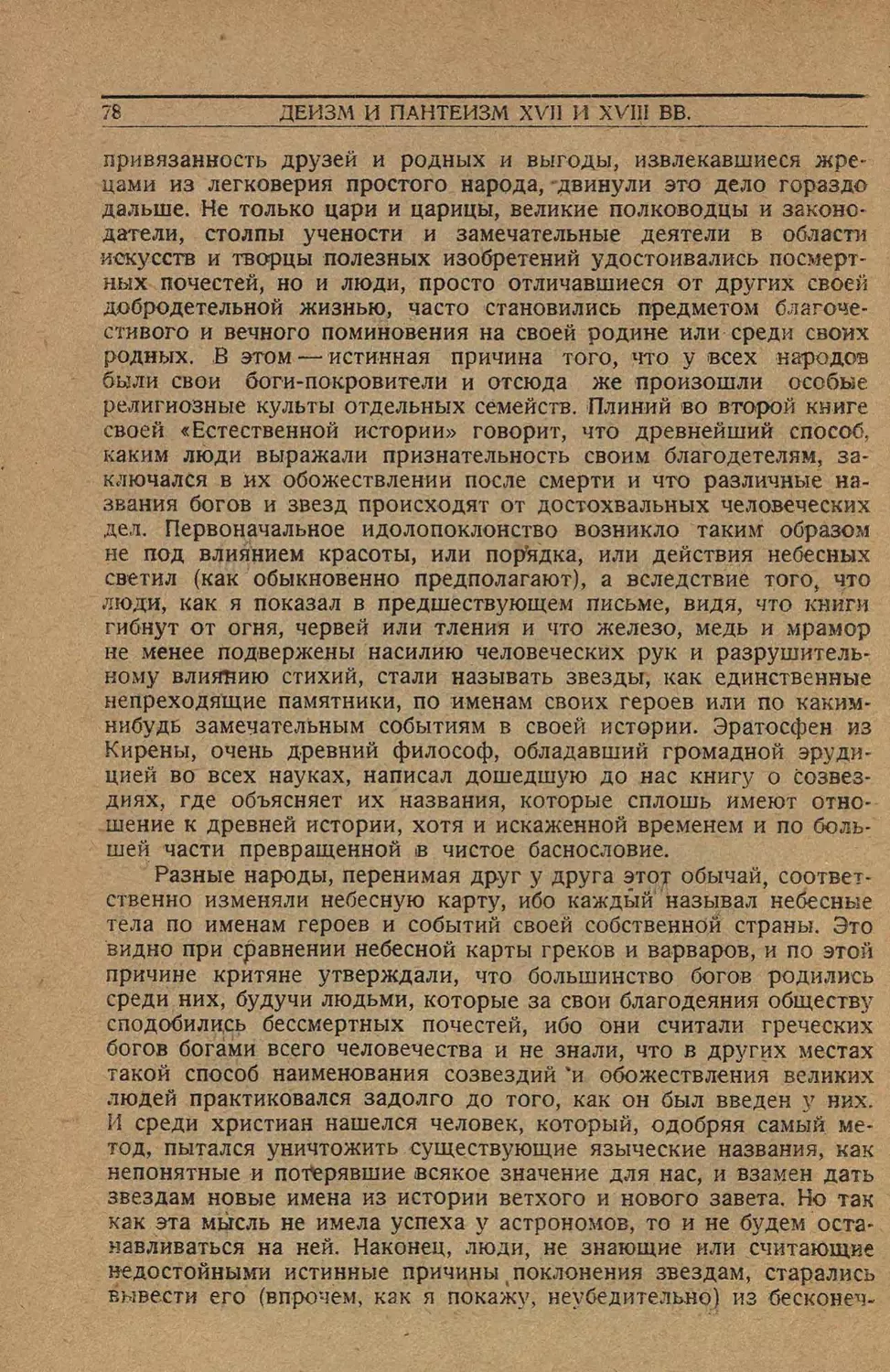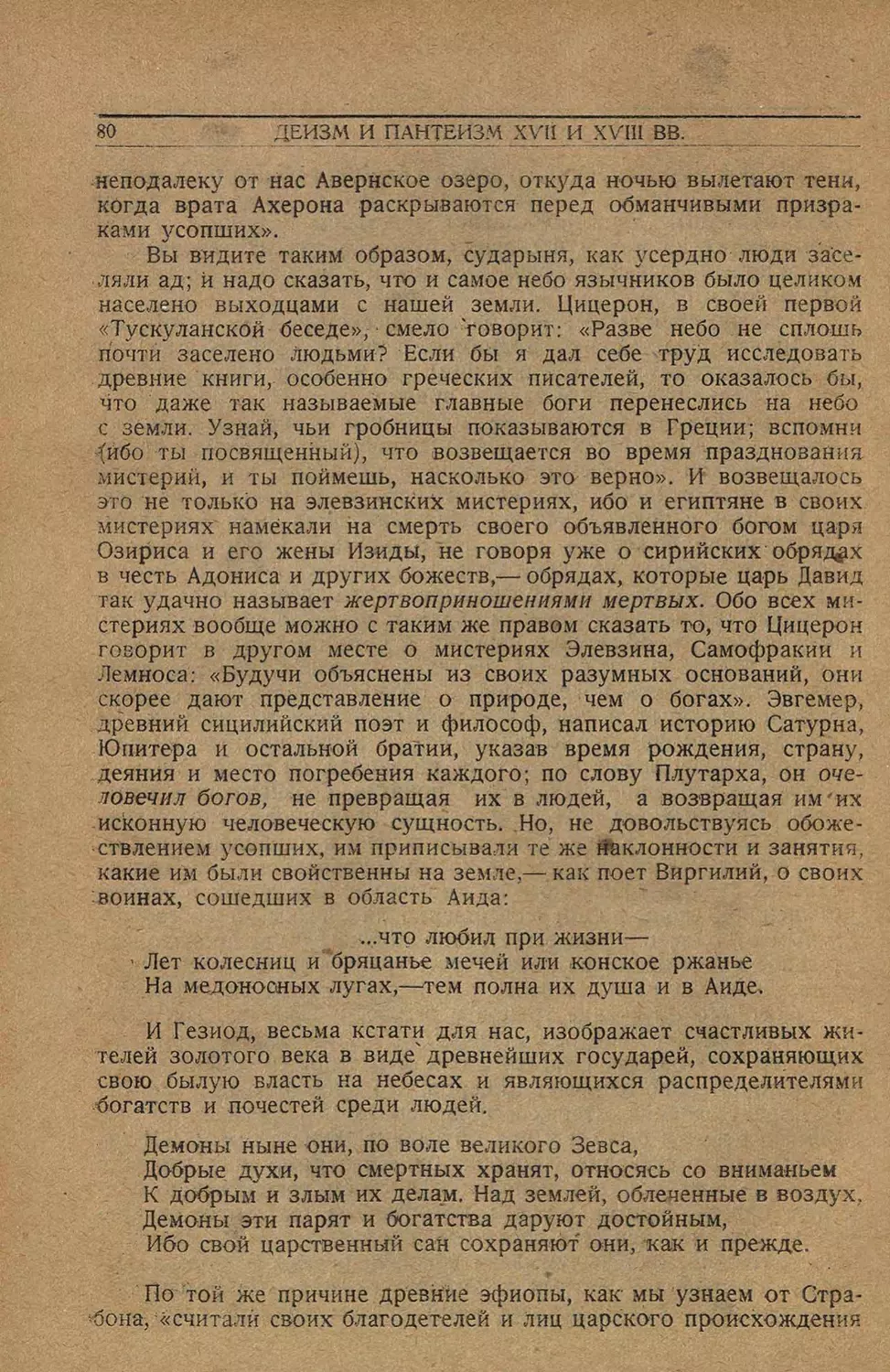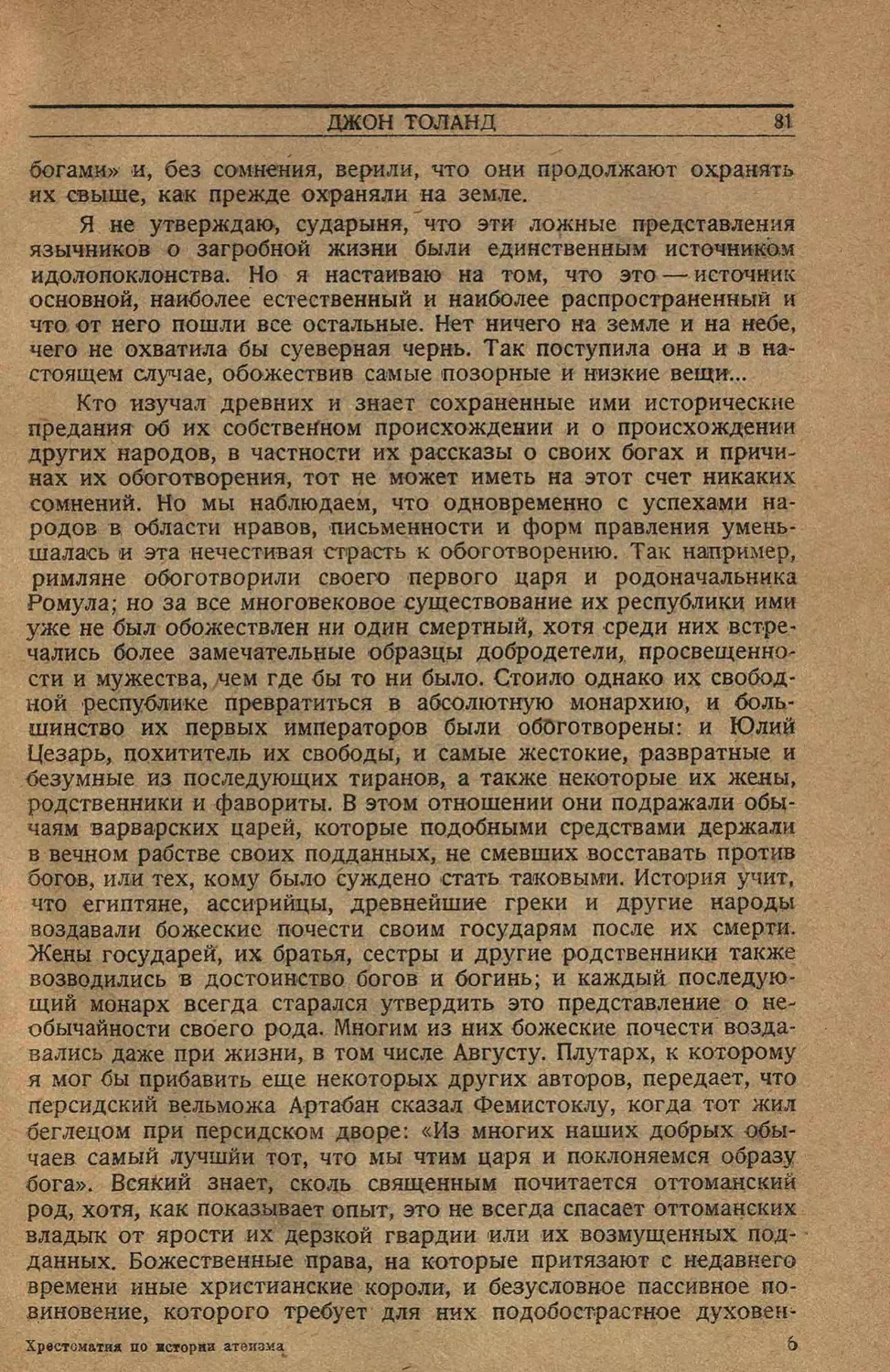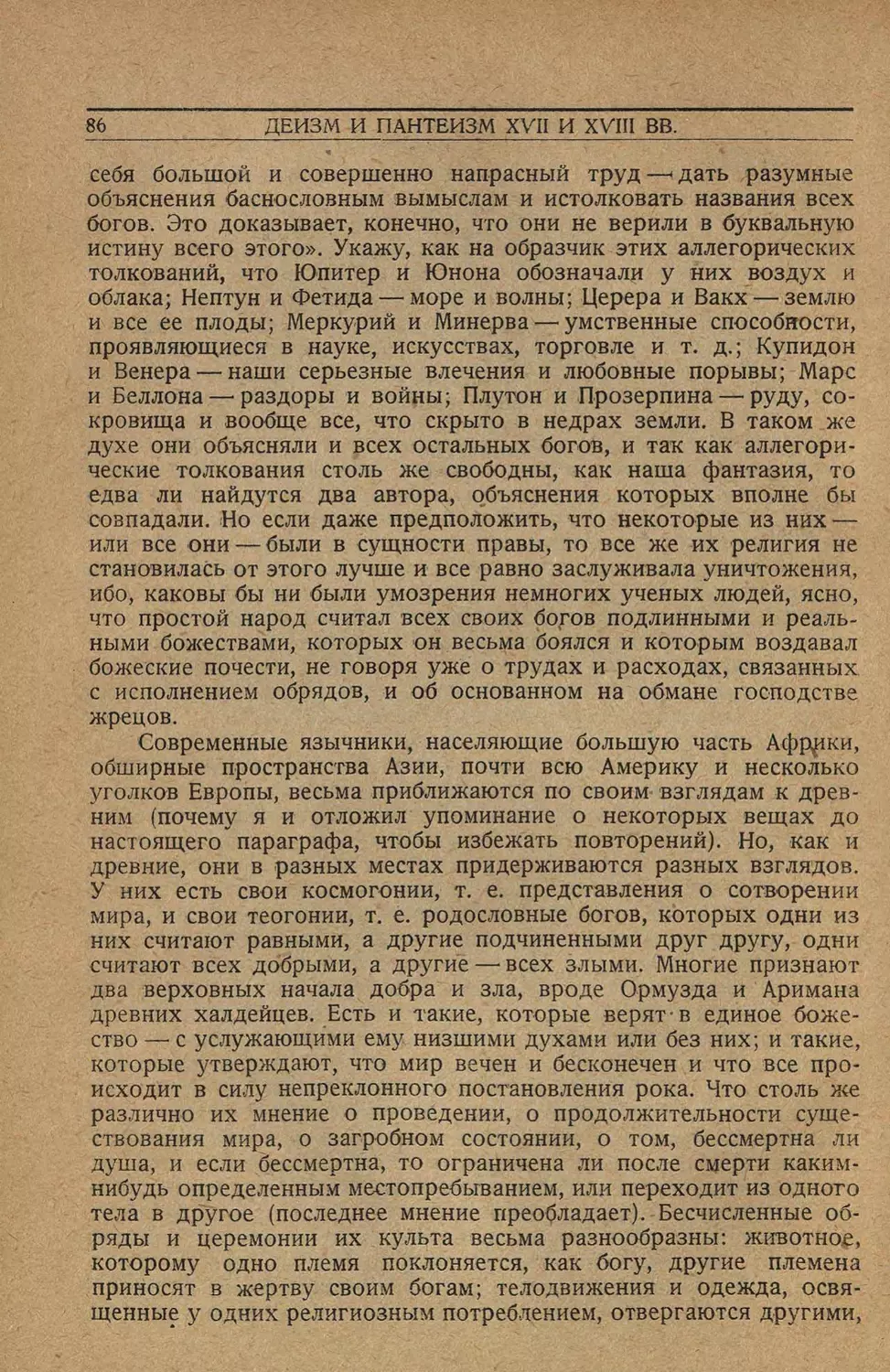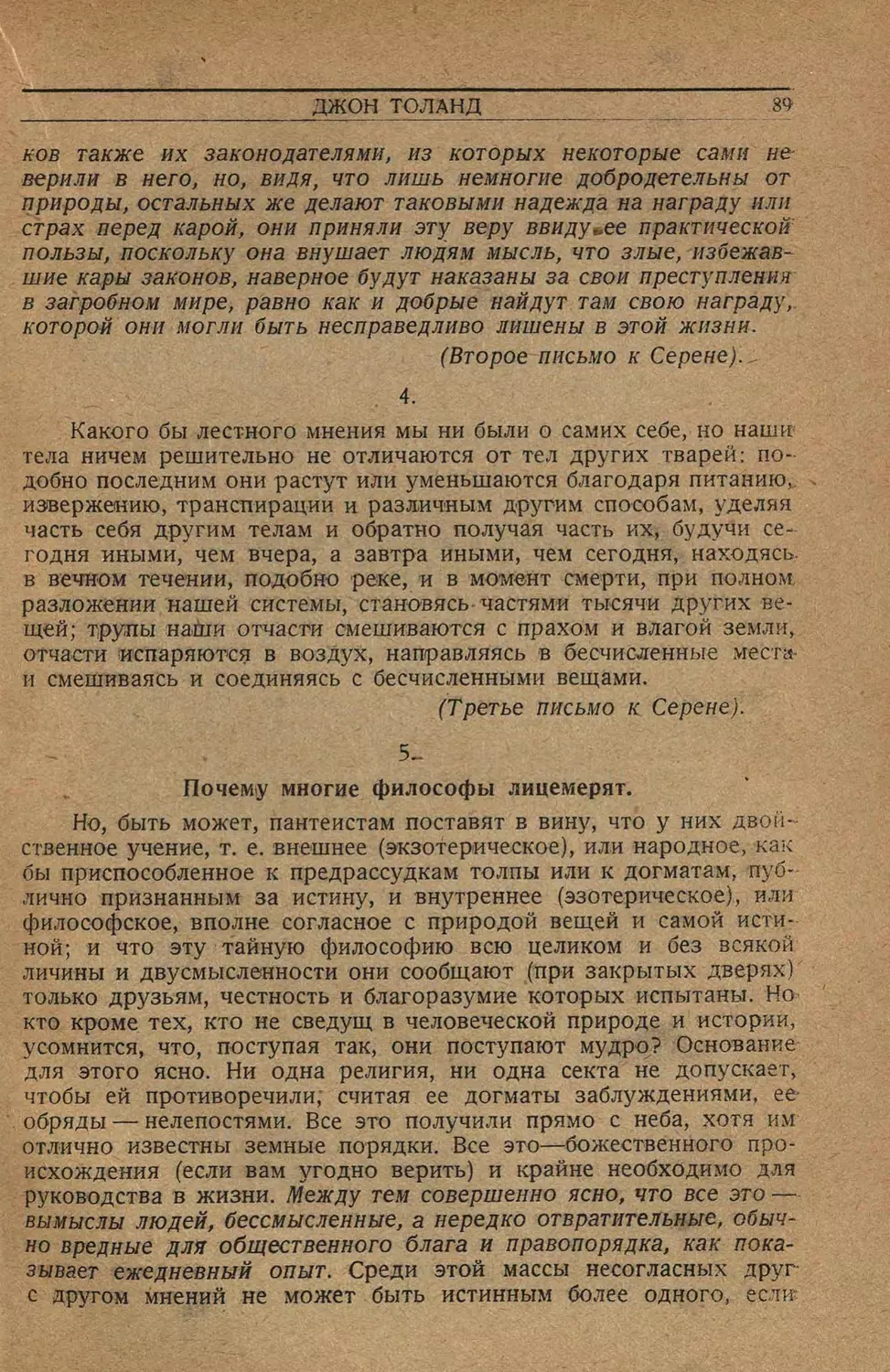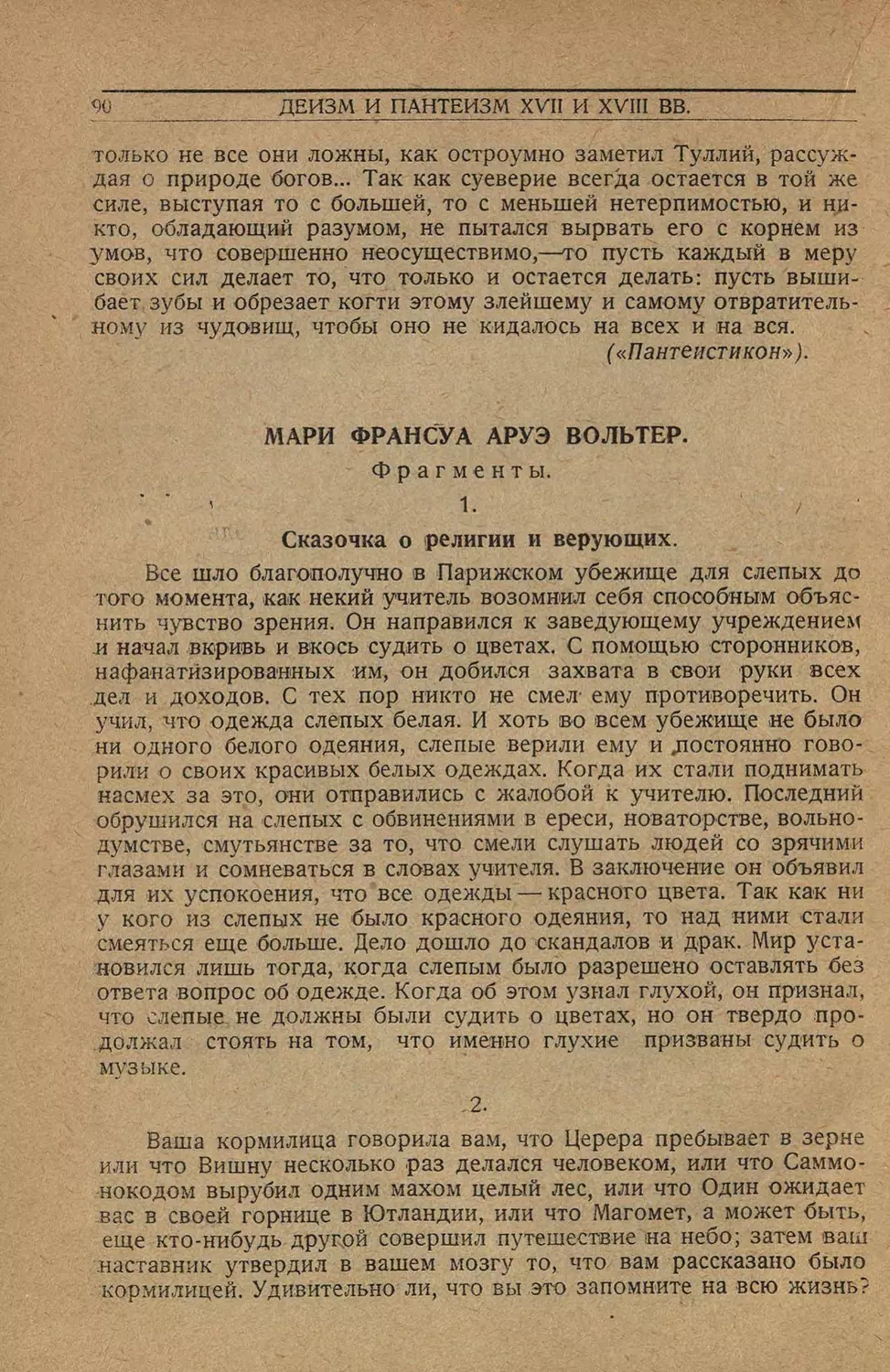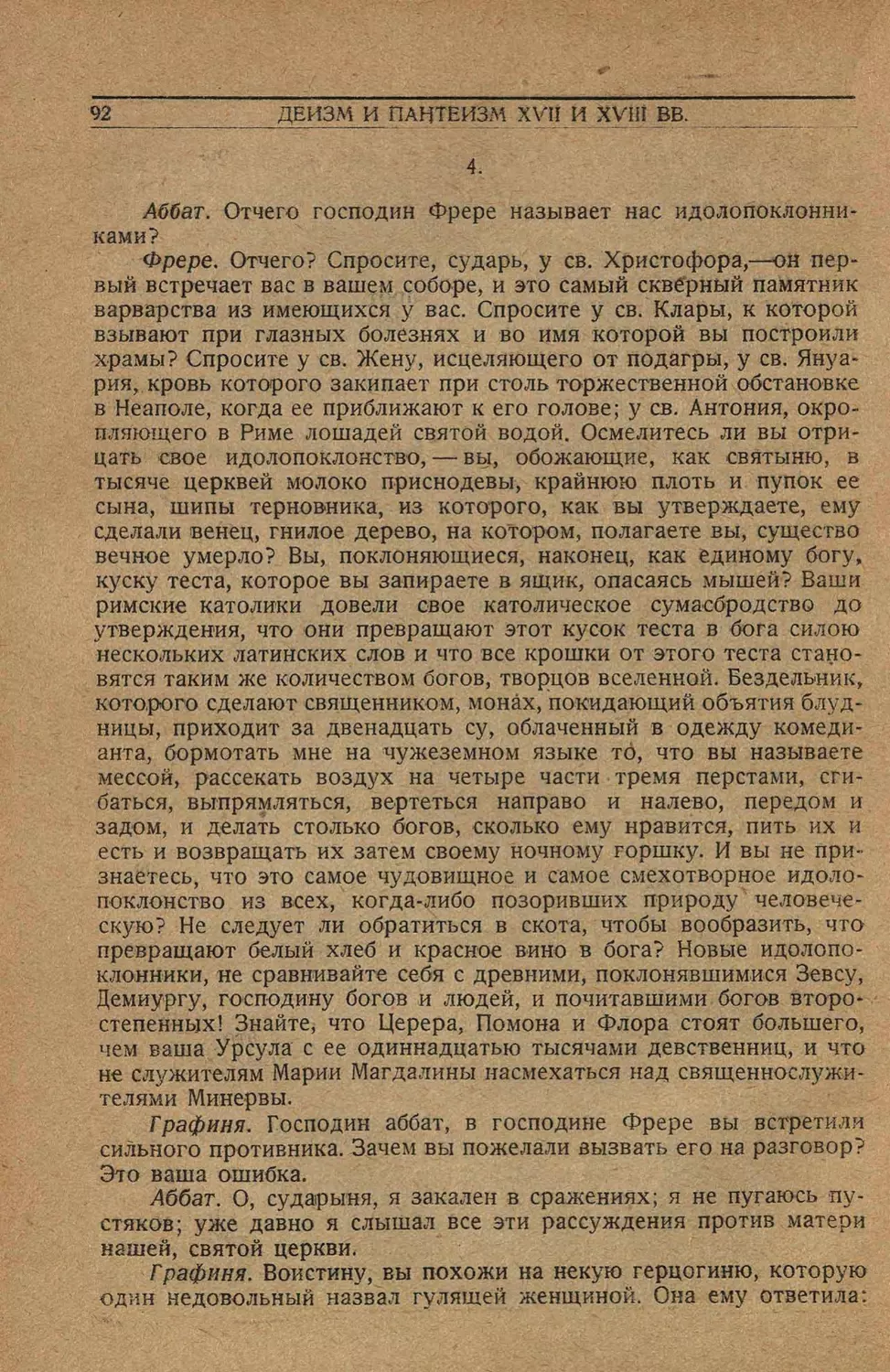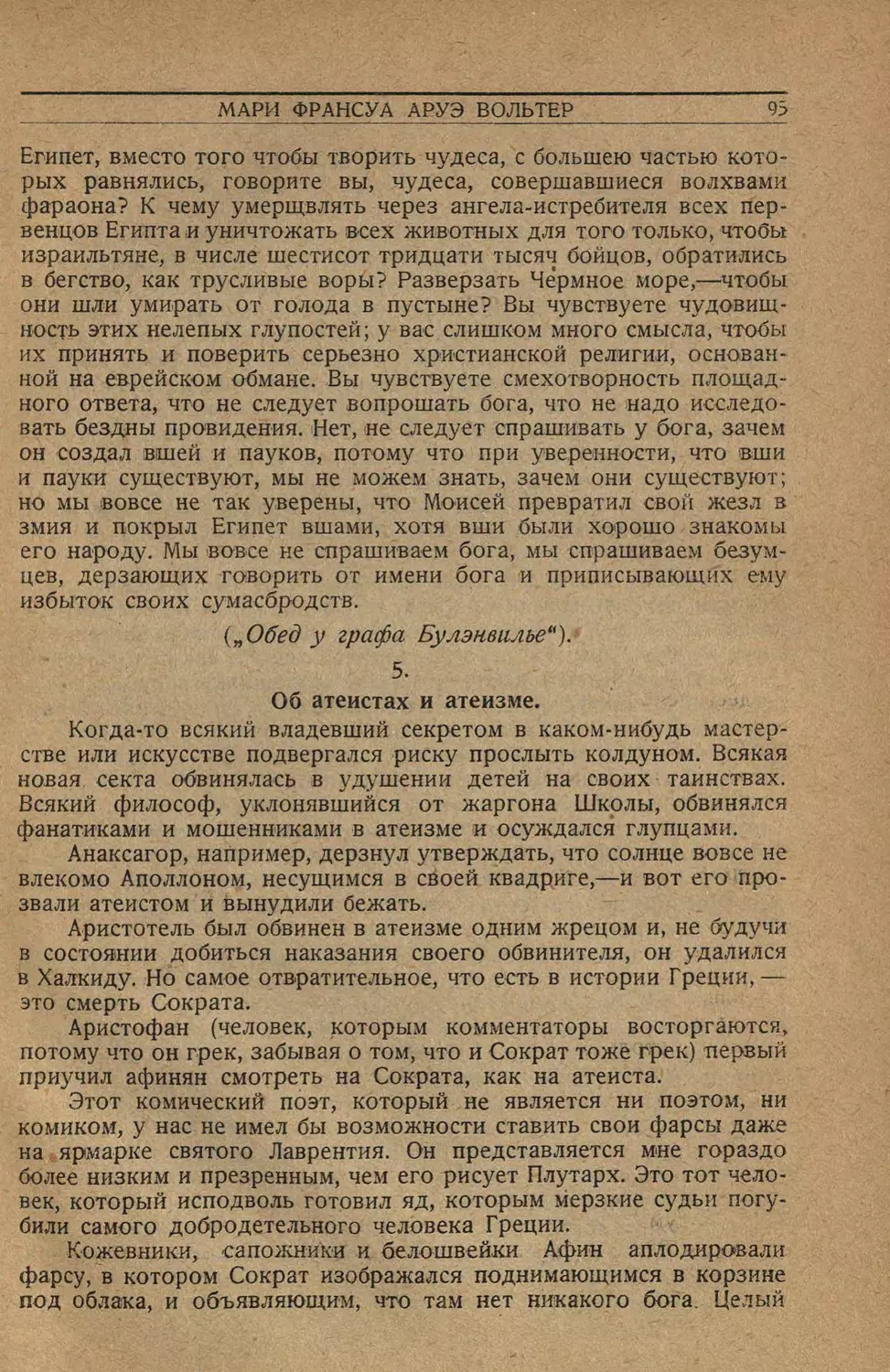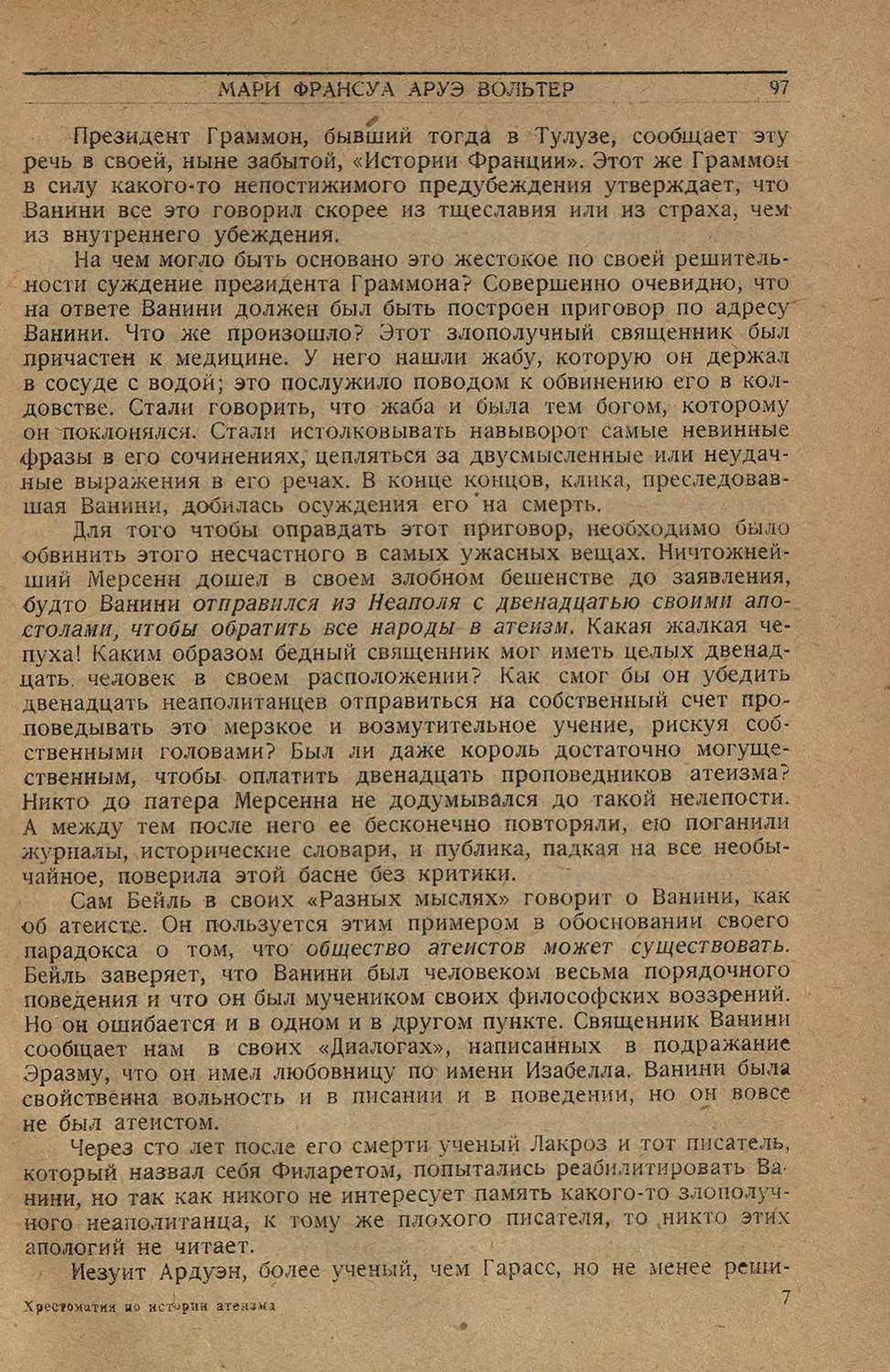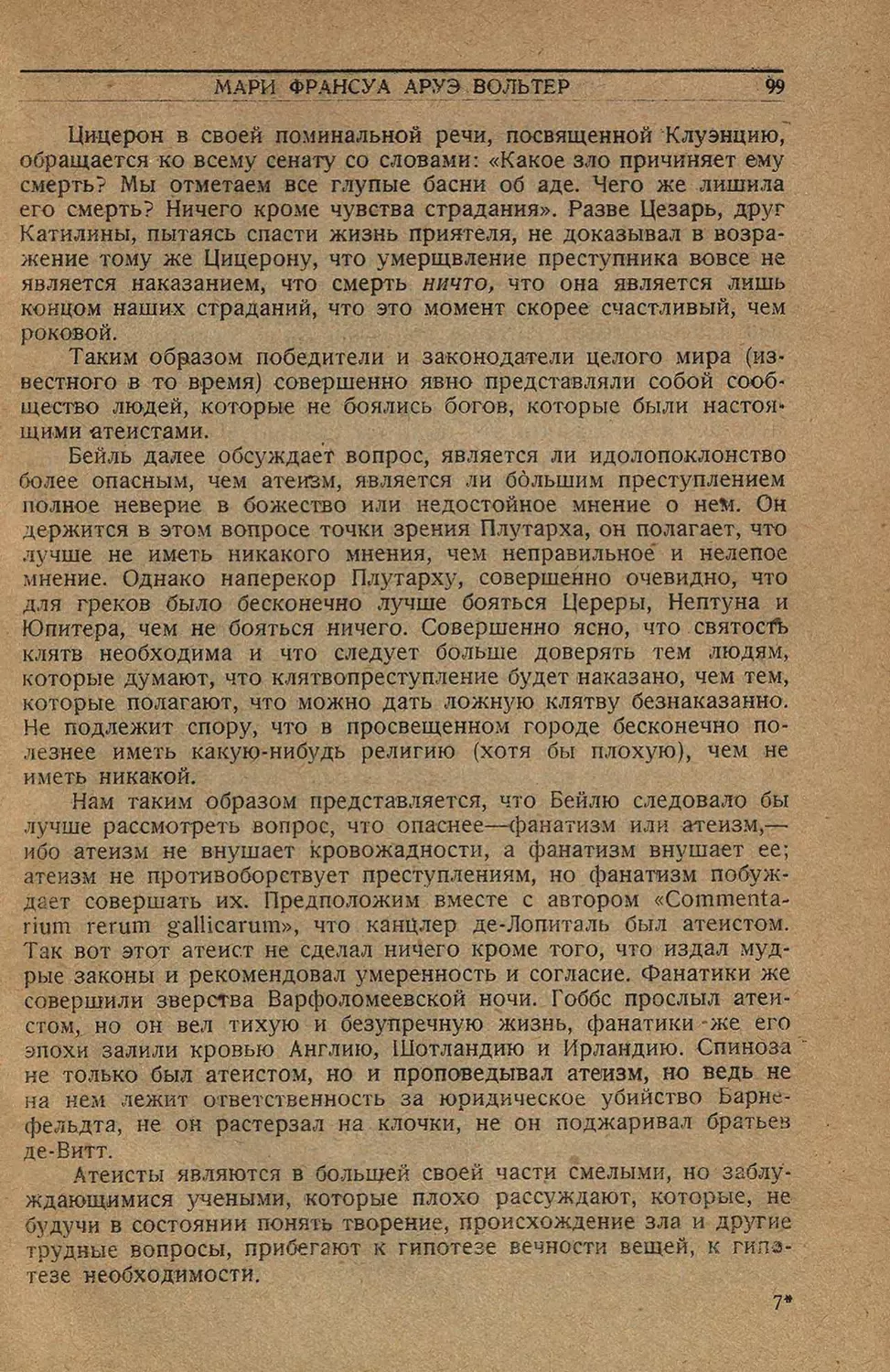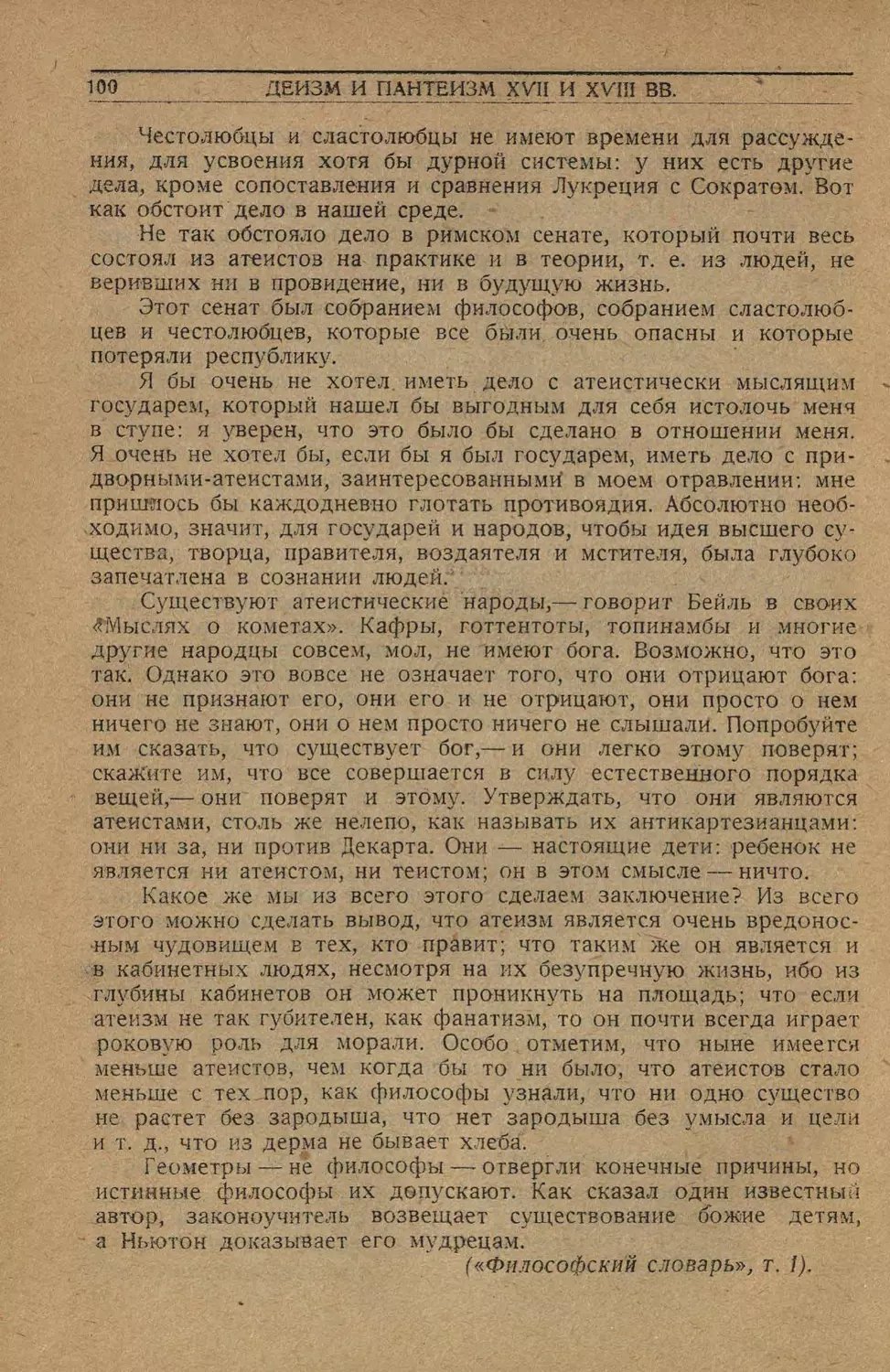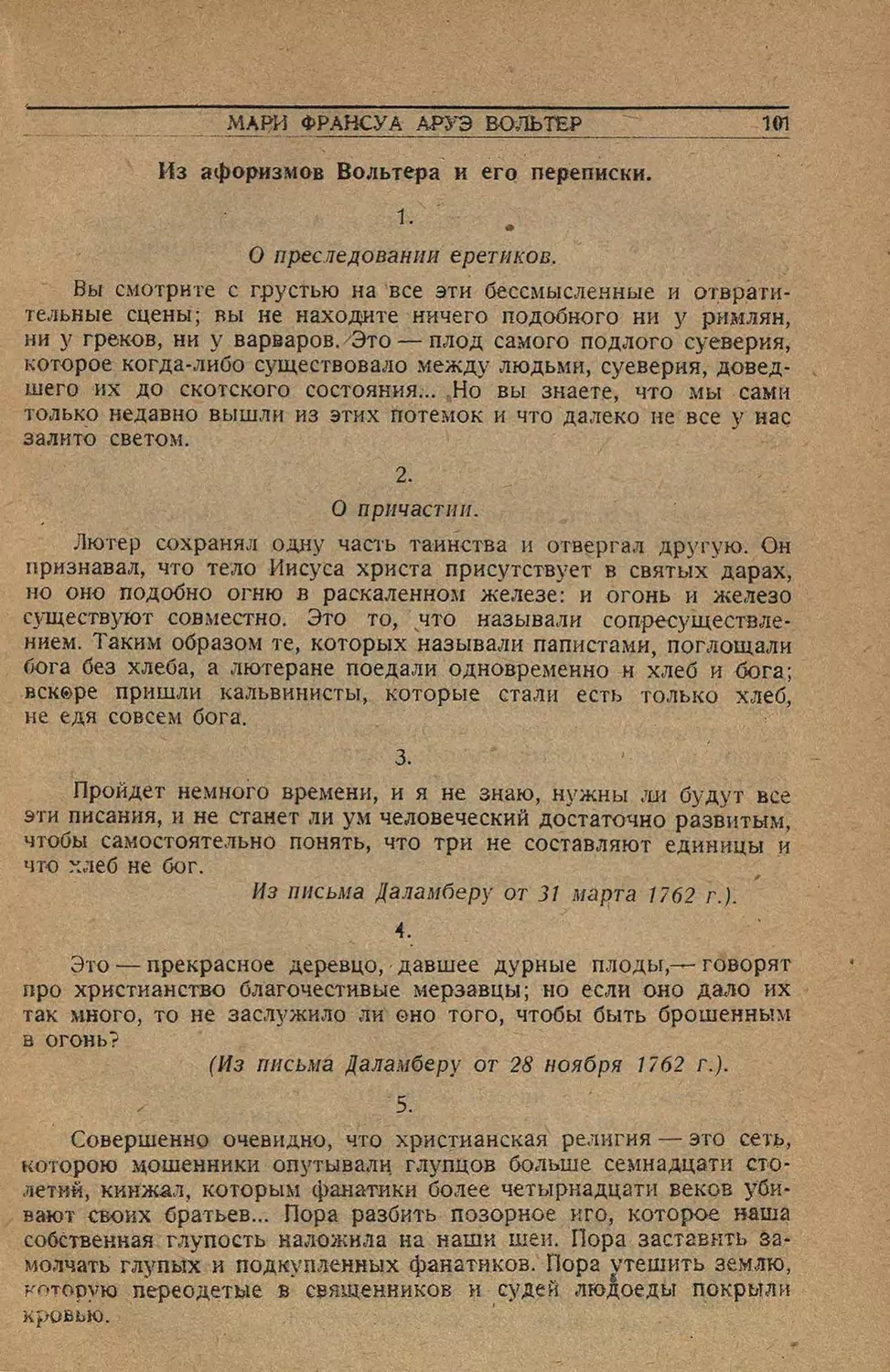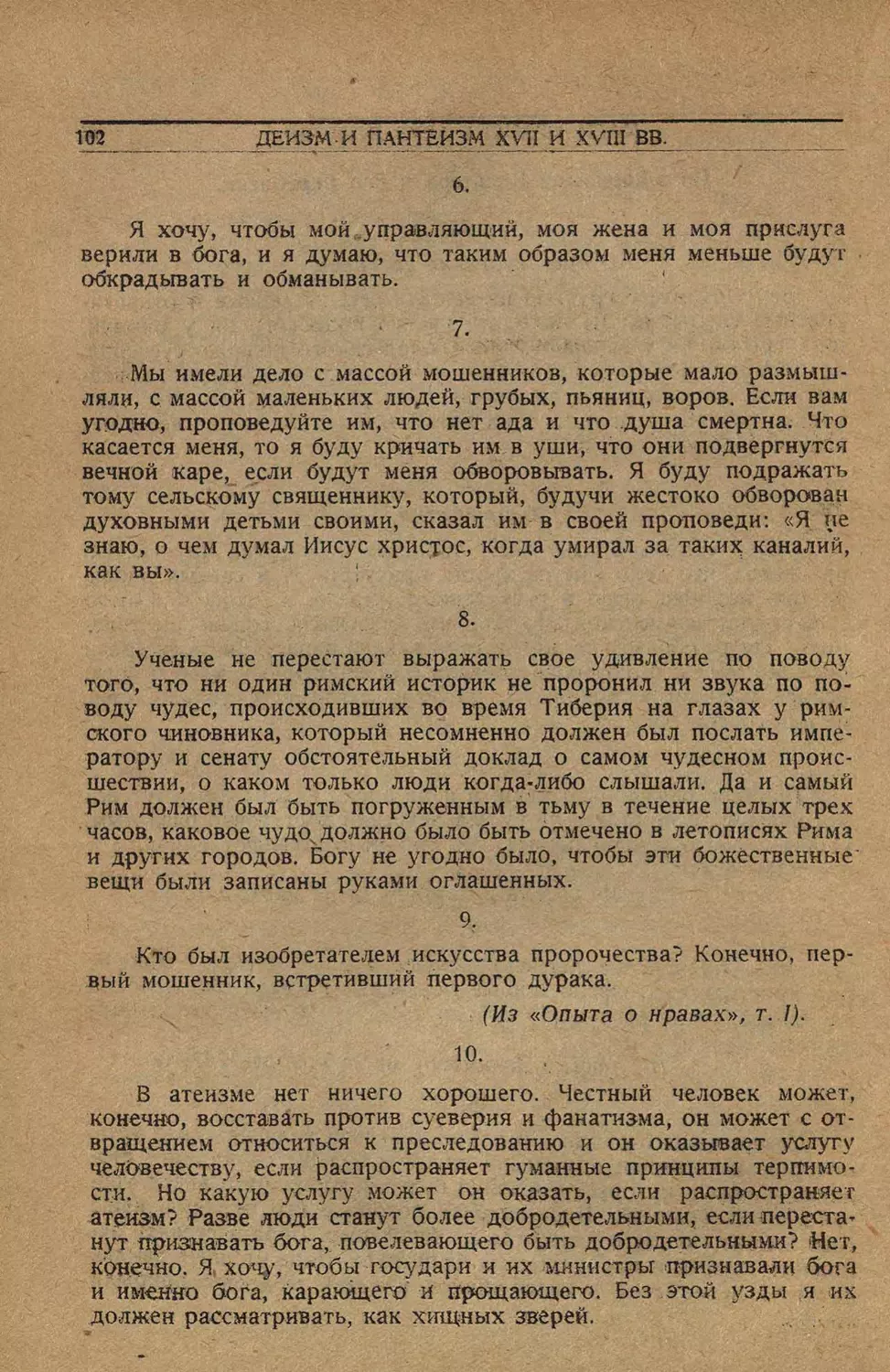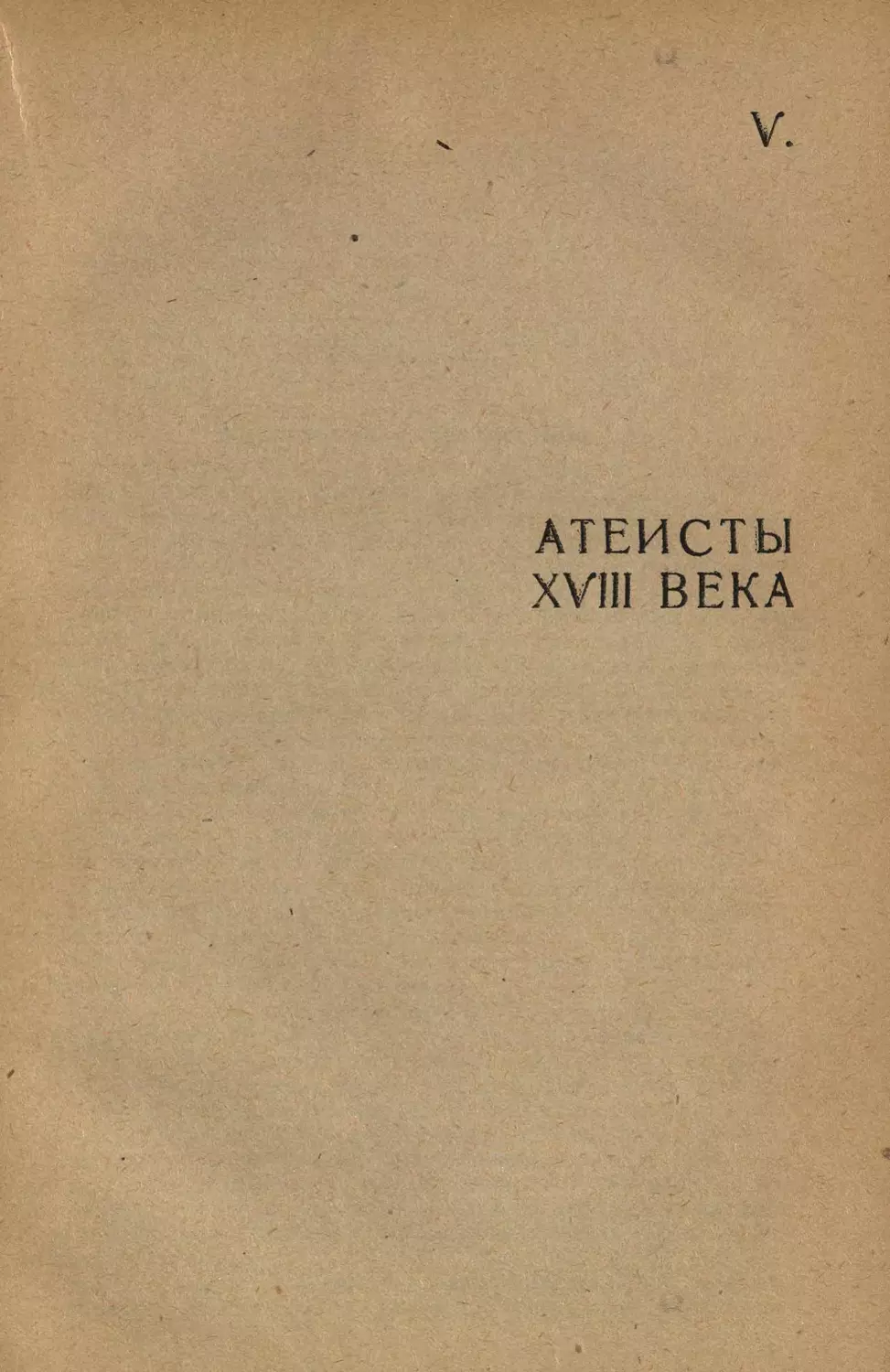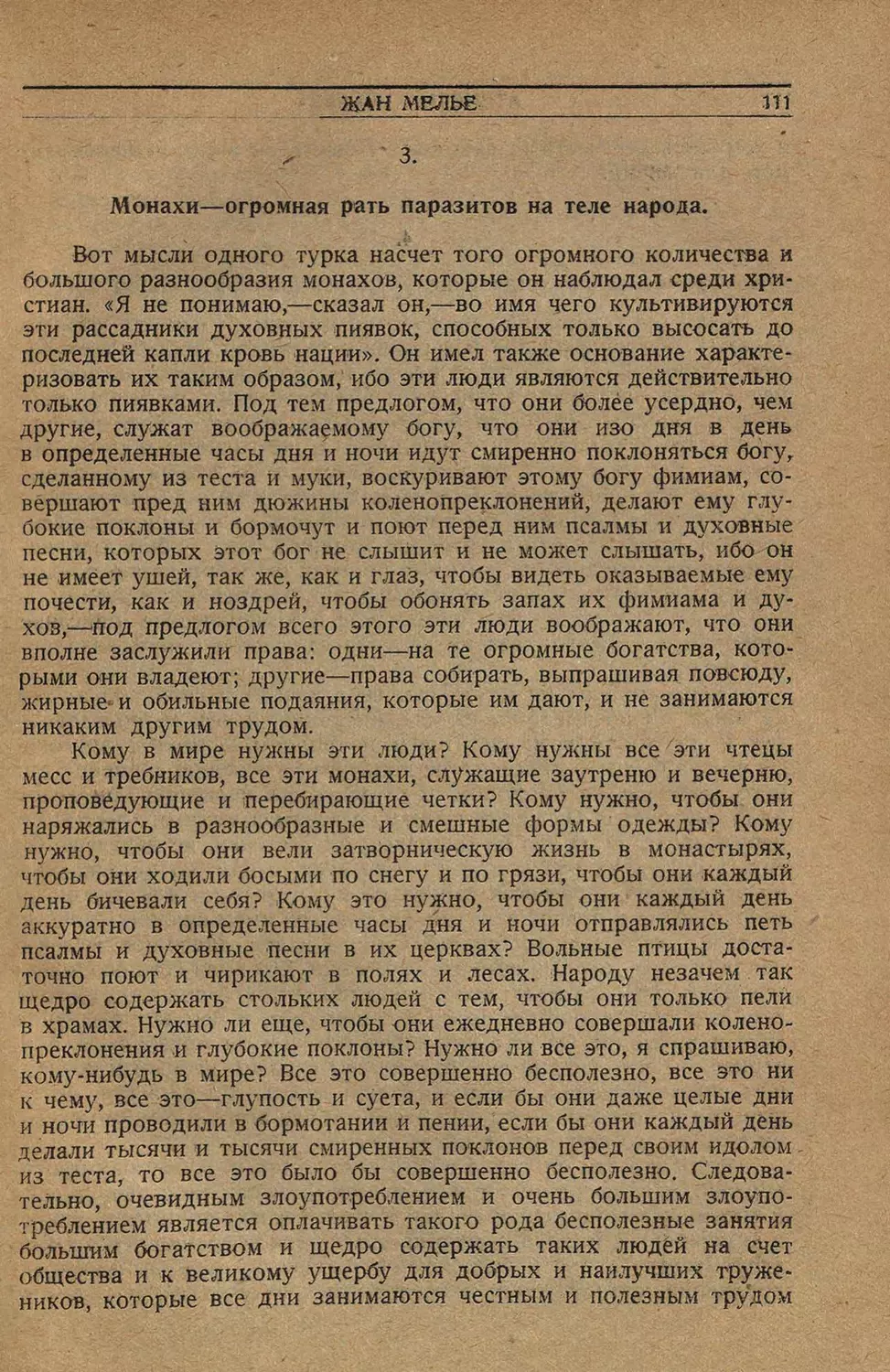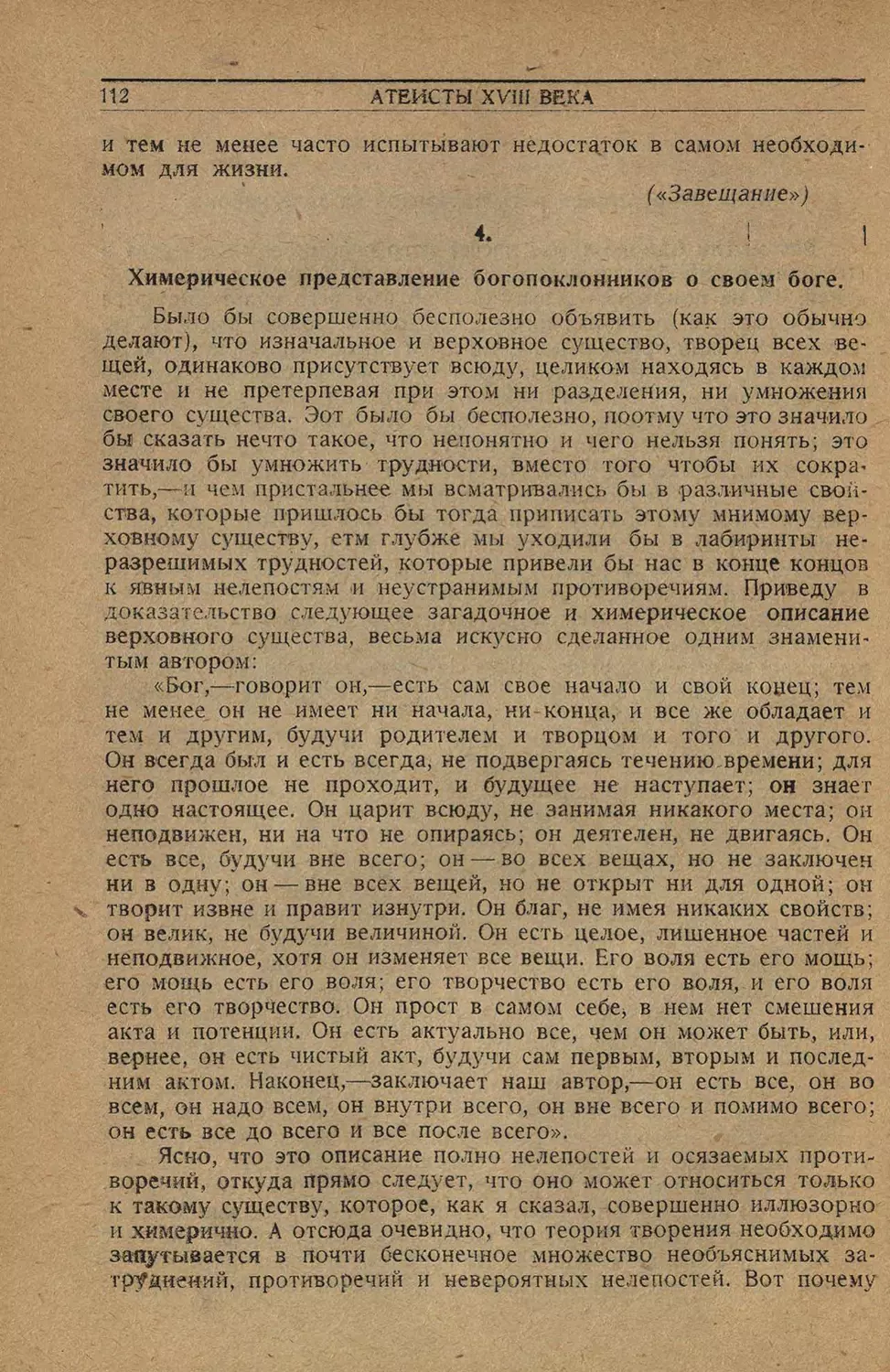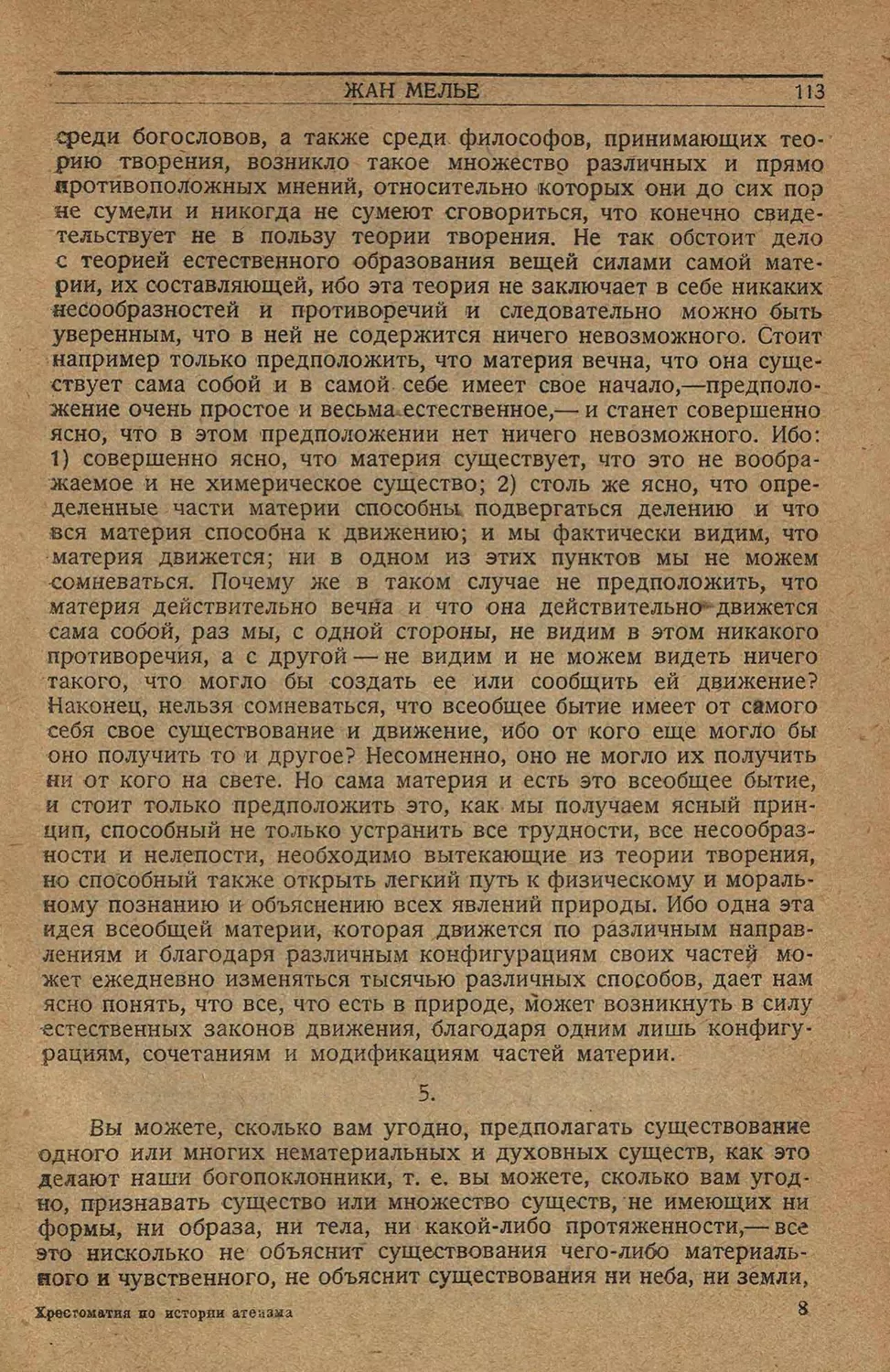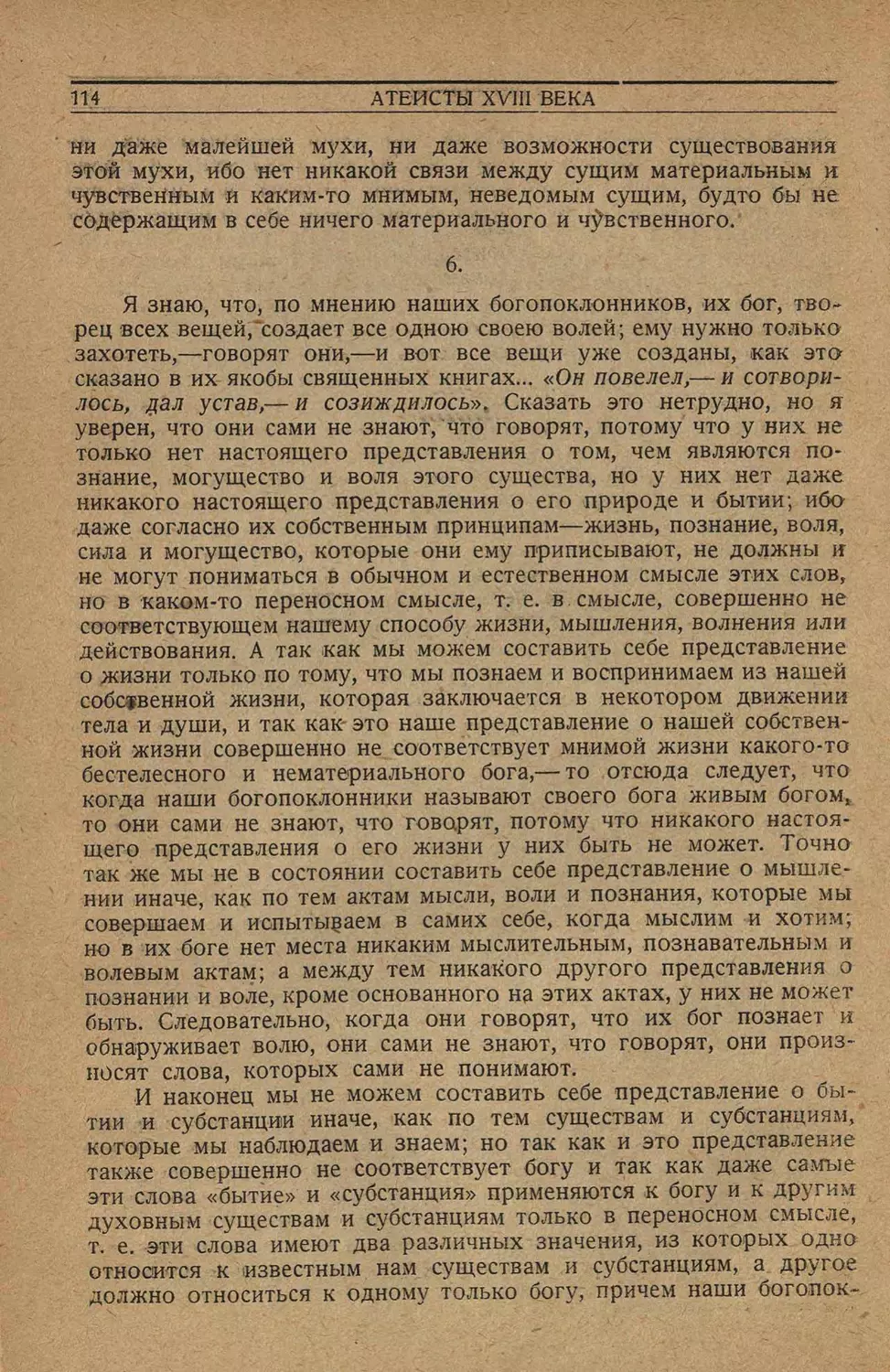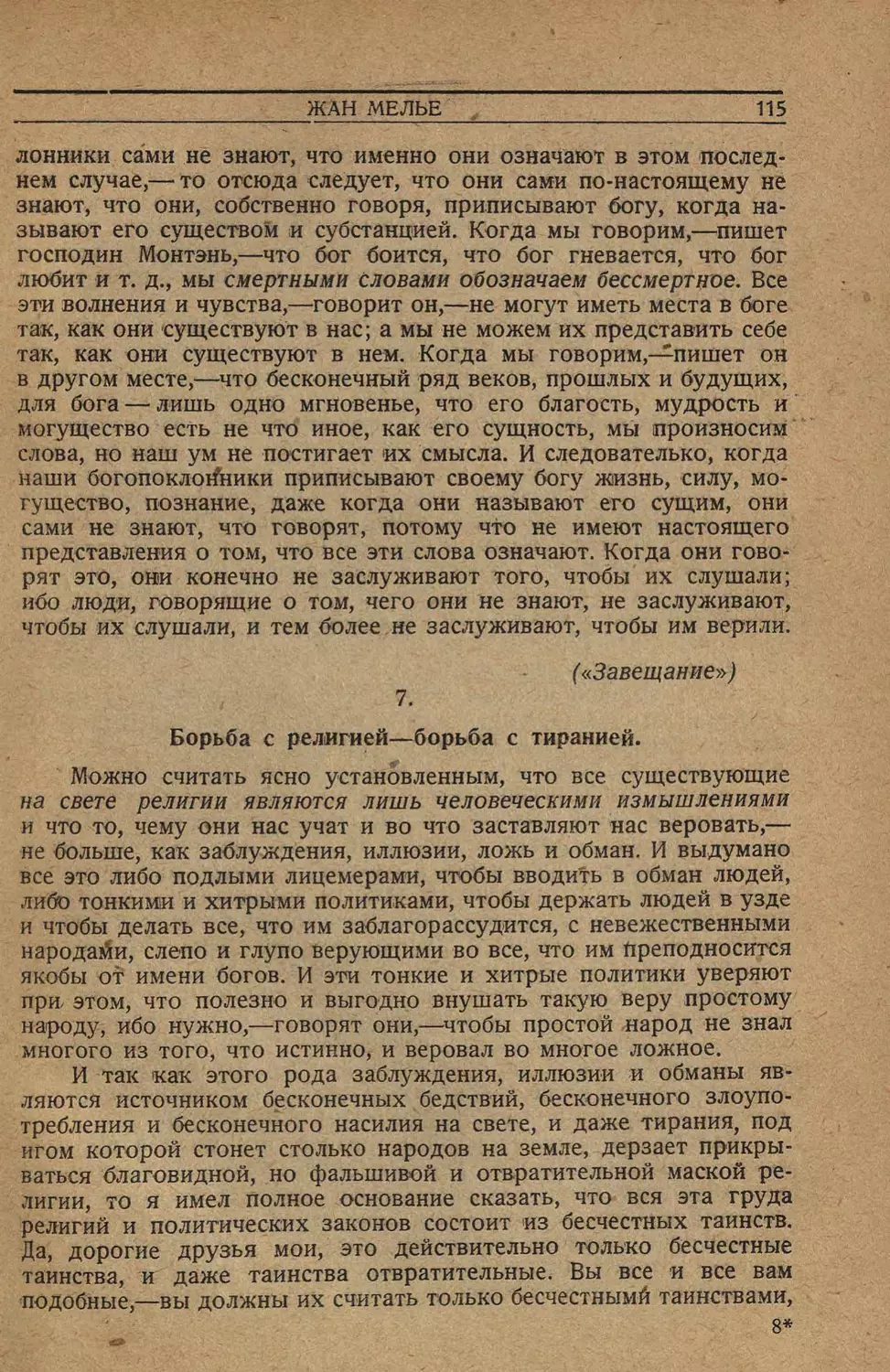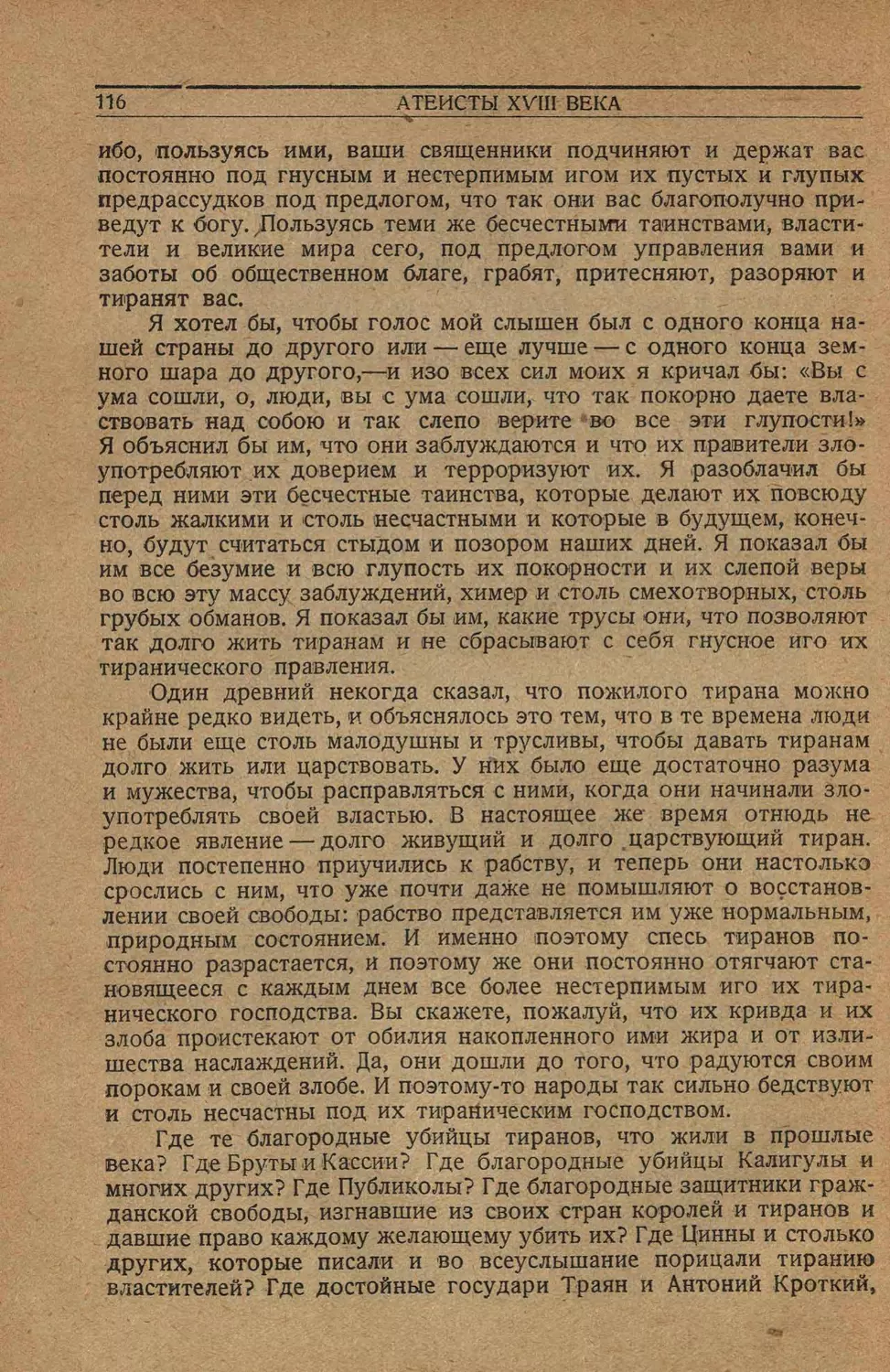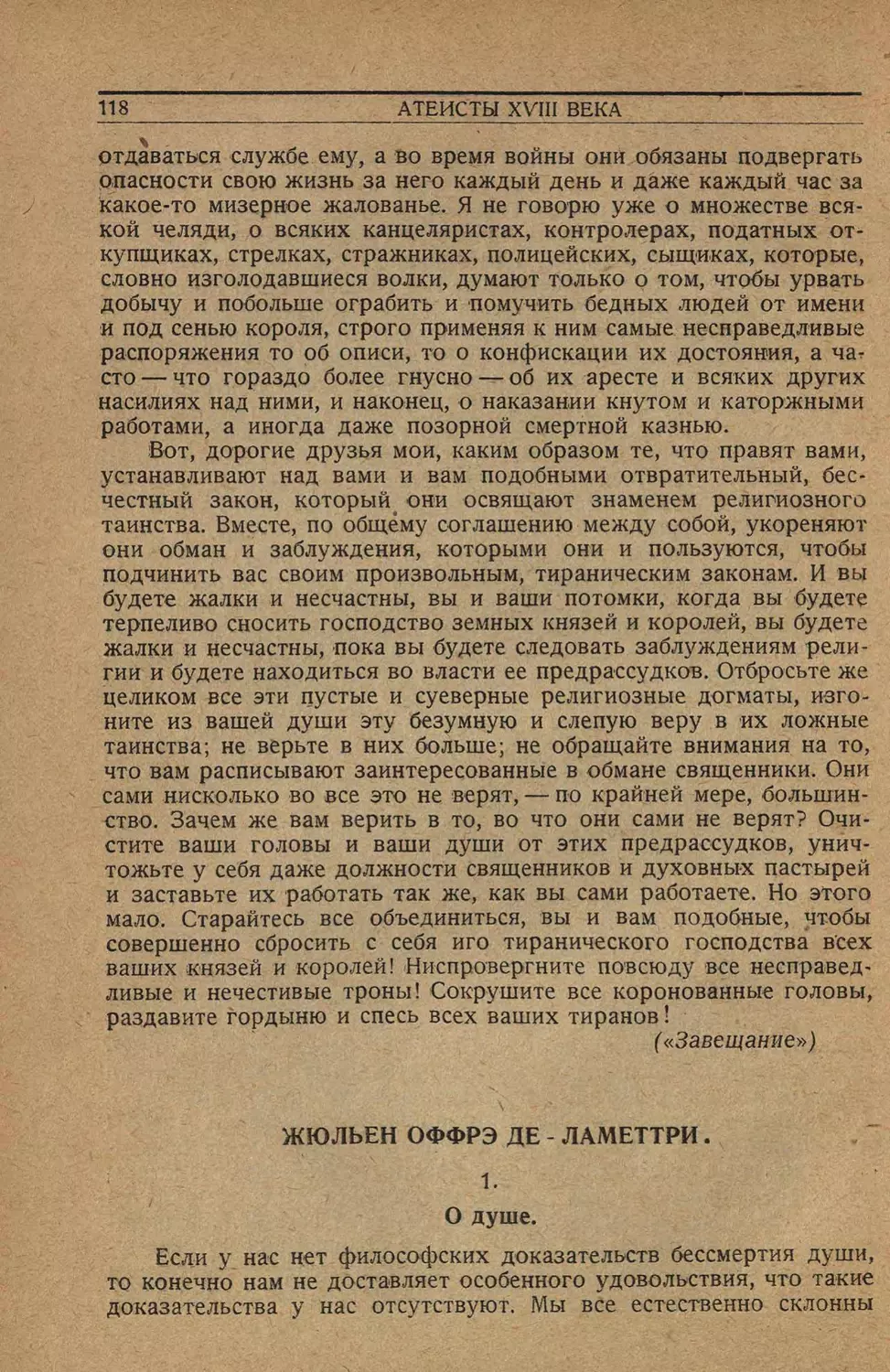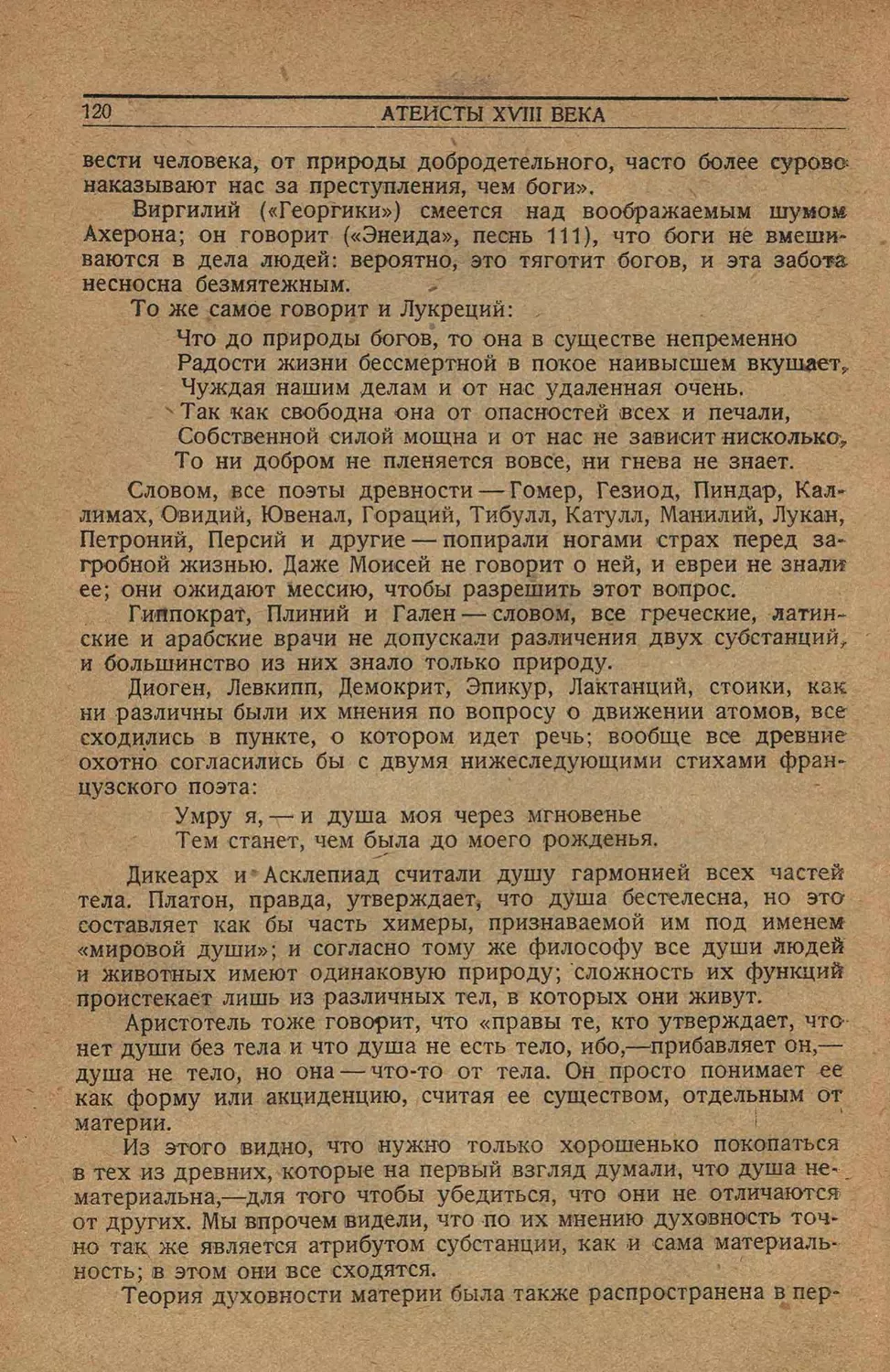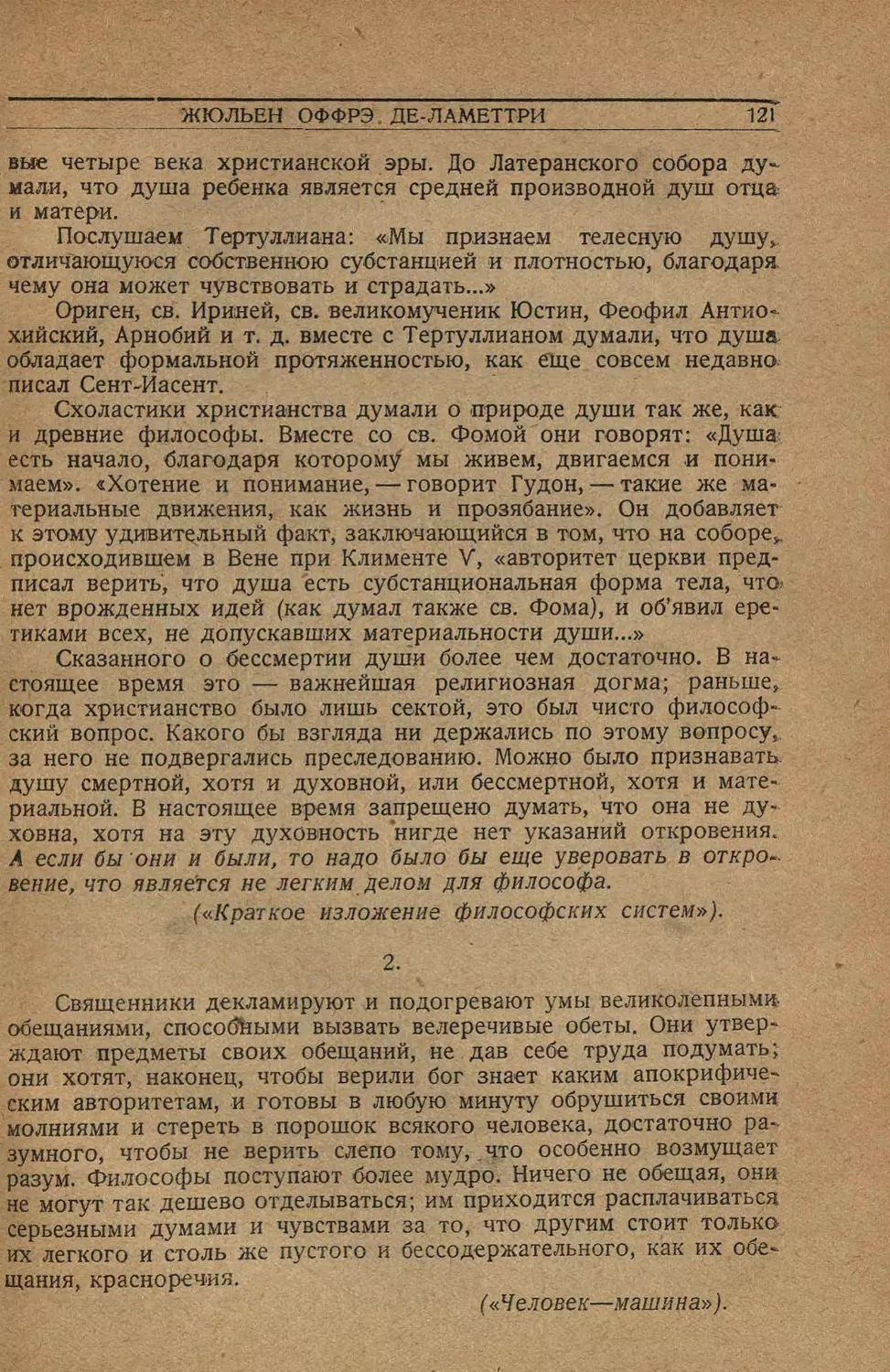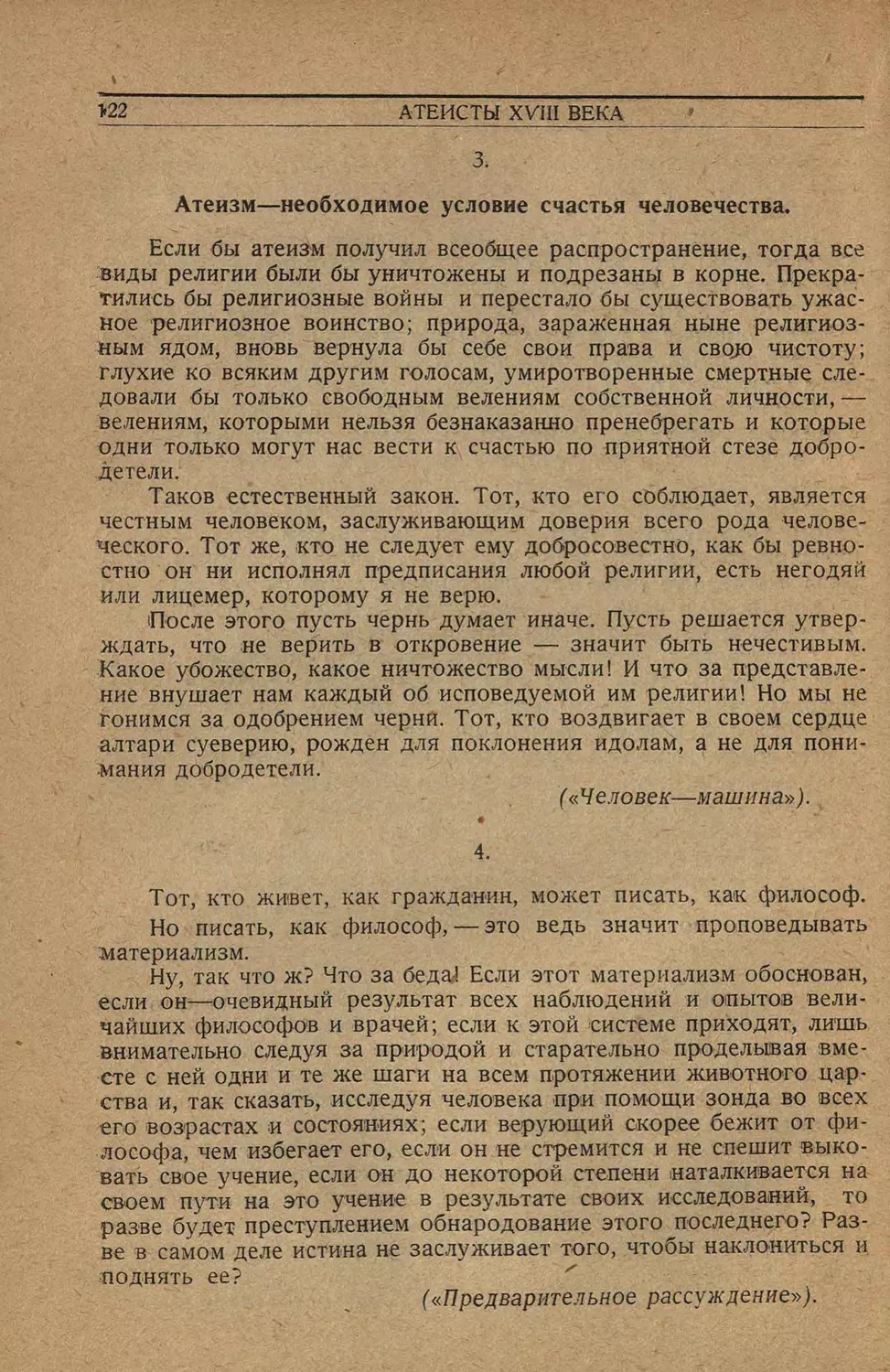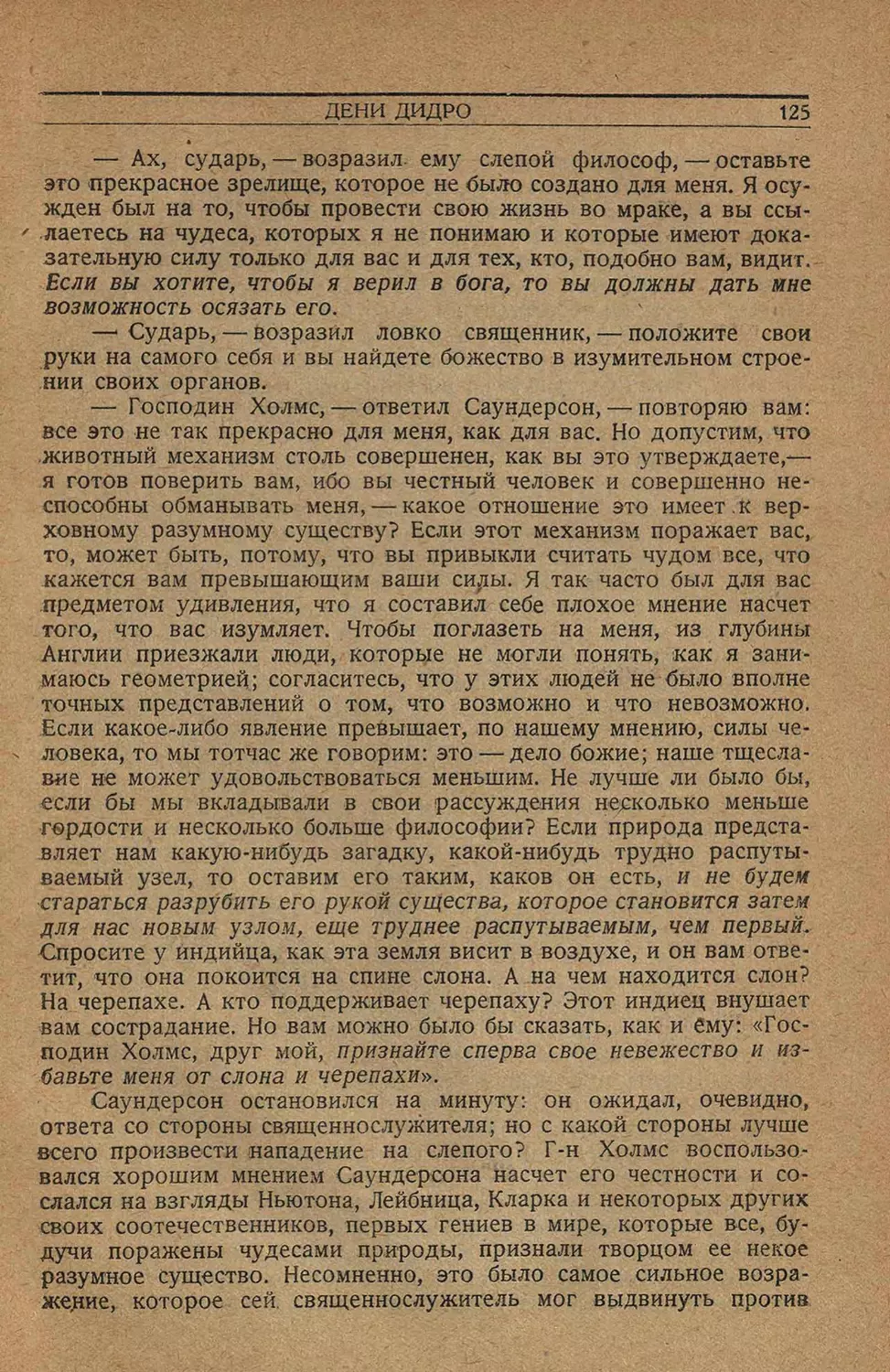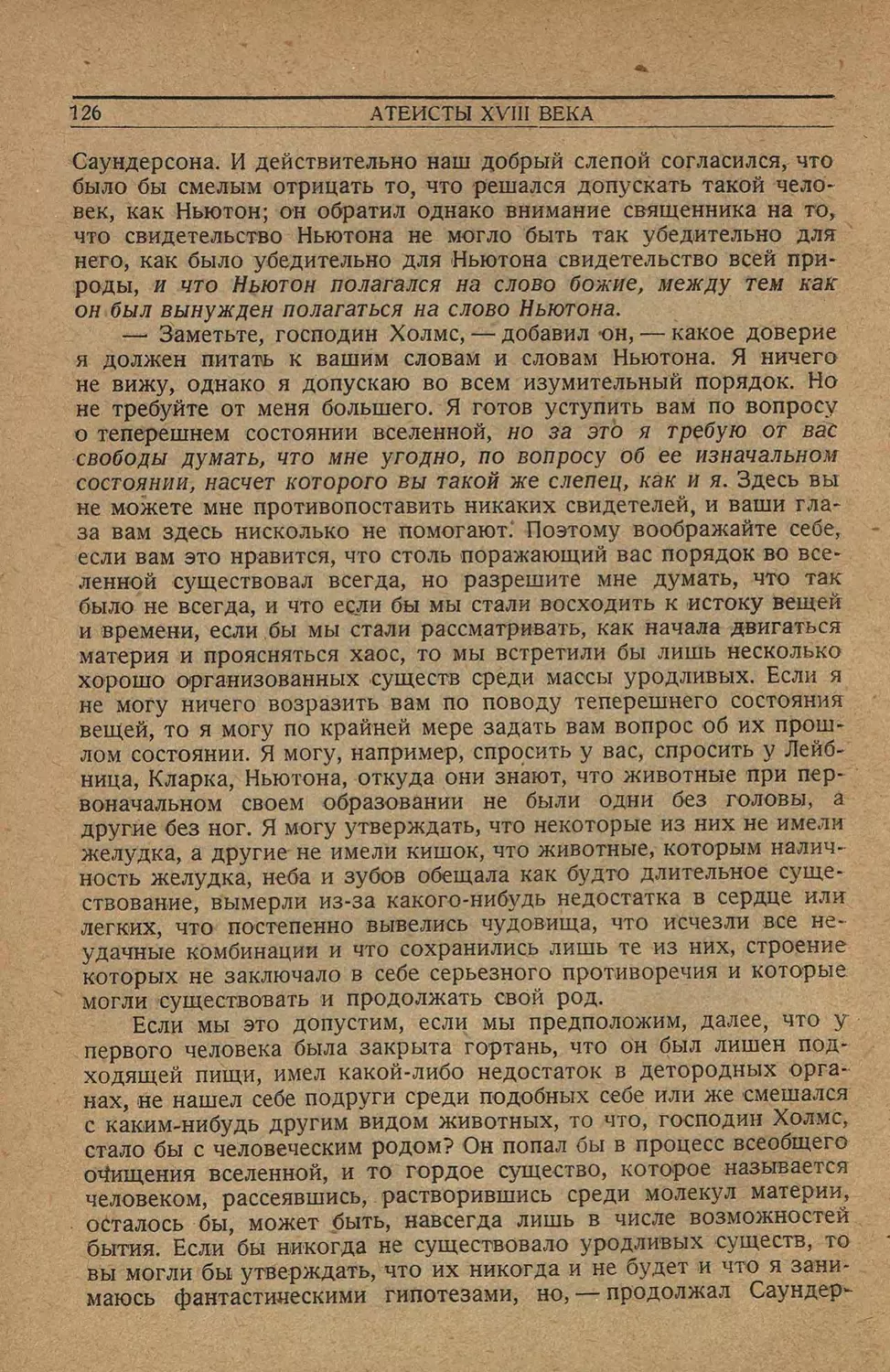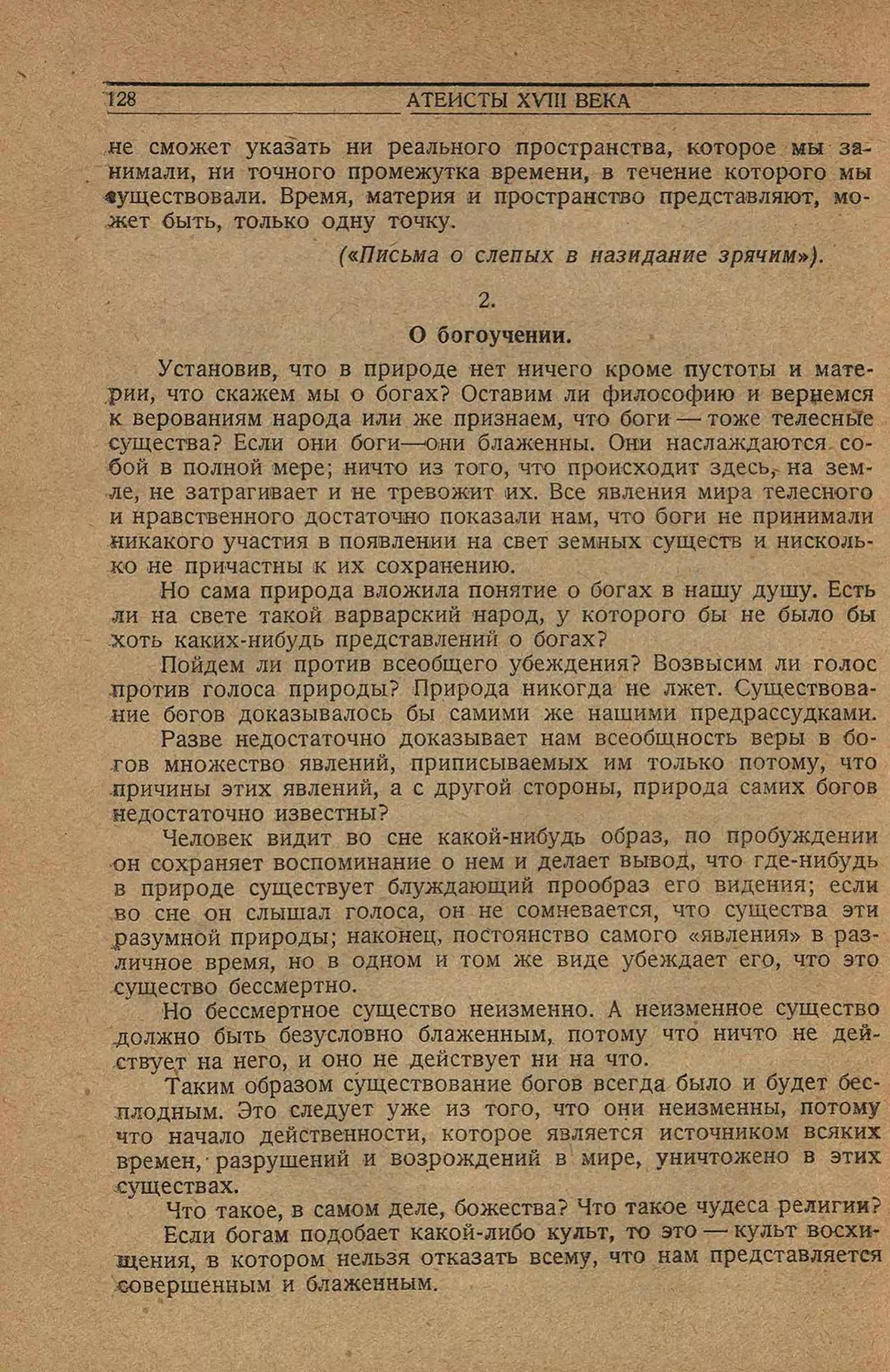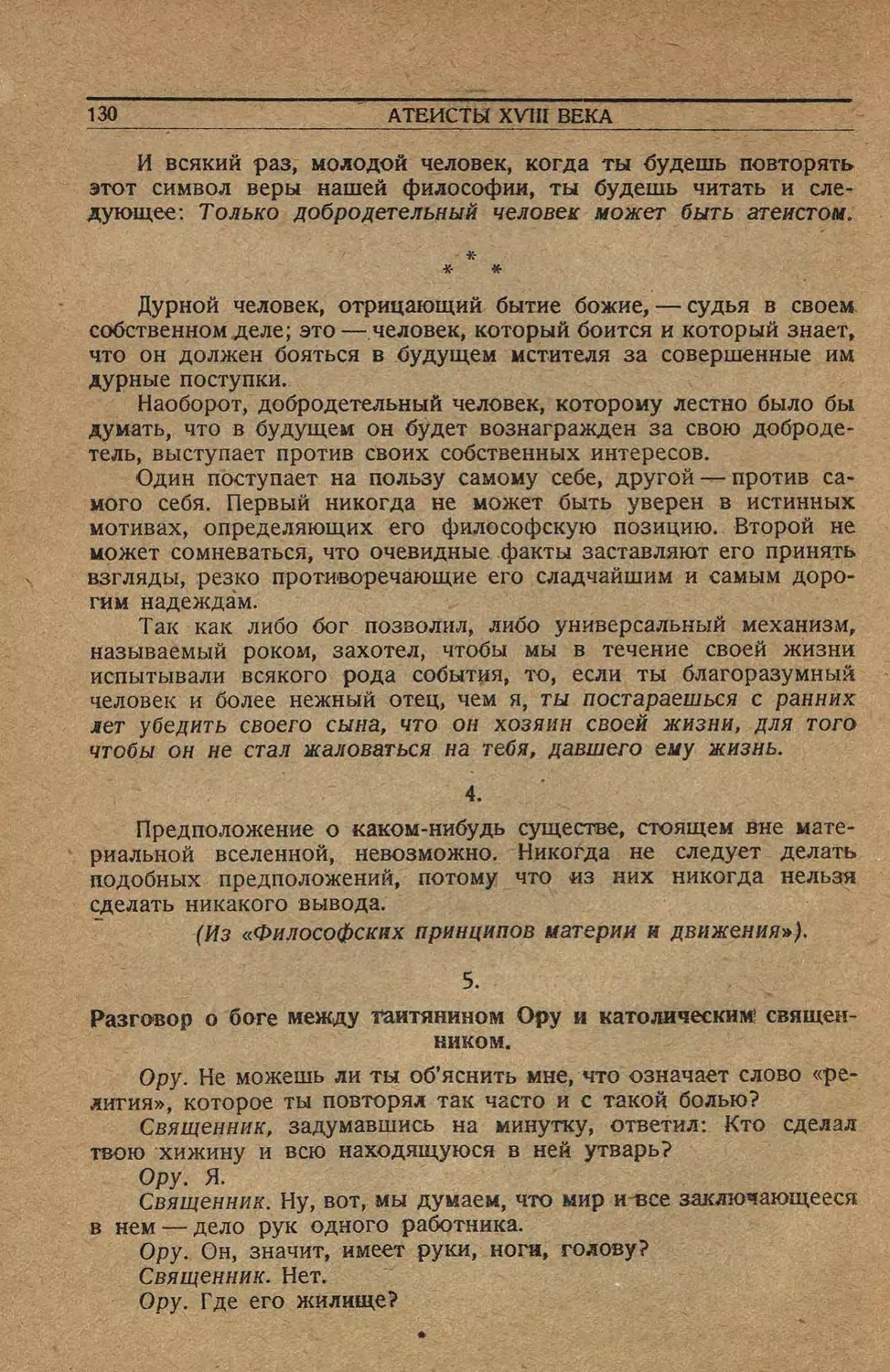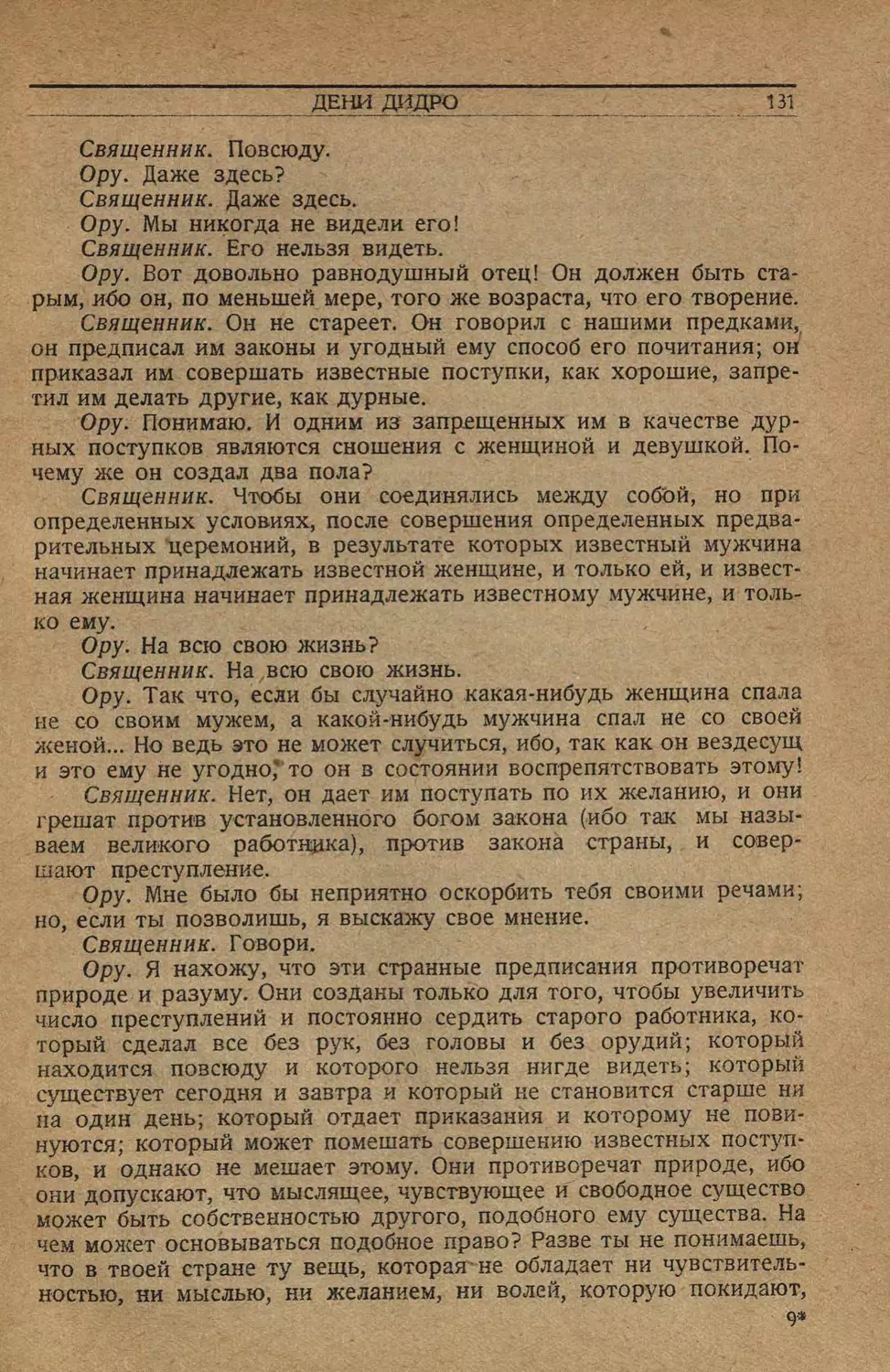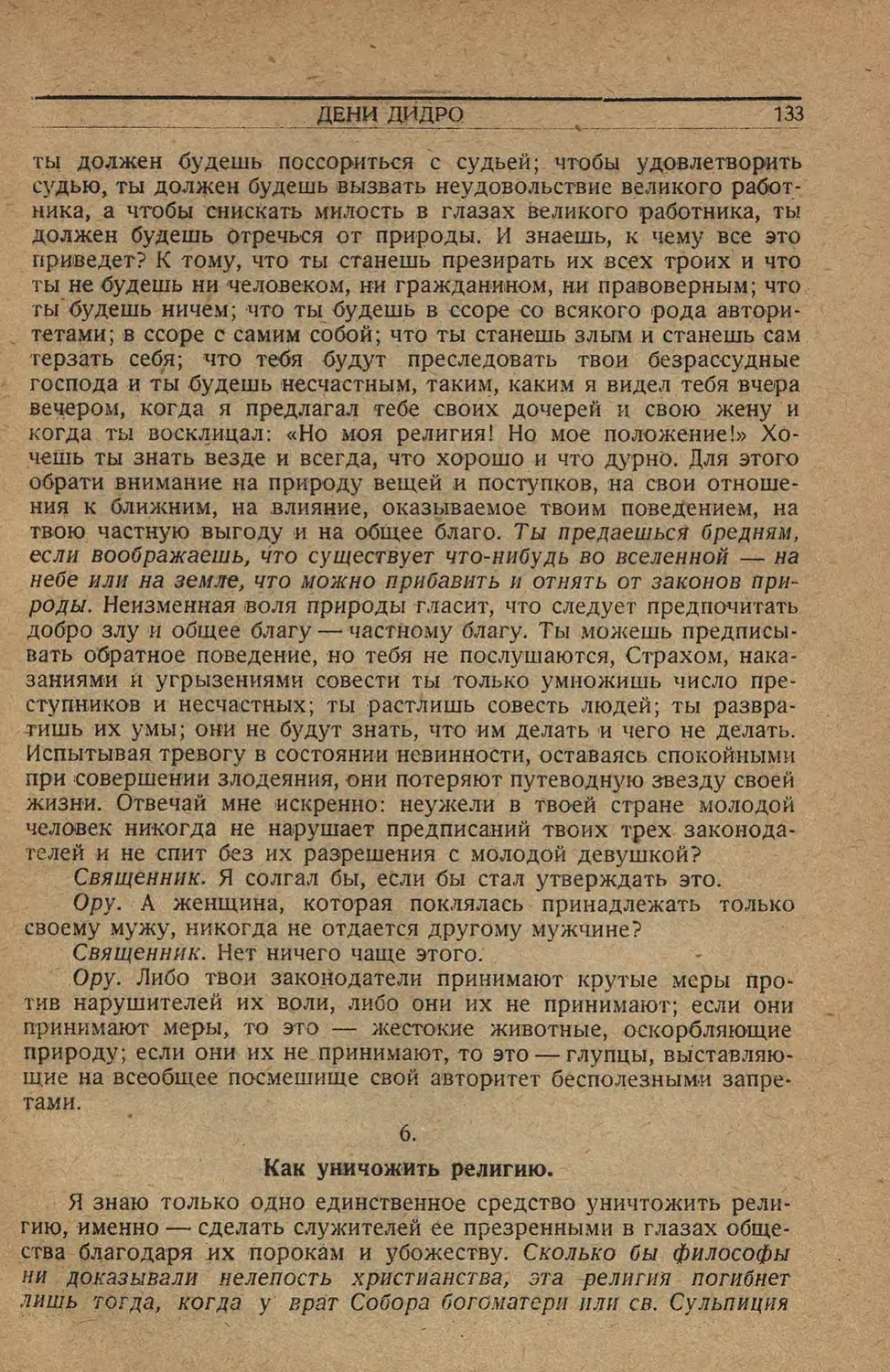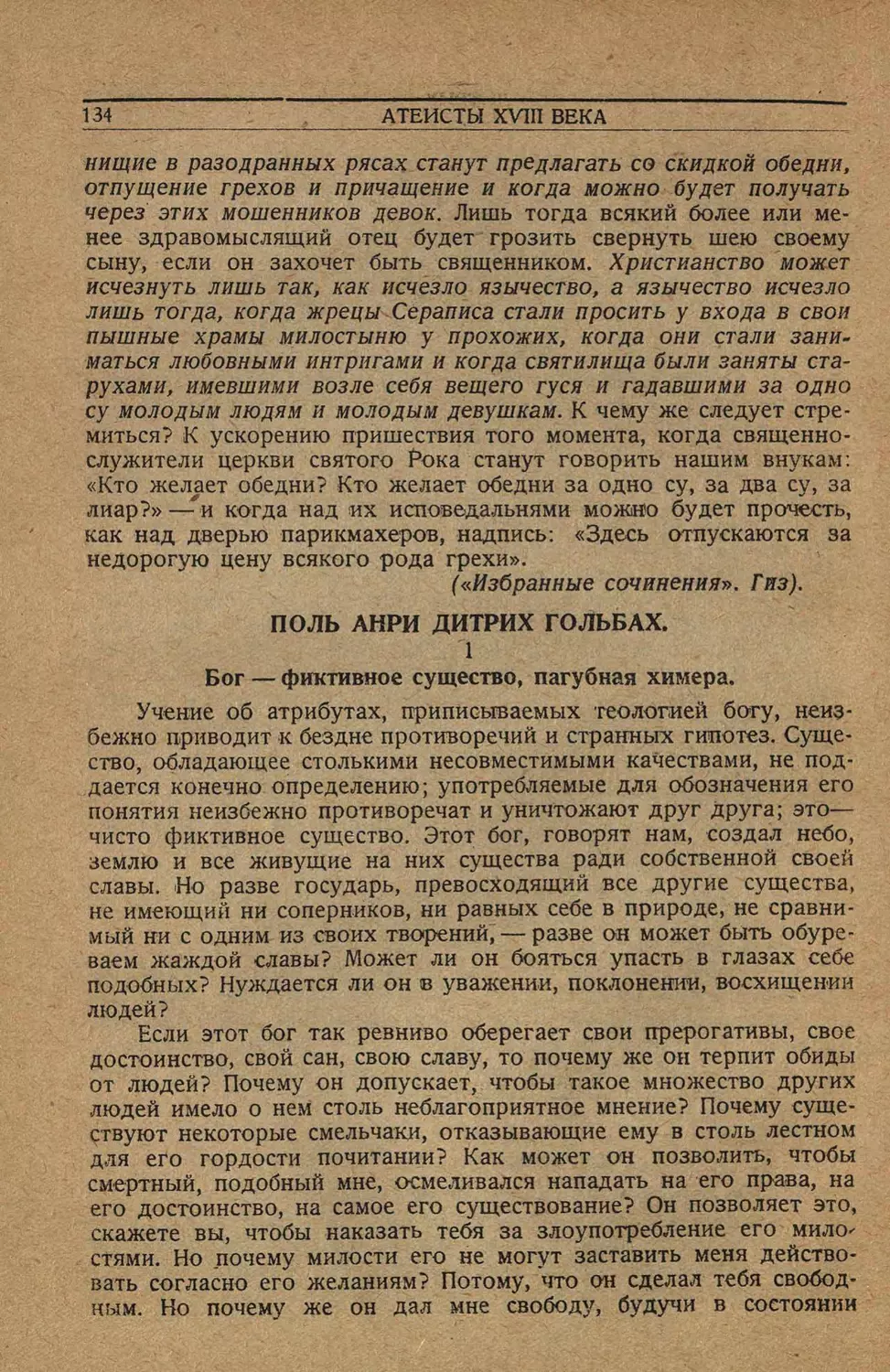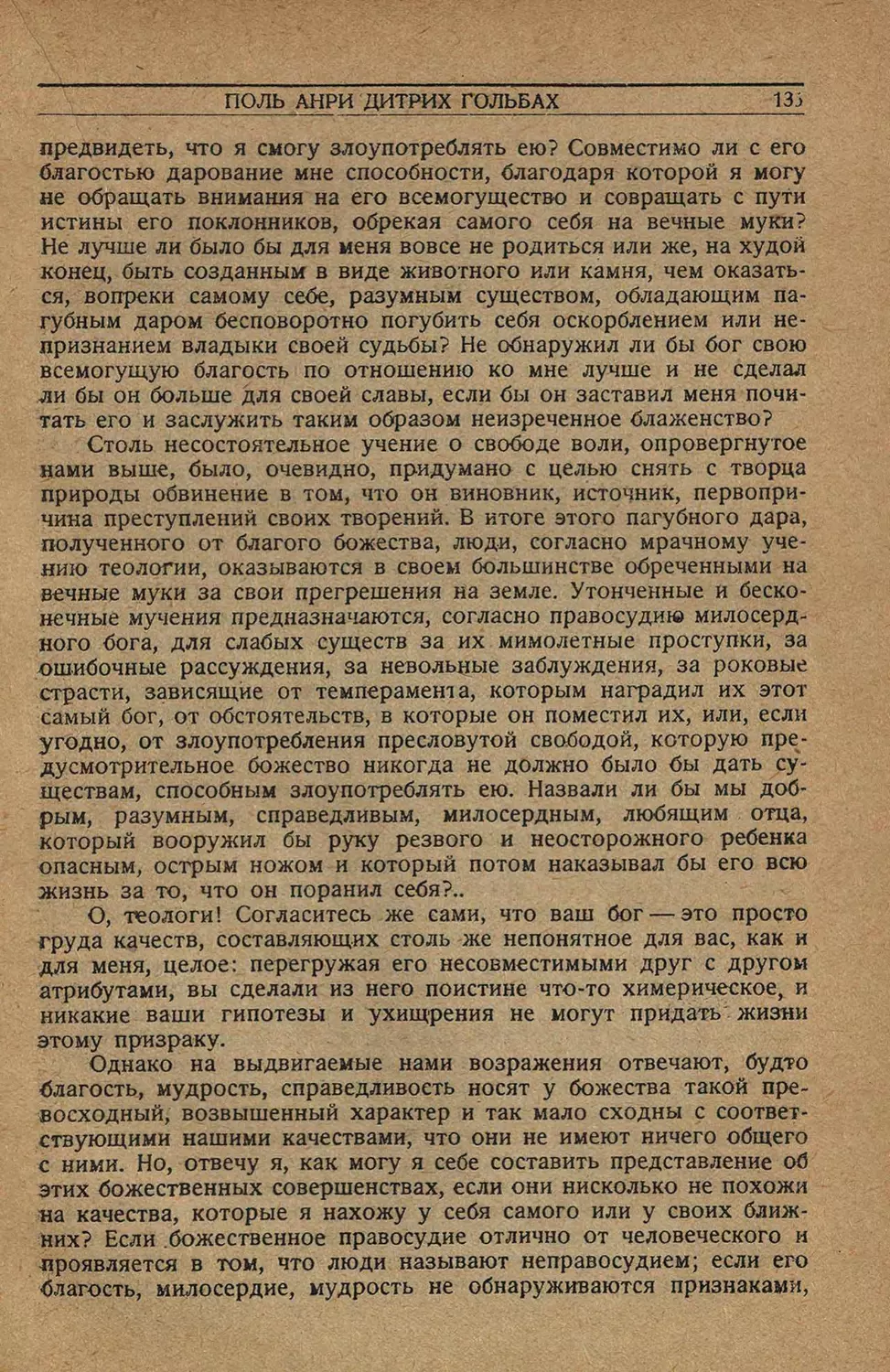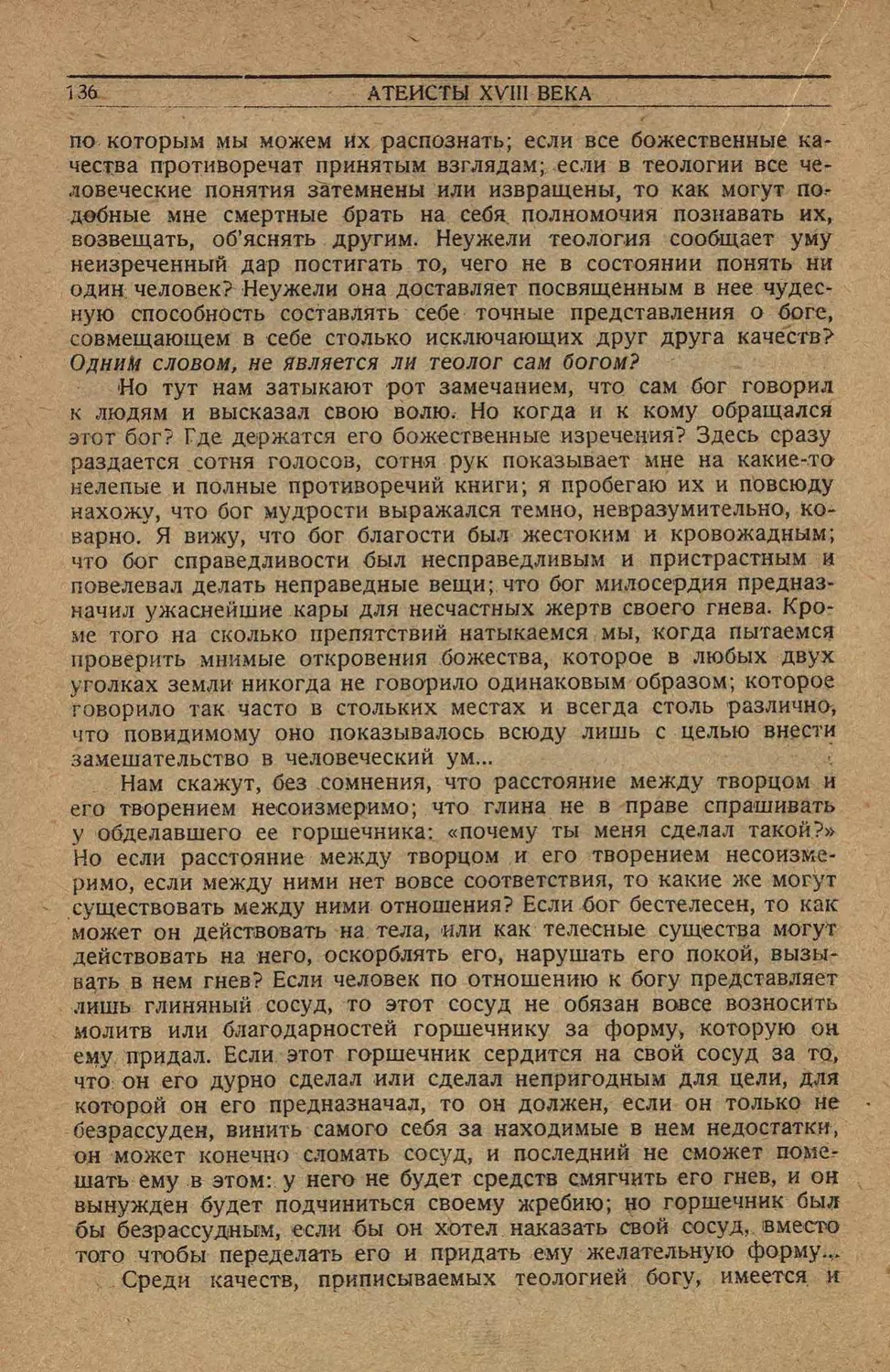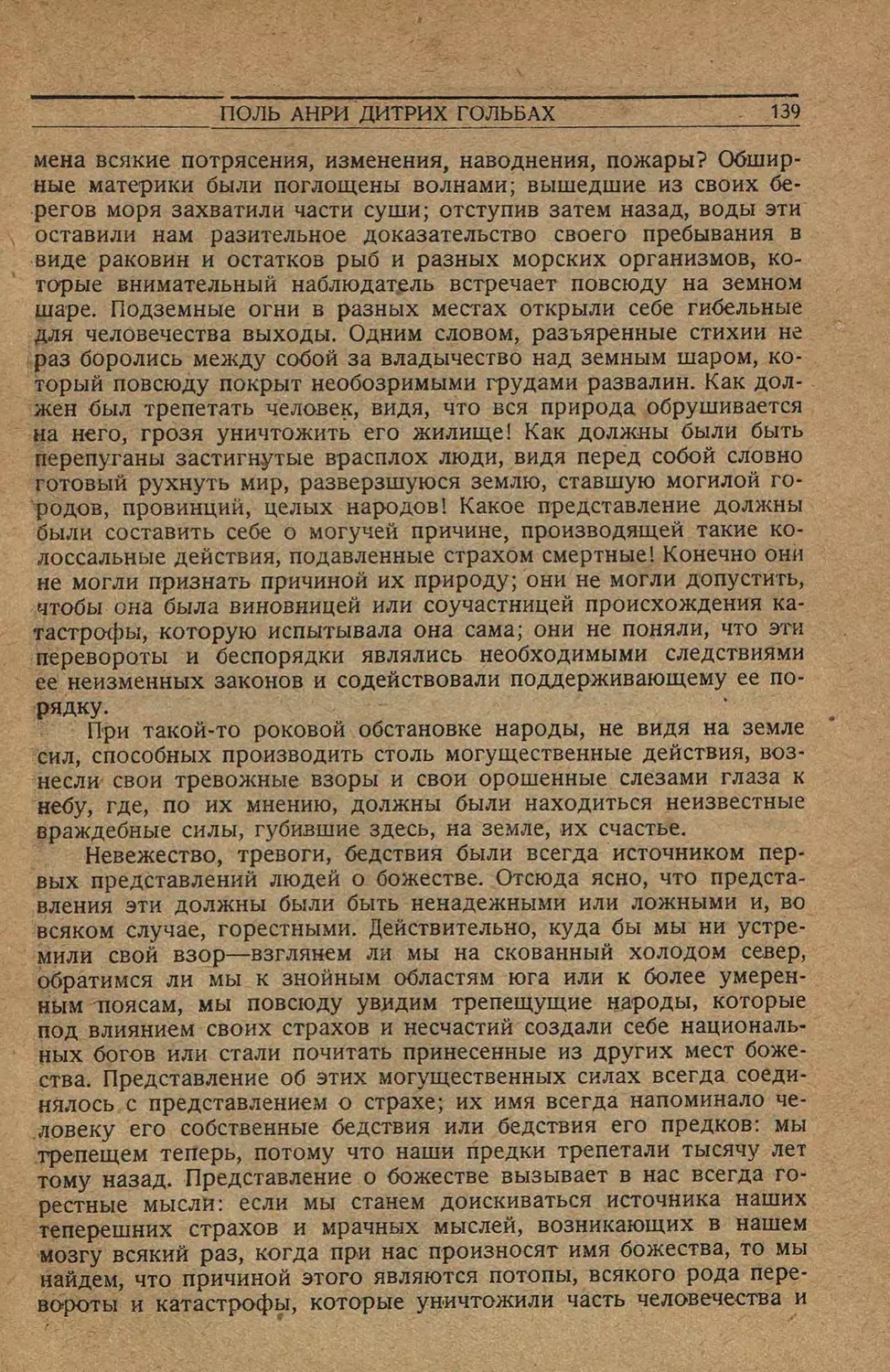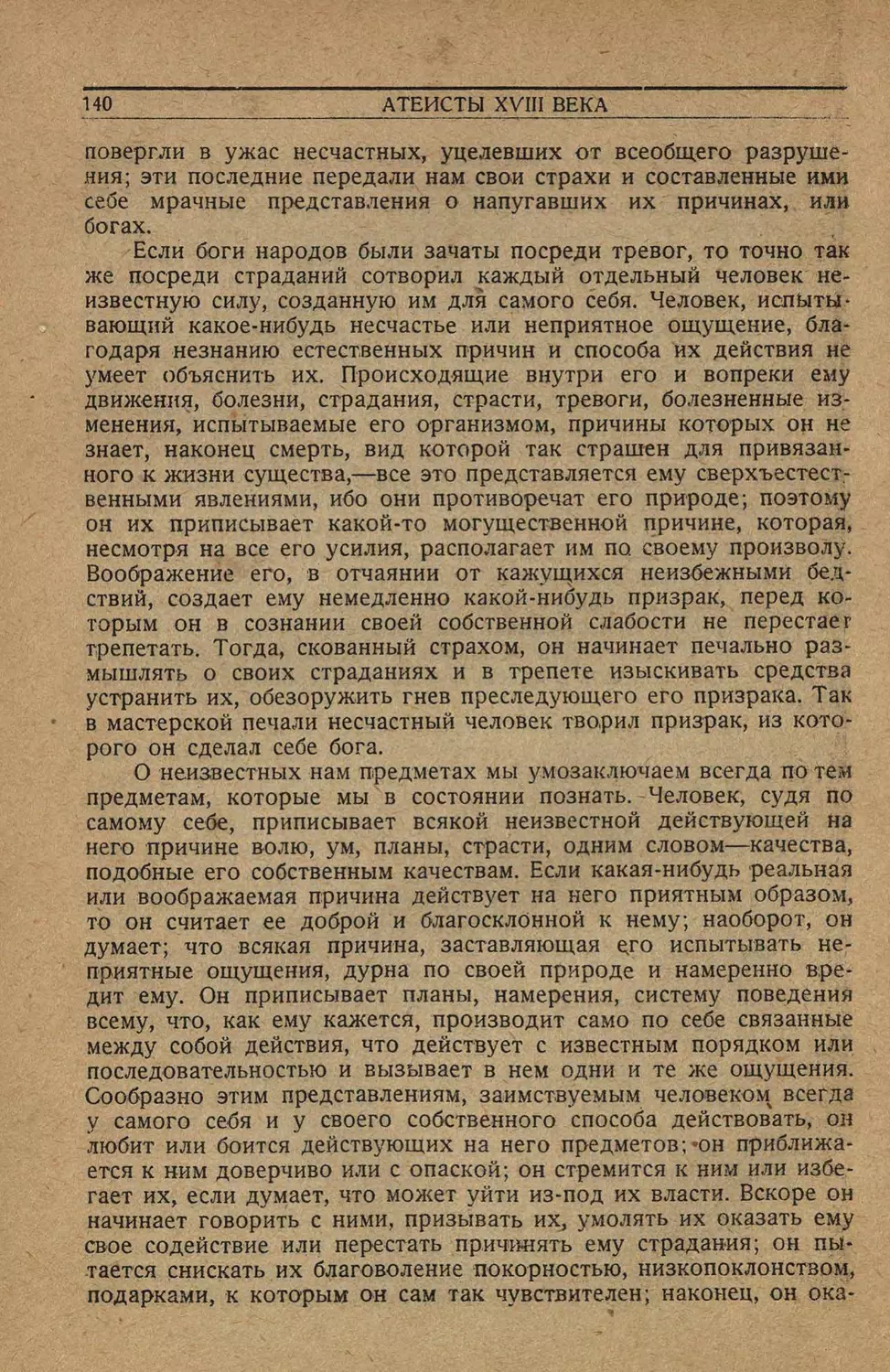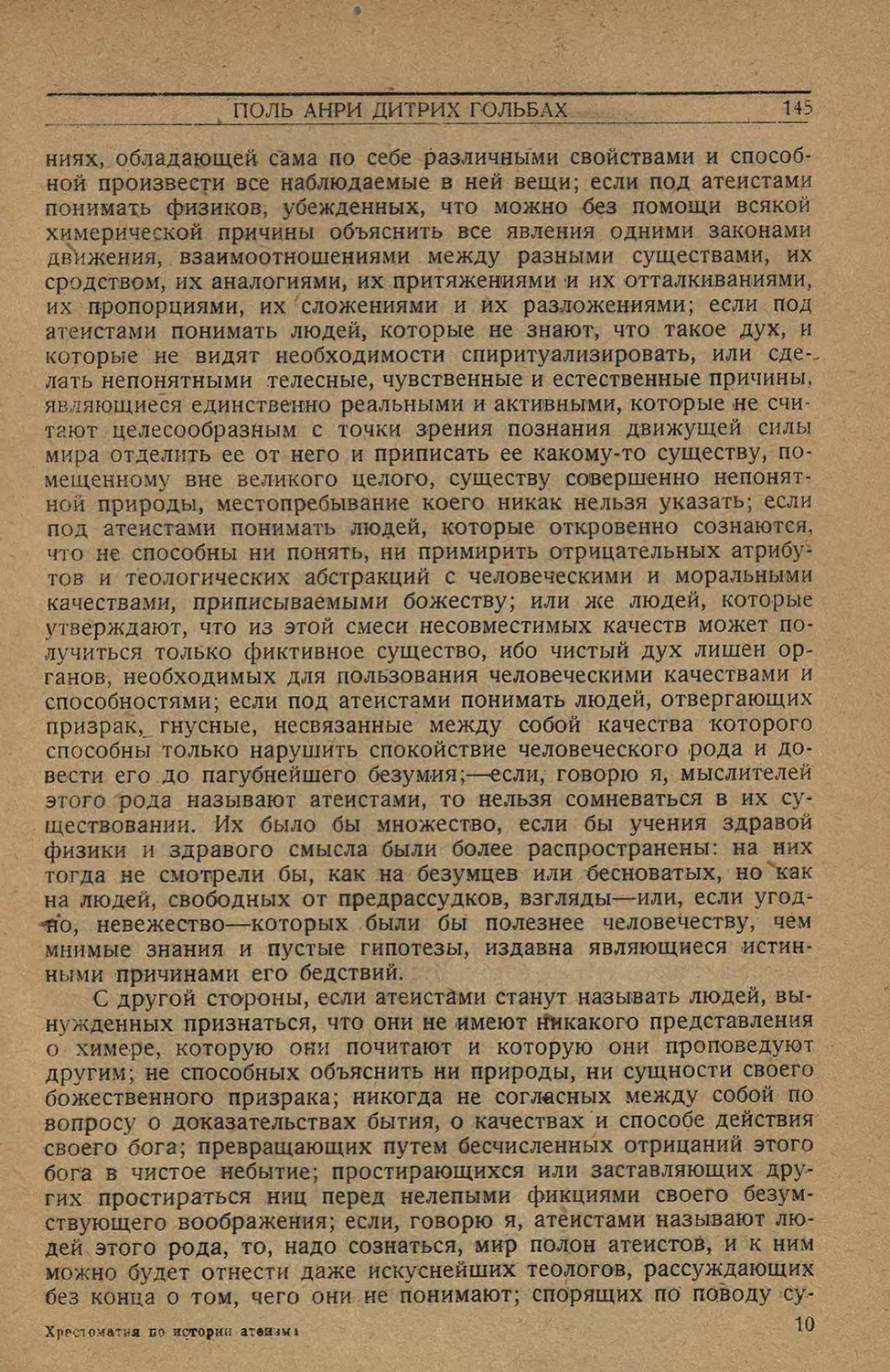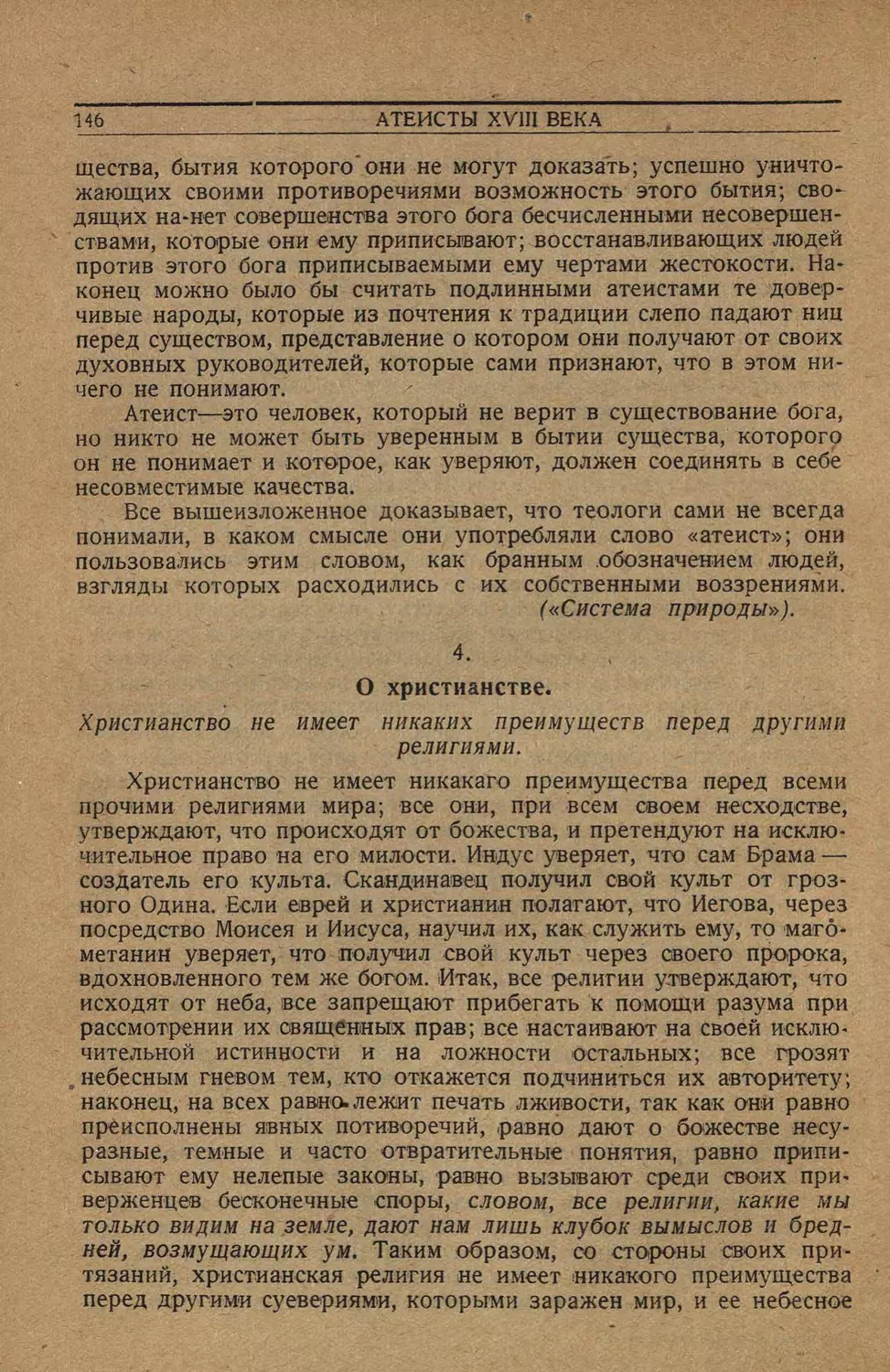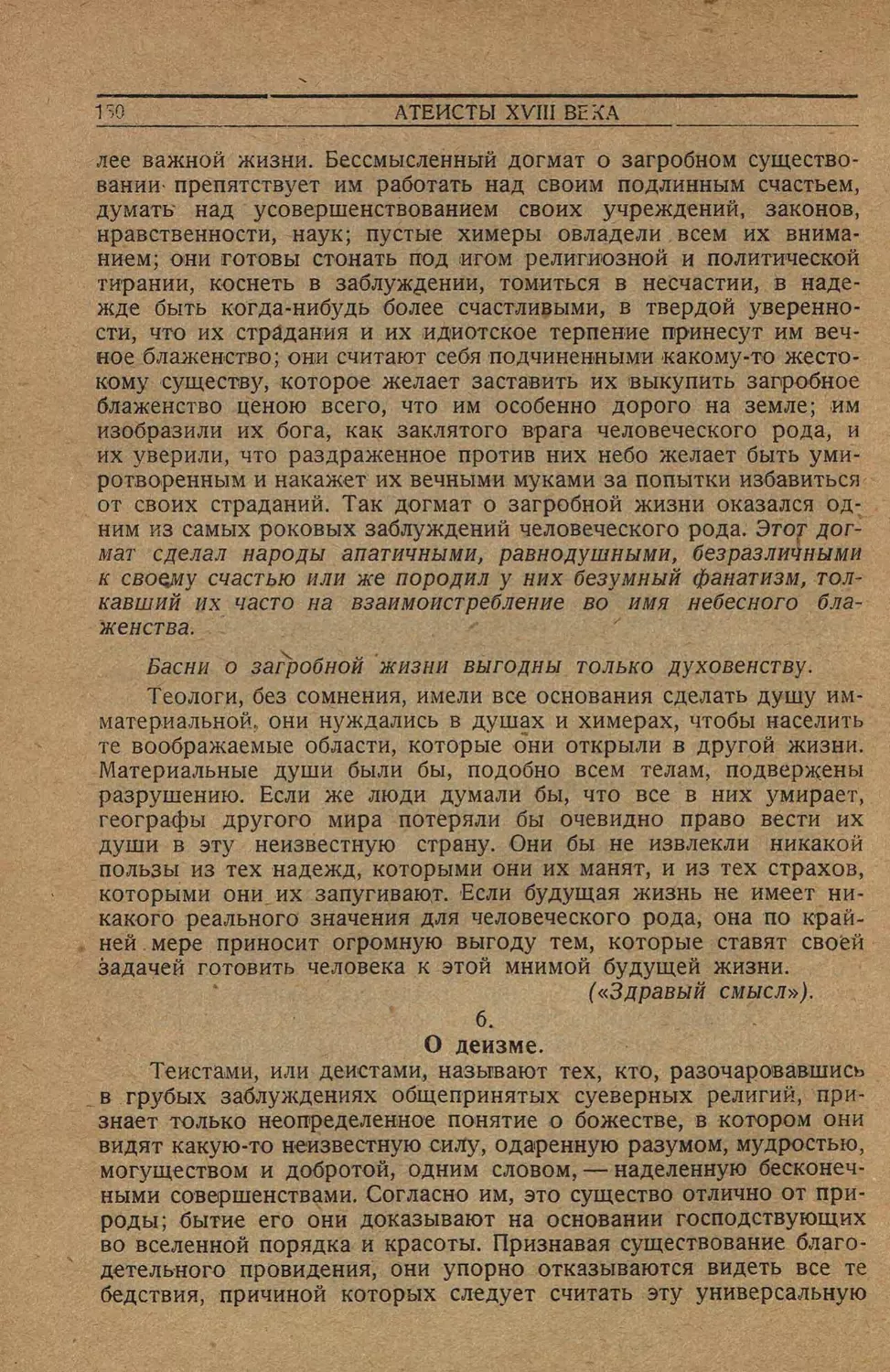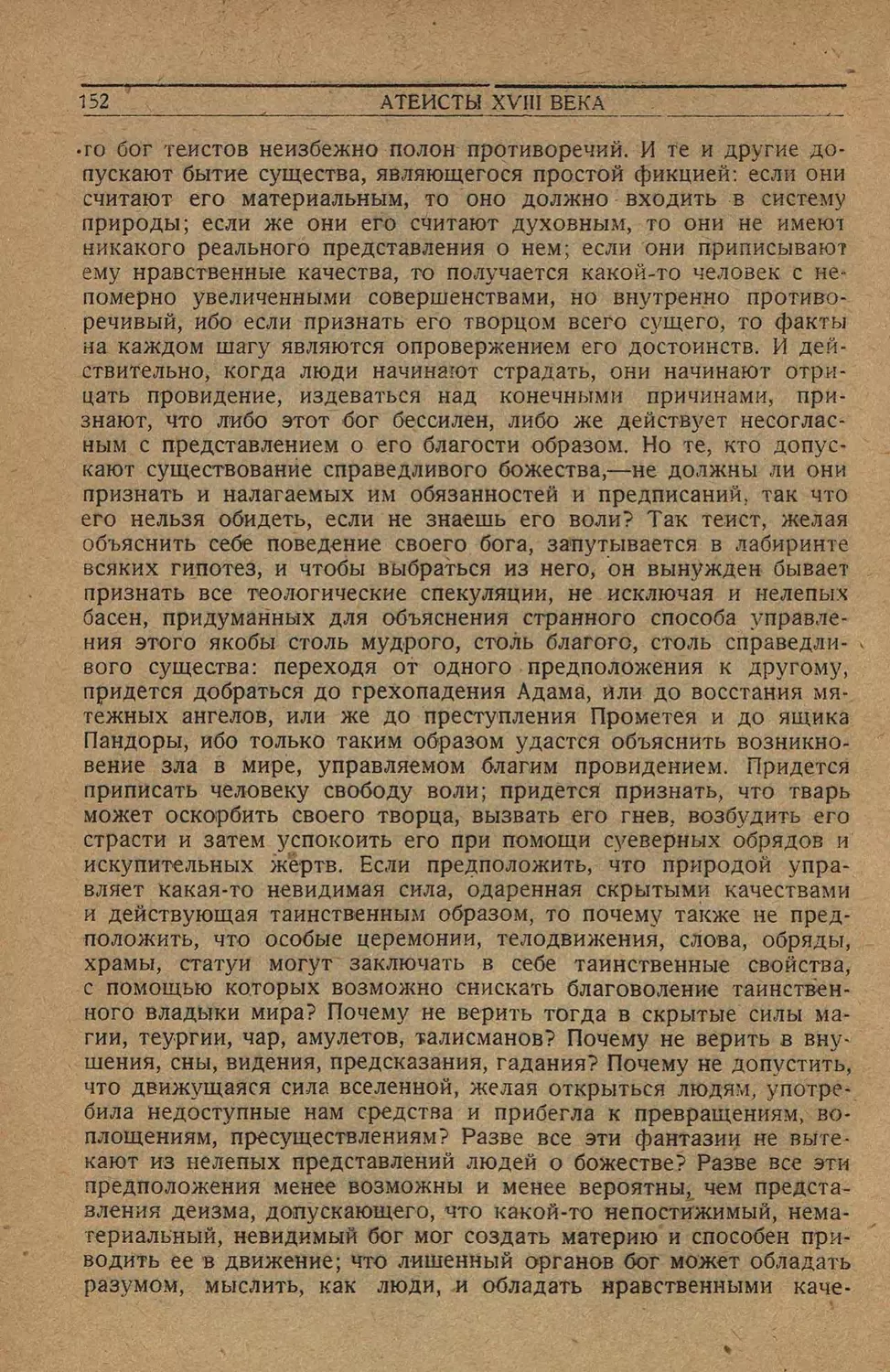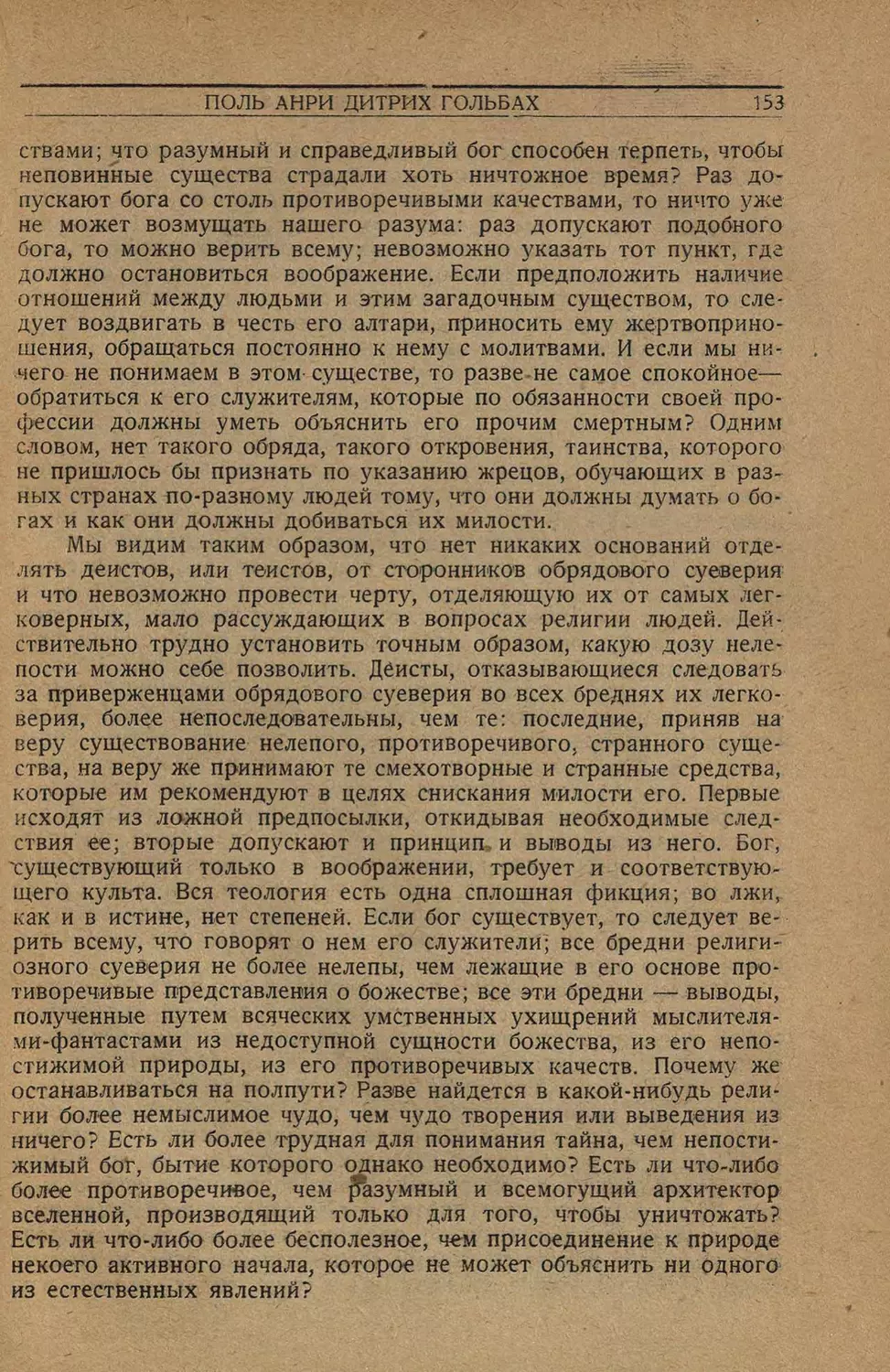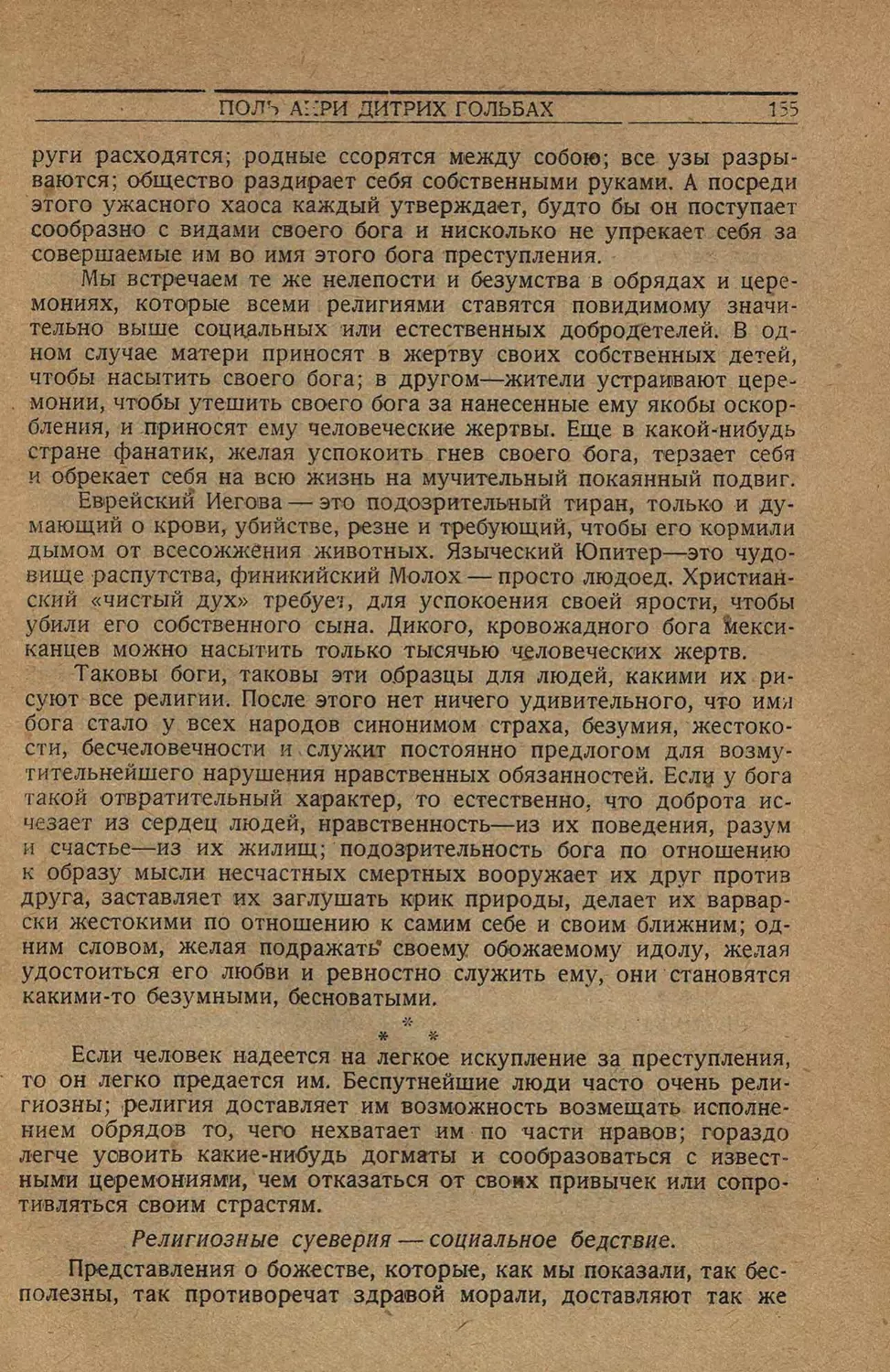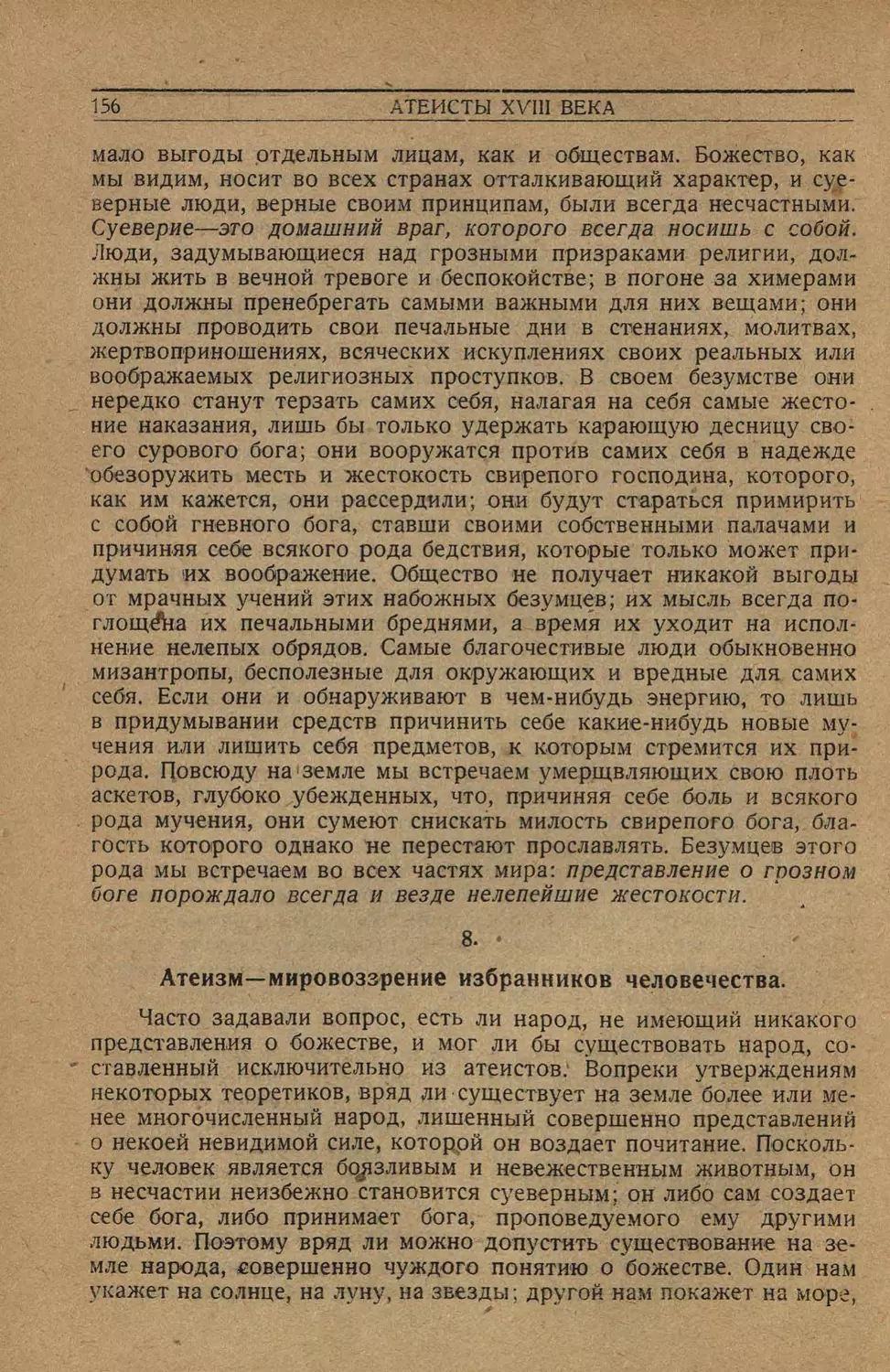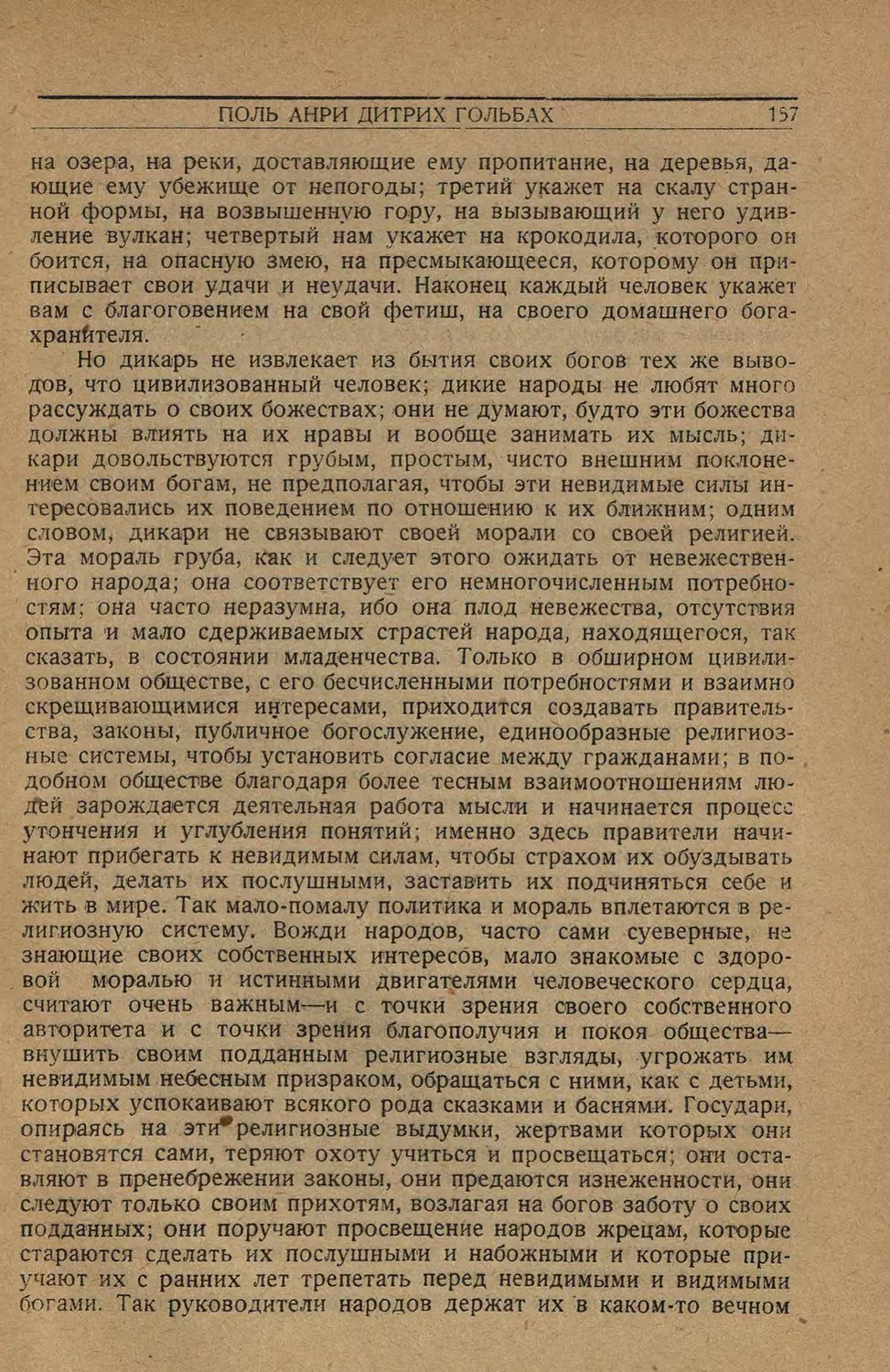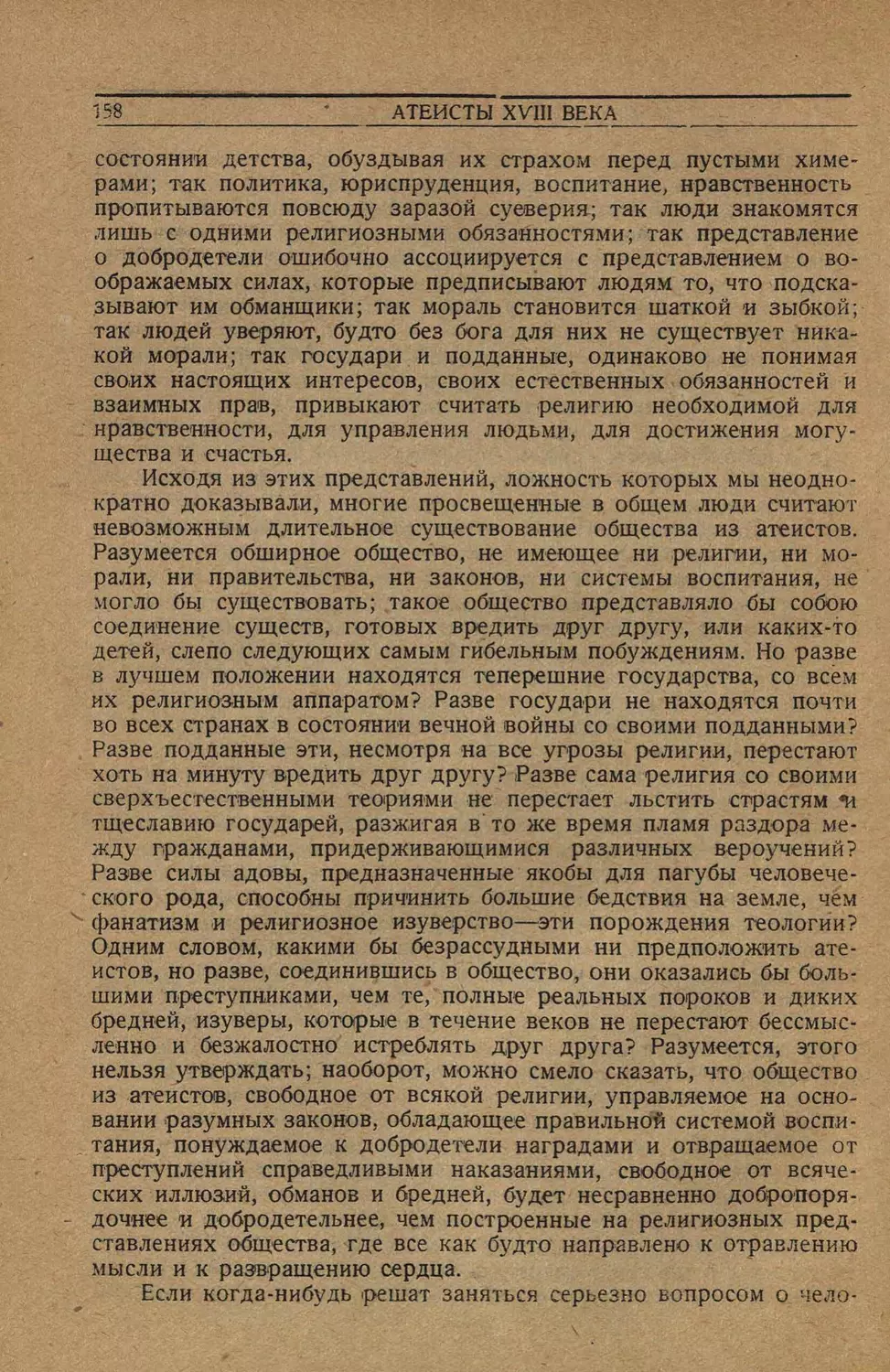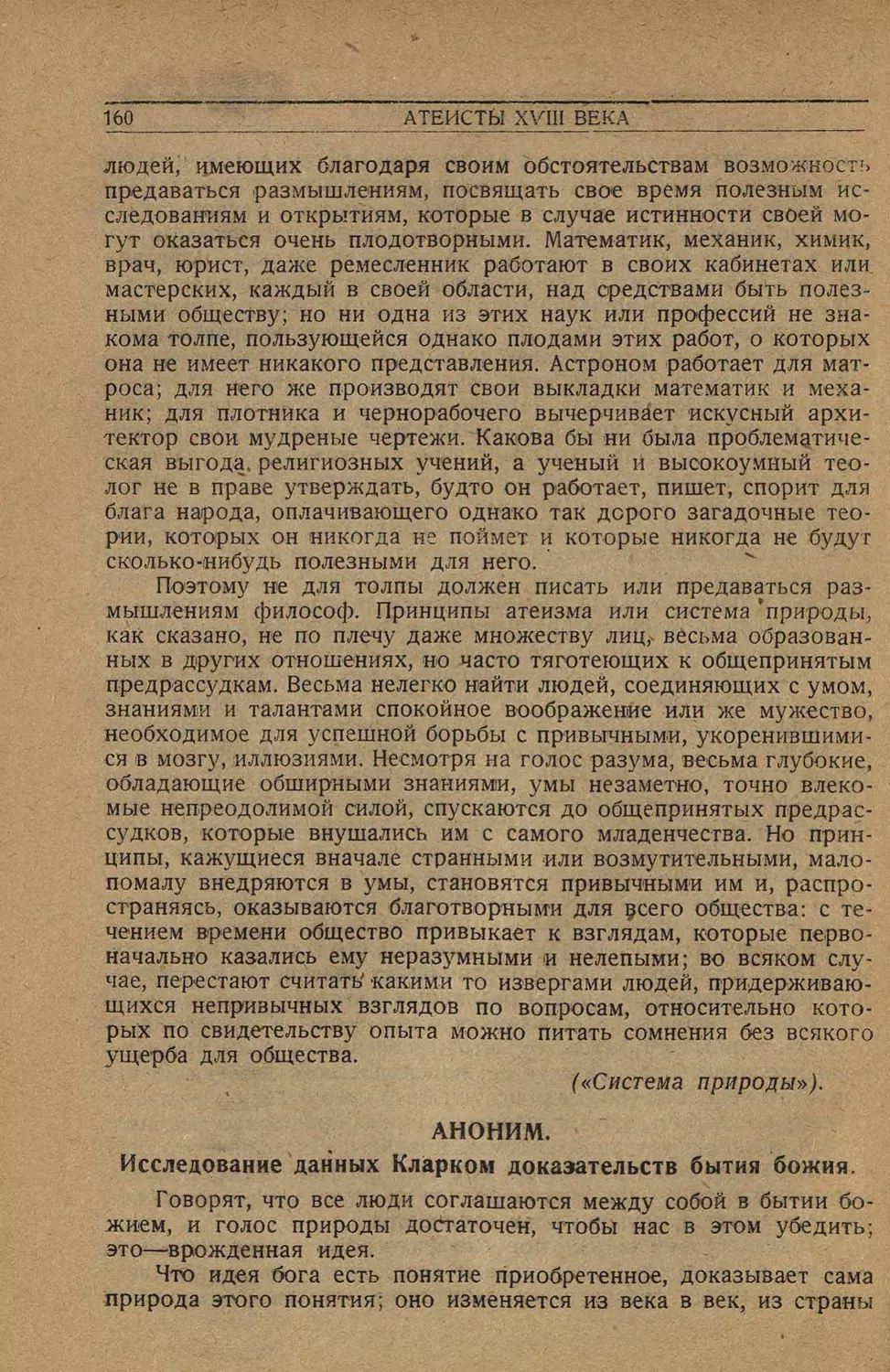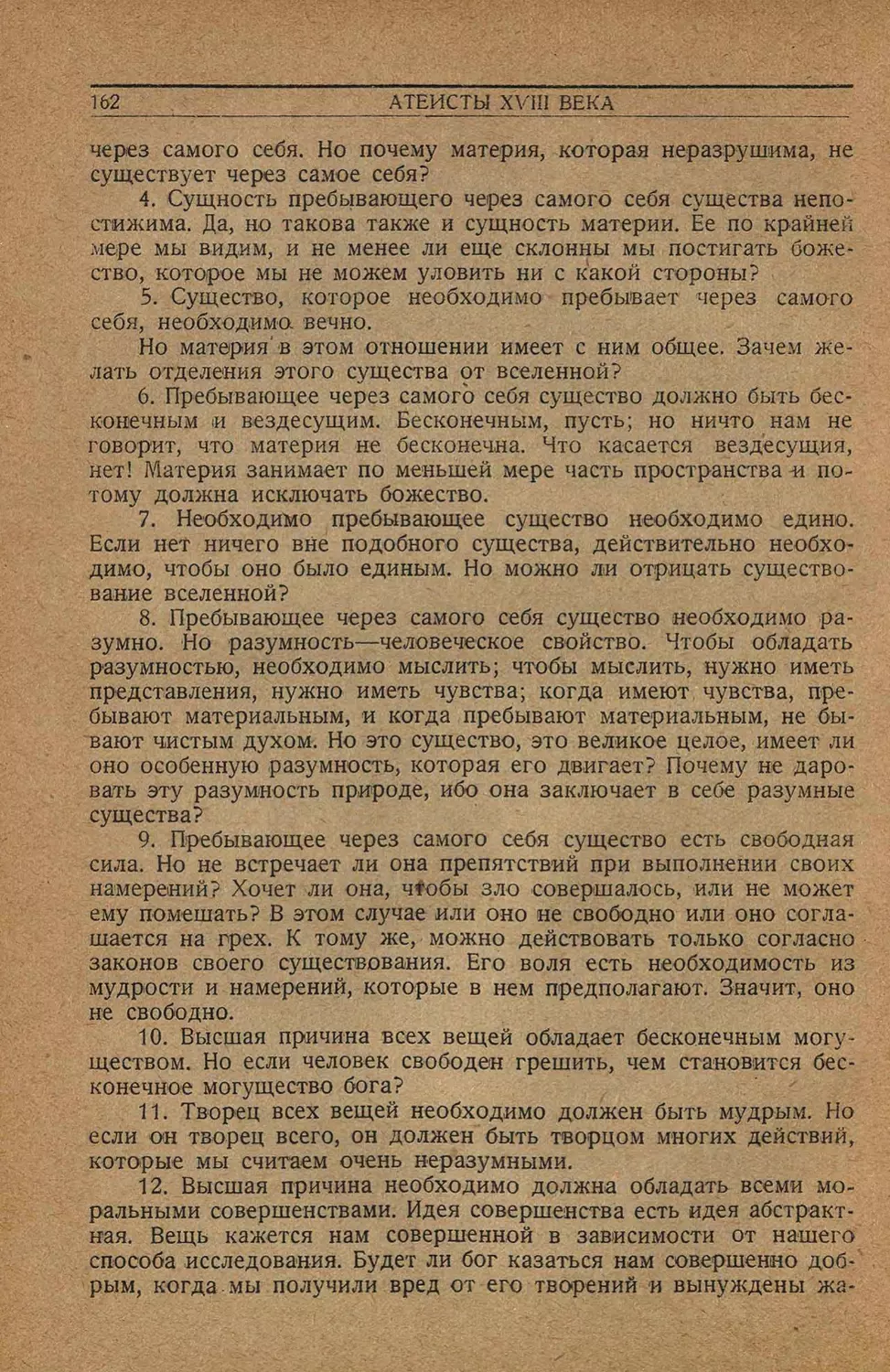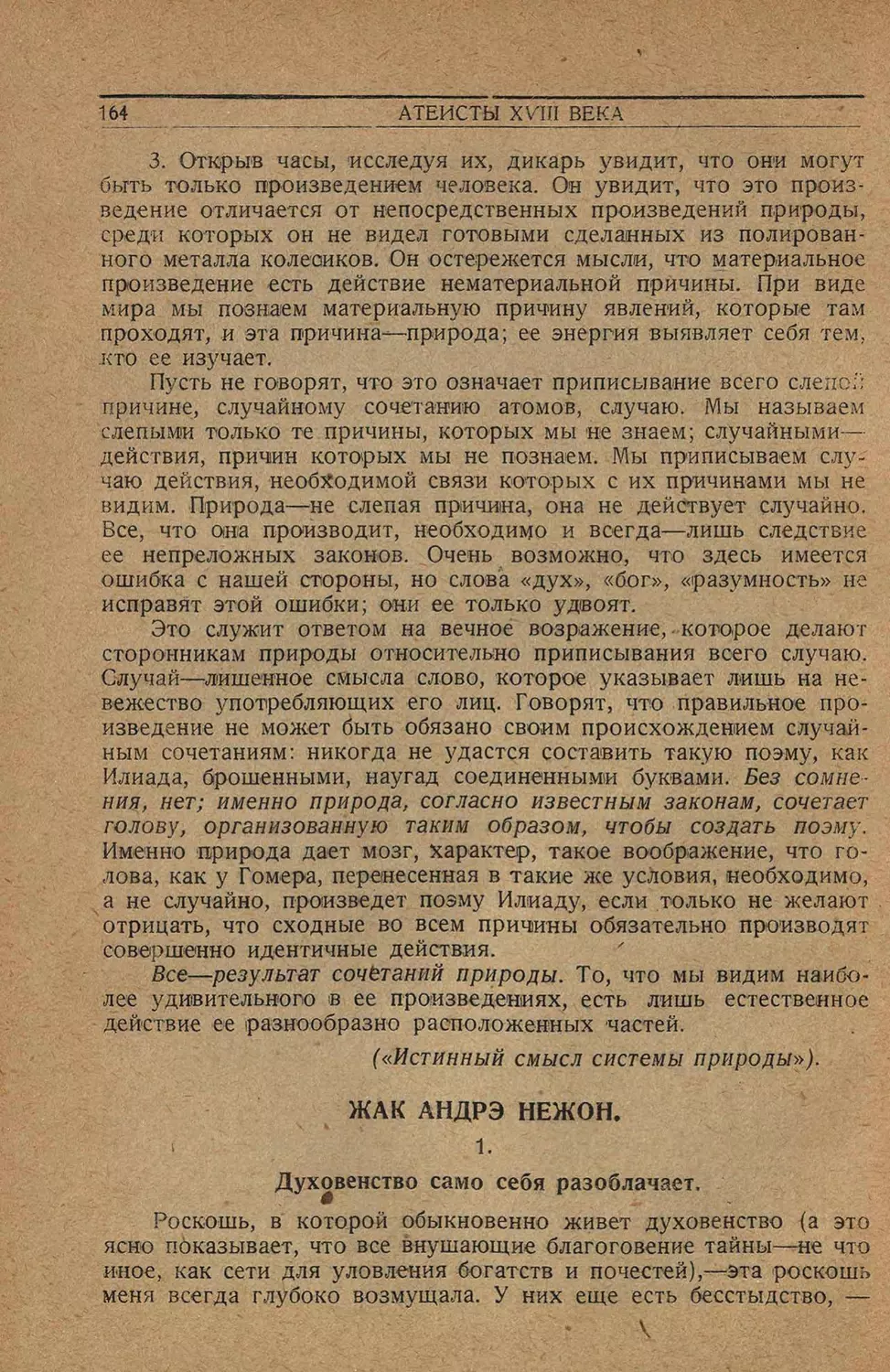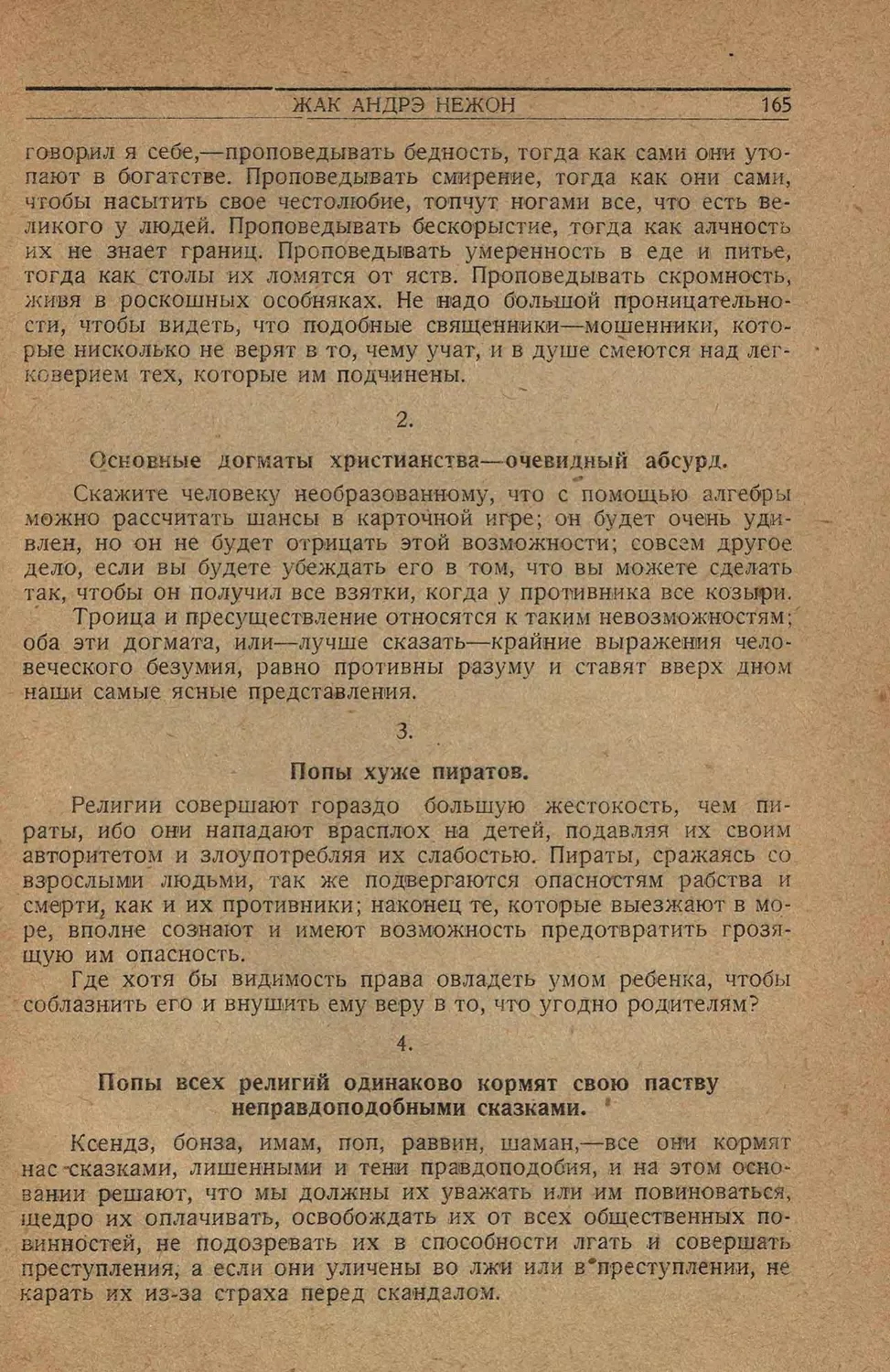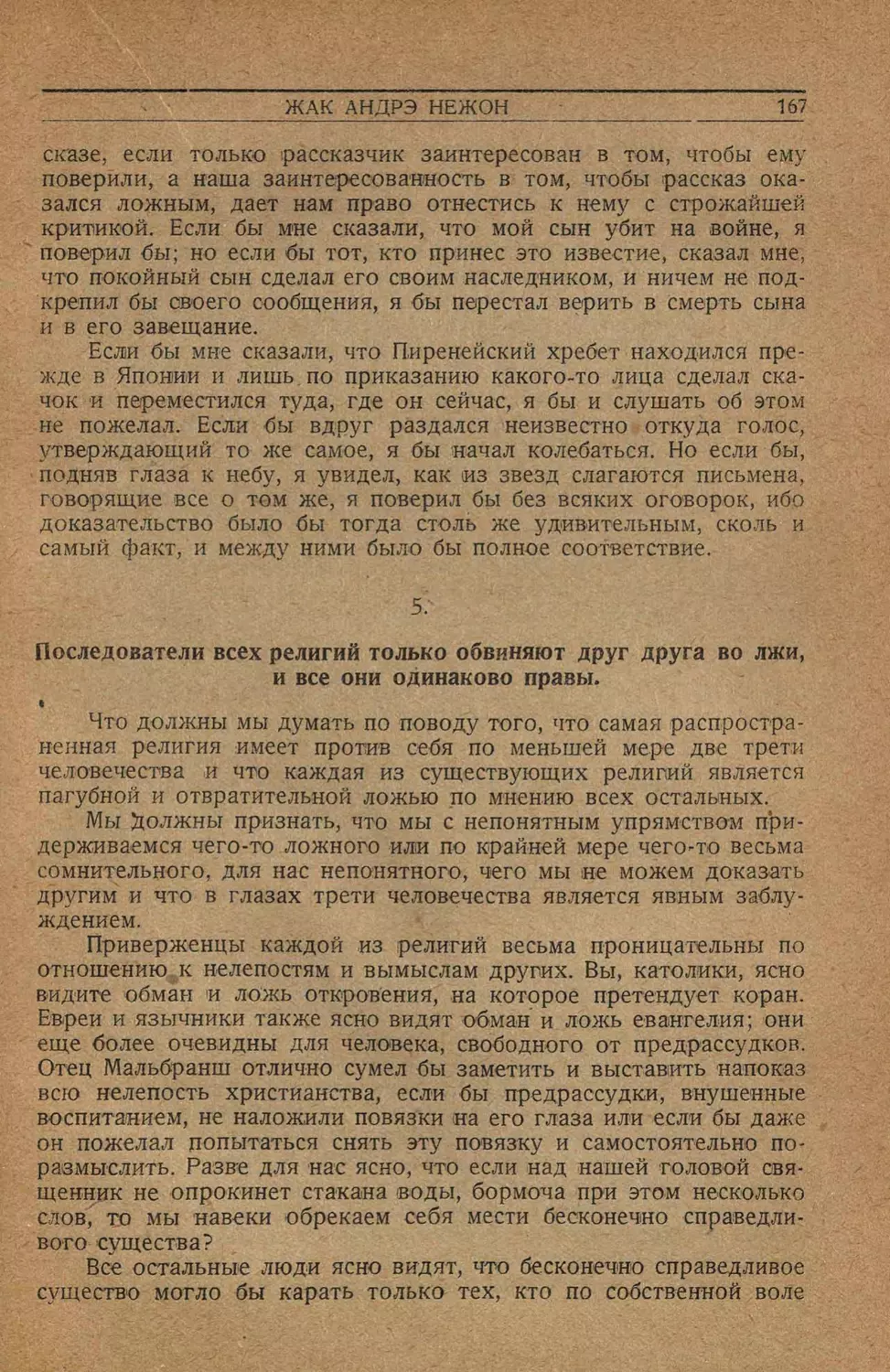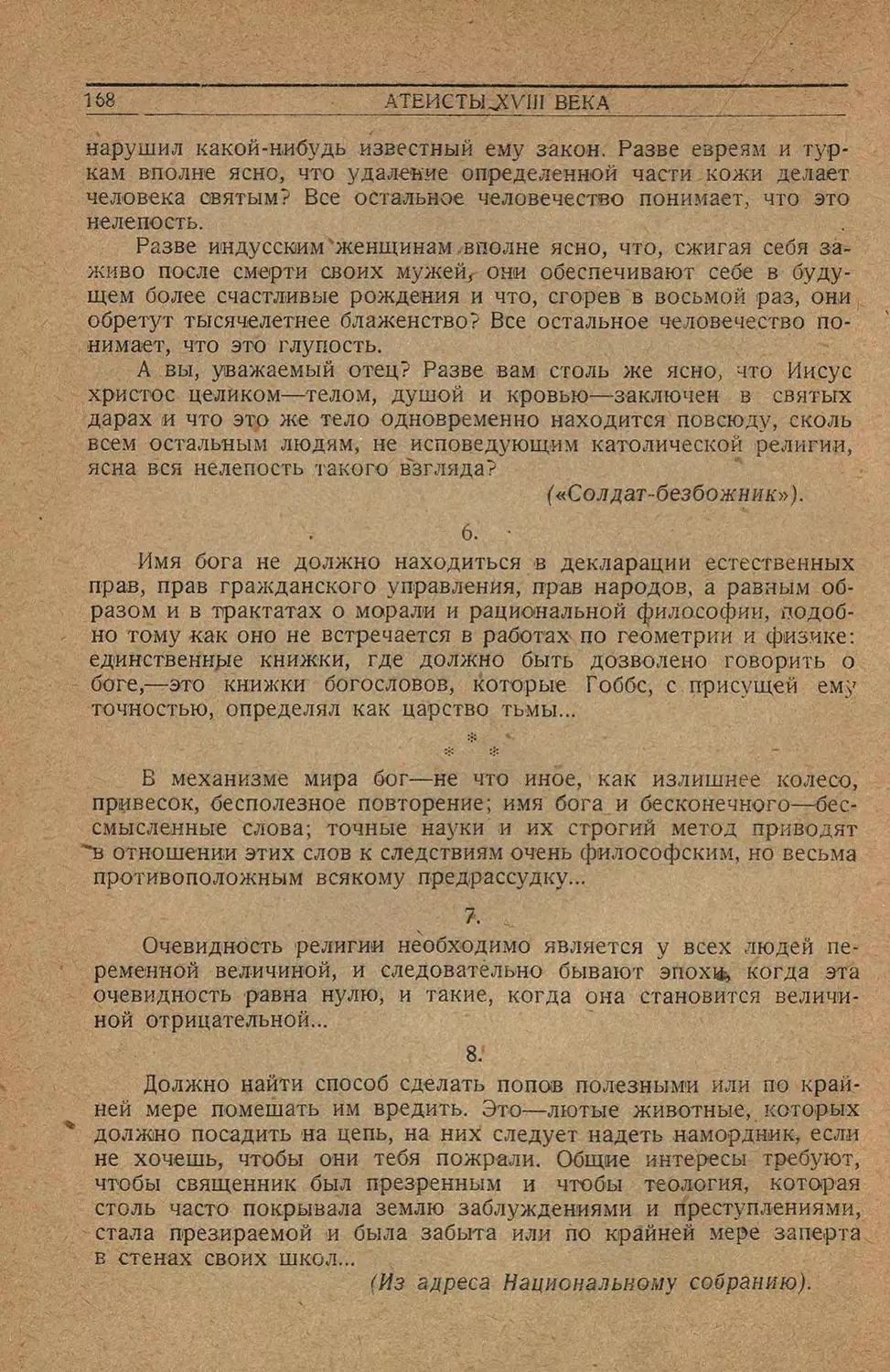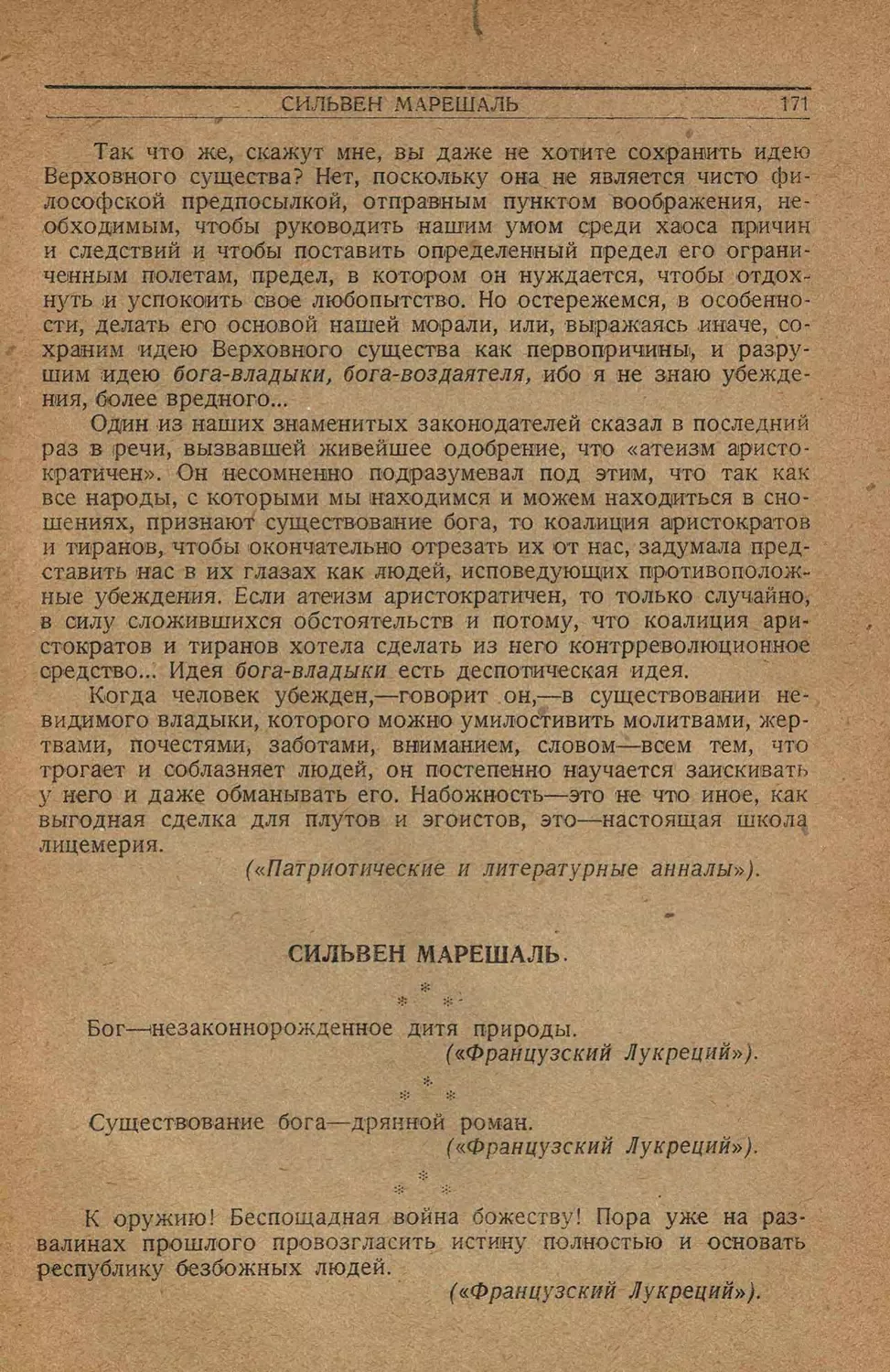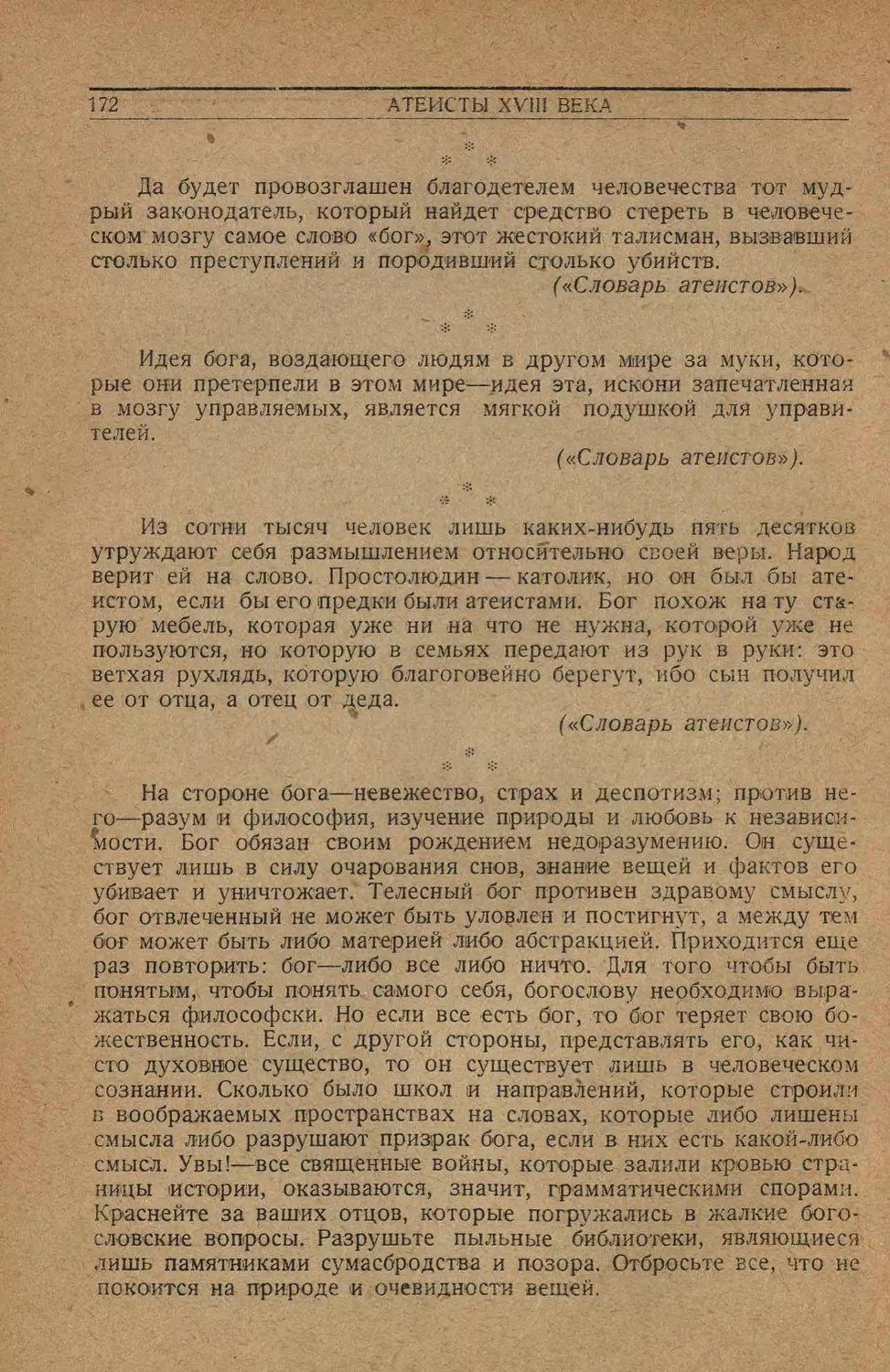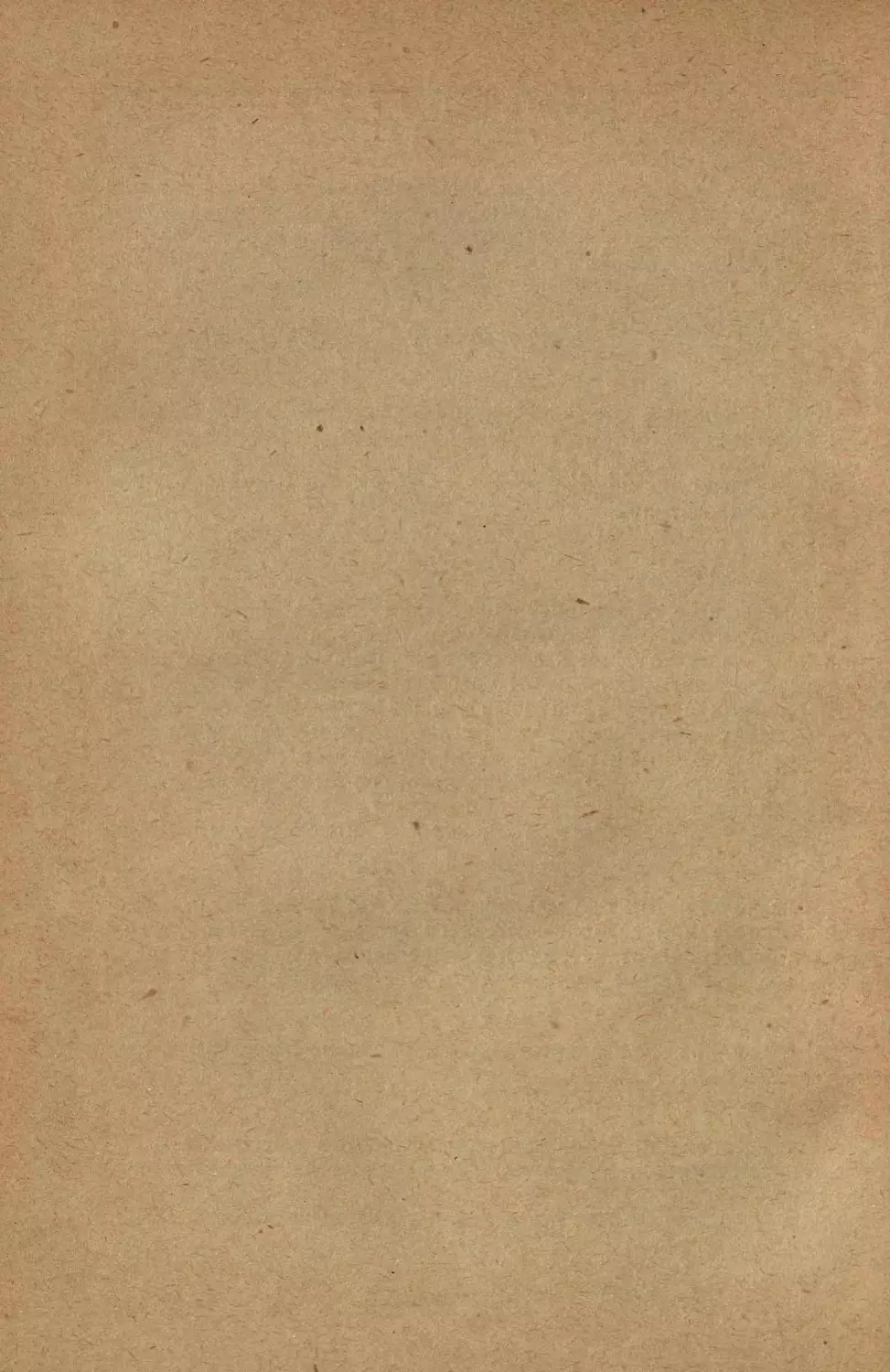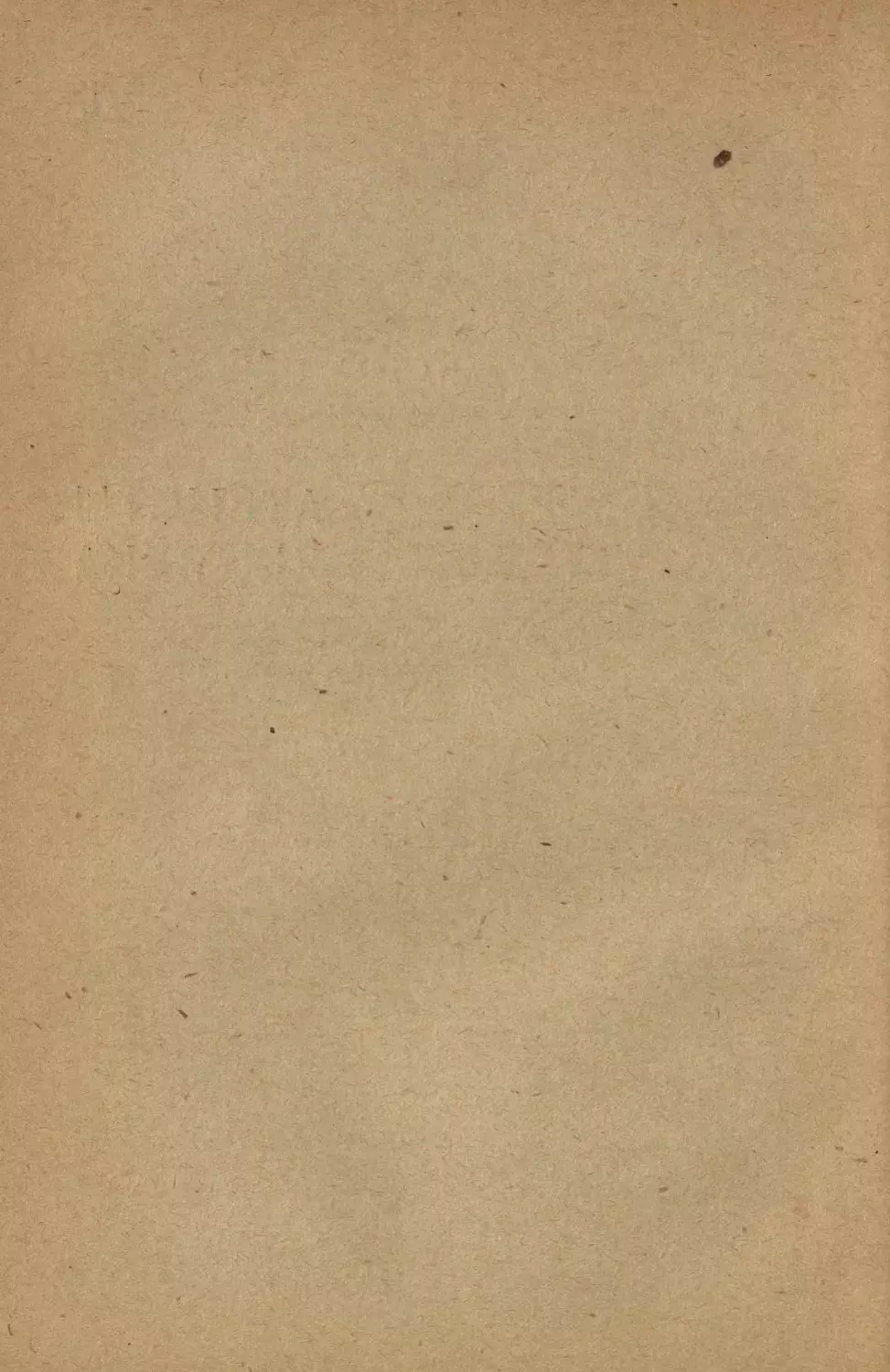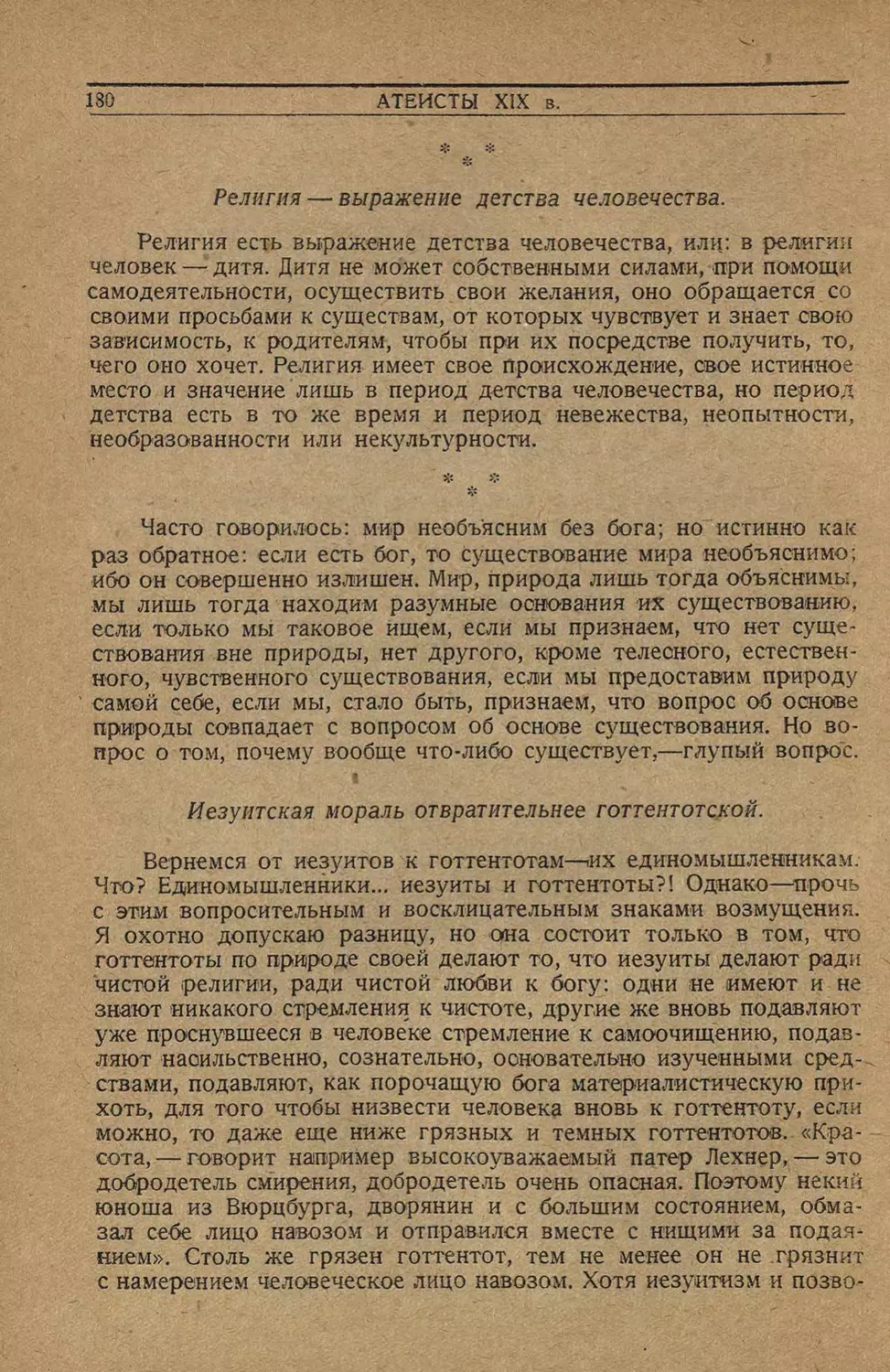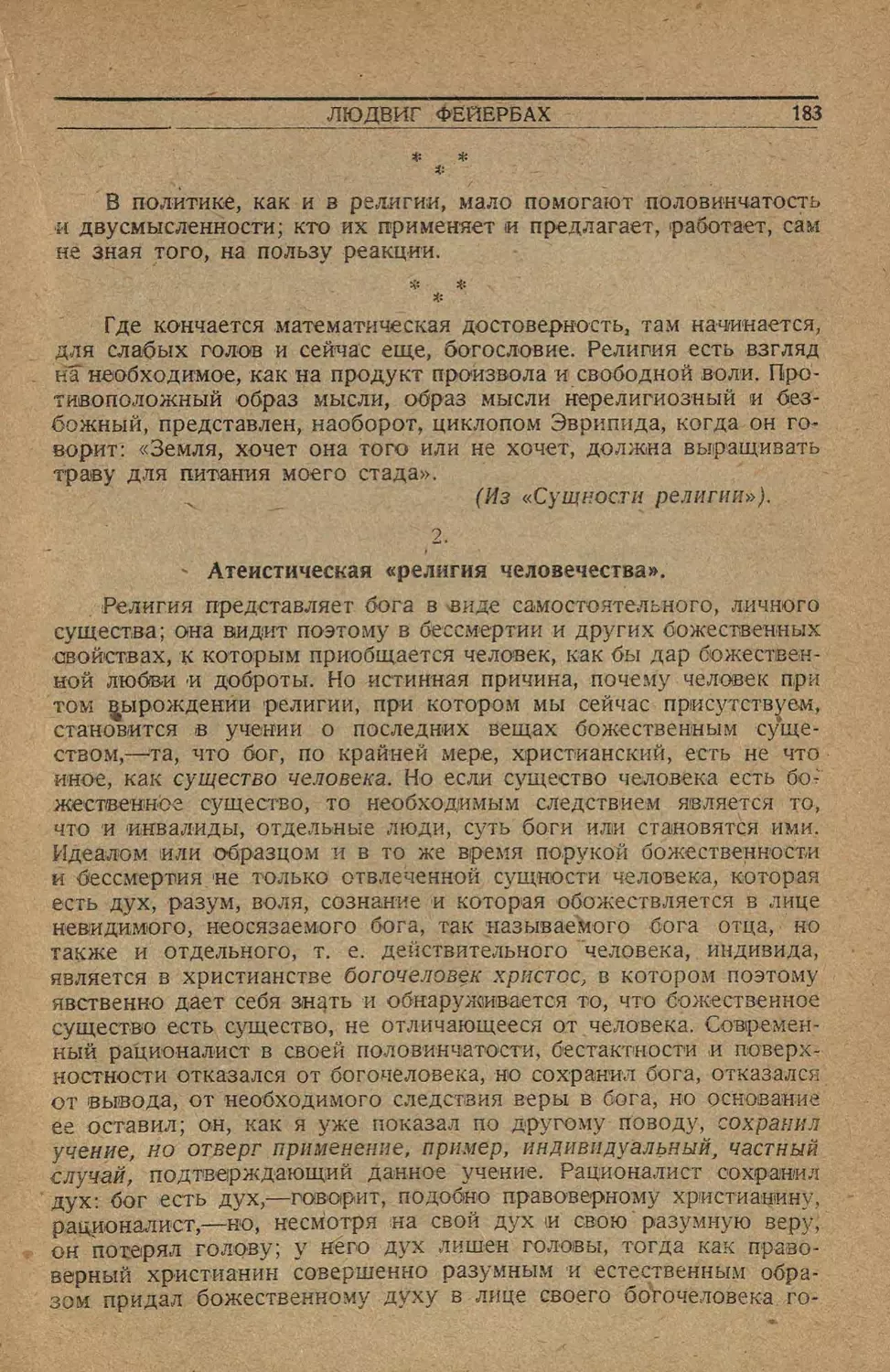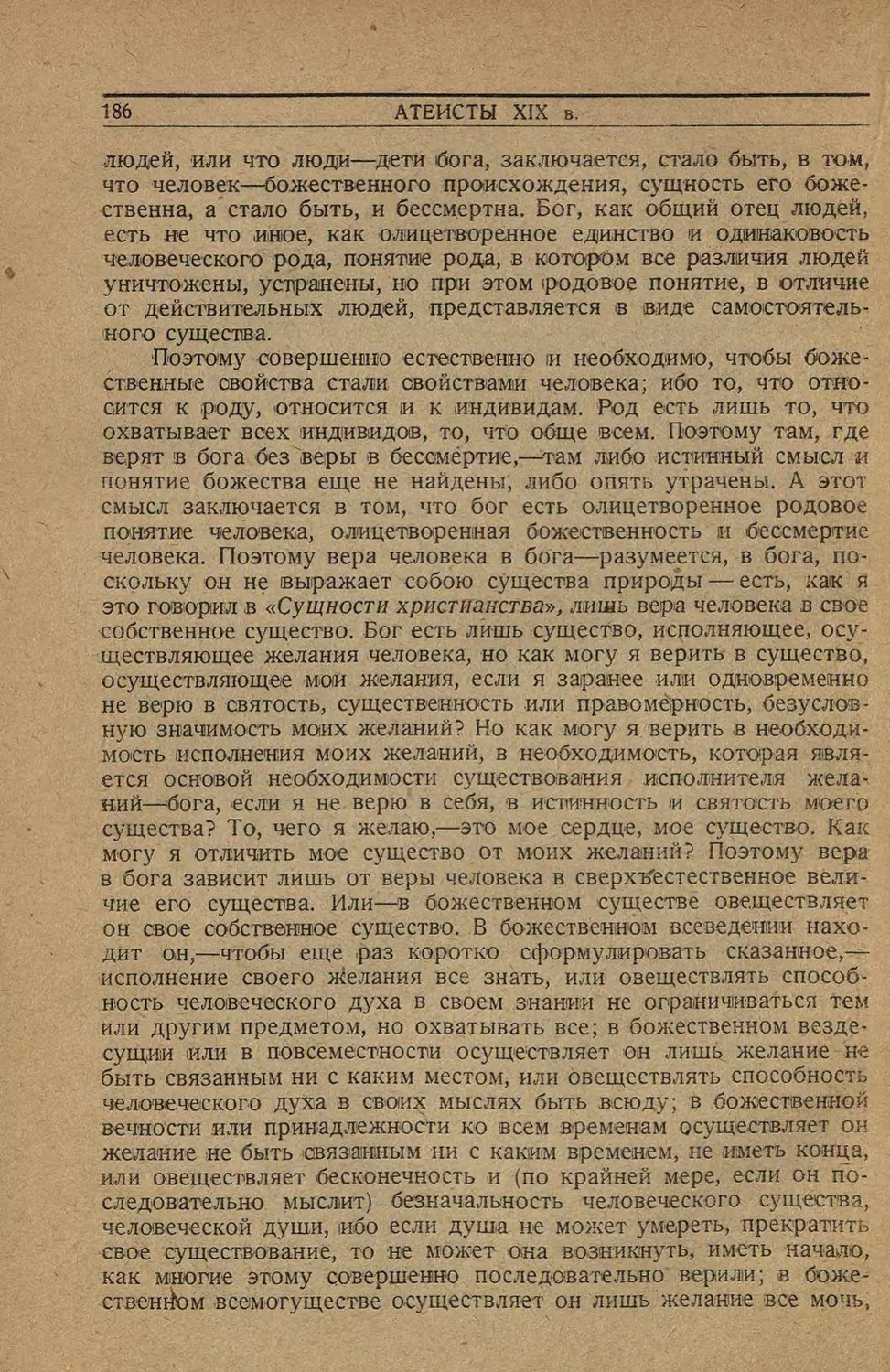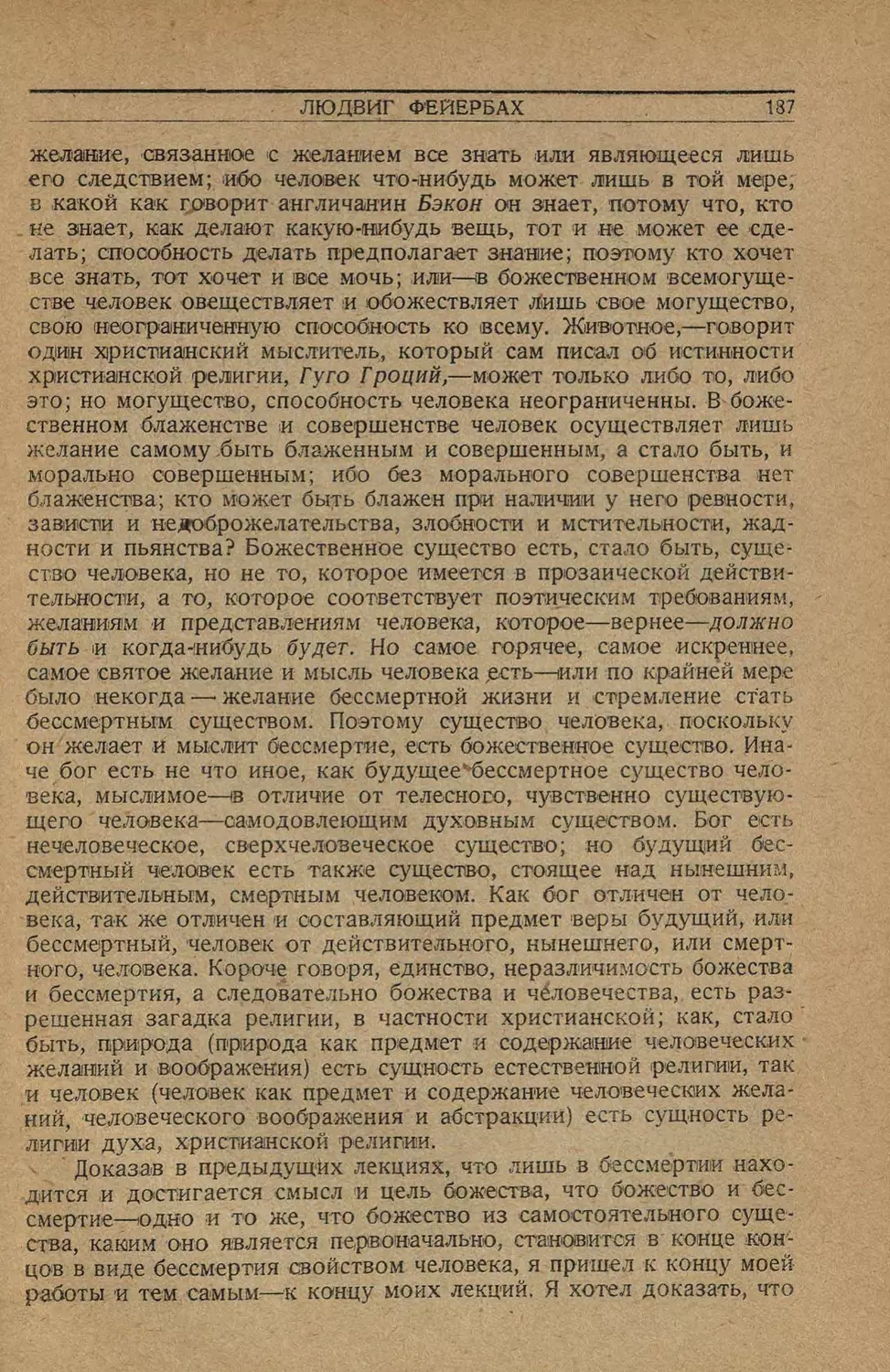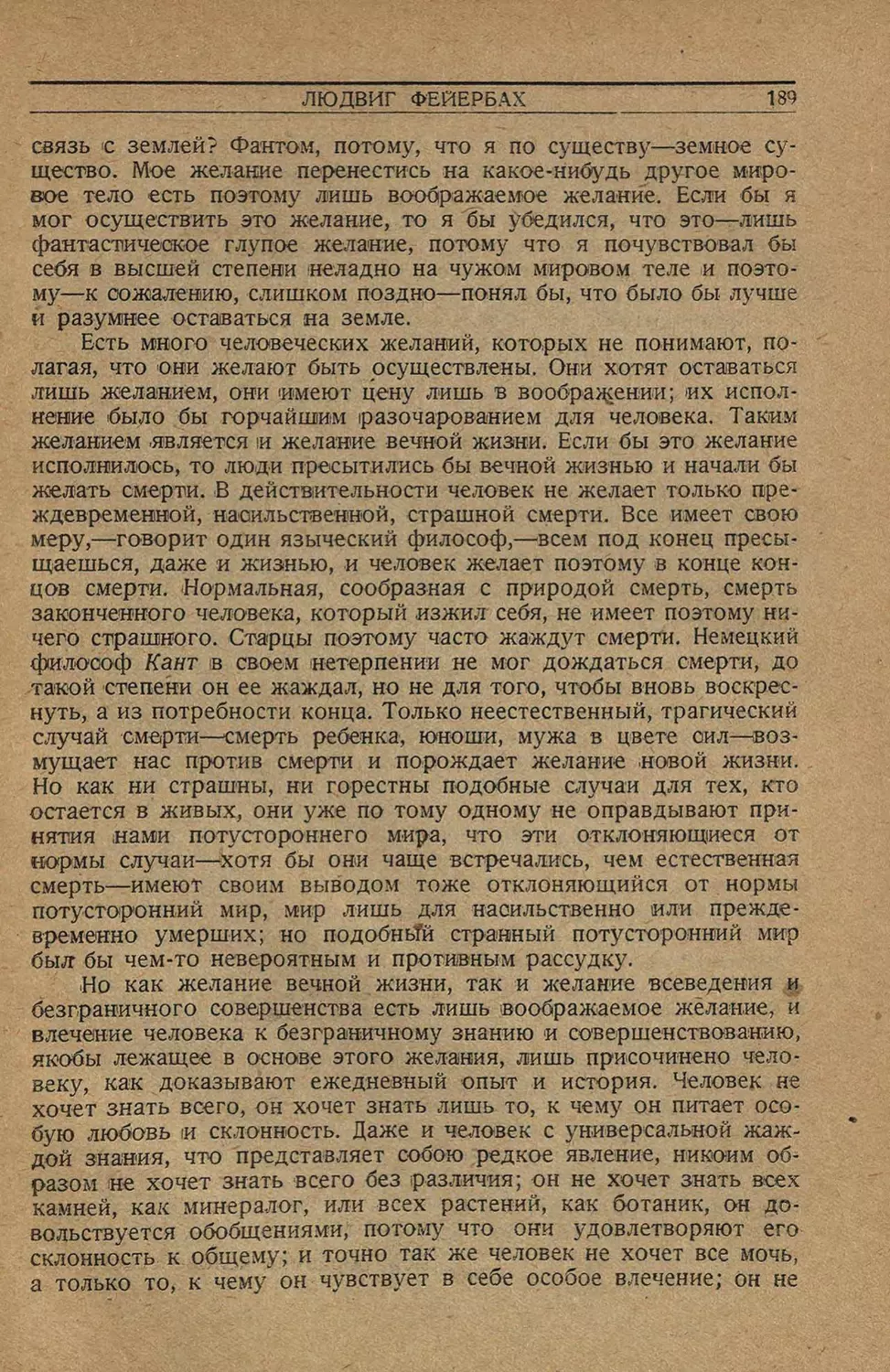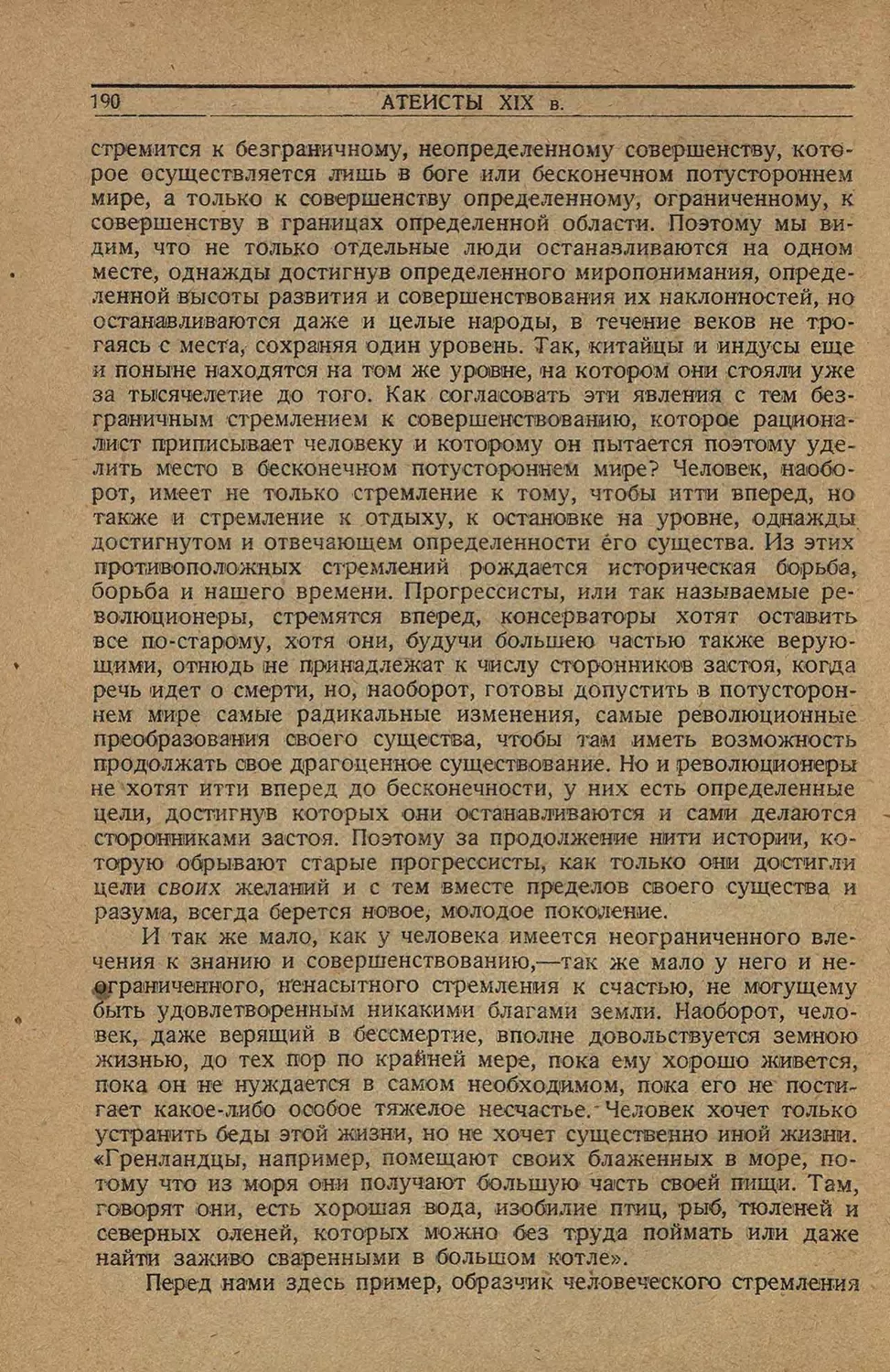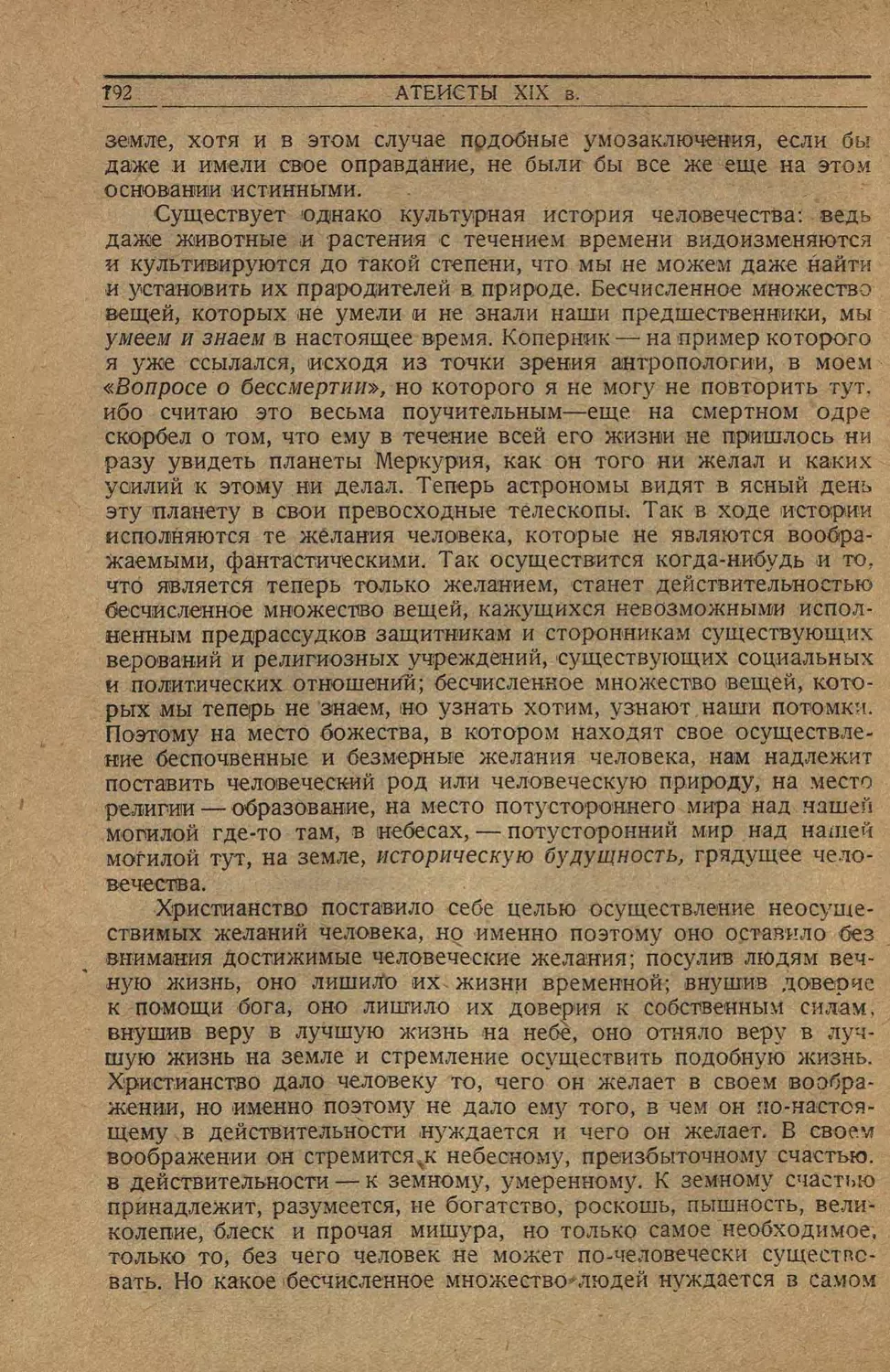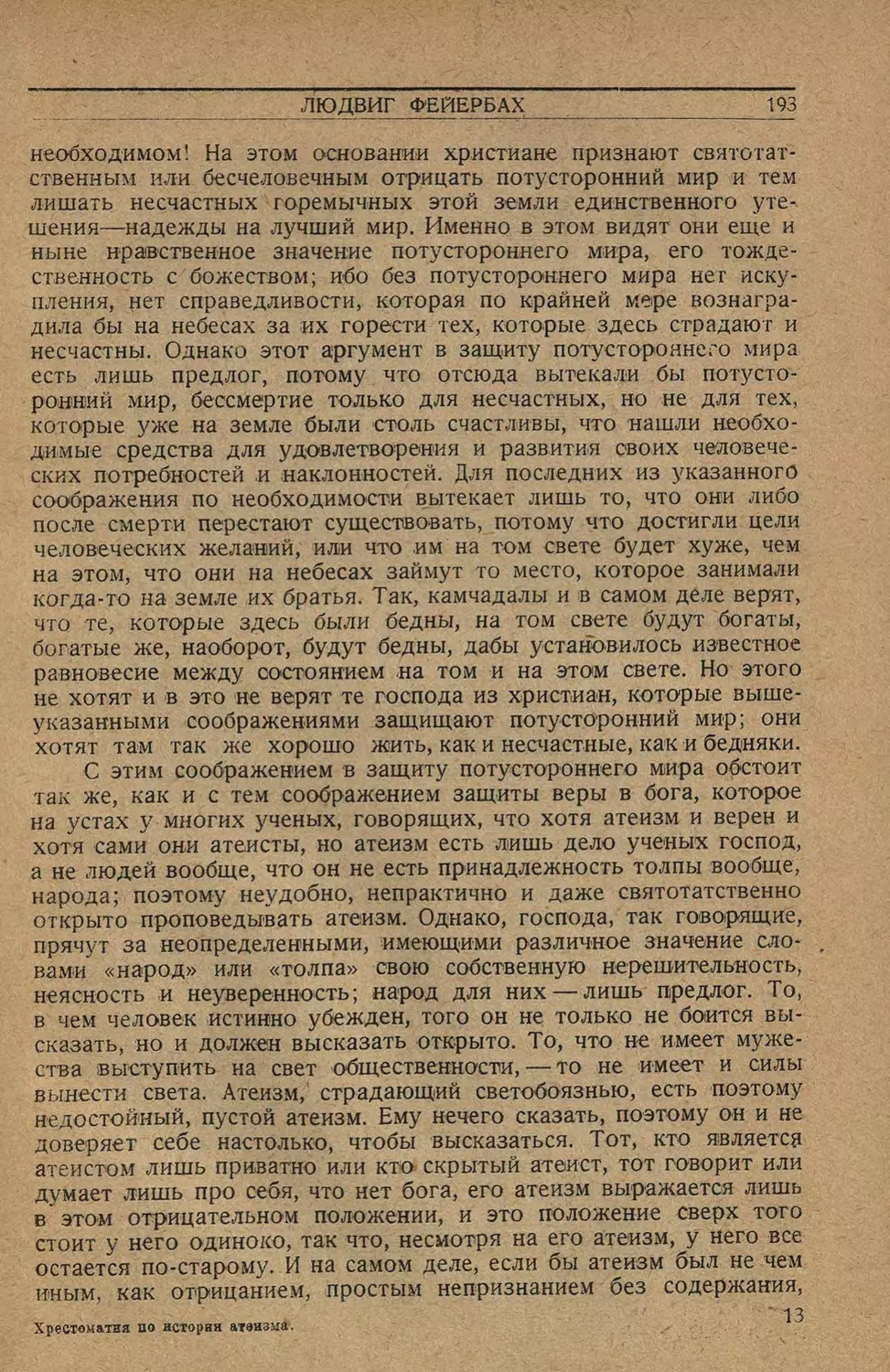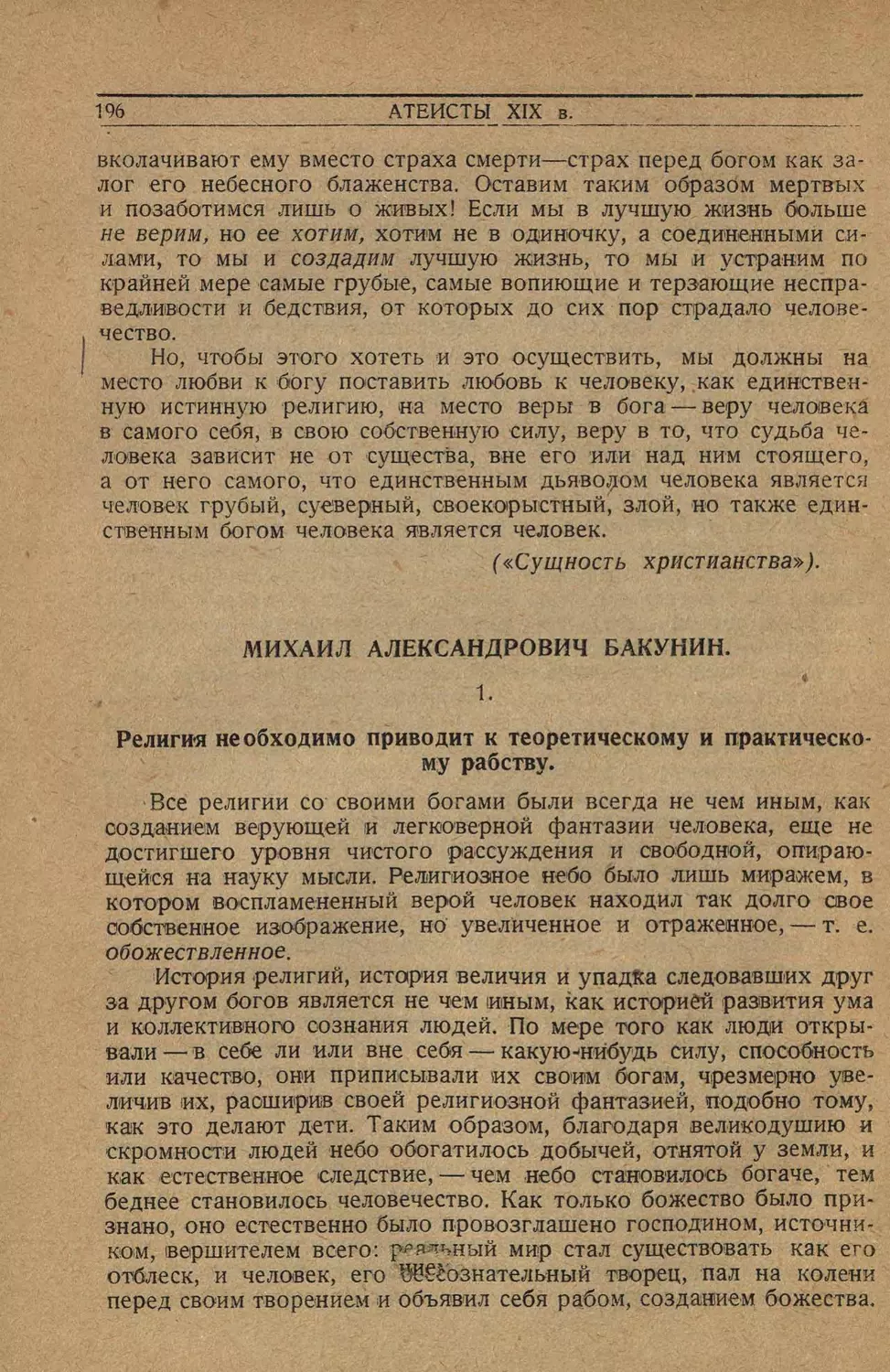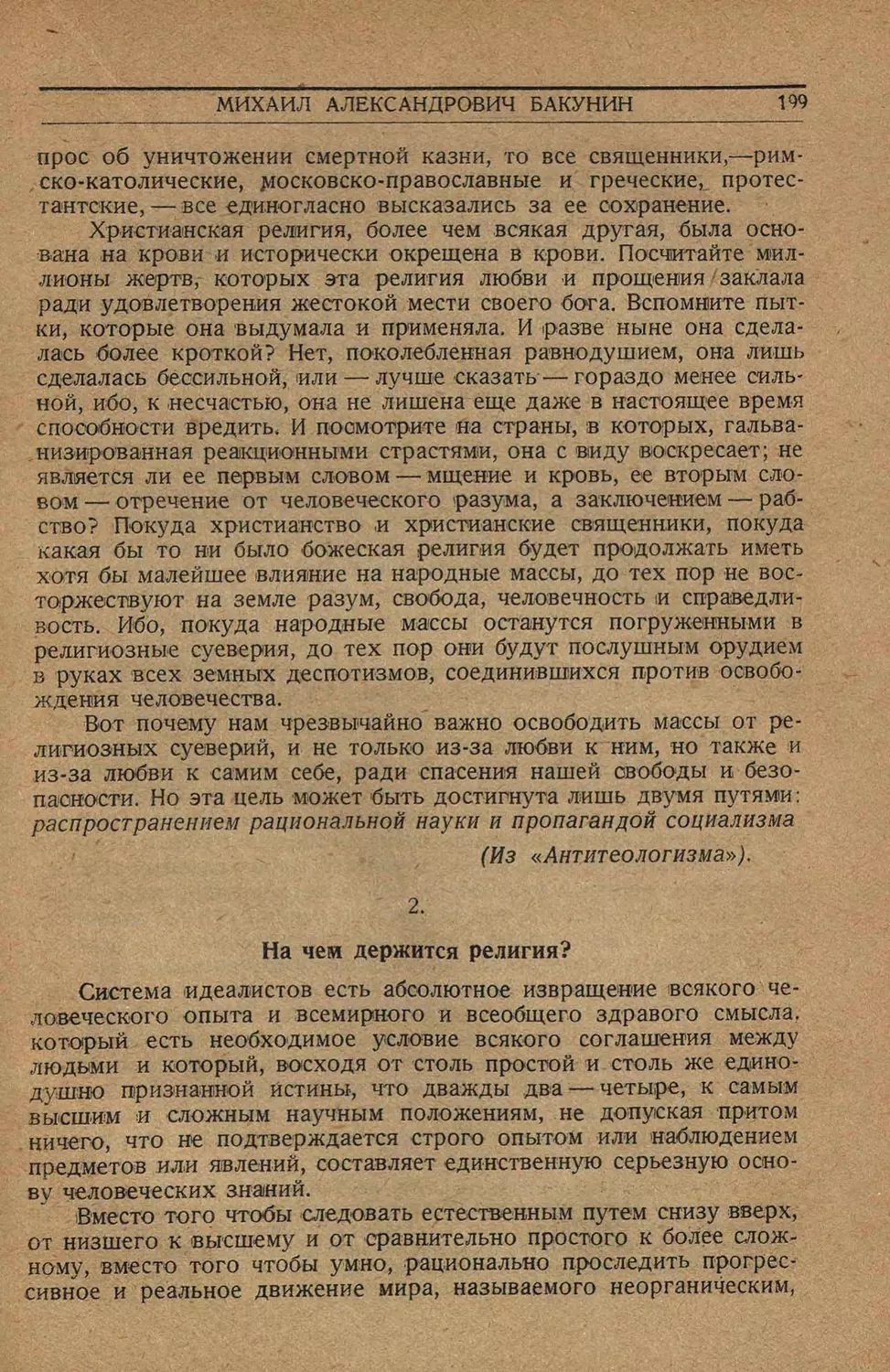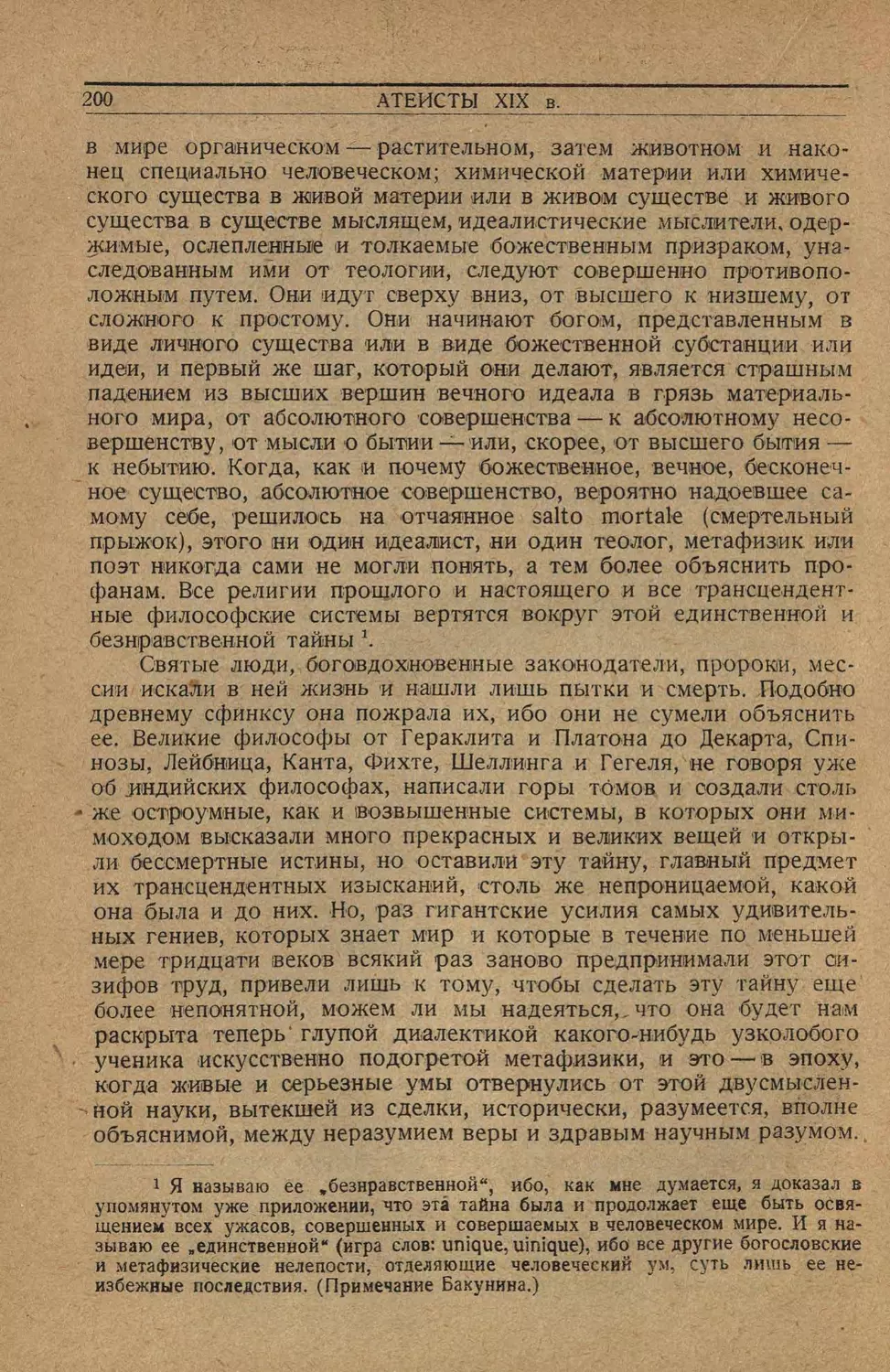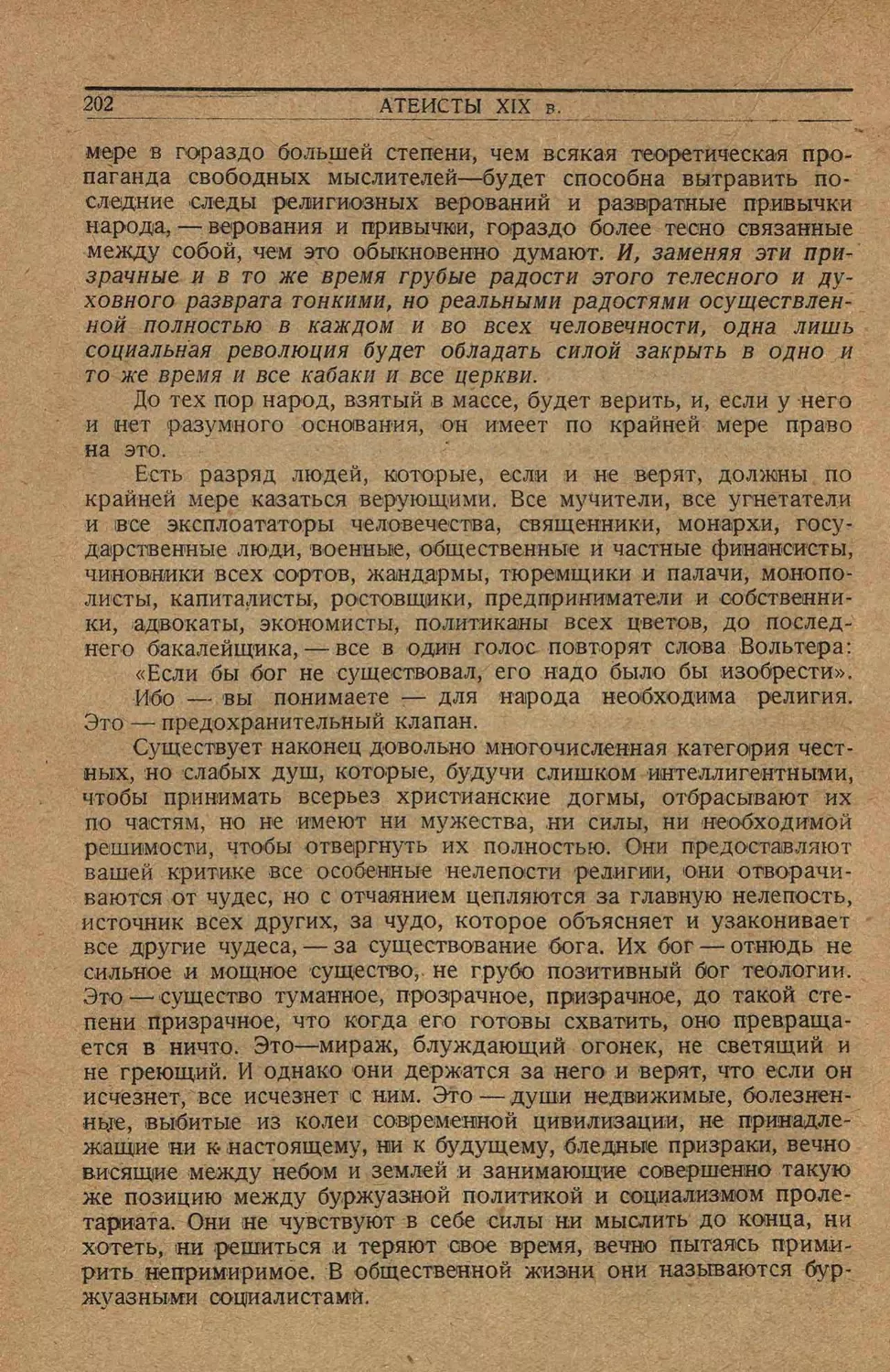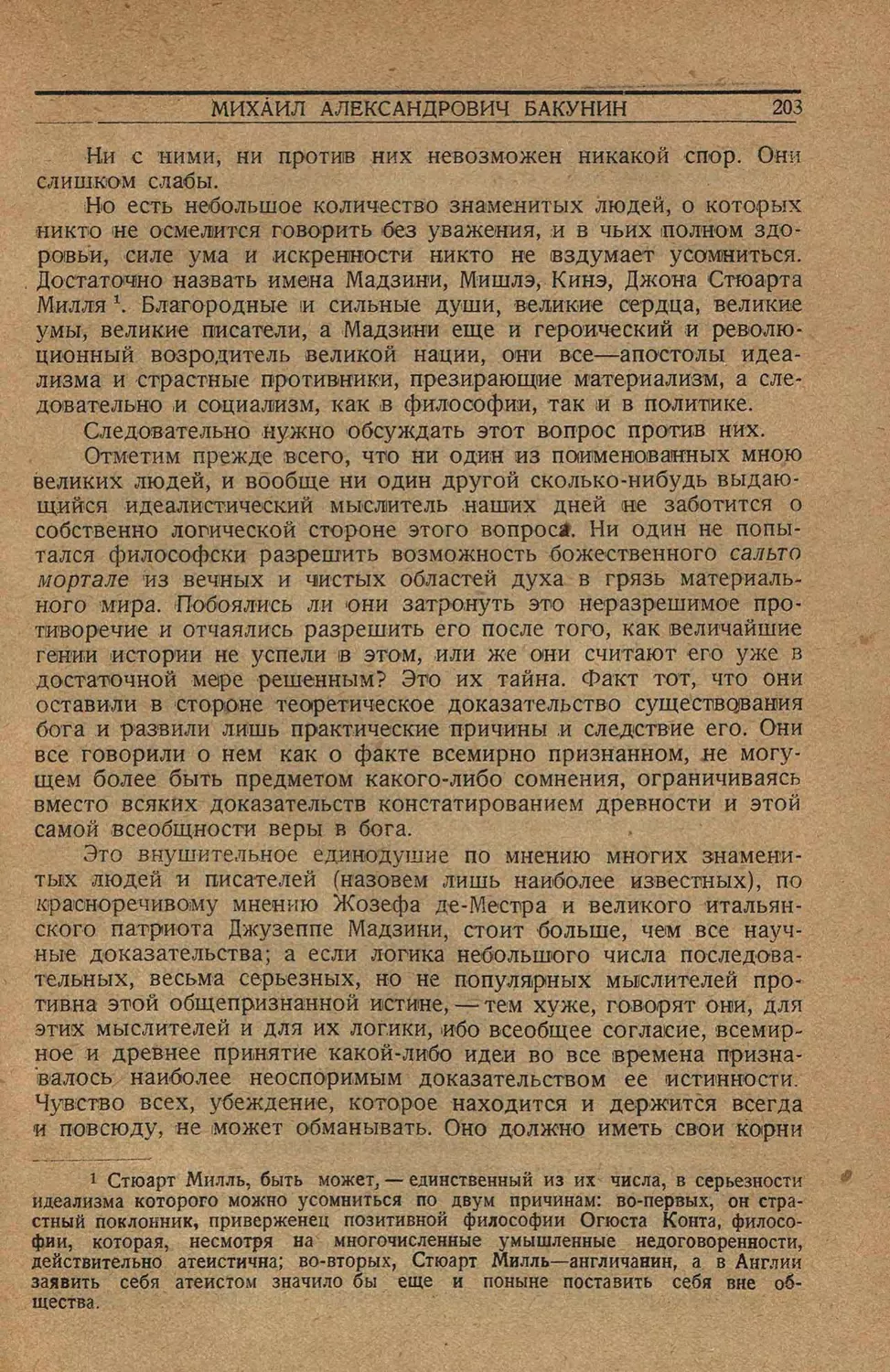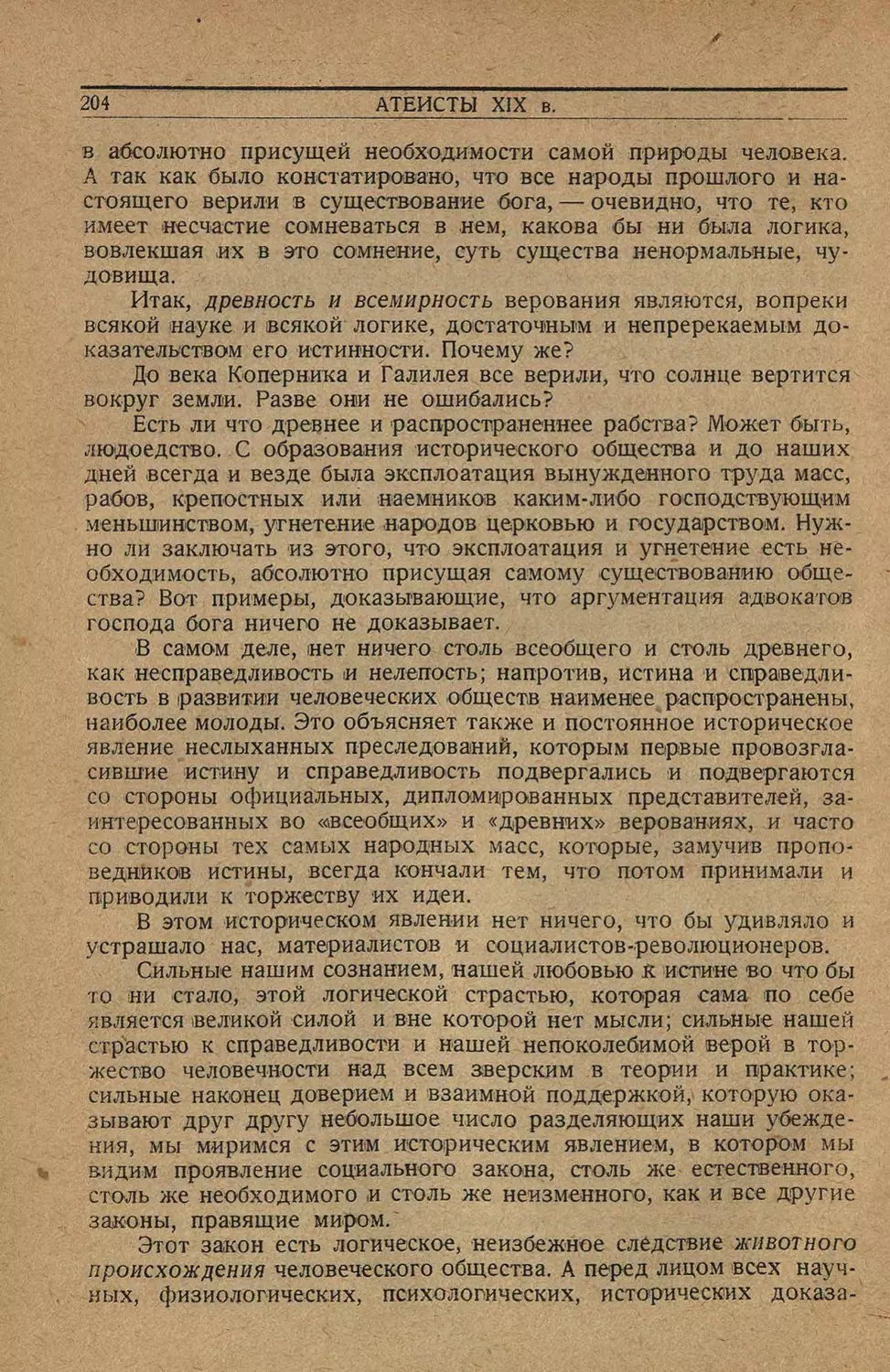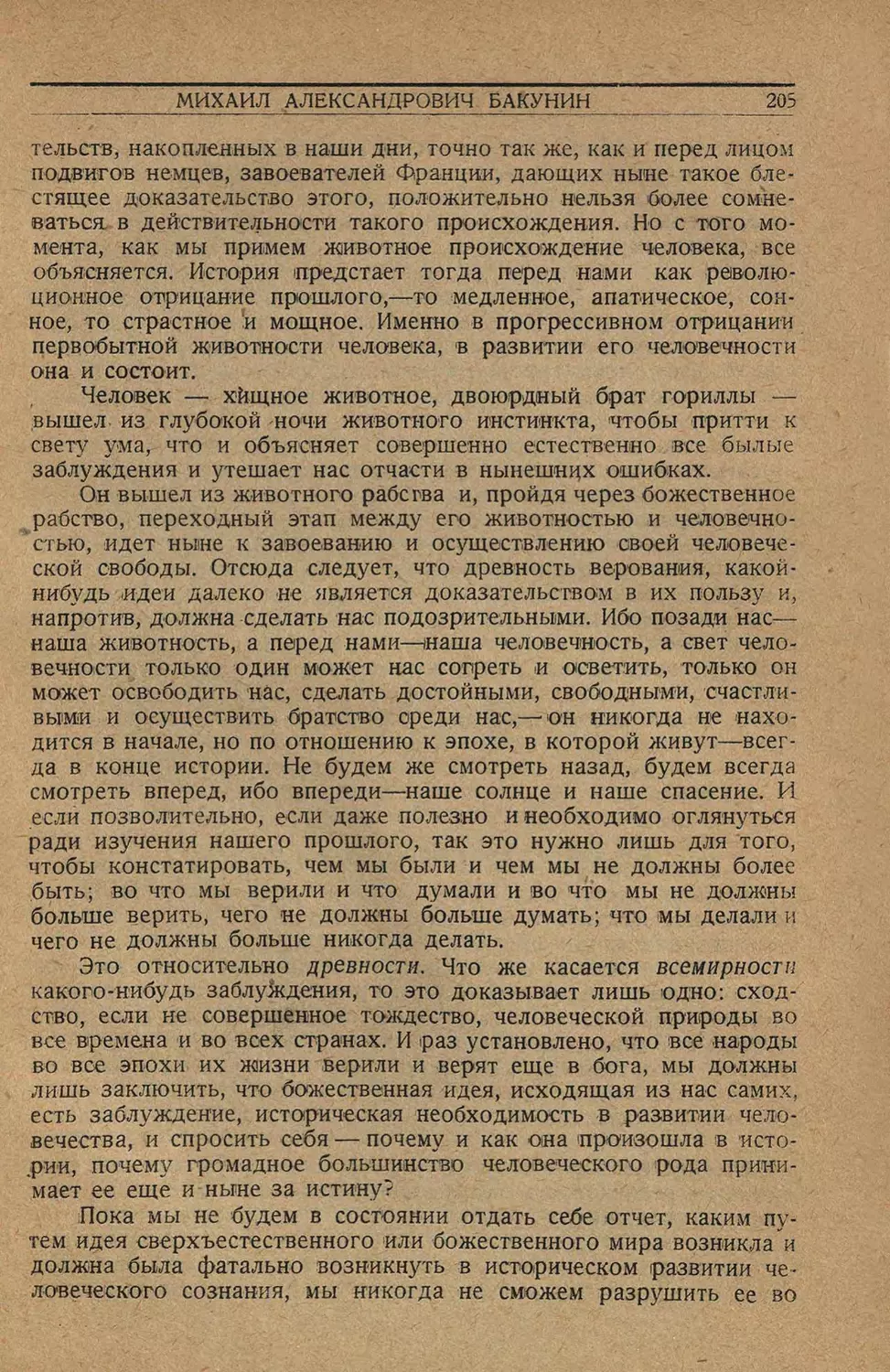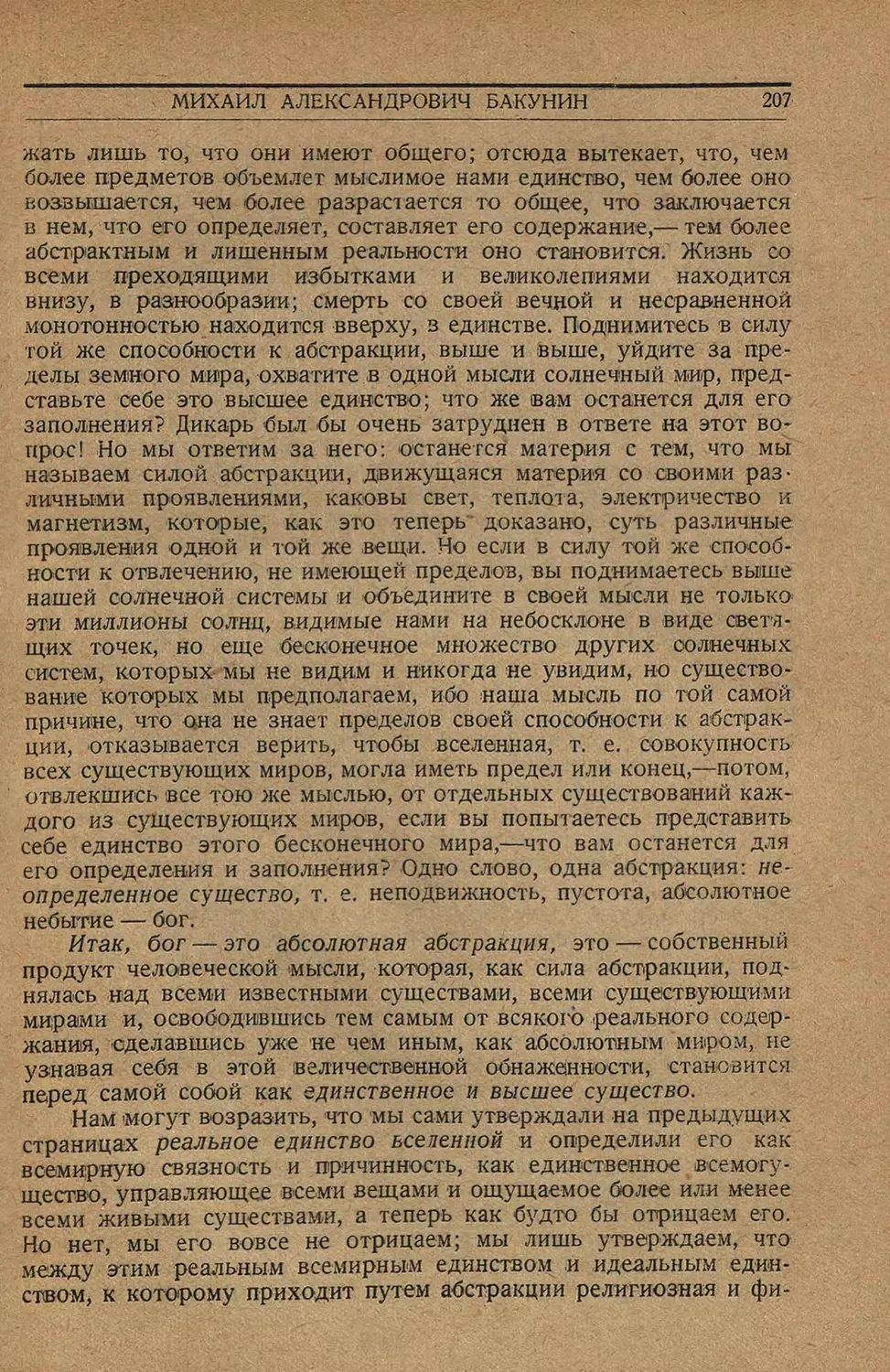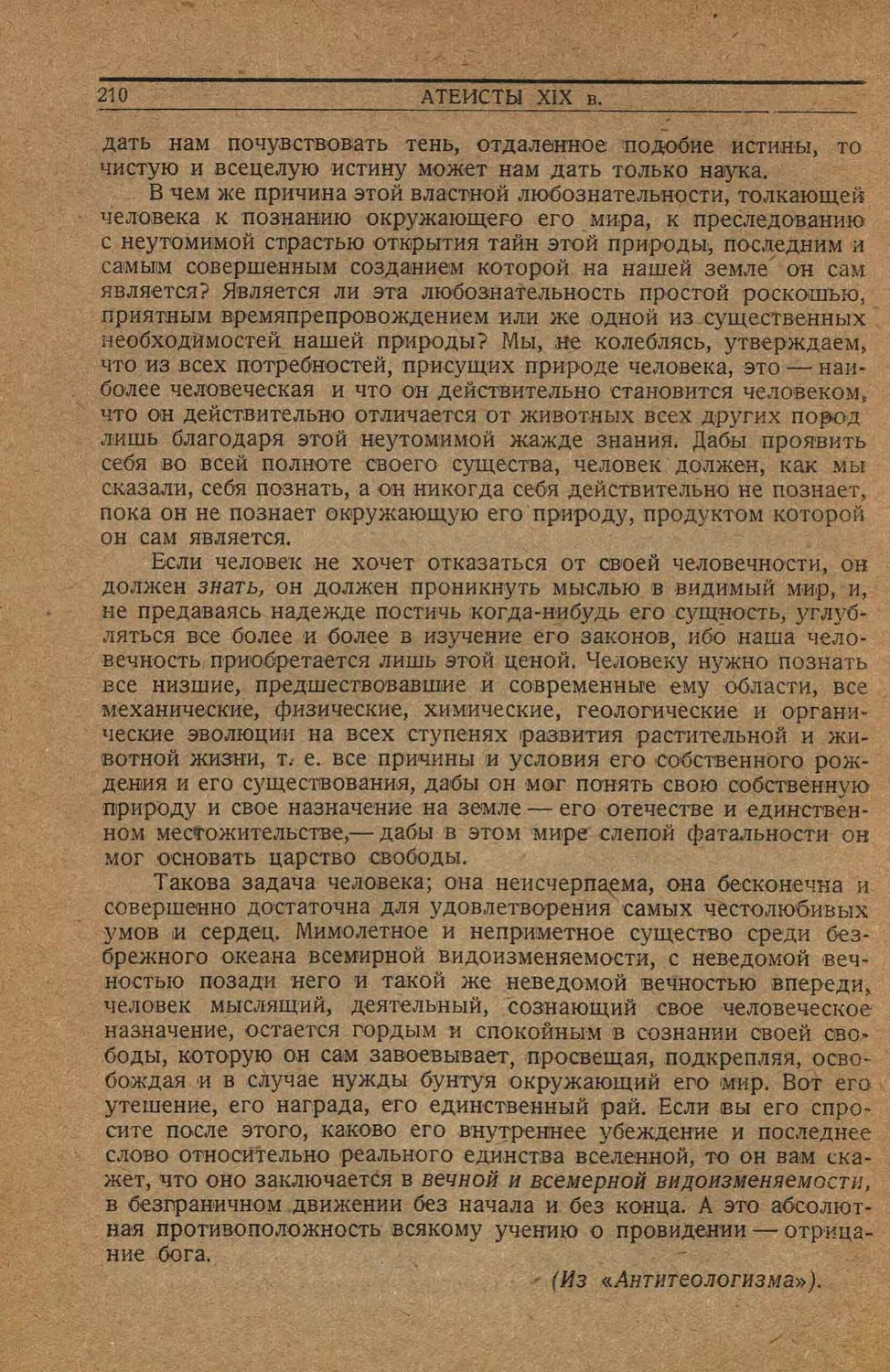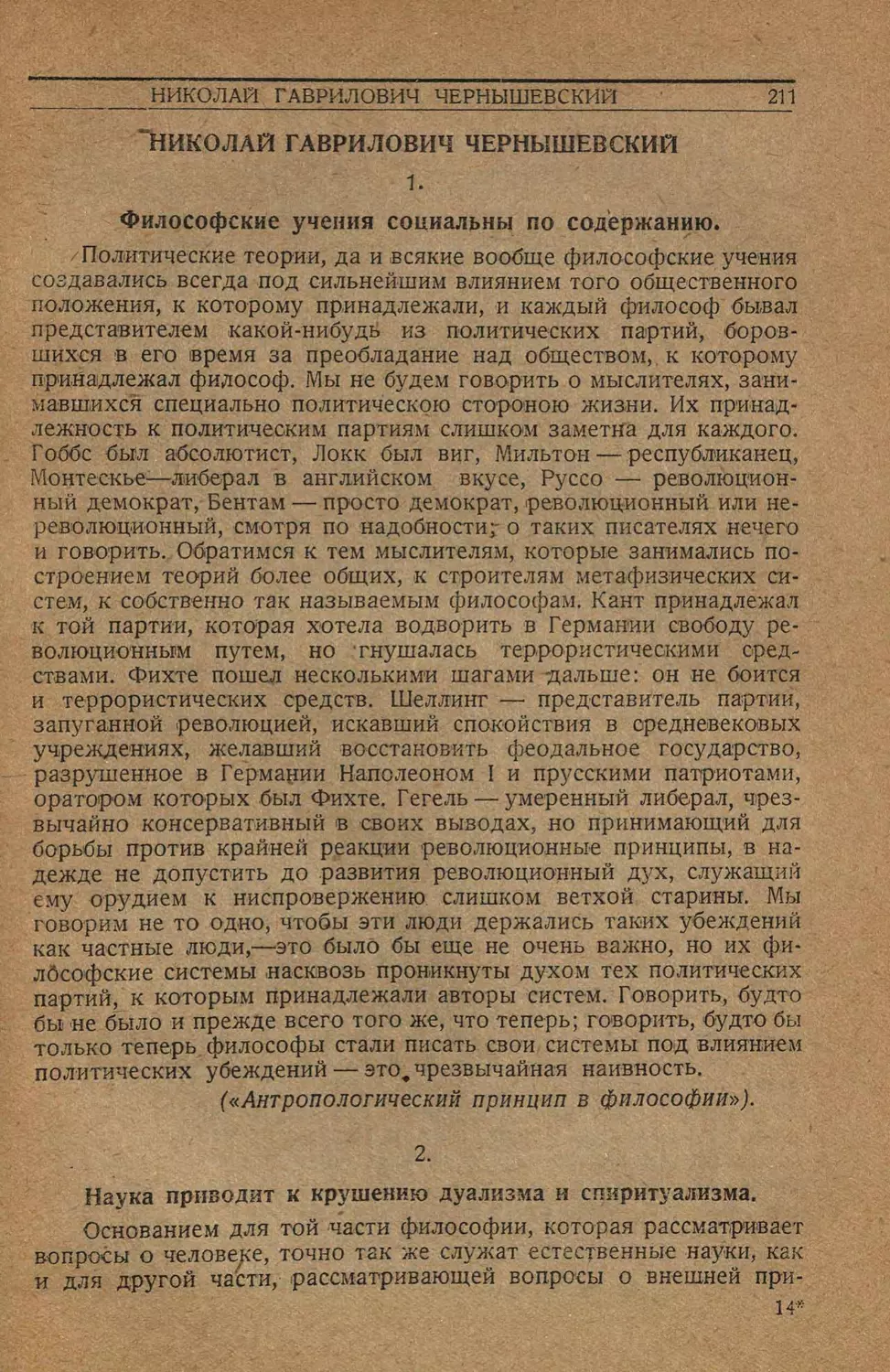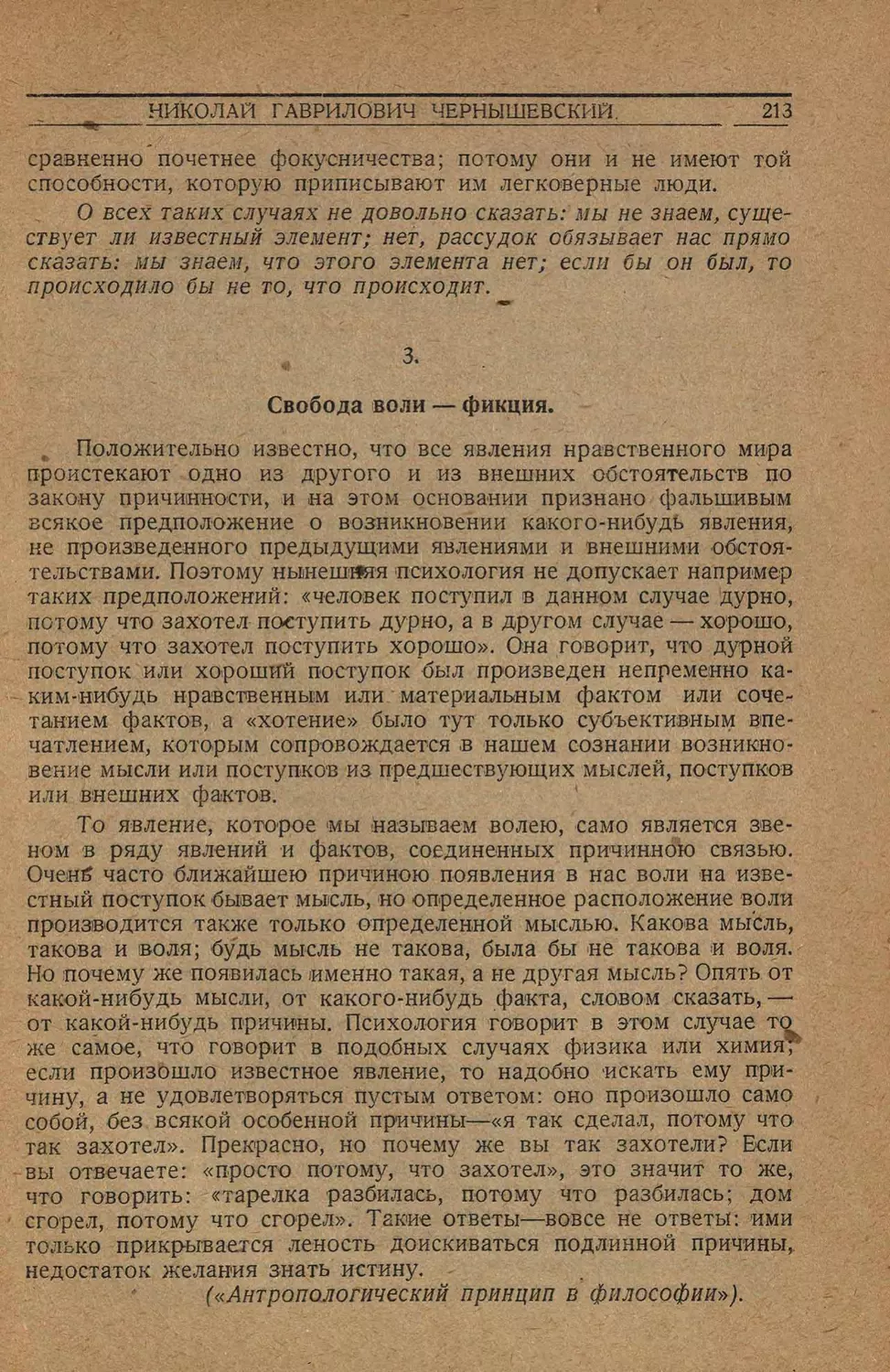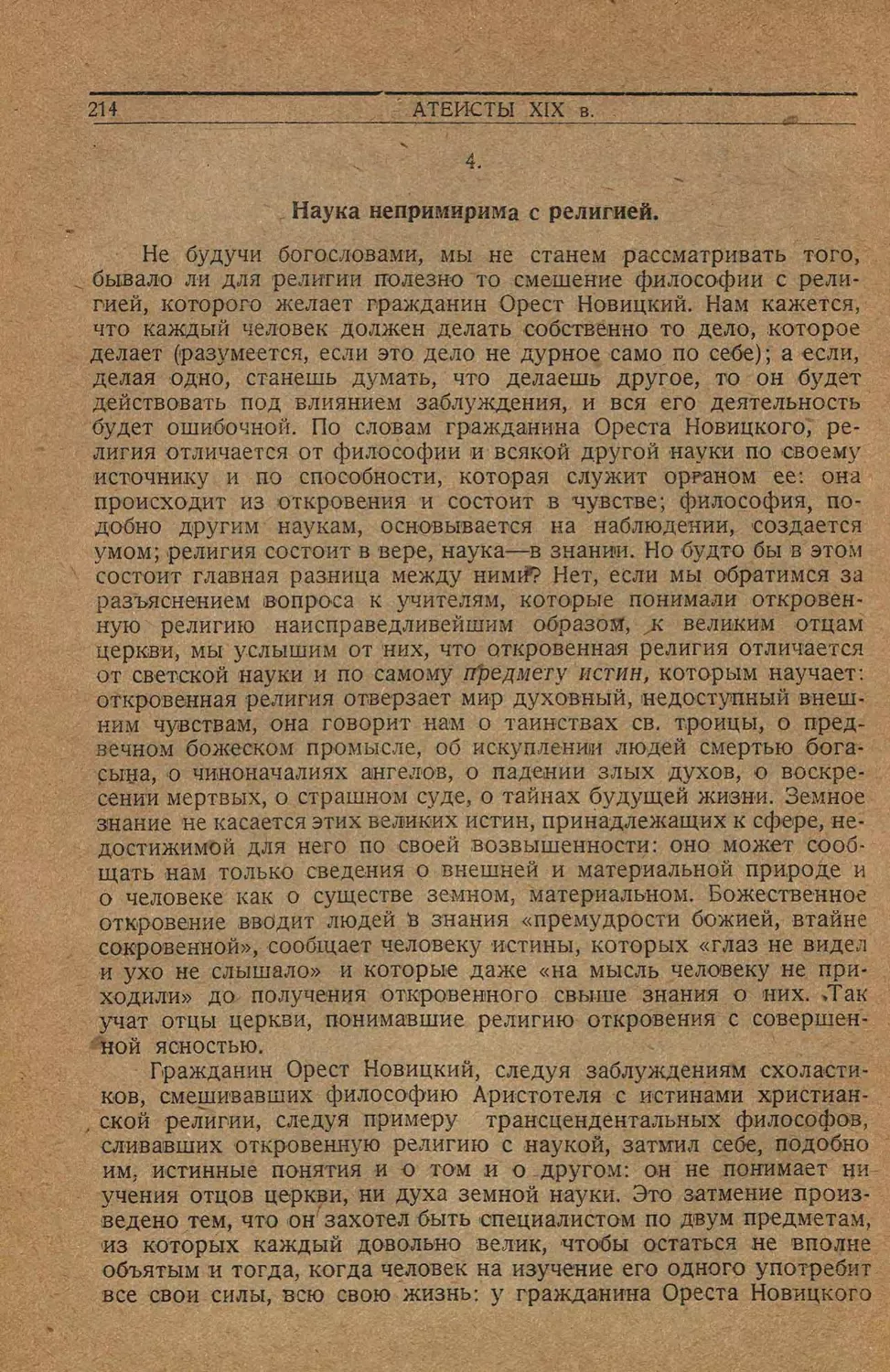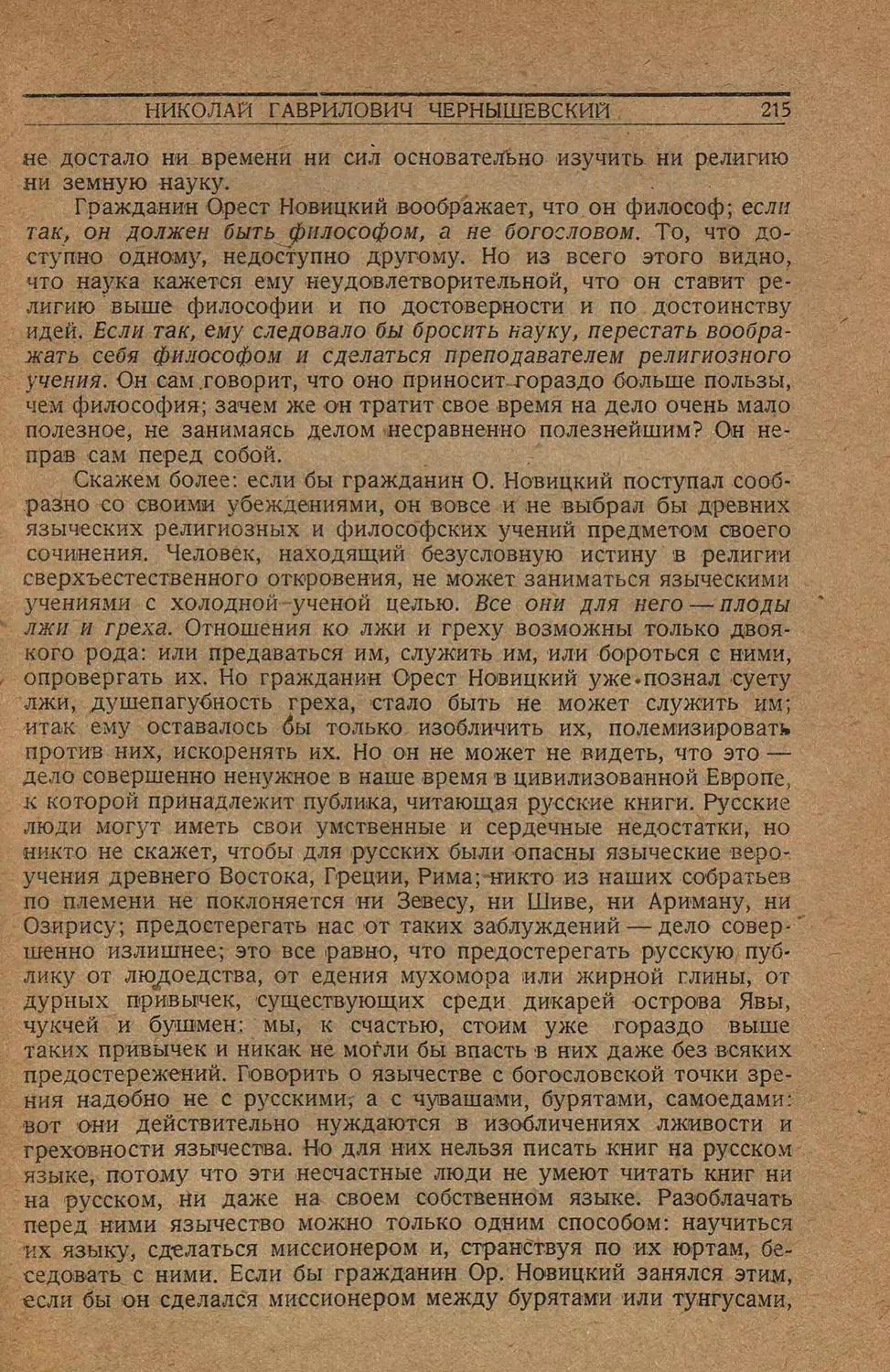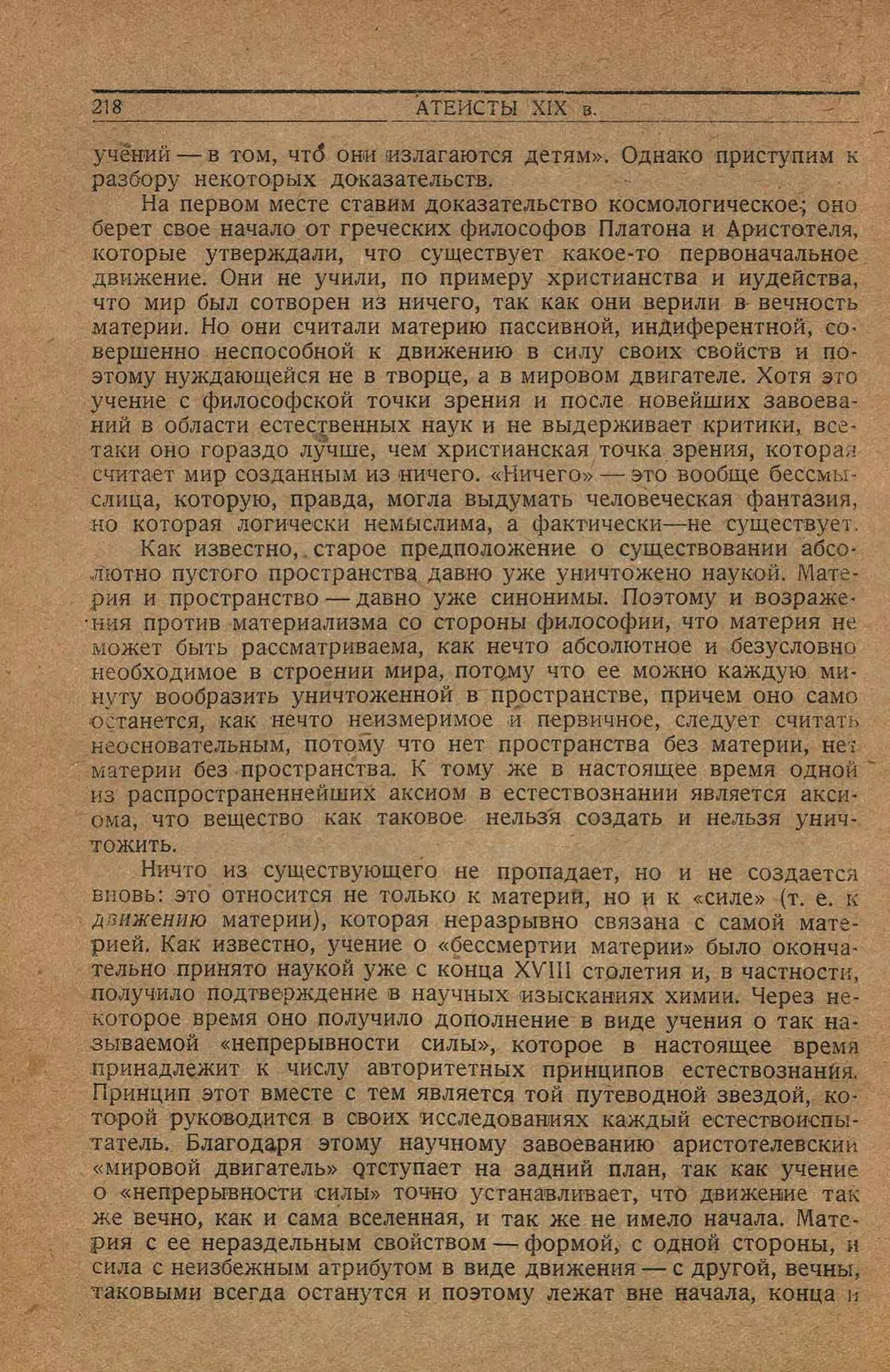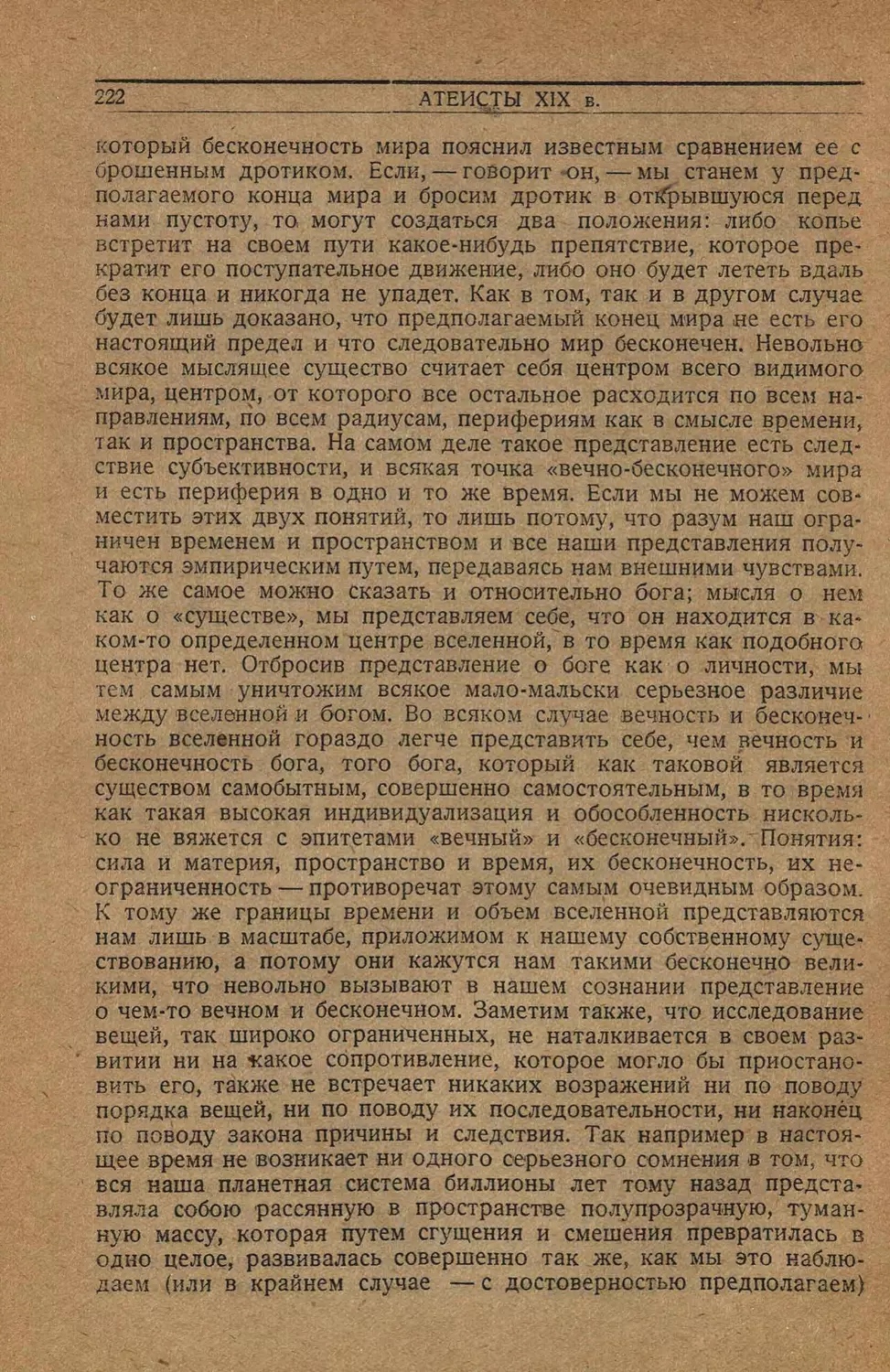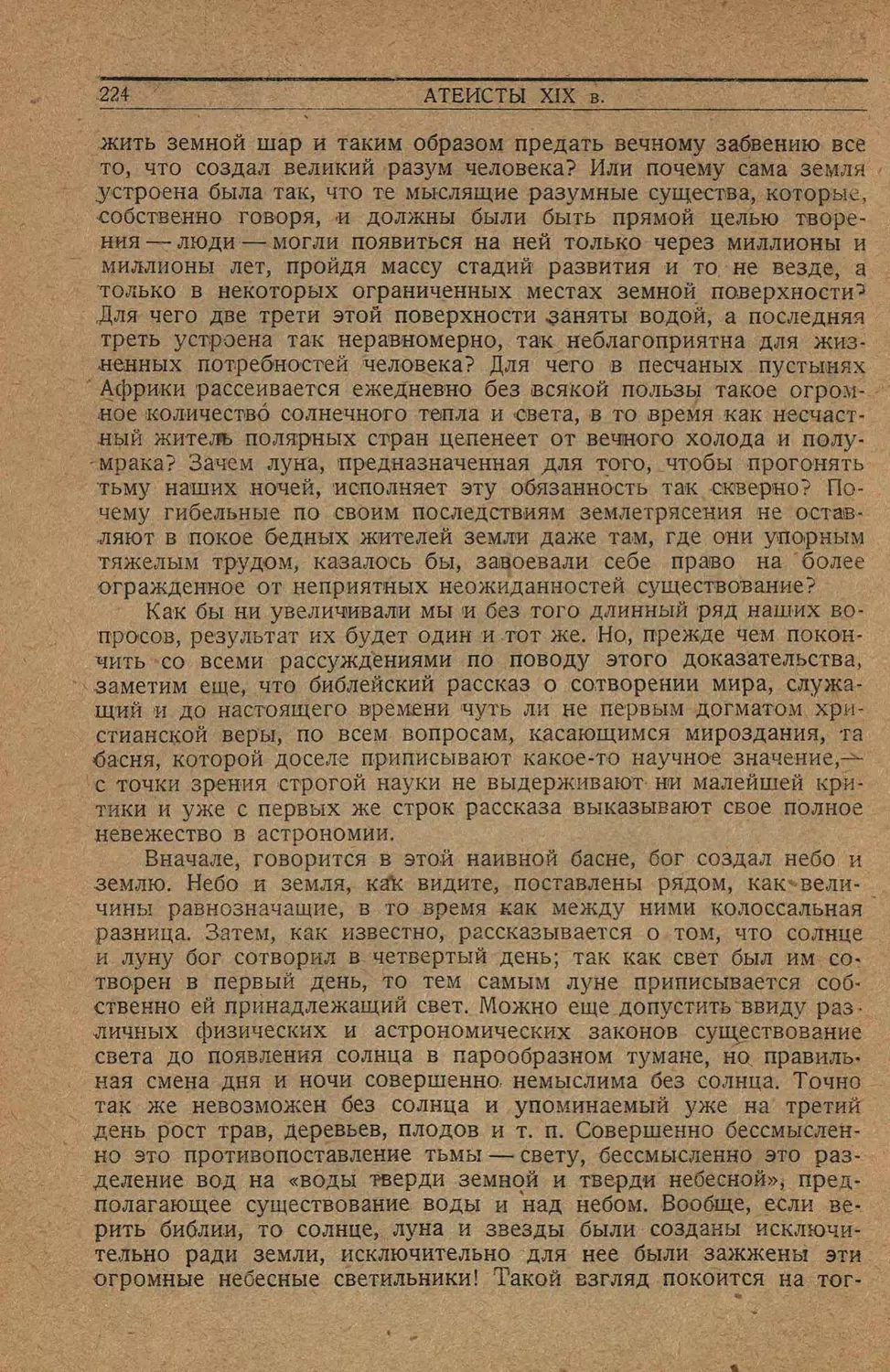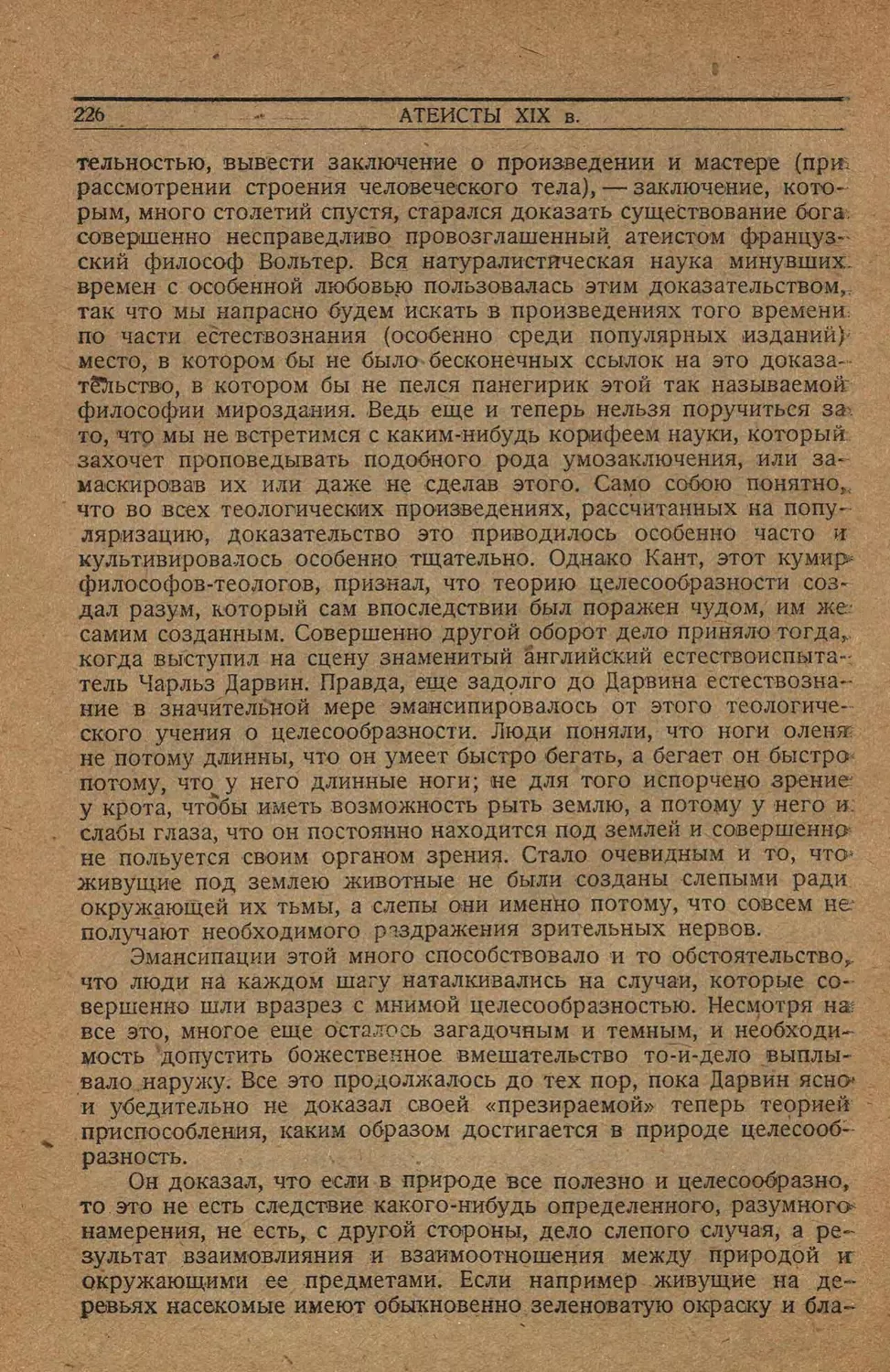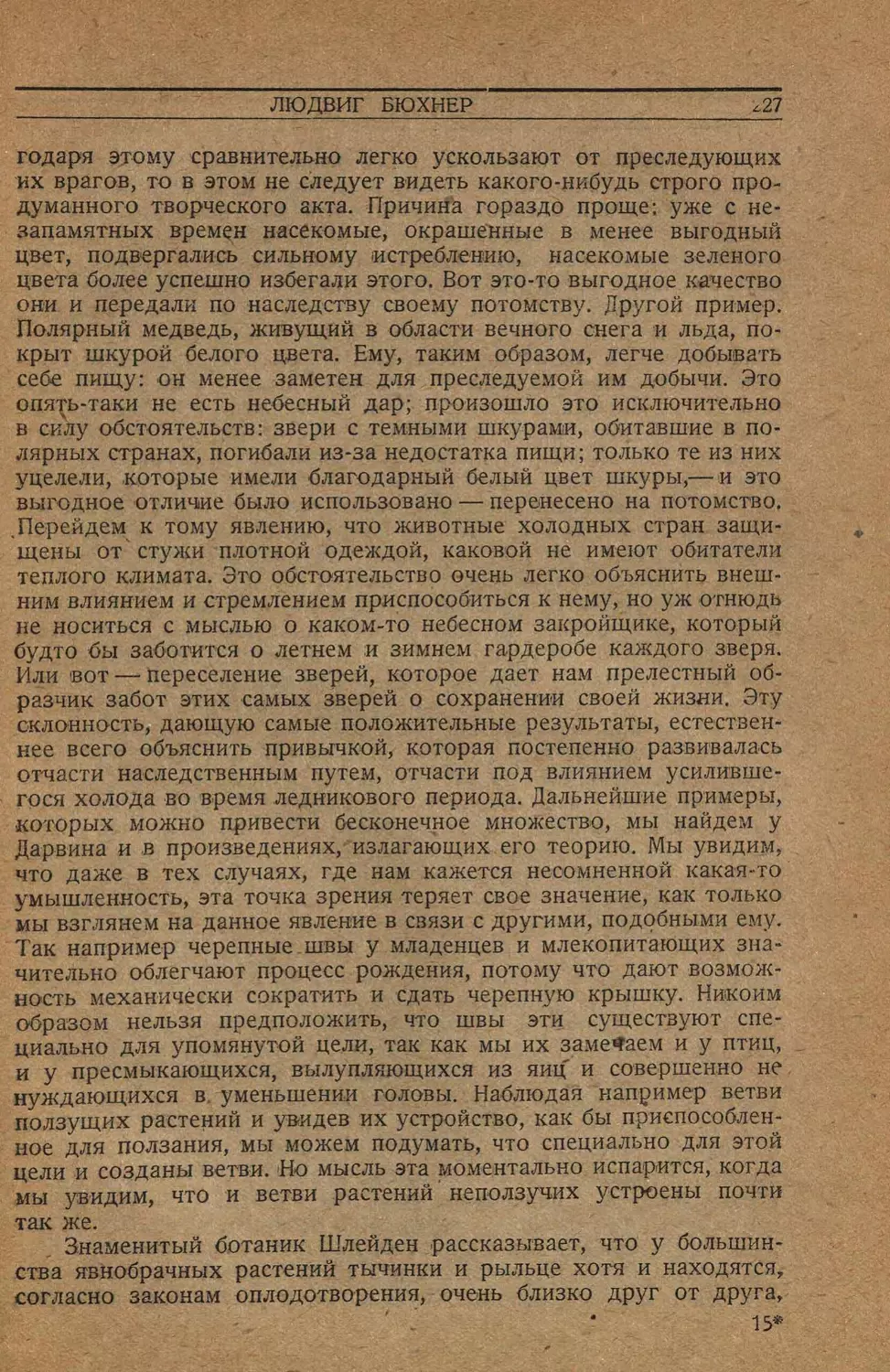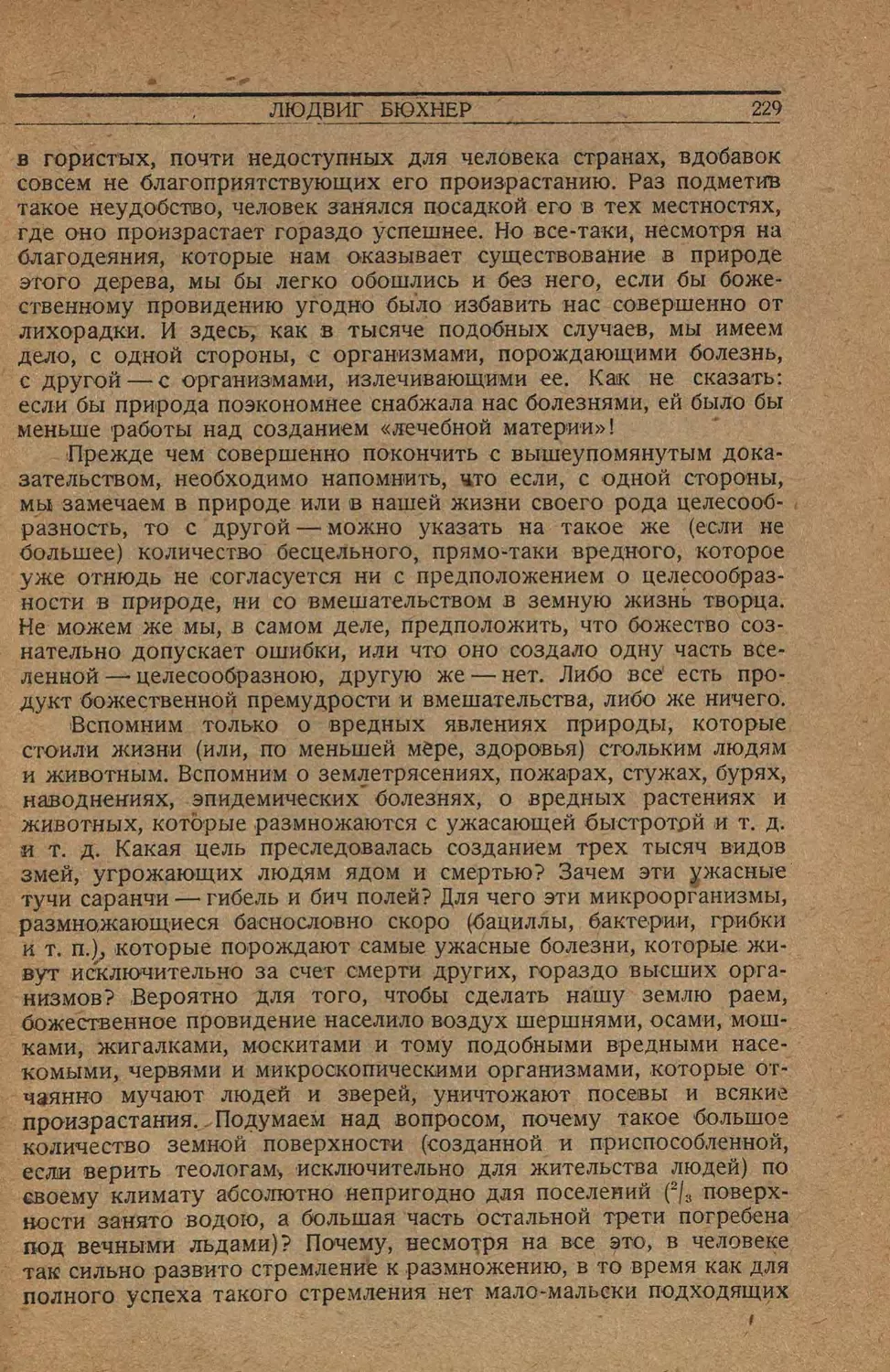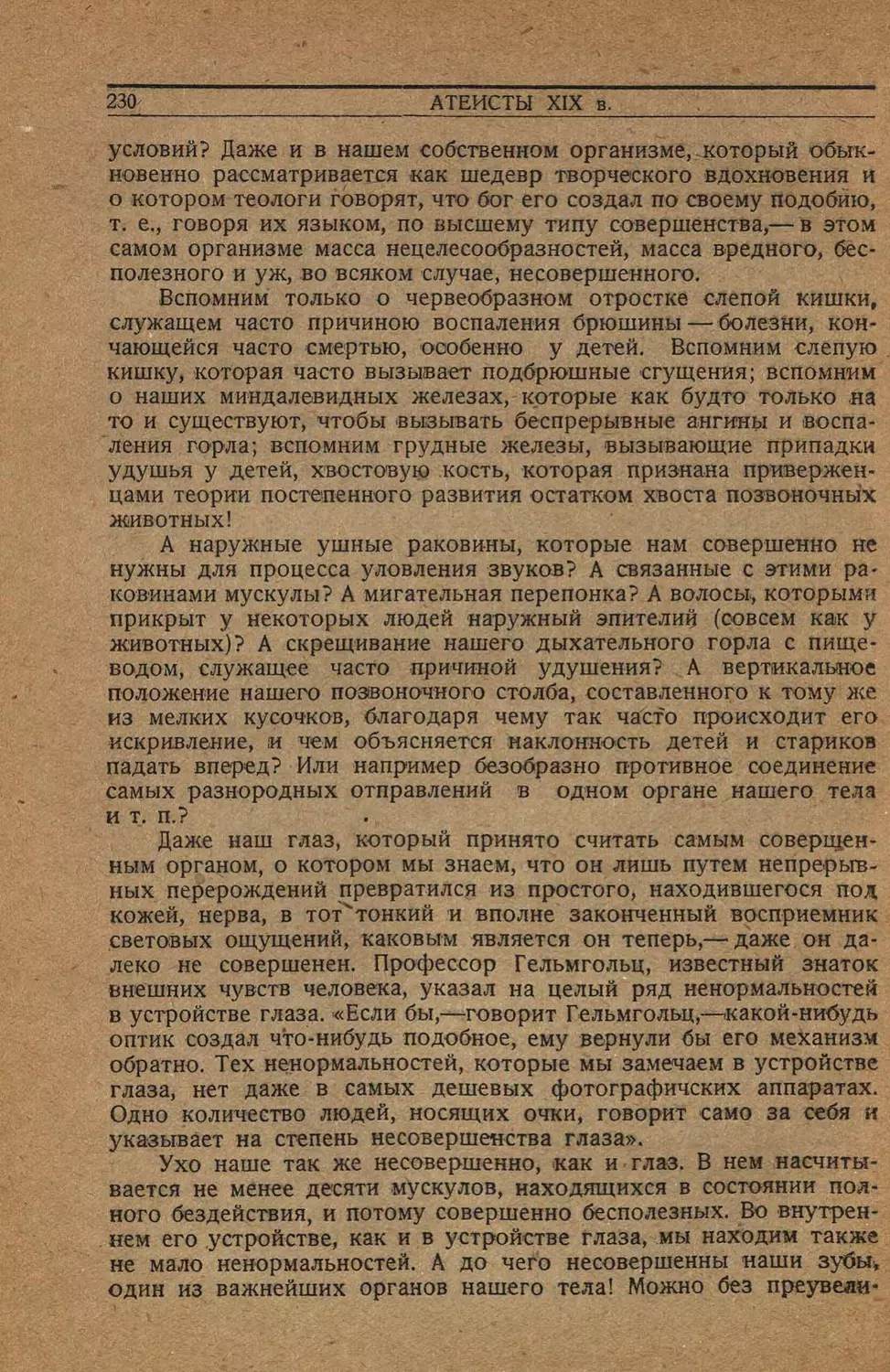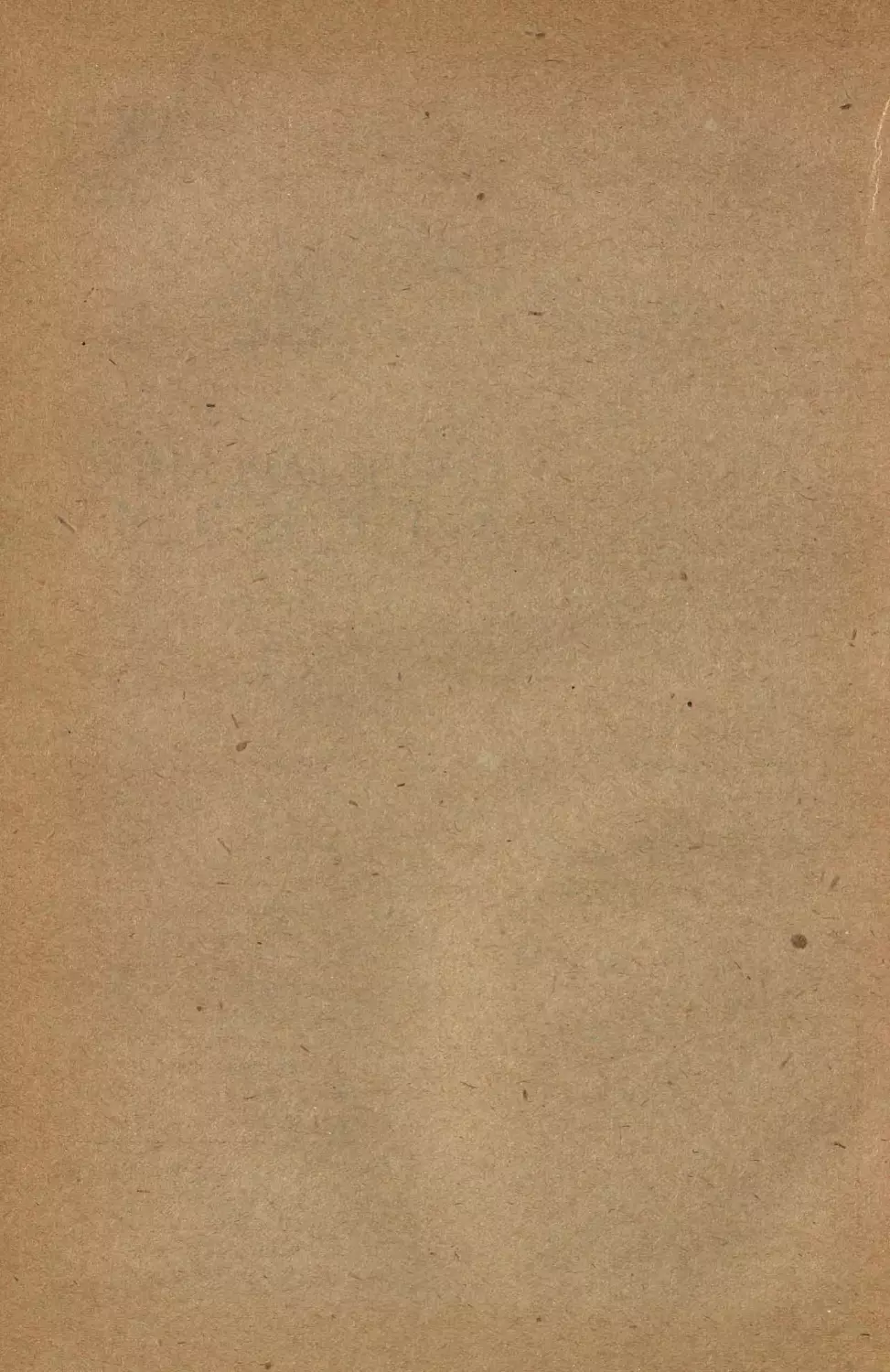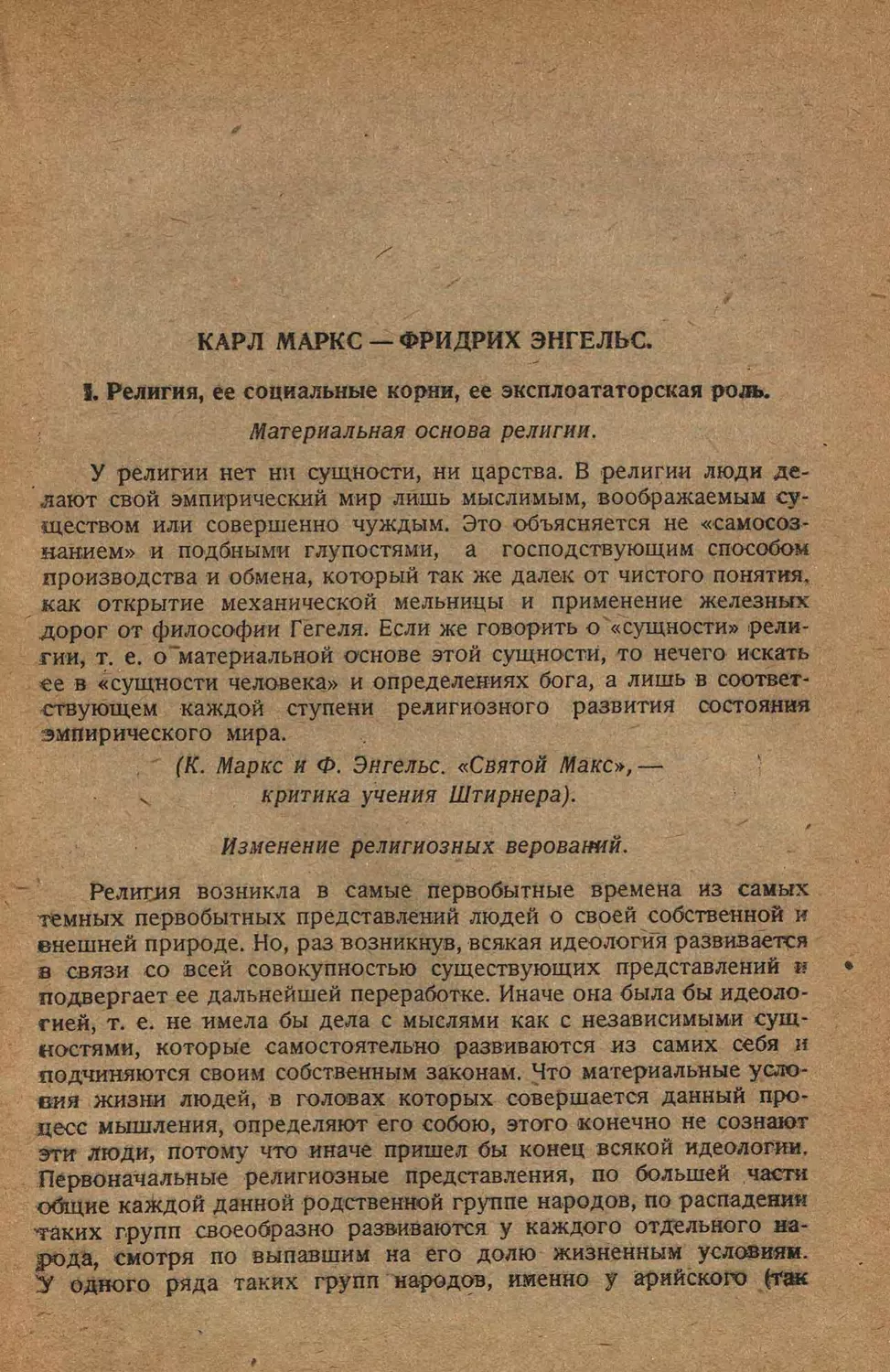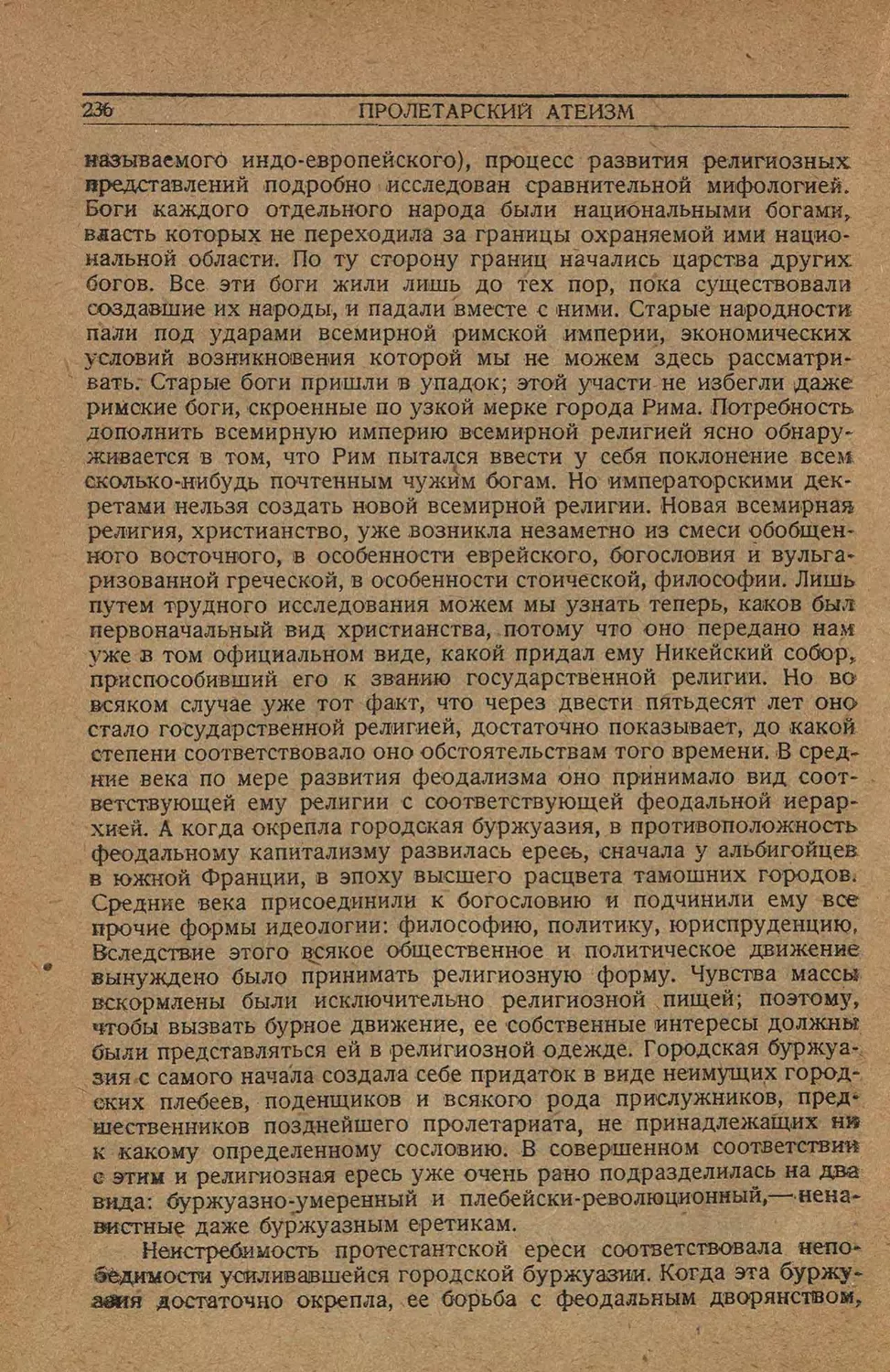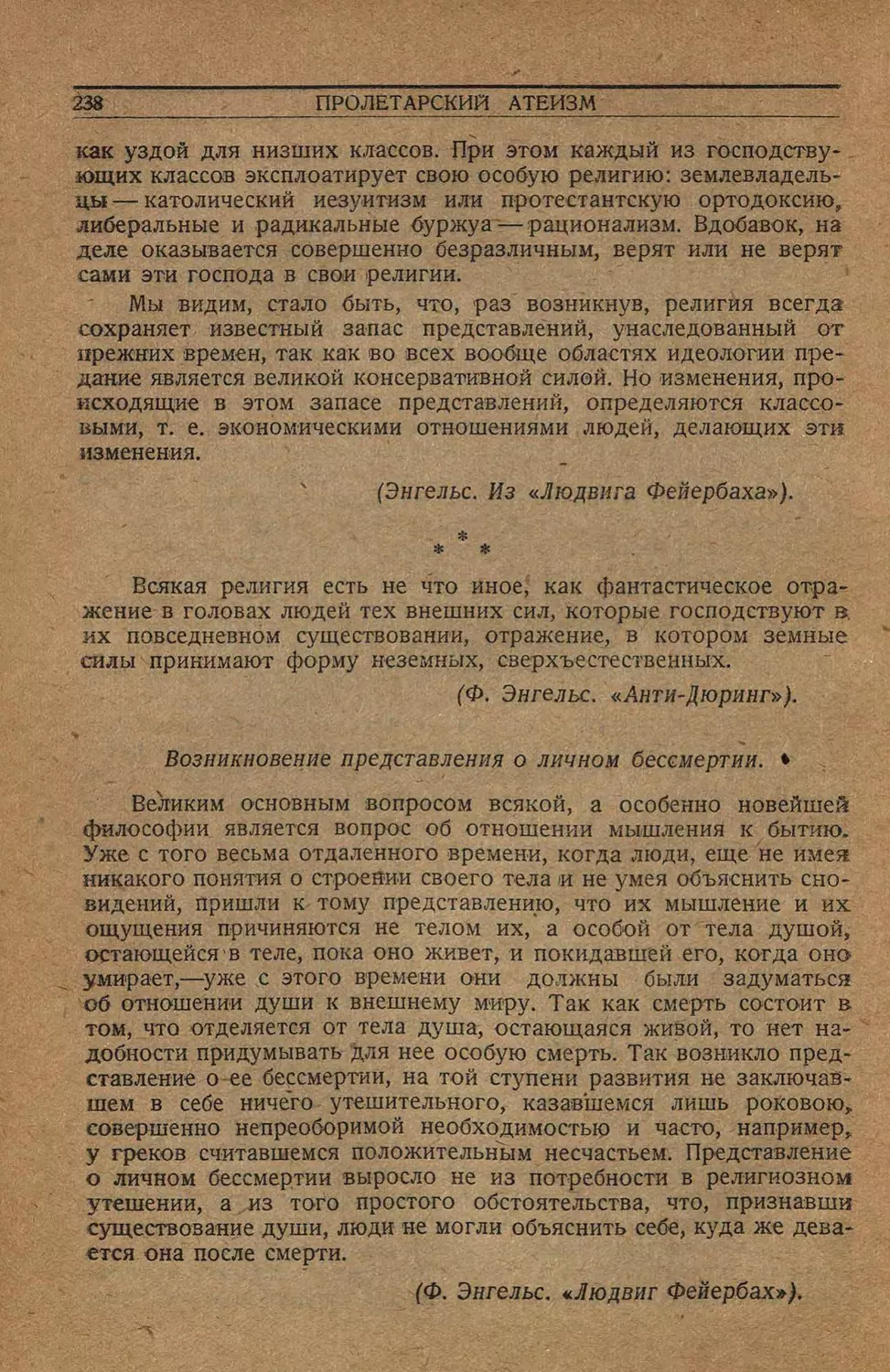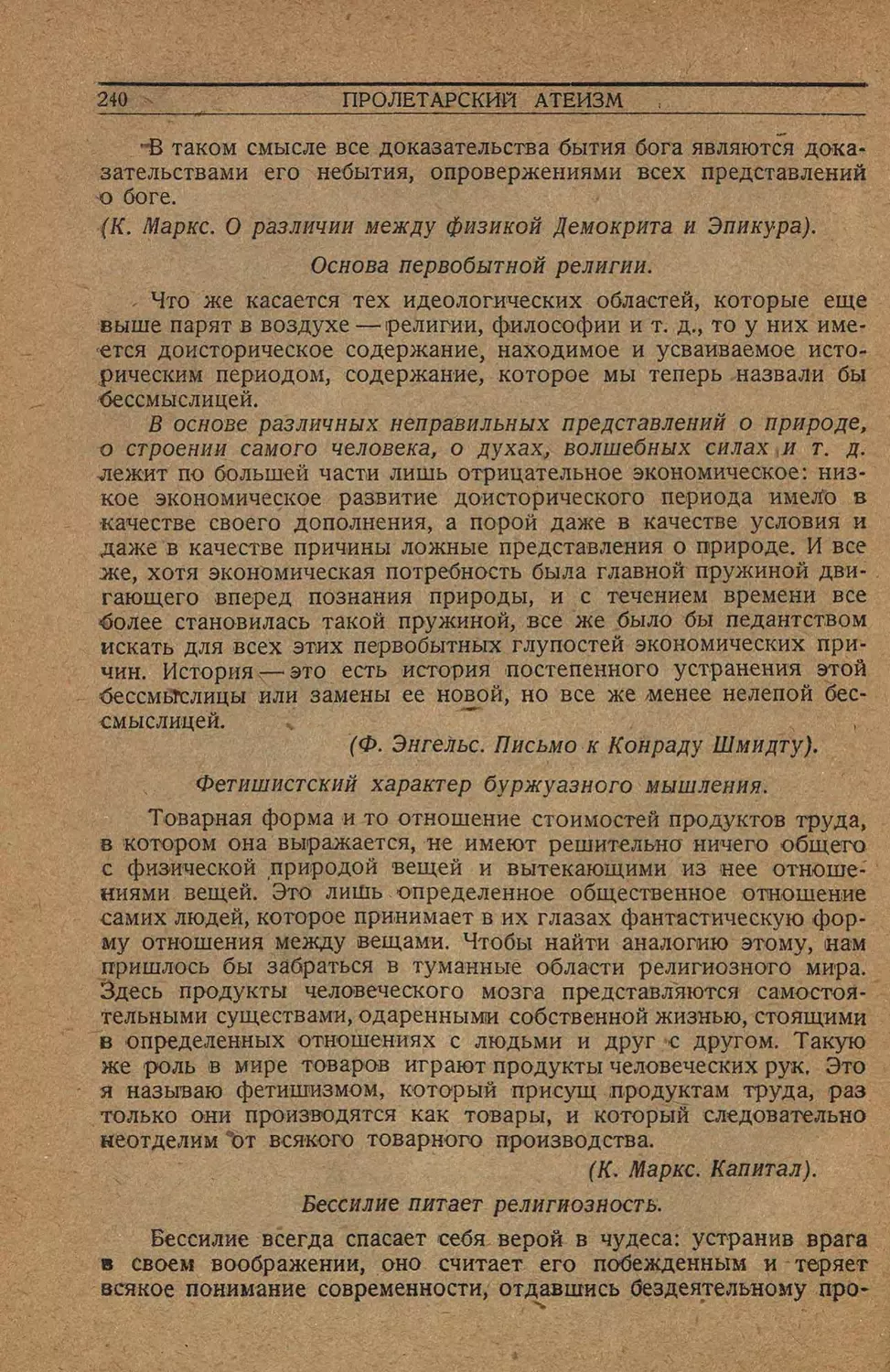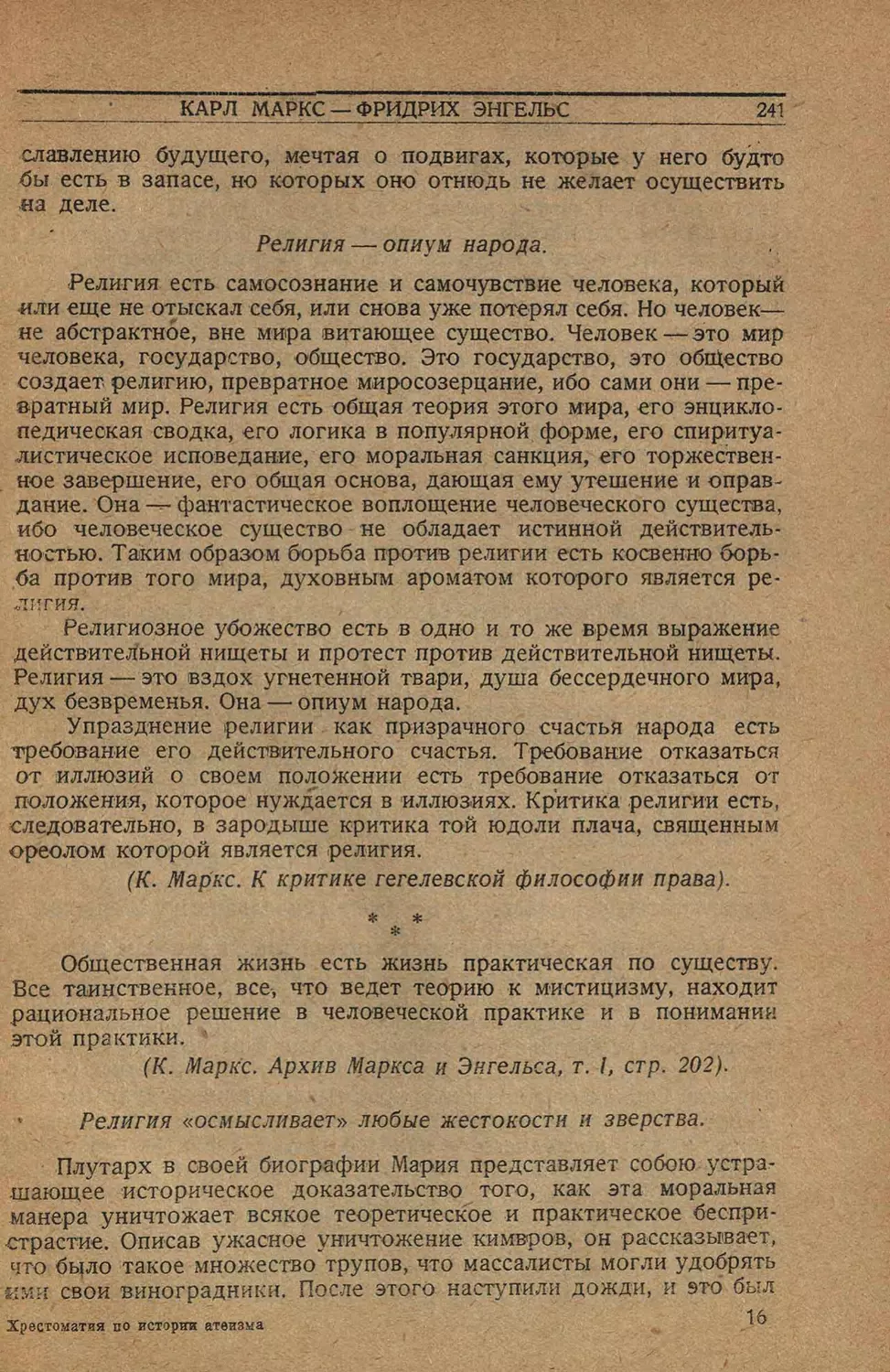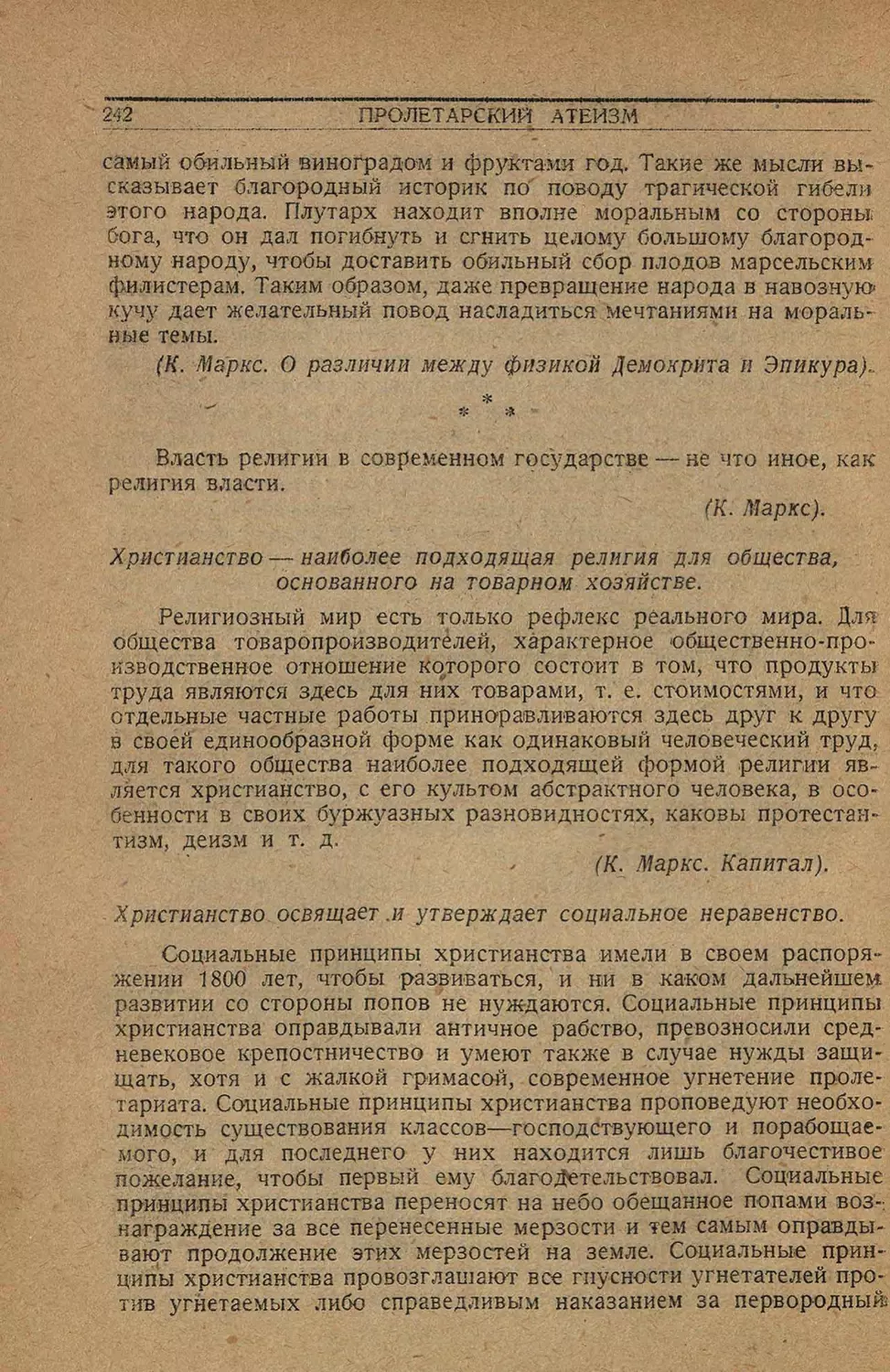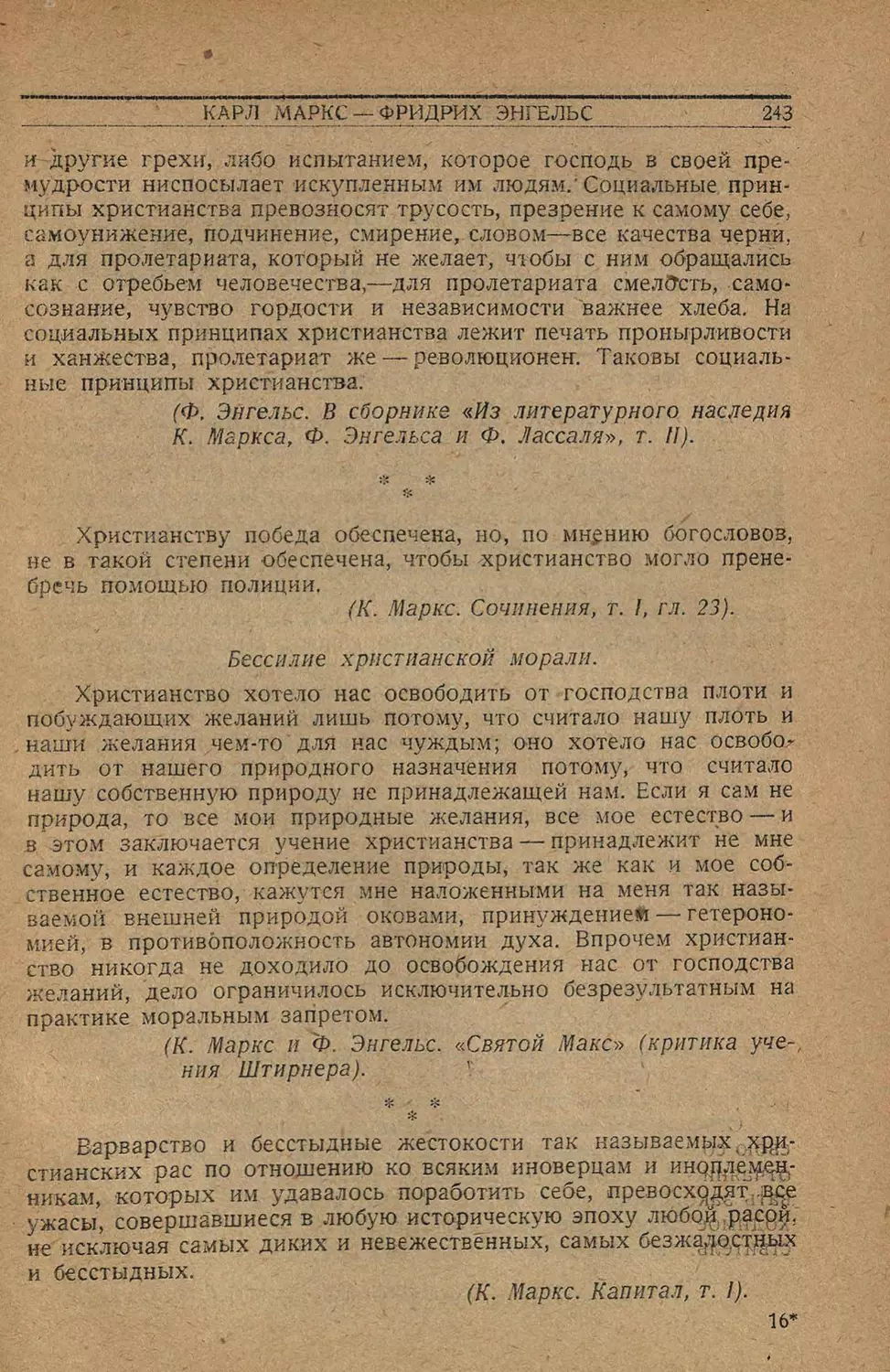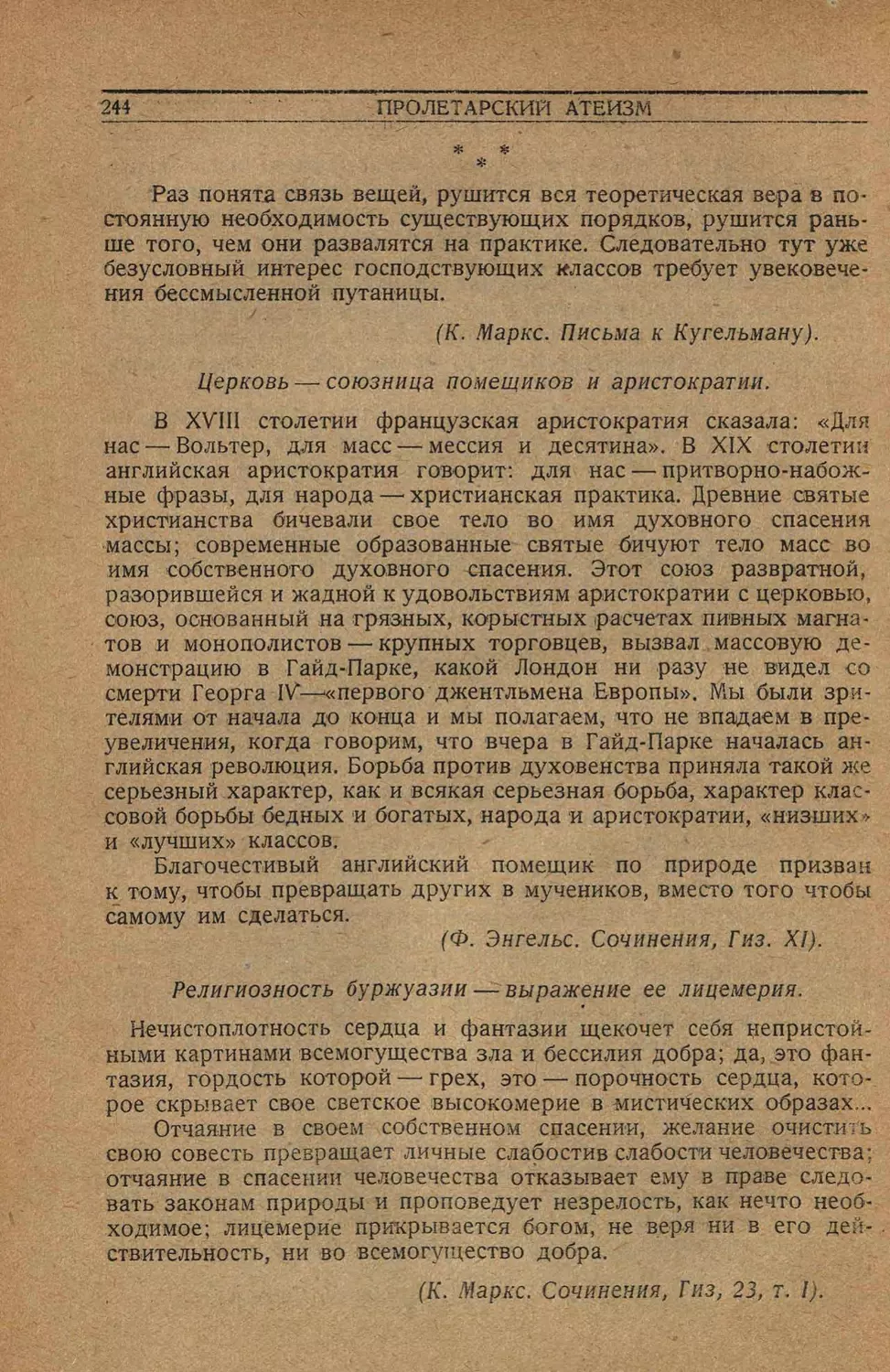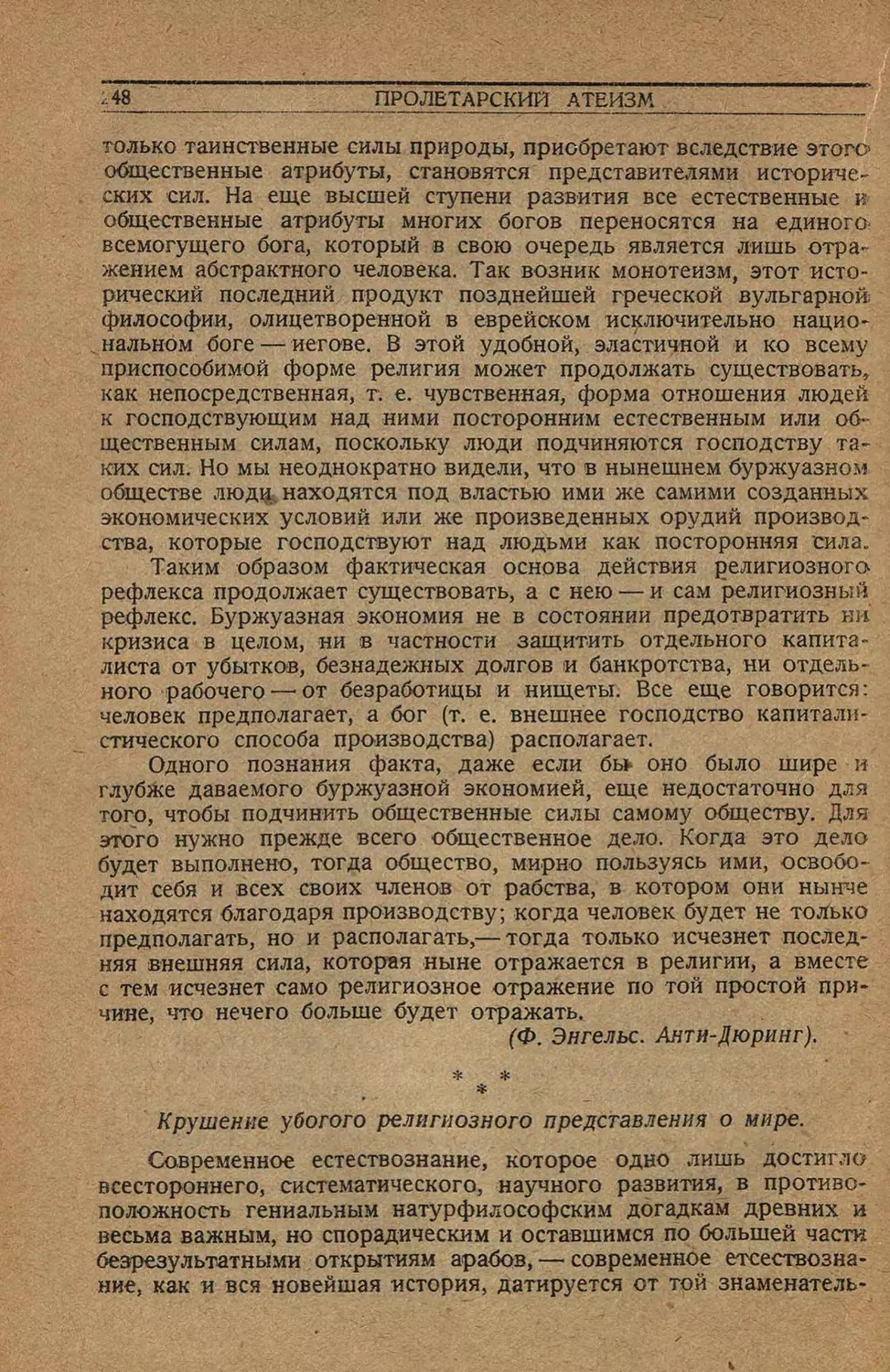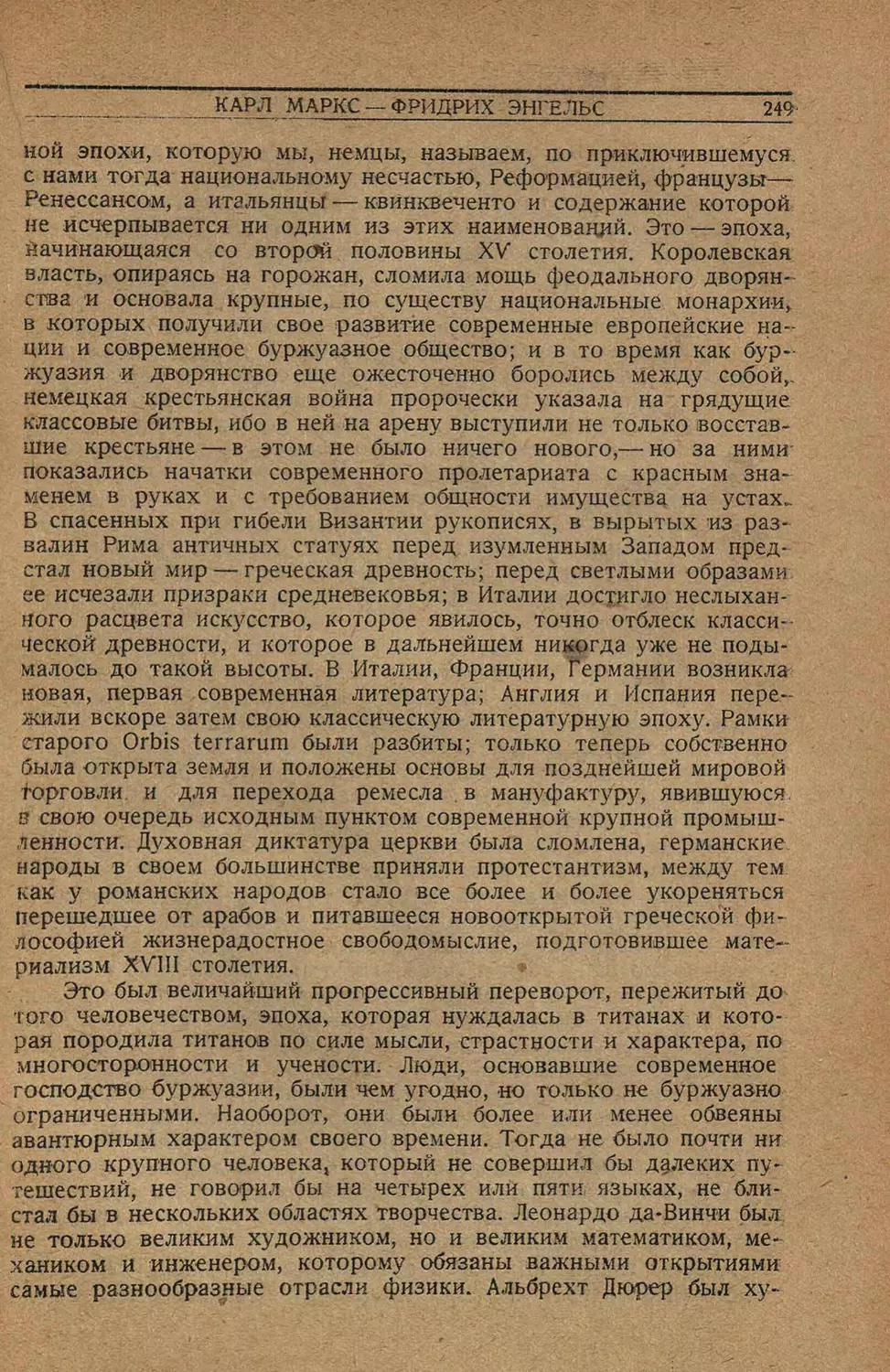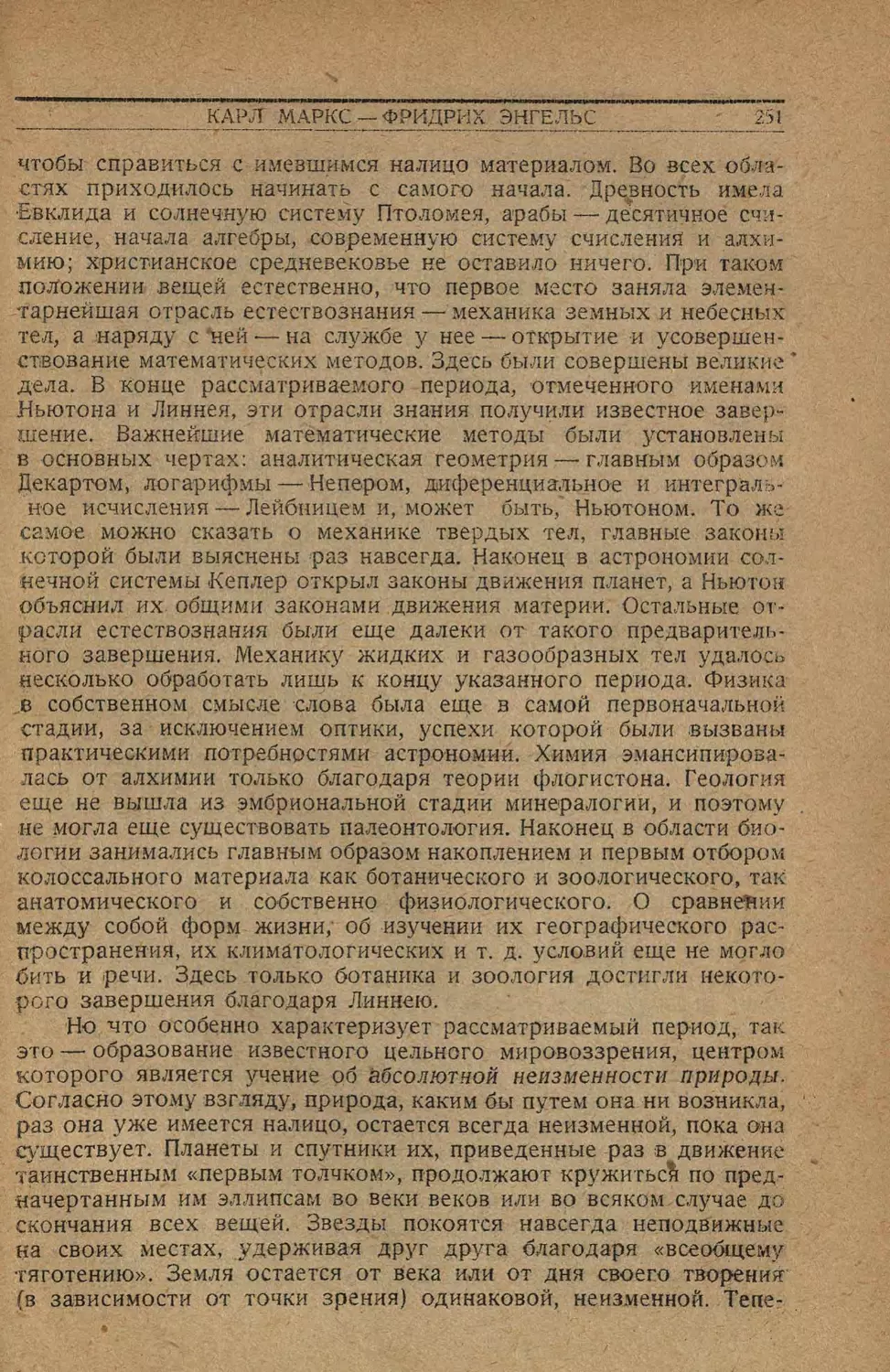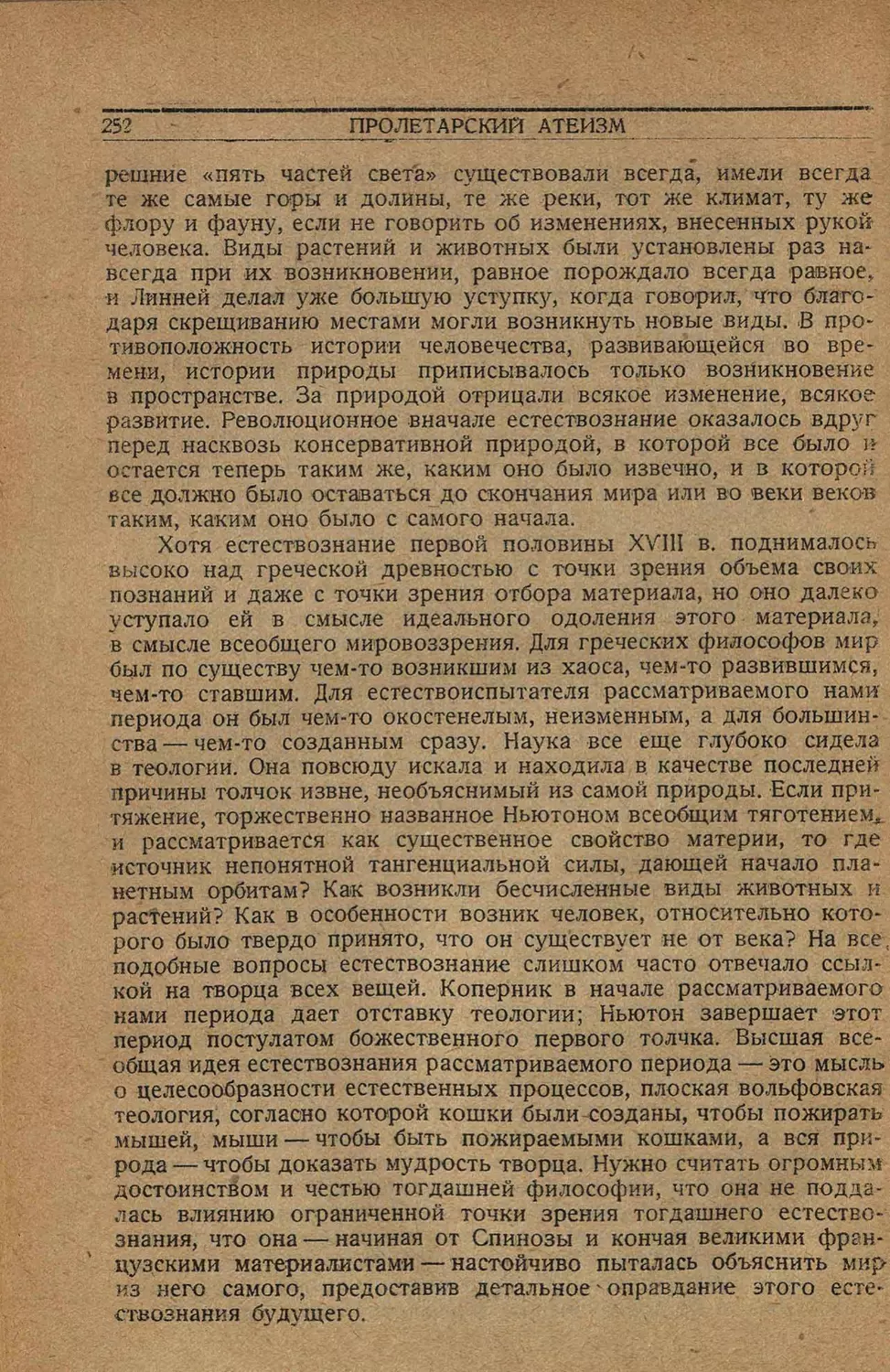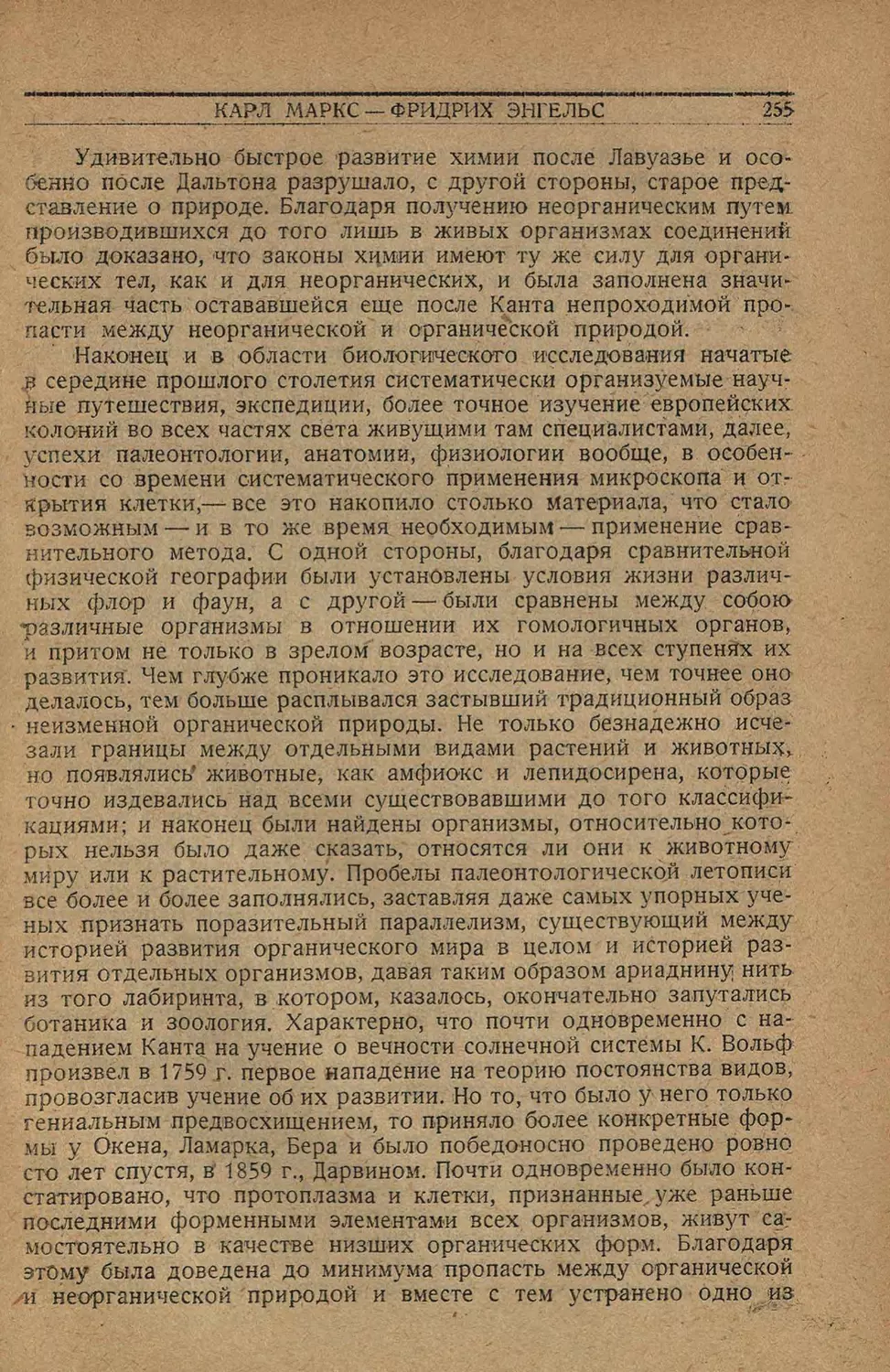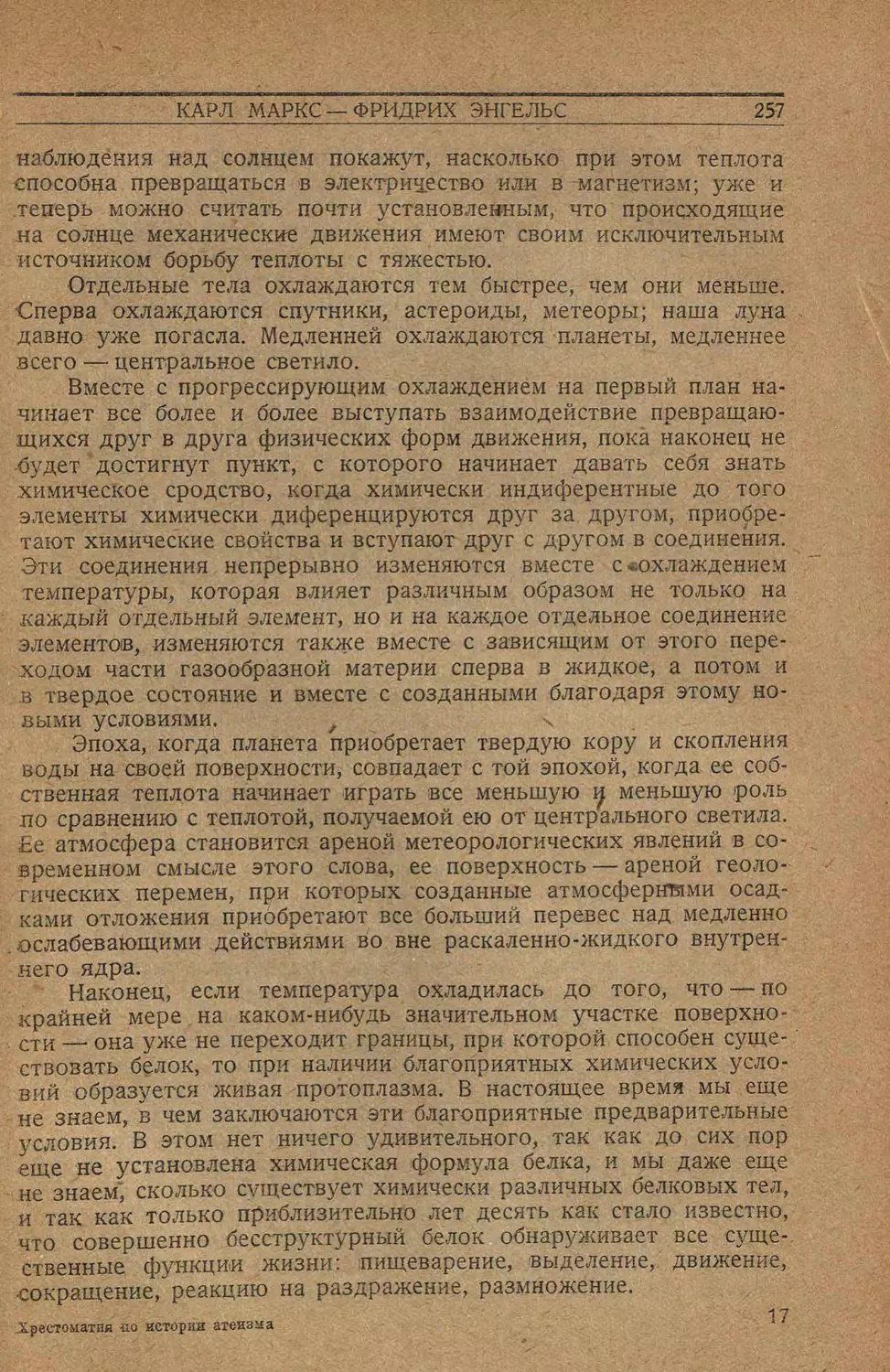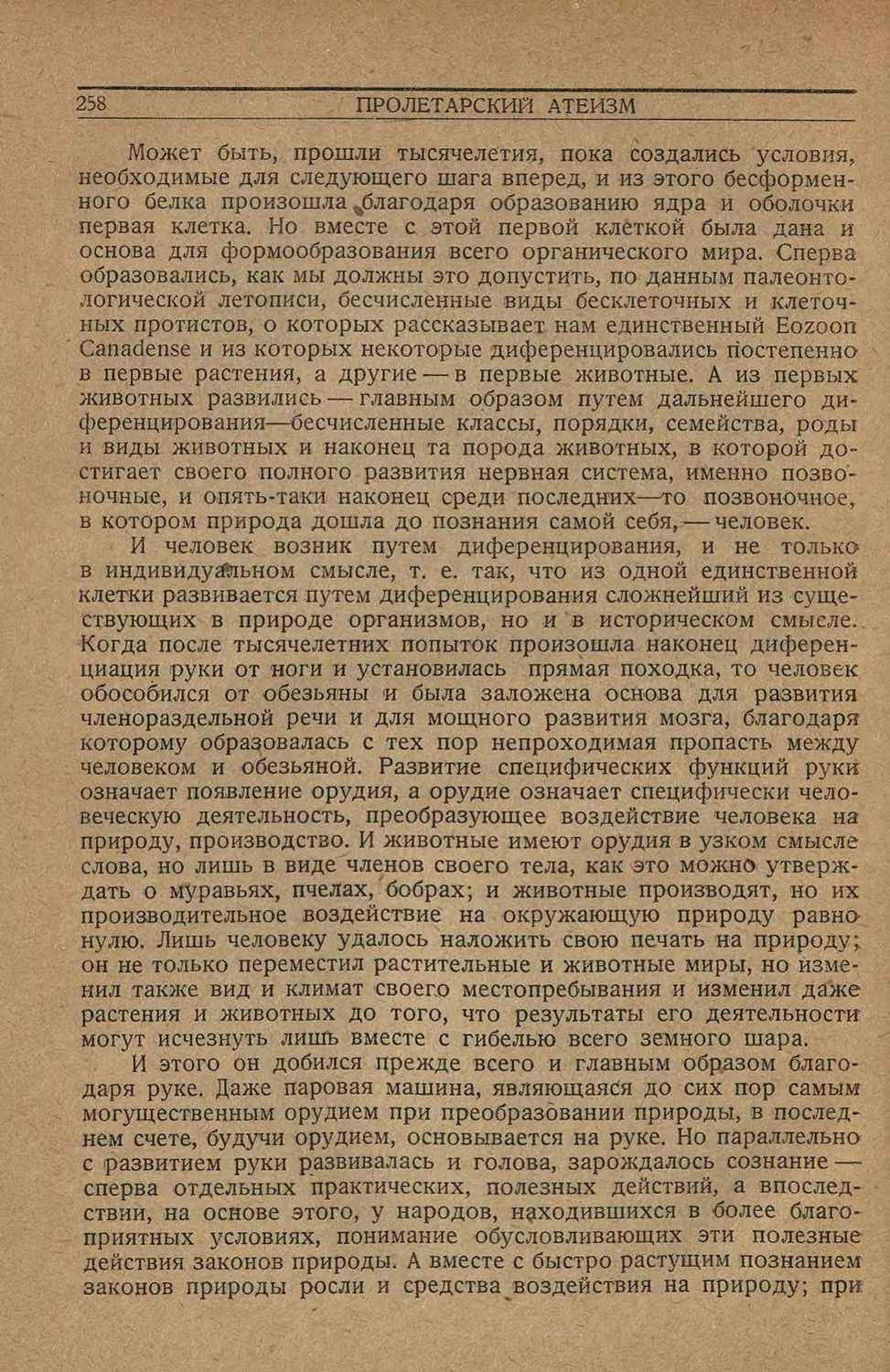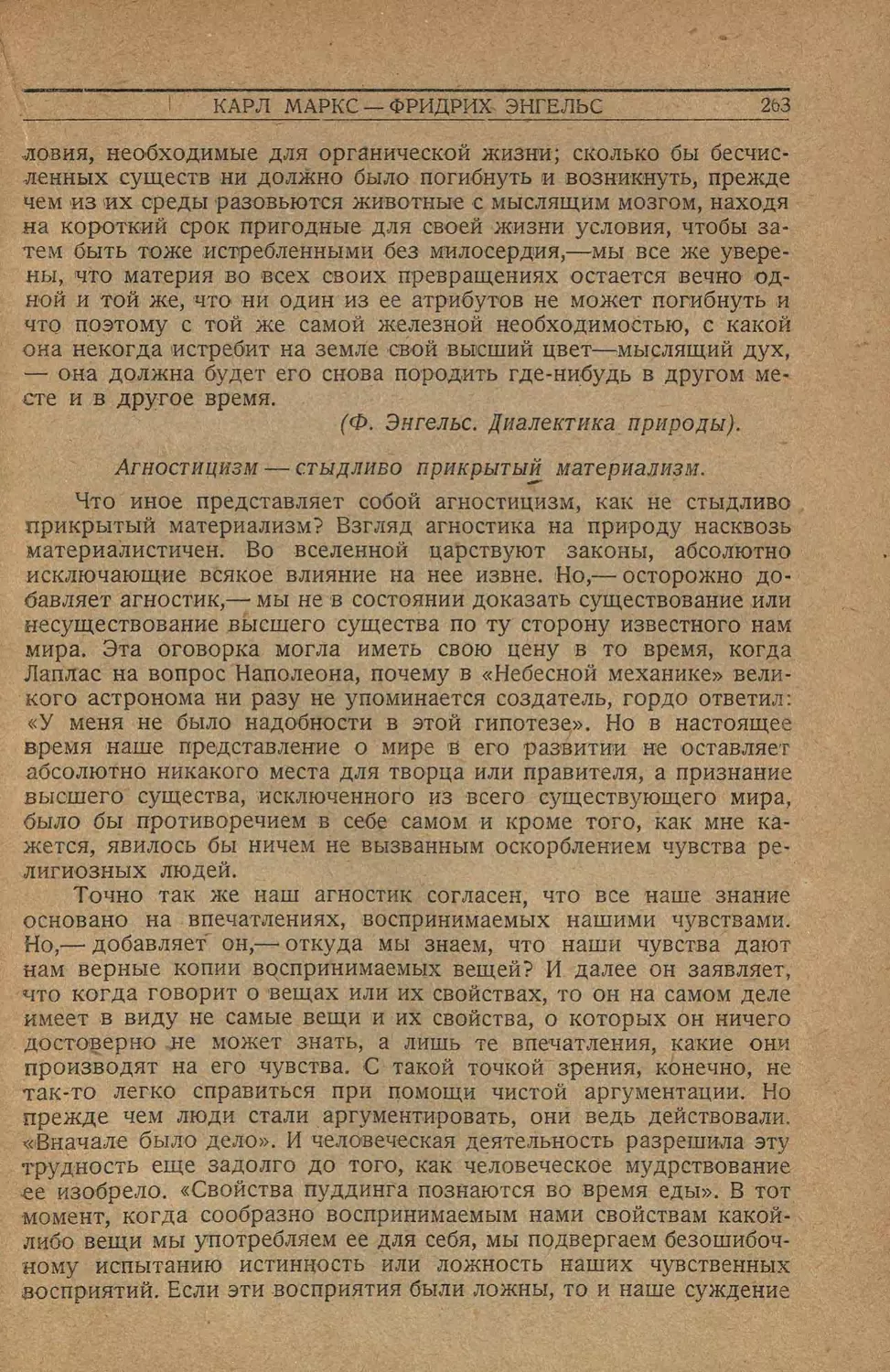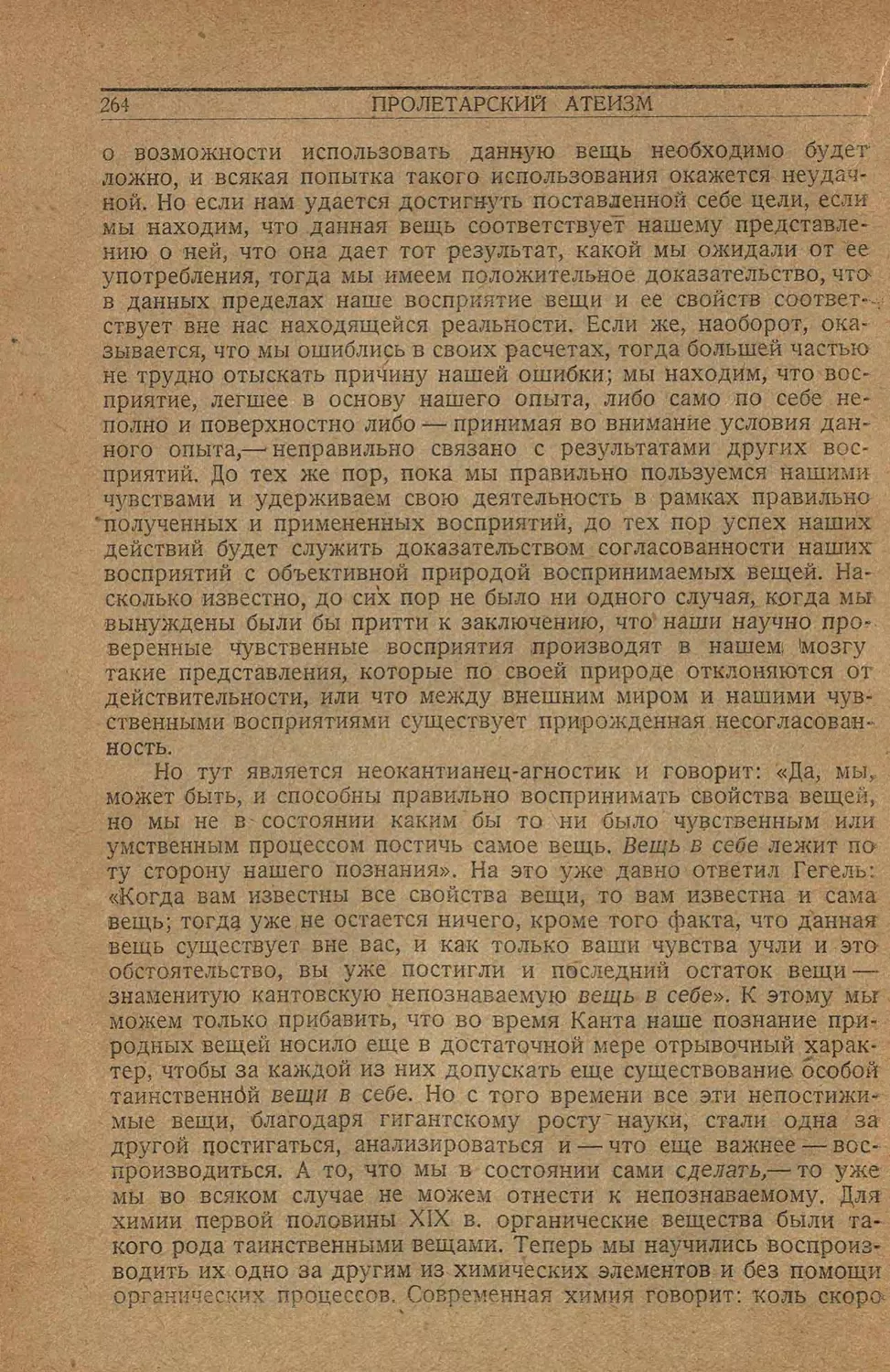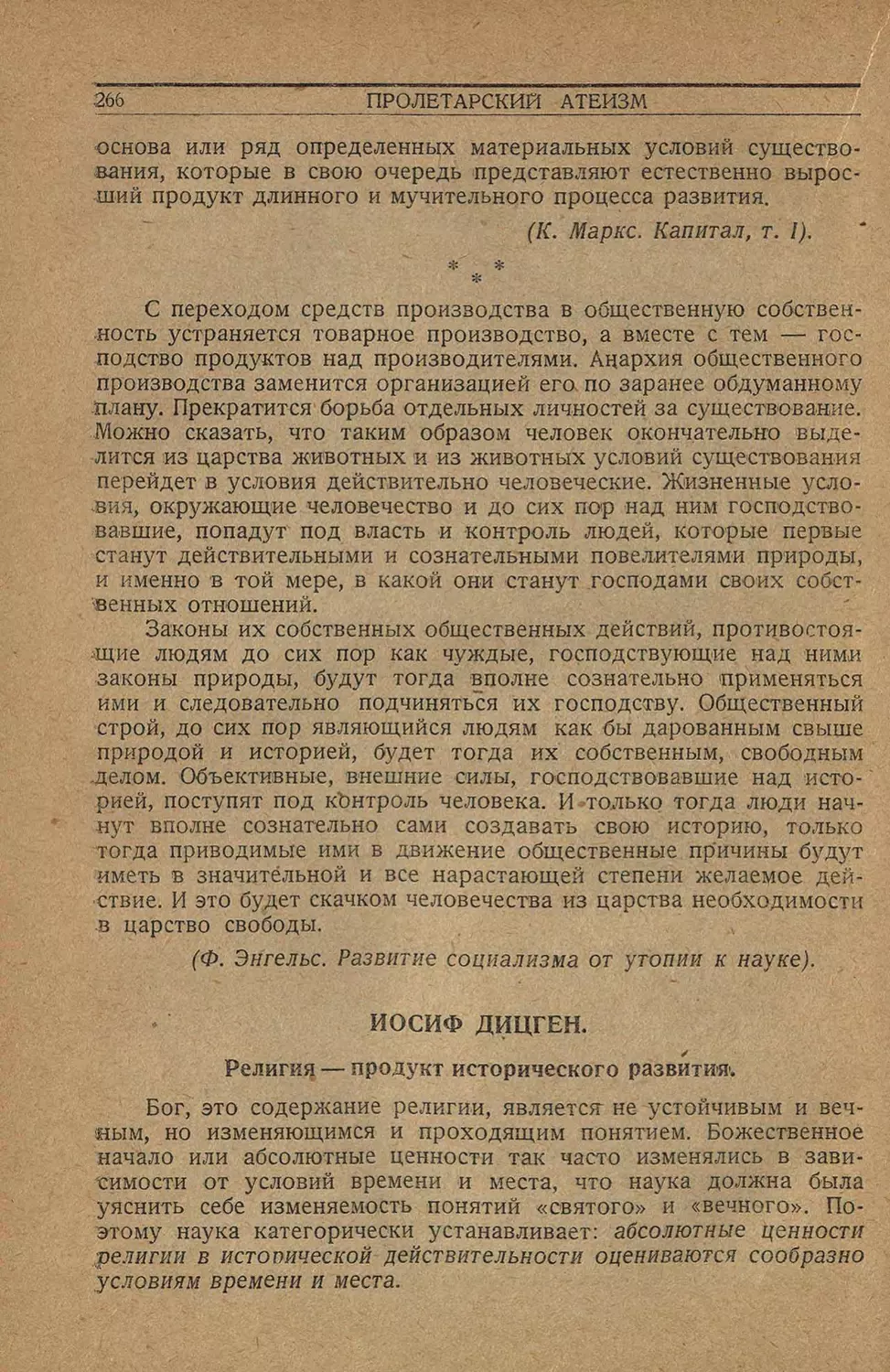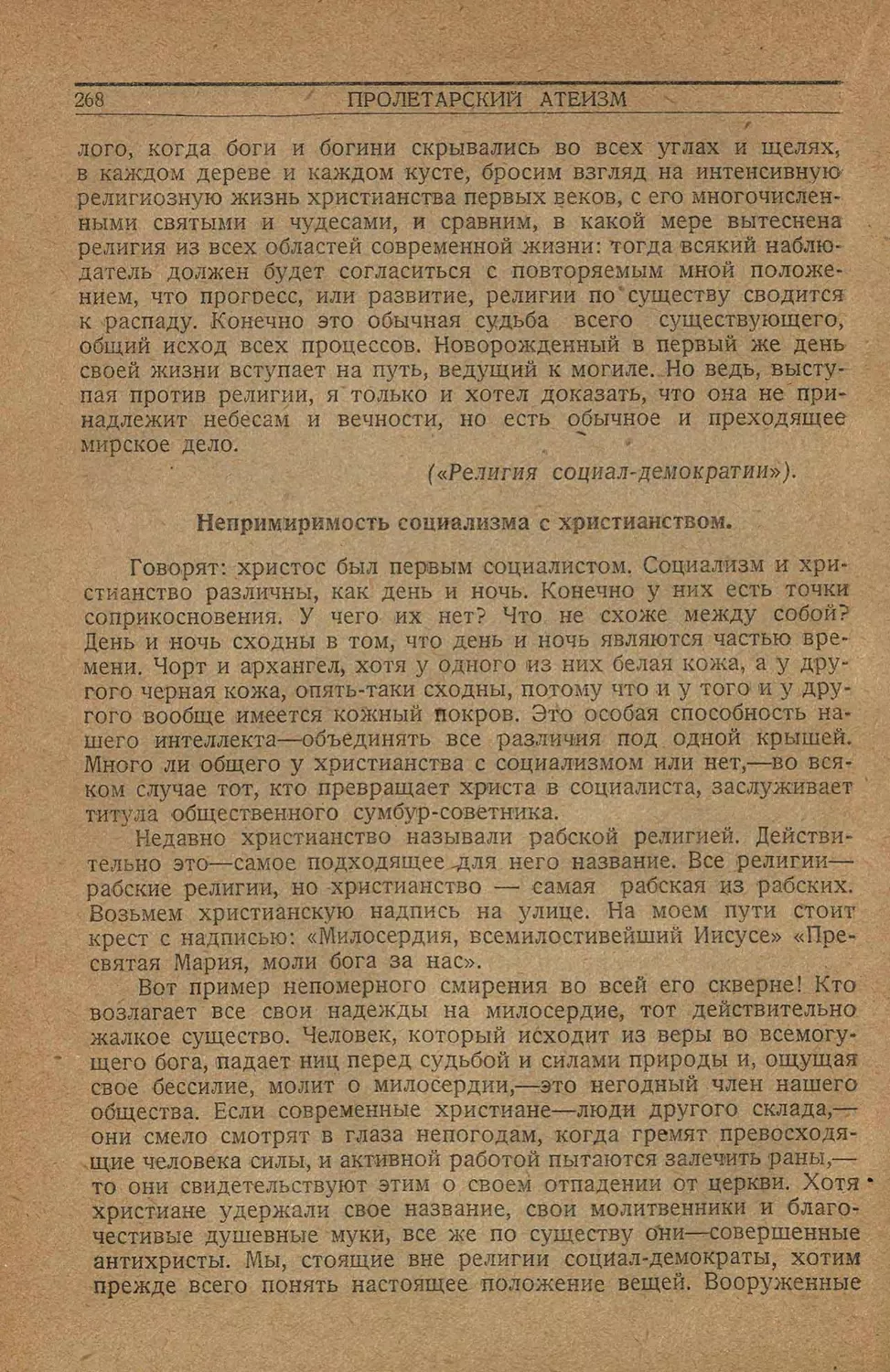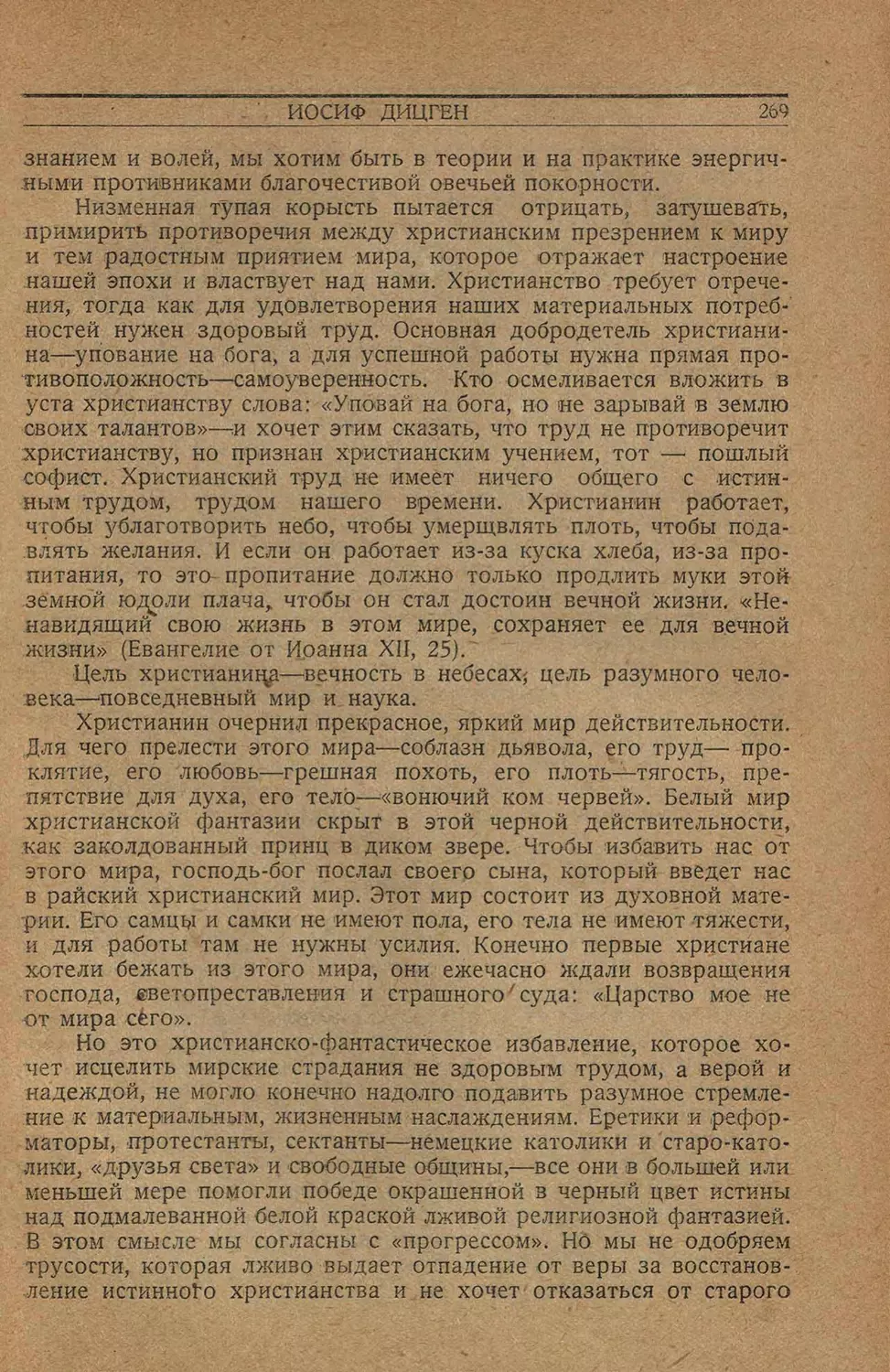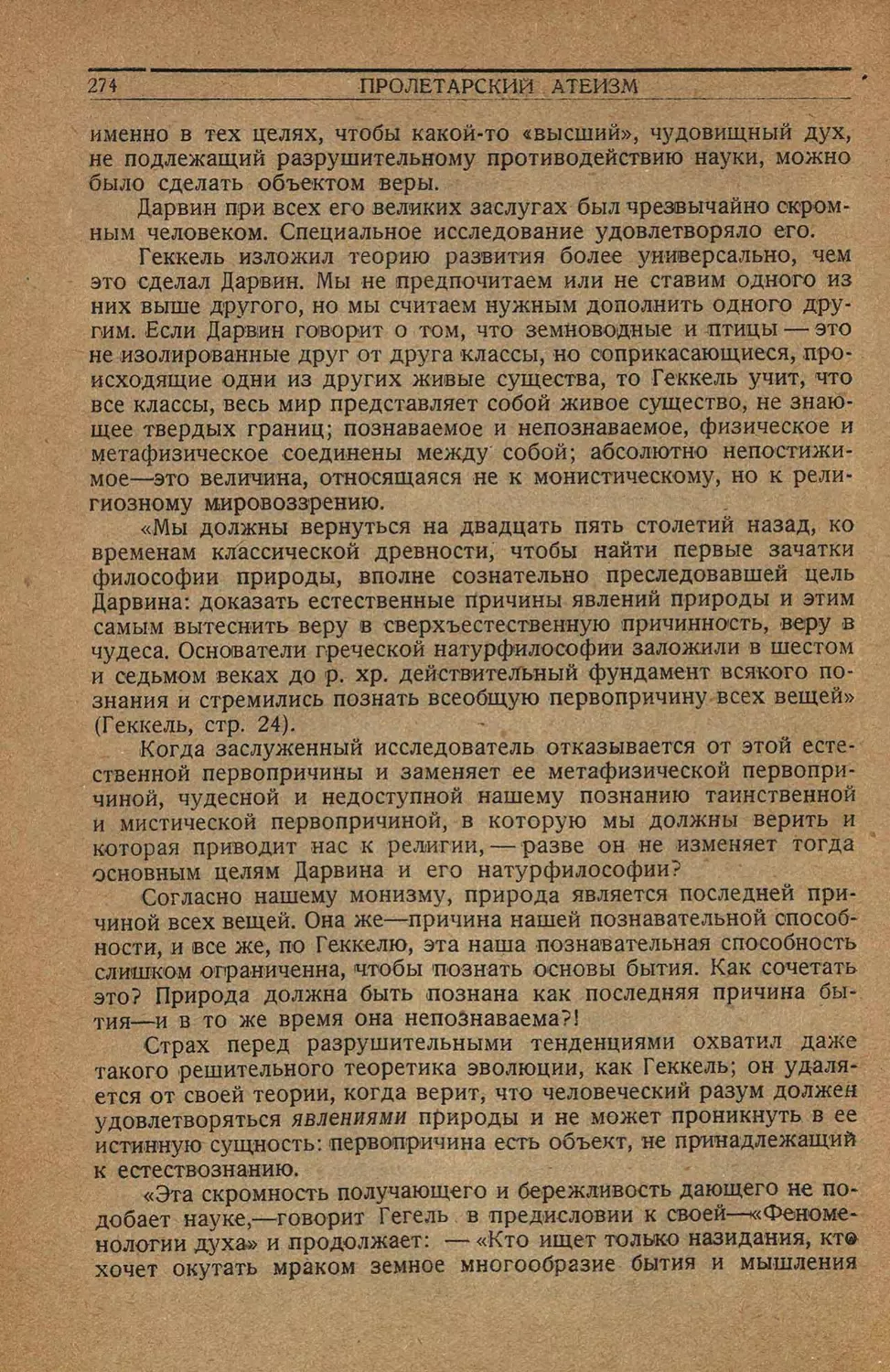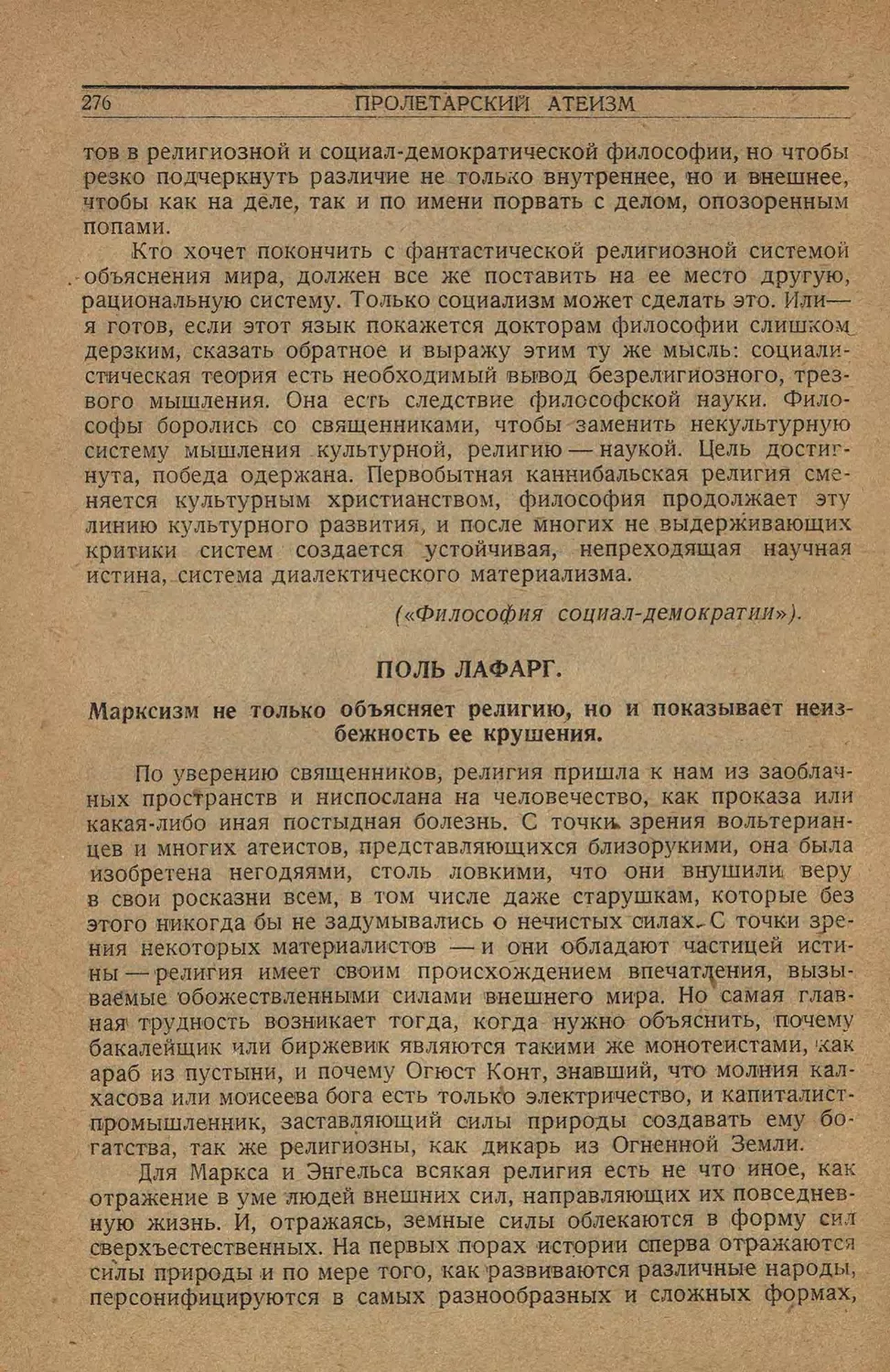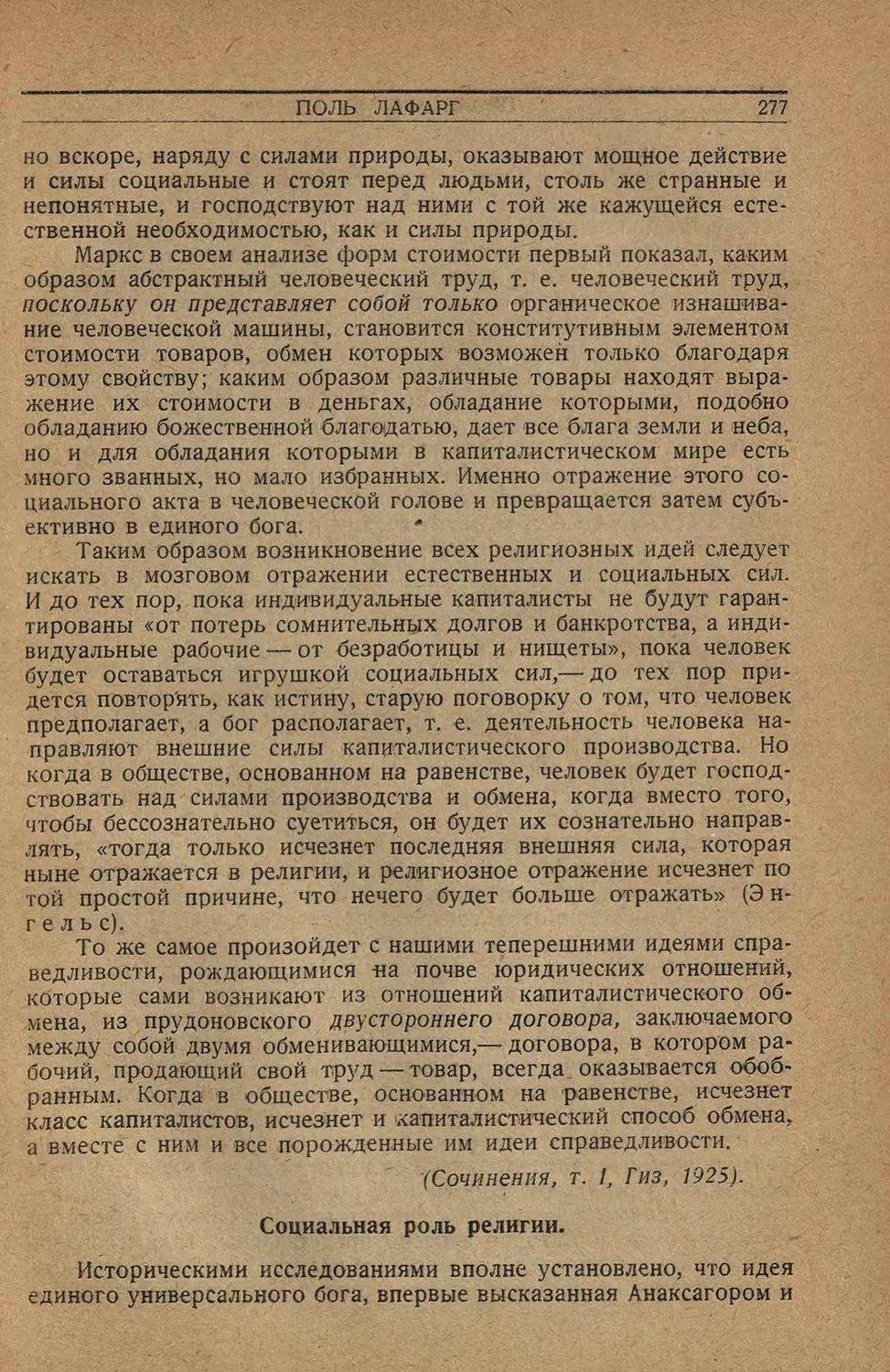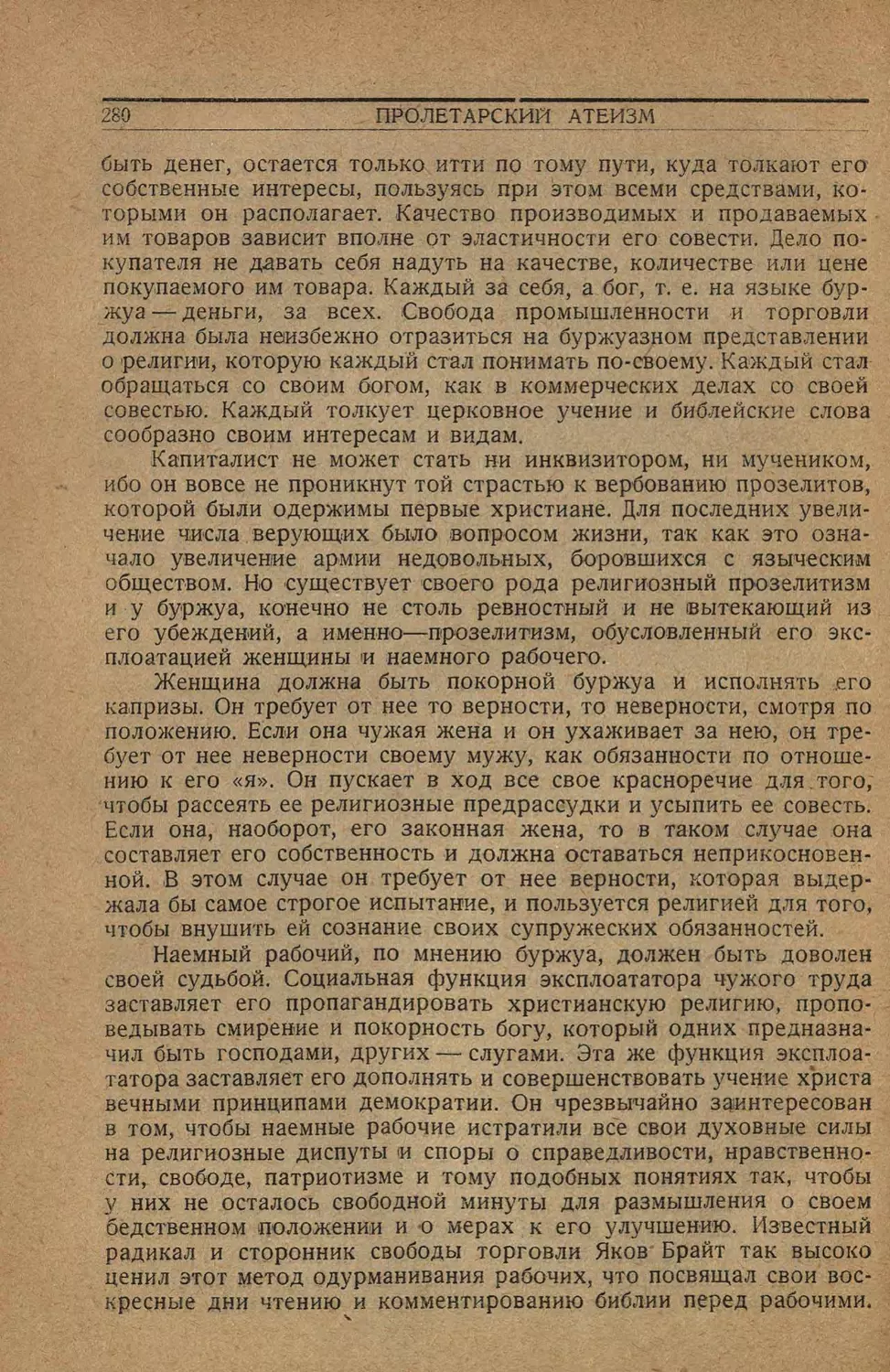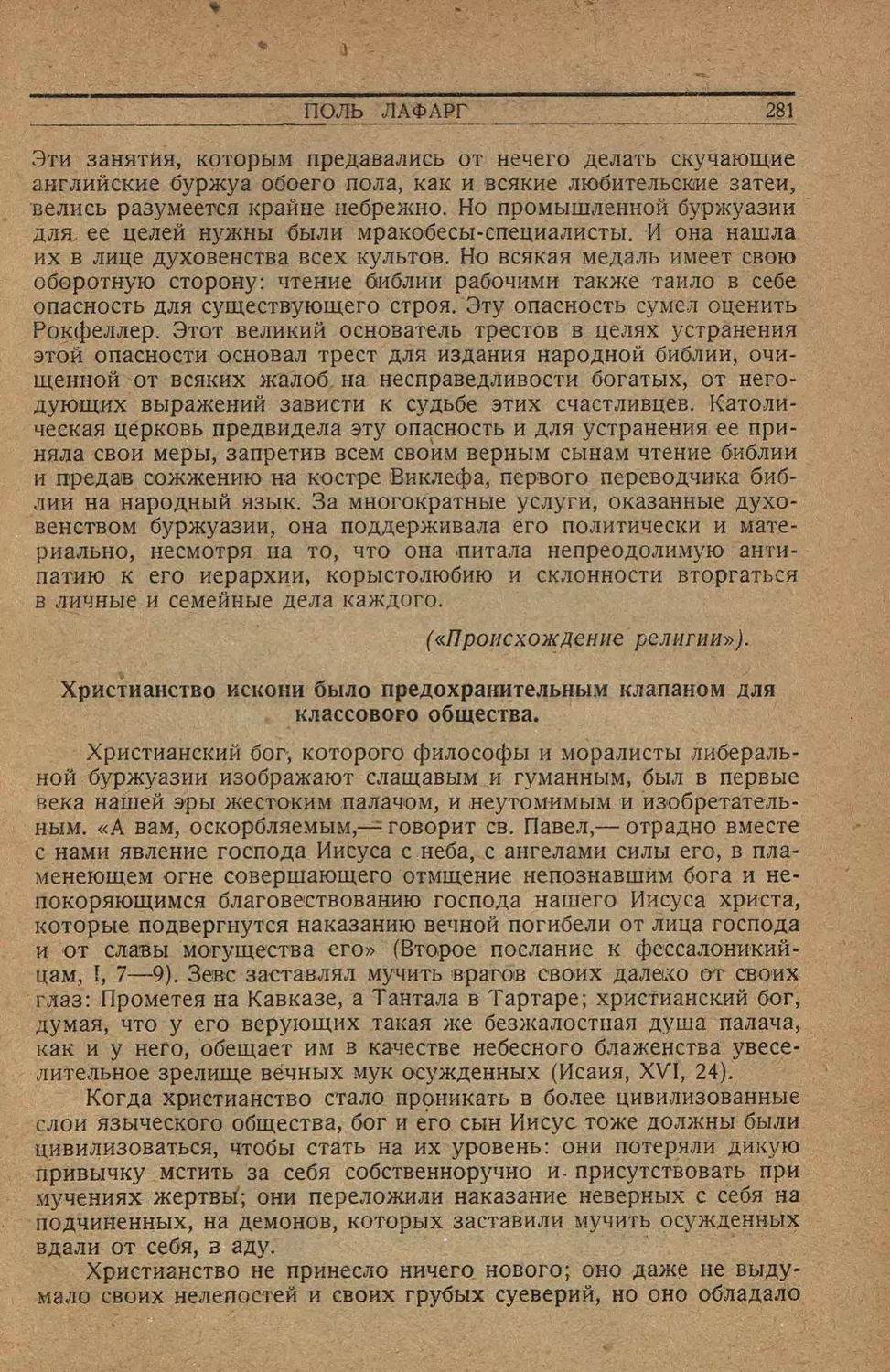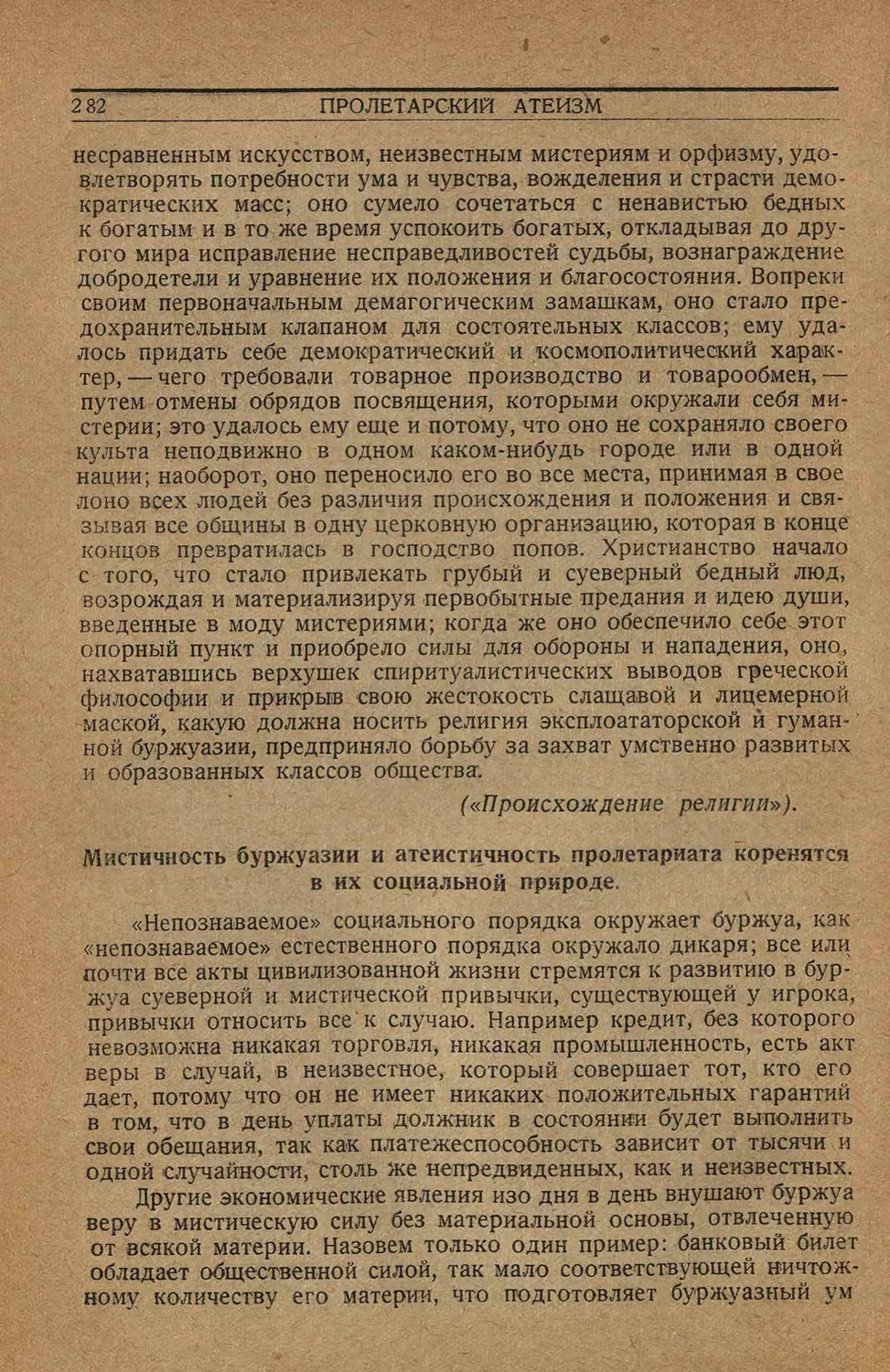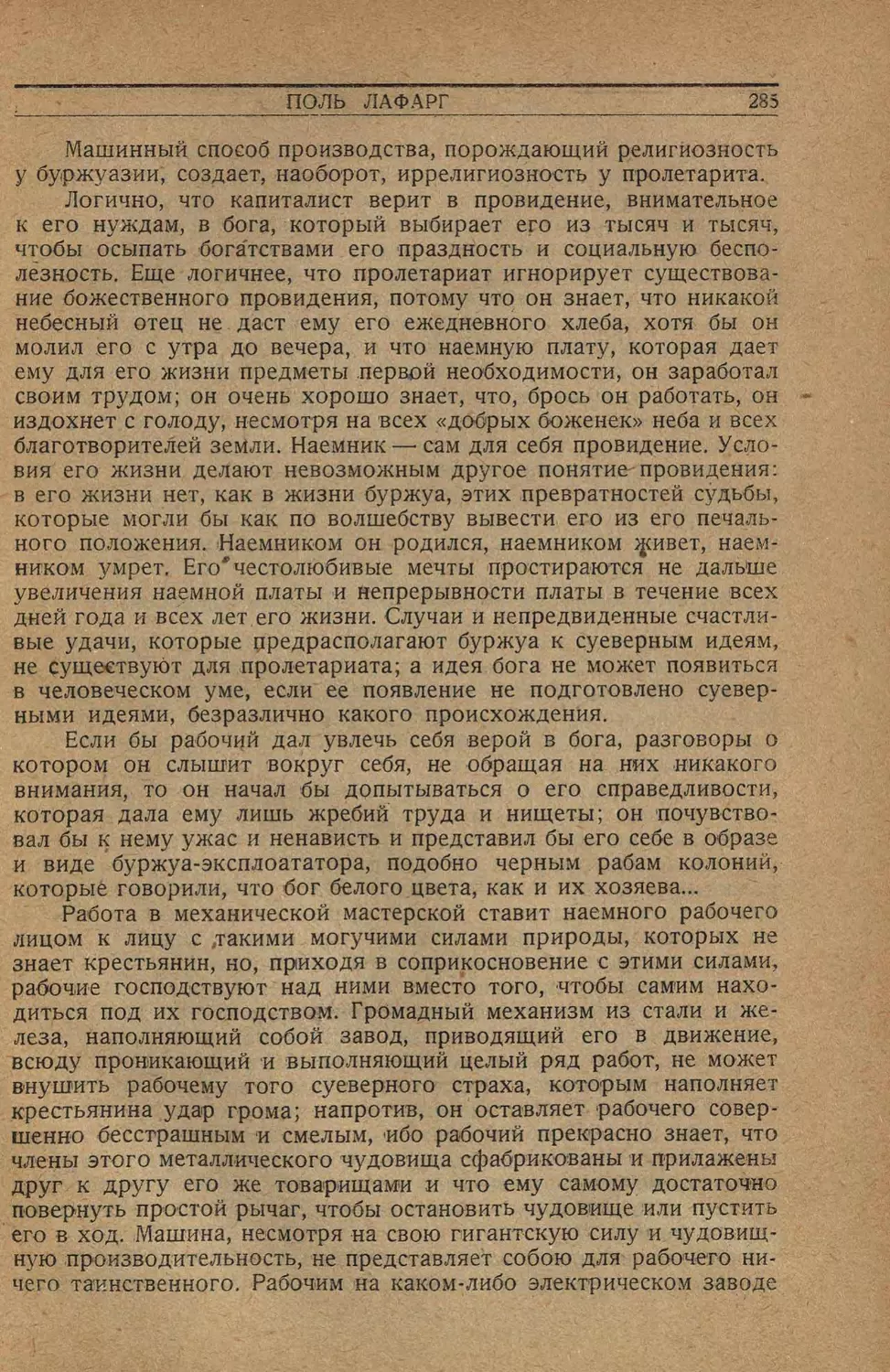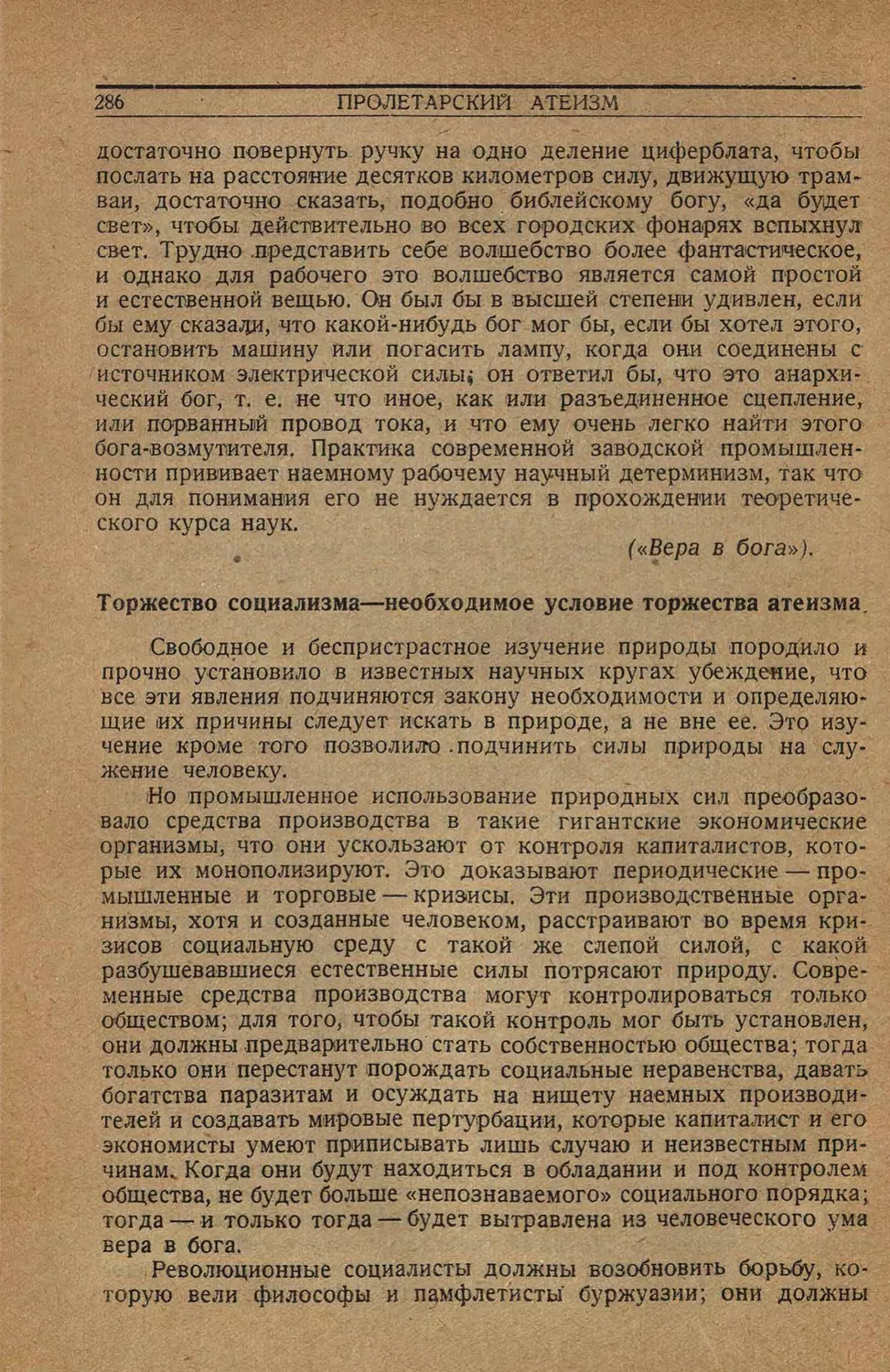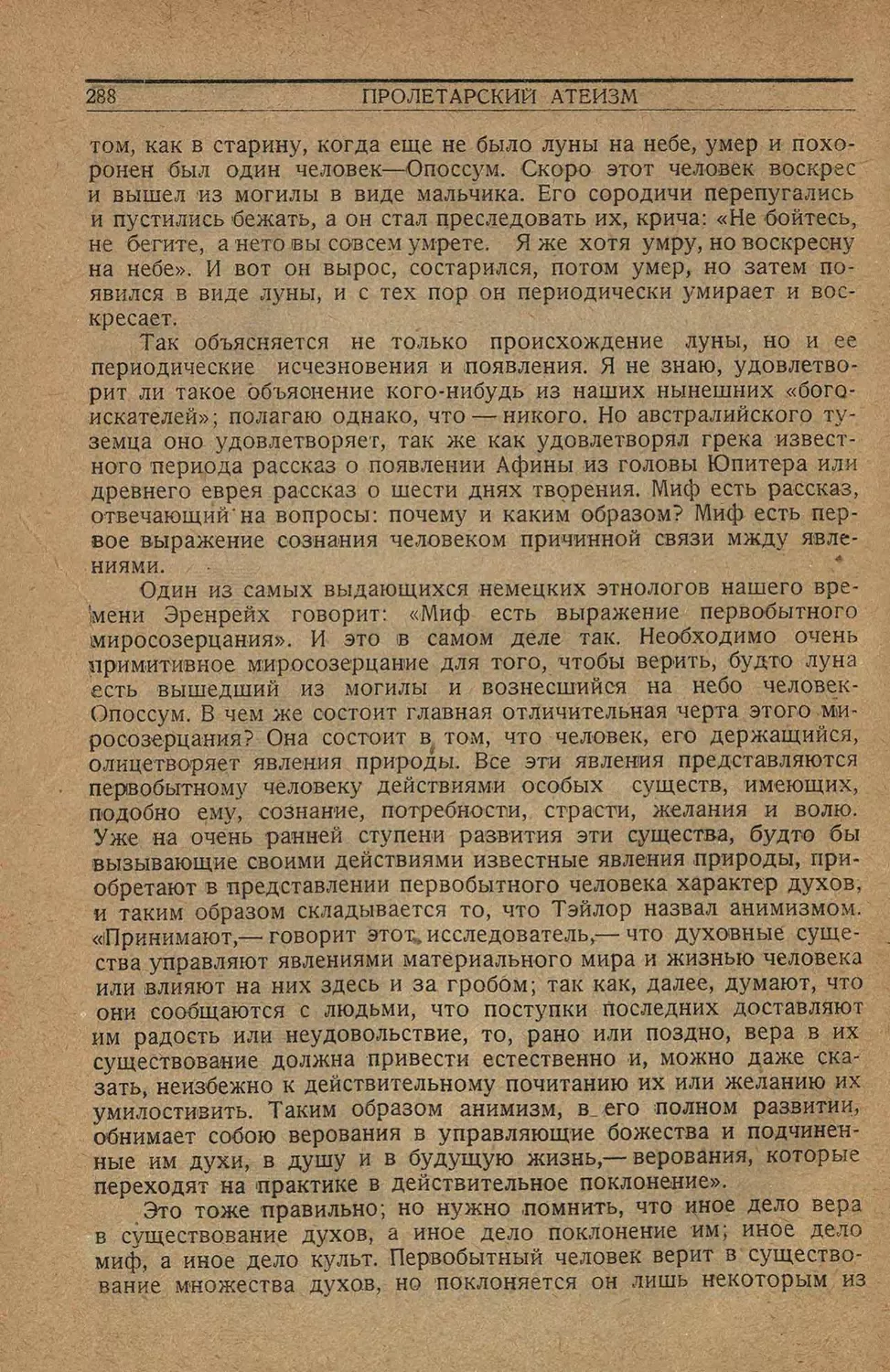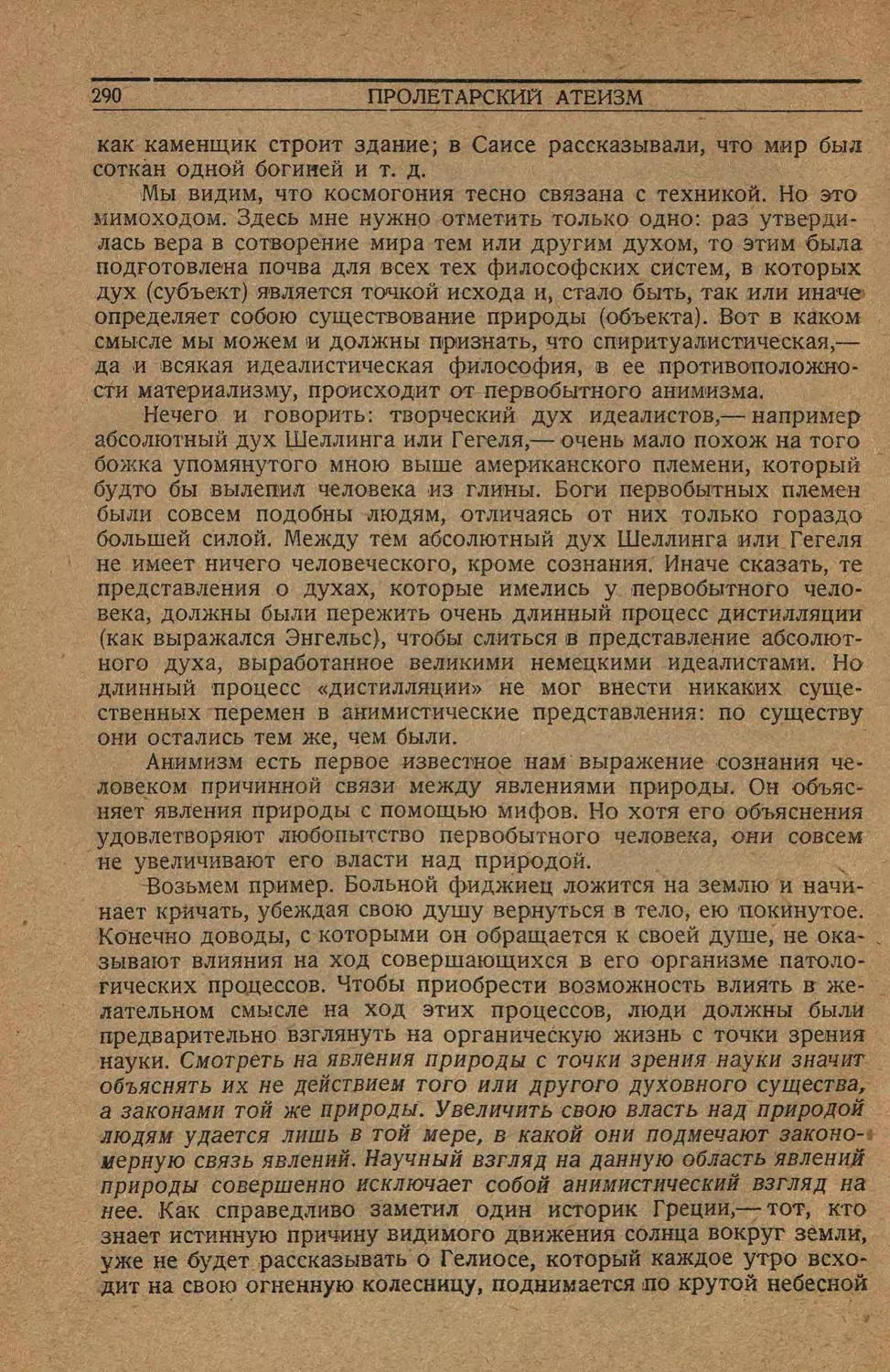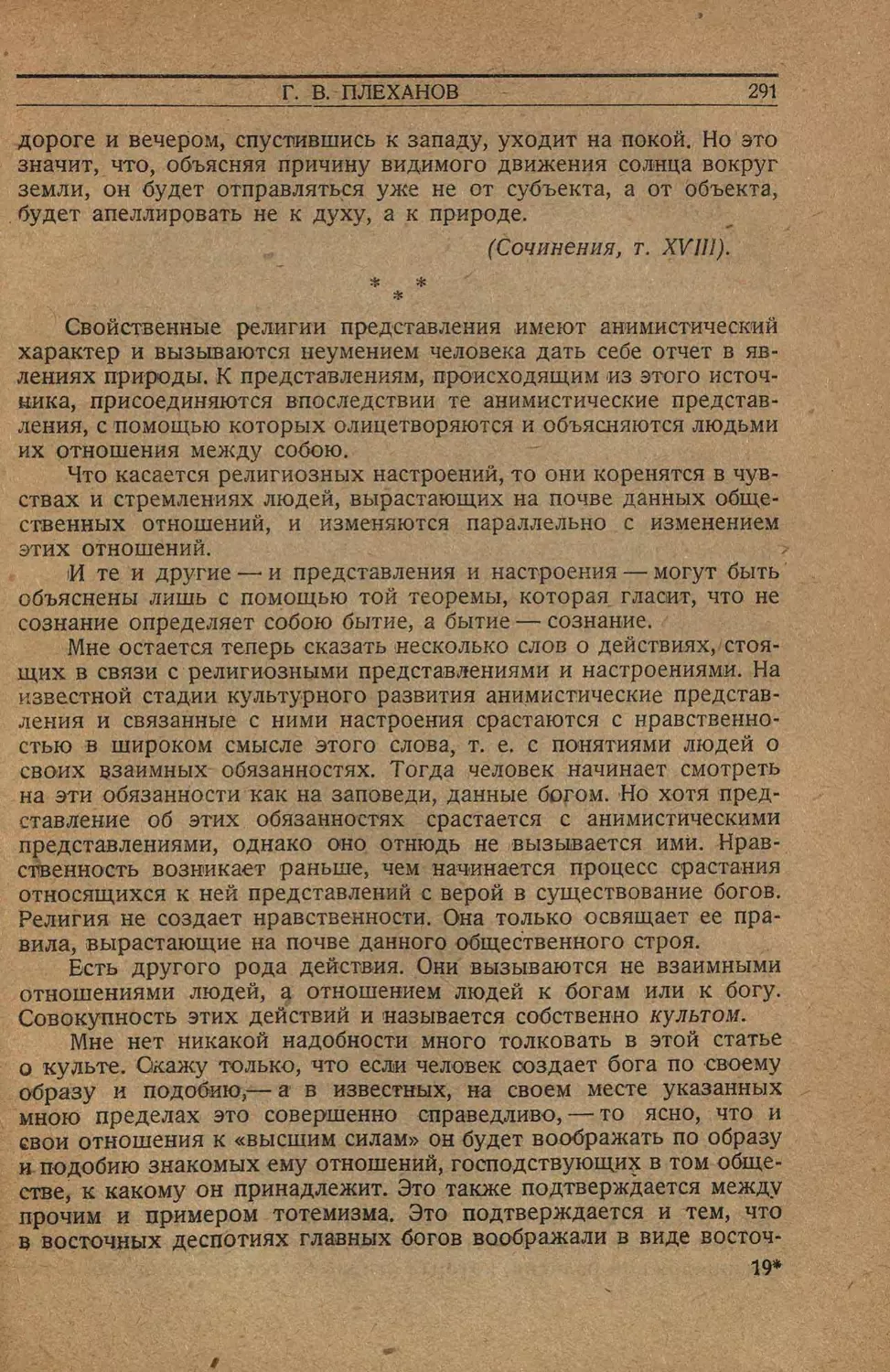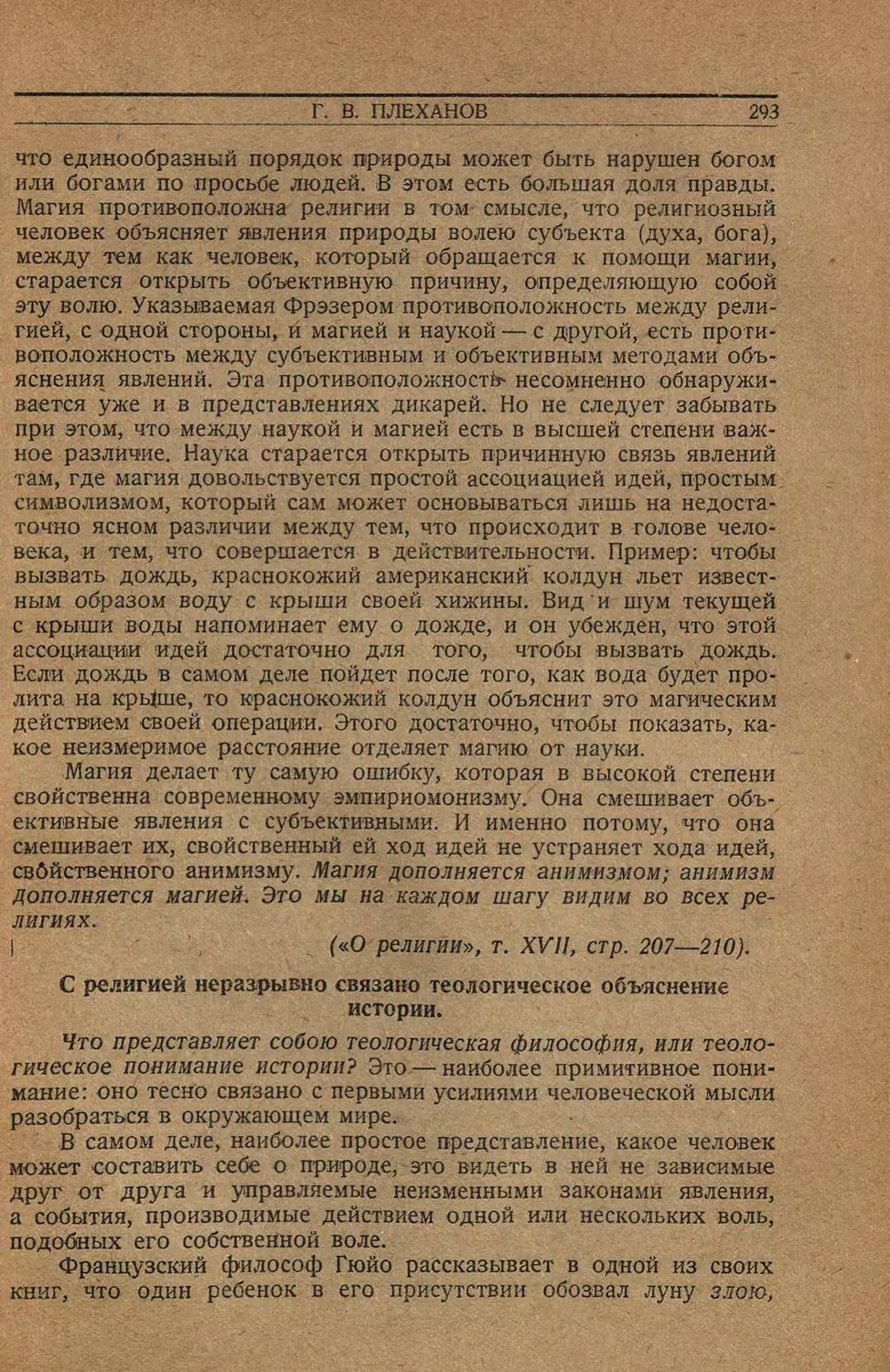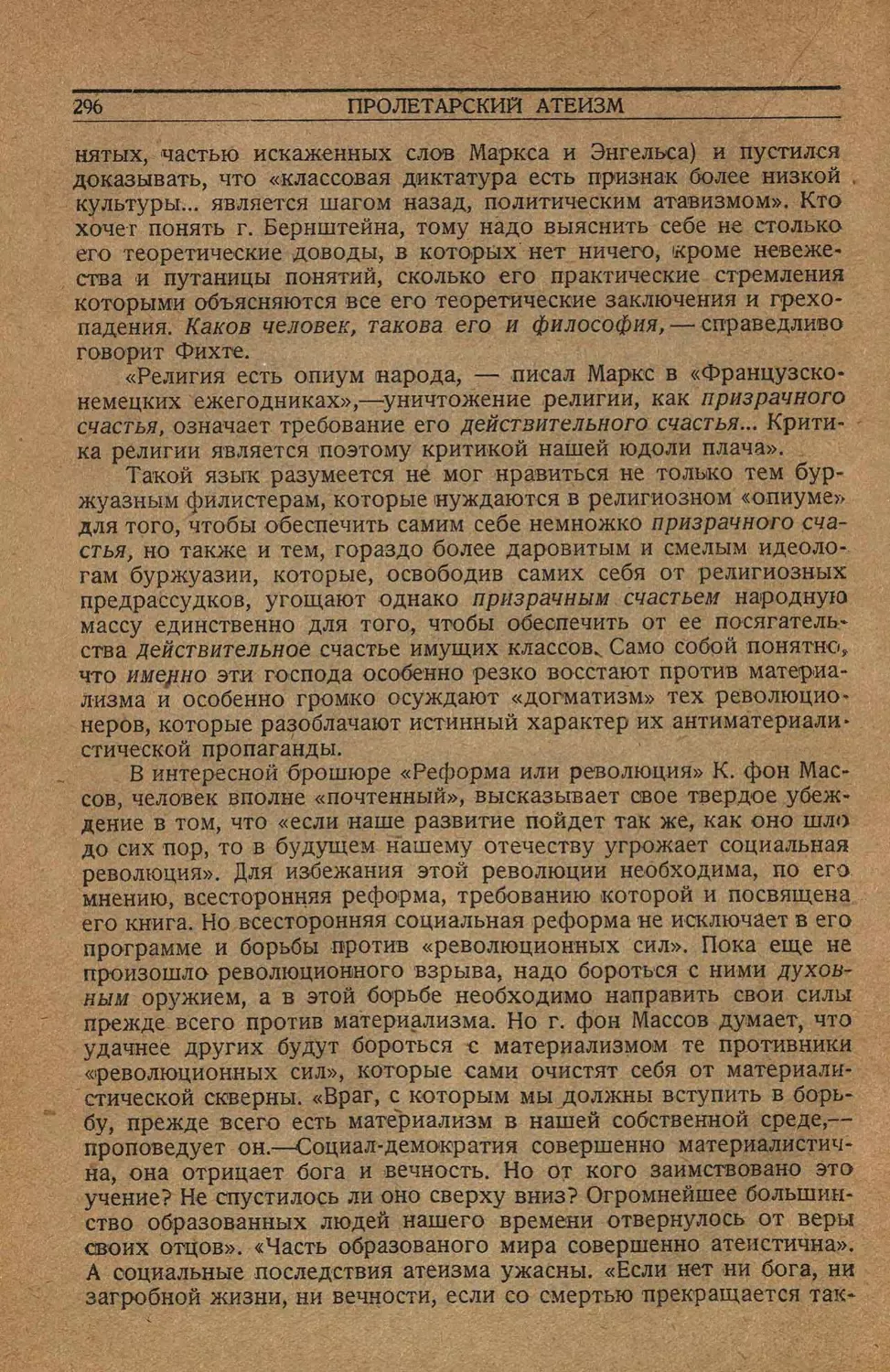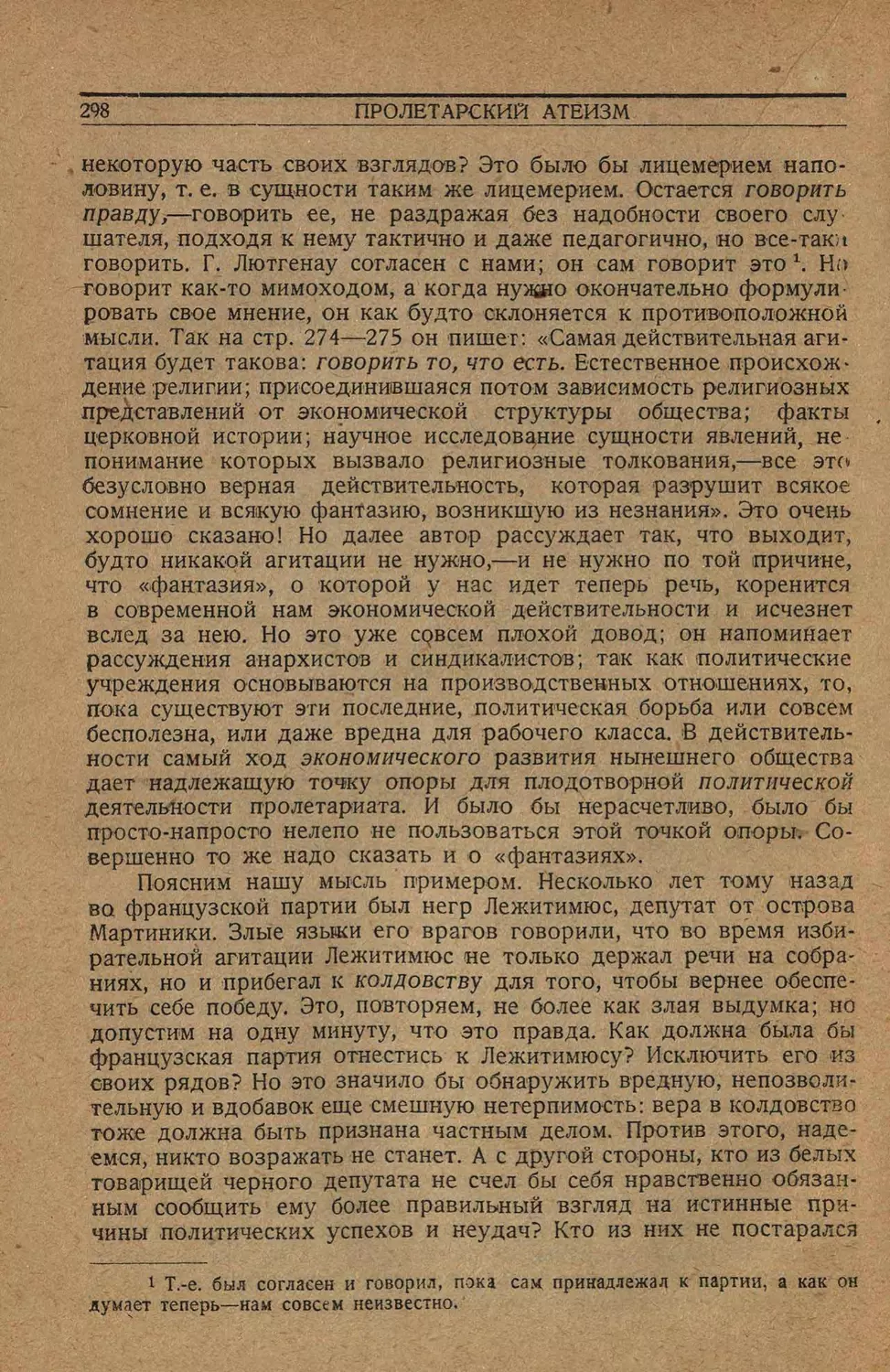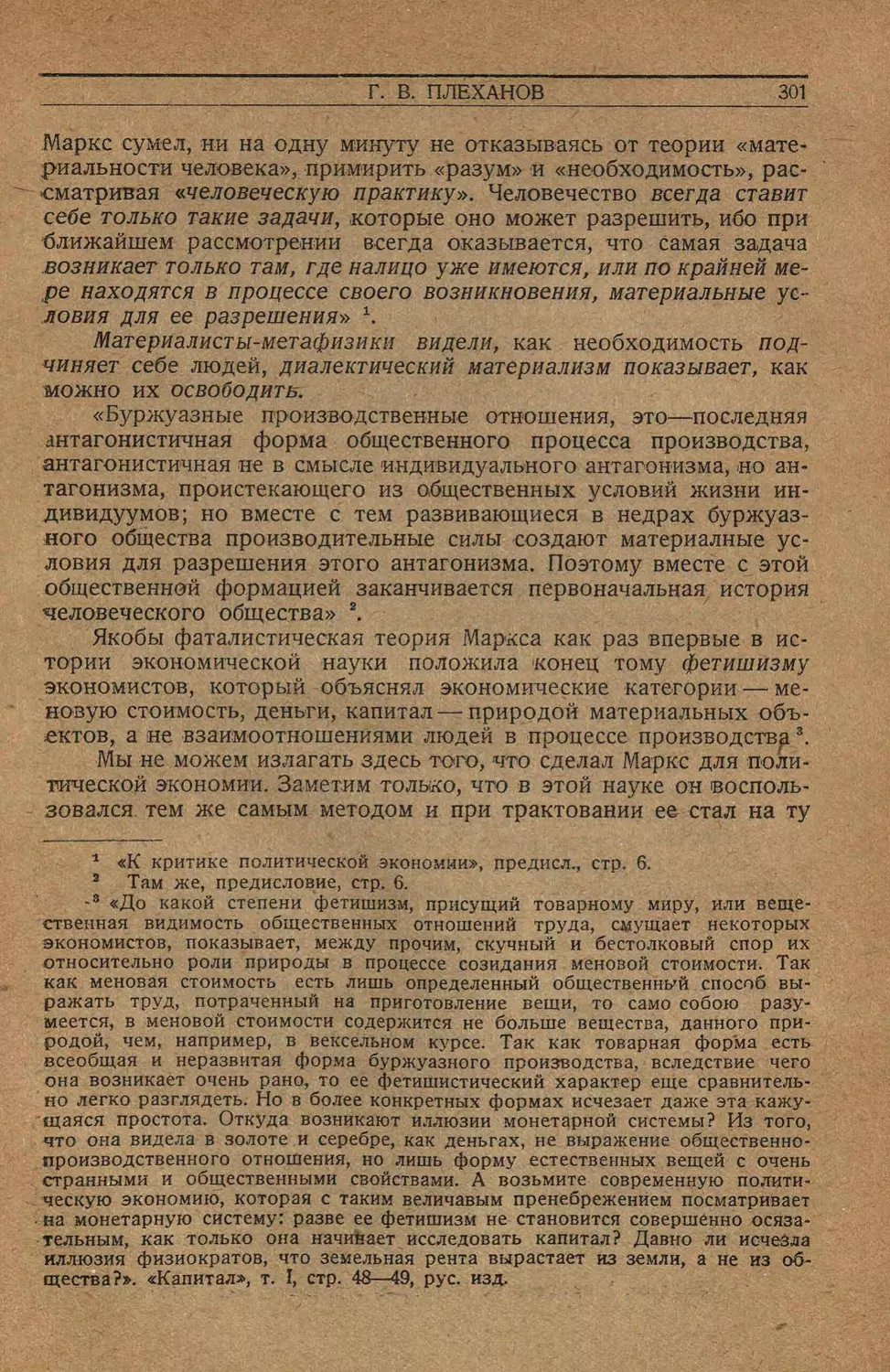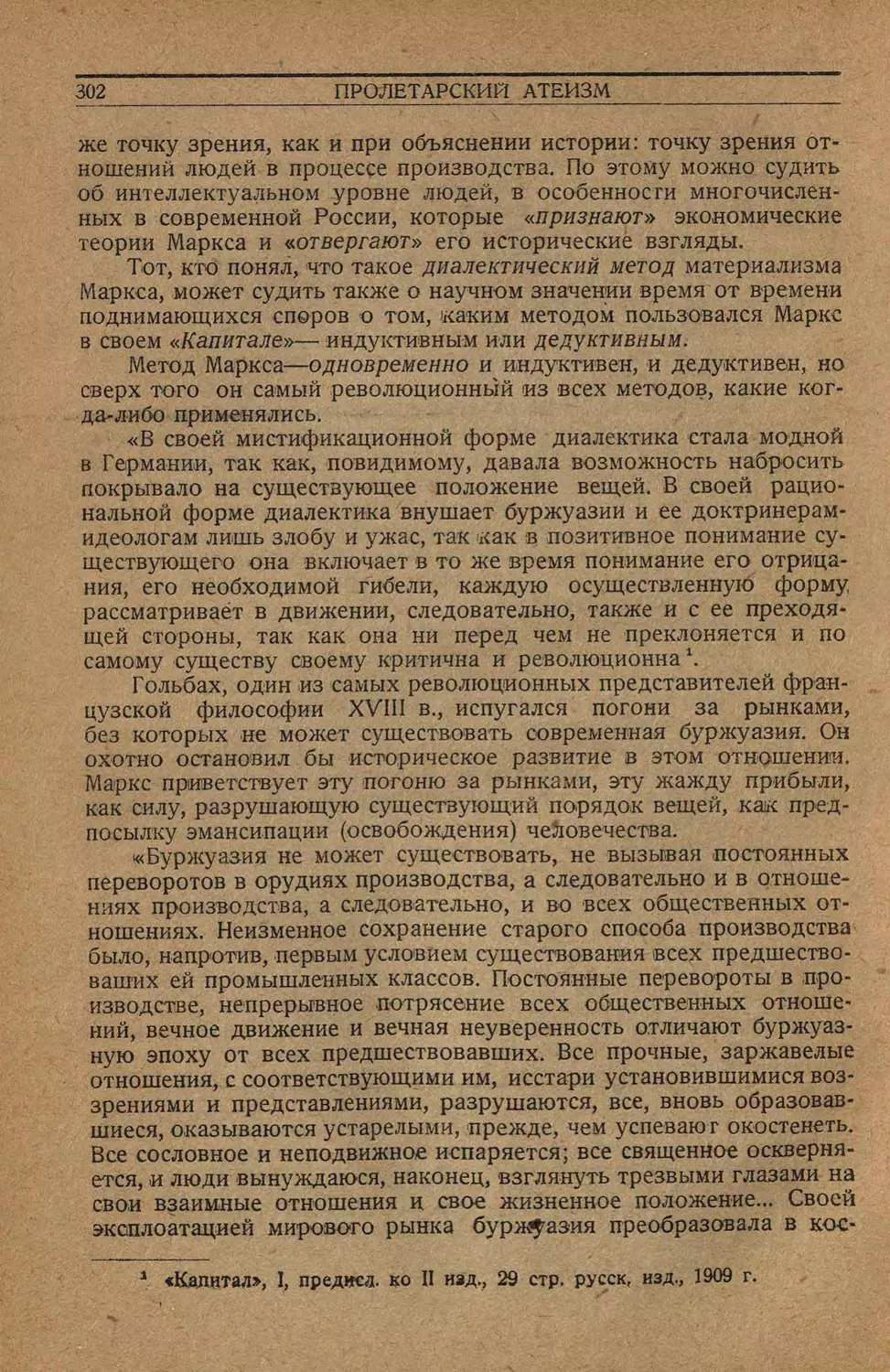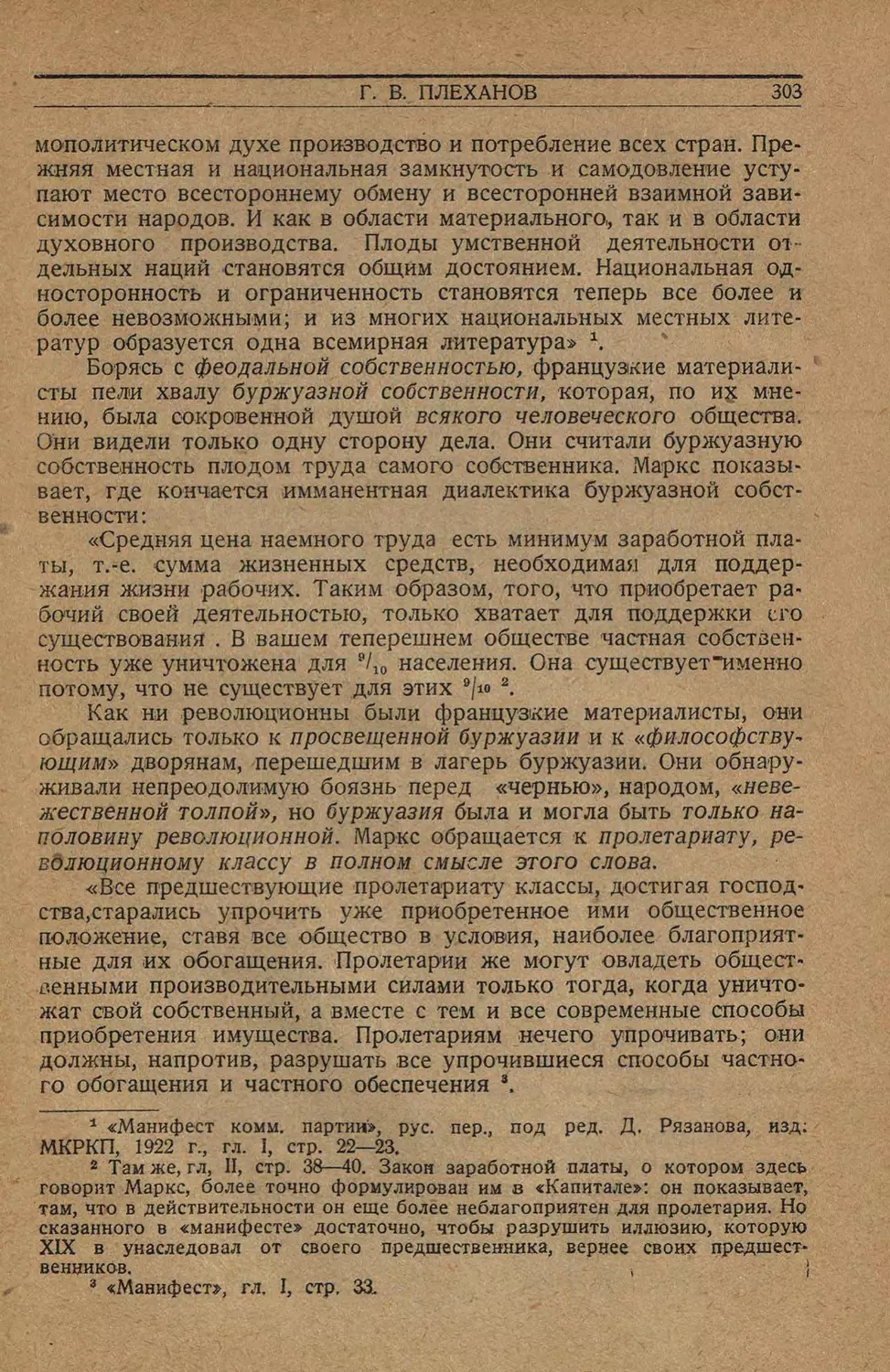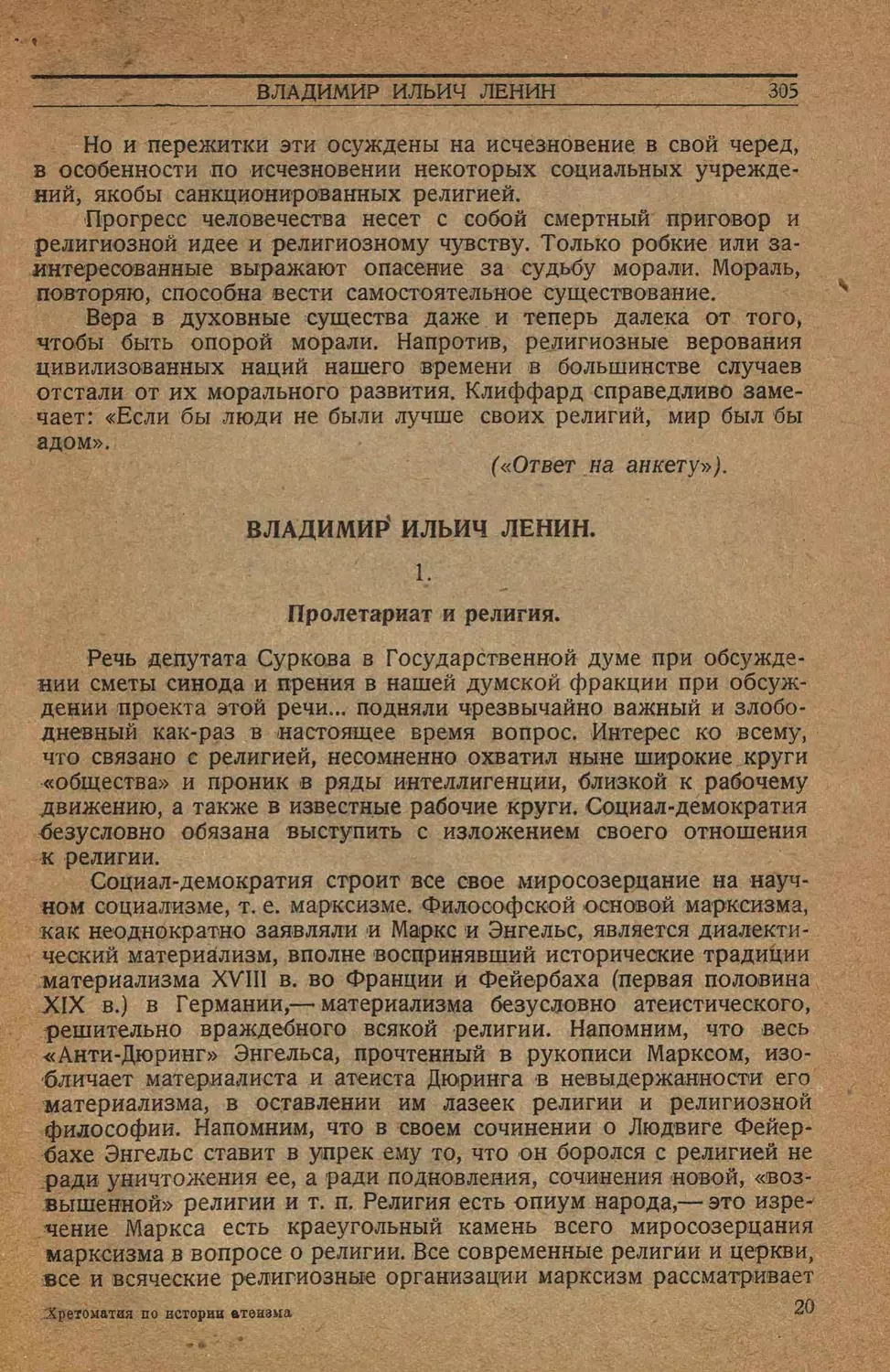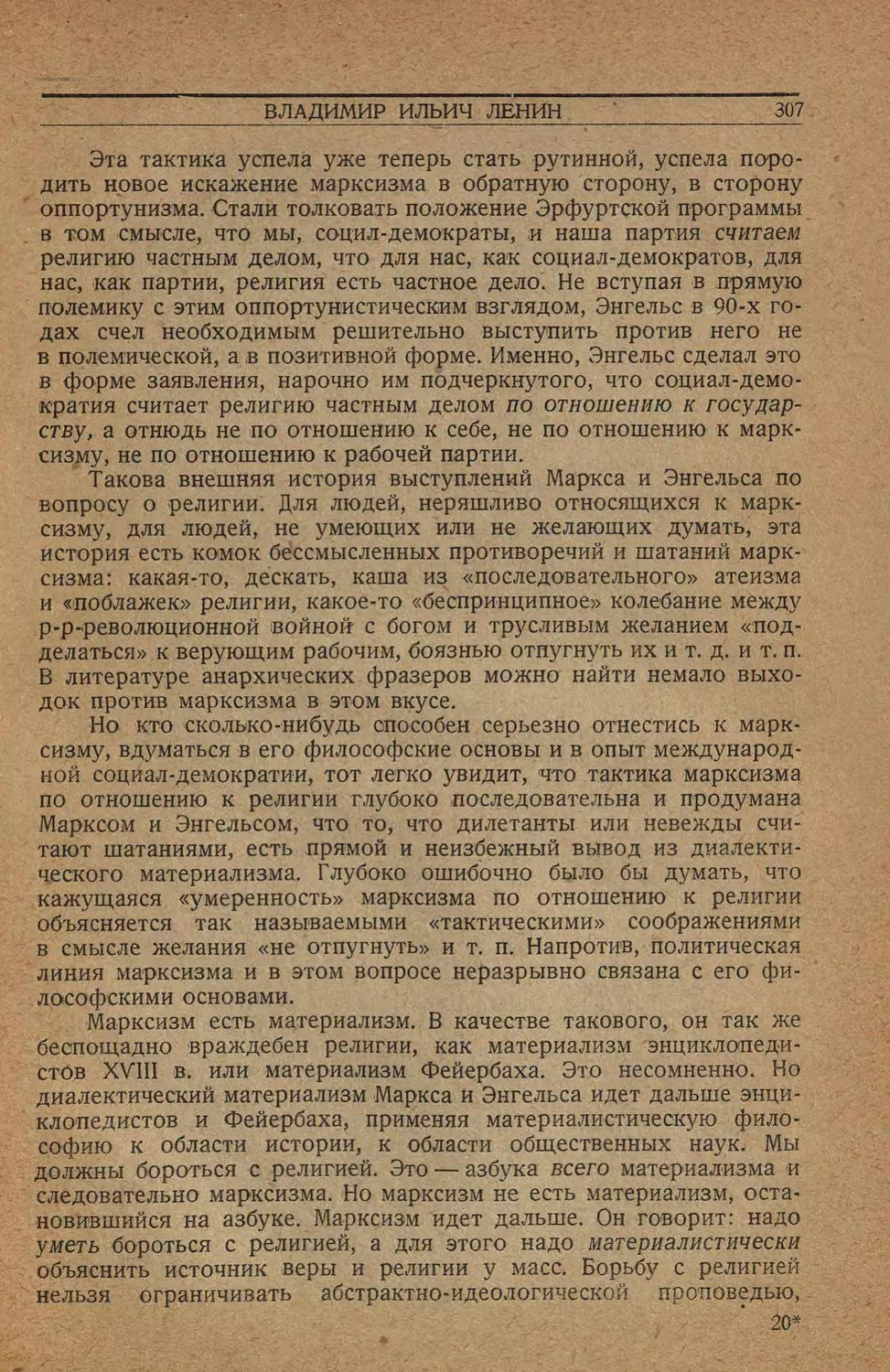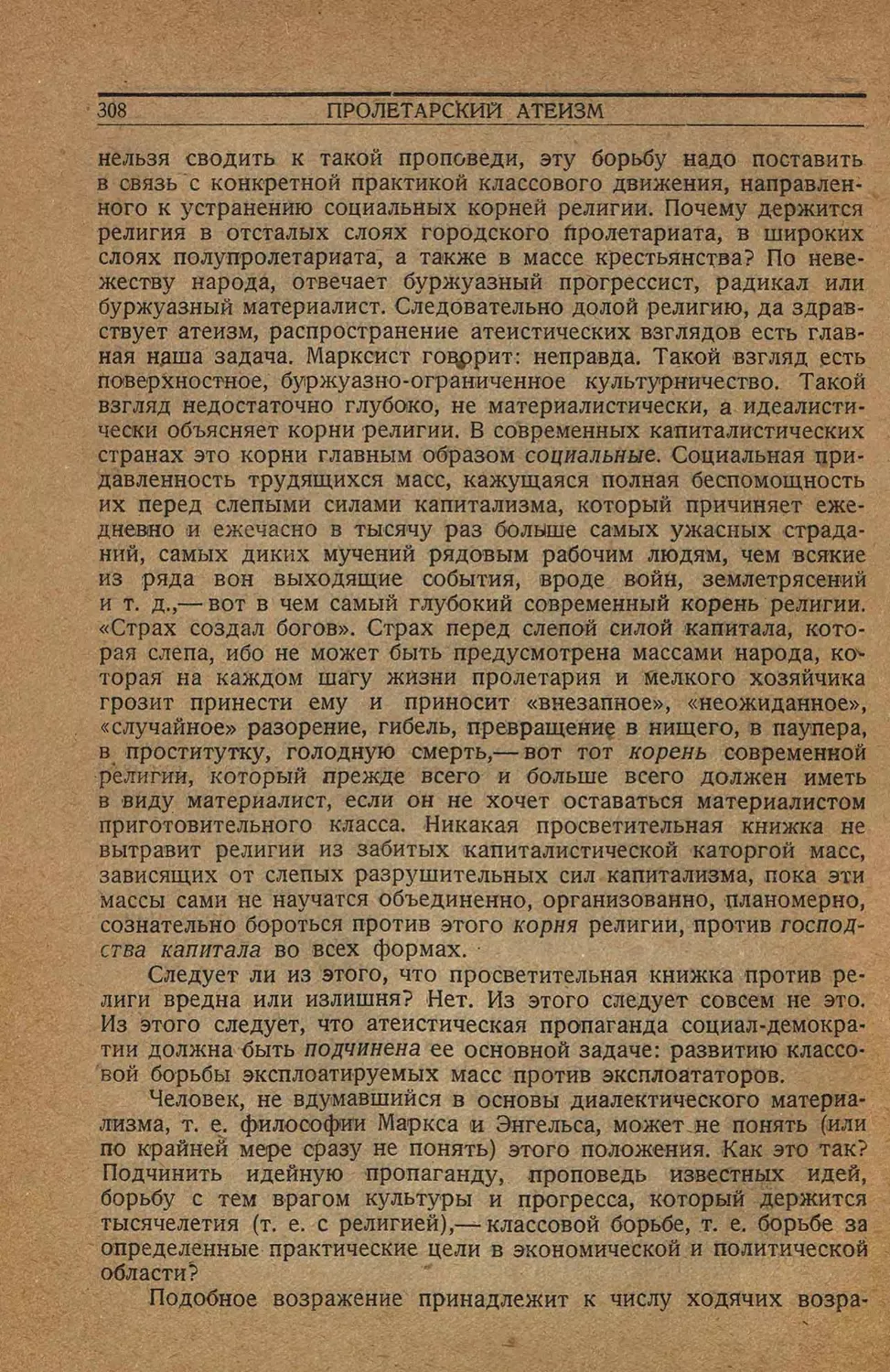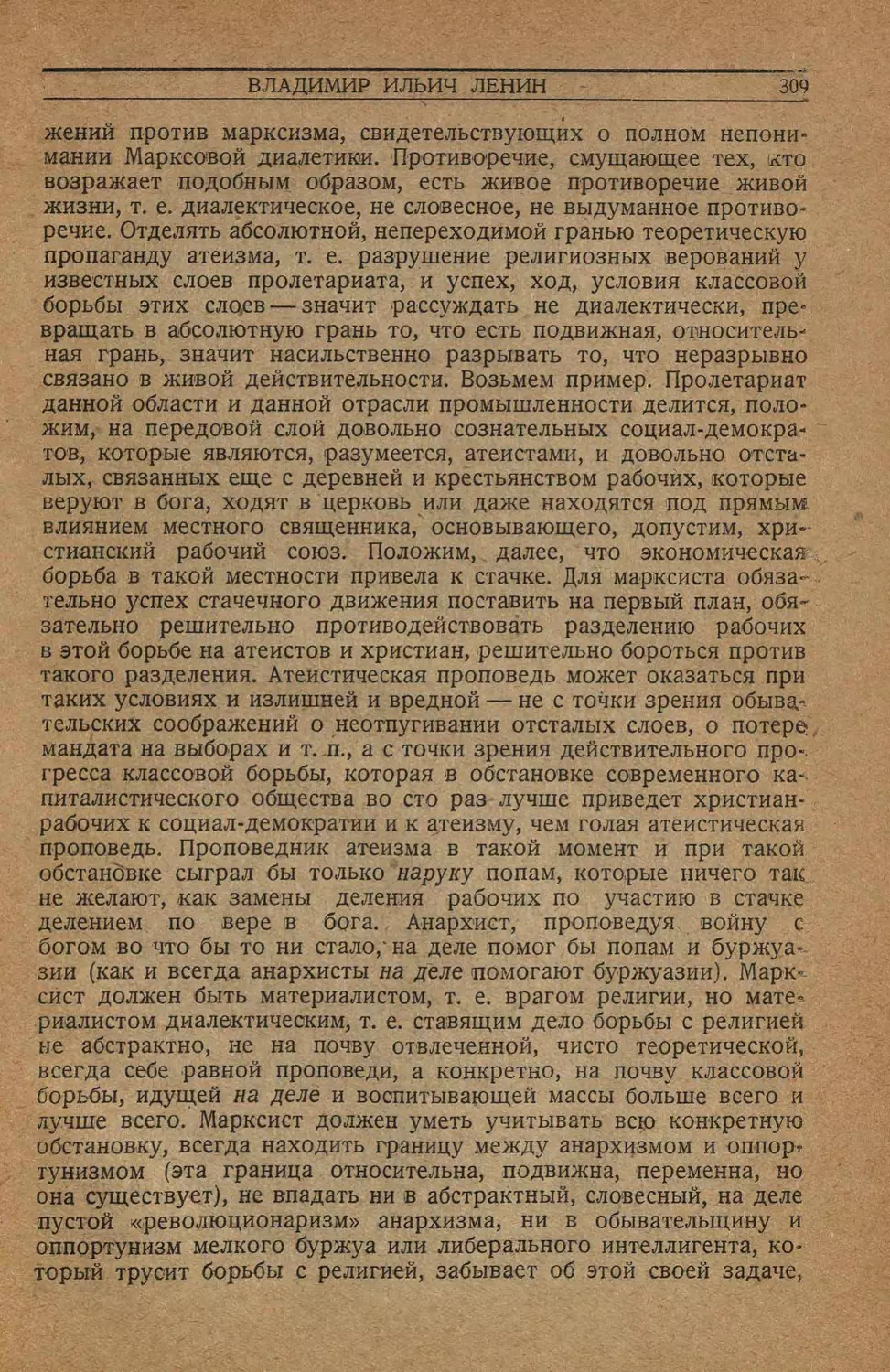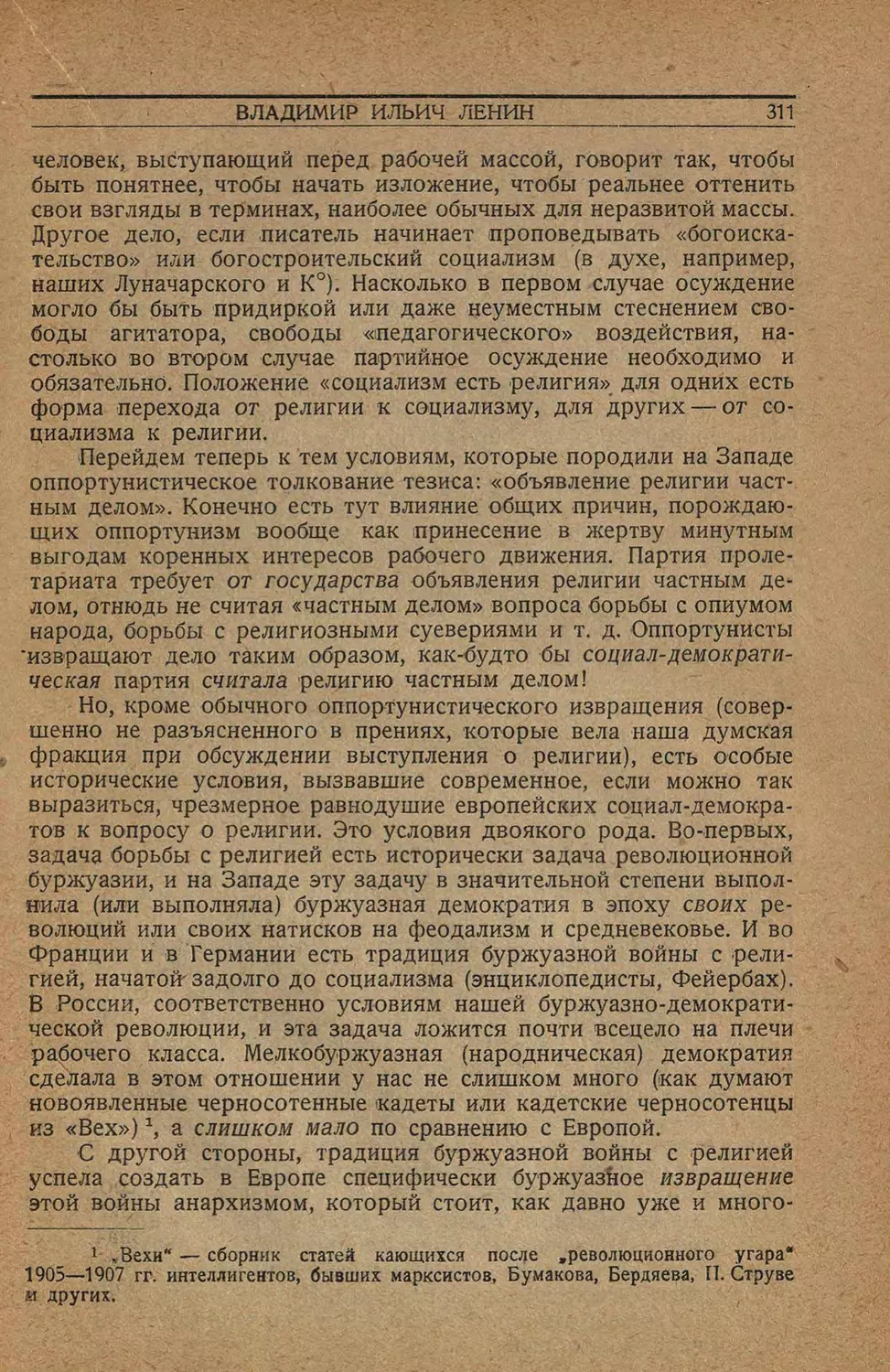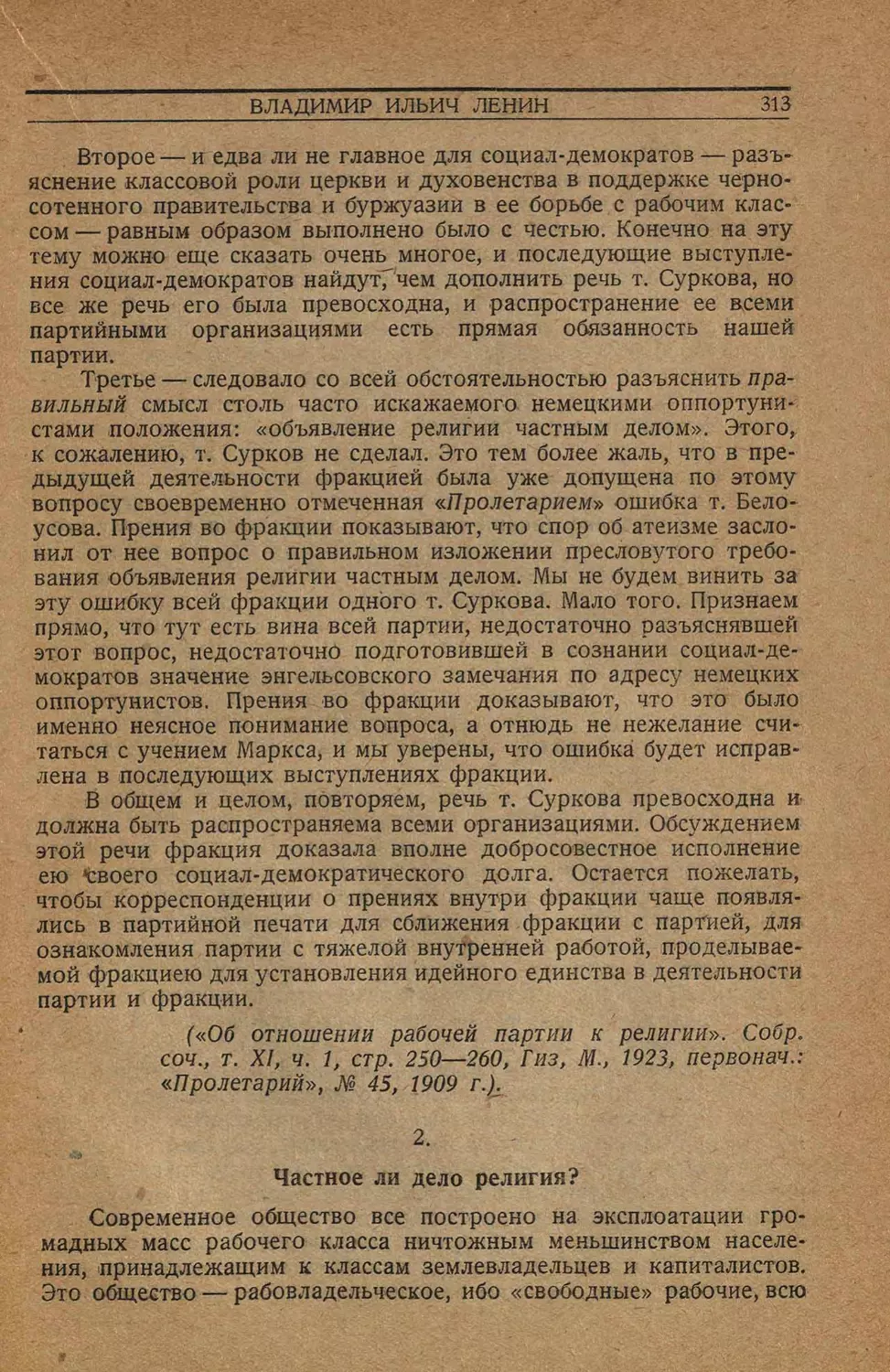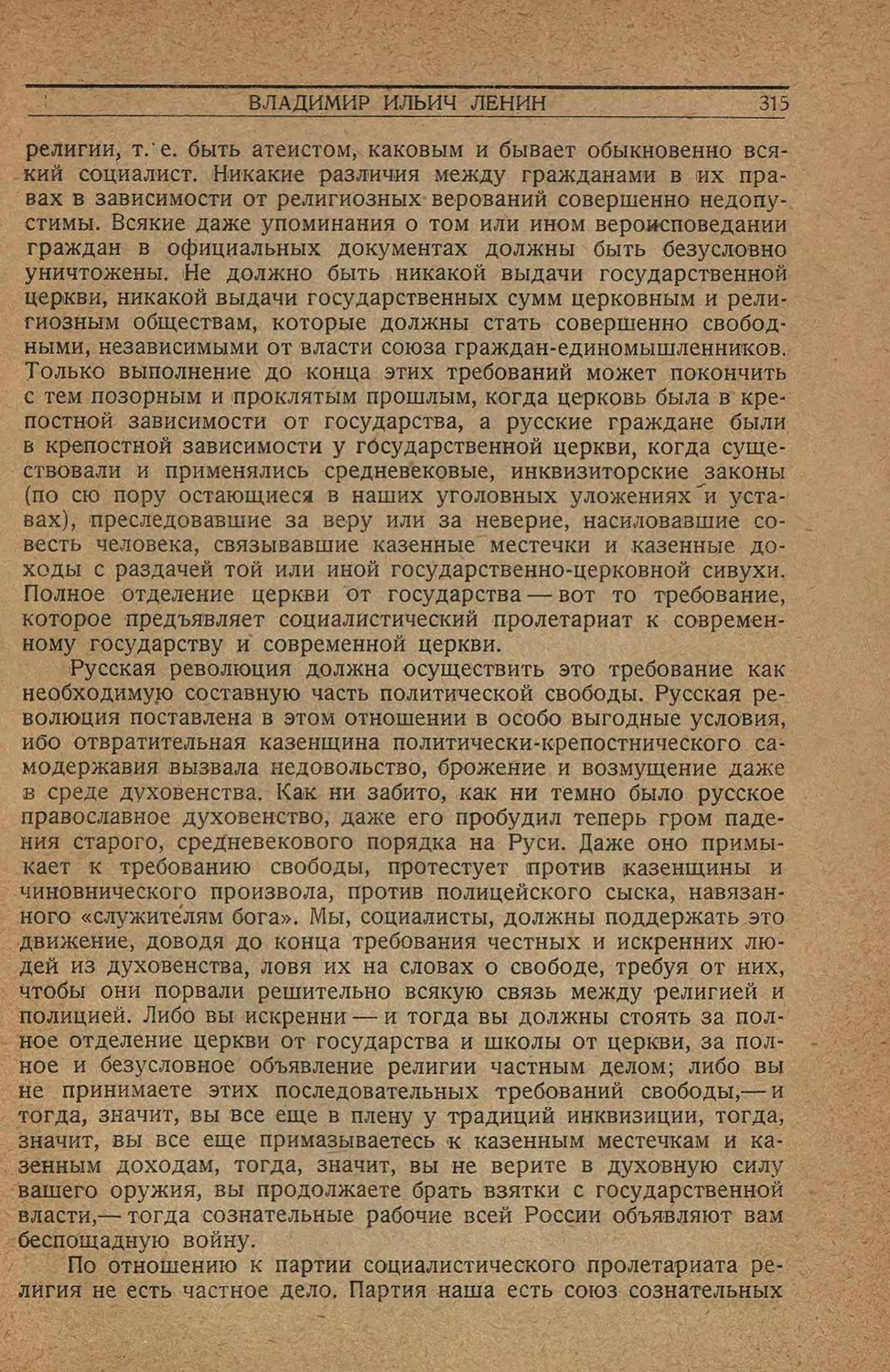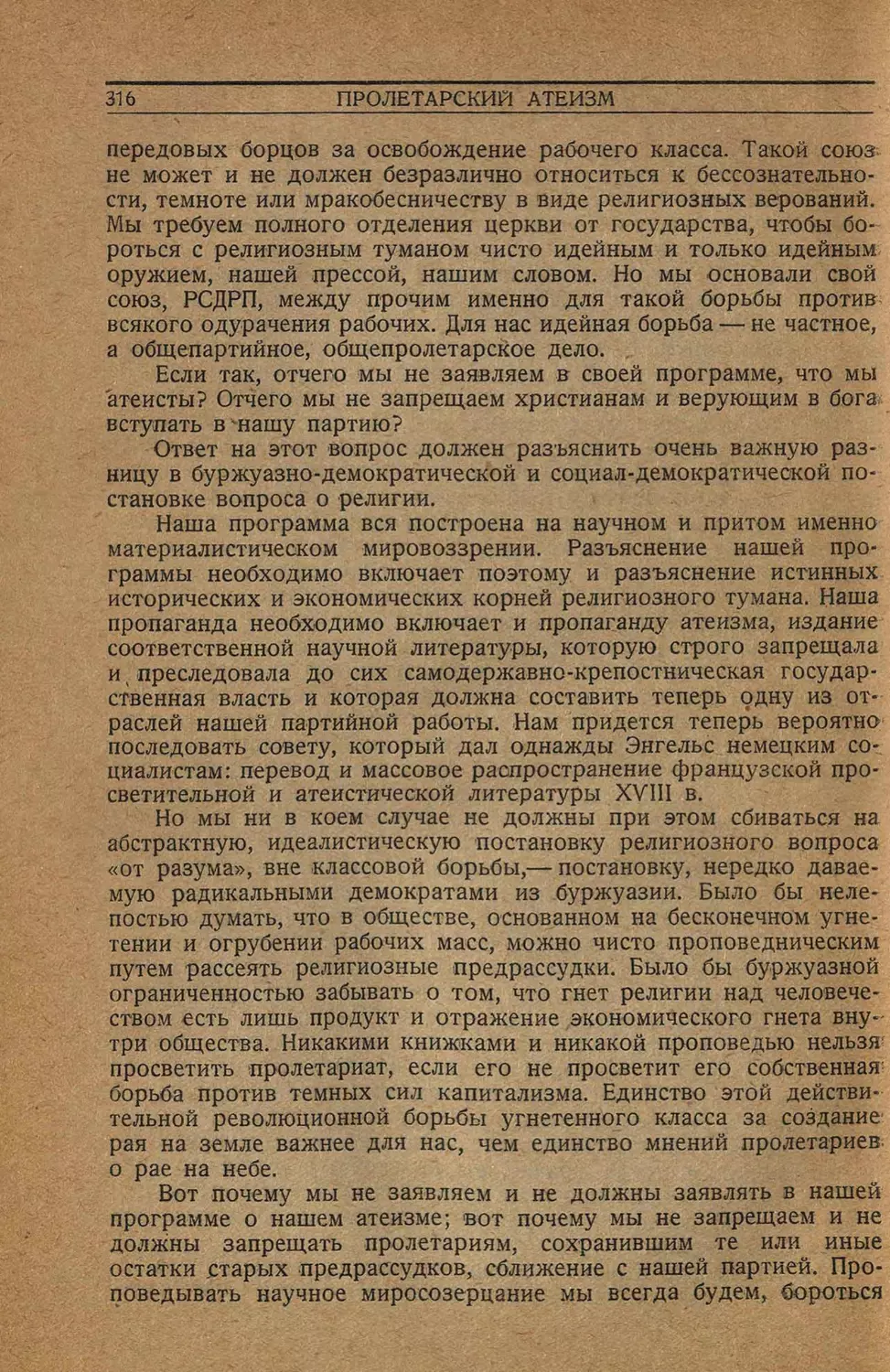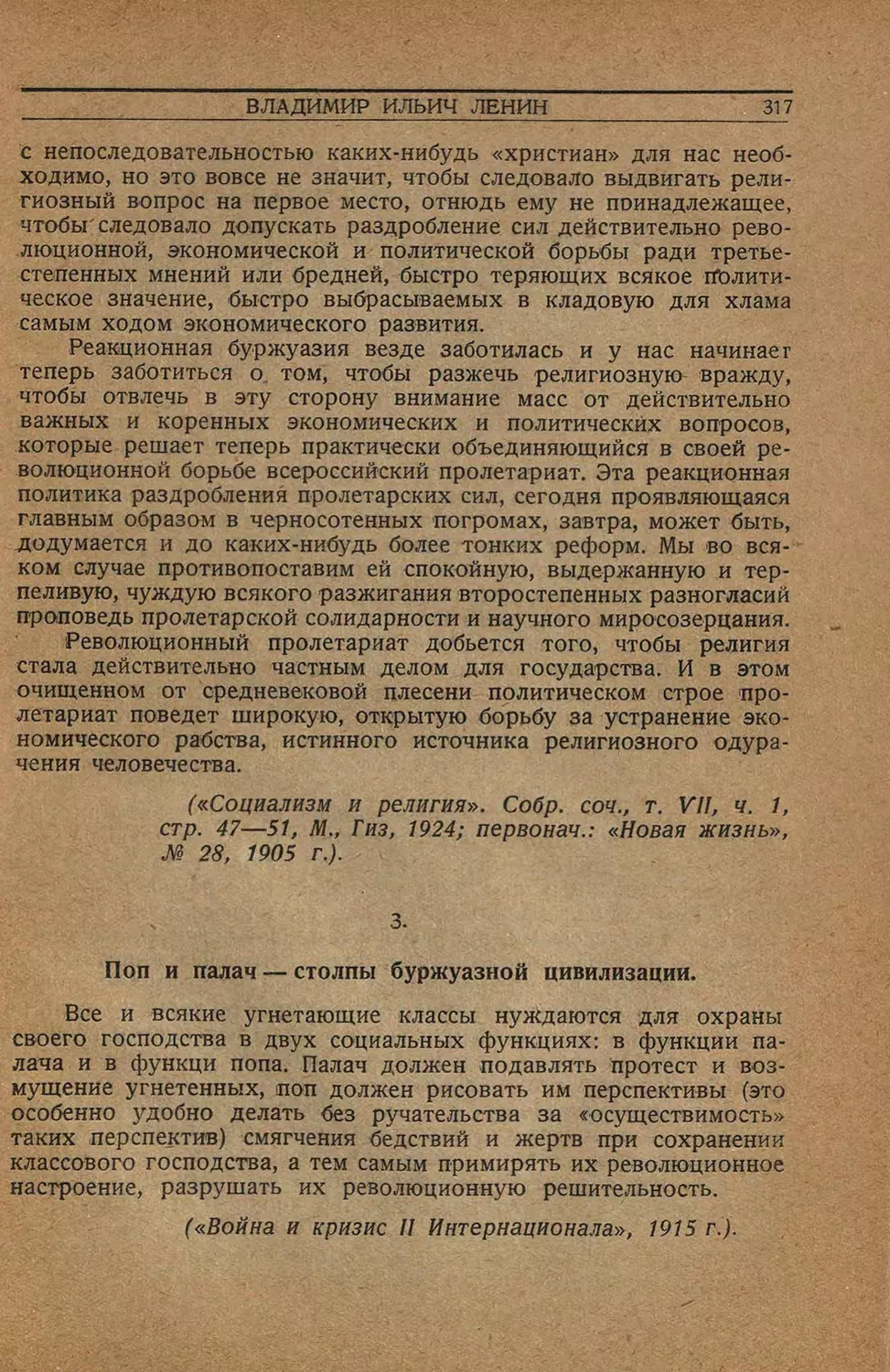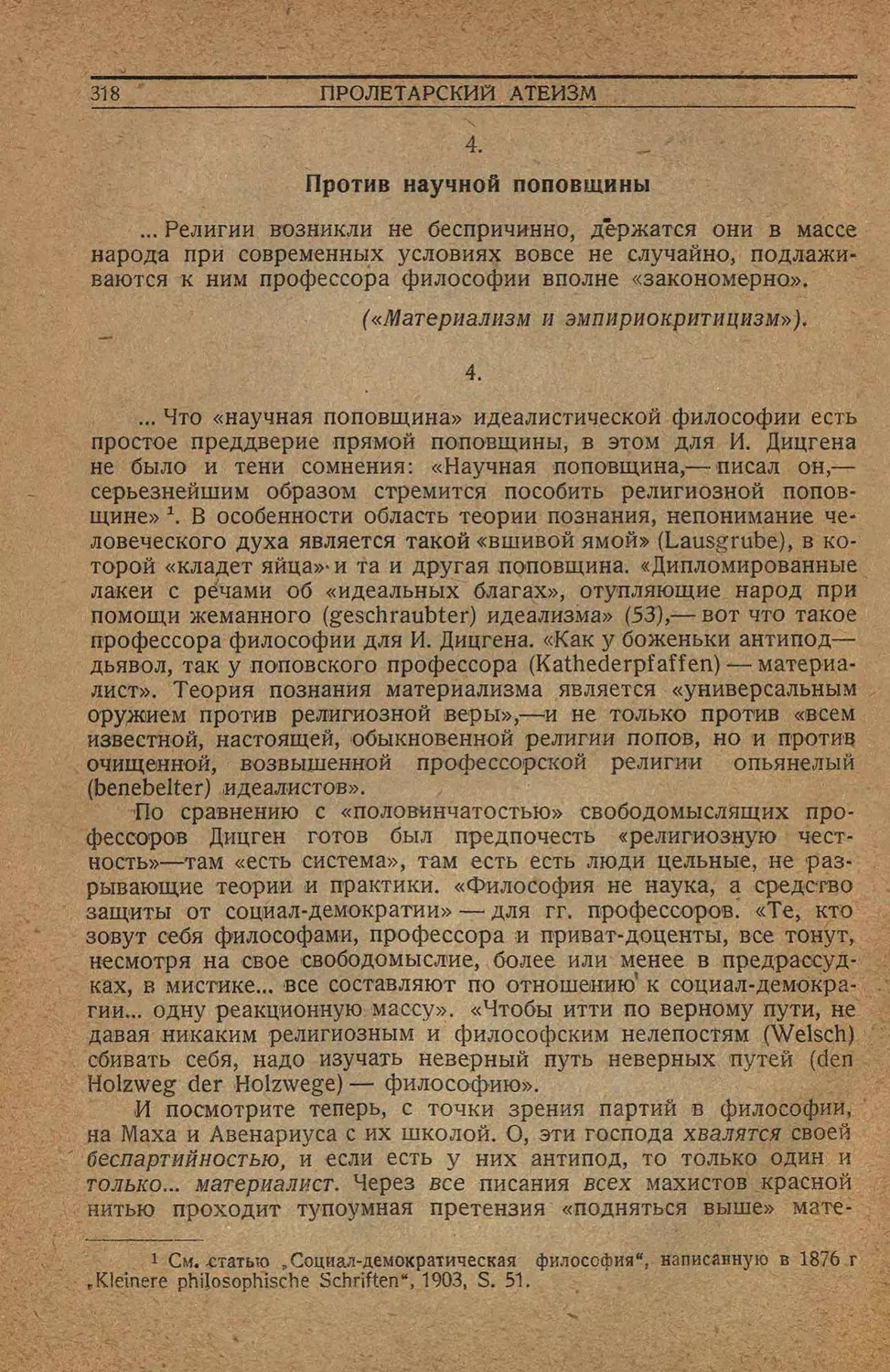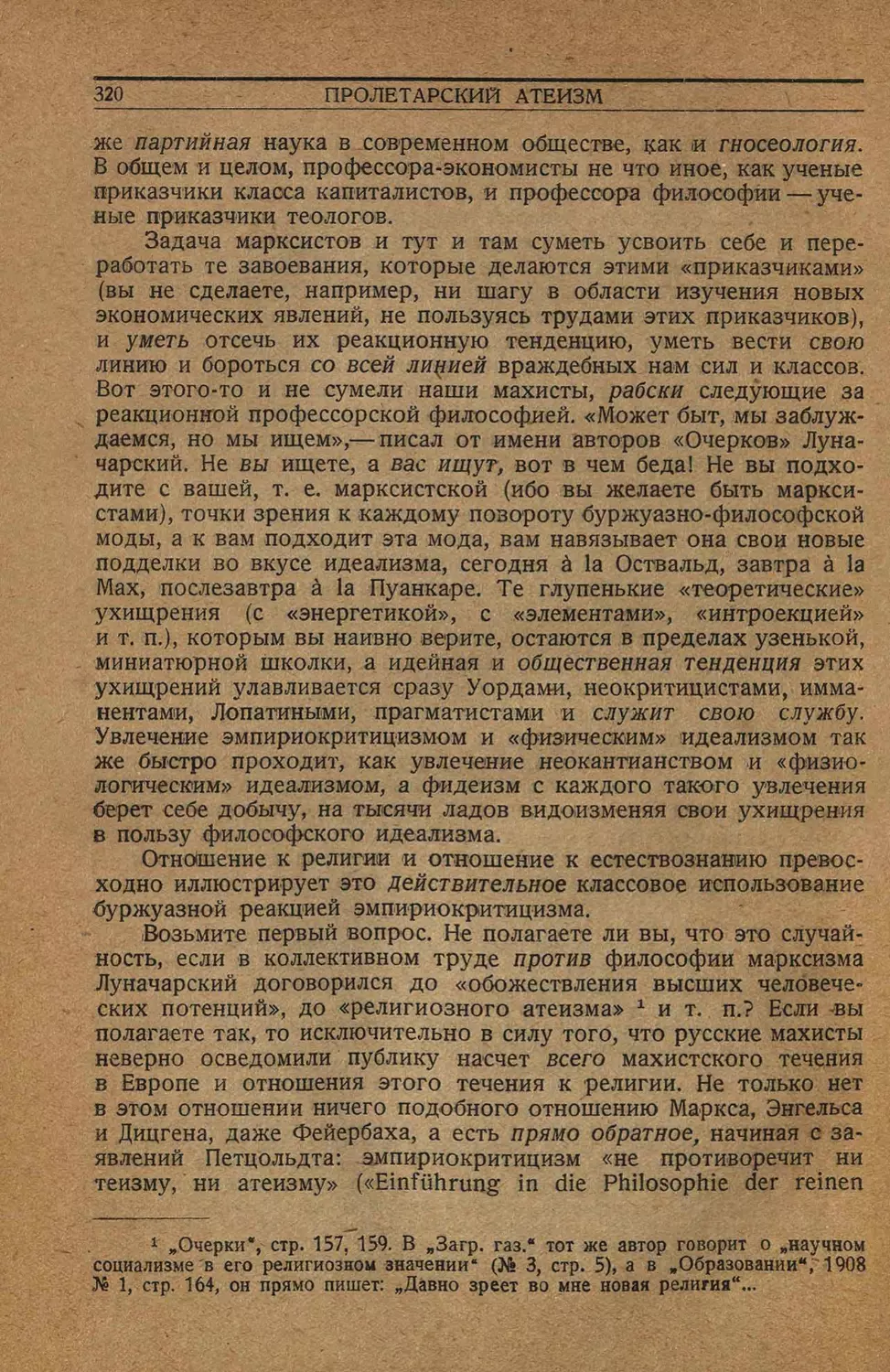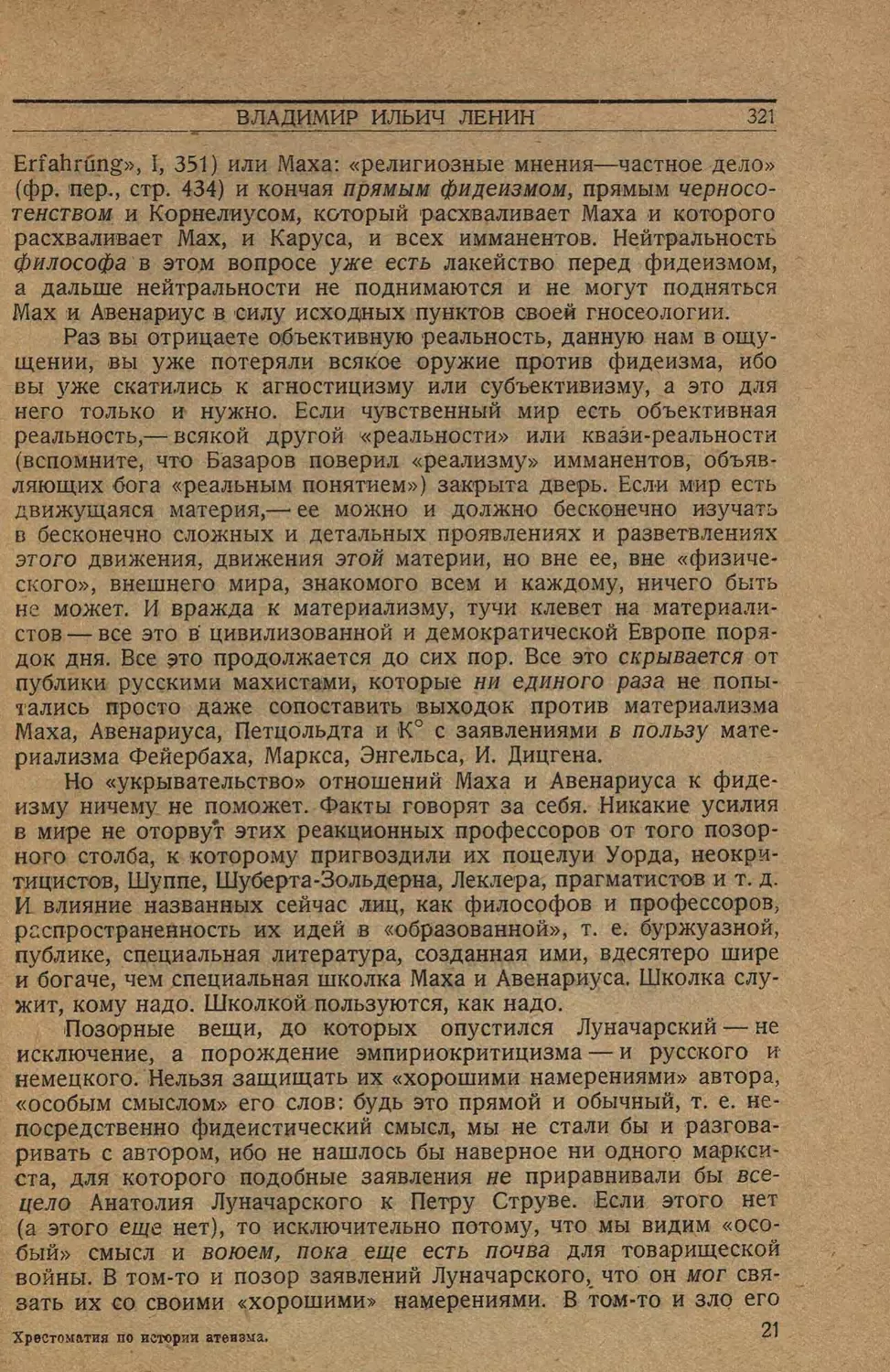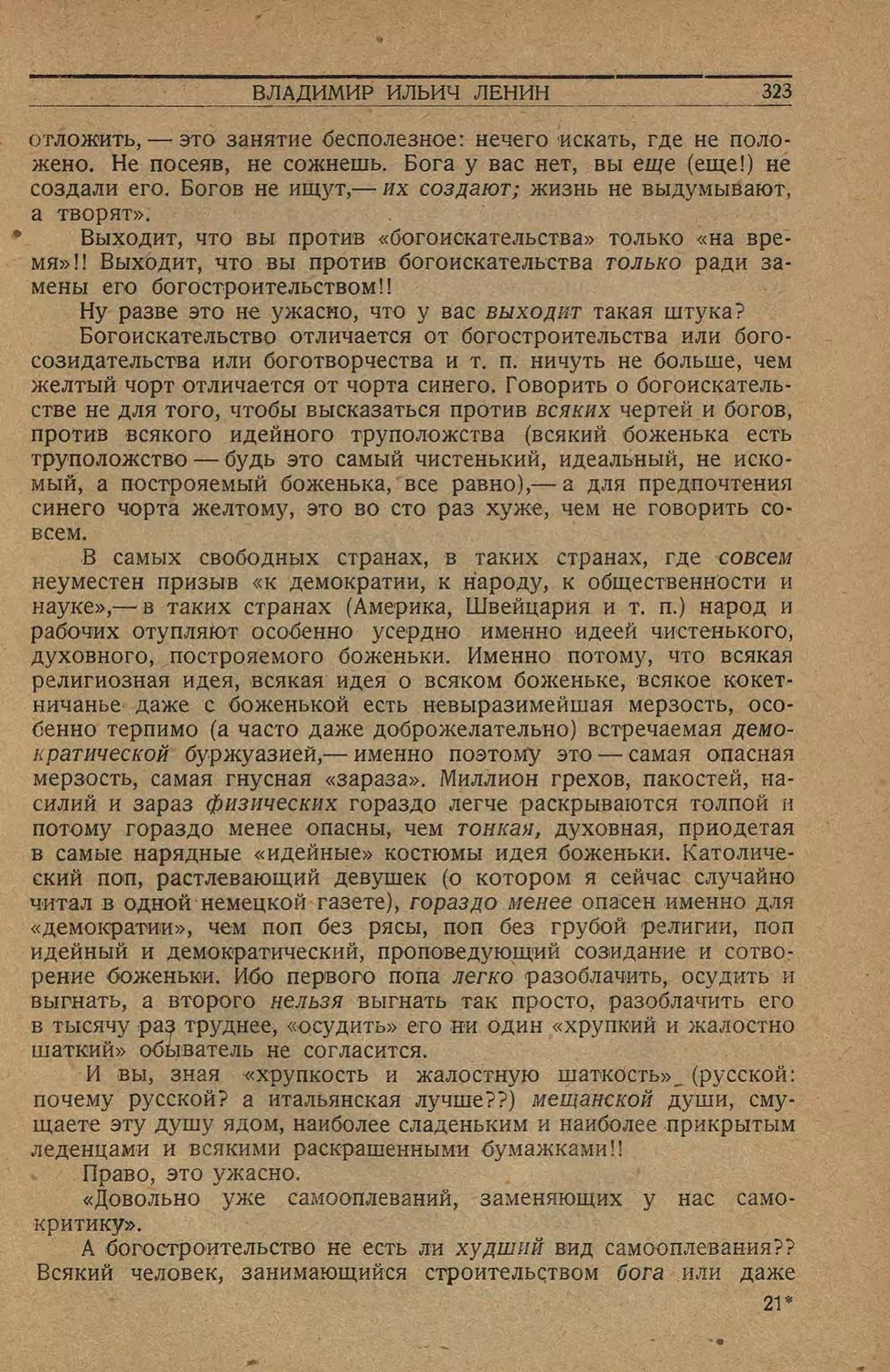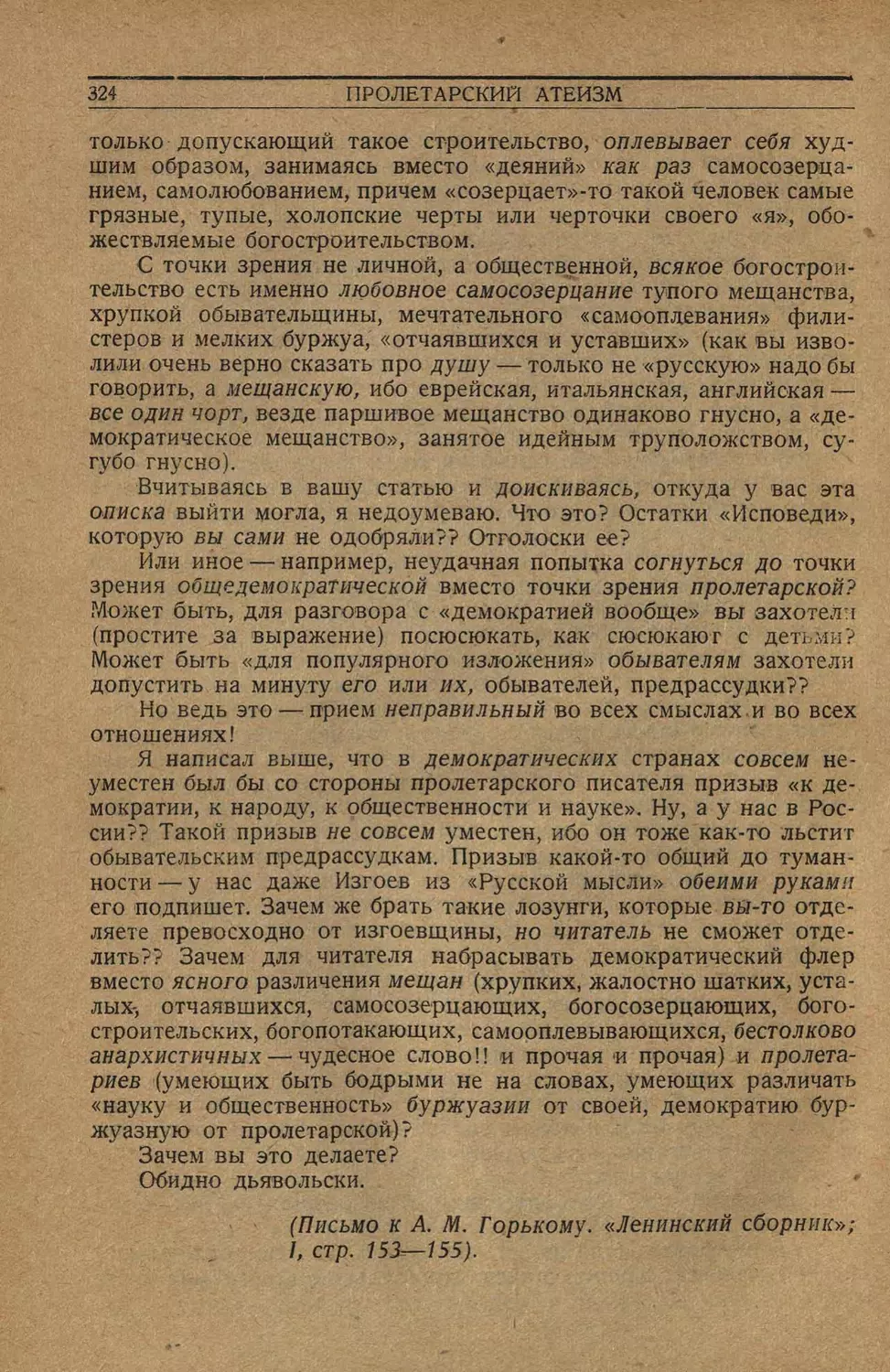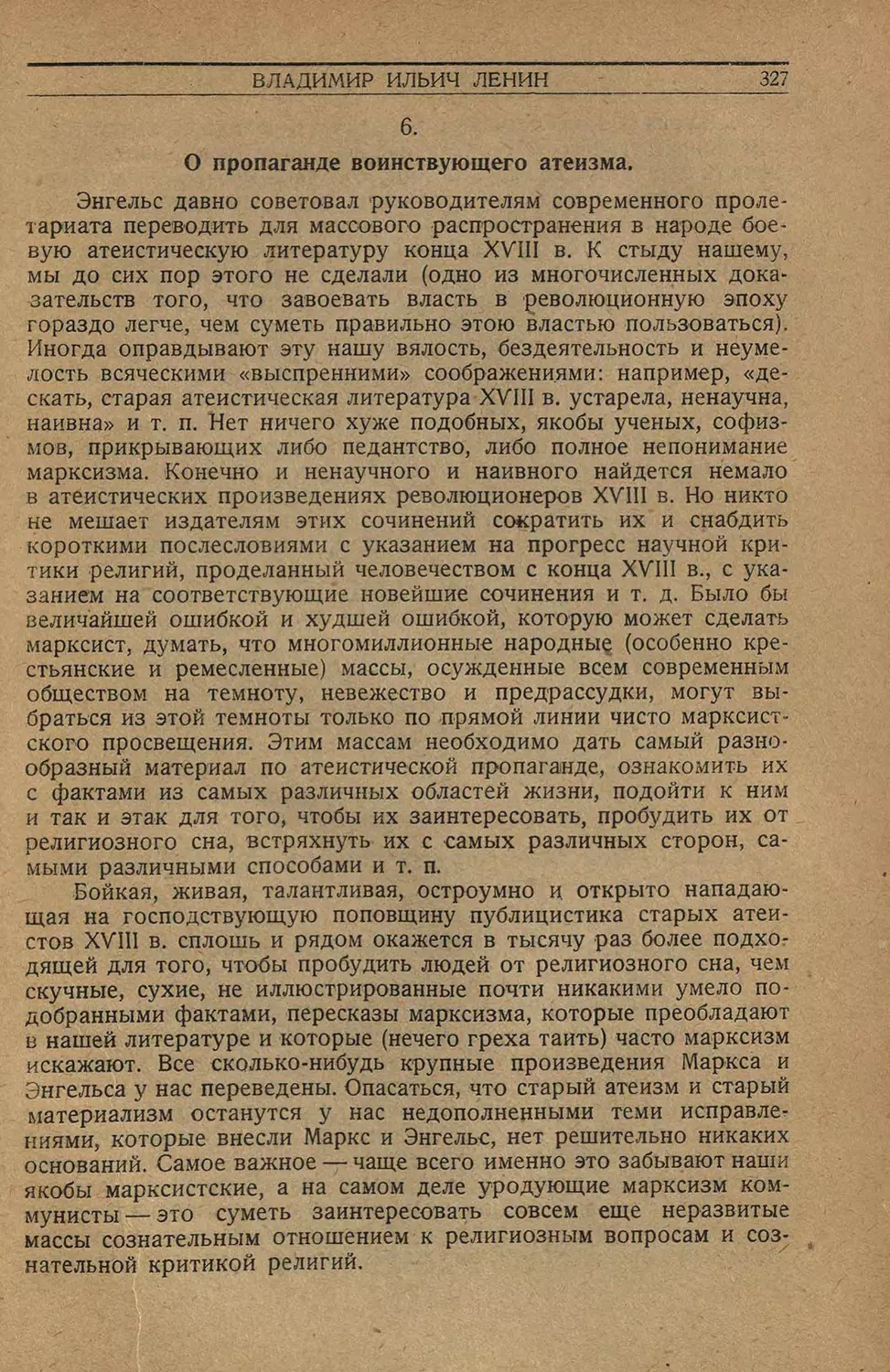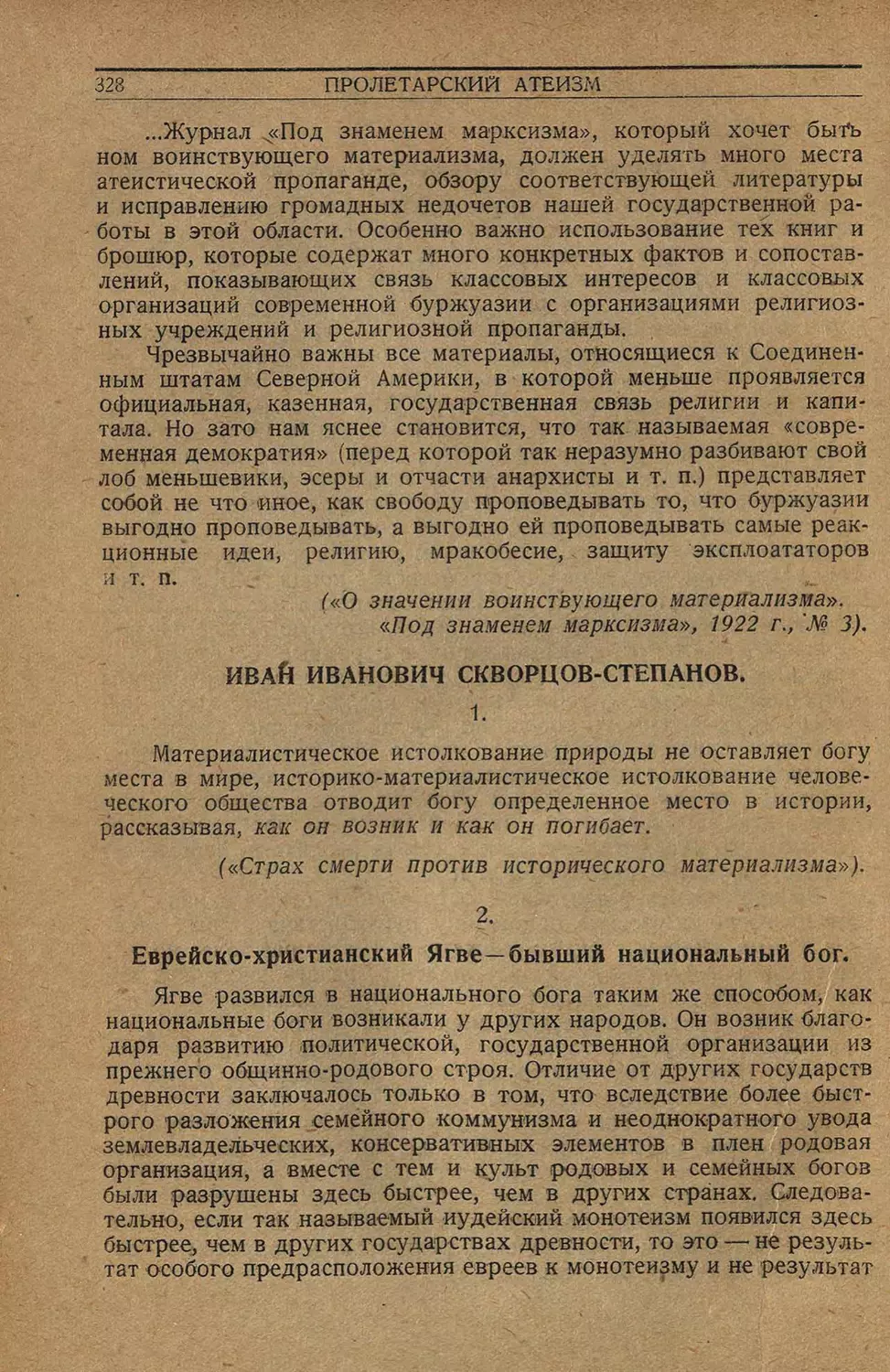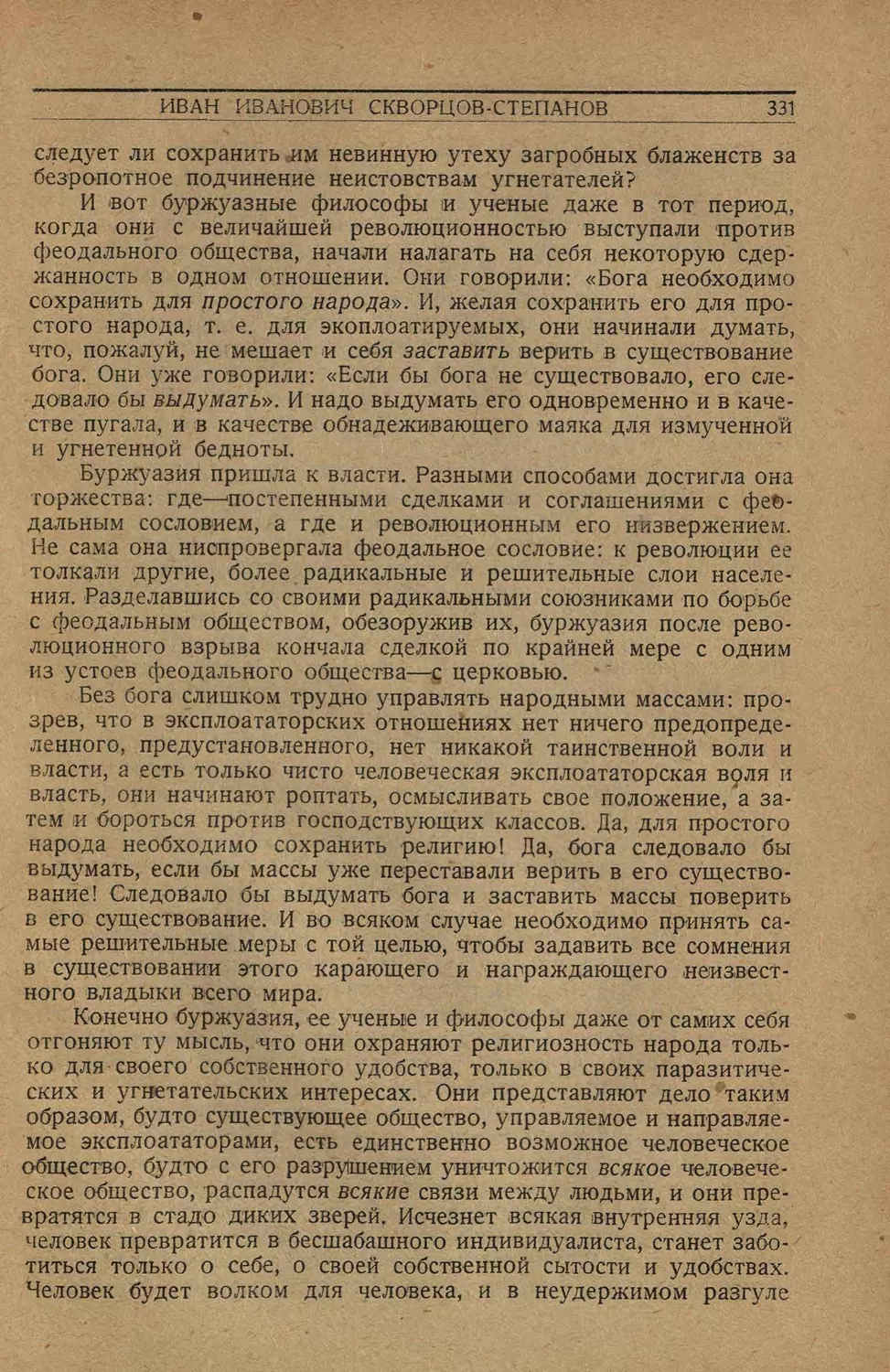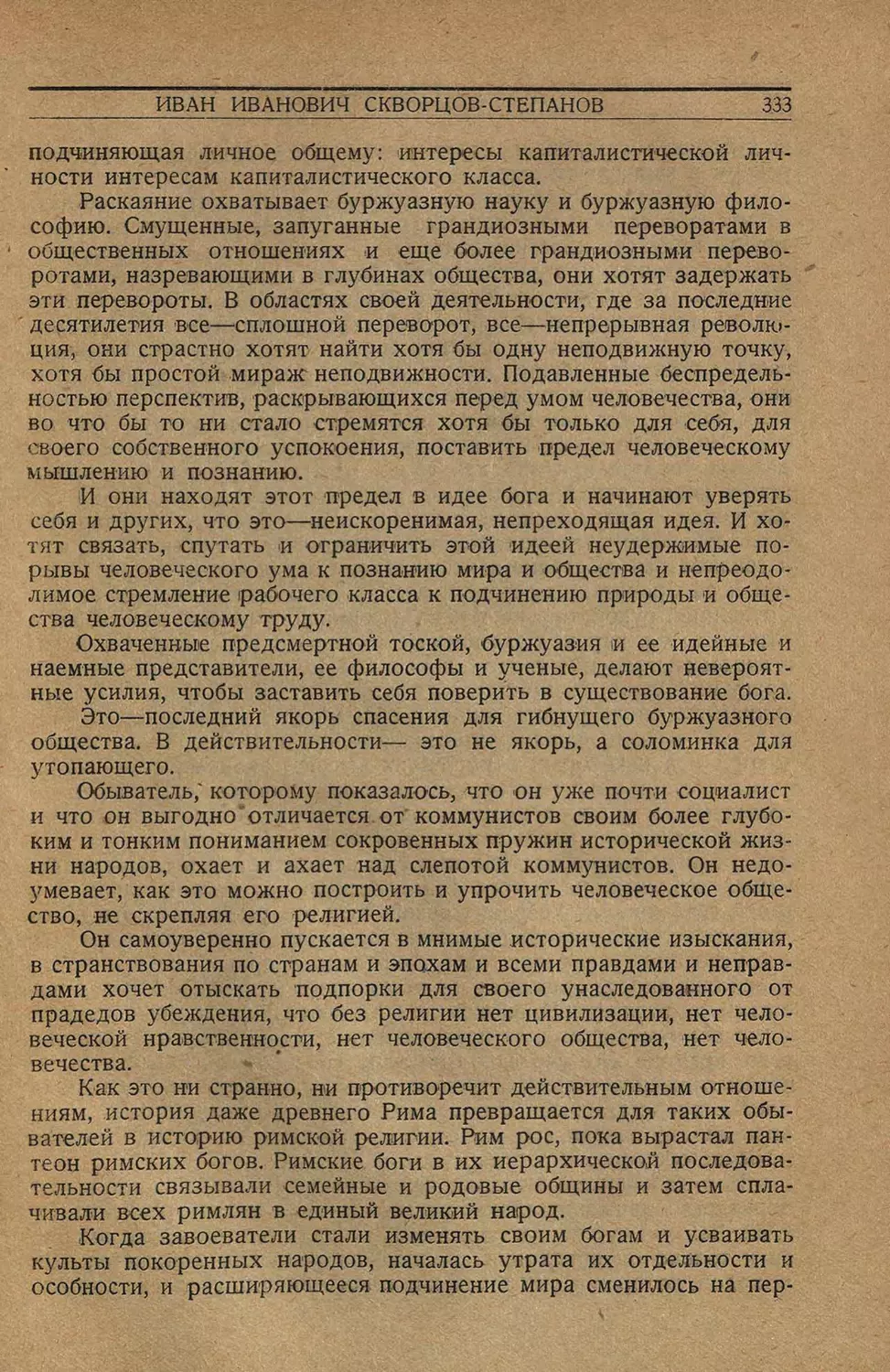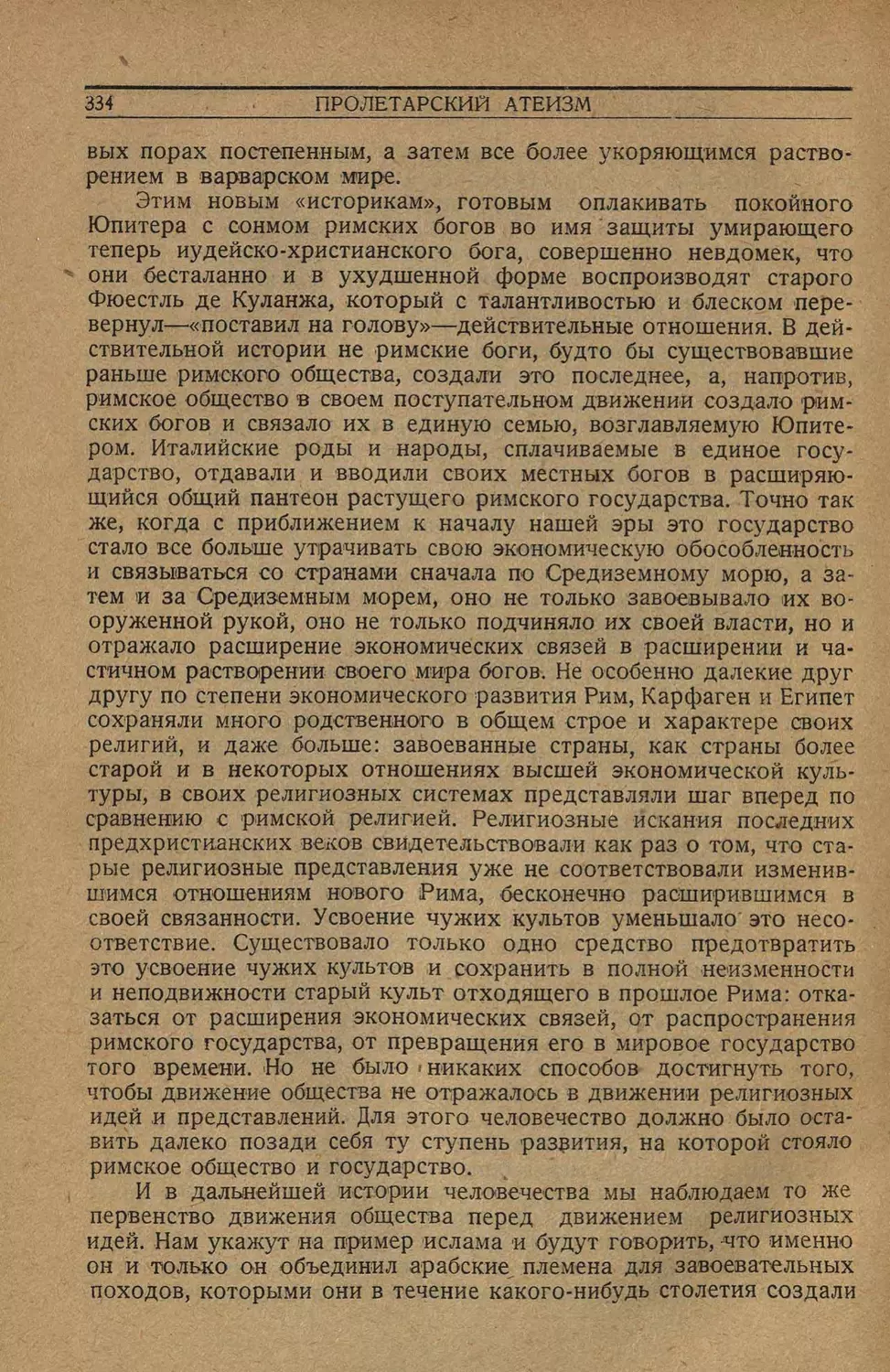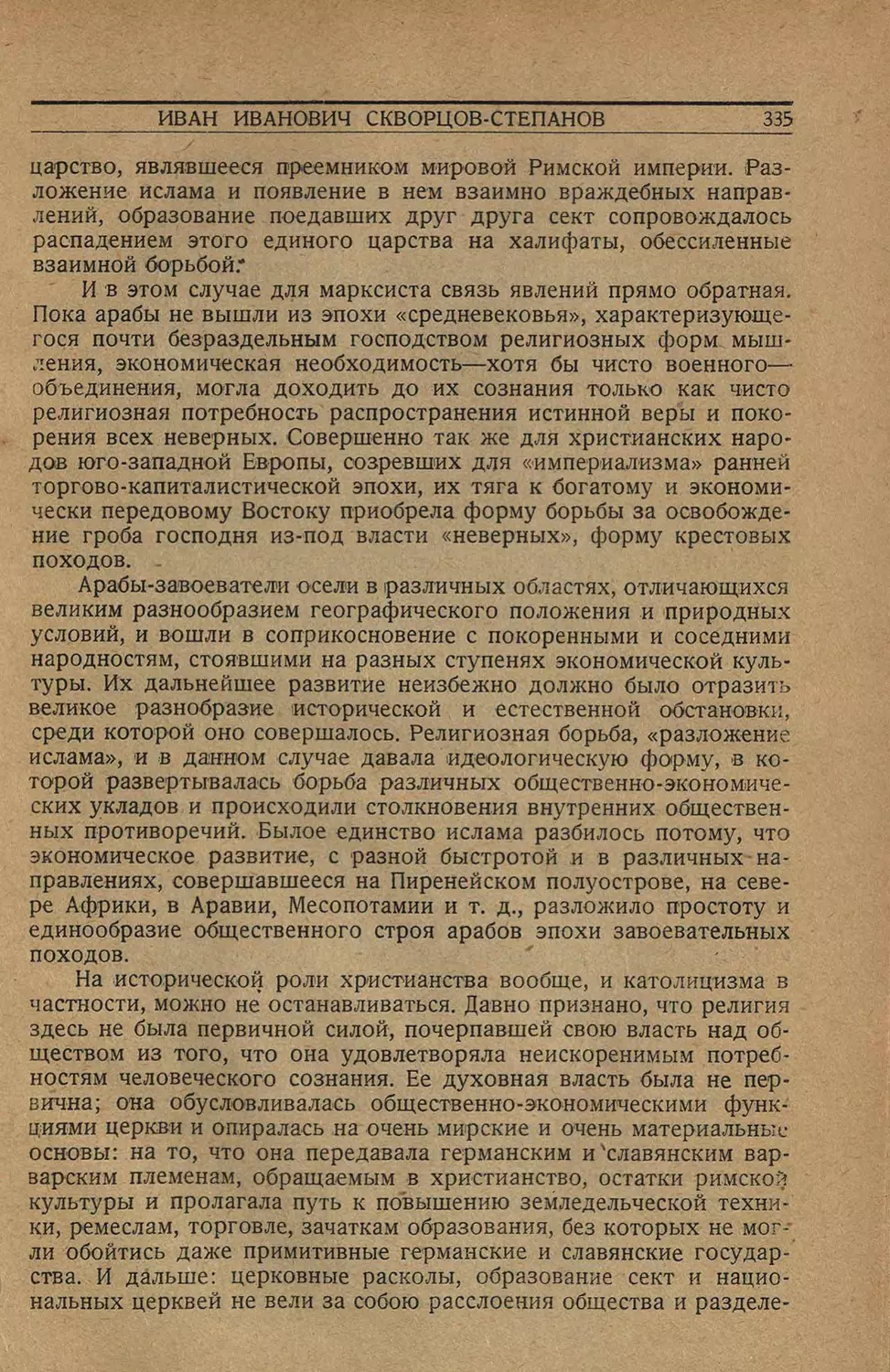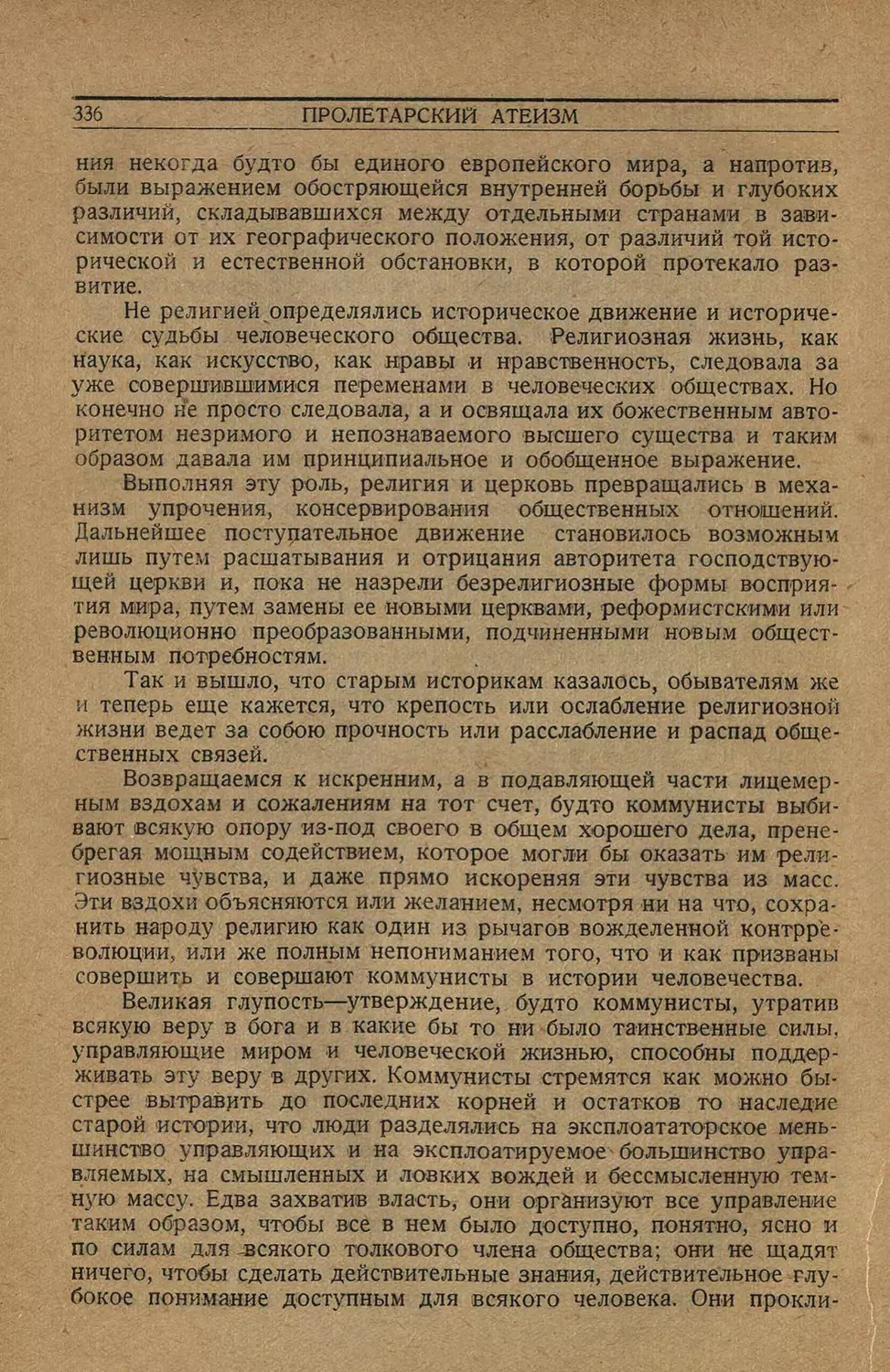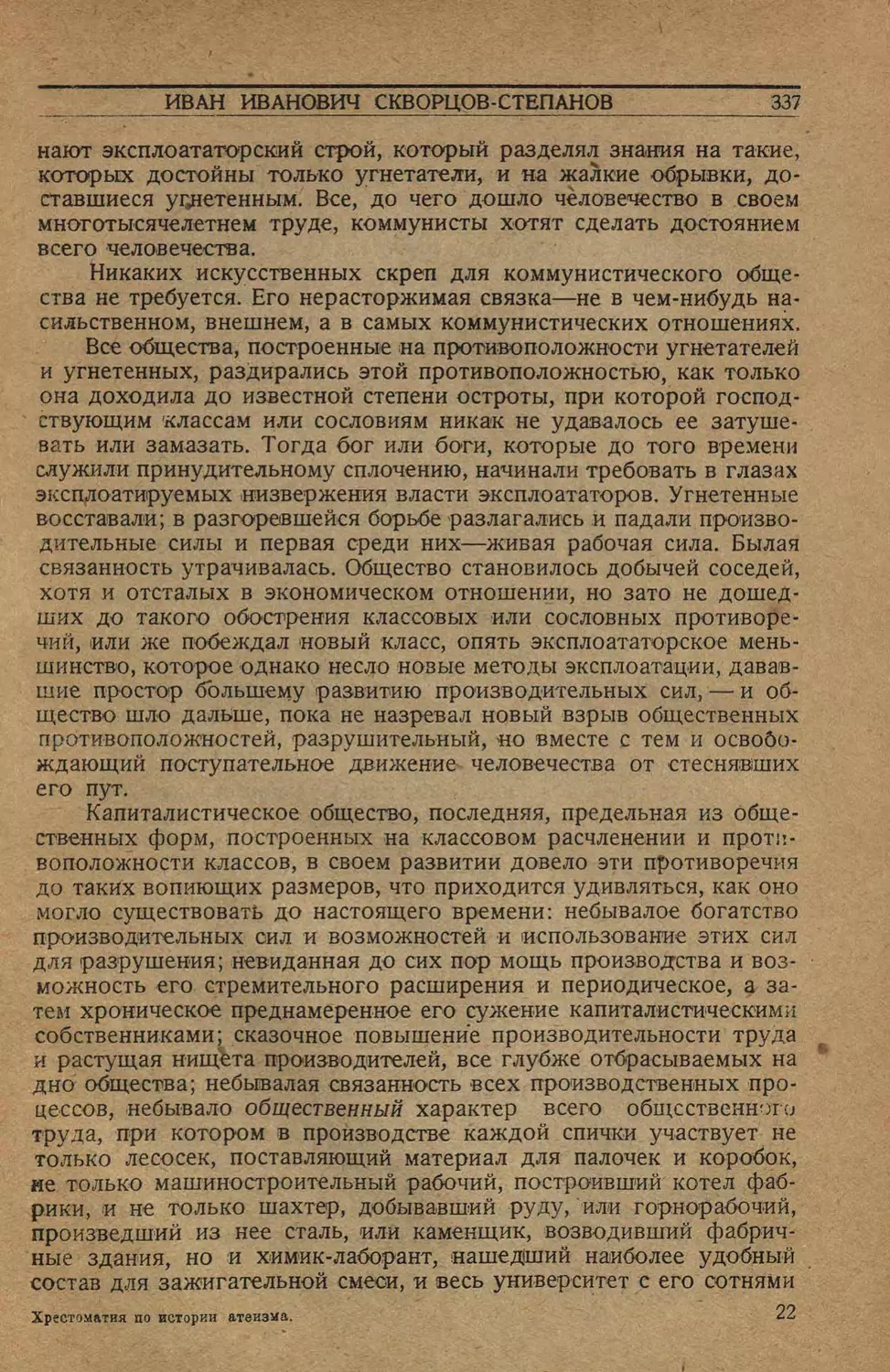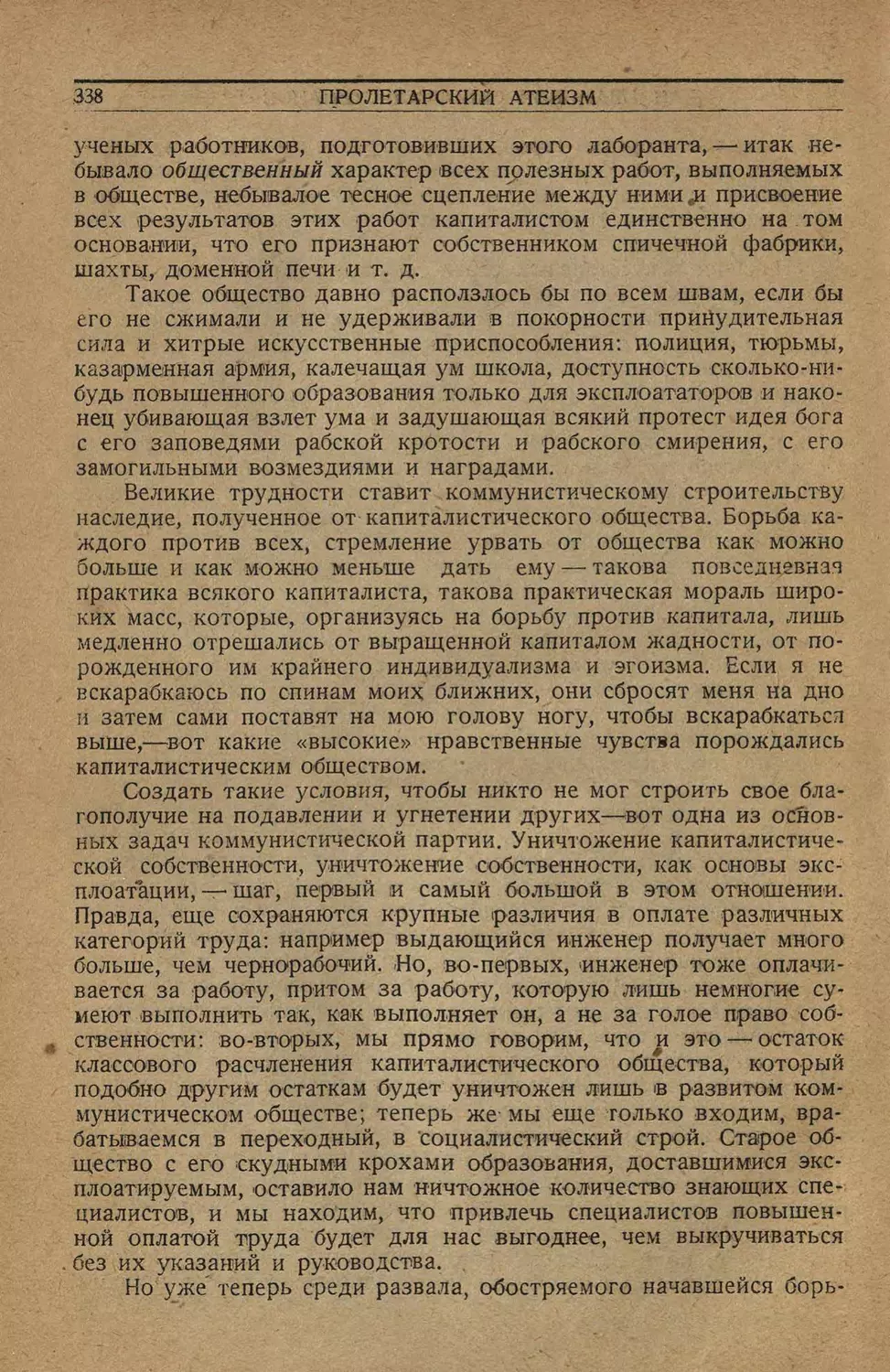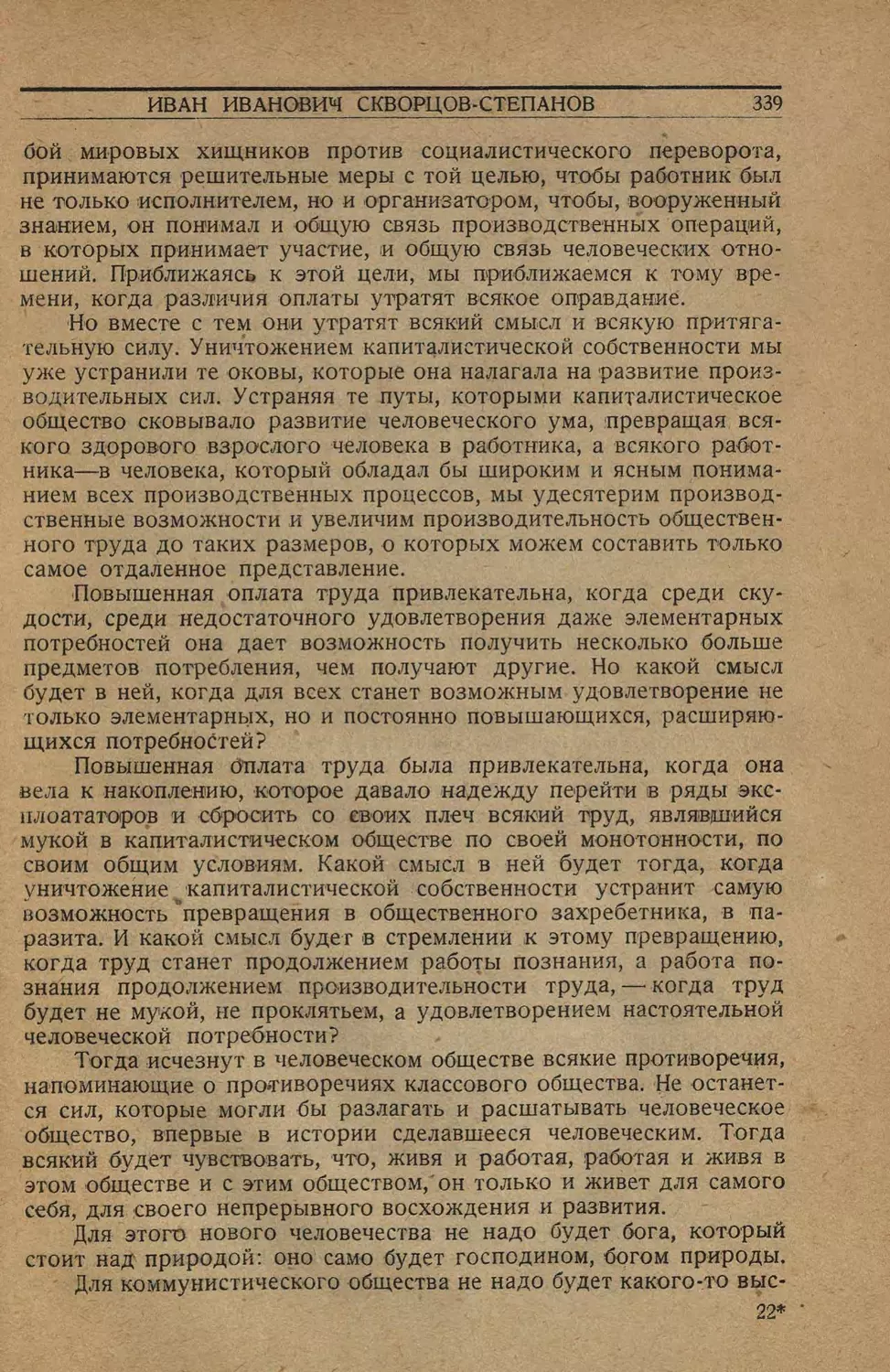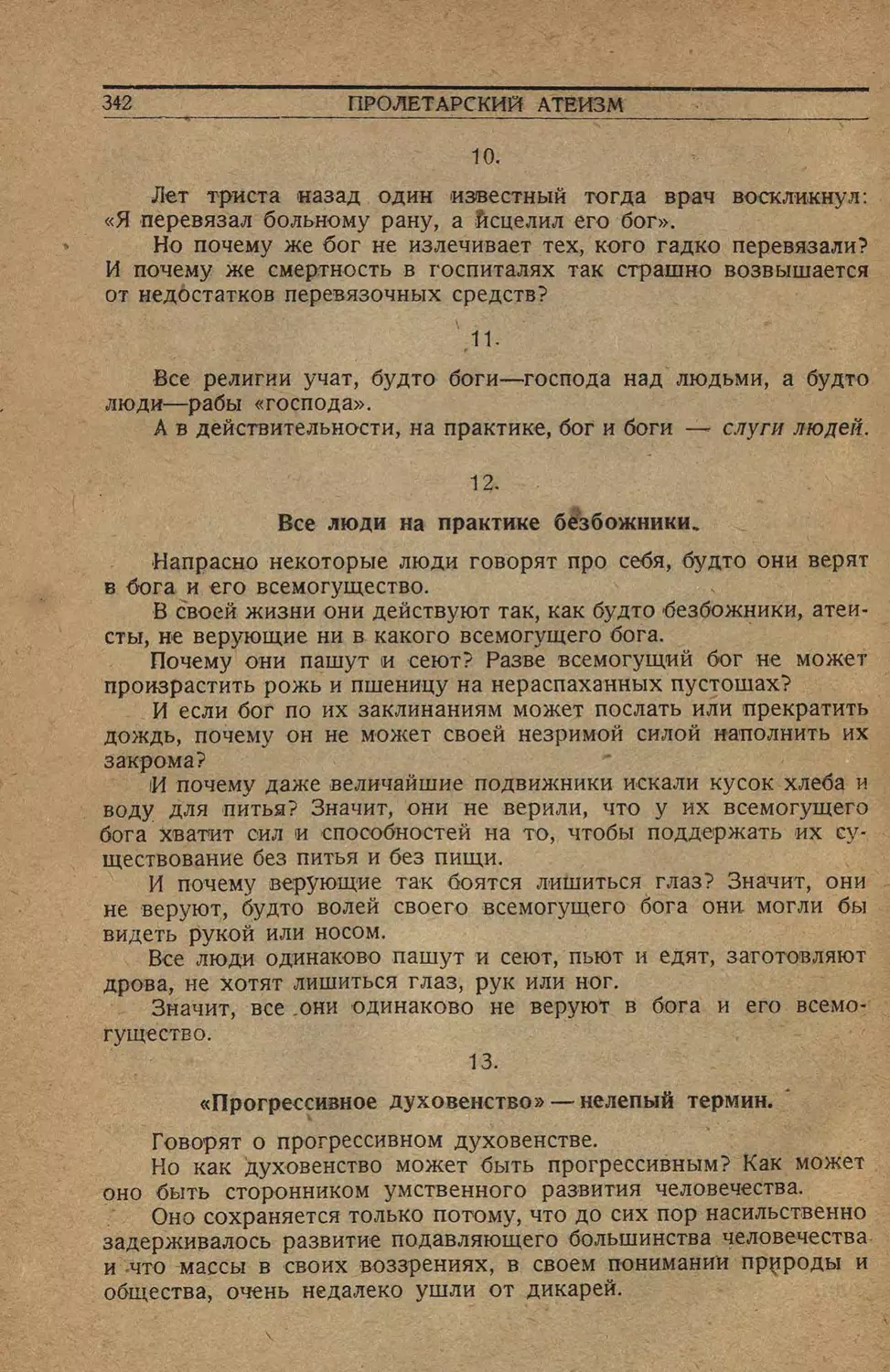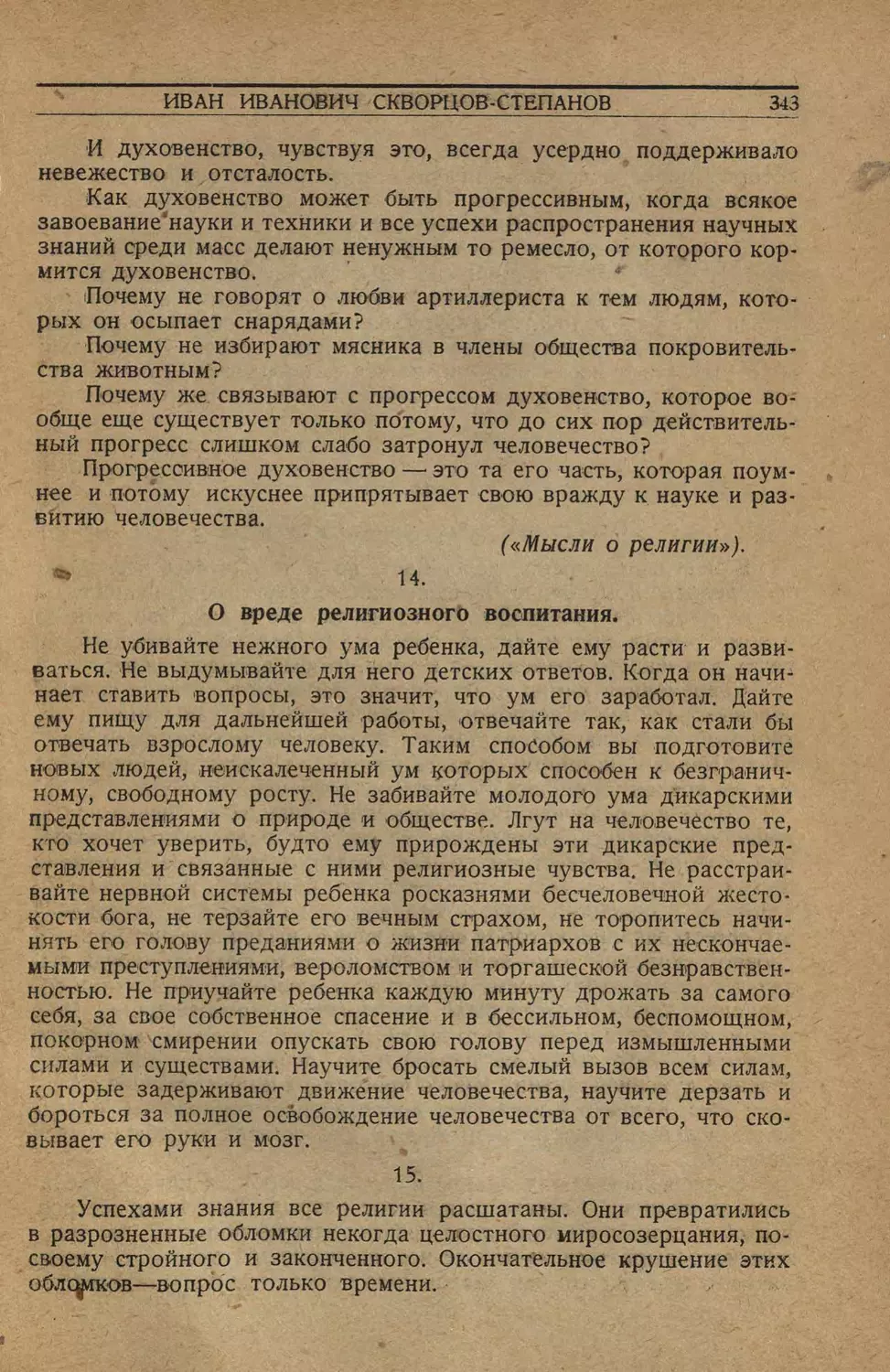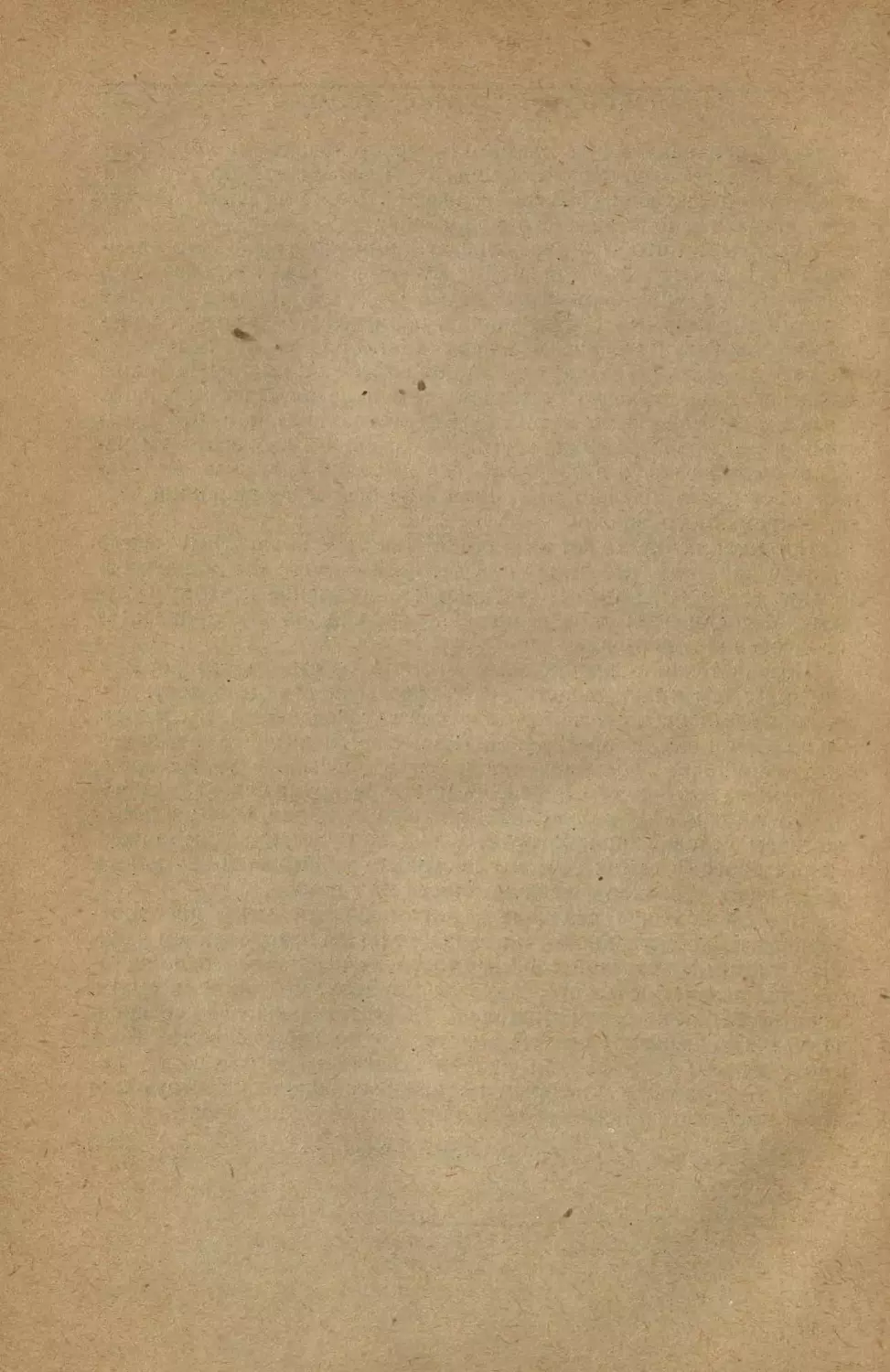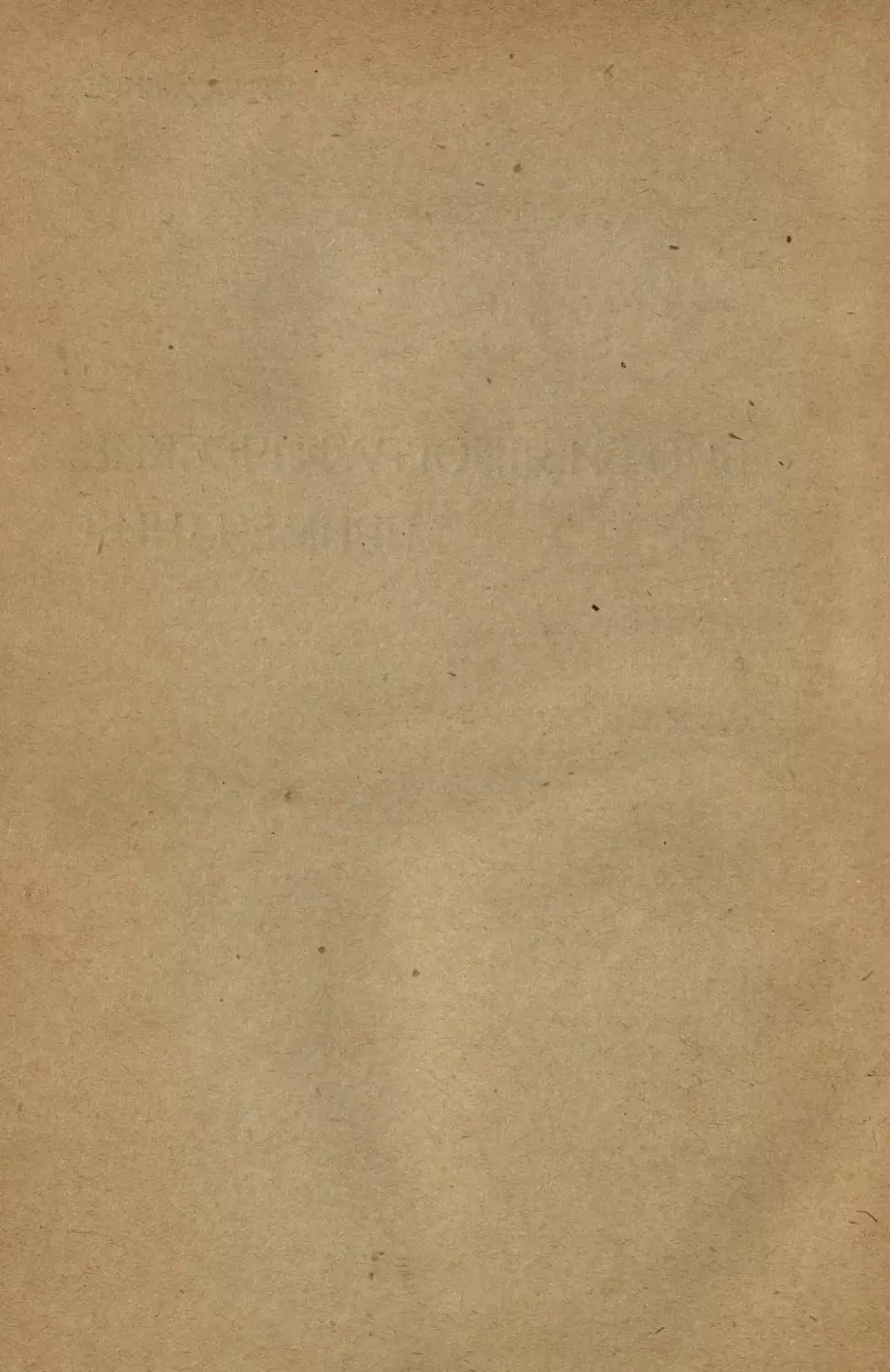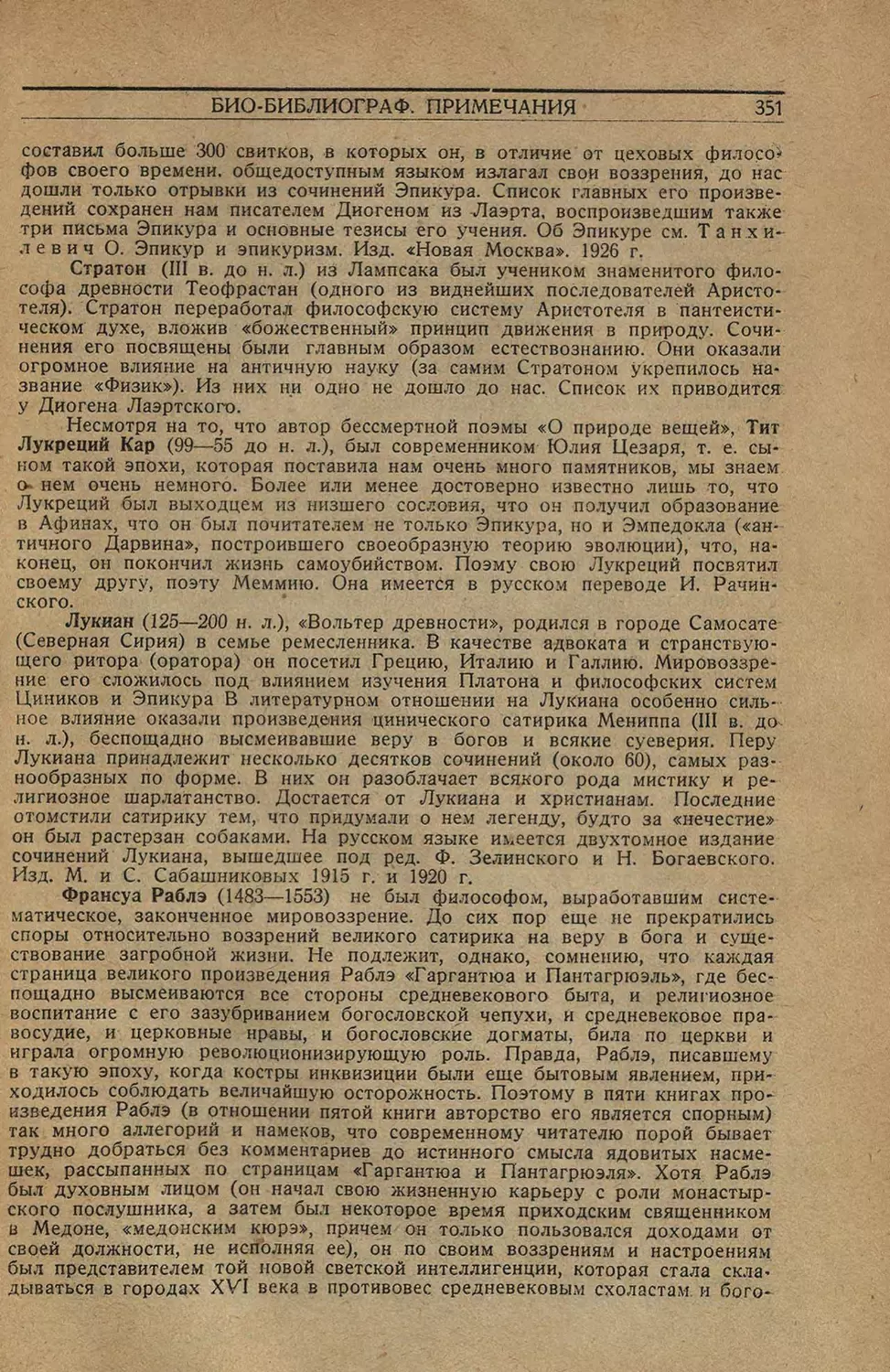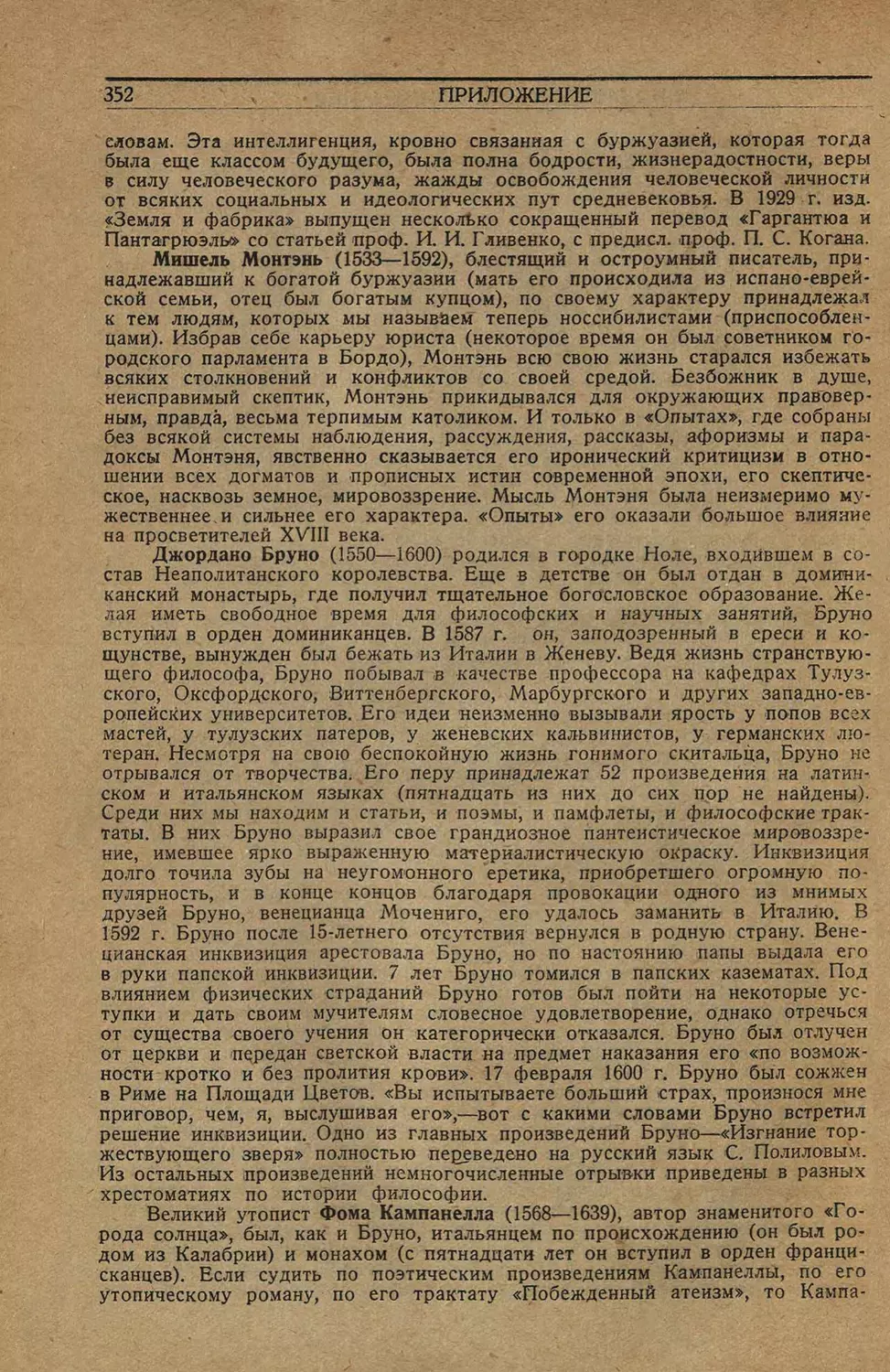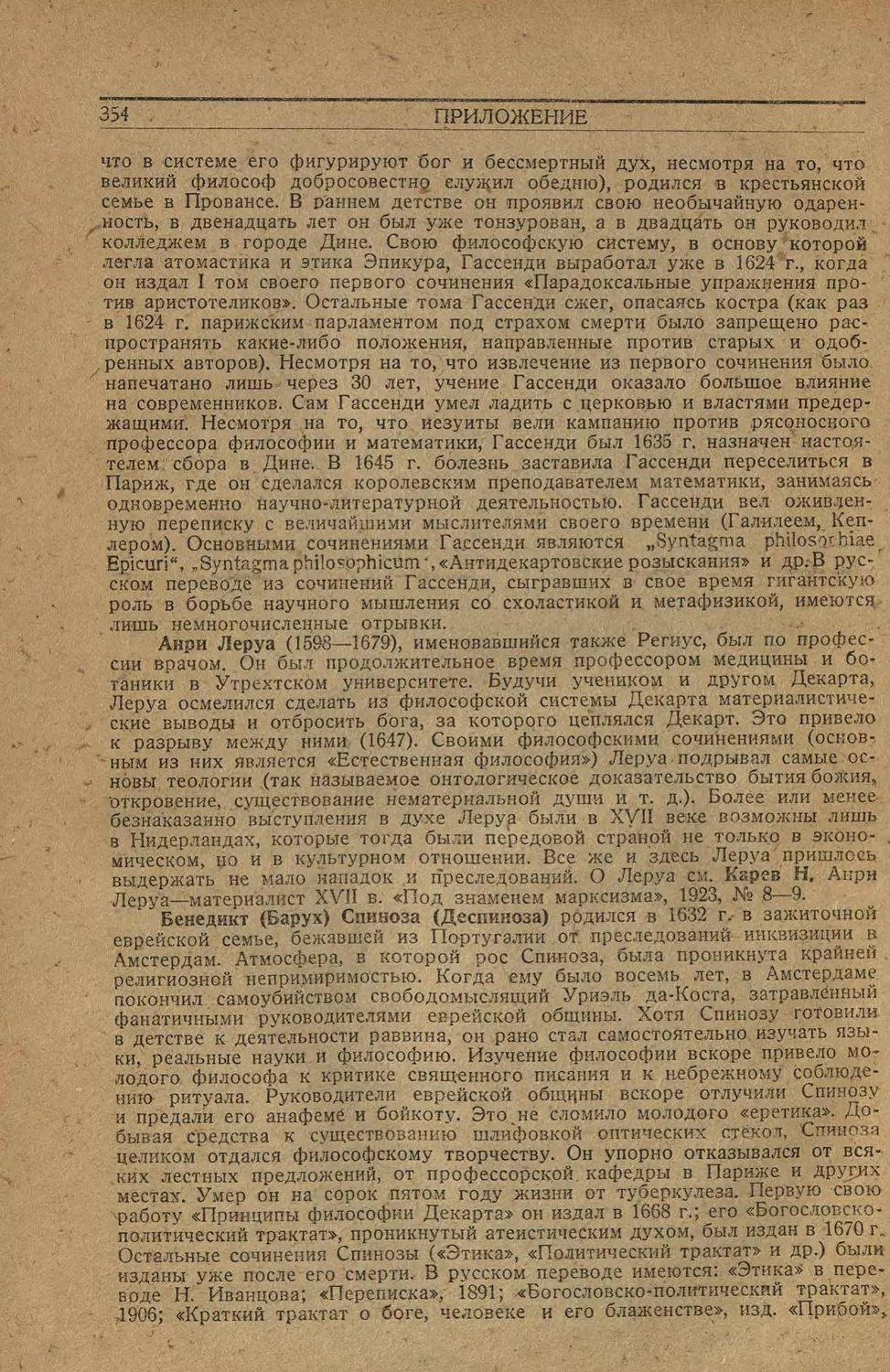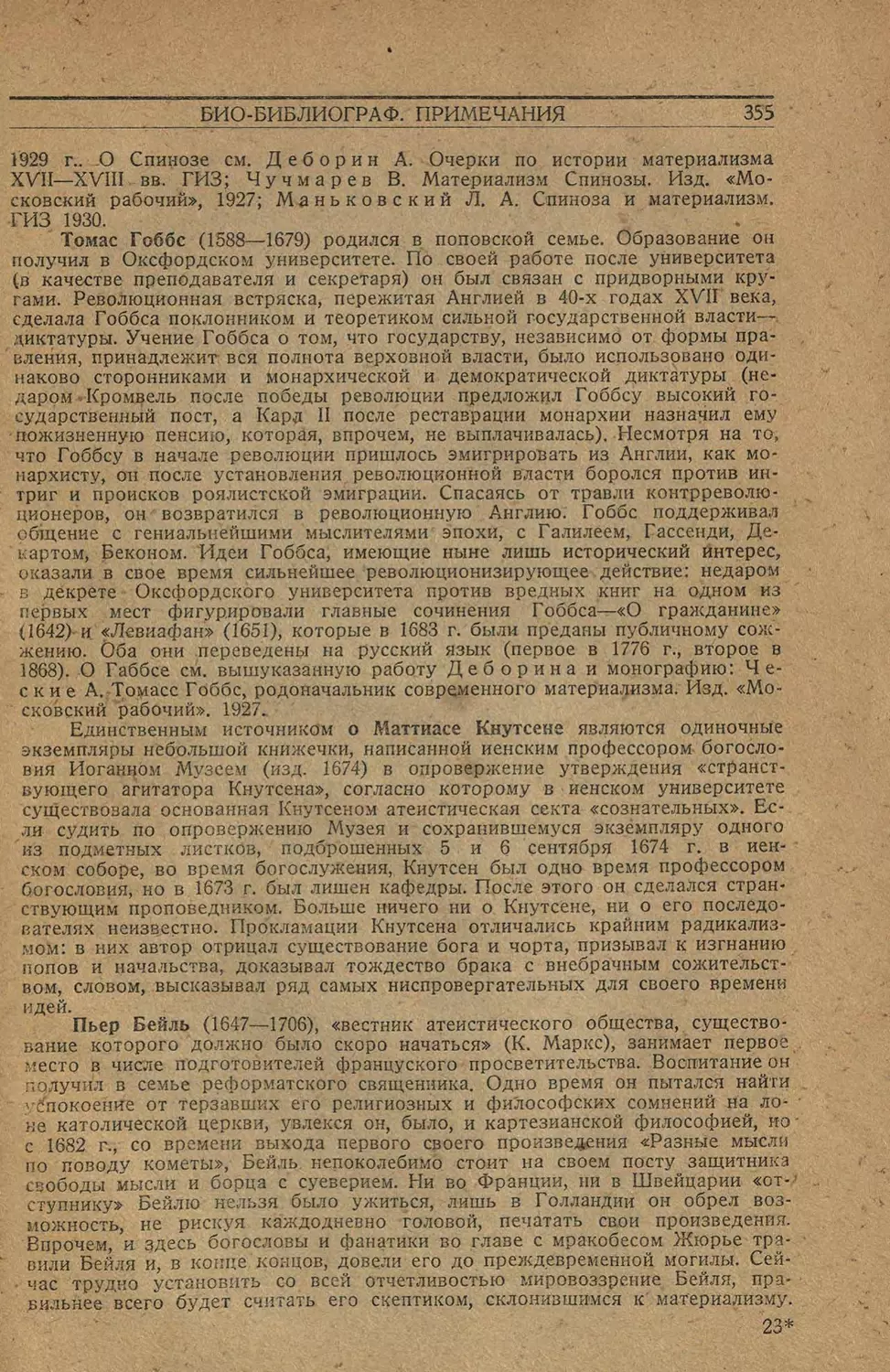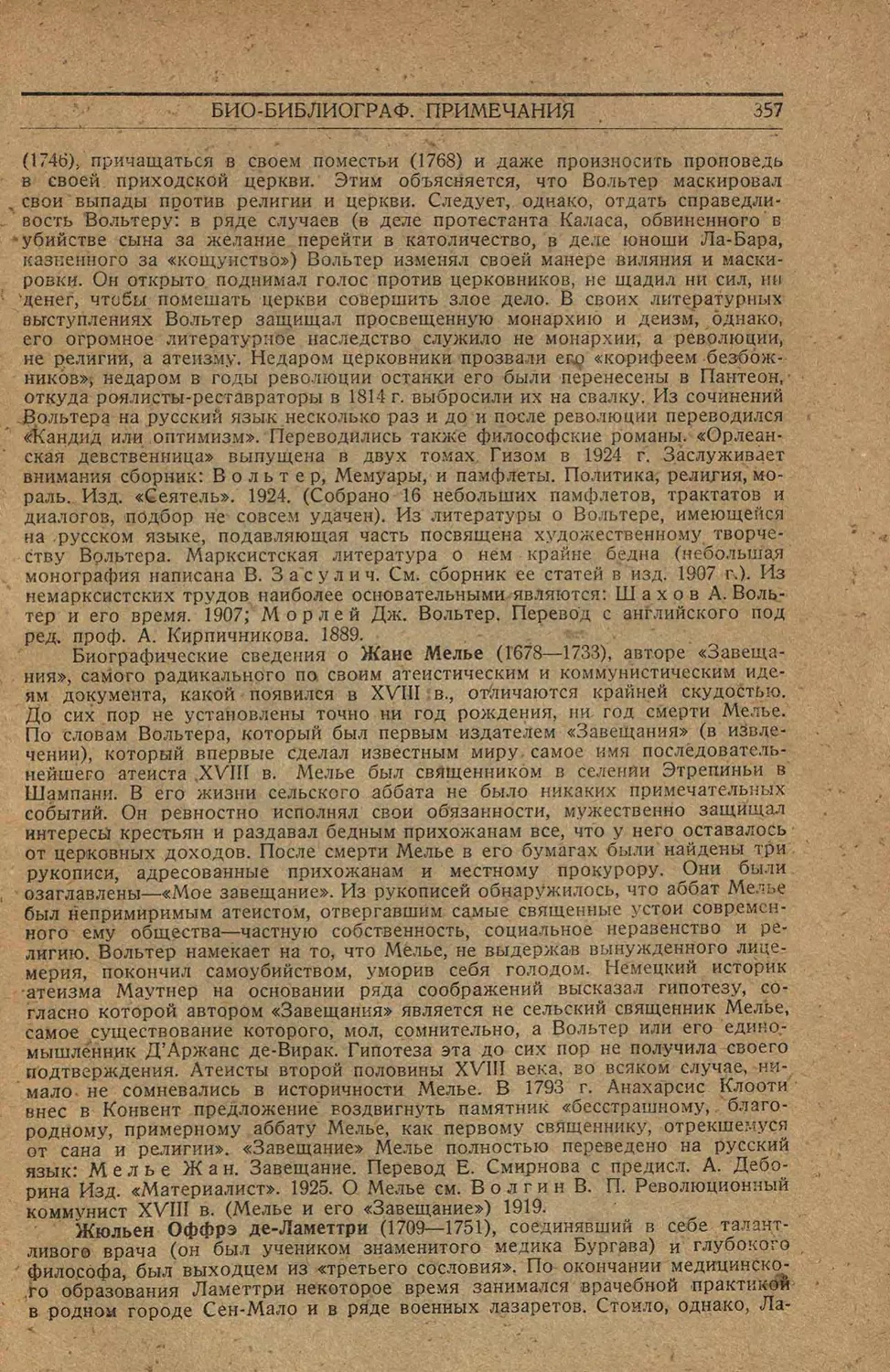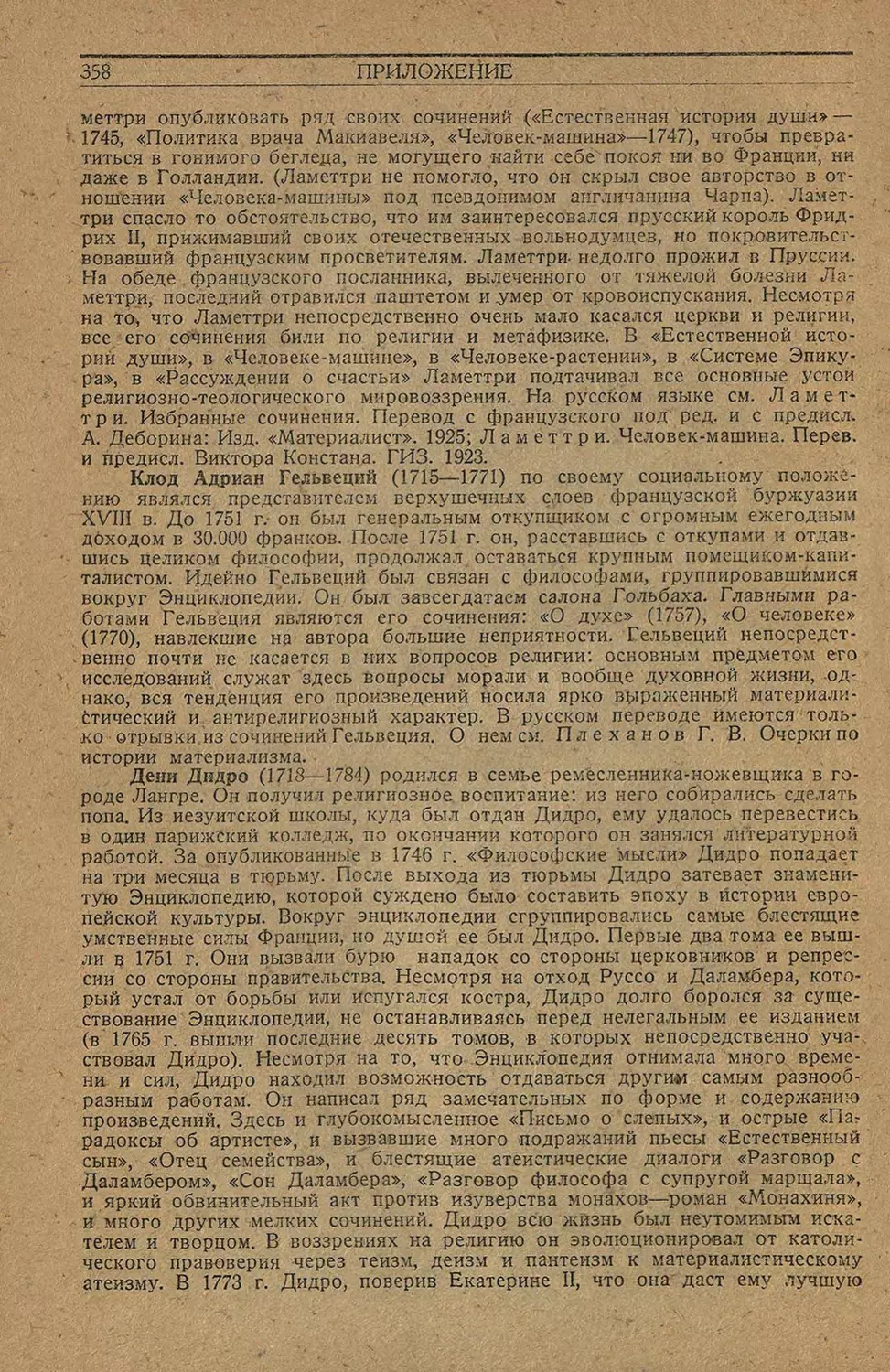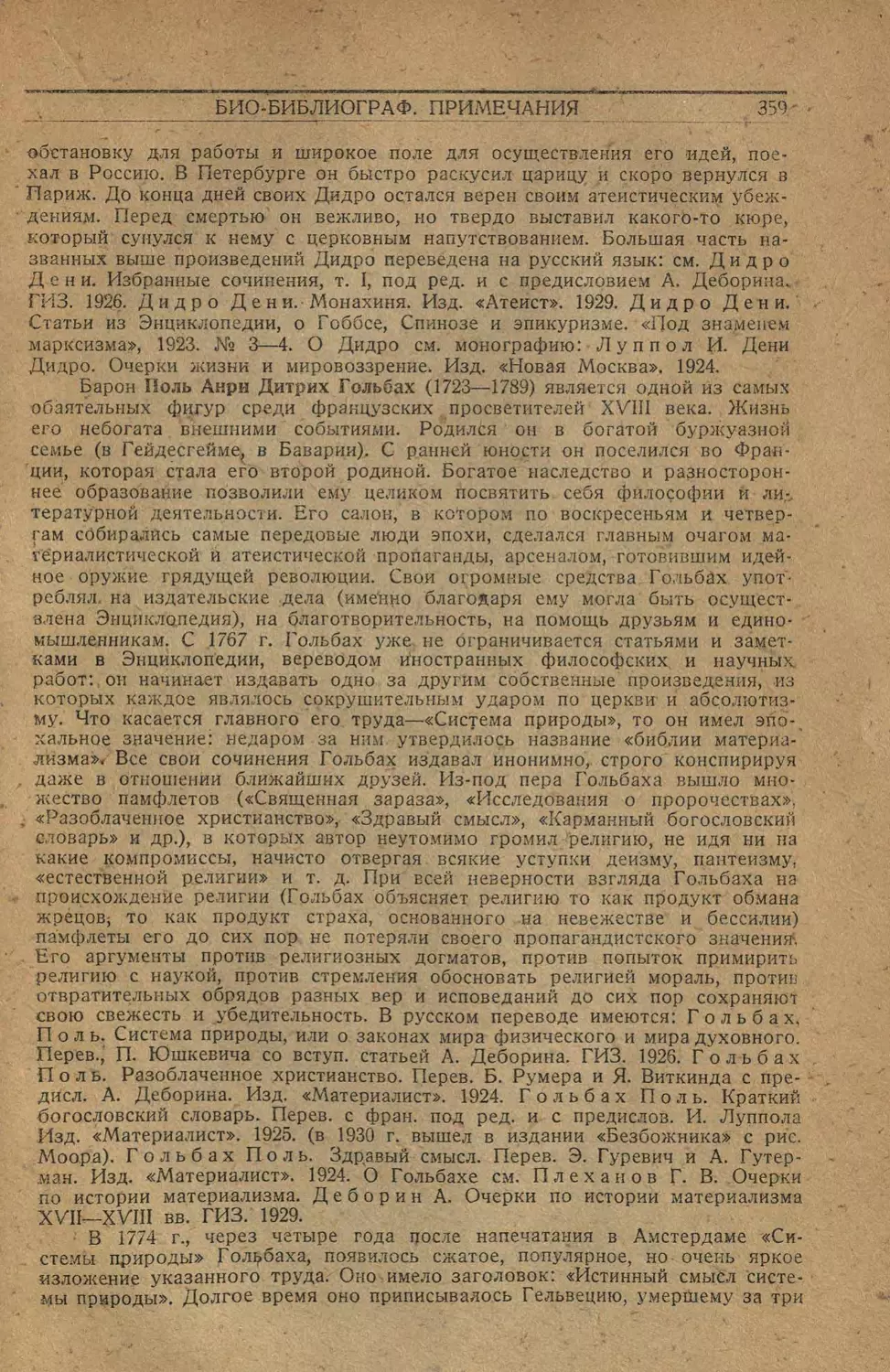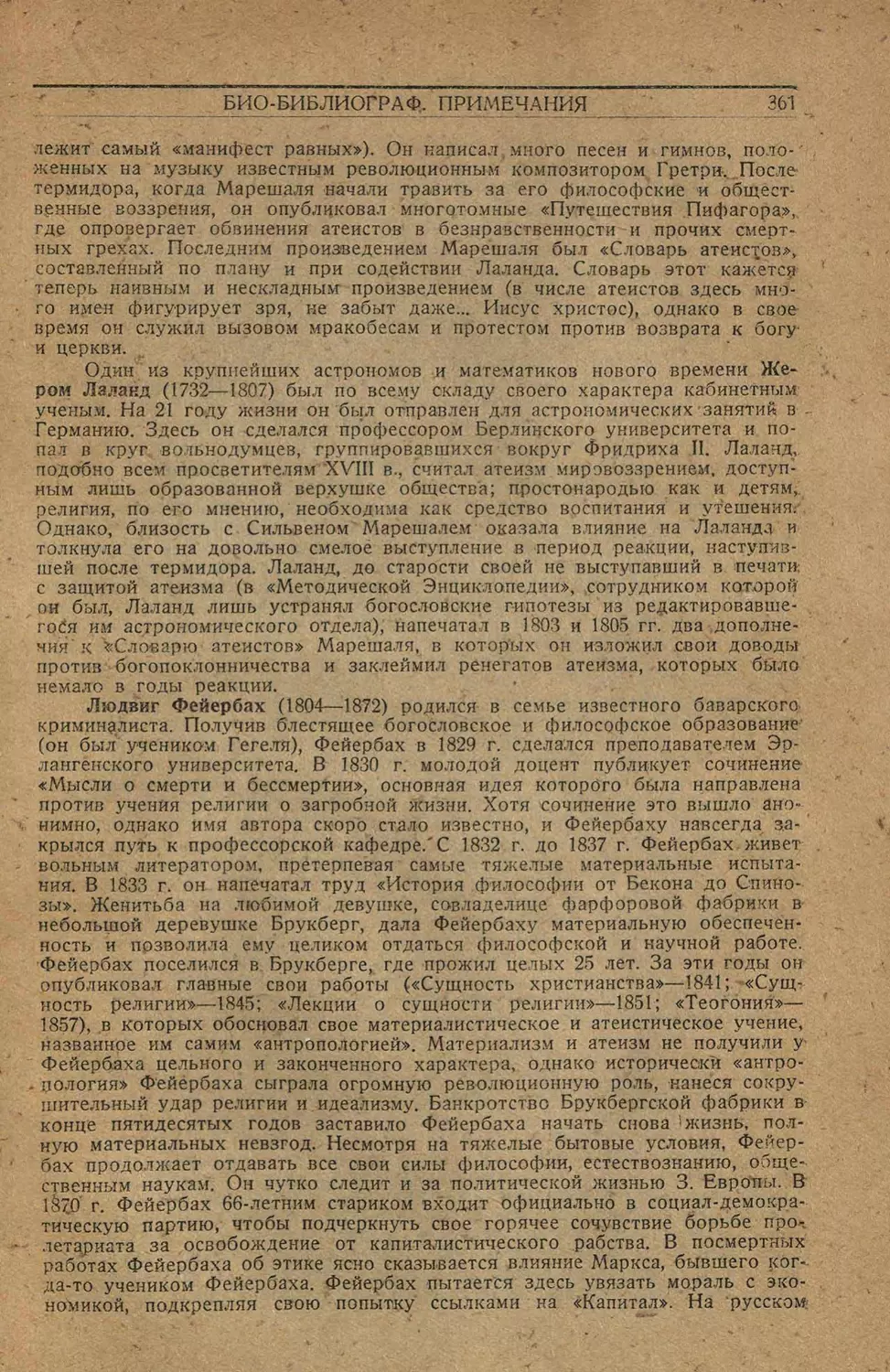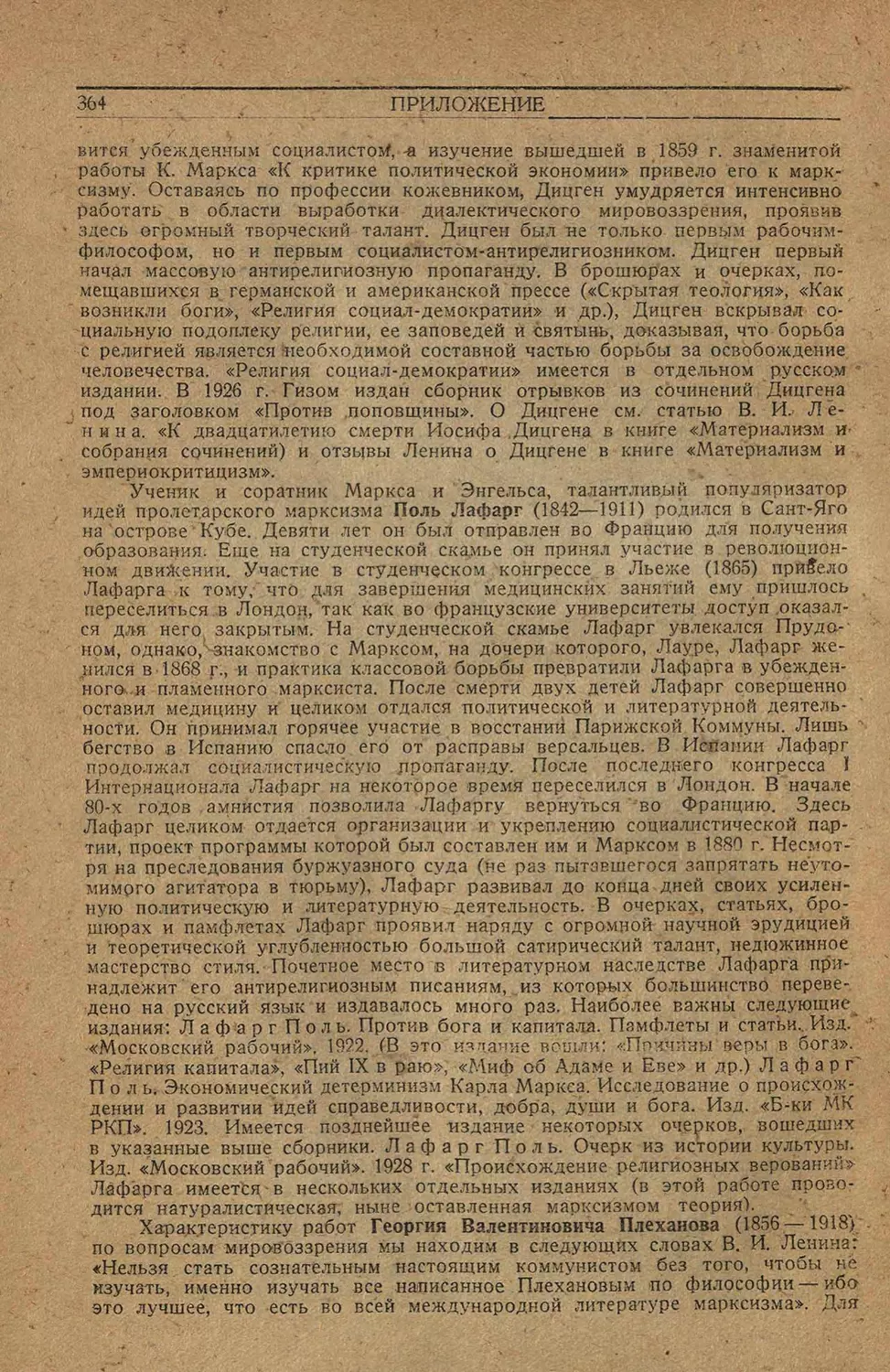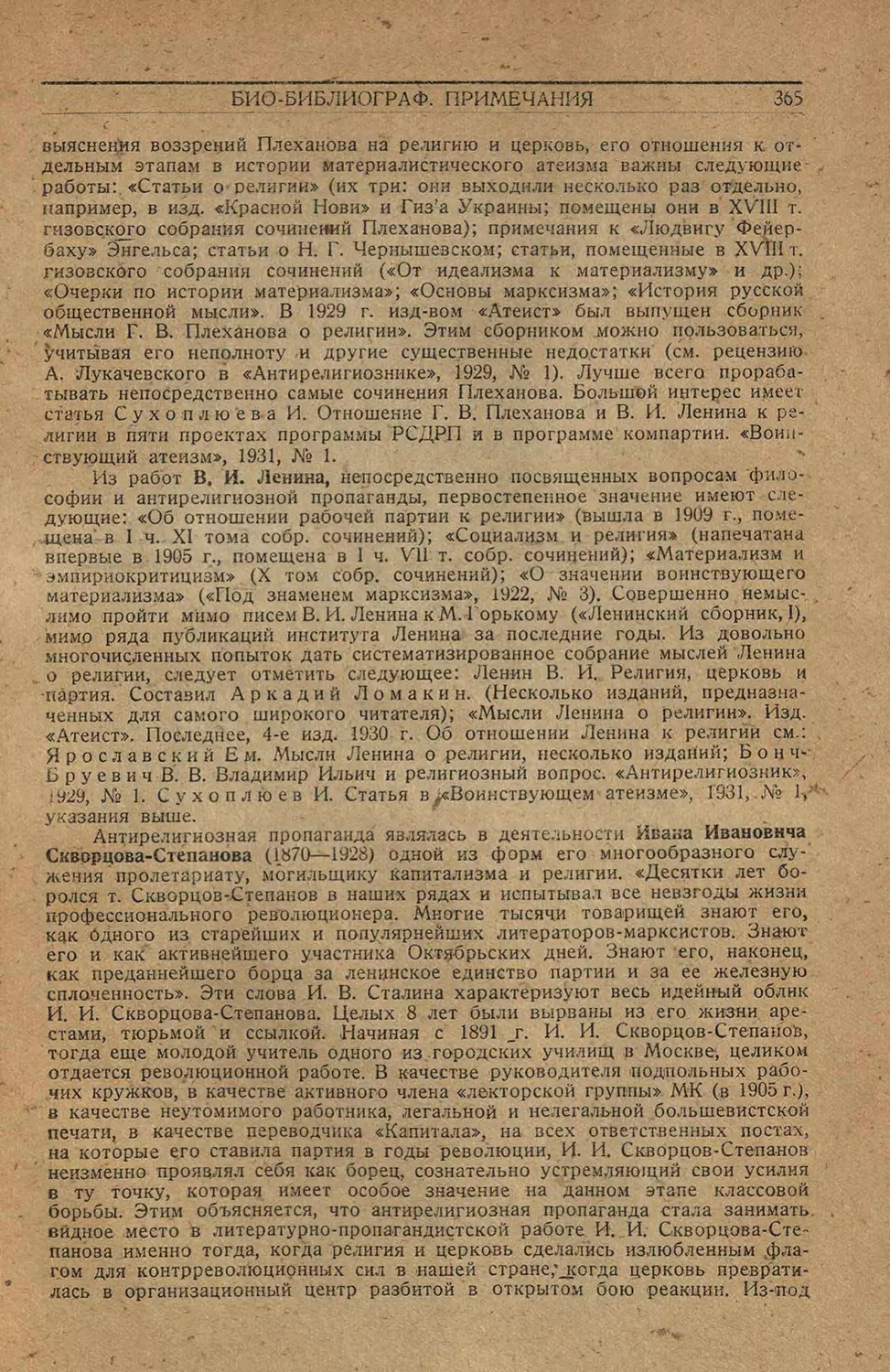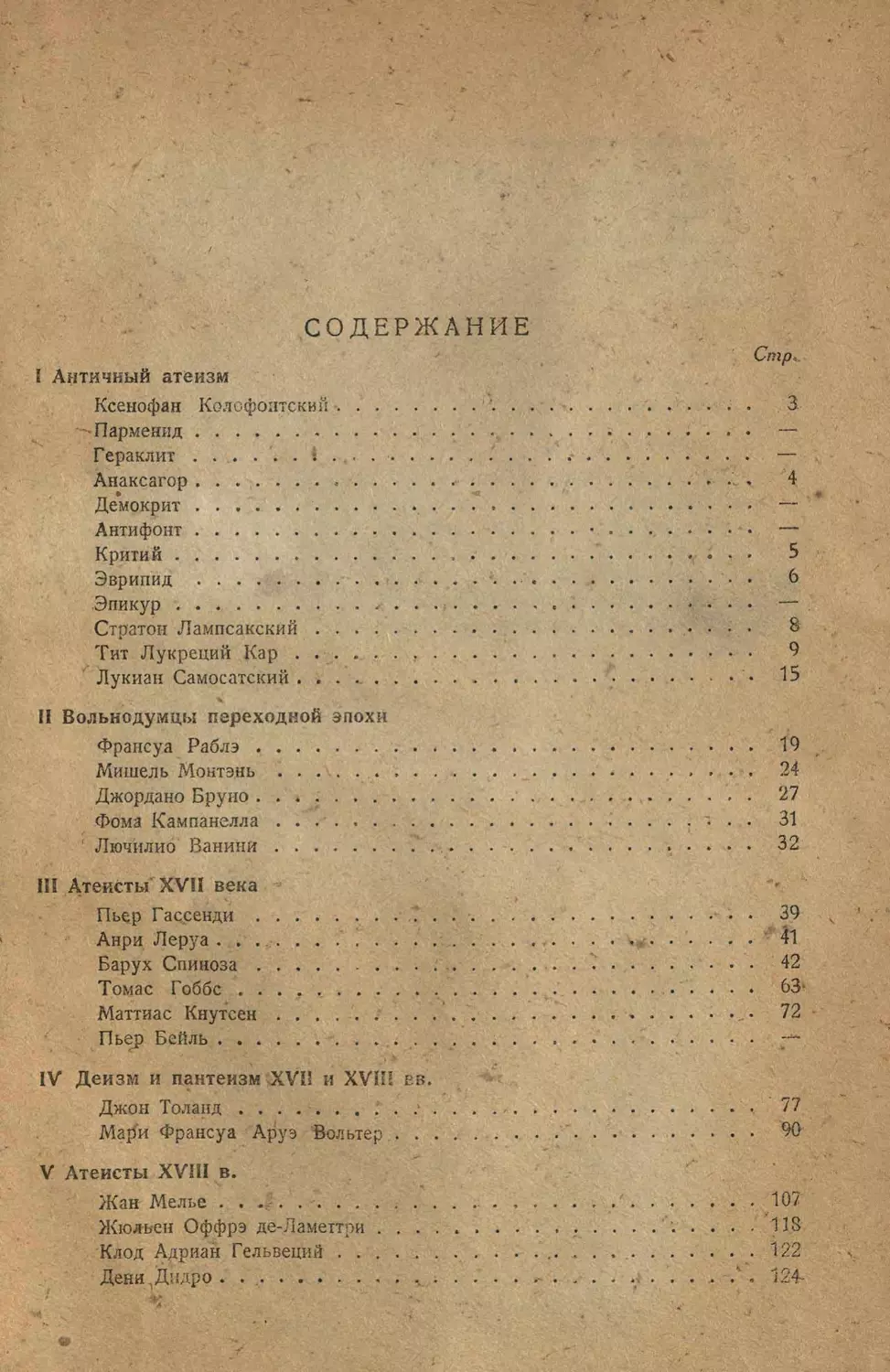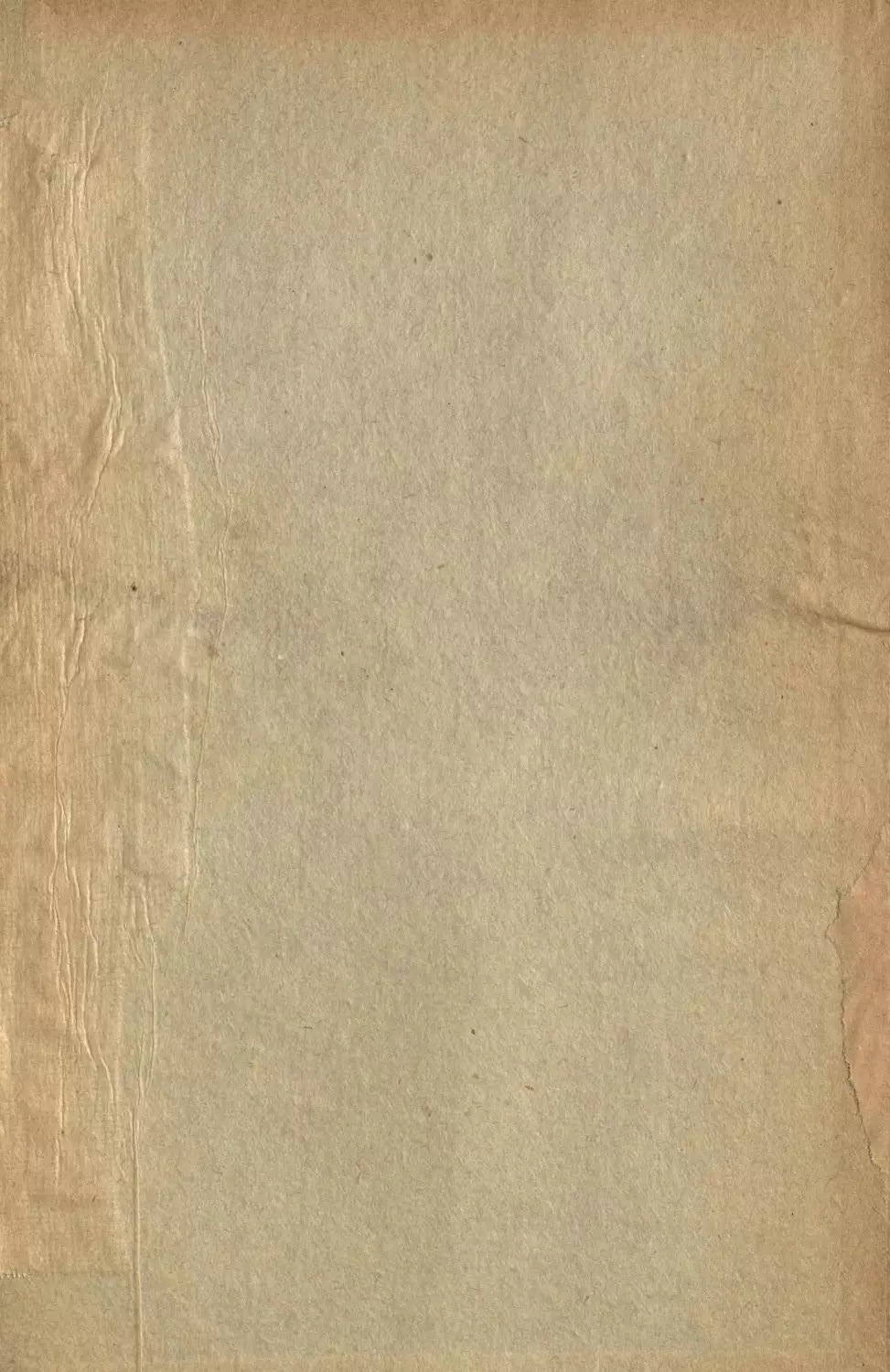Author: Глан Я.
Tags: история атеизм научный атеизм издательство московский рабочий издательство огиз
Year: 1931
Text
3%
m
I
ХРЕСТОМАТИЯ
по
й с т о р й и | Ѵ
АТЕИЗМА
СОСТАВИЛ
Я.
О Г
Н
ГЛАН
3
М О С К О В С К И Й
Р А Б
1 9
3
1
О
ч и й
V
.'".V У ; 5.>|
-
Ëg ••:•
;'• - п' ".
s'«®
'г
M : • ••
Ж .•
'
!
ШШI
РЕСТОМАТИЯ
ПО
ИСТОРИИ
АТЕИЗМА
С О С Т А В
Я.
ИЛ
Г Л А H
I. АНТИЧНЫЙ А Т Е И З М . — I I . В О Л Ь Н О Д У М Ц Ы П Е Р Е Х О Д НОЙ ЭПОХИ, — I I I . А Т Е И С Т Ы X V I I В Е К А . — IV. Д Е И З М И
ПАНТЕИЗМ XVII и Х Ѵ І І ! В В . — V . А Т Е И С Т Ы XVIII В Е К А —
VI. А Т Е И С Т Ы X I X В Е К А . — V I I . П Р О Л Е Т А Р С К И Й А Т Е И З М .
О
О
Н
О
В
С
К
И
Й
Р А Б О Ч И Й
М О С К В А - Л Е Н И Н Г Р А Д
-
1
8
8
t
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й
С О В Е Т
СОЮЗА В О И Н С Т В У Ю Щ И Х
БЕЗБОЖНИКОВ
СССР
ХРЕСТОМАТИЯ
ПО И С Т О Р И И
АТЕИЗМА
С О С Т А В И Л
я.
Г Л А H
ПОД РЕДАКЦИЕЙ
И С ПРЕДИСЛОВИ
ЕМ
А. Т. Л У К А Ч Е В С К О Г О
V
М
О
С
О Г И З
К
О
В
С
К
И
Й
Р
А
Б
О
Ч
И
Й
М О С К В А - Л Е Н И Н Г Р А Д
—
1
9
3
Î
V
{ ocyi -оотS<• имея"
» п д т н « Лѳмкна
i z w v m с ее г
и*. В. К ЛЕВИНА
5147533
Мособлит Я» 6482
13-я типография
ОГИЗ'а.
Москва, Денисовский, 30. Зак.
Тираж 5.000.
4128.
ПРЕДИСЛОВИЕ.
В антирелигиозной пропаганде мы до сих пор использовали в
самой слабой степени то богатство мыслей, которое оставили нам
воинствующие безбожники прошлых веков. Энгельс и Ленин писали не один раз о необходимости широкой популяризации антирелигиозных произведений французских материалистов XVIII в.
Завещание Ленина не выполнено до сих пор не только в отношении широкой массовой пропаганды, но и в отношении такой сравнительно узкой области, как подготовка антирелигиозных кадров.
В наших рабочих антирелигиозных университетах только еще
приступают к курсам по истории атеизма. Значительным препятствием в деле активного проведения этих курсов являлось отсутствие необходимых пособий. Выпуск настоящей хрестоматии, какие
бы недостатки она, как первый опыт этого рода, ни имела, безусловно является крупным событием на антирелигиозном фронте.
Хрестоматия будет служить, прежде всего, учебным пособием для
тех тысяч безбожников, которые занимаются в антирелигиозных
университетах и на антирелигиозных отделениях вузов. Хрестоматия явится настольной книгой и для всего актива СВБ.
Разумеется, нельзя брать просто, без марксистской критики,
атеистов прошлых веков. Ленин говорил в письме в редакцию
«Под знаменем марксизма» относительно французских материалистов: «Конечно и ненаучного и наивного найдется не мало в атеистических произведениях революционеров XVIII в. Но ничто не
мешает издателям этих сочинений сократить их и снабдить короткими послесловиями с указанием на прогресс научной критики
религий, проделанный человечеством с конца XVIII в., с указанием
на соответствующие новейшие сочинения и т. д.». То, что говорил
Ленин о французских материалистах, относится еще в большей
степени к атеистам более ранних веков.
В массовой пропаганде необходимо использовать атеистическое наследство прошлого в соответствующей обработке. Активист-антирелигиозник должен знать воинствующих атеистов прош-
лого с их ошибками и недостатками, чтобы на критике этих ошибок заострить еще сильнее марксистско-ленинскую антирелигиозную пропаганду.
Было бы неправильным считать, что эти ошибки дело прошлого и что в настоящее время они представляют интерес только с
історической точки зрения. До известной степени «левые» загибы
; борьбе с религией имеют своей теоретической базой учение
іранцузских материалистов XVIII в., утверждавших, что религия
сть результат обмана со стороны жрецов и невежества трудящихся масс. С точки зрения этой теории борьба против религии
представляется делом несложным. Обману жрецов необходимо-де
противопоставить несколько просветительных лекций и издать
один-два декрета о запрещении религии, поскольку раньше религия охранялась и поддерживалась соответствующими законами.
В то же время правая тактика социал-фашистов Гартвигов и
Сиверсов, этих печальных героев до-боденбаховского Интернационала пролетарских свободомыслящих, теоретически питается
в значительной степени французским материализмом XVIII в.
Механистический отрыв антирелигиозной пропаганды от практики
классовой борьбы, утверждение, что для того, чтобы разрушить
капитализм, необходимо прежде уничтожить религию, наконец утверждение, что широкие трудящиеся массы неспособны восприять
атеизм—все это не марксистско-ленинские установки, все это идет
от буржуазного атеизма XVIII в., все это теоретически роднит
Гартвигов и Сиверсов с Брюссельским Интернационалом буржуазных свобомыслящих, как политически роднит их с брюссельцами
тактика предательства рабочего класса и служение интересам капитализма.
Антирелигиозное движение в капиталистических странах, если
не говорить про революционный Интернационал пролетарских свободомыслящих, стоящий на марксистско-ленинской платформе,
связывается с различными атеистическими теориями прошлого, тут
и анархические теории атеизма, тут и монизм Геккеля, и агностичеческие предпосылки. Критика этих теорий в лице их родоначальников помогает лучше ориентироваться в практике современных
их последователей. Все эти теории, сыгравшие в свое время боевую революционную роль, в настоящее время не вооружают, а разоружают пролетариат в его классовой борьбе. Борьба против
религии есть борьба за социализм. Но какая борьба? Борьба, которая ведется в строгом соответствии с марксизмом-ленинизмом.
В настоящей хрестоматии даны отрывки из произведений не
только атеистов, в полном смысле этого слова, но и тех пантеистов, деистов и скептиков, которые своей деятельностью способствовали прямо или косвенно развитию атеистических идей.
В истории атеизма мы не можем остановиться на рассмотрении только атеистических теорий, на рассмотрении только
100%-го атеизма. Если бы мы так ограничивали свою задачу, мы
безусловно не сумели бы дать полную картину развития атеистических идей. Мы должны иметь в виду также и те приближающиеся к атеизму системы, которые, не будучи атеистическими, тем
не менее оказали влияние на развитие атеизма.
Прежде всего остановимся на самом понятии атеизма. Слово
«атеизм»—греческого происхождения и буквально значит «безбожие». Состоит оно из греческого слова «теос» (что значит
«бог») и отрицательной частички «а». Значит, атеистом является
тот, кто отрицает всякое существование богов, кто не верит' в
существование чего-либо сверхъестественного. Но в истории атеизма мы рассматриваем не просто атеизм, а воинствующий атеизм,
атеизм, нападающий на церковь и религии, борющийся против
религиозного учения о природе и обществе.
В те или другие периоды истории по своей критической
роли близко к атеизму подходили различные пантеистические
системы.
Прежде всего мы должны будем остановиться на системах
пантеизма.
\у
Пантеизм—греческое слово и состоит из двух частей—«пан»,
что значит «все», и «теос»—«бог». Пантеизм утверждает, что
божественное начало—божество—разлито во всем. Само собой
разумеется, что при дальнейшем развитии пантеистической теории можно притти к тому выводу, что, поскольку божество находится во всей природе и лишено личного начала, то это и есть
сама природа. Отсюда—переход к материализму и затем к атеизму. В хрестоматии мы даем отрывки из таких например пантеистов, как Ксенофан Колофонский и Джордано Бруно. В настоящее время пантеизм является конечно орудием закрепления расшатанных уже твердынь религии и церкви.
Диалектически рассматривая пантеизм, мы ни в коей мере
не можем присоединиться к тому заключению, которое делает
например Шопенгауер, когда заявляет, что «пантеизм есть
вежливая форма атеизма». В истории атеистических идей пантеи-
стическая система действительно является той ступенью, через
которую проходили, поднимаясь к атеизму, многие мыслители.
Таков например пантеизм Джордано Бруно или пантеистические
идеи в системе Галилея, давшие толчок к развитию материализма. Но не всегда пантеизм как ч таковой является преддверием к
атеизму. Возьмем например пантеизм Льва Толстого, мы видим,
что толстовский пантеизм является не чем иным как величайшей
попыткой утвердить религию. Интересны также те попытки оживления пантеизма, которые делаются сейчас на наших глазах в
Европе. Возьмем например работы немецкого профессора Древса. Он пантеист. Он отказался от многих косных и убогих взглядов, проповедуемых церковью, он отказался даже от признания
исторического существования Христа, но все это он делает с
целью укрепить те религиозные позиции, которые он оставляет
за собой. Пантеизм Древса и Льва Толстого есть реакционнейшая
попытка уходящих с исторической сцены классов задержать развал религии. В истории атеизма мы не можем не остановиться на
пантеизме, но мы должны помнить, что пантеизм в настоящее
время является тем идеологическим направлением, с которым
нам приходится вести наиболее ожесточенную борьбу. Пантеистические элементы мы можем найти в у ч е нии мн о г их_£ек т антод,
например духоборов. __
В хрестоматии мы помещаем также отрывки из .^ДёйЩЩ^г
Вольтера, Толанда. Деизм широко был распространен в XVII в.
под влиянием философии Гоббса и Локка. Величайшим деистом
является Вольтер. Основные положения деизма сводятся к тому,
что божественное начало существует. Бог как творец мира существует, но этот бог не является промыелителем и подателем. Бог
сотворил мир. Как хороших часовых дел мастер, он завел механизм мира, и с того времени часы мира идут сами по себе. Получается некоторое подобие того, что наблюдается в английской
конституционной монархии: король царствует, но не управляет.
Так и бог деистов, существует, но миром не правит. Недаром
деизм зарождается и получает первоначальное развитие в Англии.
Ясно, что идея деизма для критики существующих религий
дает очень много ценного. Раз бог не управляет миром, следовательно нечего к нему и обращаться с молитвой, а раз нечего ему
молиться—следовательно не нужно иметь и священников, не нужны и церкви, не нужны сотни тысяч паразитов, обряженных в
католические сутаны, в протестантские сюртуки.
Вывод для господствующей церкви получается конечно убийственный. Поэтому деизм в известной степени содействовал развитию атеистических идей, почему в истории атеизма мы не можем пройти мимо деизма и его более крупных и значительных
представителей.
Но само собой разумеется, что и здесь мы должны помнить,
что деизм есть своеобразная философская религия, недаром тот
же Вольтер, выступая ожесточенно против церкви, выдвигал
свою деистическую религию—религию разума. Это есть рационализированная религия, и с ней нам сейчас приходится равнымобразом жестоко бороться. В хрестоматии мы помещаем и такие
отрывки из Вольтера, где он выступает против атеизма.
В истории атеизма мы не можем пройти также мимо тех
философов, которые выдвигали скептицизм как метод научного
мышления. Само собой разумеется, что в наши дни, когда мы
имеем диалектический материализм, когда мы имеем философию
революционной борьбы, данную Марксом и Лениным, скептицизм как в науке, так и в политике является реакционной доктриной, но, когда этот скептицизм, провозглашавший лозунг, что
все должно подвергаться сомнению, направлялся против твердынь средневековой схоластики, против твердынь церковных
традиций, против незыблемости аристотелевской мудрости и подрывал веру в авторитет отцов церкви,—он являлся революционной силой.
Критикой библейского авторитета по существу дела являлось например средневековое учение о действенности истины.
Говорили, что истина может быть двоякого рода. С одной стороны, истина, провозглашаемая наукой, а с другой —- истина церковная. И хотя эти истины были диаме+рально противоположны,
ученые не без доли иронии говорили, что наука и религия друг
другу не противоречат. В средневековье подобные заявления
имели другую цену, чем в наше время.
Или возьмем например скептицизм Декарта. В своих «Размышлениях» Декарт говорит, что все необходимо подвергать
сомнению. Вот как революционно и воинственно звучали его
слова, направленные действительно против церкви: «Я знаю, что
это не породит ни опасности, ни заблуждения, мнё нечего бояться
чрезмерности недоверия, так как я занят в настоящее время не
практическими, а теоретическими задачами. Таким образом я допускаю, что не всеблагой бог есть источник истины, а какой-
нибудь злой и вместе с тем сильный демон, прилагавший все свое
искусство к тому, чтобы ввергнуть меня в обман. Я хочу держаться того мнения, что небо, воздух, земля, краски, формы, тона
и все, что я воспринимаю извне, суть образы сновидений, которыми этот злой дух расставляет сети моему легковерию; я хочу
рассматривать себя самого так, как если бы я не имел в действительности ни глаз, ни мяса, ни крови, ни какого бы то ни было
чувства и обладал всем этим только в воображении; я хочу остановиться на таком способе рассматривания вещей и укрепиться
в нем. Однако мне предстоит очень трудное дело. Инертность
постоянно тянет меня назад к старой привычке жизни и, как
пленник, радующийся во сне воображаемой свободе, страшится
проснуться, когда начинает замечать, что он спит, и старается
возможно дольше удержать благодетельные образы сна, так и я
гляжу на старые представления и страшусь проснуться; я боюсь
•бодрствующего полного забот бытия, которое будет следовать
за приятным сном и сулит в будущем не ясный свет, а беспрерывную темноту уже возбужденного сомнения».
Декартовский скептицизм подрывает авторитет церкви, выступает против закоренелых библейских представлений. Искание
нового метода Беконом, Декартом, Спинозой было открытой
борьбой против старых средневековых традиций науки, освященных религией. Как образец скептицизма в хрестоматии мы
даем отрывки из «Опытов» Монтэня.
В истории атеизма также необходимо точно разграничать
•атеизм от так называемого «свободомыслия» (Freidenkerei).
Атеизм как таковой конечно не всегда совпадает со свободомыслием. «Свободомыслящими» особенно любят себя называть
агностики, которым их агностицизм не только не мешает, а, наоборот, помогает верить в господа бога. Они ставят себе в особую заслугу то, что в своих рассуждениях якобы свободны, не
подчиняются никакой философской доктрине, будь это идеализм
или материализм. На самом деле их агностицизм есть разновидность идеализма.
За границей безбожники обычно называют себя «свободомыслящими» (die Freidenker, libres penseurs, the freethinkers). Но
кроме безбожников свободомыслящими за границей именуют
себя и разные религиозные общины, порвавшие связь с церковью. Нельзя, таким образом, безоговорочно отожествлять атеизм со свободомыслием.
Таким образом, пантеизм, деизм и скептицизм могут быть
предметом исследования в истории атеизма, но только в том
случае, если эти системы способствовали развитию атеистических идей. При этом необходимо помнить, что все эти системы
в настоящее время являются реакционными теориями и ничего
общего с атеизмом не имеют. Что же касается «свободомыслия»,
«свободомыслящих», то надо всегда иметь в виду, какое значение
вкладывают в это слово — называют ли так действительно безбожное движение или какую-либо религию, группировку.
Такие же вопросы рассматриваются в отрывках, собранных
в настоящей хрестоматии. Прежде, всего приводятся те отрывки,
в которых атеисты пытались дать философское опровержение
религии, выставляя материалистическое понимание природы и
общества против религиозного объяснения мира. Необходимо
при этом помнить, что у атеистов до-марксистского периода мы
имеем не диалектический материализм, а механистический.
С диалектическим материализмом атеизм связывается только
в XIX в. Великие атеисты XVIII в.— Гольбах, Гельвеций и др". были
механическими материалистами. Античный атеизм вырос также на
почве механистического материализма.
Механистический материализм не мог развить законченной
атеистической системы.
Великие материалисты древности Демокрит и Эпикур признавали, как известно, существование богов и души у человека.
Как они пришли к такому выводу? По этому поводу среди ученых ведутся бесконечные споры. Было ли это своего рода политическим маневром, чтобы избежать преследования, или это чтото другое? Можно ли обвинить Демокрита и Эпикура в притворстве и сознательном обмане? Когда мы рассматриваем их атеистическую систему, построенную в значительной степени на
механистическом материализме, мы видим, что их материализм
должен был неизбежно привести к допущению существования
богов. Проблема единства противоположностей в вопросе взаимоотношения между материей и мышлением ими не была разрешена диалектически, и поэтому они должны были допустить
существование богов и души, чтобы этой гипотезой объяснить
целый ряд явлений.
Таким образом, история атеизма тесно переплетается с историей философии, но в то же время мы имеем свои специальные
задачи. Атеисты, выступая против религии, имели во все времена
определенный круг вопросов, которые они должны были разрешить и преодолеть. Прежде всего они должны были выступить
с опровержением бытия бога. Богословами и церковниками еще
в далекие времена было придумано несколько так называемых
доказательств бытия божия. Против этих доказательств и направляется мысль атеизма. Эти доказательства бытия божия можно
свести к нескольким основным.
Прежде всего укажем на онтологическое доказательство^ которое было выдвинуто еще в XI в. Ансельмом, архиепископом
Кентерберийским, в его книге «Предисловие, или вера, ищущая
разумения». Надо сказать, что онтологическое доказательство
Аисельма своими корнями идет к Платону, признававшему реальное существование общих понятий. Сам Ансельм является одним
из представителей так называемого средневекового реализма.
Средневековый реализм — насквозь идеалистическое учение, утверждавшее, что общие понятия реально существуют. Вот что
писал Ансельм в своей книге:
«Даже безумец принужден признать, что у него в уме есть
мысль о таком существе, превыше которого нельзя себе вообразить ничего более великого: действительно, когда он слышит
изложение этой мысли, он ее понимает; а то, что может быть
понятно, находится в уме. Далее, этот предмет, превыше которого
ничего нельзя помыслить, несомненно находится не в одном только уме, потому что если бы он был только в уме — in intellectu,—•
то оставалась бы возможность хотя бы лишь предположить, что
он существует и в действительности—in re. А это составит новое
условие, обусловливающее уже мысль о таком существе, что оно
будет еще более великим, нежели то, которое существует только
в одном лишь уме. Итак, если бы этот предмет, выше которого
нет ничего, существовал только в уме, он все же был бы таков, что
нечто было бы еще выше его,—заключение, которое никоим образом не может считаться правильным. Итак несомненно есть и в
действительности существо, выше которого ничего нельзя себе
представить, ни как находящееся в нашей мысли, ни в действительности».
Само собой разумеется, что это «железная» логика. Но для
средневековых реалистов здесь все было ясно. Для них реальное
существование общего понятия было фактом. Надо сказать, что
и в те еще далекие времена, еще в XI в. выступили против онтологического доказательства. Монах Гаунилов в своей книжке
«Книга в защиту безумца» доказывает, что мысль и реальный
предмет — не одно и то же. Мыслить о заколдованном острове,—
говорит он,— еще не значит создавать заколдованный остров в
действительности.
Онтологическое доказательство повторялось неоднократно и
в последующие века. Мы его находим в несколько другом виде
и вытекающем из других философских предпосылок у Декарта.
Он так и заявляет: «Deus cogitur, ergo deus est» («бог мыслится,
следовательно бог есть»). Человек как некое слабое существо не
может самостоятельно создать идею бога. Раз есть такая идея,
следовательно есть и бог. Применяецг онтологическое доказательство Лейбниц. Против Декарта и Лейбница выступил в своей
«Системе природы» Гольбах.
Борьба с онтологическим доказательством, таким образом,
занимает видное место в истории атеизма.
Затем есть так называемое космологическое доказательство
бытия божия. Оно сводится к тому, что космос — мир — не мог
быть создан без творца. Таким творцом является дух, бог.
К космологическому доказательству близко подходит так
называемое телеологическое доказательство. Посмотрите-де, как
целесообразно, как гармонично создан мир. Все, что в нем происходит, совершается к лучшему.
Дальше церковники пытались доказывать бытие бота, исходя
из всеобщей распространенности религии. Нет ни одного племени
на земном шаре, которое бы не имело веры,— говорят они. Люди
верят в бога потому, что религиозность является их врожденным
свойством. Создать же такое свойство мог только сам господь-бог.
Наконец одним из распространенных доказательств является
так называемое моральное доказательство бытия бога. Оно основывается на том, что всем людям якобы свойственно особое моральное чувство, а поскольку оно является всеобщим, оно следовательно врожденно. Должен быть какой-либо единый источник
морали, и таким единым источником мог быть только бог. Кант
в своей «Критике практического разума» применяет моральное
доказательство бытия бога. Провозгласив категорический императив, он допустгил свободу воли и господа-бога.
Таковы основные так называемые доказательства бытия
бога.
При рассмотрении атеистических теорий мы будем обращать
Y
внимание на то, как атеисты в своей борьбе с религией выстуиали против тех или других доказательств бытия бога.
'
В то же время им приходилось разрушать легенду о существовании души и ее бессмертии. Существование души и ее бессмертие — это такое положение, без которого собственно ни одна
религия не может существовать, и мы увидим, что острие атеистической критики направляется на опровержение веры в существование бессмертной души.
f.
Необходимо было атеистам также коснуться проблемы про'
исхождения религии. Если бога нет и нет ничего сверхъестественного, то каким образом появились так называемые «священные
писания».
Для людей верующих все это делается очень просто. Или это
сам архангел Гавриил приносит с неба коран для прочтения Магомету, как утверждают мусульмане, или это сам сын божий,
сойдя на землю, проповедует слово божие, как верят христиане,
или это сам бог-саваоф, спустившись с небес на огненной колеснице, входит внутрь Даниле Филипповичу, и тот становится богом-отцом, как говорят хлысты про легендарного основателя
евоей секты.
Атеисты должны были, разумеется, создать теорию естественного "происхождения религии без всякого вмешательства божества. Человек, по их мнению, создает грозный образ несуществующего бога либо под влиянием страха перед стихийными силами
природы, или это хитрый жрец, верный прислужник царей, создает легенды о несуществующих богах. Одним словом, мы видим,
что мысль направляется на то, чтобы доказать земное происхождение религии.
Необходимо атеистам было выступить и в защиту самого
атеизма. Атеистам нужно было показать, что они нормальные
люди (так как их выставляли какими-то безумцами, какими-то
извергами), что атеизм вовсе не ведет к преступлению, а, наоборот, религия, потворствуя знатным и богачам, является виновницей всяких преступлений.
Наконец значительное место в критике религии у атеистов
прошлого занимает критика деятельности церковников и разоблачение эксплоататорской роли религии. Конечно это не есть еще
разоблачение классовой роли религии в полном смысле этого
едова. Классовый анализ религии, как всякой идеологии, дан марксизмом. Но атеисты прошлых веков, до-марксистского периода
атеизма, отмечают неоднократно, как цари и князья, светские и
духовные, прибегают к религиозным сказкам, чтобы легче грабить трудящихся.
По всем перечисленным вопросам и подбирались соответствующие отрывки из произведений атеистов.
Все это — такие вопросы, которые прорабатываются антирелигиозниками и в настоящее время. Переместился лишь удельный
вес этих вопросов. На первый план мы выдвигаем разоблачение
классовой контрреволюционной роли религии. Но само собой
разумеется, что круг антирелигиозных вопросов теперь стал гораздо шире. Это и должно было так быть. В СССР, стране, вступившей в период социализма, атеистическое движение стало,
достоянием многомиллионных масс трудящихся. Таков пролетарский атеизм. Атеизм прошлого, атеизм буржуазный был достоянием небольшого круга людей, это был атеизм для «избранных». Борьбы против религии в настоящее время есть не только
борьба за мировоззрение, это есть борьба за пятилетку в 4 года,
за темпы и качество, за новый быт. Борьба за атеизм сейчас есть,
теоретическая и практическая борьба, в то время как атеизм
прошлого в значительной степени — н о не всегда (возьмем например эпоху французской революции) — был атеизмом теоретическим.
Несмотря на все это различие, мы, антирелигиозники, можем
многое взять для нашей борьбы из того великого наследства
мыслей и крылатых слов, которое оставили нам атеисты прошлых веков.
А. Лукачевский.
АНТИЧНЫЙ
АТЕИЗМ
Хрестоматия по истории атеизма
1
V,
• ,
-
-
Ш
-> - Ѵ.ѵ. .ѴлѴСіі
V
-,. •
V", V Г"
••.'•.••М--
; "
Р^Kfs-.. :
•-"•• / ' МЧ* I -
• s
.
^ш - ». '
- -
:
-,-,.."
•• ..
ѵДЙ /..Vчѵ „. .
ш
'
........
КСЕНОФАН КОЛОФОНСКИРІ
J
1.
Все, что есть у людей бесчестного и позорного, приписывали
богам Гомер и Гезиод: воровство, прелюбодеяние и взаимный
обман...
Но смертные думают, будто боги рождаются, имеют одежду,
голос и телесный образ, как и они.
Но если бы быки, лошади и львы имели руки и могли бы ими
рисовать и создавать произведения искусства подобно людям, то
лошади изображали бы богов похожими на лошадей, быки же—
похожими на быков, и придавали бы им тела такого рода, каков
телесный образ у них самих (каждое животное по-своему)...
Эфиопы говорят, что их боги курносы и черны, фракийцы же
(представляют своих богов) голубоглазыми и рыжеватыми.
2.
Неверно, что боги открыли смертным все с самого начала:
нет, люди постепенно искали и находили все лучшее и лучшее.
ПАРМЕНИД.
Многое говорит за то, что существующее, реальное не есть
нечто, что некогда возникло и когда-нибудь прейдет. Оно—целостно, оно—неподвижное, бесконечное, вечное, слитно-связанное
единство. Ибо—сам скажи: как могло оно возникнуть? Как и кем
оно могло быть приумножено? Могло ли оно возникнуть из ничего? Это—немыслимо, невозможно. Никто не в состоянии помыслить или сказать, как чего-то могло не существовать. И какая же
сила повелела ему как раз теперь, не раньше и не позже, выявиться из ничего и начать свое становление? Итак, то, что есть,—
есть всегда либо никогда. Ибо незыблемой навеки истиной является, что никогда ничто не возникает само собой из ничего.
(«О природе»).
ГЕРАКЛИТ.
Мир, который все заключает в себе, т. е. наряду с которым
нет ни других миров, ни творца, не создан никем из богов или
1*
людей, но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерами
вспыхивающим и мерами угасающим.
АНАКСАГОР.
Когда бы себе божество птицы измыслить могли, было бы
крылатым оно. Для коней же быстролетных был бы бог четвероногим.
ДЕМОКРИТ.
1.
Первобытные люди, видя небесные явления, как, Например,
гром, молнии, созвездия, солнечные и лунные затмения, приходили в ужас и думали, что боги—причина всего.
2.
Иные люди, не зная, что человеческая природа превращается в ничто, но зная в то же время за собой ряд дурных дел,
проводят всю жизнь в беспокойстве, страхе и мучении, сочиняя
лживые сказки о загробной жизни.
3.
Если бы сны людям посылал бог, то, конечно, их видели бы
только мудрецы, а не первый встречный, и притом днем, а не
ночью.
АНТИФОНТ.
1.
Жизнь человеческая столь несчастна, столь подвержена игре
случая, что нет никакой возможности видеть в ней промысел и
заботы богов... Боги представляются нам обтянутыми кожей, и
их нравы ничем не лучше нравов самых скверных людишек; их
благорасположение зависит от приносимых им жертв и посулов.
Очевидно люди придали богам не только свой образ, но и свой
характер. Единственное божество, которому действительно поклоняются все люди — и дикари, и просвещенные, и варвары, и эллины,—это богатство. Все же остальные божества—только ничего
не стоящие выдумки праздного ума.
(Из трактата «Об истине»).
2.
Жизнь наша похожа на дежурство караульного солдата. В
самом деле: весь наш жизненный путь—как бы одна смена ночного караула; взошло солнце,—мы бросаем на него прощальный
взгляд и передаем караул новым людям, пришедшим нам на смену. А там... там нет ничего. Есть, правда, люди, которые не успевают жить в этой жизни, потому что очень серьезно и старательно готовятся к какой-то другой, нездешней жизни. Таким
образом, они лишаются ja тех немногих радостей, которые достаются нам в этой жизни. Иногда они, в конце концов, спохватываются в совершаемой ими ужасной ошибке, но поздно: жизнь—это
не игра в шашки, и здесь никогда нельзя взять назад сделанного
хода.
(Из трактата «О единомыслии или искусство не скорбеть-»).
КРИТИЙ.
Как возникла религия.
Было время, когда жизнь человека был» не устроена, звероподобна и покорна одной только грубой силе, когда не было ни
наград для доброго, ни наказания для злого. Но со временем люди
ввели карательные законы, чтобы владычицею над людским родом была правда, которая бы поработила надменность и наказывала тех, кто совершит преступление. Законы отвращали людей
от открытого насилия, но втайне делать насилие люди не переставали.
Тогда явился мудрый и изобретательный человек, нашедший
средство внушать смертным страх, если они будут тайно делать
или мыслить что-нибудь дурное. Он уверял людей, что существует божество, цветущее нетленной жизнью, мыслящее, слышащее, видящее, чувствующее и за всем наблюдающее. Оно слышит
все, что говорят смертные, и видит все, что они делают; если даже
человек молчаливо задумает какое-нибудь зло, то и это тайное
намерение не скрывается от богов, которых мысль настраже повсюду. Говоря это людям, этот человек ввел одно из приятных учений, прикрывши ложью истину. С целью внушить наибольший
страх людям, он постоянно уверял, что боги существуют там, откуда для людей происходит ужас и несчастье в их злополучной
жизни, — н а воздушной высоте, где блистают молнии, раздаются
удары грома и где украшено звездами небо, прекрасное произведение мудрого зодчего—времени, откуда падают сияющие раскаленные звезды и на землю идет влажный дождь. Окружив людей
такими ужасами и поселив, ради внушения этих ужасов, богов на
подходящем месте, этот человек потушил беззаконие законами.
(Из трагедии «Сизиф»).
)
1
ЭВРИПИД.
На небе боги есть... Так говорят.
Нет! Нет! Нет их! И у кого крупица
Хотя бы есть ума,—не станет верить
Сказаньям старины. Чтобы моих вам слов
Не принимать на веру, докажу вам.
Тиран людей без счету убивает
И грабит их добро; клятвопреступник
Подчас опустошает целый город,
Злодействуя,—и все ж живет счастливей
I Безгрешного, покоем наслаждаясь
И без заботы проводя свой век.
іБогобоязных, но очень слабых
Не мало мне известно городов:
Они дрожат, подавленные силой
Других держав, могучих, но безбожных.
:
(«Беллерофонт». Фрагмент).
ЭПИКУР.
1.
' '
'
Прежде всего, ничто не возникает из ничего. Действительно
(в противном случае), все возникло бы из всего, так как ничто
(для своего возникновения) не нуждалось бы в (определенных)
сменах. И если бы то, что уничтожается, исчезало, превращалось
в ничто, то все вещи совершенно исчезли бы, так как то, во что
они разрешались бы, было бы ничто. Но на самом деле вселенная
всегда была такой, какова она теперь, и вечно остается такой же.
Ведь ничего нет, во что она могла бы перейти. Ибо, кроме вселенной, нет ничего, что могло бы вторгнуться в нее и произвести (в
ней) перемену.
!
I
2.
Миров существует бесчисленное множество—как подобных
нашему миру, так и несходных с ним. Ибо атомы, будучи бесчисленными (как только что доказано), носятся в самых отдаленных
(местах пустого пространства). И такие атомы, из которых мог
бы возникнуть мир или из которых он мог бы быть образован, не
могут быть исчерпаны ни (созданием) одного мира или ограниченного числа их, ни (созданием) миров, подобных нашему или отличных от него. Таким образом, ничто не препятствует (принять)
существование бесчисленных миров.
(Письмо к Геродоту).
3.
О наслаждении.
Когда же мы говорим, что наслаждение есть цель, мы говорим не о наслаждениях распутников и не о вкусовых удоволь-
стаиях,—как полагают некоторые неоведующие, инакомыслящие
или дурно к нам расположенные. Наша цель—не страдать телом
и не смущаться душой. И. не беспрерывные пиршества и пляски,
не наслаждения юношами или женщинами, или же рыбою и всем,
что дает роскошный стол,—не они рождают сладостную жизнь.
Ее рождает трезвый рассудок: он исследует причины всякого
стремления и избегания; он же изгоняет мнения, от коих величайшее смятение охватывает души. И всего этого начало и высшее
благо—мудрость.
Поэтому и у философии в наибольшем почете мудрость. Из
нее рождаются и все прочие добродетели. Они учат, что нельзя
жить радостно, если не жить .мудро, прекрасно и праведно; и
нельзя жить мудро, прекрасно « праведно, если не жить радостно. Так добродетели срослись с жизнью радостной, и радостная
жизнь от них неотделима.
(Из письма к Менойкею).
4.
Самое главное беспокойство бывает у человеческих- душ,
обычно от того, что (люди) считают (небесные светилы) блаженными и вечными (существами) и приписывают им (в то же время)
желания, действия и побуждения, несовместимые с этими их совершенствами (с бессмертием и блаженством), а также от того, что
веря в (иные) миры (люди) ожидают какой-то вечной
ужасной
(кары)или видят в смерти что-то страшное по той причине, что
(умирая) человек лишается сознания, как будто это имеет какоенибудь значение для нас.
(Письмо к Геродоту).
'
5.
Свыкайся также с мыслью, что смерть для нас есть ничто.
В самом деле: всякое благо и всякое зло лежит в ощущении,
смерть же есть прекращение ощущения. Поэтому правильное сознание того, что смерть есть ничто для нас... избавляет нас от
жажды бессмертия. В самом деле: в жизни нет ничего страшного
для того, кто действительно понял, что в том, чтобы не жить,
нет (абсолютно) ничего страшного. Таким образом, вздор несет
тот, кто говорит, что он боится смерти не потому, что она причинит страдания, когда наступит (ее час), но потому, что она
(теперь уже) причиняет страдание (самой мыслью), что она должна когда-нибудь наступить. Ведь когда она наступает, она (уже)
не причиняет беспокойства, а пока она (еще только) ожидается в
будущем, она причиняет страдание (лишь) в воображении. Итак,
самое страшное из зол—смерть—ничто для нас. А когда наступает
смерть, тогда нас нет. Следовательно, она не имеет никакого значения ни для живых, ни для мертвых, так как к первым она не
имеет никакого отношения, а вторые более уже не существуют...
Итак, мудрец не стремится к смерти и не боится ее.
(Письмо к Менойкею).
Смерть есть ничто для нас. Ибо то, что распалось, ничего
(уже) не ощущает; а что не ощущает, то для нас ничто.
, (Основное учение Эпикура в изложении Диогена Лаэрция).
7.
Мы родились один раз, и дважды нельзя родиться, и не дано
нам бытия в течение всей последующей за нами вечности.
(Из новонайденных изречений Эпикура).
8.
Я предупредил тебя, сила случайности, и все твои тайные
подходы и преграды. И не сдамся я ни тебе, ни другому какому
обстоянию. Но когда явится нужда выйти вон из жизни, то, смело
плюнув на нее и на всех, кто в пустоте своих представлений скован, выйдем мы из жизни с прекрасным пэаном на устах и возгласим: «Хорошо мы пожили!»
(Из новонайденных
изречений
Эпикура).
9.
Мы должны признать, что бог или хочет -удалить зло из
мира и не может, или может и не хочет, или, наконец, и может и
хочет. Если он хочет « не может, то он не всемогущ, то это—бессилие, что противно природе бога. Если он может и не хочет, то
это свидетельство злой воли, что не менее противно природе
бога. Если он хочет и может, что является единственным из предположений, которое может быть применено к богу, то почему же,
в таком случае, на земле существует зло?
СТРАТОН ЛАМПСАКСКИЙ.
Я не нуждаюсь в помощи какого бы то ни было бога для
образования мира. Все, что есть, — дело рук природы.
Вся божественная мудрость заключена в природе, которая
содержит в себе причину порождеиия, умножения и уменьшения,
но лишена всякого сознания и всякой личной формы.
(Фрагменты).
ТИТ ЛУКРЕЦИЙ КАР.
1.
Хвала Эпикуру, борцу с религиозными суевериями.
Жизнь человека постыдно у всех на глазах пресмыкалась
Здесь, на земле, удрученная бременем вероученья.
Что из владений небесных главу простирало и сверху
Взор угрожающий свой непрестанно бросало на смертных.
Первый из смертных, кто взоры поднять к нему прямо решился,.
Родом из Греции был; он ему воспротивился первый.
И не святыня бессмертных, ни молнья, ни грома раскаты
С неба его удержать не могли, но с тем большей отвагой
Силы души он своей напрягал, чтобы ранее прочих
Крепкий замок сокрушить у затворенной двери природы.
Победоносно принес нам познанье тот грек о возможном
И невозможном в природе, а также о силах предельных
В каждом предмете, о целях конечных, что ставит рассудок,—
Так что религии все суеверья у нас под ногами
Вновь очутились, а мы той победой вознесены к небу.
Сильно боюсь я притом, чтобы как-нибудь ты не подумал,
Будто ученья сего нечестивые свойства к пороку
Путь указуют тебе. Между тем как религия эта
Часто сама побуждает к преступному, грешному делу,
Как это было в Авлиде. На жертвенник Тривии чистой
Пролита кровь Ифигении юной была святотатно
Рати данайской вождями, мужами первейшими края.
Как только голову дева покрыла священной повязкой,
Что, по щекам ниспадая, лицо с двух сторон окаймляла,
И увидала отца она, тут же стоявшего в грусти
У алтаря, и прислужников, скрывших орудие смерти,
И проливавших при этом горячие слезы сограждан,—
В страхе она онемела; к земле подогнулись колени.
Не послужило несчастной к спасенью и то, что впервые
Именем нежным отца ею назван был царь Агамемнон.
Всю трепетавшую в страхе ее на руки воины взяли
И на алтарь понесли; но не с тем, чтоб, окончив обряды,
К светлому богу примкнула она Гименею, но чтобы
Жертвою пала, рукою отца святотатно закланной.
Девственно чистая, в светлый торжественный день ее брака,—
Да ниспошлется удача и счастье в отплытии флоту.
Вот к изуверству какому религия может понудить!
(«О природе
вещей»).
2.
Из ничего ничего не возникает и ничто не обращается в ничто*.
Первоначальное правило ставит природа такое:
Из ничего даже волей богов ничего не творится.
Страх суеверный, однако же, смертных настолько объемлет,
Что и в вещах, наблюдаемых здесь, на земле, и на небе,
Многое соизвольем богов объяснить они склонны,
Главной причины явлений добиться никак не умея.
Раз мы уверены в том, что ничто создаваться не может
Из ничего, то вернее поймем мы предмет изученья:
Именно то, из чего могут вещи родиться, а также—
Где, каким образом зиждется все без участья бессмертных.
Если бы из ничего созидалось что-либо, то также
Все существа породить бы могли без семян что угодно:
ІуЛюди водились бы в море, в земле же могли бы родиться
Чешуеносные рыбы и птицы, а с неба сбежало б
Стадо скота, и породы неведомой хищные звери
Жили бы вместе в пустынных местах и краях населенных.
И не всегда однородные были б плоды на деревьях,
А вперемежку плоды все росли бы на дереве всяком.
Так что, не будь родовых таких телец у особи каждой,
В чем сотоять бы могло постоянство зачатья в природе?
Ныне рожденье существ от зачатков известных зависит;
Только оттуда они возникают и жизнь получают
Там лишь, где есть их материя, их родовые зачатки.
А потому невозможно, чтоб все из всего возникало,
Так как известным созданьям присущи известные свойства.
Кроме того для чего созерцаем мы розу весною,
Злаки же летом, а сладостные осенью лозы,
Как не затем, чтобы все семена собирались во время
Определенное, чтоб сообразно со временем года
Все раскрывались создания, и животворная почва
Отпрыски нежные вынести к свету могла безопасно?
Из ничего существа нарождались бы сразу, к любому
Сроку, и без соответствия каждому времени года,
Так как в них не было б телец первичных, развитие коих
Несоответственным временем года могло б задержаться.
Не было б, далее, нужды во времени также для роста
Всяких зародышей, если бы из ничего возникали.
Сразу б из малых детей существа становились юнцами,
И густолиственный лес из земли вырастал бы мгновенно.
А между тем ничего не бывает подобного. Тцари
Всякие мало-помалу-растут из известных зачатков,
Род свой притом сохраняя. Поэтому можешь ты видеть,
Что из материи собственной все возрастает на свете...
Надо заметить еще: разлагает природа все вещи
На составные частицы, пропасть же ничто в ней не может.
Если б погибнуть могли составные частицы все эти,
То существа умирали б, внезапно из глаз исчезая,
Ибо не нужно бы было усилий к тому, чтоб частицы
Разъединить в каждой вещи и связь между ними расторгнуть.
Ныне, когда составляется все из бессмертных зачатков,
Не допускает природа, как видишь ты, смерти, доколе
Сила не явит себя, иль ударом предмет разрушая,
Или его разлагая, проникнув во внутрь чрез пустоты...
Значит, не гибнет бесследно ничто из того, что мы видим,
Но возрождает природа одно из другого. Не может
Вещь народиться одна, пока не погибнет другая.
Как я сказал уже, из ничего не рождаются вещи,
Также не могу тони, народившись в ничто обратиться.
>
(«О природе
вещей»).
3.
Земля породила все земные твари. Неудачные виды погибли,
удачные сохранились. Ныне земля потеряла свою силу рождения.
...Вполне но заслугам земля получила
Матери имя. Она человеческий род сотворила,
И приблизительно в это же время родила животных;
Создала все, что привольно в высоких горах проживает
И в виде птиц разноперых по воздуху реет свободно.
Но, так как должен предел быть такой плодотворной работе,
То и земля перестала рожать, как в годах престарелых
Женщина. Время меняет ведь всю мировую природу,
И за одним состоянием следует вечно другое.
Мир не коснеет в одном положении. Все — преходяще, .
Все изменяет природу и все к превращению стремится.
Тлеет одно и от дряхлости чахнет, тогда как другое,
Наоборот, возрастает и выйти из мрака стремится.
Так изменяется с возрастом сущность великого мира;
Из одного состоянья земля переходит в другое:
Прежних нет свойств у нее, но есть то, чего не было прежде.
Почва в ту пору создать постаралась немало чудовищ
Странной наружности, с членами, соединенными вместе:
Гермафродитов, равно на мужей и на жен непохожих.
Много земля сотворила уродов безногих, безруких,
Рта совершенно лишенных, подчас со слепой головою,
Или же с телом, в котором все члены срослись и сцепились,
Так что они ничего не моглш предпринять или с места
Двинуться, с тем чтоб бежать от беды и достать пропитанье.
Много диковин и чудищ земля создала в этом роде,
Но понапрасну. Природа развитие их преградила.
Сил не хватало у них, чтобы зрелости полной достигнуть,
Чтобы достать себе корм и сходиться для дела Венеры.
Много условий сойтись воедино должно, как мы видим,
Чтобы порода могла свою жизнь продолжать, размножаясь:
Пища нужна подходящая, нужно затем, чтоб в сосуды
Самок проникнуть могло детородное семя из членов,
И чтобы самки с самцами могли сочетаться и были
Связаны между собой наслаждением страсти взаимной.
В пору ту многие виды животных должны были сгинуть
И не могли свою жизнь продолжать, размножая потомство.
Виды же те, что доныне вдыхают живительный воздух,
Испокон века от гибели племя свое сохраняют
Хитростью или отвагою, или же ловким проворством.
Твари другие, в виду доставляемой пользы, вверяют
Жизнь свою нам и находятся под попечением нашим.
4.
Дух и душа телесны.
Ныне скажу я, что дух и душа тесно связаны вместе
Между собой и одно существо из себя представляют.
Но во главе стоит, так сказать, телом всем правит сознанье,
Именно то, что зовется обычно рассудком и духом.
В области средней, в груди пребывает наш дух постоянно,
Здесь разгорается трепет и страх: вокруг этого места
Радость блаженствует. Значит, здесь дух, здесь рассудок
!
'
ютится.
Части же нашей души по всем членам рассеяны в теле
И повинуются в разных движениях приказу рассудка.
Он лишь один в себе смысл заключает и самодовлеет,
Даже, когда ничего не влияет на душу и тело.
И на подобье того, как мы боль головы или глаза
Чувствовать можем, не чувствуя общего в теле расстройства,
Также и дух иногда ощущает большое страданье,
Или же радость вкушает, тогда как в суставах и членах
Части души впечатлений особых совсем не приемлют.
Если ж, рассудок объемлется страхом чрезмерным,
То мы заметим сочувствие целой души во всех членах:
Пот выступает обильно, и бледность по целому телу
Распространяется, речь заплетается, голос слабеет,
Блекнут глаза, звон в ушах раздается, и гнутся колени.
Мы, наконец, замечаем, как трепетом духа объяты
Падают замертво люди. Легко заключить нам отсюда,
Что тесно связана с духом душа, что душа, силой духа
Будучи потрясена, повергает на землю все тело.
То, что наш дух и душа суть телесны, докажут нам те же
Доводы. Иначе, как бы могли они члены к движенью
Вынудить, тело от сна пообуждать изменять выраженье
Лиц й людьми всеми править, ворочая их как угодно?
Все это быть не могло бы, понятно, без прикосновенья:
Прикосновенье же быть не могло бы без тела. Не правда ль,
Надо признать нам, что дух и душа по природе телесны?
Дальше мы видим, что тело и дух в направленьи едином
Действуют, и заодно ощущенья приемлют друг с другом.
Если стрела, проникая внутрь тела, нам нервы и кости
Сильно заденет, но не угрожает опасностью жизни,
То вызывается слабость, желание томное падать;
И на земле уже, после паденья рассудок в тревоге
Склонность неясную снова подняться являет нередко.
Следует, значит, признать нам, что духа природа телесна,
Так как стрелы пораненье ему причиняет страданье.
5.
Возникновение религии, истбчника стенаний и слез.
Ныне скажу, почему у народов богов почитанье
Распространилось, и стали полны города алтарями;
Что отправлять заставляло роскошные богослуженья,
Кои остались доныне в больших государствах и странах;
Также — откуда доныне вселяются в смертных те страхи,
Кои богам на земле воздвигают все новые храмы
И заставляют по праздникам богослужение править.
Все здесь без большого труда объясню я стихами.
В те времена поколению смертных казалось, как будто
Образы светлых богов наяву они видят порою,
Но еще больше во сне поражали их боги величьем.
Чувства приписаны были богам, потому что казалось,
Будто бы члены их двигались и раздавался надменно
Голос, вполне подходящий к их ликам и силам огромным.
Вечная жизнь им присвоена в силу того, что их образ
Вечно стоял на пути, сохраняя свои очертанья.
Люди к тому же не думали, чтобы богов при их силе
Сила какая-нибудь в состояньи была уничтожить.
Боги, по мнению людей, обладали и счастием высшим,
Ибо не мучил нисколько их страх перед смертью грядущей,
И, как казалось во сне, они много чудес совершили,
Не ощущая притом утомленья от этой работы.
Смертные видели определенный порядок явлений,
В небе бывающих, и времен года чреду круговую,
Но не могли объяснить, отчего это все происходит.
Им представлялся один лишь исход: представить богам все
И допустить, что по воле богов все на свете вертится.
Люди, жилища и троны богов помещали на небе,
Ибо у всех на глазах пробегали там солнце и .месяц,
Ночи сменялися днями, носились там строгие звезды,
Много огней, среди ночи блуждающих, и метеоры,
Ветры/дожди, облака со снегами, с росистою влагой,
Молния быстрая и грохотание грозное грома.
О, род несчастный людей, приписавший такие явленья
Воле богов и прибавивший к этому гнев их ужасный!
рколько стенаний ты сам приготовил себе, сколько муки
Нам причинил, сколько слез ты доставишь наследникам нашим!
Ведь бдагочестье не в том состоит, чтоб с покрытой главою
К камням немым обращаться и всем алтарям поклоняться,
Также не в том, чтобы, долу простершись и руки воздевши,
Перед божественным храмом алтарь обагрять изобильно
Кровью животных, при этом плести за молитвой молитву.
Нет, оно—в том, чтобы с духом покойным глядеть на все вещи.
Часто, когда созерцаем мы над головою своею
Бездну небес с постоянным мерцанием звезд по эфиру,
Или на ум нам приходит вращенье луны или солнца,
В нашей груди начинает главу поднимать беспокойство,
В обыкновенное время забитое прочими муками жизни:
Не проявляются ль тут необъятные силы бессмертных,
Коими ясные звезды вращаются в разном движеньн?
Бедность познаний у нас поселяет в рассудке сомненье:
В чем состояло начало творящее целого мира?
Что за конец предстоит ему? Долго ль еще грани мира,
Смутой объятого, смогут нести тяготу возмущений?
Или же мир наделен был богами бессмертною жизнью,
Так что, влекомый теченьем веков, постоянно он может
Пренебрегать необъятного времени грозною силой?
Да! у кого пред величьем богов не сжимается сердце?
И у кого не немеют все члены от сильного страха,
При сотрясении земли от удара палящего молний
И при раскатах сердитых по небу гремящего грома?
Разве при том не дрожат племена и народы? И разве
Даже у грозных царей не отъемлются члены от страха,
Как бы пора не пришла дать отчет и принять наказанье
За совершенное зло и за все их надменные речи?
А когда грозная сила бушующих ветров порою
Через морские пучины влачит предводителя флотов
Вместе с его легионами мощными и со слонами,
Разве богам не дает он обетов, не просит в молитвах
О ниспосланьи хорошей погоды и ветров попутных?
Но понапрасну. Нередко, неистовой силою ветров
Схваченный, все ж он не тише уносится к отмели смертью.
Вот до чего разрушает какая-то скрытая сила
Планы людей. Благолепные ликторов прутья, секиры
Топчутся в прах и становятся общим посмешищем часто.
И, наконец, когда почва колеблется вся под ногами,
И города, грозя гибелью, рушатся от сотрясенья,
Не удивительно, что поколенье людей так страшится,
Предоставляя всю власть и чудесные многие свойства
Силе бессмертных богов, управляющих будто бы миром!
(«О природе
вещей»).
ЛУКИАН САМОСАТСКИЙ.
1.
Хорошо, что ты мне напомнил о мнениях различных народов,
Тимокл, ибо ничто так ясно не показывает, как мало твердого
в рассуждениях о богах. Много здесь путаницы, іи различные люди
почитают разное: скифы приносят жертвы кривому мечу, фракийцы—Замолксиду, беглому человеку, пришедшему к ним с Самоса, фригийцы—месяцу, эфиопы—дню, киллены—Фаллету, ассирийцы—голубю, персы—огню и египтяне—воде. Впрочем, вода—
это общеегипетское божество; в частности же, в Мемфисе чтут
богом быка, -в Пелузии—лук, а в других местах—ибиса, крокодила
или существо с собачьей головой, кошку или обезьяну; и для
одних деревень правое плечо—бог, а для других—левое, и некоторые молятся надвое рассеченной голове, другие же—глиняному
кубку или чаше. Не смешно ли все это?
(«Зевс
Трагический»),
2.
Я бы мог указать тебе множество любителей лжи среди людей,
в остальном рассудительных и возбуждающих ' удивление своим
умом, подчинившихся — каким образом, не знаю — власти этого
порока. И меня мучит, что таким превосходным во всех отношениях людям доставляет удовольствие обманывать себя и окружающих. Ты сам знаешь лучше меня древних писателей — Геродота,
Ктесия Книдского и их предшественников—поэтов, самого, наконец, Гомера—мужей прославленных, письмом закреплявших ложь,
благодаря чему они обманывали не только своих тогдашних слушателей: хранимая в прекрасных рассказах и стихах, их ложь
преемственно дошла и до нашего времени. Право, мне часто бывает стыдно за них, когда они начинают повествовать об оскорблении Урана, оковах Прометея, о мятеже гигантов и о всех ужасах обители Аида, или о том, как Зевс из-за любви становился
быком или лебедем, как такая-то женщина превратилась в птицу,
а другая—в медведицу, когда они повествуют о Пегасах, Химерах,
Горгонах, Киклопах и тому подобных совершенно невероятных
и удивительных сказках, способных очаровать душу ребенка, который еще боится Мормо и Ламии. іВпрочем, в рассказах поэтов
мы, пожалуй, находим все же известную меру; но разве не смешно,
что даже города и целые народы лгут сообща и открыто? И если
критяне не стыдятся показывать могилу Зевса, а афиняне говорят,
что Эрихтоний вышел из земли и первые люди выросли из аттической почвы, словно овощи, то все же они оказываются гораздо
рассудительнее фиванцев, которые повествуют о каких-то опартах,
происшедших от посеянных зубов змея. Тот же, кто не считает все
эти забавные рассказы за правду и, разумно исследуя их, полагает,
что только какой-нибудь іКореб или Маргит1 может верить, будто
Триптолем летал по воздуху на крылатых драконах, Пан пришел
из Аркадии на помощь в Марафонском сражении, а Орифия похищена Бореем,—такой человек оказывается безбожником и безумцем, потому что не верит в столь очевидно истинные происшествия. Так велика сила лжи!
. («Любитель лжи»).
3.
Всего больше я удивлялся тем (философам), которые, призывая некогда бога, творца всего, не могут объяснить ни того,
откуда он явился, ни того, где он находился, когда творил мир:
ведь невозможно мыслить время и пространство прежде всякого
-бытия...
(«Икароменипп»),
1
Маргит—:тип простака, герой шутливой эпической поэмы, до нас не дошедшей. Кореб—:•такой же сказочный тип, напоминающий Маргита.
ВОЛЬНОДУМЦЫ
ПЕРЕХОДНОЙ
ЭПОХИ
ФРАНСУА РАБЛЭ.
1.
Как Гоменац, епископ папиманский, показывал нам упавшие с не^
бес декреталии и первообраз папы.
... Потом Гоменац нам сказал:
—• Нашими священными декреталиями нам вменяется в обязанность и приказывается чаще посещать церкви, нежели кабаки.
Поэтому, не уклоняясь от этого прекрасного постановления, отправимся в церковь, а потом уже пойдем пировать.
— Так идите же, добрый человек,—-сказал брат Жан,—вперед,
а мы пойдем за вами. Вы прекрасно сказали,—-как добрый христианин. Давно уже мы не видели церкви. Дух мой возрадовался,
и я думаю, что от этого я только лучше покушаю. Чудесно встретиться с порядочным человеком!
Приблизившись к двери храма, мы заметили большую вызолоченную книгу, всю покрытую редкими и драгоценными камнями:
рубинами, изумрудами, брильянтами и жемчугами, более или, по
крайней мере, столь же замечательными, как те, которые Октавизн
Август пожертвовал в храм Юпитера Капитолийского. Книга висела в воздухе на двух толстых золотых цепях, прикрепленных
к фризу портала. Мы с восхищением глядели на нее.
Пантагрюэль свободно трогал ее руками и поворачивал, потому что ему легко было достать ее. Он уверял нас, что, прикоснувшись к ней, он ощущает как -бы легкий зуд в ногтях и легкость
в -руках, а вместе с тем в мыслях страшное искушение -поколотить
одного-другого служителя,—только без тонзуры.
Тогда Гоменац сказал нам:
•
— Некогда евреям был вручен Моисеем закон, написанный
собственными перстами бога. В Дельфах на фа-саде храма Аполлона было найдено божественного начертания изречение: «Познай
самого себя!» По истечении -некоторого времени там же увидели
еще -слово «Еі» (ты еси), также божественного начертания и сошедшее с небес.
— Здесь вы тоже видите,—-продолжал он,—священные декреталии, написанные рукою ангела-херувима. Впрочем, вы, люди
заморские, не поверите этому.
— Да, не слишком-то, — вставил Панург.
Епископ продолжал:
— А между тем они чудесным образом спустились к нам с
высоты -небес, подобно тому как,— согласно Гомеру, отцу всей (за
исключением, конечно, божественных декреталий) философии,—
река Нил, которая называется оттого «происходящей от Юпитера».
Но так как івы видели папу — благовестителя этих декреталий
и вечного их блюстителя,—мы дозволим вам посмотреть на них
и приложиться к ним, если вы хотите. Но прежде вам надлежит
три дня поститься и по правилам исповедываться, перебрав тщательно и перечислив все свои грехи, так чтобы не уронить ни
одного прегрешения на землю, как божественно поется в этих
священных декреталиях. А на это надо время.
— Вот что, добрый человек,—заявил Панург,—всяких декреталий мы видели много — и на бумаге, и на пергаменте, и на
велене, и рукописных, и отпечатанных. Нет нужды трудиться
показывать нам эти. Мы довольствуемся добрым вашим желанием
и благодарим вас.
— Но, поистине, — сказал Гоменац, — вы никогда не видали
таких, ангелом написанных. Те, что у вас в стране, только списаны с наших, о чем сказано в сочинениях одного из -наших древних толкователей декреталий. В конце концов, пожалуйста, не
жалейте моих трудов, но только решите: хотите ли вы исповедываться и поститься — всего три прекрасных коротеньких божьих
дня.
— Исповедываться,—сказал -Панург,—мы согласны вполне, но
только пост нам некстати, потому что мы на море напостились
так, что пауки покрыли нам зубы паутиной. Вот поглядите на
доброго брата Жана (Гоменац при этих словах приветливо поцеловал що),—у него мох во рту вырос от недостатка упражнения
челюстей и ігуб.
— Он говорит правду,—отозвался брат Жан,—я так усе-рдно
постился, что стал совсем горбатым.
— -Ну, так пойдем в церковь,—оказал Гоменац,—и простите
нас, если мы сейчас не пропоем для вас прекрасной обедни. Час
полуденный прошел, а священные декреталии запрещают нам
после него служить обедню,—я хочу сказать: полную, с пением,—
но я вам отслужу краткую, без пения, так называемую сухую.
— Я бы предпочел,—сказал Панург,—напротив, мокрую- от
хорошего анжуйского вина. Ну, бейте, да покороче!
— Ах!—сказал брат Жан.—Не нравится мне очень, что мой
желудок еще пуст. Потому что, если бы я хорошо позавтракал
и по монашескому обычаю выпил, то, когда он запел бы реквием,
я принес бы с собой и хлеб и вино за умерших. Но—терпение! Ну,
грабьте, бейте, но только поскорее, чтобы меня не стошнило от
голода, да и другого чего не приключилось. Пожалуйста!
По окончании мессы Гоменац вытащил из ларца у главного
алтаря ібольшую связку ключей, которыми отпер тридцать два
замка и четырнадцать задвижек, на которые запиралось окно с
толстой железной решеткой, бывшее над вышеупомянутым алтарем. Затем он с таинственным видом накрылся мокрым мешком и,
раздвинув алый атласный занавес, показал нам за ним чье-то изображение, написанное довольно плохо, по моему мнению. Прикоснувшись к нему длинным жезлом, он дал нам поцеловать кончик, которым трогал картину. И спросил нас:
— Чье, вам кажется, это изображение?
— Это,—отвечал Пантагрюэль,—похоже на папу. Я узнаю
его по тиаре, омофору, мантии, туфлям.
— Вы говорите верно,—сказал Гоменац.—Это—идея всеблагого бога на земле, прибытия которого мы благоговейно ждем и
которого надеемся когда-либо узреть в нашем краю. О, счастливый, вожделенный, долгожданный день! И счастливы и трижды
счастливы вы, которым звезды были столь благоприятны, что вы
в лицо и в действительности видели этого земного бога, взирая
даже только на портрет которого мы получаем полное прощение
всех грехов, которые помним, и одну третью часть и восемнадцать
сороковых—забытых. Потому-то мы и видим его лишь по большим годовым праздникам.
Тогда -Пантагрюэль заметил, что это изображение напоминает
работу Дедала. Даже, если это подделка и плохое изображение,
в нем скрыта какая-то божественная сила, касающаяся прощения.
— Как и в Севилье,—сказал брат Жан,—однажды какие-то
бездельники за ужином в праздник в госпитале расхвастались
друг перед другом, что один за день заработал шесть бланков,
другой—два су, третий—семь каролюсов, а какой-то толстяк-нищий—три хороших тестона. «Значит,—заметили его товарищи,—
у тебя божья нога». Как будто некое божество скрывалось в' его
гнойной, покрытой струпьями ноге!
— Когда вы будете рассказывать нам такие басни, — сказал
Пантагрюэль, — не забывайте приаосить с собою таз. Меня чуть было не вырвало. Произносить святое имя божье, говоря о таких от,*
вратительных, грязных предметах! Фу! Фу! Если ваше монашество так злоупотребляет словами, так и оставляйте их, по крайней
мере, у себя: не выносите из монастырей.
— Но и врачи—возразил Эристемон,—привнают известного
рода причастность божества к некоторым заболеваниям. Вот и
Нерон хвалил грибы и, іпо греческой поговорке, называл их пищей
богов, потому что ими он отравил своего предшественника Клавдия, императора римского.
— Мне кажется,—сказал Панург,—что этот портрет -не походит на наших последних пап, потому что я видел их без омофора,
но со шлемом на голове и с персидской тиарой; и в то время как
во всем христианском мире царили мир ;и спокойствие, они одни
вели жестокую и вероломную войну.
_ Это,—сказал Гоменац,—была война против непокорных,
бунтарей, еретиков, отчаянных протестантов, не повиновавшихся
его святейшеству, сему благому богу на земле. Такая война не
только дозволительна и разрешена, но и прямо предписывается
священными декреталиями. И папа должен немедленно предавать
огню и мечу всех императоров, королей, герцогов, князей, республики, если те хоть на йоту отступят от его приказаний; должен
лишить их имущества, отнять у них королевство, отправить их
в изгнание, предать анафеме и уничтожить их не только телесно,
вместе с детьми и прочими родственниками, но и души их осудить на ввержение в самую раскаленную из адских печей.
— Здесь,—сказал Панург,—клянусь всеми чертями, здесь отнюдь не еретики, не то что Раминагробис или там некоторые немцы да англичане. Вы все—христиане на подбор.
— Поистине так,—'согласился Гоменац,—поэтому мы все и
будем спасены. Ну, а теперь возьмем святой воды, и затем будем
обедать.
(«Гаргантюа и Пантагрюэль»).
2.
Каким странным образом родился Гаргантюа.
В то время, как гости обменивались пьяными прибаутками, у
Гаргамели начались боли в животе, и Грангузье поднялся с травы
и честно принялся успокаивать ее, думая, что это родовые боли,
и гбворя ей, чтобы она прилегла на траву под ивами и что скоро
у нее отрастут новые ноги; поэтому надо вооружиться новым мужеством, в ожидании появления крошки. Хоть боль будет и очень
неприятная, но она не долго продлится; зато радость, что придет
ей на смену, уничтожит горечь боли, так что даже и воспоминания
о ней не останется.
— Я докажу тебе это,—говорил он.—В евангелии от Иоанна,
гл. XVI, наш спаситель говорит: «Женщина, когда рожает, скорбит, но, когда родит младенца, о скорби своей забывает».
— О,—-сказала она,—вы хорошо говорите, и я предпочитаю
слушать такие евангельские тексты: мне они гораздо приятнее,
чем житие святой Маргариты или другие ханжеские жития.
— Не бойся, моя ярочка, поспеши с этим, а там скоро сделаем
другого.
— О,—сказала она,—вам, мужчинам, легко говорить! С божьей помощью, я уж потружусь ради тебя. Но дал бы бог, чтобы
вам его отрезали.
— Что,—сказал Грангузье.
— О,—сказала она,—как вы простодушны! Вы Ътлично понимаете.
— Ну, если вам угодно, велите принести нож.
— Нет,—сказала она,—не дай бог! Прости меня, господи! Я
ведь так только сболтнула. Не придавайте моим словам значения.
Но мне сегодня придется помучиться, если бог не поможет,—и
все ведь из-за вашего удовольствия...
— Мужайтесь, милая!—сказал он.—Не беспокойтесь ни о чем;
главное уже сделано. Пойду выпью еще чего-нибудь. Если в это
время вам будет больно, я буду близко. Хлопните в ладоши, я
сейчас прибегу.
Немного погодя Гаргамель начала вздыхать и жалобно кричать. Тотчас гурьбою сбежались отовсюду повитухи и, ощупывая
ее снизу, нашли обрывки какой-то кожи, прескверного запаха,—
и они подумали, что это ребенок, но это была прямая кишка, которая у нее выпала благодаря ослаблению, происшедшему от того,
что она, как сказано выше, объелась потрохами.
Поэтому одна препоганая старуха-бабка, пользовавшаяся славой великой лекарки, выселившаяся из Бризпайля, близ Сен-Жену,
лег за шестьдесят до того, дала роженице такого средства от поноса, что у той закупорились и стянулись кишки, так что (страшно
подумать!) их едва ли смогли бы растянуть даже зубами, хотя на
месте святого Мартина дьявол зубами сумел хорошо вытянуть
даже пергамент, на котором записывали болтовню куртизанок.
Благодаря этому печальному случаю получилась вялость матки, ребенок проскочил по семяпроводам в полую вену и, вскарабкавшись по диафрагме до плеч, где вена раздваивается, повернул налево и вылез через левое ухо.
Едва родившись, он не закричал, как другие младенцы: «Уа»,
но громким голосом заорал: «Пить, пить, пить!»—будто всех приглашал выпить.
Я подозреваю, что вы не верите такому -странному рождению.
Если не верите, мне дела нет; но порядочный и здравомыслящий
человек верит во все, что ему говорят и что написано. См. «Притчи
Соломоновы», гл. -XIV: «Невинный верит каждому глаголу»; св.
апостола Павла «Первое послание к коринфянам», гл. XIII: «Милостивец верит всякому». Почему же вы не верите? Никакой видимости правды,—скажете вы. Я же вам скажу, что именно по этой
самой причине вы должны верить совершенною верою: ибо сорбонисты говорят, что вера есть «вещей обличение невидимых».
Разве противоречит этот случай нашей религии, закону, разуму и священному писанию? Что до меня, я не нахожу в святой
библии ничего, чтобы противоречило этому. Но если бог так хотел,
то ведь не скажете же вы, что он не мог этого -сделать. О, прошу
вас, никогда не смущайте своей души подобными суетными мыслями; ибо, говорю вам, для бога нет ничего невозможного, и если
бы он захотел, то все женщины рожали бы детей через уши. Разве
не родился Вакх из бедра Юпитера? Роктальяд—из пятки своей
матери? Крокмуш—из туфли кормилицы? Разве Минерва не родилась через ухо из Юпитерова мозга? А Адонис—из коры миррового дерева? Кастор и Поллукс—из яйца, снесенного Ледой? Но
вы еще более были бы поражены -и изумлены, если бы я сейчас це-
ликом прочитал вам главу из Плиния, в которой говорится о странных и противоестественных случаях рождения. А я, во всяком случае, не такой самоуверенный врун, каким был он. Почитайте
седьмую книгу его «Натуральной истории», глава III, и не морочьте
мне голову.
(«Гаргантюа и Пантагрюэль»).
МИШЕЛЬ МОНТЭКЬ.
Фрагменты из «Опытов».
1.
Раз природа вводит и верования, и оценки, и мнения людей
в рамки определенного, им свойственного развития, подобно тому
как она это делает с остальными вещами, раз эти мысли и воззрения, подобно какой-нибудь капусте, имеют свой цикл развития,
свое время года, свое рождение и смерть, то как можно приписывать им вечный, незыблемый, общеобязательный авторитет?
2.
Человек и его боги.
J
Человек не в состоянии создать даже сырного клеща, а творит богов дюжинами, теперь даже тысячами, и указывает, до каких пределов распространяется их мощь. Он решает, кто из богов
или святых, столь забавно разрисованных древними, стар и дряхл,
кто из них женат, кто остался холостым; кто из них молод и силен, кто излечивает лошадей, кто помогает против паршей, кто —
против кашля, кто — против одного рода чесотки, кто — против
другого рода, кто имеет в своем ведении виноград, кто — воды,
кто распоряжается сладострастием, а кто — товарами. Каждая категория ремесленников имеет своего бога. Между этими богами
имеются такие хилые и такие вульгарные, —ведь их число некогда
было так велико, что доходило по крайней мере до тридцати шести тысяч. Им нужно было собраться в числе до пяти или шести
тысяч, чтобы произвести один пшеничный колос. Три бога имели
в своем ведении двери: один — самую дверь, другой — ее петли,
третий—-порог. Четыре бога состояли при колыбели ребенка:
один распоряжался его пеленками, другой — его питьем, третий —
пищей, четвертый — соской. И каждому из них поклонялись разными обрядами. И в конце концов досадно становится, когда видишь, как люди страшатся собственных своих выдумок и уловок,
словно ребята, пугающиеся тех самых разрисовок, которые они
намазали на лицах своих товарищей по играм.
3.
Введение человека в сонм богов—величайшая нелепость.
Это уже переходит за всякие пределы нелепости. Я бы скорее
последовал за теми, кто обожествлял змею, собаку или быка, ибо
их природа нам, по крайней мере, менее известна, и мы имеем
больше основания воображать о животных все, что нам заблагорассудится, и приписывать им исключительные свойства. Но превращать в богов наши хилые существа, все несовершенство которых мы должны же'знать; но приписывать богам наши желания,
гнев, месть, зарождение, любовь, ревность, наши члены и наши
кости, наши лихорадки и наши удовольствия, наши смерти и наши
гробницы, или — что все равно —• приписывать божественные свойства нашей вере, нашим добродетелям, чести, миру, согласию; победе, милосердию или даже похоти, надувательству, смерти, зависти, старости, нищете, страху, лихорадке, неудачам и другим бедам
нашего хрупкого и несостоятельного существования,—это может
измыслить лишь совершенно одурманенный человеческий мозг,
4.
Религия — источник ненависти и кровожадности.
Нет такой безбрежной вражды, как христианская. Наше рвение творить чудеса, когда оно подталкивает нашу склонность іс
ненависти, жестокости, тщеславию, скупости, разрушению, возмущению... И совсем наоборот—в отношении доброты, мягкости,
умеренности... Если случайно редкий темперамент не толкает к
ним человека, он к ним сам — ни на шаг... Ваша религия создана
как бы для того, чтобы лишать людей зрения. Она закрывает им
глаза, она их питает собою, она их подстрекает. И, действительно,
нет войн столь жестоких и столь кровавых, как те, которые ведутся по религиозным мотивам или под религиозным предлогом,
ибо каждый кидается тогда в бой слепо, со рвением, с бешенством
и старается превратить своего врага в жертвоприношение богу.
5.
Как возникают чудеса.
Удивительно, — из каких незначительных пустяков и по каким ничтожным поводам зарождаются обычно столь общие настроения, как, например, вера в чудеса^ Мы часто представляем:
себе издали странные образы, которые рассеиваются по мере приближения к ним. Все пресловутые чудеса и странные явления теперь скрываются от меня. Я наблюдал за свою жизнь зарождение
нескольких чудес, и хотя они рассеивались тотчас же по своем
зарождении, однако, можно себе представить дальнейший путь их
развития, если бы они продержались в течение известного вре-
мени, ибо обычно достаточно бывает ухватиться за конец нити, а
потом наматывают уже сколько душе угодно. Между «ничто» и
самой ничтожной вещью расстояние гораздо большее, чем между
ничтожной вещью и самой большой. Когда те, кто первыми были
поражены какой-нибудь представившеюся им необычайностью, начинают распространять рассказ о ней, они чувствуют по возражениям, где кроется трудность убеждения других, и они законопачивают эти места какими-нибудь выдумками, к которым каждый
последующий рассказчик прибавляет какую-нибудь отсебятину.
Так общественное заблуждение создает заблуждение частное. Так
воздвигается здание чуда, приукрашиваемое и расширяемое от
одного к другому, таК что наиболее отдаленный свидетель наилучше осведомлен, чем наиболее близкий, и последний, которому
сообщили о чуде, сильнее верит в его подлинность, чем первый
очевидец. Таков естественный процесс.
Нет ничего такого, к чему бы люди имели большее стремление,
нежели распространение их верований. Когда простые средства
оказываются недостаточными, они прибегают к власти или к силе
огня и меча. Несчастье то, что вернейшим показателем истины
является толпа верующих, — толпа, в которой полоумные так
сильно превосходят число разумных. Что касается меня, —^раз
ія не поверил в одну выдумку, я не поверю уже и в сотню других,
>і вообще я не сужу о верованиях по длительности их существования. Обман охотно драпируется в тогу благочестия.
6.
Чудеса соответствуют нашему неведению в отношении природы, а не самой природе как она есть.
7.
Когда христиане наталкиваются на вещь, совершенно невероятную, это служит им поводом верить, и они тем больше верят
в нее, тем больше принимают ее своим.разумом, чем больше она
идет против человеческого разума. Но именно это с очевидностью
доказывает их ослепление и ложность их учения.
8.
»
На основании какой справедливости боги могут вознаграждать человека за его добродетельные поступки, раз они же сами
подготовили и произвели их в нем? И почему они негодуют на
него и карают его за порочные поступки, раз они сами создали
его с дурными наклонностями и могли бы одним движением свощі
воли удержать от греха?
ДЖОРДАНО БРУНО
1.
Вселенная охватывает все бытие целиком, ибо вне бесконечного бытия и кроме бесконечного бытия нет никаких «вне», никаких «по ту сторону»... Вселенная есть единое, бесконечное, не- подвижное... Оно не движется от места к месту, так как вне его
нет ничего, куда бы оно.могло передвинуться, ибо ведь оно само
есть все... Оно не изменяется, переходя в другую природу, потому
что нет ничего высшего, воздействие которого испытывало бы
бесконечное.
2.
Глупо думать, подобно, простонародью, что нет ни других
созвездий, ни духа, ни разума, кроме известных нам... Думать, что
нет больше планет, кроме тех, которые нам известны,—это немного разумнее, чем если бы кто полагал, что в воздухе летают
лишь те птицьфкоторых он только что видел пролетающими мимо,
глядя в свое маленькое окошко.
1
/
'
'
Вначале было семя, потом —• стебель, затем колос, хлеб, пища, животное семя, зародыш, человек, труп, земля, камень или
другое вещество и т. д. Существует нечто, что превращается во все
вещи и все-таки остается самим собой. И, действительно, кажется,
нет ничего неизменного и по существу достойного своего имени,
кроме материи. Материя, абсолютно мыслимая, обнимает все формы измерения. Но бесконечное разнообразие форм проявления материи творится не из чего-либо внешнего, но из нее самой. Если
мы говорим, что где-то что-то умирает, то эта смерть есть только
переход к новому бытию, освобождение связи элементов, которая
сейчас же превращается в другую.
—
(«Opère italiani»)
4.
Знает Юпитер и то, что состав вечной вещественной субстанции (каковая не может ни произойти из ничего, ни обратиться
в ничт©, но способна и к разрежению, и к сгущению, к изменениям
формы, порядка, фигуры) разрушается, сложность колеблется, фигура переиначивается, судьба разнообразится; и только элементы
всегда остаются теми же по существу и тем же самым, как был
всегда, остается вещественный принцип, который есть истинная
субстанция вещей — вечная, нерождаемая, негибнущая. Хорошо
знает и то, что из невещественной субстанции также ничто не
меняется, не образуется и ничто не разлагается, но всегда остается
она такой, что не может стать ни предметом разрушения, ни предметом созидания. Стало быть, не может быть и речи об ее смерти
ни самой по себе, ни в силу внешних обстоятельств, ибо смерть
есть не что иное как распад частей, соединенных в одно целое;
со смертью прекращается случайная дружба, согласие, сложность,
соединение и порядок, но остается у каждого существа его неуничтожимое субстанциональное бытие.
Юпитеру известно далее, 'что о духовной субстанции, хотя бы
она и была в родстве с телами, нельзя понимать так, будто в собственном смысле входит в состав тел или. смешивается с ними, ибо
это подобает телу с телом или частице материи одного состава
с частицей материи иного состава. Духовная же субстанция есть
некий принцип, некое начало, действующее и образующее изнутри,
от коего, коим и вокруг коего идет созидание, она есть точь в точь
как кормчий на корабле, как отец семейства в доме и как артист,
что не извне, но изнутри строит и приспосабливает здание. Во
власти этого принципа объединять противоположные элементы,
уравновешивать в известной гармонии несогласные свойства, созидать и поддерживать состав живого существа. Он сгибает тетиву,
он набирает основу ткани, натягивает нити, умеряет страсти, распределяет приказания, потребляет и одаряет дыханием, снабжает
волокнами мясо, растягивает хрящи, укрепляет кости,* разветвляет
нервы, опоражнивает артерии, обогащает вены, толкает сердце,
надувает легкие —• всему споспешествует изнутри жизненным теплом и влажным радикалом, вследствие чего получается столько
личностей, с такой разнообразною внешностью, фигурою и лицом.
Так создается жилище во всех так называемых одушевленных
предметах, начиная от середины сердца или соответственного ему
органа, посредством развития и образования новых членов и сохранения тех, что уже развились и сложились. Точно так же под
неумолимым воздействием принципа разложения, теряя свою архитектуру, рушится все здание, освобождая противоположные элементы-, порывая связи, отнимая устойчивость личности.
Знает Юпитер, что если вещественная материя, способная слагаться, разлагаться, перерабатываться, сжиматься, принимать форму, способная к движению и устойчивости под господством, властью и доблестью души, не может быть уничтожена или в какойнибудь точке, в каком-нибудь атоме сведена на-нет,—то и подавно
невероятно и невозможно, чтобы природа более превосходная,
которая повелевает, управляет, главенствует, движет, ожйвляет,
растит, одаряет чувствами, поддерживает и содержит, была бы
случайностью, которая чрез разложение целого обращается в ничто вместе со своим составом, вместо того, чтобы быть принципом
и внутренней причиной гармонии, связанности и симметрии, производных от него. Каковой принцип так же не может существовать
без тела, как и тело, движимое и управляемое им, с ним единое,
с его отсутствием распадающееся, не может быть без него.
Вот этот принцип, значит, и считает Юпитер той- сущностью,
которая есть воистину человек, а не какой-то случайностью, что
вытекает из состава. Это и есть божество, герой, дай^юнион, особый бог, разумность; в нем, от него и через него, с одной стороны,
образовывались и образуются различные составы и тела; с другой, — подвергаются различному для каждого особливому бытию,
различным именам, различным судьбам. Этот принцип в силу того,
что именно он в сознательных поступках и стремлениях, сообразно
разуму движет и управляет телом — выше тела и не может быть
последним ни обусловлен, ни вызван к действию: только высшею
справедливостью, что царит над всем, он обрекается за беспорядочные страсти нести мучения и позор в том же самом или в другом теле и, если проявит себя плохо в управлении каким-нибудь
одним жилищем, не смеет надеяться на власть и управление
лучшим.
Значит, если — к примеру сказать — кто вел здесь жизнь лошадиную или свиную, то, как многие самые превосходные философы это разумели, а я думаю, что если и нельзя в это поверить,
во всяком случае следует хорошенько рассмотреть это мнение —
предопределением роковой справедливости он будет заключен
в тюрьму, соответственно известному преступлению или вине,
с органами и инструментами, подходящими для такого работника
или ремесленника. И таким образом, постоянно переходя из одного
состояния в другое, по воле рока вечно будет подвергаться все
новым и новым и худшим и лучшим родам жизни и счастья, смотря
по тому, хорошо иль дурно проявил себя в только что пережитых
условиях и доле. Как мы и наблюдаем, что человек, меняя свои
убеждения и склонности, из хорошего становится плохим, из умеренного —< необузданным, и обратно — имевший сходство с одним зверем начинает походить на другого, похуже или получше,
вследствие перемены в чертах лица и в фигуре, зависящей от внутреннего духа, но до того явно обнаруживающейся на теле, что
ей никогда не ускользнуть от искусного физиономиста.
Вследствие чего, если нам и кажется, что у многих из человеческого рода есть в их лицах, взгляде, голосе, повадках, страстях
и склонностях у одних что-то лошадиное, у других — свиное, ослиное, орлиное, бычье, то все это нужно приписать находящемуся
в них жизненному принципу, вследствие которого из-за возможной
в недавнем прошлом или в ближайшем будущем перемены тела,
они только что были или вот-вот станут свиньями, лошадьми,
ослами или чем иным, что уж проявляется в них, если только воздержанием, трудами, размышлением и другими добродетелями или
пороками не сумеют изменить и снискать себе иную долю.
(«.Изгнание торжествующего
зверя»).
5.
і
Жалоба Юпитера.
Я, который укротил дерзость Ликаона и во время Девкаяиона
затопил землю, восставшую на небо, и еще многими иными слав-
ными подвигами показавший себя достойнейшим своей власти,—
вот теперь не нахожу сил противостать каким-то жалким людишкам, и приходится мне, к великому своему позору, предоставить
мир на волю случая и Фортуны. Так что всякий, кто лучше за нею
гонится,—успевает, и кто ее побеждает,—наслаждается. Я стал
теперь тем эзоповским львом, которого безнаказанно лягает осел,
а за ним и бык. Я сейчас вроде бесчувственного чурбана, к которому свинья идет чесать свое грязное брюхо.
Знаменитейшие оракулы, святилища и алтари, какие были у
меня, теперь повергнуты наземь и самым позорным образом поруганы. Законы, статуты, культы, таинства, жертвоприношения
и церемонии, которые я дал через своих посланников Меркуриев,
которые я учинил, назначил, установил,—расстроены и уничтожены. До нашего носа не достигает больше запах жареного, приготовляемого на жертвенниках, так что, если иной раз захочется
поесть, отправляйся на кухню, как.нищенка. И хотя кое-где алтари
курятся еще ладаном, все же я боюсь, как бы мало-помалу этот
дым не развеялся дымом, нё оставив после себя больше никаких
следов от наших святых обрядов. Мы знаем хорошо по опыту,
что мир — тачь-в-точь, как ретивый конь. Узнай он, что его
оседлает ездок, не умеющий ловко править, он исполнится презрения и попытается сбросить с седла такого седока, а сбросив,
начнет его лягать копытами.
Вот у меня сохнет тело й разжижается мозг; сыплется песок
и падают зубы; золотится кожа, и серебрится волос; расширяются зрачки, и укорачивается зрение; слабее дыхание, и усиливается кашель; при ходьбе я трясусь, а сидя цепенею; трепещет
мой пульс, и твердеют ребра; суставы мои ссыхаются, и связки
разбухают, и, наконец, — что меня больше всего мучит, — мозолятся пятки и размягчаются лодыжки.
Юнона моя не ревнует меня,
Юнона моя уж не любит меня.
О твоем Вулкане, Венера, оставляя в стороне прочих богов,
рассуди сама. Где теперь сила моего кузнеца, а твоего супруга,
который, бывало, с такой мощью потрясал крепкую наковальню,
чьим громовым ударам, выходившим из огнедышащей Этны на
кругосвет, отвечало Эхо от пещер окруженного полями Везувия
и от скалистого Табурна? Неужели та сила исчезла? Неужели он
не в состоянии раздуть мехи и зажечь огонь? Неужели нет сил
поднять тяжелый молот и ковать раскаленный металл?
Да и ты, сестра, если все еще не веришь другим, спроси у своего зеркала, и увидишь, как из-за морщин, прибывающих на твоем
лице, и из-за борозд, что проводит на нем плуг времени, тебя
с каждым днем все труднее рисовать правдивому художнику, который захотел бы рисовать тебя с натуры. На твоих щечках —
там, где ты при каждой улыбке открывала две прелестных ямоч-
ки, — два круга; две точки, которые, когда ты улыбалась улыбкой, освещавшей весь мир, делали в семь раз очаровательнее твое
лицо и откуда, так же как из твоих очей, ты шутя бросала столь
острые и пламенные стрелы Амура, — там теперь, начиная от
углов рта, с той-и другой стороны стали вырисовываться четыре
скобки, что, своими двойными полуокружными арками охватывая
рот, тем самым мешают тебе смеяться и, протягиваясь от зубов
к ушам, дают тебе сходство с крокодилом. Не говоря уже о том,
что тот внутренний геометр, который — смейся или нет —суши г
в тебе жизненную влагу и, сближая все теснее и теснее кожу с
костями, утончая покровы, все резче и резче выписывает на лице
твоем четыре параллели, тем самым указывая тебе прямой путь
к смерти...
(«.Изгнание-торжествующего
зверя»).
ФОМА КАМПАНЕЛЛА.
Аргументы антихристиан и атеистов.
1. Мир так полон ересей, сект и мнений, что совершенно невозможно даже при помощи каракатицы Аристотеля достигнуть
какой-либо уверенности. Древние богословы, как и новые, впали
в обман.
, 2. Если церковь ссылается на свой 1600-летний возраст, на
свои чудеса и своих мучеников, то ведь и другие религии имеют
свои чудеса, своих мучеников, свое — еще более древнее — предание.
3. Если христиане выдают аргументы других религий за
обман, то ведь то же говорят об аргументах христиан иудеи,
язычники, турки.
4. Христос обещал, что он скоро снова придет, но вот уже
1600 лет прошло, а он не сдержал своего слова.
5. Вера в евхаристию явно предполагает нечто невозможное.
6. Также и непорочное зачатие.
7. Также и троичность бога.
8. Христос унизил себя до воплощения ради нашего спасения; тем не менее число осужденных все еще больше числа спасенных. Кроме того христианство в его соотношении к миру
может быть сравнено с пальцем в его соотношении ко всему телу:
было бы нелепо предположить, что бог хочет уничтожить все
тело и спасти лишь один палец, вернее, крохотную часть пальца,
ибо лишь весьма немногие христиане достигают спасения.
V
9. Бог, который якобы обладает бесконечным могуществом,
ведением и волением, кажется слабым, неестественным, ленивым
или жестоким, ибо он уступил дьяволу на земле царство, большее, чем его собственное.
10. Почем}/ бог ниспослал миру спасение лишь через 3.000
с лишним лет, да и то не всем народам сразу? По какому праву
он, в таком случае, может быть назван нашим всеобщим отцом!
11. Если бог умер только ради избранных, то почему он столь
немногих избрал? Да ведь избранные и без его смерти не могли
быть осуждены, раз им предопределена была божественная милость! Ради чего же он умер, если он не спас также и отверженных?
12. Почему ни Христос, ни Моисей не упоминают Нового Света? Разве эта часть земли не была наводнена потопом? Разве там
люди возникли сами собой, как лягушки?
13. Почему бог не нашел предупредительных мер против
чумы, голода, войны, ереси и схизмы?
si' 14. Почему вообще так много страданий на земле, раз бог
есеблаг и всемогущ? Почему больше горя, чем радости?
15. Говорят, что это происходит от первородного греха. Но
чем же согрешили мы, не бывшие при этом? Да и почему страдают животные?
16. Если у нас существует столько сходства с животными в отношении рождения, чувствования и поведения (слоны поклоняются
луне и знают что-то вроде крещения, растения повертываются
к солнцу, следовательно — и те и другие имеют религию), то человек значит то же, что и скот! Это знал уже и мудрый Соломон.
17. В действительности и люди подчинены случайности.
\J 18. Защитники религии охотно ссылаются на древних мучеников и древние чудеса; им однако не приходит в голову самим
становиться мучениками или творить чудеса. Они расхваливают
для нас потусторонний мир, оставляя для себя посюсторонний.
Напрашивается подозрение, что так же обстояло дело и в историях древних святых, так что мы оказываемся обманутыми обманщиками.
19. Бог либо существует, либо не существует. Если его
нет, — говорят политики, — то будем обманывать мир и господствовать над ним. Если же он существует, то он уже либо избрал
нас, либо отверг, так что мы можем делать все, что нам угодно
20. Аристотель, непогрешимый тайнописец природы, утверждал вечность мира; таким образом, бог не является творцом
вселенной. Таким образом, основатели религии были, действительно,* тремя обманщиками, как учил один нечестивый писатель,
ученик Аверроэса.
21. Согласий известному тексту Лукреция, религия породила
позорные преступления.
(«Побежденный
атеизм»)
ЛЮЧИЛИО ВАНИНИ.
1•
•!
В религии дозволен любой обман.
Сам Сократ учил, что в делах, касающихся веры, дозволено
лгать, а Сцевола, как сообщает св. Августин, имел обыкновение
говорить, что государствам полезно быть обманываемыми s делах религии. Отсюда поговорка: мир хочет быть обманутым, пусть
же оно так и будет.
2.
Пародия на богословские определения божества.
Если бы я знал, что такое бог, я бы сам был богом, ибо, кроме
бога, никто не знает, что он такое. Он сам — свое начало и свой
конец, хотя он не имеет ни начала, ни конца. Он не нуждается ни
в конце, ни в начале, но создал и то и другое. Он всегда пребывает, но без времени, недоступный ни прошлому, ни будущему
Он царит везде и наполняет все, но не имеет протяжения, он неподвижен, не имея определенного положения, он быстр без
движения. Он — вне всех вещей; он одновременно во всем, не
находясь ни в чем, и вне всего, пребывая во всем. Внутри он —
водитель, вне — он творец мира. Он — благ без качества, велик
беКз количества, универсален без разделения, неподвижен, объемля
все. Воля его тождественна мощи его, а применение мощи его
тождественно его воле. Он все, над всем, по ту сторону всего,
раньше всего и после всего, он всегда пребывает всем.
(«Амфитеатр провидения».
Глава
2-я).
Трактат о трех обманщиках.
1.
-
\
Определения бога нелепы.
«Бог существует и необходимо ему поклоняться»—так издавна многие рассуждают. Но что такое бог? Но что значит, что
он существует, поскольку это понятие прилагается как к чувственным существам, так и к духовным? Но что значит поклоняться ему, когда это поклонение обычно уподобляют поклонению тщеславным людям?
Что такое бог, определяют на основании собственного невежества. Утверждают, что отличие его от других существ необходимо определить путем отрицания. «Он — бесконечное существо»,
это значит, что не знают и не понимают границ его существа.
«Он — творец неба и земли», но откуда он сам возник, не говорят, потому что этого не знают и не понимают.
(Некоторые говорят, что он сам себе начало, что он ни о г
кого не происходит. Но говорят это так потому, что не понимают.
Мы не можем постигнуть его начал, следовательно, он бесконечен (а почему бы не так: мы не можем понять бога, следовательно он не существует?).
2.
Все религии одинаково ложны.
Каждая секта утверждает, что ее основатель—единственный
учитель истины. Каждая через выполнение его учения хочет до3
Хрестоматия по истории атоявмо
казать, что нет другого лучшего учителя. Что же мы должны теперь делать? Или должны верить всем, что было бы смешно, или
никому, что, конечно, вернее. Среди религий нет двух, согласных
между собой. Когда одни поклоняются Пану, другие — Фавну,
третьи —• Марсу, а многие другие — разным неведомым богам,
то они хотят изобразить, как естественное сознание, то, что является лишь болезненным порождением мозга этих праздных мудрецов. Почему не допустить тогда и другой вид поклонения
божеству — смехотворнейшее поклонение идолам и фетишам?
Почему не почитать, как это делают сентиментальные дамы, Франциска Доминика, Игнатия и не объяснять эту нелепость, как непосредственное божественное внушение? На самом деле это вот что:
естественным (религиозным) сознанием называют то, что выгодно
тунеядцам, а невинной природе приписывается то, что необходимо эгоизму попов.
*
*
Едва ли кто сомневается, что высшее проявление религии
необходимо- для князей и богачей в целях обуздания народных
страстей.
3.
«Согласное свидетельство всех народов» — на деле сговор правя' щих и богатых.
Некоторые настойчиво указывают еще на одно доказательство: «согласное свидетельство всех народов». Вероятно так говорят те, кто побеседовал со своими родственниками и прочитал
три-четыре пустых книжонки и после этого заявляет о свидетельстве всего человечества...
Пойдите в Италию, столицу христианства, и попытайтесь там
сосчитать свободомыслящих и, скажу больше того,- атеист-ов. И
после этого вы посмеете еще говорить о согласном свидетельстве
всего человечества, что бог есть и что ему следует поклоняться!
«По крайней мере, так говорят разумнейшие». Кто эти разумнейшие? Верховный жрец, авгуры и гадатели древних, Цицерон, Цезарь, князья и их приверженцы из духовенства и т. п. Но кто
поручится за то, что они высказывают свое искреннее мнение, а
не говорят в своих интересах? Эти господа, сидящие у кормила
правления, вытягивают ростовщические проценты из народного
легковерия, а это пугало, представляющее невидимые силы и
стоящее с ними в теснейшем отношении, идет им навстречу. Нет
ничего удивительного в том, что священники, существование которых основано на легковерии мирян, единогласно стараются подтверждать то же самое. Это называется согласным
свидетельством разумнейших,
ЛЮЧИЛИО ВАНИНИ
35
Значит, бога нет? Нет, все-таки он существует. Следовательно
мы Должны ему поклоняться? Нет, это не следует, поігому что
бог требует такого поклонения, которое запечатлено в нашем
сердце. Что же дальше? Последуем, следовательно, влечению нашей природы. Влечению природы, которая признана несовершенной? Все же она достаточна, чтобы устроить человеческое обще-,
ство согласно требованию счастья и не хуже, чем при откровенных религиях. Но бог требует от нас большего; прежде всего —
более ясного познания его сущности. Природное влечение конечно нам этого дать не может. Но даст ли нам его откровенная
религия? Нисколько! Через откровение наши представления о божестве становятся еще более темными. Да и как можно составить,
на основании человеческих определений, более ясное понятие о
том, что превосходит всякий разум? «Бога никто никогда не знал,
его еще не видели глаза человеческие, он живет в неприступном
свете», он, согласно откровению, до сего времени — неразрешимая загадка. Слышите? Загадка! Следовательно мы обязаны научиться разгадывать загадку. Но откуда известно, что бог требует этого познания? Заключаете ли вы это из смутной потребности вашей души к совершенству, т. е. к тому, что превосходит
мир ваших идей? Откуда же иначе?
«Из его непосредственного откровения». А что собственно
вы разумеете под этим? Боже мой, какая смесь откровений! Может быть вы имеете в виду нечто вроде оракула древних? Но
уже древние осмеяли его. Или — свидетельства ваших священников? Прекрасно. Тогда я приведу свидетельства других, утверждающих противоположное. Пусть они поспорят! Но Йаков будет конец? Кто в этом споре компетентный судья? Вы скажете
конечно: писания Моисея, пророков и апостолов? Но ведь есть
Коран, объявляющий, на основании новейшего откровения, все
это ложным, и автор его хвастается «божественными чудесами»
и, как Моисей у язычников, хочет мечом разрубить «противоречия и испорченность» христианства. Как и Моисей, Магомет распространял свое учение вооруженной рукой и так же, как и тот,
хотел быть одаренным чудесной силой. Далее — мы имеем священные книги язычников. Веды браминов, насчитывающие свыше
1300 лет, не говоря уже о предании китайцев. И вы, из вашего
уголка в Европе, хотите с важным пренебрежением обо всем
этом судить, пренебрегать и отрицать? А не с большим ли еще
правом они могут осудить ваше учение? И что за чудеса у них
для подтверждения своего учения, если мир, по их мнению, возник из яйца скорпиона и земля стоит на голове быка! И вы знали
бы еще более о первых основаниях вещей, если бы завистливый
Сын богов не похитил первые три книги Вед. Вы смеетесь, а у
них это послужило бы новым обоснованием и подтверждением
их религии, тогда как нам казалось бы порождением нездорового
мозга попов. А разве то бесконечное количество одинаково и смеш-
ных и величественных мифов, которое мы имеем о языческих
божествах древнего мира, — нечто другое?
Моисей был мудрее; он сначала изучил премудрость египтян,
их астрологию и магию, потом силой оружия изгнал законных
жителей Палестины из их жилищ и повел свое войско, доверявшее ему вполне после мнимого разговора его с богом, в жилища
мирных людей. Для чего все это? Чтобы сделаться великим полководцем и получить, при помощи своего брата—• верховного
жреца, безграничную власть над народом (и что же это за народ был?).
'
Другие бесшумно и скрытно подкапывались под. существовавшие условия и постепенно перетягивали своим ханжеством неопытный языческий народ на свою сторону; наконец, вели игру
с князьями, которые, чувствуя себя перед грозной силой новой
религии слабыми, не в силах были противиться ей. Наконец воинственный пророк собрал вокруг себя мнимыми чудесами дикие
азиатские народности, которые христианские императоры слабо
держали в руках, обещал им победу и наслаждения и, подобно
Моисею, с этой толпой покорил невоинственные народы Азии.
Так посредством меча основал он свою религию. Первый является
реформатором язычества, второй — иудейства, третий — того и
другого. Кто будет вместо Магомета и что —вместо магометанства — посмотрим. Настолько легковерие людей подвержено
ошибкам, но злоупотребление этим легковерием в целях какой-то
выгоды заслуженно называется обманом (imposture). Здесь не
место освещать ближе этот поистине постыднейший предмет...
Если действительно признавать естественную религию й богопочитание, как присущие нашей внутренней природе, то отсюда
следует, что каждый новый создатель религии наперед должен
быть заподозрен в мошенничестве, но особенно тогда, когда он
прибегает для распространения своего учения к неблаговидным
приемам.
АТЕИСТЫ
XVII ВЕКА
ПЬЕР ГАССЕНДИ.
О чувственных критериях истины.
ч
Истинно то мнение, которое подтверждается или не опровергается чувственной
очевидностью.
Чувственной очевидностью я здесь называю такой вид чувственного ощущения или образа, которого нельзя не признать
истинным, когда устранены все препятствия к правильному суждению, как то: расстояние, движение, замутненность среды и
т. д. Поэтому на вопрос, действительно ли вещь такова, какою
она является,—нельзя отвечать посдешно, но необходимо соблюсти то, что я называю выжиданием: необходимо подождать с ответом до тех пор, пока вещь не будет исследована со всех сторон всеми доступными нам средствами.
Подтверждением я называю основанное на очевидности усмотрение, что предмет нашей мысли действительно таков, каким
мы его мыслили сначала. Так например, когда издали подходит
Платон, я только предполагаю, насколько позволяет дальность
расстояния, что это Платон; но когда он подойдет ко мне
вплотную и расстояние между нами исчезнет, я смогу удостовериться, что это действительно Платон: подтверждение будет дано
самой очевидностью.
Отсутствием же опровержения я называю такую обстановку,
из которой вытекает существование чего-нибудь самого по себе
не очевидного, но предполагаемого нами на основании чего-либо
очевидного. Так, например, когда я утверждаю, что существует
пустота, т. е. нечто, само по себе не очевидное, то я делаю это по
требованию некоторой очевидности, именно по требованию движения. В самом деле, не будь пустоты, не было бы и движения,
потому что при совершенной заполненности пространства движущемуся телу некуда было бы продвинуться. Таким образом, само
по себе не очевидное не опровергается тем, что очевидно, — ибо
движение, очевидно, существует.
Итак, подтверждение и отсутствие подтверждения являются
критериями истинности наших суждений. Впрочем к этому канону необходимо присоединить следующий.
Ложно то мнение, которое опровергается
или не подтверждается чувственной
очевидностью.
Опровержение противополагается отсутствию опровержения:
оно вытекает из того, что вместе с чем-то не очевидным и лишь
предполагаемым уничтожается и нечто очевидное. Так например,
некоторые утверждают, что пустоты нет; но в таком случае должно уничтожиться и то, что очевидно, именно движение; ибо, как
только что выяснено, если бы не было пустоты, то по необходимости не было бы и движения.
Равным образом отсутствие подтверждения противоположно
подтверждению; оно заключается в том, что первоначально составленное мнение оказывается несостоятельным. Например,-ктото подходит издали, и мы, за дальностью расстояния, предполагаем, что это Платон; но расстояние исчезло, — и мы убеждаемся
воочию, что это не Платон. Это и есть отсутствие подтверждения:
ранее составленное мнение не подтверждается очевидностью. Итак,
как подтверждение и отсутствие опровержения являются критериями истинности, так опровержение и отсутствие подтверждения
являются критериями ложности наших суждений. Базой же и
основанием для всякого правильного мнения об истинном и ложном является сама очевидность.
Здесь я не буду останавливаться на том, что иногда очевидность дается одним каким-нибудь чувством, как в случае специфических чувственных качеств, иногда же — несколькими сразу,
как в тех случаях, когда дело идет об общих свойствах тел, т. е
о величине и фигуре, расстоянии и положении, покое и движении
и тому подобных свойствах, которые воспринимаются и зрением
и слухом и открываются если не одному, то другому из этих
чувств. Иногда, когда предмет имеет различные качества, можно
в поисках за очевидностью обращаться к различным чувствам:
когда например нельзя различить при помощи зрения, настоящий ли подан хлеб или нет, можно обратиться к вкусу, и он
решит вопрос с очевидностью.
Я упоминаю об этом, чтобы подчеркнуть, что мы должны
относиться с безусловным доверием только к тем свойствам предмета, в которых убедимся воочию после его всестороннего исследования. Мы, конечно, всегда должны пользоваться нашими чувствами, общими или специфическими в зависимости от предмета,
потому что мы должны безусловно принимать всякое свидетельство очевидности; но при этом мы должны твердо держаться
указанного только что критерия, опираясь на него, как на незыблемое начало. В противном случае все критерии, основанные
на очевидности, пойдут прахом, и заблуждение, упрочизшись
с такою же силой, как истина, внесет полный хаос в наши представления.
Нет надобности повторять и специально подчеркивать, как
следует поступать в приведенном выше случае, когда речь шла
о башне, которая издали кажется маленькой и круглой. Из всего
сказанного ясно, что необходимо подождать с ответом, подойти
к башне поближе и посмотреть, такова ли она и вблизи, какою
кажется издали.
Вообще же я настаиваю на следующем: если мы не будем,
охраняя указанным способом истинность чувственных показаний,
отличать среди возможных мнений те, которые еще требуют выжидания, как недостаточно проверенные, от тех, которые вполне
удостоверены непосредственно данным,—-то мы окончательно
запутаемся в совершенно ложных понятиях. Если же, вырабатывая
различные мнения, мы будем твердо помнить о том, что здесь
названо требующим выжидания, и не будем легкомысленно принимать за бесспорное то, что, не имея за себя никакого свидетельства очевидности, на самом деле ложно,—то мы будем действовать как тот, кто, оберегая себя от малейшего недоразумения,
тщательно исследует всякое суждение, правильно или неправильно
высказываемое о любом предмете. („Syntagma philosophiae Epicuri").
АНРИ ЛЕРУА.
Идея бога не врождека людям, а создана ими.
Подобно всем общим идеям, идея, которую мы имеем о боге
(мы не говорим здесь ничего о том, что мы имеем посредством
откровения), не рождается с нами, но формируется в нас посредством наблюдения, которое мы производим над единичными вещами при помощи чувств, воображения, воспоминания и суждения. Ибо в верховном существе, которое мы называем богом, дух
не рассматривает ничего другого, как только некоторые определенные блага, которые он наблюдает каждодневно в людях, например мудрость, справедливость, милосердие, мощь, долговременность и другие подобные вещи, и которые мы можем умножать до бесконечного и очистить посредством мышления от всех
недостатков; таким образом идея совершенного существа, или
бога, производится в нашем уме чувствами, воображением и
нашим суждением или переходит к нам по традиции...
Та идея, которую наша душа таким образом создает о божественности, не доказывает удовлетворительным образом существования этой последней, как безосновательно некоторые утверждают, так как не все вещи, о которых мы имеем идеи, существуют в действительности... Разум необходимо заключен в идее,
которую мы имеем о человеке; тем не менее отсюда не следует,
что человек необходимо и действительно существует, как существо разумное, но только в том случае, если он существует действительно,—он также необходимо и действительно одарен разумом. И это не должно казаться странным, потому что существенные атрибуты вещи, заключенные в идее, которая создана о ней
духом, не существуют действительно, пока ^е. существует на са-
мом деле сама постигаемая нами вещь. Ибо, хотя мы и образуем
в нашем духе идею о некоторой вещи, но, пока не существует
вещь, это только чистое ничто, которое не может заключать никаких атрибутов ни необходимого, ни случайного существования.
Таким образом например идея, которую мы имеем о треугольнике,
заключает в себе то свойство, что мы знаем, что его три угла
равны двум прямым, и это верно, несмотря на то, что треугольник,
идею которого мы образовали, действительно не существует
в природе... Следовательно, мы думаем, что идея, которую наш
дух образует о вещи по ее существенным атрибутам, им постигаемым, недостаточна для того, чтобы доказать определенное и
необходимое существование этой вещи... Ибо неверно, что реальность наших идей, которые нашему духу представляют об'екты,
необходимо имеют причину, заключающую в себе в высшей степени и точно ту же самую реальность, т. е. само существование
вещи, которая представлена нашему духу.
(«Естественная философия»)БАРУХ СПИНОЗА.
1.
Страх—источник суеверия;
Если бы люди во всех своих делах могли поступать но определенному плану или если бы им всегда благоприятствовало счасАе, то никакое суеверие не могло бы овладеть ими. Но так
как люди часто попадают в столь затруднительное положение,
что не могут составить себе никакого плана, и так как из-за сомнительных благ фортуны, безмерно желаемых ими, они большею
частью находятся в жалком колебании между надеждой и страхом,
то поэтому в большинстве случаев они чрезвычайно склонны верить чему угодно. Дух их, обыкновенно самоуверенный и кичливый, легко склоняется туда и сюда в минуты сомнения, а еще
легче, когда он колеблется, волнуемый надеждой и страхом...
Люди, находясь в страхе, если замечают какой-нибудь случай, напоминающий им о каком-нибудь прежнем благе или зле, думают,
что он предвещает или счастливый или дурной исход, и поэтому
называют его благоприятным или неблагоприятным предзнаменованием, хотя бы этот случай стократ их обманывал. Далее, если
они с большим удивлением взирают на что-либо необыкновенное,
то считают это за дурное предзнаменование, указывающее на гнев
богов или высшего существа. Подобно этому они создают бесконечное множество выдумок и толкуют природу столь удивительно,
как будто и она с ними заодно безумствует... Можно было бы привести большое количество примеров, весьма ясно показывающих
то же самое,—именно, что люди порабощаются суеверием только,
пока продолжается страх.
(«Богословско-политический трактат»).
Телеология — убежище невежества.
Все предрассудки, на которые я хочу указать здесь, имеют
один источник,—именно тот, что люди предполагают вообще, что
все естественные вещи действуют так же, как они сами, ради
какой-либо цели. Мало того, они считают за известное, что и сам
бог все направляет к какой-либо определенной цели (они говорят,
что бог все сотворил для человека, человека же—для того, чтобы
он чтил его). Поэтому я рассмотрю сначала одно это. Именно,
во-первых, я постараюсь найти причину, почему большая часть
людей подвержена этому предрассудку и почему все они от природы склонны к нему; затем я раскрою его ложность и, наконец,
покажу, каким образом возникли из него предрассудки о добре и
зле, заслуге и грехе, похвальном и постыдном, порядке и беспорядке, красоте и безобразии и прочем в том же роде.
Здесь не место выводить это из природы души человеческой.
Достаточно будет взять за исходный пункт то, в чем все должны
быть согласны; а именно —что все люди родятся незнающими
причины вещей и что все они имеют стремление искать полезного
для себя, что они и сознают. Первым следствием этого является
то, что люди считают себя свободными, так как свои желания и
свое стремление они сознают, а о причинах, располагающих
к этому стремлению и желанию, даже и во сне не грезят, ибо
не знают их. Второе следствие — то, что люди все делают ради
цели, именно ради той пользы, к которой они стремятся. Отсюда
выходит, что они всегда стремятся узнавать только конечные причины совершившегося и успокаиваются, когда им укажут их, не
имея конечно никакого повода к дальнейшим сомнениям. Если же
они не имеют возможности узнать их от другого, то им не
остается ничего более, как обратиться к самим себе и посмотреть,
какими целями сами они руководствуются обыкновенно в подобных случаях; таким образом они необходимо по себе судят о другом. Далее, так как они находят в себе и вне себя немало средств,
весьма способствующих осуществлению их пользы, как то—глаза
для зрения, зубы для жевания, растения «'животных для питания,
солнце для освещения, море для выкармливания рыб и т. д., то
отсюда и произошло, что они смотрят на все естественные вещи,
как на средства для своей пользы. Они знают, что эти средства
ими найдены, а не приготовлены ими самими, и это дает им повод
верить, что есть кто-то другой, кто приготовил эти средства для
их пользования. В самом деле, взглянув на вещи, как на средства,
они не могли уже думать, что эти вещи сами себя сделали таковыми. Но по аналогии с теми средствами, которые они сами обыкновенно приготовляют для себя, они должны были заключить, что
есть какой-то или какие-то правители природы, одаренные
человеческой свободой, которые обо всем озаботились для них и все
создали для их пользования. О характере этих правителей, так
как оии никогда ничего не слыхали о них, они должны были
судить по своему собственному. Вследствие этого они и предположили, что боги все устраивают для пользы людей, дабы люди
были к ним привязаны и воздавали им высочайшие почести. Следствием было то, что каждый по-своему придумывал различные
способы почитания бога, дабы бог любил его больше других и
заставил всю природу служить удовлетворению его слепой страсти
и ненасытной жадности. Таким-то образом предрассудок этот
обратился в суеверие и пустил в умах людей глубокие корни. Это
и было причиной, почему каждый всего более старался понять и
объяснить конечные причины (causas finales) всех вещей. Но, стремясь доказать, что природа ничего не делает напрасно (т. е. что
не служило бы в пользу людей), доказали, кажется, только то, что
природа и боги сумасбродствуют не менее людей. Посмотрите,
прошу вас, до чего наконец дошло. Среди стольких удобств природы должны были найти также немало и неудобств, каковы бури,
землетрясения, болезни и т. д., и предположили, что это случилось
потому, что боги были разгневаны нанесенными им от людей обидами или погрешностями, допущенными в их почитании. И хотя
опыт ежедневно заявлял против этого и показывал в бесчисленных примерах, что польза и вред выпадают без разбора как на
долю благочестивых, так и на долю нечестивых, однакоже от
укоренившегося предрассудка не отстали. Ведь легче было сложить это в массу другого неизвестного, пользы которого люди
не знали, и таким образом сохранить свое настоящее и врожденное состояние невежества, чем разрушить все здание и выдумывать новое.
Прибавлю только к этому, что означенное учение о цели совершенно извращает природу. На то, что на самом деле составляет
причину, оно смотрит как на действие, и наоборот; далее, то, что
по природе предшествует, оно делает последующим, и наконец,
то, что составляет высочайшее и совершеннейшее, оно делает
самым несовершенным...
Нельзя пройти здесь молчанием также и того, что сторонники
этого учения, желавшие похвастаться своим умом в указании целей вещей, изобрели для оправдания означенного своего учения
новый способ доказательства, именно — приведение не к невозможному, а к незнанию; а это показывает, что для этого учения
не оставалось никакого другого средства аргументации. Если бы,
например, с какой-либо кровли упал камень на голову прохожего
и убил его, они будут доказывать по этому способу, что камень
упал именно для того, чтобы убить человека, так как, если бы он
упал не с этой целью по воле бога, то каким же образом могло бы
случайно соединиться столько обстоятельств (так как часто их
соединяется весьма много). Вы ответите, может быть, что это случилось потому, что подул ветер, а человек шел по этой дороге.
Однако они будут стоять на своем : почему ветер подул в это
время? Почему человек шел по этой дороге именно в это же самое
время? Если вы опять ответите, что ветер поднялся тогда потому,
что море накануне начало волноваться при спокойной до тех пор
погоде, а человек был приглашен другом, они опять будут настаивать, так как вопросам нет конца: почему же море волновалось?
Почему человек был приглашен в это время? И таким образом не
перестанут спрашивать о причинах причин до тех пор, пока вы не
прибегнете к воле бога, т. е. asylum ignorantiae. Точно так же
они приходят в изумление при виде строения человеческого тела,
и, не зная причины такого искусного произведения, заключают,
что оно создано и устроено таким образом, что одна часть не
причиняет вреда другой не механическими силами, а божественным или сверхъестественным искусством. Отсюда и происходит,
что кто ищет истинных причин чудес и старается смотреть на
естественные' вещи, как ученый, а не удивляться им, как глупец,
того повсюду считают и провозглашают еретиком и нечестивцем
те, перед кем чернь преклоняется, как перед истолкователями
природы и богов. Они ведь знают, что при уничтожении невежества уничтожается также и изумление, т. е. единственное доступное для них средство для доказательства и охранения их авторитета.
После того как люди убедили себя, что все, что происходит,
происходит ради них, они должны были считать главным в каждой вещи то, что для них всего полезнее, и ставить выше всего
другого то, что действует на них всего приятнее. Отсюда они
должны были образовать понятия, которыми могли бы выражать
.природу вещей, как-то: добро, зло, порядок, беспорядок, тепло,
холод, красота, безобразие и т. д. А так как люди считают себя
свободными, то возникли понятия о похвальном и постыдном,
грехе и заслуге.
Все то, что способствует их благосостоянию или почитанию
богов, люди назвали добром, противоположное ему —злом. А так
как непонимающие природы вещей ничего не утверждают относительно самих вещей, но только воображают их и эти образные
представления считают за познание, то, не зная ничего о природе
• вещей и своей собственной, они твердо уверены, что в вещах
существует порядок. Именно, если вещи расположены таким образом, что мы легко можем схватывать их образ в их чувственном
восприятии и, следовательно, легко припоминать их, то мы говорим, что они хорошо упорядочены, если же наоборот,—что они
находятся в дурном порядке или беспорядке. А так как то, что
мы легко можем вообразить, нам приятнее другого, то люди порядок ставят выше беспорядка, как будто бы порядок составлял
в природе что-либо независимо от нашего представления, и говорят, .что бог все сотворил в порядке, и таким образом, сами того
не зная, приписывают богу воображение,—если только не' думают,
что бог, заботясь о человеческом воображении, расположил все
вещи таким образом, чтобы они как можно легче могли быть
воображаемы. Их не смутит, пожалуй, существование бесконечно
многого, что далеко превосходит наше воображение, и весьма
многого, что сбивает его с толку в его бессилии.
(«Этика»).
3.
*
Вера в настоящее время есть только предрассудок и легковерие. И какие предрассудки! Предрассудки, которые превращают
людей из разумных существ в животных, отнимая у них свободное
пользование их суждением, делая для них невозможным отличение истинного от ложного. Предрассудки, которые как будто
нарочно были созданы для того, чтобы пошутить, чтобы заглушить пламя человеческого разума. Благочестие, религия обратились в груду нелепых таинств, и те, кто всего более презирает
разум, кто отвергает, отталкивает человеческий рассудок, как
испорченный в своей основе, эти самые люди — удивительная
вещь! — оказываются теми, кого считают просветленными божественным сиянием.
(«Богословско-политический трактат»).
4.
Я часто удивлялся, что люди, хвалящиеся исповеданием христианской религии, т. е. исповеданием любви, радости, мира, воздержанности и доверия ко всем, более чем несправедливо спорят
между собой и ежедневно питают друг к другу самую ожесточенную ненависть, так что вера каждого по поступкам познается
легче, чем по тем добродетелям. Давно уже дело дошло до того,
что всякого почти, кто бы он ни был — христианин, магометанин,
еврей или язычник, — можно распознать только по внешнему виду
тела и одеянию, или по тому, что он посещает тот или иной храм,
или, наконец, по тому, что он придерживается того или другого
мнения и имеет обыкновение клясться словами какого-нибудь
учителя. Житейские же правила у всех одинаковы. Отыскивая причину зла, я не сомневался, что оно возникло от того, что простому
народу вменялось в религиозную обязанность смотреГь на служение церкви, как на достоинство, а на церковные должности—как
на доходную статью, и оказывать священникам высший почет.
(«Богословско-политический трактат»),
5.
О боге.
Определения.
1. Под причинрю самого себя я разумею то, сущность чего
заключает в себе существование, иными словами—то, чья природа может быть представляема не иначе, как существующею,
2. Конечною в своем роде называется такая вещь, которая
может быть ограничена другой вещью той же природы. Так, например, тело называется конечным, потому что мы всегда представляем другое тело, еще большее. Точно так же мысль ограничивается другой мыслью.- Но тело не ограничивается мыслью, и
мысль не ограничивается телом.
3. Под субстанцией я разумею то, что существует само в себе
и представляется само через себя, т. е. то, представление чего не
нуждается в представлении другой вещи, из которого оно должно
было бы образовываться.
4. Под атрибутом я разумею то, что ум представляет в субстанции, как составляющее ее сущность.
5. Под модусом я разумею состояние субстанции, иными словами — то, что существует в другом и представляется через это
другое.
6. Под богом я разумею существо абсолютно бесконечное, т. е.
субстанцию, состоящую из бесконечно многих атрибутов, из которых каждый выражает вечную и бесконечную сущность.
Объяснение. Я говорю — абсолютно-бесконечное,
а не бесконечное в своем роде. Ибо относительно того, что бесконечно только в своем роде, мы можем отрицать бесконечно многие атрибуты;
к сущности же того, что абсолютно бесконечно, относится все, что
только выражает сущность и не заключает в себе никакого отрицания.
7. Свободною называется такая вещь, которая существует по
одной только необходимости своей собственной природы и определяется к действию только сама собою. Необходимой же или,
лучше сказать, принужденной называется такая, которая чем-либо
иным определяется к существованию и действию по известному
и определенному образу.
8. Под вечностью я понимаю самое существование, поскольку
оно представляется необходимо вытекающим из простого определения вечной вещи.
Объяснение. В самом деле, такое существование так же, как
и сущность вещи, представляется вечной истиной н, вследствие
этого, не может быть объясняемо как продолжение или время,
хотя и продолжение может быть представляемо не имеющим ни
начала, ни конца.
А к с и о м ы.
1. Все, что существует, существует или само в себе или в чемлибо другом.
2. Что не может быть представляемо через другое, должно
быть представляемо само через себя.
3. Из данной определенной причины необходимо вытекает
действие, и, наоборот,— если нет никакой определенной причины,
невозможно, чтобы последовало действие.
4. Знание действия зависит от знания причины и заключает
в себе последнее.
5. Вещи, не имеющие между собою ничего общего, не могут
быть и познаваемы одна через другую; иными словами—^представление одной не заключает в себе представления другой.
6. Истинная идея должна быть согласна со своим объектом.
7. Сущность всего того, что может быть представляемо не
существующим, не заключает в себе существования.
Теоремы.
Теорема 1. Субстанция по природе первее своих состояний.
Доказательство. Это ясно из определений 3 и 5.
Теорема 2. Две субстанции, имеющие различные атрибуты, не
имеют между собою ничего общего.
Доказательство. Это также ясно из определения 3, ибо каждая
субстанция должна существовать сама в себе и быть представляема
сама через себя, иными словами — представление одной не заключает в себе представления другой.
Теорема 3. Вещи, не имеющие между собою ничего общего,
не могут быть причиной одна другой.
Доказательство. "Если они не имеют между собою ничего общего, то они не могут быть и познаваемы одна через другую (по
аксиоме 5), и следовательно одна не может быть причиною другой (по аксиоме 4); что и требовалось доказать.
Теорема 4. Две или более различные вещи различаются между
собой или различием атрибутов субстанций или различием их
модусов.
Доказательство. Все, что существует, существует или само
в себе, или в чем-либо другом (по аксиоме 1), т. е. вне ума нет
ничего кроме субстанций и их модусов (по определению 3 и 5).
Следовательно вне ума нет ничего, чем могли бы различаться
между собою несколько вещей, кроме субстанций или — что то же
(по определению 4) — их атрибутов и их модусов; что и требовалось доказать.
Теорема 5. В природе вещей не может быть двух или более
субстанций одной и той же природы, иными словами — с одним и
тем же атрибутом.
Доказательство. Если бы существовало несколько различных
субстанций, то они должны были бы различаться между собою или
различием своих атрибутов или различием своих модусов (по предыдущей теореме). Если предположить различие атрибутов, то
тем самым будет допущено, что с одним и тем же атрибутом
существует только одна субстанция. Если же это будет различие
модусов, то, оставив эти модусы в стороне, так как (по теореме 1)
субстанция по своей природе первее твоих модусов, и рассматривая субстанцию в себе, т. е. сообразно с ее истинной природой
(определение 3 и аксиома 6), нельзя будет представлять, чтобы
она была отлична от другой субстанции, т. е. (по предыдущей
геореме) не может существовать несколько таких субстанций, но
только одна; что и требовалось доказать.
Теорема 6. Одна субстанция не может производиться другой
субстанцией.
Доказательство. В природе вещей не может существовать двух
субстанций с одним и тем же атрибутом (по теореме 5), т. е. (по
теореме 2) субстанций, имеющих между собою что-либо общее.
Следовательно (по теореме 3), одна субстанция не может быть
причиной другой, иными словами—одна не может производиться
другой; что и требовалось доказать.
Королларий. Отсюда следует, что субстанция чем-либо иным
производиться не может. В самом деле, в природе вещей не существует ничего кроме субстанций и их модусов (как это ясно из
аксиомы 1 и определений 3 и 5). А (по предыдущей теореме) другой субстанцией субстанция производиться не может. Следовательно, субстанция безусловно ничем иным производиться не может; что и требовалось доказать.
Другое доказательство. Еще легче доказывается это из невозможности противного. Ибо, если бы субстанция могла производиться чем-либо иным, то ее познание должно было бы зависеть
от познания ее причины (по аксиоме 4) и, следовательно, она не
была бы субстанцией (по определению 3).
Теорема 7. Природе субстанции присуще существование.
Доказательство. Субстанция чем-либо иным производиться не
может (по королларию предыдущей теоремы). Значит, она будет
причиной самой себя, т. е. ее сущность необходимо заключает
в себе существование (по определению 1), иными словами — ее
природе присуще существовать; что и требовалось доказать.
Теорема 8. Всякая субстанция необходимо бесконечна.
Доказательство. Субстанция, обладающая известным атрибутом, существует только одна (по теореме 5), и ее природе присуще
существование (по теореме 7). Итак, ее природе будет свойственно
существовать или как конечной или как бесконечной. Но конечной
она быть не может, так как в таком случае (по определению 2) она
должна была бы ограничиваться другой субстанцией той же природы, которая также необходимо должна была бы существовать
(по теореме 7); таким образом, существовали бы две субстанции
с одним и тем же атрибутом; а это (по теореме 5) невозможно.
Следовательно, субстанция существует как бесконечная; что и требовалось доказать.
Схолия 1. Так как конечное бытие в действительности есть
в известной мере отрицание, а бесконечное — абсолютное утверждение существования какой-либо природы, то прямо из теоремы 7 следует, что всякая субстанция бесконечна.
Схолия 2. Я не сомневаюсь, что всем, которые имеют о вещах
спутанные суждения и не привыкли познавать вещей в их перХі>естоііатия по истории атеивма
4
вых причинах, будет трудно понять доказательство теоремы 7;
потому конечно, что они не делают различия между модификациями субстанций и самыми субстанциями и не знают, каким образом, происходят вещи. Отсюда выходит, что, видя начало у есте>ственных вещей, они ложно приписывают его и субстанциям. Ибо
тот, кто не знает истинных причин вещей, все смешивает и безо
всякого сопротивления со стороны своего ума воображает, что
деревья могут говорить так же, как люди, что люди могут образовываться из камней точно так же, как они образуются из семени,
и что всякая форма может изменяться в какую угодно другую.
Точно так же и тот, кто смешивает божественную природу с человеческой, легко приписывает богу человеческие аффекты, особенно
пока ему неизвестно, каким образом эти аффекты возникают
в душе. Напротив, если бы люди обращали внимание на природу
субстанций, то у них не осталось бы никакого сомнения в истинности теоремы 7; мало того, эта теорема стала бы для всех аксиомой и стояла бы в числе общепризнанных истин. Ведь тогда под
субстанцией понимали бы то, что существует само в себе и представляется само через себя, т. е. то, познание чего не требует
познания другой вещи; а под модификациями понимали бы то,
что существует в другом и представление чего образуется из представления о той вещи, в которой они существуют. Поэтому мы
можем иметь верные идеи и о несуществующих модификациях,
ибо хотя вне ума они в действительности и не существуют, однако
их сущность таким образом заключается в чем-либо другом, что
они могут быть представляемы через это другое. Истина же субстанций, вне ума заключается только в них самих, потому что они
представляются сами через себя. Таким образом, если кто скажет,
что он имеет ясную и отчетливую, т. е. истинную, идею о субстанции, но тем не менее сомневается, существует ли таковая субстанции, то это будет, право, то же самое, как если б он сказал, что
имеет истинную идею, но сомневается однако—не ложная ли она
(как это ясно всякому, кто достаточно вдумается в это). Точно
так же, если кто утверждает, что субстанция сотворена, то вместе
с этим он утверждает, что ложная идея' сделалась истинною, а
бессмысленнее этого, конечно, ничего нельзя себе и представить.
Итак, должно признать, что существование субстанции, так же как
и ее сущность, есть вечная истина.
Отсюда мы можем иным путем притти к тому заключению,
что субстанция одной и той же природы существует только одна,
и я счел не лишним показать здесь это. Чтобы сделать это в порядке, должно заметить 1) что правильное определение какой-либо
вещи не заключает в себё и не выражает ничего, кроме природы
определяемой вещи. Отсюда следует 2) что никакое определение
не заключает в себе и не выражаёт какого-либо определенного
числа отдельных вещей, так как оно выражает единственно только
природу определяемой вещи. Так например, определение треуголь-
ника выражает только природу треугольника, а не какое-либо
определенное число треугольников. 3) Должно заметить, что для
каждой существующей вещи необходимо есть какая-либо определенная причина, по которой она существует. 4) Наконец, нужно
заметить, что эта причина, в силу которой какая-либо вещь существует, или должна заключаться в самой природе и определении
существующей вещи (именно в силу того, что бытие присуще ее
природе) или же должна находиться вне ее. Из этих положений
следует, что, если в природе существует какое-либо определенное
число отдельных вещей, то необходимо должна быть причина,
почему существует именно это число их, а не больше, не меньше.
Если например в природе существует 20 человек (для большей
ясности я полагаю, что они существуют в одно время, и что ранее
никаких других людей в природе не существовало), то для того,
чтобы дать основание, почему существует 20 человек, недостаточно будет указать на причину человеческой природы вообще,
но сверх этого необходимо будет указать причину, почему существуют именно двадцать, а не более, так как (по замечанию 3) для
всего необходимо должна быть причина, почему оно существует.
Но эта причина не может заключаться в самой человеческой природе (по замечаниям 2 и 3), так как правильное определение человека не заключает в себе числа 20. Следовательно (по замечанию 4), причина, почему существуют эти 20. человек, и далее
почему существует каждый из них, необходимо должна находиться вне каждого из них. Отсюда вообще должно заключить,
что все, чьей природы может существовать несколько отдельных
единиц, необходимо должно иметь внешнюю причину для их
бытия. Так как, затем, природе субстанции (как показано в этой
схолии) свойственно существовать, то ее определение должно заключать в себе необходимое существование, и, следовательно, из
простого определения ее можно заключать о ее существовании,
но из ее определения (как мы уже показали в замечаниях 2 и 3)
не может вытекать существование нескольких субстанций. Следовательно, из него необходимо вытекает, что субстанция одной и
той же природы существует только одна; что и требовалось доказать.
Теорема 9. Чем более какая-либо вещь имеет реальности или
сущности, тем более присуще ей атрибутов.
Доказательство. Это. ясно из определения 4.
Теорема 10. Всякий атрибут субстанции должен быть представляем сам через себя.
Доказательство. Атрибут есть то, что ум представляет в субстанции, как составляющее ее сущность (по определению 4); следовательно, он должен быть представляем сам через себя (по определению 3); что и требозалось доказать.
Схолия. Отсюда ясно, что, хотя два атрибута представляются
реально различными, т. е. один без помощи другого, однако из
этого мы не можем, заключить, что они составляют два существа
или две различные субстанции. Природа субстанции такова, что
каждый из ее атрибутов представляется сам через себя, так как
все атрибуты, которые она имеет, всегда существовали в ней вместе, и ни один из них не мог быть произведен другим, но каждый
выражает реальность или бытие субстанции. Следовательно далеко
не будет нелепым приписывать одной субстанции несколько атрибутов. Напротив — в природе нет ничего более ясного, как то, что
всякое существо должно быть представляемо под каким-либо атрибутом, и чем более оно имеет реальности или бытия, тем'более оно
должно иметь и атрибутов, выражающих и необходимость или
вечность и бесконечность. Следовательно, нет ничего яснее тогоГ
что существо абсолютно бесконечное необходимо должно быть
определяемо (как мы показали это в определении 6), как существо,
состоящее из бесконечно многих атрибутов, из которых каждый
выражает некоторую вечную и бесконечную сущность. Если же
спросят, по какому признаку можем мы узнать различие субстанций, то пусть прочитают следующие теоремы, показывающие, что
в природе вещей существует только одна субстанция, и что она
абсолютно бесконечна, а потому и искать такого признака было бы
тщетно.
Теорема 11. Бог, или субстанция, состоящая из бесконечно
многих атрибутов, из которых каждый выражает вечную и бесконечную сущность, необходимо существует.
Доказательство 1. Если кто с этим не согласен, пусть представит, если это возможно, что бога нет. Следовательно (по аксиоме 9), его сущность не заключает в себе существования. Но это
(по теореме 7) невозможно. Следовательно бог необходимо существует; что и требовалось доказать.
Теорема 13. Субстанция абсолютно-бесконечная неделима.
Доказательство. Если бы она была делима, то части, на которые она разделилась бы, или удержат природу абсолютно- бесконечной субстанции или нет. В первом случае будет несколько субстанций одной и той же природы, что (по теореме 5) невозможно.
Если предложить второе, то (как и выше) абсолютно-бесконечная
субстанция будет иметь возможность перестать существовать, чтѳ
(по теореме 11) также нелепо.
Королларий. Отсюда следует, что всякая субстанция, а следовательно и всякая телесная субстанция, поскольку она есть субстанция, неделима.
Схолия. Что субстанция неделима, это еще проще открывается
из одного того, что природа субстанции может быть представляема
только бесконечною, а под частью субстанции можно понимать
только конечную субстанцию, а это (по теореме 8) содержит в себе
очевидное противоречие.
Теорема 14. Кроме бога никакая субстанция не может ни существовать, ни быть представляема.
Доказательство. Так как бог есть существо абсолютно-бесконечное, у которого нельзя отрицать ни одного атрибута, выражающего сущность субстанции (по определению 6), и он необходимо
существует (по теореме 11), то, если бы была какая-либо субстанция кроме бога, она должна была бы выражаться каким-либо атрибутом бога, и таким образом существовали бы две субстанции
с одним и тем же атрибутом; а это (по теореме 5) невозможно;
следовательно, вне бога не может существовать никакой субстанции, а потому таковая не может быть и представляема. Ибо,
если бы она могла быть представляема, то она необходимо должна
была бы быть представляема существующею, а это (по первой
части этого доказательства) невозможно. Следовательно, вне бога
никакая субстанция не может ни существовать ни быть представляема; что и требовалось доказать.
Теорема 15. Все, что только существует, существует в боге,
и без бога ничего не может ни существовать ни быть представляемо.
V
Доказательство. Кроме бога (по теореме 14) не существует
« не может быть представляема никакая другая субстанция, т. е.
(по определению 3) вещь, существующая сама в себе и представляемая сама через себя. Модусы же (по определению 5) без субстанции не могут ни существовать ни быть представляемы; следовательно, они могут существовать только в божественной природе
и быть представляемы только через нее. Но кроме субстанции и
модусов не существует ничего (по аксиоме 1). Следовательно без
бога ничего не может ни существовать, ни быть представляемо;
что и требовалось доказать.
Схолия. Есть люди, которые воображают, будто бог подобно
человеку состоит из тела и души и подвержен страстям. Но уже
из доказанного ясно, как далеки они от познания истинного бога.
Однако, их я оставляю s стороне. Ибо все, которые каким-либо
образом размышляли о божественной природе, отрицают телесность бога. Они доказывают это всего лучше тем, что под телом
мы понимаем некоторую величину, имеющую длину, ширину и
глубину и ограниченную какой-либо определенной фигурой; о боге
же, существе абсолютно-бесконечном, нельзя ничего сказать бессмысленнее этого. Но из других способов, которыми они стараются доказать то же самое, ясно, что они совершенно удаляют
от божественной природы и самую телесную или протяженную
субстанцию и полагают, что она сотворена богом. Каким родом
божественного могущества могла она быть сотворена, они совершенно не знают, а это ясно показывает, что они сами не понимают,
что говорят. Я по крайней мере, по моему мнению, достаточно
ясно доказал (см. королларий теоремы 6 и схолию 2 к теореме 8),
что никакая субстанция не может быть произведена или сотворена
чем-либо иным. Далее, в теооеме 14 мы показали, что кроме бога
никакая субстанция не может ни существовать, ни быть пред-
ставляема. Отсюда мы заключили, что протяженная субстанция
составляет один из бесконечно многих атрибутов бога. Однако для
большего уяснения дела я кроме того опровергну все аргументы
противников, которые сводятся к следующему.
Во-первых, думают, что телесная субстанция, поскольку она
субстанция, состоит из частей, и потому отрицают, чтобы она
могла быть бесконечна и следовательно иметь место в боге. Это
объясняют многими примерами, из которых я приведу один или
два. Говорят, например, что если телесная субстанция бесконечна,
то можно представить, что она делится на две части. Каждая часть
будет конечной или бесконечной. Если принять первое, то это
будет значить, что бесконечное слагается из двух частей конечных,
а это нелепо. Если принять второе, то одно бесконечное будет
вдвое больше другого бесконечного, что также нелепо. Далее говорят, что если измерять бесконечную величину частями равными
футу, то она должна будет состоять из бесконечно многих подобных частей, точно так же, как и в том случае, если измерять ее
частями, равными дюйму; следовательно, одно бесконечное число
будет в 12 раз более другого бесконечного. Наконец говорят: если
вообразить, что две расходящиеся линии AB и АС, выходящие
из одной точки, относящейся к какой-либо бесконечной величине,
и находящиеся вначале на известном и определенном расстоянии
друг от друга, будут продолжены в бесконечность, то известно,
что расстояние между В и С постоянно увеличивается и наконец
из определенного станет неопределенным. Так как эти нелепости,
как думают, вытекают из того, что предполагается бесконечная
величина, то заключают, что телесная субстанция должна быть
конечной и поэтому не может иметь места в сущности бога.
Второй аргумент основывается также на высочайшем совершенстве бога. Бог, говорят, как существо наисовершеннейшее, не
может страдать; телесная же субстанция, так как она делима, может страдать; следовательно, она не относится к сущности бога.
Таковы аргументы, находимые мною у писателей, старающихся доказать ими, что телесная субстанция недостойна божественной природы и не может иметь в ней места. Однако, если кто
правильно вникнет в это дело, то найдет, что я уже ответил на
них, так как все эти аргументы основываются только на том предположении, что телесная субстанция слагается из частей, а я уже
показал, что это невозможно (теорема 12 с королларием теоремы 13). Далее, если кто захочет тщательно обсудить этот вопрос,
го увидит, что все эти нелепости (а что все они таковы, об этом
я не спорю), из которых хотят притти к заключению, что протяженная субстанция конечна, вытекают вовсе не из того, что предполагается бесконечная величина, а только из предположения, что
бесконечная величина измеоима и слагается из конечных частей.
Поэтому из нелепостей, вытекающих из означенного предположения, нельзя заключить ничего другого, кроме того, что бесконеч-
язя величина недоступна измерению и из конечных частей состоять не может. А это то же самое, что мы уже доказали выше
(теорема 13 и т. д.). Итак, оружие, которое направляют против нас,,
попадает на деле в них самих. Таким образом, если из означенной
нелепости желают заключить, что протяженная субстанция должна
быть конечной, то, право, делают то же самое, как если бы кто
вообразил, что круг имеет свойства квадрата, и заключал бы отсюда, что круг не имеет такого центра, чтобы все линии, проведенные из него к окружности, были равны. В самом деле, для того
чтобы притти к заключению, что телесная субстанция конечна,
принимают, что она состоит из конечных частей, многосложна и
делима, хотя она может быть представляема только как бесконечная, единая и неделимая (см. теоремы 8, 5 и 12). Точно так же и
другие, вообразив, что линия слагается из точек, умеют найти
больйюе количество доказательств, показывающих, что линия не
может быть делима до бесконечности. И, конечно, полагать, что
телесная субстанция слагается из тел или частей, не менее нелепо,
чем полагать, что тело слагается из поверхностей, поверхности —
из линий, наконец линии — из точек. Это должны признать все,
кто знает, что ясный разум непогрешилі, и в особенности те, которые отрицают существование пустого пространства. В самом
деле, если бы телесная субстанция могла быть делима таким образом, что ее части действительно были бы различны, то почему
тогда одна часть не могла бы уничтожиться, между тем как остальные, как и прежде, оставались бы в соединении между собою;
почему все они должны быть таким образом прилажены одна
к другой, чтобы между ними не оставалось пустого пространства?
Вещи, реально различные друг от друга, конечно, могут существовать в своем состоянии одна без другой. Но так как пустого пространства в природе не существует (о чем — в другом месте), то
все части должны сходиться таким образом, чтобы между ними
пустого пространства не было, но отсюда следует, что эти части
и не могут быть реально различны между собою, т, е. что телесная
субстанция, поскольку она субстанция, не может быть делима.
Если же кто спросит, почему мы от природы так склонны
представлять величину делимою, то я отвечу, что величина представляется нами двумя способами: абстрактно или поверхностно,
именно как мы ее воображаем, или же как субстанция, что возможно только посредством разума. Если таким образом мы рассматриваем величину, как она существует в воображении, что
бывает чаще и гораздо легче, то -мы находим ее конечной, делимой
и состоящей из частей. 'Если же мы рассматриваем ее, как она
существует в разуме, и представляем ее как субстанцию, что
весьма трудно, то она является перед нами, как мы уже достаточно
доказали, бесконечной, единой и неделимой. Это будет достаточно
ясно всем, кто научился делать различие между воображением
(imaginatio) и разумом (intellectusf; в особенности если обратить
также внимание на то, что материя повсюду одна и та же, и что
части могут различаться в ней лишь, поскольку мы представляем
ее в различных состояниях. Следовательно части ее различаются
только модально, а не реально. Так например мы представляем,
что вода, поскольку она есть вода, делится, и ее части отделяются
доуг от друга. Но это невозможно для нее, поскольку она есть
телесная субстанция, ибо как таковая она неспособна ни к делению, ни к разделению. Далее, вода — как вода — возникает и исчезает, а как субстанция она не возникает и не исчезает. Я думаю,
что этим я ответил также и на второй аргумент, так как и он
основывается на том, что материя, поскольку она субстанция, делима и состоит из частей. А хотя бы и нет, то я все же не знаю,
почему бы материя была недостойна божественной природы; ведь
(по теореме 14) вне бога не может быть никакой субстанции, от
которой бы он мог страдать. Все, говорю я, существует в боге, и
все, что происходит, происходит по одним только законам бесконечной природы бога и вытекает (как я скоро покажу) из необходимости его сущности. Поэтому никаким образом нельзя сказать, что бог страдает от чего-либо другого или что протяженная
субстанция недостойна божественной природы, хотя бы она и
предполагалась делимой, но только признавалась бы вечной и
бесконечной. Однако об этом пока довольно.
...Теорема 17. Бог действует единственно по законам своей
природы и без чьего-либо принуждения.
Доказательство. Мы только что показали, что из одной лишь
необходимости божественной природы, или (что то же) из одних
только законов его природы безусловно вытекает бесконечно
многое; кроме того в теореме 15 мы доказали, что без бога ничего не может ни существовать, ни быть представляемо, но что все
существует в боге. Следовательно вне его не іможет быть ничего,
чем бы он определялся или принуждался к действию; таким образом бог действует в силу одних только законов своей природы, и
без чьего-либо принуждения; что и требовалось доказать.
Королларий 1. Отсюда следует 1), что нет никакой причины,
которая побуждала бы бога извне или изнутри к действию, кроме
совершенства его природы.
Королларий 2. Следует 2), что один только бог есть свободная
причина. Так как только он один существует (по теореме 11 и
королларию 1 теоремы 14) и действует (по предыдущей теореме)
по одной лишь необходимости своей природы, то следовательно
(по определению 7) только он один есть свободная причина; что
н требовалось доказать.
Схолия. Иные думают, что бог есть свободная причина потому,
что он может, по их мнению, сделать так, чтобы то, что, как мы
сказали, вытекает из его природы, т. е. находится в его власти,
не происходило, иными словами не производилось бы им. Но
это — то же самое, как если бы они сказали, что бог может сделать
так, чтобы из природы треугольника не вытекало равенство трех
углов его двум прямым; или — чтобы из данной причины не следовало следствие; а это — нелепо. Ниже я покажу без помощи
этой теоремы, что в природе бога не имеют места ни ум, ни воля
Правда, я знаю, что многие думают, будто они могут доказать,
что природе бога свойственны высочайший ум и свободная воля;
они не знают", говорят они, ничего более совершенного, что можно
было бы приписать богу, чем то, чот в нас самих составляет величайшее совершенство. Далее, хотя они и представляют бога в
действительности (актуально) в высшей степени одаренным разумом, однако не верят, чтоб он мог вызвать к существованию все,
что он в действительности (актуально) представляет; так как, думают они, таким образом уничтожилось бы могущество бога. Если
бы он, говорят они, сотворил все, что существует в его уме, то он
не мог бы тогда более ничего творить, а это, по их мнению, противоречит всемогуществу бога. Поэтому они предпочитают считать бога ко всему равнодушным и не творящим ничего кроме
того, что он постановил сотворить некоторой безусловной волей.
Однако я показал, думаю, достаточно ясно, что из высочайшего
могущества бога, иными словами — из бесконечной природы его,
необходимо воспоследовало или всегда следует в той же необходимости бесконечное в бесконечном многообразии, т. е. все; точно так же как из природы треугольника от вечности и до вечности
следует, что три угла его равны двум прямым. Поэтому всемогущество бога от вечности было действующим (актуально) и навеки
останется в той же самой действенности (актуальности). И таким
образом, по крайней мере, по моему мнению оно понимается гораздо более совершенным. Мало того, оказывается, что противники этого (можно открыто сказать) отрицают всемогущество бога.
Они должны полагать, что бог мыслит бесконечно многое, способное быть сотворенным, и однако никогда не будет в состоянии
сотворить этого. Так какв противном случае, если бы он сотворил
все, что мыслит, он исчерпал бы, но их мнению, свое всемогущество и сделался бы несовершенным. Следовательно для того, чтобы
полагать бога совершенным, они должны полагать вместе с тем,
что он не может произвести всего того, на что простирается его
могущество, а бессмысленнее этого или более противоречащего
всемогуществу бога я не знаю, что можно вообразить.
Далее (чтобы сказать здесь также об уме и воле, которые мы
обыкновенно приписываем богу), если вечной сущности бога свойственны ум и воля, то под обоими этими атрибутами конечно
должно понимать нечто иное, чем мы обыкновенно понимаем под
ними. Ибо ум и воля, которые составляли бы сущность бога,
должны были бы быть совершенно отличны от нашего ума и
нашей воли и могли бы иметь сходство с ними только в названии;
подобно тому например как сходны между собою Пес — небесный
знак и пес—лающее животное. Это я докажу следующим образом.
Если ум имеет место в божественной природе, то он не может, как наш, следовать по природе за постигаемыми вещами (как
многие думают) или существовать одновременно с ними, так как
бог по своей причинности первее всех вещей (по королларию 1
теоремы 16). Напротив, истина и формальная сущность вещей
такова потому, что она такою существует объективно в уме бога.
Таким образом ум бога, поскольку он понимается составляющим
сущность его, на самом деле есть причина вещей как по отношению к их существованию, так и по отношению к их сущности. Это
заметили, кажется, и те, которые признали, что ум, воля и могущество бога — одно и то же. Если же ум бога есть единственная
причина вещей, именно, как мы показали, и существования их и
сущности, то он необходимо должен отличаться от них как в отношении к первому, так и в отношении ко второй. Ибо то, что следует из причины, отличается от последней как раз в том, что оно
получает от нее. Человек например есть причина существования,
но не сущности другого человека (последняя есть вечная истина).
Поэтому по сущности оба они могут быть совершенно сходны, но
в существовании должны быть различны друг от друга. Вследствие
этого, если прекратится существование одного, то не прекратится
и существование другого; но если бы могла разрушиться и сделаться ложной сущность одного, то разрушилась бы также и сущность другого. Следовательно, вещь, составляющая причину как
существования, так и сущности какого-либо следствия, должна
отличаться от этого последнего как по своему существованию, так
и по своей сущности. А так как ум бега есть причина и существования и сущности нашего ума, то он, поскольку представляется
составляющим божественную сущность, различается от нашего
ума как по своему существованию, так и по своей сущности, и не
может иметь сходства с ним, как мы и хотели показать, ни в чем,
кроме названия. К воле, как это всякий легко может видеть, прилагается то же самое доказательство.
Теорема 18. Бог есть имманентная (immanens) причина всех
вещей, а не действующая извне (transiens).
Доказательство. Все, что существует, существует в боге и
должно быть представляемо через бога (по теореме 15); следовательно, бог (по королларию 1 теоремы 16) есть причина существующих в нем вещей; это—'Первое. Далее, вне бога не может
существовать никакой другой субстанции (по теореме 14), т. е. (по
определению 3) вещи, которая существовала бы сама в себе вне
бога; это — второе. Следовательно, бог есть имманентная причина всех вещей, а не действующая извне; что и требовалось доказать.
...Теорема 28. Все единичное, иными словами — всякая конечная и ограниченная по своему существованию вещь может суще-
ствовать и определяться к действию только в том случае, если она
определяется к существованию и действию какой-либо другой
причиной, также конечной и ограниченной по своему существованию. Эта причина в свою очередь также может существовать и
определяться к действию только в том случае, если она определяется к существованию и действию третьей причиной, также конечной и ограниченной по своему существованию, и так до бесконечности.
Доказательство. Все, что определено к существованию и действию, определено, таким образом, богом (по теореме 26 и королларию теоремы 24). Но конечное и имеющее ограниченное существование не могло быть произведено абсолютной природой какого'-либо атрибута бога, так как все, что вытекает из последнего,
бесконечно и вечно (по теореме 21). Следовательно оно должно
было проистечь из бога или какого-либо его атрибута, поскольку
он рассматривается в состоянии какого-либо модуса, так как кроме
субстанции и модусов нет ничего (по аксиоме 1 и определениям 3
и 5), а модусы (по королларию теоремы 25) суть не что иное, как
состояние атрибутов бога. Но оно не могло также проистечь из
бога или из какого-либо его атрибута, поскольку он находится
в состоянии какой-либо модификации, вечной и бесконечной (по
теореме 22). Следовательно оно должно было проистечь или определиться к существованию и действию богом или каким-либо
атрибутом, поскольку он находится в состоянии модификации
конечной и имеющей ограниченное существование. Это — первое.
Далее, эта причина или этот модус (на том же самом основании,
как мы только что доказали первую часть этой теоремы) должна
В свою очередь также определяться другой причиной, которая
также конечна и ограничена в своем существовании; последняя
(на том же основании) в свою очередь — другой, и так (на том же
основании) до бесконечности; что и требовалось доказать.
Схолия. Так как нечто должно было быть произведено богом
непосредственно, а именно то, что необходимо вытекает из его
абсолютной природы, и это первое посредствует все остальное,
что однако без бога не может ни существовать, ни быть представляемо, то отсюда следует 1) что бог есть абсолютно первая причина вещей, непосредственно производимых им, а не первая, как
говорят, в пределах своего рода. Ибо действия бога не могут ни
существовать, ни быть представляемы без своей причины (по теореме 15). Из всего этого следует 2) что про бога нельзя, собственно, сказать, что он составляет отдаленную причину отдельных
вещей, исключая, пожалуй, того случая, когда таковое выражение
употребляется для того, чтобы отличить эти вещи от тех, которые
он производит непосредственно; или, лучше сказать, которые вытекают из его абсолютной природы. Ибо под отдаленной причиной мы понимаем такую, которая никаким образом не связана со
своим действием. А все, что существует, существует в боге и зави-
сит от него таким образом, что без него не может ни существовать, ни быть представляемо.
Теорема 29. В природе вещей нет ничего случайного, но
все определено к существованию и действию по известному обраву нз необходимости божественной природы.
Доказательство. Все, что существует, существует в боге (по
геореме 15). Бог же не может быть назван случайной вещью, так
как он существует необходимо, а не случайно. Далее, модусы божественной природы, рассматривается ли она определенной к действию абсолютно (по теореме 21), или известным образом (по теореме 27), также проистекли из нее необходимо, а не случайно (по
геореме 16). Затем, бог составляет причину этих модусов, не только поскольку они просто существуют (по королларию теоремы
24), но также (по теореме 26) и поскольку они рассматриваются
определенными к какому-либо действию. Так что, если они не
определены богом (по той же теореме), то невозможно и недопустимо, чтобы они сами себя определили. И обратно (по теореме 27)
если они определены богом, то невозможно и недопустимо, чтобы
они сделали себя не определенными. Итак, все определено из необходимости божественной природы не только к существованию
но также и к существованию и действию по известному образу,
и случайного нет ничего; что и требовалось доказать.
Схолия. Прежде чем итти далее, я хочу изложить здесь или,
лучше сказать, напомнить, что мы должны понимать под natura
naturans (природа действующая) и natura naturata (природа осуществленная). Из предыдущего, я полагаю, ясно уже, что nos
natura naturans нам должно понимать то, что существует само в
себе и представляется само через себя, иными словами, такие атрибуты субстанции, которые выражают вечную и бесконечную сущность, т. е. (по королларию 1 теоремы 14 и королларию 2 теоремы
17) бога, поскольку он рассматривается как свободная причина,
А под natura naturata я понимаю все то, что вытекает из необходимости природы бога, иными словами — каждого из его атрибутов, т. е. все модусы атрибутов бога, поскольку они рассматрщ
ваются как вещи, которые существуют в боге и без бога не могутг
ни существовать, ни быть представляемы.
Теорема 30. Ум, будет ли он в действительности (актуально)
конечным или бесконечным, дожен постигать атрибуты бога й
его модусы и нечего более.
Доказательство. Истинная идея должна быть согласна со своим объектом по аксиоме 6), т. е. (как это само собой ясно) то, что
заключается в уме как объект, необходимо должно существовать
в природе. Но в природе (по королларию 1 теоремы 14) не существует никакой другой субстанции кроме бога и никаких других
модусов кроме тех, которые находятся в боге (по теореме 15) и
(по той же теореме) без бога не могут ни существовать, ни быть
представляемы. Следовательно ум, будет ли он в действительности
(актуально) конечным или бесконечным, должен постигать атрибуты бога и его модусы и ничего более; что и требовалось доказать.
Теорема 31. Ум, будет ли он в действительности (актуально)
конечным или бесконечным, равно как и воля, желание, любовь
и т. д., должны относиться, к natura naturata, а не к natura
naturans.
Доказательство. Под умом (само собой ясно) мы понимаем не
абсолютное мышление, но только известный модус его, отличный
от других таких же модусов, как например желания, любви и
т. д. Следовательно, ум должен быть представляем через посредство абсолютного мышления (по определению 5), т. е. (по теореме 15 и определению 6) через посредство некоторого атрибута
бога, выражающего вечную и бесконечную сущность мышления
таким образом, что без этого атрибута он не может ни существовать, ни быть представляем. И потому (по схолии теоремы Z9)
он должен относиться к natura naturata, а не к natura naturans,
равно как и другие модусы мышления; что и требовалось доказать.
Схолия. То, что я говорю здесь об уме, как он в действительности (актуальном), не значит, что я допускаю сѵществованиг
какого-либо ума в возможности. Но так как я желаю избегать
всякой запутанности, то я и предпочел говорить только о вещи
совершенно ясной для нас, именно о самом умственном процессе,
яснее которого для нас нет ничего. В самом деле, всякий акт последнего ведет нас к более совершенному познанию умственного
процесса.
Теорема 32. Воля не может быть названа причиной свободной,
но только необходимой.
Доказательство. Воля составляет только известный модус
мышления, точно так же, как и ум; поэтому (по теореме 28) каждое отдельное проявление воли может определяться к существованию и действию только другой причиной, эта — снова другой, и так до бесконечности. Если же предположить волю бесконечную, то и она также должна определяться к действию богом,
не поскольку он составляет абсолютно-бесконечную субстанцию,
а лишь поскольку он обладает атрибутом, выражающим бесконечную и вечную сущность мышления (по теореме 23). Итак, все
равно, представляется ли воля конечной или бесконечной, всегда
, найдется причина, которая определяла бы ее к существованию и
действию, и потому (по определению 7) воля не может быть названа свободной причиной, но только необходимой или принужденной; что и требовалось доказать.
Королларий 1. Отсюда следует 1) что бог не действует по
свободе воли.
Королларий 2. Следует 2) что воля и ум относятся к природе
бога точно так же, как движение и покой и вообще все естествен-
ное, что (по теореме 29) к существованию и действию по известному образу должно определяться богом. Это потому, что воля,
как и все остальное, нуждается в причине, которой она определялась бы к существованию и действию по известному образу.
И хотя из данной воли или ума вытекает бесконечно многое, однако же сказать вследствие этого, что бог действует по свободе
воли, можно так же мало, как на основании того, что вытекает
из движения и покоя (из них ведь также вытекает бесконечно
многое), сказать, что она действует по свободе движения и покоя.
Итак, воля имеет место в природе бога не более, как и все остальные естественные вещи; Она относится к ней таким же образом,
как движение, покой и все прочее; что, как мы показали, вытекает из необходимости божественной природы и определяется ею
к существованию и действию по известному образу.
Теорема 33. Вещи не могли быть произведены богом никаким
другим образом и ни в каком другом порядке, чем произведено.
Доказательство. Все вещи составляют необходимое следствие
данной природы бога (по теореме 16), и определены к существованию и действию по известному образу из необходимости божественной природы (по теореме 29). Если бы таким образом вещи
могли быть иной природы или иначе определяться к действию,
так что порядок природы был бы иной, то, значит, могла бы
быть и иная природа бога, чем та, какая уже существует. И следовательно (по теореме 11) эта иная природа бога также должна
была бы существовать, и, таким образом, могло бы быть два бога
или несколько, а это (по королларию 1 теоремы 14) нелепо. Следовательно вещи не могли быть произведены богом никаким другим образом и ни в каком другом порядке и т. д.; что и требовалось доказать.
Схолия 1. Доказав яснее солнечного света, что ів (вещах нет
решительно ничего, почему они могли бы быть названы случайными, я хочу об'яснить вкратце, что мы должны понимать под
случайным. Но сначала определим, что такое необходимое и невозможное. Какая-либо вещь называется необходимой или в отношении к своей сущности, или в отношении к своей причине, так
как существование вещи необходимо следует или из сущности и
определения ее, или из данной производящей причины. Далее, на
тех же самых основаниях какая-либо вещь называется невозможной; или потому именно что сущность или определение ее заключает в себе противоречие, или потому, что нет никакой определенной внешней причины для произведения такой вещи. Случайной
же какая-либо вещь называется единственно по несовершенству
нашего знания. В самом деле, вещь, относительно которой мы не
знаем, заключает ли в себе ее сущность противоречие, или о которой хорошо знаем, что она не заключает в себе никакого противоречия, и однако не можем сказать ничего верного о ее существовании вследствие того, что для нас скрыт порядок причин,—такая
вещь никогда не может иметь для нас значения ни необходимой,
ни невозможной, и мы называем ее поэтому случайной или возможной.
Схолия 2. Из предыдущего ясно следует, что вещи произведены богом в высочайшем совершенстве, так как они являются
необходимым следствием данной совершеннейшей.природы. И это
нисколько не уменьшает совершенства бога, так как нас побуждает утверждать это его же совершенство. Мало того, из положения противоположного этому ясно следовало бы (как я только
что показал), что бог не в высшей степени совершенен; в самом
деле, если бы вещи были произведены иначе, то богу должна
была бы быть приписана иная природа, отличная от той, какую
мы должны были приписать ему, исходя из рассмотрения существа совершеннейшего.
Впрочем, я не сомневаюсь, что многие отвергнут это мнение,
как нелепое, и не захотят взять на себя труд взвесить его; и это
только потому, что они привыкли приписывать богу иную свободу, совершенно отличную от той, которая представлена нами
(определение 7), а именно — абсолютную волю. Не сомневаюсь
также и в том, что, если бы они захотели обсудить этот вопрос
и правильно взвесить ряд наших доказательств, то они совершенно отвергли бы такую свободу, какую они приписывают теперь богу, не только как пустую, но и как составляющую большую
преграду для знания...
...Я должен признаться, что означенное мнение, все подчиняющее какой-то индиферентной воле бога и все ставящее в зависимость от его благосойзволения, менее уклоняется от истины, чем
мнение тех, которые полагают, будто бог все производит под
идеей блага. Последние', повидимому, полагают, что вне бога существует нечто от него независимое, к чему бог обращается в
своем творении, как к образцу, или к чему он стремится, как к
известной цели. А это, конечно, все равно, что подчинять бога
фатуму. Но нелепее этого ничего нельзя сказать о боге. Поэтому
я и не стану терять времени на опровержение этой нелепости.
(«Этика»),
ТОМАС ГОББС.
1.
Возражения Декарту на его доказательство о существовании
бога. 1
«Некоторые из них (именно из явлений человеческого сознания) представляют собой как бы образы вещей, и им одним соответствует название идеи, например, когда я себе мыслю человека
или химеру или небо, ангела или бога».
1
Фразы в кавычках принадлежат Декарту.
Когда я себе мыслю человека, то я имею в своем сознании
идею или образ, обладающий определенной формой и цветом,
причем однако может быть сомнительно, похож ли этот образ на
человека или нет. Подобным же образом обстоит дело и с идеей
неба. Когда я мыслю химеру, то я имею в сознании идею или
образ, относительно которого можно сомневаться, соответствует
ли он или нет какому-либо существующему существу или такому,
которое могло бы существовать или существовало.
Когда же однако я мыслю ангела, то моему воображению
представляется то образ пламени, то образ красивого мальчика
с крыльями — образы, о которых я определенно знаю, что они
не соответствуют никакому ангелу и не представляют поэтому
собой также и идеи ангела. Но так как мы верим, что существуют
какие-то подчиненные богу невидимые и нематериальные существа, то мы обозначаем эти только предполагаемые на основании
нашей веры существа именем ангелов, хотя представление об
ангеле для нас складывается из представления видимых вещей.
Точно так же мы не имеем представления или идеи для досточтимого имени бога.
Мы вообще не имеем идеи бога. Мы скорее похожи в этом
отношении на слепорожденного, котрого nacfo ставили около
огня. Он чувствует, что ему становится тепло, замечает, что должно быть что-то, от чего ему становится тепло; и вот он слышит,
что это нечто называется «огонь», из чего он заключает, что существует огонь. Но он однако не знает, какого цвета и какой формы
бывает огонь; мало того, он вообще не имеет никакой идеи и никакого образа огня. Подобным же образом и человек познает,
что его идеи и образы должны иметь какую-нибудь причину, и
что эта причина должна в свою очередь иметь свою причину и т. д.
В качестве заключительного звена этого ряда он полагает вечную
причину, которая, так как ее бытие не имело никогда никакого
начала, не предполагает более предшествующей ей причины. Таким образом он заключает, что необходимо существует нечто вечное. Ко он не имеет никакой идеи этого вечного, и именем бога
он только обозначает это, им признанное и являющееся предметом его веры, существо...
«Остается еще исследовать, каким путем я получил идею бога.
Я не мог ее получить посредством органов чувств. Она не мэгла
никогда также навязаться мне, подобно представлениям чувственных вещей, в тех случаях, когда внешние предметы действительно
или благодаря иллюзиям воспринимаются органами чувств. Эта
идея, наконец, не создана мной, так как я ничего не могу прибавить к ней и ничего не могу убавить от нее. Таким образом остается только одно возможное предположение, а именно — что эта
идея мне врождена так же, как мне вреждена идея моего собственного «я».
Не доказано, что идея бога мне вообще дана. Но если она
мне не дана, как приходится думать в действительности, тогда
все вышеприведенное рассуждение является беспредметным. Кроме того идея моего собственного «я» возникает благодаря чувству
зрения, благодаря тому, что я вижу свое собственное тело. Идеи
же души мы вообще не имеем, и только путем умозаключений мы
приходим к предположению чего-то присущего телу и дающего
ему жизнь: способность ощущать и двигаться. И это нечто, какова
бы ни была его природа, мы обозначаем словом «душа», не имея
однако его идеи...
«Остается еще разобраться, не является ли идея бога чем-то,
что обязано своим возникновением мне.
Под именем бога я подразумеваю бесконечную, независимую,
всемудрую, всемогущую субстанцию, создавшую меня и также все
то, что находится вне меня. Чем внимательнее я вдумываюсь в эти
определения, тем яснее становится для меня, что они не могут
быть только продуктами моего творчества. И отсюда, принимая
во внимание все вышесказанное, следует, что бог необходимо
существует».
Подвергая рассмотрению атрибуты бога, чтобы получить из
них идею бога, и исследуя вопрос о том, есть ли в них что-нибудь, что не может быть продуктом нашего творчества, я нахожу,
если не ошибаюсь, что то, что мы ассоциируем с именем бога, не
является, правда, продуктом нашего творчества, но все же обязано своим происхождением только внешним вещам. Ибо под словом «бог» я подразумеваю субстанцию, т. е. я мыслю его существующим не на основании идеи, а на основании умозаключения.
Я мыслю эту субстанцию бесконечной, т. е. так, что я ни мысленно,
ни чувственно не могу себе представить в ней границ (именно
крайних частей, за которыми нельзя себе представить дальнейших). Из чего следует, что, употребляя слово «бесконечный», я еще
этим не выражаю никакой идеи божественной бесконечности, а
скорей определяю границы или пределы моего сознания. Наконец,
я мыслю эту субстанцию независимой, т. е. я не знаю никакой причины, от которой бы бог мог произойти^
Отсюда ясно, что моя идея независимости не содержит ничего
другого, кроме воспоминания об идеях, которые возникают во
мне в разное время и являются в силу этого зависимыми. Утверждение: «бог — независим» выражает таким образом только то,
что бог принадлежит к тому классу вещей, чье возникновение
я себе не представляю, подобно тому "как под бесконечностью бога
мы себе мыслим только то, что бог принадлежит к тому классу
вещей, в которых мы себе не представляем никаких границ. Но
этим в корне подрывается всякая идея бога, ибо—что такое идея,
не имеющая ни начала, ни границ?
Что значит «всемудрый»? Я спрашиваю, посредством какой
идеи Декарт знает что-либо о мудрости бога. Что значит «всемогущий»? Какая идея дает нам представление б силе, т. е. о будуХрестоматкя по истории атеизма
щих, пока еще не существующих, вещах? Ведь понятие силы
или способности может возникнуть в нас только благодаря представлению совершенных деяний путем следующего умозаключения: нечто существующее действовало, следовательно могло так
действовать, следовательно сможет и еще раз так действовать,
следовательно оно обладает способностью действовать, — все —•
идеи, воспринятые от внешних вещейТо обстоятельство, что мы можем себе представить мир созданным, не является достаточным доказательством того, что он
действительно был создан.
Если Декарт кроме того утверждает, что идеи бога и души
нам врождены, то я хотел бы знать, мыслит ли дух и в глубоком
сне, при отсутствии сновидений. Если нет, то он в эти моменты
не имеет никаких идей. Отсюда следует, что не существует врежденных идей, ибо то, что врождено, должно всегда проявиться.
Религия—узаконенное государством суеверие.
Суеверный культ слишком разнороден вследствие разнообразных религиозных представлений, которые имеются особенно у народов, исповедующих многобожие (предполагающих целый ряд
небожителей — нечто вроде общины наземных людей). Этого рода
культ поэтому трудно описать. Исповедывавшие многобожие народы древности верили даже, что боги имеют на небе свой собственный язык и вещи называют иначе, чем люди. Например, царь,
называвшийся на земле Ромулом, назывался будто бы на небе Квирином, точно так же назывались будто бы на небе иначе и другие
существа и предметы, как это можно видеть у греческих поэтов и
отцов языческой церкви. Таким же образом и клирики называют
церковью то, что мы называем государством, а в церкви называется каноном то, что в государстве называется законом, и святейшеством — то, что в монархии называется величеством. Не
удовлетворившись одной общиной богов, древние язычники воображали себе еще вторую, "состоящую из морских богов — под
верховной властью Нептуна, и третью, подземную — под властью
Плутона. Кроме того не было ни одного предмета творения, которого они не провозглашали бы богом или богиней. Не было ни
одной добродетели, которой они ни почитали бы. Лишь работа и
прилежание — два божества, милостивые сами по себе — оставались у них без храма и алтаря. Одним словом, все, что могло
иметь имя, могло также стать божеством. Всякий видит, как мало
все это согласуется с естественным разумом. Но чтобы такое суеверие было названо религией,—это может установить лишь закон, который любое другое суеверие может объявить религией.
" "
;
(«Левиафан»),
3.
Тому, кто рассказывает, будто с ним разговаривал бог, никто
не обязан верить, как человеку, который способен заблуждаться
л даже лгать.
4.
Тайны религии подобных пилюлям—их надо проглатывать
сразу,—когда пытаешься их разжевать, они вызывают тошноту.
5.
Стоит людям раз усвоить себе неверное мнение, раз признать
его за несомненную истину, и тогда уже их невозможно вразумить, как невозможно разборчиво писать на сплошь исписанной
бумаге.
6.
О религии.
Страх перед неведомой силой, вымышленной или воображаемой на основании рассказов, допущенных к распространению
публичной властью, есть религия. Если же представление об этой
силе почерпнуто из рассказов, не дозволенных публичной властью,
то страх перед этой силой есть суеверие (Leviathan, гл. V). Так
как мы видим, что как признаки религии, так и ее плоды существуют лишь в человеке, то нет основания сомневаться в том, что
семена религии заложены также лишь в человеке и состоят в некотором особом качестве или, по крайней мере, в такой значительной степени развития этого качества, какой мы не находим
у других живых существ.
Первая особенность человеческой природы состоит в том, что
людям свойственно доискиваться причин наблюдаемых ими происшествий. Эта особенность присуща одним людям в большей,
другим — в меньшей степени, но всем она присуща в той мере,
чтобы доискиваться причин своего собственного счастья или несчастия.
Вторая особенность человека состоит в том, что, видя какуюнибудь вещь, имеющую начало, человек думает, что она должна
иметь также причину, предопределившую, чтобы вещь началась
жяенно тогда, когда она началась, а не раньше или позже.
Третья же особенность человека состоит в следующем. Звери
совсем неспособны или способны в очень незначительной степени
наблюдать и запоминать порядок, последовательность и взаимозависимость вещей, которые они видят. Вот почему им несвойственна предусмотрительность в отношении будущего, и их счастье состоит лишь в том, чтобы наслаждаться изо дня в день
пищей, покоем и возможностью удовлетворения похоти. Человек
же наблюдает, как одно явление порождается другим, и запоминает в них причину и следствие. И если он не может ѵдостове-
риться в истинных причинах вещей (ибо причины счастья и несчастья большей частью невидимы), он строит предположения
насчет этих причин, основываясь при этом или на том, что ему
подсказывает его собственное воображение, или на авторитете
других людей, а именно таких, которых он считает своими друзьями и более мудрыми, чем он сам.
Первые две особенности являются источником душевного беспокойства. Ибо, будучи уверен в том, что все, что произошло до
сих пор, и все, что произойдет в будущем, имеет свои причины,
человек при своем неустанном стремлении обезопасить себя от
бед, которых он боится, и достигнуть блага, которого он желает,
не может не испытывать постоянного беспокойства за будущее.
Таким образом, все люди, и в осбенности наиболее дальновидные
из них, находятся в положении Прометея. Ибо, подобно тому, как
Прометей, которого толкуют, как олицетворение разумного человека вообще, был прикован к скале Кавказа, — место, с которого
далеко кругом видно, — где орел клевал его печень, пожирая за
день столько, сколько отрастало за ночь, так и человек, видящий
слишком далеко перед собой, в заботе о будущем терзается все
дни страхом смерти, обнищания или других бедствий, отдыхая
• от беспокойства только во время сна.
Этот непрерывный страх, являющийся постоянным спутником
человеческого рода, пребывающего как бы во тьме благодаря незнанию причин, необходимо должен иметь что-нибудь своим ОбѴ
ектом. Но так как такого видимого об'екта нет, то люди могут
считать виновником своего счастия или несчастия лишь какую-то
силу или невидимого агента.
В этом смысле, может «быть, некоторые из древних поэтов
утверждали, что боги были впервые созданы человеческим страхом. В отношении богов (т. е. в отношении языческого многобожия) это утверждение вполне правильно. Но признание единого
бога, вечного, бесконечного и всемогущего, легче вывести из желания людей познать причины естественных тел и их разнообразных свойств и действий, чем из страха людей перед тем, что с
ними может случиться в будущем. Ибо если кто-либо от совершающегося перед ним действия станет мысленно переходить к его
ближайшей и непосредственной причине и отсюда — к причине
этой причины и т. д., прослеживая таким образом весь причинный
ряд, то он в конце концов придет к тому, что должен существовать (что уже признали даже языческие философы) первичный
двигатель, т. е. первая и вечная причина всех вещей. И это именно
то, что люди разумеют под именем бога. И все это —'без всякой
мысли о собственной судьбе, забота о которой, с одной стороны,
делает людей склонными к страху, а с другой стороны, мешает
им исследовать причины других вещей и сверх того дает повод
к выдумыванию стольких богов, сколько есть людей, которые их
выдумывают.
Что же касается естества или субстанции выдуманных таким
образом невидимых агентов, то люди при естественном ходе мы, слей могли притти только к тому представлению, что это естество
или субстанция одинаковы с естеством или субстанцией человеческой души, а человеческая душа по своей субстанции однородна
с тем, что является в сновидениях спящему или в зеркале — бодрствующему. Так как люди не знают, что такого рода явления суть
не что иное, как,создания нашей фантазии, то они считают их
реальными и существующими вне нас существами. Вот почему они
называют их привидениями, подобно тому как римляне называют
их imagines и umbrae и считали их духами, т. е. тонкими воздушными телами, принимая за такие же существа и тех невидимых
агентов, которых они боялись, с той только разницей, что последние появляются и исчезают, когда хотят. Но ни одному человеку, естественно, не могло приходить в голову, что такие духи
бестелесны или нематериальны, ибо хотя люди могут сочетать слова со взаимно исключающим одно другое смыслом, как дух бестелесный, они, однако, никогда не могут иметь представления о
какой-нибудь вещи, соответствующей такому сочетанию слов. Вот
почему люди, пришедшие путем собственных размышлений к
признанию единого, бесконечного, всемогущего и вечного бога,
предпочитают признать его непостижимым и чем-то, что превышает меру их разумения, чем определять его естество словами «бестелесный дух», а затем признать это определение непонятным.
Или если эти люди и дают богу такое наименование, то это делается не догматически, не с целью сделать божественную природу
понятной, а в интересах благочестия, чтобы наделить бога атрибу-"
тами, обозначающими нечто поелику возможно далекое от грубости видимых тел.
Что же касается тех средств, при помощи которых невидимые
агенты, по представлению верующих в них людей, производят
свои действия, т. е. тех непосредственных причин, при помощи
которых первые производят то, что совершается, то люди, не знающие, что такое то, что мы называем причинением (а это почти все
люди), не имеют другого способа отгадывать будущее, как замечать и запоминать, что по их наблюдениям предшествовало подобным действиям в предшествовавшее время или в предшествовавшие времена, без того, однако, чтобы они между предшествовавшим и последующим событием заметили какую-нибудь зависимость
или связь. В силу этого они от событий, подобных виденным ими
раньше, ждут подобных же последствий в будущем и суеверно
ждут счастия или несчастия от вещей, не находящихся с последними ни в какой причинной связи. Так, партия Помпея требовала
для своей войны в Африке другого Сципиона, а другие с тех пор
делали подобное в разных других случаях. Подобным же образом
люди приписывают свою удачу или неудачу присутствию какогонибудь человека, счастливому или несчастному месту, каким-ни-
будь сказанным словам, особенно, если среди них было имя бога,
как колдовству и заклинанию (литургия колдунов), веруя, что последние имеют силу обратить камень в хлеб, хлеб в человека и
любую вещь в любую другую вещь. В-третьих, что касается тех
знаков почитания, которые люди естественно оказывают невидимым силам, то они могут принять лишь те формы, в которых
люди выражают свое уважение и по отношению к людям, когда
взывают к их помощи, а именно форму подарков, просьб, благодарностей, покорной позы, почтительного обращения, благонразного поведения, обдуманных слов, клятв (т. е. уверения друг
друга в исполнении обещаний). Сверх этих форм разум не подсказывает ничего другого и предоставляет людям или ограничиться этими формами, или же в отношении дальнейших церемоний довериться тем, кого они считают более мудрыми, чем они
сами.
;
Что касается, наконец, того, каким образом эти невидимые
силы возвещают людям будущие события, особенно касающиеся
их личной судьбы в общем или успеха или неуспеха в каком-либо
частном предприятии, то на этот счет у людей, конечно, нет определенного представления. Дело происходит обыкновенно так, что
люди по своей привычке отгадывать будущее на основании прошлого весьма склонны не только принимать случайные вещи на
основании одного или двух фактов за предвещание подобных же
фактов в будущем, но также и верить в подобные предзнаменования на основании слов других людей, о которых они раз составили себе хорошее мнение.
И эти именно четыре вещи: мнение о духах, незнание вторичных причин, благоговение перед тем, чего люди боятся, и принятие случайных вещей за предзнаменования составляют естественное семя религии, которая в силу разнообразных фантазий, суждений и страстей различных людей разрастается в целый ряд церемоний, до того различных между собой, что те, которых придерживаются одни люди, в большинстве случаев кажутся смешными другим людям.
(«Левиафан-»).
7.
Под словом «дух» мы понимаем естественное тело, до того
тонкое, что оно не действует на наши чувства; но мы себе представляем, что это тело заполняет пространство так, как его заполнило бы изображение какого-нибудь видимого тела. Представление,
следовательно, которое мы имеем о духе, есть представление о
фигуре, лишенной цвета. В фигуре же мы мыслим пространственные измерения. Следовательно, представлять себе дух значит представлять себе нечто, обладающее измерениями. Но тот, кто гозорит
о сверх'естеетвенном духе, говрит о субстанции без измерений,
что представляет собой внутреннее противоречие. Вот почему,
когда мы применяем имя духа к богу, мы его применяем не как
7І
имя вещи, о которой мы имеем представление. Мы в этом случае
так же мало представляем себе то, о чем говорим, как тогда,
когда приписываем богу чувство и разум. Этими атрибутами мы
выражаем лишь наше благоволение к богу; они означают лишь
наше усилие отвлечься в нашем представлении о нем от всякой
телесной грубости.
Что касается других существ, которые люди называют бестелесными духами, то одними естественными средствами мы не
можем узнать даже об их существовании. Мы — христиане — признаем существование добрых и злых ангелов и духов. Мы говорим, что человеческая душа есть дух и что духи бессмертны, но
для нас невозможно познание этих вещей, т. е. эти вещи не могут
иметь для нас естественной очевидности. Ибо, как было выяснено
в главе VI, пункте 3, всякая очевидность есть представление, а, как
было выяснено в главе III, пункте 1, всякое представление есть
воображение, имеющее своим источником деятельность органов
чувств.
Предполагая, что духи являются субстанциями, не оказывающими никакого действия на наши органы чувств, мы признаем,
что они непознаваемы.
Но хотя священное писание признает существование духов,
оно, однако, нигде не говорит, что они бестелесны в том смысле,
что лишены протяженности и качеств. И я вообще не думаю, чтобы
во всей библии мы могли найти слово «бестелесный». Там только
говорится, что дух пребывает в людях, что он нисходит на них,
что он приходит и уходит, что духи суть ангелы, то-есть вестники.
Все эти слова содержат в себе понятие места, а место есть протяженность. Все же, что имеет протяженность, есть тело, каким бы
тонким мы ни представляли его себе. Мне поэтому представляется,
что священное писание скорее говорит в пользу тех, кто придерживается противоположного мнения. И явным противоречием
является, когда говорят в непринужденном разговоре о человеческой душе, что она есть tota in tota et tota in qualibet parte
corporis (вся в целом и вся в каждой части тела). Такое мнение
не основано ни на разуме, ни на откровении: оно вытекает из
незнания того, что представляют собой те вещи, которые называются призраками, а именно те видения, которые являются в темноте детям и трусливым людям, а также и другие странные видения, о которых я говорил в главе V, пункте 3, назвав их там
фантомами. ,
Принимая эти признаки за реальные вещи, существующие
подобно телам вне нас, и видя, что они появляются и исчезают
странным образом и не так, как появляются и исчезают тела, —
невежественные люди могли обозначить эти призраки лишь бестелесными духами. Но это не имя, а лишь бессмысленное слово.
(«Левиафан»).
МАТТИАС КНУТСЕН.
Я часто удивлялся, что христиане, которые все подвергаются
помазанию, совсем как тяжелые колеса, непрерывно спорят между
собой. Мое удивление кончилось, когда я убедился, что их основоположная вероучительная книга, которую они называют библией, настолько сама себе противоречит... Мы спокойно, ничуть
не погрешая против истины, можем сказать о священном, т. е.
достойном проклятия, писании, то же, что когда-то сказал об
Алкоране Брейденбах: «Коран — это книга такая путаная и непонятная, что в ней невозможно найти какой-либо порядок, какуюлибо связь и разумную форму в словах и идеях — словом, она
кажется лишенной смысла и разумного содержания». То же самое
я утверждаю про Алкоран христиан, отбрасывая только словечко
«кажется»... Никто не в праве порицать меня за то, что я считаю
библию красивой басней, в которой находят свою радость болваны,
т. е. христиане, сковывающие свой разум и ведущие борьбу с ним...
Для всех догматов христианской веры у меня и у моих братьев
существует лишь одна поговорка: «Пусть верит тот, кому мазали
лоб, а мы подождем»... Мы, сознательные, верим лишь в то, что
согласно с совестью, разумом и знанием. Жизнь одна. Кто живет
хорошо, у того царство небесное на земле, кто живет плохо, у того
тысячи мучений, у того ад уже на земле и ждать другого уже не
приходится.
(Из прокламаций Кнутсена),
ПЬЕР БЕЙЛЬ •
1.
Величайшие преступники в человеческой истории были религиозными людьми.
Пусть мне не говорят, что те из злодеев прошлого, которые
совершали ужаснейшие преступления, были в душе безбожниками.
Было бы нелепо утверждать, что они не признавали бога. Даже
если бы и было правдой, что какой-нибудь Тарквиний, Каталина,
Калигула, Нерон не признавали никакого бога, то было бы нелепо
уверять то же относительно всех римлян, которые были убийцами,
отравителями, клятвопреступниками, бесстыдниками и т. д. Да и
о жестоком Нероне нельзя говорить, что он был безбожником,
ибо, .согласно свидетельству Светония, он не осмеливался присутствовать на таинствах Цереры, напуганной выкриками храмового
глашатая о том, что нечестивец и преступник должен страшиться
приближения к священнику. Это с полной очевидностью показывает, что Нерон признавал невидимое правосудие, что он боялся
его. Тот же Светоний рассказывает нам, что Нерона преследовали
угрызения совести, что его приводили в трепет дурные предсказания и предзнаменования, что он до конца дней своих поклонялся какой-то статуе, что перед самой смертью он гадал по внутренностям жертв. Следовательно, он не был атеистом. Что касается Тарквиния, Каталины, Калигулы, Гелиогабала, то очень легко доказать, что они не были атеистами: первый собственных детей
отправил в Дельты посоветоваться с оракулом относительно виденного им чуда, второй построил маленькую часовню в честь
серебряного изображения орла, которому ой поклонялся, третий
считал своим долгом расправляться за оскорбления, нанесенные
Юпитеру, четвертый так ревностно предался культу бога, в первосвященники которого он был посвящен, что приказал свалить
в построенный им храм все, что было священного в храмах других богов. Он даже говорил, что следует перенести туда культ
иудеев, самаритян, христиан, дабы этот культ включал все остальные. Гелиогабал каждое утро приносил много жертв, он посвятил
своему богу самых красивых детей Италии и в то время, как маги
душили несчастных, он возносил молитвы своему идолу. Он сам
рассматривал внутренности жертв, чтобы угадать по ним будущее.
Все сказанное говорит о том, что это мерзкое чудовище отнюдь
не было атеистом... Но раз ни Нерон, ни Тарквиний, ни Каталина,
ни Калигула, ни Гелиогабал не были атеистами, то какое право
может иметь кто бы то ни было сказать, что все дурно жившие
среди язычников не имели никакого религиозного чувства?
Кто станет утверждать, что христиане, возлагавшие на себя
крест для участия в завоевании святой земли, не имели религии,—
те христиане, которые покидали родину, чтобы отправиться на
войну с неверными, те христиане, которые якобы видели ангелов
и святых во главе своих армий, те христиане, которые только и
говорили о чудесах и знамениях? Надо потерять всякий здравый
смысл, чтобы подозревать в атеизме людей подобного рода, которые, тем не менее, совершили самые жуткие безобразия, какие
только известны истории. Как известно, дело дошло до того, что
крестьяне, на защиту которых отправлялись крестоносцы, ненавидели их не меньше, чем турок и сарацин. У крестовых походов
есть очень неприглядная изнанка. С одной стороны, восточные
христиане не останавливались ни пред какими черными предательствами, чтобы погубить западных христиан, пришедших к ним
на помощь, с другой стороны, западные христиане позволили себе
самые отвратительные безобразия всякого рода. Я отнюдь не
собираюсь отрицать, что крестовые походы являются благочестивым предприятием. Я, напротив, подчеркиваю: крестоносцы в подавляющей части были людьми, которых вдохновляли на участие
в походах предсказания и отпущения, которые наверняка не отрекались в душе от религии, предаваясь своим кровожадным и диким подвигам.
(Разные мысли по поводу кометы. §§ 130 и 140).
2.
Вместе с попами всюду проник дух преследования, произведший столько опустошений и, в конце концов, навеки превративший христианскую церковь в церковь палачей и лжецов.
И впредь уже всегда будет представляться людям, что христианство — это религия, которая возлюбила кровь и убийство, которая
хочет насиловать тело и душу, которая, чтобы утвердить свое
господство над человеческой совестью, творит негодяев и лицемеров.
3.
Человек зол и несчастен. Достаточно прожить на земле пять
или шесть лет, чтобы в этом убедиться, а тот, кто прожил дольше,
уже не может усомниться в этом. Путешествия каждодневно свидетельствуют нам об этом, памятники всюду твердят нам об убожестве и злобе человеческих. Всюду тюрьмы и больницы, везде
виселицы и нищие... Вся история является собственно коллекцией
преступлений и страданий человеческого рода... Не может быть,
чтобы такое жалкое и порочное создание было сотворено каким-то
пресвятым, всеблагим и всемогущим существом.
4.
Приходится сделать выбор между евангелием и философией:
кто хочет верить лишь тому, что ясно и сообразно общепринятым
здравым понятиям,— тот пусть придерживается философии и оставит христианство, тот же, кто хочет верить лишь в непостижимые
тайны религии,—тот пусть придерживается христианства и оставит философию. Обладать одновременно достоверным и непостижимым столь же мало возможно, как одновременно воспринимать
четырехугольную и круглую фигуру. Выбор неизбежен.
(Исторический и критический словарь).
5.
Если бы я попал в руки инквизиции, то я больше хотел бы,
чтобы меня обвинили в совершении большого количества прелюбодеяний, чем Карл Великий, чем в том, что я, подобно Галилею,
учил, что земля вращается вокруг солнца.
6.
Церковь предусмотрительна. Если бы праздников было столько, сколько в году минут, то и тогда их не хватило бы на всех
святых. Поэтому церковь и установила праздник всех святых, совсем так же, как в Афинах был воздвигнут алтарь для неизвестных
богов.
ДЕИЗМ
И ПАНТЕИЗМ
XVII И ХѴШ ВВ.
ДЖОН ТОЛАНД.
1.
Происхождение идолопоклонства и основания язычества,
Древнейшие египтяне, персы и римляне, первые еврейские
патриархи и еще некоторые племена и секты не знали ни священных изображений и статуй, ни особых мест и пышных обрядов
богослужения; и полная непринужденность их культа, конечно,
больше всего соответствовала простоте божественной сущности,
как его несвязанность с местом и временем служила наилучшим
выражением бесконечной мощи и вездесущности бога. Но если
«бог создал людей простыми, то сами они (говорит мудрейший
царь Израиля) изобрели множество выдумок». И в самом деле,
стоит только человеку вступить на путь произвольных затей, и он
уже будет итти по нему все дальше, потому что остановить его
мог бы только довод, равно действительный против всех'них.
Я мог бы, кажется мне, без большого труда доказать, что те, кто
первые посягнули на свободу людей, были также первыми извратителями их разума. Ибо никто, находясь в здравом уме, не согласится добровольно отдать свою свободу; и тот, кто хочет насильно
отнять ее, должен сначала подкупом или обманом привлечь на
свою сторону очень многих, чтобы, усилившись таким 7 образом,
обольстить, запугать и подчинить себе других. Поэтому надо думать, что людям очень рано были внушены такие же представления о самом боге, какие у них сложились до того об их заемных
государях; и вообразив себе таким образом бога изменчивым, ревнивым, мстительным и своевольным, они старались добиться его
милости таким же приблизительно путем, каким угождали тем,
кто выдавал себя за его представителей и наместников, а то даже
за самих богов или за их потомков, как это обыкновенно делали
древние монархи.
Из древнейших исторических свидетельств можно заключить,
что все суеверия были вначале связаны с культом покойников,
имея свой главный источник в погребальных обрядах, причем первые поводы для их возникновения были весьма невинны и даже
похвальны; это были надгробные слова, с которыми иногда обращались к самим покойникам (вроде египетских величаний), или
статуи, которые торжественно освящались в их честь. Но льстецы,
превозносившие владык в лице их предшественников, чрезмерная
привязанность друзей и родных и выгоды, извлекавшиеся жрецами из легковерия простого народа, двинули это дело гораздо
дальше. Не только цари и царицы, великие полководцы и законодатели, столпы учености и замечательные деятели в области
искусств и творцы полезных изобретений удостоивались посмертных почестей, но и люди, просто отличавшиеся от других своей
добродетельной жизнью, часто становились предметом благочестивого и вечного поминовения на своей родине или среди своих
родных. В этом — истинная причина того, что у всех народов
были свои боги-покровители и отсюда же произошли особые
религиозные культы отдельных семейств. Плиний во второй книге
своей «Естественной истории» говорит, что древнейший способ,
каким люди выражали признательность своим благодетелям, заключался в их обожествлении после смерти и что различные названия богов и звезд происходят от достохвальных человеческих
дел. Первоначальное идолопоклонство возникло таким образом
не под влиянием красоты, или порядка, или действия небесных
светил (как обыкновенно предполагают), а вследствие того, что
люди, как я показал в предшествующем письме, видя, что книги
гибнут от огня, червей или тления и что железо, медь и мрамор
не менее подвержены насилию человеческих рук и разрушительному влиянию стихий, стали называть звезды, как единственные
непреходящие памятники, по именам своих героев или по какимнибудь замечательным событиям в своей истории. Эратосфен из
Кирены, очень древний философ, обладавший громадной эрудицией во всех науках, написал дошедшую до нас книгу о созвездиях, где объясняет их названия, которые сплошь имеют отношение к древней истории, хотя и искаженной временем и по большей части превращенной в чистое баснословие.
Разные народы, перенимая друг у друга этот обычай, соответственно изменяли небесную карту, ибо каждый называл небесные
тела по именам героев и событий своей собственной страны. Это
видно при сравнении небесной карты греков и варваров, и по этой
причине критяне утверждали, что большинство богов родились
среди них, будучи людьми, которые за свои благодеяния обществу
сподобились бессмертных почестей, ибо они считали греческих
богов богами всего человечества и не знали, что в других местах
такой способ наименования созвездий *и обожествления великих
людей практиковался задолго до того, как он был введен у них.
И среди христиан нашелся человек, который, одобряя самый метод, пытался уничтожить существующие языческие названия, как
непонятные и поГерявшие всякое значение для нас, и взамен дать
звездам новые имена из истории ветхого и нового завета. Но так
как эта мысль не имела успеха у астрономов, то и не будем останавливаться на ней. Наконец, люди, не знающие или считающие
недостойными истинные причины поклонения звездам, старались
вывести его (впрочем, как я покажу, неубедительно) из бесконеч-
ного и стройного вращения, чудесного блеска и общей полезности
солнца, луны и прочих планет и звезд. Это же дало философам
повод объяснить движение планет действием разумных духов,
пребывающих на них и постоянно руководящих их течением, и
отсюда пошел обычай изображать солнце и луну в виде лица с глазами, носом и ртом.
Я скажу, прежде чем итти дальше, несколько слов о том, почему многие люди, молясь, поднимают взоры к небу, полагая, что
над ними находится рай, а под ними ад. Я укажу также на причины, породившие веру в тени и привидения; ибо все эти верования происходят из того же корня, что и идолопоклонство,
именно — из древнейших погребальных обрядов. В письме о взглядах язычников на бессмертие души я объяснил, как в народе
постепенно сложилось убеждение, что есть люди, живущие на звездах, а теперь я покажу, как эти обитатели звезд были возведены
в достоинство божеств,—и вы легко поймете, как образовался
среди людей обычай во время молитвы обращать взоры и простирать руки к небу, которое считалось местопребыванием богов.
Благодаря тем же погребальным обрядам возникло убеждение, что
внизу находится подземное царство, в котором обитают добрые
и злые, правда в различных местах и условиях, ибо все люди
равно подвергались погребению, а обожествлялись лишь очень
немногие, которые и считались пребывающими на небесах. На
самом деле, конечно, во вселенной нет ни верха, ни низа, ни правой стороны, ни левой, ни востока, ни запада, ни севера, ни юга,
так как все это лишь абстрактные понятия, обозначающие отношения отдельных тел друг к другу и их различное расположение
относительно нас. Поводом для веры в тени и привидения послужили египетские мумии, долгое время сохранявшиеся не только
в склепах близ Мемфиса, но и во многих частных домах в особых
помещениях; своим видом (совершенно ли свежим или обезображенным от времени) они естественно должны были производить
страшное впечатление на детей, чужестранцев и невежественную
чернь. Древнейшим и наиболее распространенным способом погребения было опускание трупов в землю, и афиняне, как известно, переняли этот способ у египтян. Но вы знаете, что у римлян,
например, был обычай сжигать своих мертвецов; и тем не менее,
как проницательно замечает Цицерон, это нисколько не излечило
их от представлений о тенях и привидениях, ибо древнейшим способом погребения было и у них опускание трупа в землю. «И так
всесильно было суеверие,— говорит он,— что, даже зная, что гела
сжигаются, они все-таки наполняли в своем воображении подземное царство такими вещами, которые без тел никак не возможны, Ибо, не умея себе составить понятия о душах, живущих
самостоятельно, они выдумывали какие-то образы и формы. Отсюда— заклинания мертвых у Гомера; отсюда — некромантические обряды, производившиеся моим другом Аппием; отсюда—-
неподалеку от нас Авернское озеро, откуда ночью вылетают тени,
когда врата Ахерона раскрываются перед обманчивыми призраками усопших».
Вы видите таким образом, сударыня, как усердно люди заселяли ад; й надо сказать, что и самое небо язычников было целиком
населено выходцами с нашей земли. Цицерон, в своей первой
«Тускуланской беседе», смело "говорит: «Разве небо не сплошь
почти заселено людьми? Если бы я дал себе труд исследовать
древние книги, особенно греческих писателей, то оказалось бы,
что даже так называемые главные боги перенеслись на небо
с земли. Узнай, чьи гробницы показываются в Греции; вспомни
<йбо ты посвященный), что возвещается во время празднозаяня
мистерий, и ты поймешь, насколько это верно». И возвещалось
это не только на элевзинских мистериях, ибо и египтяне в своих
мистериях намекали на смерть своего объявленного богом царя
Озириса и его жены Изиды, не говоря уже о сирийских обрядах
в честь Адониса и других божеств,— обрядах, которые царь Давид
так удачно называет жертвоприношениями мертвых. Обо всех мистериях вообще можно с таким же правом сказать то, что Цицерон
говорит в другом месте о мистериях Элевзина, Самофракии и
Лемноса: «Будучи объяснены из своих разумных оснований, они
скорее дают представление о природе, чем о богах». Эвгемер,
древний сицилийский поэт и философ, написал историю Сатурна,
Юпитера и остальной братии, указав время рождения, страну,
деяния и место погребения каждого; по слову Плутарха, он очеловечил богов,
не превращая их в людей, а возвращая им их
исконную человеческую сущность. Но, не довольствуясь обожествлением усопших, им приписывали те же н&клонности и занятия,
какие им были свойственны на земле,— как поет Виргилий, о своих
воинах, сошедших в область Аида:
...что любил при жизни—•
• Лет колесниц и бряцанье мечей или конское ржанье
На медоносных лугах,—тем полна их душа и в Аиде.
И Гезиод, весьма кстати для нас, изображает счастливых жителей золотого века в виде'древнейших государей, сохраняющих
свою былую власть на небесах и являющихся распределителями
богатств и почестей среди людей.
Демоны ныне они, по воле великого Зевса,
Добрые духи, что смертных хранят, относясь со вниманьем
К добрым и злым их делам. Над землей, облеченные в воздух,
Демоны эти парят и богатства даруют достойным,
Ибо свой царственный сан сохраняют они, как и прежде.
По той же причине древние эфиопы, как мы узнаем от Стра•бона, «считали своих благодетелей и лиц царского происхождения
богами» и, без сомнения, верили, что они продолжают охранять
их свыше, как прежде охраняли на земле.
Я не утверждаю, сударыня, что эти ложные представления
язычников о загробной жизни были единственным источником
идолопоклонства. Но я настаиваю на том, что это — источник
основной, наиболее естественный и наиболее распространенный и
что от него пошли все остальные. Нет ничего на земле и на небе,
чего не охватила бы суеверная чернь. Так поступила она и в настоящем случае, обожествив самые позорные и низкие вещи...
Кто изучал древних и знает сохраненные ими исторические
предания об их собственном происхождении и о происхождении
других народов, в частности их рассказы о своих богах и причинах их обоготворения, тот не может иметь на этот счет никаких
сомнений. Но мы наблюдаем, что одновременно с успехами народов в области нравов, письменности и форм правления уменьшалась и эта нечестивая страсть к обоготворению. Так например,
римляне обоготворили своего первого даря и родоначальника
Ромула; но за все многовековое существование их республики ими
уже не был обожествлен ни один смертный, хотя среди них встречались более замечательные образцы добродетели, просвещенности и мужества, чем где бы то ни было. Стоило однако их свободной республике превратиться в абсолютную монархию, и большинство их первых императоров были обоготворены: и Юлий
Цезарь, похититель их свободы, и самые жестокие, развратные и
безумные из последующих тиранов, а также некоторые их жены,
родственники и фавориты. В этом отношении они подражали обычаям варварских царей, которые подобными средствами держали
в вечном рабстве своих подданных, не смевших восставать против
богов, или тех, кому было суждено стать таковыми. История учит,
что египтяне, ассирийцы, древнейшие греки и другие народы
воздавали божеские почести своим государям после их смерти.
Жены государей, их братья, сестры и другие родственники также
возводились в достоинство богов и богинь; и каждый последующий монарх всегда старался утвердить это представление о необычайности своего рода. іМногим из них божеские почести воздавались даже при жизни, в том числе Августу. Плутарх, к которому
я мог бы прибавить еще некоторых других авторов, передает, что
персидский вельможа Артабан сказал Фемистоклу, когда тот жил
беглецом при персидском дворе: «Из многих наших добрых обычаев самый лучшйи тот, что мы чтим царя и поклоняемся образу
бога». Всякий знает, сколь священным почитается оттоманский
род, хотя, как показывает опыт, это не всегда спасает оттоманских
владык от ярости их дерзкой гвардии или их возмущенных подданных. Божественные права, на которые притязают с недавнего
времени иные христианские короли, и безусловное пассивное повиновение, которого требует для них подобострастное духовенХрестоматия по истории атеизма
Ь
ство, являются не лучшим средством для сохранения тирании, чем
былые средства язычников, но цель тут и там, конечно, одна и
та же. Однако, чем умнее становились люди, тем меньше веры
придавали они подобным вещам; и чем ближе они присматривались
к своим государям, тем ревнивее начинали охранять свою свободу
и свои права. Религия и разум — ненавистные помехи для суеверия и заблуждения. Недаром Цицерон упоминает, что некоторые
оракулы перестали в его время давать ответы, потому что народ
стал менее легковерен.
Объяснив происхождение идолопоклонства, я раскрою теперь,
сударыня, в соответствии с установленными началами, смысл языческих обрядов, если вы позволите говорить о смысле действий,
часто весьма нелепых и сумасбродных. Люди, думая угодить своему
богу тем же, чем они угождали ему, когда он был земным государем, воздвигали великолепные храмы или дворцы, где на роскошных столах или алтарях ставили перед ним жертвенные яства. Они
вообразили, что бог и его двор (состоящий в большинстве из их
умерших героев) питаются кровью и испарениями закланных животных и услаждают свои божественные ноздри благовонием курений, а свои священные очи пышностью храмовых церемоний.
Все богослужение устраивалось в соответствии с царственной
обстановкой их земной жизни. Были выделены особые торжественные дни для совершения праздничных обрядов; и те, кого впоследствии назвали жрецами (их обязанность заключалась в устроении
праздников и возглашении похвального слова в честь обоготворенного покойника), ходили в блестящих облачениях и пользовались
разными привилегиями, как ими всегда пользуются государевы
слуги. Важнейшими из этих привилегий были вначале: освобождение от всяких других общественных обязанностей и богатое
содержание. На праздниках в честь богов бывало также много
музыки, плясок, благовонных курений, огней, поклонов и других
проявлений подобострастия,— вообще всего того, чем обычно тешат чувственность наиболее пустых и тщеславных владык, но что
было бы совершенно невозможно по отношению к божественным
существам, если бы источником идолопоклонства не было поклонение покойникам, легко объясняющее такой культ.
Ясно, что с тем же заискиванием, с каким люди относились
к слугам своего государя, они должны были относиться к небесной
свите своих богов и к их земным жрецам. Они старались подкупами
добиться их заступничества или в крайнем случае того, чтобы они
не противодействовали исполнению их просьб,— ибо и на небе,
как на земле, обыкновенно существовали различные партии. Надо
помнить, что власть этих придворных была далеко не мала; среди
них было распределено управление разными областями и городами, особенно теми, которыми оно действительно управляло при
жизни. Не было дерева или растения, животного, рыбы или птицы,
реки, источника или холма,— не было почти ни одного предмета,
который не был бы поручен заботам и милостям одного из них;
и часто эти предметы назывались их именами, если они при жизни
пользовались ими или находили в них отраду. Эта вера в их
непосредственную власть над упомянутыми вещами, а также над
болезнями тела и страданиями души, сообщала высокий авторитет
их мнимым откровениям, чудесам и прорицаниям и прочим искусным приемам выуживания денег из кармана верующих.
К власти государя жрецы прибавляли свои собственные измышления об аде, как я показал это в настоящем и предыдущем
письме; не удовлетворяясь запугиванием людей картинами леденящей стужи и пожирающего огня, беспросветного мракд и невылазной грязи, они рассказывали о коршунах, колесах и цепях;
о гидрах, кентаврах, гарпиях, химерах, сфинксах, горгонах, змеях
и о множестве других чудовищ, выполняющих приговоры тиранических владык. Они говорили также о тенях и духах, о таинственных видениях и голосах, поражая воображение толпы чудовищным шумом Тартара и Эреба, где Стикс, Ахерон, Флегетон,
Лета, Коцит и Аверн катят свои черные грохочущие волны, где
раздается отвратительный лай трехголового Цербера и снует мрачный челн проклятого перевозчика Харона. И беспощадные фурии—
Алекто, Пизифона и Мегера внушали гораздо больший страх, чем
Плутон и Прозерпина, эти верховные правители подземного царства. Из того, что я сказал выше о происхождении астрологии
и веры в духов, ясно, что жрецы были посвящены во все виды
гаданий и магии; они предсказывали будущее по полету птиц, по
внутренностям животных, по наблюдениям над трупами, над огнем,
над облаками, над водой, над дымом, посредством метания всевозможных жребиев. К этому присоединялось бесчисленное множество других, нелепых суеверий, которые сохраняются в большинстве стран до настоящего времени и подробные описания которых
можно найти у Вандаля. На основании всего вышесказанного
следует также думать, что было множество ведьм, колдунов и
прорицателей, которые в силу договора с демонами и благодаря
своему знанию звезд умели якобы, пользуясь тайными свойствами
некоторых трав и камней, или произнося варварские слова и заклинания, или производя всевозможные манипуляции с изображениями соответствующих лиц и предметов, вызывать появление
богов и воскрешать мертвых; затемнять солнце и луну и поворачивать вспять планеты или даже низводить звезды с неба; превращаться самим и превращать других в существа разного вида; поражать болезнями тех, кто им неугоден; вызывать любовь или
ненависть; предсказывать будущее; открывать утаенные сокровища; невидимо похищать у людей хлеб, муку и другие предметы;
подменивать младенцев в люльках и проделывать тысячи других
фокусов такого же рода, о которых скучно рассказывать и в которые никогда не поверит ни один мыслящий человек. Впрочем,
как смотрели умные и образованные люди на всех этих мнимых
обладателей сверхъестественного знания, об этом откровенно говорит старик Энний в своих грубых стихах:
Ни в грош не ставлю я авгуров марсовых,
Пророков сельских, звездочетов, знахарей,
Жрецов Изиды, снов истолкователей!
Дано им «е наукой посвящение:
Они—плуты, невежды суеверные,
!
Рабы безумья, лени или бедности.
Слепцы, они хотят нам путь указывать!
Тому, кто драхму даст, сулят сокровища.
Пусть, драхму удержав, посул свой выполнят.
В заключение отметим еще баснословные рассказы язычников
{весьма сходные с нашими современными сказками о-феях) о фавнах и сатирах, о лаврах и лемурах, о нимфах, населяющих моря,
реки, источники, холмы и леса,— нереидах, наядах, дриадах, гамадриадах, ориадах и тому подобных призраках, способных пугать разве только женщин и детей.
Правда, наиболее просвещенные и добродетельные из людей
не раз приходили к более правильным взглядам на вещи, но эти
взгляды были большей частью весьма неустойчивы и неясны, главным образом ввиду тех преследований, которые неизбежно должны
были обрушиться на истину и на всякую попытку коренной реформы, свидетельством чему служит смерть Сократа. Как можно
видеть у Плутарха, истинная причина слабого развития или по
крайней мере малая распространенность науки о звездах и планетах заключалась в том, что простой народ никогда не позволил бы сделать их предметом философского исследования и
объяснять обыкновенными законами природы, необходимыми причинами и слепыми силами движение светил, которые он считал
разумными, вечными и бессмертными богами. Поэтому, когда
Анаксагор открыл, что луна светит отраженным солнечным светом, и объяснил таким образом ее рост и ущерб, он не посмел
обнародовать эту свою теорию, но тайно сообщил ее весьма немногим, да и то лишь связав их предварительно обетом молчания.
Правда, очень многие выдающиеся люди в Европе и Азии отлично
понимали происхождение народных религий и даже решались
иногда обличать перед другими их пустоту, неудовлетворительность и лживость. Но людей, утверждавших таким образом единство божества и разоблачавших суеверия, не следовало бы причислять к язычникам, ибо это выражение означает собственно
идолопоклонников, верующих во многих богов и претендующих
на особые откровения от них, а также практикующих разнообразные обряды, установленные в их честь: евреи (которые относили
всех людей, кроме самих себя, к этой категории) называли их
обыкновенно «народами», откуда и произошло слово gentiles —
«язычники». И поэтому все те, кто были достаточно проница-
тельны, чтобы понять, и достаточно смелы, чтобы восстать против
нелепостей и надувательств этого богословия, получили прозвище
атеистов, и толпа, подстрекаемая жрецами, расправлялась с ними
соответствующим образом. Некоторых, особенно из числа философов, подве'ргали денежным взысканиям и бросали в тюрьмы,
других ссылали, третьих приговаривали к смерти, многие были разорваны чернью) и все без исключения заклеймены позорной кличкой безбожников за то, что они не верили в мистерии и разоблачали благочестивые плутни своего времени. И если среди язычников подобные явления встречались реже, чем среди христиан, то
это едва ли заслуга языческих жрецов, ибо, помимо того, что
большинство последних мало чем отличалось от гражданских сановников и большей частью не были пожизненными носителями
духовного сана, они находились еще в полном подчинении у государства, тогда как христианские священники (за исключением
очень немногих протестантских стран) держат в своих руках правительство и являются неограниченными духовными владыками
мирян. Рассуждая о древних, мы должны поэтому объяснить их
здравые понятия и нравственные правила светом разума, а в язычестве видя извращение последнего. Игнорирование этого различения было причиной бесчисленных ошибок.
Резюмируя, мы можем сказать: религия язычников (как противная или чуждая свету разума) была такова, что не могла оказывать особенного влияния на добрые нравы в этой жизни и
давать сколько-нибудь твердую опору против страха смерти.
Правда, многие из язычников, стесняясь признать свою религию
столь нелепой и смешной, какой она казалась, особенно в изображении поэтов, хотели видеть в своих бесчисленных богах только
разные наименования, атрибуты и сферы действия некоего единого существа, будь то солнце, или Вакх, или какой-нибудь другой
бог, которого они особенно чтили. Законодатели постарались придать всему делу возможно лучший вид и, не пускаясь в трудные
исследования о том, что истинно и что ложно, санкционировали
все, что способствовало сохранению порядка среди людей, что
побуждало их к добродетели путем примера и мысли о воздаянии
и отвращало от порока посредством наказаний и немилости. Другие люди, с философским складом ума, превращали все религиозные учения в аллегорическое повествование о чисто естественных
явлениях, в которых проявляется сила и благость божества. Из
этого тройного способа рассмотрения возникло знаменитое различение поэтического, политического и философского богословия.
Впрочем, более проницательные люди смеялись над этими уловками, отлично понимая, что невозможно дать сколько-нибудь
сносную апологию большинства религиозных сказок. И Цицерон
порицает поэтому стоиков за их утверждения, что все греческое
богословие имело некоторый тайный внутренний смысл'. «Сначала
Зенон,— говорит он,— затем Клеанф и наконец Кризипп взяли на
себя большой и совершенно напрасный труд—ідать разумные
объяснения баснословным вымыслам и истолковать названия всех
богов. Это доказывает, конечно, что они не верили в буквальную
истину всего этого». Укажу, как на образчик этих аллегорических
толкований, что Юпитер и Юнона обозначали у них воздух и
облака; Нептун и Фетида — море и волны; Церера и Вакх — землю
и все ее плоды; Меркурий и Минерва — умственные способности,
проявляющиеся в науке, искусствах, торговле и т. д.; Купидон
и Венера — наши серьезные влечения и любовные порывы; Марс
и Беллона — раздоры и войны; Плутон и Прозерпина — руду, сокровища и вообще все, что скрыто в недрах земли. В таком же
духе они объясняли и всех остальных богов, и так как аллегорические толкования столь же свободны, как наша фантазия, то
едва ли найдутся два автора, объяснения которых вполне бы
совпадали. Но если даже предположить, что некоторые из них-—
или все они — были в сущности правы, то все же их религия не
становилась от этого лучше и все равно заслуживала уничтожения,
ибо, каковы бы ни были умозрения немногих ученых людей, ясно,
что простой народ считал всех своих богов подлинными и реальными божествами, которых он весьма боялся и которым воздавал
божеские почести, не говоря уже о трудах и расходах, связанных
с исполнением обрядов, и об основанном на обмане господстве
жрецов.
Современные язычники, населяющие большую часть Африки,
обширные пространства Азии, почти всю Америку и несколько
уголков Европы, весьма приближаются по своим взглядам к древним (почему я и отложил упоминание о некоторых вещах до
настоящего параграфа, чтобы избежать повторений). Но, как и
древние, они в разных местах придерживаются разных взглядов.
У них есть свои космогонии, т. е. представления о сотворении
мира, и свои теогонии, т. е. родословные богов, которых одни из
них считают равными, а другие подчиненными друг другу, одни
считают всех добрыми, а другие — всех злыми. Многие признают
два верховных начала добра и зла, вроде Ормузда и Аримана
древних халдейцев. Есть и такие, которые верят-в единое божество —- с услужающими ему низшими духами или без них; и такие,
которые утверждают, что мир вечен и бесконечен и что все происходит в силу непреклонного постановления рока. Что столь же
различно их мнение о проведении, о продолжительности существования мира, о загробном состоянии, о том, бессмертна ли
душа, и если бессмертна, то ограничена ли после смерти какимнибудь определенным местопребыванием, или переходит из одното
тела в другое (последнее мнение преобладает). Бесчисленные обряды и церемонии их культа весьма разнообразны: животное,
которому одно племя поклоняется, как богу, другие племена
приносят в жертву своим богам; телодвижения и одежда, освященные у одних религиозным потреблением, отвергаются другими,
как непристойные, ибо, как замечает Ювенал по поводу древних
египтян:
Так велико безумье толпы, что каждая местность
Злобу питает к богам соседей и требует веры
Только в свои божества.
_ Богослужение язычники совершают на вершинах холмов под
открытым небом или в храмах, в рощах, в пещерах. Они верят
в добрых и злых демонов, в духов, охраняющих места и людей.
Жрецы и жрицы разделены у них на несколько разрядов; во многих местах существуют особые заведения для их воспитания и
духовные обители, в которых они живут. Язычники имеют свои
священные книги, свои предания, свои иконы; у них есть и мнимые
чудеса, и откровения, и пророчества, и оракулы, и всевозможные
виды гаданий. Бывают у них веселые собрания, когда они едят
и пьют, поют песни и пляшут перед своими богами; бывают и
более мрачные времена, когда они умерщвляют свою плоть не
только суровыми постами, половым воздержанием, грубыми власяницами, далекими паломничествами и т. д., но даже жгут и бичуют, режут и терзают свои тела самым жестоким образом, воображая, что делают нечто угодное божеству, причиняя себе таким
образом вред без всякой пользы для кого бы то ни было. Когда
им указывают на бессмыслие и нелепость какого-либо их обряда
или учения, они тотчас возражают, что нет ничего невозможного
для высших сил и что все это тайны, непостижимые для ограниченного ума человека,— как об этом можно прочесть в описаниях
почти всех путешественников.
- Дав таким образом беглый обзор древнего и нового язычества,
мы можем теперь отметить, что почти все пункты этих суеверных
идолопоклоннических религий воскрешены в такой же или более
грубой форме многими христианами у нас на Западе и всеми
восточными сектами. Сюда относятся: жертвоприношения, каждение, свечи, иконы, омовения, праздники, музыка, алтари, паломничества, посты, безбрачие духовенства, освящения, прорицания, заклинания, поклонения умершим мужчинам и женщинам, канонизация всех новых святых, посредников между богом и людьми,
добрые и злые духи, ангелы-хранители, вышние покровители мужского и женского пола, которым посвящаются храмы и воздаются
каждому особые почести и между которыми распределяются не
только отдельные места, но также разные благодетельные функции и власть надо всем, в чем может нуждаться и чего может
хотеть челове^. Не все перечисленное, конечно, наблюдается повсюду в равной мере; но в большей или меньшей степени все эти
суеверия встречаются везде, и там, где они не установлены законом, они внушаются воспитанием.
(Третье письмо к Серене).
2.
Внедрение суеверий начинается с детства.
Не успеваем мы увидеть свет, как великий обман начинает
обольщать нас со всех сторон. Уже повивальная бабка вводит нас
в мир с суеверными церемониями, и добрые женщины, помогающие ей в работе, знают тысячу заговоров для отвращения бед
от младенцев и для обеспечения им счастья; в смехотворных
наблюдениях они ищут предзнаменований их будущего положения в жизни. В иных местах от этих бабьих выдумок не отстает и
священник, который спешит заблаговременно обратить новорожденного в свою веру, произнося над ним известные слова, точно
могущественные заклинания, и производя безобидные символические действия с солью и маслом или более суровые манипуляции
с железом и огнем или еще каким-нибудь способом отмечая его
как свою законную собственность в будущем. На ребенка, правда,
все эти или подобные дурачества еще не действуют, какое бы
значение он ни выучился придавать им впоследствии; но это
показывает, как рано окружающие начинают внедрять в него (по
мере возможности) свои собственные заблуждения, как усердно
они стараются извратить его разум с самого начала,— и не помня,
когда, где и как он пришел ко многим своим понятиям, он впоследствии бывает склонен думать, что они проистекают из самой
природы, и-недоумевает, когда видит, что кто-нибудь сомневается
в их истине.
3.
Бессмертие — вымысел человеческий.
Конечно, простой народ, не привыкший к размышлению,
всегда оставался (как остается и до сих пор) при слепой вере или
послушании авторитету; но иное дело — философы, которые выставляли разные вероятные доводы в пользу самостоятельного
существования и вечного сохранения души. Они полагали, что их
мысли, или идеи, нематериальны и не имеют ничего общего с протяженностью; они открыли свободную волю в своей душе и самопроизвольное движение в своем теле; они наблюдали в себе непрестанную борьбу между влечением и разумом; они придавали
большой вес своим сновидениям и думали, что и наяву им случается иногда получать предвещания относительно будущих опасностей ;*они видели, что люди охвачены неутолимой жаждой знать
будущее и настойчиво желают наслаждаться бесконечным счастьем,— и они пришли к заключению, что все это должно иметь
своим источником" некое существо, отличное от тела, существо
самодвижущееся и следовательно бессмертное; ибо всякая частица
материи приводится в движение внешней причиной, а то, что
имеет движение в самом себе, никогда не может утратить его.
Вера в бессмертие души всячески поддерживалась
среди язычни-
ков также их законодателями, из которых некоторые сами неверили в него, но, видя, что лишь немногие добродетельны от
природы, остальных же делают таковыми надежда на награду или
страх перед карой, они приняли эту веру ввиду*ее
практической:
пользы, поскольку она внушает людям мысль, что злые, избежавшие кары законов, наверное будут наказаны за свои преступления
в загробном мире, равно как и добрые найдут там свою
награду,
которой они могли быть несправедливо
лишены в этой жизни.
(Второе письмо к Серене).
4.
Какого бы лестного мнения мы ни были о самих себе, но нашитела ничем решительно не отличаются от тел других тварей: подобно последним они растут или уменьшаются благодаря питанию,,
извержению, транснирации и различным другим способам, уделяя
часть себя другим телам и обратно получая часть их, будучи сегодня иными, чем вчера, а завтра иными, чем сегодня, находясь,
в вечном течении, подобно реке, и в момент смерти, при полном
разложении нашей системы, становясь частями тысячи других вещей; трупы найти отчасти смешиваются с прахом и влагой земли,
отчасти испаряются в воздух, направляясь в бесчисленные местаи смешиваясь и соединяясь с бесчисленными вещами.
(Третье письмо к Серене).
5Почеміу многие философы лицемерят.
Но, быть может, пантеистам поставят в вину, что у них двойственное учение, т. е. внешнее (экзотерическое), или народное, как
бы приспособленное к предрассудкам толпы или к догматам, публично признанным за истину, и внутреннее (эзотерическое), или
философское, вполне согласное с природой вещей и самой истиной; и что эту тайную философию всю целиком и без всякой
личины и двусмысленности они сообщают (при закрытых дверях)
только друзьям, честность и благоразумие которых испытаны. Но
кто кроме тех, кто не сведущ в человеческой природе и истории,
усомнится, что, поступая так, они поступают мудро? Основание
для этого ясно. Ни одна религия, ни одна секта не допускает,
чтобы ей противоречили; считая ее догматы заблуждениями, ее
обряды — нелепостями. Все это получили прямо с неба, хотя им
отлично известны земные порядки. Все это—божественного происхождения (если вам угодно верить) и крайне необходимо для
руководства в жизни. Между тем совершенно ясно, что все это —
вымыслы людей, бессмысленные, а нередко отвратительные, обычно вредные для общественного
блага и правопорядка,
как показывает ежедневный
опыт. Среди этой массы несогласных друг
с другом мнений не может быть истинным более одного, если
только не все они ложны, как остроумно заметил Туллий, рассуждая о природе богов... Так как суеверие всегда остается в той же
силе, выступая то с большей, то с меньшей нетерпимостью, и никто, обладающий разумом, не пытался вырвать его с корнем из
умов, что совершенно неосуществимо,—то пусть каждый в меру
своих сил делает то, что только и остается делать: пусть вышибает зубы и обрезает когти этому злейшему и самому отвратительному из чудовищ, чтобы оно не кидалось на всех и на вся.
( «Пантеистикон» ).
МАРИ ФРАНСУА АРУЭ ВОЛЬТЕР.
Фрагменты.
' '
1.
)
-'
Сказочка о религии и верующих.
Все шло благополучно в Парижском убежище для слепых до
того момента, как некий учитель возомнил себя способным объяснить чувство зрения. Он направился к заведующему учреждением
и начал вкривь и вкось судить о цветах. С помощью сторонников,
нафанагйзированных им, он добился захвата в свои руки всех
дел и доходов. С тех пор никто не смел- ему противоречить. Он
учил, что одежда слепых белая. И хоть во всем убежище не было
ни одного белого одеяния, слепые верили ему и .постоянно говорили о своих красивых белых одеждах. Когда их стали поднимать
насмех за это, они отправились с жалобой к учителю. Последний
обрушился на слепых с обвинениями в ереси, новаторстве, вольнодумстве, смутьянстве за то, что смели слушать людей со зрячими
глазами и сомневаться в словах учителя. В заключение он объявил
для их успокоения, что все одежды — красного цвета. Так как ни
у кого из слепых не было красного одеяния, то над ними стали
смеяться еще больше. Дело дошло до скандалов и драк. Мир установился лишь тогда, когда слепым было разрешено оставлять без
ответа вопрос об одежде. Когда об этом узнал глухой, он признал,
что слепые не должны были судить о цветах, но он твердо продолжал стоять на том, что именно глухие призваны судить о
музыке.
.2.
Ваша кормилица говорила вам, что Церера пребывает в зерне
или что Вишну несколько раз делался человеком, или что Саммонокодом вырубил одним махом целый лес, или что Один ожидает
вас в своей горнице в Ютландии, или что Магомет, а может быть,
еще кто-нибудь другой совершил путешествие на небо; затем ваш
наставник утвердил в вашем мозгу то, что вам рассказано было
кормилицей. Удивительно ли, что вы это запомните на всю жизнь?
Ваш рассудок пытается восстать против этой галиматьи, но ваши
соседи, а особенно ваши соседки, начинают вопить о вашем нечестии и нагоняют на вас страх. Ваш дервиш, боясь уменьшения
своего дохода, доносит на вас кадию, а кадий, если может, приказывает посадить вас на кол, ибо он хочет управлять глупцами,
ибо он убежден, что глупцы повинуются лучше и больше иных.
Так вот это н будет продолжаться до тех пор, пока ваши соседи,
ваш дервиш, ваш кадий не поймут, что глупость ни на что не
годится, что гонения и преследования мерзки.
(«Философский
словарь»),
3.
Догмы и обряды христианства-нелепы и отвратительны.
Граф. До тех пор, пока вы не перестанете говорить вздор и
пользоваться зажженными кострами вместо доводов, вашими партизанами будут лишь лицемеры и глупцы. Мнение одного только
мудреца возьмет верх над обольщениями мошенников и покорностью тысячи идиотов. Вы спросили меня, что подразумеваю я под
философией, а я в свою очередь спрашиваю вас, что подразумеваете вы под религией.
Аббат. Мне потребуется много времени, чтобы объяснить вам
все наши догматы.
Граф. Я хотел бы не находить в ваших книгах противоположных идей. Жестокие слова: «принудить их войти», которыми столь
варварски злоупотребляют, и эти: «не мир пришел я принести, но
меч», и еще те: «если и церкви не послушает, то да будет он тебе,
как язычник и мытарь», и сотни подобных изречений пугают здравый смысл и чувство милосердия.
Что может быть жестче и отвратительнее такого заявления:
«Я говорю им притчами, дабы, видя, они не видели и, слушая, не
понимали». Разве так изъясняются мудрость и доброта вечные?
Бог вселенной, ставший человеком, чтобы просветить я благоприятствовать им, мог ли бы сказать: «Я был послан лишь к стаду
Израиля», т. е. в малую страну, не более тридцати лье в окружности?
Возможно ли, чтобы этот бог, которому обязывают платить
подушную подать, сказал, что ученики его не должны ничего платить, что цари получают пошлины лишь с иноземцев и что дети от
них изъяты?
Аббат. Эти смущающие речи объясняются другими, совершенно от них отличными местами.
Граф. Справедливое небо! Что это за бог, который нуждается
в комментариях и которого заставляют говорить постоянно за и
против? Что за законодатель, который ничего не написал? Что за
четыре божественные книги, время составления которых неизвестно, и авторы которых, столь мало установленные, противоречат
друг другу на каждой странице?
4.
Аббат. Отчего господин Фрере называет нас идолопоклонниками?
Фрере. Отчего? Спросите, сударь, у св. Христофора,—он первый встречает вас в вашем соборе, и это самый скверный памятник
варварства из имеющихся у вас. Спросите у св. Клары, к которой
взывают при глазных болезнях и во имя которой вы построили
храмы? Спросите у св. Жену, исцеляющего от подагры, у св. Януария, кровь которого закипает при столь торжественной обстановке
в Неаполе, когда ее приближают к его голове; у св. Антония, окропляющего в Риме лошадей святой водой. Осмелитесь ли вы отрицать свое идолопоклонство, — вы, обожающие, как святыню, в
тысяче церквей молоко приснодевы, крайнюю плоть и пупок ее
сына, шипы терновника, из которого, как вы утверждаете, ему
сделали венец, гнилое дерево, на котором, полагаете вы, существо
вечное умерло? Вы, поклоняющиеся, наконец, как единому богу,
куску теста, которое вы запираете в ящик, опасаясь мышей? Ваши
римские католики довели свое католическое сумасбродство до
утверждения, что они превращают этот кусок теста в бога силою
нескольких латинских слов и что все крошки от этого теста становятся таким же количеством богов, творцов вселенной. Бездельник,
которого сделают священником, монах, покидающий объятия блудницы, приходит за двенадцать су, облаченный в одежду комедианта, бормотать мне на чужеземном языке то, что вы называете
мессой, рассекать воздух на четыре части тремя перстами, сгибаться, выпрямляться, вертеться направо и налево, передом и
задом, и делать столько богов, сколько ему нравится, пить их и
есть и возвращать их затем своему ночному горшку. И вы не признаетесь, что это самое чудовищное и самое смехотворное идолопоклонство из всех, когда-либо позоривших природу человеческую? Не следует ли обратиться в скота, чтобы вообразить, что
превращают белый хлеб и красное вино в бога? Новые идолопоклонники, не сравнивайте себя с древними, поклонявшимися Зевсу,
Демиургу, господину богов и людей, и почитавшими богов второстепенных! Знайте, что Церера, Помона и Флора стоят большего,
чем ваша Урсула с ее одиннадцатью тысячами девственниц, и что
не служителям Марии Магдалины насмехаться над священнослужителями Минервы.
Графиня. Господин аббат, в господине Фрере вы встретили
сильного противника. Зачем вы пожелали вызвать его на разговор?
Это ваша ошибка.
Аббат. О, сударыня, я закален в сражениях; я не пугаюсь пустяков; уже давно я слышал все эти рассуждения против матери
нашей, святой церкви.
Графиня. Воистину, вы похожи на некую герцогиню, которую
один недовольный назвал гулящей женщиной. Она ему ответила:
«Мне уже тридцать лет это говорят, и я желала бы, чтобы мне повторяли то же еще лет тридцать».
Аббат. Сударыня, сударыня, красное словцо ничего не доказывает.
Графиня. Это правда; однако красное словцо не мешает быть
правым.
Аббат. И какие основания можно противопоставить достоверности пророчеств, чудесам Моисея, чудесам Иисуса, мученикам?
Граф. Ой, не годится,—послушайтесь моего совета,—говорить
о пророчествах с тех пор, как маленькие девочки и мальчики^
знают, что употреблял в пищу пророк Иезекиил 1 за завтраком и'
о чем неприлично упоминать за обедом; с тех пор, как им известны приключения Оолы и Оолибы, о которых затруднительно
говорить в присутствии дам 2 ; с тех пор, как они осведомлены,
что бог евреев приказал Осии взять блудницу и прижить от нее.
детей, — увы! — найдете ли вы что-нибудь иное у этих несчастных кроме галиматьи и непристойностей?
Пусть ваши бедные теологи перестанут отныне спорить с евреями о смысле некоторых текстов у ваших пророков, о нескольких
гебраических строках какого-нибудь Аммоеа, Иоиля, Аввакума,
Иеремии; о нескольких словах, касающихся Илии, унесенного в
горние, небесные высоты на огненной колеснице, какового Илии,
скажем в скобках, не существовало вовсе.
Пусть краснеют они в особенности от пророчеств, помещенных
в их евангелиях. Возможно ли, чтобы доныне находились люди
достаточно бессмысленные и малодушные, чтобы не быть охваченными негодованием, когда Иисус предсказывает у Луки: «Будут
знамения в луне и звездах; море восшумит и возмутится; люди
будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную,—ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят сына
человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великой.
Истинно говорю вам: не пройдет род сей, как все это будет...» Нет,
без сомнения, пророчества более отчетливого, обстоятельного—и
ложного. Надо быть безумцем, чтобы осмелиться утверждать, что
оно исполнилось и что сын человеческий пришел в облаке с силою
и славою великой. Откуда взялось, что Павел в послании своем к
фессалонийцам (1-е, гл. 4, 5, ст. 16) подтверждает это смешное
предсказание еще более нелепым: «Потом мы, оставшиеся в живых,
вместе с ними восхищены будем на облака в сретение господу на
воздухе» и т. д.
Стоит только быть немного образованным, чтобы знать, что
догмат о конце мира и водворении нового был химерой, принятой
почти всеми народами. Вы встретите это воззрение у Лукреция в
книге VI. Стоики разделяли с ним эту грезу. Полуевреи, полухристиане, составившие евангелие, не преминули присвоить этот столь
1 „И пеки их (хлебы) на человеческом кале"—Иезекиил, 4, 12 (Сост.).
2
Иезекиил гл. 23 (Сост.).
общепринятый догмат и кичиться им. Но так как мир продолжал
еще долго существовать, а Иисус не явился в облаках с великою
силою и славой в первый век существования церквей, они заявили,
что это будет во втором, потом обещали его для третьего, и так из
века в век это сумасбродство возобновлялось. Теологи поступали
подобно шарлатану, которого я видел в конце Нового моста на
Набережной школы. Он показывал народу, перед вечером, петуха
и несколько бутылей бальзама: «Господа! — восклицал он, — я отрежу голову моему петуху и воскрешу его через минуту в вашем
присутствии; но сперва вы должны купить мои бутыли». Всегда
находились люди достаточно простоватые, чтобы их купить. «Итак,
я отрежу голову моему петуху,—продолжал шарлатан,—но так как
уже поздно, а операция эта достойна быть произведенной среди
бела дня, откладываю ее до завтра».
Два члена Академии наук имели любопытство и настойчивость
возвратиться и посмотреть, как шарлатан вывернется из этого положения. Такой фарсліродолжался восемь дней подряд, но фарс
ожидания конца мира у христиан продолжался целые восемь столетий. После этого, сударь, можете приводить нам пророчества
еврейские и христианские.
Фрере. Я не советую вам говорить о чудесах Моисея перед
людьми, у которых борода выросла. Если б все эти непостижимые
чудеса действительно имели место, египтяне о том упомянули бы
в своих летописях. Память о таких поразительных вещах, удивляющих природу, сохранилась бы у всех народов. Греки, которые
были осведомлены о всех вымыслах Египта и Сирии, подняли бы
шум вокруг этих сверхъестественных явлений во всех концах мира.
Но ни один историк—ни грек, ни сириец, ни египтянин—не обмолвился о том хотя бы одним словом. Флавий Иосиф, столь хороший
патриот, столь упорный в своем юдаизме, этот Иосиф, который
собрал столько свидетельств в пользу древности своего народа,
но не нашел ни одного, удостоверяющего десять казней египетских и переход пешком по суху через море, и т. д.
Вы не знаете, что еще не установлено, кто автор Пятикнижия.
Здравомыслящий человек никогда не будет в состоянии поверить
со слов уж не знаю там какого еврея, будь то Ездра или кто-либо
другой, столь ужасным чудесам, неведомым всему остальному
миру. Если бы даже все ваши еврейские пророки указывали тысячу
раз на эти странные события, было бы все-таки невозможно им
поверить; однако нет ни одного такого пророка, который бы
приводил слова Пятикнижия о подобной тьме чудес, нет ни одно-го,
который бы вошел в подробное рассмотрение этих приключений.
Объясняйте, как хотите, такое молчание.
Подумайте, что нужны весьма важные мотивы, чтобы перевернуть природу. Какой мотив, какое основание мог иметь бог евреев?
Было ли то для благоприятствования своему маленькому народу,
чтобы дать ему плодородную землю? Почему же он не дал ему
Египет, вместо того чтобы творить чудеса, с большею частью которых равнялись, говорите вы, чудеса, совершавшиеся волхвами
фараона? К чему умерщвлять через ангела-истребителя всех первенцов Египта и уничтожать всех животных для того только, чтобы
израильтяне, в числе шестисот тридцати тысяч бойцов, обратились
в бегство, как трусливые воры? Разверзать Чермное море,—чтобы
они шли умирать от голода в пустыне? Вы чувствуете чудовищность этих нелепых глупостей; у вас слишком много смысла, чтобы
их принять и поверить серьезно христианской религии, основанной на еврейском обмане. Вы чувствуете смехотворность площадного ответа, что не следует вопрошать бога, что не надо исследовать бездны провидения. Нет, не следует спрашивать у бога, зачем
он создал вшей и пауков, потому что при уверенности, что вши
и пауки существуют, мы не можем знать, зачем они существуют;
но мы вовсе не так уверены, что Моисей превратил свой жезл в
змия и покрыл Египет вшами, хотя вши были хорошо знакомы
его народу. Мы -вовсе не спрашиваем бога, мы спрашиваем безумцев, дерзающих говорить от имени бога и приписывающих ему
избыток своих сумасбродств.
(„Обед у графа Булэнвилье").
5.
Об атеистах и атеизме.
Когда-то всякий владевший секретом в каком-нибудь мастерстве или искусстве подвергался риску прослыть колдуном. Всякая
новая секта обвинялась в удушении детей на своих таинствах.
Всякий философ, уклонявшийся от жаргона Школы, обвинялся
фанатиками и мошенниками в атеизме и осуждался глупцами.
Анаксагор, например, дерзнул утверждать, что солнце вовсе не
влекомо Аполлоном, несущимся в своей квадриге,—и вот его прозвали атеистом и вынудили бежать.
Аристотель был обвинен в атеизме одним жрецом и, не будучи
в состоянии добиться наказания своего обвинителя, он удалился
в Халкиду. Но самое отвратительное, что есть в истории Греции, —
это смерть Сократа.
Аристофан (человек, которым комментаторы восторгаются,
потому что он грек, забывая о том, что и Сократ тоже грек) первый
приучил афинян смотреть на Сократа, как на атеиста.
Этот комический поэт, который не является ни поэтом, ни
комиком, у нас не имел бы возможности ставить свои фарсы даже
на ярмарке святого Лаврентия. Он представляется мне гораздо
более низким и презренным, чем его рисует Плутарх. Это тот человек, который исподволь готовил яд, которым мерзкие судьи погубили самого добродетельного человека Греции.
Кожевники, сапожники и белошвейки Афин аплодировали
фарсу, в котором Сократ изображался поднимающимся в корзине
под облака, и объявляющим, что там нет никакого бога. Целый
народ, которому дурные правители разрешали подобные гадости,
вполне заслужил того, чтобы стать рабом римлян и ныне быть в
рабстве у турок.
Римляне, гораздо более мудрые, чем греки, никогда не преследовали философов за их убеждения. Не так обстояло дело у варварских народов, которые унаследовали римскую империю. Когда
у императора Фридриха II возникли споры с папами, его обвинили
в атеизме, ему приписали авторство в отношении книги «О трех
обманщиках». Стоило нашему великому канцлеру де-Лопиталю высказаться против религиозных гонений, как его обвинили в атеизме.
«Homo doctus, sed verus atheus» (ученый муж, но настоящий атеист).
Одни иезуит, который настолько же ниже Аристофана, насколько
последний ниже Гомера, несчастный, имя которого стало посмешищем даже среди самих фанатиков, короче говоря, иезуит Гарасс,
находит всюду атеистов. Так он обзывает всех, на кого обрушивается со своей злобой. Это он ввел общество в заблуждение относительно Ванини.
Несчастный конец Ванини не вызывает у нас негодования и
жалости подобно гибели Сократа, ибо Ванини был не больше, как
странный педант, не имеющий никаких заслуг. Но ведь Ванини был
вовсе не атеистом; про него приходится сказать как-раз обратное.
Это был бедный неаполитанский священник, проповедник и
богослов по профессии, завзятый спорщик о сущностях, об универсалиях и прочих схоластических тонкостях. Но у него не было
ни одной атеистической жилки. Его представление о боге и богословии было вполне здравым и лойяльным.
Ванини пытался возродить учение Платона о том, что бог сотворил целую цепь существ, от самого большого до самого маленького, что в этой цепи самое последнее звено связано с его вечным
троном: идея эта в действительности не столько истинна, сколько
возвышенна, но она столь же далека от атеизма, сколь далеко
бытие от небытия.
Ванини путешествовал, чтобы искать счастья и диспутировать.
К несчастью, диспуты—плохой путь к жизненным успехам. Они
рождают столько же врагов, сколько задеваешь в них самолюбий.
Они и послужили источником бед для Ванини. Страстность и резкость, проявленные им в спорах, вызвали ненависть к нему со
стороны некоторых богословов. После стычки его с некиим Франкони последний не преминул обвинить Ванини в пропаганде атеизма. Франкони раздобыл себе несколько свидетелей, которые
поддержали его обвинение. Посаженный на скамью подсудимых,
Ванини на допросе заявил, что он в согласии с церковью почитает бога в трех лицах. Подняв с земли соломинку, он сказал: «Вот
этого пустячка достаточно, чтобы доказать существование творца».
Затем он произнес прекрасную речь о произрастании и движении,
о необходимости высшего существа, без которого не было бы ни
движения, ни роста.
Президент Г'раммон, бывший тогда в Тулузе, сообщает эту
речь в своей, ныне забытой, «Истории Франции». Этот же Граммон
в силу какого-то непостижимого предубеждения утверждает, что
Ванини все это говорил скорее из тщеславия или из страха, чем
из внутреннего убеждения.
На чем могло быть основано это жестокое но своей решительности суждение президента Граммона? Совершенно очевидно, что
на ответе Ванини должен был быть построен приговор по адресу
Ванини. Что же произошло? Этот злополучный священник был
лричастен к медицине. У него нашли жабу, которую он держал
в сосуде с водой; это послужило поводом к обвинению его в колдовстве. Стали говорить, что жаба и была тем богом, которому
он поклонялся. Стали истолковывать навыворот самые невинные
фразы в его сочинениях, цепляться за двусмысленные или неудачные выражения в его речах. В конце концов, клика, преследовавшая Ванини, добилась осуждения его'на смерть.
Для того чтобы оправдать этот приговор, необходимо было
обвинить этого несчастного в самых ужасных вещах. Ничтожнейший Мерсенн дошел в своем злобном бешенстве до заявления,
будто Ванини отправился из Неаполя с двенадцатью своими апостолами, чтобы обратить все народы в атеизм. Какая жалкая чепуха! Каким образом бедный священник мог иметь целых двенадцать. человек в своем расположении? Как смог бы он убедить
двенадцать неаполитанцев отправиться на собственный счет проповедывать это мерзкое и возмутительное учение, рискуя собственными головами? Был ли даже король достаточно могущественным, чтобы оплатить двенадцать проповедников атеизма?
Никто до патера Мерсенна не додумывался до такой нелепости.
А между тем после него ее бесконечно повторяли, ею поганили
журналы, исторические словари, и публика, падкая на все необычайное, поверила этой басне без критики.
Сам Бейль в своих «Разных мыслях» говорит о Ванини, как
об атеисте. Он пользуется этим примером в обосновании своего
парадокса о том, что общество атеистов может существовать.
Бейль заверяет, что Ванини был человеком весьма порядочного
поведения и что он был мучеником своих философских воззрений.
Но он ошибается и в одном и в другом пункте. Священник Ванини
сообщает нам в своих «Диалогах», написанных в подражание
Эразму, что он имел любовницу по имени Изабелла. Ванини была
свойственна вольность и в писании и в поведении, но он вовсе
не был атеистом.
Через сто лет после его смерти ученый Лакроз и тот писатель,
который назвал себя Филаретом, попытались реабилитировать Ванини, но так как никого не интересует память какого-то злополучного неаполитанца, к тому же плохого писателя, то никто этих
апологий не читает.
Иезуит Ардуэн, более ученый, чем Гарасс, но не менее решиХрес-воматин ио истории атеизма
7
тельный, обвиняет в атеизме (в своей книге «Разоблаченные атеисты») и таких людей, как Декарт, как Арно, как Паскаль, Николь,
Мальбранш: к счастью, их не постигла судьба Ванини.
От этих фактов и перехожу к моральному вопросу, поднятому
Бейлем, к вопросу о том, может ли существовать общество, состоящее из атеистов. Отметим прежде всего чудовищную противоречивость людей в споре: те, которые особенно яростно выступали против мнения Бейля, которые особенно яростно отрицали
возможность атеистического общества, впоследствии с такой же
решительностью утверждали, что атеизм является религией правителей Китая.
Они несомненно ошиблись насчет китайского правительства.
Им достаточно было бы прочесть несколько манифестов и указов
того или иного китайского императора,— и им стало бы ясно, что
везде в них говорится о высшем правящем, карающем и воздающем существе.
Ке меньше ошиблись эти оппоненты Бейля и относительно
возможность атеистического общества. Я не понимаю, как сам
Бейль мог забыть об одном сокрушительном примере, который
делает его взгляд непререкаемым.
Почему общество, состоящее из атеистов, кажется невозможным? Потому что представляется, будто люди, не имеющие узды,
не могли бы никогда жить вместе, будто законы бессильны против
тайных преступлений, будто необходим бог-мститель, который карал бы в настоящем или в ином мире злых, избежавших человеческого правосудия.
Законы Моисея, правда, ничего не говорят о будущей жизни,
они не угрожают карами после смерти, не проповедуют древним
евреям бессмертия души, однако евреи, далекие от атеизма, далекие от мысли избежать божественного возмездия, были ведь
самыми религиозными среди людей. Они не только верили в существование вечного бога, но они были убеждены в его постоянном
присутствии среди них, они трепетали при мысли о каре, которая
может постигнуть их самих, их жен, их потомство вплоть до четвертого колена. И эта узда была весьма сильной.
Однако среди язычников некоторые секты не имели никакой
узды: скептики сомневались во всем, академики распространяли
свое суждение на все в мире, эпикурейцы были убеждены, что
божество не может вмешиваться в людские дела, т. е. по существу
отрицали всякое божество. Они были убеждены, что душа вовсе
не является какой-то субстанцией, что это — способность, которая
рождается и угасает вместе с телом: следовательно эпикурейцы
не имели никаких уз кроме уз морали и чести. Сенаторы и всадники древнего Рима были подлинными атеистами, ибо боги не
существовали для людей, которые их не боялись и ничего от них
не ждали. Римский сенат во времена Цезаря был, значит, настоящим собранием атеистов.
Цицерон в своей поминальной речи, посвященной Клуэнцию,
обращается ко всему сенату со словами: «Какое зло причиняет ему
смерть? Мы отметаем все глупые басни об аде. Чего же лишила
его смерть? Ничего кроме чувства страдания». Разве Цезарь, друг
Каталины, пытаясь спасти жизнь приятеля, не доказывал в возражение тому же Цицерону, что умерщвление преступника вовсе не
является наказанием, что смерть ничто, что она является лишь
концом наших страданий, что это момент скорее счастливый, чем
роковой.
Таким образом победители и законодатели целого мира (известного в то время) совершенно явно представляли собой сообщество людей, которые не боялись богов, которые были настоящими -атеистами.
Бейль далее обсуждает вопрос, является ли идолопоклонство
более опасным, чем атеизм, является ли большим преступлением
полное неверие в божество или недостойное мнение о нем. Он
держится в этом вопросе точки зрения Плутарха, он полагает, что
лучше не иметь никакого мнения, чем неправильное и нелепое
мнение. Однако наперекор Плутарху, совершенно очевидно, что
для греков было бесконечно лучше бояться Цереры, Нептуна и
Юпитера, чем не бояться ничего. Совершенно ясно, что святость
клятв необходима и что следует больше доверять тем людям,
которые думают, что клятвопреступление будет наказано, чем тем,
которые полагают, что можно дать ложную клятву безнаказанно.
Не подлежит спору, что в просвещенном городе бесконечно полезнее иметь какую-нибудь религию (хотя бы плохую), чем не
иметь никакой.
Нам таким образом представляется, что Бейлю следовало бы
лучше рассмотреть вопрос, что опаснее—фанатизм или атеизм,—
ибо атеизм не внушает кровожадности, а фанатизм внушает ее;
атеизм не противоборствует преступлениям, но фанатизм побуждает совершать их. Предположим вместе с автором «Commentarium rerum gallicarum», что канцлер де-Лопиталь был атеистом.
Так вот этот атеист не сделал ничего кроме того, что издал мудрые законы и рекомендовал умеренность и согласие. Фанатики же
совершили зверства Варфоломеевской ночи. Гоббс прослыл атеистом, но он вел тихую и безупречную жизнь, фанатики -же его
эпохи залили кровыо Англию, Шотландию и Ирландию. Спиноза
не только был атеистом, но и проповедывал атеизм, но ведь не
на нем лежит ответственность за юридическое убийство Барнефельдта, не он растерзал на клочки, не он поджаривал братьев
де-Витт.
Атеисты являются в большей своей части смелыми, но заблуждающимися учеными, которые плохо рассуждают, которые, не
будучи в состоянии понять творение, происхождение зла и другие
трудные вопросы, прибегают к гипотезе вечности вещей, к гипотезе необходимости.
Честолюбцы и сластолюбцы не имеют времени для рассуждения, для усвоения хотя бы дурной системы: у них есть другие
дела, кроме сопоставления и сравнения Лукреция с Сократом. Вот
как обстоит дело в нашей среде.
Не так обстояло дело в римском сенате, который почти весь
состоял из атеистов на практике и в теории, т. е. из людей, не
веривших ни в провидение, ни в будущую жизнь.
Этот сенат был собранием философов, собранием сластолюбцев и честолюбцев, которые все были очень опасны и которые
потеряли республику.
Я бы очень не хотел, иметь дело с атеистически мыслящим
государем, который нашел бы выгодным для себя истолочь меня
в ступе: я уверен, что это было бы сделано в отношении меня.
Я очень не хотел бы, если бы я был государем, иметь дело с придворными-атеистами, заинтересованными" в моем отравлении: мне
пришлось бы каждодневно глотать противоядия. Абсолютно необходимо, значит, для государей и народов, чтобы идея высшего существа, творца, правителя, воздаятеля и мстителя, была глубоко
запечатлена в сознании людей.
Существуют атеистические народы,— говорит Бейль в своих
^Мыслях о кометах». Кафры, готтентоты, топинамбы и многие
другие народцы совсем, мол, не имеют бога. Возможно, что это
так. Однако это вовсе не означает того, что они отрицают бога:
они не признают его, они его и не отрицают, они просто о нем
ничего не знают, они о нем просто ничего не слышали. Попробуйте
им сказать, что существует бог,— и они легко этому поверят;
скажите им, что все совершается в силу естественного порядка
вещей,— они поверят и этому. Утверждать, что они являются
атеистами, столь же нелепо, как называть их антикартезианцами:
они ни за, ни против Декарта. Они — настоящие дети: ребенок не
является ни атеистом, ни теистом; он в этом смысле — ничто.
Какое же мы из всего этого сделаем заключение? Из всего
этого можно сделать вывод, что атеизм является очень вредоносным чудовищем в тех, кто правит; что таким же он является и
в кабинетных людях, несмотря на их безупречную жизнь, ибо из
глубины кабинетов он может проникнуть на площадь; что если
атеизм не так губителен, как фанатизм, то он почти всегда играет
роковую роль для морали. Особо. отметим, что ныне имеется
меньше атеистов, чем когда бы то ни было, что атеистов стало
меньше с тех лор, как философы узнали, что ни одно существо
не растет без зародыша, что нет зародыша без умысла и цели
и т. д., что из дерма не бывает хлеба.
Геометры — не философы — отвергли конечные причины, но
истинные философы их допускают. Как сказал один известный
автор, законоучитель возвещает существование (Гожие детям,
а Ньютон доказывает его мудрецам.
(«Философский словарь», т. I).
Из афоризмов Вольтера и его переписки.
О преследовании
еретиков.
Вы смотрите с грустью на все эти бессмысленные и отвратительные сцены; вы не находите ничего подобного ни у римлян,
ни у греков, ни у варваров. Это — плод самого подлого суеверия,
которое когда-либо существовало между людьми, суеверия, доведшего их до скотского состояния... Но вы знаете, что мы сами
только недавно вышли из этих потемок и что далеко не все у нас
залито светом.
2.
О причастии.
Лютер сохранял одну часть таинства и отвергал другую. Он
признавал, что тело Иисуса хрнста присутствует в святых дарах,
но оно подобно огню в раскаленном железе: и огонь и железо
существуют совместно. Это то, что называли сопресуществлением. Таким образом те, которых называли папистами, поглощали
бога без хлеба, а лютеране поедали одновременно и хлеб и бога;
вск©ре пришли кальвинисты, которые стали есть только хлеб,
не едя совсем бога.
3.
Пройдет немного времени, и я не знаю, нужны m будут все
эти писания, и не станет ли ум человеческий достаточно развитым,
чтобы самостоятельно понять, что три не составляют единицы и
что хлеб не бог.
Из письма Даламберу от 31 марта 1762 г.).
4.
Это •— прекрасное деревцо, • давшее дурные плоды,— говорят
про христианство благочестивые мерзавцы; но если оно дало их
так много, то не заслужило ли ©но того, чтобы быть брошенным
в огонь?
(Из письма Даламберу от 28 ноября 1762 г.).
5.
Совершенно очевидно, что христианская религия — это сеть,
которою мошенники опутывали глупцов больше семнадцати столетий, кинжал, которым фанатики более четырнадцати веков убивают своих братьев... Пора разбить позорное кто, которое наша
собственная глупость наложила на наши шеи. Пора заставить замолчать глупых и подкупленных фанатиков. Пора утешить землю,
которую переодетые в священников и судей людоеды покрыли
кровью.
6.
Я хочу, чтобы мой управляющий, моя жена и моя прислуга
верили в бога, и я думаю, что таким образом меня меньше будут
обкрадывать и обманывать.
7.
Мы имели дело с массой мошенников, которые мало размышляли, с массой маленьких людей, грубых, пьяниц, воров. Если вам
угодно, проповедуйте им, что нет ада и что душа смертна. Что
касается меня, то я буду кричать им в уши, что они подвергнутся
вечной каре, если будут меня обворовывать. Я буду подражать
тому сельскому священнику, который, будучи жестоко обворован
духовными детьми своими, сказал им в своей проповеди: «Я пе
знаю, о чем думал Иисус Христос, когда умирал за таких каналий,
как вы».
!
Ученые не перестают выражать свое удивление по поводу
того, что ни один римский историк не проронил ни звука по поводу чудес, происходивших во время Тиберия на глазах у римского чиновника, который несомненно должен был послать императору и сенату обстоятельный доклад о самом чудесном происшествии, о каком только люди когда-либо слышали. Да и самый
Рим должен был быть погруженным в тьму в течение целых трех
часов, каковое чудо должно было быть отмечено в летописях Рима
и других городов. Богу не угодно было, чтобы эти божественные"
вещи были записаны руками оглашенных.
9,
Кто был изобретателем искусства пророчества? Конечно, первый мошенник, встретивший первого дурака.
(Из «Опыта о нравах», т. 1).
10.
В атеизме нет ничего хорошего. Честный человек может,
конечно, восставать против суеверия и фанатизма, он может с отвращением относиться к преследованию и он оказывает услугу
человечеству, если распространяет гуманные принципы терпимости. Но какую услугу может он оказать, если распространяет
атеизм? Разве люди станут более добродетельными, если перестанут признавать бога, повелевающего быть добродетельными? -Нет,
конечно. Я хочу, чтобы государи и их министры признавали бога
и именно бога, карающего я прощающего. Без этой узды я их
должен рассматривать, как хищных зверей.
11.
Нельзя одолеть двух страниц отвратительной чепухи, приписываемой Зороастру, чтобы не проникнуться жалостью к человеческой природе.
12.
Мечтатели основывали религии, невежды и глупцы им верили,
а обманщики их поддерживали.
13.
Фанатизм для суеверия то, что исступление для лихорадки,
что бешенство для злобы. Самый отвратительный пример фанатизма— фанатизм парижских буржуа, которые бросились убивать, резать, кидать в окна, раздирать в клочья своих соотечественников, не ходивших с ними к обедне.
14.
Метафизика — это когда слушающий ничего не понимает
и когда говорящий понимает не больше.
15.
Наиболее суеверные эпохи были всегда эпохами самых ужасных преступлений.
16.
Пока будут мошенники и дураки, религия будет существовать.
Но ваша религия, без сомнения,— самая смешная, самая нелепая и
самая кровожадная из всех, какие когда-либо заражали мир.
АТЕИСТЫ
XVIII В Е К А
ЖАН МЕЛЬЕ,
1.
Мысли автора о религиях мира.
Обычно подчиняются, по крайней мере внешне, исповедыванию и обрядностям установленной религии, хотя и сознают в достаточной мере ее заблуждения, потому что, какое бы отвращение
люди ни испытывали, подчиняясь ей, им однако гораздо более
выгодно жить спокойно, сохраняя то, что они имеют, чем итти
на собственную гибель, пытаясь бороться со стихийной силой.
Прибавьте к этому личные виды и вожделения всех тех, что
занимают выгодные посты в гражданском или духовном ведомстве или стремятся к получению таких постов. Среди них почти
нет таких, которые не заняты были бы гораздо больше своими
личными выгодами, чем искренней заботой об общественном благе.
Среди них нет почти таких, которые не были бы заняты какимилибо стремлениями личного честолюбия или личного интереса,
либо плотскими вожделениями.
Конечно не те, кто стремится к выгодам или почестям в церкви/станут бороться с заблуждениями, ибо именно на этих заблуждениях покоятся как все их могущество, так и крупные доходы,
ими получаемые. Помимо того, в отношениях между людьми, далее
между самыми близкими родственниками, так много зависти и
вероломства, что никто не может довериться другому и следовательно не может ничего делать, не может ничего предпринимать,
не подвергаясь риску быть преданным.
Вы, быть может, подумаете, дорогие братья, что из множества
ложных религий, существующих на свете, я намереваюсь сделать
исключение хотя бы для католической религии, которую мы исповедуем и о которой мы говорим, что она одна только проповедует истину, что она одна признает и славу истинного бога и что
она одна ведет людей по пути спасения к блаженной вечности.
Разуверьтесь однако: она не менее ложна, не менее смешна и
нелепа в своих догматах и в своем учении; вы — такие же идолопоклонники, как те, которых вы называете идолопоклонниками.
Идолы язычников и ваши идолы различаются между собою только
по имени и по образу.
Все, что ваши священники и ваши богословы вам с таким
красноречием проповедуют о величии, совершенстве и святости
таинств, которым они вас заставляют поклоняться, все, что они
вам с такой важностью рассказывают о достоверности их так
называемых чудес, и все, что они вам с таким рвением и с такой
уверенностью рисуют о воздаянии небес и об ужасающих муках
ада, является в сущности лишь обманом, вымышленным сперва
тонкими и хитрыми политиками, распространявшимся потом лицемерами, слепо воспринятым затем невежественными и темными
народами и закрепленным наконец властью правителей, дабы держать таким образом в ѵзде людей и делать с ними все, что заблагорассудится.
Вот каким образом,-дорогие братья, те, что постоянно господствовали над народами, злоупотребляют именем и властью бога
больше для того, чтобы внушать к себе страх и почтение, чем для
того, чтобы служить и поклоняться богу, которого онн предают.
Вот каким образом они злоупотребляют благовидным предлогом
благочестия и религии, чтобы заставить слабых и невежественных
веровать во все, что им желательно. Вот, наконец, каким образом
они устанавливают по всей земле отвратительное таинство лжи и
несправедливости, тогда как они должны были бы стараться исключительно о том, чтобы воздвигнуть повсюду царство мира, справедливости и правды, которое сделало бы все народы счастливыми.
Дорогие братья мои, если бы вы знали всю нелепость тех выдумок, которыми вас отуманивают, и насколько недостойно злоупотребляют властью, над вами захваченною, вы бы наверное
испытывали одно только чувство презрения ко всему, чему вас
заставляют поклоняться, и были бы переполнены одним лишь негодованием ко всем тем, которые так дурно правят вами. По этому
поводу мне припоминается пожелание, выраженное некогда одним
человеком, не искушенным в науке и необразованным, но не лишенным однако здравого смысла, чтобы трезво судить обо всех
этих отвратительных злоупотреблениях. Судя по тому, как он
выражал свою мысль, можно думать, что он достаточно хорошо
разбирался в неправедных таинствах, о которых я сейчас говорил,
ибо он так хорошо знал их виновников: он выразил пожелание,
чтобы «все тираны земли были повешены и удушены на кишках
священников». Это выражение конечно покажется резким и грубым, но нужно признать, что оно откровенно и чистосердечно.
(«Завещание»).
2.
Величайшее
злоупотребление
религии—освящение
неравенства.
Первым злоупотреблением является то огромное неравенство,
которое мы везде наблюдаем между различными сословиями и
состояниями людей, нз которых одни кажутся даже рожденными
тольмо для того, чтобы тиранически господствовать над другими
и проводить всю свою жизнь в довольстве и наслаждениях, дру-
«
ЖАН МЕЛЬЕ
109
гие же, напротив, кажутся рожденными только для того, чтобы
влачить жизнь обездоленных и несчастных, быть презренными
рабами и стонать всю свою жизнь под гнетом труда и лишений.
Это неравенство в высшей степени несправедливо, так как оно не
обусловливается ни заслугами одних, ни проступками других.
Это неравенство также и гнусно, ибо, с одной стороны, оно
только способно внушить одним и поддерживать у них гордость,
высокомерие, честолюбие и суетность; с другой стороны, оно
только порождает ненависть, зависть, гнев, желание мести, жалобы
и ропот. Все эти страсти являются впоследствии источником и
признаком неизмеримого количества зла и преступления, совершающихся в мире. Это зло и эти преступления несомненно не
имели бы места, если бы люди установили между собой справедливое отношение, такое, какое только необходимо для установления и соблюдения между ними справедливой субординации,
а не для тиранического господства одних над другими.
Все люди равны от природы. Они все одинаково имеют право
жить и двигаться по земле, одинаково имеют право пользоваться
на ней своей естественной свободой и иметь свою долю в земных
благах, добывая сообща полезным трудом средства, необходимые
и полезные для жизни. Однако, так как люди живут в обществе,
а общества., или коллективы людей, не могут быть правильно
организованы или, будучи правильно организованы, не могут надолго поддерживать добрый порядок без того, чтобы между их
членами не существовало некоторой зависимости и отношения
подчинения, то для блага человеческого общества абсолютно необходимо, чтобы между людьми существовала зависимость и подчинение одних другим. Но необходимо также, чтобы эта зависимость
и это подчинение одних другим были справедливы и хорошо
соразмерены. Этим я хочу сказать, что они не должны заходить
так далеко, чтобы чрезмерно возвысить одних и чрезмерно унижать других, чрезмерно благоприятствовать одним и чрезмерно,
угнетать других, слишком много давать одним и ничего не оставлять другим. Эта зависимость и подчинение не должны наконец
простираться до того, чтобы одним достались все блага и все
наслаждения, а другим — все труды, все заботы, все тревоги и все
огорчения, ибо такая зависимость и такое подчинение были бы
несправедливы и гнусны и противоречили бы естественному праву.
Эту мысль очень хорошо формулировал в своем произведении
один здравомыслящий писатель истекшего столетия. Вы имеете,—говорит он,— на одной стороне власть, наслаждения и праздность, а на другой стороне —• зависимость, заботы и лишения. Ко
или эти вещи,— говорит он,— размещены неправильно человеческой злобой«, или бог не бог. Слишком большое неравенство,—
говорит он дальше,— которое мы наблюдаем среди людей, есть
дело рук самих людей и установлено законом наиболее сильных.
Все мы равны,— говорит Сенека,— от рождения и по происхож-
1_J0_
__
АТЕИСТЫ XVIIf ВЕКА
дешно, нет среди нас никого, кто был бы благороднее другого,
разве только в том случае, когда один обладает большим умом и
более способен к добродетели и просвещению, чем другой. От природы и от рождения мы все родственники и союзники, ибо происходим от одной и той же природы и существуем для одной и
той же цели. Вот почему он прибавляет, что все наименования и
титулы: королей, князей, монархов, властелинов, благородных,
подданных, вассалов, крепостных, вольноотпущенников, рабов,—
все они являются наименованиями, порожденными честолюбием,
насилием и тиранией.
И последователи Христа не должны были бы в этом отношении
поступать против принципов этого языческого философа, так как
сама их религия обязывает их почитать и любить друг друга, как
братья, и запрещает им стремиться надменно властвовать друг
над другом. Это определенно явствует из тех слов, которые их
Иисус Христос говорил своим ученикам. Вы знаете,—говорил он
им,—что князья народов господствуют над последними и сильные
мира сего властно обращаются с ними, но вы не будете так поступать. Тот из вас, который захочет быть наибольшим, пусть будет
наименьшим из всех и слугою всех, а тот, кто захочет быть первым
среди вас, пусть будет последним среди вас. Не принимайте,—
говорил он им еще,—суетного имени господина, ибо существует
только один господин над всеми вами, и вы все братья. В" согласии
с этим правилом христа, основанном в данном случае на праве и
естественной справедливости, апостол св. Иаков очень хорошо
разъяснил своим братьям, что в этом отношении не следует допу
екать никакого лицеприятия, но следует относиться ко всем одинаково и почитать одних, как других. Братья мои,—говорил он
им,—вера в христа, которую вы исповедуете, не позволит вам допускать лицеприятия по отношению к кому бы то ни было. Ибо,—
говорил он им,—если в ваше собрание входит человек, носящий
, золотое кольцо и богатую одежду, а также плохо одетый бедняк,
и вы, заметив богато одетого, говорите ему: «садитесь здесь на
почетное место», а бедняку говорите: «стойте там» или «садитесь
там, у наших ног»,—то разве вы в вашей собственной среде не
делаете различия между одними и другими и не образуете своего
суждения на основании несправедливых мыслей? Слушайте, братья
мои,—говорил он им,—если вы исполняете правило милосердия,
гласящее: «любите вашего ближнего, как самих себя»,—то вы
совершаете добро, но если вы допускаете лицеприятие по отношению к кому бы то ни было, то вы совершаете грех и являетесь
нарушителями закона.
Очевидным и огромным, следовательно, злоупотреблением
христианской религии является наблюдаемое среди,, ее последователей не только несправедливое и гнусное лицеприятие, но также
столь огромное, столь несправедливое и столь гнусное неравенство
между различными сословиями и состояниями.
m
Ж А Н МЕЛЬЕ-
з.
Монахи—огромная
рать п а р а з и т о в на теле
народа.
Вот мысли одного турка насчет того огромного количества и
большого разнообразия монахов, которые он наблюдал среди христиан. «Я не понимаю,—сказал он,—во имя чего культивируются
эти рассадники духовных пиявок, способных только высосать до
последней капли кровь нации». Он имел также основание характеризовать их таким образом, ибо эти люди являются действительно
только пиявками. Под тем предлогом, что они болёе усердно, чем
другие, служат воображаемому богу, что они изо дня в день
в определенные часы дня и ночи идут смиренно поклоняться богу,
сделанному из теста и муки, воскуривают этому богу фимиам, совершают пред ним дюжины коленопреклонений, делают ему глубокие поклоны и бормочут и поют перед ним псалмы и духовные
песни, которых этот бог не слышит и не может слышать, ибо он
не имеет ушей, так же, как и глаз, чтобы видеть оказываемые ему
почести, как и ноздрей, чтобы обонять запах их фимиама и духов,—под предлогом всего этого эти люди воображают, что они
вполне заслужили права: одни—на те огромные богатства, которыми они владеют; другие—права собирать, выпрашивая повсюду,
жирные и обильные подаяния, которые им дают, и не занимаются
никаким другим трудом.
Кому в мире нужны эти люди? Кому нужны все эти чтецы
месс и требников, все эти монахи, служащие заутреню и вечерню,
проповедующие и перебирающие четки? Кому нужно, чтобы они
наряжались в разнообразные и смешные формы одежды? Кому
нужно, чтобы они вели затворническую жизнь в монастырях,
чтобы они ходили босыми по снегу и по грязи, чтобы они каждый
день бичевали себя? Кому это нужно, чтобы они каждый день
аккуратно в определенные часы дня и ночи отправлялись петь
псалмы и духовные песни в их церквах? Вольные птицы достаточно поют и чирикают в полях и лесах. Народу незачем так
щедро содержать стольких людей с тем, чтобы они только пели
в храмах. Нужно ли еще, чтобы они ежедневно совершали коленопреклонения и глубокие поклоны? Нужно ли все это, я спрашиваю,
кому-нибудь в мире? Все это совершенно бесполезно, все это ни
к чему, все это—глупость и суета, и если бы они даже целые дни
и ночи проводили в бормотании и пении, если бы они каждый день
делали тысячи и тысячи смиренных поклонов перед своим идолом
из теста, то все это было бы совершенно бесполезно. Следовательно, очевидным злоупотреблением и очень большим злоупотреблением является оплачивать такого рода бесполезные занятия
большим богатством и щедро содержать таких людёй на счет
общества и к великому ущербу для добрых и наилучших тружеников, которые все дни занимаются честным и полезным трудом
и тем не менее часто испытывают недостаток в самом необходимом для жизни.
( «Завещание» )
Химерическое представление богопоклонников о своем боге.
Было бы совершенно бесполезно объявить (как это обычно
делают), что изначальное и верховное существо, творец всех вещей, одинаково присутствует всюду, целиком находясь в каждом
месте и не претерпевая при этом ни разделения, ни умножения
своего существа. Эот было бы бесполезно, лоотму что это значило
бы сказать нечто такое, что непонятно и чего нельзя понять; это
значило бы умножить трудности, вместо того чтобы их сократить,—и чем пристальнее мы всматривались бы в различные свойства, которые пришлось бы тогда приписать этому мнимому верховному существу, етм глубже мы уходили бы в лабиринты неразрешимых трудностей, которые привели бы нас в конце концов
к явным нелепостям и неустранимым противоречиям. Приведу в
доказательство следующее загадочное и химерическое описание
верховного существа, весьма искусно сделанное одним знаменитым автором:
«Бог,—говорит он,—есть сам свое начало и свой конец; тем
не менее он не имеет ни начала, ни-конца, и все же обладает и
тем и другим, будучи родителем и творцом и того и другого.
Он всегда был и есть всегда, не подвергаясь течению времени; для
него прошлое не проходит, и будущее не наступает; он знаег
одно настоящее. Он царит всюду, не занимая никакого места; он
неподвижен, ни на что не опираясь; он деятелен, не двигаясь. Он
есть все, будучи вне всего; он — во всех вещах, но не заключен
ни в одну; он — вне всех вещей, но не открыт ни для одной; он
творит извне и правит изнутри. Он благ, не имея никаких свойств;
он велик, не будучи величиной. Он есть целое, лишенное частей и
неподвижное, хотя он изменяет все вещи. Его воля есть его мощь;
его мощь есть его воля; его творчество есть его воля, и его воля
есть его творчество. Он прост в самом себе, в нем нет смешения
акта и потенции. Он есть актуально все, чем он может быть, или,
вернее, он есть чистый акт, будучи сам первым, вторым и последним актом. Наконец,—заключает наш автор,—он есть все, он во
всем, он надо всем, он внутри всего, он вне всего и помимо всего;
он есть все до всего и все после всего».
Ясно, что это описание полно нелепостей и осязаемых противоречий, откуда прямо следует, что оно может относиться только
к такому существу, которое, как я сказал, совершенно иллюзорно
и химерично. А отсюда очевидно, что теория творения необходимо
запутывается в почти бесконечное множество необъяснимых затруднений, противоречий и невероятных нелепостей. Вот почему
среди богословов, а также среди философов, принимающих теорию творения, возникло такое множество различных и прямо
нротивоположных мнений, относительно которых они до сих пор
не сумели и никогда не сумеют сговориться, что конечно свидетельствует не в пользу теории творения. Не так обстоит дело
с теорией естественного образования вещей силами самой материи, их составляющей, ибо эта теория не заключает в себе никаких
несообразностей и противоречий и следовательно можно быть
уверенным, что в ней не содержится ничего невозможного. Стоит
например только предположить, что материя вечна, что она существует сама собой и в самой себе имеет свое начало,—предположение очень простое и весьма.естественное,— и станет совершенно
ясно, что в этом предположении нет ничего невозможного. Ибо:
1) совершенно ясно, что материя существует, что это не воображаемое й не химерическое существо; 2) столь же ясно, что определенные части материи способны подвергаться делению и что
вся материя способна к движению; и мы фактически видим, что
материя движется; ни в одном из этих пунктов мы не можем
сомневаться. Почему же в таком случае не предположить, что
материя действительно вечна и что она действительно движется
сама собой, раз мы, с одной стороны, не видим в этом никакого
противоречия, а с другой — не видим и не можем видеть ничего
такого, что могло бы создать ее или сообщить ей движение?
Наконец, нельзя сомневаться, что всеобщее бытие имеет от самого
себя свое существование и движение, ибо от кого еще могло бы
оно получить то и другое? Несомненно, оно не могло их получить
ни от кого на свете. Но сама материя и есть это всеобщее бытие,
и стоит только предположить это, как мы получаем ясный принцип, способный не только устранить все трудности, все несообразности и нелепости, необходимо вытекающие из теории творения,
но способный также открыть легкий путь к физическому и моральному познанию и объяснению всех явлений природы. Ибо одна эта
идея всеобщей материи, которая движется по различным направлениям и благодаря различным конфигурациям своих частей может ежедневно изменяться тысячью различных способов, дает нам
ясно понять, что все, что есть в природе, может возникнуть в силу
•естественных законов движения, благодаря одним лишь конфигурациям, сочетаниям и модификациям частей материи.
5.
Вы можете, сколько вам угодно, предполагать существование
одного или многих нематериальных и духовных существ, как это
делают наши богопоклонники, т. е. вы можете, сколько вам угодно, признавать существо или множество существ, не имеющих ни
формы, ни образа, ни тела, ни какой-либо протяженности,— все
это нисколько не объяснит существования чего-либо материального и чувственного, не объяснит существования ни неба, ни земли,
Хрестоыатля по истории а т е а з и а
8
ни даже малейшей мухи, ни даже возможности существования
этой мухи, ибо нет никакой связи между сущим материальным и
чувственным и каким-то мнимым, неведомым сущим, будто бы не
содержащим в себе ничего материального и чувственного.
6.
Я знаю, что, по мнению наших богопоклонников, их бог, творец всех вещей, создает все одною своею волей; ему нужно только
захотеть,—говорят они,—и вот все вещи уже созданы, как это
сказано в их якобы священных книгах... «Он повелел,— и сотворилось, дал устав,— и созиждилось».
Сказать это нетрудно, но я
уверен, что они сами не знают, что говорят, потому что у них не
только нет настоящего представления о том, чем являются познание, могущество и воля этого существа, но у них нет даже
никакого настоящего представления о его природе и бытии; ибо
даже согласно их собственным принципам—жизнь, познание, воля,
сила и могущество, которые они ему приписывают, не должны я
не могут пониматься в обычном и естественном смысле этих слов,
но в каком-то переносном смысле, т. е. в смысле, совершенно не
соответствующем нашему способу жизни, мышления, волнения или
действования. А так как мы можем составить себе представление
о жизни только по тому, что мы познаем и воспринимаем из нашей
собственной жизни, которая заключается в некотором движении
тела и души, и так как это наше представление о нашей собственной жизни совершенно не соответствует мнимой жизни какого-то
бестелесного и нематериального бога,— то отсюда следует, что
когда наши богопоклонники называют своего бога живым богом,
то они сами не знают, что говорят, потому что никакого настоящего представления о его жизни у них быть не может. Точно
так же мы не в состоянии составить себе представление о мышлении иначе, как по тем актам мысли, воли и познания, которые мы
совершаем и испытываем в самих себе, когда мыслим и хотим;
но в их боге нет места никаким мыслительным, познавательным и
волевым актам; а между тем никакого другого представления о
познании и воле, кроме основанного на этих актах, у них не может
быть. Следовательно, когда они говорят, что их бог познает и
обнаруживает волю, они сами не знают, что говорят, они произносят слова, которых сами не понимают.
И наконец мы не можем составить себе представление о бытии и субстанции иначе, как по тем существам и субстанциям,
которые мы наблюдаем и знаем; но так как и это представление
также совершенно не соответствует богу и так как даже самые
эти слова «бытие» и «субстанция» применяются к богу и к другим
духовным существам и субстанциям только в переносном смысле,
т. е. эти слова имеют два различных значения, из которых одно
относится к известным нам существам и субстанциям, а другое
должно относиться к одному только богу, причем наши боголок-
лонники сами не знают, что именно они означают в этом последнем случае,— то отсюда следует, что они сами по-настоящему не
знают, что они, собственно говоря, приписывают богу, когда называют его существом и субстанцией. Когда мы говорим,—пишет
господин Монтэнь,—что бог боится, что бог гневается, что бог
любит и т. д., мы смертными словами обозначаем бессмертное. Все
эти волнения и чувства,—говорит он,—не могут иметь места в боге
так, как они существуют в нас; а мы не можем их представить себе
так, как они существуют в нем. Когда мы говорим,—пишет он
в другом месте,—что бесконечный ряд веков, прошлых и будущих,
для бога — лишь одно мгновенье, что его благость, мудрость и
могущество есть не что иное, как его сущность, мы произносим
слова, но наш ум не постигает их смысла. И следовательно, когда
наши богоііоклогіники приписывают своему богу жизнь, силу, могущество, познание, даже когда они называют его сущим, они
сами не знают, что говорят, потому что не имеют настоящего
представления о том, что все эти слова означают. Когда они говорят это, они конечно не заслуживают того, чтобы их слушали;
ибо люди, говорящие о том, чего они не знают, не заслуживают,
чтобы их слушали, и тем более не заслуживают, чтобы им верили.
(«Завещание»)
7.
Борьба с религией—борьба с тиранией.
Можно считать ясно установленным, что все существующие
на свете религии являются лишь человеческими
измышлениями
и что то, чему они нас учат и во что заставляют нас веровать,—
не больше, как заблуждения, иллюзии, ложь и обман. И выдумано
все это либо подлыми лицемерами, чтобы вводить в обман людей,
либо ТОНКИМІИ и хитрыми политиками, чтобы держать людей в узде
и чтобы делать все, что им заблагорассудится, с невежественными
народами, слепо и глупо верующими во все, что им йреподносится
якобы от имени богов. И эти тонкие и хитрые политики уверяют
при. этом, что полезно и выгодно внушать такую веру простому
народу, ибо нужно,—говорят они,—чтобы простой народ не знал
многого из того, что истинно, и веровал во многое ложное.
И так как этого рода заблуждения, иллюзии и обманы являются источником бесконечных бедствий, бесконечного злоупотребления и бесконечного насилия на свете, и даже тирания, под
игом которой стонет столько народов на земле, дерзает прикрываться благовидной, но фальшивой и отвратительной маской религии, то я имел полное основание сказать, что вся эта груда
религий и политических законов состоит из бесчестных таинств.
Да, дорогие друзья мои, это действительно только бесчестные
таинства, и даже таинства отвратительные. Вы все и все вам
подобные,—вы должны их считать только бесчестнымй таинствами,
8*
ибо, пользуясь ими, ваши священники подчиняют и держат вас
постоянно под гнусным и нестерпимым игом их пустых и глупых
предрассудков под предлогом, что так они вас благополучно приведут к богу. .Пользуясь теми же бесчестными таинствами, властители и великие мира сего, под предлогом управления вами и
заботы об общественном благе, грабят, притесняют, разоряют и
тиранят вас.
Я хотел бы, чтобы голос мой слышен был с одного конца нашей страны до другого или — еще лучше — с одного конца земного шара до другого,—и изо всех сил моих я кричал бы: «Вы с
ума сошли, о, люди, вы с ума сошли, что так покорно даете властвовать над собою и так слепо верите во все эти глупости!»
Я объяснил бы им, что они заблуждаются и что их правители злоупотребляют их доверием и терроризуют их. Я разоблачил бы
перед ними эти бесчестные таинства, которые делают их повсюду
столь жалкими и столь несчастными и которые в будущем, конечно, будут считаться стыдом и позором наших дней. Я показал бы
им все безумие и всю глупость их покорности и их слепой веры
во всю эту массу заблуждений, химер и столь смехотворных, столь
грубых обманов. Я показал бы им, какие трусы они, что позволяют
так долго жить тиранам и не сбрасывают с себя гнусное иго их
тиранического правления.
Один древний некогда сказал, что пожилого тирана можно
крайне редко видеть, и объяснялось это тем, что в те времена люди
не были еще столь малодушны и трусливы, чтобы давать тиранам
долго жить или царствовать. У них было еще достаточно разума
и мужества, чтобы расправляться с ними, когда они начинали злоупотреблять своей властью. В настоящее же время отнюдь не
редкое явление — долго живущий и долго царствующий тиран.
Люди постепенно приучились к рабству, и теперь они настолько
срослись с ним, что уже почти даже не помышляют о восстановлении своей свободы: рабство представляется им уже нормальным,
природным состоянием. И именно поэтому спесь тиранов постоянно разрастается, и поэтому же они постоянно отягчают становящееся с каждым днем все более нестерпимым иго их тиранического господства. Вы скажете, пожалуй, что их кривда и их
злоба проистекают от обилия накопленного ими жира и от излишества наслаждений. Да, они дошли до того, что радуются своим
порокам и своей злобе. И поэтому-то народы так сильно бедствуют
и столь несчастны под их тираническим господством.
Где те благородные убийцы тиранов, что жили в прошлые
века? Где Бруты и Кассии? Где благородные убийцы Калигулы и
многих других? Где Публиколы? Где благородные защитники гражданской свободы, изгнавшие из своих стран королей и тиранов и
давшие право каждому желающему убить их? Где Цинны и столько
других, которые писали и во всеуслышание порицали тиранию
властителей? Где достойные государи Траян и Антоний Кроткий,
из которых первый, передавая старшему офицеру империи свою
шпагу, сказал, чтобы он убил его этой самой шпагой, если он
только когда-нибудь станет тираном, а второй говорил, что он
хотел бы лучше спасти жизнь одному из своих подданных, нежели
убить тысячу врагов своих? Где, спрашиваю я, эти добрые государи и эти достойные императоры? Нет больше таких! Но если их
нет, то где же наши французские Жаки Клеманы и Равальяки?
Почему не видно больше этих благородных убийц тиранов? Почему
не появляются они в наши дни, чтобы приколоть всех этих отвратительных чудовищ и врагов рода человеческого и чтобы освободить таким образом народы от их тирании? Почему не видно
больше этих благородных защитников гражданской свободы? Почему нет их теперь, чтобы смести всех царей с лица 'земли, чтобы
преследовать угнетателей и вернуть свободу народам? Почему нет
больше тех славных писателей и тех славных ораторов, что порицали тиранов, громили их тиранию и сурово ^леймили в своих
писаниях их пороки, их неправедность и их дурное правление?
Почему нет их теперь, чтобы громогласно порицать тиранов-притеснителей, чтобы всенародно громить их пороки и всю неправедность их дурного правления, -чтобы печатными разоблачениями
сделать их гнусными и презренными в глазах всех и наконец
чтобы призывать все народы сбросить с себя нестерпимое иго их
тиранического господства?
Увы!—нет больше этих великих людей, не видно этих благородных и любвеобильных душ, которые шли на смерть во имя
спасения их отечества, которые предпочитали славную смерть позорной и трусливой жизни. И к стыду нашего века и даже последних веков нужно сказать, что теперь мы видим повсюду только
трусливых и жалких рабов чудовищного величия и могущества
тиранов. А среди тех., которые занимают более высокое и более
привилегированное положение, мы встречаем только низких
льстецов этих тиранов, только таких, которые подобострастно
одобряют все их несправедливые планы и трусливо выполняют
все их дурные желания и самые вопиющие их распоряжения. Таковы у нас во Франции все судьи и все чиновники даже наиболее
крупных и значительных городов: все они слепо подчиняются
приказам своих королей, которым они не осмеливаются противоречить. Таковы все провинциальные интенданты и все правители
городов и замков, которые поставлены на то, чтобы приводить
в исполнение повсюду те же неправедные распоряжения. Таковы
все командующие армиями, все офицеры и солдаты, на обязанности которых лежит поддержание власти тирана и строгое исполнение его приказов против бедных народов; все эти военные слуги
его огнем и мечом расправились бы со своей собственной родиной, если бы тиран им это предписал по капризу или по какомулибо пустяшному поводу; они ведь до такой степени безрассудны
и ослеплены, что почитают за честь и славу всецело, словно рабы,
отдаваться службе ему, а во время войны они обязаны подвергать
опасности свою жизнь за него каждый день и даже каждый час за
какое-то мизерное жалованье. Я не говорю уже о множестве всякой челяди, о всяких канцеляристах, контролерах, податных откупщиках, стрелках, стражниках, полицейских, сыщиках, которые,
словно изголодавшиеся волки, думают только о том, чтобы урвать
добычу и побольше ограбить и помучить бедных людей от имени
и под сенью короля, строго применяя к ним самые несправедливые
распоряжения то об описи, то о конфискации их достояния, а час т о — что гораздо более гнусно — об их аресте и всяких других
насилиях над ними, и наконец, о наказании кнутом и каторжными
работами, а иногда даже позорной смертной казнью.
Вот, дорогие друзья мои, каким образом те, что правят вами,
устанавливают над вами и вам подобными отвратительный, бесчестный закон, который они освящают знаменем религиозного
таинства. Вместе, по общему соглашению между собой, укореняют
они обман и заблуждения, которыми они и пользуются, чтобы
подчинить вас своим произвольным, тираническим законам. И вы
будете жалки и несчастны, вы и ваши потомки, когда вы будете
терпеливо сносить господство земных князей и королей, вы будете
жалки и несчастны, пока вы будете следовать заблуждениям религии и будете находиться во власти ее предрассудков. Отбросьте же
целиком все эти пустые и суеверные религиозные догматы, изгоните из вашей души эту безумную и слепую веру в их ложные
таинства; не верьте в них больше; не обращайте внимания на то,
что вам расписывают заинтересованные в обмане священники. Они
сами нисколько во все это не верят, — по крайней мере, большинство. Зачем же вам верить в то, во что они сами не верят? Очистите ваши головы и ваши души от этих предрассудков, уничтожьте у себя даже должности священников и духовных пастырей
и заставьте их работать так же, как вы сами работаете. Но этого
мало. Старайтесь все объединиться, вы и вам подобные, чтобы
совершенно сбросить с себя иго тиранического господства всех
ваших князей и королей! Ниспровергните повсюду все несправедливые и нечестивые троны! Сокрушите все коронованные головы,
раздавите гордыню и спесь всех ваших тиранов !
(«Завещание»)
ЖЮЛЬЕН ОФФРЭ ДЕ - ЛАМЕТТРИ .
1.
О душе.
Если у нас нет философских доказательств бессмертия души,
то конечно нам не доставляет особенного удовольствия, что такие
доказательства у нас отсутствуют. Мы все естественно склонны
.
верить в то, что нам хочется. Я сам должен признаться, что вся
моя философия не моЖет помешать мне считать смерть самой
печальной естественной необходимостью и что я хотел бы навсегда освободиться от удручающей мысли о ней. Вместе с обаятельным аббатом Шолье я могу сказать:
,
Чем ближе к смерти я, тем меньше страх пред ней,
Она моей душе не кажется постылой.
Иду навстречу ей без тягостных цепей
Раздумия о том, что ждет нас за могилой.
Я верю, что в благой приют,
Где нас покой и радость ждут,
Ведет загробная дорога
И что мы сможем отдохнуть,
Припав на благостную грудь
Природы-матери иль бога.
И однако я как бы перестаю существовать всякий раз, как
начинаю думать, что меня не будет.
Перейдем к рассмотрению мнений или желаний философов
по этому вопросу.
К тем, кто желал, чтобы душа была бессмертной, можно отнести: 1) Сенеку (Письма, 107 «Вопросы природы», кн. 7), 2) Сократа, 3) Платона, который в «Федоне» дает поистине комическое
доказательство этому учению, но который, впрочем, признается
что «он считает его истинным только потому, что слышал его»;
4) Цицерона «О природе богов», кн. 2), хотя он и колеблется" (кн.
3) в своей собственной теории, чтобы сказать, в конце концов,
что он «очень сочувствует учению о бессмертии, хотя и мало
правдоподобному», 5) Паскаля из числа современников; но его способ доказательства (в «Мыслях о религии») не достоин философа.
Этот великий человек воображал,
что верит, а на самом деле
только желал верить, но если бы он дольше жил, он продолжал бы
искать законных мотивов веры. Верить потому, что ничем не рискуешь веруя,—значит поступать, как ребенок, так как мы не
знаем ничего о том, что касается предмета веры.
Наконец, стоики, кельты, древние бретонцы,— все желали,
чтобы душа не угасала вместе с телом. «Весь мир,—говорит остроумно Помпонаций («О бессмертии души»),—желает бессмертия, как
ублюдок желает потомства, которого у него никогда не будет».
Людей, без колебаний думающих, что душа смертна, гораздо
больше. Бион рассыпается во всевозможных шутках, говоря о другом мире. Цезарь смеется над ним даже в сенате вместо того,
чтобы стремиться укротить народную гидру и приучить ее к необходимой узде предрассудков. Лукреций («О природе вещей»,
кн. 3), Плутарх и другие не знают иного ада, кроме угрызений
совести. «Я знаю,—говорит автор «Электры»,—что угрызения со-
вести человека, от природы добродетельного, часто более сурово^
наказывают нас за преступления, чем боги».
Виргилий («Георгики») смеется над воображаемым шумом
Ахерона; он говорит («Энеида», песнь 111), что боги не вмешиваются в дела людей: вероятно, это тяготит богов, и эта забота
несносна безмятежным.
То же самое говорит и Лукреций:
Что до природы богов, то она в существе непременно
Радости жизни бессмертной в покое наивысшем вкушает,.
Чуждая нашим делам и от нас удаленная очень.
Так как свободна она от опасностей всех и печали,
Собственной силой мощна и от нас не зависит нисколько-,
То ни добром не пленяется вовсе, ни гнева не знает.
Словом, все поэты древности — Гомер, Гезиод, Пиндар, Каллимах, Овидий, Ювенал, Гораций, Тибулл, Катулл, Манилий, Лукан,
Петроний, Персий и другие — попирали ногами страх перед загробной жизнью. Даже Моисей не говорит о ней, и евреи не знали
ее; они ожидают мессию, чтобы разрешить этот вопрос.
Гиппократ, Плиний и Гален — словом, все греческие, латинские и арабские врачи не допускали различения двух субстанций,
и большинство из них знало только природу.
Диоген, Левкипп, Демокрит, Эпикур, Лактанций, стоики, как
ни различны были их мнения по вопросу о движении атомов, все
сходились в пункте, о котором идет речь; вообще все древние
охотно согласились бы с двумя нижеследующими стихами французского поэта:
Умру я, —• и душа моя через мгновенье
Тем станет, чем была до моего рожденья.
Дикеарх и Асклепиад считали душу гармонией всех частей
тела. Платон, правда, утверждает, что душа бестелесна, но это
составляет как бы часть химеры, признаваемой им под именем
«мировой души»; и согласно тому же философу все души людей
и животных имеют одинаковую природу; сложность их функций
проистекает лишь из различных тел, в которых они живут.
Аристотель тоже говорит, что «правы те, кто утверждает, чтонет души без тела и что душа не есть тело, ибо,—прибавляет он,—
душа не тело, но она — что-то от тела. Он просто понимает ее
как форму или акциденцию, считая ее существом, отдельным от
материи.
Из этого видно, что нужно только хорошенько покопаться
в тех из древних, которые на первый взгляд думали, что душа нематериальна,—для того чтобы убедиться, что они не отличаются
от других. Мы впрочем видели, что по их мнению духовность точно так же является атрибутом субстанции, как и сама материальность; в этом они все сходятся.
Теория духовности материи была также распространена в пер-
вые четыре века христианской эры. До Латеранского собора думали, что душа ребенка является средней производной душ отца
и матери.
Послушаем Тертуллиана: «Мы признаем телесную душу,,
отличающуюся собственною субстанцией и плотностью, благодаря
чему она может чувствовать и страдать...»
Ориген, св. Ириней, св. великомученик Юстин, Феофил Антиохийский, Арнобий и т. д. вместе с Тертуллианом думали, что душа
обладает формальной протяженностью, как еще совсем недавно
писал Сент-Иасент.
Схоластики христианства думали о природе души так же, как
и древние философы. Вместе со св. Фомой они говорят: «Душа
есть начало, благодаря которому мы живем, двигаемся и понимаем». «Хотение и понимание, — говорит Гудон, — такие же материальные движения, как жизнь и прозябание». Он добавляет
к этому удивительный факт, заключающийся в том, что на соборе,,
происходившем в Вене при Клименте V, «авторитет церкви предписал верить, что душа есть субстанциональная форма тела, что
нет врожденных идей (как думал также св. Фома), и об'явил еретиками всех, не допускавших материальности души...»
Сказанного о бессмертии души более чем достаточно. В настоящее время это — важнейшая религиозная догма; раньше,
когда христианство было лишь сектой, это был чисто философский вопрос. Какого бы взгляда ни держались по этому вопросу,
за него не подвергались преследованию. Можно было признавать,
душу смертной, хотя и духовной, или бессмертной, хотя и материальной. В настоящее время запрещено думать, что она не духовна, хотя на эту духовность нигде нет указаний откровения.
А если бы они и были, то надо было бы еще уверовать в откровение, что является не легким делом для
философа.
(«Краткое изложение философских
систем»),
2.
Священники декламируют и подогревают умы великолепными,
обещаниями, способными вызвать велеречивые обеты. Они утверждают предметы своих обещаний, не дав себе труда подумать;
они хотят, наконец, чтобы верили бог знает каким апокрифическим авторитетам, и готовы в любую минуту обрушиться своими
молниями и стереть в порошок всякого человека, достаточно разумного, чтобы не верить слепо тому, что особенно возмущает
разум. Философы поступают более мудро. Ничего не обещая, они
не могут так дешево отделываться; им приходится расплачиваться
серьезными думами и чувствами за то, что другим стоит только
их легкого и столь же пустого и бессодержательного, как их обещания, красноречия.
( «Человек—машина» ).
3.
Атеизм—необходимое условие счастья человечества.
Если бы атеизм получил всеобщее распространение, тогда все
виды религии были бы уничтожены и подрезаны в корне. Прекратились бы религиозные войны и перестало бы существовать ужасное религиозное воинство; природа, зараженная ныне религиозным ядом, вновь вернула бы себе свои права и свою чистоту;
глухие ко всяким другим голосам, умиротворенные смертные следовали бы только свободным велениям собственной личности, —
велениям, которыми нельзя безнаказанно пренебрегать и которые
одни только могут нас вести к счастью по приятной стезе добродетели.
Таков естественный закон. Тот, кто его соблюдает, является
честным человеком, заслуживающим доверия всего рода человеческого. Тот же, кто не следует ему добросовестно, как бы ревностно он ни исполнял предписания любой религии, есть негодяй
или лицемер, которому я не верю.
После этого пусть чернь думает иначе. Пусть решается утверждать, что не верить в откровение — значит быть нечестивым.
Какое убожество, какое ничтожество мысли! И что за представление внушает нам каждый об исповедуемой им религии! Но мы не
гонимся за одобрением черни. Тот, кто воздвигает в своем сердце
алтари суеверию, рожден для поклонения идолам, а не для понимания добродетели.
(«Человек—машина»),
4.
Тот, кто живет, как гражданин, может писать, как философ.
Но писать, как философ,— это ведь значит проповедывать
материализм.
Ну, так что ж? Что за беда! Если этот материализм обоснован,
если он—очевидный результат всех наблюдений и опытов величайших философов и врачей; если к этой системе приходят, лишь
внимательно следуя за природой и старательно проделывая вместе с ней одни и те же шаги на всем протяжении животного царства и, так сказать, исследуя человека при помощи зонда во всех
его возрастах и состояниях; если верующий скорее бежит от философа, чем избегает его, если он не стремится и не спешит выковать свое учение, если он до некоторой степени наталкивается на
своем пути на это учение в результате своих исследований, то
разве будет преступлением обнародование этого последнего? Разве в самом деле истина не заслуживает того, чтобы наклониться и
поднять ее?
""
(«Предварительное
рассуждение»).
КЛОД АДРИАН ГЕЛЬВЕЦИЙ.
1.
Нет почти ни одного святого, который хотя бы раз не выкупался в человеческой крови.
I
2.
Ловкое тщеславие прячется под окутывающими алтари облаками святости.. Свирепый дервиш под лохмотьями и власяницей
прячет тайну своих горделивых замыслов. Он делает вид. будто
занят путем к спасению, а на самом деле ищет власти, и цель его—
удовольствие.
3.
Интерес духовенства связан не с интересами нации, а с интересом секты.
4.
Всякая наука предполагает ряд наблюдений. Какие же наблюдения можно делать над невидимым и непостижимым существом?
Богословие следовательно — не наука.
5.
Образованные китайцы говорят: несомненно, что в природе
существует могущественное и неведомое начало всего сущего, но
обожествлять это начало — значит обожествлять человеческое невежество.
(«О человеке»).
6.
Религия в качестве основы морали несостоятельна.
Множество примеров доказывает, что надежда на удовольствия и страх наказаний в здешней жизни столь же действительны,
столь же способны образовать добродетельных людей, как те
вечные наказания и награды, которые, будучи рассматриваемы
в перспективе будущего, обычно производят впечатление слишком
слабое для того, чтобы ради них люди стали отказываться от удовольствий преступных, но настоятельных... Кто станет отрицать,
что полицейские меры обезоружили гораздо большее число разбойников, чем религия? А разве итальянец, более набожный, чем
француз, не чаще применял яд и стилет, перебирая при этом четки? И разве в те времена, когда религиозность росла, а полиция
была менее совершенной, не совершалось преступлений бесконечно больше, чем в те века, когда религиозность слабеет, а полиция совершенствуется? Религия сдерживает лишь очень немногих.
Сколько преступлений совершено именно теми людьми, которые
должны были служить нашими наставниками на пути к спасению!
Варфаломеевская ночь, убийство Генриха ИІ и т. д. и т. д. служат
доказательством этому.
Все факты медицины и естествознания с очевидностью доказывают, что способность ощущения является лишь результатом
строения тел животных, что она возникает вместе с образованием
их органов, сохраняется, пока они существуют, и, наконец, исчезает вместе с их распадением. Если метафизики спросят меня, что
же тогда делается с этой способностью ощущения в животных,
я им отвечу: то же, что делается в разложившемся железе со
способностью притягиваться магнитом.
8.
Если материя огня не может существовать без движения, то
следовательно движение присуще материи, и следовательно нет
никакой нужды в боге, который ее наделил бы этим движением.
9.
Вот различные секты христиан с ожесточением борются друг
против друга и раздирают империю Константина; в Аравии возникает новая религия, она приказывает сарацинам обойти землю
с мечом и огнем в руках. За нашествием этих варваров следует
война против неверных, под знаменем креста: целые государства
покидают Европу и наводняют Азию, производя по дороге ужасные грабежи и погибая в песках Аравии и Египта. Тот же фанатизм вкладывает оружие в руки христианских государей и заставляет католиков избивать еретиков; на земле снова появляются
пытки, изобретенные Бузирисами, Фаларидами и Неронами; фанатизм воздвигает и зажигает в Испании костры инквизиции, в то
время как благочестивые испанцы покидают свои порты и переплывают моря, чтобы водрузить крест и внести опустошение в
Америке. Обратим ли наши взоры на север, юг, восток и запад
земного шара, — всюду мы увидим священный нож религии занесенным над грудью женщин, детей и старцев, и всюду земля, дымящаяся от крови жертв, принесенных ложным богам или высшему существу, представляет обширное, отвратительное и ужасное
зрелище жертв нетерпимости.
(«О духе»).
ДЕНИ ДИДРО.
1.
Предсмертная
беседа слепого математика Саундерсона
священником о бытии божием.
со
Когда Саундерсон умирал, к нему пригласили очень умного
священнослужителя, г. Жервеза Холмса. У них завязалась беседа
о бытии божием; от нее сохранилось несколько отрывков, которые
я вам переведу, как сумею, ибо они стоят того. Священник начал
с того, что указал ему на чудеса природы.
— Ах, сударь, — возразил ему слепой философ, — оставьте
это прекрасное зрелище, которое не было создано для меня. Я осужден был на то, чтобы провести свою жизнь во мраке, а вы ссы' лаетесь на чудеса, которых я не понимаю и которые имеют доказательную силу только для вас и для тех, кто, подобно вам, видит.
Если вы хотите, чтобы я верил в бога, то вы должны дать мне
возможность осязать его.
—• Сударь, — возразил ловко священник, — положите свои
руки на самого себя и вы найдете божество в изумительном строении своих органов.
— Господин Холмс, — ответил Саундерсон, — повторяю вам:
все это не так прекрасно для меня, как для вас. Но допустим, что
животный механизм столь совершенен, как вы это утверждаете,—
я готов поверить вам, ибо вы честный человек и совершенно неспособны обманывать меня, — какое отношение это имеет.к верховному разумному существу? Если этот механизм поражает вас,
то, может быть, потому, что вы привыкли считать чудом все, что
кажется вам превышающим ваши сиды. Я так часто был для вас
предметом удивления, что я составил себе плохое мнение насчет
того, что вас изумляет. Чтобы поглазеть на меня, из глубины
Англии приезжали люди, которые не могли понять, как я занимаюсь геометрией; согласитесь, что у этих людей не было вполне
точных представлений о том, что возможно и что невозможно.
Если какое-либо явление превышает, по нашему мнению, силы человека, то мы тотчас же говорим: это — дело божие; наше тщеславие не может удовольствоваться меньшим. Не лучше ли было бы,
если бы мы вкладывали в свои рассуждения несколько меньше
•гордости и несколько больше философии? Если природа представляет нам какую-нибудь загадку, какой-нибудь трудно распутываемый узел, то оставим его таким, каков он есть, и не будем
стараться разрубить его рукой существа, которое становится затем
для нас новым узлом, еще труднее распутываемым, чем первый.
Спросите у индийца, как эта земля висит в воздухе, и он вам ответит, что она покоится на спине слона. А на чем находится слон?
На черепахе. А кто поддерживает черепаху? Этот индиец внушает
вам сострадание. Но вам можно было бы сказать, как и ему: «Господин Холмс, друг мой, признайте сперва свое невежество и избавьте меня от слона и черепахи».
Саундерсон остановился на минуту: он ожидал, очевидно,
ответа со стороны священнослужителя; но с какой стороны лучше
всего произвести нападение на слепого? Г-н Холмс воспользовался хорошим мнением Саундерсона насчет его честности и сослался на взгляды Ньютона, Лейбница, Кларка и некоторых других
своих соотечественников, первых гениев в мире, которые все, будучи поражены чудесами природы, признали творцом ее некое
разумное существо. Несомненно, это было самое сильное возражение, которое сей. священнослужитель мог выдвинуть против
Саундерсона. И действительно наш добрый слепой согласился, что
было бы смелым отрицать то, что решался допускать такой человек, как Ньютон; он обратил однако внимание священника на то,
что свидетельство Ньютона не могло быть так убедительно для
него, как было убедительно для Ньютона свидетельство всей природы, и что Ньютон полагался на слово божие, между тем как
он был вынужден полагаться на слово Ньютона.
— Заметьте, господин Холмс, — добавил -он, — какое доверие
я должен питать к вашим словам и словам Ньютона. Я ничего
не вижу, однако я допускаю во всем изумительный порядок. Но
не требуйте от меня большего. Я готов уступить вам по вопросу
о теперешнем состоянии вселенной, но за это я требую от вас
свободы думать, что мне угодно, по вопросу об ее изначальном
состоянии, насчет которого вы такой же слепец, как и я. Здесь вы
не можете мне противопоставить никаких свидетелей, и ваши глаза вам здесь нисколько не помогают. Поэтому воображайте себе,
если вам это нравится, что столь поражающий вас порядок во вселенной существовал всегда, но разрешите мне думать, что так
было не всегда, и что если бы мы стали восходить к истоку вещей
и времени, если бы мы стали рассматривать, как начала двигаться
материя и проясняться хаос, то мы встретили бы лишь несколько
хорошо организованных существ среди массы уродливых. Если я
не могу ничего возразить вам по поводу теперешнего состояния
вещей, то я могу по крайней мере задать вам вопрос об их прошлом состоянии. Я могу, например, спросить у вас, спросить у Лейбница, Кларка, Ньютона, откуда они знают, что животные при первоначальном своем образовании не были одни без головы, а
другие без ног. Я могу утверждать, что некоторые из них не имели
желудка, а другие не имели кишок, что животные, которым наличность желудка, неба и зубов обещала как будто длительное существование, вымерли из-за какого-нибудь недостатка в сердце или
легких, что постепенно вывелись чудовища, что исчезли все неудачные комбинации и что сохранились лишь те из них, строение
которых не заключало в себе серьезного противоречия и которые
могли существовать и продолжать свой род.
Если мы это допустим, если мы предположим, далее, что у
первого человека была закрыта гортань, что он был лишен подходящей пищи, имел какой-либо недостаток в детородных органах, не нашел себе подруги среди подобных себе или же смешался
с каким-нибудь другим видом животных, то что, господин Холмс,
стало бы с человеческим родом? Он попал бы в процесс всеобщего
очищения вселенной, и то гордое существо, которое называется
человеком, рассеявшись, растворившись среди молекул материи,
осталось бы, может быть, навсегда лишь в числе возможностей
бытия. Если бы никогда не существовало уродливых существ, то
вы могли бы утверждать, что их никогда и не будет и что я занимаюсь фантастинескими гипотезами, но, — продолжал Саундер-
сон, — порядок в мире не настолько еще совершенен, и время от
времени в нем появляются уродливые произведения.
Затем, повернувшись лицом к священнику, он прибавил:
—• Посмотрите на меня хорошенько, господин Холмс, у меня
нет глаз. Что сделали богу я и вы для того, чтобы вы имели этот
орган, а я был лишен его?
Когда Саундерсон произносил эти слова, у него было такое
искреннее и убежденное выражение лица, что священник и все прочие присутствовавшие не могли не разделить его скорби и стали
горько оплакивать его участь. Слепой заметил это. «Господин
Холмс, —1 сказал он священнослужителю, — ваше добросердечие
мне отлично известно, и я очень чувствителен к тому доказательству его, которое вы мне даете в эти последние минуты жизни,
но, если я вам дорог, не лишайте меня при смерти утешительного
сознания, что я никогда никого не огорчил».
Затем, заговорив более твердым голосом, он прибавил:
— Итак, я предполагаю, что в истоке времен, когда находившаяся в брожении материя дала начало вселенной, было не мало
таких существ, как я. Но разве я не в праве утверждать о целыхмирах того же, что я говорю об отдельных животных. Сколько
исчезло изувеченных, неудачных миров, сколько их преобразовывается и, может быть, исчезает в каждый момент в отдаленных
пространствах, которых я не достигаю своим осязанием, а вы
своим зрением, но в которых движение продолжает и будет продолжать комбинировать массы материи, пока из них не получится
какая-нибудь жизнеспособная комбинация. О, философы, перенеситесь же вместе со мной за грань нашей вселенной, за пределы
того, где я осязаю, а вы видите организованные существа; охватите взором этот новый океан и постарайтесь отыскать в неправильных волнениях его какие-нибудь следы того разумного существа, чьей мудрости вы удивляетесь здесь.
Но нужно ли вообще покидать свою родную стихию. Что
такое наш мир, господин Холмс? Это — составное, сложное тело,
подверженное бурным переменам, говорящим о постоянной тенденции к разрушению, это — быстрая смена существ, следующих
друг за другом, сталкивающихся между собой и исчезающих,
это—мимолетная симметрия, быстротечный порядок. Я только
что упрекал вас в том, что вы судите о совершенстве вещей на
основании своих собственных способностей. Но я мог бы точно
так же обвинять вас в том, что вы измеряете их длительность
своей собственной долговечностью. Вы судите о существовании
мира во времени так, как муха-однодневка судит о продолжительности вашего собственного существования. Мир вечен для вас так,
как вы вечны для существа, живущего только одно мгновение, и,
может быть, насекомое еще разумнее, чем вы. О каком колоссальном ряде поколений-однодневок свидетельствует ваша вечность,
о каком длительном процессе! Однако мы все прейдем, и никто
не сможет указать ни реального пространства, которое мы занимали, ни точного промежутка времени, в течение которого мы
существовали. Время, материя и пространство представляют, может быть, только одну точку.
C«Письма о слепых в назидание
зрячим»).
2.
О богоучении.
Установив, что в природе нет ничего кроме пустоты и мате.рии, что скажем мы о богах? Оставим ли философию и вернемся
к верованиям народа или же признаем, что боги — тоже телесные
существа? Если они боги—они блаженны. Они наслаждаются собой в полной мере; ничто из того, что происходит здесь,- на земле, не затрагивает и не тревожит их. Все явления мира телесного
и нравственного достаточно показали нам, что боги не принимали
никакого участия в появлении на свет земных существ и нисколько не причастны к их сохранению.
Но сама природа вложила понятие о богах в нашу душу. Есть
ли на свете такой варварский народ, у которого бы не было бы
хоть каких-нибудь представлений о богах?
Пойдем ли против всеобщего убеждения? Возвысим ли голос
.против голоса природы? Природа никогда не лжет. Существование богов доказывалось бы самими же нашими предрассудками.
Разве недостаточно доказывает нам всеобщность веры в богов множество явлений, приписываемых им только потому, что
причины этих явлений, а с другой стороны, природа самих богов
недостаточно известны?
Человек видит во сне какой-нибудь образ, по пробуждении
он сохраняет воспоминание о нем и делает вывод, что где-нибудь
в природе существует блуждающий прообраз его видения; если
во сне он слышал голоса, он не сомневается, что существа эти
разумной природы; наконец, постоянство самого «явления» в различное время, но в одном и том же виде убеждает его, что это
существо бессмертно.
Но бессмертное существо неизменно. А неизменное существо
должно быть безусловно блаженным, потому что ничто не действует на него, и оно не действует ни на что.
Таким образом существование богов всегда было и будет бесплодным. Это следует уже из того, что они неизменны, потому
что начало действенности, которое является источником всяких
времен, • разрушений и возрождений в мире, уничтожено в этих
существах.
Что такое, в самом деле, божества? Что такое чудеса религии?
Если богам подобает какой-либо культ, то это — культ восхищения, в котором нельзя отказать всему, что нам представляется
совершенным и блаженным.
Мы склонны представлять себе богов в человеческом образе,
н все народы всегда приписывают им этот облик — единственный,
в котором может действовать разум и осуществляться добродетель.
Если бы боги были бестелесны, они не обладали бы ни чувствами, ни понятиями, не испытывали бы ни наслаждения, ни
тяготы.
Но во всяком случае тела богов не таковы, как наши. Они
тоже представляют собой сочетание атомов, но более тонких. У
них тот же уклад, но их органы бесконечно совершеннее наших:
они особой природы, настолько тонкой, что никакая причина не
может воздействовать на них, изменить их, придать им что-либо
новое или разрушить их. И сами они не могут произвести никакого действия.
Нам неизвестны места, где обитают боги. Здешний мир, несомненно, не достоин их. Они могли бы избрать своим местопребыванием пустые промежутки между цельными мирами.
(Из статьи в Энциклопедии «Эпикуреизм»).
3.
Молитза.
«Я начал с природы, которую назвали твоим произведением,
и кончу тобой, имя которого на земле — бог.
О, боже! Я не знаю, существуешь ли ты, но я постараюсь
мыслить так, как если бы ты читал в моей душе; я постараюсь
действовать так, как если бы я стоял перед тобой.
Если я грешил иногда против своего разума или твоего закона, то я буду менее удовлетворен своей прошлой жизнью; но
тем не менее я буду спокоен насчет своей будущей участи, ибо ты
забыл мою вину, лишь только я признал ее.
Я ничего не прошу у тебя в этом мире, ибо ход вещей необходим сам по себе, если ты не существуешь, или в силу твоего
повеления, если ты существуешь.
Я надеюсь быть награжденным тобой на том свете, если он существует, хотя все, что я делаю в этом мире, я делаю ради себя
самого.
Если я иду путем добра, то я это делаю без всяких усилий;
если я покидаю путь зла, то не потому, что думаю о тебе.
Я не мог бы воспрепятствовать себе любить истину и добродетель и ненавидеть ложь и порок, если бы даже знал, что ты
существуешь и что тебе это не нравится.
Таков я — необходимо организованная
часть вечной и необходимой материи или, может быть, твое создание.
Но если я творю добро и благо, то какое дело моим ближним
до того, происходит ли это от счастливой организации, от свободных актов моей воли или от ниспосланной тобой благодати?»
Хрестоматия по истории атеизма
9
И всякий раз, молодой человек, когда ты будешь повторять
этот символ веры нашей философии, ты будешь читать и следующее: Только добродетельный человек может быть атеистом.
*•
*
*
Дурной человек, отрицающий бытие божие, — судья в своем
собственном деле; это — человек, который боится и который знает,
что он должен бояться в будущем мстителя за совершенные им
дурные поступки.
Наоборот, добродетельный человек, которому лестно было бы
думать, что в будущем он будет вознагражден за свою добродетель, выступает против своих собственных интересов.
Один поступает на пользу самому себе, другой — против самого себя. Первый никогда не может быть уверен в истинных
мотивах, определяющих его философскую позицию. Второй не
может сомневаться, что очевидные факты заставляют его принять
взгляды, резко противоречающие его сладчайшим и самым дорогим надеждам.
Так как либо бог позволил, либо универсальный механизм,
называемый роком, захотел, чтобы мы в течение своей жизни
испытывали всякого рода события, то, если ты благоразумный
человек и более нежный отец, чем я, ты постараешься с ранних
лет убедить своего сына, что он хозяин своей жизни, для того
чтобы он не стал жаловаться на тебя, давшего ему жизнь.
4.
Предположение о каком-нибудь существе, стоящем вне материальной вселенной, невозможно. Никогда не следует делать
подобных предположений, потому что «з них никогда нельзя
сделать никакого вывода.
(Из «Философских принципов материи и движения»).
5.
Разговор о боге между Таитянином Ору и католическим: священником.
Ору. Не можешь ли ты об'яснить мне, что означает слово «религия», которое ты повторял так часто и с такой болью?
Священник, задумавшись на минутку, ответил: Кто сделал
твою хижину и всю находящуюся в ней утварь?
Ору. Я.
Священник. Ну, вот, мы думаем, что мир и все заключающееся
в нем — дело рук одного работника.
Ору. Он, значит, имеет руки, ноги, голову?
Священник. Нет.
Ору. Где его жилище?
Священник. Повсюду.
Ору. Даже здесь?
Священник. Даже здесь.
Ору. Мы никогда не видели его!
Священник. Его нельзя видеть.
Ору. Вот довольно равнодушный отец! Он должен быть старым, ибо он, по меньшей мере, того же возраста, что его творение.
Священник. Он не стареет. Он говорил с нашими предками,
он предписал им законы и угодный ему способ его почитания; он
приказал им совершать известные поступки, как хорошие, запретил им делать другие, как дурные.
Ору. Понимаю. И одним из запрещенных им в качестве дурных поступков являются сношения с женщиной и девушкой. Почему же он создал два пола?
Священник. Чтобы они соединялись между собой, но при
определенных условиях, после совершения определенных предварительных церемоний, в результате которых известный мужчина
начинает принадлежать известной женщине, и только ей, и известная женщина начинает принадлежать известному мужчине, и только ему.
Ору. На всю свою жизнь?
Священник. На всю свою жизнь.
Ору. Так что, если бы случайно какая-нибудь женщина спала
не со своим мужем, а какой-нибудь мужчина спал не со своей
женой... Но ведь это не может случиться, ибо, так как он вездесущ
и это ему не угодно," то он в состоянии воспрепятствовать этому!
Священник. Нет, он дает им поступать по их желанию, и они
грешат против установленного богом закона (ибо так мы называем великого работника), против закона страны, и совершают преступление.
Ору. Мне было бы неприятно оскорбить тебя своими речами;
но, если ты позволишь, я выскажу свое мнение.
Священник. Говори.
Ору. Я нахожу, что эти странные предписания противоречат
природе и разуму. Они созданы только для того, чтобы увеличить
число преступлений и постоянно сердить старого работника, который сделал все без рук, без головы и без орудий; который
находится повсюду и которого нельзя нигде видеть; который
существует сегодня и завтра и который не становится старше ни
на один день; который отдает приказания и которому не повинуются; который может помешать совершению известных поступков, и однако не мешает этому. Они противоречат природе, ибо
они допускают, что мыслящее, чувствующее и свободное существо
может быть собственностью другого, подобного ему существа. На
чем может основываться подобное право? Разве ты не понимаешь,
что в твоей стране ту вещь, которая не обладает ни чувствительностью, ни мыслью, ни желанием, ни волей, которую покидают,
9*
берут, хранят, обменивают- без страдания
без жалоб с ее стороны, смешали с вещью, которую нельзя обменять, нельзя приобрести; которая обладает свободой, волей, желанием; которая
может отдаваться или не соглашаться отдаваться на время, навсегда; которая способна жаловаться и страдать и которая не
может стать предметом торговли без насилия над природой и над
ее свойствами. Они противоречат общему закону всех существ.
Есть ли, в самом деле, что-либо более безрассудное, чем предписание, игнорирующее присущую нам изменчивость, требующее от
нас невозможного для нас постоянства и нарушающее свободу
мужчины и женщины, приковывая их навеки друг к другу! Есть
ли что-нибудь более нелепое, чем верность, стремящаяся ограничить самое прихотливое из наслаждений одним и тем же индивидом, чем клятва двух телесных существ в неизменности перед
лицом неба, которое ни на одно мгновение не остается одним и
тем же, под сводами пещер, угрожающих разрушением, у подножия скалы, рассыпающейся в прах, или дерева, потрескавшегося
от старости, на камне, приведенном в сотрясение? Поверь мне, вы
сделали положение человека худшим, чем положение животного.
Я не знаю, кто такой твой великий работник, но я радуюсь тому,
что он не говорил с нашими отцами, и я желаю, чтобы он никогда
не говорил с нашими детьми, ибо он мог бы вдруг сообщить им
те же самые глупости, а оци, в свою очередь, могли бы по глупости поверить ему. Вчера за ужином ты нам рассказывал о судьях
и священниках. Я не знаю, что, собственно, представляют собой
эти судьи и священники, авторитет которых направляет ваше поведение, Но, скажи мне, являются ли они господами над добром
и злом? Могут ли они сделать так, чтобы то, что справедливо,
стало несправедливым, а то, что несправедливо, стало справедливым? В состоянии ли они связать добро с вредными поступками,
а зло — с невинными или полезными поступками? Ты не можешь
думать этого, ибо в этом случае не было бы ни истины, ни лжи,
ни добра, ни зла, ни красоты, ни безобразия, за исключением того,
что угодно было бы называть так твоему великому работнику,
твоим судьям и твоим священникам; а тогда ты должен был бы
каждую минуту менять свои взгляды и свое поведение! Сегодня
какой-нибудь из трех твоих господ сказал бы тебе: «убей», — и ты
обязан был бы по совести убить; завтра: «укради», — и ты вынужден был бы украсть, или же: «не ешь этого плода», — и ты
не осмеливался бы есть его; «я запрещаю тебе употреблять эти
овощи или это животное», — и ты опасался бы прикоснуться к
ним. Нет такого доброго дела, которое тебе нельзя было бы запретить, и такого дурного дела, которое нельзя было бы тебе приказать. А что бы ты сделал, если бы твои три господина, между
которыми нет особого согласия, вздумали вдруг разрешить, приказать и запретить тебе одно и то же, как это, на мой взгляд,
должно часто случаться. В этом случае, чтобы угодить священнику,
ты должен будешь поссориться с судьей; чтобы удовлетворить
судью, ты должен будешь вызвать неудовольствие великого работника, а чтобы снискать милость в глазах великого работника, ты
должен будешь отречься от природы. И знаешь, к чему все это
приведет? К тому, что ты станешь презирать их всех троих и что
ты не будешь ни человеком, ни гражданином, ни правоверным; что
ты будешь ничем; что ты будешь в ссоре со всякого рода авторитетами; в ссоре с самим собой; что ты станешь злым и станешь сам
терзать себя; что тебя будут преследовать твои безрассудные
господа и ты будешь несчастным, таким, каким я видел тебя вчера
вечером, когда я предлагал тебе своих дочерей и свою жену и
когда ты восклицал: «Но моя религия! Но мое положение!» Хочешь ты знать везде и всегда, что хорошо и что дурно. Для этого
обрати внимание на природу вещей и поступков, на свои отношения к ближним, на влияние, оказываемое твоим поведением, на
твою частную выгоду и на общее благо. Ты предаешься
бредням,
если воображаешь,
что существует что-нибудь во вселенной — на
небе или на земле, что можно прибавить и отнять от законов природы. Неизменная воля природы гласит, что следует предпочитать
добро злу и общее благу—- частному благу. Ты можешь предписывать обратное поведение, но тебя не послушаются, Страхом, наказаниями и угрызениями совести ты только умножишь число преступников и несчастных; ты растлишь совесть людей; ты развратишь их умы; они не будут знать, что им делать и чего не делать.
Испытывая тревогу в состоянии невинности, оставаясь спокойными
при совершении злодеяния, они потеряют путеводную звезду своей
жизни. Отвечай мне искренно: неужели в твоей стране молодой
человек никогда не нарушает предписаний твоих трех законодателей и не спит без их разрешения с молодой девушкой?
Священник. Я солгал бы, если бы стал утверждать это.
Ору. А женщина, которая поклялась принадлежать только
своему мужу, никогда не отдается другому мужчине?
Священник. Нет ничего чаще этого.
Ору. Либо твои законодатели принимают крутые меры против нарушителей их воли, либо они их не принимают; если они
принимают меры, то это — жестокие животные, оскорбляющие
природу; если они их не принимают, то это — глупцы, выставляющие на всеобщее посмешище свой авторитет бесполезными запретами.
6.
Как уничожить религию.
Я знаю только одно единственное средство уничтожить религию, именно —• сделать служителей ее презренными в глазах общества благодаря их порокам и убожеству. Сколько бы философы
ни доказывали
нелепость христианства, эта религия
погибнет
лишь тогда, когда у врат Собора богоматери пли св. Сульпиция
нищие в разодранных рясах станут предлагать со скидкой обедни,
отпущение грехов и причащение и когда можно будет получать
через этих мошенников девок. Лишь тогда всякий более или менее здравомыслящий отец будет грозить свернуть шею своему
сыну, если он захочет быть священником. Христианство может
исчезнуть лишь так, как исчезло язычество, а язычество
исчезло
лишь тогда, когда жрецы Сераписа стали просить у входа в свои
пышные храмы милостыню у прохожих, когда они стали заниматься любовными интригами и когда святилища были заняты старухами, имевшими возле себя вещего гуся и гадавшими за одно
су молодым людям и молодым девушкам. К чему же следует стремиться? К ускорению пришествия того момента, когда священнослужители церкви святого Рока станут говорить нашим внукам:
«Кто желает обедни? Кто желает обедни за одно су, за два су, за
лиар?» —"и когда над их исповедальнями можно будет прочесть,
как над дверью парикмахеров, надпись: «Здесь отпускаются за
недорогую цену всякого рода грехи».
(«Избранные сочинения». Гиз).
ПОЛЬ АНРИ ДИТРИХ ГОЛЬБАХ.
1
Бог — фиктивное существо, пагубная химера.
Учение об атрибутах, приписываемых теологией богу, неизбежно приводит к бездне противоречий и странных гипотез. Существо, обладающее столькими несовместимыми качествами, не поддается конечно определению; употребляемые для обозначения его
понятия неизбежно противоречат и уничтожают друг друга; это—
чисто фиктивное существо. Этот бог, говорят нам, создал небо,
землю и все живущие на них существа ради собственной своей
славы. Но разве государь, превосходящий все другие существа,
не имеющий ни соперников, ни равных себе в природе, не сравнимый ни с одним из своих творений, — разве он может быть обуреваем жаждой славы? Может ли он бояться упасть в глазах себе
подобных? Нуждается ли он в уважении, поклонении, восхищении
людей?
Если этот бог так ревниво оберегает свои прерогативы, свое
достоинство, свой сан, свою славу, то почему же он терпит обиды
от людей? Почему он допускает, чтобы такое множество других
людей имело о нем столь неблагоприятное мнение? Почему существуют некоторые смельчаки, отказывающие ему в столь лестном
для его гордости почитании? Как может он позволить, чтобы
смертный, подобный мне, осмеливался нападать на его права, на
его достоинство, на самое его существование? Он позволяет это,
скажете вы, чтобы наказать тебя за злоупотребление его мило^
стями. Но почему милости его не могут заставить меня действовать согласно его желаниям? Потому, что он сделал тебя свободным. Но почему же он дал мне свободу, будучи в состоянии
предвидеть, что я смогу злоупотреблять ею? Совместимо ли с его
благостью дарование мне способности, благодаря которой я могу
не обращать внимания на его всемогущество и совращать с пути
истины его поклонников, обрекая самого себя на вечные муки?
Не лучше ли было бы для меня вовсе не родиться или же, на худой
конец, быть созданным в виде животного или камня, чем оказаться, вопреки самому себе, разумным существом, обладающим пагубным даром бесповоротно погубить себя оскорблением или непризнанием владыки своей судьбы? Не обнаружил ли бы бог свою
всемогущую благость по отношению ко мне лучше и не сделал
ли бы он больше для своей славы, если бы он заставил меня почитать его и заслужить таким образом неизреченное блаженство?
Столь несостоятельное учение о свободе воли, опровергнутое
нами выше, было, очевидно, придумано с целью снять с творца
природы обвинение в том, что он виновник, источник, первопричина преступлений своих творений. В итоге этого пагубного дара,
полученного от благого божества, люди, согласно мрачному учению теологии, оказываются в своем большинстве обреченными на
вечные муки за свои прегрешения на земле. Утонченные и бесконечные мучения предназначаются, согласно правосудию милосердного бога, для слабых существ за их мимолетные проступки, за
ошибочные рассуждения, за невольные заблуждения, за роковые
страсти, зависящие от темперамента, которым наградил их этот
самый бог, от обстоятельств, в которые он поместил их, или, если
угодно, от злоупотребления пресловутой свободой, которую предусмотрительное божество никогда не должно было бы дать существам, способным злоупотреблять ею. Назвали ли бы мы добрым, разумным, справедливым, милосердным, любящим отца,
который вооружил бы руку резвого и неосторожного ребенка
опасным, острым ножом и который потом наказывал бы его всю
жизнь за то, что он поранил себя?..
О, теологи! Согласитесь же сами, что ваш бог — это просто
груда качеств, составляющих столь же непонятное для вас, как и
для меня, целое: перегружая его несовместимыми друг с другом
атрибутами, вы сделали из него поистине что-то химерическое, и
никакие ваши гипотезы и ухищрения не могут придать жизни
этому призраку.
Однако на выдвигаемые нами возражения отвечают, будто
благость, мудрость, справедливость носят у божества такой превосходный, возвышенный характер и так мало сходны с соответствующими нашими качествами, что они не имеют ничего общего
с ними. Но, отвечу я, как могу я себе составить представление об
этих божественных совершенствах, если они нисколько не похожи
на качества, которые я нахожу у себя самого или у своих ближних? Если божественное правосудие отлично от человеческого и
проявляется в том, что люди называют неправосудием; если его
благость, милосердие, мудрость не обнаруживаются признаками,
по которым мы можем их распознать; если все божественные качества противоречат принятым взглядам; если в теологии все человеческие понятия затемнены или извращены, то как могут подобные мне смертные брать на себя полномочия познавать их,
возвещать, об'яснять другим. Неужели теология сообщает уму
неизреченный дар постигать то, чего не в состоянии понять ни
один человек? Неужели она доставляет посвященным в нее чудесную способность составлять себе точные представления о боге,
совмещающем в себе столько исключающих друг друга качеств?
Одним словом, не является ли теолог сам богом?
•Но тут нам затыкают рот замечанием, что сам бог говорил
к людям и высказал свою волю. Но когда и к кому обращался
этот бог? Где держатся его божественные изречения? Здесь сразу
раздается сотня голосов, сотня рук показывает мне на какие-то
нелепые и полные противоречий книги; я пробегаю их и повсюду
нахожу, что бог мудрости выражался темно, невразумительно, коварно. Я вижу, что бог благости был жестоким и кровожадным;
что бог справедливости был несправедливым и пристрастным и
повелевал делать неправедные вещи; что бог милосердия предназначил ужаснейшие кары для несчастных жертв своего гнева. Кроме того на сколько препятствий натыкаемся мы, когда пытаемся
проверить мнимые откровения божества, которое в любых двух
уголках земли никогда не говорило одинаковым образом; которое
говорило так часто в стольких местах и всегда столь различно,
что повидимому оно показывалось всюду лишь с целью внести
замешательство в человеческий ум...
Нам скажут, без сомнения, что расстояние между творцом и
его творением несоизмеримо; что глина не в праве спрашивать
у обделавшего ее горшечника: «почему ты меня сделал такой?»
Но если расстояние между творцом и его творением несоизмеримо, если между ними нет вовсе соответствия, то какие же могут
существовать между ними отношения? Если бог бестелесен, то как
может он действовать на тела, «ли как телесные существа могут
действовать на него, оскорблять его, нарушать его покой, вызывать в нем гнев? Если человек по отношению к богу представляет
лишь глиняный сосуд, то этот сосуд не обязан вовсе возносить
молитв или благодарностей горшечнику за форму, которую он
ему придал. Если этот горшечник сердится на свой сосуд за то,
что он его дурно сделал или сделал непригодным для цели, для
которой он его предназначал, то он должен, если он только не
безрассуден, винить самого себя за находимые в нем недостатки,
он может конечно сломать сосуд, и последний не сможет помешать ему в этом: у него не будет средств смягчить его гнев, и он
вынужден будет подчиниться своему жребию; но горшечник был
бы безрассудным, если бы он хотел наказать свой сосуд, вместо
того чтобы переделать его и придать ему желательную форму...
Среди качеств, приписываемых теологией богу, имеется и
исключительная привилегия действовать вопреки всем законам
природы и разума, между тем как именно на его разуме, справедливости, мудрости, верности принятым обязательствам желают
основать наше почитание его и нравственный долг. Что за океан
противоречий! Существо, которое может все и которое ничем не
обязано никому, которое в своих извечных повелениях может
избрать людей или отвергнуть их, назначить им счастье или несчастье, которое в праве делать из них игрушки своей прихоти
и нанести им без всякой причины страдания, которое может даже
уничтожить и рузрушить вселенную, — что такое подобное существо, как не тиран или демон? Есть ли что-нибудь отвратительнее
следствий, вытекающих из возмутительных представлений о боге
тех лиц, которые призывают нас любить его, служить ему, подражать ему, повиноваться его приказаниям? Не лучше ли было бы
в тысячу раз зависеть от слепой материи, от лишенной разума
природы, от случая или небытия, от деревянного или каменного
бога, чем от бога, ставящего, как мы видим, людям ловушку, побуждающего их грешить, дозволяющего им совершать преступления, которым он мог бы помешать, — и все это лишь для того,
чтобы иметь варварское удовольствие наказывать их без всякой
меры, без всякой пользя для самого себя, без возможности исправления для них самих и без того, чтобы их пример послужил к
исправлению других людей! Мысль о подобном существе должна
неизбежно переполнять душу мрачным страхом: конечно, боясь
его власти, мы будем рабски поклоняться ему, мы будем называть
его благим, льстя ему и обезоруживая его злобу; но было бы совершенно противоестественно, если бы мы полюбили подобного
бога, помня, что он нам ничем не обязан, что он в праве быть несправедливым, что он может наказать свои творения за злоупотребление данной им свободой или же за то, что они лишены
благодати, в которой он им отказал...
Теология, утверждающая, что бог мог создать людей, чтобы
сделать их навеки несчастными, рисует нам какого-то злокозненного духа, злоба которого безмерна, бесконечно превосходя жестокость самых свирепых людей.
Люди наделяют бога правом творить справедливое и несправедливое, переменять добро на зло и зло на добро, истину на
ложь и ложь на истину; одним словом они приписывают ему право
изменять вечную сущность вещей; они считают этого бога стоящим над законами природы, разума, добродетели; они думают,
что никогда не поступают дурно, следуя его нелепейшим предписаниям и повелениям, резко противоречащим морали и здравому
смыслу и крайне вредным для спокойствия общества. При наличии
таких принципов не приходится поражаться тем ужасам, которые
творила религия на земле. Самая жестокая религия была и самой
последовательной.
(«Система природы»).
2.
Невежество и страх — источник религии, ее опора — обман.
Мало людей, даже в наше время, изучали с достаточным вниманием природу или познакомились с физическими причинами и
с вызываемыми ими следствиями. Это невежество было несомненно
еще значительнее в отдаленные времена, когда находившаяся в
детстве человеческая мысль Не достигла благодаря опыту того
прогресса, который мы наблюдаем в ней теперь. Жившие отдельными кучками дикари не знали вовсе законов природы или знали
их крайне несовершенным образом; только общественная жизнь
дает возможность развиваться человеческому знанию; чтобы разгадать природу, необходимы разнообразные и комбинированные
усилия. Если иметь это в виду, то ясно, что для наших диких
предков все явления были чем-то таинственным; вся природа была
для них загадкой; для лишенных опыта существ все явления должны были казаться чудесными и грозными; все, что они видели,
должно было им казаться необычным, страшным, противоречащим
порядку вещей.
Не будем поэтому поражаться тому, что люди еще и теперь
трепещут при виде предметов, заставлявших некогда трепетать
их отцов. Затмения, кометы, метеоры некогда вызывали тревогу
у всех народов на земле; эти явления, столь естественные с точки
зрения здравой философии, мало-помалу раскрывшей их истинные причины, еще и теперь в состоянии внушать тревогу наиболее
многочисленной, но наименее просвещенной части современных
народов. Простой народ, как и его невежественные предки, считает чудесными и сверхъестественными все предметы, к которым
он не привык, «ли же все неизвестные причины, действующие с
такой силой, на какую, по его мнению, неспособны известные ему
агенты. Толпа видит чудеса и знамения во всех поражающих ее
явлениях, понять которых она не может, она называет сверхъестественными производящие их причины: это означает попросту, что
она не привыкла к ним, не знает их или же что она не видела в
природе агентов, способных производить те редкие явления, которые поразили ее воображение.
Кроме естественных обыденных явлений, среди которых жили
народы, не постигая их причин, они в древнейшие времена испытали всякого рода бедствия общего и частного характера, которые должны были повергнуть их в величайшее смятение. Летописи и предания всех народов рассказывают еще и ныне о грозных физических явлениях, о разных катастрофах, катаклизмах,
которые должны были переполнить страхом души их предков.
Но если бы история и не сообщила нам ничего об этих грандиозных переворотах, то разве мы лично не могли бы убедиться в том,
что все части земного шара испытали и сообразно ходу вещей
должны были испытать и будут еще испытывать в различные вре-
мена всякие потрясения, изменения, наводнения, пожары? Обширные материки были поглощены волнами; вышедшие из своих берегов моря захватили части суши; отступив затем назад, воды эти
оставили нам разительное доказательство своего пребывания в
виде раковин и остатков рыб и разных морских организмов, которые внимательный наблюдатель встречает повсюду на земном
шаре. Подземные огни в разных местах открыли себе гибельные
для человечества выходы. Одним словом, разъяренные стихии не
раз боролись между собой за владычество над земным шаром, который повсюду покрыт необозримыми грудами развалин. Как должен был трепетать человек, видя, что вся природа обрушивается
на него, грозя уничтожить его жилище! Как должны были быть
перепуганы застигнутые врасплох люди, видя перед собой словно
готовый рухнуть мир, разверзшуюся землю, ставшую могилой городов, провинций, целых народов! Какое представление должны
были составить себе о могучей причине, производящей такие колоссальные действия, подавленные страхом смертные! Конечно они
не могли признать причиной их природу; они не могли допустить,
чтобы она была виновницей или соучастницей происхождения катастрофы, которую испытывала она сама; они не поняли, что эти
перевороты и беспорядки являлись необходимыми следствиями
ее неизменных законов и содействовали поддерживающему ее порядку.
При такой-то роковой обстановке народы, не видя на земле
сил, способных производить столь могущественные действия, вознесли свои тревожные взоры и свои орошенные слезами глаза к
небу, где, по их мнению, должны были находиться неизвестные
враждебные силы, губившие здесь, на земле, их счастье.
Невежество, тревоги, бедствия были всегда источником первых представлений людей о божестве. Отсюда ясно, что представления эти должны были быть ненадежными или ложными и, во
всяком случае, горестными. Действительно, куда бы мы ни устремили свой взор—взглянем ли мы на скованный холодом север,
обратимся ли мы к знойным областям юга или к более умеренным поясам, мы повсюду увидим трепещущие народы, которые
под влиянием своих страхов и несчастий создали себе национальных богов или стали почитать принесенные из других мест божества. Представление об этих могущественных силах всегда соединялось с представлением о страхе; их имя всегда напоминало человеку его собственные бедствия или бедствия его предков: мы
трепещем теперь, потому что наши предки трепетали тысячу лет
тому назад. Представление о божестве вызывает в нас всегда горестные мысли: если мы станем доискиваться источника наших
теперешних страхов и мрачных мыслей, возникающих в нашем
мозгу всякий раз, когда при нас произносят имя божества, то мы
найдем, что причиной этого являются потопы, всякого рода перевороты и катастрофы, которые уничтожили часть человечества и
повергли в ужас несчастных, уцелевших от всеобщего разрушения; эти последние передали нам свои страхи и составленные ими
себе мрачные представления о напугавших их причинах, или
богах.
Если боги народов были зачаты посреди тревог, то точно так
же посреди страданий сотворил каждый отдельный человек неизвестную силу, созданную им для самого себя. Человек, испытывающий какое-нибудь несчастье или неприятное ощущение, благодаря незнанию естественных причин и способа их действия не
умеет объяснить их. Происходящие внутри его и вопреки ему
движения, болезни, страдания, страсти, тревоги, болезненные изменения, испытываемые его организмом, причины которых он не
знает, наконец смерть, вид которой гак страшен для привязанного к жизни существа,—все это представляется ему сверхъестественными явлениями, ибо они противоречат его природе; поэтому
он их приписывает какой-то могущественной причине, которая,
несмотря на все его усилия, располагает им по. своему произволу.
Воображение его, в отчаянии от кажущихся неизбежными бедствий, создает ему немедленно какой-нибудь призрак, перед которым он в сознании своей собственной слабости не перестает
трепетать. Тогда, скованный страхом, он начинает печально размышлять о своих страданиях и в трепете изыскивать средства
устранить их, обезоружить гнев преследующего его призрака. Так
в мастерской печали несчастный человек творил призрак, из которого он сделал себе бога.
О неизвестных нам предметах мы умозаключаем всегда по тем
предметам, которые мы в состоянии познать. Человек, судя по
самому себе, приписывает всякой неизвестной действующей на
него причине волю, ум, планы, страсти, одним словом—качества,
подобные его собственным качествам. Если какая-нибудь реальная
или воображаемая причина действует на него приятным образом,
то он считает ее доброй и благосклонной к нему; наоборот, он
думает; что всякая причина, заставляющая цго испытывать неприятные ощущения, дурна по своей природе и намеренно вредит ему. Он приписывает планы, намерения, систему поведения
всему, что, как ему кажется, производит само по себе связанные
между собой действия, что действует с известным порядком или
последовательностью и вызывает в нем одни и те же ощущения.
Сообразно этим представлениям, заимствуемым человеком всегда
у самого себя и у своего собственного способа действовать, он
любит или боится действующих на него предметов;юн приближается к ним доверчиво или с опаской; он стремится к ним или избегает их, если думает, что может уйти из-под их власти. Вскоре он
начинает говорить с ними, призывать их, умолять их оказать ему
свое содействие или перестать причинять ему страдания; он пытается снискать их благоволение покорностью, низкопоклонством,
подарками, к которым он сам так чувствителен; наконец, он ока-
зывает им гостеприимство, дает им убежище, строит им жилище
и доставляет им вещи, которые, по его мнению, должны им особенно нравиться, ибо он сам их очень ценит. Все это дает нам
возможность объяснить образование тех богов-хранителей, которые среди грубых и диких народов имеются у каждого человека.
Мы видим, что невежественные люди считают господами своей
судьбы животных, камни, бесформенные и неодушевленные существа—фетиши, которые они превращают в божества, приписывая
им разум, желания и волю.
Есть еще одно обстоятельство, которое способствует обману
дикого человека и которое всегда будет обманывать всех тех,
кого разум не научит не доверяться видимости; это—случайное
совпадение некоторых явлений с причинами, которые их не произвели, или же сосуществование этих явлений с некоторыми причинами, не имеющими с ними никакой реальной связи. Так, дикарь станет приписывать доброту или желание сделать ему добро—любому неодушевленному или одушевленному предмету, как
например камню какой-нибудь определенной формы, какой-нибудь
скале, горе, дереву, змее, животному и т. д., если случайно при
всякой встрече с этими предметами он имеет удачу на охоте,
в рыбной ловле, на войне или во всяком другом начинании. Тот
же дикарь—и столь же неосновательно—будет приписывать коварный или злой умысел любому предмету, который он встретит
в тот день, когда он испытал какую-нибудь неудачу: не умея рассуждать, он не замечает, что эти явления зависят от естественных
причин, от необходимых обстоятельств; ему легче приписать происхождение их мнимым причинам, неспособным в действительности влиять на него или же желать ему добра и зла: под влиянием
своего невежества и умственной лени он обожествляет их, т. е. приписывает им разум, страсти, намерения, наделяя их сверхъестественным могуществом. Дикарь—всегда ребенок; последний бьет
ненравящуюся ему вещь, подобно тому как собака кусает ударяющую ее палку, не думая вовсе о руке, которая бросила эту палку.
Таковы у человека, лишенного опыта, основы его веры в счастливые или несчастливые предзнаменования; он их считает предупреждениями, исходящими от его смехотворных богов, которым
он приписывает проницательность и предвидение—эти недостающие ему самому качества. Под влиянием невежества и страха человек начинает думать, будто какой-нибудь камень, пресмыкающееся, птица знают гораздо больше, чем он сам. Те немногие наблюдения, которые оказались доступными невежественному человеку, сделали его только более суеверным: он заметил, что некоторые птицы своим полетом или криком возвещали перемены
в погоде—холод, тепло, бури, ясную погоду; он заметил, что
в известное время из некоторых пещер поднимаются пары; этого
было достаточно, чтобы заставить его думать, будто эти существа знают будущее и обладают даром прорицания.
Если с течением времени опыт и размышление покажут человеку, что он напрасно приписал могущество и разум бесчувственным предметом, то он все же предполагает, что они приводятся
в действие какой-то тайной причиной, каким-то невидимым агентом, орудиями которого они являются; он начинает тогда обращаться к этому агенту; он взывает к нему, он старается добиться
его благосклонности, он умоляет его о помощи, он старается смягчить его гнев, прибегая для этого к тем средствам, которыми он
пользуется с аналогичными целями . по отношению к людям.
Люди в начале своей общественной жизни, терпя часто от природы, приписали стихиям или управляющим ими скрытым силам
волю, намерения, потребности, желания, подобные тем, которые
имеются у человека. В этом—источник жертвоприношений, придуманных, чтобы кормить эти неизвестные существа, возлияний—
чтобы утолить их жажду, каждения фимиама—чтобы доставить
удовлетворение их обонянию. Полагали, что раздраженные стихии или движущие их силы можно умиротворить, как раздраженного человека, мольбами, низкопоклонством, подарками. Воображение работало без устали над тем, чтобы угадать, какие подарки и приношения приятнее всего этим немым существам, не
обнаруживающим своих наклонностей. Вначале им давали земные
плоды, снопы; затем им стали приносить мясо телят, ягнят, быков.
Так как они почти всегда казались раздраженными против человека, то им мало-по-малу стали приносить в жертву детей, людей.
Наконец под влиянием исступленного воображения стали думать,
что верховное существо, управляющее природой, пренебрегает земными приношениями и может быть умиротворено лишь принесением в жертву бога: бесконечное существо может быть примирено
с человеческим родом только бесконечной жертвой.
Так как старики обладали большим опытом, то на них обыкновенно возлагалась миссия примирения людей с раздраженным
божеством. Эти старики окружали обряд примирения с божеством
всякого рода церемониями, предосторожностями и формулами;
они начертали для своих сограждан переданные им от предков
сведения, сделанные ими наблюдения, сочиненные ими сказания.
Так возникло жречество; так создался культ; так мало-по-малу
образовалась религиозная доктрина, передававшаяся в каждом обществе от поколения к поколению. Одним словом, таковы бесформенные и скудные элементы, из которых повсюду составилась религия. Религия была всегда системой поведения, сочиненной невежественным воображением, чтобы снискать благоволение неизвестных сил, которым, как полагали, подчинена природа; в основе
религии всегда имеется какое-нибудь гневное и неумолимое божество. На этом детском, нелепом понятии жреческое сословие
основало свои права, свои храмы, алтари, богатства, свой авторитет, свои догматы; одним словом, на этих грубых основах держатся все религиозные системы в мире: сочиненные вначале ди-
карями, они и в настоящее время руководят судьбой цивилизованнейших народов.
(«Система природы»),
t
U
Кто такие атеисты?
Прислушаемся однако к обвинениям, взводимым теологами на
атеистов; разберем хладнокровно, без гнева, изрыгаемые ими
против них хулы и оскорбления. Теологам кажется, что атеизм—
это верх безумия и извращенности; стремясь очернить своих противников, они объявляют абсолютное неверие плодом преступления или безумия. Мы не видим,—говорят они,—чтобы в гнусные
заблуждения атеизма впали люди, могущие надеяться, что будущая жизнь для них будет блаженной жизнью. Одним словом, по
мнению наших теологов, только голос страстей заставляет сомневаться в бытии существа, перед которым придется отчитываться
за все злоупотребления в земной жизни; только страх наказания
порождает атеистов; нам без конца повторяют слова еврейского
пророка, будто только безумие может отрицать существование божества. Если верить другим, то «нет ничего более черного, чем
сердце атеиста, ничего более лживого, чем его ум: атеизм может
быть плодом лишь нечистой совести, старающейся избавиться от
терзающих ее мыслей». «Правы те, — говорит Дерхем, — кто считает атеиста каким-то чудовищем среди разумных существ, одним
из редких чудовищ, коотрые, в противоречии со всеми другими
людьми, восстают не только против разума и человеческой природы, но и против самого божества».
Мы ответим на всю эту брань, предоставив читателю самому
судить, так ли в самом деле абсурдна система атеизма, как утверждают эти глубокомысленные фантазеры, вечно спорящие между
собой по поводу уродливых, противоречивых и странных произведений своего расстроенного воображения. Правда, система натурализма не была до сих пор развита во всем своем объеме; но
добросовестные люди могли бы все же разобрать, плохо или хорошо рассуждает автор-атеист; утаил ли он серьезнейшие трудности; добросовестен ли он; прибегает ли он, подобно врагам человеческого разума, к разного рода уловкам, софизмам, ухищрениям и тонкостям, заставляющим всегда подозревать, что либо
не обладаешь подлинным знанием, либо же боишься истины. Таким образом только чистые, добросовестные, разумные люди в
праве судить, лишены ли оснований вышеизложенные принципы;
на суд этих честных людей ученик природы повергает свои взгляды: он вправе отвести суждение заблуждающихся фанатиков,
самоуверенных невежд и своекорыстных плутов. Люди, привык*
шие рассуждать, найдут, во всяком случае, основания сомневаться
в этих несуразных понятиях, представляющихся бесспорными истинами лишь тем, кто никогда не исследовал их согласно требованиям здравого смысла.
Мы охотно согласимся с Дерхемом, что атеисты встречаются
редко: суеверие до того извратило природу и ее права, фантазерство до того ослепило человеческую мысль, страх до того смутил
человеческое сердце, обман и тирания до того сковали мысль,
а заблуждения, невежество и безумие до того спутали очевиднейшие понятия,—что мало найдется людей, способных мужественно
отрешиться от взглядов, внушаемых им со всех сторон. Этих людей так мало, что некоторые теологи, несмотря на все свои выпады против атеистов, в иные минуты повидимому сомневались
даже, существуют ли последние вообще на свете, имеются ли люди,
искренно отрицающие бытие божие. В своих сомнениях они исходили несомненно из нелепых взглядов, приписывавшихся им их
противниками, которых они упорно обвиняли в том, будто они приписывают все случаю, слепым причинам, инертной и мертвой материи, не способной действовать сама по себе. Мы, я думаю, достаточно подробно разобрали абсурдность этих нелепых обвине^
ний; мы доказали в особенности, что «случай»—это лишенное
смысла слово, которое, подобно слову «бог», свидетельствует лишь
о незнании истинных причин. Мы доказали, что материя не мертва;
что природа, активная по своему существу и необходимо существующая, обладает достаточной энергией, чтобы произвести все
заключающиеся в ней вещи и все наблюдаемые в ней явления.
Мы показали, далее, что эта причина реальнее и понятнее, чем иллюзорная, противоречивая, непостижимая, немыслимая причина,
которой теология приписывает все поражающие нас явления природы. Мы указали, что непостижимость естественных явлений не
должна слѵжить поводом приписывать их причине, еще более непонятной, чем все известные нам явления. Наконец, если нельзя
на основании непостижимости бога отрицать его бытие, то все же
несовместимость приписываемых ему атрибутов дозволяет утверждать, что соединяющее их в себе существо—простая химера, существование которой невозможно.
Теперь мы сможем установить смысл слова «атеист», применяемого теологами часто без разбора ко всем тем, кто в чем-нибудь уклоняется от принятых ими взглядов. Если под атеистом
понимать человека, отрицающего существование присущей материи силы, без которой невозможно понять природы, и если эту
движущую силу назвать богом, то атеистов не существует, и слово это могло бы применяться только для обозначения сумасшёдших. Но если под атеистами понимать людей, лишенных фантазерства, руководящихся опытом и свидетельством своих чувств,
наблюдающих в природе лишь то, что в ней реально находится или
что они способны познать в ней, считающих материю по существу
активной и подвижной, находящейся в разнообразных сочета-
ниях, обладающей сама по себе различными свойствами и способной произвести все наблюдаемые в ней вещи; если под атеистами
понимать физиков, убежденных, что можно без помощи всякой
химерической причины объяснить все явления одними законами
движения, взаимоотношениями между разными существами, их
сродством, их аналогиями, их притяжениями и их отталкиваниями,
их пропорциями, их сложениями и их разложениями; если под
атеистами понимать людей, которые не знают, что такое дух, и
которые не видят необходимости спиритуализировать, или еде-,
лать непонятными телесные, чувственные и естественные причины,
являющиеся единственно реальными и активными, которые не считают целесообразным с точки зрения познания движущей силы
мира отделить ее от него и приписать ее какому-то существу, помещенному вне великого целого, существу совершенно непонятной природы, местопребывание коего никак нельзя указать; если
под атеистами понимать людей, которые откровенно сознаются,
что не способны ни понять, ни примирить отрицательных атрибутов и теологических абстракций с человеческими и моральными
качествами, приписываемыми божеству; или же людей, которые
утверждают, что из этой смеси несовместимых качеств может получиться только фиктивное существо, ибо чистый дух лишен органов, необходимых для пользования человеческими качествами и
способностями; если под атеистами понимать людей, отвергающих
призрак, гнусные, несвязанные между собой качества которого
способны только нарушить спокойствие человеческого рода и довести его до пагубнейшего безумия;—если, говорю я, мыслителей
этого рода называют атеистами, то нельзя сомневаться в их существовании. Их было бы множество, если бы учения здравой
физики и здравого смысла были более распространены: на них
тогда не смотрели бы, как на безумцев или бесноватых, но как
на людей, свободных от предрассудков, взгляды—или, если угодно, невежество—которых были бы полезнее человечеству, чем
мнимые знания и пустые гипотезы, издавна являющиеся истинными причинами его бедствий.
С другой стороны, если атеистами станут называть людей, вынужденных признаться, что они не имеют никакого представления
о" химере, которую они почитают и которую они проповедуют
другим; не способных объяснить ни природы, ни сущности своего
божественного призрака; никогда не согласных между собой по
вопросу о доказательствах бытия, о качествах и способе действия
своего бога; превращающих путем бесчисленных отрицаний этого
бога в чистое небытие; простирающихся или заставляющих других простираться ниц перед нелепыми фикциями своего безумствующего воображения; если, говорю я, атеистами называют людей этого рода, то, надо сознаться, мир полон атеистов, и к ним
можно будет отнести даже искуснейших теологов, рассуждающих
без конца о том, чего они не понимают; спорящих по поводу суХресчоматия со истории а т а и а к і
щества, бытия которого" они не могут доказать; успешно уничтожающих своими противоречиями возможность этого бытия; сводящих на-нет совершенства этого бога бесчисленными несовершенствами, которые они ему приписывают; восстанавливающих людей
против этого бога приписываемыми ему чертами жестокости. Наконец можно было бы считать подлинными атеистами те доверчивые народы, которые из почтения к традиции слепо падают ниц
перед существом, представление о котором они получают от своих
духовных руководителей, которые сами признают, что в этом ничего не понимают.
Атеист—это человек, который не верит в существование бога,
но никто не может быть уверенным в бытии существа, которого
он не понимает и которое, как уверяют, должен соединять в себе
несовместимые качества.
Все вышеизложенное доказывает, что теологи сами не всегда
понимали, в каком смысле они употребляли слово «атеист»; они
пользовались этим словом, как бранным обозначением людей,
взгляды которых расходились с их собственными воззрениями.
(«Система природы»),
4.
О христианстве.
Христианство не имеет никаких преимуществ
религиями.
перед
другими
Христианство не имеет никакаго преимущества перед всеми
прочими религиями мира; все они, при всем своем несходстве,
утверждают, что происходят от божества, и претендуют на исключительное право на его милости. Индус уверяет, что сам Брама —
создатель его культа. Скандинавец получил свой культ от грозного Одина. Если еврей и христианин полагают, что Иегова, через
посредство Моисея и Иисуса, научил их, как служить ему, то магометанин уверяет, что получил свой культ через своего пророка,
вдохновленного тем же богом. Итак, все религии утверждают, что
исходят от неба, все запрещают прибегать к помощи разума при
рассмотрении их священных прав; все настаивают на своей исключительной истинности и на ложности остальных; все грозят
„ небесным гневом тем, кто откажется подчиниться их авторитету;
наконец, на всех равно, лежит печать лживости, так как они равно
преисполнены явных потиворечий, равно дают о божестве несуразные, темные и часто отвратительные понятия, равно приписывают ему нелепые законы, равно вызывают среди своих приверженцев бесконечные споры, словом, все религии, какие мы
только видим на земле, дают нам лишь клубок вымыслов и бредней, возмущающих ум. Таким образом, со стороны своих притязаний, христианская религия не имеет никакого преимущества
перед другими суевериями, которыми заражен мир, и ее небесное
проихождение оспаривается всеми другими религиями с таким
же основанием, с каким она оспаривает его у них.
(«Разоблаченное
христианство»
Католики полагают, что бог с готовностью превращается
в кусок хлеба по первому же приглашению их священника; ловким движением руки последний убирает хлеб и кладет на его
место бога. Это — самый поразительный фокус из всех, изобретенный доселе духовенством.
,
Бог — синоним священника, или, если угодно,
управляющий
делами богословия,
старший приказчик духовенства,
уполномоченный по снабжению святого воинства. Слово божие — есть
слово священников, царство божие — морг духовенства, воля
божия — воля священнослужителей. Оскорбить бога, значит оскорбить духовенство. Когда говорят, что бог гневается, это значит,
что у священника печень не в порядке. Если на место слова бог
подставить слово священники, богословие станет одной из самых несложных наук. Отсюда следует, что на свете нет истинных безбожников, ибо кто, находясь в здравом уме, станет отрицать существование духовенства. Оно слишком хорошо дает себя
чувствовать.
Сын божий есть не что иное, как сын человеческий; сын человеческий— не что иное, как бог, его отец, а бог-отец — не что
иное, как его сын и святой дух. Все это может показаться галиматьей лишь тем, которые лишены веры; для Сорбонны тут все
ясно, как день.
(«Краткий богословский
словарь»),
5.
О душе, бессмертии и загробной жизни.
Догмат о существовании души необходим и выгоден
жрецам.
Если в спиритуалистической системе мало логики и философии, то система эта является продуктом очень глубокой, задуманной в интересах теологов, политики. ЕІадо было придумать какоенибудь средство, чтобы спасти некоторую часть человека от разрушения, сделав ее таким образом способной к наградам и наказаниям. Ясно таким образом, что догмат этот был очень
выгоден
для жрецов, чтобы, напугав невежественных людей, управлять ими
и обирать их и даже чтобы создать хаос во взглядах более просвещенных людей, которые тоже совершенно не способны ничего
понять в том, что им говоря? о душе и о божестве. Однако эти
жрецы утверждают, что нематериальная душа будет гореть и, значит, страдать от действия материального огня в аду или в чистилище; им верят на слово.
Существование бессмертной души — абсурдное
предположение.
Хотя люди совершенно не в состоянии составить себе малейшее представление о своей душе или о том духе, который их одушевляет, они однако убеждены, что эта неизвестная душа не подвержена смерти. Все им доказывает, что они чувствуют, мыслят,
приобретают идеи, страдают и наслаждаются только посредством
чувств или материальных органов тела. Даже предполагая существование этой души, нельзя не признать, что она всецело зависит
от тела и подвергается в соединении с ним всем тем изменениям,
которые испытывает тело. И тем не менее люди воображают, что
душа по своей природе не имеет ничего общего с телом. Нас хотят убедить, что она может действовать и чувствовать без помощи тела. Одним словом, утверждают, что, лишившись этого
тела и освободившись от его чувства, эта душа сможет жить,
наслаждаться, страдать, испытывать счастье или переживать ужасные муки. Вот тот ряд гадательных нелепостей, на котором зиждется странное мнение о бессмертии души. •
Если я спрашиваю, какие мотивы имеются для предположения
о бессмертии души, мне немедленно отвечают: человек 'по своей
природе желает быть бессмертным и жить вечно. Но,—отвечу я
вам,—разве тот факт, что вы сильно желаете какую-нибудь вещь,
есть достаточное основание для заключения, что это желание
осуществится? В силу какой странной логики решаются умозаключать, что так как люди пламенно желают, чтобы что-нибудь случилось, то это непременно случится?
Разве желания, порожденные воображением людей, являются
масштабом реальности? Безбожники, говорите вы, лишенные заманчивых надежд на другую жизнь, желают быть уничтоженными.
Прекрасно. Не в праве ли тогда эти 'нечестивые заключить на основании своего желания, что они превратятся в ничто, точно так
же, как вы себя считаете в праве заключать, что вы будете жить
вечно, так как вы этого хотите?
Учение о загробной
жизни — жалкая попытка заглушить страх
смерти.
Несмотря на утешение, которое столь многие люди находят,
по их словам, в мысли о вечном существовании, несмотря на твердое убеждение в загробном существовании души, которого, по их
словам, придерживаются столь многие люди, мы видим, "как их
волнует разложение тела, и с какой тревогой они взирают на приближающийся конец, которого между тем они должны были бы
желать как предела своих страданий. Это только доказывает, что
реальность, настоящее существование, даже сопровождаемое страданием, влияет больше на людей, чем прекраснейшие химеры о будущем, видимом всегда лишь через дымку неопределенности.
Действительно, несмотря на мнимую уверенность в вечном блаженстве, несмотря на эти столь сладостные надежды, даже самые ре-
лигиозные люди не перестают бояться и дрожать при мысли о неизбежном разложении их тела. Смерть всегда была для тех, что
называют себя смертными, самой ужасной вещью; они всегда смотрели на нее, как на странное явление, противное порядку вещей,
чуждое природе, одним словом, как на следствие небесного мщения, как на плату за грехопадение. Хотя все доказывало им, что
эта смерть неизбежна, они никогда не могли примириться с мыслью о ней. Они думали о ней всегда с трепетом, и уверенность
в обладании бессмертной душой представляла для них лишь слабое возмещение горя, причиняемого гибелью этого бренного тела.
Две вещи способствовали усилению их тревог: первая заключается
в том, что смерть, сопровождаемая
обыкновенно страданиями, ли.
шает их существования, которое им нравится, которое они знают,
к которому они привыкли; вторая заключается в незнании состояния, которое должно сменить их теперешнее
существование.
Знаменитый Бэкон сказал, что люди боятся смерти по той же
причине, по какой дети боятся темноты. Мы естественным образом не доверяем тому, чего не знаем; мы хотим видеть ясно,.чтобы
обезопасить себя от предметов, которые могут нам угрожать, или
чтобы быть в состоянии доставить »себе те предметы, которые могут
быть нам полезны. Человек, который существует, не может составить себе представления о несуществовании; так как это состояние тревожит его, то воображение его, за недостатком опыта, начинает работать над тем, чтобы нарисовать ему в хорошем или
дурном свете это неизвестное состояние.
Догмат о загробной
жизни — одно из самых роковых
заблуждений
человеческого
рода.
Религиозному суеверию понравилось сделать человека трусливым, легковерным, малодушным; оно поставило себе правилом
не переставать ввергать его в скорбь; оно сочло своим долгом
усилить у него страх перед смертью; неистощимое в придумывании для него пыток, оно заставило его тревожиться по поводу
его загробного существования, и служители его, чтобы обеспечить
свою власть над ним в этом мире, придумали какие-то "загробные
области, оставив за собой право награждать в них послушных их
произвольным законам рабов и наказывать непокорных их воле
бунтарей. Религия не только не утешала смертных, не только не
формировала разума человека и не приучала его преклоняться
перед силой необходимости, но во многих странах старалась сделать для него смерть еще более горький, иго ée еще более тяжелым, окружив кортеж ее толпой отвратительных привидений и
сделав приближение ее более страшным, чем сама смерть. Так религии удалось наводнить мир фантазерами, которых она прельщает неопределенными обещаниями, и жалкими рабами, которых
она удерживает страхом воображаемых загробных бедствий. Ей
удалось убедить их, что их теперешняя жизнь—лишь моет к бо-
лее важной жизни. Бессмысленный догмат о загробном существовании- препятствует им работать над своим подлинным счастьем,
думать над усовершенствованием своих учреждений, законов,
нравственности, наук; пустые химеры овладели всем их вниманием; они готовы стонать под игом религиозной и политической
тирании, коснеть в заблуждении, томиться в несчастии, в надежде быть когда-нибудь более счастливыми, в твердой уверенности, что их страдания и их идиотское терпение принесут им вечное блаженство; они считают себя подчиненными какому-то жестокому существ}', которое желает заставить их выкупить загробное
блаженство ценою всего, что им особенно дорого на земле; им
изобразили их бога, как заклятого врага человеческого рода, и
их уверили, что раздраженное против них небо желает быть умиротворенным и накажет их вечными муками за попытки избавиться
от своих страданий. Так догмат о загробной жизни оказался одним из самых роковых заблуждений человеческого рода. Этот догмат сделал народы апатичными, равнодушными,
безразличными
к своему счастью или же породил у них безумный фанатизм, толкавший их часто на взаимоистребление во имя небесного
блаженства.
Басни о загробной жизни выгодны только духовенству.
Теологи, без сомнения, имели все основания сделать душу имматериальной, они нуждались в душах и химерах, чтобы населить
те воображаемые области, которые они открыли в другой жизни.
Материальные души были бы, подобно всем телам, подвержены
разрушению. Если же люди думали бы, что все в них умирает,
географы другого мира потеряли бы очевидно право вести их
души в эту неизвестную страну. Они бы не извлекли никакой
пользы из тех надежд, которыми они их манят, и из тех страхов,
которыми они их запугивают. Если будущая жизнь не имеет никакого реального значения для человеческого рода, она по крайней мере приносит огромную выгоду тем, которые ставят своей
задачей готовить человека к этой мнимой будущей жизни.
(«Здравый смысл»).
6.
О деизме.
Теистами, или деистами, называют тех, кто, разочаровавшись
в грубых заблуждениях общепринятых суеверных религий, признает только неопределенное понятие о божестве, в котором они
видят какую-то неизвестную силу, одаренную разумом, мудростью,
могуществом и добротой, одним словом, — наделенную бесконечными совершенствами. Согласно им, это существо отлично от природы; бытие его они доказывают на основании господствующих
во вселенной порядка и красоты. Признавая существование благодетельного провидения, они упорно отказываются видеть все те
бедствия, причиной которых следует считать эту универсальную
силу, раз она не пользуется своим могуществом, чтобы воспрепятствовать им. При их увлечении этими, как мы видели, малообоснованными взглядами, нет ничего удивительного, что мы находим мало единогласия в их системах и в делаемых из этих систем выводах. Действительно одни предполагают, что это воображаемое существо, создав материю из ничего и удалившись затем
в глубины своей сущности, предоставляет затем материю навсегда
сообщенному ей первоначально движению. Бог им нужен только
для того, чтобы породить природу; после этого все остальное есть
лишь необходимое следствие первоначального толчка; бог захотел, чтобы мир существовал, но, будучи слишком великим, чтобы
входить во все мблочи управления миром, он предоставляет ход
событий действию естественных причин; он вполне равнодушен
к судьбе созданных им существ, которые не находятся ни в каких
отношениях с ним и которые не могут ни в чем потревожить его
ненарушимого счастья. Таким образом наименее суеверные деисты делают из своего бога какое-то бесполезное для людей существо; они нуждаются в этом слове просто для обозначения первопричины или неизвестной силы, которой они, не зная присущей
природе энергии, приписывают первоначальное образование ее
или, если угодно, размещение и устроение материи, сосуществующей вечно с богом.
Другие, одаренные более живым воображением, теисты предполагают существование более определенных отношений между
универсальным началом и человечеством; каждый из них в зависимости от свойств своего темперамента суживает или расширяет
эти отношения, допускает известные обязанности человека по отношению к своему творцу; думает, что следует, чтобы угодить
божеству, подражать его мнимой благости и творить, подобно
ему, добро. Некоторые воображают, что, так как этот бог справедлив, то он предназначает награды для тех, кто делает добро, и
наказание для тех, кто делает зло своим ближним. Эти гуманизируют несколько более, чем прочие, своего бога: он у них похож
на государя, наказывающего или вознаграждающего своих подданных, в зависимости от того, как они исполняют его требования
и законы; теисты этого рода не довольствуются уже, подобно чистым деистам, неподвижным и равнодушным богом; им необходим бог, более близкий к ним или хотя бы пригодный для объяснения некоторых из загадок вселенной. Так как каждый из этих
спекулятивных мыслителей (которых в отличие от первых мы будем называть теистами) составляет себе свою особенную религиозную систему, то они расходятся между собой в своих взглядах
и вероучениях; здесь встречаются неуловимые оттенки мнений,
которые постепенными переходами приводят некоторых из них
от чистого деизма к религиозному суеверию, одним словом, у них
нет ни единомыслия, ни каких-нибудь определенных взглядов.
Не следует удивляться этому; если бог деистов бесполезен,
• го бог теистов неизбежно полон противоречий. И те и другие допускают бытие существа, являющегося простой фикцией: если они
считают его материальным, то оно должно входить в систему
природы; если же они его считают духовным, то они не имеют
никакого реального представления о нем; если они приписывают
ему нравственные качества, то получается какой-то человек с непомерно увеличенными совершенствами, но внутренно противоречивый, ибо если признать его творцом всего сущего, то факты
на каждом шагу являются опровержением его достоинств. И действительно, когда люди начинают страдать, они начинают отрицать провидение, издеваться над конечными причинами, признают, что либо этот бог бессилен, либо же действует несогласным с представлением о его благости образом. Но те, кто допускают существование справедливого божества,—не должны ли они
признать и налагаемых им обязанностей и предписаний, так что
его нельзя обидеть, если не знаешь его воли? Так теист, желая
объяснить себе поведение своего бога, запутывается в лабиринте
всяких гипотез, и чтобы выбраться из него, он вынужден бывает
признать все теологические спекуляции, не исключая и нелепых
басен, придуманных для объяснения странного способа управления этого якобы столь мудрого, столь благого, столь справедливого существа: переходя от одного предположения к другому,
придется добраться до грехопадения Адама, или до восстания мятежных ангелов, или же до преступления Прометея и до ящика
Пандоры, ибо только таким образом удастся объяснить возникновение зла в мире, управляемом благим провидением. Придется
приписать человеку свободу воли; придется признать, что тварь
может оскорбить своего творца, вызвать его гнев, возбудить его
страсти и затем успокоить его при помощи суеверных обрядов и
искупительных жертв. Если предположить, что природой управляет какая-то невидимая сила, одаренная скрытыми качествами
и действующая таинственным образом, то почему также не предположить, что особые церемонии, телодвижения, слова, обряды,
храмы, статуи могут заключать в себе таинственные свойства,
с помощью которых возможно снискать благоволение таинственного владыки мира? Почему не верить тогда в скрытые силы магии, теургии, чар, амулетов, талисманов? Почему не верить в внушения, сны, видения, предсказания, гадания? Почему не допустить,
что движущаяся сила вселенной, желая открыться людям, употребила недоступные нам средства и прибегла к превращениям, воплощениям, пресуществлениям? Разве все эти фантазии не вытекают из нелепых представлений людей о божестве? Разве все эти
предположения менее возможны и менее вероятны, чем представления деизма, допускающего, что какой-то непостижимый, нематериальный, невидимый бог мог создать материю и способен приводить ее в движение; что лишенный органов бог может обладать
разумом, мыслить, как люди, и обладать нравственными каче-
ствами; что разумный и справедливый бог способен терпеть, чтобы
неповинные существа страдали хоть ничтожное время? Раз допускают бога со столь противоречивыми качествами, то ничто уже
не может возмущать нашего разума: раз допускают подобного
бога, то можно верить всему; невозможно указать тот пункт, где
должно остановиться воображение. Если предположить наличие
отношений между людьми и этим загадочным существом, то следует воздвигать в честь его алтари, приносить ему жертвоприношения, обращаться постоянно к нему с молитвами. И если мы ничего не понимаем в этом-существе, то разве не самое спокойное—
обратиться к его служителям, которые по обязанности своей профессии должны уметь объяснить его прочим смертным? Одним
словом, нет такого обряда, такого откровения, таинства, которого
не пришлось бы признать по указанию жрецов, обучающих в разных странах по-разному людей тому, что они должны думать о богах и как они должны добиваться их милости.
Мы видим таким образом, что нет никаких оснований отделять деистов, или теистов, от сторонников обрядового суеверия
и что невозможно провести черту, отделяющую их от самых легковерных, мало рассуждающих в вопросах религии людей. Действительно трудно установить точным образом, какую дозу нелепости можно себе позволить. Дёисты, отказывающиеся следовать
за приверженцами обрядового суеверия во всех бреднях их легковерия, более непоследовательны, чем те: последние, приняв на
веру существование нелепого, противоречивого, странного существа, на веру же принимают те смехотворные и странные средства,
которые им рекомендуют в целях снискания милости его. Первые
исходят из ложной предпосылки, откидывая необходимые следствия ее; вторые допускают и принцип и выводы из него. Бог,
"существующий только в воображении, требует и соответствующего культа. Вся теология есть одна сплошная фикция; во лжи,
как и в истине, нет степеней. Если бог существует, то следует верить всему, что говорят о нем его служители; все бредни религиозного суеверия не более нелепы, чем лежащие в его основе противоречивые представления о божестве; все эти бредни — выводы,
полученные путем всяческих умственных ухищрений мыслителями-фантастами из недоступной сущности божества, из его непостижимой природы, из его противоречивых качеств. Почему же
останавливаться на полпути? Разве найдется в какой-нибудь религии более немыслимое чудо, чем чудо творения или выведения из
ничего? Есть ли более трудная для понимания тайна, чем непостижимый бог, бытие которого однако необходимо? Есть ли что-либо
более противоречивое, чем (Разумный и всемогущий архитектор
вселенной, производящий только для того, чтобы уничтожать?
Есть ли что-либо более бесполезное, чем присоединение к природе
некоего активного начала, которое не может объяснить ни одного
из естественных явлений?
Итак, самый легковерный сторонник обрядовой религии рассуждает более последовательно, он более логичен в своем легковерии, чем те, кто, допустивши первоначально какого-то бога,
о котором они не имеют никакого представления, останавливаются вдруг и отказываются допустить системы поведения, вытекающие необходимым образом из их первоначальной коренной
ошибки. Раз принят противоречащий разуму принцип, то какой
смысл апеллировать к разуму на вытекающие из этого принципа
следствия, как бы нелепы они ни казались?
7.
.
Религия и нравственность.
Платон сказал, что добродетель заключается в том, чтобы походить на бога. Но где найти этого бога, на которого должен
походить человек? В природе? Но—увы!—тот, кого считают творцом ее, с полным безразличием насылает на человечество великие
бедствия и оказывает ему великие благодеяния; он часто несправедлив к людям чистейшей души; он осыпает величайшими милостями самых негодных людей; и если, как нас уверяют, он в один
прекрасный день окажется более справедливым, то мы станем ожидать этой поры, чтобы потом подражать его поведению.
Может быть, мы станем черпать свои представления о добродетели в основывающихся на откровениях религиях? Увы!—разве
все они не говорят нам о деспотическом, ревнивом, мстительном,
корыстном боге, который не признает никаких правил, который
во всем следует своим капризам, который любит или ненавидит,
выбирает или отвергает по прихоти своей фантазии, который поступает, как безумный, тешится убийствами, грабежами, преступлениями, который точно игрушками играет своими жалкими подданными, налагает на них нелепые требования, который ставит
им постоянные ловушки и строго запрещает им пользоваться
своим разумом? Во что бы превратилась мораль, если бы люди
взяли себе в образцы таких богов?
А между тем все народы поклоняются такого рода божествам.
Но поэтому-то во всех странах религия не только не благоприятствует нравственности, но, наоборот, подкапывается под нее и разрушает ее. Вместо того чтобы соединять людей, она их разделяет:
вместо того чтобы любить друг друга и оказывать друг другу
помощь, они ссорятся между собой, презирают, ненавидят, преследуют друг друга из-за одинаково нелепых мнений: малейшее
различие в их религиозных взглядах превращает их во врагов
с противоположными интересами, гіёчно борющихся друг с другом. Из-за теологических гипотез целые народы становятся врагами другим народам; государь ополчается против своих подданных; граждане воюют со своими согражданами; отцы ненавидят
своих детей, последние вонзают меч в грудь своих отцов; суп-
поль
а:-:ри д и т р и х
гольбах
155
руги расходятся; родные ссорятся между собою; все узы разрываются; общество раздирает себя собственными руками. А посреди
этого ужасного хаоса каждый утверждает, будто бы он поступает
сообразно с видами своего бога и нисколько не упрекает себя за
совершаемые им во имя этого бога преступления.
Мы встречаем те же нелепости и безумства в обрядах и церемониях, которые всеми религиями ставятся повидимому значительно выше социальных или естественных добродетелей. В одном случае матери приносят в жертву своих собственных детей,
чтобы насытить своего бога; в другом—жители устраивают церемонии, чтобы утешить своего бога за нанесенные ему якобы оскорбления, и приносят ему человеческие жертвы. Еще в какой-нибудь
стране фанатик, желая успокоить гнев своего бога, терзает себя
и обрекает себя на всю жизнь на мучительный покаянный подвиг.
Еврейский Иегова — это подозрительный тиран, только и думающий о крови, убийстве, резне и требующий, чтобы его кормили
дымом от всесожжения животных. Языческий Юпитер—это чудовище распутства, финикийский Молох — просто людоед. Христианский «чистый дух» требует, для успокоения своей ярости, чтобы
убили его собственного сына. Дикого, кровожадного бога мексиканцев можно насытить только тысячью человеческих жертв.
Таковы боги, таковы эти образцы для людей, какими их рисуют все религии. После этого нет ничего удивительного, что имя
бога стало у всех народов синонимом страха, безумия, жестокости, бесчеловечности и служит постоянно предлогом для возмутительнейшего нарушения нравственных обязанностей. Если у бога
такой отвратительный характер, то естественно, что доброта исчезает из сердец людей, нравственность—из их поведения, разум
и счастье—из их жилищ; подозрительность бога по отношению
к образу мысли несчастных смертных вооружает их друг против
друга, заставляет их заглушать крик природы, делает их варварски жестокими по отношению к самим себе и своим ближним; одним словом, желая подражать' своему обожаемому идолу, желая
удостоиться его любви и ревностно служить ему, они становятся
какими-то безумными, бесноватыми.
*
Если человек надеется на легкое искупление за преступления,
то он легко предается им. Беспутнейшие люди часто очень религиозны; религия доставляет им возможность возмещать исполнением обрядов то, чего нехватает им по части нравов; гораздо
легче уовоить какие-нибудь догматы и сообразоваться с известными церемониями, чем отказаться от своих привычек или сопротивляться своим страстям.
Религиозные суеверия — социальное
бедствие.
Представления о божестве, которые, как мы показали, так бесполезны, так противоречат здравой морали, доставляют так же
мало выгоды отдельным лицам, как и обществам. Божество, как
мы видим, носит во всех странах отталкивающий характер, и суеверные люди, верные своим принципам, были всегда несчастными.
Суеверие—это домашний враг, которого всегда носишь с собой.
Люди, задумывающиеся над грозными призраками религии, должны жить в вечной тревоге и беспокойстве; в погоне за химерами
они должны пренебрегать самыми важными для них вещами; они
должны проводить свои печальные дни в стенаниях, молитвах,
жертвоприношениях, всяческих искуплениях своих реальных или
воображаемых религиозных проступков. В своем безумстве они
нередко станут терзать самих себя, налагая на себя самые жестоние наказания, лишь бы только удержать карающую десницу своего сурового бога; они вооружатся против самих себя в надежде
обезоружить месть и жестокость свирепого господина, которого,
как им кажется, они рассердили; они будут стараться примирить
с собой гневного бога, ставши своими собственными палачами и
причиняя себе всякого рода бедствия, которые только может придумать их воображение. Общество не получает никакой выгоды
от мрачных учений этих набожных безумцев; их мысль всегда поглощЛа их печальными бреднями, а время их уходит на исполнение нелепых обрядов. Самые благочестивые люди обыкновенно
мизантропы, бесполезные для окружающих и вредные для самих
себя. Если они и обнаруживают в чем-нибудь энергию, то лишь
в придумывании средств причинить себе какие-нибудь новые мучения или лишить себя предметов, к которым стремится их природа. Повсюду на земле мы встречаем умерщвляющих свою плоть
аскетов, глубоко убежденных, что, причиняя себе боль и всякого
рода мучения, они сумеют снискать милость свирепого бога, благость которого однако не перестают прославлять. Безумцев этого
рода мы встречаем во всех частях мира: представление о грозном
боге порождало всегда и везде нелепейшие жестокости.
8.
Атеизм—мировоззрение избранников человечества.
Часто задавали вопрос, есть ли народ, не имеющий никакого
представления о божестве, и мог ли бы существовать народ, составленный исключительно из атеистов. Вопреки утверждениям
некоторых теоретиков, вряд ли существует на земле более или менее многочисленный народ, лишенный совершенно представлений
о некоей невидимой силе, которой он воздает почитание. Поскольку человек является бс^зливым и невежественным животным, он
в несчастии неизбежно становится суеверным; он либо сам создает
себе бога, либо принимает бога, проповедуемого ему другими
людьми. Поэтому вряд ли можно допустить существование на земле народа, совершенно чуждого понятию о божестве. Один нам
укажет на солнце, на луну, на звезды; другой нам покажет на море,
на озера, на реки, доставляющие ему пропитание, на деревья, дающие ему убежище от непогоды; третий укажет на скалу странной формы, на возвышенную гору, на вызывающий у него удивление вулкан; четвертый нам укажет на крокодила, которого он
боится, на опасную змею, на пресмыкающееся, которому он приписывает свои удачи и неудачи. Наконец каждый человек укажет
вам с благоговением на свой фетиш, на своего домашнего богахранйтеля.
Но дикарь не извлекает из бытия своих богов тех же выводов, что цивилизованный человек; дикие народы не любят много
рассуждать о своих божествах; они не думают, будто эти божества
должны влиять на их нравы и вообще занимать их мысль; дикари довольствуются грубым, простым, чисто внешним поклонением своим богам, не предполагая, чтобы эти невидимые силы интересовались их поведением по отношению к их ближним; одним
словом, дикари не связывают своей морали со своей религией.
Эта мораль груба, как и следует этого ожидать от невежественного народа; она соответствует его немногочисленным потребностям: она часто неразумна, ибо она плод невежества, отсутствия
опыта и мало сдерживаемых страстей народа, находящегося, так
сказать, в состоянии младенчества. Только в обширном цивилизованном обществе, с его бесчисленными потребностями и взаимно
скрещивающимися интересами, приходится создавать правительства, законы, публичное богослужение, единообразные религиозные системы, чтобы установить согласие между гражданами; в подобном обществе благодаря более тесным взаимоотношениям людей зарождается деятельная работа мысли и начинается процесс
утончения и углубления понятий; именно здесь правители начинают прибегать к невидимым силам, чтобы страхом их обуздывать
людей, делать их послушными, заставить их подчиняться себе и
жить в мире. Так мало-помалу политика и мораль вплетаются в религиозную систему. Вожди народов, часто сами суеверные, не
знающие своих собственных интересов, мало знакомые с здоровой моралью и истинными двигателями человеческого сердца,
считают очень важным—и с точки зрения своего собственного
авторитета и с точки зрения благополучия и покоя общества—
внушить своим подданным религиозные взгляды, угрожать им
невидимым небесным призраком, обращаться с ними, как с детьми,
которых успокаивают всякого рода сказками и баснями. Государи,
опираясь на этнорелигиозные выдумки, жертвами которых они
становятся сами, теряют охоту учиться и просвещаться; они оставляют в пренебрежении законы, они предаются изнеженности, они
следуют только своим прихотям, возлагая на богов заботу о своих
подданных; они поручают просвещение народов жрецам, которые
стараются сделать их послушными и набожными и которые приучают их с ранних лет трепетать перед невидимыми и видимыми
богами. Так руководители народов держат их в каком-то вечном
состоянии детства, обуздывая их страхом перед пустыми химерами; так политика, юриспруденция, воспитание, нравственность
пропитываются повсюду заразой суеверия; так люди знакомятся
лишь с одними религиозными обязанностями; так представление
о добродетели ошибочно ассоциируется с представлением о воображаемых силах, которые предписывают людям то, что подсказывают им обманщики; так мораль становится шаткой и зыбкой;
так людей уверяют, будто без бога для них не существует никакой морали; так государи и подданные, одинаково не понимая
своих настоящих интересов, своих естественных обязанностей и
взаимных прав, привыкают считать религию необходимой для
нравственности, для управления людьми, для достижения могущества и счастья.
Исходя из этих представлений, ложность которых мы неоднократно доказывали, многие просвещенные в общем люди считают
невозможным длительное существование общества из атеистов.
Разумеется обширное общество, не имеющее ни религии, ни морали, ни правительства, ни законов, ни системы воспитания, не
могло бы существовать; такое общество представляло бы собою
соединение существ, готовых вредить друг другу, или каких-то
детей, слепо следующих самым гибельным побуждениям. Но разве
в лучшем положении находятся теперешние государства, со всем
их религиозным аппаратом? Разве государи не находятся почти
во всех странах в состоянии вечной войны со своими подданными?
Разве подданные эти, несмотря на все угрозы религии, перестают
хоть на минуту вредить друг другу? Разве сама религия со своими
сверхъестественными теориями не перестает льстить страстям «и
тщеславию государей, разжигая в то же время пламя раздора между гражданами, придерживающимися различных вероучений?
Разве силы адовы, предназначенные якобы для пагубы человеческого рода, способны причинить большие бедствия на земле, чем
фанатизм и религиозное изуверство—эти порождения теологии?
Одним словом, какими бы безрассудными ни предположить атеистов, но разве, соединившись в общество, они оказались бы большими преступниками, чем те, полные реальных пороков и диких
бредней, изуверы, которые в течение веков не перестают бессмысленно и безжалостно истреблять друг друга? Разумеется, этого
нельзя утверждать; наоборот, можно смело сказать, что общество
из атеистов, свободное от всякой религии, управляемое на основании разумных законов, обладающее правильной системой воспитания, понуждаемое к добродетели наградами и отвращаемое от
преступлений справедливыми наказаниями, свободное от всяческих иллюзий, обманов и бредней, будет несравненно добропорядочнее и добродетельнее, чем построенные на религиозных представлениях общества, где все как будто направлено к отравлению
мысли и к развращению сердца.
Если когда-нибудь решат заняться серьезно вопросом о чело-
веческом счастьи, то придется начать дело реформ с небесных богов; только освободившись от этих фантастических существ, функция которых заключалась в том, чтобы держать в вечном страхе
невежественные и младенческие народы, можно рассчитывать довести человечество до его зрелого возраста. Нельзя—повторим
это еще раз—построить никакой морали, не зная природы человека и его взаимоотношений с другими людьми; нельзя установить
неизменных правил поведения, исходя из воли несправедливых,
капризных, злых богов; нельзя проводить здоровой политики, не
считаясь с природой человека, живущего в обществе для того,
чтобы удовлетворить свои потребности и достигнуть своего счастья; нельзя создать хорошего правительства при допущении деспотического божества: его представители окажутся всегда тиранами; нельзя получить хорошего законодательства, игнорируя
природу и цель общества: никакие законы не могут быть выгодны
для народов, если они определяются прихотями и страстями обоготворенных тиранов; нельзя создать рациональной системы воспитания, если исходить не из требований разума, а из различных
бредней и предрассудков; нельзя наконец дать никакого простора
добродетели и талантам при наличии развращенных государей и
под руководством жрецов, делающих из людей врагов друг другу
и себе самим и пытающихся заглушить в них все зачатки разума,
знания и мужества.
Спросят, может быть, возможно ли рассчитывать вытравить
когда-нибудь у целого народа его религиозные представления?
Я отвечу на это, что подобная вещь совершенно невозможна и что
не ее следует ставить себе целью. Представление о божестве, внушаемое людям, с самого их младенчества, нельзя уничтожить в голове большинства их; вытравить его из мысли лиц, всосавших его,
так сказать, с молоком матери, так же трудно, как внушить его
взрослым людям, которые никогда не слышали о нем. Поэтому
вряд ли можно извлечь целый народ из бездны суеверия, т. е.
из среды невежества и безумия, и склонить его к абсолютному атеизму, т. е. к учению, которое предполагает наличность размышления, знания истинных причин различных явлений природы, ее сочетаний, ее законов, содержащихся в ней вещей и их различных
свойств. Чтобы быть атеистом, чтобы поверить в силы природы,
надо предварительно изучить ее; поверхностного взгляда на нее
для этого недостаточно; мало искушенный взор будет обманываться здесь на каждом шагу; незнание истинных причин заставит придумать какие-нибудь воображаемые причины, и незнание это бросит под конец самого физика в объятия призрака, в котором—по
ограниченности своего кругозора или по лени духа—он найдет,
как ему кажется, решение всех трудностей.
Таким образом атеизм, подобно философии и всем серьезным
наукам, не по плечу толпе и даже большинству людей. Во всех
цивилизованных государствах существует известное количестве
людей, имеющих благодаря своим обстоятельствам возможность
предаваться размышлениям, посвящать свое время полезным исследованиям и открытиям, которые в случае истинности своей могут оказаться очень плодотворными. Математик, механик, химик,
врач, юрист, даже ремесленник работают в своих кабинетах или
мастерских, каждый в своей области, над средствами быть полезными обществу; но ни одна из этих наук или профессий не знакома толпе, пользующейся однако плодами этих работ, о которых
она не имеет никакого представления. Астроном работает для матроса; для него же производят свои выкладки математик и механик; для плотника и чернорабочего вычерчивает искусный архитектор свои мудреные чертежи. Какова бы ни была проблематическая выгода, религиозных учений, а ученый и высокоумный теолог не в праве утверждать, будто он работает, пишет, спорит для
блага народа, оплачивающего однако так дорого загадочные теории, которых он никогда не поймет и которые никогда не будуг
сколько-нибудь полезными для него.
Поэтому не для толпы должен писать или предаваться размышлениям философ. Принципы атеизма или система 'природы,
как сказано, не по плечу даже множеству лиц, весьма образованных в других отношениях, во часто тяготеющих к общепринятым
предрассудкам. Весьма нелегко найти людей, соединяющих с умом,
знаниями и талантами спокойное воображение или же мужество,
необходимое для успешной борьбы с привычными, укоренившимися в мозгу, иллюзиями. Несмотря на голос разума, весьма глубокие,
обладающие обширными знаниями, умы незаметно, точно влекомые непреодолимой силой, спускаются до общепринятых предрассудков, которые внушались им с самого младенчества. Но принципы, кажущиеся вначале странными или возмутительными, малопомалу внедряются в умы, становятся привычными им и, распространяясь, оказываются благотворными для всего общества: с течением времени общество привыкает к взглядам, которые первоначально казались ему неразумными и нелепыми; во всяком случае, перестают считать' какими то извергами людей, придерживающихся непривычных взглядов по вопросам, относительно которых по свидетельству опыта можно питать сомнения без всякого
ущерба для общества.
(«Система природы»).
АНОНИМ.
Исследование данных Кларком доказательств бытия божия.
Говорят, что все люди соглашаются между собой в бытии божием, и голос природы достаточен, чтобы нас в этом убедить;
это—врожденная идея.
Что идея бога есть понятие приобретенное, доказывает сама
природа этого понятия; оно изменяется из века в век, из страны
в страну, от человека к человеку. То, что люди добились усовершенствования во всех знаниях, имеющих реальные объекты, а
знание бога осталось повсюду на той же точке, является доказательством, что это понятие есть заблуждение. Нет ничего, относительно чего люди настолько бы разделились во мнениях.
Если, правда, каждый народ имеет культ, это еще не доказательство реальности этого существа. Всеобщность мнения—не
доказательство его истинности. Разве весь мир не верил в магию
и выходцев с того света? До Коперника разве не верили, что земля
неподвижна и что солнце вращается вокруг нее?
Представление бога и его свойств имеет своим основанием
лишь мнение наших отцов, влитое в нас воспитанием, с детства
перенятое привычкой и усиленное примером и авторитетом. Вот
почему мы убеждены, что всякий человек принес в мир идею
божества.
Мы держимся за эти идеи, никогда не дав себе труда самим
поразмыслить над ними.
Доктор Кларк, говоря о существовании бога, исходит из способа наиболее убедительного.
Его положения сводятся к следующим:
1. Некая вещь существует от века. Да, но что это за вещь?
Почему это не материя, а чистый дух? То, что существует, предполагает с того времени также, что бытие ему свойственно. То,
что не может уничтожиться, существует необходимо. Такова материя. Таким образом, это она существует постоянно.
2. Независимое и неизменное существо пребывает от века.
Прежде всего—каково это существо? Оно независимо от своей
собственной сущности? Нет, потому что оно не может сделать
так, чтобы существа, которых оно произвело или которых оно
приводит в движение, действовали иначе, чем согласно свойствам,
которое оно им дало. К тому же, тело зависит от другого тела
только, когда оно обязано ему своим существованием и своим образом действий. Только на основании этого права материя могла
бы быть зависимой от него. Однако, если она существует от века,
она не может быть обязанной своим бытием никакому существу;
и если она вечна или существует через самое себя, очевидно, что
с этим свойством она заключает в себе, в своей природе, все, что
необходимо для действия; следовательно, будучи вечной, материя
не имеет нужды в двигателе.
Неизменно ли это существо? Нет, так как неизменное существо нё могло бы ни иметь желаний, ни производить последовательные действия. Итак, если это существо создало материю или
породило вселенную, значит—было время, когда оно хотело, чтобы эта материя и эта вселенная существовали, и было другое время, когда оно хотело противоположного. Таким образом—оно не
неизменно.
3. Это вечное, неизменное и независимое существо пребывает
Хрестоматия по истории атеизма
11
через самого себя. Но почему материя, которая неразрушима, не
существует через самое себя?
4. Сущность пребывающего через самого себя существа непостижима. Да, но такова также и сущность материи. Ее по крайней
мере мы видим, и не менее ли еще склонны мы постигать божество, которое мы не можем уловить ни с какой стороны?
5. Существо, которое необходимо пребывает через самого
себя, необходима вечно.
Но материя в этом отношении имеет с ним общее. Зачем желать отделения этого существа от вселенной?
6. Пребывающее через самого себя существо должно быть бесконечным и вездесущим. Бесконечным, пусть; но ничто нам не
говорит, что материя не бесконечна. Что касается вездесущия,
нет! Материя занимает по меньшей мере часть пространства и потому должна исключать божество.
7. Необходимо пребывающее существо необходимо едино.
Если нет ничего вне подобного существа, действительно необходимо, чтобы оно было единым. Но можно ли отрицать существование вселенной?
8. Пребывающее через самого себя существо необходимо разумно. Но разумность—человеческое свойство. Чтобы обладать
разумностью, необходимо мыслить; чтобы мыслить, нужно иметь
представления, нужно иметь чувства; когда имеют чувства, пребывают материальным, и когда пребывают материальным, не бывают чистым духом. Но это существо, это великое целое, имеет ли
оно особенную разумность, которая его двигает? Почему не даровать эту разумность природе, ибо она заключает в себе разумные
существа?
9. Пребывающее через самого себя существо есть свободная
сила. Но не встречает ли она препятствий при выполнении своих
намерений? Хочет ли она, ч?обы зло совершалось, или не может
ему помешать? В этом случае или оно не свободно или оно соглашается на грех. К тому же, можно действовать только согласно
законов своего существования. Его воля есть необходимость из
мудрости и намерений, которые в нем предполагают. Значит, оно
не свободно.
10. Высшая причина всех вещей обладает бесконечным могуществом. Но если человек свободен грешить, чем становится бесконечное могущество бога?
11. Творец всех вещей необходимо должен быть мудрым. Но
если он творец всего, он должен быть творцом многих действий,
которые мы считаем очень неразумными.
12. Высшая причина необходимо должна обладать всеми моральными совершенствами. Идея совершенства есть идея абстрактная. Вещь кажется нам совершенной в зависимости от нашего
способа исследования. Будет ли бог казаться нам совершенно добрым, когда мы получили вред от его творений и вынуждены жа-
ловиться на несчастья, которые мы испытываем? В зависимости
ли от его дел видим мы рядом с порядком наиболее полный беспорядок?
Если утверждают, что бог не есть что-либо из того, что человек может познать, если о нем ничего нельзя сказать положительного, то по меньшей мере позволительно сомневаться в его существовании. Если он непостижим, можно ли упрекать нас в том,
что мы его не постигли?
Нам говорят, что здравого смысла и разума достаточно, чтобы убедить нас в его существовании. Но в то же время говорят
нам, что разум—неверный проводник в этих делах. К тому же,
убеждение всегда есть лишь результат очевидности и доказательства.
Атеистов больше,
чем на первый
взгляд
кажется.
Атеист—это человек, который не верит в бытие бога. Но никто не может быть уверенным в бытии существа, которого он не
познал и о котором говорят, что оно примирило непримиримые
свойства. В этом смысле многие теологи были бы атеистами, так
же как и все народы, которые на словах бросаются на колени
перед существом, о коем они имеют лишь представление, данное
им людьми, которые сами признаются, что они в нем ничего не
понимают.
Излюбленное
возражение
против атеизма несостоятельно.
Возможно ли, говорят, признать вселенную без мастера, который ее сделал и который бдит над своим произведением? Если
отнести часы или статую дикарю, который их никогда не видел,
он не сможет воспрепятствовать себе признать в них произведения искусного мастера.
1. Природа весьма могущественна и весьма производительна;
но мы не больше понимаем, как она могла произвести камень или
металл, чем—голову, организованную, как у Ньютона. Природа
все может; и раз вещь существует, это—доказательство, что природа могла ее сделать. Не будем заключать, что удивляющие нас
произведения природы не принадлежат ей.
2. Дикарь, к которому принесут часы или-статую, будет или
не будет иметь представлений о человеческом искусстве. Если они
у него будут, он рассудит, что эти вещи могут быть произведением существа его рода; если нет,—он подумает, что это не может
быть произведением человека. И вот он припишет эти странные
действия гению, духу, так сказать, неизвестной силе, в которой
он предположит власть, какой не обладают существа его рода.
Таким образом он не докажет ничего кроме своего незнания способности человека производить.
3. Открыв часы, исследуя их, дикарь увидит, что они могут
быть только произведением человека. Он увидит, что это произведение отличается от непосредственных произведений природы,
среди которых он не видел готовыми сделанных из полированного металла колесиков. Он остережется мысли, что материальное
произведение есть действие нематериальной причины. При виде
мира мы познаем материальную причину явлений, которые там
проходят, и эта причина—природа; ее энергия выявляет себя тем,
.кто ее изучает.
Пусть не говорят, что это означает приписывание всего слепо;":
причине, случайному сочетанию атомов, случаю. Мы называем
слепыш только те причины, которых мы не знаем; случайными—
действия, причин которых мы не познаем. Мы приписываем случаю действия, необходимой связи которых с их причинами мы не
видим. Природа—не слепая причина, она не действует случайно.
Все, что она производит, необходимо и всегда—лишь следствие
ее непреложных законов. Очень возможно, что здесь имеется
ошибка с нашей стороны, но слова «дух», «бог», «разумность» не
исправят этой ошибки; они ее только удвоят.
Это служит ответом на вечное возражение, • которое делают
сторонникам природы относительно приписывания всего случаю.
Случай—лишенное смысла слово, которое указывает лишь на невежество употребляющих его лиц. Говорят, что правильное произведение не может быть обязано своим происхождением случайным сочетаниям: никогда не удастся составить такую поэму, как
Илиада, брошенными, наугад соединенными буквами. Без сомнения, нет; именно природа, согласно известным законам, сочетает
голову, организованную
таким образом, чтобы создать поэму.
Именно природа дает мозг, характер, такое воображение, что голова, как у Гомера, перенесенная в такие же условия, необходимо,
а не случайно, произведет поэму Илиаду, если только не желают
отрицать, что сходные во всем причины обязательно производят
совершенно идентичные действия.
Все—результат сочетаний природы. То, что мы видим наиболее удивительного в ее произведениях, есть лишь естественное
действие ее разнообразно расположенных частей.
(«Истинный смысл системы
природы»).
ЖАК АНДРЭ НЕЖОН.
і
1.
Духовенство само себя разоблачает.
1
Роскошь, в которой обыкновенно живет духовенство (а это
ясно показывает, что все внушающие благоговение тайны—не что
иное, как сети для уловления богатств и почестей),—эта роскошь
меня всегда глубоко возмущала. У них еще есть бесстыдство, —
говорил я себе,—проповедывать бедность, тогда как сами они утопают в богатстве. Проповедывать смирение, тогда как они сами,
чтобы насытить свое честолюбие, топчут ногами все, что есть великого у людей. Проповедывать бескорыстие, тогда как алчность
их не знает границ. Проповедывать умеренность в еде и питье,
тогда как столы их ломятся от яств. Проповедывать скромность,
живя в роскошных особняках. Не надо большой проницательности, чтобы видеть, что подобные священники—мошенники, которые нисколько не верят в то, чему учат, и в душе смеются над легковерием тех, которые им подчинены.
2.
Основные догматы христианства—очевидный абсурд.
Скажите человеку необразованному, что с помощью алгебры
можно рассчитать шансы в карточной игре; он будет очень удивлен, но он не будет отрицать этой возможности; совсем другое
дело, если вы будете убеждать его в том, что вы можете сделать
так, чтобы он получил все взятки, когда у противника все козыри.
Троица и пресуществление относятся к таким невозможностям;
оба эти догмата, или—лучше сказать—крайние выражения человеческого безумия, равно противны разуму и ставят вверх дном
наши самые ясные представления.
3.
Попы хуже пиратов.
Религии совершают гораздо большую жестокость, чем пираты, ибо они нападают врасплох на детей, подавляя их своим
авторитетом и злоупотребляя их слабостью. Пираты, сражаясь со
взрослыми людьми, так же подвергаются опасностям рабства и
смерти^ как и их противники; наконец те, которые выезжают в море, вполне сознают и имеют возможность предотвратить грозящую им опасность.
Где хотя бы видимость права овладеть умом ребенка, чтобы
соблазнить его и внушить ему веру в то, что угодно родителям?
4.
Попы всех религий одинаково кормят свою паству
неправдоподобными сказками.
Ксендз, бонза, имам, поп, раввин, шаман,—все они кормят
нас -сказками, лишенными и тени правдоподобия, и на этом основании решают, что мы должны их уважать или им повиноваться,
щедро их оплачивать, освобождать их от всех общественных повинностей, не подозревать их в способности лгать и совершать
преступления, а если они уличены во лжи или в'преступлении, не
карать их из-за страха перед скандалом.
Сверхестественные факты нуждаются в сверхестественных доказательствах. Мой священник говорит мне, что стакан воды, опрокинутый над головой, и крест, сделанный в воздухе с произнесением каких-то определенных слов, стирают грехи, совершенные
нами до рождения. Чтобы доказать это, пусть он теми же средствами исцелит эпилептика. Он уверяет меня, что обедни, звон
колокольчиков, церковные процессии доставляют здоровье, заклинают бури, изгоняют вредных насекомых и т. д. Если он хочет,
чтобы я проверил, пусть он этими же самыми средствами поднимет кусок упавшей стены, освободит меня от клопов, — словом,
пусть докажет на деле или же пусть замолчит.
Чтобы доказать свою силу сделать то или другое, что не может быть проверено, надо сделать это применительно к тем случаям, которые можно проверить,—иначе никто не поверит. Геометр говорит мне, что он может точно измерить расстояние между
двумя недоступными точками. Если я сомневаюсь в этом, он демонстрирует мне свой способ, на двух доступных точках; я слежу
за тем, что он делает, вижу, что метод его безупречен, и я начинаю считать, что он может сделать то, в чем я прежде сомневался.
Вы утверждаете, что наши обедни извлекают души из чистилища. Не угодно ли вам в таком случае обедней освободить хоть
одного человека из Бастилии?
Фокусники, шарлатаны, операторы, которые для физического
здоровья делают то, что апостолы и миссионеры—для спасения
души, поступают иначе. Они н-е требуют, чтобы им верили на слово: они жгут себя, прокалывают, отравляют, а затем снова исцеляют от всех болезней и ран. Они понимают, что их пациенты,—
зная их заинтересованность в том, чтобы убедить,—нуждаются
в доказательствах того, что им говорят правду.
Я где-то слышал такое великолепное доказательство: вы верите «Комментариям» Цезаря, так почему же вам не верить евангелию? Следовательно я также должен верить и корану. Основания одинаковы.
«Комментариям» Цезаря я верю потому, что они рассказывают
о вещах, не выходящих за пределы вероятности. Если бы Цезарь
сказал, что он пешком перешел море, что вода ів обе стороны расступилась, чтобы дать ему пройти, и кучу других подобных же
нелепостей, какими полны и «Ветхий» и «Новый завет», мы бы
не поверили ему; еще меньше поверили бы мы, если бы авторам
этих вымыслов было бы выгодно лгать. Впрочем тысяча памятников подтверждают книгу Цезаря, и все же, говоря, что мы верим
«Комментариям», мы вовсе не хотим сказать, что готовы жизнью
поручиться за их полную и безусловную правдивость. Если сомнению подвергается столько естественных вещей,—как можно требовать, чтобы я не сомневался в фактах, гораздо более необычайных и фантастических, чем все те, о которых повествует история?
Мы имеем право сомневаться в самом правдоподобном рас-
сказе, если только рассказчик заинтересован в том, чтобы ему
поверили, а наша заинтересованность в том, чтобы рассказ оказался ложным, дает нам право отнестись к нему с строжайшей
критикой. Если бы мне сказали, что мой сын убит на войне, я
поверил бы; но если бы тот, кто принес это известие, сказал мне,
что покойный сын сделал его своим наследником, и ничем не подкрепил бы своего сообщения, я бы перестал верить в смерть сына
и в его завещание.
Если бы мне сказали, что Пиренейский хребет находился прежде в Японии и лишь, по приказанию какого-то лица сделал скачок я переместился туда, где он сейчас, я бы и слушать об этом
не пожелал. Если бы вдруг раздался неизвестно откуда голос,
утверждающий то же самое, я бы начал колебаться. Но если бы,
подняв глаза к небу, я увидел, как из звезд слагаются письмена,
говорящие все о том же, я поверил бы без всяких оговорок, ибо
доказательство было бы тогда столь же удивительным, сколь и
самый факт, и между ними было бы полное соответствие.
5:
Последователи всех религий только обвиняют друг друга
и все они о д и н а к о в о правы.
«
во
лжи,
Что должны мы думать по поводу того, что самая распространенная религия имеет против себя по меньшей мере две трети
человечества и что каждая из существующих религий является
пагубной и отвратительной ложью по мнению всех остальных.
Мы Должны признать, что мы с непонятным упрямством придерживаемся чего-то ложного или по крайней мере чего-то весьма
сомнительного, для нас непонятного, чего мы не можем доказать
другим и что в глазах трети человечества является явным заблуждением.
Приверженцы каждой из религий весьма проницательны по
отношению к нелепостям и вымыслам других. Вы, католики, ясно
видите обман и ложь откровения, на которое претендует коран.
Евреи и язычники также ясно видят обман и ложь евангелия; они
еще более очевидны для человека, свободного от предрассудков.
Отец Мальбранш отлично сумел бы заметить и выставить напоказ
всю нелепость христианства, если бы предрассудки, внушенные
воспитанием, не наложили повязки на его глаза или если бы даже
он пожелал попытаться снять эту повязку и самостоятельно поразмыслить. Разве для нас ясно, что если над нашей головой священник не опрокинет стакана воды, бормоча при этом несколько
слов, то мы навеки обрекаем себя мести бесконечно справедливого существа?
Все остальные люди ясно видят, что бесконечно справедливое
существо могло бы карать только тех, кто по собственной воле
нарушил какой-нибудь известный ему закон. Разве евреям и туркам вполне ясно, что удаление определенной части кожи делает
человека святым? Все остальное человечество понимает, что это
нелепость.
Разве индусским женщинам вполне ясно, что, сжигая себя заживо после смерти своих мужей, они обеспечивают себе в будущем более счастливые рождения и что, сгорев в восьмой раз, они
обретут тысячелетнее блаженство? Все остальное человечество понимает, что это глупость.
А вы, уважаемый отец? Разве вам столь же ясно, что Иисус
Христос целиком—телом, душой и кровью—заключен в святых
дарах и что это же тело одновременно находится повсюду, сколь
всем остальным людям, не исповедующим католической религии,
ясна вся нелепость такого взгляда?
C«Солдат-безбожник»).
6.
•
Имя бога не должно находиться в декларации естественных
прав, прав гражданского управления, прав народов, а равным образом и в трактатах о морали и рациональной философии, подобно тому как оно не встречается в работах по геометрии и физике:
единственное книжки, где должно быть дозволено говорить о
боге,—это книжки богословов, которые Гоббс, с присущей ему
точностью, определял как царство тьмы...
В механизме мира бог—не что иное, как излишнее колесо,
привесок, бесполезное повторение; имя бога и бесконечного—бессмысленные слова; точные науки и их строгий метод приводят
""в отношении этих слов к следствиям очень философским, но весьма
противоположным всякому предрассудку...
7.
Очевидность религии необходимо является у всех людей переменной величиной, и следовательно бывают эпох®, когда эта
очевидность равна нулю, и такие, когда она становится величиной отрицательной...
8.
4
Должно найти способ сделать ПОПОІВ полезными или по крайней мере помешать им вредить. Это—лютые животные, которых
должно посадить на цепь, на них следует надеть намордник, если
не хочешь, чтобы они тебя пожрали. Общие интересы требуют,
чтобы священник был презренным и чтобы теология, которая
столь часто покрывала землю заблуждениями и преступлениями,
стала презираемой и была забыта или по крайней мере заперта
в стенах своих школ...
(Из адреса Национальному собранию).
9.
Красно речивейшим проповедником государства, вдохновленнейшим апостолом евангелия является палач.
10.
Необходимо прочесть библию, чтобы познакомиться со всеми
видами сумасбродства и глупости, на какие способны люди, чтобы убедиться, до какого одичания и идиотизма способны довести
людей легковерие, невежество и фантазия.
11.
Все религии без исключения, но в особенности христианство,
являются самыми ужасными бедствиями, какие только выпадали
на долю человечества. Стоит опустить во всемирной истории преступления совершенные во имя бога и богов, чтобы тем самым
вычеркнуть большинство тех гадостей, из которых состоит история человечества.
12.
Союз между душой и телом есть химера, изобретенная богословием. Нет гипотезы более нелепой, более противной опыту,
наблюдению и здравой философии. Человек вовсе не состоит из
двух субстанций: он един. Без тела нельзя ничего объяснить.
В природе не существует такой вещи, как так называемая душа,
но есть одушевленные существа; в природе нет такой вещи, как
время, но есть вещи, имеющие временное существование; в природе нет вещи, которая называется жизнью, но есть живые существа.
(«Солдат-безбожник»),
САЛАВИЛЛЬ.
1.
Священники хотели обмануть людей, мы хотим их просветить,
наше поведение должно быть потому иным.
Быть может, чтобы облегчить переход от заблуждения к истине, нужно на первое время, идя навстречу укоренившимся привычкам, создать нечто вроде мимолетного культа одухотворенных
моральных ценностей, взамен культа непорочной девы, угодников,
угодниц, святителей и святительниц старого календаря. Но если
мы действительно задаемся целью привести народ к культу Разума, то меньше всего, потворствуя его склонности к реализации
абстракций, к олицетворению моральных понятий, мы должны во
что бы то ни стало излечить его от этой мании, которая является
главной причиной человеческих заблуждений. Надо, чтобы метафизические идеи Локка и Кондильяка сделались всеобщими, чтобы
народ привык видеть в статуе только камень и в образе—(разрисованное красками полотно; в противном случае я не удивлюсь,
если среди нас воцарится нечто вроде политеизма, если скоро будут воздвигнуты храмы всем человеческим добродетелям, и они
будут иметь свой культ, свои церемонии, свои особые праздники;
а в результате, воздав добродетелям почести на праздниках, люди
сочтут возможным не практиковать их в жизни.
2.
Культ Разума противоречит идее разума.
Я не знаю даже, не противоречит -ли идея храма Разума самому представлению, которое у нас составилось о Разуме. Не является ли каждый человек сам храмом разума? Не в занятиях ли
наукой состоит его культ? Я понимаю конечно хорошо, что можно
рассматривать разум и с абстрактной точки зрения, отвлекаясь от
человека; и только понимая его в этом смысле, люди могут собираться и воздавать ему почести. Но по крайней мере пусть тогда
этот храм, который должен оглашаться лишь размеренными ритмами Разума, будет совершенно лишен каких бы то ни было внешних украшений. Пусть в нем будут одни лишь эмблемы. Пусть
говорят народу: «Ты не должен искать здесь ни статуй золотых,
серебряных или мраморных, воздвигнутых в честь Разума, ни наслаждаться созерцанием его на прекрасно написанных полотнах.
Твое преклонение могло бы остановиться у подножья этих изображений и достигнуть лишь создавшего их творца, вместо того
чтобы вознестись к самому объекту. Ты увидишь возжигаемыми
на этом алтаре лишь плоды вдохновения, творения гения: вот
единственные жертвоприношения, достойные Разума».
3.
Я не могу придумать лучшего сравнения для моральной революции, чем сопоставление ее с состоянием человека, освобождающегося от тумана опьянения и снова приобретающего власть над
своим разумом. Освободить человечество от религии—значит протрезвить его. Это поистине значит—извлечь людей из мира идеального и фантастического, чтобы ввести их в обладание миром, который существует для них, который один только и соответствует их
природе и из которого они имели глупость сами изгнать себя,
чтобы витать в царстве химер: вот она — обетованная земля; нам
нужно только вернуться туда. Но недостаточно еще сжечь кресты,
молитвенники, иконы, реликвии и прочие нелепые памятники наших суеверных культов: надо устроить в наших городах ауто-дафе из всех наших религиозных идей. Потому что, поскольку они
там останутся, они помешают выработке в нас истинных философских убеждений...-
СИЛЬВЕН МАРЕШАЛЬ
_
171
Так что же, скажут мне, вы даже не хотите сохранить идею
Верховного существа? Нет, поскольку она не является чисто философской предпосылкой, отправным пунктом воображения, необходимым, чтобы руководить нашим умом среди хаоса причин
и следствий и чтобы поставить определенный предел его ограниченным полетам, предел, в котором он нуждается, чтобы отдохнуть и успокоить свое любопытство. Но остережемся, в особенности, делать его основой нашей морали, или, выражаясь иначе, сохраним идею Верховного существа как первопричины', и разрушим идею бога-владыки, бога-воздаятеля,
ибо я не знаю убеждения, более вредного...
Один из наших знаменитых законодателей сказал в последний
раз в речи, вызвавшей живейшее одобрение, что «атеизм аристократичен». Он несомненно подразумевал под этим, что так как
все народы, с которыми мы находимся и можем находиться в сношениях, признают существование бога, то коалиция аристократов
и тиранов, чтобы окончательно отрезать их от нас, задумала представить нас в их глазах как людей, исповедующих противоположные убеждения. Если атеизм аристократичен, то только случайно,
в силу сложившихся обстоятельств и потому, что коалиция аристократов и тиранов хотела сделать из него контрреволюционное
средство... Идея бога-владыки есть деспотическая идея.
Когда человек убежден,—говорит он,—в существовании невидимого владыки, которого можно умилостивить молитвами, жертвами, почестями, заботами, вниманием, словом—всем тем, что
трогает и соблазняет людей, он постепенно научается заискивать
у него и даже обманывать его. Набожность—это не что иное, как
выгодная сделка для плутов и эгоистов, это—настоящая школа
лицемерия.
(«Патриотические и литературные анналы»).
СИЛЬВЕН МАРЕШАЛЬ.
Бог—незаконнорожденное дитя природы.
(«Французский
Лукреций»),
Существование бога—дрянной роман.
(«Французский
Лукреций»),
К оружию! Беспощадная война божеству! Пора уже на развалинах прошлого провозгласить истину полностью и основать
республику безбожных людей.
(«Французский Лукреций»).
Да будет провозглашен благодетелем человечества тот мудрый законодатель, который найдет средство стереть в человеческом мозгу самое слово «бог», этот жестокий талисман, вызвавший
столько преступлений и породивший столько убийств.
(«Словарь атеистов»),
Идея бога, воздающего людям в другом мире за муки, которые они претерпели в этом мире—идея эта, искони запечатленная
в мозгу управляемых, является мягкой подушкой для управителей.
(«Словарь атеистов»).
Из сотни тысяч человек лишь каких-нибудь пять десятков
утруждают себя размышлением относительно своей веры. Народ
верит ей на слово. Простолюдин — католик, но он был бы атеистом, если бы его предки были атеистами. Бог похож на ту старую мебель, которая уже ни на что не нужна, которой уже не
пользуются, но которую в семьях передают из рук в руки: это
ветхая рухлядь, которую благоговейно берегут, ибо сын получил
ее от отца, а отец от деда.
(«Словарь атеистов»).
На стороне бога—невежество, страх и деспотизм; против него—разум и философия, изучение природы и любовь к независимости. Бог обязан своим рождением недоразумению. Он существует лишь в силу очарования снов, знание вещей и фактов его
убивает и уничтожает. Телесный бог противен здравому смыслу,
бог отвлеченный не может быть уловлен и постигнут, а между тем
бог может быть либо материей либо абстракцией. Приходится еще
раз повторить: бог—либо все либо ничто. Для того чтобы быть
понятым, чтобы понять самого себя, богослову необходимо выражаться философски. Но если все есть бог, то бог теряет свою божественность. Если, с другой стороны, представлять его, как чисто духовное существо, то он существует лишь в человеческом
сознании. Сколько было школ и направлений, которые строили
в воображаемых пространствах на словах, которые либо лишены
смысла либо разрушают призрак бога, если в них есть какой-либо
смысл. Увы!—все священные войны, которые залили кровью страницы истории, оказываются, значит, грамматическими спорами.
Краснейте за ваших отцов, которые погружались в жалкие богословские вопросы. Разрушьте пыльные библиотеки, являющиеся
лишь памятниками сумасбродства и позора. Отбросьте все, что не
покоится на природе и очевидности вещей.
Один современный законодатель (Порше) осмелился как-то
в тесном кругу сказать: «Трем с половиной четвертям человечества следует преподносить только опиум». Пусть это признание
покончит с вашим долгим усыплением. Слишком очевидная это
правда, что до сего дня людьми управляли лишь путем преподнесения им тяжелых снотворных средств, религиозных и других.
Впредь не слушайте не только попов, но и всякого государственного человека, который говорит и поступает, как поп. Оставьте
бога: человеку не подходит бог, бог нам ни к чему.
(«Словарь атеистов»),
*
Учителя! Существует ли бог в небе? Вопрос этот для меня не
более важен, чем вопрос, существуют ли животные на луне. Я нуждаюсь в боге не больше, чем он во мне. Да и что мне бог? Я останавливаю свою мысль на том, что действует на мои чувства; я не
простираю свое любопытство до такой степени, чтобы искать в небе еще одного господина: достаточно я встречаю господ на земле.
Вера в то, что существует нечто вне того целого, часть которого
я составляю, противна моему разуму.
И сказал человек: сотворим бога по образу и подобию нашему. И бог стал существовать, и поклонился человек произведению рук своих.
(«!Французский Лукреций»),
*
*
*
Ненавидь всякое иго, даже иго бога.
(«Французский
Лукреций»),
ЖЕРОМ ЛАЛАНД.
Имеются астрономические соображения Ньютона, на которые
я должей ответить, ибо имя его имеет большой вес. Бентли, который был обязан каждый год йроповедывать о существовании бога,
об истинности христианства, предложил Ньютону представить ему
соображения, почерпнутые из системы мира. Ньютон ответил ему
в 1692 г. тремя письмами. Вот главные затруднения Ньютона:
1. Материя собрана в одних местах в светящиеся тела, в других—« темные: так как это кажется необъяснимым при помощи
чисто естественных причин, то приходится прибегнуть к преднамерению водящего агецта.
2. Для Ньютона ясно, что нет никакой естественной причины,
которая была бы в состоянии заставить все планеты двигаться
в одну сторону.
3. Если бы Юпитер и Сатурн были ближе к солнцу, то они причинили бы большое расстройство во всей системе.
4. Ньютон не знает никакой силы в природе, если только это
не божественная рука, которая способна была бы дать боковой
толчок планетам.
5. Если бы скорости и дистанции планет не были бы соразмерными, то "они должны были описывать гиперболу, так что все
эти обстоятельства свидетельствуют о действии причины, весьма
искусной в механике и геометрии.
Вот эти-то трудности превратились в доказательства для этого
великого, но предубежденного человека, бывшего неспособным
отряхнуть предрассудки своего детства. Все фибры этого поразительного мозга были математическими фибрами, и в нем ничего
не оставалось для метафизики. Ньютон был настолько же силен
в математике, насколько он был слаб в остальных областях. Об
этом свидетельствует его «Апокалипсис» и даже конец его бессмертных «Начал», где он дает небольшую апологию, на четырех
страницах, в честь божества,—заключение, чрезвычайно странное
и для Ньютона и для его сочинения.
Вот уже давно Маргери, знаменитый морской офицер и крупный геометр, доказал, что при наличии трех тел одно из них благодаря притяжению остальных двух может получить круговращательное движение без всякого толчка. Лаплас, который является
геометром, как и Ньютон, но который в противоположность ему
не является суеверным, слабым или верующим, показал в своей
«Системе природы», как можно объяснить физически движение
планет, и вовсе не надо быть ни Ньютоном, ни Лапласом, чтобы
понять, что одно тело дает толчок другому при встрече, что в безмерности вселенной, где все от века в движении, эти встречи должны были происходить не раз.
Но что особенно подрывает авторитет Ньютона, так это нелепость его идей об «Апокалипсисе». «Бог дал нам,—говорит он,—
эти пророчества, как и пророчества ветхого завета, не для удовлетворения любопытства людей или для наделения их способностью предсказывать будущее, а для того чтобы, когда события
наступят, люди поняли пророчества, чтобы они признали предвидение бога, чтобы события, предсказанные за несколько веков,
показали, что мир управляется провидением».
В результате Ньютон находит в «Апокалипсисе» всю историю
императоров и турок вплоть до взятия Константинополя в 1453 г.
Правда, не сам Ньютон опубликовал эти бредни, они увидели свет
лишь в 1733 г., через семь лет после его смерти, однако мне кажется, что издатели могли бы как-нибудь иначе почтить память
великого человека.
(1-е дополнение к «Словарю атеистов»).
Зрелище неба кажется всем доказательством существования
бога. Я сам так думал в девятнадцать лет. Ныне я не вижу там
ничего, кроме материи и движения. Мне часто говорят: «Но как
же вы, созерцая солнце, луну и звезды, не видите там Высшего
существа?» Я на это отвечаю: «Я вижу, что есть солнце, луна
звезды и что вы—дурак».
(1-е дополнение к «Словарю атеистов»).
Бог бесконечен, совершенен, справедлив; он был бы таковым
еще больше, если бы все его видели и понимали. А между тем
столько людей не верит в него, причем это все самые разумные,
наиболее ревностно ищущие истину люди. Это обстоятельство меня
всегда ставило втупик.
(1-е дополнение к «Словарю атеистов»).
*
Бесконечно совершенный бог создал весьма несовершенные
вещи: людей, которые разрушаются и умирают, звезды, которые
потухают, льды, которые разрушают животных и растения, пески,
которые сжигают и погребают, ураганы, которые опустошают землю, людских чудовищ, которые страшнее ураганов; бог же наконец создал войну, чуму, голод, всякое физическое и нравственное зло. И все это он сделал, несмотря на свое совершенство и
всемогущество,—вот противоречие, которого вы не разрешите для
меня никогда.
(2-е дополнение к «Словарю атеистов»).
*
*
Я не хочу, чтобы обо мне могли сказать: Жером Лаланд, бывший не последним астрономом своего времени, не был одним из
первых философов-атеистов... Я больше доволен своими успехами
в атеизме, чем своими достижениями в астрономии.
*
«
Я обшарил весь звездный мир—и нигде не нашел ни малейшего следа божества.
Бог совершенно непонятен; бог абсолютно невидим; его бытие не имеет ни одного прямого доказательства; все объяснимо
без него.
(2-е дополнение к «Словарю атеистов»).
;
-
...
; .. ..
•
'
АТЕИСТЫ
XIX ВЕКА
Х р я с т г & т и я по история атеизігг.
ЛЮДВИГ ФЕЙЕРБАХ.
1.
О религии и религиозной морали.
Всякая религия — идолопоклонство.
И рационализм, да и всякая религия, всякая религиозная разновидность, возглавляемая богом, т. е. существом недействительным, от действительной природы, от действительного человеческого существа произведенным и от них отличным, и делающая
его предметом своего поклонения, есть поклонение изображениям,
и следовательно—идолопоклонство, если вообще поклонение изображениям есть, как сказано, идолопоклонство. Ибо не бог создал
человека по своему образу, как значится в библии, но человек
создал бога по своему.
*
*
*
Боги—создания фантазии, но создания фантазии, находящееся в самой тесной связи с чувством зависимости, с человеческой
нуждой, с человеческим эгоизмом, создания фантазии, которые
з то же время являются существами, созданными чувством, существами или созданиями аффектов, в особенности страха и надежды. Человек требует от богов, как я уже это говорил при описании религиозного поклонения изображениям, чтобы они ему помогали, если он их представляет себе добрыми существами, чтобы
они ему не вредили, по крайней мере не мешали в его планах и
радостях, если он их представляет себе злыми. Религия поэтому
есть не только дело воображения,-фантазии, не только дело чувства, но также и дело желания, стремления человека и его потребность устранять неприятные чувства и создавать себе приятные,
получать то, чего у него нет, но что ему иметь хотелось бы, а удалять то, что он имеет, но чего иметь он не хотел бы, как например данную беду или данный недостаток,—короче говоря, она
есть выражение стремления человека освободиться от бед, которые у него есть или которых он опасается, и получить то добро,
которое он желает, которое ему рисует его фантазия: она есть
выражение так называемого стремления к счастью.
Религия — выражение
детства
человечества.
Религия есть выражение детства человечества, или: в религии
человек — дитя. Дитя не может собственными силами, при помощи
самодеятельности, осуществить свои желания, оно обращается со
своими просьбами к существам, от которых чувствует и знает свою
зависимость, к родителям, чтобы при их посредстве получить, то,
чего оно хочет. Религия имеет свое происхождение, свое истинное
место и значение лишь в период детства человечества, но период
детства есть в то же время и период невежества, неопытности,
необразованности или некультурности.
Часто говорилось: мир необъясним без бога; но истинно как
раз обратное: если есть бог, то существование мира необъяснимо;
ибо он совершенно излишен. Мир, природа лишь тогда объяснимы,
мы лишь тогда находим разумные основания их существованию,
если только мы таковое ищем, если мы признаем, что нет существования вне природы, нет другого, кроме телесного, естественного, чувственного существования, если мы предоставим природу
самой себе, если мы, стало быть, признаем, что вопрос об основе
природы совпадает с вопросом об основе существования. Но вопрос о том, почему вообще что-либо существует,—глупый вопрос.
Иезуитская мораль отвратительнее готтентотской.
Вернемся от иезуитов к готтентотам—их единомышленникам.
Что? Единомышленники... иезуиты и готтентоты?! Однако—прочь
с этим вопросительным и восклицательным знаками возмущения.
Я охотно допускаю разницу, но она состоит только в том, что
готтентоты по природе своей делают то, что иезуиты делают ради
чистой религии, ради чистой любви к богу: одни не имеют и не
знают никакого стремления к чистоте, другие же вновь подавляют
уже проснувшееся в человеке стремление к самоочищению, подавляют насильственно, сознательно, основательно изученными средствами, подавляют, как порочащую бога материалистическую прихоть, для того чтобы низвести человека вновь к готтентоту, если
можно, то даже еще ниже грязных и темных готтентотов. «Красота,— говорит например высокоуважаемый патер Лехнер, — это
добродетель смирения, добродетель очень опасная. Поэтому некий
юноша из Вюрцбурга, дворянин и с большим состоянием, обмазал себе лицо навозом и отправился вместе с нищими за подаянием». Столь же грязен готтентот, тем не менее он не грязнит
с намерением человеческое лицо навозом. Хотя иезуитизм и позво-
ляет человеку—как он гуманен и либерален!—по праву естественной свободы очистить свой желудок, однако это должно совершиться лишь с позволения духовника, духовного главы вообще.
Если святая Бригитта, один из святых прообразов иезуитизма, из
смирения не доверяла себе без позволения духовника поднять
даже свои глаза, то уже наверное она не без позволения своего
духовника ходила в отхожее место. Римский цезарь Веспасиан,
нуждаясь в деньгах, обложил податью даже человеческую мочу:
почему бы иезуиту, императору в Риме, не наложить конфискации
на человеческий кал, заперев его на замок? Иезуиты, у которых
католицизм внедрился не только в сердце, но и в прямую кишку,
католики с головы до ног, наверное не имели бы ничего против
такого следствия.
(«Эвдемонизм»),
Где мораль утверждается на богословии, а право—на божьих
постановлениях, там можно оправдать и обосновать самые безнравственные, несправедливые и позорные вещи.
(«Сущность христианства»).
Где не жгут еретиков в огне этого или загробного мира, там
уже нет в самой вере огня, прежде согревавшего ее. Не христианской вере, а сомнению в ней, победе религиозного скептицизма,
вольнодумцам и еретикам обязаны мы религиозной свободой.
Мораль не нуждается в религиозной
санкции.
У многих вера в бога, существование их бога опирается только
на существование родовых или общих понятий. Если нет бога,
говорят они, то никакое общее понятие не представляет истины,
то нет мудрости, нет добродетели, нет справедливости, нет закона,
нет общественности; тогда все становится чистым произволом, все
возвращается в хаос, даже ничто. На это следует тотчас же заметить, что если и нет мудрости, справедливости, добродетели
в теологическом смысле, то отсюда еще отнюдь не следует, что
таковых не имеется в человеческом и разумном смысле. Чтобы признать значение за общими понятиями, для этого нет необходимости их обожествлять, превращать в существа, отличные от индивидов или особей. Как мне не нужно, для того чтобы гнушаться
порока, превращать его в самостоятельное существо в виде дьявола по примеру древних христианских теологов, имевших для
каждого порока своего особого дьявола (так например для пьянства—дьявола пьянства, для обжорства—дьявола обжорства,'для
завнсти—дьявола зависти, для скупости—дьявола скупости, для
страсти к игре—игорного дьявола, одно время даже для новомодного покроя брюк—особого брючного дьявола),—так же точно не
нужно мне для того, чтобы любить их, представлять себе добродетель, мудрость, справедливость в виде богов, или—что то же—
сзойств бога.
Мораль и религия противоречат друг
другу.
Криминалист Карпцов был так набожен, был таким библейским
человеком, таким христианином, что каждый месяц ходил к святому причастию и не меньше 53 раз — подумайте: 53! — прочел библию, и тем не менее—или, быть может, именно поэтому—этот
благочестивый человек приговорил к смерти не меньше 20 ООО—
подумайте: 20 000!—злоумышленников, т. е. бедных грешников
(Штейн, История уголовного права). Коннетабль Анн де Монморанси... быть может, единственный глава католической партии,
любивший религию ради нее самой... Если верить Брантомѵ, он
отдавал распоряжения пытать, убивать, поджигать, читая свой молитвенник и нисколько не обрывая своих молитв,—до такой степени он был добросовестен. Что же общего у веры с любовью, у
религии с моралью? Ничего или так же мало, как мало общего
друг с другом у бога, к которому имеет отношение вера, и у человека, к которому имеет отношение любовь; ибо, согласно вере,
человек и бог самым резким образом противопоставлены один
другому; бог есть не чувственное, человек—- чувственное существо; бог— существо совершенное, человек — существо несчастное. Так же мало из веры может последовать любовь, как из. совершенства—жалкое состояние, из изобилия—недостаток. Больше
того: мораль и религия, вера и любовь прямо противоречат друг
другу. Тот, кто любит бога, не может более любить человека, он
потерял понимание человеческого; но и наоборот: если кто любит
человека, поистине от всего сердца любит, тот не может более
любить бога, тот не может дать понапрасну испаряться горячей
человеческой крови в пустом пространстве бесконечной беспредметности и недействительности.
*
Если попы рассудительны, то они злы, бесчестны, лицемерны;
если же они честны, добры, то они глупы.
*
*
Положение «мир от бога» одинаково с положением: «король
от бича». Сколь истинно королевство божьей милостью, столь же
истинен и мир божьей милостью. Там на место естественного опосредствования, естественного условия, естественной причины, здесь
на место политического опосредствования и причины ставится воображаемая причина.
- (Из посмертных афоризмов о праве и государстве).
*
*
В политике, как и в религии, мало помогают половинчатость
и двусмысленности; кто их применяет и предлагает, работает, сам
не зная того, на пользу реакции.
*
*
*
Где кончается математическая достоверность, там начинается,
для слабых голов и сейчас еще, богословие. Религия есть взгляд
на" необходимое, как на продукт произвола и свободной воли. Противоположный образ мысли, образ мысли нерелигиозный и безбожный, представлен, наоборот, циклопом Эврипида, когда он говорит: «Земля, хочет она того или не хочет, должна выращивать
траву для питания моего стада».
(Из «Сущности религии»),
2.
Атеистическая «религия человечества».
'Религия представляет бога в виде самостоятельного, личного
существа; она видит поэтому в бессмертии и других божественных
свойствах, к которым приобщается человек, как бы дар божественной любви и доброты. Но истинная причина, почему человек при
том вырождении религии, при котором мы сейчас присутствуем,
становится в учении о последних вещах божественным существом,—та, что бог, по крайней мере, христианский, есть не что
иное, как существо человека. Но если существо человека есть божественное существо, то необходимым следствием является то,
что и инвалиды, отдельные люди, суть боги или становятся ими.
Идеалом или образцом и в то же время порукой божественности
и бессмертия не только отвлеченной сущности человека, которая
есть дух, разум, воля, сознание и которая обожествляется в лице
невидимого, неосязаемого бога, так называемого бога отца, но
также и отдельного, т. е. действительного человека, индивида,
является в христианстве богочеловек
Христос, в котором поэтому
явственно дает себя занять и обнаруживается то, что божественное
существо есть существо, не отличающееся от человека. Современный рационалист в своей половинчатости, бестактности и поверхностности отказался от богочеловека, но сохранил бога, отказался
от вывода, от необходимого следствия веры в бога, но основание
ее оставил; он, как я уже показал по другому поводу, сохранил
учение, но отверг применение, пример, индивидуальный, частный
случай, подтверждающий данное учение. Рационалист сохранил
дух: бог есть дух,'—говорит, подобно правоверному христианину,
рационалист,—но, несмотря на свой дух и свою разумную веру,
он потерял голову; у него дух лишен головы, тогда как правоверный христианин совершенно разумным и естественным образом придал божественному духу в лице своего богочеловека го-
лову, как необходимый орган и символ духа. Рационалист признает божественную волю, но без необходимых условий и внешних средств для этой воли, без двигательных нервов и мускулов,
одним словом—без тех орудий, при посредстве которых христианский бог чудесами богочеловека подтверждает и доказывает,
что он имеет действительную волю; рационалист говорит о божественной благости и провидении, но он устраняет человеческое
сердце богочеловека, сердце, без которого благость и провидение—лишь пустые слова'без истинного содержания; рационалист
основывает бессмертие на идее бога,—правда, не целиком на ней,
но отчасти; он говорит о божественных свойствах, как ручательстве бессмертия: «как верно то, что есть бог, так верно и то, что
мы бессмертны»; тем не менее он отвергал свидетельство неразрывности, единство божества и бессмертия, ибо отвергает единство божественного и человеческого
существа в богочеловеке, как
идолопоклонническое суеверие. Заключение «как истинно то, что
есть бог, так истинно то, что мы бессмертны» оправдывается лишь
в том случае, если оно имеет своей предпосылкой положение или
может быть положением, гласящим: «как истинно то, что бог есть
человек, так истинно и то, что человек есть бог, а стало быть, истинно также и то, что свойства бога не подлежат смерти и не
подвергаться уничтожению есть свойства человека».
Вывод о бессмертии человека, следующий из понятия бытия
божьего, основывается только на единстве, т. е. на отсутствии
различия между божественным и человеческим существом. Даже
религиозная вера, хотя она и представляет бессмертие, как следствие благости божией, как дело милосердия, свободной воли бога,
основывается в то же время на родственности божественного и
человеческого существа и духа. Но родственность предполагает
единство и одинаковость существа или природы, или—лучше—
она есть лишь чувственное выражение для единства и одинаковости. Поэтому — и этим я ограничиваю и поправляю ранее высказанное положение—вера человека в бессмертие, разумеется не
в смысле христианского бессмертия, может быть связана с безразличным и не имеющим никакого отношения к человеку предметом, существом природы, солнцем и другими небесными телами;
но лишь при условии, что человек рассматривает себя как существо, родственное этим небесным телам, что он верит, ,что его
существо и существо этих небесных тел имеют одну и ту же природу. Если я небесного происхождения, имею небесное существо,
то я, разумеется, так же мало могу умереть, как "и эти небесные
тела, если я их мыслю себе бессмертными. Их бессмертие ручается
за мое собственное, ибо как мог бы отец допустить гибель и смерть
своих собственных детей? Он бы тем самым выступил против своих собственных плоти и крови, против своего собственного существа. Как небесное существо производит лишь небесное, так и бессмертное существо производит з свою очередь лишь бессмертных
детей или существ. Поэтому человек ведет "свое бытие от бога,
дабы тем самым заверить свое божественное происхождение и через него—божественность, т. е. бессмертие своего существа. Кто
хочет выйти из рамок смерти, этого следствия естественной необходимости, тот должен выйти и из рамок ее основания, из рамок самой природы. Кто не хочет кончить в рамках природы, тот
не может и начинать в рамках природы, а только вместе
с богом. Не природа, нет!—сверхъестественное,' божественное существо есть творец, есть моя причина, т". е., попросту говоря, я —•
сверхъестественное божественное существо, но основанием моей
сверхъестественности и божественности является не мое происхождение от сверхъестественного существа; наоборот, я произвожу
себя от такового потому, что я в глубине моего существа до такого выведения уже рассматриваю себя как таковое и потому не
могу себя мыслить происшедшим от природы, от мира. «Мы видим",—говорит Лютер в своем толковании первой книги Моисея,—
что человек есть особое творение, что он создан потому, что он
причастен к божеству и бессмертию, ибо человек есть более совершенное творение, чем небо п земля со всем, что на них имеется».
«Я есмь человек,—говорит он же в другом месте, уже приведенном в одном из моих более ранних сочинений, — и это значит
больше, чем быть князем. Причина же та, что князя бог не сотворил, но сотворил человека, что я есмь человек, это сделал один
только бог». Точно так же говорит языческий философ Эпиктет,
в своих учениях и представлениях в высшей степени приближающийся однако к христианству: «Если бы кто твердо усвоил себе,
что мы все имеем главной причиной бога, что бог есть отец людей (и богов), то он наверное никогда не подумал бы о себе неуважительно или низко. Если бы император тебя усыновил, то
никто не мог бы вынести твоей гордости. Не должна ли, стало
быть, мысль о том, что ты сын божий, тебя подымать, делать тебя
гордым?» Но не есть ли каждая вещь, каждое существо также й
создание божие? Согласно религии, не сотворил ли бог все? Да, но
он не есть в том же смысле творец животных, растений, камней,
как он есть творец людей; в отношении к людям он—отец, но он
не отец животных, иначе бы христиане заключили братство с животными, как они из того, что бог есть отец людей, выводят, что
все люди—братья и должны быть братьями. «Он (бог),—говорит
например Лютер в своем собрании церковных проповедей,—он
зедь ваш отец, ц только ваш отец, а не отец птиц, гусей или уток
(а также и не безбожных язычников)». Точно так же и платоники,
у которых была почти та же теология, как и у христиан, но не
было христологии, различали между богом как строителем, демиургом, и богом как отцом; бога как создателя духовных существлюдей — они называли отцом, бога как творца неодушевленных
существ и животных они называли строителем, демиургом (Плутарх, Платоновские вопросы). Смысл учения, что бог есть отец
людей, «ли что люди—дети бога, заключается, стало быть, в том,
что человек—божественного происхождения, сущность его божественна, а стало быть, и бессмертна. Бог, как общий отец людей,
есть не что иное, как олицетворенное единство и одинаковость
человеческого рода, понятие рода, в котором все различия людей
уничтожены, устранены, но при этом родовое понятие, в отличие
от действительных людей, представляется в виде самостоятельного существа.
Поэтому совершенно естественно и необходимо, чтобы божественные свойства стали свойствами человека; ибо то, что относится к роду, относится и к индивидам. Род есть лишь то, что
охватывает всех индивидов, то, что обще всем. Поэтому там, где
верят в бога без веры в бессмёртие,—там либо истинный смысл я
понятие божества еще не найдены, либо опять утрачены. А этот
смысл заключается в том, что бог есть олицетворенное родовое
понятие человека, олицетворенная божественность и бессмертие
человека. Поэтому вера человека в бога—разумеется, в бога, поскольку он не выражает собою существа природы — есть, как я
это говорил в «Сущности христианства», лишь вера человека в свое
собственное существо. Бог есть лишь существо, исполняющее, осуществляющее желания человека, но как могу я верить в существо,
осуществляющее м>ои желания, если я заранее или одновременно
не верю в святость, существенность или право мерность, безусловную значимость моих желаний? Но как могу я верить в необходимость исполнения моих желаний, в необходимость, которая является основой необходимости существования исполнителя желаний—бота, если я не верю в себя, в истинность и святость моего
существа? То, чего я желаю,—это мое сердце, мое существо. Как
могу я отличить мое существо от моих желаний? Поэтому вера
в бога зависит лишь от веры человека в сверхъестественное величие его существа. Или—в божественном существе овеществляет
он свое собственное существо. В божественном всеведении находит он,—чтобы еще раз коротко сформулировать сказанное,—
исполнение своего желания все знать, или овеществлять способность человеческого духа в своем знании не ограничиваться тем
или другим предметом, но охватывать все; в божественном вездесущии «ли в повсеместности осуществляет он лишь желание не
быть связанным ни с каким местом, или овеществлять способность
человеческого духа в своих мыслях быть всюду; в божественной
вечности или принадлежности ко всем временам осуществляет он
желание не быть связанным ни с каким временем, не иметь конца,
или овеществляет бесконечность и (по крайней мере, если он последовательно мыслит) безначальность человеческого существа,
человеческой души, ибо если душа не может умереть, прекратить
свое существование, то не может она возникнуть, иметь начало,
как многие этому совершенно последовательно верили; в божественном всемогуществе осуществляет он лишь желание все мочь,
желание, связанное с желанием все знать или являющееся лишь
его следствием; ибо человек что-нибудь может лишь в той мере,
в какой как говорит англичанин Бэкон он знает, потому что, кто
не знает, как делают какую-нибудь вещь, гот и не может ее сделать; способность делать предполагает знание; поэтому кто хочет
все знать, тот хочет и все мочь; или—в божественном всемогуществе человек овеществляет и обожествляет ліишь свое могущество,
свою неограниченную способность ко всему. Животное,—говорит
один христианский мыслитель, который сам писал об истинности
христианской религии, Гуго Гроций,—может только либо то, либо
это; но могущество, способность человека неограниченны. В божественном блаженстве и совершенстве человек осуществляет лишь
желание самому .быть блаженным и совершенным, а стало быть, и
морально совершенным; ибо без морального совершенства нет
блаженства; кто может быть блажен при наличии у него ревности,
зависни и недоброжелательства, злобности и мстительности, жадности и пьянства? Божественное существо есть, стало быть, существо человека, но не то, которое имеется в прозаической действительности, а то, которое соответствует поэтическим требованиям,
желаниям и представлениям человека, которое—вернее—должно
быть и когда-нибудь будет. Но самое горячее, самое искреннее,
самое святое желание и мысль человека ,есть—или по крайней мере
было некогда —• желание бессмертной жизни и стремление стать
бессмертным существом. Поэтому существо человека, поскольку
он желает и мыслит бессмертие, есть божественное существо. Иначе бог есть не что иное, как будущее^-бессмертное существо человека, мыслимое—ів отличие от телесного, чувственно существующего человека—самодовлеющим духовным существом. Бог есть
нечеловеческое, сверхчеловеческое существо; но будущий бессмертный человек есть также существо, стоящее над нынешним,
действительным, смертным человеком. Как бог отличен от человека, так же отличен и составляющий предмет веры будущий, или
бессмертный, человек от действительного, нынешнего, или смертного, человека. Короче говоря, единство, неразличимость божества
и бессмертия, а следовательно божества и чёловечества, есть разрешенная загадка религии, в частности христианской; как, стало
быть, природа (природа как предмет и содержание человеческих
желаний и воображения) есть сущность естественной религии, так
и человек (человек как предмет и содержание человеческих желаний, человеческого воображения и абстракции) есть сущность религии духа, христианской религии.
Доказав в предыдущих лекциях, что лишь в бессмертии находится и достигается смысл и цель божества, что божество и бессмертие—одно и то же, что божество из самостоятельного существа, каким оно является первоначально, становится в конце концов в виде бессмертия свойством человека, я пришел к концу моей
работы и тем самым—к концу моих лекций. Я хотел доказать, что
бог естественной 'религии есть природа, бог духовной религии,
христианства,—дух, т. е. сущность человека. Я хотел это доказать
для того, чтобы человек впредь искал и находил определяющий
мотив своего поведения, цель своего мышления, источник исцеления своих бед и страданий—в себе самом, а не вне себя, как
язычник, или над собой, как христианин. Я не мог, разумеется, это
доказательство, а именно в отношении к наиболее интересующему
нас христианству, провести через все отдельные учения и представления христианства; я еще меньше мог его распространить,
как я первоначально имел в виду, на историю христианской философии. Но этого не нужно, по крайней мере когда дело идет
о предмете, каким был предмет этих лекций, не нужно проводить
свою тему вплоть до единичных и особых случаев. Главное—это
основные положения, основные тезисы, из которых следуют частные выводы, как простые следствия. И эти основные положения
моего учения я представил, и притом представил1*наивозможно
яснее. Разумеется, я мог бы быть короче в моих первых лекциях.
Но меня извиняет то обстоятельство, что я — не академический
доцент, что у меня нет навыка к лекциям, что я не держал перед
собою готовой тетрадки и что я поэтому не сумел мой материал
соразмерить и соответственно подрезделить по мерке академического времени. Но в моих лекциях остался бы пробел, я закончил
бы их фальшивой нотой, если бы я вздумал оборвать их на том
доказательстве, которое я развил в последний раз, потому что я
оставил нетронутыми те предпосылки, исходные положения или
гипотезы, от которых христианин умозаключает к божеству и бессмертию.
Бог, говорил я, есть осуществитель, или действительность человеческих желаний счастья, совершенства, бессмертия. Кто, стало
быть,—можно из этого заключить,—отнимет у человека бога, тот
вырвет у него сердце из груди. Однако я оспариваю те предпосылки, на основании которых религия и теология умозаключают к необходимости и бытию божества, или — что то же — бессмертия.
Я утверждаю, что желания, которые исполняются лишь в воображении, или исходя из которых умозаключают к бытию воображаемого существа, являются тоже лишь воображаемыми, а не
действительными, не истинными желаниями человеческого сердца;
я утверждаю, что те пределы, которые религиозное воображение
преодолевает в божестве или бессмертии, являются необходимыми
определениями человеческого существа, неотделимыми от него,
а следовательно являются пределами только воображения чело-"
века. Так например для человека отнюдь не является ограничением
то, что он связан с местом или временем, что «его тело приковывает его к земле», как говорит рационалист, «мешает ему поэтому
знать, что делается на луне, на Венере». Тяготение, привязывающее меня к земле, есть не что иное, как вы раж вне моей связи с землею, моей неотделимости от нее; что я такое, если я порву эту
связь с землей? Фантом, потому, что я по существу—земное существо. Мое желание перенестись на какое-нибудь другое мировое тело есть поэтому лишь воображаемое желание. Если бы я
мог осуществить это желание, то я бы убедился, что это—лишь
фантастическое глупое желание, потому что я почувствовал бы
себя в высшей степени неладно на чужом мировом теле и поэтому—к сожалению, слишком поздно—понял бы, что было бы лучше
и разумнее оставаться на земле.
Есть много человеческих желаний, которых не понимают, полагая, что они желают быть осуществлены. Они хотят оставаться
лишь желанием, они имеют цену лишь в воображении; их исполнение было бы горчайшим разочарованием для человека. Таким
желанием .является и желание вечной жизни. Если бы это желание
исполнилось, то люди пресытились бы вечной жизнью и начали бы
желать смерти. В действительности человек не желает только преждевременной, насильственной, страшной смерти. Все имеет свою
меру,—говорит один языческий философ,—всем под конец пресыщаешься, даже и жизнью, и человек желает поэтому в конце концов смерти. Нормальная, сообразная с природой смерть, смерть
законченного человека, который изжил себя, не имеет поэтому ничего страшного. Старцы поэтому часто жаждут смерти. Немецкий
философ Кант в своем нетерпении не мог дождаться смерти, до
такой степени он ее жаждал, но не для того, чтобы вновь воскреснуть, а из потребности конца. Только неестественный, трагический
случай смерти—смерть ребенка, юноши, мужа в цвете сил—возмущает нас против смерти и порождает желание новой жизни.
Но как ни страшны, ни горестны подобные случаи для тех, кто
остается в живых, они уже по тому одному не оправдывают принятия наміи потустороннего мира, что эти отклоняющиеся от
нормы случаи—хотя бы они чаще встречались, чем естественная
смерть—имеют своим выводом тоже отклоняющийся от нормы
потусторонний мир, мир лишь для насильственно или преждевременно умерших; но подобный странный потусторонний мир
был бы чем-то невероятным и противным рассудку.
.Но как желание вечной жизни, так и желание всеведения и
безграничного совершенства есть лишь воображаемое жёлание, и
влечение человека к безграничному знанию и совершенствованию,
якобы лежащее в основе этого желания, лишь присочинено человеку, как доказывают ежедневный опыт и история. Человек не
хочет знать всего, он хочет знать лишь то, к чему он питает особую любовь и склонность. Даже и человек с универсальной жаждой знания, что представляет собою редкое явление, никоим образом «е хочет знать всего без различия; он не хочет знать всех
камней, как минералог, или всех растений, как ботаник, он довольствуется обобщениями, потому что они удовлетворяют его
склонность к общему; и точно так же человек не хочет все мочь,
а только то, к чему он чувствует в себе особое влечение; он не
стремится к безграничному, неопределенному совершенству, которое осуществляется лишь в боге или бесконечном потустороннем
мире, а только к совершенству определенному, ограниченному, к
совершенству в границах определенной области. Поэтому мы видим, что не только отдельные люди останавливаются на одном
месте, однажды достигнув определенного миропонимания, определенной высоты развития и совершенствования их наклонностей, но
останавливаются даже и целые народы, в течение веков не трогаясь с места, сохраняя один уровень. Так, китайцы и индусы еще
и поныне находятся на том же уровне, на котором они стояли уже
за тысячелетие до того. Как согласовать эти явления с тем безграничным стремлением к совершенствованию, которое рационалист приписывает человеку и которому он пытается поэтому уделить место в бесконечном потустороннем мире? Человек, наоборот, имеет не только стремление к тому, чтобы итти вперед, но
также и стремление к отдыху, к остановке на уровне, однажды
достигнутом и отвечающем определенности éro существа. Из этих
противоположных стремлений рождается историческая борьба,
борьба и нашего времени. Прогрессисты, или так называемые революционеры, стремятся вперед, консерваторы хотят оставить
все по-старому, хотя они, будучи большею частью также верующими, отнюдь не принадлежат к числу сторонников застоя, когда
речь идет о смерти, но, наоборот, готовы допустить в потустороннем мире самые радикальные изменения, самые революционные
преобразования своего существа, чтобы там иметь возможность
продолжать свое драгоценное существование. Но и революционеры
не хотят итти вперед до бесконечности, у них есть определенные
цели, достигнув которых они останавливаются и сами делаются
сторонниками застоя. Поэтому за продолжение нити истории, которую обрывают старые прогрессисты, как только они достигли
цели своих желаний и с тем вместе пределов своего существа и
разума, всегда берется новое, молодое поколение.
И так же мало, как у человека имеется неограниченного влечения к знанию и совершенствованию,—так же мало у него и неограниченного, ненасытного стремления к счастью, не могущему
быть удовлетворенным никакими благами земли. Наоборот, человек, даже верящий в бессмертие, вполне довольствуется земною
жизнью, до тех пор по крайней мере, пока ему хорошо живется,
пока он не нуждается в самом необходимом, пока его не постигает какое-либо особое тяжелое несчастье. Человек хочет только
устранить беды этой жизни, но не хочет существенно иной жизни.
«Гренландцы, например, помещают своих блаженных в море, потому что из моря они получают большую часть своей пищи. Там,
говорят они, есть хорошая вода, изобилие птиц, рыб, тюленей и
северных оленей, которых можно без труда поймать или даже
найти заживо сваренными в большом котле».
Перед нами здесь пример, образчик человеческого стремления
к счастью. Желание гренландца не выходит за пределы его страны, его природы. Он не хочет по существу других вещей, чем те,
которые ему дает его страна; он лишь хочет, чтобы то, что она
ему дает, было хорошего качества и в изобилии. Он и на том свете
хочет продолжать ловить рыб и тюленей; то, что он собой представляет, не является для него ограничением, не является для него
тяжестью; он не хочет выходить за пределы своего рода, из рамок
своего положения и жизненного призвания, он хочет лишь на том
свете устроить себе более удобную и легкую ловлю. Какое скромное желание! Культурный человек, дух и жизнь которого не привязаны к ограниченному месту, как дух и жизнь дикаря, не знающего ничего другого, кроме своей страны, и разум которого не
простирается дальше нескольких географических миль, имеет, разумеется, не столь ограниченные желания. Он желает—если оставаться при том же примере—не только животных и растений
страны, потребляемых им; он хочет удовлетворять свои потребности и продуктами самых отдаленных стран; его потребности
и желания по сравнению с потребностями и желаниями дикаря
бесконечны; и тем не менее они все не выходят ни из границ
природы земли, ни из границ природы человека. Но по существу
своему культурный человек совпадает с дикарем: он не хочет
небесных яств, о которых он ничего не знает,—он хочет лишь
произведений земли; он не хочет упразднить еду вообще, но
только потребление грубых произведений, всецело ограниченных
данным местом. Одним словом, разумное и своеобразное с природой стремление к счастью не выходит из границ существа человека, из границ существа этой жизни, этой земли; оно хочет уничтожить лишь те беды, лишь те ограничения, которые действительно можно уничтожить, которые не необходимы и не принадлежат
к сущности жизни.
Поэтому желания, выходящие из границ человеческой природы или породы, как например желание совсем не есть, вообще
не зависеть от телесных потребностей, суть воображаемые фантастические желания, а стало быть, и существо, удовлетворяющее
эти желания, и жизнь, в которой они находят себе удовлетворение, являются существом и жизнью воображаемыми и фантастическими. Наоборот, желание, не выходящее из границ человеческой породы или природы, имеющее свое основание не в одном
только беспочвенном воображении и неестественном взвинчивании
чувств, но и в действительной потребности и влечении человеческой природы, находит свое удовлетворение в границах человеческой породы, в которые входит человеческая история. Умозаключение к религиозному или теологическому потустороннему миру,
к будущей жизни, в целях усовершенствования людей, находило
бы поэтому себе оправдание лишь в том случае, если бы человечество оставалось постоянно на том же месте, если бы не было
истории, совершенствования, улучшения человеческой породы на
земле, хотя и в этом случае подобные умозаключения, если бы
даже и имели свое оправдание, не были бы все же еще на этом
основании истинными.
Существует однако культурная история человечества: ведь
даже животные и растения с течением времени видоизменяются
и культивируются до такой степени, что мы не можем даже найти
и установить их прародителей в природе. Бесчисленное множество
вещей, которых не умели и не знали наши предшественники, мы
умеем и знаем в настоящее время. Коперник —• на пример которого
я уже ссылался, исходя из точки зрения антропологии, в моем
«Вопросе о бессмертии», но которого я не могу не повторить тут.
ибо считаю это весьма поучительным—еще. на смертном одре
скорбел о том, что ему в течение всей его жизни не пришлось ни
разу увидеть планеты Меркурия, как он того ни желал и каких
усилий к этому ни делал. Теперь астрономы видят в ясный день
эту планету в свои превосходные телескопы. Так в ходе истории
исполняются те жёлания человека, которые не являются воображаемыми, фантастическими. Так осуществится когда-нибудь и то,
что является теперь только желанием, станет действительностью
бесчисленное множество вещей, кажущихся невозможными исполненным предрассудков защитникам и сторонникам существующих
верований и религиозных учреждений, существующих социальных
и политических отношений; бесчисленное множество вещей, которых мы теперь не знаем, но узнать хотим, узнают наши потомки.
Поэтому на место божества, в котором находят свое осуществление беспочвенные и безмерные желания человека, нам надлежит
поставить человеческий род или человеческую природу, на место
религии — образование, на место потустороннего мира над нашей
могилой где-то там, в небесах, — потусторонний мир над нашей
могилой тут, на земле, историческую будущность, грядущее человечества.
Христианство поставило себе целью осуществление неосуществимых желаний человека, но именно поэтому оно оставило без
внимания достижимые человеческие желания; посулив людям вечную жизнь, оно лишило их жизни временной; внушив доверие
к помощи бога, оно лишило их доверия к собственным силам,
внушив веру в лучшую жизнь на небе, оно отняло веру в лучшую жизнь на земле и стремление осуществить подобную жизнь.
Христианство дало человеку то, чего он желает в своем воображении, но именно поэтому не дало ему того, в чем он по-настоящему в действительности нуждается и чего он желает. В своем
воображении он стремится^к небесному, преизбыточному счастью,
в действительности — к земному, умеренному. К земному счастью
принадлежит, разумеется, не богатство, роскошь, пышность, великолепие, блеск и прочая мишура, но только самое необходимое,
только то, без чего человек не может по-человечески существовать. Но какое бесчисленное множество-людей нуждается в самом
необходимом! На этом основании христиане признают святотатственным или бесчеловечным отрицать потусторонний мир и тем
лишать несчастных горемычных этой земли единственного утешения—надежды на лучший мир. Именно в этом видят они еще и
ныне нравственное значение потустороннего мира, его тождественность с божеством; ибо без потустороннего мира нет искупления, нет справедливости, которая по крайней мере вознаградила бы на небесах за их горести тех, которые здесь страдают и
несчастны. Однако этот аргумент в защиту потустороннего мира
есть лишь предлог, потому что отсюда вытекали бы потусторонний мир, бессмертие только для несчастных, но не для тех,
которые уже на земле были столь счастливы, что нашли необходимые средства для удовлетворения и развития своих человеческих потребностей и наклонностей. Для последних из указанного
соображения по необходимости вытекает лишь то, что они либо
после смерти перестают существовать, потому что достигли цели
человеческих желаний, или что им на том свете будет хуже, чем
на этом, что они на небесах займут то место, которое занимали
когда-то на земле их братья. Так, камчадалы и в самом деле верят,
что те, которые здесь были бедны, на том свете будут богаты,
богатые же, наоборот, будут бедны, дабы установилось известное
равновесие между состоянием на том и на этом свете. Но этого
не хотят и в это не верят те господа из христиан, которые вышеуказанными соображениями защищают потусторонний мир; они
хотят там так же хорошо жить, как и несчастные, как и бедняки.
С этим соображением в защиту потустороннего мира обстоит
так же, как и с тем соображением защиты веры в бога, которое
на устах у многих ученых, говорящих, что хотя атеизм и верен и
хотя сами они атеисты, но атеизм есть лишь дело ученых господ,
а не людей вообще, что он не есть принадлежность толпы вообще,
народа; поэтому неудобно, непрактично и даже святотатственно
открыто проповедывать атеизм. Однако, господа, так говорящие,
прячут за неопределенными, имеющими различное значение словами «народ» или «толпа» свою собственную нерешительность,
неясность и неуверенность; народ для них — лишь предлог. То,
в чем человек истинно убежден, того он не только не боится высказать, но и должен высказать открыто. То, что не имеет мужества выступить на свет общественности, — то не имеет и силы
вынести света. Атеизм, страдающий светобоязнью, есть поэтому
недостойный, пустой атеизм. Ему нечего сказать, поэтому он и не
доверяет себе настолько, чтобы высказаться. Тот, кто является
атеистом лишь приватно или кто скрытый атеист, тот говорит или
думает лишь про себя, что нет бога, его атеизм выражается лишь
в этом отрицательном положении, и это положение сверх того
стоит у него одиноко, так что, несмотря на его атеизм, у него все
остается по-старому. И на самом деле, если бы атеизм был не чем
иным, как отрицанием, простым непризнанием без содержания,
Хрестоматия по истории атеизма.
• 13
то он бы не годился для народа, т. е. не годился бы для людей,
для общественной жизни; да и внутренняя ценность его была бы
ничтожна. Однако атеизм истинный, не боящийся света, вместе
с тем и положителен; атеизм отрицает существо, отвлеченное от
человека, которое называется богом, чтобы на его место поставить в качестве истинного действительное существо человека.
Теизм — вера в бога — напротив того, отрицателен; он отрицает природу, мир и человечество: перед богом мир и человек —
ничто, бог есть и был прежде, чем существовали мир и люди; он
может быть без них, он есть олицетворенное ничто мира и человека; бот может — так по крайней мере думает строго придерживающийся веры в бога — каждый миг превратить мир в ничто: для
истинного теиста нет власти и красоты природы, нет добродетели
человека; все отнимает верующий в бога человек у человека и
природы, чтобы только своего бога разукрасить и прославить.
«.Только бога следует любить, — говорит например св. Августин, —
весь же этот мир, т. е. все чувственное, надлежит презирать».
«Бог, — говорит он людям в одном латинском письме, — хочет
быть единственным другом или же просто никаким». «К богу
одному, —• говорит он в другом письме, — подобает обращать веру,
надежду, любовь, поэтому и называются они теологическими добродетелями». Поэтому теизм «отрицателен и разрушителен»;
только на ничтожестве мира и человека, т. е. действительного
человека, строит он свою веру. Но ведь бог — не что иное, как
отвлеченное, фантастическое, превращенное воображением самостоятельное существо человека и природы; теизм приносит поэтому в жертву действительную жизнь и существо вещей и людей
простому существу, имеющему свое бытие лишь в мыслях и фантазии. Атеизм, наоборот, приносит в жертву мысленное, фантастическое существо действительной жизни и действительному
существу. Атеизм поэтому положителен, утвердителен; он возвращает природе и человечеству то значение, то достоинство, которое отнял у них теизм, он оживляет природу и человечество, из
которых теизм высосал лучшие силы. Бог ревнует к природе, к
человеку, как мы раньше уже видели; он один хочет быть почитаем и любим, он хочет, чтобы ему одному служили; он один
хочет быть чем-то, все остальное должно быть ничем, т. е. теизм
завистлив по отношению к человеку и миру; он не предоставляет
им ничего хорошего. Зависть, недоброжелательство, ревность —
разрушительные, отрицающие страсти. Атеизм же либерален, щедр,
свободомыслящ; он предоставляет каждому существу иметь свою
волю, свой талант; он от сердца радуется красоте природы и
добродетели человека: радость, любовь не разрушают, а оживляют, утверждают.
Но точно так же, как с атеизмом, обстоит дело и с неразрывно
с ним связанным упразднением потустороннего мира. Если бы
это упразднение было всего только пустым, бессодержательным и
безрезультатным отрицанием, то было бы лучше или по крайней
мере безразлично, поддерживать ли его или от него отказаться.
Но отрицание того света имеет своим следствием утверждение
этого; упразднение вечной жизни на небесах заключает в себе
требоівание: необходимо должно стать лучше на земле; оно превращает лучшее будущее из предмета праздной, бездейственной
веры в предмет человеческой обязанности, в предмет человеческой
самодеятельности. Конечно вопиюще несправедливо, что, в то время как у одних людей есть все, у других нет ничего; в то время
как одни утопают во всех наслаждениях жизни, искусства и науки, другие лишены самого необходимого. Однако неразумно на
этом основании базировать необходимость другой жизни, где люди получают вознаграждение за страдания и лишения на земле,
так же неразумно, как если бы я из недостатков тайной юстиции,
которая до сих пор у нас существовала, вывел заключение о необходимости публичного и устного судопроизводства только на
небесах. Необходимым выводом из существующих несправедливостей и бедствий человеческой жизни является единственно лишь
стремление их устранить, но отнюдь не вера в потусторонний
мир, вера, которая складывает руки на груди и предоставляет злу
беспрепятственно существовать. Но на это можно возразить, что
бедствия нашего гражданского и политического мира могут быть
устранены, но что из того тем, которые от этих бедствий пострадали и уже умерли? Что отошедшим вообще до лучшего будущего?
Им, разумеется, нет пользы от него, но они не имеют пользы и
от потустороннего мира. Потусторонний мир всегда приходит со
своими снадобьями слишком поздно; он ценит бедствия после
того, как уже все прошло, лишь со смертью или после смерти,
следовательно тогда, когда человек не имеет уже чувства страдания, а следовательно,й потребности исцеления: ибо смерть имеет
для нас то плохое,—по крайней мере до тех пор, пока живем и
ее себе представляем, — что она у нас отнимает вместе с жизнью
и ощущения, сознание хорошего, прекрасного, приятного, но зато
и то хорошее, что она вместе с ощущением, сознанием избавляет
нас от всех бедствий, страданий и горестных чувств.
Любовь, которую создал потусторонний мир, которая страждущих утешает тем светом, есть любовь, которая исцеляет больного после того, как он умер, утоляет жаждущего после того, как
он погиб от отсутствия питья, насыщает голодного после того, как
он умер от голода.
Оставим поэтому мертвых почивать в мире! Будем в этом
отношении следовать примеру язычников! «Язычники, — говорю
я в своем «Вопросе о бессмертии», — напутствовали своих мертвых в могилу словами: «Пусть мирно почиют твои кости!» или
«Покойся в мире!» Тогда как христиане^как рационалисты, кричат
в уши умирающему веселое: ,, Vivas e<£T<y'fescas ad infinitum!" или
в качестве поэтических врачевателей душ a la доктор Эйзенбарт
вколачивают ему вместо страха смерти—страх перед богом как залог его небесного блаженства. Оставим таким образом мертвых
и позаботимся лишь о живых! Если мы в лучшую жизнь больше
не верим, но ее хотим, хотим не в одиночку, а соединенными силами, то мы и создадим лучшую жизнь, то мы и устраним по
крайней мере самые грубые, самые вопиющие и терзающие несправедливости и бедствия, от которых до сих пор страдало человечество.
Но, чтобы этого хотеть и это осуществить, мы должны на
место любви к богу поставить любовь к человеку, как единственную истинную религию, на место веры в бога — веру человека
в самого себя, в свою собственную силу, веру в то, что судьба человека зависит не от существа, вне его или над ним стоящего,
а от него самого, что единственным дьяводом человека является
человек грубый, суеверный, своекорыстный, злой, но также единственным богом человека является человек.
(«Сущность христианства»).
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ БАКУНИН.
1.
Религия необходимо
приводит к теоретическому и
му рабству.
практическо-
Все религии со своими богами были всегда не чем иным, как
созданием верующей и легковерной фантазии человека, еще не
достигшего уровня чистого рассуждения и свободной, опирающейся на науку мысли. Религиозное небо было лишь миражем, в
котором воспламененный верой человек находил так долго свое
собственное изображение, но увеличенное и отраженное, — т. е.
обожествленное.
История религий, история величия и упадка следовавших друг
за другом богов является не чем иным, как историей развития ума
и коллективного сознания людей. По мере того как люди открывали —• в себе ли или вне себя — какую-нибудь силу, способность
или качество, они приписывали их своим богам, чрезмерно увеличив их, расширив своей религиозной фантазией, подобно тому,
как это делают дети. Таким образом, благодаря великодушию и
скромности людей небо обогатилось добычей, отнятой у земли, и
как естественное следствие, — чем небо становилось богаче, тем
беднее становилось человечество. Как только божество было признано, оно естественно было провозглашено господином, источником, вершителем всего: реальный мир стал существовать как его
отблеск, и человек, его Ш£ознательный творец, пал на колени
перед своим творением и объявил себя рабом, созданием божества.
Христианство является религией по преимуществу, именно потому, что оно представляет природу и сущность всякой религии,
каковы: систематическое, абсолютное умаление, уничтожение и порабощение человечества в пользу божества—высший принцип не
только всякой религии, но и всякой метафизики как деистической,
так и пантеистической. Так как бог — все, то реальный мир и человек— ничто. Так как бог — истина, справедливость и бесконечная жизнь, то человек — ложь, несправедливость и смерть. Так
как бог — господин, то человек — раб. Неспособный сам отыскать
путь к справедливости и истине, он должен получить их как откровение свыше, посредством посланников и избранников божьей
милости. Если же существует откровение, должны существовать
свыше вдохновленные пророки, должны существовать священники, а раз эти последние признаны за представителей божества
на земле, за учителей и вождей человечества на пути к вечной
жизни, то они тем самым получают миссию руководить, повелевать и управлять человечеством в его земном существовании. Все
эти люди обязаны слепо верить им и беспрекословно им повиноваться; будучи рабами бога, люди должны быть также рабами
церкви и государства, поскольку это последнее благословлено
церковью. Из всех существующих или существовавших религий
одно христианство в совершенстве это поняло, а из всех христианских сект только римский католицизм провозгласил и осуществил этот принцип с полной последовательностью. Вот почему
христианство является религией абсолютной, последней религией;
вот почему апостольская римская церковь является единой, последовательной, законной и божественной.
-Поэтому — не во гнев будь сказано всем полуфилософам, всем
так называемым религиозным мыслителям — существование
бога
логически связано с самоотречением человеческого
разума и человеческой справедливости;
оно является отрицанием
человеческой
свободы и необходимо приводит не только к теоретическому, но и
к практическому рабству.
И если только мы не хотим рабства, мы не можем и не должны делать никаких уступок теологии, ибо, имея дело с этим мистическим и строго последовательным алфавитом, всякий, начав
с А, фатально дойдет до Z; всякий, желающий обожать бога, должен будет отказаться от свободы и достоинства человека.
Бог существует, — значит человек — раб.
Человек разумен, справедлив, свободен, — значит бога нет.
Мы смело утверждаем, что никто не сможет выйти из этого
круга; и в таком случае—пусть выбирают.
Да и история нам показывает, что священники всех религий,
за исключением лишь религий преследуемых, всегда были в союзе
с тиранией. И даже преследуемые священники, хотя и они боролись против притесняющих их властей, проклинали их, тем не
менее подчиняли своих верующих принудительной дисциплине и
тем самым готовили элементы новой тирании. Духовное рабство
какого, угодно характера будет всегда иметь своим естественным
последствием рабство политическое и социальное. В настоящее
время христианство во всех его различных видах, а также вышедшая из него доктринерская и деистическая метафизика, которая
в сущности — не что иное, как замаскированная теология, является без всякого сомнения самым громадным препятствием для освобождения общества. Поэтому-то все правительства, все государственные люди Европы, которые сами не являются ни теологами,
ни деистами, которые в глубине души не верят ни в бога, ни в
дьявола, со страстью, с остервенением покровительствуют метафизике и религии, какой бы то ни было религии, лишь бы она,
как это впрочем и делают все религии, проповедывала смирение,
подчинение и терпение.
Остервенение, с каким правительства защищают религию, показывает, насколько для нас необходимо бороться с нею и уничтожить ее.
Нужно ли вам, господа, -напоминать, какое деморализующее
и пагубное влияние оказывает на народ религия? Она убивает
в нем разум, это главное орудие человеческого освобождения, и,
наполняя умы божественными нелепостями, доводит народ до
отупения—главного источника всякого рабства. Она убивает в людях энергию к труду, который является для человека спасением и
величайшей славой: в труде человек становится творцом, создает
свой мир, создает основания и условия своего человеческого существования и завоевывает как свободу, так и человечность. Религия убивает в людях производительную мощь, внедряя в них
презрение к земной жизни в виду небесного блаженства и уча их,
что труд — это последствие проклятия или заслуженное наказание, а бездействие—божественная привилегия. Религия убивает
в людях справедливость, эту строгую хранительницу братства и
необходимое условие мира, наклоняя всегда весы в сторону более
сильных, на которых по преимуществу изливаются божественная
благодать, заботливость и благословение. Наконец она убивает
в них человечность, заменяя ее в их сердцах божественной жестокостью.
Все религии основаны на крови, ибо все они, как известно,
существенно опираются на идею жертвоприношения, т. е. постоянного заклания человечества ради ненасытной мстительности божества. В этом кровавом таинстве человек всегда является жертвой, а священник—тоже человек, но человек, возвышенный благодатью,—божественным палачом. Это объясняет нам, почему священники всех религий, и даже самые лучшие, самые человечные,
самые кроткие из них, имеют почти всегда в глубине сердца, и
если не в сердце, то по крайней мере в уме и в воображении,—а
известно, какое влияние имеют эти последние на сердце,—нечто
жестокое и кровожадное; и вот, когда повсюду возбуждался во-
прос об уничтожении смертной казни, то все священники,—римско-католические, московско-православные и греческие, протестантские, — все единогласно высказались за ее сохранение.
Христианская религия, более чем всякая другая, была основана на крови и исторически окрещена в крови. Посчитайте миллионы жертв, которых эта религия любви и прощения заклала
ради удовлетворения жестокой мести своего бога. Вспомните пытки, которые она выдумала и применяла. И разве ныне она сделалась более кроткой? Нет, поколебленная равнодушием, она лишь
сделалась бессильной, или — лучше сказать — гораздо менее сильной, ибо, к несчастью, она не лишена еще даже в настоящее время
способности вредить. И посмотрите на страны, в которых, гальванизированная реакционными страстями, она с виду воскресает; не
является ли ее первым словом — мщение и кровь, ее вторым словом —отречение от человеческого разума, а заключением — рабство? Покуда христианство и христианские священники, покуда
какая бы то ни было божеская религия будет продолжать иметь
хотя бы малейшее влияние на народные массы, до тех пор не восторжествуют на земле разум, свобода, человечность и справедливость. Ибо, покуда народные массы останутся погруженными в
религиозные суеверия, до тех пор они будут послушным орудием
в руках всех земных деспотизмов, соединившихся против освобождения человечества.
Вот почему нам чрезвычайно важно освободить массы от религиозных суеверий, и не только из-за любви к ним, но также и
из-за любви к самим себе, ради спасения нашей свободы и, безопасности. Но эта цель может быть достигнута лишь двумя путями:
распространением рациональной науки и пропагандой
социализма
(Из «Антитеологизма»).
2.
На чем держится религия?
Система идеалистов есть абсолютное извращение всякого человеческого опыта и всемирного и всеобщего здравого смысла,
который есть необходимое условие всякого соглашения между
людьми и который, восходя от столь простой и столь же единодушно признанной истины, что дважды два — четыре, к самым
высшим и сложным научным положениям, не допуская притом
ничего, что не подтверждается строго опытом или наблюдением
предметов или явлений, составляет единственную серьезную основу человеческих знаний.
(Вместо того чтобы следовать естественным путем снизу вверх,
от низшего к высшему и от сравнительно простого к более сложному, вместо того чтобы умно, рационально проследить прогрессивное и реальное движение мира, называемого неорганическим,
в мире органическом — растительном, затем животном и наконец специально человеческом; химической материи или химического существа в живой материи или в живом существе и живого
существа в существе мыслящем, идеалистические мыслители, одержимые, ослепленные и толкаемые божественным призраком, унаследованным ими от теологии, следуют совершенно противоположным путем. Они идут сверху вниз, от высшего к низшему, от
сложного к простому. Они начинают богом, представленным в
виде личного существа или в виде божественной субстанции или
идеи, и первый же шаг, который они делают, является страшным
падением из высших вершин вечного идеала в грязь материального мира, от абсолютного совершенства — к абсолютному несовершенству, от мысли о бытии — или, скорее, от высшего бытия —к небытию. Когда, как и почему божественное, вечное, бесконечное существо, абсолютное совершенство, вероятно надоевшее самому себе, решилось на отчаянное salto mortale (смертельный
прыжок), этого ни один идеалист, ни один теолог, метафизик или
поэт никогда сами не могли понять, а тем более объяснить профанам. Все религии прошлого и настоящего и все трансцендентные философские системы вертятся вокруг этой единственной и
безнравственной тайны \
Святые люди, боговдохновевные законодатели, пророки, мессии искали в ней жизнь и нашли лишь пытки и смерть. Подобно
древнему сфинксу она пожрала их, ибо они не сумели объяснить
ее. Великие философы от Гераклита и Платона до Декарта, Спинозы, Лейбница, Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля, не говоря уже
об индийских философах, написали горы томов и создали столь
же остроумные, как и возвышенные системы, в которых они мимоходом высказали много прекрасных и великих вещей и открыли бессмертные истины, но оставили эту тайну, главный предмет
их трансцендентных изысканий, столь же непроницаемой, какой
она была и до них. Но, раз гигантские усилия самых удивительных гениев, которых знает мир и которые в течение по меньшей
мере тридцати веков всякий раз заново предпринимали этот сизифов труд, привели лишь к тому, чтобы сделать эту тайну еще
более непонятной, можем ли мы надеяться,.. что она будет нам
раскрыта теперь глупой диалектикой какого-нибудь узколобого
ученика искусственно подогретой метафизики, и э т о — в эпоху,
когда живые и серьезные умы отвернулись от этой двусмысленной науки, вытекшей из сделки, исторически, разумеется, вполне
объяснимой, между неразумием веры и здравым научным разумом.
1
Я называю ее .безнравственной", ибо, как мне думается, я доказал в
упомянутом уже приложении, что эта тайна была и продолжает еще быть освящением всех ужасов, совершенных и совершаемых в человеческом мире. И я называю ее .единственной" (игра слов: unique, uinique), ибо все другие богословские
и метафизические нелепости, отделяющие человеческий ум, суть лишь ее неизбежные последствия. (Примечание Бакунина.)
Очевидно, что эта ужасная тайна необъяснима, т. е. что она
нелепа, ибо одну только нелепость нельзя объяснить. Очевидно,
что если кто-либо ради своего счастья или жизни стремится к ней,
тот должен отказаться от своего разума и, обратившись, если
может, к наивной, слепой, грубой вере, повторить с Тертуллианом и всеми искренно верующими слова, которые резюмируют
самую сущность теологии: credo, quia absurdum1.
Тогда всякие споры прекращаются, и остается лишь торжествующая глупость веры. Но тогда сейчас же рождается другой
вопрос: как может в интеллигентном и образованном
человеке
родиться потребность верить в эту тайну?
Нет ничего более естественного, как то, что вера в бога, творца, руководителя, судьи, учителя, проклинателя, спасителя и благодетеля мира, сохранилась в народе и особенно среди сельского
населения гораздо больше, чем среди городского пролетариата.
Народ, к несчастью, еще слишком невежествен. "И он удерживается
в своем невежестве систематическими усилиями всех правительств,
считающих не без основания невежество одним из самых существенных условий своего собственного могущества.
Подавленный своим ежедневным трудом, лишенный досугов,
умственных занятий, чтения, словом, почти всех средств и влияний, развивающих мысль человека, народ чаще всего принимает
без критики и гуртом религиозные традиции, которые с детства
окружают его во всех обстоятельствах жизни, искусственно поддерживаются в его среде толпой официальных отравителей всякого рода, духовных и светских, и превращаются у него в род
умственной и нравственной привычки, слишком часто более могущественной, чем его естественно-здравый смысл.
Есть и другая причина, объясняющая и в некотором роде узаконивающая нелепые верования народа. Эта причина — жалкое
положение, на которое народ фатально обречен экономической
организацией общества в наиболее цивилизованных странах
Европы.
Сведенный в интеллектуальном и моральном, равно как и в
материальном, отношении 'к минимуму человеческого существования, заключенный в условиях своей жизни, как узник в тюрьму,
без горизонта, без исхода, даже без будущего, если верить экономистам, народ должен был бы иметь чрезвычайно узкую душу
и плоский инстинкт буржуа, чтобы не испытывать потребностивыйти из этого положения. Но для этого у него есть лишь три
средства, из коих два мнимых и одно действительное. Два первых—это кабак и церковь, разврат тела и разврат души. Трет ь е — социальная революция.
Отсюда я заключаю, что только эта последняя — по крайней
1
.Верю, потому, что это нелепо" т. е. „так как это нелепо и не может
мне быть доказано разумом, я вынужден, чтобы быть христианином, верить
в силу добродетели веры".
мере в гораздо большей степени, чем всякая теоретическая пропаганда свободных мыслителей—будет способна вытравить последние следы религиозных верований и развратные привычки
народа, — верования и привычки, гораздо более тесно связанные
между собой, чем это обыкновенно думают. И, заменяя эти призрачные и в то же время грубые радости этого телесного и духовного разврата тонкими, но реальными радостями осуществленной полностью в каждом и во всех человечности, одна лишь
социальная революция будет обладать силой закрыть в одно и
то же время и все кабаки и все церкви.
До тех пор народ, взятый в массе, будет верить, и, если у -него
и нет разумного основания, он имеет по крайней мере право
на это.
Есть разряд людей, которые, если и не верят, должны по
крайней мере казаться верующими. Все мучители, все угнетатели
и все эксплоататоры человечества, священники, монархи, государственные люди, военные, общественные и частные финансисты,
чиновники всех сортов, жандармы, тюремщики и палачи, монополисты, капиталисты, ростовщики, предприниматели и собственники, адвокаты, экономисты, политиканы всех цветов, до последнего бакалейщика, — все в один голос повторят слова Вольтера:
«Если бы бог не существовал, его надо было бы изобрести».
Ибо — вы понимаете — для народа необходима религия.
Это — предохранительный клапан.
Существует наконец довольно многочисленная категория честных, но слабых душ, которые, будучи слишком интеллигентными,
чтобы принимать всерьез христианские догмы, отбрасывают их
по частям, но не -имеют ни мужества, ни силы, ни необходимой
решимости, чтобы отвергнуть их полностью. Они предоставляют
вашей критике -все особенные нелепости религии, они отворачиваются от чудес, но с отчаянием цепляются за главную нелепость,
источник всех других, за чудо, которое объясняет и узаконивает
все другие чудеса, — за существование бога. Их бог — отнюдь не
сильное и мощное существо, не грубо позитивный бог теологии.
Это —существо туманное, прозрачное, призрачное, до такой степени призрачное, что когда его готовы схватить, оно превращается в ничто. Это—мираж, блуждающий огонек, не светящий и
не греющий. И однако они держатся за него и верят, что если он
исчезнет, все исчезнет с ним. Это — души недвижимые, болезненнее, выбитые из колеи современной цивилизации, не принадлежащие ни к- настоящему, ни к будущему, бледные призраки, вечно
висящие между небом и землей и занимающие совершенно такую
же позицию между буржуазной политикой и социализмом пролетариата. Они не чувствуют в себе силы ни мыслить до конца, ни
хотеть, ни решиться и теряют свое время, вечно пытаясь примирить непримиримое. В общественной жизни они называются буржуазными социалистамй.
Ни с ними, ни против них невозможен никакой спор. Они
слишком слабы.
Но есть небольшое количество знаменитых людей, о которых
никто не осмелится говорить без уважения, и в чьих полном здоровья, силе ума и искренности никто не вздумает усомниться.
Достаточно назвать имена Мадзини, Мишлэ, Кинэ, Джона Стюарта
Милля Благородные и сильные души, великие сердца, великие
умы, великие писатели, а Мадзини еще и героический и революционный возродитель великой нации, они все—апостолы идеализма и страстные противники, презирающие материализм, а следовательно и социализм, как в философии, так и в политике.
Следовательно нужно обсуждать этот вопрос против них.
Отметим прежде всего, что ни один из поименованных мною
великих людей, и вообще ни один другой сколько-нибудь выдающийся идеалистический мыслитель наших дней не заботится о
собственно логической стороне этого вопроса. Ни один не попытался философски разрешить возможность божественного сальто
мортале из вечных и чистых областей духа в грязь материального мира. Побоялись ли они затронуть это неразрешимое противоречие и отчаялись разрешить его после того, как величайшие
гении истории не успели в этом, или же они считают его уже в
достаточной мере решенным? Это их тайна. Факт тот, что они
оставили в стороне теоретическое доказательство существования
бога и развили лишь практические причины и следствие его. Они
все говорили о нем как о факте всемирно признанном, не могущем более быть предметом какого-либо сомнения, ограничиваясь
вместо всяких доказательств констатированием древности и этой
самой всеобщности веры в бога.
Это внушительное единодушие по мнению многих знаменитых людей и писателей (назовем лишь наиболее известных), по
красноречивому мнению Жозефа де-Местра и великого итальянского патриота Джузеппе Мадзини, стоит больше, чем все научные доказательства; а если логика небольшого числа последовательных, весьма серьезных, но не популярных мыслителей противна этой общепризнанной истине, — тем хуже, говорят они, для
этих мыслителей и для их логики, ибо всеобщее согласие, всемирное и древнее принятие какой-либо идеи во все времена признавалось наиболее неоспоримым доказательством ее истинности.
Чувство всех, убеждение, которое находится и держится всегда
и повсюду, не может обманывать. Оно должно иметь свои корни
1 Стюарт Милль, быть может, — единственный из их числа, в серьезности
идеализма которого можно усомниться по двум причинам: во-первых, он страстный поклонник, приверженец позитивной философии Огюста Конта, философии, которая, несмотря на многочисленные умышленные недоговоренности,
действительно атеистична; во-вторых, Стюарт Милль—англичанин, а в Англии
заявить себя атеистом значило бы еще и поныне поставить себя вне общества.
в абсолютно присущей необходимости самой природы человека.
А так как было констатировано, что все народы прошлого и настоящего верили в существование бога, — очевидно, что те, кто
имеет несчастие сомневаться в нем, какова бы ни была логика,
вовлекшая их в это сомнение, суть существа ненормальные, чудовища.
Итак, древность и всемирность верования являются, вопреки
всякой науке и всякой логике, достаточным и непререкаемым доказательством его истинности. Почему же?
До века Коперника и Галилея все верили, что солнце вертится
вокруг земли. Разве они не ошибались?
Есть ли что древнее и распространеннее рабства? Может быть,
людоедство. С образования исторического общества и до наших
дней всегда и везде была эксплоатация вынужденного труда масс,
рабов, крепостных или наемников каким-либо господствующим
меньшинством, угнетение народов церковью и государством. Нужно ли заключать из этого, что эксплоатация и угнетение есть необходимость, абсолютно присущая самому существованию общества? Вот примеры, доказывающие, что аргументация адвокатов
господа бога ничего не доказывает.
В самом деле, нет ничего столь всеобщего и столь древнего,
как несправедливость и нелепость; напротив, истина и справедливость в развитии человеческих обществ наименее распространены,
наиболее молоды. Это объясняет также и постоянное историческое
явление неслыханных преследований, которым первые провозгласившие истину и справедливость подвергались и подвергаются
со стороны официальных, дипломированных представителей, заинтересованных во «всеобщих» и «древних» верованиях, и часто
со стороны тех самых народных масс, которые, замучив проповедников истины, всегда кончали тем, что потом принимали и
приводили к торжеству их идеи.
В этом историческом явлении нет ничего, что бы удивляло и
устрашало нас, материалистов и социалистов-революционеров.
Сильные нашим сознанием, нашей любовью к истине во что бы
то ни стало, этой логической страстью, которая сама по себе
является великой силой и вне которой нет мысли; сильные нашей
страстью к справедливости и нашей непоколебимой верой в торжество человечности над всем зверским в теории и практике;
сильные наконец доверием и взаимной поддержкой, которую оказывают друг другу небольшое число разделяющих наши убеждения, мы миримся с этим историческим явлением, в котором мы
видим проявление социального закона, столь же естественного,
столь же необходимого и столь же неизменного, как и все другие
законы, правящие миром.
Этот закон есть логическое, неизбежное следствие животного
происхождения человеческого общества. А перед лицом всех научных, физиологических, психологических, исторических доказа-
тельств, накопленных в наши дни, точно так же, как и перед лицом
подвигов немцев, завоевателей Франции, дающих ныне такое блестящее доказательство этого, положительно нельзя более сомневаться в действительности такого происхождения. Но с того момента, как мы примем животное происхождение человека, все
объясняется. История предстает тогда перед нами как революционное отрицание прошлого,—то медленное, апатическое, сонное, то страстное и мощное. Именно в прогрессивном отрицании
первобытной животности человека, в развитии его человечности
она и состоит.
Человек — хйщное животное, двоюрдный брат гориллы —
вышел- из глубокой -ночи животного инстинкта, чтобы притти к
свету ума, что и объясняет совершенно естественно все былые
заблуждения и утешает нас отчасти в нынешнцх ошибках.
Он вышел из животного рабства и, пройдя через божественное
рабство, переходный этап между его животностью и человечностью, идет ныне к завоеванию и осуществлению своей человеческой свободы. Отсюда следует, что древность верования, какойнибудь идеи далеко не является доказательством в их пользу и,
напротив, должна сделать нас подозрительными. Ибо позади нас—
наша животность, а перед нами—наша человечность, а свет человечности только один может нас сопреть и осветить, только он
может освободить нас, сделать достойными, свободными, счастливыми и осуществить братство среди нас,— он никогда не находится в начале, но по отношению к эпохе, в которой живут—всегда в конце истории. Не будем же смотреть назад, будем всегда
смотреть вперед, ибо впереди—наше солнце и наше спасение. И
если позволительно, если даже полезно и необходимо оглянуться
ради изучения нашего прошлого, так это нужно лишь для того,
чтобы констатировать, чем мы были и чем мы не должны более
быть; во что мы верили и что думали и во что мы не должны
больше верить, чего не должны больше думать; что мы делали и
чего не должны больше никогда делать.
Это относительно древности. Что же касается всемирностп
какого-нибудь заблуждения, то это доказывает лишь одно: сходство, если не совершенное тождество, человеческой природы во
все времена и во всех странах. И раз установлено, что все народы
во все эпохи их жизни верили и верят еще в бога, мы должны
лишь заключить, что божественная идея, исходящая из нас самих,
есть заблуждение, историческая необходимость в развитии человечества, и спросить себя — почему и как она произошла в истории, почему громадное большинство человеческого рода принимает ее еще и ныне за истину?
Пока мы не будем в состоянии отдать себе отчет, каким путем идея сверхъестественного или божественного мира возникла "и
должна была фатально возникнуть в историческом развитии человеческого сознания, мы никогда не сможем разрушить ее во
мнении большинства, как бы мы ни были научно убеждены в нелепости этой идеи. Ибо мы никогда не сможем поразить ее в самых
глубинах человеческого существа, где она родилась, и, осужденные
на бесплодную борьбу без исхода и без конца, мы будем всегда
вынуждены поражать ее лишь на поверхности в ее бесчисленных
проявлениях, в которых нелепость, едва пораженная ударами
здравого смысла, сейчас же возродится в новой и не менее бессмысленной форме. Пока корень всех нелепостей, терзающих
мир,—вера в бога,—остается нетронутой, она никогда не перестанет давать новые ростки. Так в наши дни в некоторых кругах
высшего общества спиритизм стремится утвердиться на развалинах христианства.
Не только в интересах масс, но и в интересах нашего собственного здравого смысла мы должны постараться понять историческое происхождение идеи бога, преемственность причин, развивших и породивших эту идею в сознании людей. Сколько бы^
мы ни говорили и ни думали, что мы атеисты, пока не поймем
этих причин, мы дадим господствовать над нами в большей или
в меньшей степени голосу этого всеобщего сознания, тайну которого мы не познали, и в виду естественной слабости даже самого
сильного индивида перед всемогущим влиянием окружающей его
социальной среды мы всегда будем рисковать рано илц поздно
вновь впасть тем или иным способом в бездну религиозной нелепости. Примеры этих последних обращений часты в современном
обществе.
(«Бог и государство»).
3.
Что атеизм противопоставляет религии?
Внешний мир представляется человеку лишь бесконечным разнообразием предметов, действий и раздельных отношений без
малейшей видимости единства,— это бесконечные нагромождения,
но не единое целое. Откуда является единство? Оно заложено
в уме человека. Человеческий ум одарен способностью к абстракции, которая позволяет ему, после того как он медленно и по
отдельности исследовал один за другим множество предметов,
охватить их в мгновение ока в едином представлении, соединить
их в одной и той же мысли. Таким образом именно мысль человека создает единство и переносит его в многообразие внешнего
мира.
Отсюда вытекает, чго это единство является вещью не конкретной и реальной, но абстрактной, созданной единственно способностью человека абстрактно мыслить. Мы говорим «абстрактно
мыслить», ибо для того чтобы объединить столько различных
предметов в единое представление, наша мысль должна отвлечься
от всего, что составляет различие между этими предметами, и ѵдер-
жать лишь то, что они имеют общего; отсюда вытекает, что, чем
более предметов объемлег мыслимое нами единство, чем более оно
возвышается, чем более разрастается то общее, что заключается
в нем, что его определяет, составляет его содержание,— тем более
абстрактным и лишенным реальности оно становится. Жизнь со
всеми преходящими избытками и великолепиями находится
внизу, в разнообразии; смерть со своей вечной и несравненной
монотонностью находится вверху, з единстве. Поднимитесь в силу
той же способности к абстракции, выше и выше, уйдите за пределы земного мира, охватите в одной мысли солнечный мир, представьте себе это высшее единство; что же вам останется для его
заполнения? Дикарь был бы очень затруднен в ответе на этот вопрос! Но мы ответим за него: останется материя с тем, что мы
называем силой абстракции, движущаяся материя со своими различными проявлениями, каковы свет, теплота, электричество к
магнетизм, которые, как это теперь' доказано, суть различные
проявления одной и той же вещи. Но если в силу той же способности к отвлечению, не имеющей пределов, вы поднимаетесь выше
нашей солнечной системы и объедините в своей мысли не только
эти миллионы солнц, видимые нами на небосклоне в виде светящих точек, но еще бесконечное множество других солнечных
систем, которых мы не видим и никогда не увидим, но существование которых мы предполагаем, ибо наша мысль по той самой
причине, что она не знает пределов своей способности к абстракции, отказывается верить, чтобы вселенная, т. е. совокупность
всех существующих миров, могла иметь предел или конец,—потом,
отвлекшись все тою же мыслью, от отдельных существований каждого из существующих миров, если вы попытаетесь представить
себе единство этого бесконечного мира,—что вам останется для
его определения и заполнения? Одно слово, одна абстракция: неопределенное
существо, т. е. неподвижность, пустота, абсолютное
небытие — бог.
Итак, бог — это абсолютная абстракция, это — собственный
продукт человеческой мысли, которая, как сила абстракции, поднялась над всеми известными существами, всеми существующими
мирами и, освободившись тем самым от всякого реального содержания, сделавшись уже не чем иным, как абсолютным миром, не
узнавая себя в этой величественной обнаженности, становится
перед самой собой как единственное и высшее существо.
Нам могут возразить, что мы сами утверждали на предыдущих
страницах реальное единство вселенной и определили его как
всемирную связность и причинность, как единственное всемогущество, управляющее всеми вещами и ощущаемое более или менее
всеми живыми существами, а теперь как будто бы отрицаем его.
Но нет, мы его вовсе не отрицаем; мы лишь утверждаем, что
между этим реальным всемирным единством и идеальным единством, к которому приходит путем абстракции религиозная и фи-
лософская метафизика, нет ничего общего. Мы определили первое, как бесконечную сумму предметов или —лучше — как сумму
непрестанных видоизменений всех реальных существ, так же как
их постоянных действий и противодействий, которые, комбинируясь в одно движение, образуют, как мы сказали, так называемую
всемирную солидарность, или причинность. Мы прибавили, что мы
понимаем эту солидарность не как первичную и абсолютную причину, но, напротив того, как производную,
как результат, постоянно повторяющийся, единовременного действия всех частных
причин,—действия, которое и составляет собственно всемирную
причинность, вечно творящую и» творимую. Определив ее таким
образом, мы сочли возможным сказать, не боясь более никакого
недоразумения, что эта всемирная причинность творит миры.
И хотя мы очень настойчиво прибавляли, что она это делает без
какой-либо предшествующей мысли или воли, без какого-либо
плана, без какой-либо преднамеренности или предопределенности
со своей стороны,—ибо она сама не имеет никакого отдельного
и предшествующего существования вне своей непрестанной реализации и является не чем иным, как абсолютной производной,—-тем
не менее мы теперь видим, что это выражение — «творить» не
является ни счастливым, ни точным и что, несмотря на все прибавленные объяснения, оно может еще дать повод к недоразумениям,— до того мы привыкли связывать с этим словом «.творение»
мысль о сознательном творце, о творце, отдельном от своего произведения. Мы должны были бы сказать, что каждый мир, каждое
существо бессознательно, непроизвольно происходит, рождается,
развивается, живет, умирает и переходит в новое существо под
влянием всемогущей, абсолютной, всемирной солидарности, и,
чтобы выразить нашу мысль еще более точно, мы прибавим теперь,
что реальное единство вселенной является не чем иным, как абсолютной связностью и бесконечностью ее реальных трансформаций,
ибо непрестанная трансформация каждого отдельного
существа
составляет единственную подлинную
реальность каждого, так
как вселенная — не что иное, как история без границ, без начала
и без конца.
Подробности эФой истории бесконечны. Человеку всегда придется ограничиваться только познанием ее бесконечно малой части.
Наше звездное небо со своим множеством солнц образует лишь
незаметную точку в неизмеримости пространства, и, хотя мы обнимаем его взглядом, мы никогда о нем почти ничего не узнаем. Мы
принуждены ограничиваться некоторым познанием нашей солнечной системы, относительно которой мы предполагаем, что она
в совершенной гармонии с остальными частями вселенной, ибо
если бы не было этой гармонии, то или она должна бы была установиться, или же наша солнечная система погибла бы. Эту последнюю мы знаем уже очень недурно, с точки зрения небесной механики,- и начинаем знакомиться с ней также с точек зрения физи-
ческой, химической и даже геологической. Наша наука с трудом
перейдет этот предел. Если мы ищем более конкретных познаний,
мы должны придерживаться нашего земного шара. Мы знаем, что
он создался во времени, и мы предполагаем, что через некоторое,
неизвестное нам, число веков он должен погибнуть,—как рождается и погибает или лучше трансформируется все, что существует. •
Каким образом наш земной шар, бывший вначале раскаленной,
газообразной, несравненно более легкой, чем воздух, материей,—
охладился, образовался, чрез какой нескончаемый ряд геологических переворотов должен он был пройти, прежде, чем был в состоянии произвести на своей поверхности все это бесконечное
богатство органической жизни, начиная с первой и самой простой
клеточки и кончая человеком? Как он видоизменялся, и продолжает ли он свое развитие в историческом и социальном мире человека? Куда мы направляемся, толкуемые верховным фатальным
законом непрестанного видоизменения?
Вот единственно доступные нам вопросы; единственные вопросы, которые могут и должны быть действительно охвачены,
детально разработаны и разрешены человеком. Являясь, как мы
уже сказали, лишь незаметной точкой в безграничном и неопределимом вопросе вселенной, эти вопросы являют тем не менее нашему уму истинно бесконечный мир — не в божественном, т. е,
абстрактном смысле этого слова, не в смысле верховного сущес т в а — создания религиозной абстракции; напротив того — бесконечный по богатству своих подробностей, которых никогда не
будут в состоянии исчерпать никакое наблюдение и никакая наука.
И, для того чтобы познать этот мир, наш бесконечный мир, недостаточно одной абстракции. Она бы снова привела на£ к богу,
к верховному существу, к небытию. Необходимо, не переставая
применять нашу способность к абстракции, без которой мы бы
никогда не смогли возвыситься от более простого рода вещей
к более сложному роду и следовательно никогда не смогли бы
понять естественную иерархию существ,—необходимо, говорим
мы, чтобы ум с уважением и любовью занимался тщательным, изучением деталей и бесконечно малых подробностей, без которых
нам невозможно представить се>бе живую реальность существ.
Итак, только соединяя эти две способности, эти две на вид столь
противоположные тенденции—абстракцию и внимательный, добросовестный, терпеливый анализ,— мы можем возвыситься до реального понятия о нашем не внешне, но по существу бесконечном
мире и составить себе до некоторой степени достаточное представление о нашей вселенной — о нашем земном шаре или, если хотите, о нашей солнечной системе. Теперь очевидно, что если наше
чувство и наше воображение и могут дать нам образ, представление, по необходимости более или менее ложное, об этом мире, если
они и могут даже, посредством своего рода интуитивной догадки,
Хрестоматия по история атеизма.
14
дать нам почувствовать тень, отдаленное подобие истины, то
чистую и всецелую истину может нам дать только наука.
В чем же причина этой властной любознательности, толкающей
человека к познанию окружающего его мира, к преследованию
с неутомимой страстью открытия тайн этой природы, последним и
самым совершенным созданием которой на нашей земле он сам
является? Является ли эта любознательность простой роскошью,
приятным времяпрепровождением или же одной из существенных
необходимостей нашей природы? Мы, не колеблясь, утверждаем,
что из всех потребностей, присущих природе человека, это — наиболее человеческая и что он действительно становится человеком,
что он действительно отличается от животных всех других пород
лишь благодаря этой неутомимой жажде знания. Дабы проявить
себя во всей полноте своего существа, человек должен, как мы
сказали, себя познать, а он никогда себя действительно не познает,
пока он не познает окружающую его природу, продуктом которой
он сам является.
Если человек не хочет отказаться от своей человечности, он
должен знать, он должен проникнуть мыслью в видимый мир, и,
не предаваясь надежде постичь когда-нибудь его сущность, углубляться все более и более в изучение его законов, ибо наша человечность приобретается лишь этой ценой. Человеку нужно познать
все низшие, предшествовавшие и современные ему области, все
механические, физические, химические, геологические и органические эволюции на всех ступенях развития растительной и животной жизни, т.- е. все причины и условия его собственного рождения и его существования, дабы он мог понять свою собственную
природу и свое назначение на земле — его отечестве и единственном местожительстве,— дабы в этом мире слепой фатальности он
мог основать царство свободы.
Такова задача человека; она неисчерпаема, она бесконечна и
совершенно достаточна для удовлетворения самых честолюбивых
умов « сердец. Мимолетное и неприметное существо среди безбрежного океана всемирной видоизменяемости, с неведомой вечностью позади него и такой же неведомой вечностью впереди,
человек мыслящий, деятельный, сознающий свое человеческое
назначение, остается гордым и спокойным в сознании своей свободы, которую он сам завоевывает, просвещая, подкрепляя, освобождая и в случае нужды бунтуя окружающий его мир. Вот его
утешение, его награда, его единственный рай. Если вы его спросите после этого, каково его внутреннее убеждение и последнее
слово относительно реального единства вселенной, то он вам скажет, что оно заключается в вечной и всемерной
видоизменяемости,
в безграничном движении без начала и без конца. А это абсолютная противоположность всякому учению о провидении — отрицание бога.
(Из «Антитеологизма»).
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
1.
Философские учения социальны по содержанию.
Политические теории, да и всякие вообще философские учения
создавались всегда под сильнейшим влиянием того общественного
положения, к которому принадлежали, и каждый философ бывал
представителем какой-нибудь из политических партий, боровшихся в его время за преобладание над обществом, к которому
принадлежал философ. Мы не будем говорить о мыслителях, занимавшихся специально политическою стороною жизни. Их принадлежность к политическим партиям слишком заметна для каждого.
Гоббс был абсолютист, Локк был виг, Мильтон — республиканец,
Монтескье—либерал в английском вкусе, Руссо -—• революционный демократ, Бентам — просто демократ, революционный или нереволюционный, смотря по надобности;- о таких писателях нечего
и говорить. Обратимся к тем мыслителям, которые занимались построением теорий более общих, к строителям метафизических систем, к собственно так называемым философам. Кант принадлежал
к той партии, которая хотела водворить в Германии свободу революционным путем, но гнушалась террористическими средствами. Фихте пошел несколькими шагами дальше: он не боится
и террористических средств. Шеллинг — представитель партии,
запуганной революцией, искавший спокойствия в средневековых
учреждениях, желавший восстановить феодальное государство,
разрушенное в Германии Наполеоном I и прусскими патриотами,
оратором которых был Фихте. Гегель — умеренный либерал, чрезвычайно консервативный в своих выводах, но принимающий для
борьбы против крайней реакции революционные принципы, в надежде не допустить до развития революционный дух, служащий
ему орудием к ниспровержению слишком ветхой старины. Мы
говорим не то одно, чтобы эти люди держались таких убеждений
как частные люди,—это было бы еще не очень важно, но их философские системы насквозь проникнуты духом тех политических
партий, к которым принадлежали авторы систем. Говорить, будто
бы не было и прежде всего того же, что теперь; говорить, будто бы
только теперь философы стали писать свои системы под влиянием
политических убеждений — это, чрезвычайная наивность.
(«Антропологический
принцип в
философии»).
2.
Наука приводит к крушению дуализма и спиритуализма.
Основанием для той части философии, которая рассматривает
вопросы о человеке, точно так же служат естественные науки, как
и для другой части, рассматривающей вопросы о внешней при14*
роде. Принципом философского воззрения на человеческую жизнь
со всеми ее феноменами служит выработанная естественными
науками идея о единстве человеческого организма; наблюдениями
физиологов, зооло.гов и медиков отстранена всякая мысль о дуализме человека. Философия видит в нем то, что видят медицина,
физиология, химия; эти науки доказывают, что никакого дуализма
в человеке не видно, а философия прибавляет, что если бы человек имел кроме реальной своей натуры другую натуру, то эта
другая натура непременно обнаруживалась бы в чем-нибудь, и так
как она не обнаруживается ни в чем, так как все происходящее-и
проявляющееся в человеке происходит по одной реальной его
натуре, то другой натуры в нем нет. Убедительность этого доказательства равняется убедительности тех оснований, по которым
например вы, читатель, уверены, что например в эту минуту, когда
вы читаете эту книгу, в той комнате, где вы сидите, нет льва. Вы
так думаете, во-первых, потому, что не видите его глазами, не
слышите его рыкания; но это ли одно ручается вам за то, что
льва нет в вашей комнате? Нет, есть у вас второе ручательство
за то: ручательством служит тот самый факт, что вы живы;
если бы в вашей комнате находился лев, он бросился бы на вас
и растерзал бы вас. Нет последствий, которыми неизбежно
сопровождалось бы присутствие льва, потому вы знаете, что нет
тут и льва.
Возьмем-еще случай. Почему вы знаете, что например гражданин Юм, наделавший у нас, в Петербурге такого шума года два
тому назад своими фокусами, действительно только фокусник,
а не может в самом деле знать будущего, знать тайн, которых ему
не сказали, читать книг и бумаг, которые не находятся у него
перед глазами? Вы знаете это вот почему: если бы он мог знать
будущее, он был бы сделан дипломатическим советником при каком-нибудь дворе и рассказывал бы министерству этого двора все.
что произойдет в данных случаях: например он сказал бы Рехбергу в прошлом марте, что если австрийцы начнут войну, то они
будут побиты при Палестро, Мадженте и Сольферино и потеряют
Ломбардию. Тогда австрийцы не начали бы войны, -и не было бы
ничего из того, что произошло в прошлом году в Италии, Франции, Австрии, а происходило бы что-нибудь совершенно иное.
Если бы он мог читать книги, не находящиеся у него перед глазами, тогда правительства и ученые общества не стали бы посылать ученых на Восток отыскивать древние рукописи, а обратились бы с просьбою к нему, и он из Парижа прочел бы и продиктовал бы им какого-нибудь неизвестного нам теперь древнего
греческого писателя, список которого уцелел в каком-нибудь сирийском захолустьи. Этого нет; гражданин Юм и его собратья по
искусству не открыли ровно ничего нн дипломатам, ни ученым,—
а непременно открывали бы им важные вещи, если бы могли,
потому что это было бы для них и несравненно выгоднее и не-
сравненно почетнее фокусничества; потому они и не имеют той
способности, которую приписывают им легковерные люди.
О всех таких случаях не довольно сказать: мы не знаем, существует ли известный элемент; нет, рассудок обязывает нас прямо
сказать: мы знаем, что этого элемента нет; если бы он был, то
происходило бы не то, что происходит.
3.
Свобода воли — фикция.
Положительно известно, что все явления нравственного мира
проистекают одно из другого и из внешних обстоятельств по
закону причинности, и на этом основании признано фальшивым
всякое предположение о возникновении какого-нибудь явления,
не произведенного предыдущими явлениями и внешними обстоятельствами. Поэтому нынешняя психология не допускает например
таких предположений: «человек поступил в данном случае дурно,
потому что захотел поступить дурно, а в другом случае — хорошо,
потому что захотел поступить хорошо». Она говорит, что дурной
поступок или хороший поступок был произведен непременно каким-нибудь нравственным или материальным фактом или сочетанием фактов, а «хотение» было тут только субъективным впечатлением, которым сопровождается в нашем сознании возникновение мысли или поступков из предшествующих мыслей, поступков
или внешних фактов.
То явление, которое мы называем волею, само является звеном в ряду явлений и фактов, соединенных причинною связью.
Очеяб часто ближайшею причиною появления в нас воли на известный поступок бывает мысль, но определенное расположение воли
производится также только определенной мыслью. Какова мысль,
такова и воля; будь мысль не такова, была бы не такова и воля.
Но почему же появилась именно такая, а не другая мысль? Опять от
какой-нибудь мысли, от какого-нибудь факта, словом сказать,—
от какой-нибудь причины. Психология говорит в этом случае то
же самое, что говорит в подобных случаях физика или химия,
если произошло известное явление, то надобно искать ему причину, а не удовлетворяться пустым ответом: оно произошло само
собой, без всякой особенной причины—«я так сделал, потому что
так захотел». Прекрасно, но почему же вы так захотели? Если
вы отвечаете: «просто потому, что захотел», это значит то же,
что говорить: «тарелка разбилась, потому что разбилась; дом
сгорел, потому что сгорел». Такие ответы—вовсе не ответы: ими
только прикрывается леность доискиваться подлинной причины,
недостаток желания знать истину.
(«Антропологический принцип в философии»).
4.
Наука непримирима с религией.
Не будучи богословами, мы не станем рассматривать того,
бывало ли для религии полезно то смешение философии с религией, которого желает гражданин Орест Новицкий. Нам кажется,
что каждый человек должен делать собственно то дело, которое
делает (разумеется, если это дело не дурное само по себе) ; а если,
делая одно, станешь думать, что делаешь другое, то он будет
действовать под влиянием заблуждения, и вся его деятельность
будет ошибочной. По словам гражданина Ореста Новицкого, религия отличается от философии и всякой другой науки по своему
источнику и по способности, которая служит органом ее: она
происходит из откровения и состоит в чувстве; философия, подобно другим наукам, основывается на наблюдении, создается
умом; религия состоит в вере, наука—в знании. Но будто бы в этом
состоит главная разница между ними? Нет, если мы обратимся за
разъяснением вопроса к учителям, которые понимали откровенную религию наисправедливейшим образом, ук великим отцам
церкви, мы услышим от них, что откровенная религия отличается
от светской науки и по самому предмету истин, которым научает:
откровенная религия отверзает мир духовный, недоступный внешним чувствам, она говорит -нам о таинствах св. троицы, о предвечном божеском промысле, об искуплении людей смертью богасыца, о чиноиачалиях ангелов, о падении злых духов, о воскресении мертвых, о страшном суде, о тайнах будущей жизни. Земное
знание не касается этих великих истин, принадлежащих к сфере, недостижимой для него по своей возвышенности: оно может сообщать нам только сведения о внешней и материальной природе и
о человеке как о существе земном, материальном. Божественное
откровение вводит людей в знания «премудрости божией, втайне
сокровенной», сообщает человеку истины, которых «глаз не видел
и ухо не слышало» и которые даже «на мысль человеку не приходили» до получения откровенного свыше знания о них. >Так
учат отцы церкви, понимавшие религию откровения с совершенной ясностью.
Гражданин Орест Новицкий, следуя заблуждениям схоластиков, смешивавших философию Аристотеля с истинами христиан. ской религии, следуя примеру трансцендентальных философов,
сливавших откровенную религию с наукой, затмил себе, подобно
им, истинные понятия и о том и о другом: он не понимает ни
учения отцов церкви, ни духа земной науки. Это затмение произведено тем, что он захотел быть специалистом по двум предметам,
из которых каждый довольно велик, чтобы остаться не вполне
объятым и тогда, когда человек на изучение его одного употребит
все свои силы, всю свою жизнь: у гражданина Ореста Новицкого
не достало ни времени ни сил основательно изучить ни религию
ни земную науку.
Гражданин Орест Новицкий воображает, что он философ; если
так, он должен быть философом, а не богословом.
То, что доступно одному, недоступно другому. Но из всего этого видно,
что наука кажется ему неудовлетворительной, что он ставит религию выше философии и по достоверности и по достоинству
идей. Если так, ему следовало бы бросить науку, перестать воображать себя философом и сделаться преподавателем
религиозного
учения. Он сам говорит, что оно приносит гораздо больше пользы,
чем философия; зачем же он тратит свое время на дело очень мало
полезное, не занимаясь делом несравненно полезнейшим? Он неправ сам перед собой.
Скажем более: если бы гражданин О. Новицкий поступал сообразно со своими убеждениями, он вовсе и не выбрал бы древних
языческих религиозных и философских учений предметом своего
сочинения. Человек, находящий безусловную истину в религии
сверхъестественного откровения, не может заниматься языческими
учениями с холодной -ученой целью. Все они для него — плоды
лжи и греха. Отношения ко лжи и греху возможны только двоякого рода: или предаваться им, служить им, или бороться с ними,
опровергать их. Но гражданин Орест Новицкий уже.познал суету
лжи, душепагубность греха, стало быть не может служить им;
итак ему оставалось бы только изобличить их, полемизировать
против них, искоренять их. Но он не может не видеть, что это —
дело совершенно ненужное в наше время в цивилизованной Европе,
к которой принадлежит публика, читающая русские книги. Русские
люди могут иметь свои умственные и сердечные недостатки, но
никто не скажет, чтобы для русских были опасны языческие вероучения древнего Востока, Греции, Рима; никто из наших собратьев
по племени не поклоняется ни Зевесу, ни Шиве, ни Ариману, ни
Озирису; предостерегать нас от таких заблуждений — дело совершенно излишнее; это все равно, что предостерегать русскую публику от людоедства, от едения мухомора или жирной глины, от
дурных привычек, существующих среди дикарей острова Явы,
чукчей и бушмен: мы, к счастью, стоим уже гораздо выше
таких привычек и никак не могли бы впасть в них даже без всяких
предостережений. Говорить о язычестве с богословской точки зрения надобно не с русскими, а с чувашами, бурятами, самоедами:
вот они действительно нуждаются в изобличениях лживости и
греховности язычества. Но для них нельзя писать книг на русском
языке, потому что эти несчастные люди не умеют читать книг ни
на русском, ни даже на своем собственном языке. Разоблачать
перед ними язычество можно только одним способом: научиться
их языку, сделаться миссионером и, странствуя по их юртам, беседовать с ними. Если бы гражданин Ор. Новицкий занялся этим,
если бы он сделался миссионером между бурятами или тунгусами,
он стал бы заниматься делом поистине похвальным и полезным,
разумеется при соблюдении того условия, чтобы проповедь его
совершалась в духе кротости. Но с понятиями, при которых можно
рассуждать о язычестве только с самоедами, языком кроткого миссионера гражданин Ор. Новицкий вздумал писать о язычестве для
русской публики тоном ученого. Мы боимся, что весь труд его
пропал понапрасну.
(Отзыв на труд Ореста Новицкого—«Постепенное
развитие
древних философских учений в связи с развитием языческих верований». 1860).
5..
Наука разрушает религиозные
басни.
Мы не можем сказать, чем именно окажется неизвестное нам,
но мы уже знаем, чем оно не оказывается.
Фантастические гипотезы, разрушаемые этими отрицательными выводами в химии, в географии, в геологии, уже не заслуживают никакой борьбы, потому что всеми и каждым образованным человеком признаются за бредни. Географ не имеет нужды
доказывать, что под полюсами не найдется обезьян, в Центральной
Африке не найдется безголовых людей, в Центральной Австралии—
рек, текущих снизу вверх, в недрах земли — сказочных садов и
циклопов, кующих оружие Ахиллесу под надзором Вулкана. Но
человек с логическим умом точно так же смотрит на фантастические гипотезы и в других науках: он так же видит, что все это —
бредни, несовместимые с нынешним состоянием знаний.. Говорят,
что открытия, сделанные Коперником в астрономии, произвели
перемену в образе человеческих мыслей о предметах, повидимому
очень далеких от астрономии. Тачно такую же перемену и точно
в том же направлении, только в гораздо обширнейшем размере,
производят ныне химические и физиологические открытия: от них
изменяется образ мыслей о предметах, повидимому очень далеких
от химии.
я
6.
Говорят: естественные науки еще не достигли такого развития, чтобы удовлетворительно объяснить все важные явления природы. Это совершенная правда; но противники научного направления в философии делают из этой правды вывод вовсе не логический, когда говорят, что пробелы, остающиеся в научном
объяснении натуральных явлений, допускают сохранение какихнибудь остатков фантастического миросозерцания.
,
7.
От надобности не уйдешь, не отвертишься. Так не уйдет человек и от истины, потому что по нынешнему положению челове-
ческих дел оказывается с каждым годом все сильнейшая и неотступнейшая надобность в ней.
(«Антропологический
принцип в
философии»),
ЛЮДВИГ БЮХНЕР
Критика «доказательств» бытия божия.
Всю историю духовной работы и умственного развития человечества можно назвать ни на минуту не прекращающейся войной
с верой в бога. В той самой мере, в какой прогрессирует знание,—
испаряется вера в бога и во все сверхъестественное. В той самой
мере, в какой выясняется-закономерность природы перед лицом
разума и знания, — тает вера в могущество: духов и богов. Конечно при этом рушится могущество и влияние тех, которые заинтересованы материально или духовно в сохранении слепойверы. Поэтому нисколько не удивительно, что. даже и со стороны:
науки были попытки соорудить подпорки для сохранения веры
в божество, попытки заменить первоначальное чувство беспомощности, создавшее эту веру, целым рядом мнимых доказательств
существования бога. Эти доказательства должны были удовлетворить не только, чувство, но и пробудившийся разум человека;
их-то я и хочу подвергнуть строгому критическому анализу.
Несомненно найдутся люди, которые сочтут это совершенно
ненужной работой. Эти люди видят в вере в бога нечто до тогоочевидное, что по их понятиям никакое сомнение, никакое исследование здесь немыслимо. Но ведь убеждены они во всем этом
только потому, что уже с самого младенчества им вбивали этоубеждение: в вере в бога они воспитывались, о существовании
его им говорили в школе, на нем основывали все нравоучения,
подтасовывали примеры и таким образом сделали то, что вера
в существование бога стала как бы второй натурой нашей. Если бы
в нас не воспитывалась искусственно эта вера, мы бы в ней дажене нуждались, тогда как теперь просто в силу привычки она сделалась для некоторых чуть ли не необходимостью. Ведь мы жезнаем, что люди цивилизованного общества, не «натасканные» в
известном направлении, остаются совершенно чуждыми вере в
бога. К тому же, если мы возьмем людей «правоверных», то увидим, что их вера больше наружная, чем внутренняя; без преувеличения — 9/10 человечества живет так, как если бы не было ни
бога, ни небесного возмездия. Эти 9/10 своим поведением, так сказать — практически, совершенно опровергают то, о чем рассуждают теоретически, и таким образом вполне оправдывают удачное выражение Фейербаха, который говорит, что ханжество самоодурачивания — главнейший порок нашего времени. По остроумному замечанию Шопенгауэра, «все преимущество теологических.
учений — в том, чтб они излагаются детям». Однако приступим к
разбору некоторых доказательств.
На первом месте ставим доказательство космологическое-; оно
берет свое начало от греческих философов Платона и Аристотеля,
которые утверждали, что существует какое-то первоначальное
движение. Они не учили, по примеру христианства и иудейства,
что мир был сотворен из ничего, так как они верили в вечность
материи. Но они считали материю пассивной, индиферентной, совершенно неспособной к движению в силу своих свойств и поэтому нуждающейся не в творце, а в мировом двигателе. Хотя это
учение с философской точки зрения и после новейших завоеваний в области естественных наук и не выдерживает критики, всетаки оно гораздо лучше, чем христианская точка зрения, которая
считает мир созданным из ничего. «Ничего» — это вообще бессмыслица, которую, правда, могла выдумать человеческая фантазия,
но которая логически немыслима, а фактически—не существует.
Как известно, старое предположение о существовании абсолютно пустого пространства давно уже уничтожено наукой. Материя и пространство — давно уже синонимы. Поэтому и возраже•ния против материализма со стороны философии, что материя не
может быть рассматриваема, как нечто абсолютное и безусловно
необходимое в строении мира, потому что ее можно каждую минуту вообразить уничтоженной в пространстве, причем оно само
останется, как нечто неизмеримое и первичное, следует считать
неосновательным, потому что нет пространства без материи, нет
материи без пространства. К тому же в настоящее время одной
из распространеннейших аксиом в естествознании является аксиома, что вещество как таковое нельзя создать и нельзя уничтожить.
Ничто из существующего не пропадает, но и не создается
вновь: это откосится не только к материи, но и к «силе» (т. е. к
движению материи), которая неразрывно связана с самой материей. Как известно, учение о «бессмертии материи» было окончательно принято наукой уже с конца XVIII столетия и, в частности,
получило подтверждение в научных изысканиях химии. Через некоторое время оно получило дополнение в виде учения о так называемой «непрерывности силы», которое в настоящее время
принадлежит к числу авторитетных принципов естествознания.
Принцип этот вместе с тем является той путеводной звездой, которой руководится в своих исследованиях каждый естествоиспытатель. Благодаря этому научному завоеванию аристотелевский
«мировой двигатель» «зтступает на задний план, так как учение
о «непрерывности силы» точно устанавливает, что движение так
же вечно, как и сама вселенная, и так же не имело начала. Материя с ее нераздельным свойством — формой, с одной стороны, и
сила с неизбежным атрибутом в виде движения — с другой, вечны,
таковыми всегда останутся и поэтому лежат вне начала, конца и
причины! Материя без силы, движения и формы так же немыслима, как немыслимы сила, движение и форма без материи.
Нет силы без материи! Нет материи без силы! Всякая попытка
разъединить эти два понятия кончается неминуемо или противоречием или же просто несуразностью! Самые слова, которыми мы
обозначаем эти два понятия, суть нечто абстрактное, отвлеченное,
вызванное исключительно потребностью так или иначе ограничить эти два понятия и выделить каждое из них. В древние времена приблизительно так же придумывались для объяснения движения тел природы какие-то особенные, вне этих тел лежащие,
причины и силы, а для пояснения отправлений организма изыскивались специальные эссенции. В настоящее время все это уже
не является загадкой, и установлено, что причина этого лежит либо
в свойствах самой природы, либо в тех разнообразных переменах,
которые происходят в самых организмах. Утверждающие, что
происхождение вселенной должно было иметь первопричину, не
во вселенной лежащую, высказывают этим совершенно ложный
взгляд, основанный исключительно на том, что свои выводы они
черпают в поступках человека, забывая при этом, что таковые
ограничены и временем и пространством, тогда как вселенная вне
времени и вне пространству. «Ибо, — говорит Шопенгауэр, — первопричина так же логически немыслима, как немыслимо место,
которое являлось бы конечной границей пространства, или то
мгновение, в котором зародилось время!» Поэтому и искания философами причин происхождения мира напоминают собой восхождение по бесконечной лестнице, причем доискивание причины
причин делает невозможным достижение конечной цели. Если же
мы скажем, что бог прежде всего сотворил время и пространство,
а затем уже создал и вселенную, то естественно возникает вопрос— да откуда же и каким образом появился сам-то бог? Здесь
возможны только два ответа. Либо бог сам себя создал, либо он
вечен! Но если даже такое совершенное существо, как бог, могло
сотворить себя, то почему бы не случиться тому же с несовершенным миром? Если же мы признаем, что бог вечен, то это явится
не чем иным, как описательным оборотом для подтверждения вечности той же вселенной, да и гораздо проще и естественнее перенести это свойство на последнюю, покончив таким образом со
всеми шаткими принципами творческого мироздания.
Как правильно отметил Коберг, бог обладает свойствами, которые предполагают прямое соотношение его со вселенной и мыслимы только при существовании ее, как то: всеблагость, всемогущество, всеведение и пр. Если предположить поэтому, что вселенная имеет начало, то его должен был иметь и бог; совместно
с совершенствовавшейся вселенной должен был совершенствоваться и он, а ведь это противоречит в корне понятию о таком
совершенном уже от века существе, как бог. Если же бог со всеми
своими свойствами предвечен, то таковой необходимо должна
быть и вселенная. Еще Ориген признал правильность этого конечного вывода. Нам говорят чаще всего (и сказка эта опирается на
библейский рассказ о сотворении мира), что бог, после целой вечности абсолютного покоя, в один прекрасный день задумал сотворить вселенную и принялся за это совершенно так же, как
самый обыкновенный архитектор при постройке здания. Такое
предположение приводит к совершенно дикому выводу, что история бытия распадается на две совершенно различные части, из
которых одна будет бытием причинным, другая же бытием вне
причины, тогда как каждому известно, что без причины (вернее,
без определенного закона взаимоотношения между причиной и
следствием) немыслимо никакое существование.
Равным образом остается невыясненным, что побудило бога
сотворить мир после того, как он провел целую вечность в абсолютном покое и чувствовал себя в этом состоянии превосходно
(а иначе ведь и нельзя предположить о таком совершенном существе, каким является бог!). Неизвестно также и то, что делал он
до начала трудов по сотворению мира, так как абсолютное бездействие — немыслимо, оно равносильно абсолютному «ничто».
На последний вопрос, наиболее остроумный, ответ дан был Лютером одному из назойливых собеседников, пристававшему к нему
с требованием объяснить: что делал бог до сотворения мира? После некоторого раздумья Лютер сказал: «Он сидел в лесу и срезал
прутья для розог, которыми следует наказывать всех тех, кто будет приставать с такими глупыми вопросами».
Уже греческий философ Платон тщетно пытался разрешить
этот нескромный вопрос, на который, собственно говоря, никто
кроме самого бога и не может дать вполне удовлетворительного
ответа. Но так как сам он этой тайны нам не раскрыл, более.того,
оставил нас — создания его рук — в полной неизвестности насчет
него самого, его сущности и его помыслов, то человеческому рал зуму и не остается другого исхода, как вывести отсюда заключение, основанное на логике," либо же закрыть глаза и совершенно
уклониться от разрешения этой загадки. Слабый человек поступает в данном случае совершенна так, как и в обыденной жизни:
он знает, что ему неминуемо предстоит какая-нибуд неприятности знает, что ее ему никак не избежать, и вот он всячески старается отдалить это от себя, отодвинуть куда-нибудь, уйти от
этого... Точно таким же образом поступает человеческий разум, в
своем стремлении познать причину вещей: он старается скрыть
от себя свое невежество и бессилие различными, хотя бы и совершенно ничего не объясняющими отговорками, отсрочками, либо
наконец пытается совершенно уйти от решения. И вот древние
для объяснения устойчивости земли придумали великана, который
будто бы держит ее на своих плечах; индусьг думали, что земля
опирается на колоссального слона, который, в свою очередь,
стоит на гигантской черепахе.
Если бы всем им задать вопрос, да на что же опираются и
великан и черепаха, то навряд ли мы получилй бы более удовлетворительный ответ, чем тот, который был дан Лютером. Несмотря
на это, подобное решение временно их удовлетворяло, подобно
тому как теперь многих удовлетворяет решение вопроса о сотворении мира, в виде «понятия о, боге». Казалось бы, нетрудно понять, что такое бесполезное и бесцельное отодвигание вопроса
неминуемо приведет к вопросу о причине причин. Заметим кстати,
что если остался неразрешенным вопрос о том, что делал бог до
сртворения мира, то такая же участь должна постигнуть и вопрос
о том, что делал он после мироздания? Так называемые «деисты»
(которых следует отличать от «теистов», признающих постоянную творческую работу бога и постоянное управление миром с
его стороны) ограничиваются, как известно, одним актом создания мира и предполагают, что уже с самого начала бог устроил
все так мудро и совершенно, что дальнейшее вмешательство является ненужным, так как подобно раз заведенным часам ход вещей
в природе не нарушается. По этой теории выходит, что бог после
сотворения мира погрузился в прежнее состояние абсолютного
покоя и полнейшего бездействия, в котором он был до сотворения мира. Нетрудно заметить, что такая теория не менее бессмысленна и нелогична, чем теория теистов, считающих мир за нечто
до такой степени несовершенное и неустроенное, что оно нуждается в постоянных подправках и руководительстве. Дальнейшее
же существование бога — творца вселенной — вне его создания,
наряду с его «детищем», предоставленным самому себе, — нечто
немыслимое, какое-то чудовище дуализма. Собственно говоря, все
эти рассуждения совершенно бесполезны в смысле требований
философии, так как понятие о времени по существу неприменимо
к предвечному существу, и так как безначальный бог, по всей вероятности, имел бесконечное число раз возможность воспользоваться для сотворения мира таким сомнительным поводом, как
«благоволение».
Если кто-либо возразит, что и вечность и бесконечность мира — вещь невозможная, то это будет вызовом, относящимся в равной степени и к вечному и к бесконечному богу.
Такое возражение будет вдобавок еще очень неправильным, так
как, не будучи в состоянии составить себе понятие о вечности и
бесконечности по той причине, что разум наш может охватить
лишь происходящее во времени и пространстве, мы можем представить себе эти понятия. Другими словами, — мы не в состоянии
создать себе наглядную картину из вечности и бесконечности, но
мыслить о том и другом мы можем и мыслим в действительности,
так как иначе у нас не было бы и слов для обозначения этих понятий. Но если мы, с одной стороны, не можем создать себе ясного представления о вечности и бесконечности, то тем меньше мы
можем вообразить зарождение вселенной во времени и конец ее
в пространстве. Совершенно прав был тот древний философ.
который бесконечность мира пояснил известным сравнением ее с
брошенным дротиком. Если, — говорит он, — мы станем у предполагаемого конца мира и бросим дротик в открывшуюся перед
нами пустоту, то; могут создаться два положения: либо копье
встретит на своем пути какое-нибудь препятствие, которое прекратит его поступательное движение, либо оно будет лететь вдаль
без конца и никогда не упадет. Как в том, так и в другом случае
будет лишь доказано, что предполагаемый конец мира не есть его
настоящий предел и что следовательно мир бесконечен. Невольно
всякое мыслящее существо считает себя центром всего видимого
мира, центром, от которого все остальное расходится по всем направлениям, по всем радиусам, перифериям как в смысле времени,
так и пространства. На самом деле такое представление есть следствие субъективности, и всякая точка «вечно-бесконечного» мира
и есть периферия в одно и то же время. Если мы не можем совместить этих двух понятий, то лишь потому, что разум наш ограничен временем и пространством и все наши представления получаются эмпирическим путем, передаваясь нам внешними чувствами.
То же самое можно сказать и относительно бога; мысля о нем
как о «существе», мы представляем себе, что он находится в каком-то определенном центре вселенной, в то время как подобного
центра нет. Отбросив представление о боге как о личности, мы
тем самым уничтожим всякое мало-мальски серьезное различие
между вселенной и богом. Во всяком случае вечность и бесконечность вселенной гораздо легче представить себе, чем вечность и
бесконечность бога, того бога, который как таковой является
существом самобытным, совершенно самостоятельным, в то время
как такая высокая индивидуализация и обособленность нисколько не вяжется с эпитетами «вечный» и «бесконечный». Понятия:
сила и материя, пространство и время, их бесконечность, их неограниченность — противоречат этому самым очевидным образом.
К тому же границы времени и объем вселенной представляются
нам лишь в масштабе, приложимом к нашему собственному существованию, а потому они кажутся нам такими бесконечно великими, что невольно вызывают в нашем сознании представление
о чем-то вечном и бесконечном. Заметим также, что исследование
вещей, так широко ограниченных, не наталкивается в своем развитии ни на какое сопротивление, которое могло бы приостановить его, также не встречает никаких возражений ни по поводу
порядка вещей, ни по поводу их последовательности, ни наконёц
по поводу закона причины и следствия. Так например в настоящее время не возникает ни одного серьезного сомнения в том, что
вся наша планетная система биллионы лет тому назад представляла собою рассянную в пространстве полупрозрачную, туманную массу, которая путем сгущения и смешения превратилась в
одно целое, развивалась совершенно так же, как мы это наблюдаем (или в крайнем случае — с достоверностью предполагаем)
у туманных пятен. Следствия и следы этого преобразования можно еще и теперь подметить в этой сильно обособленной, почти
бессистемной конструкции планет, а сама эта бессистемность, кажущаяся бесцельность и несимметричность исключают всякую
возможность божественного вмешательства. Какой например
смысл в том, что солнце, центр всей этой многосложной системы,
соединило в себе материал всех наружных планет и любую из них
по велечине превосходит в тысячи раз? Собственно говоря, на
это можно было бы возразить, что такое явление вызвано законами притяжения. Приняв даже справедливость этого возражения,
несмотря на очевидные его несоответствия, мы должны согласиться с тем, что более тесное соприкосновение планет или же
более плотная консистенция солнца достигли бы той же цели без
какого-либо нарушения этих законов. Далее, какой смысл того,
что колоссальное количество тепла, света и силы, исходящее от
солнца, почти без всякой пользы для нашей планеты рассеивается
в мировом пространстве и мы получаем лишь самую незначительную часть,—так например земля получает всего 1/2300000000?
Наконец почему в количестве, качестве, величине и устройстве
планет наблюдается, полное отсутствие какого-либо порядка, симметрии, красоты, даже просто определенного правила?
«Симметрия, — заявил один астроном, возражая материалистам,— слишком мелочна для великого творца вселенной!» Но
почему же для него не была слишком мелочной асимметрия? Почему ему не казался непорядочным беспорядок? Ведь дело было
у него в руках, и он мог поступить с ним, согласно своему желанию. И если он хотел убедить человека в своем существовании,
то почему же он не устроил вселенной так, чтобы все его намерения были очевидны для всех?
Почему он не начертал своего имени на небесах огненными
буквайи? Почему так трудно, почти невозможно постичь его? Наконец, если бы он так легко мог положить конец всем мукам и
сомнениям людей насчет его самого и насчет его существования,
почему он не делает этого? Свои расспросы мы могли бы продолжать следующим образом. Почему нащ спутник — луна — не в
состоянии поддерживать жизнь органических существ? Почему
устройство остальных планет не таково, чтобы их, как и землю,
могли населять человекоподобные, разумные существа?
Какой смысл в пустынном, почти бесполезном мировом пространстве, на котором только кое-где попадаются на громадных
друг от друга расстояниях единичные небесные тела, оживляющие этот огромный пустырь? Какое назначение выполняют кометы и метеоры? К чему эти двойные звезды? К чему эти солнца
без планет, которые вечно вращаются одно вокруг другого или
вокруг общего центра тяжести? Почему наконец вся наша планетная система устроена таким образом, что она неминуемо должна
погибнуть так же бессмысленно, как она и зародилась, уничто-
жить земной шар и таким образом предать вечному забвению все
то, что создал великий разум человека? Или почему сама земля
устроена была так, что те мыслящие разумные существа, которые,
собственно говоря, и должны были быть прямой целью творения — люди — могли появиться на ней только через миллионы и
миллионы лет, пройдя массу стадий развития и то не везде, а
только в некоторых ограниченных местах земной поверхности'3
Для чего две трети этой поверхности заняты водой, а последняя
треть устроена так неравномерно, так неблагоприятна для жизненных потребностей человека? Для чего в песчаных пустынях
Африки рассеивается ежедневно без всякой пользы такое огромное количество солнечного тепла и света, в то время как несчастный житель полярных стран цепенеет от вечного холода и полумрака? Зачем луна, предназначенная для того, чтобы прогонять
тьму наших .ночей, исполняет эту обязанность так скверно? Почему гибельные по своим последствиям землетрясения не оставляют в покое бедных жителей земли даже там, где они упорным
тяжелым трудом, казалось бы, завоевали себе право на более
огражденное от неприятных неожиданностей существование?
Как бы ни увеличивали мы и без того длинный ряд наших вопросов, результат их будет один и тот же. Но, прежде чем покончить со всеми рассуждениями по поводу этого доказательства,
заметим еще, что библейский рассказ о сотворении мира, служащий и до настоящего времени чуть ли не первым догматом христианской веры, по всем вопросам, касающимся мироздания, та
басня, которой доселе приписывают какое-то научное значение,—
с точки зрения строгой науки не выдерживают ни малейшей критики и уже с первых же строк рассказа выказывают свое полное
невежество в астрономии.
Вначале, говорится в этой наивной басне, бог создал небо и
землю. Небо и земля, ка"к видите, поставлены рядом, каю величины равнозначащие, в то время как между ними колоссальная
разница. Затем, как известно, рассказывается о том, что солнце
и луну бог сотворил в четвертый день; так как свет был им сотворен в первый день, то тем самым луне приписывается собственно ей принадлежащий свет. Можно еще допустить ввиду различных физических и астрономических законов существование
света до появления солнца в парообразном тумане, но правильная смена дня и ночи совершенно немыслима без солнца. Точно
так же невозможен без солнца и упоминаемый уже на третий
день рост трав, деревьев, плодов и т. п. Совершенно бессмысленно это противопоставление тьмы — свету, бессмысленно это разделение вод на «воды тверди земной и тверди небесной», предполагающее существование воды и над небом. Вообще, если верить библии, то солнце, луна и звезды были созданы исключительно ради земли, исключительно для нее были зажжены эти
огромные небесные светильники! Такой взгляд покоится на тог-
дашнем положении науки. Ныне же земля уже давно сведена с
незаслуженного ею пьедестала — центра мировой системы. Наконец бог, по библии, употребляет на создание земли и ее обитателей целых пять дней, тогда как сотворение неба отняло у него
только один день. Мы уже не упоминаем о том, что в библейском рассказе растения и животные создаются в несколько дней,
тогда как в настоящее время нам известно, что для этого требуется громадное количество времени — много, много поколений.
Здесь мы все время говорили о космологическом доказательстве, которое заключается в том, что вечный и однообразный круговорот метаморфоз считается ввиду ограниченности человеческих представлений явлением немыслимым, вопреки требованиям
логики и эмпиризма, давно доказавших справедливость этого и
снявших таким образом с очереди этот вопрос.
Переходим теперь к следующему доказательству, находящемуся в теснейшей ' связи с первым,— физико-теологическому.
Его
иногда называют «доказательством целесообразности», так как
оно опирается на предполагаемую целесообразность всех явлений
жірироды. Как первое доказательство, так и второе приводится
часто рядом и порою в смешанном виде. Мы же для большей ясности постараемся, насколько это возможно, разъединить и выделить их.
Среди всех доказательств, подтверждающих существование
бога, одно из главных мест занимает то, которое встречается наиболее часто и считается самым сильным и популярным. Как искусный механизм часов, гласит оно, предполагает существование часовщика, так и построение гораздо более искусного механизма —
вселенной — предполагает какого-то архитектора. Забывают при
этом, что приведенной аналогии между произведениями искусства
и -произведениями природы совершенно не существует. Ведь низкому же не придет в голову поставить на одну ступень естественный рост розы и искусственное создание часов. В одном случае
создателем является время в связи с издавна существующими
.законами природы, в другом — главную роль играет или свободное желание или до некоторой степени ловкость разумного существа, пользующегося уже готовым, предоставленным природою
материалом. Современное естествознание разбило все доводы этого
мнимого доказательства: оно показало, что целесообразность явлений природы происходит не в силу какого-либо или чьего-либо
определенного .намерения, а есть лишь неизбежный результат
круговорота изменений, результат приспособляемости и назначения тел природы. Справедливость требует сказать, что уже в 450 г.
до p. X. греческий философ Эмпедокл объяснил целесообразность
явлений природы, как остаток бесконечных зачатков или более
или менее неудавшихся попыток к саморазвитию. Но философы,
следовавшие за ним, не поняли всей глубины этой мысли, и уже
Сократ не упустил случая, по аналогии с чисто человеческой деяХрестоматия ко «еторяи атеизма.
1я
1 J
тельностью, вывести заключение о произведении и мастере (при,
рассмотрении строения человеческого тела), — заключение, которым, много столетий спустя, старался доказать существование бога,
совершенно несправедливо провозглашенный атеистом французский философ Вольтер. Вся натуралистическая наука минувших,
времен с особенной любовью пользовалась этим доказательством,,
так что мы напрасно будем искать в произведениях того времени:
по части естествознания (особенно среди популярных изданий)место, в котором бы не было бесконечных ссылок на это доказательство, в котором бы не пелся панегирик этой так называемой:
философии мироздания. Ведь еще и теперь нельзя поручиться за.
то, что мы не встретимся с каким-нибудь корифеем науки, который
захочет проповедывать подобного рода умозаключения, или замаскировав их или даже не сделав этого. Само собою понятно,.,
что во всех теологических произведениях, рассчитанных на популяризацию, доказательство это приводилось особенно часто и
культивировалось особенно тщательно. Однако Кант, этот кумирфилософов-теологов, признал, что теорию целесообразности создал разум, который сам впоследствии был поражен чудом, им же
самим созданным. Совершенно другой оборот дело приняло тогда,,
когда выступил на сцену знаменитый английский естествоиспытатель Чарльз Дарвин. Правда, еще задолго до Дарвина естествознание в значительной мере эмансипировалось от этого теологического учения о целесообразности. Люди поняли, что ноги оленят
не потому длинны, что он умеет быстро бегать, а бегает он быстро
потому, что у него длинные ноги; не для того испорчено зрение
у крота, чтобы иметь возможность рыть землю, а потому у него ».
слабы глаза, что он постоянно находится под землей и совершенно
не польуется своим органом зрения. Стало очевидным и то, что»
живущие под землею животные не были созданы слепыми ради
окружающей их тьмы, а слепы они именно потому, что совсем не
получают необходимого раздражения зрительных нервов.
Эмансипации этой много способствовало и то обстоятельство,,
что люди на каждом шагу наталкивались на случаи, которые совершенно шли вразрез с мнимой целесообразностью. Несмотря на;
все это, многое еще осталось загадочным и темным, и необходимость допустить божественное вмешательство то-и-дело выплывало наружу. Все это продолжалось до тех пор, пока Дарвин ясно
и убедительно не доказал своей «презираемой» теперь теорией
приспособления, каким образом достигается в природе целесообразность.
Он доказал, что если в природе все полезно и целесообразно,
то это не есть следствие какого-нибудь определенного, разумного»
намерения, не есть, с другой стороны, дело слепого случая, а результат взаимовлияния и взаимоотношения между природой и
окружающими ее предметами. Если например живущие на д е ревьях насекомые имеют обыкновенно зеленоватую окраску и бла-
годаря этому сравнительно легко ускользают от преследующих
их врагов, то в этом не следует видеть какого-нибудь строго продуманного творческого акта. Причина гораздо проще; уже с незапамятных времен насекомые, окрашенные в менее выгодный
цвет, подвергались сильному истреблению, насекомые зеленого
цвета более успешно избегали этого. Вот это-то выгодное качество
они и передали по наследству своему потомству. Другой пример.
Полярный медведь, живущий в области вечного снега и льда, покрыт шкурой белого цвета. Ему, таким образом, легче добывать
себе пищу: он менее заметен для преследуемой им добычи. Это
опять-таки не есть небесный дар; произошло это исключительно
в силу обстоятельств: звери с темными шкурами, обитавшие в полярных странах, погибали из-за недостатка пищи; только те из них
уцелели, которые имели благодарный белый цвет шкуры,— и это
выгодное отличие было использовано — перенесено на потомство.
.Перейдем к тому явлению, что животные холодных стран защищены от стужи плотной одеждой, каковой не имеют обитатели
теплого климата. Это обстоятельство очень легко объяснить внешним влиянием и стремлением приспособиться к нему, но уж отнюдь
не носиться с мыслью о каком-то небесном закройщике, который
будто бы заботится о летнем и зимнем гардеробе каждого зверя.
Или вот — переселение зверей, которое дает нам прелестный образчик забот этих самых зверей о сохранении своей жизни. Эту
склонность, дающую самые положительные результаты, естественнее всего объяснить привычкой, которая постепенно развивалась
отчасти наследственным путем, отчасти под влиянием усилившегося холода во время ледникового периода. Дальнейшие примеры,
которых можно привести бесконечное множество, мы найдем у
Дарвина и в произведениях, излагающих его теорию. Мы увидим,
что даже в тех случаях, где нам кажется несомненной какая-то
умышленность, эта точка зрения теряет свое значение, как только
мы взглянем на данное явление в связи с другими, подобными ему.
Так например черепные швы у младенцев и млекопитающих значительно облегчают процесс рождения, потому что дают возможность механически сократить и сдать черепную крышку. Никоим
образом нельзя предположить, что швы эти существуют специально для упомянутой цели, так как мы их замечаем и у птиц,
и у пресмыкающихся, вылупляющихся из яиц и совершенно не
нуждающихся в уменьшении головы. Наблюдая например ветви
ползущих растений и увидев их устройство, как бы приспособленное для ползания, мы можем подумать, что специально для этой
цели и созданы ветви. Но мысль эта моментально испарится, когда
мы увидим, что и ветви растений ' неползучих устроены почти
так же.
Знаменитый ботаник Шлейден рассказывает, что у большинства явнобрачных растений тычинки и рыльце хотя и находятся,
согласно законам оплодотворения, очень близко друг от друга,
15*
но своего полного физиологического развития достигают в разное
время. Часто в момент рассеивания цветочной пыли рыльце оказывается или недостаточно развившимся или, наоборот, уже засохшим, и таким образом все эти хитроумные приспособления
оказываются потерявшими всякий смысл. У тех же растений, у которых половые органы разъединены, процесс оплодотворения еще
более осложнен. Так, у многих групп эти органы устроены так
неправильно и неудобно, что кажется, будто мать-природа употребила все свои силы на то; чтобы сделать окончательно невозможным естественное соединение цветочной пыли с рыльцем. В данном случае опыление никогда бы не состоялось, если бы делу не
помогло посредничество перелетающих с цветка на цветок насекомых (пчел, шмелей, мух, бабочек). Очевидно, что главную роль
здесь играет случай, который никоим образом не мог быть предусмотрен телеологией. Насколько такой «случай» тем не менее необходим, ясно видно из того, что почти все семейство ятрыжниковых (например орхидеи) не только не оплодотворяется пылью
своих тычинок, но она действует на них как яд! Ясно, что все это
семейство нуждается в чужой, приносимой кем-либо извне, оплодотворяющей пыли. Если плотоядные животные обладают всеми
теми свойствами, которые делают их вполне, приспособленными
для выслеживания добычи и нападения на нее, как то: великолепно
развитыми внешними чувствами, острыми когтями и зубами, выгодной для них окраской шкуры и большой долей хитрости,— то,
с другой стороны, звери, обреченные им в пищу, обладают свойствами, помогающими им избегать нападбний. Здесь, значит, цель,
идя против цели, взаимно уничтожают одна другую. Если антилопа
предназначена в пищу тигру, то зачем она в таком случае сохранила стремление и возможность избежать его когтей? Ведь не имей
антилопа некоторых данных ей качеств, задача'тигра была бы ему
в значительной мере, облегчена. Или, может быть, пищею львам и
тиграм должен служить человек с его телесной слабостью?. Возмржно, что не будь плодоядных животных — растения заполнили бы землю и вытеснили бы людей, но лишь незначительное
стеснение в их стремлениях к плодовитости,— и это- легко устраняется. Если человек действительно (как это утверждают теологи)
составляет гла'вную заботу провидения, то, казалось бы, в природе
не должно быть места тем растениям и животным, которые мешают существованию этого «любимчика». На самом же деле выходит, что 99 процентов всех видов растений и животных не только
бесполезны человеку, но приносят ему существенный вред; в то
время как третьего вида —< индиферентных — совершенно не суствует. Даже и с полезными, если мы их будем рассматривать
с точки зрения целесообразности, дело окажется очень сомнительным. Так например хинное дерево, дающее лучшее средство против лихорадки, отсутствует как раз в тех болотистых местностях,
где человек в нем особенно нуждается, а растет оно, наоборот,
в гористых, почти недоступных для человека странах, вдобавок
совсем не благоприятствующих его произрастанию. Раз подметив
такое неудобство, человек занялся посадкой его в тех местностях,
где оно произрастает гораздо успешнее. Но все-таки, несмотря на
благодеяния, которые нам оказывает существование в природе
этого дерева, мы бы легко обошлись и без него, если бы божественному провидению угодно было избавить нас совершенно от
лихорадки. И здесь, как в тысяче подобных случаев, мы имеем
дело, с одной стороны, с организмами, порождающими болезнь,
с другой — с организмами, излечивающими ее. Как не сказать:
если бы природа поэкономнее снабжала нас болезнями, ей было бы
меньше работы над созданием «лечебной материи»!
Прежде чем совершенно покончить с вышеупомянутым доказательством, необходимо напомнить, цто если, с одной стороны,
мы замечаем в природе или ів нашей жизни своего рода целесообразность, то с другой — можно указать на такое же (если не
большее) количество бесцельного, прямо-таки вредного, которое
уже отнюдь не согласуется ни с предположением о целесообразности в природе, ни со вмешательством в земную жизнь творца.
Не можем же мы, в самом деле, предположить, что божество сознательно допускает ошибки, или что оно создало одну часть вселенной — целесообразною, другую же — нет. Либо все есть продукт божественной премудрости и вмешательства, либо же ничего.
Вспомним только о вредных явлениях природы, которые
стоили жизни (или, по меньшей мере, здоровья) стольким людям
и животным. Вспомним о землетрясениях, пожарах, стужах, бурях,
наводнениях, эпидемических болезнях, о вредных растениях и
животных, которые размножаются с ужасающей быстротой и т. д.
и т. д. Какая цель преследовалась созданием трех тысяч видов
змей, угрожающих людям ядом и смертью? Зачем эти ужасные
тучи саранчи — гибель и бич полей? Для чего эти микроорганизмы,
размножающиеся баснословно скоро (бациллы, бактерии, грибки
и т. п.), которые порождают самые ужасные болезни, которые живут исключительно за счет смерти других, гораздо высших организмов? Вероятно для того, чтобы сделать нашу землю раем,
божественное провидение населило воздух шершнями, осами, мошками, жигалками, москитами и тому подобными вредными насекомыми, червями и микроскопическими организмами, которые отчаянно мучают людей и зверей, уничтожают посевы и всякие
произрастания. Подумаем над вопросом, почему такое большое
количество земной поверхности (созданной и приспособленной,
если верить теологам> исключительно для жительства людей) по
своему климату абсолютно непригодно для поселений (2|3 поверхности занято водою, а большая часть остальной трети погребена
под вечными льдами)? Почему, несмотря на все это, в человеке
так сильно развито стремление к размножению, в то время как для
полного успеха такого стремления нет мало-мальски подходящих
условий? Даже и в нашем собственном организме, который обыкновенно рассматривается как шедевр творческого вдохновения и
о котором теологи говорят, что бог его создал по своему подобию,
т. е., говоря их языком, по высшему типу совершенства,— в этом
самом организме масса нецелесообразностей, масса вредного, бесполезного и уж, во всяком случае, несовершенного.
Вспомним только о червеобразном отростке слепой кишки,
служащем часто причиною воспаления брюшины — болезни, кончающейся часто смертью, особенно у детей. Вспомним слепую
кишку, которая часто вызывает подбрюшные сгущения; вспомним
о наших миндалевидных железах, которые как будто только на
то и существуют, чтобы вызывать беспрерывные ангины и воспаления горла; вспомним грудные железы, вызывающие припадки
удушья у детей, хвостовую кость, которая признана приверженцами теории постепенного развития остатком хвоста позвоночных
животных!
А наружные ушные раковины, которые нам совершенно не
нужны для процесса уловления звуков? А связанные с этими раковинами мускулы? А мигательная перепонка? А волосы, которыми
прикрыт у некоторых людей наружный эпителий (совсем как у
животных)? А скрещивание нашего дыхательного горла с пищеводом, служащее часто причиной удушения? А вертикальное
положение нашего позвоночного столба, составленного к тому же
из мелких кусочков, благодаря чему так часто происходит его
искривление, и чем объясняется наклонность детей и стариков
падать вперед? Или например безобразно противное соединение
самых разнородных отправлений в одном органе нашего тела
и т. п.?
Даже наш глаз, который принято считать самым совершенным органом, о котором мы знаем, что он лишь путем непрерывных перерождений превратился из простого, находившегося под
кожей, нерва, в тот'тонкий и вполне законченный восприемник
световых ощущений, каковым является он теперь,—- даже он далеко не совершенен. Профессор Гельмгольц, известный знаток
внешних чувств человека, указал на целый ряд ненормальностей
в устройстве глаза. «Если бы,—говорит Гельмгольц,—какой-нибудь
оптик создал что-нибудь подобное, ему вернули бы его механизм
обратно. Тех ненормальностей, которые мы замечаем в устройстве
глаза, нет даже в самых дешевых фотографичских аппаратах.
Одно количество людей, носящих очки, говорит само за себя и
указывает на степень несовершенства глаза».
Ухо наше так же несовершенно, как и глаз. В нем насчитывается не менее десяти мускулов, находящихся в состоянии полного бездействия, и потому совершенно бесполезных. Во внутреннем его устройстве, как и в устройстве глаза, мы находим также
не мало ненормальностей. А до чего несовершенны наши зубы,
один из важнейших органов нашего тела! Можно без преувели-
чения сказать, что единственно сносные и крепкие зубы поставляет
нам зубной врач...
Почему человек не наделен зрением орла, слухом совы, полетом ласточки, чутьем охотничьей собаки? Да просто потому, что
природа развивается сама по себе, а не в силу какой-то высшей
воли, сообразно внешним и внутренним условиям существования.
Есть ли это саморазвитие или рука провидения? Природа в том
виде, как мы наблюдаем ее теперь, не есть произведение момента,
а является результатом процесса развития, продолжавшегося миллионы и биллионы лет. Течение этого процесса нисколько не
зависит от требований целесообразности, и в последней своей
стадии он физически не мог вылиться в иную форму, чем та,
в которую он вылился. Иначе представляется невероятным, чтобы
мир, состоящий сплошь из образований нецелесообразных, мог
просуществовать такое долгое время и не пасть жертвой всех этих
несовершенств.
Наконец самое существование процесса развития есть очень
веское доказательство против идеи божественного вмешательства,
так как свободная творческая сила имеет полную возможность
сразу ввести в мир все полезное, без того, чтобы ей могли помешать постепенное образование вещей и установление между ними
отношений. В противоположность этому мы видим, что все в природе нарождается путем медленного, постепенного развития,
встречающего вдобавок большие препятствия в своем движении.
Легко доказать, что большинство действительно целесообразных
•образований в природе могло бы нам достаться гораздо скорее и
легче, если бы на пути не было стольких трудностей.
Этим мы закончим теологическое доказательство, хотя можно
было бы прибавить еще много чего. Во всяком случае и из сказанного видно, что большинство людей, серьезно изучающих природу
и ее законы, волей-неволей должны приобщиться к атеистической
точке зрения и признать, что вселенная не есть монархия, а республика, покоящаяся на самых широких демократических принципах:
(«Бог и наука»).
ПРОЛЕТАРСКИЙ
А Т Е И З М
/Г
КАРЛ МАРКС — ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС.
I. Религия, ее социальные корни, ее эксплоататорская роль.
Материальная основа
религии.
У религии нет ни сущности, ни царства. В религии люди делают свой эмпирический мир лишь мыслимым, воображаемым существом или совершенно чуждым. Это объясняется не «самосознанием» и подбными глупостями, а господствующим способом
производства и обмена, который так же далек от чистого понятия,
как открытие механической мельницы и применение железных
дорог от философии Гегеля. Если же говорить о «сущности» религии, т. е. о материальной основе этой сущности, то нечего искать
се в «сущности человека» и определениях бога, а лишь в соответствующем каждой ступени религиозного развития состояния
эмпирического мира.
(К. Маркс и Ф. Энгельс. «Святой Макс», —
ѵ
критика учения Штирнера).
Изменение религиозных
верований.
Религия возникла в самые первобытные времена из самых
темных первобытных представлений людей о своей собственной и
внешней природе. Но, раз возникнув, всякая идеология развивается
в связи со всей совокупностью существующих представлений и
подвергает ее дальнейшей переработке. Иначе она была бы идеологией, т. е. не имела бы дела с мыслями как с независимыми сущностями, которые самостоятельно развиваются из самих себя н
подчиняются своим собственным законам. Что материальные условия жизни людей, в головах которых совершается данный процесс мышления, определяют его собою, этого конечно не сознают
эти люди, потому что иначе пришел бы конец всякой идеологии.
Первоначальные религиозные представления, по большей части
общие каждой данной родственной группе народов, по распадении
-таких групп своеобразно развиваются у каждого отдельного народа, смотря по выпавшим на его долю жизненным условиям.
у одного ряда таких групп народов, именно у арийского (так
•
*
называемого индо-европейского), процесс развития религиозных,
представлений подробно исследован сравнительной мифологией.
Боги каждого отдельного народа были национальными богами,
власть которых не переходила за границы охраняемой ими национальной области. По ту сторону границ начались царства других
богов. Все эти боги жили лишь до тех пор, пока существовали
создавшие их народы, и падали вместе с ними. Старые народностипали под ударами всемирной римской империи, экономических
условий возникновения которой мы не можем здесь рассматривать. Старые боги пришли в упадок; этой участи не избегли даже
римские боги, скроенные по узкой мерке города Рима. Потребность
дополнить всемирную империю всемирной религией ясно обнаруживается в том, что Рим пытался ввести у себя поклонение всем
сколько-нибудь почтенным чужим богам. Но императорскими декретами нельзя создать новой всемирной религии. Новая всемирная
религия, христианство, уже возникла незаметно из смеси обобщенного восточного, в особенности еврейского, богословия и вульгаризованной греческой, в особенности стоической, философии. Лишь
путем трудного исследования можем мы узнать теперь, каков был
первоначальный вид христианства, потому что оно передано нам
уже в том официальном виде, какой придал ему Никейский собор,
приспособивший его к званию государственной религии. Но во
всяком случае уже тот факт, что через двести пятьдесят лет оно
стало государственной религией, достаточно показывает, до какой
степени соответствовало оно обстоятельствам того времени. -В средние века по мере развития феодализма оно принимало вид соответствующей ему религии с соответствующей феодальной иерархией. А когда окрепла городская буржуазия, в противоположность
феодальному капитализму развилась ерес-ь, сначала у альбигойцев
в южной Франции, в эпоху высшего расцвета тамошних городов.
Средние века присоединили к богословию и подчинили ему все
прочие формы идеологии: философию, политику, юриспруденцию,
Вследствие этого всякое общественное и политическое движение
вынуждено было принимать религиозную форму. Чувства массы
вскормлены были исключительно религиозной пищей; поэтому,
чтобы вызвать бурное движение, ее собственные интересы должны
были представляться ей в религиозной одежде. Городская буржуазия с самого начала создала себе придаток в виде неимущих городских плебеев, поденщиков и всякого рода прислужников, предшественников позднейшего пролетариата, не принадлежащих ни
к какому определенному сословию. В совершенном соответствии
с этим и религиозная ересь уже очень рано подразделилась на два
вида: буржуазно-умеренный и плебейски-революционный,— ненавистные даже буржуазным еретикам.
Неистребимость протестантской ереси соответствовала непобедимости усиливавшейся городской буржуазии. Когда эта буржуазия достаточно окрепла, ее борьба с феодальным дворянством.
имевшая до тех пор местный характер, начала принимать национальные размеры. Первый акт борьбы был сыгран в Германии: так
называемая реформация. Городская буржуазия не была еще достаточно сильна и развита, чтобы объединить под своим знаменем все
прочие бунтовские элементы: плебеев — в городе, низшее дворянство и крестьян — в деревне. Прежде всех потерпело поражение
дворянство; потом последовало крестьянское восстание, представлявшее собою высшую точку революционного движения того времени. Города не поддержали крестьян, и революция была подавлена войсками крупных феодальных владельцев, которые и воспользовались всеми выгодными последствиями. С тех пор в течение цельрх столетий Германия-не принадлежала к числу наций, самостоятельно вмешивавшихся в историю. Но, кроме немца Лютера
«был еще француз Кальвин, который с чисто французской резкостью
выдвинул на первый план буржуазный характер реформации, придав церкви республиканский, демократический характер. Между
тем как лютеранская реформация опошлялась в Германии, ведя
эту страну к гибели, под знаменем кальвинистской реформации
соединились республиканцы в Женеве, Шотландии и в Голландии,
и велась голландцами борьба за свое освобождение от испанского
владычества и от германской империи. Та же кальвинистская реформация доставила идеологические костюмы для второго акта
буржуазной революции, имевшего место в Англии. Здесь кальвинизм явился ясным религиозным выражением интересов тогдашней буржуазии; поэтому он и не добился полного признания после
революции 16S9 г., окончившейся сделкой между частью дворянства и буржуазией. Восстановлена была английская государственная церковь, но уже не в прежнем своем виде, не в виде католицизма с королем, играющим роль папы: теперь она была- сильно
окрашена кальвинизмом. Старая государственная церковь праздновала веселое католическое воскресенье и преследовала скучное
воскресенье кальвинистов. Новая церков, проникнутая буржуазным духом, ввела именно это последнее, еще и поныне украшающее Англию.
, Во Франции в 1685 г. кальвинистское меньшинство было подавлено, обращено в католичество или изгнано. Но к чему это повело?
Уже тогда действовал свободный мыслитель Пьер Бейль, а в
1694 г. родился Вольтер. Благодаря насильственным мерам Людовика XIV, французской буржуазии легче было придать своей революции и религиозную, чисто политическую форму, которая одна
только и соответствовала развитому состоянию буржуазии. Вместо
протестантов в национальных собраниях заседали свободные мыслители. Христианство вступило в свою последнюю стадию. С тех
пор оно уже не в состоянии было поставлять религиозную одежду
для стремления какого-нибудь прогрессивного класса. Оно все
более и бол^е становилось исключительным достоянием господствующих классов, пользующихся им, как средством управления,
как уздой для низших классов. При этом каждый из господствующих классов эксплоатирует свою особую религию: землевладельц ы — католический иезуитизм или протестантскую ортодоксию,
либеральные и радикальные буржуа — рационализм. Вдобавок, на
деле оказывается совершенно безразличным, верят или не верят
сами эти господа в свои религии.
Мы видим, стало быть, что, раз возникнув, религия всегда
сохраняет известный запас представлений, унаследованный от
прежних времен, так как во всех вообще областях идеологии предание является великой консервативной силой. Но изменения, происходящие в этом запасе представлений, определяются классовыми, т. е. экономическими отношениями людей, делающих эти
изменения.
(Энгельс. Из «Людвига Фейербаха»).
*
*
*
Всякая религия есть не что иное, как фантастическое отражение в головах людей тех внешних сил, которые господствуют а
их повседневном существовании, отражение, в котором земные
силы принимают форму неземных, сверхъестественных.
(Ф. Энгельс. «Анти-Дюринг»).
Возникновение представления о личном бессмертии. »
Великим основным вопросом всякой, а особенно новейшей
философии является вопрос об отношении мышления к бытию.
Уже с того весьма отдаленного времени, когда люди, еще не имея
никакого понятия о строении своего тела и не умея объяснить сновидений, пришли к тому представлению, что их мышление и их
ощущения причиняются не телом их, а особой от тела душой,
остающейся'В теле, пока оно живет, и покидавшей его, когда оно
умирает,—уже с этого времени они должны были задуматься
об отношении души к внешнему миру. Так как смерть состоит в
том, что отделяется от тела душа, остающаяся живой, то нет надобности придумывать для нее особую смерть. Так возникло представление о ее бессмертии, на той ступени развития не заключавшем в себе ничего утешительного, казавшемся лишь роковою,
совершенно непреоборимой необходимостью и часто, например,
у греков считавшемся положительным несчастьем. Представление
о личном бессмертии выросло не из потребности в религиозном
утешении, а из того простого обстоятельства, что, признавши
существование души, люди не могли объяснить себе, куда же девается она после смерти.
(Ф. Энгельс. «Людвиг Фейербах»),
О доказательствах
существования
бога.
Упоминая здесь при случае о совершенно оставленной теме,
о доказательствах существования бога, надо заметить, что Гегель
перевернул все эти богословские доказательства, т. е. отверг их,
чтобы оправдать их. Что же это за клиенты, которых адвокат не
может иначе избавить от осуждения, как сам убивая их? Гегель
например таким образом толкует заключение от бытия мира к
бытию бога: «Так как случайного нет, то есть бог, или абсолютное».
Богословское же доказательство, наоборот, гласит: «Так как случайное имеет истинное бытие, то бог существует». Бог есть гарантия для случайного мира. Само собой понятно/что этим сказано
и обратное.
Доказательства существования бога представляют пустые тавтологии. Например онтологическое доказательство говорит только:
«То, что я действительно представляю себе, для меня есть действительное представление», т. е. действует на меня. И в этом смысле
все боги — как языческие, так и христианские — обладали действительным существованием. Разве не царствовал старый Молох?
Разве Аполлон Дельфийский не был действительной силой в жизни
греков? Здесь даже критика Канта ничего поделать не может. Бели
кто-нибудь представляет себе, что обладает сотней талеров, если
это представление не есть для него произвольное субъективное
представление, если он верит в него, то для него эти сто воображаемых талеров имеют такое же значение, как сто действительных.
Он например будет делать долги на основании своей фантазии, он
будет действовать так, как все человечество действовало, делая
долги на счет своих богов. Более того, пример Канта мог бы подкрепить онтологическое доказательство. "Действительные талеры
имеют такое же существование,- как воображаемые боги. Разве
действительный талер существует где-либо кроме представления—
правда, общего или скорее общественного представления — людей?
Привези бумажные деньги в страну, где не знают этого употребления бумаги, и всякий будет смеяться над твоим субъективным представлением. Приходи со своими богами в страну, где существуют
другие боги, и тебе будут доказывать, что ты страдаешь фантазиями и абстракциями. И справедливо. Если бы кто-нибудь привел
древним грекам иноземного бога, то нашел бы доказательства несуществования этого бога. Ибо для греков он не существовал. Чем
известная страна является для иноземных богов, тем страна разума
является для бога вообще, областью, где его существование прекращается.
Или же доказательства существования бога представляют не
что иное, как доказательства бытия существенного человеческого
самосознания, логические объяснения последнего. Например онтологическое доказательство. Какое бытие непосредственно, когда,
мы его мыслим? Самосознание.
-В таком смысле все доказательства бытия бога являются доказательствами его небытия, опровержениями всех представлений
о боге.
(К. Маркс. О различии между физикой Демокрита и Эпикура).
Основа первобытной
религии.
Что же касается тех идеологических областей, которые еще
выше парят в воздухе — религии, философии и т. д., то у них имеется доисторическое содержание, находимое и усваиваемое историческим периодом, содержание, которое мы теперь назвали бы
бессмыслицей.
В основе различных неправильных представлений о природе,
о строении самого человека, о духах, волшебных силах и т. д.
лежит по большей части лишь отрицательное экономическое: низкое экономическое развитие доисторического периода имело в
•качестве своего дополнения, а порой даже в качестве условия и
даже в качестве причины ложные представления о природе. И все
же, хотя экономическая потребность была главной пружиной двигающего вперед познания природы, и с течением времени все
более становилась такой пружиной, все же было бы педантством
искать для всех этих первобытных глупостей экономических причин. История — это есть история постепенного устранения этой
бессмыслицы или замены ее новой, но все же менее нелепой бессмыслицей.
(Ф. Энгельс. Письмо к Конраду Шмидту).
Фетишистский характер буржуазного
мышления.
Товарная форма и то отношение стоимостей продуктов труда,
в котором она выражается, не имеют решительно ничего общего
с физической природой вещей и вытекающими из нее отношениями вещей. Это лишь определенное общественное отношение
самих людей, которое принимает в их глазах фантастическую форму отношения между вещами. Чтобы найти аналогию этому, нам
пришлось бы забраться в туманные области религиозного мира.
Здесь продукты человеческого мозга представляются самостоятельными существами, одаренными собственной жизнью, стоящими
в определенных отношениях с людьми и друг с другом. Такую
же роль в мире товаров играют продукты человеческих рук. Это
я называю фетишизмом, который присущ продуктам труда, раз
только они производятся как товары, и который следовательно
неотделим от всякого товарного производства.
(К. Маркс. Капитал).
Бессилие питает религиозность.
Бессилие всегда спасает себя верой в чудеса: устранив врага
в своем воображении, оно считает его побежденным и теряет
всякое понимание современности, отдавшись бездеятельному про-
славлению будущего, мечтая о подвигах, которые у него будто
бы есть в запасе, но которых оно отнюдь не желает осуществить
на деле.
Религия — опиум
народа.
Религия есть самосознание и самочувствие человека, который
или еще не отыскал себя, или снова уже потерял себя. Но человек—
не абстрактное, вне мира витающее существо. Человек — это мир
человека, государство, общество. Это государство, это общество
создает, религию, превратное миросозерцание, ибо сами они — превратный мир. Религия есть общая теория этого мира, его энциклопедическая сводка, его логика в популярной форме, его спиритуалистическое исповедание, его моральная санкция, его торжественное завершение, его общая основа, дающая ему утешение и оправдание. Она
фантастическое воплощение человеческого существа,
ибо человеческое существо не обладает истинной действительностью. Таким образом борьба против религии есть косвенно борьба против того мира, духовным ароматом которого является религия.
Религиозное убожество есть в одно и то же время выражение
действительной нищеты и протест против действительной нищеты.
Религия — это вздох угнетенной твари, душа бессердечного мира,
дух безвременья. Она — опиум народа.
Упразднение религии как призрачного счастья народа есть
требование его действительного счастья. Требование отказаться
от иллюзий о своем положении есть требование отказаться от
положения, которое нуждается в иллюзиях. Критика религии есть,
следовательно, в зародыше критика той юдоли плача, священным
ореолом которой является религия.
(К. Маркс. К критике гегелевской философии
права).
*
*
*
Общественная жизнь есть жизнь практическая по существу.
Все таинственное, все, что ведет теорию к мистицизму, находит
рациональное решение в человеческой практике и в понимании
этой практики.
(К. Маркс. Архив Маркса и Энгельса, т. I, стр. 202).
Религия «осмысливает» любые жестокости и зверства.
Плутарх в своей биографии Мария представляет собою устрашающее историческое доказательство того, как эта моральная
манера уничтожает всякое теоретическое и практическое беспристрастие. Описав ужасное уничтожение кимвров, он рассказывает,
что было такое множество трупов, что массалисты могли удобрять
к ми свои виноградники. После этого наступили дожди, и это был
Хрестоматия по истории атеизма
1
?
самый обильный виноградом и фруктами год. Такие же мысли высказывает благородный историк по" поводу трагической гибели
этого народа. Плутарх находит вполне моральным со стороны,
бога, что он дал погибнуть и сгнить целому большому благородному народу, чтобы доставить обильный сбор плодов марсельским
филистерам. Таким образом, даже превращение народа в навозную
кучу дает желательный повод насладиться мечтаниями на моральные темы.
(К. Маркс. О различии между физикой Демокрита и Эпикура).
"
ъ
*
я
Власть религии в современном государстве — не что иное, как
религия власти.
(К. Маркс).
Христианство — наиболее подходящая
религия для общества,
основанного на товарном хозяйстве.
Религиозный мир есть только рефлекс реального мира. Для
общества товаропроизводителей, характерное общественно-производственное отношение которого состоит в том, что продукты
труда являются здесь для них товарами, т. е. стоимостями, и что
отдельные частные работы приноравливаются здесь друг к другу
в своей единообразной форме как одинаковый человеческий труд,
для такого общества наиболее подходящей формой религии является христианство, с его культом абстрактного человека, в особенности в своих буржуазных разновидностях, каковы протестантизм, деизм и т. д.
(К. Маркс. Капитал).
Христианство освящает .и утверждает социальное
неравенство.
Социальные принципы христианства имели в своем распоряжении 1800 лет, чтобы развиваться, и ни в каком дальнейшем,
развитии со стороны попов не нуждаются. Социальные принципы
христианства оправдывали античное рабство, превозносили средневековое крепостничество и умеют также в случае нужды защищать, хотя и с жалкой гримасой, современное угнетение пролетариата. Социальные принципы христианства проповедуют необходимость существования классов—господствующего и порабощаемого, и для последнего у них находится лишь благочестивое
пожелание, чтобы первый ему благодетельствовал. Социальные
принципы христианства переносят на небо обещанное попами вознаграждение за все перенесенные мерзости и тем самым оправдывают продолжение зтих мерзостей на земле. Социальные принципы христианства провозглашают все гнусности угнетателей против угнетаемых либо справедливым наказанием за первородный
и другие грехи, либо испытанием, которое господь в своей премудрости ниспосылает искупленным им людям.'Социальные принципы христианства превозносят трусость, презрение к самому себе,
самоунижение, подчинение, смирение, словом—все качества черни,
а для пролетариата, который не желает, чтобы с ним обращались
как с отребьем человечества,—для пролетариата смелость, самосознание, чувство гордости и независимости важнее хлеба. На
социальных принципах христианства лежит печать пронырливости
и ханжества, пролетариат же — революционен. Таковы социальные принципы христианства.
(Ф. Энгельс. В сборнике «Из литературного наследия
К. Маркса, Ф. Энгельса и Ф. Лассаля», т. II).
&
Христианству победа обеспечена, но, по мнению богословов,
не в такой степени обеспечена, чтобы христианство могло пренебречь помощью полиции.
(К. Маркс. Сочинения, т. I, гл. 23).
Бессилие христианской
морали.
Христианство хотело нас освободить от господства плоти и
побуждающих желаний лишь потому, что считало нашу плоть и
наши желания чем-то для нас чуждым; оно хотело нас освободить от нашего природного назначения потому, что считало
нашу собственную природу не принадлежащей нам. Если я сам не
природа, то все мои природные желания, все мое естество — и
з этом заключается учение христианства — принадлежит не мне
самому, и каждое определение природы, так же как и мое собственное естество, кажутся мне наложенными на меня так называемой внешней природой оковами, принуждением — гетерономией, в противоположность автономии духа. Впрочем христианство никогда не доходило до освобождения нас от господства
желаний, дело ограничилось исключительно безрезультатным на
практике моральным запретом.
(К. Маркс и Ф. Энгельс. «Святой Макс» (критика учения Штирнера).
*
Уу&
Варварство и бесстыдные жестокости так называемых , христианских рас по отношению ко всяким иноверцам и и нрр л ф и никам, которых им удавалось поработить себе, превосходят щсе
ужасы, совершавшиеся в любую историческую эпоху любоі, расой,
не исключая самых диких и невежественных, самых безжалостных
и бесстыдных.
(К. Маркс. Капитал, т. I).
Раз понята связь вещей, рушится вся теоретическая вера в постоянную необходимость существующих порядков, рушится раньше того, чем они развалятся на практике. Следовательно тут уже
безусловный интерес господствующих классов требует увековечения бессмысленной путаницы.
(К. Маркс. Письма к Кугельману).
Церковь — союзница
помещиков
и аристократии.
В XVIII столетии французская аристократия сказала: «Для
нас —Вольтер, для масс — мессия и десятина». В XIX столетии
английская аристократия говорит: для нас — притворно-набожные фразы, для народа—христианская практика. Древние святые
христианства бичевали свое тело во имя духовного спасения
массы; современные образованные святые бичуют тело масс во
имя собственного духовного спасения. Этот союз развратной,
разорившейся и жадной к удовольствиям аристократии с церковью,
союз, основанный на грязных, корыстных расчетах пивных магнатов и монополистов — крупных торговцев, вызвал массовую демонстрацию в Гайд-Парке, какой Лондон ни разу не видел со
смерти Георга IV—«первого джентльмена Европы». Мы были зрителями от начала до конца и мы полагаем, что не впадаем в преувеличения, когда говорим, что вчера в Гайд-Парке началась английская революция. Борьба против духовенства приняла такой же
серьезный характер, как и всякая серьезная борьба, характер классовой борьбы бедных и богатых, народа и аристократии, «низших »
и «лучших» классов.
Благочестивый английский помещик по природе призван
к тому, чтобы превращать других в мучеников, вместо того чтобы
самому им сделаться.
(Ф. Энгельс. Сочинения, Г из. XI).
Религиозность
буржуазии—выражение
ее
лицемерия.
Нечистоплотность сердца и фантазии щекочет себя непристойными картинами всемогущества зла и бессилия добра; да, это фантазия, гордость которой — грех, это — порочность сердца, которое скрывает свое светское высокомерие в мистических образах...
Отчаяние в своем собственном спасении, желание очистить
свою совесть превращает личные слабостив слабости человечества;
отчаяние в спасении человечества отказывает ему в праве следовать законам природы и проповедует незрелость, как нечто необходимое; лицемерие прикрывается богом, не веря ни в его действительность, ни во всемогущество добра.
(К. Маркс. Сочинения, Гиз, 23, т. 1).
*
*
•*
Чужие страдания переносить со смирением и душевным спокойствием— таков лозунг правоверного христианства.
(Ф. Энгельс. Сочинения, т. XI. Г из, 26).
Буржуазия пытается отчураться от пролетариата
религией.
Рабочие Франции и Германии прониклись духом мятежа. Они
повально были заражены социализмом и при этом, по весьма понятным соображениям, отнюдь не пылали особенной любовью
к законности тех средств, с помощью которых они надеялись
завоевать господство... Что же оставалось делать немецкой и
французской буржуазии для своего спасения, как не выбросить
втихомолку свое свободомыслие, совсем наподобие развязного
франта, который, когда его все более и более начинает одолевать
морская болезнь, бросает дымящуюся сигару, которой он раньше
хвастливо щеголял у борта корабля. Один за другим былые насмешники стали превращаться в весьма благочестивые создания;
они стали отзываться с почтением о церкви, ее учениях и обрядах
и даже сами принялись их проделывать, поскольку, понятно, нельзя было их обойти. Французские буржуа стали отказываться по
пятницам от мяса, а немецкие—терпеливо потели на своих церковных бдениях, выслушивая до конца бесконечные протестантские
проповеди. Со своим материализмом они попали в беду, и последним и единственным средством .спасения общества от полной
гибели стал лозунг: «религия должна быть поддержана в народе».
К несчастью своему, они это открыли лишь после того, как сделали все, что было в человеческих силах, чтобы навсегда разрушить религию.
(Ф. Энгельс. Предисловие
утопии к науке»).
к «Развитию социализма от
Ц. Борьба с религией. Грядущее торжество атеизма.
Борьба
с религией — политическая
борьба.
С тех пор как исчезла правда неземная, задача истории —
восстановить земную правду. Ближайшая задача философии, находящейся на службе истории с тех пор, как разоблачен священный образ человеческого самоотчуждения, состоит в том, чтобы
разоблачить самоотчуждение в его неосвященных образах. Критика неба обращается таким образом в критику земли, критика
религии — в критику права, критика теологии — в критику политики.
(К. Маркс. К критике гегелевской философии
права).
После того как история достаточно долго была растворена
в суеверии, мы растворяем суеверие в истории. Вопрос об отношении политического освобождения к религии становится для нас
вопросом об отношении -политической эмансипации к человеческой... Политическое освобождение еврея, христианина, религиозного человека вообще есть освобождение государства от еврейства, христианства, религии вообще.
(К. Маркс. Еврейский
вопрос).
Всякая история религии, отвлекающаяся от материального базиса, не критична. Конечно много легче посредством анализа найти
земное ядро причудливых религиозных представлений, чем, наоборот, из данных отношений реальной жизни вывести соответствующие им различные формы. Последний метод есть единственно материалистический, а следовательно научный метод.
(К. Маркс. Капитал).
Как не следует бороться с
религией.
Наши бланкисты имеют то -общее с бакунистами, что они
хотят быть представителями самого крайнего направления, хотят
итти дальше всех. Потому-то,—мимоходом заметим,—-'они и пользуются нередко теми же средствами, что и бакунисты, хотя и для
достижения противоположных целей. Итак требуется быть радикальнее всех по части атеизма. В настоящее время, к счастью,
атеистом быть уже не трудно. У европейских рабочих партии
атеизм является неразрывно связанным с социализмом, хотя в некоторых странах он довольно часто напоминает собою атеизм того
испанского бакуниста, который говорил: «веровать в бога — противно всякому социалисту, но веровать в деву Марию—-это совсем другое дело, в нее естественно должен веровать всякий
порядочный социалист». Относительно огромного большинства
немецких рабочих — социал-демократов можно даже сказать, что
для них атеизм — уже пройденная ступень; это слово, имеющее
чисто отрицательное значение, не применимо к ним, так как они
выступают уже не теоретическими, а только практическими противниками религии: они покончили с идеей бога, они живут и
мыслят в мире действительности и являются поэтому материалистами. То же будет вероятно и во Франции. А если нет, то всего
проще было бы позаботиться, чтобы среди рабочих была распространена в громадном количестве блестящая французская материалистическая литература ХѴШ в., та литература, которая со стороны
формы и содержания представляет собой до сих пор величайшее
создание французского гения, которая по своему содержанию,
принимая во внимание тогдашнее состояние науки, и теперь еще
стоит на недосягаемой высоте, а по форме и теперь еще не имеет
ничего себе равного. НЦ нашим бланкистам до всего этого нет
дела. Чтобы показать, что они всех радикальней, они, по примеру
революционеров 1793 г., отменяют бога декретом: «пусть коммуна
навсегда освободит человечество от этого призрака бедствий прошлого (т. е. бога), от этой причины (несуществующий бог — причина) всех бедствий настоящего. В коммуне нет места для священника; всякая религиозная манифестация, всякая религиозная
организация должны быть запрещены». И это требование о превращении людей «приказом муфтия» в атеистов подписано двумя
членами Коммуны, которые имели, кажется, случай вполне убедиться, во-первых, в том, чго на бумаге можно приказать очень,
очень многое, но этого еще недостаточно для того, чтобы приказание было исполнено, а во-вторых, в том, что преследования
являются лучшим средством к укреплению нежелательных убеждений. Несомненно одно: единственная услуга, которую можно
еще оказать теперь религии — это объявить атеизм обязательным
символом веры и, перещеголяв все бисмарковские законы против
церкви, запретить всякую религию.
(Ф, Энгельс. Программа
«
*
*
коммунаров-бланкистов).
ф
Коммунистическая революция есть самый радикальный разрыв
с существующими имущественными отношениями; не удивительно,
что она самым реальным образом разрывает с традиционными
идеями.
(К. Маркс к Ф. Энгельс. Коммунистический манифест),
*
О происхождении
ч-
*
религии и ее неизбежном
конце.
Всякая религия есть не что иное, как фантастическое отражение в головах людей тех внешних сил, которые господствуют
в их повседневном существовании, отражении, в котором земные
силы принимают форму неземных, сверхъестественных. На заре
истории такому отражению подвергаются сперва силы природы,
в дальнейшем развитии они подвергаются у разных народов самым разнообразным и пестрым олицетворениям.
Но вскоре наряду с силами природы начинают выступать и
действовать и социальные силы — силы, столь же чуждые, вначале непонятные людям и господствующие над ними с такой же
кажущейся естественной необходимостью, как и сами естественные
силы. Фантастические образы, в которых вначале отражались
только таинственные силы природы, приобретают вследствие этого
общественные атрибуты, становятся представителями исторических сил. На еще высшей ступени развития все естественные и
общественные атрибуты многих богов переносятся на единоговсемогущего бога, который в свою очередь является лишь отражением абстрактного человека. Так возник монотеизм, этот исторический последний продукт позднейшей греческой вульгарной
философии, олицетворенной в еврейском исключительно национальном боге — иегове. В этой удобной, эластичной и ко всему
приспособимой форме религия может продолжать существовать,
как непосредственная, т. е. чувственная, форма отношения людей
к господствующим над ними посторонним естественным или общественным силам, поскольку люди подчиняются господству таких сил. Но мы неоднократно видели, что в нынешнем буржуазном
обществе люди, находятся под властью ими же самими созданных
экономических условий или же произведенных орудий производства, которые господствуют над людьми как посторонняя сила.
Таким образом фактическая основа действия религиозного
рефлекса продолжает существовать, а с нею — и сам религиозный
рефлекс. Буржуазная экономия не в состоянии предотвратить ни
кризиса в целом, ни в частности защитить отдельного капиталиста от убытков, безнадежных долгов и банкротства, ни отдельного рабочего— от безработицы и нищеты. Все еще говорится:
человек предполагает, а бог (т. е. внешнее господство капиталистического способа производства) располагает.
Одного познания факта, даже если бы» оно было шире и
глубже даваемого буржуазной экономией, еще недостаточно для
того, чтобы подчинить общественные силы самому обществу. Для
этого нужно прежде всего общественное дело. Когда это дело
будет выполнено, тогда общество, мирно пользуясь ими, освободит себя и всех своих членов от рабства, в котором они нынче
находятся благодаря производству; когда человек будет не только
предполагать, но и располагать,— тогда только исчезнет последняя внешняя сила, которая ныне отражается в религии, а вместе
с тем исчезнет само религиозное отражение по той простой причине, что нечего больше будет отражать.
(Ф. Энгельс. Анти-Дюринг).
*
Крушение убогого
*
религиозного
*
представления
о мире.
Современное естествознание, которое одно лишь достигло
всестороннего, систематического, научного развития, в противоположность гениальным натурфилософским догадкам древних и
весьма важным, но спорадическим и оставшимся по большей части
безрезультатными открытиям арабов, — современное етсествознание, как и вся новейшая история, датируется от той знаменатель-
ной эпохи, которую мы, немцы, называем, по приключившемуся
с нами тогда национальному несчастью, Реформацией, французы—
Ренессансом, а итальянцы — квинквеченто и содержание которой
не исчерпывается ни одним из этих наименований. Это — эпоха,
начинающаяся со второй половины XV" столетия. Королевская
власть, опираясь на горожан, сломила мощь феодального дворянства и основала крупные, по существу национальные монархии,
в которых получили свое развитие современные европейские нации и современное буржуазное общество; и в то время как буржуазия и дворянство еще ожесточенно боролись между собой,,
немецкая крестьянская война пророчески указала на грядущие
классовые битвы, ибо в ней на арену выступили не только восставшие крестьяне — в этом не было ничего нового,— но за нимипоказались начатки современного пролетариата с красным знаменем в руках и с требованием общности имущества на устах»
В спасенных при гибели Византии рукописях, в вырытых из развалин Рима античных статуях перед изумленным Западом предстал новый мир — греческая древность; перед светлыми образами
ее исчезали призраки средневековья; в Италии достигло неслыханного расцвета искусство, которое явилось, точно отблеск классической древности, и которое в дальнейшем никогда уже не подымалось до такой высоты. В Италии, Франции, Германии возникла
новая, первая современная литература; Англия и Испания пережили вскоре затем свою классическую литературную эпоху. Рамки
старого Orbis terrarum были разбиты; только теперь собственно
была открыта земля и положены основы для позднейшей мировой
торговли и для перехода ремесла в мануфактуру, явившуюся
в свою очередь исходным пунктом современной крупной промышленности. Духовная диктатура церкви была сломлена, германские
народы в своем большинстве приняли протестантизм, между тем
как у романских народов стало все более и более укореняться
перешедшее от арабов и питавшееся новооткрытой греческой философией жизнерадостное свободомыслие, подготовившее материализм XVIII столетия.
Это был величайший прогрессивный переворот, пережитый до
того человечеством, эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страстности и характера, по
многосторонности и учености. Люди, основавшие современное
господство буржуазии, были чем угодно, но только не буржуазно
ограниченными. Наоборот, они были более или менее обвеяны
авантюрным характером своего времени. Тогда не было почти ни
одного крупного человека, который не совершил бы далеких путешествий, не говорил бы на четырех или пяти языках, не блистал бы в нескольких областях творчества. Леонардо да-Винчи был
не только великим художником, но и великим математиком, механиком и инженером, которому обязаны важными открытиями
самые разнообразные отрасли физики. Альбрехт Дюрер был ху-
дожником, гравером, скульптором, архитектором и кроме того
изобрел систему фортификации, содержащую в себе многие идеи,
развитые значительно позже Монталамберрм и новейшим немецким учением о крепостях. Макиавелли был государственным деятелем, историком, поэтом и. кроме того первым достойным упоминания военным писателем нового времени. Лютер вычистил не
только авгиевы конюшни церкви, но и конюшни немецкого языка,
создал современную немецкую прозу и сочинил текст и мелодию
того пропитанного чувством победы хорала, который стал марсельезой XVI века. Люди того времени не стали еще рабами разделения труда, ограничивающее, калечащее действие которого
мы так часто наблюдаем на их преемниках. Но что особенно характерно для них,—так это то, что они почти все живут всеми интересами своего времени, принимают участие в практической борьбе,
становятсядш сторону той или иной партии и борются кто словом
и пером, кто мечом, а кто и тем и другим. Отсюда — та полнота
и сила характера, которая делает из них цельных людей. Кабинетные ученые являлись тогда исключениями; это либо люди второго и третьего ранга, либо благоразумные филистеры, не желающие обжечь себе пальцев.
И естествознарге развивалось тогда в обстановке всеобщей
революции, будучи само насквозь революционно: ведь оно должно
было еще завоевать себе право на существование. Вместе с великими итальянцами, от которых датирует новейшая философия, оно
дало своих мучеников для костров и темниц инквизиции. И характерно, что протестанты предупредили католиков в преследовании
свободного естествознания. Кальвин сжег Сервета, который был
близок к открытию кровообращения, и при этом заставил жарить
его живым два часа; инквизиция удовольствовалась по'крайней
мере тем, что просто сожгла Джордано Бруно.
Революционным актом, которым естествознание заявило о
своей независимости и как бы повторило лютеровское сожжение
папской буллы, было издание бессмертного творения, в котором
Коперник бросил — хотя и скромно и, так сказать, лишь на ложе
-смерти — перчатку церковному авторитету в естественных делах.
Отсюда датирует освобождение естествознания от теологии, хотя
выяснение отдельных взаимных претензий затянулось до нашего
времени, не завершившись еще и теперь во многих головах. Оттуда же пошло гигантскими шагами развитие наук, которое выигрывало в силе, если можно так выразиться, пропорционально
квадрату расстояния (во времени) от своего исходного пункта.
Точно нужно было доказать миру, что отныне и для высшего продукта органической материи, для человеческого духа, как и для
неорганического вещества, будет иметь силу закон об обратной
пропорциональности движения.
Главная задача, которая предстояла естествознанию в начавшемся теперь первом периоде его. развития, заключалась в том,
чтобы справиться с имевшимся налицо материалом. Во всех областях приходилось начинать с самого начала. Древность имела
•Евклида и солнечную систему Птоломея, арабы — десятичное счисление, начала алгебры, современную систему счисления и алхимию; христианское средневековье не оставило ничего. При таком
положении вещей естественно, что первое место заняла элементарнейшая отрасль естествознания — механика земных и небесных
тел, а наряду с 'ней •— на службе у нее — открытие и усовершенствование математических методов. Здесь были совершены великие *
дела. В конце рассматриваемого периода, отмеченного именами
Ньютона и Линнея, эти отрасли знания получили известное завершение. Важнейшие математические методы были установлены
в основных чертах: аналитическая геометрия — главным образом
Декартом, логарифмы —Непером, диференциальное и интегральное исчисления — Лейбницем и, может быть, Ньютоном. То же
самое можно сказать о механике твердых тел, главные законы
которой были выяснены раз навсегда. Наконец в астрономии солнечной системы Кеплер открыл законы движения планет, а Ньютон
объяснил их. общими законами движения материи. Остальные отрасли естествознания были еще далеки от такого предварительного завершения. Механику жидких и газообразных тел удалось
несколько обработать лишь к концу указанного периода. Физика
,е собственном смысле слова была еще з самой первоначальной
стадии, за исключением оптики, успехи которой были вызваны
практическими потребностями астрономии. Химия эмансипировалась от алхимии только благодаря теории флогистона. Геология
еще не вышла из эмбриональной стадии минералогии, и поэтому
не могла еще существовать палеонтология. Наконец в области биологии занимались главным образом накоплением и первым отбором
колоссального материала как ботанического и зоологического, так
анатомического и собственно физиологического. О сравнении
между собой форм жизни, об изучении их географического распространения, их климатологических и т. д. условий еще не могло
бить и речи. Здесь только ботаника и зоология достигли некоторого завершения благодаря Линнею.
Но что особенно характеризует рассматриваемый период, так
это — образование известного цельного мировоззрения, центром
которого является учение об абсолютной неизменности природы.
Согласно этому взгляду, природа, каким бы путем она ни возникла,
раз она уже имеется налицо, остается всегда неизменной, пока она
существует. Планеты и спутники их, приведенные раз в движение
таинственным «первым толчком», продолжают кружитьсй по предначертанным им эллипсам во веки веков или во всяком случае до
скончания всех вещей. Звезды покоятся навсегда неподвижные
на своих местах, удерживая друг друга благодаря «всеобщему
тяготению». Земля остается от века или от дня своего творения
(в зависимости от точки зрения) одинаковой, неизменной. Тепе-
решние «пять частей света» существовали всегда, имели всегда
те же самые горы и долины, те же реки, тот же климат, ту же
флору и фауну, если не говорить об изменениях, внесенных рукой
человека. Виды растений и животных были установлены раз навсегда при их возникновении, равное порождало всегда равное,
и Линней делал уже большую уступку, когда говорил, что благодаря скрещиванию местами могли возникнуть новые виды. В противоположность истории человечества, развивающейся во времени, истории природы приписывалось только возникновение
в пространстве. За природой отрицали всякое изменение, всякое
развитие. Революционное вначале естествознание оказалось вдруг
перед насквозь консервативной природой, в которой все было и
остается теперь таким же, каким оно было извечно, и в которой
все должно было оставаться до скончания мира или во веки веко-в
таким, каким оно было с самого начала.
Хотя естествознание первой половины XVIII в. поднималось
высоко над греческой древностью с точки зрения объема своих
познаний и даже с точки зрения отбора материала, но оно далеко
уступало ей в смысле идеального одоления этого материала,
"в смысле всеобщего мировоззрения. Для греческих философов мир
был по существу чем-то возникшим из хаоса, чем-то развившимся,
чем-то ставшим. Для естествоиспытателя рассматриваемого нами
периода он был чем-то окостенелым, неизменным, а для большинства— чем-то созданным сразу. Наука все еще глубоко сидела
в теологии. Она повсюду искала и находила в качестве последней
причины толчок извне, необъяснимый из самой природы. Если притяжение, торжественно названное Ньютоном всеобщим тяготением^
и рассматривается как существенное свойство материи, то где
источник непонятной тангенциальной силы, дающей начало планетным орбитам? Как возникли бесчисленные виды животных и
растений? Как в особенности возник человек, относительно которого было твердо принято, что он существует не от века? На все,
подобные вопросы естествознание слишком часто отвечало ссылкой на творца всех вещей. Коперник в начале рассматриваемого
нами периода дает отставку теологии; Ньютон завершает этот
период постулатом божественного первого толчка. Высшая всеобщая идея естествознания рассматриваемого периода — это мысль
о целесообразности естественных процессов, плоская вольфовская
теология, согласно которой кошки были созданы, чтобы пожирать
мышей, мыши — чтобы быть пожираемыми кошками, а вся природа— чтобы доказать мудрость творца. Нужно считать огромным
достоинством и честью тогдашней философии, что она не поддалась влиянию ограниченной точки зрения тогдашнего естествознания, что она — начиная от Спинозы и кончая великими французскими материалистами — настойчиво пыталась объяснить мир
из него самого, предоставив детальное - оправдание этого естествознания будущего.
Я отношу к этому периоду еще и материалистов XVIII в., потому что в их распоряжении не было иного естественно-научного
материала, чем описанный выше. Составившее эпоху произведение
Канта было им неизвестно, а Лаплас явился долго спустя после них.
Не забудем, что хотя прогресс науки совершенно подкопал это
устарелое мировоззрение, но вся первая половина XIX в. все еще
находится под его влиянием и по существу его преподают еще
теперь во всех школах.
Первая брешь в этом окаменелом мировоззрении была пробита не естествоиспытателем, а философом. В 1757 г. появилась
«Всеобщая естественная история и теория неба» Канта., Вопрос о
первом толчке был здесь устранен; земля и вся солнечная система
предстали как нечто ставшее в ходе времени. Если бы подавляющее большинство естествоиспытателей не ощущало перед мышлением того страха, который Ньютон выразил своим предостережением: физика, берегись метафизики!—то они должны были бы
извлечь из одного этого гениального открытия Канта такие следствия, которые сберегли бы им бесконечные блуждания по кривопутьям и колоссальное количество потраченного в ложном направлении времени и труда. В открытии Канта лежал зародыш всего
дальнейшего прогресса. Если земля была чем-то ставшим, то чем-то
ставшим должны были быть также ее тепершнее геологическое,
климатическое, географическое состояние, ее растения и животные,
и она должна была иметь историю не только в пространстве, но и
во времени. Если бы стали немедленно и решительно работать
в этом направлении, то естествознание ушло бы в настоящее
время значительно дальше места, где оно находится. Но что путного могдю выйти из философии? Сочинение Канта не имело непосредственного влияния, пока — долгие годы спустя — Лаплас и
Гершель не развили и не обосновали его содержания, подготовив
таким образом торжество «небулярной гипотезе». Дальнейшие открытия закрепили наконец ее победу; важнейшими из них были:
установление собственного движения неподвижных звезд, доказательство существования оказывающей сопротивление среды
в мировом пространстве, установленное спектральным анализом
химическое тождество мировой материи и существование таких
раскаленных туманных масс, какие предполагал Кант.
Но позволительно усомниться, пришло ли бы естествоиспытателям в голову заметить противоречие между учениями об изменяющейся земле и о существующих на ней неизменных организмах, если бы зарождавшемуся пониманию того, что природа не
есть, а становится и погибает, не явилась помощь с другой стороны. Возникла геология, которая выявила не только наличность
образовавшихся друг после друга и расположенных друг над
другом геологических слоев, но и сохранившиеся в этих слоях
раковины и скелеты вымерших животных, стволы, листья и плоды
несуществующих более растений. Пришлось признать, что историю
во времени имеет не только земля, взятая в целом, но и ее теперешняя поверхность и живущие на ней растения и животные.
Признание это произошло первоначально не без труда. Теория
Кювье о претерпеваемых землей резолюциях была революционна
на словах и реакционна на деле. На место акта божественного
творения она поставила целый ряд подобных творческих актов и
сделала из чуда существенный рычаг природы. Лишь Ляйелль внес
здравый смысл в геологию, заменив внезапные, вызванные капризом творца, революции постепенными действиями медленного преобразования земли.
Теорию Ляйелля было еще труднее примирить с гипотезой
постоянства органических видов, чем все предшествовавшие ей
теории. Мысль о постепенном преобразовании земной поверхности
и всех условий жизни на ней приводила непосредственно к учению
о постепенном преобразовании организмов и их приспособлении
к изменяющейся среде, приводила к учению об изменчивости видов. Однако традиция является силой не только в католической
церкви, но и в естествознании. Сам Ляйелль в течение долгих- летне замечал этого противоречия, а его ученики — и того менее. Этоможно объяснить только утвердившимся в это время в естествознании разделением труда, благодаря которому каждый ограничивается своей специальной областью знания и немногие лишь спо- собны обозреть его в целом.
Между тем в физике произошел огромный сдвиг вперед, результаты которого были почти одновременно резюмированы тремя
различными людьми в столь знаменательном для этой отрасли
естествознания 1842 год}'. Майер в Гейльбронне и Джоуль в Манчестере доказали превращение теплоты в механическую силу и механической силы в топлоту. Установление механического эквивалента теплоты покончило со всеми сомнениями по этому поводу.
В то же время Грове — отнюдь не профессиональный естествоиспытатель, а английский адвокат — доказал при помощи простой
обработки накопившегося физического материала, что все так
называемые физические силы — механическая сила, теплота, свет,
электричество, магнетизм и даже так называемая химическая
сила — переходят при известных условиях друг в друга без какой бы то ни было потери силы, и таким образом доказал задним
числом при помощи физических методов теорему Декарта, что
количество имеющегося в мире движения неизменно. Благодаря
этому различные физические силы — эти, так сказать, неизменные
«виды» физики — превратились в различно диференцированные
и переходящие по определенным законам друг в друга формы
движения материи. В науке удалось избавиться от случайности
наличия такого-то и такого-то количества физических сил, ибо
была доказана их взаимная связь и переходы друг в друга. Подобно астрономии, и физика пришла к тому неизбежному результату, что последним выводом является вечный круговорот движущейся материи.
Удивительно быстрое развитие химии после Лавуазье и особенно после Дальтона разрушало, с другой стороны, старое представление о природе. Благодаря получению неорганическим путем,
производившихся до того лишь в живых организмах соединений
было доказано, что законы химии имеют ту же силу для органических тел, как и для неорганических, и была заполнена значительная часть остававшейся еще после Канта непроходимой пропасти между неорганической и органической природой.
Наконец и в области биологического исследования начатые
в середине прошлого столетия систематически организуемые научные путешествия, экспедиции, более точное изучение европейских,
колоний во всех частях света живущими там специалистами, далее,
успехи палеонтологии, анатомии, физиологии вообще, в особенности со времени систематического применения микроскопа и открытия клетки,— все это накопило столько материала, что стало
возможным — и в то же время необходимым — применение сравнительного метода. С одной стороны, благодаря сравнительной
физической географии были установлены условия жизни различных флор и фаун, а с другой — были сравнены между собою
•различные организмы в отношении их гомологичных органов,
и притом не только в зрелом возрасте, но и на всех ступенях их
развития. Чем глубже проникало это исследование, чем точнее оно
делалось, тем больше расплывался застывший традиционный образ
неизменной органической природы. Не только безнадежно исчезали границы между отдельными видами растений и животных,
но появлялись' животные, как амфиокс и лепидосирена, которые
точно издевались над всеми существовавшими до того классификациями; и наконец были найдены организмы, относительно которых нельзя было даже сказать, относятся ли они к животному
миру или к растительному. Пробелы палеонтологической летописи
все более и более заполнялись, заставляя даже самых упорных ученых признать поразительный параллелизм, существующий между
историей развития органического мира в целом и историей развития отдельных организмов, давая таким образом ариаднину нить
из того лабиринта, в котором, казалось, окончательно запутались
ботаника и зоология. Характерно, что почти одновременно с нападением Канта на учение о вечности солнечной системы К. Вольф
произвел в 1759 г. первое нападение на теорию постоянства видов,
провозгласив учение об их развитии. Но то, что было у него только
гениальным предвосхищением, то приняло более конкретные формы у Окена, Ламарка, Вера и было победоносно проведено ровно
сто лет спустя, в' 1859 г., Дарвином. Почти одновременно было констатировано, что протоплазма и клетки, признанные, уже раньше
последними форменными элементам« всех организмов, живут са :
мостоятельно в качестве низших органических форм. Благодаря
этому была доведена до минимума пропасть между органической
и неорганической природой и вместе с тем устранено одно из
серьезнейших препятствий на пути к учению о происхождении
организмов путем развития. Таким образом современное мировоззрение было готово в его основных чертах. Все твердое было разложено, все неизменное улетучилось, все, признававшееся вечным,
стало считаться преходящим, вся природа предстала находящейся в вечном потоке и круговороте.
(И вот мы снова вернулись к концепциям великих основателей
греческой философии о том, что вся природа, начиная от мельчайших частиц ее до величайших тел, начиная от песчинки и кончая
солнцем, начиная от протиста и кончая человеком, находится
в вечном возникновении и уничтожении, в непрерывном течении,
в неустанном движении и изменении, с той только существенной
разницей, что то, что было у греков гениальной догадкой, является
у нас результатом строго научного, опытного исследования и поэтому имеет гораздо более определенную и ясную форму. Правда,
эмпирическое доказательство этого круговорота несвободно от
пробелов, но последние незначительны по сравнению с тем, что
уже твердо установлено, притом они с каждым днем все более и
более заполняются. И разве может быть без пробелов такое подробное доказательство, если вспомнить, что главнейшие отрасли
науки — звездная астрономия, химия, геология — насчитывают
едва одно столетие, сравнительные методы в физиологии — едва
50 лет и что основная форма почти всякого развития жизни —
клетка — открыта каких-нибудь сорок лёт назад!)
Из раскаленных вращающихся масс газа, законы движения
которых станут, может быть, известны нам лишь после нескольких
столетий наблюдений над собственным движением звезд, развились
благодаря охлаждению и сжатию бесчисленные солнца и солнечные системы нашего, ограниченного последними звездными кольцами Млечного пути, мирового острова. Развитие это шло, очевидно, не повсюду с одинаковой скоростью. Астрономия оказывается все более и более вынужденной признать существование
темных, не просто планетных, тел в нашей звездной системе, т. е.
признать существование потухших звезд (Медлер); с другой стороны (согласно Секки), часть туманных пятен относится в качестве
еще не готовых солнц к нашей звездной системе, что не исключает
того, что другие туманности, как утверждает Медлер, являются
далекими самостоятельными мировыми островами, ступень развития которых должен установить спектроскоп.
Лаплас показал подробным и еще "непревзойденным до сих
пор образом, как развивается из отдельной туманной массы солнечная система; позднейшая наука только подтвердила ход его мыслей.
На образовавшихся таким образом отдельных телах — солнцах, планетах, спутниках — господствует первоначально та форма
движения материи, которую мы называем теплотой. Не может быть
ѵ и речи о химических соединениях элементов даже при той температуре, которой обладает еще в наше время солнце; дальнейшие
наблюдения над солнцем покажут, насколько при этом теплота
способна превращаться в электричество или в магнетизм; уже и
.теперь можно считать почти установленным, что происходящие
на солнце механические движения имеют своим исключительным
источником борьбу теплоты с тяжестью.
Отдельные тела охлаждаются тем быстрее, чем они меньше.
Сперва охлаждаются спутники, астероиды, метеоры; наша луна
давно уже погасла. Медленней охлаждаются планеты, медленнее
всего — центральное светило.
Вместе с прогрессирующим охлаждением на первый план начинает все более и более выступать взаимодействие превращающихся друг в друга физических форм движения, пока наконец не
•будет достигнут пункт, с которого начинает давать себя знать
химическое сродство, когда химически индиферентные до того
элементы химически диференцируются друг за другом, приобретают химические свойства и вступают друг с другом в соединения.
Эти соединения непрерывно изменяются вместе с ..охлаждением
температуры, которая влияет различным образом не только на
каждый отдельный элемент, но и на каждое отдельное соединение
элементов, изменяются также вместе с зависящим от этого переходом части газообразной материи сперва в жидкое, а потом и
в твердое состояние и вместе с созданными благодаря этому новыми условиями.
/
Эпоха, когда планета приобретает твердую кору и скопления
воды на своей поверхности, совпадает с той эпохой, когда ее собственная теплота начинает играть все меньшую у меньшую роль
.по сравнению с теплотой, получаемой ею от центрального светила.
£е атмосфера становится ареной метеорологических явлений в современном смысле этого слова, ее поверхность — ареной геологических перемен, при которых созданные атмосферными осадками отложения приобретают все больший перевес над медленно
ослабевающими действиями во вне раскаленно-жидкого внутреннего ядра.
Наконец, если температура охладилась до того, что — по
крайней мере на каком-нибудь значительном участке поверхности — она уже не переходит границы, при которой способен существовать белок, то при наличии благоприятных химических условий образуется живая протоплазма. В настоящее время мы еще
не знаем, в чем заключаются эти благоприятные предварительные
условия. В этом нет ничего удивительного, так как до сих пор
еще не установлена химическая формула белка, и мы даже еще
не знаем", сколько существует химически различных белковых тел,
и так как только приблизительно лет десять как стало известно,
что совершенно бесструктурный белок обнаруживает все существенные функции жизни: пищеварение, выделение, движение,
сокращение," реакцию на раздражение, размножение.
Хрестоматия по истории атеизма
Может быть, прошли тысячелетия, пока создались условия,
необходимые для следующего шага вперед, и из этого бесформенного белка произошла ^благодаря образованию ядра и оболочки
первая клетка. Но вместе с этой первой клеткой была дана и
основа для формообразования всего органического мира. Сперва
образовались, как мы должны это допустить, по данным палеонтологической летописи, бесчисленные виды бесклеточных и клеточных протестов, о которых рассказывает нам единственный Eozoont
Canadense и из которых некоторые диференцировались постепенно
в первые растения, а другие — в первые животные. А из первых
животных развились — главным образом путем дальнейшего диференцирования—бесчисленные классы, порядки, семейства, роды
и виды животных и наконец та порода животных, в которой достигает своего полного развития нервная система, именно позвоночные, и опять-таки наконец среди последних—то позвоночное,
в котором природа дошла до познания самой себя, — человек.
И человек возник путем диференцирования, и не только
в индивидуальном смысле, т. е. так, что из одной единственной
клетки развивается путем диференцирования сложнейший из существующих в природе организмов, но и в историческом смысле.
Когда после тысячелетних попыток произошла наконец диференциация руки от ноги и установилась прямая походка, то человек
обособился от обезьяны и была заложена основа для развития
членораздельной речи и для мощного развития мозга, благодаря
которому образовалась с тех пор непроходимая пропасть между
человеком и обезьяной. Развитие специфических функций руки
означает появление орудия, а орудие означает специфически человеческую деятельность, преобразующее воздействие человека на
природу, производство. И животные имеют орудия в узком смысле
слова, но лишь в виде членов своего тела, как это можно утверждать о муравьях, пчелах, бобрах; и животные производят, но их
производительное воздействие на окружающую природу равно
нулю. Лишь человеку удалось наложить свою печать на природу;
он не только переместил растительные и животные миры, но изменил также вид и климат своего местопребывания и изменил даже
растения и животных до того, что результаты его деятельности
могут исчезнуть лишь вместе с гибелью всего земного шара.
И этого он добился прежде всего и главным образом благодаря руке. Даже паровая машина, являющаяся до сих пор самым
могущественным орудием при преобразовании природы, в последнем счете, будучи орудием, основывается на руке. Но параллельно
с развитием руки развивалась и голова, зарождалось сознание —
сперва отдельных практических, полезных действий, а впоследствии, на основе этого, у народов, находившихся в более благоприятных условиях, понимание обусловливающих эти полезные
действия законов природы. А вместе с быстро растущим познанием
законов природы росли и средства воздействия на природу; прк
помощи одной руки люди не создали бы паровой машины, если бы
наряду с рукой и отчасти благодаря ей не развился соответственным образом и мозг.
Вместе с человеком мы вступаем в область истории. И животные обладают историей, именно историей своего происхождения
и постепенного развития до своего теперешнего состояния. Но эта
история делается помимо них, для них, а поскольку они сами принимают в этом участие, это происходит без их ведома и желания.
Люди же, чем больше они удаляются от животных в тесном смысле
слова, тем более они начинают делать сами сознательно свою
историю, тем меньше становится влияние на эту историю непредвиденных факторов, неконтролируемых сил, и тем более соответствует результат исторического действия установленной заранее
цели. Но если мы подойдем с этим масштабом к человеческой истории, даже к истории самых развитых народов современности, то
мы найдем, что здесь все еще существует колоссальная дисгармония между поставленными себе целями и достигнутыми результатами, что попрежнему доминируют непредвиденные влияния, что
неконтролируемые силы гораздо могущественнее, чем приводимые
планомерно в движение силы. И это не может быть иначе до тех
пор, пока самая важная историческая деятельность человека, та
деятельность, благодаря которой человечество вышло из животного состояния, которая образует материальную основу всех прочих видов деятельности человека, пока производство, направленное на удовлетворение жизненных потребностей человечества, т. е.
в наше время общественное производство, предоставлено слепой
игре непредвиденных воздействий неконтролируемых сил и пока
следовательно поставленная себе заранее цель осуществляется
лишь в виде исключения, гораздо же чаще осуществляются противоположные ей результаты. В самых передовых, промышленных
странах мы смирили силы природы, поставив их на службу человечеству; мы благодаря этому безмерно увеличили производство,
так что теперь ребенок производит больше, чем раньше сотня
взрослых людей. Но каковы же результаты этого роста производства? Растущий прибавочный труд, растущая нищета масс и каждые десять лет — огромный крах. Дарвин не понимал, какую он
написал горькую сатиру на людей и в особенности на своих земляков, когда о« доказал, что свободная конкуренция, борьба за
существование, прославляемая экономистами как величайшее историческое завоевание, является нормальным состоянием животного
мира. Лишь сознательная организация общественного производства, в которой происходит планомерное производство и потребление, может поднять людей над прочими животными в общественном отношении, так, как их подняло производство вообще в
специфическом смысле. Благодаря общественному развитию подобная организация становится с каждым днем все возможнее,
от нее будет датировать новая историческая эпоха, в которой лю-
ди, а вместе с ними все отрасли их деятельности, и в частности
естествознание, сделают такие успехи, что все совершенное до того покажется только слабой тенью.
Но все, ^то возникает, достойно гибели. Пройдут миллионы
лет, народятся и сойдут в могилу сотни тысяч поколений, но неумолимо надвигается время, когда истощающаяся солнечная теплота не сумеет уже растапливать надвигающийся с полюсов лед,
когда все более и более скучивающееся у экватора человечество
перестанет находить и там необходимую- для жизни теплоту, когда
постепенно исчезнет и последний след органической жизни, и
земля — застывший мертвый шар, подобно луне — будет кружить
в глубоком мраке по все более коротким орбитам вокруг тоже
умершего солнца, на которое она наконец упадет. Другие планеты
испытают ту же участь — иные раньше, иные позже земли; вместо
гармонически расчлененной, светлой, теплбй, солнечной системы
останется холодный, мертвый шар, продолжающий итти своим
одиноким путем в мировом пространстве. И судьба, постигшая
нашу солнечную систему, должна раньше или позже постигнуть
все прочие системы нашего мирового острова, должна постигнуть
системы всех прочих бесчисленных мировых островов, даже тех,
свет от которых никогда не достигнет земли, пока еще существует на ней человеческий глаз, способный воспринять его.
'Но когда подобная солнечная система завершит свой жизненный круг и подвергнется судьбе всего конечного, когда она станет жертвой смерти, то что будет дальше? Будет ли труп солнца
продолжать катиться в виде трупа в бесконечном пространстве,
и неужели, все бесконечно разнообразные прежде диференцированные силы природы превратятся навсегда в единственную форму
движения — в притяжение? «Или же,— как спрашивает Секки,—
в природе имеются силы, способные вернуть мертвую систему
в первоначальное состояние раскаленной туманности, способные
пробудить ее^для новой жизни? Мы этого не зиашл»?
Разумеется, мы этого не знаем в том смысле, в каком мы
знаем, что 2 X 2 = 4 или что притяжение материи действует обратно пропорционально квадрату расстояния. В теоретическом
естествознании, которое свои взгляды на природу старается обът
единить в одно гармоническое целое, ббз которого в наше время
не сделает шага вперед даже самый беззаботный Яо части теории
эмпирик, нам приходится очень часто., оперировать с не вполне
известными величинами, и логика, последовательность мысли
должны были всегда заполнять такие неизбежные пробелы познания. Современное естествознание вынуждено было заимствовать
у философии положение о неразрушимости движения, без которого оно неспособно более существовать. Но движение материи
не сводится к одному только грубому механическому движению,
к простому перемещению; движение материи — это также теплота
и свет, электрическое и магнитное напряжение, химическое соеди-
нение и разложение, жизнь и наконец сознание. Говорить, будто
материя за все время своего бесконечного существования имела
только один раз — и то на ничтожно короткий по сравнению с вечностью срок — возможность диференцировать свое движение и
таким образом развернуть все богатства этого движения и что до
этого и после этого она навеки обречена довольствоваться простым перемещением,— говорить это все равно, что утверждать,
будто материя смертна и движение преходяще. Учение о неразрушимости движения надо понимать не только в количественном,
но и в качественном смысле. Материя, чисто механическое перемещение которой хотя и содержит в себе возможность превращения при благоприятных обстоятельствах в теплоту, электричество,
химическое действие, жизнь, но которая не в состоянии породить
из самой себя эти условия,—-такая материя утратила движение,
движение,, которое потеряло способность превращаться в свойственные ему различные формы, хотя и обладает еще dynamis, но
не обладает уже энергией и таким образом отчасти уничтожено.
Но и то и другое немыслимо.
Одно во всяком случае несомненно: было время, когда материя нашего мирового острова превратила в теплоту такое количество движения — мы до сих пор еще не знаем, какого именно
рода,—• что из него могли развиться по меньшей мере (по Медлеру) 20 миллионов солнечных систем, которые,— как мы в этом
столь же твердо убеждены,— рано или поздно, погибнут. Как
происходило это превращение? Мы это знаем так же мало, как
знает патер Секки то, превратится ли будущее caput mortuum ;
нашей солнечной системы снова в сырой материал для новых солнечных систем. Но здесь мы вынуждены либо обратиться к помощи
творца, либо сделать тот вывод, что раскаленный сырой материал
для солнечной системы нашего мирового острова возник естественным путем, путем превращений движения, которые присущи
от природы движущейся материи и условия которых должны, следовательно, быть снова произведены материей, хотя бы после
миллионов миллионов лет, более или менее случайным образом, но
с необходимостью, присущей и случаю.
Теперь начинают все более и более признавать возможность
подобного превращения. Ученые приходят к убеждению, что конечная участь звезд —- это упасть друг на друга, и они вычисляют
даже количество теплоты, которое должно развиться при подобном столкновении. Внезапное появление новых звезд, столь же
внезапное увеличение яркости давно известных звезд, о котором
сообщает нам астрономия, легче всего объясняются гипотезой о
подобных столкновениях. При этом надо иметь в виду, что не
только наша планетная группа вращается вокруг солнца, а солнце
движется внутри нашего мирового острова, но что и весь наш
мировой остров движется в мировом пространстве, находясь во
временном относительном равновесии с прочими мйровыми остро-
вами, ибо даже относительное равновесие свободно движущихся
тел может существовать лишь при одновременно обусловленном
движении, и некоторые исследователи допускают, что температура
в мировом пространстве не повсюду одинакова. Наконец мы знаем,
что за исключением ничтожно малой части теплота бесчисленных
солнц нашего мирового острова исчезает в пространстве, тщетно
пытаясь поднять температуру его хотя бы на одну миллионную
долю градуса Цельзия. Что происходит со всем этим огромным
количеством теплоты? Погибает ли она навсегда в попытке согреть
мировое пространство, перестает ли она практически существовать, сохраняясь лишь теоретически в том факте, что мировое пространство нагрелось на долю градуса, выражаемую десятью или
более нулями? Это предположение означает отрицание учения о
неразрушимости движения; оно оставляет открытой дверь для гипотезы, что путем последовательного падения друг на друга звезд
все существующее механическое движение превратится в теплоту,
которая будет излучена в мировое пространство, благодаря чему,
несмотря на всю «неразрушимость силы», прекратится вообще всякое движение. (Между прочим, здесь обнаруживается как неудачное выражение «неразрушимость силы», вместо выражения «неразрушимость движения».) Мы приходим таким образом к выводу,
что излучаемая в мировое пространство теплота должна иметь
возможность каким-то путем — путем, установить который предстоит в будущем естествознанию,— превратиться в другую форму
движения, в которой она может снова накопиться и начать функционировать. А в таком случае отпадает и главная трудность, мешавшая обратному превращению умерших солнц в раскаленную
туманность.
Впрочем, вечно повторяющееся. последовательное появление
миров в бесконечном времени является только логическим королларием к одновременному сосуществованию бесчисленных миров
в бесконечном пространстве. Материя движется в вечном круговороте, завершающем свою траекторию в такие промежутки времени, для Которых наш земной год не может служить достаточной
единицей; в круговороте, в котором время наивысшего развития,
время органической жизни и еще бойее жизни сознательных существ столь же скудно отмерено, как пространство в жизни и
в самосознании: в круговороте, в котором каждая отдельная форма
существования материи — безразлично, ісолнце или .туманность,
отдельное животное или животный вид, химическое соединение
или разложение — одинаково преходяща и в котором ничто не
вечно, кроме вечно изменяющейся, вечно движущейся материи и
законов ее движения и изменения. Но как бы часто и как бы безжалостно ни совершался во времени и в пространстве этот круговорот; сколько бы бесчисленных солнц и земель ни возникало и ни
погибало; как бы долго ни приходилось ждать, пока в какой-нибудь солнечной системе, на какой-нибудь планете не появятся ус-
-ловия, необходимые для органической жизни; сколько бы бесчисленных существ ни должно было погибнуть и возникнуть, прежде
чем из их среды разовьются животные с мыслящим мозгом, находя
на короткий срок пригодные для своей жизни условия, чтобы затем быть тоже истребленными без милосердия,—мы все же уверены, что материя во всех своих превращениях остается вечно одной я той же, что ни один из ее атрибутов не может погибнуть и
что поэтому с той же самой железной необходимостью, с какой
она некогда истребит на земле свой высший цвет—мыслящий дух,
—- она должна будет его снова породить где-нибудь в другом месте и в другое время.
(Ф. Энгельс. Диалектика природы).
Агностицизм — стыдливо прикрытый материализм.
Что иное представляет собой агностицизм, как не стыдливо
прикрытый материализм? Взгляд агностика на природу насквозь
материалистичен. Во вселенной царствуют законы, абсолютно
исключающие всякое влияние на нее извне. Но,— осторожно добавляет агностик,— мы не в состоянии доказать существование или
несуществование высшего существа по ту сторону известного нам
мира. Эта оговорка могла иметь свою цену в то время, когда
Лаплас на вопрос Наполеона, почему в «Небесной механике» великого астронома ни разу не упоминается создатель, гордо ответил:
«У меня не было надобности в этой гипотезе». Но в настоящее
время наше представление о мире В его развитии не оставляет
абсолютно никакого места для творца или правителя, а признание
высшего существа, исключенного из всего существующего мира,
было бы противоречием в себе самом и кроме того, как мне кажется, явилось бы ничем не вызванным оскорблением чувства религиозных людей.
Точно так же наш агностик согласен, что все наше знание
основано на впечатлениях, воспринимаемых нашими чувствами.
Но,— добавляет он,— откуда мы знаем, что наши чувства дают
нам верные копии воспринимаемых вещей? И далее он заявляет,
что когда говорит о вещах или их свойствах, то он на самом деле
имеет в виду не самые вещи и их свойства, о которых он ничего
достоверно не может знать, а лишь те впечатления, какие они
производят на его чувства. С такой точкой зрения, конечно, не
так-то легко справиться при помощи чистой аргументации. Но
прежде чем люди стали аргументировать, они ведь действовали.
«Вначале было дело». И человеческая деятельность разрешила эту
трудность еще задолго до того, как человеческое мудрствование
ее изобрело. «Свойства пуддинга познаются во время еды». В тот
момент, когда сообразно воспринимаемым нами свойствам какойлибо вещи мы употребляем ее для себя, мы подвергаем безошибочному испытанию истинность или ложность наших чувственных
восприятий. Если эти восприятия были ложны, то и наше суждение
о возможности использовать данную вещь необходимо будет
ложно, и всякая попытка такого использования окажется неудачной. Но если нам удается достигнуть поставленной себе цели, если
мы находим, что данная вещь соответствует нашему представлению о ней, что она дает тот результат, какой мы ожидали от ее
употребления, тогда мы имеем положительное доказательство, что
в данных пределах наше восприятие вещи и ее свойств соответствует вне нас находящейся реальности. Если же, наоборот, оказывается, что.мы ошиблись в своих расчетах, тогда большей частью
не трудно отыскать причину нашей ошибки.; мы находим, что восприятие, легшее в основу нашего опыта, либо само по себе неполно и поверхностно либо — принимая во внимание условия данного опыта,—-неправильно связано с результатами других восприятий. До тех же пор, пока мы правильно пользуемся нашими
чувствами и удерживаем свою деятельность в рамках правильно
полученных и примененных восприятий, до тех пор успех наших
действий будет служить доказательством согласованности наших
восприятий с объективной природой воспринимаемых вещей. Насколько известно, до сих пор не было ни одного случая, когда мы
вынуждены были бы притти к заключению, что наши научно проверенные чувственные восприятия производят в нашем, 'мозгу
такие представления, которые по своей природе отклоняются от
действительности, или что между внешним миром и нашими чувственными восприятиями существует прирожденная несогласованность.
Но тут является неокантианец-агностик и говорит: «Да, мы,
может быть, и способны правильно воспринимать свойства вещей,
но мы не в состоянии каким бы то ни было чувственным или
умственным процессом постичь самое вещь. Вещь в себе лежит по
ту сторону нашего познания». На это уже давно ответил Гегель:
«Когда вам известны все свойства вещи, то вам известна и сама
вещь; тогда уже не остается ничего, кроме того факта, что данная
вещь существует вне вас, и как только ваши чувства учли и это
обстоятельство, вы уже постигли и последний остаток вещи —
знаменитую кантовскую непознаваемую вещь в себе». К этому мы
можем только прибавить, что во время Канта наше познание природных вещей носило еще в достаточной мере отрывочный характер, чтобы за каждой из них допускать еще существование особой
таинственнбй вещи в себе. Но с того времени все эти непостижимые вещи, благодаря гигантскому росту "науки, стали одна за
другой постигаться, анализироваться и — что еще важнее — воспроизводиться. А то, что мы в состоянии сами сделать,— то уже
мы во всяком случае не можем отнести к непознаваемому. Для
химии первой половины XIX в. органические вещества были такого рода таинственными вещами. Теперь мы научились воспроизводить их одно за другим из химических элементов и без помощи
органических процессов. Современная химия говорит: коль скоро
нам известны химический состав и строение какого-либо тела, то
это тело может быть составлено из химических элементов. В настоящее время мы еще довольно далеки от точного знания состава
и строения высших органических- субстанций так называемых белковых тел, но нет никакого основания отрицать, что хотя бы
через столетия мы это знание приобретем и с его помощью сможем искусственно воспроизвести белок. Если же это будет достигнуто, то мы следовательно получим возможность искусственно
воспроизводить органическую жизнь, ибо жизнь — от ее низшихдо высших форм — представляет собою не что иное, как нормальную форму существования белковых тел.
Но сделав эти формальные оговорки, наш агностик говорит и
действует, как завзятый материалист, каким он в сущности и является. Он может сказать: «Насколько мы знаем, материя и движение, или — как теперь говорят — энергия, не могут быть ни
созданы, ни уничтожены, но у нас нет никакого доказательства,
что и та и другая не были в какое-нибудь неизвестное нам время
созданы». Но если вы попробуете использовать эту уступку в каком-нибудь конкретном случае против него, он быстро заставит
вас замолчать. Допуская in abstracto возможность спиритуализма,,
он in concreto и слышать о нем не хочет. Он скажет вам: «Насколько мы знаем, не существует творца или правителя вселенной;
насколько нам известно, материя и энергия так же не могли быть
созданы, как не могут быть уничтожены; для нас мышление —
только форма энергии, только функции мозга; все, что мы знаем,
указывает на то, что материальный мир подчинен неизменным законам, и т. д., и т. д.»,- Словом, поскольку он-—человек науки,
поскольку он что-нибудь знает, постольку он и материалист; а за
пределами своей науки, где он не чувствует себя дома, он пере-,
водит свое незнание на греческий язык и называет, его агностицизмом.
„
(Ф. Энгельс. Предисловие
утопии к науке»).
Торжество
социализма—необходимое
к английскому изданию «От
условие торжества
безверия.
Религиозное отражение действительного мира может вообще
исчезнуть лишь тогда, когда отношения практической повседневной жизни людей будут выражаться в прозрачных и разумных
связях их между собой и с природой. Строй общественного жизненного процесса, т. е. материального процесса производства,
сбросит с себя мистическое туманное покрывало лишь тогда,
когда он станет продуктом свободно обобществившихся людей и
будет находиться под их сознательным планомерным контролем.
Но для такого общества необходима определенная материальная
основа или ряд определенных материальных условий существования, которые в свою очередь представляют естественно выросший продукт длинного и мучительного процесса развития.
(К. Маркс. Капитал, т. I).
*
*
С переходом средств производства в общественную собственность устраняется товарное производство, а вместе с тем — господство продуктов над производителями. Анархия общественного
производства заменится организацией его. по заранее обдуманному
плану. Прекратится борьба отдельных личностей за существование.
Можно сказать, что таким образом человек окончательно выделится из царства животных к из животных условий существования
перейдет в условия действительно человеческие. Жизненные условия, окружающие человечество и до сих пор над ним господствовавшие, попадут под власть и контроль людей, которые первые
станут действительными и сознательными повелителями природы,
и именно в той мере, в какой они станут господами своих собственных отношений.
Законы их собственных общественных действий, противостоящие людям до сих пор как чуждые, господствующие над ними
законы природы, будут тогда вполне сознательно применяться
ими и следовательно подчиняться их господству. Общественный
строй, до сих пор являющийся людям как бы дарованным свыше
природой и историей, будет тогда их собственным, свободным
делом. Объективные, внешние силы, господствовавшие над историей, поступят под кЪнтроль человека. И только тогда люди начнут вполне сознательно сами создавать свою историю, только
тогда приводимые ими в движение общественные причины будут
иметь в значительной и все нарастающей степени желаемое действие. И это будет скачком человечества из царства необходимости
з царство свободы.
(Ф. Энгельс. Развитие социализма
от утопии к науке).
ИОСИФ ДИЦГЕН.
У
Религия — продукт исторического развития.
Бог, это содержание религии, является- не устойчивым и вечным, но изменяющимся и проходящим понятием. Божественное
начало или абсолютные ценности так часто изменялись в зависимости от условий времени и места, что наука должна была
уяснить себе изменяемость понятий «святого» и «вечного». Поэтому наука категорически устанавливает: абсолютные ценности
религии в истоѵической действительности оцениваются
сообразно
условиям времени и места.
Религиозные люди указывают на то, что все народы — как
дикие, так и цивилизованные—имеют религию и верят в бога.
Поэтому они считают, что вера врождена человеку, и этим доказательством они хотят подтвердить свою правоту. Но верно только
то, что неопытный и некультурный человек легковерен, причем
он тем более легковерен и доверчив, чем он бёднее опытом и
культурой. В наше время, кажется, только крестьяне и женщины
являются преданными приверженцами веры. Мы сразу замечаем,
что была и есть не одна, но много религий, верят не в одного,
но во многих богов. Человек лишь постепенно познает мир, он
обожествляет самые разнообразные вещи и явления, сегодня —
солнце, завтра — луну, то собаку, как персы, то кошку, как
египтяне.
То, что язычники чтили в своих многочисленных богах: в
Вакхе—вино, в Венере—любовь и т. д.; то, что ценили в своем
Иегове израильтяне—его кары, его заповеди; то, чему поклоняются в своем божестве христиане: богочеловечество, страдание и
смерть за других, безграничная любовь и милосердие, аскетизм,
воздержание и безбрачие,—все это мы ценим в зависимости от
условий времени и места, но мы никогда ничего не обожествляем.
Не вещи, объекты религиозного почитания, должны быть отброшены в сторону, но самая сущность религии, которая заключается
в абсолютном почитании.
Сущность религии состоит в Том, что она олицетворяет те
явления в жизни природы и человека, которые, в зависимости от
условий времени и данных обстоятельств, имеют особенно большое значение, и возносит их так высоко, что они выходят за пределы временного и конкретного.
Выше я назвал религию субститутом (заменой, постановкой)
человеческого невежества; это значит, что она заполняет пробелы
нашего знания. Там, где эти пробелы велики, религия занимает
много места. Хозяйственная деятельность варварских народов, их
быт и повседневная жизнь, их социальное, гражданское, и политическое законодательство регулированы божественными предписаниями. Бог Авраама, Исаака и Иакова заботится о мельчайших
деталях, он следит за тем, как часто человек умывается, какое
животное впряжено—сильное или слабое, впряжено ли оно спереди
или сзади. Так же конкретна и религия китайцев. Современные
цивилизованные нации ставят в удел господу богу лишь то, что им
самим до сих пор еще не удалось исследовать и чем они еще не
овладели,—излечение таинственных болезней и т. д.
Для образованного человека благословенное имя господне это
толька буква А, начало в алфавите его мировоззрения. После своего сотворения мир развивается беспрепятственно, закономерно,
из себя. Для этих не похристиански мыслящих христиан все в мире
естественно, только его начало неестественно, или божественно.
Итак бросим взгляд на религиозную жизнь языческого прош-
лого, когда боги и богини скрывались во всех углах и щелях,
в каждом дереве и каждом кусте, бросим взгляд на интенсивную
религиозную жизнь христианства первых веков, с его многочисленными святыми и чудесами, и сравним, в какой мере вытеснена
религия из всех областей современной жизни: тогда всякий наблюдатель должен будет согласиться с повторяемым мной положением, что прогоесс, или развитие, религии по существу сводится
к распаду. Конечно это обычная судьба всего существующего,
общий исход всех процессов. Новорожденный в первый же день
своей жизни вступает на путь, ведущий к могиле. Но ведь, выступая против религии, я только и хотел доказать, что она не принадлежит небесам и вечности, но есть обычное и преходящее
мирское дело.
(«Религия
социал-демократии»).
Непримиримость социализма с христианством.
Говорят: христос был первым социалистом. Социализм и христианство различны, как день и ночь. Конечно у них есть точки
соприкосновения. У чего их нет? Что не схоже между собой?
День и ночь сходны в том, что день и ночь являются частью времени. Чорт и архангел, хотя у одного из них белая кожа, а у другого черная кожа, опять-таки сходны, потому что и у того и у другого вообще имеется кожный покров. Это особая способность нашего интеллекта—объединять все различия под одной крышей.
Много ли общего у христианства с социализмом или нет,—во всяком случае тот, кто превращает Христа в социалиста, заслуживает
титула общественного сумбур-советника.
Недавно христианство называли рабской религией. Действительно это—самое подходящее-для него название. Все религии—
рабские религии, но христианство — самая рабская из рабских.
Возьмем христианскую надпись на улице. На моем пути стоит
крест с надписью: «Милосердия, всемилостивейший Иисусе» «Пресвятая Мария, моли бога за нас».
Вот пример непомерного смирения во всей его скверне! Кто
возлагает все свои надежды на милосердие, тот действительно
жалкое существо. Человек, который исходит из веры во всемогущего бога, падает ниц перед судьбой и силами природы и, ощущая
свое бессилие, молит о милосердии,—это негодный член нашего
общества. Если современные христиане—люди другого склада,—
они смело смотрят в глаза непогодам, когда гремят превосходящие человека силы, и активной работой пытаются залечить раны,—
то они свидетельствуют этим о своем отпадении от церкви. Хотя •
христиане удержали свое название, свои молитвенники и благочестивые душевные муки, все же по существу они—совершенные
антихристы. Мы, стоящие вне религии социал-демократы, хотим
прежде всего понять настоящее положение вещей. Вооруженные
знанием и волей, мы хотим быть в теории и на практике энергичными противниками благочестивой овечьей покорности.
Низменная тупая корысть пытается отрицать, затушеваГть,
примирить противоречия между христианским презрением к миру
и тем радостным приятием мира, которое отражает настроение
нашей эпохи и властвует над нами. Христианство требует отречения, тогда как для удовлетворения наших материальных потребностей нужен здоровый труд. Основная добродетель христианина—упование на бога, а для успешной работы нужна прямая противоположность—самоуверенность. Кто осмеливается вложить в
уста христианству слова: «Уповай на бога, но не зарывай в землю
своих талантов»—л хочет этим сказать, что труд не противоречит
христианству, но признан христианским учением, тот — пошлый
софист. Христианский труд не имеет ничего общего с истинным трудом, трудом нашего времени. Христианин работает,
чтобы ублаготворить небо, чтобы умерщвлять плоть, чтобы подавлять желания. И если он работает из-за куска хлеба, из-за пропитания, то это- пропитание должно только продлить муки этой
.земной юдоли плача, чтобы он стал достоин вечной жизни. «Ненавидящий свою жизнь в этом мире, сохраняет ее для вечной
жизни» (Евангелие от Иоанна XII, 25).
Цель христианина—вечность в небесах; цель разумного человека—повседневный мир и наука.
Христианин очернил прекрасное, яркий мир действительности.
Для чего прелести этого мира—соблазн дьявола, его труд— проклятие, его любовь—грешная похоть, его плоть—тягость, препятствие для духа, его тело—«вонючий ком червей». Белый мир
христианской фантазии скрыт в этой черной действительности,
как заколдованный принц в диком звере. Чтобы избавить нас от
этого мира, господь-бог послал своего сына, который введет нас
в райский христианский мир. Этот мир состоит из духовной материи. Его самцы и самки не имеют пола, его тела не имеют тяжести,
и для работы там не нужны усилия. Конечно первые христиане
хотели бежать из этого мира, они ежечасно ждали возвращения
господа, еветопреставления и страшного'суда: «Царство мое не
от мира cfero».
Но это христианско-фантастическое избавление, которое хочет исцелить мирские страдания не здоровым трудом, а верой и
надеждой, не могло конечно надолго подавить разумное стремление к материальным, жизненным наслаждениям. Еретики и реформаторы, протестанты, сектанты—немецкие католики и старо-катодики, «друзья света» и свободные общины,—все они в большей или
меньшей мере помогли победе окрашенной в черный цвет истины
над подмалеванной белой краской лживой религиозной фантазией.
В этом смысле мы согласны с «прогрессом». Но мы не одобряем
трусости, которая лживо выдает отпадение от веры за восстановление истинного христианства и не хочет отказаться от старого
названия. Необходимо дискредитировать самое название, чтобы
покончить с этим делом.
Религия капиталистов так же двусмысленна, как двусмысленны капиталистическое хозяйство, буржуазная свобода, равенство
и братство. Толстобрюхие монахи разыгрывали роль аскетов, а
откормленный буржуа продолжает этот фарс. Забавнее всего, что
прогрессист отстал от монаха, так как он даже не сознает всего
убожества своей веры. Бесцветное пошлое христианство современных хлыщей претендует к тому же на то, чтобы быть подлинным, истинным и настоящим христианством. Классические образцы
из «Жития святых» были все же настоящими аскетами. Они жили
отшельниками, носили власяницы, бичевали себя и питались корнями и травами. Их жизнь была подтверждением их учения: «Бог
есть дух, и кто хочет поклониться ему...» и т. д. Наши современные крестоносцы открывают другую страницу и читают: «Он стал
плотью и жил среди нас». Несомненно, что в зародыше эта двусмысленность, противоречивая непоследовательность содержится
уже в первоначальных источниках христианского вероучения.
Апостолы и отцы церкви местами делают некоторые уступки. Они
учат, что похоть нужно изгонять браком, сатану—Вельзевулом.
То высшей добродетелью является пост и молитва, то говорится:
«Господу неблагоугоден вид чьих-нибудь костей». Но так как
нельзя преодолеть действительность, нельзя"вознести человека на
небо, то христианство не может совершенно не считаться с жизненными наслаждениями и незбежно применяется к обстоятельствам. Это не помешает проницательному социалисту увидеть лес
за деревьями; лес христианства лежит в юдоли плача и называется— воздержание на земле и сахарный горошек на небе.
(«Религия
социал-демократии»).
Против буржуазного «монизма».
Эрнст Геккель, заслуженный исследователь и ученик Чарльза
Дарвина, в предисловии к своей лекции, прочитанной им в Эйзенахе
18 сентября 1882 г. и затем напечатанной, говорит следующее:
«Теперешняя точка зрения Вирхова в отношении дарвинизма совершенно различна от той, которую он отстаивал пять лет назад в
Мюнхене. Когда он взял там слово непосредственно после доктора
Люце, он не только выступал против принципиальных воззрений
предшествовавшего оратора и отдал Дарвину дань высокого к нему уважения,—он даже прямо признал, что основные положения
Дарвина являются логическими постулатами, неоспоримыми требованиями нашего разума». «Да,—говорит Вирхов,—я ни на один
момент не отрицаю, что монистическое объяснение природы это —
в известном смысле всеобщее требование человеческого духа... Точно так же логическим постулатом является представление, что человек произошел от ряда низших животных в результате медленного и постепенного развития».
«Познание природы в своем чистом виде, — говорит дальше
Геккель в своей речи, — знает лишь то естественное откровение,
которое открыто для каждого в книге природы и научиться которому можёт всякйй свободный от предрассудков человек, наделенный здоровыми чувствами и здоровым рассудком. Отсюда вытекает та чистейшая, монистическая форма веры, которая находит
свое завершение в познании единства бога и природы, которая
нашла свое высшее выражение в пантеистическом исповедании
наших величайших мыслителей и поэтов».
Геккель прав: у наших великих мыслителей и поэтов выражена тенденция к «монистической, чистейшей форме веры»; они
стремились овладеть физическим мировоззрением, которое исключает старую метафизику, сверхъестественного бога и весь прочий
чудесный хлам. Но когда он настолько увлекается, что заявляет
нам, что это стремление «уже давно нашло свое совершенное
выражение», то здесь он заблуждается — даже в отношении
самого себя и своего собственного символа веры. Даже ;Г е к к е л ь.
не умеет мыслить монистически.
Мы сейчас подробнее докажем этот упрек, пока же констатируем только, что он относится не только к Геккелю, но ко всему
современному естествознанию, так как оно упускает из виду почти
трехтысячелетнее развитие философии с ее богатой опытом историей, не менее содержательной, чем основанное на опыте естествознание.
В своей лекции Геккель говорит на 45 странице:
«Мы особенно подчеркиваем здесь примиряющее
действие
нашего воззрения на природу—тем более, что наши противники
стремятся приписать нам разрушительные и разлагающие стремления. Эти разрушительные тенденции будто бы направлены не только против науки, но также и против религии, — и вообще против,
основных устоев культурной жизни. Эти тяжелые обвинения,
поскольку они вообще основаны на искреннем убеждении, а не на
софистической лжи, могут быть об'яснены лишь злостным непониманием действительной сущности истинной религии.
Сущность религии — не в конкретных формах вероисповедания, не в культе, но в основанном на критике убеждении, что
существует последняя всеобщая первопричина всех вещей. Критическая натурфилософия сходится с догматической религией в том
утверждении, что последняя первопричина всех явлений является
непознаваемой для нашего мозга в его нынешней организации.
В этих утверждениях Геккеля заключаются три положения,
которые мы отделяем друг от друга и которые должны нам показать, что монистическое мировоззрение не нашло своего совершенного выражения даже в его наиболее радикальном естественно-научном представителе.
Во-первых, Геккель хочет освободить естествознание от упрека в разрушительных тенденциях.
Во-вторых, наука противопоставлена господствующей религии,
-опирающейся на сверхъестественное откровение, в качестве разрушительной силы. Эта сверхъестественная религия должна иметь
в себе зерно истины, которое признается также и естественной
или естественно-научной религией—'именно общую первопричину
-всех вещей.
Совершенно верно! Старая вера находила всеобщую первопричину всего бытия в своем личном боге, который является
сверхъестественным, неописуемым, недоступным пониманию духом
или тайной. Новая религия а 1а Геккель думает найти всеобщую
первопричину всего бытия в природе, к которой она прилагает
старое имя бога. Разница только та,«что естественно-научная первопричина — это реальная и обыденная природа, которая, хотя
она и таинственна, содержит в себе только такие тайны и загадки,
разрешением которых занимается естествознание. Обоготворенная
и обожествленная Геккелем природа — это тоже тайна; но это—
естественная и обыденная тайна, в то время как религизоный бог
в его сверхъестественном откровении, судя по всему тому, что
высказано в этом смысле, обладает сущностью, не подлежащей
наименованию или определению в словах. Но так как эта сущность религиозного бога может быть все же определена только
- словами, то понятно, что при этом все имена и слова теряют свой
человеческий смысл. Сопоставим для примера бога религии и геккелевского бога—природу; оба они всемогущи. Все совершающееся
исходит от природы; но только в естественном, обычном смысле.
Бог на небе тоже вершит все, но он это делает сверхъестественно,
в таком смысле и таким способом, что это не ,может быть высказано словами. Говорят, что бог дух, но не такой дух, который
бродит по старым замкам, и не тот ограниченный дух, который
обретается в человеческой голове; этот дух не имеет себе равного,
это — необычайный дух. Его качества не могут быть определены
словами.
Прежде чем перейти к третьему пункту «самой чистой формы
веры», мы должны подробно остановиться на уже разобранных
нами пунктах. Тем легче справимся мы с третьим и последним—
и с заключительным соединением всех трех пунктов в один.
Разница между обычным, естественным и сверхъестественным,
между физическим и метафизическим откровением, религией,
и божеством так велика, что очищенная от посторонних примесей
естественно-научная теория, представленная дарвинистом Геккелем, смело могла бы отказаться от старых имен и божественной
религии откровения и «разрушительно» противопоставить им
монистическое мировоззрение. Когда дарвинизм отказывается от
этого, он демонстрирует таким отказом свою плененность старыми
предрассудками. Поскольку дарвинизм хочет быть монистическим
мировоззрением, он должен рассматривать природу физически,
:а не метафизически. Он должен принять природу за первопричину
всех вещей, еще не исследованную, ко допускающую исследование
и вовсе не таинственную первопричину.
Третье положение, которое находит, что последняя первопричина всех явлений «при нынешней организации нашего мозга»
непознаваема, ясно доказывает, что Геккель, этот наиболее передовой представитель естественно-научного монизма, все еще мыслит дуалистически.
Что значит это «непознаваема»?
Вся связь этих положений, в которой берется это слово, очевидно доказывает, что натуралист не вышел за пределы метафизики. Ни одна вещь, ни один атом не могут быть познаны до
кЪнца. Они неисчерпаемы в своих тайнах, так же как непреходящи и неразрушимы. Но с каждым днем мы все ближе и полнее'",
познаем их и устанавливаем, что в них нет ничего такого, что
было бы недоступно для нашего разума. Разум человека неограничен в разоблачении тайн, он неисчерпаем в новых открытиях,
он неограниченно познает неисчерпаемое и непознаваемое как
в частностях, так и в целом. _
«Старая вера» повинна в том, что она придавала двоякий
смысл словам и речи: один—естественный, относительный и обычный, и другой—сверхъестественный и метафизический смысл.
Пусть читатель обратит внимание на двойное действие связанного
с метафизикой естествознания; оно содержит в себе тайны и, разоблачая их, превращает тайну в обычное закономерное явление.
Природа полна мистических тайн, но для исследователя они являются фактами обычного порядка.
Природа неисчерпаема по богатству научных проблем. Мы
исследуем их и не можем до конца справиться с этой задачей.
Здравый смысл человека совершенно прав, когда он утверждает,
что природа—или мир—непостижима, но он так же прав, когда
отбрасывает, как глупость и суеверие, тезис о метафизической
невозможности конечного познания мира. Мы никогда не закончим исследование природы, и все же с прогрессом естественных
наук становится все более очевидным, что науке ни в какой мере
не приходится бояться неисчерпаемых тайн природы; здесь, согласно Гегелю, «ничто ей не противостоит». Отсюда следует, что
мы ежедневно черпаем из неисчерпаемой «первопричины всех
вещей» орудием нашего познания, способность которого к исследованию так же универсальна и бесконечна, как бесконечно богата природа своими реальными тайнами.
«При настоящей организации нашего мозга». Конечно! Наш
мозг мощно разовьется в борьбе за существование и путем полового подбора он в возрастающей степени будет овладевать естественной первопричиной. Если имеется в виду такое утверждение,
то мы с ним охотно согласимся. Но в том-то и дело, что плененные метафизикой дарвинисты этого не предполагают. Человеческий разум делается слишком незначительным для познания мира
Хрестом тая по истории атеизма
18
именно в тех целях, чтобы какой-то «высший», чудовищный дух,
не подлежащий разрушительному противодействию науки, можно
было сделать объектом веры.
Дарвин при всех его великих заслугах был чрезвычайно скромным человеком. Специальное исследование удовлетворяло его.
Геккель изложил теорию развития более универсально, чем
это сделал Дарвин. Мы не предпочитаем или не ставим одного из
них выше другого, но мы считаем нужным дополнить одного другим. -Если Дарвин говорит о том, что земноводные и птицы — это
не изолированные друг от друга классы, но соприкасающиеся, происходящие одни из других живые существа, то Геккель учит, что
все классы, весь мир представляет собой живое существо, не знающее твердых границ; познаваемое и непознаваемое, физическое и
метафизическое соединены между собой; абсолютно непостижимое—это величина, относящаяся не к монистическому, но к религиозному мировоззрению.
«Мы должны вернуться на двадцать пять столетий назад, ко
временам классической древности, чтобы найти первые зачатки
философии природы, вполне сознательно преследовавшей цель
Дарвина: доказать естественные причины явлений природы и этим
самым вытеснить веру в сверхъестественную причинность, веру в
чудеса. Основатели греческой натурфилософии заложили в шестом
и седьмом веках до р. хр. действительный фундамент всякого познания и стремились познать всеобщую первопричину всех вещей»
(Геккель, стр. 24).
Когда заслуженный исследователь отказывается от этой естественной первопричины и заменяет ее метафизической первопричиной, чудесной и недоступной нашему познанию таинственной
и мистической первопричиной, в которую мы должны верить и
которая приводит нас к религии, —разве он не изменяет тогда
основным целям Дарвина и его натурфилософии?
Согласно нашему монизму, природа является последней причиной всех вещей. Она же—причина нашей познавательной способности, и все же, по Геккелю, эта наша познавательная способность
слишком ограниченна, чтобы познать основы бытия. Как сочетать
это? Природа должна быть познана как последняя причина быт и я — и в то же время она непознаваема?!
Страх перед разрушительными тенденциями охватил даже
такого решительного теоретика эволюции, как Геккель; он удаляется от своей теории, когда верит, что человеческий разум должен
удовлетворяться явлениями природы и не может проникнуть в ее
истинную сущность: первопричина есть объект, не принадлежащий
к естествознанию.
«Эта скромность получающего и бережливость дающего не подобает науке,—говорит Гегель в предисловии к своей—«Феноменологии духа» и продолжает: — «Кто ищет только назидания, кт©
хочет окутать мраком земное многообразие бытия и мышления
и стремиться к неопределенному наслаждению этим неопределенным божеством, пусть сам его разыскивает; он легко измыслит
всяческие мечтания и будет упиваться ими. Но философия должна
остерегаться этих стремлений».
Цель Дарвина,— в изображении его общепризнанного ученика,—имеет философское содержание: это—доказательство естественных причин и уничтожение веры в сверхъестественную причинность, веры в чудеса. И все же остается чудесная непостижимость общей первопричины всех вещей, чудесная ограниченность
человеческого духа в целях поучительного примирения.
Наш упрек дарвинисту Геккелю сводится к тому, что он не
усвоил результатов 2г/2-тысячелетнего развития философии, и
хотя он точно знает свойства «нашей нынешней мозговой организации», но он все же совершенно не понимает отличающихся от
этой организации процессов познания. Во всяком случае приведенные цитаты доказывают, что суждения Геккеля об естественном и
неестественном, о чудесном и познаваемом, как и понятия об естественном божестве и божественный природе, ориентированы не
монистически, наоборот, они принадлежат к самому отсталому
дуализму.
(«Экскурсии социалиста в область теории
познания»).
На место религии — диалектический материализм.
Религия не только стремится при помощи молитв и стенаний,
обращенных к могущественным богам, освободить нас от земной
скорби, ужасов природы и жизни, но одновременно с этим хочет
дать систематические основы нашему мышлению. Наша теоретическая потребность систематически обозреть все существующее так
же всеобща, как всеобща практическая потребность достичь господства над всем миром. Мы хотим знать все концы и все начала. В основе диких воплей о всеобщей, вечной и необходимой религии лежит нечто имеющее право на существование. Мы далеки от
злостного, бессмысленного отрицания. Мы боремся с «борцами за
культуру», чтобы бороться за настоящую культуру. Мы признаем,
что человек есть прирожденный систематик, который везде и
всегда имеет потребность в ориентировочных принципах для своего
мышления и своей деятельности. Дух и тело, преходящее и постоянное, временное и вечное, призрачное и истинное, мораль,
государство и общество,— все это человек хочет вместить в своей
голове в порядке и логической системе. Человек стремится создать
разумную связь в своем сознании, чтобы осуществить разумную
связь в жизни. Мы, социал-демократы и защитники Парижской
коммуны, также ощущаем эту потребность. Может быть, на этом
основании лакействующие оппортунисты и болтуны причислят нас
к религии. Мы решительно отклоняем это слово. Не потому, что
мы отрицаем наличие некоторых общих или родственных элемен-
тов в религиозной и социал-демократической философии, но чтобы
резко подчеркнуть различие не только внутреннее, но и внешнее,
чтобы как на деле, так и по имени порвать с делом, опозоренным
попами.
Кто хочет покончить с фантастической религиозной системой
объяснения мира, должен все же поставить на ее место другую,
рациональную систему. Только социализм может сделать это. Или—
я готов, если этот язык покажется докторам философии слишком,
дерзким, сказать обратное и выражу этим ту же мысль: социалистическая теория есть необходимый вывод безрелигиозного, трезвого мышления. Она есть следствие философской науки. Философы боролись со священниками, чтобы заменить некультурную
систему мышления культурной, религию — наукой. Цель достигнута, победа одержана. Первобытная каннибальская религия сменяется культурным христианством, философия продолжает эту
линию культурного развития, и после многих не выдерживающих
критики систем создается устойчивая, непреходящая научная
истина, система диалектического материализма.
(«Философия
социал-демократии»).
ПОЛЬ ЛАФАРГ.
Марксизм не только объясняет религию, но и показывает неизбежность ее крушения.
По уверению священников, религия пришла к нам из заоблачных пространств и ниспослана на человечество, как проказа или
какая-либо иная постыдная болезнь. С точки, зрения вольтерианцев и многих атеистов, представляющихся близорукими, она была
изобретена негодяями, столь ловкими, что они внушили веру
в свои росказни всем, в том числе даже старушкам, которые без
этого никогда бы не задумывались о нечистых силах, С точки зрения некоторых материалистов — и они обладают частицей истины—• религия имеет своим происхождением впечатления, вызываемые обожествленными силами внешнего мира. Но самая главная1 трудность возникает тогда, когда нужно объяснить, почему
бакалейщик или биржевик являются такими же монотеистами, как
араб из пустыни, и почему Огюст Конт, знавший, что молния калхасова или моисеева бога есть только электричество, и капиталистпромышленник, заставляющий силы природы создавать ему богатства, так же религиозны, как дикарь из Огненной Земли.
Для Маркса и Энгельса всякая религия есть не что иное, как
отражение в уме людей внешних сил, направляющих их повседневную жизнь. И, отражаясь, земные силы облекаются в форму сил
сверхъестественных. На первых порах истории сперва отражаются
силы природы и по мере того, как развиваются различные народы,
персонифицируются в самых разнообразных и сложных формах,
но вскоре, наряду с силами природы, оказывают мощное действие
и силы социальные и стоят перед людьми, столь же странные и
непонятные, и господствуют над ними с той же кажущейся естественной необходимостью, как и силы природы.
Маркс в своем анализе форм стоимости первый показал, каким
образом абстрактный человеческий труд, т. е. человеческий труд,
поскольку он представляет собой только органическое изнашивание человеческой машины, становится конститутивным элементом
стоимости товаров, обмен которых возможен только благодаря
этому свойству; каким образом различные товары находят выражение их стоимости в деньгах, обладание которыми, подобно
обладанию божественной благодатью, дает все блага земли и неба,
но и для обладания которыми в капиталистическом мире есть
много званных, но мало избранных. Именно отражение этого социального акта в человеческой голове и превращается затем субъективно в единого бога.
Таким образом возникновение всех религиозных идей следует
искать в мозговом отражении естественных и социальных сил.
И до тех пор, пока индивидуальные капиталисты не будут гарантированы «от потерь сомнительных долгов и банкротства, а индивидуальные рабочие — от безработицы и нищеты», пока человек
будет оставаться игрушкой социальных сил,— до тех пор придется повторять, как истину, старую поговорку о том, что человек
предполагает, а бог располагает, т. е. деятельность человека направляют внешние силы капиталистического производства. Но
когда в обществе, основанном на равенстве, человек будет господствовать над силами производства и обмена, когда вместо того,
чтобы бессознательно суетиться, он будет их сознательно направлять, «тогда только исчезнет последняя внешняя сила, которая
ныне отражается в религии, и религиозное отражение исчезнет по
той простой причине, что нечего будет больше отражать» (Э нг е л ь с).
То же самое произойдет с нашими теперешними идеями справедливости, рождающимися на почве юридических отношений,
которые сами возникают из отношений капиталистического обмена, из прудоновского двустороннего договора,
заключаемого
между собой двумя обменивающимися,— договора, в котором рабочий, продающий свой труд — товар, всегда оказывается обобранным. Когда в обществе, основанном на равенстве, исчезнет
класс капиталистов, исчезнет и капиталистический способ обмена,
а вместе с ним и все порожденные им идеи справедливости.
(Сочинения, т. I, Г из, 1925).
Социальная роль религии.
Историческими исследованиями вполне установлено, что идея
единого универсального бога, впервые высказанная Анаксагором и
жившая после того целые столетия в умах отдельных мыслителей,
сделалась всеобщей и господствующей лишь благодаря капиталистической цивилизации. Но подобно тому, как рядом с единственной космополитической формой собственности существует множество видов местной, личной собственности, точно так же уживаются . рядом в мозгу буржуа единый космополитический бог
вселенной со множеством местных человекоподобных богов. Разделение народов на отдельные нации, конкурирующие друг с другом в торговле и промышленности, заставляет буржуазию раздроблять своего единого бога на столько отдельных богов, сколько
существуем на земле национальностей. Поэтому каждый христианский народ верит, что христианский бог, являясь богом всех христиан, есть в то же время его национальный бог, подобно тому как
Иегова был национальным богом евреев и Афина-Паллада — богиней афинян. Когда два христианских народа объявляют друг другу
войну, каждый из них молится своему национальному христианскому богу о ниспослании ему победы над своим врагом. Когда
один из них побеждает, он поет «Те deum» в благодарность за
свою победу и за поражение своего противника и его христианского национального бога. Язычники — те заставляли бороться
между собою своих богов, из которых каждый покровительствовал
своей нации, своему городу, христиане же заставляют своего единого бога вступать в борьбу с самим собою. Космополитический бог
только тогда сможет изгнать из ума буржуа представление о национальных богах, когда все буржуазные нации сольются в одну.
Но безличная собственность обладает еще другими свойствами, кроме тех свойств, которые воплощены в образе единого космополитического бога.
Владелец земельного участка, столярной мастерской или мелочной лавки всегда имеет перед глазами свое имущество; он
может его измерять, взвешивать, ощупывать, оценивать; точная
форма его собственности запечатлевается в его уме. Но владелец
государственных бумаг, железнодорожных облигаций, акций горнопромышленных, углепромышленных, страховых и банкирских
обществ не может ни видеть, ни измерять, ни трогать руками, ни
оценивать той части своего имущества, которая представлена в его
бумагах. Где он может ее видеть? В каком лесу, в каком правительственном здании, в каком вагоне, в каком пуде угля, в каком
страховом полисе или в кассе какого банка? Частичка его личной
собственности исчезла, затерялась в огромном целом, которого
он не может охватить взором. Хотя он видел локомотивы, вокзалы, подземные галереи, однако он никогда не мог охватить сразу
всю картину железной дороги или рудника. А такие вещи, как
государственный долг, банкирская фирма или страховое общество,
не могут быть достаточно образно представлены. Таким образом
безличная собственность, которой он владеет сообща с другими,
может принять в его воображении только неясную, неопределен-
ную форму; она скорее принимает в его глазах отвлеченный характер, чем образ конкретной реальности: одни только дивиденды
свидетельствуют о ее существовании. И тем не менее эта безличная
собственность, неопределенная и неуловимая, как метафизическая
сущность, печется о всех его нуждах, подобно небесному отцу
всех христиан, не требует от него никакого труда, кроме труда
получения дивидендов. На него, пребывающего в блаженной
праздности ума и тела, сыплются дивиденды, подобно божией благодати. Он так же мало ломает голову над природой безличной собственности, приносящей ему ренту и дивиденды, как над вопросом о том, что такое представляет собою его единый всемирный
бог: мужчину, женщину или зверя, одарен ли он духовно или нет,
отличается ли он силой, решительностью, справедливостью, добротой и другими качествами, которыми были наделены человекоподобные боги язычников. Он не тратит времени на то, чтобы молиться ему, ибо он уверен, что никакими молитвами нельзя изменить доходности безличной собственности, умственным отражением которой является его собственный космополитический бог.
Превратив человекоподобного христианского бога в безличное,
отвлеченное существо, в метафизическую мысль, безличная собственность вместе с тем лишила религиозное чувство буржуа его
интенсивности, доводившей его до горячечного фанатизма мучеников, крестоносцев и инквизиторов. Религия стала делом личного
вкуса, чем-то вроде кухни, где всякий может заказать себе обед,
какой ему нравится: на животном или растительном масле, с чесноком или без чеснока и т. д. Но если капиталистической буржуазии
нужна религия и если либеральное христианство удовлетворяет
ее потребности, то это еще не значит, что она может принять католическую религию в нынешнем ее виде, без всяких серьезных изменений, ибо ее иезуитский догматизм проникает во все мелочи
частной жизни, а ее организация епископов, священников, монахов и иезуитов, крайне дисциплинированных и слепо повинующихся своим собственным властям, угрожает серьезной опасностью
общественному порядку. Феодальное общество, все члены которого, от раба до короля, были иерархически связаны взаимными
правами и "обязанностями, еще было в состоянии выносить католическую церковь; но буржуазная демократия не может ее терпеть.
Ее члены, равные перед законом и владеющие собственностью, но
вечно воюющие друг с другом на почве противоположных промышленных и коммерческих интересов, требуют постоянного права
критиковать установленную власть и права привлекать ее к ответственности за хозяйственные неудачи.
Точно так же буржуа, который в своей погоне за наживой не
терпит никаких оков, не мог выносить цеховой организации ремесленников, с ее постоянным контролем над способом производства и качеством продуктов. И он разрушил эти организации.
Свободному от всякого контроля "буржуа, стремящемуся до-
быть денег, остается только итти по тому пути, куда толкают его
собственные интересы, пользуясь при этом всеми средствами, которыми он располагает. Качество производимых и продаваемых
им товаров зависит вполне от эластичности его совести. Дело покупателя не давать себя надуть на качестве, количестве или цене
покупаемого им товара. Каждый за себя, а бог, т. е. на языке буржуа — деньги, за всех. Свобода промышленности и торговли
должна была неизбежно отразиться на буржуазном представлении
о религии, которую каждый стал понимать по-своему. Каждый стал
обращаться со своим богом, как в коммерческих делах со своей
совестью. Каждый толкует церковное учение и библейские слова
сообразно своим интересам и видам.
Капиталист не может стать ни инквизитором, ни мучеником,
ибо он вовсе не проникнут той страстью к вербованию прозелитов,
которой были одержимы первые христиане. Для последних увеличение числа верующих было вопросом жизни, так как это означало увеличение армии недовольных, боровшихся с языческим
обществом. Но существует своего рода религиозный прозелитизм
и у буржуа, конечно не столь ревностный и не вытекающий из
его убеждений, а именно—прозелитизм, обусловленный его эксплоатацией женщины и наемного рабочего.
Женщина должна быть покорной буржуа и исполнять его
капризы. Он требует от нее то верности, то неверности, смотря по
положению. Если она чужая жена и он ухаживает за нею, он требует от нее неверности своему мужу, как обязанности по отношению к его «я». Он пускает в ход все свое красноречие для того,
чтобы рассеять ее религиозные предрассудки и усыпить ее совесть.
Если она, наоборот, его законная жена, то в таком случае она
составляет его собственность и должна оставаться неприкосновенной. В этом случае он требует от нее верности, которая выдержала бы самое строгое испытание, и пользуется религией для того,
чтобы внушить ей сознание своих супружеских обязанностей.
Наемный рабочий, по мнению буржуа, должен быть доволен
своей судьбой. Социальная функция эксплоататора чужого труда
заставляет его пропагандировать христианскую религию, проповедывать смирение и покорность богу, который одних предназначил быть господами, других — слугами. Эта же функция эксплоататора заставляет его дополнять и совершенствовать учение х'риста
вечными принципами демократии. Он чрезвычайно заинтересован
в том, чтобы наемные рабочие истратили все свои духовные силы
на религиозные диспуты и споры о справедливости, нравственности, свободе, патриотизме и тому подобных понятиях так, чтобы
у них не осталось свободной минуты для размышления о своем
"бедственном положении и о мерах к его улучшению. Известный
радикал и сторонник свободы торговли Яков Брайт так высоко
ценил этот метод одурманивания рабочих, что посвящал свои воскресные дни чтению и комментированию библии перед рабочими.
%
ПОЛЬ
ЛАФАРГ
281
Эти занятия, которым предавались от нечего делать скучающие
английские буржуа обоего пола, как и всякие любительские затеи,
велись разумеется крайне небрежно. Но промышленной буржуазии
для ее целей нужны были мракобесы-специалисты. И она нашла
их в лице духовенства всех культов. Но всякая медаль имеет свою
оборотную сторону: чтение библии рабочими также таило в себе
опасность для существующего строя. Эту опасность сумел оценить
Рокфеллер. Этот великий основатель трестов в целях устранения
этой опасности основал трест для издания народной библии, очищенной от всяких жалоб на несправедливости богатых, от негодующих выражений зависти к судьбе этих счастливцев. Католическая церковь предвидела эту опасность и для устранения ее приняла свои меры, запретив всем своим верным сынам чтение библии
и предав сожжению на костре Виклефа, первого переводчика библии на народный язык. За многократные услуги, оказанные духовенством буржуазии, она поддерживала его политически и материально, несмотря на то, что она питала непреодолимую антипатию к его иерархии, корыстолюбию и склонности вторгаться
в личные и семейные дела каждого.
(«Происхождение
религии»).
Христианство искони было предохранительным клапаном для
классового общества.
Христианский бог, которого философы и моралисты либеральной буржуазии изображают слащавым и гуманным, был в первые
века нашей эры жестоким палачом, и неутомимым и изобретательным. «А вам, оскорбляемым,— говорит св. Павел,— отрадно вместе
с нами явление господа Иисуса с неба, с ангелами силы его, в пламенеющем огне совершающего отмщение непознавшйм бога и непокоряющимся благовествованию господа нашего Иисуса христа,
которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица господа
и от славы могущества его» (Второе послание к фессалоникийцам, I, 7—9). Зевс заставлял мучить врагов своих далеко от своих
глаз: Прометея на Кавказе, а Тантала в Тартаре; христианский бог,
думая, что у его верующих такая же безжалостная душа палача,
как и у него, обещает им в качестве небесного блаженства увеселительное зрелище вечных мук осужденных (Исайя, XVI, 24).
Когда христианство стало прсшикать в более цивилизованные
слои языческого общества, бог и его сын Иисус тоже должны были
цивилизоваться, чтобы стать на их уровень: они потеряли дикую
привычку мстить за себя собственноручно и- присутствовать при
мучениях жертвы; они переложили наказание неверных с себя на
подчиненных, на демонов, которых заставили мучить осужденных
вдали от себя, з аду.
Христианство не принесло ничего нового; оно даже не выдумало своих нелепостей и своих грубых суеверий, но оно обладало
несравненным искусством, неизвестным мистериям и орфизму, удовлетворять потребности ума и чувства, вожделения и страсти демократических масс; оно сумело сочетаться с ненавистью бедных
к богатым и в то же время успокоить богатых, откладывая до другого мира исправление несправедливостей судьбы, вознаграждение
добродетели и уравнение их положения и благосостояния. Вопреки
своим первоначальным демагогическим замашкам, оно стало предохранительным клапаном для состоятельных классов; ему удалось придать себе демократический и космополитический характер,— чего требовали товарное производство и товарообмен,—
путем отмены обрядов посвящения, которыми окружали себя мистерии; это удалось ему еще и потому, что оно не сохраняло своего
культа неподвижно в одном каком-нибудь городе или в одной
нации; наоборот, оно переносило его во все места, принимая в свое
лоно всех людей без различия происхождения и положения и связывая все общины в одну церковную организацию, которая в конце
концов превратилась в господство попов. Христианство начало
с того, что стало привлекать грубый и суеверный бедный люд,
возрождая и материализируя первобытные предания и идею души,
введенные в моду мистериями; когда же оно обеспечило себе этот
опорный пункт и приобрело силы для обороны и нападения, оно,
нахватавшись верхушек спиритуалистических выводов греческой
философии и прикрыв свою жестокость слащавой и лицемерной
маской, какую должна носить религия эксплоататорской й гуманной буржуазии, предприняло борьбу за захват умственно развитых
и образованных классов общества.
(«Происхождение
религии»).
Мистичность буржуазии и атеистичность пролетариата коренятся
в их социальной природе.
«Непознаваемое» социального порядка окружает буржуа, как
«непознаваемое» естественного порядка окружало дикаря; все или
почти все акты цивилизованной жизни стремятся к развитию в буржуа суеверной и мистической привычки, существующей у игрока,
привычки относить все1 к случаю. Например кредит, без которого
невозможна никакая торговля, никакая промышленность, есть акт
веры в случай, в неизвестное, который совершает тот, кто его
дает, потому что он не имеет никаких положительных гарантий
в том, что в день уплаты должник в состоянии будет выполнить
свои обещания, так как платежеспособность зависит от тысячи и
одной случайности, столь же непредвиденных, как и неизвестных.
Другие экономические явления изо дня в день внушают буржуа
веру в мистическую силу без материальной основы, отвлеченную
от всякой материи. Назовем только один пример: банковый билет
обладает общественной силой, так мало соответствующей ничтожному количеству его материи, что подготовляет буржуазный ум
к идее силы, существующей независимо от материи. Это — жалкий
клочок бумаги,— он не был бы удостоенным быть поднятым с пола,
если бы его магическое могущество не давало тому, кто им владеет, всего, что есть наиболее материального и желательного
в мире: хлеба, говядины, вина, домов, земли, лошадей, женщин,
здоровья, уважения, почестей и т. д.,— чувственных удовольствий
и духовных наслаждений; бог не сумел бы сделать большего. Буржуазная жизнь соткана из мистицизма.
Торговые и промышленные кризисы вызывают у испуганного
буржуа представление о грозной, непреодолимой и непредвидимой
силе, приносящей людям, подобно гневу христианского бога, неисчислимые и страшные бедствия. Буржуа видно, что, господствуя
над миром, эта сила производит в нем тысячи разрушений; она
уничтожает все продукты и все средства производства. Целое столетие буржуазные экономисты наблюдают периодическое появление кризисов и не могут до сих пор найти более или менее правдоподобного объяснения этому явлению. Не будучи в состоянии найти
причины кризисов на земле, английские экономисты напали на
мысль искать их на солнце: его пятна, говорили они, вызывают
засуху на индийских полях, уничтожают урожаи и ослабляют покупательные силы туземного населения. Европейские товары лишаются рынка, отсюда и кризисы. Эти почтенные представители
науки возвращают нас к средневековой астрологии, объяснявшей
все общественные явления положением звезд, и к суеверию дикарей, приписывающих созвездиям, кометам и лунным затмениям
влияние на судьбы людей.
Экономический мир полон неразрешимых загадок и тайн для
буржуа, и даже его ученые вполне примирились с невозможностью
разгадать их. Капиталист, которому удалось при помощи своих
ученых подчинить себе силы природы, останавливается в испуге
перед непонятными ему действиями экономических сил. Он начинает верить, что причины экономических явлений ему недоступны,
как непостижим для него его бог; он считает поэтому самым благоразумным покорно сносить постигающие его несчастья и с благодарностью принимать посылаемое ему счастье. Подобно Иову он
говорит: «Господь дал, господь и взял, да будет благословенно
имя его». Экономические силы рисуются его воображению в образе
добрых и злых гениев.
Таинственные силы социального мира, окружающие буржуа
со всех сторон и имеющие влияние на его промышленность, торговлю, состояние, здоровье и жизнь,— эти силы наводят такой же
страх на буржуа, как непонятные явления природы на дикарей,
фантазии которых эти явления давали богатую пищу. Антропологи
приписывают суеверия первобытного человека, его веру в духов,
волшебников, в бессмертие души, в бога — его невежеству, незнакомству с окружающей его природой; то же самое можно сказать
о цивилизованном буржуа: его спиритуалистические идеи и его
вера в бога коренятся в его невежестве, в его незнании законов
социальной жизни. Неуверенность в прочности своего благосостояния предрасполагает бурдсуа, как и дикаря, к вере в высшее существо, которое по своему капризу может повернуть колесо счастья
в ту или другую сторону, как это утверждает Феогнид и «Ветхий
завет». И, чтобы расположить это верховное существо в свою
пользу и дать социальным явлениям благоприятное для себя направление, буржуа предается грубейшему суеверию, вступает в сношения с духами, ставит свечки пред образами святых и молится
триединому богу христиан или единому богу философов.
На дикаря, живущего на лоне природы, таинственные явления
ее производят сильное впечатление; на культурного буржуа, напротив, природа действует слабо. Он знает только одну природу—
природу, доставляющую ему удовольствие: декоративные ландшафты, красивые бульвары с подстриженными кустами, аллеи,
посыпанные песком, и т. д. Громадные'услуги, которые оказывала
ему наука в деле его обогащения и которых он ожидает от нее
еще в большем размере в будущем, внушили ему слепую веру в ее
силу и могущество; он не сомневается в том, что она когда-нибудь
разгадает все тайны природы, что она даже найдет средство продлить жизнь до бесконечности, как это обещает профессор Мечников. Совершенно иначе обстоит дело с загадками социального
мира, единственными явлениями, действительно нарушающими
покой буржуа: познать эти явления ему представляется невозможным. Именно эти таинственные, необъяснимые явления социального мира способствовали тому, что в его бедной фантазиями
голове зародилась идея о боге, идея, до которой ему не было необходимости додуматься самому: он нашел ее уже существующей.
Но если бы идея о боге не существовала уже до него, буржуа был
бы вынужден изобрести ёе сам: до того необходим стал ему бог
для объяснения непонятных и неразрешимых социальных проблем.
Питаемая буржуа вера в бога и бессмертие души составляет
одно из идеологических явлений его социальной среды. Он освободится от нее лишь тогда, когда будет лишен возможности присваивать себе продукт чужого труда и когда из паразита превратится в продуктивного работника.
Если необъяснимые силы естественной среды вызвали и укрепили в уме дикаря идею о творце и зиждителе вселенной, то таинственные явления социального мира заставили буржуа признать
бота, который распределяет богатства, отнятые у работников физического и умственного труда, посылает людям и счастье и несчастье, награждает за добрые дела, исправляет зло и искупляет
грехи. Вера в бога зародилась в душе дикаря и буржуа незаметно
. для них самих, подобно тому как незаметно увлекает их земля при
своем вращении.
(«Вера в бога»).
Машинный способ производства, порождающий религиозность
у буржуазии, создает, наоборот, иррелигиозность у пролетарита.
Логично, что капиталист верит в провидение, внимательное
к его нуждам, в бога, который выбирает его из тысяч и тысяч,
чтобы осыпать богатствами его праздность и социальную бесполезность. Еще логичнее, что пролетариат игнорирует существование божественного провидения, потому что он знает, что никакой
небесный отец не даст ему его ежедневного хлеба, хотя бы он
молил его с утра до вечера, и что наемную плату, которая дает
ему для его жизни предметы первой необходимости, он заработал
своим трудом; он очень хорошо знает, что, брось он работать, он
издохнет с голоду, несмотря на всех «добрых боженек» неба и всех
благотворителей земли. Наемник — сам для себя провидение. Условия его жизни делают невозможным другое понятие провидения:
в его жизни нет, как в жизни буржуа, этих превратностей судьбы,
которые могли бы как по волшебству вывести его из его печального положения. Наемником он родился, наемником ^сивет, наемником умрет. Его*честолюбивые мечты простираются не дальше
увеличения наемной платы и непрерывности платы в течение всех
дней года и всех лет его жизни. Случаи и непредвиденные счастливые удачи, которые предрасполагают буржуа к суеверным идеям,
не существуют для пролетариата; а идея бога не может появиться
в человеческом уме, если ее появление не подготовлено суеверными идеями, безразлично какого происхождения.
Если бы рабочий дал увлечь себя верой в бога, разговоры о
котором он слышит вокруг себя, не обращая на них никакого
внимания, то он начал бы допытываться о его справедливости,
которая дала ему лишь жребий труда и нищеты; он почувствовал бы к нему ужас и ненависть и представил бы его себе в образе
и виде буржуа-эксплоататора, подобно черным рабам колоний,
которые говорили, что бог белого цвета, как и их хозяева...
Работа в механической мастерской ставит наемного рабочего
лицом к лицу с такими могучими силами природы, которых не
знает крестьянин, но, приходя в соприкосновение с этими силами,
рабочие господствуют над ними вместо того, чтобы самим находиться под их господством. Громадный механизм из стали и железа, наполняющий собой завод, приводящий его в движение,
всюду проникающий и выполняющий целый ряд работ, не может
внушить рабочему того суеверного страха, которым наполняет
крестьянина удар грома; напротив, он оставляет рабочего совершенно бесстрашным и смелым, ибо рабочий прекрасно знает, что
члены этого металлического чудовища сфабрикованы и прилажены
друг к другу его же товарищами и что ему самому достаточно
повернуть простой рычаг, чтобы остановить чудовище или пустить
его в ход. Машина, несмотря на свою гигантскую силу и чудовищную производительность, не представляет собою для рабочего ничего таинственного. Рабочим на каком-либо электрическом заводе
достаточно повернуть ручку на одно деление циферблата, чтобы
послать на расстояние десятков километров силу, движущую трамваи, достаточно сказать, подобно библейскому богу, «да будет
свет», чтобы действительно во всех городских фонарях вспыхнул
свет. Трудно .представить себе волшебство более фантастическое,
и однако для рабочего это волшебство является самой простой
и естественной вещью. Он был бы в высшей степени удивлен, если
бы ему сказали, что какой-нибудь бог мог бы, если бы хотел этого,
остановить машину или погасить лампу, когда они соединены с
источником электрической силы» он ответил бы, что это анархический бог, т. е. не что иное, как или разъединенное сцепление,
или порванный провод тока, и что ему очень легко найти этого
бога-возмутителя. Практика современной заводской промышленности прививает наемному рабочему научный детерминизм, так что
он для понимания его не нуждается в прохождении теоретического курса наук.
(«Вера в бога»).
Торжество социализма—необходимое условие торжества атеизма.
Свободное и беспристрастное изучение природы породило и
прочно установило в известных научных кругах убеждение, что
все эти явления подчиняются закону необходимости и определяющие их причины следует искать в природе, а не вне ее. Это изучение кроме того позволило .подчинить силы природы на служение человеку.
Но промышленное использование природных сил преобразовало средства производства в такие гигантские экономические
организмы, что они ускользают от контроля капиталистов, которые их монополизируют. Это доказывают периодические — промышленные и торговые — кризисы. Эти производственные организмы, хотя и созданные человеком, расстраивают во время кризисов социальную среду с такой же слепой силой, с какой
разбушевавшиеся естественные силы потрясают природу. Современные средства производства могут контролироваться только
обществом; для того, чтобы такой контроль мог быть установлен,
они должны предварительно стать собственностью общества; тогда
только они перестанут порождать социальные неравенства, давать
богатства паразитам и осуждать на нищету наемных производителей и создавать мировые пертурбации, которые капиталист и его
экономисты умеют приписывать лишь случаю и неизвестным причинам, Когда они будут находиться в обладании и под контролем
общества, не будет больше «непознаваемого» социального порядка;
тогда — и только тогда — будет вытравлена из человеческого ума
вера в бога.
Революционные социалисты должны возобновить борьбу, которую вели философы и памфлетисты буржуазии; они должны
итти на штурм морали и социальных учений капитализма; они
должны разрушить в умах класса, призванного к действию, предрассудки, посеянные господствующим классом; они должны перед
лицом ханжей всякой морали провозгласить, что земля перестанет
быть юдолью для рабочих, что в коммунистическом обществе будущего, которое мы оснуем «мирным путем, если возможно, если
нет — насильственно», человеческие страсти получат полную свободу, ибо «все они хороши по своей природе, мы должны избегать
только дурного применения их и злоупотребления ими» ( Д е к а р т ) ,
а этого можно избегнуть только посредством их взаимного уравновешивания, только посредством их взаимного противодействия,
только путем гармонического развития человеческого организма,
ибо, как говорит доктор Бедло, «лишь тогда раса достигнет апогея
энергии и нравственной силы, когда она достигнет максимума
физического развития». Таково же было мнение великого натуралиста Чарльза Дарвина.
(«Право на праздность»).
Г. В. ПЛЕХАНОВ
Определение религии.
Религию можно определить как более или менее стройную систему представлений, настроений и действий. Представления образуют мифологический элемент религии; настроения относятся
к области религиозного чувства, а действия — к области религиозного поклонения или, как говорят иначе, культа. Мы должны
прежде всего и больше всего остановиться на мифологическом
элементе религии.
Греческое слово «миф» значит — рассказ. Человека поражает
известное — все-равно: действительное или мнимое — явление.
Он старается объяснить себе, как оно произошло. Так возникают
мифы.
Пример:
Древние греки верили в существование богини Афинй (Минервы). Как произошла эта богиня? У Зевеса болела голова и,
должно быть, болела очень уж сильно, потому что он решился
обратиться к помощи хирургии. Роль хирурга выпала на долю
Гефеста (Вулкана), который вооружился секирой и так сильно"хватил царя богов по голове, что она раскололась и из нее выскочила богиня Афина.
Другой пример:
Древний еврей спрашивал себя: откуда произошел мир? На
этот вопрос ему отвечал рассказ о шести днях творения и о создании человека из праха земного.
Третий пример:
Современный австралиец племени эрентэ хочет знать, откуда
взялась луна. Это его любопытство удовлетворяется рассказом о
том, как в старину, когда еще не было луны на небе, умер и похоронен был один человек—Опоссум. Скоро этот человек воскрес
и вышел из могилы в виде мальчика. Его сородичи перепугались
и пустились бежать, а он стал преследовать их, крича: «Не бойтесь,
не бегите, а него вы совсем умрете. Я же хотя умру, но воскресну
на небе». И вот он вырос, состарился, потом умер, но затем появился в виде луны, и с тех пор он периодически умирает и воскресает.
Так объясняется не только происхождение луны, но и ее
периодические исчезновения и появления. Я не знаю, удовлетворит ли такое объяснение кого-нибудь из наших нынешних «богоискателей»; полагаю однако, что — никого. Но австралийского туземца оно удовлетворяет, так же как удовлетворял грека известного периода рассказ о появлении Афины из головы Юпитера или
древнего еврея рассказ о шести днях творения. Миф есть рассказ,
отвечающий'на вопросы: почему и каким образом? Миф есть первое выражение сознания человеком причинной связи мжду явлениями.
Один из самых выдающихся немецких этнологов нашего времени Эренрейх говорит: «Миф есть выражение первобытного
миросозерцания». И это в самом деле так. Необходимо очень
примитивное миросозерцание для того, чтобы верить, будто луна
есть вышедший из могилы и вознесшийся на небо человекОпоссум. В чем же состоит главная отличительная черта этого миросозерцания? Она состоит в том, что человек, его держащийся,
олицетворяет явления природы. Все эти явления представляются
первобытному человеку действиями особых существ, имеющих,
подобно ему^ сознание, потребности, страсти, желания и волю.
Уже на очень ранней ступени развития эти существа, будто бы
вызывающие своими действиями известные явления природы, приобретают в представлении первобытного человека характер духов,
и таким образом складывается то, что Тэйлор назвал анимизмом.
«Принимают,— говорит этот, исследователь,— что духовные существа управляют явлениями материального мира и жизнью человека
или влияют на них здесь и за гробом; так как, далее, думают, что
они сообщаются с людьми, что поступки последних доставляют
им радость или неудовольствие, то, рано или поздно, вера в их
существование должна привести естественно и, можно даже сказать, неизбежно к действительному почитанию их или желанию их
умилостивить. Таким образом анимизм, в_ его полном развитии,
обнимает собою верования в управляющие божества и подчиненные им духи, в душу и в будущую жизнь,—верования, которые
переходят на практике в действительное поклонение».
Это тоже правильно; но нужно помнить, что иное дело вера
в существование духов, а иное дело поклонение им; иное дело
миф, а иное дело культ. Первобытный человек верит в существование множества духов, но поклоняется он лишь некоторым из
них. Культ возникает из соединения анимистических идей с известными религиозными действиями. Нам разумеется нельзя будет
миновать вопроса о том, чем обусловливается это соединение, но
мы не должны забегать вперед. Теперь нам нужно ознакомиться
с происхождением анимизма. Тэйлор справедливо замечает, что
первобытный анимизм служит воплощением сущности спиритуалистической философии, в ее противоположности философии материалистической. Но если это так, то изучение анимизма окажет
нам двойную услугу: оно не только будет способствовать выяснению наших понятий о первобытных мифах, но и раскроет перед
нами «сущность спиритуалистической философии». А этим никак
нельзя пренебрегать в такую эпоху, когда многие стремятся воскресить философский спиритуализм.
(«О религии». Сочинения, т. XVII, стр. 197—199).
*
*
,
*
Что такое анимизм? Это —попытка дикаря объяснить явления
природы. Как ни слаба, как ни беспомощна эта попытка,-—• она неизбежна при условиях жизни первобытного человека. В своей
борьбе за существование он совершает известные действия, которыми причиняются известные явления. Таким образом он привыкает смотреть на себя, как на причину этих явлений. Судя по аналогии с собою, он думает, что -и все остальные явления вызываются
действиями существ, подобно ему имеющих известные ощущения,
потребности, страсти, рассудок и волю. Но он не видит этих существ и -потому считает их «духами», при обычных условиях недоступными его внешним чувствам и только в исключительных
случаях непосредственно действующими на них. На почве этого
анимизма возникает религия, дальнейшее развитие которой определяется ходом общественного развития.
Боги — это духи, которых первобытный человек считает расположенными к нему и которым он поэтому поклоняется. Насчет
одного или нескольких из этих духов он относит и сотворение
мира. Правда, первобытного охотника интересует вопрос не о том,
кто сотворил животных, охота за которыми дает ему средства
существования, а о том, откуда они приходят. На этот главный
вопрос и отвечает космогония охотника. Рассказы о сотворении
мира являются лишь впоследствии, когда развитие производительных сил расширяет производительную деятельность человека и
тем делает для него все более и более привычным представление
о творчестве. Вполне естественно, что деятельность творца (или
творцов) мира представляется первобытному человеку похожей на
его собственную производительную деятельность. Так, согласно
мифу одного из американских племен, человек был вылеплен из
глины. В Мемфисе верили, что бог Фта построил мир подобно тому,
Хрестоматия по и торив ат-мзма
19
как каменщик строит здание; в Саисе рассказывали, что мир был
соткан одной богиней и т. д.
Мы видим, что космогония тесно связана с техникой. Но это
мимоходом. Здесь мне нужно отметить только одно: раз утвердилась вера в сотворение мира тем или другим духом, то этим была
подготовлена почва для всех тех философских систем, в которых
дух (субъект) является точкой исхода и, стало быть, так или иначе
определяет собою существование природы (объекта). Вот в каком
смысле мы можем и должны признать, что спиритуалистическая,—
да и всякая идеалистическая философия, в ее противоположности материализму, происходит от первобытного анимизма.
Нечего и говорить: творческий дух идеалистов,— например
абсолютный дух Шеллинга или Гегеля,— очень мало похож на того
божка упомянутого мною выше американского племени, который
будто бы вылепил человека из глины. Боги первобытных племен
были совсем подобны людям, отличаясь от них только гораздо
большей силой. Между тем абсолютный дух Шеллинга или Гегеля
не имеет ничего человеческого, кроме сознания. Иначе сказать, те
представления о духах, которые имелись у первобытного человека, должны были пережить очень длинный процесс дистилляции
(как выражался Энгельс), чтобы слиться в представление абсолютного духа, выработанное великими немецкими идеалистами. Но
длинный процесс «дистилляции» не мог внести никаких существенных перемен в анимистические представления: по существу
они остались тем же, чем были.
Анимизм есть первое известное нам выражение сознания человеком причинной связи между явлениями природы. Он объясняет явления природы с помощью мифов. Но хотя его объяснения
удовлетворяют любопытство первобытного человека, они совсем
не увеличивают его власти над природой.
Возьмем пример. Больной фиджиец ложится на землю и начинает кричать, убеждая свою душу вернуться в тело, ею покинутое.
Конечно доводы, с которыми он обращается к своей душе, не оказывают влияния на ход совершающихся в его организме патологических процессов. Чтобы приобрести возможность влиять в желательном смысле на ход этих процессов, люди должны были
предварительно взглянуть на органическую жизнь с точки зрения
науки. Смотреть на явления природы с точки зрения науки значит
объяснять их не действием того или другого духовного существа,
а законами той же природы. Увеличить свою власть над природой
людям удается лишь в той мере, в какой они подмечают закономерную связь явлений. Научный взгляд на данную область явлений
природы совершенно исключает собой анимистический взгляд на
нее. Как справедливо заметил один историк Греции,— тот, кто
знает истинную причину видимого движения солнца вокруг земли,
уже не будет рассказывать о Гелиосе, который каждое утро всходит на свою огненную колесницу, поднимается по крутой небесной
дороге и вечером, спустившись к западу, уходит на покой. Но это
значит, что, объясняя причину видимого движения солнца вокруг
земли, он будет отправляться уже не от субъекта, а от объекта,
будет апеллировать не к духу, а к природе.
(Сочинения, т. XVII1).
*
*
*
Свойственные религии представления имеют анимистический
характер и вызываются неумением человека дать себе отчет в явлениях природы. К представлениям, происходящим из этого источника, присоединяются впоследствии те анимистические представления, с помощью которых олицетворяются и объясняются людьми
их отношения между собою.
Что касается религиозных настроений, то они коренятся в чувствах и стремлениях людей, вырастающих на почве данных общественных отношений, и изменяются параллельно с изменением
этих отношений.
И те и другие —• и представления и настроения — могут быть
объяснены лишь с помощью той теоремы, которая гласит, что не
сознание определяет собою бытие, а бытие — сознание.
Мне остается теперь сказать несколько слов о действиях, стоящих в связи с религиозными представлениями и настроениями. На
известной стадии культурного развития анимистические представления и связанные с ними настроения срастаются с нравственностью в широком смысле этого слова, т. е. с понятиями людей о
своих взаимных обязанностях. Тогда человек начинает смотреть
на эти обязанности как на заповеди, данные богом. Но хотя представление об этих обязанностях срастается с анимистическими
представлениями, однако оно отнюдь не вызывается ими. Нравственность возникает раньше, чем начинается процесс срастания
относящихся к ней представлений с верой в существование богов.
Религия не создает нравственности. Она только освящает ее правила, вырастающие на почве данного общественного строя.
Есть другого рода действия. Они вызываются не взаимными
отношениями людей, а отношением людей к богам или к богу.
Совокупность этих действий и называется собственно культом.
Мне нет никакой надобности много толковать в этой статье
о культе. Окажу только, что если человек создает бога по своему
образу и подобию,— а в известных, на своем месте указанных
мною пределах это совершенно справедливо, — то ясно, что и
свои отношения к «высшим силам» он будет воображать по образу
и подобию знакомых ему отношений, господствующих в том обществе, к какому он принадлежит. Это также подтверждается между
прочим и примером тотемизма. Это подтверждается и тем, что
в восточных деспотиях главных богов воображали в виде восточ19*
ных деспотов, а на греческом Олимпе господствовали отношения,
очень напоминающие устройство греческого общества героической эпохи.
В своем поклонении богам (в своем культе) человек совершает
те действия, которые кажутся ему нужными для исполнения своих
обязанностей перед богами или богом. В награду за это он ожидает известных услуг со стороны богов.
Отношения между богом и человеком сначала очень напоминают отношения, основанные на взаимном договоре или, вернее,
на кровном родстве. По мере развития общественной власти отношения эти изменяются в том смысле, что человек все более и более
считает себя подчиненным богу. Эта подчиненность достигает высшей своей точки в деспотических государствах. В новейших цивилизованных обществах рядом со стремлением к ограничению королевской власти возникает склонность к «натуральной религии» и
к деизму, т. е. к такой системе представлений, в которой власть
•бога со всех сторон ограничивается законами природы. Деизм есть
небесный парламентаризм.
Несомненно однако и то, что даже там, где человек воображает себя рабом своего бога, в культе всегда отводится более или
менее широкое место магии, т. е. действиям, имеющим целью вынудить у богов известные услуги. Объективная точка зрения магии
противоположна субъективной точке зрения анимизма. Маг апеллирует к необходимости для того, чтобы повлиять на произвол
богов.
Вот выводы, к которым приводит нас анализ составных элементов религии. Всякая попытка устранить из религии элемент
анимизма противоречит природе религии и потому заранее осуждена на неудачу. С устранением из религии анимистического элемента у нас останется лишь нравственность в широком смысле
слова, но нравственность — не религия: она возникает раньше
религии и может существовать без ее санкции.
Соляная кислота есть соединение хлора с водородом. Устра-.
ните водород — у вас останется хлор, но уже не будет соляной
кислоты. Устраните хлор — получите водород, но соляной кислоты
у вас опять не будет.
I
(«О религии»).
*
Ф
*
Некоторые новейшие исследователи считают магию как бы
естествознанием первобытного человека. Они видят в ней зачаточное убеждение в закономерности явлений природы. Так Фрэзер
пишет: «Ее основное убеждение есть основа современной науки;
вся система покоится на вере, конечно слепой, но твердой и реальной, в то, что в природе существует порядок и единообразие».
В этом смысле Фрэзер считает магию, вместе с наукою, прямо противоположной религии, которая основывается на убеждении в том,
что единообразный порядок природы может быть нарушен богом
или богами по просьбе людей. В этом есть большая доля правды.
Магия противоположна религии в том смысле, что религиозный
человек объясняет явления природы волею субъекта (духа, бога),
между тем как человек, который обращается к помощи магии,
старается открыть объективную причину, определяющую собой
эту волю. Указываемая Фрэзером противоположность между религией, с одной стороны, и магией и наукой — с другой, есть противоположность между субъективным и объективным методами объяснения явлений. Эта противоположность несомненно обнаруживается уже и в представлениях дикарей. Но не следует забывать
при этом, что между наукой и магией есть в высшей степени важное различие. Наука старается открыть причинную связь явлений
там, где магия довольствуется простой ассоциацией идей, простым
символизмом, который сам может основываться лишь на недостаточно ясном различии между тем, что происходит в голове человека, и тем, что совершается в действительности. Пример: чтобы
вызвать дождь, краснокожий американский колдун льет известным образом воду с крыши своей хижины. Вид и шум текущей
с крыши воды напоминает ему о дожде, и он убежден, что этой
ассоциации идей достаточно для того, чтобы вызвать дождь.
Если дождь в самом деле пойдет после того, как вода будет пролита на крфше, то краснокожий колдун объяснит это магическим
действием своей операции. Этого достаточно, чтобы показать, какое неизмеримое расстояние отделяет магию от науки.
Магия делает ту самую ошибку, которая в высокой степени
свойственна современному эмпириомонизму. Она смешивает объективные явления с субъективными. И именно потому, что она
смешивает их, свойственный ей ход идей не устраняет хода идей,
свбйственного анимизму. Магия дополняется анимизмом; анимизм
дополняется магией. Это мы на каждом шагу видим во всех религиях.
I
(«О религии», т. XVII, стр. 207—210).
С религией неразрывно связано теологическое объяснение
истории.
Что представляет собою теологическая философия, или теологическое понимание истории? Это —наиболее примитивное понимание: оно тесно связано с первыми усилиями человеческой мысли
разобраться в окружающем мире.
В самом деле, наиболее простое представление, какое человек
может составить себе о природе, это видеть в ней не зависимые
друг от друга и управляемые неизменными законами явления,
а события, производимые действием одной или нескольких воль,
подобных его собственной воле.
Французский философ Гюйо рассказывает в одной из своих
книг, что один ребенок в его присутствии обозвал луну злою,
потому что она не хотела показаться на небосклоне. Этот ребенок
считал луну существом одушевленным, и первобытный человек,
подобно этому ребенку, одушевляет всю природу.
Анимнзм (одушевление природы) является первой фазой развития религиозной мысли, и первым шагом науки является устранение анимистического объяснения явлений природы и познание
их как явлений, подчиненных определенным законом. В то время
как дитя думает, что луна не показывается, потому что она злая,
естествоиспытатель объясняет нам совокупность естественных
условий, которые в каждый данный момент позволяют «ли мешают нам видеть то либо другое небесное светило.
Но между тем как в изучении и понимании природы наука
подвигалась вперед сравнительно быстрыми шагами, наука о человеческом обществе и об его истории развивалась гораздо
медленнее. Анимистическое объяснение исторических явлений допускалось еще в такие времена, когда анимистическое объяснение
явлений природы казалось уже только смешным. В сравнительно
цивилизованной ореде, часто даже в среде высоко цивилизованной, считалось вполне возможным объяснить историческое движение человечества как проявление воли одного либо нескольких
божеств, и это-то объяснение исторического процесса божественной волей мы и называем теологическим объяснением истории.
(«Материалистическое понимание истории». Сочинения, т. XXIV).
Непримиримость науки с религией.
Пока мы ссылаемся на волю божества, мы не имеем права говорить о законосообразности явлений. Открытие же этой законосообразности и составляет задачу науки. Вот почему
серьезная
наука никогда не может ужиться в мире с религией. Малу-по-малу
наука сбила религию со всех ее позиций, а в настоящее время уже
никто из людей, имеющих хоть некоторое понятие о научном
мышлении, не станет ссылаться на божью волю как на причину
явлений природы или общественного
развития.
(«О книге Л. И. Мечникова»),
Идеалистическая философия» — защита религии.
Лютгенау думает, что «религия начинается на границе познания или опыта» и что «чем шире становится область познания, тем
уже область религиозного верования». Это можно признать правильным лишь с большой оговоркой. Дело в том, что, когда область религиозного
верования оказывается значительно суженной
под влиянием опыта, тогда на выручку религии является та философия, которая учит, что наука и религия лежат в
совершенно
различных плоскостях, так как религия имеет дело с потусторонним миром, а наука, опыт — только с явлениями, и что поэтому
расширение области опыта не может сузить область религии. И поскольку проповедь этой философии влияет на умы, постольку
область религиозного верования перестает суживаться под влиянием опыта.
(«О книге Ф. Лютгенау»).
Социальный смысл «возвращения к Канту».
Обрадованная заступничеством Бернштейна, буржуазия так
носится теперь с этим «критиком», она так громко трубит об его
«критических» подвигах, что внимательный разбор его аргументации может дать много интереснейших психологических «документов» для характеристики нашей эпохи. А кроме того отречение
г. Бернштейна от материализма и его стремление «вернуться
к Канту» являются вовсе не простыми ошибками философского
ума (если только можно говорить о философском уме г. Бернштейна), нет, они явились естественным, неизбежным и ярким выражением его нынешних социально-политических тенденций. Тенденции эти могут быть выражены в словах: сближение с передовыми слоями буржуазии. «То, что называют буржуазией,—говорит
он,—есть сложный класс, состоящий из разных слоев с очень различными интересами. Эти слои держатся вместе до тех пор, пока
они одинаково притеснены или пока им одинаково угрожают. В
данном случае речь может итти конечно только о последнем, т. е.
о том, что буржуазия образует однородную реакционную массу
потому, что всем ее элементам одинаково угрожает социал-демократия—одним их материальным, другим—их идеологическим интересам: их религии, патриотизму, их желанию уберечь страну от
ужасов насильственной революции». Эта небольшая выписка дает
ключ к пониманию психологии предпринятого г. Бернштейном пересмотра марксизма. Чтобы «не угрожать» идеологическим интересам буржуазии — и прежде всего ее религии — г. Бернштейн
«вернулся» на точку зрения «критической» философии. Еще древние понимали, в чем заключается одна из великих культурных
заслуг материализма. Лукреций красноречиво выразил это сознание в своей похвале Эпикуру: «Когда на земле человеческая жизнь
была презрительно подавлена под тяжестью суеверия, которое с
неба показывало свою главу и страшным видом грозило смертным,
тогда впервые греческий муж смертный осмелился направить туда
свой взгляд и противостать, он, которого не укротили ни храмы
богов, ни молнии, ни угрожающий треск неба» и т. д. Чтобы не
«угрожать» буржуазному «патриотизму», он стал опровергать то
положение Маркса, что пролетариат не имеет отечества, и рассуждать об иностранной политике Германии тоном настоящего
«государственного мужа» из школы реальных политиков; наконец,
чтобы не затрагивать других предрассудков буржуазии, он ополчился против «теории крушения капитализма» (которую, кстати
сказать, он сам же и смастерил из некоторых, частью плохо им по-
нятых, частью искаженных слов Маркса и Энгельса) и пустился
доказывать, что «классовая диктатура есть признак более низкой
культуры... является шагом назад, политическим атавизмом». Кто
хочет понять г. Бернштейна, тому надо выяснить себе не столько
его теоретические доводы, в которых нет ничего, кроме невежества и путаницы понятий, сколько его практические стремления
которыми объясняются все его теоретические заключения и грехопадения. Каков человек, такова его и философия, — справедливо
говорит Фихте.
«Религия есть опиум народа, — писал Маркс в «Французсконемецких ежегодниках»,—уничтожение религии, как
призрачного
счастья, означает требование его действительного счастья... Критика религии является поэтому критикой нашей юдоли плача».
Такой язык разумеется не мог нравиться не только тем буржуазным филистерам, которые нуждаются в религиозном «опиуме»
для того, чтобы обеспечить самим себе немножко призрачного
счастья, но также и тем, гораздо более даровитым и смелым идеологам буржуазии, которые, освободив самих себя от религиозных
предрассудков, угощают однако призрачным счастьем народную
массу единственно для того, чтобы обеспечить от ее посягательства действительное счастье имущих классов.. Само собой понятно,
что имерно эти господа особенно резко восстают против материализма и особенно громко осуждают «догматизм» тех революционеров, которые разоблачают истинный характер их антиматериалистической пропаганды.
В интересной брошюре «Реформа или революция» К. фон Массов, человек вполне «почтенный», высказывает свое твердое убеждение в том, что «если наше развитие пойдет так же, как оно шло
до сих пор, то в будущем нашему отечеству угрожает социальная
революция». Для избежания этой революции необходима, по его
мнению, всесторонняя реформа, требованию которой и посвящена
его книга. Но всесторонняя социальная реформа не исключает в его
программе и борьбы против «революционных сил». Пока еще не
произошло революционного взрыва, надо бороться с ними духовным оружием, а в этой борьбе необходимо направить свои силы
прежде всего против материализма. Но г. фон Массов думает, что
удачнее других будут бороться с материализмом те противники
«революционных сил», которые сами очистят себя от материалистической скверны. «Враг, с которым мы должны вступить в борьбу, прежде всего есть материализм в нашей собственной среде,—
проповедует он.—Социал-демократия совершенно материалистична, она отрицает бога и вечность. Но от кого заимствовано это
учение? Не спустилось ли оно сверху вниз? Огромнейшее большинство образованных людей нашего времени отвернулось от веры
своих отцов». «Часть образованого мира совершенно атеистична».
А социальные последствия атеизма ужасны. «Если нет ни бога, ни
загробной жизни, ни вечности, если со смертью прекращается так-
же и существование души, то в двести, в триста раз более несправедливым становится всякое бедствие, всякая нищета одной части
человечества, страдающей в то время, когда другая его часть
наслаждается избытком. На каком основании девять десятых народа должны нести на себе тяжелое бремя жизни, между тем как
меньшинство остается свободным от всякой тяжести?»
На этот вопрос атеист не может ответить сколько-нибудь удовлетворительно. Но именно здесь-то и лежит социальная опасность
атеизма: он воспитывает и возбуждает революционные чувства в
рабочей массе. И именно потому наш тайный советник правления
и пр., и пр. проповедует образованной буржуазии покаяние и борьбу с материализмом. Г-н фон Массов—толковый человек. Он гораздо толковее всех тех «марксистов», которые, искренне сочувствуя
рабочему классу, в то же время не менее искренне увлекаются
«критической» философией. Эти люди придерживаются материалистического понимания истории. Но они приходят в большое
удивление, когда им указывают на социальные,—т. е., в последнем
счете, на экономические,—'причины того отрицательного отношения к материализму и того распространения неокантианства, которые замечаются в среде образованной буржуазии нашей эпохи.
(«Cant» против Канта», т. XI, стр. 50—52).
-* *
*
Религиозные взгляды, складываясь на данной социальной
основе санкционируют ее собою. Кто нападает на религию, тот
колеблет ее социальную основу. Поэтому охранители никогда не
бывают расположены к терпимости там, где речь заходит о религиозных убеждениях. Еще меньше они расположены к борьбе с
религией.
О тезисе: религия — частное дело.
Комментируя известное положение: «религия—-частное дело»,
г. Лютгенау говорит: «для принадлежности к партии достаточно,
если кто-нибудь убедится для себя (?), что он разделяет взгляды
и требования, изложенные в программе партии. Таким образом
при выборах в рейхстаг 1893 г. христианский теолог мог быть выставлен официальным кандидатом партии» (стр. 289). Это конечно
так. Но надо все-таки заметить следующее. Программа партии
основывается на совокупности таких положений, которым члены
партии приписывают строго научное значение. И каждый член
партии нравственно обязан по мере сил и возможностей заниматься пропагандой этих положений. Спрашивается: как ему быть, если
в своей пропаганде он сталкивается с системой взглядов, объясняющих с помощью «социальной» религии то, что он сам не можег
объяснить иначе, как посредством научного социализма? Говорить
против своего убеждения? Это было бы лицемерием. Замалчивать
некоторую часть своих взглядов? Это было бы лицемерием наполовину, т. е. в сущности таким же лицемерием. Остается говорить
правду,—говорить ее, не раздражая без надобности своего слу
шателя, подходя к нему тактично и даже педагогично, но все-таки
говорить. Г. Лютгенау согласен с нами; он сам говорит это 1 . Но
говорит как-то мимоходом, а когда ну>дао окончательно формули
ровать свое мнение, он как будто склоняется к противоположной
мысли. Так на стр. 274—275 он пишет: «Самая действительная агитация будет такова: говорить то, что есть. Естественное происхождение религии; присоединившаяся потом зависимость религиозных
представлений от экономической структуры общества; факты
церковной истории; научное исследование сущности явлений, не
понимание которых вызвало религиозные толкования,—все это
безусловно верная действительность, которая разрушит всякое
сомнение и всякую фантазию, возникшую из незнания». Это очень
хорошо сказано! Но далее автор рассуждает так, что выходит,
будто никакой агитации не нужно,—и не нужно по той причине,
что «фантазия», о которой у нас идет теперь речь, коренится
в современной нам экономической действительности и исчезнет
вслед за нею. Но это уже срвсем плохой довод; он напоминает
рассуждения анархистов и синдикалистов; так как политические
учреждения основываются на производственных отношениях, то,
пока существуют эти последние, политическая борьба или совсем
бесполезна, или даже вредна для рабочего класса. В действительности самый ход экономического развития нынешнего общества
дает надлежащую точку опоры для плодотворной политической
деятельности пролетариата. И было бы нерасчетливо, было бы
просто-напросто нелепо не пользоваться этой точкой опоры. Совершенно то же надо сказать и о «фантазиях».
Поясним нашу мысль примером. Несколько лет тому назад
во французской партии был негр Лежитимюс, депутат от острова
Мартиники. Злые языки его врагов говорили, что во время избирательной агитации Лежитимюс не только держал речи на собраниях, но и прибегал к колдовству для того, чтобы вернее обеспечить себе победу. Это, повторяем, не более как злая выдумка; но
допустим на одну минуту, что это правда. Как должна была бы
французская партия отнестись к Лежитимюсу? Исключить его из
своих рядов? Но это значило бы обнаружить вредную, непозволительную и вдобавок еще смешную нетерпимость: вера в колдовство
тоже должна быть признана частным делом. Против этого, надеемся, никто возражать не станет. А с другой стороны, кто из белых
товарищей черного депутата не счел бы себя нравственно обязанным сообщить ему более правильный взгляд на истинные причины политических успехов и неудач? Кто из них не постарался
1 Т.-е. был согласен и говорил, пока сам принадлежал к партии, а как он
думает теперь—нам совсем неизвестно.
бы вывести его из его грубого заблуждения? Разве только недоброжелательные или легкомысленные люди. А ведь вера в колдовство несомненно тоже имеет свое материалистическое объяснение! Но в том-то и дело, что найти для данного исторического
явления материалистическое объяснение вовсе еще не значит примириться с ним или объявить его неустранимым посредством сознательной деятельности людей. Не сознание определяет собою
бытие, а бытие—сознание. Это так. Это—исторический материализм. Но это еще не весь исторический материализм. К этому необходимо прибавить, что, раз .возникнув на основе бытия, сознание
со своей стороны способствует его дальнейшему развитию. Маркс
хорошо знал это, высказывая свой известный взгляд на важное
значение «критики религии».
(«О книге Ф. Лютгенау». Сборн. «От обороны к нападению»,
стр. 275—277).
*
*
Материализм метафизический и диалектический.
«Философы» XVIIÏ столетия до тошноты повторяли, что общественное мнение управляет миром и что поэтому ничего не
может противостоять разуму, который «в конечном счете всегда
прав». И тем не менее те же самые философы часто обнаружи
вали большие сомнения в силе разума, и их сомнения логически вытекали из другой стороны характерной для «философов» теории. Так как все зависит от «законодателя», то
он или дает торжествовать разуму, или гасит его факел. Поэтому
следует возложить все надежды на «законодателя». Но в большинстве случаев законодатели, монархи, рапоряжающиеся судьбами своих народов, очень мало заботятся о торжестве разума.
Итак, виды разума становятся чрезвычайно жалкими. Философу
остается только рассчитывать на случай, который рано или поздно
передаст власть дружественному разуму «государю». Мы уже видели, что Гельвеций фактически рассчитывал только на счастливый случай. Послушаем еще одного'философа той же эпохи.
«Самые несомненные принципы чаще всего встречают возражения: они борются с невежеством, легковерием, обыденностью,
упорством и тщеславием людей, одним словом, с интересами
сильных мира сего и с глупостью народа, заставляющими их придерживаться старых систем. Заблуждение защищает свою территорию шаг за шагом; только при помощи борьбы и выдержки
удается вырвать у него самые незначительные завоевания. Из
этого нельзя делать того вывода, что истина бесполезна; семя, ею
посеянное, сохраняется; со временем оно приносит плод и, подобно семенам, ждущим долгое время в земле своего всхода, ожидает
обстоятельств, могущих дать ему развиться... Когда нациями начинает править просвещенный государь, истина приносит плоды,
которых от нее с полным правом ожидали. В конце-концов, необходимость заставляет народы, уставшие от нищеты и бесчисленных
несчастных случаев, порожденных их ошибками, найти прибежище в истине, которая одна только может предохранить их-от несчастья, при котором ложь и предрассудок заставляли их долго
страдать» \
Все та же вера в «просвещенного
государя», все то же сомнение в силе«разума». Сравните только эти бесплодные и боязливые
надежды с полной силы убежденностью Маркса, который говорит
нам, что нет и никогда не будет государя, который мог бы оказать
успешное противодействие развитию производительных сил своего народа и, следовательно, оказать содействие его
освобождению
от гнета устарелых учреждений, и скажите: кто сильнее верит в силу разума и его конечное торжество. С одной стороны, осторожное «может быть», с другой —- уверенность, столь же непоколебимая, как та, какую нам дают математические доказательства.
Материалисты могли только наполовину верить в свое божество, «разум», так как по их теории, божество постоянно наталкивалось на железные законы материального мира, на слепую необходимость. «Человек достигает своего конца,—говорит Гельвеций,—не будучи свободным ни на один момент, начиная с своего
рождения и кончая смертью» 2. Материалист должен делать такое
утверждение, так как по словам Пристлея, «учение о необходимости есть непосредственный вывод из учения о материальности человека; ибо механическое понимание есть безусловный вывод из
материализма» 3. До тех пор, пока не познали, как это, необходимость может породить свободу человека, неизбежно приходилось
быть фаталистами. «Все явления связаны между собою»,—говорит
Гельвеций.—«Вырубленный на севере лес изменяет направление
ветров, состояние посевов, искусства страны, нравы и правительство». Гольбах говорит о бесчисленных последствиях, какие может
иметь для судеб государства движение одного единственного атома в мозгу деспота. Детерминизм «философов» не шел дальше в
понимании роли необходимости в истории; поэтому для них историческое развитие было подчинено случайности, этой оборотной
стороне медали необходимости. Свобода оставалась в противоречии с необходимостью, и материализм не сумел, как указал Маркс,
понять человеческой
деятельности. Немецкие идеалисты хорошо
видели эту слабую сторону метафизического материализма, но им
удавалось, при помощи абсолютного духа, т.-е. фикции, соединить
свободу с необходимостью. Современные материалисты типа Молешота вращаются в противоречиях материалистов XVIII в. Только
1 «Опыт о предрассудках, о влиянии мнений на нравы и счастье людей».
Льеж, 1797 г., стр. 37. Эту книгу приписывают Гольбаху или материалисту
Дюмарсе, имя которого стоит на заглавном листе.
2 «Зравый
смысл, основанный на природе», I, стр. 120.
а Пристлей—«Свободный
спор о принципах материализма», стр. 241.
Маркс сумел, ни на одну минуту не отказываясь от теории «материальности человека», примирить «разум» и «необходимость», рассматривая «человеческую практику». Человечество всегда ставит
себе только такие задачи, которые оно может разрешить, ибо при
ближайшем рассмотрении всегда оказывается, что самая задача
возникает только там, где налицо уже имеются, или по крайней мере находятся в процессе своего возникновения, материальные условия для ее разрешения» 1.
Материалисты-метафизики видели, как необходимость подчиняет себе людей, диалектический материализм показывает, как
можно их освободить.
«Буржуазные производственные отношения, это—последняя
антагонистичная форма общественного процесса производства,
антагонистичная не в смысле индивидуального антагонизма, но антагонизма, проистекающего из общественных условий жизни индивидуумов; но вместе с тем развивающиеся в недрах буржуазного общества производительные силы создают материалные условия для разрешения этого антагонизма. Поэтому вместе с этой
общественной формацией заканчивается первоначальная история
человеческого общества» 2.
Якобы фаталистическая теория Маркса как раз впервые в истории экономической науки положила конец тому фетишизму
экономистов, который объяснял экономические категории — меновую стоимость, деньги, капитал—природой материальных объектов, а не взаимоотношениями людей в процессе производству3.
Мы не можем излагать здесь того, что сделал Маркс для политической экономии. Заметим только, что в этой науке он воспользовался тем же самым методом и при трактовании ее стал на ту
«К критике политической экономии», предисл., стр. 6.
Там же, предисловие, стр. 6.
- 3 «До какой степени фетишизм, присущий товарному миру, или вещественная видимость общественных отношений труда, смущает некоторых
экономистов, показывает, между прочим, скучный и бестолковый спор их
относительно роли природы в процессе созидания меновой стоимости. Так
к а к меновая стоимость есть лишь определенный общественный способ выражать труд, потраченный на приготовление вещи, то само собою разумеется, в меновой стоимости содержится не больше вещества, данного природой, чем, например, в вексельном курсе. Т а к как товарная форма есть
в с е о б щ а я и неразвитая форма буржуазного производства, вследствие чего
она возникает очень рано, то ее фетишистический характер еще сравнительно легко разглядеть. Но в более конкретных формах исчезает даже эта кажущ а я с я простота. Откуда возникают иллюзии монетарной системы? Из того,
что она видела в золоте и серебре, как д е н ь г а х , не выражение общественнопроизводственного отношения, но лишь форму естественных вещей с очень
странными и общественными свойствами. А возьмите современную политическую экономию, которая с таким величавым пренебрежением посматривает
• на монетарную систему: разве ее фетишизм не становится совершенно осязательным, как только она начинает исследовать капитал? Давно ли исчезла
иллюзия физиократов, что земельная рента вырастает из земли, а не из общества?». «Капитал», т. I, стр. 48—49, рус. изд.
1
2
же точку зрения, как и при объяснении истории: точку зрения отношений людей в процессе производства. По этому можно судить
об интеллектуальном уровне людей, в особенности многочисленных в современной России, которые «признают» экономические
теории Маркса и «отвергают» его исторические взгляды.
Тот, кто понял, что такое диалектический метод материализма
Маркса, может судить также о научном значении время от времени
поднимающихся споров о том, каким методом пользовался Маркс
в своем «Капитале»—• индуктивным или дедуктивным.
Метод Маркса—одновременно и индуктивен, и дедуктивен, но
сверх того он самый революционный из всех методов, какие когда-либо применялись.
«В своей мистификационной форме диалектика стала модной
в Германии, так как, повидимому, давала возможность набросить
покрывало на существующее положение вещей. В своей рациональной форме диалектика внушает буржуазии и ее доктринерамидеологам лишь злобу и ужас, так как в позитивное понимание существующего она включает в то же время понимание его отрицания, его необходимой гибели, каждую осуществленную форму,
рассматриваёт в движении, следовательно, также и с ее преходящей стороны, так как она ни перед чем не преклоняется и по
самому существу своему критична и революционна \
Гольбах, один из самых революционных представителей французской философии XVIII в., испугался погони за рынками,
без которых не может существовать современная буржуазия. Он
охотно остановил бы историческое развитие в этом отношении.
Маркс приветствует эту погоню за рынками, эту жажду прибыли,
как силу, разрушающую существующий порядок вещей, как предпосылку эмансипации (освобождения) человечества.
«Буржуазия не может существовать, не вызывая постоянных
переворотов в орудиях производства, а следовательно к в отношениях производства, а следовательно, и во всех общественных отношениях. Неизменное сохранение старого способа производства
было, напротив, первым условием существования всех предшествоваших ей промышленных классов. Постоянные перевороты в производстве, непрерывное потрясение всех общественных отношений, вечное движение и вечная неуверенность отличают буржуазную эпоху от всех предшествовавших. Все прочные, заржавелые
отношения, с соответствующими им, исстари установившимися воззрениями и представлениями, разрушаются, все, вновь образовавшиеся, оказываются устарелыми, прежде, чем успевают окостенеть.
Все сословное и неподвижное испаряется; все священное оскверняется, и люди вынуждаюся, наконец, взглянуть трезвыми глазами на
свои взаимные отношения и свое жизненное положение... Своей
эксплоатацией мирового рынка буржуазия преобразовала в кос1
«Капитал», I, преднсл. ко II изд., 29 стр, русск, изд., 1909 г.
мополитическом духе производство и потребление всех стран. Прежняя местная и национальная замкнутость и самодовление уступают место всестороннему обмену и всесторонней взаимной зависимости народов. И как в области материального» так и в области
духовного производства. Плоды умственной деятельности от
дельных наций становятся общим достоянием. Национальная односторонность и ограниченность становятся теперь все более и
более невозможными; и из многих национальных местных литератур образуется одна всемирная литература» \
Борясь с феодальной собственностью, французкие материалисты пели хвалу буржуазной собственности, которая, по их мнению, была сокровенной душой всякого человеческого
общества.
Они видели только одну сторону дела. Они считали буржуазную
собственность плодом труда самого собственника. Маркс показывает, где кончается имманентная диалектика буржуазной собственности:
«Средняя цена наемного труда есть минимум заработной платы, т.-е. сумма жизненных средств, необходимая для поддержания жизни рабочих. Таким образом, того, что приобретает рабочий своей деятельностью, только хватает для поддержки его
существования . В вашем теперешнем обществе частная собственность уже уничтожена для °І10 населения. Она существует~именно
потому, что не существует для этих 9/*° 2.
Как ни революционны были французкие материалисты, они
обращались только к просвещенной буржуазии и к «философствующим» дворянам, перешедшим в лагерь буржуазии. Они обнаруживали непреодолимую боязнь перед «чернью», народом, «невежественной толпой», но буржуазия была и могла быть только наполовину революционной.
Маркс обращается к пролетариату, революционному классу в полном смысле этого слова.
«Все предшествующие пролетариату классы, достигая господства,старались упрочить уже приобретенное ими общественное
положение, ставя все общество в условия, наиболее благоприятные для их обогащения. Пролетарии же могут овладеть общественными производительными силами только тогда, когда уничтожат свой собственный, а вместе с тем и все современные способы
приобретения имущества. Пролетариям нечего упрочивать; они
должны, напротив, разрушать все упрочившиеся способы частного обогащения и частного обеспечения 3.
1 «Манифест
комм, партии», рус. пер., под ред. Д . Рязанова, изд:
МКРКП, 1922 г., гл. I, стр. 22—23.
2 Там же, гл, II, стр. 38—40. Закон заработной платы, о котором
здесь
говорит Маркс, более точно формулирован им в «Капитале»: он показывает,
там, что в действительности он еще более неблагоприятен для пролетария. Но
сказанного в «манифесте» достаточно, чтобы разрушить иллюзию, которую
X I X в унаследовал от своего предшественника, вернее своих предшественников.
і
I
3 «Манифест»,
гл. I, стр. 33.
В своей борьбе с существовавшим тогда социальным порядком материалисты апеллировали к «сильным мира сего», к «просвещенным государям». Они старались показать им, что их теории,
в сущности, совсем безвредны. Маркс и марксисты занимают по
отношению к «сильным мира сего» другую позицию.
«Коммунисты считают излишним скрывать свои взгляды и свои
намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного ниспровержения всего современного общественного строя.
Пусть господствующие классы содрогаются перед коммунистической революцией. Пролетарии могут потерять в ней только
свои цепи. Приобретут же они целый мир» 1.
Вполне понятно, что подобное учение не могло встретить благоприятного приема у «сильных мира сего». Буржуазия в наши
дни стала реакционным классом: она стремится «повернуть назад
колесо истории». Бе идеологи уже более не в состоянии понять
огромное научное значение открытий Маркса. Зато пролетариат
пользуется его исторической теорией как надежным путеводителем в своей борьбе за освобождение. Эта теория, пугающая буржуазию якобы присущим ей фатализмом, вливает в пролетариат
беспримерную энергию.
(«Очерки по истории материализма»).
Неизбежная смерть религии.
Научное объяснение феноменов может быть только материалистическим. Вмешательство духовных существ, которое в глазах
дикаря объясняет все явления, ничего не объясняет в глазах
Бертло; значение такого объяснения падает для каждого цивилизованного человека по мере того, как он усваивает результаты
работы науки.
Если многие верят еще в существование духов и сверхъестественных существ, то это потому, что по разным причинам они не
смогли победить препятствий по пути к научной точке зрения.
Когда препятствия эти будут устранены,— а все заставляет
думать, что это будет делом социальной эволюции,— исчезнет всякий след супранатуралистической концепции, а мораль вынуждена
будет занять свое независимое место. Религия, в максимальном
смысле этого слова, отживает. Что касается религиозного чувства, то очевидно, что оно исчезнет вместе с разложением религиозной идеи. Но в чувствах конечно больше консерватизма, чем
в идеях. Могут и будут иметь место различные пережитки, народятся ублюдочные концепции мира, полуматериалистические, полуспиритуалистические.
1
«Манифест», гл. IV, стр. 65-
Но и пережитки эти осуждены на исчезновение в свой черед,
в особенности по исчезновении некоторых социальных учреждений, якобы санкционированных религией.
Прогресс человечества несет с собой смертный приговор и
религиозной идее и религиозному чувству. Только робкие или заинтересованные выражают опасение за судьбу морали. Мораль,
повторяю, способна вести самостоятельное существование.
Вера в духовные существа даже и теперь далека от того,
чтобы быть опорой морали. Напротив, религиозные верования
цивилизованных наций нашего времени в большинстве случаев
отстали от их морального развития. Клиффард справедливо замечает: «Если бы люди не были лучше своих религий, мир был бы
адом».
(«Ответ на анкету»),
ВЛАДИМИР' ИЛЬИЧ ЛЕНИН.
1,
Пролетариат и религия.
Речь депутата Суркова в Государственной думе при обсуждении сметы синода и прения в нашей думской фракции при обсуждении проекта этой речи... подняли чрезвычайно важный и злободневный как-раз в настоящее время вопрос. Интерес ко всему,
что связано с религией, несомненно охватил ныне широкие круги
«общества» и проник в ряды интеллигенции, близкой к рабочему
движению, а также в известные рабочие круги. Социал-демократия
безусловно обязана выступить с изложением своего отношения
к религии.
Социал-демократия строит все свое миросозерцание на научном социализме, т. е. марксизме. Философской основой марксизма,
как неоднократно заявляли и Маркс и Энгельс, является диалектический материализм, вполне воспринявший исторические традиции
материализма XVIII в. во Франции и Фейербаха (первая половина
XIX в.) в Германии,— материализма безусловно атеистического,
решительно враждебного всякой религии. Напомним, что весь
«Анти-Дюринг» Энгельса, прочтенный в рукописи Марксом, изобличает материалиста и атеиста Дюринга в невыдержанности его
материализма, в оставлении им лазеек религии и религиозной
философии. Напомним, что в своем сочинении о Людвиге Фейербахе Энгельс ставит в упрек ему то, что он боролся с религией не
ради уничтожения ее, а ради подновления, сочинения новой, «возвышенной» религии и т. п. Религия есть опиум народа,—- это изречение Маркса есть краеугольный камень всего миросозерцания
марксизма в вопросе о религии. Все современные религии и церкви,
все и всяческие религиозные организации марксизм рассматривает
Хретоматня по истории атеизма
20
всегда как органы буржуазной реакции, служащие защите эксплуатации и одурманению рабочего класса.
И в то же время однако Энгельс неоднократно осуждал попытки людей, желавших быть «левее» или «революционнее» социал-демократии, внести в программу рабочей партии прямое признание атеизма в смысле объявления войны религии. В 1874 г.,
говоря о знаменитом манифесте беглецов Коммуны, бланкистов,
живших в качестве эмигрантов в Лондоне, Энгельс трактует как
глупость их шумливое провозглашение войны религии, заявляя,
что такое объявление войны есть лучший способ оживить интерес
к религии и затруднить действительное отмирание религии. Энгельс ставит в вину бланкистам неумение понять то, что только
классовая борьба рабочих масс, всесторонне втягивая самые широкие слои пролетариата в сознательную и революционную общественную практику, в состоянии на деле освободить угнетенные
массы от гнета религии, тогда как провозглашение политической
задачей рабочей партии войны с религией есть анархическая фраза.
И в 1877 г. в «Анти-Дюринге», беспощадно травя малейшие уступки
Дюринга- философа идеализму и религии, Энгельс не менее решительно осуждает якобы революционную идею Дюринга о запрещении религии в социалистическом обществе. Объявлять подобную
войну религии значит,—говорит Энгельс,—перебисмаркить самого Бисмарка», т. е. повторить глупость бисмарковской борьбы
с клерикалами (пресловутая «борьба за культуру», Kulturkampf,
т. е. борьба Бисмарка в 70-х годах против германской партии католиков, партии «центра», путем полицейских преследований католицизма). Такой борьбой Бисмарк только укрепил воинствующий
клерикализм католиков, только повредил делу действительной
культуры, ибо выдвинул на первый план религиозные деления
вместо делений политических, отвлек внимание некоторых слоев
рабочего класса и демократии от насущных задач классовой и
революционной борьбы в сторону самого поверхностного и буржуазно-лживого антиклерикализма. Обвиняя желавшего быть ультрареволюционным Дюринга в желании повторить в иной форме
ту же глупость Бисмарка, Энгельс требовал от рабочей партии
умения терпеливо работать над делом организации и просвещения
пролетариата, делом, ведущим к отмиранию религии, а не бросаться в авантюры политической войны с религией. Эта точка
зрения вошла в плоть и кровь германской социал-демократии, высказывавшейся, например, за свободу для иезуитов, за допущение
их в Германию, за уничтожение всяких мер полицейской борьбы
с той или иной религией. «Объявление религии частным делом» —
этот знаменитый пункт Эрфуртской программы (1891 г.) 1 закрепил
указанную политическую тактику социал-демократии.
1 Эрфуртская
программа—программа немецкой социал-демократии, утвержденная на партейтаге (съезде) в Эрфурте в 1891 г.
Эта тактика успела уже теперь стать рутинной, успела породить новое искажение марксизма в обратную сторону, в сторону
оппортунизма. Стали толковать положение Эрфуртской программы
в том смысле, что мы, социл-демократы, и наша партия считаем
религию частным делом, что для нас, как социал-демократов, для
нас, как партии, религия есть частное дело. Не вступая в прямую
полемику с этим оппортунистическим взглядом, Энгельс в 90-х годах счел необходимым решительно выступить против него не
в полемической, а в позитивной форме. Именно, .Энгельс сделал это
в форме заявления, нарочно им подчеркнутого, что социал-демократия считает религию частным делом по отношению к государству, а отнюдь не по отношению к себе, не по отношению к марксизму, не по отношению к рабочей партии.
Такова внешняя история выступлений Маркса и Энгельса по
вопросу о религии. Для людей, неряшливо относящихся к марксизму, для людей, не умеющих или не желающих думать, эта
история есть комок бессмысленных противоречий и шатаний марксизма: какая-то, дескать, каша из «последовательного» атеизма
и «поблажек» религии, какое-то «беспринципное» колебание между
р-р-революционной войной с богом и трусливым желанием «подделаться» к верующим рабочим, боязнью отпугнуть их и т. д. и т. п.
В литературе анархических фразеров можно найти немало выходок против марксизма в этом вкусе.
Но кто сколько-нибудь способен серьезно отнестись к марксизму, вдуматься в его философские основы и в опыт международной социал-демократии, тот легко увидит, что тактика марксизма
по отношению к религии глубоко последовательна и продумана
Марксом и Энгельсом, что то, что дилетанты или невежды считают шатаниями, есть прямой и неизбежный вывод из диалектического материализма. Глубоко ошибочно было бы думать, что
кажущаяся «умеренность» марксизма по отношению к религии
объясняется так называемыми «тактическими» соображениями
в смысле желания «не отпугнуть» и т. п. Напротив, политическая
линия марксизма и в этом вопросе неразрывно связана с его философскими основами.
Марксизм есть материализм. В качестве такового, он так же
беспощадно враждебен религии, как материализм энциклопедистов XVIII в. или материализм Фейербаха. Это несомненно. Но
диалектический материализм Маркса и Энгельса идет дальше энциклопедистов и Фейербаха, применяя материалистическую философию к области истории, к области общественных наук. Мы
должны бороться с религией. Это — азбука всего материализма и
следовательно марксизма. Но марксизм не есть материализм, остановившийся на азбуке. Марксизм идет дальше. Он говорит: надо
уметь бороться с религией, а для этого надо материалистически
объяснить источник веры и религии у масс. Борьбу с религией
нельзя ограничивать абстрактно-идеологической проповедью,
нельзя сводить к такой проповеди, эту борьбу надо поставить
в связь с конкретной практикой классового движения, направленного к устранению социальных корней религии. Почему держится
религия в отсталых слоях городского пролетариата, в широких
слоях полупролетариата, а также в массе крестьянства? По невежеству народа, отвечает буржуазный прогрессист, радикал или
буржуазный материалист. Следовательно долой религию, да здравствует атеизм, распространение атеистических взглядов есть главная ндша задача. Марксист гоцррит: неправда. Такой взгляд есть
поверхностное, буржуазно-ограниченное культурничество. Такой
взгляд недостаточно глубоко, не материалистически, а идеалистически объясняет корни религии. В современных капиталистических
странах это корни главным образом социальные. Социальная придавленность трудящихся масс, кажущаяся полная беспомощность
их перед слепыми силами капитализма, который причиняет ежедневно и ежечасно в тысячу раз больше самых ужасных страданий, самых диких мучений рядовым рабочим людям, чем всякие
из ряда вон выходящие события, вроде войн, землетрясений
и т. д.,— вот в чем самый глубокий современный корень религии.
«Страх создал богов». Страх перед слепой силой капитала, которая слепа, ибо не может быть предусмотрена массами народа, ю>
торая на каждом шагу жизни пролетария и мелкого хозяйчика
грозит принести ему и приносит «внезапное», «неожиданное»,
«случайное» разорение, гибель, превращение в нищего, в паупера,
в проститутку, голодную смерть,— вот тот корень современной
религии, который прежде всего и больше всего должен иметь
в виду материалист, если он не хочет оставаться материалистом
приготовительного класса. Никакая просветительная книжка не
вытравит религии из забитых капиталистической каторгой масс,
зависящих от слепых разрушительных сил капитализма, пока эти
массы сами не научатся объединенно, организованно, планомерно,
сознательно бороться против этого корня религии, против господства капитала во всех формах. Следует ли из этого, что просветительная книжка против религи вредна или излишня? Нет. Из этого следует совсем не это.
Из этого следует, что атеистическая пропаганда социал-демократии должна быть подчинена ее основной задаче: развитию классовой борьбы эксплоатируемых масс против эксплоататоров.
Человек, не вдумавшийся в основы диалектического материализма, т. е. философии Маркса и Энгельса, может, не понять (или
по крайней мере сразу не понять) этого положения. Как это так?
Подчинить идейную пропаганду, проповедь известных идей,
борьбу с тем врагом культуры и прогресса, который держится
тысячелетия (т. е. с религией),— классовой борьбе, т. е. борьбе за
определенные практические цели в экономической и политической
области?
Подобное возражение принадлежит к числу ходячих возра-
жений против марксизма, свидетельствующих о полном непонимании Марксовой диалетики. Противоречие, смущающее тех, кто
возражает подобным образом, есть живое противоречие живой
жизни, т. е. диалектическое, не словесное, не выдуманное противоречие. Отделять абсолютной, непереходимой гранью теоретическую
пропаганду атеизма, т. е. разрушение религиозных верований у
известных слоев пролетариата, и успех, ход, условия классовой
борьбы этих слоев — значит рассуждать не диалектически, превращать в абсолютную грань то, что есть подвижная, относительная грань, значит насильственно разрывать то, что неразрывно
связано в живой действительности. Возьмем пример. Пролетариат
данной области и данной отрасли промышленности делится, положим, на передовой слой довольно сознательных социал-демократов, которые являются, разумеется, атеистами, и довольно отсталых, связанных еще с деревней и крестьянством рабочих, которые
веруют в бога, ходят в церковь или даже находятся под прямым
влиянием местного священника, основывающего, допустим, христианский рабочий союз. Положим, далее, что экономическая
борьба в такой местности привела к стачке. Для марксиста обязательно успех стачечного движения поставить на первый план, обязательно решительно противодействовать разделению рабочих
в этой борьбе на атеистов и христиан, решительно бороться против
такого разделения. Атеистическая проповедь может оказаться при
таких условиях и излишней и вредной — не с точки зрения обывательских соображений о неотпугивании отсталых слоев, о потере:
мандата на выборах и т. п., а с точки зрения действительного про-,
гресса классовой борьбы, которая в обстановке современного капиталистического общества во сто раз лучше приведет христианрабочих к социал-демократии и к атеизму, чем голая атеистическая
проповедь. Проповедник атеизма в такой момент и при такой
обстановке сыграл бы только наруку попам, которые ничего так
не желают, как замены деления рабочих по участию в стачке
делением по вере в бога. Анархист, проповедуя войну с
богом во что бы то ни стало," на деле помог бы попам и буржуазии (как и всегда анархисты на деле помогают буржуазии). Марксист должен быть материалистом, т. е. врагом религии, но материалистом диалектическим, т. е. ставящим дело борьбы с религией
пе абстрактно, не на почву отвлеченной, чисто теоретической,
всегда себе равной проповеди, а конкретно, на почву классовой
борьбы, идущей на деле и воспитывающей массы больше всего и
лучше всего. Марксист должен уметь учитывать вещ конкретную
обстановку, всегда находить границу между анархизмом и оппортунизмом (эта граница относительна, подвижна, переменна, но
она существует), не впадать ни в абстрактный, словесный, на деле
пустой «революционаризм» анархизма, ни в обывательщину и
оппортунизм мелкого буржуа или либерального интеллигента, который трусит борьбы с религией, забывает об этой своей задаче,
мирится с верой в бога, руководится не интересами классовой
борьбы, а мелким, мизерным расчетцем: не обидеть, не оттолкнуть,
не испугать, премудрым правилом: «живи и жить давай другим»,
и т. д. и т. п.
С указанной точки зрения следует решать все частные вопросы, касающиеся отношения социал-демократии к религии. Например часто выдвигается вопрос, может ли священник быть членом социал-демократической партии, и обыкновенно отвечают на
этот вопрос без всяких оговорок положительно, ссылаясь на опыт
европейских социал-демократических партий. Но этот опыт порожден не только применением доктрины марксизма к рабочему
движению, а и особыми историческими условиями Запада, отсутствующими в России (мы скажем ниже об этих условиях), T£fk что
безусловный положительный ответ здесь не верен. Нельзя раз
навсегда и для всех условий объявить, что священники не могут
быть членами социал-демократической партии, но нельзя раз навсегда выставить обратное правило. Если священник идет к нам
для совместной политической работы и выполняет добросовестно
партийную работу, не выступая против программы партии, то мы
можем принять его в ряды социал-демократии, ибо противоречие
духа и основ нашей программы с религиозными убеждениями священника могло бы остаться при таких условиях тблько его
касающимся, личным его противоречием, а экзаменовать своих членов насчет отсутствия противоречия между их взглядами и программой партии политическая организация не может. Но разумеется подобный случай мог бы быть редким исключением даже
в Европе, а в России он и совсем уже мало вероятен. И если бы,
например, священник вошел в партию социал-демократов и стал
вести в этой партии, как свою главную и почти единственную
работу, активную проповедь религиозных воззрений, то партия
безусловно " должна бы была исключить его из своей среды. Мы
должны не только допускать, но и сугубо привлекать всех рабочих, сохраняющих веру в бога, в социал-демократическую партию,
мы безусловно против малейшего оскорбления их религиозных
убеждений, но мы привлекаем их для воспитания в духе нашей
программы, а не для активной борьбы с ней. Мы допускаем внутри
партии свободу мнений, но в известных границах, определяемых
свободой группировки: мы не обязаны итти рука об руку с активными проповедниками взглядов, отвергаемых большинством
партии.
Другой пример: можно ли при всех условиях одинаково осуждать членов социал-демократической партии из-за заявления —
«социализм есть моя религия» и. за проповедь взглядов, соответствующих подобному заявлению? Нет. Отступление от марксизма
(а следовательно и от социализма) здесь несомненно, но значение
этого отступления, его, так сказать, удельный вес могут быть различны в различной обстановке. Одно дело, если агитатор или
человек, выступающий перед рабочей массой, говорит так, чтобы
быть понятнее, чтобы начать изложение, чтобы реальнее оттенить
свои взгляды в терминах, наиболее обычных для неразвитой массы.
Другое дело, если писатель начинает проповедывать «богоискательство» или богостроительский социализм (в духе, например,
наших Луначарского и К°). Насколько в первом случае осуждение
могло бы быть придиркой или даже неуместным стеснением свободы агитатора, свободы «педагогического» воздействия, настолько во втором случае партийное осуждение необходимо и
обязательно. Положение «социализм есть религия» для одних есть
форма перехода от религии к социализму, для других — от социализма к религии.
Перейдем теперь к тем условиям, которые породили на Западе
оппортунистическое толкование тезиса: «объявление религии частным делом». Конечно есть тут влияние общих причин, порождающих оппортунизм вообще как принесение в жертву минутным
выгодам коренных интересов рабочего движения. Партия пролетариата требует от государства объявления религии частным делом, отнюдь не считая «частным делом» вопроса борьбы с опиумом
народа, борьбы с религиозными суевериями и т. д. Оппортунисты
"извращают дело таким образом, как-будто бы социал-демократическая партия считала религию частным делом!
Но, кроме обычного оппортунистического извращения (совершенно не разъясненного в прениях, которые вела наша думская
фракция при обсуждении выступления о религии), есть особые
исторические условия, вызвавшие современное, если можно так
выразиться, чрезмерное равнодушие европейских социал-демократов к вопросу о религии. Это условия двоякого рода. Во-первых,
задача борьбы с религией есть исторически задача революционной
буржуазии, и на Западе эту задачу в значительной степени выполнила (или выполняла) буржуазная демократия в эпоху своих революций или своих натисков на феодализм и средневековье. И во
Франции и в Германии есть традиция буржуазной войны с религией, начатой-задолго до социализма (энциклопедисты, Фейербах).
В России, соответственно условиям нашей буржуазно-демократической революции, и эта задача ложится почти всецело на плечи
рабочего класса. Мелкобуржуазная (народническая) демократия
сделала в этом отношении у нас не слишком много (как думают
новоявленные черносотенные кадеты или кадетские черносотенцы
из «Вех») S а слишком мало по сравнению с Европой.
С другой стороны, традиция буржуазной войны с религией
успела создать в Европе специфически буржуазное извращение
этой войны анархизмом, который стоит, как давно уже и много1
.Вехи" — сборник статей кающихся после .революционного угара*
1905—1907 гг. интеллигентов, бывших марксистов, Бумакова, Бердяева, II. Струве
и других.
кратно разъясняли марксисты, на почве буржуазного мировоззрения при всей «ярости» своих нападок на буржуазию. Анархисты
и бланкисты в романских странах, Мост (бывший между прочим
учеником Дюринга) и К° в Германии, анархисты в 80-х годах
в Австрии довели до nes plus ultra революционную фразу в борьбе
с религией. Неудивительно, что европейские социал-демократы
теперь перегибают палку, согнутую анархистами. Это понятно,
и в известной мере законно, но забывать об особых исторических
условиях Запада, нам, русским социал-демократам не годится.
Во-вторых, на Западе после окончания национальных буржуазных революций, после введения более или менее полной свободы вероисповедания, вопрос демократической борьбы с религией
настолько уже был исторически оттеснен на второй план борьбой
буржуазной демократии с социализмом, что буржуазные правительства сознательно пробовали отвлечь внимание масс от социализма устройством quasi-либерального «похода» на клерикализм. Такой характер носили и Kulturkampf в Германии и борьба
с клерикализмом буржуазных республиканцев Франции. Буржуазный антиклерикализм, как средство отвлечения внимания рабочих
масс от социализма,— вот что предшествовало на Западе распространению среди социал-демократов современного их «равнодушия» к борьбе с религией. И опять-таки это понятно и законно,
ибо буржуазному и бисмаркианскому антиклерикализму социалдемократы должны были противопоставлять именно подчинение
борьбы с религией борьбе за социализм.
В России условия совсем иные. Пролетариат есть вождь нашей
буржуазно-демократической революции. Его партия должна быть
идейным вождем в борьбе со всяким средневековьем, а в том числе
и со старой казенной религией и со всеми попытками обновить
ее или обосновать заново или по-иному и т. д. Поэтому, если Энгельс сравнительно мягко поправлял оппортунизм немецких социал-демократов, подменявших требование рабочей партии, чтобы
государство объявило религию частным делом, объявлением религии частным делом для самих социал-демократов и социал-демократической партии,— то понятно, что перенимание русскими
оппортунистами этого немецкого извращения заслужило бы во сто
раз более резкое осуждение Энгельса.
Заявив с думской трибуны, что религия есть опиум народа,
наша фракция поступила вполне правильно и создала таким образом прецедент, который должен послужить основой для всех
выступлений русских социал-демократов по вопросу о религии.
Следовало ли итти дальше, развивая еще подробнее атеистические
выводы? Мы думаем, что нет. Это могло бы грозить преувеличением борьбы с религией со стороны политической партии пролетариата;-это могло бы вести к стиранию грани между буржуазной
и социалистической борьбой с религией. Первое, что должна была
выполнить социал-демократическая фракция в черносотенной Думе,
было с честью выполнено.
Второе — и едва ли не главное для социал-демократов — разъяснение классовой роли церкви и духовенства в поддержке черносотенного правительства и буржуазии в ее борьбе с рабочим классом— равным образом выполнено было с честью. Конечно на эту
тему можно еще сказать очень многое, и последующие выступления социал-демократов найдут, чем дополнить речь т. Суркова, но
все же речь его была превосходна, и распространение ее всеми
партийными организациями есть прямая обязанность нашей
партии.
Третье — следовало со всей обстоятельностью разъяснить правильный смысл столь часто искажаемого немецкими оппортунистами положения: «объявление религии частным делом». Этого,
к сожалению, т. Сурков не сделал. Это тем более жаль, что в предыдущей деятельности фракцией была уже допущена по этому
вопросу своевременно отмеченная «Пролетарием» ошибка т. Белоусова. Прения во фракции показывают, что спор об атеизме заслонил от нее вопрос о правильном изложении пресловутого требования объявления религии частным делом. Мы не будем винить за
эту ошибку всей фракции одного т. Суркова. Мало того. Признаем
прямо, что тут есть вина всей партии, недостаточно разъяснявшей
этот вопрос, недостаточно подготовившей в сознании социал-демократов значение энгельсовского замечания по адресу немецких
оппортунистов. Прения во фракции доказывают, что это было
именно неясное понимание вопроса, а отнюдь не нежелание считаться с учением Маркса, и мы уверены, что ошибка будет исправлена в последующих выступлениях фракции.
В общем и целом, повторяем, речь т. Суркова превосходна и
должна быть распространяема всеми организациями. Обсуждением
этой речи фракция доказала вполне добросовестное исполнение
ею Увоего социал-демократического долга. Остается пожелать,
чтобы корреспонденции о прениях внутри фракции чаще появлялись в партийной печати для сближения фракции с пар-Гией, для
ознакомления партии с тяжелой внутренней работой, проделываемой фракциею для установления идейного единства в деятельности
партии и фракции.
(«Об отношении рабочей партии к религии». Собр.
соч., т. XI, ч. I, стр. 250—260, Г из, М., 1923, первонач.:
«Пролетарий», Же 45, 1909 г.).
2.
Частное ли дело религия?
Современное общество все построено на эксплоатации громадных масс рабочего класса ничтожным меньшинством населения, принадлежащим к классам землевладельцев и капиталистов.
Это общество — рабовладельческое, ибо «свободные» рабочие, всю
жизнь работающие на капитал, «имеют право» лишь на такие
средства к существованию, которые необходимы для содержания
рабов, производящих прибыль, для обеспечения и увековечения
капиталистического рабства.
Экономическое угнетение рабочих неизбежно вызывает и порождает всякие виды угнетения политического, принижения социального, огрубения и затемнения духовной и нравственной жизни
масс. Рабочие могут добиться себе большей или меньшей политической свободы в борьбе за свое экономическое освобождение, но
никакая свобода не избавит их от нищеты, безработицы и гнета,
пока не сброшена будет власть капитала. Религия есть один из
видов духовного гнета, лежащего везде и повсюду на народных
массах, задавленных вечной работой на других, нуждою и одиночеством. Бессилие эксплоатируемых классов в борьбе с эксплоататорами так же неизбежно порождает веру в лучшую загробную
жизнь, как бессилие дикаря в борьбе с природой порождает веру
в богов, чертей, в чудеса и т. п. Того, кто всю жизнь работает и
нуждается, религия учит смирению и терпению в земной жизни,
утешая надеждой на небесную награду. А тех, кто живет чужим
трудом, религия учит благотворительности в земной жизни, предлагая им очень дешевое оправдание для всего их эксгоюататорского существования и продавая по сходной цене билеты на небесное- благополучие. Религия есть опиум народа. Религия — род духовной сивухи, в которой рабы капитала топят свой человеческий
образ, свои требования на сколько-нибудь достойную человека
жизнь.
Но раб, сознавший свое рабство и поднявшийся на борьбу за
свое освобождение, наполовину перестает уже быть рабом. Современный сознательный рабочий, воспитанный крупной фабричной
промышленностью, просвещенный городской жизнью, отбрасывает
от себя с презрением религиозные предрассудки, предоставляет
небо в распоряжение попов и буржуазных ханжей, завоевывает
себе лучшую жизнь здесь на земле. Современный пролетариат
становится на сторону социализма, который привлекает науку
к борьбе с религиозным туманом и освобождает рабочего от веры
в загробную жизнь тем, что сплачивает его для настоящей борьбы
за лучшую земную жизнь.
Религия должна быть объявлена частным делом,— этими словами принято выражать обыкновенно отношение социалистов к религии. Но значение этих слов надо точно определить, чтобы они
не могли вызывать никаких недоразумений. Мы требуем, чтрбы
религия была частным делом по отношению к государству, но мы
никак не можем считать религию частным делом по отношению
к нашей собственной партии. Государству не должно быть дела до
религии, религиозные общества не должны быть связаны с государственной властью. Всякий должен быть совершенно свободен
исповедывать какую угодно религию или не признавать никакой
религии, т.'е. быть атеистом, каковым и бывает обыкновенно всякий социалист. Никакие различия между гражданами в их правах в зависимости от религиозных верований совершенно недопустимы. Всякие даже упоминания о том или ином вероисповедании
граждан в официальных документах должны быть безусловно
уничтожены. Не должно быть никакой выдачи государственной
церкви, никакой выдачи государственных сумм церковным и религиозным обществам, которые должны стать совершенно свободными, независимыми от власти союза граждан-единомышленников.
Только выполнение до конца этих требований может покончить
с тем позорным и проклятым прошлым, когда церковь была в крепостной зависимости от государства, а русские граждане были
в крепостной зависимости у государственной церкви, когда существовали и применялись средневековые, инквизиторские законы
(по сю пору остающиеся в наших уголовных уложениях "и уставах), преследовавшие за веру или за неверие, насиловавшие совесть человека, связывавшие казенные местечки и казенные доходы с раздачей той или иной государственно-церковной сивухи.
Полное отделение церкви от государства — вот то требование,
которое предъявляет социалистический пролетариат к современному государству и современной церкви.
Русская революция должна осуществить это требование как
необходимую составную часть политической свободы. Русская революция поставлена в этом отношении в особо выгодные условия,
ибо отвратительная казенщина политически-крепостнического самодержавия вызвала недовольство, брожение и возмущение даже
в среде духовенства. Как ни забито, как ни темно было русское
православное духовенство, даже его пробудил теперь гром падения старого, средневекового порядка на Руси. Даже оно примыкает к требованию свободы, протестует против казенщины и
чиновнического произвола, против полицейского сыска, навязанного «служителям бога». Мы, социалисты, должны поддержать это
движение, доводя до конца требования честных и искренних людей из духовенства, ловя их на словах о свободе, требуя от них,
чтобы они порвали решительно всякую связь между религией и
полицией. Либо вы искренни — и тогда вы должны стоять за полное отделение церкви от государства и школы от церкви, за полное и безусловное объявление религии частным делом; либо вы
не принимаете этих последовательных требований свободы,— и
тогда, значит, вы все еще в плену у традиций инквизиции, тогда,
значит, вы все еще примазываетесь к казенным местечкам и казенным доходам, тогда, значит, вы не верите в духовную силу
вашего оружия, вы продолжаете брать взятки с государственной
власти,— тогда сознательные рабочие всей России объявляют вам
беспощадную войну.
По отношению к партии социалистического пролетариата религия не есть частное дело. Партия наша есть союз сознательных
передовых борцов за освобождение рабочего класса. Такой союз
не может и не должен безразлично относиться к бессознательности, темноте или мракобесничеству в виде религиозных верований.
Мы требуем полного отделения церкви от государства, чтобы бороться с религиозным туманом чисто идейным и только идейным
оружием, нашей прессой, нашим словом. Но мы основали свой
союз, РСДРП, между прочим именно для такой борьбы против
всякого одурачения рабочих. Для нас идейная борьба — не частное,
а общепартийное, общепролетарское дело.
Если так, отчего мы не заявляем в своей программе, что мы
атеисты? Отчего мы не запрещаем христианам и верующим в бога
вступать в-нашу партию?
Ответ на этот вопрос должен разъяснить очень важную разницу в буржуазно-демократической и социал-демократической постановке вопроса о религии.
Наша программа вся построена на научном и притом именно
материалистическом мировоззрении. Разъяснение нашей программы необходимо включает поэтому и разъяснение истинных
исторических и экономических корней религиозного тумана. Наша
пропаганда необходимо включает и пропаганду атеизма, издание
соответственной научной литературы, которую строго запрещала
и, преследовала до сих самодержавно-крепостническая государственная власть и которая должна составить теперь одну из отраслей нашей партийной работы. Нам придется теперь вероятно
последовать совету, который дал однажды Энгельс немецким социалистам: перевод и массовое распространение французской просветительной и атеистической литературы XVIII в.
Но мы ни в коем случае не должны при этом сбиваться на
абстрактную, идеалистическую постановку религиозного вопроса
«от разума», вне классовой борьбы,— постановку, нередко даваемую радикальными демократами из буржуазии. Было бы нелепостью думать, что в обществе, основанном на бесконечном угнетении и огрубении рабочих масс, можно чисто проповедническим
путем рассеять религиозные предрассудки. Было бы буржуазной
ограниченностью забывать о том, что гнет религии над человечеством есть лишь продукт и отражение экономического гнета внутри общества. Никакими книжками и никакой проповедью нельзя
просветить пролетариат, если его не просветит его собственная
борьба против темных сил капитализма. Единство этой действительной революционной борьбы угнетенного класса за создание
рая на земле важнее для нас, чем единство мнений пролетариев
о рае на небе.
Вот почему мы не заявляем и не должны заявлять в нашей
программе о нашем атеизме; вот почему мы не запрещаем и не
должны запрещать пролетариям, сохранившим те или иные
остатки старых предрассудков, сближение с нашей партией. Проповедывать научное миросозерцание мы всегда будем, бороться
с непоследовательностью каких-нибудь «христиан» для нас необходимо, но это вовсе не значит, чтобы следовало выдвигать религиозный вопрос на первое место, отнюдь ему не поинадлежащее,
чтобы следовало допускать раздробление сил действительно революционной, экономической и политической борьбы ради третьестепенных мнений или бредней, быстро теряющих всякое политическое значение, быстро выбрасываемых в кладовую для хлама
самым ходом экономического развития.
Реакционная буржуазия везде заботилась и у нас начинает
теперь заботиться о том, чтобы разжечь религиозную вражду,
чтобы отвлечь в эту сторону внимание масс от действительно
важных и коренных экономических и политических вопросов,
которые решает теперь практически объединяющийся в своей революционной борьбе всероссийский пролетариат. Эта реакционная
политика раздробления пролетарских сил, сегодня проявляющаяся
главным образом в черносотенных погромах, завтра, может быть,
додумается и до каких-нибудь более тонких реформ. Мы во всяком случае противопоставим ей спокойную, выдержанную и терпеливую, чуждую всякого разжигания второстепенных разногласий
проповедь пролетарской солидарности и научного миросозерцания.
Революционный пролетариат добьется того, чтобы религия
стала действительно частным делом для государства. И в этом
очищенном от средневековой плесени политическом строе пролетариат поведет широкую, открытую борьбу за устранение экономического рабства, истинного источника религиозного одурачения человечества.
(«Социализм и религия». Собр. соч., т. VII, ч. 1,
стр. 47—51, М., Г из, 1924; первонач.: «Новая жизнь»,
№ 28, 1905 г.).
Поп и палач — столпы буржуазной цивилизации.
Все и всякие угнетающие классы нуждаются для охраны
своего господства в двух социальных функциях: в функции палача и в функци попа. Палач должен подавлять протест и возмущение угнетенных, поп должен рисовать им перспективы (это
особенно удобно делать без ручательства за «осуществимость»
таких перспектив) смягчения бедствий и жертв при сохранении
классового господства, а тем самым примирять их революционное
настроение, разрушать их революционную решительность.
(«Война и кризис II Интернационала»,
1915 г.).
4.
Против научной поповщины
... Религии возникли не беспричинно, держатся они в массе
народа при современных условиях вовсе не случайно, подлаживаются к ним профессора философии вполне «закономерно».
(«Материализм и эмпириокритицизм»).
4.
... Что «научная поповщина» идеалистической философии есть
простое преддверие прямой поповщины, в этом для И. Дицгена
не было и тени сомнения: «Научная поповщина,—писал он,—
серьезнейшим образом стремится пособить религиозной поповщине» 1. В особенности область теории познания, непонимание человеческого духа является такой «вшивой ямой» (Lausgrube), в которой «кладет яйца»- и та и другая поповщина. «Дипломированные
лакеи с речами об «идеальных благах», отупляющие народ при
помощи жеманного (geschraubter) идеализма» (53),— вот что такое
профессора философии для И. Дицгена. «Как у боженьки антипод—
дьявол, так у поповского профессора (Kathederpfaffen) — материалист». Теория познания материализма является «универсальным
оружием против религиозной веры»,—и не только против «всем
известной, настоящей, обыкновенной религии попов, но и против
очищенной, возвышенной профессорской религии опьянелый
(benebelter) идеалистов».
По сравнению с «половинчатостью» свободомыслящих профессоров Дицген готов был предпочесть «религиозную честность»—там «есть система», там есть есть люди цельные, не разрывающие теории и практики. «Философия не наука, а средство
защиты от социал-демократии» — для гг. профессоров. «Те, кто
зовут себя философами, профессора и приват-доценты, все тонут,
несмотря на свое свободомыслие, более или менее в предрассудках, в мистике... все составляют по отношению' к социал-демократии... одну реакционную массу». «Чтобы итти по верному пути, не
давая никаким религиозным и философским нелепостям (Welsch)
сбивать себя, надо изучать неверный путь неверных путей (den
Holzweg der Holzwege) — философию».
И посмотрите теперь, с точки зрения партий в философии,
на Маха и Авенариуса с их школой. О, эти господа хвалятся своей
беспартийностью, и если есть у них антипод, то только один и
только... материалист. Через все писания всех махистов красной
нитью проходит тупоумная претензия «подняться выше» мате1 См. .статью „Социал-демократическая
философия", написанную в 1876 г
»Kleinere philosophische Schriften", 1903, S . 51.
риализма и идеализма, превзойти это «устарелое» противоположение, а на деле вся эта братия ежеминутно оступается в идеализм,
ведя сплошную и неуклонную борьбу с материализмом. Утонченные гносеологические выверты какого-нибудь Авенариуса остаются профессорским измышлением, попыткой основать маленькую
«свою» философскую секту, а на деле, в общей обстановке борьбы
идей и направлений современного общества, объективная роль
этих гносеологических ухищрений одна и только одна: расчищать
дорогу идеализму и фидеизму, служить им верную службу. Не
случайность же в самом деле, что за маленькую школку эмпириокритиков хватаются и английские спиритуалисты вроде Уорда,
и французские неокритицисты, хвалящие Маха за борьбу с материализмом, и немецкие имманенты! Формула И. Дицгена — «дипломированные лакеи фидеизма» — не в бровь, а в глаз бьет Маха,
Авенариуса и всю их школу \
Несчастье русских махистов, вздумавших «примирять» махизм
с марксизмом, в том и состоит, что они доверились раз реакционным профессорам философии и, доверившись, покатились по наклонной плоскости. Приемы сочинения разных попыток развить
и дополнить Маркса были очень нехитры. Прочтут Оствальда, поверят Оствальду, перескажут Оствальда, назовут это марксизмом.
Прочтут Маха, поверят Маху, перескажут Маха, назовут это марксизмом. Прочтут Пуанкаре, поверят Пуанкаре, перескажут Пуанкаре, назовут это марксизмом! Ни единому из этих профессоров,
способных давать самые ценные работы в специальных областях
химии, истории, физики, нельзя верить ни в едином слове, раз речь
заходит о философии. Почему? По той же причине, по которой ни
единому профессору политической экономии, способному давать
самые ценные работы в области фактических, специальных исследований, нельзя верить ни в одном слове, раз речь заходит об
общей теории политической экономии. Ибо эта последняя — такая
1
Вот еще пример того, как широко распространенные течения реакционной буржуазной философии на деле используют махизм. Едва ли не „последней
модой" самоновейшей американской философии является „прагматизм" (от греческого pragma — дело, действие; философия действия). О прагматизме говорят
философские журналы едва ли не более всего. Прагматиз высмеивает метафизику
и материализма и идеализма, превозносит опыт и только опыт, признает единственным критерием практику, ссылается на позитивистское течение вообще, о п и р а е т с я с п е ц и а л ь н о на О с т в а л ь д а , М а х а , П и р с о н а ,
Пуанкаре
Д ю г е м а , на то, что наука не есть „абсолютная копия реальности", и... преблагрполучно выводит изо всего этого бога в целях практических, только для
практики, без всякой метафизики, без всякого выхода за пределы опыта. (Ср.
William J a m e s : „Pragmatism. A new name for some old ways of thinking".
N. Y . , X h., 1907, p. 57 и 106 особ.) Различия между махизмом и прагматизмом
так же ничтожны и десятистепенны с точки зрения материализма, как различия
между эмпириокритицизмом и эмпириомонизмом. Сравните хотя бы богдановское
и прагматистское определение истины: „истины для прагматиста есть родовое
понятие для всяческого рода определенных рабочих ценностей (working) (values)
в опыте" (ib., р. 68).
же партийная наука в современном обществе, как и
гносеология.
В общем и целом, профессора-экономисты не что иное, как ученые
приказчики класса капиталистов, и профессора философии — ученые приказчики теологов.
Задача марксистов и тут и там суметь усвоить себе и переработать те завоевания, которые делаются этими «приказчиками»
(вы не сделаете, например, ни шагу в области изучения новых
экономических явлений, не пользуясь трудами этих приказчиков),
и уметь отсечь их реакционную тенденцию, уметь вести свою
линию и бороться со всей лицией враждебных нам сил и классов.
Вот этого-то и не сумели наши махисты, рабски следующие за
реакционной профессорской философией. «Может быт, мы заблуждаемся, но мы ищем»,— писал от имени авторов «Очерков» Луначарский. Не вы ищете, а вас ищут, вот в чем беда! Не вы подходите с вашей, т. е. марксистской (ибо вы желаете быть марксистами), точки зрения к каждому повороту буржуазно-философской
моды, а к вам подходит эта мода, вам навязывает она свои новые
подделки во вкусе идеализма, сегодня à la Оствальд, завтра à la
Мах, послезавтра à la Пуанкаре. Te глупенькие «теоретические»
ухищрения (с «энергетикой», с «элементами», «интроекцией»
и т. п.), которым вы наивно верите, остаются в пределах узенькой,
миниатюрной школки, а идейная и общественная тенденция этих
ухищрений улавливается сразу Уордами, неокритицистами, имманентами, Лопатиными, прагматистами и служит свою
службу.
Увлечение эмпириокритицизмом и «физическим» идеализмом так
же быстро проходит, как увлечение неокантианством и «физиологическим» идеализмом, а фидеизм с каждого такого увлечения
берет себе добычу, на тысячи ладов видоизменяя свои ухищрения
в пользу философского идеализма.
Отноішение к религии и отношение к естествознанию превосходно иллюстрирует это действительное классовое использование
буржуазной реакцией эмпириокритицизма.
Возьмите первый вопрос. Не полагаете ли вы, что это случайность, если в коллективном труде против философии марксизма
Луначарский договорился до «обожествления высших человеческих потенций», до «религиозного атеизма» 1 и т. п.? Если -вы
полагаете так, то исключительно в силу того, что русские махисты
неверно осведомили публику насчет всего махистского течения
в Европе и отношения этого течения к религии. Не только нет
в этом отношении ничего подобного отношению Маркса, Энгельса
и Дицгена, даже Фейербаха, а есть прямо обратное, начиная с заявлений Петцольдта: эмпириокритицизм «не противоречит ни
теизму, ни атеизму» («Einführung in die Philosophie der reinen
1 „Очерки*, стр. 157, 159. В „Загр. газ.* тот же автор говорит о „научном
социализме в его религиозном значении* (№ 3, стр. 5), а в „Образовании", 1908
№ 1, стр. 164, он прямо пишет: „Давно зреет во мне новая религия"...
Erfahrung», I, 351) или Маха: «религиозные мнения—частное дело»
(фр. пер., стр. 434) и кончая прямым фидеизмом, прямым черносотенством и Корнелиусом, который расхваливает Маха и которого
расхваливает Мах, и Каруса, и всех имманентов. Нейтральность
философа в этом вопросе уже есть лакейство перед фидеизмом,
а дальше нейтральности не поднимаются и не могут подняться
Мах и Авенариус в силу исходных пунктов своей гносеологии.
Раз вы отрицаете объективную реальность, данную нам в ощущении, вы уже потеряли всякое оружие против фидеизма, ибо
вы уже скатились к агностицизму или субъективизму, а это для
него только и нужно. Если чувственный мир есть объективная
реальность,— всякой другой «реальности» или квази-реальности
(вспомните, что Базаров поверил «реализму» имманентов, объявляющих бога «реальным понятием») закрыта дверь. Если мир есть
движущаяся материя,—• ее можно и должно бесконечно изучать
в бесконечно сложных и детальных проявлениях и разветвлениях
этого движения, движения этой материи, но вне ее, вне «физического», внешнего мира, знакомого всем и каждому, ничего быть
не может. И вражда к материализму, тучи клевет на материалистов— все это в цивилизованной и демократической Европе порядок дня. Все это продолжается до сих пор. Все это скрывается от
публики русскими махистами, которые ни единого раза не попытались просто даже сопоставить выходок против материализма
Маха, Авенариуса, Петцольдта и К° с заявлениями в пользу материализма Фейербаха, Маркса, Энгельса, И. Дицгена.
Но «укрывательство» отношений Маха и Авенариуса к фидеизму ничему не поможет. Факты говорят за себя. Никакие усилия
в мире не оторвут этих реакционных профессоров от того позорного столба, к которому пригвоздили их поцелуи Уорда, неокритицистов, Шуппе, Шуберта-Зольдерна, Леклера, прагматистов и т. д.
VL влияние названных сейчас лиц, как философов и профессоров,
распространенность их идей в «образованной», т. е. буржуазной,
публике, специальная литература, созданная ими, вдесятеро шире
и богаче, чем специальная школка Маха и Авенариуса. Школка служит, кому надо. Школкой пользуются, как надо.
Позорные вещи, до которых опустился Луначарский — не
исключение, а порождение эмпириокритицизма — и русского и
немецкого. Нельзя защищать их «хорошими намерениями» автора,
«особым смыслом» его слов: будь это прямой и обычный, т. е. непосредственно фидеистический смысл, мы не стали бы и разговаривать с автором, ибо не нашлось бы наверное ни одного марксиста, для которого подобные заявления не приравнивали бы всецело Анатолия Луначарского к Петру Струве. Если этого нет
(а этого еще нет), то исключительно потому, что мы видим «особый» смысл и воюем, пока еще есть почва для товарищеской
войны. В том-то и позор заявлений Луначарского, что он мог связать их со своими «хорошими» намерениями. В том-то и зло его
91
Хрестоматия по истории атеизма.
«теории», что она допускает такие средства или такие выводы
в осуществление благих намерений. В том-то и беда, что «благие»
намерения остаются в лучшем случае субъективным делом Карпа,
Петра, Сидора, а общественное значение подобных заявлений-безусловно и неоспоримо и никакими оговорками и разъяснениями
ослаблено быть не может.
Надо быть слепым, чтобы не видеть идейного родства между
«обожествлением высших человеческих потенций» Луначарского
и «всеобщей подстановкой» психического под всю физическую
природу Богданова. Это — одна и та же мысль, выраженная в одном случае преимущественно с точки зрения эстетической, в другом — гносеологической. «Подстановка», молча и с другой стороны подходя к делу, уже обожествляет «высшие человеческие
потенции», отрывая «психическое» от человека и подставляя необъятно-расширенное, абстрактное, божественно-мертвое, «психическое вообще» под всю физическую природу. А «Логос» Юшкевича, вносимый «в иррациональный поток данного»?
Коготок увяз — всей птичке пропасть. А наши махисты все
увязли в идеализме, т. е. ослабленном, утонченном фидеизме,
увязли с того самого момента, как взяли «ощущение» не в качестве образа внешнего мира, а в качестве особого «элемента». Ничье
ощущение, ничья психика, ничей дух, ничья воля,— к этому неизбежно скатиться, если не признавать материалистической теории
отражения сознанием человека объективно-реального внешнего
мира.
... Идеализм... есть только утонченная, рафинированная форма
фидеизма, который стоит во всеоружии, располагает громадными
организациями и продолжает неуклонно воздействовать на массы,
обращая на пользу себе малейшее шатание философской мысли.
Объективная классовая роль эмпириокритицизма всецело сводится
к прислужничеству фидеистам в их борьбе против материализма
вообще и против исторического материализма в частности.
(«Материализм и эмпириокритицизм». Собр. соч., т. X,
стр. 288—293 и 303).
5.
Всякая защита бога — оправдание реакции.
Дорогой А. М.! Что же это вы такое делаете? — просто ужас,
право!
Вчера прочитал в «Речи» ваш ответ на «вой» за Достоевского
- и готов был радоваться, а сегодня приходит ликвидаторская газета и там напечатан абзац вашей статьи, которого в «Речи»
не было.
• Этот абзац таков:
А «богоискательство» надобно на время ,(только на время?)
отложить, — это занятие бесполезное: нечего искать, где не положено. Не посеяв, не сожнешь. Бога у вас нет, вы еще (еще!) не
создали его. Богов не ищут,— их создают; жизнь не выдумывают,
а творят».
Выходит, что вы против «богоискательства» только «на время»!! Выходит, что вы против богоискательства только ради замены его богостроительством!!
Ну разве это не ужасно, что у вас выходит такая штука?
Богоискательство отличается от богостроительства или богосозидательства или боготворчества и т. п. ничуть не больше, чем
желтый чорт отличается от чорта синего. Говорить о богоискательстве не для того, чтобы высказаться против всяких чертей и богов,
против всякого идейного труположства (всякий боженька есть
труположство — будь это самый чистенький, идеальный, не искомый, а построяемый боженька, все равно),— а для предпочтения
синего чорта желтому, это во сто раз хуже, чем не говорить совсем.
В самых свободных странах, в таких странах, где совсем
неуместен призыв «к демократии, к народу, к общественности и
науке»,— в таких странах (Америка, Швейцария и т. п.) народ и
рабочих отупляют особенно усердно именно идеей чистенького,
духовного, построяемого боженьки. Именно потому, что всякая
религиозная идея, всякая идея о всяком боженьке, всякое кокетничанье даже с боженькой есть невыразимейшая мерзость, особенно терпимо (а часто даже доброжелательно) встречаемая демократической буржуазией,— именно поэтому это — самая опасная
мерзость, самая гнусная «зараза». Миллион грехов, пакостей, насилий и зараз физических гораздо легче раскрываются толпой и
потому гораздо менее опасны, чем тонкая, духовная, приодетая
в самые нарядные «идейные» костюмы идея боженьки. Католический поп, растлевающий девушек (о котором я сейчас случайно
читал в одной немецкой газете), гораздо менее опасен именно для
«демократии», чем поп без рясы, поп без грубой религии, поп
идейный и демократический, проповедующий созидание и сотворение боженьки. Ибо первого попа легко разоблачить, осудить и
выгнать, а второго нельзя выгнать так просто, разоблачить его
в тысячу ра^ труднее, «осудить» его ни один «хрупкий и жалостно
шаткий» обыватель не согласится.
И вы, зная «хрупкость и жалостную шаткость»., (русской:
почему русской? а итальянская лучше??) мещанской души, смущаете эту душу ядом, наиболее сладеньким и наиболее прикрытым
леденцами и всякими раскрашенными бумажками!!
Право, это ужасно.
«Довольно уже самооплеваний, заменяющих у нас самокритику».
А богостроительство не есть ли худший вид самооплевания??
Всякий человек, занимающийся строительством бога или даже
только допускающий такое строительство, оплевывает себя худшим образом, занимаясь вместо «деяний» как раз самосозерцанием, самолюбованием, причем «созерцает»-то такой человек самые
грязные, тупые, холопские черты или черточки своего «я», обожествляемые богостроительством.
С точки зрения не личной, а общественной, всякое богостроительство есть именно любовное самосозерцание тупого мещанства,
хрупкой обывательщины, мечтательного «самоопдевания» филистеров и мелких буржуа, «отчаявшихся и уставших» (как вы изволили очень верно сказать про душу — только не «русскую» надо бы
говорить, а мещанскую, ибо еврейская, итальянская, английская —
все один чорт, везде паршивое мещанство одинаково гнусно, а «демократическое мещанство», занятое идейным труположством, сугубо гнусно).
Вчитываясь в вашу статью и доискиваясь, откуда у вас эта
описка выйти могла, я недоумеваю. Что это? Остатки «Исповеди»,
которую вы сами не одобряли?? Отголоски ее?
Или иное — например, неудачная попытка согнуться до точки
зрения общедемократической вместо точки зрения пролетарской?
Может быть, для разговора с «демократией вообще» вы захотели
(простите за выражение) посюсюкать, как сюсюкают с детьми?
Может быть «для популярного изложения» обывателям захотели
допустить на минуту его или их, обывателей, предрассудки??
Но ведь это — прием неправильный во всех смыслах и во всех
отношениях!
Я написал выше, что в демократических странах совсем неуместен был бы со стороны пролетарского писателя призыв «к демократии, к народу, к общественности и науке». Ну, а у нас в России?? Такой призыв не совсем уместен, ибо он тоже как-то льстит
обывательским предрассудкам. Призыв какой-то общий до туманности — у нас даже Изгоев из «Русской мысли» обеими руками
его подпишет. Зачем же брать такие лозунги, которые вы-то отделяете превосходно от изгоевщины, но читатель не сможет отделить?? Зачем для читателя набрасывать демократический флер
вместо ясного различения мещан (хрупких, жалостно шатких, усталых-, отчаявшихся, самосозерцающих, богосозерцающих, богостроительских, богопотакающих, самооплевывающихся, бестолково
анархистичных — чудесное слово!! и прочая « прочая) и пролетариев (умеющих быть бодрыми не на словах, умеющих различать
«науку и общественность» буржуазии от своей, демократию буржуазную от пролетарской)?
Зачем вы это делаете?
Обидно дьявольски.
(Письмо к А. М. Горькому. «Ленинский
I, стр. /53—755;.
сборник»;
По вопросу о боге, божественном и обо всем, связанном
с этим, у вас получается противоречие — то самое, по-моему,
которое я указывал в наших беседах во время нашего последнего свидания на Капри: вы порвали (или как бы порвали) с «впередовцами», не заметив идейных основ «впередовства».
Так и теперь. Вы «раздосадованы», вы не можете понять, как
проскользнуло слово «на время» — так вы пишете — и в то же
самое время вы защищаете идею бога и богостроительства.
«Бог есть комплекс тех выработанных племенем, нацией, человечеством идей, которые будят и организуют социальные чувства, имея целью связать личность с обществом, обуздать зоологический индивидуализм».
Эта теория явно связана с теорией или теориями Богданова и
Луначарского.
(И она — явно неверна и явно реакционна. Наподобие христианских социалистов (худшего вида «социализма» и худшего
извращения его) вы употребляете прием, который (несмотря на
ваши наилучшие намерения) повторяет фокус-покус поповщины:
из идеи бога убирается прочь то, что исторически и житейски в ней
есть (нечисть, предрассудки, освящение темноты и забитости, с одной стороны, крепостничества и монархии — с другой), причем
вместо исторической и житейской реальности в идею бога вкладывается добренькая мещанская фраза (бог=«идеи, будящие и
организующие социальные чувства»).
Вы хотите этим сказать «доброе и хорошее», указать на
«Правду-Справедливость» и т. п. Но это ваше доброе желание
остается вашим личным достоянием, субъективным «невинным
пожеланием». Раз вы его написали, оно пошло в массу, и его значение определяется не вашим добрым пожеланием, а соотношением общественных сил, объективным соотношением классов.
В силу этого соотношения выходит (вопреки вашей воле и независимо от вашего сознания) — выходит так, что вы подкрасили,
подсахарили идею клерикалов, Пуришкевичей, Николая II и
гг. Струве, ибо на деле идея бога им помогает держать народ
в рабстве. Приукрасив идею бога, вы приукрасили цепи, коими
они сковывают темных рабочих и мужиков. Вот — скажут попы
и К0 — какая хорошая и глубокая это идея (идея бога), как признают даже «ваши», гг. демократы, вожди,— и мы (попы и К°)
служим этой идее.
Неверно, что бог есть комплекс идей будущих и организующих социальные чувства. Это — богдановский идеализм, затушевывающий материальное происхождение идей. Бог есть (исторически и житейски) прежде всего комплекс идей, порожденных тупой придавленностью человека и внешней природой и классовым
гнетом,— идей, закрепляющих эту придавленность, усыпляющих
классовую борьбу. Было время в истории, когда, несмотря на такое
происхождение и такое действительное значение идеи бога, борьба
демократии и пролетариата шла в форме борьбы одной
религиоз*ной идеи против другой.
Но и это время давно проішло.
Теперь и в Европе и в России всякая, даже самая утонченная,
самая благонамеренная защита или оправдание идеи бога есть
оправдание реакции.
Все ваше определение насквозь реакционно и буржуазно.
Бог == комплекс идей, которые «будят и организуют социальные
чувства, имея целью связать личность с обществом, обуздать зоологический индивидуализм».
Почему это реакционно? Потому, что подкрашивает поповскокрепостническую идею «обуздания» зоологии.
В действительности «зоологический индивидуализм» обуздала
не идея бога, обуздало его и первобытное стадо и первобытная
коммуна. Идея бога всегда усыпляла и притупляла «социальные
чувства», подменяя живое мертвечиной, будучи всегда идеей рабства (худшего безысходного рабства). Никогда идея бога не «связывала личность с обществом», а всегда связывала
угнетенные
классы верой в божественность угнетателей.
Буржуазно ваше определение (и не научно, неисторично), ибо
оно оперирует огульными, общими, «робинзоновокими» понятиями
вообще, а не определенными классами определенной исторической
эпохи.
Одно дело — идея бога у дикаря, зырянина и т. п. (полудикаря тоже), другое — у Струве и К°. В обоих случаях эту идею
поддерживает классовое господство (и эта идея поддерживает
его). «Народное» понятие о боженьке и божецком есть «народная»
тупость, забитость, темнота, совершенно такая же, как «народное
представление» о царе, о лешем, о таскании жен за волосы. Как
можете вы «народное представление» о боге называть «демократическим», я абсолютно не понимаю.
Что философский идеализм «всегда имеет в виду только интересы личности», это неверно. У Декарта по сравнению с Гассенди
больше имелись в виду интересы личности? Или у Фихте и Гегеля
против Фейербаха?
Что «богостроительство есть процесс дальнейшего развития
и накопления социальных начал в индивидууме и в обществе», это
прямо ужасно!! Если бы в России была свобода, ведь вас бы вся
буржуазия подняла на щит за такие вещи, за эту социологию и
теологию чисто буржуазного типа и характера.
(Письма В. И. Ленина к А. М. Горькому. «Ленинский
сборник», I, стр. 157).
6.
О пропаганде воинствующего атеизма.
Энгельс давно советовал руководителям современного пролетариата переводить для массового распространения в народе боевую атеистическую литературу конца ХѴПІ в. К стыду нашему,
мы до сих пор этого не сделали (одно из многочисленных доказательств того, что завоевать власть в революционную эпоху
гораздо легче, чем суметь правильно этою властью пользоваться).
Иногда оправдывают эту нашу вялость, бездеятельность и неумелость всяческими «выспренними» соображениями: например, «дескать, старая атеистическая литература XVIII в. устарела, ненаучна,
наивна» и т. п. Нет ничего хуже подобных, якобы ученых, софизмов, прикрывающих либо педантство, либо полное непонимание
марксизма. Конечно и ненаучного и наивного найдется немало
в атеистических произведениях революционеров XVIII в. Но никто
не мешает издателям этих сочинений сократить их и снабдить
короткими послесловиями с указанием на прогресс научной критики религий, проделанный человечеством с конца XVIÏI в., с указанием на соответствующие новейшие сочинения и т. д. Было бы
величайшей ошибкой и худшей ошибкой, которую может сделать
марксист, думать, что многомиллионные народные (особенно крестьянские и ремесленные) массы, осужденные всем современным
обществом на темноту, невежество и предрассудки, могут выбраться из этой темноты только по прямой линии чисто марксистского просвещения. Этим массам необходимо дать самый разнообразный материал по атеистической пропаганде, ознакомить их
с фактами из самых различных областей жизни, подойти к ним
и так и этак для того, чтобы их заинтересовать, пробудить их от
религиозного сна, встряхнуть их с самых различных сторон, самыми различными способами и т. п.
Бойкая, живая, талантливая, остроумно и открыто нападающая на господствующую поповщину публицистика старых атеистов XVIII в. сплошь и рядом окажется в тысячу раз более подходящей для того, чтобы пробудить людей от религиозного сна, чем
скучные, сухие, не иллюстрированные почти никакими умело подобранными фактами, пересказы марксизма, которые преобладают
в нашей литературе и которые (нечего греха таить) часто марксизм
искажают. Все сколько-нибудь крупные произведения Маркса и
Энгельса у нас переведены. Опасаться, что старый атеизм и старый
материализм останутся у нас недополненными теми исправлег
ниями, которые внесли Маркс и Энгельс, нет решительно никаких
оснований. Самое важное — чаще всего именно это забывают наши
якобы марксистские, а на самом деле уродующие марксизм коммунисты — это суметь заинтересовать совсем еще неразвитые
массы сознательным отношением к религиозным вопросам и сознательной критикой религий.
...Журнал «Под знаменем марксизма», который хочет быТь
ном воинствующего материализма, должен уделять много места
атеистической пропаганде, обзору соответствующей литературы
и исправлению громадных недочетов нашей государственной работы в этой области. Особенно важно использование тех книг и
брошюр, которые содержат много конкретных фактов и сопоставлений, показывающих связь классовых интересов и классовых
организаций современной буржуазии с организациями религиозных учреждений и религиозной пропаганды.
Чрезвычайно важны все материалы, относящиеся к Соединенным штатам Северной Америки, в которой меньше проявляется
официальная, казенная, государственная связь религии и капитала. Но зато нам яснее становится, что так называемая «современная демократия» (перед которой так неразумно разбивают свой
лоб меньшевики, эсеры и отчасти анархисты и т. п.) представляет
собой не что иное, как свободу проповедывать то, что буржуазии
выгодно проповедывать, а выгодно ей проповедывать самые реакционные идеи, религию, мракобесие, защиту эксплоататоров
и т. 11.
(«О значении воинствующего
материализма».
«Под знаменем марксизма», 1922 г., '№ 3).
ИВАЙ ИВАНОВИЧ СКВОРЦОВ-СТЕПАНОВ.
1.
Материалистическое истолкование природы не оставляет богу
места в мире, историко-материалистическое истолкование человеческого общества отводит богу определенное место в истории,
рассказывая, как он возник и как он погибает.
(«Страх смерти против исторического
материализма»).
2.
Еврейско-христианский Ягве—бывший национальный бог.
Ягве развился в национального бога таким же способом, как
национальные боги возникали у других народов. Он возник благодаря развитию политической, государственной организации из
прежнего общинно-родового строя. Отличие от других государств
древности заключалось только в том, что вследствие более быстрого разложения семейного коммунизма и неоднократного увода
землевладельческих, консервативных элементов в плен родовая
организация, а вместе с тем и культ родовых и семейных богов
были разрушены здесь быстрее, чем в других странах. Следовательно, если так называемый иудейский монотеизм появился здесь
быстрее, чем в других государствах древности, то это — не результат особого предрасположения евреев к монотеизму и не результат
их более высокой нравственности или более глубокого отношения
к идее бога; это — результат их социального развития, которое,
хотя шло оно в общем по тем же путям, как у других народов
древнего мира, однако сравнительно рано привело к образованию
теократического прочного государства, построенного не на общинно-родовой, а на политической организации.
Таким же пустым вымыслом, как это особое предрасположение еврейского ума к монотеизму, является и утверждение, будто
Ягве сначала был богом природы, богом воздуха, ветра, грома,
вулкана, огня. Подобно всем богам у семитических народов, Ягве
сначала тоже богом-предком, и в его культуре, даже в позднейшую эпоху, особенные формы, которыми характеризуется почитание предков и духов (душ), сохранялись в более отчетливом
виде, чем в культе большинства богов Египта и Вавилона.
Так как в этих государствах все экономическое существование
уже в раннюю эпоху попало в полную зависимость от воздействия
сил природы, то боги превратились там в богов—покровителей
земледелия, подателей тепла и воды и т. д. в несравненно большей
мере, чем еврейские элогимы.
Но чтобы таким образом понять характер еврейской религии,
необходимо совершенно отбросить тот старинный богословский
взгляд, который видит в иудейской религии Ягве дохристианскую
религию вообще, особенным образом откровенную самим богом.
Необходимо подходить к изучению еврейской религии исключительно так же, как и к исследованию любой из сотни других религий: это—продукт естественного развития, складывавшийся по тем
же законам, как развивалась всякая другая религия,—и потому
к ней приложимы общие законы, выведенные из изучения других
религий. Поэтому было бы ошибочно думать, будто исключительно
путем критики текста и языка того литературного материала, который дает нам «Ветхий завет», можно притти к пониманию действительного характера древнееврейской религии. Конечно эта критика имеет свою определенную ценность. Но она может раскрыть
только одно: там-то имеются противоречия, там-то соединены разнородные сообщения, там-то сделаны дополнения, вычеркивания,
перетасовки. Напротив, она не в состоянии объяснить всего психологического построения религии и его исторических основ, коренящихся в условиях существования еврейских племен. Это познание мы получим лишь в том случае, если постараемся исследовать еврейскую религию в ее первых зачатках, если увидим в ней
просто один из этапов в общем процессе развития религии, проследим предшествующие
ступени у других
народов
и возьмем
библийские рассказы как сырой материал, который может претендовать на признание лишь постольку, поскольку он психологически согласуется с результатами общего изучения религии. Но при
этом не обойтись без этнологии (народоведения—сравнительного
изучения быта, учреждений и воззрений у разных народов). Этно-
логия же совпадает с социологией, т. е. с наукой о закономерном
ходе развития человека.
Этот метод раскрыл нам действительную историю иудейского
бога, которого христианский мир признает и своим богом.
(«Происхождение
нашего
бога»),
3.
Религия и общественный строй.
Обыватели, которым начинает казаться, будто они приходят
к пониманию социализма и коммунизма, сильно скорбят над близорукостью коммунистов. Коммунисты открыто заявляют, что у них
нет религии.
Пусть бы они были безрелигиозны только про себя и для себя.
Давно уже, лет 400 назад, а в Италии много раньше, когда стало
развиваться умирающее теперь буржуазное общество, передовые
борцы этого общества, начав войной против католицизма, кончали
отрицанием христианства, а затем и всякой религии. Они приходили к правильному убеждению, что понятие «бог» ни к чему для
человеческого ума и человеческого мышления. Раз человек не
знает, например, отчего происходит гроза, он остается при таком
же незнании, если скажет, что грозу производит бог. Одно неведомое, неизвестное он подменит другим неизвестным же, неведомым. И хуже того: вместо того чтобы сказать, что это еще не
познано им, он скажет, что это непознаваемо вообще.
Таким образом в то время, когда буржуазия еще вела борьбу
против феодального сословия, ее философы и ученые приходили
к неверию. Но буржуазия уже предчувствовала наступление тех
времен, когда она сделается господствующим классом. Раньше
эксплоатируемых держало в покорности феодальное государство.
Впоследствии смирять их придется буржуазному государству. Церковь оказывала огромные услуги феодальному сословию в деле
укрощения масс. Проповедью и школой, угрозами загробных мучений и обещаниями загробных наград—всем своим учением и
назиданием она заставляла массы терпеть и примиряться с нищетой, гнетом, эксплоатацией, беспощадной жестокостью и'алчностью эксплоататоров; она внушала, что все это ниспослано и установлено самим богом.
Сумеет ли нарождающееся буржуазное общество обойтись без
такой узды для масс? Можно ли держать их в покорности только
открытым и прямым принуждением? Не следует ли стремиться к
тому, чтобы ограбленные и прогнанные с земли крестьяне, превращенные в живой товар крепостные и обдираемые капиталистами
ремесленники, кустари и фабрично-заводские рабочие видели в
своем положении жребий, уготованный им от создания мира? Не
следует ли сохранить им невинную утеху загробных блаженств за
безропотное подчинение неистовствам угнетателей?
И вот буржуазные философы и ученые даже в тот период,
когда они с величайшей революционностью выступали против
феодального общества, начали налагать на себя некоторую сдержанность в одном отношении. Они говорили: «Бога необходимо
сохранить для простого народа». И, желая сохранить его для простого народа, т. е. для экоплоатируемых, они начинали думать,
что, пожалуй, не мешает и себя заставить верить в существование
бога. Они уже говорили: «Если бы бога не существовало, его следовало бы выдумать». И надо выдумать его одновременно и в качестве пугала, и в качестве обнадеживающего маяка для измученной
и угнетенной бедноты.
Буржуазия пришла к власти. Разными способами достигла она
торжества: где—постепенными сделками и соглашениями с феодальным сословием, а где и революционным его низвержением.
Не сама она ниспровергала феодальное сословие: к революции ее
толкали другие, более радикальные и решительные слои населения. Разделавшись со своими радикальными союзниками по борьбе
с феодальным обществом, обезоружив их, буржуазия после революционного взрыва кончала сделкой по крайней мере с одним
из устоев феодального общества—с церковью.
Без бога слишком трудно управлять народными массами: прозрев, что в эксплоататорских отношениях нет ничего предопределенного, предустановленного, нет никакой таинственной воли и
власти, а есть только чисто человеческая эксплоататорская воля и
власть, они начинают роптать, осмысливать свое положение, а затем и бороться против господствующих классов. Да, для простого
народа необходимо сохранить религию! Да, бога следовало бы
выдумать, если бы массы уже переставали верить в его существование! Следовало бы выдумать бога и заставить массы поверить
в его существование. И во всяком случае необходимо принять самые решительные меры с той целью, чтобы задавить все сомнения
в существовании этого карающего и награждающего неизвестного владыки всего мира.
Конечно буржуазия, ее ученые и философы даже от самих себя
отгоняют ту мысль, что они охраняют религиозность народа только для своего собственного удобства, только в своих паразитических и угнетательских интересах. Они представляют дело таким
образом, будто существующее общество, управляемое и направляемое эксплоататорами, есть единственно возможное человеческое
общество, будто с его разрушением уничтожится всякое человеческое общество, распадутся всякие связи между людьми, и они превратятся в стадо диких зверей. Исчезнет всякая внутренняя узда,
человек превратится в бесшабашного индивидуалиста, станет заботиться только о себе, о своей собственной сытости и удобствах.
Человек будет волком для человека, и в неудержимом разгуле
животных страстей рассыплется человеческое общежитие, а люди
превратятся в дикарей, если не прямо в хищных животных.
Настроив себя таким образом, буржуа, их философы и ученые
начинают вдумываться и вникать в свое собственное поведение.
Беспощадный и жадный волк в своих отношениях к рабочему
классу, во всем, что касается барышей, буржуа открывает, что
существующее общество сделалось бы невозможным, если бы он
совсем распоясался и дал полную волю своей жадности. Общество
укрепляется и упрочивается от того, что у него иногда бывают
порывы милосердия: он идет в церковь и раздает пятачки нищим,
он строит больницу для рабочих, получивших увечье и растративших все свои силы на службе капиталу, некоторым он дает пенсии,
открывает и опекает школы.
Он умиляется перед своими благотворениями. И, вдумываясь
в их источник, совершенно позабывает, что капиталистическое общество не могло бы существовать, если бы капиталистический
класс не замазывал наиболее зияющих ран, причиняемых этим
обществом. Растрогавшись, расчувствовавшись, умилившись перед
тем. будто бы он—не только волк, но и добрый человек, благодетель, буржуа приходит к выводу, что в глубинах его души живет
неискоренимая идея бога, которой не может вытравить и заглушить всепоглощающая страсть накопления. И, подчиняясь велениям этого неощутимо живущего в нем бога, он давал пятаки, он
хелился своим имуществом с бедными.
Чем дальше идет время, чем шире и глубже развертывается
борьба рабочего класса и чем беспощаднее становится капитализм
по своему существу, тем больше необходимости в замазывании
причиняемых им ран, в прикрытии его беспощадности, тем необходимее становится, чтобы капиталистический класс почаще вспоминал об идее бога, будто бы живущей в глубинах всякой души человеческой и незримо управляющей ее поведением.
В истории буржуазии была полоса, когда она кичилась своим
вольнодумством и неверием, выставляла его напоказ.
Эта полоса давно миновала. Чем ближе к крушению клонится
буржуазное общество, тем сильнее охватывают буржуазию раскаяние в былых прегрешениях перед матерью-церковью и перед всевышним. Необходимо, чтобы во всех людях жило сознание о чемто, что выше их личности, их преходящей жизни, их ограниченных дел, их слабого частичного понимания. Пусть гибнут отдельные личности, пусть умирают члены капиталистического класса:
надо спасти капиталистическое общество и капиталистический
класс. Надо поставить такие препоны и преграды отдельной личности, с ее эгоизмом и индивидуалистическими стремлениями, чтобы она не усиливала разрушительных сил, действующих в капиталистическом обществе. Капиталистическое общество должно существовать вечно. И хранителем его вечности, хранителем вечности
капиталистического класса может быть только идея вечного бога,
подчиняющая личное общему: интересы капиталистической личности интересам капиталистического класса.
Раскаяние охватывает буржуазную науку и буржуазную философию. Смущенные, запуганные грандиозными переворатами в
общественных отношениях и еще более грандиозными переворотами, назревающими в глубинах общества, они хотят задержать
эти перевороты. В областях своей деятельности, где за последние
десятилетия все—сплошной переворот, все—непрерывная революция, они страстно хотят найти хотя бы одну неподвижную точку,
хотя бы простой мираж неподвижности. Подавленные беспредельностью перспектив, раскрывающихся перед умом человечества, они
во что бы то ни стало стремятся хотя бы только для себя, для
своего собственного успокоения, поставить предел человеческому
мышлению и познанию.
И они находят этот предел в идее бога и начинают уверять
себя и других, что это—неискоренимая, непреходящая идея. И хотят связать, спутать и ограничить этой идеей неудержимые порывы человеческого ума к познанию мира и общества и непреодолимое стремление рабочего класса к подчинению природы и общества человеческому труду.
Охваченные предсмертной тоской, буржуазия и ее идейные и
наемные представители, ее философы и ученые, делают невероятные усилия, чтобы заставить себя поверить в существование бога.
Это—последний якорь спасения для гибнущего буржуазного
общества. В действительности— это не якорь, а соломинка для
утопающего.
Обыватель," которому показалось, что он уже почти социалист
и что он выгодно отличается от коммунистов своим более глубоким и тонким пониманием сокровенных пружин исторической жизни народов, охает и ахает над слепотой коммунистов. Он недоумевает, как это можно построить и упрочить человеческое общество, не скрепляя его религией.
Он самоуверенно пускается в мнимые исторические изыскания,
в странствования по странам и эпохам и всеми правдами и неправдами хочет отыскать подпорки для своего унаследованного от
прадедов убеждения, что без религии нет цивилизации, нет человеческой нравственности, нет человеческого общества, нет человечества.
Как это ни странно, ни противоречит действительным отношениям, история даже древнего Рима превращается для таких обывателей в историю римской религии. Рим рос, пока вырастал пантеон римских богов. Римские боги в их иерархической последовательности связывали семейные и родовые общины и затем сплачивали всех римлян в единый великий народ.
Когда завоеватели стали изменять своим богам и усваивать
культы покоренных народов, началась утрата их отдельности и
особности, и расширяющееся подчинение мира сменилось на пер-
вых порах постепенным, а затем все более укоряющимся растворением в варварском мире.
Этим новым «историкам», готовым оплакивать покойного
Юпитера с сонмом римских богов во имя защиты умирающего
теперь иудейско-христианского бога, совершенно невдомек, что
они бесталанно и в ухудшенной форме воспроизводят старого
Фюестль де Куланжа, который с талантливостью и блеском перевернул—«поставил на голову»—действительные отношения. В действительной истории не римские боги, будто бы существовавшие
раньше римского общества, создали это последнее, а, напротив,
римское общество в своем поступательном движении создало римских богов и связало их в единую семью, возглавляемую Юпитером. Италийские роды и народы, сплачиваемые в единое государство, отдавали и вводили своих местных богов в расширяющийся общий пантеон растущего римского государства. Точно так
же, когда с приближением к началу нашей эры это государство
стало все больше утрачивать свою экономическую обособленность
и связываться со странами сначала по Средиземному морю, а затем и за Средиземным морем, оно не только завоевывало их вооруженной рукой, оно не только подчиняло их своей власти, но и
отражало расширение экономических связей в расширении и частичном растворении своего мира богов. Не особенно далекие друг
другу по степени экономического развития Рим, Карфаген и Египет
сохраняли много родственного в общем строе и характере своих
религий, и даже больше: завоеванные страны, как страны более
старой и в некоторых отношениях высшей экономической культуры, в своих религиозных системах представляли шаг вперед по
сравнению с римской религией. Религиозные искания последних
предхристианских веков свидетельствовали как раз о том, что старые религиозные представления уже не соответствовали изменившимся отношениям нового Рима, бесконечно расширившимся в
своей связанности. Усвоение чужих культов уменьшало это несоответствие. Существовало только одно средство предотвратить
это усвоение чужих культов и сохранить в полной неизменности
и неподвижности старый культ отходящего в прошлое Рима: отказаться от расширения экономических связей, от распространения
римского государства, от превращения его в мировое государство
того времени. Но не было никаких способов достигнуть того,
чтобы движение общества не отражалось в движении религиозных
идей и представлений. Для этого человечество должно было оставить далеко позади себя ту ступень развития, на которой стояло
римское общество и государство.
И в дальнейшей истории человечества мы наблюдаем то же
первенство движения общества перед движением религиозных
идей. Нам укажут на пример ислама и будут говорить, что именно
он и только он объединил арабские племена для завоевательных
походов, которыми они в течение какого-нибудь столетия создали
царство, являвшееся преемником мировой Римской империи. Разложение ислама и появление в нем взаимно враждебных направлений, образование поедавших друг друга сект сопровождалось
распадением этого единого царства на халифаты, обессиленные
взаимной борьбой,И в этом случае для марксиста связь явлений прямо обратная.
Пока арабы не вышли из эпохи «средневековья», характеризующегося почти безраздельным господством религиозных форм мышления, экономическая необходимость—хотя бы чисто военного—
объединения, могла доходить до их сознания только как чисто
религиозная потребность распространения истинной веры и покорения всех неверных. Совершенно так же для христианских народов юго-западной Европы, созревших для «империализма» ранней
торгово-капиталистической эпохи, их тяга к богатому и экономически передовому Востоку приобрела форму борьбы за освобождение гроба господня из-под власти «неверных», форму крестовых
походов.
Арабы-завоеватели осели в различных областях, отличающихся
великим разнообразием географического положения и природных
условий, и вошли в соприкосновение с покоренными и соседними
народностям, стоявшими на разных ступенях экономической культуры. Их дальнейшее развитие неизбежно должно было отразить
великое разнобразие исторической и естественной обстановки,
среди которой оно совершалось. Религиозная борьба, «разложение
ислама», и в данном случае давала идеологическую форму, в которой развертывалась борьба различных общественно-экономических укладов и происходили столкновения внутренних общественных противоречий. Былое единство ислама разбилось потому, что
экономическое развитие, с разной быстротой и в различных направлениях, совершавшееся на Пиренейском полуострове, на севере Африки, в Аравии, Месопотамии и т. д., разложило простоту и
единообразие общественного строя арабов эпохи завоевательных
походов.
На исторической роли христианства вообще, и католицизма в
частности, можно не останавливаться. Давно признано, что религия
здесь не была первичной силой, почерпавшей свою власть над обществом из того, что она удовлетворяла неискоренимым потребностям человеческого сознания. Ее духовная власть была не первична; она обусловливалась общественно-экономическими функциями церкви и опиралась на очень мирские и очень материальные
основы: на то, что она передавала германским и'славянским варварским племенам, обращаемым в христианство, остатки римской
культуры и пролагала путь к повышению земледельческой техники, ремеслам, торговле, зачаткам образования, без которых не могли обойтись даже примитивные германские и славянские государства. И дальше: церковные расколы, образование сект и национальных церквей не вели за собою расслоения общества и разделе-
ния некогда будто бы единого европейского мира, а напротив,
были выражением обостряющейся внутренней борьбы и глубоких
различий, складывавшихся между отдельными странами в зависимости от их географического положения, от различий той исторической и естественной обстановки, в которой протекало развитие.
Не религией.определялись историческое движение и исторические судьбы человеческого общества. Религиозная жизнь, как
наука, как искусство, как нравы и нравственность, следовала за
уже совершившимися переменами в человеческих обществах. Но
конечно не просто следовала, а и освящала их божественным авторитетом незримого и непознаваемого высшего существа и таким
образом давала им принципиальное и обобщенное выражение.
Выполняя эту роль, религия и церковь превращались в механизм упрочения, консервирования общественных отношений.
Дальнейшее поступательное движение становилось возможным
лишь путем расшатывания и отрицания авторитета господствующей церкви и, пока не назрели безрелигиозные формы восприятия мира, путем замены ее новыми церквами, реформистскими или
революционно преобразованными, подчиненными новым общественным потребностям.
Так и вышло, что старым историкам казалось, обывателям же
и теперь еще кажется, что крепость или ослабление религиозной
жизни ведет за собою прочность или расслабление и распад общественных связей.
Возвращаемся к искренним, а в подавляющей части лицемерным вздохам и сожалениям на тот счет, будто коммунисты выбивают всякую опору из-под своего в общем хорошего дела, пренебрегая мощным содействием, которое могли бы оказать им религиозные чувства, и даже прямо искореняя эти чувства из масс.
Эти вздохи объясняются или желанием, несмотря ни на что, сохранить народу религию как один из рычагов вожделенной контрреволюции, или же полным непониманием того, что и как призваны
совершить и совершают коммунисты в истории человечества.
Великая глупость—утверждение, будто коммунисты, утратив
всякую веру в бога и в какие бы то ни было таинственные силы,
управляющие миром и человеческой жизнью, способны поддерживать эту веру в других. Коммунисты стремятся как можно быстрее вытравить до последних корней и остатков то наследие
старой истории, что люди разделялись на эксплоататорское меньшинство управляющих и на эксплоатируемое- большинство управляемых, на смышленных и ловких вождей и бессмысленную темную массу. Едва захватив власть, они организуют все управление
таким образом, чтобы все в нем было доступно, понятно, ясно и
по силам для -всякого толкового члена общества; они не щадят
ничего, чтобы сделать действительные знания, действительное глубокое понимание доступным для всякого человека. Они прокли-
нают эксплоататорский строй, который разделял знания на такие,
которых достойны только угнетатели, и на жалкие обрывки, доставшиеся угнетенным. Все, до чего дошло человечество в своем
многотысячелетнем труде, коммунисты хотят сделать достоянием
всего человечества.
Никаких искусственных скреп для коммунистического общества не требуется. Его нерасторжимая связка—не в чем-нибудь насильственном, внешнем, а в самых коммунистических отношениях.
Все общества, построенные на противоположности угнетателей
и угнетенных, раздирались этой противоположностью, как только
она доходила до известной степени остроты, при которой господствующим классам или сословиям никак не удавалось ее затушевать или замазать. Тогда бог или боги, которые до того времени
служили принудительному сплочению, начинали требовать в глазах
эксплоатируемых низвержения власти эксплоататоров. Угнетенные
восставали; в разгоревшейся борьбе разлагались и падали производительные силы и первая среди них—живая рабочая сила. Былая
связанность утрачивалась. Общество становилось добычей соседей,
хотя и отсталых в экономическом отношении, но зато не дошедших до такого обострения классовых или сословных противоречий, или же побеждал новый класс, опять эксплоататорское меньшинство, которое однако несло новые методы эксплоатации, дававшие простор большему развитию производительных сил, — и общество шло дальше, пока не назревал новый взрыв общественных
противоположностей, разрушительный, но вместе с тем и освобождающий поступательное движение человечества от стеснявших
его пут.
Капиталистическое общество, последняя, предельная из общественных форм, построенных на классовом расчленении и противоположности классов, в своем развитии довело эти противоречия
до таких вопиющих размеров, что приходится удивляться, как оно
могло существовать до настоящего времени: небывалое богатство
производительных сил и возможностей и использование этих сил
для разрушения; невиданная до сих пор мощь производства и возможность его стремительного расширения и периодическое, а затем хроническое преднамеренное его сужение капиталистическими
собственниками; сказочное повышение производительности труда
и растущая нищета производителей, все глубже отбрасываемых на
дно общества; небывалая связанность всех производственных процессов, небывало общественный характер всего общественного
труда, при котором в производстве каждой спички участвует не
только лесосек, поставляющий материал для палочек и коробок,
не только машиностроительный рабочий, построивший котел фабрики, и не только шахтер, добывавший руду, или горнорабочий,
произведший из нее сталь, или каменщик, возводивший фабричные здания, но и химик-лаборант, нашедший наиболее удобный
состав для зажигательной смеси, и весь университет с его сотнями
Хрестоматия по истории атеизма.
22
ученых работников, подготовивших этого лаборанта, — итак небывало общественный характер всех полезных работ, выполняемых
в обществе, небывалое тесное сцепление между ними „и присвоение
всех результатов этих работ капиталистом единственно на том
основании, что его признают собственником спичечной фабрики,
шахты, доменной печи « т. д.
Такое общество давно расползлось бы по всем швам, если бы
его не сжимали и не удерживали в покорности принудительная
сила и хитрые искусственные приспособления: полиция, тюрьмы,
казарменная армия, калечащая ум школа, доступность сколько-нибудь повышенного образования только для эксплоататоров и наконец убивающая взлет ума и задушающая всякий протест идея бога
с его заповедями рабской кротости и рабского смирения, с его
замогильными возмездиями и наградами.
Великие трудности ставит коммунистическому строительству
наследие, полученное от капиталистического общества. Борьба каждого против всех, стремление урвать от общества как можно
больше и как можно меньше дать ему — такова повседневная
практика всякого капиталиста, такова практическая мораль широких масс, которые, организуясь на борьбу против капитала, лишь
медленно отрешались от выращенной капиталом жадности, от порожденного им крайнего индивидуализма и эгоизма. Если я не
вскарабкаюсь по спинам моих ближних, они сбросят меня на дно
и затем сами поставят на мою голову ногу, чтобы вскарабкаться
выше,—вот какие «высокие» нравственные чувства порождались
капиталистическим обществом.
Создать такие условия, чтобы никто не мог строить свое благополучие на подавлении и угнетении других—вот одна из основных задач коммунистической партии. Уничтожение капиталистической собственности, уничтожение собственности, как основы эксплоатации, — шаг, первый и самый большой в этом отношении.
Правда, еще сохраняются крупные различия в оплате различных
категорий труда: например выдающийся инженер получает много
больше, чем чернорабочий. Но, во-первых, инженер тоже оплачивается за работу, притом за работу, которую лишь немногие сумеют выполнить так, как выполняет он, а не за голое право собственности: во-вторых, мы прямо говорим, что и это — остаток
классового расчленения капиталистического общества, который
подобно другим остаткам будет уничтожен лишь «в развитом коммунистическом обществе; теперь же- мы еще только входим, врабатываемся в переходный, в социалистический строй. Старое общество с его скудными крохами образования, доставшимися эксплоатируемым, оставило нам ничтожное количество знающих специалистов, и мы находим, что привлечь специалистов повышенной оплатой труда будет для нас выгоднее, чем выкручиваться
без их указаний и руководства.
Но уже' теперь среди развала, обостряемого начавшейся борь-
бой мировых хищников против социалистического переворота,
принимаются решительные меры с той целью, чтобы работник был
не только исполнителем, но и организатором, чтобы, вооруженный
знанием, он понимал и общую связь производственных операций,
в которых принимает участие, и общую связь человеческих отношений. Приближаясь к этой цели, мы приближаемся к тому времени, когда различия оплаты утратят всякое оправдание.
Но вместе с тем они утратят всякий смысл и всякую притягательную силу. Уничтожением капиталистической собственности мы
уже устранили те оковы, которые она налагала на развитие производительных сил. Устраняя те путы, которыми капиталистическое
общество сковывало развитие человеческого ума, превращая всякого здорового взрослого человека в работника, а всякого работника—в человека, который обладал бы широким и ясным пониманием всех производственных процессов, мы удесятерим производственные возможности и увеличим производительность общественного труда до таких размеров, о которых можем составить только
самое отдаленное представление.
Повышенная оплата труда привлекательна, когда среди скудости, среди недостаточного удовлетворения даже элементарных
потребностей она дает возможность получить несколько больше
предметов потребления, чем получают другие. Но какой смысл
будет в ней, когда для всех станет возможным удовлетворение не
только элементарных, но и постоянно повышающихся, расширяющихся потребностей?
Повышенная Оплата труда была привлекательна, когда она
вела к накоплению, которое давало надежду перейти в ряды экснлоататоров и сбросить со своих плеч всякий труд, являвшийся
мукой в капиталистическом обществе по своей монотонности, по
своим общим условиям. Какой смысл в ней будет тогда, когда
уничтожение ^капиталистической собственности устранит самую
возможность превращения в общественного захребетника, в паразита. И какой смысл будет в стремлении к этому превращению,
когда труд станет продолжением работы познания, а работа познания продолжением производительности труда, — когда труд
будет не мукой, не проклятьем, а удовлетворением настоятельной
человеческой потребности?
Тогда исчезнут в человеческом обществе всякие противоречия,
напоминающие о противоречиях классового общества. Не останется сил, которые могли бы разлагать и расшатывать человеческое
общество, впервые в истории сделавшееся человеческим. Тогда
всякий будет чувствовать, что, живя и работая, работая и живя в
этом обществе и с этим обществом," он только и живет для самого
себя, для своего непрерывного восхождения и развития.
Для этого нового человечества не надо будет бога, который
стоит над природой: оно само будет господином, богом природы.
Для коммунистического общества не надо будет какого-то выс-
m
шего существа, таинственного и непонятного некто, которое своим
измышленным авторитетом охраняло бы его и упрочивало: он
будет упрочиваться самым фактом своего существования.
(«Религия и общественный
строй»),
4.
О вере и суеверии.
Вообще мы, марксисты, должны твердо помнить, что между
«верой» и «суеверием» нет никакой принципиальной разницы. Если
бы мы признали таковую, нам пришлось бы дальше признать, что
существует какая-то «истинная вера» в противоположность «ложным верам». Различие между ними—в ступенях развития.
(«Мысли о
религии»).
5.
Вера и суеверие—одно и то же.
Они закрывают глаза на тот неприятный для них факт, что
всякая вера, пока она сильна и пока претендует на исчерпывающее объяснение мира, держится на двух ногах, на вере в бога и
вере в дьявола. Для полной и по-своему внутренне законченной
веры добрый бог, направляющий игру ко благу человечества, необходим в такой же мере, как и дьявол, парализующий божественную деятельность..Вера в дьявола—основа веры в полезность священника. Если бы не страх ада и сатанинских козней, никогда не
обращались бы к его помощи. И ведьмы, летающие на шабаш, для
целостного религиозного мировоззрения необходимы не меньше,
чем святые, восхищаемые на небеса.
«Суеверие» не есть нечто противоположное вере'. Это—элемент
механически отсеченной от некогда живой целостной веры в-существование и постоянную деятельность сверхъестественных сил.
«Вера» не есть нечто противоположное «суеверию». Это—та
нога, которую господствующие классы все еще хотят сохранить
под религией из-за удобств управления эксплоатируемыми, хотя
она такая же изувеченная и изуродованная, залепленная пластырями, закрученная бинтами, поддерживаемая всяческими костылями, как выбитая из-под религии нога «суеверий».
(«О вере в бога и вере в
дьявола»),
6.
Для научного исследователя, для научного историка религий
нет никакой принципиальной разницы между верой и суеверием,
между представлением о существовании бога и его вмешательстве
в жизнь мира и представлением о существовании дьявола и его
неустанной деятельности, между убеждением в действительности
молитв и обрядов (в частности «таинств») и убеждением в действительности чар и заклинаний.
Святые отцы были только последовательны, когда они с одинаковой суровостью карали сомнения в существовании бога и сомнения в существовании дьявола. Их священные писания, в особенности в некоторых отделах, были историей отношений между
богом и людьми в такой же мере, как и историей отношений между
сатаной и людьми. Без предположения энергичного и мощного
вмешательства дьявольских сил в ход мировых дел некоторые части «священной истории» мира остались бы совершенно необъяснимыми для верующих.
Для психиатра, для иАорика, вообще для науки между христианскими святыми и христианскими ведьмами нет никакой принципиальной разницы. Хочешь и признаешь святых,—признавай »
принимай ведьм. Смеешься над колдовскими воздействиями на
дьявола, осмеивай и магические воздействия на бога. Отвергаешь
существование дьявола,—отвергай и существование бога.
7.
Вера — это якорь которым хотят прикрепить к какой-нибудь
мели корабль, приготовившийся к далекому плаванию, к исследованию широкого мира, к изучению того, что лежит за линией горизонта.
(«О вере в бога и вере в дьявола»),
8.
О религиозной морали.
Откуда же такая бесчеловечная обидчивость и мстительность
в боге. За одно яблоко—взрыв бешеной ярости, проклятие не только виновников, но и бесконечного ряда их потомков. За недостаток почтительности — неистовый гнев, опустошительный потоп,
истребляющий все человечество, в том числе и грудных, и даже
еще не родившихся младенцев. За малейший проступок—безумное
исступление, осуждающее виноватого на вечные муки.
Нет, человеческая нравственность бесконечно выше и чище
дикой божественной нравственности.
9.
Справедливость и нравственность религии — варварские справедливость и нравственность, как те эпохи, когда религии возникали.
10.
Лет триста назад один известный тогда врач воскликнул:
«Я перевязал больному рану, а йсцелил его бог».
Но почему же бог не излечивает тех, кого гадко перевязали?
И почему же смертность в госпиталях так страшно возвышается
от недостатков перевязочных средств?
11.
Все религии учат, будто боги—господа над людьми, а будто
люди—рабы «господа».
А в действительности, на практике, бог и боги —- слуги людей.
12.
Все люди на практике безбожники.
Напрасно некоторые люди говорят про себя, будто они верят
в бога и его всемогущество.
В своей жизни они действуют так, как будто безбожники, атеисты, не верующие ни в какого всемогущего бога.
Почему они пашут и сеют? Разве всемогущий бог не может
произрастить рожь и пшеницу на нераспаханных пустошах?
И если бог по их заклинаниям может послать или прекратить
дождь, почему он не может своей незримой силой наполнить их
закрома?
іИ почему даже величайшие подвижники искали кусок хлеба и
воду для питья? Значит, они не верили, что у их всемогущего
бога хватит сил и способностей на то, чтобы поддержать их существование без питья и без пищи.
И почему верующие так боятся лишиться глаз? Значит, они
не веруют, будто волей своего всемогущего бога они. могли бы
видеть рукой или носом.
Все люди одинаково пашут и сеют, пьют и едят, заготовляют
дрова, не хотят лишиться глаз, рук или ног.
Значит, все .они одинаково не веруют в бога и его всемогущество.
13.
«Прогрессивное духовенство»— нелепый термин.
Говорят о прогрессивном духовенстве.
Но как духовенство может быть прогрессивным? Как может
оно быть сторонником умственного развития человечества.
Оно сохраняется только потому, что до сих пор насильственно
задерживалось развитие подавляющего большинства человечества
и что массы в своих воззрениях, в своем понимании природы и
общества, очень недалеко ушли от дикарей.
И духовенство, чувствуя это, всегда усердно поддерживало
невежество и отсталость.
Как духовенство может быть прогрессивным, когда всякое
завоевание науки и техники и все успехи распространения научных
знаний среди масс делают ненужным то ремесло, от которого кормится духовенство.
Почему не говорят о любви артиллериста к тем людям, которых он осыпает снарядами?
Почему не избирают мясника в члены общества покровительства животным?
Почему же связывают с прогрессом духовенство, которое вообще еще существует только потому, что до сих пор действительный прогресс слишком слабо затронул человечество?
Прогрессивное духовенство — это та его часть, которая поумнее и потому искуснее припрятывает свою вражду к науке и разБЙТИЮ человечества.
(«Мысли о религии»),
14.
О вреде религиозного воспитания.
Не убивайте нежного ума ребенка, дайте ему расти и развиваться. Не выдумывайте для него детских ответов. Когда он начинает ставить вопросы, это значит, что ум его заработал. Дайте
ему пищу для дальнейшей работы, отвечайте так, как стали бы
отвечать взрослому человеку. Таким способом вы подготовите
новых людей, «©искалеченный ум которых способен к безграничному, свободному росту. Не забивайте молодого ума дикарскими
представлениями о природе и обществе. Лгут на человечество те,
кто хочет уверить, будто ему прирождены эти дикарские представления и связанные с ними религиозные чувства. Не расстраивайте нервной системы ребенка росказнями бесчеловечной жестокости бога, не терзайте его вечным страхом, не торопитесь начинять его голову преданиями о жизни патриархов с их нескончаемыми преступлениями, вероломством и торгашеской безнравственностью. Не приучайте ребенка каждую минуту дрожать за самого
себя, за свое собственное спасение и в бессильном, беспомощном,
покорном смирении опускать свою голову перед измышленными
силами и существами. Научите бросать смелый вызов всем силам,
которые задерживают движение человечества, научите дерзать и
бороться за полное освобождение человечества от всего, что сковывает его руки и мозг.
15.
Успехами знания все религии расшатаны. Они превратились
в разрозненные обломки некогда целостного миросозерцания, посвоему стройного и законченного. Окончательное крушение этих
облщмков—вопрос только времени.
Все умные люди видят, что невозможно отстаивать re сказки,
которые преподносятся религиями. Никто уже не говорит об уважении к религиям. Но, желая отсрочить их гибель, требуют уважения к религиозным чувствам верующих.
Неужели следовало уважать религиозное чувство дикаря, который убивал людей и приносил их в жертву своим идолам. Неужели мы должны почтительно смотреть на эскимоса, который,
сделав человекоподобную фигуру из дерева и облив ее рыбьим
жиром, ожидает в награду за это большого улова. И неужели
надо умиляться перед людьми, которые, побрызгав «святой» водой на поля, воображают, что какой-то бог из подражания им
брызнет дождем.
(«Мысли о религии»),
16.
Отношение пролетариата к религии.
В настоящее время дело идет не о том, чтобы несколько
обезвредить помещичью и капиталистическую собственность, а
о том, чтобы ее уничтожить. И точно так же задача сводится не
к тому, чтобы просто слегка обезвредить
религию,—утопическая
мечта для нашего времени,—а к тому, чтобы преодолеть ее.
Современная химия и астрономия зародились в виде средневековых алхимии и астрологии. С того времени, как химия и астрономия стали наукой, алхимия и астрология должны были исчезнуть. Никакой компромисс здесь невозможен, всякий компромисс
был бы вреден: тормозил бы развитие современной науки.
То же и с религией. Все современные знания, вся наука постепенно обособились, выделились из системы религиозных воззрений, которые в известном смысле сделались для своего времени
системой зародышевого, примитивного познания и природы, и
человека, и общества. Миф о создании всего мира в шесть дней—•
это естествознание, которое еще не начало вылупливаться из религиозной скорлупы или—вернее—еще не стало сколько-нибудь выделяться из того по-своему целостного, всеобъемлющего миросозерцания, каким некогда было религиозное миросозерцание. Миф
о том, как бог вдохнул частицу своей души в Адама, сделанного
из земли, — это столь же первобытная психология (объяснений
явлений духовной жизни). Миф о проступках и преступлениях Адама и Евы, Каина и Хама — это простодушная социология (объяснение явлений общественной жизни), без остатка поглощавшаяся
религией.
В настоящее время знание порвало с верой, и наука отделилась от религии. Нелегко дался этот разрыв. Тысячами костров,
пытками, тюрьмами подавляла религия всякую попытку ума человеческого вырваться из-под ее все подавляющей власти. Но здесь
же надо сказать, что чем дальше шло время, чем больше выраста-
ла наука, чем неизбежнее, неотвратимее становился полный разрыв, тем более отшатывался от него ум человека, ибо это был
теперь ум буржуазии, быстро теряющей экономический фундамент своего господствующего положения.
Вместо того чтобы я здесь сказать коротко и ясно, что алхимия стала ненужной и вредной с того времени, как развилась
современная химия, буржуазная наука смиренно терпела нелепые
попытки «примирить» Веру и знание, размежевать сферы их влияний, истолковать религиозные мифы таким образом, чтобы их полная несуразность не резала острой болью глаза и ум современного
человека. Сама наука часто шла в этом деле навстречу религии.
И эта наука безропотно мирилась с таким положением, что средневековыми и просто дикарскими несуразицами забивался ум ребенка, вырастающего в обществе, где вся экономическая деятельность, вся промышленность строилась на основе современной науки, современного знания.
Пролетариат не может и не станет так действовать. Ему нечего
терять в прошлом. Все лежит для него в будущем. Он должен разорвать все путы, которые стесняют его движение к этому будущему. И среди этих оков религия по справедливости привлекает
его особенное внимание.
Познавательное преодоление частной собственности вообще,
а вместе с тем и капиталистической собственности было достигнуто, когда был раскрыт ее исторически обусловленный, а следовательно исторически преходящий характер. Выяснение исторических условий ее возникновения и развития было в то же время
выяснением исторической неизбежности ее крушения.
То же самое—и с религией. Обнажив ее корни, мы тем самым
выясняем условия, при которых у нее не будет никаких корней,
и даже более: в самих себе мы настолько уничтожаем эти корни,
что религия утрачивает всякую власть над нами.
В этом большое различие между познавательным преодолением частной собственности и познавательным преодолением религии. Отно.шения частной собственности не перестают господствовать над нами после того, как мы увидели, что экономическое
развитие ведет к их уничтожению. Напротив, религиозные представления утрачиваюФ всякую власть, как только раскрыто, что в
основе всякой современной религии лежит миросозерцание дикаря. То устрашение, которым религия защищает существующий
строй, после этого неспособно запугать даже малых ребят/
(Предисловие
веры в бога»).
к книге Г. Кунова
«Возникновение
религии
и
ПРИЛОЖЕНИЕ
БИО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ
ПРИМЕЧАНИЯ
БИО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ.
Ксенофан из Колофонта {город в Малой Азии) является главой так
называемой элеатской философской школы. По своему мировоззрению он может быть назван пантеистом (пантеизм—всебожие, отождествляет бога с
природой). Ксенофан (580—470 д о н. л.) и его последователи вели борьбу
с антропоморфизмом и политеизмом. По учению Ксенофана, кроме нашей
земли существует много других миров, возникающих и погибающих, как
продукт д в у х стихий, земли и воды, из которых состоит вся вселенная.
Официальное жречество преследовало Ксенофана, которому пришлось покинуть родину, вести жизнь странствующего певца (рапсода) и умереть
в полной бедности. От Ксенофана до нас дошли крайне немногочисленные
отрывки.
Парменид (род. ок. 540 г. до и. л.) Из Элей (город в Южной Италии)
был одним из главных представителей элеатской школы, учившей о единстве, вечности, неизменности и непознаваемости бытия. Парменид пошел еще
дальше Ксенофана и совершенно отбросил понятие бога, заменив его понятием вселенной. Е г о главным произведением была поэма «О природе», от
которой до нас дошло довольно много фрагментов.
Гераклит (540—480 до н. л.) из Эфеса является одним из величайших
философов древности. Принадлежавший к царскому роду и жреческому сословию, Гераклит был по своим общественным взглядам аристократом, ни
во что не ставившим демос (народные массы). В его философском учении
имеются элементы, позволяющие сѵита„ть его предшественником диалектики.
В противоположность элеатам он отрицал неизменное бытие и признавал
вечное становление, основным принципом которого является борьба противоположностей («Противоборствующее соединяется, и из противоположностей выходит прекрасная гармония и все возникает благодаря раздору»).
Основные идеи свои Гераклит изложил в сочинении «О природе», от которого
до нас дошло 129 отрывков.
Анаксагор (500—428 д о н. л.) из Клазомен (город в Малой Азии) известен, главным образом, по отзывам других античных философов, высоко
ценивших его. Учение его было целой натурфилософской системой, сводившей все многообразие вещей в мире к бесчисленным, разнородным, неизменным материальным частицам (гомоймериям), которые первоначально пребывали в состоянии полного смешения (хаоса), но затем под влиянием разума («нус») пришли в движение и послужили источником и основой в с е г о
мироздания. Анаксагор был предшественником античных «просветителей»—
софистов. Он не мог всерьез принимать греческую мифологию: боги были
для него аллегорическими образами. Учение Анаксагора о мироздании подрывало официальный культ и веру в гадателей и прорицателей. По доносу
о д н о г о прорицателя, против Анаксагора был начат процесс по обвинению
в безбожии. Лишь вмешательство влиятельных друзей предотвратило казнь
Анаксагора. Приговоренный к изгнанию, он утонул во время путешествия
по морю. Из его сочинений до нас не дошло ничего, кроме немногих строк.
Демокрит (460—350 до н. л.) из Абдеры (торговый город на Фракийском побережья) является основоположником атомистического учения и величайшим материалистом древности. Родился он в очень богатой семье. Он
получил всестороннее образование, много путешествовал, много видел и
слышал. По своим общественным взглядам Демокрит был убежденным сторонником демократии. Христианские писатели приписали Демокриту много
религиозных изречений, совершенно искажающих воззрения великого абдерита. В действительности учение его было чисто атеистическим. Он отрицал
существование божественного промысла и его вмешательство в жизнь вселенной. Не менее категорически отвергал он веру в загробную жизнь. Несмотря на то, что от многочисленных сочинений Демокрита до нас дошло лишь
очень немного отрывков, мы о его философской системе знаем довольно
много: так велико было влияние Демокрита на античную философию, такой
ясностью и последовательностью отличалось его мировоззрение. О Демокрите см. П и к е л ь. Великий материалист древности. Изд. «Новая Москва»,
1923 г.
Антифонт (жил во второй половине V века до н. л.) — один из наиболее
выдающихся представителей т о г о слоя передовой античной интеллигенции,
за которым укрепилось в истории название софистов. Антифонт, поэт, оратор и политический деятель, был казнен сиракузским тираном Дионисием
за участие в восстании. От его сочинений дошли лишь отрывки. Если по
общественным воззрениям Антифонт был крайним анархо-индивидуалистом,
то в отношении религии он занимал позицию непримиримого атеиста, отвергавшего существование богов, бессмертие души и т. д. Об Антифонте см.
Л у р ь е С. Я. Антифонт, творец древнейшей
анархической системы. Изд.
«Голос труда». 1925 г.
Критий (ум. 403) принадлежал к софистам (он был учеником знаменитого
философа Протагора). О жизни его известно очень мало. Е г о перу принадлежит несколько трагедий. Принимая активное участие в политической борьбе, он погиб в сражении.
Эврипид (480—406 до н. л.), величайший древне-греческий драматург,
написал около 90 произведений, из которых до нас дошло девятнадцать
(лучшие из них — «Медея», «Ифигения в Тавриде», «Ипполит»). О мировоззрении Эврипида до сих пор нет единогласия среди исследователей. Если,
судить по произведениям великого трагика, если иметь в виду, что Эврипид
изучал философию в школе атеиста Анаксагора и риторику под руководством софиста Продика, что именно в доме Эврипида читал Протагор свой
трактат, за который великого софиста приговорили к смерти, если, наконец,
принять в расчет, что Эврипиду на склоне лет пришлось переселиться из
Афин в Македонию, то более близкими к истине придется признать тех, кто
видит в Эврипиде выразителя идей и-настроений безбожной софистической
интеллигенции. Русский перевод произведений Эврипида имеется в хорошем
издании Сабашниковых. Об Эврипиде см. Лурье С. Я. История античной
общественной мысли. ГИЗ, 1929. ( В VI, IX, XII гл. дается очерк умственных
настроений в античной Греции.)
Эпикур (341—270 до н. л.) родился на острове Самосе, много' странствовал и с 306 г. окончательно обосновался до самой смерти в Афинах. Эпикур
жил в такое время, когда, демократия в Элладе была подавлена, когда общественная жизнь в Афинах замерла, к о г д а все развитие общественного строя,
основанное на рабстве, зашло в тупик. Будучи в своих воззрениях на природу последователем Демокрита, Эпикур выработал стройную философскую
систему, которая в своей этической части явилась выражением упадочной
эпохи, в которую жил Эпикур. Е г о учение об «атараксии» (о невозмутимости
и покое), как о высшем счастье, доступном лишь на пути понимания и познания, было фактически призывом к у х о д у от общественной борьбы, к погружению в духовные наслаждения. Школа Эпикура, по преданию помещавшаяся в его саду, была обособленным, замкнутым мирком, в котором
друзья и последователи Эпикура укрывались от н е в з г о д и треволнений
действительности. Отрицая существование сверхъестественных сил потустороннего мира и бессмертия души, Эпикур учил, что боги существуют. Боги
Эпикура, однако, столь бездеятельны, что в них приходится видеть простой
привесок к системе великого философа, безбожной по своему существу.
Школа Эпикура, просуществовавшая около 600 лет, неизменно служила рассадником и источником атеистических идей и настроений. Сочинения Эпикура
усердно истреблялись христианскими попами. Несмотря на то, что Эпикур
составил больше 300 свитков, в которых он, в отличие от цеховых филосо'?
фов своего времени, общедоступным языком излагал свои воззрения, до нас
дошли только отрывки из сочинений Эпикура. Список главных его произведений сохранен нам писателем Диогеном из Лаэрта, воспроизведшим также
три письма Эпикура и основные тезисы его учения. Об Эпикуре см. Т а н х ил е в и ч О. Эпикур и эпикуризм. Изд. «Новая Москва». 1926 г.
Стратон (Iii в. до н. л.) из Лампсака был учеником знаменитого философа древности Теофрастан (одного из виднейших последователей Аристотеля). Стратон переработал философскую систему Аристотеля в пантеистическом духе, вложив «божественный» принцип движения в природу. Сочинения его посвящены были главным образом естествознанию. Они оказали
огромное влияние на античную науку (за самим Стратоном укрепилось название «Физик»), Из них ни одно не дошло до нас. Список их приводится
у Диогена Лаэртского.
Несмотря на то, что автор бессмертной поэмы «О природе вещей», Тит
Лукреций Кар (99—55 до н. л.), был современником Юлия Цезаря, т. е. сыном такой эпохи, которая поставила нам очень много памятников, мы знаем
о- нем очень немного. Более или менее достоверно известно лишь то, что
Лукреций был выходцем из низшего сословия, что он получил образование
в Афинах, что он был почитателем не только Эпикура, но и Эмпедокла («античного Дарвина», построившего своеобразную теорию эволюции), что, наконец, он покончил жизнь самоубийством. Поэму свою Лукреций посвятил
своему другу, поэту Меммию. Она имеется в русском переводе И. Рачинского.
Лукиан (125—200 н. л.), «Вольтер древности», родился в городе Самосате
(Северная Сирия) в семье ремесленника. В качестве адвоката и странствующего ритора (оратора) он посетил Грецию, Италию и Галлию. Мировоззрение его сложилось под влиянием изучения Платона и философских систем
Циников и Эпикура В литературном отношении на Лукиана особенно сильное влияние оказали произведения цинического сатирика Мениппа (III в. до
н. л.), беспощадно высмеивавшие веру в богов и всякие суеверия. Перу
Лукиана принадлежит несколько десятков сочинений (около 60), самых разнообразных по форме. В них он разоблачает всякого рода мистику и религиозное шарлатанство. Достается от Лукиана и христианам. Последние
отомстили сатирику тем, что придумали о нем легенду, будто за «нечестие»
он был растерзан собаками. На русском языке имеется двухтомное издание
сочинений Лукиана, вышедшее под ред. Ф. Зелинского и Н. Богаевского.
Изд. М. и С. Сабашниковых 1915 г. и 1920 г.
Франсуа Раблэ (1483—1553) не был философом, выработавшим систематическое, законченное мировоззрение. До сих пор еще не прекратились
споры относительно воззрений великого сатирика на веру в бога и существование загробной жизни. Не подлежит, однако, сомнению, что каждая
страница великого произведения Раблэ «Гаргантюа и Пантагрюэль», где беспощадно высмеиваются все стороны средневекового быта, и религиозное
воспитание с его зазубриванием богословской чепухи, и средневековое правосудие, и церковные нравы, и богословские догматы, била по церкви и
играла огромную революционизирующую роль. Правда, Раблэ, писавшему
в такую эпоху, когда костры инквизиции были еще бытовым явлением, приходилось соблюдать величайшую осторожность. Поэтому в пяти книгах произведения Раблэ (в отношении пятой книги авторство его является спорным)
так много аллегорий и намеков, что современному читателю порой бывает
трудно добраться без комментариев до истинного смысла ядовитых насмешек, рассыпанных по страницам «Гаргантюа и Пантагрюэля». Хотя Раблэ
был духовным лицом (он начал свою жизненную карьеру с роли монастырского послушника, а затем был некоторое время приходским священником
в Медоне, «медонским кюрэ», причем он только пользовался доходами от
своей должности, не исполняя ее), он по своим воззрениям и настроениям
был представителем той новой светской интеллигенции, которая стала складываться в городах X V I века в противовес средневековым схоластам и бого-
еловам. Эта интеллигенция, кровно связанная с буржуазией, которая тогда
была еще классом будущего, была полна бодрости, жизнерадостности, веры
в силу человеческого разума, жажды освобождения человеческой личности
от всяких социальных и идеологических пут средневековья. В 1929 г. изд.
«Земля и фабрика» выпущен несколько сокращенный перевод «Гаргантюа и
Пантагрюэль» со статьей проф. И. И. Гливенко, с предисл. проф. П. С. Когана.
Мишель Монтэнь (1533—1592), блестящий и остроумный писатель, принадлежавший к богатой буржуазии (мать его происходила из испано-еврейской семьи, отец был богатым купцом), по своему характеру принадлежал
к тем людям, которых мы называем теперь носсибилистами (приспособленцами). Избрав себе карьеру юриста (некоторое время он был советником городского парламента в Бордо), Монтэнь всю свою жизнь старался избежать
всяких столкновений и конфликтов со своей средой. Безбожник в душе,
неисправимый скептик, Монтэнь прикидывался для окружающих правоверным, правда, весьма терпимым католиком. И только в «Опытах», где собраны
без всякой системы наблюдения, рассуждения, рассказы, афоризмы и парадоксы Монтэня, явственно сказывается его иронический критицизм в отношении в с е х догматов и прописных истин современной эпохи, его скептическое, насквозь земное, мировоззрение. Мысль Монтэня была неизмеримо мужественнее и сильнее его характера. «Опыты» его оказали большое влияние
на просветителей XVIII века.
Джордано Бруно (1550—1600) родился в городке Ноле, входившем в состав Неаполитанского королевства. Еще в детстве он был отдан в доминиканский монастырь, где получил тщательное богословское образование. Ж е лая иметь свободное время для философских и научных занятий, Бруно
вступил в орден доминиканцев. В 1587 г.
он, заподозренный в ереси и кощунстве, вынужден был бежать из Италии в Женеву. Ведя жизнь странствующего философа, Бруно побывал в качестве профессора на кафедрах Тулузского, Оксфордского, Виттенбергского, Марбургского и других западно-европейских университетов. Е г о идеи неизменно вызывали ярость у попов всех
мастей, у тулузских патеров, у женевских кальвинистов, у германских лютеран. Несмотря на свою беспокойную жизнь гонимого скитальца, Бруно не
отрывался от творчества. Е г о перу принадлежат 52 произведения на латинском и итальянском языках (пятнадцать из них до сих пор не найдены).
Среди них мы находим и статьи, и поэмы, и памфлеты, и философские трактаты. В них Бруно выразил свое грандиозное пантеистическое мировоззрение, имевшее ярко выраженную материалистическую окраску. Инквизиция
долго точила зубы на неугомонного еретика, приобретшего огромную популярность, и в конце концов благодаря провокации одного из мнимых
друзей Бруно, венецианца Мочениго, его удалось заманить в Италию. В
1592 г. Бруно после 15-летнего отсутствия вернулся в родную страну. Венецианская инквизиция арестовала Бруно, но по настоянию папы выдала его
в руки папской инквизиции. 7 лет Бруно томился в папских казематах. Под
влиянием физических страданий Бруно готов был пойти на некоторые уступки и дать своим мучителям словесное удовлетворение, однако отречься
от существа своего учения он категорически отказался. Бруно был отлучен
от церкви и передан светской власти на предмет наказания его «по возможности кротко и без пролития крови». 17 февраля 1600 г. Бруно был сожжен
в Риме на Площади Цветов. « В ы испытываете больший страх, произнося мне
приговор, чем, я, выслушивая его»,—вот с какими словами Бруно встретил
решение инквизиции. Одно из главных произведений Бруно—«Изгнание торжествующего зверя» полностью переведено на русский язык С. Полиловым.
Из остальных .произведений немногочисленные отрывки приведены в разных
хрестоматиях по истории философии.
Великий утопист Фома Кампанелла (1568—1639), автор знаменитого «Города солнца», был, как и Бруно, итальянцем по происхождению (он был родом из Калабрии) и монахом (с пятнадцати лет он вступил в орден францисканцев). Если судить по поэтическим произведениям Кампанеллы, по его
утопическому роману, по его трактату «Побежденный атеизм», то Кампа-
нелла не может быть признан последовательным атеистом: он скорее был
близок к деизму с его верой в некоего безличного творца мира и бессмертие души. Вообще, в мировоззрениях Кампанеллы, человека с пламенным
темпераментом и необузданным воображением, много мистики и буйной
. фантастики (Кампанелла отдал дань увлечению современников астрономией,
алхимией и заумной каббалистической премудростью). Однако сочинения
Кампанеллы, в которых мы находим выражение политического радикализма
их автора, его ненависти к тирании, его мечтаний о коммунистическом строе,
его отвращения к схоластике и ее кумиру Аристотелю, сочинения эти могли играть только противоцерковную роль. Даже там, где Кампанелла «страха ради иудейска» ведет якобы борьбу с неверием, он делает это так, что
перевес получается на стороне атеизма. О противоцерковных и противохристианских убеждениях Кампанеллы свидетельствует и его общение с такими
неверами, как Гассенди и Левайе, об этом свидетельствуют и преследования,
которым он подвергался. Кампанелла еле спасся от костра. Целых 28 лет
просидел он в подвалах инквизиции (в Неаполе) и лишь заступничество могущественных покровителей (ценивших Кампанеллу, как астролога) д а бегство из Италии в Париж позволили ему умереть своей смертью.
Лючилио Ванини (1585—1619), «великий патриарх безбожников», как его
называет патер Гарасс, родился в Италии (близ Неаполя). Закончив богословское образование и приняв монашеский сан, Ванини начал скитальческую жизнь странствующего учителя, оратора и проповедника. Е щ е на
школьной скамье Ванини стал уклоняться от правоверия, зачитываясь сочинениями Помпонацци и Кардана, двух философов, отрицавших бессмертие
души. Если в своих сочинениях («Амфитеатр провидения»—1615; «Диалоги»—
1616) Ванини маскировал свои истинные воззрения, то в диспутах и в разговорах с учениками он был гораздо откровеннее. Это в конце концов, и
"погубило его. Выпады Ванини против веры в ведовство, его учение о вечности материи, его насмешки над представлениями верующих об ангелах,
его предсказания неизбежной гибели в с е х религий не могли не вызывать
ярости у фанатиков. Побывав в Германии, Голландии и Англии, Ванини попал в Тулузу, где незадолго до его прибытия, в 1562 г., патерами была организована кровавая баня для гугенотов. Церковникам удалось, использовав
доносы нескольких мерзавцев, инсценировать процесс по обвинению Ванини
в богохульстве и ереси. Ванини был осужден на сожжение. Казнь Ванини
произвела потрясающее впечатление на западно-европейскую интеллигенцию
начала XVII века.
«Трактат о трех обманщиках». В одной из своих булл папа Григорий IX,
кровожадный гонитель «еретиков», ведший жестокую борьбу за господство
над Европой с германским императором Фридрихом II (1194—1250), обвинил
•последнего в публичном произнесении фразы, согласно которой «мир одурачен тремя обманщиками—Моисеем, Иисусом Христом и Магометом». Кто бы
ни был автором этой фразы, но начиная с XIII века она становится крылатой.
Больше того, она породила легенду о существовании какой-то целой книги,
посвященной разоблачению трех обманщиков, причем эта книга, которой никто не читал и не видел, приписывалась самым разнообразным авторам. Не раз
должны были иметь место попытки подделать «Трактат о трех обманщиках», вернее, написать его и выдать за легендарную книгу. До нас дошло
несколько экземпляров изданного в 1598 г. сочинения на латинском языке,
носившего знаменитый заголовок. Относительно первоначального текста этого трактата и его автора среди исследователей существуют разные, довольно
неопределенные догадки. Как бы там ни было, но трактат 1598 г. является
по тону и содержанию наиболее радикальным, безбожным и антихристианским сочинением до XVIII века (конец трактата, к сожалению, до нас не дошел). 3 1930 г. изд. «Атеист» выпущены в переводе Н. Т. Цветкова «Трактат
о трех обманщиках» в тексте 1598 г. и XVIII в. с большой вводной статьей
И. П. Вороницына.
Пьер Гассенди (1592—1655), один из родоначальников современного материализма, которого уже современники считали атеистом (несмотря на то,
Хрестоматия по истории атеизма.
что в системе его фигурируют бог и бессмертный д у х , несмотря на то, что
великий философ добросовестно служил обедню), родился в крестьянской
семье в Провансе. В раннем детстве он проявил свою необычайную одаренность, в двенадцать лет он был уже тонзурован, а в двадцать он руководил
колледжем в городе Дине. Свою философскую систему, в основу которой
легла атомастика и этика Эпикура, Гассенди выработал уже в 1624 г., когда
он издал I том своего первого сочинения «Парадоксальные упражнения против аристотеликов». Остальные тома Гассенди сжег, опасаясь костра (как раз
в 1624 г. парижским парламентом под страхом смерти было запрещено распространять какие-либо положения, направленные против старых и одоб, ренных авторов). Несмотря на то, что извлечение из первого сочинения было
напечатано лишь через 30 лет, учение Гассенди оказало большое влияние
на современников. Сам Гассенди умел ладить с церковью и властями предержащими. Несмотря на то, что иезуиты вели кампанию против .рясоносного
профессора философии и математики, Гассенди был 1635 г. назначен настоятелем сбора в Дине. В 1645 г. болезнь заставила Гассенди переселиться в
Париж, где он сделался королевским преподавателем математики, занимаясь
одновременно научно-литературной деятельностью. Гассенди вел оживленную переписку с величайшими мыслителями своего времени (Галилеем, Кеплером). Основными сочинениями Га.ссенди являются „Syntagma philosorhiae
Epicuri", „Syntagmaphilosophicunr,«Антидекартовские розыскания» и др.-В русском переводе из сочинений Гассенди, сыгравших в свое время гигантскую
роль в борьбе научного мышления со схоластикой и метафизикой, имеются
лишь немногочисленные отрывки.
Анри Леруа (1598—1679), именовавшийся также Региус, был по профессии врачом. Он был продолжительное время профессором медицины и ботаники в Утрехтском университете. Будучи учеником и другом Декарта,
Леруа осмелился сделать из философской системы Декарта материалистические выводы и отбросить бога, за которого цеплялся Декарт. Это привело
к разрыву между ними (1647). Своими философскими сочинениями (основным из них является «Естественная философия») Леруа подрывал самые основы теологии (так называемое онтологическое доказательство бытия боЖия,
'откровение, существование нематериальной души и т. д.). Более или менее
безнаказанно выступления в д у х е Леру.а были в XVII веке возможны лишь
в Нидерландах, которые тогда были пе'редовой страной не только в экономическом, но и в культурном отношении. Все же и здесь Леруа пришлось
выдержать не мало нападок и преследований. О Леруа см. Карев Н, Анри
Леруа—материалист XVII в. «Под знаменем марксизма», 1923, № 8—9.
Бенедикт (Барух) Спиноза (Деспиноза) родился в 1632 г. в зажиточной
еврейской семье, бежавшей из Португалии от преследований инквизиции в
Амстердам. Атмосфера, в которой рос Спиноза, была проникнута крайней
религиозной непримиримостью. К о г д а ему было восемь лет, в Амстердаме,
покончил самоубийством свободомыслящий Уриэль да-Коста, затравленный
фанатичными руководителями еврейской общины. Хотя Спинозу готовили
в детстве к деятельности раввина, он рано стал самостоятельно изучать языки, реальные науки и философию. Изучение философии вскоре привело молодого философа к критике священного писания и к небрежному соблюдению ритуала. Руководители еврейской общцны вскоре отлучили Спинозу
и предали его анафеме и бойкоту. Э т о . н е сломило молодого «еретика». Добывая средства к существованию шлифовкой оптических стёкол, Спиноза
целиком отдался философскому творчеству. Он упорно отказывался от всяких лестных предложений, от профессорской, кафедры в Париже и других
местах. Умер он на сорок пятом году жизни от туберкулеза. Первую с в о ю
работу «Принципы философии Д е к а р т а » он издал в 1668 г.; его «Богословскополитический трактат», проникнутый атеистическим духом, был издан в 1670 г .
Остальные сочинения Спинозы («Этика», «Политический трактат» и др.) были
изданы уже после его смерти, В русском переводе имеются: «Этика» в переводе Н. Иванцова; «Переписка», 1891; «Богословско-политический трактат»,
.1906; «Краткий трактат о боге, человеке и его блаженстве», изд. «Прибой»,
1929 г.. .О Спинозе см. Д е б о р и н А. Очерки по истории материализма
XVII—XVIII вв. Г И З ; Ч у ч м а р е в В. Материализм Спинозы. Изд. «Московский рабочий», 1927; М а н ь к о в с к и й Л. А. Спиноза и материализм.
Г И З 1930.
Томас Гоббс (1588—1679) родился в поповской семье. Образование он
получил в Оксфордском университете. По своей работе после университета
(в качестве преподавателя и секретаря) он был связан с придворными кругами. Революционная встряска, пережитая Англией в 40-х годах XVII века,
сделала Гоббса поклонником и теоретиком сильной государственной в л а с т и —
диктатуры. Учение Гоббса о том, что государству, независимо от. формы правления, принадлежит вся полнота верховной власти, было использрвано одинаково сторонниками и монархической и демократической диктатуры (недаром Кромвель после победы революции предложил Гоббсу высокий государственный пост, а Кард II после реставрации монархии назначил ему
пожизненную пенсию, которая, впрочем, не выплачивалась). Несмотря на то,
что Гоббсу в начале революции пришлось эмигрировать из Англии, как монархисту, он после установления революционной власти боролся против интриг и происков роялистской эмиграции. Спасаясь от травли контрреволюционеров, он возвратился в революционную Англию. Гоббс поддерживал
общение с гениальнейшими мыслителями эпохи, с Галилеем, Гассенди, Декартом, Беконом. Идеи Гоббса, имеющие ныне лишь исторический интерес,
оказали в свое время сильнейшее революционизирующее действие: недаром
в декрете Оксфордского университета против вредных книг на одном из
первых мест фигурировали главные сочинения Гоббса—«О гражданине»
(1642> и «Левиафан» (1651), которые в 1683 г. были преданы публичному сожжению. Оба они переведены на русский язык (первое в 1776 г., второе в
1868). О Габбсе см. вышуказанную работу Д е б о р и н а и монографию: Ч ес к и е А. Томасс Гоббс, родоначальник современного материализма. Изд. «Московский рабочий». 192А
Единственным источником о Маттиасе Кнутсене являются одиночные
экземпляры небольшой книжечки, написанной иенским профессором богословия Иоганном Музеем (изд. 1674) в опровержение утверждения «странств у ю щ е г о агитатора Кнутсена», согласно которому в иенском университете
существовала основанная Кнутсеном атеистическая секта «сознательных». Если судить по опровержению Музея и сохранившемуся экземпляру одного
из подметных листков, подброшенных 5 и 6 сентября 1674 г. в иенском соборе, во время богослужения, Кнутсен был одно время профессором
богословия, но в 1673 г. был лишен кафедры. После этого он сделался странствующим проповедником. Больше ничего ни о Кнутсене, ни о его последователях неизвестно. Прокламации Кнутсена отличались крайним радикализмом: в них автор отрицал существование бога и чорта, призывал к изгнанию
попов и начальства, доказывал тождество брака с внебрачным сожительством, словом, высказывал ряд самых ниспровергательных для своего времени
идей.
Пьер Бейль (1647—1706), «вестник атеистического общества, существование которого должно было скоро начаться» (К. Маркс), занимает первое
место в числе подготовителей француского просветительства. Воспятание^он
получил в семье реформатского священника. Одно время он пытался найти
~ ѵбпокоение от терзавших его религиозных и философских сомнений на лоне католической церкви, увлекся он, было, и картезианской философией, нос 1682 г., со времени в ы х о д а первого своего произведения «Разные мысли
по поводу кометы», Бейль непоколебимо стоит на своем посту защитника
свободы мысли и борца с суеверием. Ни во Франции, ни в Швейцарии «отступнику» Бейлю нельзя было ужиться, лишь в Голландии он обрел возможность, не рискуя каждодневно головой, печатать свои произведения.
Впрочем, и з д е с ь богословы и фанатики во главе с мракобесом Ж ю р ь е травили Бейля и, в конце концов, довели его до преждевременной могилы. Сейчас трудно установить со всей отчетливостью мировоззрение Бейля, прав и л ь н е е ' в с е г о будет считать его скептиком, склонившимся к материализму.
Главным трудом Бейля является его «Исторический и критический словарь»
(1695—1697), бывший своего рода энциклопедией XVII века («Здесь все есть,
надо только уметь искать», говорит о нем Вольтер). В этом словаре Бейль,
по словам того же Вольтера, ни одной строкой не нападает на христианство,
но он не пишет также ни одной строки, которая не будила бы сомнений.
Словарь Бейля и стилем и содержанием оказал огромное влияние на вольнодумцев XVIII века.
Джон Толанд (1670—1722),
один из замечательнейших
мыслителей
XVIII века, одинаково проявил и ів своей общественной деятельности, и в
личной жизни, и в творчестве честность, последовательность и непоколебимость непримиримого борца с гнетом и мракобесием. За свое участие в революционном движении (в восстании против короля Я к о в а II), за свои еретические и вольнодумные сочинения (уже в первом своем произведении;—
«Колено Леви» (1691) Толанд провозглашает духовенство величайшим бичом
человечества). Толанд не раз подвергался преследованиям, травле, но ничто
не могло поколебать мужественного философа. Толанду, одному из образованнейших людей XVIII века, пришлось кончить дни свои в нужде, вдали
от общественной жизни (последние годы он прожил в доме сельского плотна). Из-под пера Толанда вышло около 50 сочинений. Из них особенное значение имели следующие: книга «Христианство без тайн» (1696), положившая
начало английскому
деизму, дававшая
рационалистическое истолкование
евангелия, трактаты о равноправии евреев (1715) и духовенстве, которое обвинялось Толандом в сознательном культивировании суеверия и невежества, в освящении рабства и нищеты народа, собрание статей «Тетрадимус»
(1720), где Толанд пытается дать рационалистическое объяснение библейским
чудесам, трактат «Адезидемон» (1709), доказывающий, что атеизм предпочтительней суеверия, и, наконец, «Пантеистикои» и «Письма к Серене», где
дано наиболее полное выражение мировоззрения Толанда. Материализм То, ланда отчетливее всего сказывается в «Письмах к Серене», из которых первые три адресованы прусской королеве Софии Шарлотте, а д в а остальных—
одному голландскому профессору. На русском языке имеется: Толанд Джон.
Избранные сочинения. Перевод с английского и латинского. С предисл. А.
Деборина. ГИЗ. 1927. В этом сборнике помещены «Письма к Серене» и
«Пантеистикои».
Мари-Франсуа Аруэ-Вольтер (1694—1778) при всей своей двойственности в поведении и творчестве сыграл гигантскую роль в истории атеизма.
Сын судейского чиновника, большой честолюбец и карьерист, ловкий делец, весьма неравнодушный к материальным жизненным благам, Вольтер
был истым представителем лезшей в гору французской буржуазии XVIII века. Представителем и идеологом верхушечных слоев буржуазии Вольтер остался и тогда, когда, купив б о г а т о е имение в Швейцарии (в Фернэ, на границе с Францией), стал разыгрывать знатного дворянина, когда он, достигши
невероятной популярности, сделался «некоронованным королем», с которым
Заигрывали герцоги и монархи. Перу Вольтера принадлежит множество произведений поэтических («Генриада», «Законы Миноса» и др.), сатирических
(«Орлеанская девственница», «Кандид» и др.), исторических («Век Людовика
XIV») и философских (статьи в Энциклопедии, «Философский словарь» и др.)
«Я горячий друг истины, но я не желаю быть ее мучеником»,—эти слова
Вольтера следует иметь в виду, присматриваясь к борьбе Вольтера с церковью. Испробовав в молодости Бастилию, Вольтер в зрелом возрасте весьма старательно избегал таких конфликтов с власть имущими, которые грозили бы его благополучию. Кроме того, свою противоцерковную пропаганду
Вольтер (бывший монархистом по политическим воззрениям) предназначал
не для широких масс, а для «избранного общества»: для народа он считал
необходимым сохранить религию так же, как и палача. Этим объясняется
что, с одной стороны, Вольтер в статьях, напечатанных в Энциклопедии, в
пьесах «Магомет», «Смерть Цезаря», в «Орлеанской девственнице», в переписке, в диалогах издевается над христианством и попами, а с другой стороны, он позволяет себе писать хвалебное письмо по адресу иезуитов
(1746), причащаться в своем поместья (1768) и даже произносить проповедь
в своей приходской церкви. Этим объясняется, что Вольтер маскировал
. свои выпады против религии и церкви. Следует, однако, отдать справедливость Вольтеру: в ряде случаев (в деле протестанта Каласа, обвиненного в
•убийстве сына за желание перейти в католичество, в деле юноши Ла-Бара,
казненного за «кощунство») Вольтер изменял своей манере виляния и маскировки. Он открыто поднимал голос против церковников, не щадил ни сил, ни
'денег, чтобы помешать церкви совершить злое дело. В своих литературных
выступлениях Вольтер защищал просвещенную монархию и деизм, однако,
его огромное литературное наследство служило не монархии, а революции,
не религии, а атеизму. Недаром церковники прозвали его «корифеем безбожников», недаром в годы революции останки его были перенесены в Пантеон,
откуда роялисты-реставраторы в 1814 г. выбросили их на свалку. Из сочинений
Вольтера на русский язык несколько раз и до и после революции переводился
«Кандид или оптимизм». Переводились также философские романы. «Орлеанская девственница» выпущена в двух томах Гизом в 1924 г. Заслуживает
внимания сборник: В о л ь т е р , Мемуары, и памфлеты. Политика, религия, мораль. Изд. «Сеятель». 1924. (Собрано 16 небольших памфлетов, трактатов и
диалогов, подбор не совсем удачен). Из литературы о Вольтере, имеющейся
на русском языке, подавляющая часть посвящена художественному творчеству Вольтера. Марксистская литература о нем крайне бедна (небольшая
монография написана В. З а с у л и ч . См. сборник ее статей в изд. 1907 г.). Из
немарксистских трудов наиболее основательными являются: Ш а х о в А. Вольтер и его время. 1907; M о р л е й Дж. Вольтер. Перевод с английского под
ред. проф. А. Кирпичникова. 1889.
Биографические сведения о Жане Мелье (1678—1733), авторе «Завещания», самого радикального по. своим атеистическим и коммунистическим идеям документа, какой появился в XVIII в., отличаются крайней скудостью.
До сих пор не установлены точно ни год рождения, ни. год смерти Мелье.
По словам Вольтера, который был первым издателем «Завещания» (в извлечении), который впервые сделал известным миру , самое имя последовательнейшего атеиста .XVIII в. Мелье был священником в селении Этрепиньи в
Шампани. В его жизни сельского аббата не было никаких примечательных
событий. Он ревностно исполнял свои обязанности, мужественно защищал
интересы крестьян и раздавал бедным прихожанам все, что у него оставалось
от церковных д о х о д о в . После смерти Мелье в его бумагах были найдены три
рукописи, адресованные прихожанам и местному прокурору. Они были
озаглавлены—«Мое завещание». Из рукописей обнаружилось, что аббат Мелье
был непримиримым атеистом, отвергавшим самые священные устои современного ему общества—частную собственность, социальное неравенство и религию. Вольтер намекает на то, что Мелье, не выдержав вынужденного лицемерия, покончил самоубийством, уморив себя голодом. Немецкий историк
атеизма Маѵтнер на основании ряда соображений высказал гипотезу, согласно которой автором «Завещания» является не сельский священник Мелье,
самое существование которого, мол, сомнительно, а Вольтер или его едшю,мышленник Д'Аржанс де-Вирак. Гипотеза эта до сих пор не получила своего
подтверждения. Атеисты второй половины XVIII века, во всяком случае, нимало не сомневались в историчности Мелье. В 1793 г. Анахарсис Клооти
внес в Конвент предложение воздвигнуть памятник «бесстрашному, благородному, примерному аббату Мелье, как первому священнику, отрекшемуся
от сана и религии». «Завещание» Мелье полностью переведено на русский
язык: М е л ь е Ж а н . Завещание. Перевод Е. Смирнова с предисл. А. Деборина Изд. «Материалист». 1925. О Мелье см. В о л г и н В. П. Революционный
К О М М У Н И С Т XVIII в. (Мелье и его «Завещание») 1919.
Жюльен Оффрэ де-Ламеттри (1709—1751), соединявший в себе талантливого врача (он был учеником знаменитого медика Бургава) и глубокого
философа, был выходцем из «третьего сословия». По окончании медицинского образования Ламеттри некоторое время занимался врачебной практикой
в родном городе Сен-Мало и в ряде военных лазаретов. Стоило, однако, Ла-
метт.ри опубликовать ряд своих сочинений («Естественная история души» —
• 1745, «Политика врача Макиавеля», «Человек-машина»—1747), чтобы превратиться в гонимого бегледа, не могущего найти себе покоя ни во Франции, на
даже в Голландии. (Ламеттри не помогло, что он скрыл свое авторство в отношении «Человека-машины» под псевдонимом англичанина Чарпа). Ламеттри спасло то обстоятельство, что им заинтересовался прусский король Фридрих II, прижимавший своих отечественных вольнодумцев, но покровительствовавший французским просветителям. Ламеттри- недолго прожил в Пруссии.
На обеде французского посланника, вылеченного от тяжелой болезни Ламеттри, последний отравился паштетом и умер от кровоиспускания. Несмотря
на то, что Ламеттри непосредственно очень мало касался церкви и религии,
все его сочинения били по религии и метафизике. В «Естественной историй души», в «Человеке-машине», в «Человеке-растении», в «Системе Эпикура», в «Рассуждении о счастьи» Ламеттри подтачивал все основные устои
религиозно-теологического мировоззрения. На русском языке см. Л а м е т т р и . Избранные сочинения. Перевод с французского под ред. и с предисл.
А. Деборина: Изд. «Материалист». 1925; Л а м е т т р и . Человек-машина. Перев.
и предисл. Виктора Констана. ГИЗ. 1923.
Клод Адриан Гельвеций (1715—1771) по своему социальному положению являлся представителем верхушечных слоев французской буржуазии
XVIII в. До 1751 г. он был генеральным откупщиком с огромным ежегодным
дбходом в 30.000 франков. После 1751 г. он, расставшись с откупами и отдавшись целиком философии, продолжал оставаться крупным помещиком-капиталистом. Идейно Гельвеций был связан с философами, группировавшимися
вокруг Энциклопедии. Он был завсегдатаем салона Гольбаха. Главными работами Гельвеция являются его сочинения: «О духе» (1757), «О человеке»
(1770), навлекшие на автора большие неприятности. Гельвеций непосредст- венно почти не касается в них вопросов религии: основным предметом его
исследований служат здесь вопросы морали и вообще духовной жизни, однако, вся тенденция его произведений носила ярко выраженный материалистический и антирелигиозный характер. В русском переводе имеются только -отрывки,"из сочинений Гельвеция. О нем см. П л е х а н о в Г. В. Очерки по
истории материализма.
Дет Дидро (1713—1784) родился в семье ремесленника-ножевіцика в городе Лангре. Он получил религиозное воспитание: из него собирались сделать
попа. Из иезуитской школы, куда был отдан Дидро, ему удалось перевестись
в один парижский колледж, по окончании которого он занялся литературной
работой. За опубликованные в 1746 г. «Философские мысли» Дидро попадает
на три месяца в тюрьму. После в ы х о д а из тюрьмы Дидро затевает знаменитую Энциклопедию, которой суждено было составить эпоху в истории европейской культуры. Вокруг энциклопедии сгруппировались самые блестящие
умственные силы Франции, но душой ее был Дидро. Первые два тома ее вышли в 1751 г. Они вызвали бурю нападок со стороны церковников и репрессии со стороны правительства. Несмотря на отход Руссо и Даламбера, который устал от борьбы или испугался костра, Дидро долго боролся за существование Энциклопедии, не останавливаясь перед нелегальным ее изданием
(в" 1765 г. вышли последние десять томов, в которых непосредственно уча-,
ствовал Дидро). Несмотря на то, что Энциклопедия отнимала много времени и сил, Дидро находил возможность отдаваться другим самым разнообразным работам. Он написал ряд замечательных по форме и содержанию
произведений. Здесь и глубокомысленное «Письмо о слепых», и острые «Па?
радоксы об артисте», и вызвавшие много подражаний пьесы «Естественный
сын», «Отец семейства», и блестящие атеистические диалоги «Разговор с
Даламбером», «Сон Даламбера», «Разговор философа с супругой маршала»,
и яркий обвинительный акт против изуверства монахов—роман «Монахиня»,
и много других мелких сочинений. Дидро всю жизнь был неутомимым искателем и творцом. В воззрениях на религию он эволюционировал от католического правоверия через теизм, деизм и пантеизм к материалистическому
атеизму. В 1773 г. Дидро, поверив Екатерине II, что она даст ему лучшую
©бстановку для работы и широкое поле для осуществления его идей, поехал в Россию. В Петербурге он быстро раскусил царицу и скоро вернулся в
Париж. До конца дней своих Дидро остался верен своим атеистическим убеждениям. Перед смертью он вежливо, но твердо выставил какого-то кюре,
который сунулся к нему с церковным напутствованием. Большая часть названных выше произведений Дидро переведена на русский язык: см. Д и д р о
Д е н и. Избранные сочинения, т. I, под ред. и с предисловием А. Деборина*
ГИЗ. 1926. Д и д р о Д е н и. Монахиня. Изд. «Атеист». 1929. Д и д р о Д е н и .
Статьи из Энциклопедии, о Гоббсе, Спинозе и эпикуризме. «Под знаменем
марксизма», 1923. № 3—4. О Дидро см. монографию: Л у п п о л И. Дени
Дидро. Очерки жизни и мировоззрение. Изд. «Новая Москва». 1924.
Барон Поль Анри Дитрих Гольбах (1723—1789) является одной из самых
обаятельных фигур среди французских просветителей XVIII века. Жизнь
его небогата внешними событиями. Родился он в богатой буржуазной
семье (в Гейдесгейме, в Баварии), С ранней юности он поселился во Франции, которая стала его второй родиной. Богатое наследство и разностороннее образование позволили ему целиком посвятить себя философии й литературной деятельности. Е г о салон, в котором по воскресеньям и четвергам собирались самые передовые люди эпохи, сделался главным очагом материалистической и атеистической пропаганды, арсеналом, готовившим идейное оружие грядущей революции. Свои огромные средства Гольбах употреблял. на издательские дела (имейно благодаря ему могла быть осуществлена Энциклопедия), на благотворительность, на помощь друзьям и единомышленникам. С 1767 г. Гольбах уже не ограничивается статьями и заметками в Энциклопедии, вереводом йностранных философских и научных
работ: , он начинает издавать одно за другим собственные произведения, из
которых каждое являлось сокрушительным ударом по церкви и абсолютизму. Что касается главного его труда—«Система природы», то он имел эпохальное значение: недаром за ним утвердилось название «библии материализма». Все свои сочинения Гольбах издавал инонимно, строго конспирируя
даже в отношении ближайших друзей. Из-под пера Гольбаха вышло множество памфлетов («Священная зараза», «Исследования о пророчествах»,
: «Разоблаченное христианство», «Здравый смысл», «Карманный богословский
словарь» и др.), в которых автор неутомимо громил религию, не идя ни на
какие компромиссы, начисто отвергая всякие уступки деизму, пантеизму,
«естественной религии» и т. д. При всей неверности взгляда Г о л ь б а х а на
происхождение религии (Гольбах объясняет религию то как продукт обмана
жрецов; то как продукт страха, основанного на невежестве и бессилии)
памфлеты его до сих пор не потеряли своего пропагандистского значения-.
Е г о аргументы против религиозных догматов, против попыток примирить
религию с наукой, против стремления обосновать религией мораль, против
отвратительных обрядов разных вер и исповеданий до сих пор сохраняют
свою свежесть и убедительность. В русском переводе имеются: Г о л ь б а х ,
П о л ь . Система природы, или о законах мира физического и мира духовного.
Перед.,' П. Юшкевича со вступ. статьей А. Деборина. ГИЗ. 1926. Г о л ь б а х
П о л ь . Разоблаченное христианство. Перев. Б. Румера и Я. Виткинда с предисд. А. Деборина. Изд. «Материалист». 1924. Г о л ь б а х П о л ь . Краткий
богословский словарь. Перев. с фран. под ред. и с предислоз. И. Луппола
Изд. «Материалист». 1925. (в 1930 г. вышел в издании «Безбожника» с рис.
Моора). Г о л ь б а х П о л ь . Здравый смысл. Перев. Э. Гуревич и А. Гутерман. Изд. «Материалист». 1924. О Гольбахе см. П л е х а н о в Г. В. Очерки
по истории материализма. Д е б о р и н А. Очерки по истории материализма
X V I I — X V I I I вв. ГИЗ. 1929.
В 1774 г., через четыре года после напечатания в Амстердаме «Системы природы» Гольбаха, появилось сжатое, популярное, но очень яркое
изложение указанного труда. Оно имело з а г о л о в о к : «Истинный смысл системы природы». Д о л г о е время оно приписывалось Гельвецию, умершему за три
360
ПРИЛОЖЕНИЕ
X
года до появления книжечки. Ныне можно считать установленным, что автором ее является не Гельвеций, а кто-нибудь из популяризаторов материализм?, группировавшихся вокруг Дидро и Гольбаха. На русском языке книга вышла в двух изданиях: Г е л ь в е ц и й . Истинный смысл системы природы. Перевод с франц. И. Луппола под ред. А. Деборина. Изд. «Новая Москва». 1923. Г е л ь в е ц и й . Бог—природа—человек. Перев. Н. Шер-Семковской. С предисл. С. Семковского. Изд. ГПП УССР. 1922.
Жак Аидрэ Нэжон (1738—1810), самый видный представитель младшего поколения материалистов XVIII века, родился в семье зажиточногоремесленника. Он получил хорошее образование и еще в юношестве занялся
философией. В 1756 г. он познакомился с Дидро и сделался преданным его
учеником и другом. По рекомендации Дидро Нэжон был взят Гольбахом
в качестве секретаря по литературной работе. Нэжон участвовал в ряде
трудов Гольбаха, особенно в «Священной заразе» и «Карманном богословском словаре». Перу Нзжона принадлежит также ряд статей в Энциклопедии. Нэжон вообще писал много, но, как известно, подавляющее большинство атеистических сочинений XVIII в. выходило под вымышленными именами или анонимно, так что теперь трудно выяснить, какие произведения принадлежат Нэжону. С полной достоверностью авторство его установлено в
отношении популярного полемического сочинения «Военный философ или
трудности религии, предложенные отцу Мальбраншу» (1768). Сочинение это
(по-русски оно переведено под заголовком «Солдат-безбожник») было сре-'
дактировано в виде обращения к известному в то время богослову-картезианцу, соединявшему рационализм с религиозной мистикой. В революции Нэжон
активного участия не принимал, если не считать адреса, поднесенного им в
1790 г. Национальному собранию. В этом адресе-. Нэжон настаивал на том,
чтобы в декларации прав человека и гражданина не упоминалось .самое
имя бога, чтобы христианство и духовенство были дискредитированы и
упразднены. За годы революции Нэжон развил энергичную издательскую и
литературную деятельность. Он опубликовал посмертное сочинение Гольбаха
«Элементы всеобщей, морали, или катехизис природы» и организовал издание
«Методической Энциклопедии», сгруппировавшей вокруг себя таких крупных ученых, как Лаланд, Монж, Ламарк. Нэжон издает также первое полное
собрание сочинений Дидро. При своей политической пассивности и даже
нёустойчивости Нэжон проявил преданность атеизму, которому он не изменил ни во времена Робеспьера, ни во времена Наполеона, когда началось
сплошное идейное ренегатство буржуазной интеллигенции.
Журналист Салавилль заслуживает быть отмеченным в истории атеизма. В 1793 г. он один из крайне немногих последователей энциклопедистов
нашел в себе мужество выступить в «Патриотических и литературных анналах» с критикой культа Разума и В е р х о в н о г о Существа, с точки зрения последовательного атеизма. Он, с одной стороны, отвергал голое администрирование в борьбе некоторых секций Парижа и провинциальных комиссаров
с церковью, с другой стороны, он протестовал против замены христианского
культа новым, в угоду укоренившимся привычкам и заблуждениям масс.
Сильвен Марещаль (1750—1803)—единственный среди видных атеистов
XVIII в., соединявший в себе воинствующего антирелигиозника с пламенным
борцом против политического рабства и социального неравенства. Выходец
из состоятельной буржуазной семьи, Марешаль, вопреки воле отца, занялся
вместо коммерции философией и литературой. Благодаря помощи некоторых покровителей-ему удалось получить место библиотекаря в Коллеже Мазарини. В 1781 г. он опубликовал сочинение под заголовком «Фрагменты
моральной поэмы о боге, или новый Лукреций», а еще через несколько месяцев «Книгу, спасшуюся от потопа, или новооткрытые псалмы». К эти(м
двум сочинениям вскоре присоединился «Альманах честных людей». За свои
произведения, проникнутые атеистическим и республиканским духом, Марешаль поплатился арестом и высылкой из Парижа («Альманах» был сожжен
рукой палача). В годы революции Марешаль оказывается на крайнем левом
фланге. Он принял горячее участие в «заговоре равных» (его перу принад-
лежит самый «манифест равных»). Он написал , много песен и гимнов, положенных на музыку известным революционным композитором Гретри. Послетермидора, когда Марешаля начали травить за его философские и общественные воззрения, он опубликовал многотомные «Путешествия Пифагора»,
где опровергает обвинения атеистов в безнравственности и прочих смертных грехах. Последним произведением Марешаля был «Словарь атеистов»,
составленный по плану и при содействии Лаланда. Словарь этот каж'ется
теперь наивным и нескладным произведением (в числе атеистов здесь много имен фигурирует зря, не забыт даже... Иисус Христос), однако в свое
время он служил вызовом мракобесам и протестом против возврата к богуи церкви.
Один" из крупнейших астрономов и математиков нового времени Жером Лзлакд (1732—1807) был по всему складу своего характера кабинетным
ученым. На 21 году жизни он был отправлен для астрономических-занятий із
Германию. Здесь он сделался профессором Берлинского университета и попал в круг вольнодумцев, группировавшихся вокруг Фридриха II. Лаланд,
подобно всем просветителям 'XVIII в., считал атеизм мировоззрением, доступным лишь образованной верхушке общества; простонародью как и детям,,
религия, по его мнению, необходима как средство воспитания и утешения:
Однако, близость с Сильвеном Марешалем оказала влияние на Лаланда и
толкнула его на довольно смелое выступление в период реакции, наступившей после термидора. Лаланд, до старости своей не выступавший в печати:
с защитой атеизма (в «Методической Энциклопедии», сотрудником которой
он был, Лаланд лишь устранял богословские гипотезы из редактировавшегося им астрономического отдела), напечатал в 1803 и 1805 гг. два дополнения к ^Словарю атеистов» Марешаля, в которых он изложил свои доводы
против богопоклонничества и заклеймил ренегатов атеизма, которых было
немало в годы реакции.
Людвиг Фейербах (1804—1872) родился в семье известного баварскогокриминалиста. Получив блестящее богословское и философское образование
(он был учеником Гегеля), Фейербах в 1829 г. сделался преподавателем Эрлангенского университета. В 1830 г. молодой доцент публикует сочинение
«Мысли о смерти и бессмертии», основная идея которого была направлена
против учения религии о загробной жизни. Хотя сочинение это вышло анонимно, однако имя автора скоро стало известно, и Фейербаху навсегда закрылся путь к профессорской кафедре.'С 1832 г. до 1837 г. Фейербах, живет
вольным литератором, претерпевая самые тяжелые материальные испытания. В 1833 г. он напечатал труд «История философии от Бекона до Спинозы». Женитьба на любимой девушке, совладелице фарфоровой фабрики в
небольшой деревушке Брукберг, дала Фейербаху материальную обеспеченность и позволила ему целиком отдаться философской и научной работе.
Фейербах поселился в Брукберге, где прожил целых 25 лет. За эти годы он
опубликовал главные свои работы («Сущность христианства»—1841; «Сущность религии»—1845; «Лекции о сущности религии»—1851; «Теогония»—
1857), в которых обосновал свое материалистическое и атеистическое учение,
названное им самим «антропологией». Материализм и атеизм не получили уФейербаха цельного и законченного характера, однако исторически «ангро. пология» Фейёрбаха сыграла огромную революционную роль, нанеся сокрушительный удар религии и идеализму. Банкротство Брукбергской фабрики в
конце пятидесятых годов заставило Фейербаха начать снова 'жизнь, полную материальных невзгод. Несмотря на тяжелые бытовые условия, Фейербах продолжает отдавать все свои силы философии, естествознанию, общественным наукам. Он чутко следит и за политической жизнью 3 . Европы. В
1&70 г. Фейербах 66-летним стариком входит официально в социал-демократическую партию, чтобы подчеркнуть свое горячее сочувствие борьбе пролетариата за освобождение от капиталистического рабства. В посмертных
работах Фейербаха об этике ясно сказывается влияние Маркса, бывшего когда-то учеником Фейербаха. Фейербах пытается здесь увязать мораль с экономикой, подкрепляя свою попытку ссылками на «Капитал». На русском:
языке имеется в издании ГИЗа (1923) трехтомное собрание сочинений Фейерб а х а . В него вошли «Лекции о сущности религии», «Сущность христианства», «Сущность религии», «Эвдемонизм» и др. О Фейербахе см.: Энгельс
Фридрих, Л. Фейербах. Перев., предисл. и примеч. Г. В. Плеханова: Деборин А: Людвиг Фейербах. Жизнь и деятельность. Изд. «Материалист». 1923.
Совершенно немыслимо в нескольких строках изложить жизнь и деятельность знаменитого анархиста и международного революционера Михаила Александровича Бакунина (1814—1876). Они с исчерпывающей полнотой
рассмотрены в монографиях Ю. Стеклова и В. Полонского, к которым мы и
отсылаем читателя. Бакунин в своих публичных выступлениях и в своих писаниях вел неустанную борьбу со всякими видами поповщины. В «Боге и
государстве» (русск. издание вышло в 1919 г.), в «Кнутогерманской империи»,
в «Ответ Мадзини», в «Антитеологизме» немало страниц .посвящено религии
и церкви. Несмотря на то, что Бакунин провозглашал себя последовательным
и законченным материалистом, в его взглядах на религию, как и во всем его
мировоззрении, заключалось немало идеалистических элементов. В объяснения происхождения религии Бакунин подвергался влиянию Фейербаха и
Конта. Вместе с Фейербахом он считал религиозное чувство врожденным
человеку, вместе с Контом он первоначальной формой религии у людей
считал фетишизм. В борьбе с религией, как и в борьбе с государством,
Бакунин признавал одно средство—бунт. Все это давно преодоленные и
сданные в архив идеи и положения. Однако, не все устарело в антирелигиозных писаниях Бакунина. Т а сокрушительная критика религии, та оценка
классовой ее роли, которую мы находим на лучших страницах Бакунина,
д о ' с и х пор сохраняет свою злободневность и убедительность. О воззрениях
Бакунина на религию см. Л у к а ч е в с к и й А. Бакунин и религия. «Антирелигиозник», 1926, № 7.
Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889), «русский великий социалист домарксоза периода», «величайший представитель утопического социализма в России», родоначальник «солидарной материалистической традиции в передовой общественной мысли России» (все эти характеристики
принадлежат Ленину), был самым выдающимся представителем русского просветительства 60-х годов. Он родился в поповской семье в Саратове. Пройдя
курс духовной семинарии и окончив затем петербургский университет, Чернышевский в течение нескольких лет работал преподавателем русского языка. В 1854 г. начал работать в журнале «Современник», издававшемся Некрасовым. В 1855 г., сдавая при университете экзамен на магистра, представил
в качестве- диссертации один из г л а в н ы х своих трудов—«Эстетические отношения искусства к действительности», где, по словам Ленина, впервые
применен материализм в области теории искусства. В течение восьми лет
Чернышевский работает в «Современнике», где напечатаны основные статьи
е г о : «Очерки гоголевского периода русской литературы»—1855—1856; «Критика философских предубеждений против общинного владения»—1858; «Ант
ропологический принцип в философии»—1860 и мн. др. Чернышевский «своей
могучей проповедью умел и под цензурными статьями воспитывать настоящих революционеров» (Ленин). В 1862 г. «Современник» был приостановлен
царским правительством, а Чернышевский был арестован, заключен в Петропавловскую крепость и затем сослан на каторгу в Сибирь. С 1864 г. по 18S3 г.
Чернышевский прожил вдали от всякой культурной среды (первые семь
лет на каторге, остальные 12 в Вилюйске, 450 верст за Якутском). Из
ссылки Чернышевский вернулся у ж е с надорванными силами, однако, не
переставал заниматься литературной деятельностью. Долгое время самое
имя Чернышевского находилось под запретом, и некоторые его работы издавались б е з указания автора. Для философских воззрений Чернышевского
наиболее характерно его сочинение «Антропологический принцип в философии». Непосредственно религии Чернышевский касался очень мало (предмет этот был запретным в царской России). В тех случаях, когда он подходил к этой теме, ему приходилось прибегать к «эзопову языку», образцом
которого является помещенная в нашей хрестоматии рецензия на книгу
Новицкого. Полное собрание сочинений Чернышевского (в 10 томах) вышлов 1905—06 гг. в издании его сына. О Чернышевском см. ряд статей П л е х а н о в а (особенно в т. V гизовского собр. сочинений), статью А. В. Л у н а ч а рс к о г о в «Вестнике Коммун. Академии» (кн. 25), работы и статьи Ю. С т е кл о в а («Красная новь», 1927, №№ 4, 7, 1928, № 8), статью А р к. Л о м а к и н а
«Ленин о Чернышевском» («Известия ЦИК», 24 июля 1928 г., статью M. Н. П о к р о в с к о г о («Правда», 24 июля 1928).
Людвиг Карл Христиан Бюхнер (1824—1899) был по профессии врачом. Одновременно с медициной он изучал и философию. Под влиянием сочинения Моллешотта «Круговорот жизни» Бюхнер решительно встал на материалистическую позицию, которой он не изменил до конца жизни. В 1852 г.
Бюхнер сделался преподавателем Тюбингенского университета по кафедре
судебной медицины. Однако опубликованное им сочинение «Сила и материя» (первое издание вышло в 1855 г.) вызвало такой взрыв ярости в клерикально-реакционных кругах, что Бюхиеру пришлось уйти в отставку.
Бюхнер отдался литературе и общественной деятельности, не оставляя медицинской практики (в 1871—72 гг. он работал в качестве военного врача).
Из-под пера Бюхнера вышел целый ряд популярных работ («Из области
природы и науки», «Природа и дух» и т. д.), направленных против религии
и идеализма. С 1881 г. Бюхнер вел научно-пропагандистскую работу в «Немецком союзе свободомыслящих» (атеизм сочетался у Бюхнера с буржуазным радикализмом). Материализм Бюхнера носил механистический характер, и если работы Бюхнера (особенно «Сила и материя»—имеется в русском переводе) в свое время играли положительную роль в борьбе с религией, то они все же оставляли много лазеек для идеализма и поповщины
(ем. отзывы о Бюхнере Ф. Э н г е л ь с а в «Людвике Фейербахе» и «Диалектике природы»),
. В различных трудах основоположников марксизма рассеяно множество
гениальных мыслей и замечаний, не только дающих объяснение религии,
к а к идеологической надстройки, но и намечающих единственно правильные
пути для ее преодоления. Несколько лет назад у нас были сделаны '-попытки
собрать мысли К. Маркса и Ф. Энгельса воедино, сгруппировав их вокруг
отдельных у з л о в ы х тем. Мы имеем три сборника: О религии. Основные вопросы методологии истории религии и антирелигиозной политики рабочего класса Статьи и отрывки из произведений К. Маркса, Ф. Энгельса, Н. Ленина,
Г . Плеханова и др. Составил В. А. Десницкий. Гиз. 1926; Мысли К. Маркса
и Ф . Энгельса о религии. Под ред. научного общества «Атеист». Изд. «Атеист» М. 1927; Избранные мысли К. Маркса и Ф . Энгельса о религии с предисловием и примечаниями (изд. сокращенное). Изд. «Атеист». 1929. В с е три
сборника имеют свои достоинства и недостатки, всеми ими можно и должно
пользоваться в системе антирелигиозной учебы, однако, они, во-первых, все
страдают неполнотой и спорной систематизацией материала, во-вторых,
они ни в коей мере не могут заменить изучение мировоззренческих раоот
Маркса и Энгельса. Для усвоения воззрений Маркса и Энгельса на религию
и борьбу с ней необходима внимательнейшая проработка следующих произведений: «Коммунистический Манифест» (имеется в нескольких изданиях);
«Святой Макс» (критика учения Штиркера); «К еврейскому вопросу» (имее т с я в нескольких изданиях, напечатано также в I т. «Сочинений К. Маркса
и Ф. Энгельса». ГИЗ); «К критике гегелевской философии права», «АнтиДюринг»; «К истории первоначального христианства», «Диалектика природы»' «Развитие социализма от утопии к науке».
Иосиф Дицген (1828—1899) родился в семье кожевника. Не успев получить законченное школьное образование, он в 15-16 лет попадает рабочим
в кожевенную мастерскую. Спасаясь в 1849 г. от реакции, Дицген попадает
в Америку где д в а года скитается в качестве маляра, кожевенного подмастерья и т д Возвратившись в 1851 г. в Германию, Дицген под влиянием
к - т ь н с к о г о ' п р о ц е с с а коммунистов и «Коммунистического Манифеста» стано-
витея'убежденным социалистов,-а изучение вышедшей в 1859 г. знаменитой
работы К. Маркса «К критике политической экономии» привело его к марксизму. Оставаясь по профессии кожевником, Дицген умудряется интенсивно
работать в области выработки диалектического мировоззрения, проявив
здесь огромный творческий талант. Дицген был не только первым рабочимфилософом, но и первым социалистом-антирелигиозником. Дицген первый
начал массовую антирелигиозную пропаганду. В брошюрах и очерках, помещавшихся в германской и американской прессе («Скрытая теология», «Как
возникли боги», «Религия социал-демократии» и др.), Дицген вскрывал социальную подоплеку религии, ее заповедей и святынь, доказывая, что борьба
с религией является необходимой составной частью борьбы за освобождение
человечества. «Религия социал-демократии» имеется в отдельном русском
издании. В 1926 г. Гизом издан сборник отрывков из сочинений Дицгена
под заголовком «Против поповщины». О Дицгене см. статью В. И, Л ён и н а. «К двадцатилетию смерти Иосифа .Дицгена в книге «Материализм и
собрания сочинений) и отзывы Ленина о Дицгене в книге «Материализм и
эмпериокритицизм».
Ученик и соратник Маркса и Энгельса, талантливый популяризатор
идей пролетарского марксизма Поль Лафарг (1842—1911) родился в Саит-Яго
н а ' о с т р о в е 1 Кубе. Девяти лет он был отправлен во Францию для получения
образования. Еще на студенческой скамье он принял участие в революционном движении. Участие в студенческом конгрессе в Льеже (1865) при5ело
Лафарга к тому, что для завершения медицинскйх занятий ему пришлось
переселиться в Л о н д о н / т а к как во французские университеты доступ .оказался для него і закрытым. На студенческой скамье Лафарг увлекался Прудоном, однако, знакомство с Марксом, на дочери которого, Лау.ре, Лафарг женился в 1868 г., и практика классовой борьбы превратили Л а ф а р г а в убежденного, и пламенного марксиста. После смерти д в у х детей Лафарг совершенно
оставил медицину и целиком отдался политической и литературной деятельности. Он принимал горячее участие в восстании Парижской Коммуны. Лишь
бегство .в Испанию спасло его от расправы версальцев. В Испании Лафарг
продолжал социалистическую пропаганду. После последнего конгресса 1
Интернационала Лафарг на некоторое время переселился в Лондон. В начале
80-х годов амнистия позволила Л а ф а р г у вернуться во Францию. Здесь
Лафарг целиком отдается организации и укреплению социалистической партии, проект программы которой был составлен им и Марксом в 1880 г. Несмотря на преследования буржуазного с у д а (не раз пытавшегося запрятать неутомимого агитатора в тюрьму), Л а ф а р г развивал до конца дней своих усиленную политическую и литературную деятельность. В очерках, статьях, брошюрах и памфлетах Лафарг проявил наряду с огромной научной эрудицией
и теоретической углубленностью большой сатирический талант, недюжинное
мастерство стиля. Почетное место в литературном наследстве. Лафарга принадлежит его антирелигиозным писаниям, из которых большинство переведено на русский язык и издавалось много раз. Наиболее важны следующие
издания: Л а ф а р г П о л ь . Против б о г а и капитала. Памфлеты и стзтьи.^Изд.
«Московский рабочий». 1922. (В это издание вошли: «Причины веры в бога».
«Религия капитала», «Пий IX в раю», «Миф об Адаме и Е в е » и др.) Л а ф а р г '
П о л ь . Экономический детерминизм Карла Маркса. Исследование о происхождении и развитии идей справедливости, добра, души и бога. Изд. «Б-ки МК
РКП». 1923. Имеется позднейшее издание некоторых очерков, вошедших
в указанные выше сборники. Л а ф а р г П о л ь . Очерк из истории культуры.
Изд. «Московский рабочий». 1928 г. «Происхождение религиозных верований»
Лафарга имеет'ся в нескольких отдельных изданиях (в этой работе проводится натуралистическая, ныне оставленная марксизмом теория). _
Характеристику работ Георгия Валентиновича Плеханова ( 1 8 5 6 — 1 9 1 8 )
по вопросам мировоззрения мы находим в следующих словах В. И. Ленина:
«Нельзя стать сознательным настоящим коммунистом без того, чтобы не
изучать, именно изучать все написанное Плехановым по философии — ибо
это лучшее, что есть во всей международной литературе марксизма». Для
выяснения воззрений Плеханова на религию и церковь, его отношения к отдельным этапам в истории материалистического атеизма важны следующие
работы:. «Статьи о религии» (их три: они выходили несколько раз отдельно,
например, в изд. «Красной Нови» и Гиз'а Украины; помещены они в XVIII т.
гизовского собрания сочинений Плеханова); примечания к «Людвигу Фейербаху» Энгельса; статьи о Н. Г. Чернышевском; статьи, помещенные в ХѴПІ т.
гизовского собрания сочинений («От идеализма к материализму» и др.);
«Очерки по истории материализма»; «Основы марксизма»; «История русской
общественной мысли». В 1929 г. изд-вом «Атеист» был выпущен сборник
«Мысли Г. В. Плеханова о религии». Этим сборником можно пользоваться,
учитывая его неполноту и другие существенные недостатки (см. рецензию
А. Лукачевского в «Антирелигиозннке», 1929, № 1). Лучше всего прорабатывать непосредственно самые сочинения Плеханова. Большой интерес имеет
статья С у х о я л ю'ев. а И. Отношение Г. В. Плеханова и В. И. Ленина к религии в пяти проектах программы РСДРП и в программе компартии. «Воинствующий атеизм», 1931, № 1.
Из работ В, И. Ленина, непосредственно посвященных вопросам философии и антирелигиозной пропаганды, первостепенное значение имеют следующие: «Об отношении рабочей партии к религии» (вышла в 19U9 г., помещена в 1 ч. XI тома собр. сочинений); «Социализм и религия» (напечатана
впервые в 1905 г., помещена в 1 ч. VII т. собр. сочинений); «Материализм и
эмпириокритицизм». (X том собр. сочинений); «О значении воинствующего
материализма» («Под знаменем марксизма», 1922, № 3). Совершенно Немые- .
лимо пройти мимо писем В. И. Ленина к М . Г о р ь к о м у («Ленинский сборник,!),
мимо ряда публикаций института Ленина за последние годы. Из довольно
многочисленных попыток дать систематизированное собрание мыслей Ленина
о религии, следует отметить следующее: Ленин В. И. Религия, церковь и
•партия. Составил А р к а д и й Л о м а к и н . (Несколько изданий, предназначенных для самого широкого читателя); «Мысли Ленина о религии». Изд.
«Атеист». Последнее, 4-е изд. 1930 г. Об отношении Ленина к религии см.:
Я р о с л а в с к и й Е м . Мысли Ленина о религии, несколько изданий; Б о н чБ р у е в и ч В. В. Владимир Ильич и религиозный вопрос. «Антирелигиозник»,
; у29, № 1. С у х о п л ю е в И. Статья в ^«Воинствующем атеизме», 1931,.№ Iiуказания выше.
Антирелигиозная пропаганда являлась в деятельности Ивана Ивановича
Скворцова-Степанова (1870—1928) одной из форм его многообразного слу-'
жения пролетариату, могильщику капитализма и религии. «Десятки лет боролся т. Скворцов-Степанов в наших рядах и испытывал все невзгоды жизни
профессионального революционера. Многие тысячи товарищей знают его,
как Одного из старейших и популярнейших литераторов-марксистов. Знают
его и как активнейшего участника Октябрьских дней. Знают его, наконец,
как преданнейшего борца за ленинское единство партии и за ее железную
сплоченность». Эти слова И. В. Сталина характеризуют весь идейный облик
И. И. Скворцова-Степанова. Целых 8 лет были вырваны из его жизни арестами, тюрьмой и ссылкой. Начиная с 1891 _г. И. И. Скворцов-Степанов,
тогда еще молодой учитель одного из городских училищ в Москве, целиком
отдается революционной работе. В качестве руководителя подпольных рабочих кружков, в качестве активного члена «лекторской группы» МК (в 1905 г.),
в качестве неутомимого работника, легальной и нелегальной большевистской
печати, в качестве переводчика «Капитала», на всех ответственных постах,
на которые его ставила партия в годы революции, И. И. Скворцов-Степанов
неизменно проявлял себя как борец, сознательно устремляющий свои усилия
в ту точку, которая имеет особое значение на данном этапе классовой
борьбы. Этим объясняется, что антирелигиозная пропаганда стала занимать,
видное место в литературно-пропагандистской работе И. И. Скворцова-Степанова именно тогда, когда религия и церковь сделались излюбленным флагом для контрреволюционных сил в нашей стране,"_когда церковь превратилась в организационный центр разбитой в открытом бою реакции. Из-под
пера И. И. Скворцова-Степаноза вышло множество мелких и крупных брошюр и статей, направленных против религии и церкви. В них он проявил
эрудицию и остроту углубленного теоретика, таланты и обаяние блестящего
популяризатора. Наибольшее значение среди них имеют следующие: «Очерк
развития религиозных верований», «Религия и Общественный строй» (в сборнике «Коммунизм и религия», 1922); Предисловие к книге Кунова «Возникновение религии и веры в бога»; «Происхождение нашего, бога»; статьи против
теории страха смерти. «Под знаменем марксизма», 1922, № 11-12, 1923, № 2 - 3 ;
«Мысли о религии». Биографические сведения см. в- предисловии к I тому
«Избранных произведений» И. И. Скворцова-Степанова (Гиз. 1930).
СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
ï Античный атеизм
Ксенофан Колофоптскин
Парменид
Гераклит
і ...
Анаксагор
Демокрит
Антифонт
Критий
Эврипид
Эпикур
Стратой Лампсакский
Тит Лукреций Кар
Лукиан Самосатский
. . . . . . . .
.
•
3.
—
•—
4
—
—
5
6
—
8
9
• 15
II Вольнодумцы переходной эпохи
Франсуа Раблэ
Мишель Монтэнь
Джордано Бруно
Фома Кампанелла
Лючилио Ванини
19
24
27
31
32
III Атеисты XVII века
Пьер Гассенди
Анри Леруа
Барух Спиноза
Томас Гоббс
Маттиас Кнутсен
Пьер Бейль
39
41
42
6372
~~
IV Деизм и пантеизм .XVII и ХѴШ ЕВ.
Джон Толанд
Мари Франсуа
Аруэ
Вольтер
77
90
V Атеисты XVIII в .
Жан Мелье
Жюльен Оффрэ де-Ламеітри
Клод Адриан Гельвеций
Дени Дидро
107
118
122
" '.124-
ч
- Стр.
Поль Анри Дитрих Гольбах
Аноним
Жак Андрэ Нэжон
Салавилль
Сильвен Марешаль
Жером Лаланд
.
134
160
164
169
171
.173
VI Атеисты X I X в.
Людвиг Фейербах
Михаил Александрович Бакунин
Николай Гаврилович Чернышевский
Людвиг Бюхнер
179
.1%
211
217
VII Пролетарский атеизм
Карл Маркс—Фридрих Энгельс
Иосиф Дицген
Поль Лафарг
Г. В. Плеханов . . . . . '
Владимир Ильич Ленин . .
Иван Иванович Скворцов-Степанов
Приложение—Био-библнографические примечания
235
266
276
287
305
328
349
ЦЕНД
3
ПіРШПіХ, 3 t 4
уі•
т .
201
5147533
«УБ.
коя,