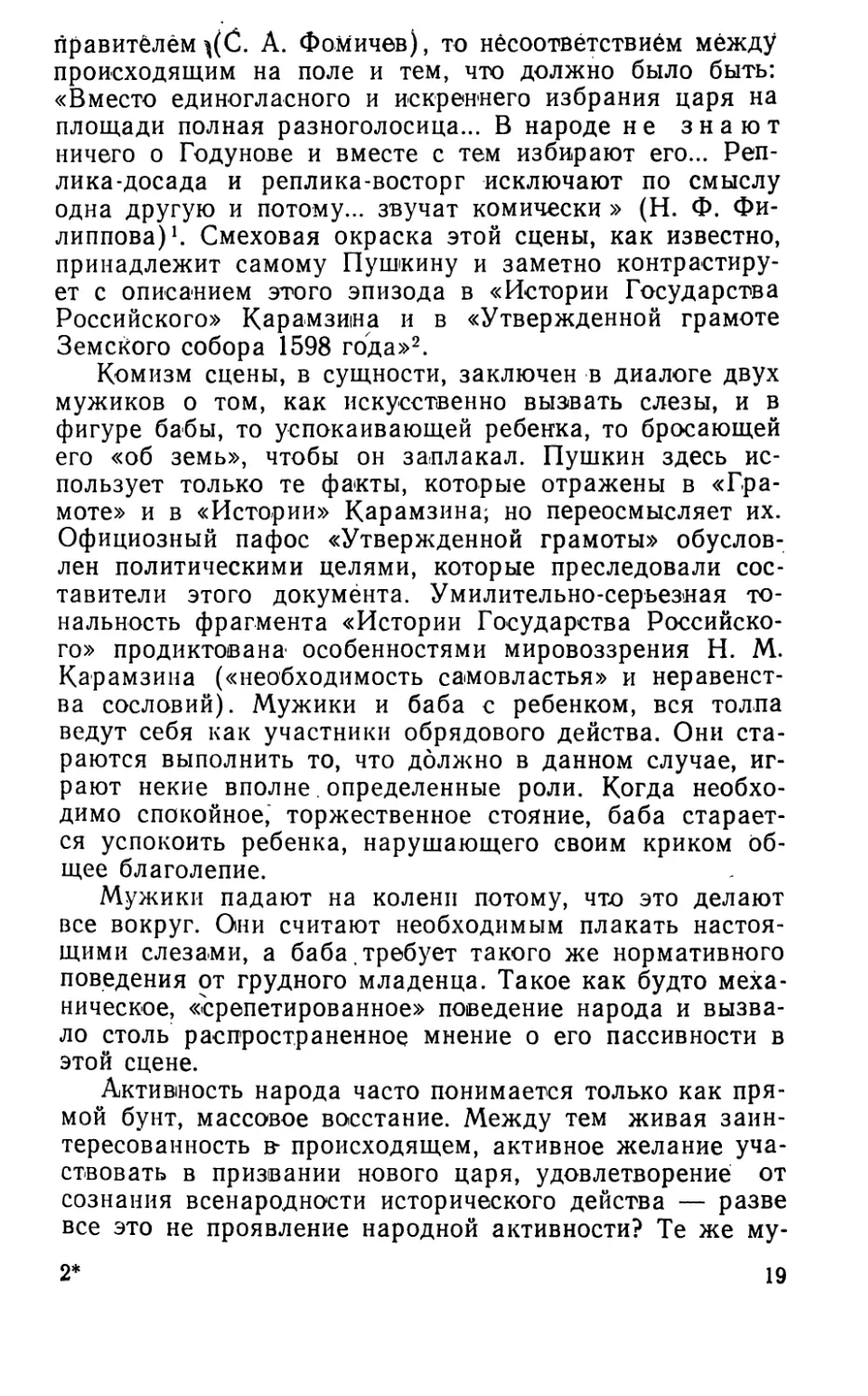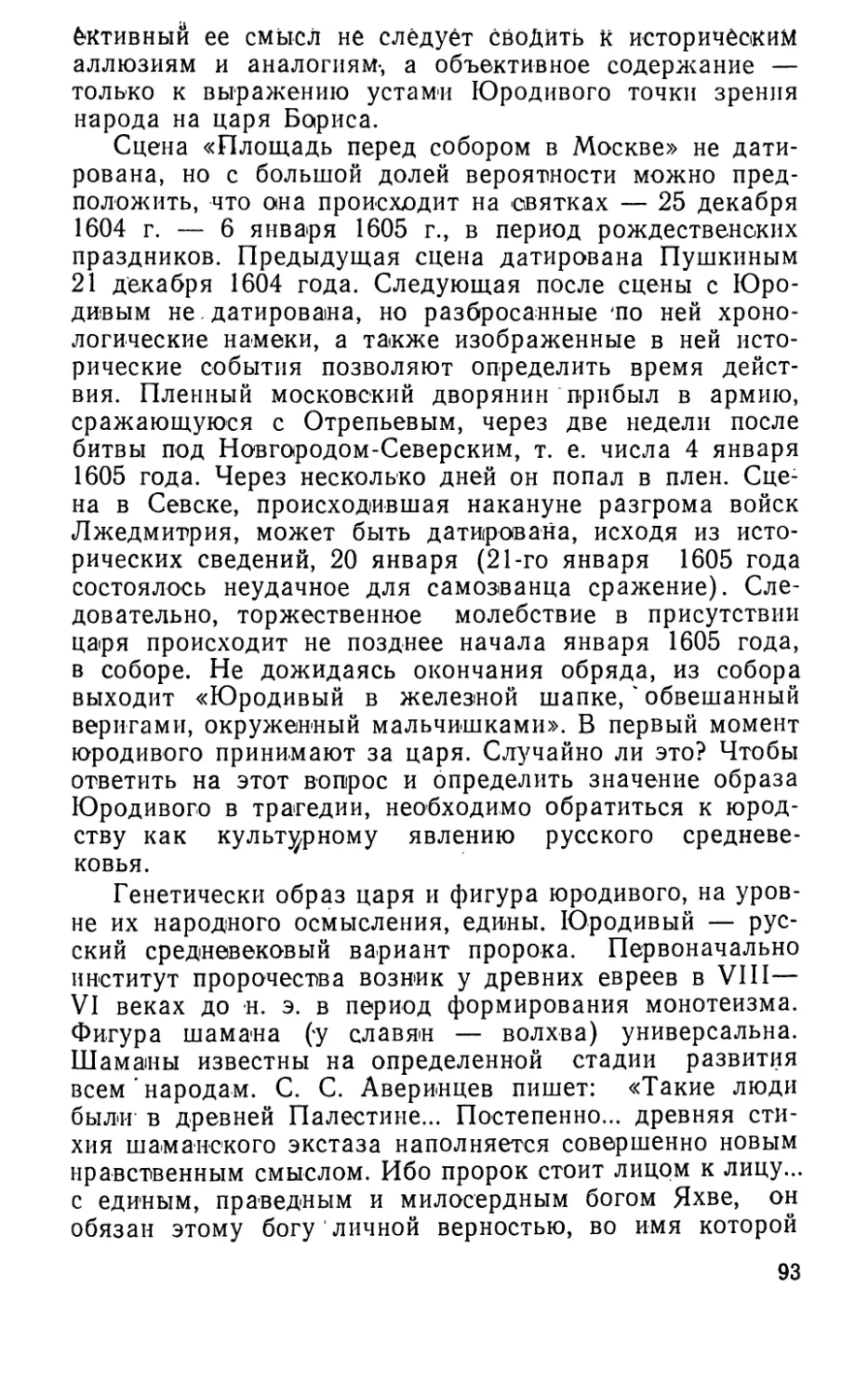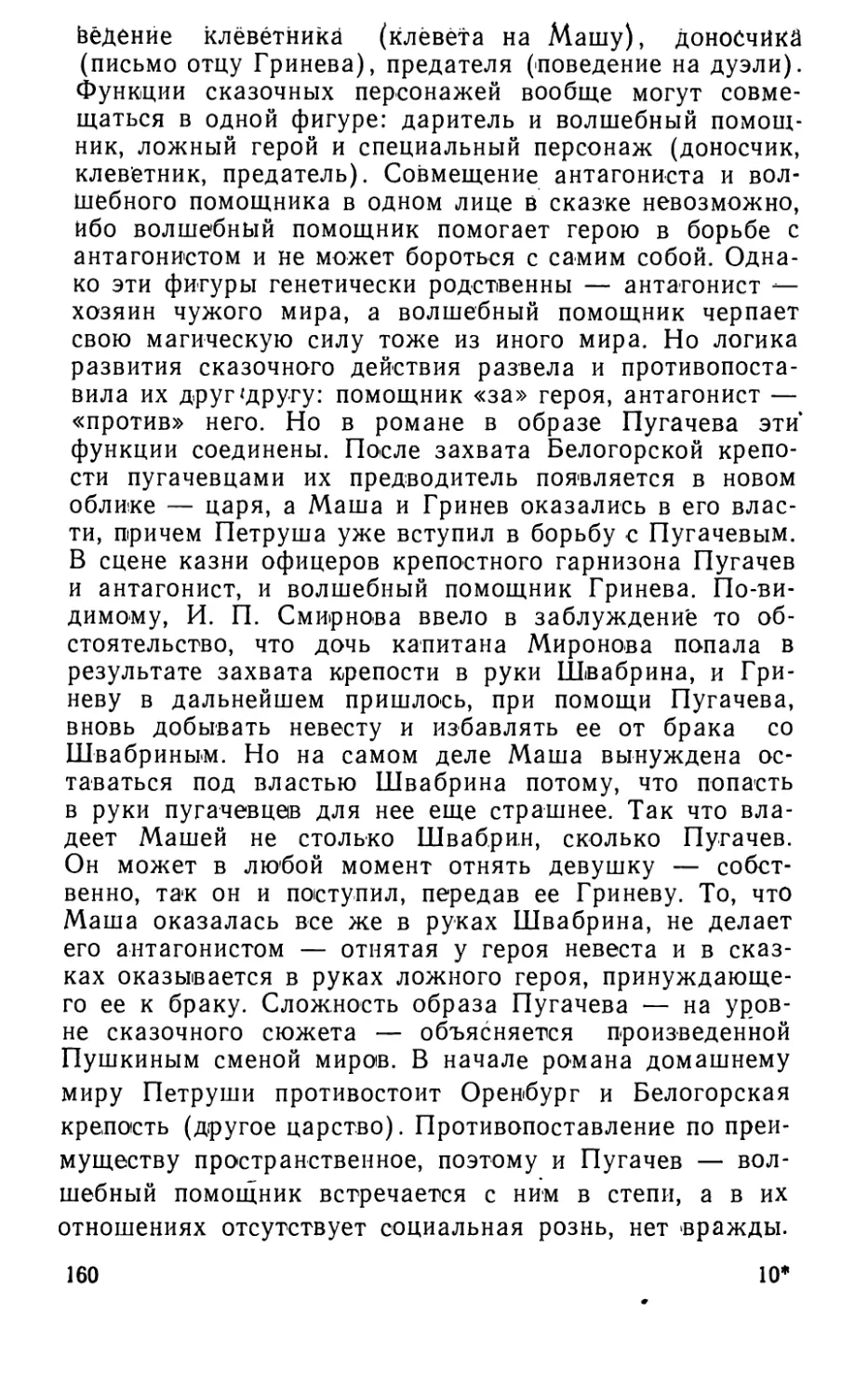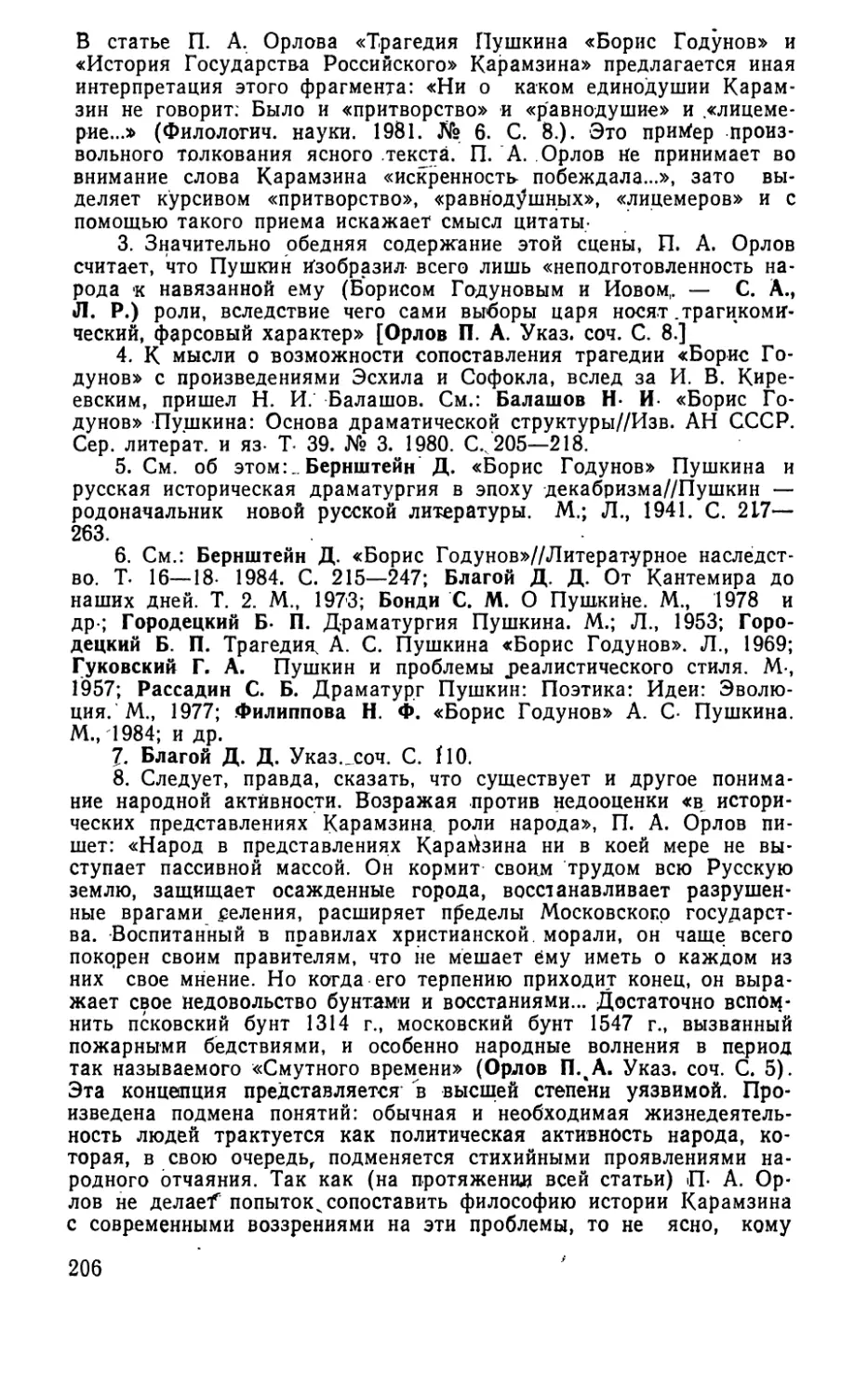Текст
V С. 3. Агранович, Л, П. Рассовская
1
МИФ, ФОЛЬКЛОР,
ИСТОРИЯ
В ТРАГЕДИИ
«БОРИС ГОДУНОВ»
И В ПРОЗЕ А. С. ПУШКИНА
Научный редактор профессор Л. А. Финк
ББК 83.3(2)
А 25
Исследуются характер историзма и фольклорные основы траге-
дии «Борис Годунов», романа «Капитанская дочка», повести «Пи-
ковая дама» А. С. Пушкина, а также драматической трилогии А. К.
Толстого. Авторы стремятся показать также связь пушкинской тра-
гедии с традициями Еврипида и Шекспира. Произведения Пушкина
рассматриваются, в широком контексте истории человечества. В цент-
ре внимания исследователей сложный й богатый комплекс идей и
проблем* связанных с фигурой царя, генезис которой восходит к
образу племенного вождя периода разложения родового строя и
формирования классового общества. Интересны также наблюдения
и размышления авторов над связями идейного комплекса «царь—са-
мозванец — скоморох — юродивый» и жанровой, природы трагедии
и романа. ’ ’ ' • • - ’ ’
Предназначена для специалистов-литературоведов, интересую-
щихся проблемами взаимоотношений фольклора и литературы, сту-
дентов, а также всех любящих творчество Пушкина.
Рецензенты: В. В. Кусков, профессор, доктор филоло-
гических наук (МГУ), И. В. Попов, профессор, доктор
филологических наук (СГПИ).
© С. 3. Агранович,
Л. П. Рассовская, 1992.
архаические йстокй и эволюция
ОБРАЗА ЦАРЯ в НАРОДНОМ СОЗНАНИИ
...Одна только история народа
может объяснить истинные требо-
вания оного.
А. С. Пушкин
1
Еще В. Г. Белинский писал, что «всякий истинный
поэт, на какой бы ступени художественного развития ни
стоял, а тем более всякий великий поэт, никогда и ни-
чего не выдумывает, но облекает в живые формы обще-
человеческое. И потому в созданиях поэта люди, восхи-
щающиеся ими, всегда находят что-то давно знакомое,
что-то свое собственное, что они сами чувствовали или
только смутно и неопределенно предощущали или о чем
мыслили, но чему не могли дать ясного образа, чему не
могли найти слово и что, следовательно, поэт умел толь-
ко выразить»1. Здесь сформулировано положение, вряд
ли осознававшееся до конца самим Белинским, мысль,
получившая научную актуальность только в наше время.
Давно известно, что каждая эпоха открывает в вели-
ких произведениях искусства что-то новое. И речь идет
не о модернизации идейного содержания или искажени-
ях текста, а об открытии того, что действительно было и
есть в этих произведениях, но что ни их создатели, ни
современники подчас не могли осознанно воспринять и
оценить. Подлинные произведения искусства и особен-
но литературы являются звеньями в великой цепи, свя-
зующей все этапы развития общественного сознания.
Поэтому настала пора изучать любое из них не только
в контексте эпохи возникновения, но в контексте всей
истории человечества. Одна из нерешенных задач, стоя-
щих перед современным литературоведением, была сфор-
мулирована М. М. Бахтиным: «Если нельзя изучать ли-
тературу в отрыве от всей культуры эпохи, то еще более
пагубно замыкать литературное явление в одной эпохе
его создания, в его, так сказать, современности. Мы
обычно стремимся объяснить писателя и его произведе-
ния именно из его современности и ближайшего прошло-
3
го (обычно в пределах эпохи, как Мы ее понимаем). Мы
боимся отойти во времени далеко от изучаемого явле-
ния. Между тем произведение уходит своими корнями
в далекое прошлое. Великие произведения литературы
подготовляются веками, в эпоху же их создания снима-
ются только зрелые плоды длительного и сложного про-
цесса созревания»2.
Выявить и осмыслить многовековой процесс «созре-
вания» трагедии Пушкина «Борис Годунов» и связь
этого процесса с идейным содержанием трагедии — на-
ша задача.
История трагедии Пушкина, как и всех художествен-
ных произведений, началась задолго до рождения ее ав-
тора и даже его героев. Чем богаче прошлое явлений
искусства, тем значительнее их будущее. История произ-
ведения (до его рождения) включает в себя, прежде
всего, процесс формирования основных мировоззренче-
ских представлений человечества с древнейших времен.
Эти представления вошли как важная часть в различ-
ные области мировой культуры. Они нашли свое отра-
жение и в художественных образах международного
фольклора, образах, продолжающих жить и в литерату-
ре, и в сознании человека нового времени.
Глаиная в трагедии Пушкина «Борис Годунов» проб-
лема взаимоотношений царя (правителя) и народа име-
ет, безусловно, историческую основу. В связи с этим в
образной системе трагедии главная фигура — царь Бо-
рис Годунов (что подчеркнуто и названием). Рядом с
ним претендент на царский венец, первый в истории
России самозванец, худородный дворянин и беглый мо-
нах Григорий Отрепьев. Борьба за царский престол
является пружиной драматического действия и централь-
ным звеном в длинной цепи философских, этических и
социальных проблем трагедии.
Социальный генезис образа царя стадиально срав-
нительно не далек от абсолютного монарха нового вре-
мени. Восходя к фигуре племенного вождя периода ак-
тивного разложения родового строя и зарождения ран-
него классового общества, царь (король и т. д.) посте-
пенно становится обладателем всей полноты светской
власти. Однако, будучи воплощением светской власти,
образ царя в народном сознании всегда обладал сак-
ральностью — в большей или меньшей мере, в зави-
симости от конкретной исторической обстановки. Этот
4
исторический факт можно объяснить только наличием
у сложившегося в общественном сознании (в том чис-
ле художественном) образа царя длинного ряда пред-
шественников — образов, основанных на мифологиче-
ском сознании и его обрядовой реализации.
Первый и самый древний генетический предок ца-
ря — животный тотем. Тотем в представлении архаи-
ческого коллектива имел целый ряд различных качеств
и устойчивых признаков. Из этого комплекса особенно
важны следующие (наиболее общие) черты: сакраль-
ность в форме магической силы; тотем — носитель
жизни (как главный податель пищи и универсальный
оплодотворитель); обреченность на насильственную
смерть, за которой следует возрождение в результате
магических действий коллектива. У древних славян, как
и у многих других племен, одним из главных тотемов
был медведь3.
Все эти основные признаки взаимосвязаны и суще-
ствование каждого из них в коллективном сознании обу-
словлено остальными. Так, например, мотив обреченно-
сти, бывший драматургическим центром сначала тоте-
мистического обряда, а позднее календарно-обрядовых
игр, главными фигурами которых на Руси являлись
медведь и царь, мыслился в неизменном единстве с сак-
ральностью и животворящей силой этих образов. Обря-
довое убиение медведя как тотемного первопредка име-
ло абсолютно определенный и конкретный смысл: при-
чащение его мясом было одним из способов отождеств-
ления с. ним первобытного коллектива, цель этого об-
ряда — не уничтожение, а возрождение, воскрешение,
а также последующее размножение тотемного животно-
го. Таким образом, идеологический смысл убиения то-
тема — обеспечение благополучия коллектива, в конеч-
ном счете — его жизни, самого существования.
В период разрушения первобытного общества функ-
ции тотемного животного приняла на себя фигура царя.
Царь оценивался как сакральный избранник, как су-
щество, обладающее симпатической магической связью
с природой, и поэтому его биологическая мощь была
залогом равновесия природных циклов, плодородия зем-
ли и скота, а, значит, основой жизни человеческого кол-
лектива. Отсюда — обреченность царя. По логике пер-
вобытного сознания, начавшееся одряхление царя могло
неблагоприятно повлиять на жизнедеятельность природ-
5
ных сил. Требовалась замена старого царя новым, мо-
лодым; старый царь умерщвлялся и как бы-возрождал-
ся в преемнике.
В «Истории государства Российского» Н. М. Карам-
зина приводятся сведения о главе Хазарского государ-
ства, Великом Хакане (Кагане), он же царь: «Для вла-
ствования Хаканова назначается 40 лет: по истечении
сего срока граждане и вельможи немедленно убивают
Хакана, дабы предупредить расслабление его ума и ду-
ши... славяне ему повинуются». (Т. 1. М., 1989. С. 325).
В другом источнике, приведенном Карамзиным, сооб-
щается, «что Козары (хазары. — С. А., Л. Р.) имели в
собственности и царя, и Кагана; что последний жил во
дворце у первого, был весьма уважаем, но не вмешивал-
ся ни в какие дела и скрывался от людей; что в слу-
чае бедствия .народ приходил к Царю и говорил ему:
«нынешний Каган несчастлив: умертви его или выдай
нам». Царь тогда убивал или спасал Кагана». Карам-
зин также отмечает: «Другие историки молчат о разно-
сти между царем и Каганом. Эбн-Гаукаль прибавляет
только следующую странность: «Избрав Кагана, вель-
можи надевают ему шелковую петлю на шею, давят его
и спрашивают: сколько лет он хочет царствовать, Каган
означает лета, и тогда, снимают петлю; но если сей Царь
переживет определенный им срок, то его убивают!»
(С. 205). На ранних этапах существования этого обы-'
чая дряхлеющий царь шел на смерть добровольно и
сознательно, позднее его умерщвление стало насильст-
венным. Однако его смерть всегда осознавалась как
событие необходимое и благотворное, т. к. оно обеспе-
чивало сохранение внутри коллектива магической силы,
без которой существование людей представлялось невоз-
можным. Характерно при этом, что магическая заря-
женность царя-жреца воспринималась отдельно от него,
в отличие от представлений о тотеме и первопредке-
демиурге-культурном герое. Царь-жрец мыслился;
уже преимущественно как человек, наделенный особым
даром. Такая смена представлений обусловлена тем, что
государство возникает в период разложения первобыт-
ного общества и зарождения классовых отношений.
«Тогда впервые, — пишет И. П. Вейнберг, — намеча-
ются расхождения, разрыв между сущностными свой-
ствами мифологического мышления, более или менее
соответствовавшими относительной однородности поро-
6
дившего его первобытного общества, и обществом, в
нарастающей степени разнородным, где и возникло го-
сударство... Древневосточный человек воспринимает го-
сударство — явление качественно' новое — через опыт
первобытного прошлого...»4. Таким образом, фигура ца-
ря-жреца в эту эпоху обладала двойственностью: она
воспринималась, с одной стороны, как фигура обычно-
го человека, т. е. профанно, а с другой стороны, как
носитель магической силы, упорядочивавшей мир, фигу-
ра сакральная.
Чем дальше человечество уходило от первобытных
форм существования и первобытных представлений, тем
туманнее и непонятнее становился смысл древнего обря-
да убиения царя, пока не исчез сам обряд. Изменились
космогонические представления человека, общественные
условия его жизни, и поэтому на протяжении многих
веков архаические представления о правителе казались
утраченными. Архаическая концепция царской власти
ушла на периферию общественного сознания. Но ничто
не исчезает бесследно.
Следы древних представлений о царе сохранились в
некоторых фольклорных сюжетах5, в играх календарно-
обрядового цикла и т. д.
В работах М. М. Бахтина исследована проблема ме-
ста образа карнавального короля в средневековой и ре-
нессансной культуре. В карнавальном увенчании и раз-
венчании, прославлении и осмеянии, убиении и воскре-
шении короля (царя) очевидны рудименты древнего об-
ряда в игровом их переосмыслении. М. М. Бахтин в
своем исследовании использовал материалы народной
смеховой культуры Западной Европы. Однако главные
его наблюдения и выводы универсальны.
В русском фольклоре (как и в любом) обрядовые
действа или тексты, которым приписывалась магическая
сила, ближе всего к мифологическому сознанию, к маги-
ческому первобытному ритуалу (см., например, сказки,
где убивают старого, плохого царя и убийцу избирают
царем). Переход обряда в игру — общая закономер-
ность развития форм человеческого сознания. На свят-
ках русские люди, в частности, рядились в медведя, иг-
рали в «умруна», именно для святок была характерна
игра «в цари», использованная Пушкиным в одной из
сцен трагедии «Борис Годунов». Игры с медведем и
«умруном», «в цари» имеют общую генетическую осно-
7
ву и, благодаря этому обстоятельству, приурочивались
к одному календарному празднику — зимнего солнце-
стояния. Бытовавшие до недавнего времени и исполняв-
шиеся на святках параллельно, они возникли в разные
исторические эпохи и зафиксировали различные стадии
эволюции древних представлений. Наиболее архаичны-
ми являются игры с медведем, восходящие к тотемисти-
ческому обряду первобытных охотников. Самыми древ-
ними частями этой игры (с участием человека, наря-
женного медведем, или ручного зверя) были травля
(осмеяние) и бой человека со зверем (имитация убие-
ния тотема)6. То, что медведя дразнили, травили, осме-
ивали, восходит к-древнему представлению о смехе как
носителе и дарителе жизни7; имитация поединка вожа-
ка с медведем — к первобытному обряду убиения то-
темного животного.
Следует отметить, что еще в XVI—XVII веках сре-
ди царских потех, происходивших обычно на территории
Кремля, был медвежий бой (единоборство с диким зве-
рем), где и травля, и убиение были смертельно опасны
для человека и зверя. Будучи почти точным воспроиз-
ведением древнего обряда, царская потеха осмыслялась,
конечно, лишь как богатырская забава, принародная
демонстрация отваги, силы и ловкости.
В средние века на Руси применялась разновидность
казни, когда казнимого «зашивали в медвежью шкуру,
разыгрывали с ним нечто схожее с медвежьей комеди-
ей и затем затравливали собаками, причем обставлялось
это как своего рода спектакль, рассчитанный на массо-
вого зрителя»8.
Несмотря на то, что медведь становился персонажем
народной игры, отношение к нему как к существу сак-
ральному сохранялось вплоть до XIX века. Так, напри-
мер, по поверью, прикосновение к различным частям те-
ла животного излечивало соответствующие части тела
человека; танец женщины с медведем излечивал ее от
бесплодия; ночь, проведенная медведем на скотном дво-
ре (особенно, если он оставлял свой помет), обеспечи-
вала хороший приплод скота и его благополучие. Осо-
бую роль при этом ипрали вожатые: от них как бы за-
висело поведение медведя, они направляли действие его
магической силы. В известных сказочных сюжетах о
медведе-дарителе, муже героини, отце героя зафикси-
ровались древние представления о медведе-первопред-
8
ке, тотеме, которые соединились с представлениями о
медведе-хозяине зверей. Этот образ на более позднем
этапе существования славянских племен трансформиро-
вался в образ скотьего бога — Волоха, Велеса, Воло-
са, что подтверждают приведенные в работе В. В. Ива-
нова и В. Н. Топорова «Исследования в области сла-
вянских древностей» (М., 1974) наблюдения об отож-
дествлении народами Поволжья скотьего бога с медве-
дем. Жрецами Волоха, как это доказано учеными9,
были волхвы. Согласно распространенной в научной ли-
литературе гипотезе, скоморохи — потомки языческих
волхвов, а вожаки медведя — это поздние скоморохи.
Вожатые, вожаки медведей, медведчики воспринима-
лись одновременно как представители кромешного ми-
ра, нечто нечистое и обладатели магической силы и
знания — именно в силу незабытых еще связей с волх-
вами и скоморохами10.
Бытовавшая наряду с медвежьими играми на свят-
ках игра в мертвеца («умруна») являлась театрализо-
ванным представлением более позднего этапа эволюции
обрядности, связанной с культом предков. Здесь в роли
предка выступал уже не животный тотем, а человек,
ряженый. В основе этой игры лежат древние покойниц-
кие обряды, исполнявшиеся после естественной смерти
или ритуального убиения человека (проводы на тот
свет)11. Как в медвежьих играх, в игре в «умруна» при-
сутствует карнавальное осмеяние. Воскрешение тотем-
ного предка в медвежьих играх всегда подразумевает-
ся, но не всегда реализуется; воскрешение же покойни-
ка в игре в «умруна» происходит всегда12.
Все те же главные составные части древнего обря-
да присутствуют и в бытовавшей на Руси в XVI—XVII
веках игре в цари. В ходе этой игры исполнителя роли
царя рядили в пародийное царское одеяние, происходи-
ло шутовское увенчание, осмеяние, развенчание и за-
мена шутовского царя. Убиение развенчанного царя
подразумевалось, иногда реализуясь в шуточной форме,
например, бросание в сугроб и т. д. В сущности, даже
некоторые элементы этой игры совпадают с западноев-
ропейским увенчанием и развенчанием карнавального
короля — с поправкой на национальные обрядовые фор-
мы, пародируемые в том или ином случае.
В XVI—XVII веках в эту игру ипрали русские цари.
Так, казнь боярина И. П. Федорова (Челяднина) мо-
&
делировалась Ивэном Грозным как игра в цари. По
свидетельству А. Шлихтинга, по приказу Ивана Гроз-
ного Федорова облачили в царские одежды,,усадили на
трон, ему оказывались царские почести, после чего он
был убит прямо на троне при участии Ивана Грозно-
го13. Игры в цари (и в патриарха) были характерны и
для Петра I.
Медвежьи игры, игры в «умруна» и в цари сохрани-
ли заложенную в них информацию о генезисе образа
царя в народном сознании и свидетельствуют о живу-
чести древних представлений, с ним связанных.
2
Время действия пушкинской трагедии — рубеж
XVI—XVII веков. Это период образования всероссий-
ского рынка и формирования национальных связей. Об-
щепризнано, что «бунташный» XVII век был границей
между древней Русью и Россией нового времени. Чет-
кие хронологические границы — понятие весьма услов-
ное, когда речь идет о смене общественно-экономиче-
ских формаций. Вероятно, можно говорить о появив-
шихся значительно ранее XVII века симптомах измене-
ния мировоззренческих представлений.
Формирование наций тесно связано с формировани-
ем абсолютистского государства, и в период перехода
от феодализма к капитализму поэтому приобретает осо-
бое значение образ монарха, осмысление -его роли в
жизни нации, оценка его общественным сознанием.
Нас интересует прежде всего как «во времена со-
циальных и культурных потрясений периферийные, счи-
тавшиеся устарелыми... концепции выдвигаются на пе-
редний план»14, что происходит с ними в общественном
и индивидуальном сознании, когда проявляются, гово-
ря словами Пушкина, «связи древнего порядка вещей».
В период становления абсолютизма повсеместно об-
наруживается устойчивая тенденция сакрализации лич-
ности монарха. Упрочение царской власти, выдвижение
фигуры единственного правителя возможны были лишь
при использовании представлений о божественном пред-
назначении царя. Не равный никому из людей, он мог
осмысливаться лишь как уподобленный богу, и осно-
вой его абсолютной власти могла быть только божест-
венная избранность.
10
Единое централизованное государство тре'бует созда-
ния соответствующего ему образа монарха, обладающе-
го вечной, не исчезающей с его смертью властью. Поэ-
тому он, в отличие от бога — небесного, нетленного ца-
ря, — мыслился как земной тленный бог. В этой тенден-
ции ясно просматривается опора на древние мифологи-
ческие представления (отождествление человека с бо-
жеством-первопредком) на новом уровне, когда лич-
ность человека (хоть и царя) приравнивается к богу.
Установление абсолютизма — историческая законо-
мерность, следовательно; процесс его формирования
объективен и обладает повсюду рядом типологически
сходных черт. Осознание происходящего шло как слож-
ное переплетение старого и нового, мифологии и фило-
софии15. Перед человеческим сознанием встала насущ-
ная задача — создание философской базы, идеологи-
ческой опоры нового государственного устройства.
В центре нового государства оказалась абсолютная
власть монарха, а центром новой идеологии — обновлен-
ный образ властителя. Осмысление совершенно нового
явления в жизни общества (в данном случае абсолютиз-
ма нового времени) идет прежде всего по законам ана-
логии. В частности, в создании образа абсолютного мо-
нарха аналогом был архаический образ царя, наделен-
ного сакральной силой. Древний царь-жрец — носитель
магической мощи, соединенной с его биологической мо-
щью и обусловленной ею. Его социальная роль — обе-
спечение и гарантии жизни коллектива. База представ-
лений об этом царе — первобытное мифологическое ми-
ровоззрение. Личностное сознание на той стадии разви-
тия человечества только начинает зарождаться. Взаимо-
отношения царя и коллектива, которым он правит, на-
ходятся на первоначальном уровне: проблема сводится
к одному — способен ли он сохранить магическую силу.
Все остальные экономические и политические стороны
формирующегося общественного устройства еще не под-
вергаются осмыслению и оценке.
Царь еще не осознается отдельно от коллектива как
самостоятельная личность, поэтому вопрос о его лич-
ной этической ответственности еще не стоит. Значение
его для коллектива, его место, родь безусловны, не
подвержены сомнению и обсуждению; он всегда царь
первосущий, природный. На этой стадии невозможен
самозваный царь. Сила «мнения народного» безгранич-
.11
на, царь — игрушка в руках коллектива. Основа этого
«мнения» — не реальность, а представление (фантасти-
ческое) о его магических возможностях воздействия на
природные явления. Нарушение равновесия в природе
(засуха, другие стихийные бедствия и т. п.) мгновенно
приводят в действие механизм силы «мнения народного»
и царя меняют16.
Монарх — носитель политической власти. Его
роль — сохранение стабильности государства и сущест-
вующих форм социальной жизни. Монархия — форма
правления, характерная исключительно для классового
общества. Первые монархии встречаются в истории ра-
бовладельческих государств древнего Востока (деспо-
тия)^ Греции, в императорском Риме. Но наиболее ха-
рактерна эта форма правления для феодального общест-
ва. Монарх в средние века — верховный гл"ава феодаль-
ной иерархии; его власть ограничена волей наиболее
влиятельных феодалов (светских и духовных) и — с из-
вестного периода — верхушки горожан. В конце средних
веков возникает абсолютная монархия. Современная те-
ория государственного права видит социальные корни
средневековой абсолютной монархии в относительном
равновесии сил феодального дворянства и буржуазии.
Абсолютные монархи в переходные эпохи возника-
ют, когда ни одна из борющихся сторон не имеет еще
перевеса над другой. Поэтому . фигура абсолютного
монарха (как и всякого монарха) сохраняет функ-
цию объединителя. Он является гарантией существо-
вания единого государства в условиях временного рав-
новесия социальных сил. В России предпосылки аб-
солютизма наметились во второй половине XVI века.
Именно к этому этапу русской истории — конец XVI —
начало XVII вв. — относится действие трагедии Пуш-
кина. «Борис Годунов».
Сакрализация образа правителя была свойственна
человечеству на протяжении всей его истории. Первые
монархи еще основывали сакральность своей власти на
непосредственной, кровной связи с божеством. Так, на-
пример, Александр Македонский стремился обосновать
свое право на неограниченную царскую власть проис-
хождением от Зевса17. Эти представления бытовали в
общественном сознании в течение очень долгого вре-
мени. Гай Юлий Цезарь, по свидетельству Светония,
так говорил о предках своего отца: «Род моей тетки
12
Юлии восходит по матери к царям, по бтЦу же к бес-
смертным богам: ибо от Анка Марция происходят Мар-
ции-цари, имя которых носила ее мать, а от богини Ве-
неры — род Юлиев, к которому принадлежит и наша
семья. Вот почему наш род облечен неприкосновенно-
стью, как цари, которые могуществом превыше всех лю-
дей, и благоговением, как боги, которым подвластны и
самые цари»18. Об Октавиане Августе Светоний пишет,
что мать Октавиана, «Атия, однажды в полночь приш-
ла для торжественного богослужения в храм Аполлона
и осталась там спать в своих носилках, между тем как
остальные матроны разошлись по домам; и тут к ней
внезапно скользнул змей, побыл с нею и скоро уполз,
а она, проснувшись, совершила очищение, как после со-
ития с мужем...; а девять месяцев спустя родился Август
и был по этой причине признан сыном Аполлона»19.
Рождение' Александра Македонского, как оно описано
Плутархом, и рождение Октавиана Августа по расска-
зу Светония во многом совпадают. Олимпиада зачала
Александра от Зевса (молнии, ударившей ей в чрево);
Филипп застал жену спящей рядом со змеем (вопло-
щением божества). Отец Октавиана в вещем сне уви-
дел сына в сверхчеловеческом величии, с молнией, ски-
петром, в одеянии Юпитера. Гаю Юлию Цезарю и его
приемному сыну Октавиану Августу было свойственно
отношение к жизни и деяниям Александра Македонско-
го как к образцу.
Чудесное зачатие наряду с магическими царскими
знаками на теле многие века оставались в обществен-
ном сознании признаками божественного происхожде-
ния, дающего право на царскую власть. Не случайно
Иван Грозный возводил свое происхождение к Окта-
виану Августу (в конечном счете — к Венере) — и это
делал венчанный и «богом помазанный на царство»
православный христианин! Н. М. Карамзин также упо-
минал о том, что «Александр хотел называться Юпите-
ровым сыном», а «Аттила говорил о себе, что он бич
Небесный и млат вселенныя; что звезды падают и зем-
ля трепещет от его взора». (История государства Рос-
сийского. Т. 1. М., 1989. С. 184.).
Византийские императоры (василевсы) были пря-
мыми историческими наследниками римских императо-
ров. В Византии, с одной стороны, идеологическая оцен-
ка фигуры императора и его власти опирается на арха-
13
йЧёский' образ йластйтёля, а с другой стороны, отра-
жает новый этап развития человеческого общества —
переход к феодализму. Власть василевса не была на-
следственной, сам он воспринимался в качестве земного
божества — как царь-жрец; но внешне это подкрепля-
лось тем, что в императорском дворце было два трона,
один из которых предназначался Христу. Император-
ская власть обожествлялась настолько, что коронация
омывала все грехи, совершенные ранее, вплоть до убий-
ства. Неукоснительно соблюдался культ императора, но
в ритуалах подчеркивалось «представительство», т. е.
император был представителем бога на земле. Посто-
янно подчеркивалась временность власти конкретного
императора, генетически восходящая к обреченности ар-
хаического царя-жреца, но обреченность эта приобрела
смысл человеческой бренности и ничтожества человека
перед лицом единого бога. В. Г. Иванов приводит в
качестве примера целый ряд ритуальных действий, дол-
женствующих подчеркнуть эту сторону образа василев-
са: «Так, при торжественных «явлениях народу» в ру-
ках василевса находилась не только держава, но и
акакия (мешочек с пылью — символ бренности всего
земного). Сразу после вступления на престол импера-
тор выбирал мрамор для своего будущего саркофага.
После одержанной победы над врагами император всту-
пал в Константинополь пешком, а перед ним торжест-
венно несли икону богородицы как знак того, что имен-
но она истинная победительница. Раз в год императо-
ру полагалось лично омывать ноги нищим»20. От прямо-
го обожествления своей личности вынуждены были от-
казаться уже последние римские императоры. Ф. Эн-
гельс объяснял это тем, что союз императорской власти
с христианством был единственным средством возвы-
ситься до положения самодержцев римского мира в эту
эпоху21. И византийский император стал не потомком
бога, как Александр Македонский и первые римские
императоры, а лишь земным божеством, тленным, вре-
менным представителем бога на земле.
Проблема законности царской власти, сложившаяся
в виде традиций и морально-этических категорий в эл-
линистических монархиях, впервые получает четкую
юридическую основу в императорском Риме. К идеаль-
ному эллинистическому монарху предъявлялось требо-
вание разумности правления, неразрывно связанной с
14
общим благом подданных й государства. ГосударстйО,
по эллинистическим представлениям, не было собствен-
ностью царя, он сам был частью царства. В Риме сфор-
мировалась концепция «вечного Рима», великой всемир-
ной державы, величие которой базируется не на сак-
ральности личности правителя, а на сакральности рим-
ского государственного строя.
Еще в Римской империи предметом осмысления в
рамках политической теории стали проблемы правителя
и его власти, законности тех или иных форм правления,
соотношения власти правителя и прав народа. Все эти
проблемы унаследовало византийское государство. В ви-
зантийской государственной теории разработка этого
комплекса проблем привела к формированию образа
идеального монарха — императора, законно избранно-
го, властвующего по воле бога, правящего разумно, му-
жественного, справедливого «отца» своих подданных —
граждан; он должен обладать благочестием, для него
характерна божественная осененность, боговдохновлен-
ность. Все эти критерии идеального монарха, возник-
шие в различные эпохи античности, были унаследованы
византийской политической мыслью. .Христианство сде-
лало священной не столько личность Императора, сколь-
ко его власть, ту ступень социальной иерархии, на ко-
торой он находился. В эпоху Константина, последнего
римского и первого византийского императора, произо-
шла трансформация священной римской империи в свя-
щенную христианскую державу, которой правит намест-
ник и исполнитель воли бога, государство, созданное
богом во исполнение его промысла.
Политическая теория «Москва — третий Рим» была
началом и одной из основ идеологии русского центра-
лизованного государства. Ее формирование началось в
середине XV века. Объективной предпосылкой возник-
новения этой'теории была потребность окончательного
объединения русскйх земель в единое государство.
В 1453 году Византия пала под ударами турок. Это со-
бытие было истолковано на Руси как следствие отпаде-
ния греков от истинного православия. Создатели этой
теории стремились доказать, что московское государст-
во, во-первых, является прямым наследником Римской
и Византийской империй, во-вторых, оно есть лучшее и
окончательное воплощение христианского государства,
ибо четвертому Риму не бывать. Эта уверенность в окон-
15
нательном И абсолютном совершенстве Московской Ру-
си роднит русскую политическую теорию с идеологией
абсолютной монархии Западной Европы. В постулате о
вечности и непогрешимости третьего Рима содержится
как утверждение монолитности, которой еще отнюдь не
достигло русское государство, но представлявшейся то-
гда столь желанной, так и предощущение официальной
застылости, с которой так трудно будет бороться Рос-
сии на рубеже XVII—XVIII веков.
В процессе формирования этой теории русским идео-
логам приходилось подбирать полуисторический, полу-
легендарный материал для доказательства законности —
на римско-византийский образец — царской власти на
Руси. Родословную русских великих князей, а позже
царей, в^ли от «Августа-кесаря»; венец, скипетр и пор-
фира — символика царской власти — согласно леген-
де по праву принадлежат русским князьям, т. к. были
принесены из Вавилона в Византию с участием русско-
го человека, а затем царский венец, скипетр и держава
были присланы византийским императором Константи-
ном Мономахом киевскому князю Владимиру Монома-
ху22. Опираясь на эти полулегендарные сведения, Иван
IV объявил себя царем и венчался на царство шапкой
Мономаха. Следующей трансформацией идеи сакраль-
ности царской власти стало возвышение царской (свет-
ской) власти над церковью, присвоение царем не только
всей полноты власти, но и всей ее святости.
Эта ступень сакрализации личности монарха была
достигнута в России в результате длительной идейной
борьбы (понимаемой как выражение экономических и
политических тенденций) между самодержавием (рус-
ской формой абсолютизма) и ставшей автокефальной
русской православной церковью. Победа светской вла-
сти, выразившаяся в отказе от доктрины «священство
выше царства», подготовлялась, начиная с XIV века
(может быть, и ранее). Последние следы этой доктри-
ны уничтожены первым русским императором Петром
Великим23. В становлении идеологии абсолютизма но-
вого времени большую роль играли и представления
о царе, восходящие непосредственно к эпохе древнего
коллективного сознания.
Все эти взаимообусловленные сложнейшие истори-
ческие, социальные и мировоззренческие процессы от-
ражены — так или иначе — в пушкинской трагедии.
16
1*
ЦАРЬ И НАРОД
В первой сцене заключена информация обо всех ос-
новных проблемах трагедии: народ и царь, вероятность
появления' самозванца и почва, на которой он может
возникнуть, зависть Василия Шуйского к Борису как
один из импульсов дальнейшей деятельности этого исто-
рического лица^ Здесь же из уст Воротынского становит-
ся известно о непосредственно предшествовавших на-
чалу действия трагедии событиях: отказе Бориса при-
нять корону и попытках патриарха, думных бояр, Вели-
кого Собора и москвичей уговорить его взойти на пре-
стол. Шуйский оценивает поведение Бориса как лице-
мерное стремление показать вынужденность принятия
им царского сана:
Народ еще повоет, да поплачет,
Борис еще поморщится немного,
Что пьяница пред чаркою вина,
И наконец по милости своей
Принять венец смиренно согласится.
Боярин прав, но смысл поведения будущего царя нель-
зя, свести только к этому. «Страх и смирение», которые
испытывает Годунов перед «великой властью», искрен-
ни. Истоки этих чувств следует искать в традиционном
отношении царя к своему положению. Прямая зави-
симость царя от тех, кем он правил, и связанная с этим
трагическая его обреченность во многом диктуют пове-
дение Бориса и, очень опосредованно, его чувства в мо-
мент восшествия на престол.
Конечно, как человек времени, столь удаленного от
архаики, Борис не мог понимать древних истоков своих
переживаний и поступков. Однако они существовали.
В сознании Годунова наряду с мировоззренческими кон-
цепциями его эпохи жили отдельные представления,
возникшие в коллективном сознании предшествующих
2-3103
17
эпох (что свойственно людям). Архаическое отношений
царя к власти как к чему-то весьма опасному и роко-
вым образом обрекающему на гибель зафиксировалось
в оценке роли царя в народном сознании, в том числе
как роли тяжкой и трагической. Эта же оценка положе-
ния царей стала отражаться в их поведении. Отказ.от
царской власти никогда не воспринимался как нечто
неестественное, невероятное. Наоборот, он стал одним
из традиционных приемов политической борьбы. В част-
ности, Иван Грозный за время, своего правления нес-
колько раз прибегал к этому приему. Если такое пове-
дение царя в исторические времена и было лицемерием,
формой политической игры, то сама эта форма возникла
в русле древней традиции, что и было единственной
основой ее правомерности.
Избрание царя для эпохи Бориса — явление новое,
до этого передача власти осуществлялась в соответст-
вии с лествичным правом наследования княжеского сто-
ла, сменившимся затем правом наследования от отца
к старшему сыну. Однако сам обряд избрания царя
осмыслялся народом на основе архаических представ-
лений о призывании царя-жреца, представлений, зафик-
сированных в обрядовой практике и фольклоре.
Древние истоки образа царя отразились в стремле-
нии Бориса быть избранным всенародно. Традиция из-
брания на царство в XVI веке существовала лишь как
официальная церемония, в которой участвовали только
высшие сословия. Но Борис оказался в положении че-
ловека, не пользующегося единодушной поддержкой
боярской думы, и чтобы доказать свое право на прес-
тол, он вынужден был обратиться к наиболее архаиче-
ским формам этого, обряда — всенародному призыва-
нию правителя.
Все исследователи пушкинской трагедии единодушно
отмечают необычность ее построения, выразившуюся в
том, что народные сцены предшествуют появлению Бо-
риса. Такое же единодушие обнаруживается в трак-
товке этого, композиционного приема. В нем видят
стремление Пушкина подчеркнуть особую, главную роль
народа в его трагедии и в историческом процессе.
Смеховой оттенок, который • бросается в глаза во
второй народной сцене (на Девичьем поле), объясняют
то полной пассивностью народа (С. М. Бонди), то на-
личием греха народа, йзбравшего детоубийцу своим
18
йравитёлём ^(С. А. Фомичев), то нёсоотвётствиём мёжду
происходящим на поле и тем, что должно было быть:
«Вместо единогласного и искреннего избрания царя на
площади полная разноголосица... В народе не знают
ничего о Годунове и вместе с тем избирают его... Реп-
лика-досада и реплика-восторг исключают по смыслу
одна другую и потому... звучат комически » (Н. Ф. Фи-
липпова)1. Смеховая окраска этой сцены, как известно,
принадлежит самому Пушкину и заметно контрастиру-
ет с описанием этого эпизода в «Истории Государства
Российского» Карамзина и в «Утвержденной грамоте
Земского собора 1598 года»2.
Комизм сцены, в сущности, заключен в диалоге двух
мужиков о том, как искусственно вызвать слезы, и в
фигуре бабы, то успокаивающей ребенка, то бросающей
его «об земь», чтобы он заплакал. Пушкин здесь ис-
пользует только те факты, которые отражены в «Гра-
моте» и в «Истории» Карамзина; но переосмысляет их.
Официозный пафос «Утвержденной грамоты» обуслов-
лен политическими целями, которые преследовали сос-
тавители этого документа. Умилительно-серьезная то-
нальность фрагмента «Истории Государства Российско-
го» продиктована' особенностями мировоззрения Н. М.
Карамзина («необходимость самовластья» и неравенст-
ва сословий). Мужики и баба с ребенком, вся толпа
ведут себя как участники обрядового действа. Они ста-
раются выполнить то, что должно в данном случае, иг-
рают некие вполне.определенные роли. Когда необхо-
димо спокойное, торжественное стояние, баба старает-
ся успокоить ребенка, нарушающего своим криком об-
щее благолепие.
Мужики падают на колени потому, что это делают
все вокруг. Они считают необходимым плакать настоя-
щими слезами, а баба.требует такого же нормативного
поведения от грудного младенца. Такое как будто меха-
ническое, «срепетированное» поведение народа и вызва-
ло столь распространенное мнение о его пассивности в
этой сцене.
Активность народа часто понимается только как пря-
мой бунт, массовое восстание. Между тем живая заин-
тересованность в- происходящем, активное желание уча-
ствовать в призвании нового царя, удовлетворение от
сознания всенародности исторического действа — разве
все это не проявление народной активности? Те же му-
2*
19
Жики, которые кажутся такими равнодушнь/мй к проис-
ходящему, в начале сцены заинтересованно обсуждают
подробности события:
Один
Теперь они пошли к царице в келью,
Туда вошли Борис и патриарх
С толпой бояр.
Другой
( Что слышно?
Третий
Все еще
Упрямится; однако есть надежда...
Один
Нельзя ли нам пробраться за ограду?
Другой
Нельзя. Куды! и в поле даже тесно,
Не только там. Легко ли? Вся Москва
Сперлася здесь; смотри: ограды, кровли,
Все ярусы соборной колокольни,
Главы церквей и самые кресты
Указаны народом.
Первый
Право любо!
Следует помнить, что участие народных масс в из-
брании царя происходит впервые. Отсюда полное нез-
нание корней, полузабытость форм обряда, но и ощуще-
ние исключительной важности события.
Поведение мужиков и бабы с ребенком различается:
женщина не видит комизма своего поступка; мужики же
обсуждают способы вызвать слезотечение заведомо
смеховые. В черновике смеховой вариант этого фрагмен-
та был более резким. На реплику первого мужика:
Все плачут,
Заплачем, брат, и мы, —
следовало:
Другой
И силюсь, брат,
Да не могу.
20
Первый
Дай ущипну тебя
Иль вырву клок из бороды.
Второй
Молчи.
Не вовремя ты шутишь.
Первый
Нет ли луку?., и т. д.
Противоречие в поведении тех же самых людей в
начале и в конце одной сцены — переход от серьезно-
сти восприятия происходящего к смеховому его осмыс-
лению — бросается в глаза. Но противоречие это кажу-
щееся. Обряд избрания царя, при всей своей сакральной
значимости для жизни коллектива, изначально включал
в' себя смех, понимаемый как элемент магический и
жиЗнетворящий. Поэтому возникновение смеховых ситу-
аций в ходе обряда, сохраняющего оттенок святости,
хотя и в новом освещении, при безусловной искренности
его участников — явление традиционно закономерное.
Наличие смеховых ситуаций не может служить дока-
зательством пассивности народа во время избрания
царя3.
Обращает на себя внимание также следующее, на
наш взгляд, очень важиое обстоятельство. Сцена «Де-
вичье поле. Новодевичий монастырь» сконструирована
по типу античной трагедии4. Она состоит из диалога
двух актеров («Один» и «Другой») и хора («Народ»).
Начиная с Эсхила, в античной трагедии на первом мес-
те оказывается диалог двух актеров, а партия хора,
сократившись, уходит, на второй план. При этом акте-
ры, как правило, не вступали в прямое общение с хором.
По окончании речевой партии они покидали орхестру,
и хор, оставшись один, исполнял стасим («стоячую
песнь»). У Лушкина первый и второй мужики не по-
кидают сцену, но и не вступают в прямой разговор с
толпой народа, которая играет роль хора. Так построе-
ны три из четырех народных сцен — 2, 3 и 23-я. Собст-
венно народными следует считать 2, 3, 22 и 23-ю сцены,
так как только в них народ является главным дейст-
вующим лицом. 8, 11, 16 и 17-я — лишь сцены с учас-
тием народа. В диалоге первого и второго мужиков
выражается отношение народа к происходящим собы-
21
тиям, однако отношение это неоднозначно. Эти дерсо-
нажи могут вступать в противоречие с общим настрое-
нием толпы и в спор между собой (23-я сцена).
Попытки использования приемов построения антич-
ной трагедии были в пушкинскую эпоху. В частности,
так построена трагедия В. К. Кюхельбекера «Аргивя-
не». Кюхельбекер выводит на сцену античный хор в
буквальном смысле слова5. Такого хора нет в пушкин-
ской трагедии, но роль народа в развитии сюжета «Бо-
риса Годунова» сильно напоминает роль хора в клас-
сической греческой трагедии. Он не принимал прямого
участия в событиях, но был всегда их заинтересованным
свидетелем и судьей. Хор, как правило, состоял из
представителей*’ демократической массы: слуг, воинов,
горожан и т. д. Хор сочувствовал главному герою, был
на его стороне, выражал коллективную этику и судил
о событиях с ее позиций. Даже когда хор состоял из
участников событий (как в трагедии Еврипида «Вак-
ханки»), он был только их коллективным представите-
лем — сам не действовал.
В 22-й сцене пушкинской трагедии народ единствен-
ный раз выступает не в качестве хора, но участвует в
действии. Однако это сужает его функции: народ, ко-
торый «нрсется толпою», чтобы «вязать, топить Бори-
сова щенка», утрачивает способность трезво судить о
событиях, находится в экстатическом состоянии, теряет
разум, как та часть вакханок Еврипида, которая уча^
ствовала в убийстве Пенфея, — в отличие от хора, по-
нимавшего смысл и значение происходящего.
При единодушном признании темы народа главной в
«Борисе Годунове», в пушкиноведении встречаются раз-
ные трактовки изображения народа поэтом. Для одних
исследователей народ — активно действующая сила,
стихия мятежа (Д. Бернштейн, Г. А. Гуковский,
Б. П. Городецкий), для других — пассивная толпа
(С. Б. Рассадин), для третьих — образ динамичный,
меняющийся на протяжении трагедии — от пассивности,
зависимости от воли бояр к стихийному бунту
(Д. Д. Благой, С. М. Бонди, Н. Ф. Филиппова)6. Про-
должая эту мысль, Д. Д. Благой пишет: «Сегодня на-
род еще «безмолвствует» — выражает только пассив-
ный протест, но завтра он может заговорить, и тогда —
горе тому, против кого он поднимет свой голос. Дей-
ствие трагедии Пушкина заканчивается в июне 1605 го-
22
да, а всего год спустя, вскоре после свержения Лжеди-
митрия, вспыхнуло грандиозное крестьянское восстание
под предводительством Болотникова. Таков ощутимый
подтекст окончательной редакции гениального финала
пушкинской трагедии»7.
В научной литературе, посвященной трагедии, пас-
сивность народа впрямую соотносится с его зависимо-
стью от бояр и властей вообще, тогда как активность
(как уже отмечалось) — с бунтом8. Такая логика при-
водит к неизбежному противоречию: народный бунт
спровоцирован боярами, а «только что показанное бур-
ное стихийное выступление масс явно ничего не измени-
ло в их положении. Во второй народной сцене конца —
последней сцене всей трагедии — бояре, использовав
народ, как могучую стенобитную силу, снова властно
выходят на первый план.., требуют, властно распоря-
жаются, приказывают»9.
Наибольшие споры вызывает противоречие между
двумя последними сценами трагедии — перепад настрое-
ния народа, который не зафиксирован в исторических
источниках. По устоявшейся традиции, основанной на
исторических фактах, между 22-й и 23-й сценами пред-,
полагается небольшой — 10 дней — временной проме-
жуток. Однако такое представление основано только
на исторических сведениях, мы же имеем дело с худо-
жественным текстом. Начиная с 1-й и до 19-й сцены
Пушкин постоянно дает те или иные указания на время,
когда происходили изображаемые события: 1 — 20 фев-
раля 1598 г., 2 — 20 февраля 1598 г., 3 — 21 февраля
1598 г., 4,— 21 или 22 февраля 1598 г., 5 — 1603 г., 6 —
1603 г. (через три дня после 5), 7 — 1603 г., 8 — 1604 г.,
9 — 1604 г., 10 — 1604 г. (назавтра после 9), И —
1604 г., 12 — 1604 г. (через несколько дней после 11),
13 — 1604 г. (назавтра после 12), 14 — 16 октября
1604 г., 15 — 1604 г. (приблизительно ноябрь), 16 —:
21 декабря 1604 г., 17 — конец декабря 1604 г..— на-
чало января 1605 г., 18 — первая половина января
1605 г., 19 — январь 1605 г. (назавтра после 18).
Датировка 20-й сцены слишком очевидна — 13 ап-
реля 1605 года, день смерти Бориса Годунова. Вероят-
но, поэтому Пушкин не дал никаких указаний в тексте
насчет этой даты. Определение времени действия в 21,
22 и 23-й сценах по пушкинскому тексту невозможно.
Необходимо заметить, что время действительных собы-
23
е
тий и в сценах трагедии не всегда совпадает. Так, бег-
ство Григория Отрепьева отнесено Пушкиным к 1603 г.
вместо 1602 и т. д.10 Точная дата разговора, П. Басма-
нова с Гаврилой Пушкиным в 21-й сцене не важна. От-
сутствие же хронологических указаний в 22-й и 23-й
сценах заставляет предположить одно из двух: или Пуш-
' кин рассчитывал, что читатели и зрители его трагедии
будут сверяться с «Историей» Карамзина, или, по ка-
ким-то соображениям, не хотел точно определить даты
событий в этих сценах. Прежде чем попытаться понять
эти авторские соображения, нужно, вероятно, выяснить,
какой эффект дает отсутствие датировки в тексте.
Сразу бросается в глаза возможность восприятия
финальных сцен 'как происходящих параллельно. Убие-
ние Федора Годунова, в»таком случае, происходит до
того, как разъяренная толпа народа ворвалась в
Кремль, т. е. в сценах «Лобное место» и «Кремль. Дом
Борисов» одновременно действуют разные люди: в пер-
' вой — Гаврила Пушкин и одна толпа народа, а во
второй — Голицын, Мосальский, Молчанов, Шерефе-
динов со стрельцами убивают Феодора и Марию Году-
новых почти на глазах другой народной толпы. Прост-
ранственно эти сцены очень близки между собой. Более
того, с Лобного места в 22-й сцене народ «несется’ тол-
пой» именно в Кремль, где происходит действие следую-
щей, 23-й сцены. Назвав народ «стенобитной силой»,
Д. Д. Благой, видимо, предполагал, что начавшееся в
22-й сцене мощное движение народа преодолело крем-
левскую стену, после чего и происходит убийство Фе-
дора. Народ, по Благому, как бы проложил дорогу боя-
рам. Однако против такого понимания событий свиде-.
тельствует поразительный контраст в настроении наро-
да на Красной площади и за кремлевской стеной. Не
может толпа, охваченная единым порывом «вязать! то-
пить!» Феодора Годунова, ворвавшись в Кремль, вне-
запно остановиться под окнами дома Бориса и мирно
рассуждать о степени ответственности детей за проступ-
ки отца, а потом стремиться на помощь этим детям и,
наконец, осудить их убийц. Такое чередование настроений
находящихся в экстатическом состоянии людей психо-
логически невозможно. Снять эту несообразность можно,
предположив, что события в 22-й и 23-й сценах проис-
ходят параллельно, либо между ними существует значи-
тельный временной промежуток. Последнего мнения
24
придерживается абсолютное большинство пушкинистов.
Временной разрыв между последними сценами опреде-
ляется, как уже сказано, с помощью внетекстовых ис-
точников.
1 июня 1605 года Гаврила Пушкин и Плещеев при-
были в Красное село, «чтобы возмутить тамошних жи-
телей, а чрез них и столицу... Купцы и ремесленники
красносельские... торжественно ввели гонцов его в Мос-
кву... Шумный сонм стремился к Лобному месту, где
по данному знаку все умолкло, чтобы слушать грамоту
Лжедмитриеву».11 С Лобного места Гаврила Пушкин
огласил «прелестную грамоту» самозванца. Вышедшие
из Кремля бояре агитировали собравшийся народ про-
тив Феодора Борисовича. Крепостные ворота не были
заперты. И все же толпа колебалась до тех пор, пока
Богдан Бельский не поклялся народу, что сам спас
царевича Димитрия. После этого народ ворвался в
Кремль и начал громить дворы Годуновых. Пострадали
также дворы тех, кто нажился на голоде. Однако даль-
ше этого дело не пошло. Федора лишь стащили с трона,
вывели из царских палат и посадили под арест в доме
Годуновых. Только через десять дней князь Василийч
Голицын со стрельцами явился к семье Бориса и велел
задушить Феодора и его мать. Сделано это было по
поручению Лжедмитрия.
Очевидно, что Пушкин не только не дает указаний
на хронологическую последовательность событий, но
изображает их совершенно иначе. Гаврила Пушкин (без
Плещеева) является прямо на Лобное место и, вместо
прочтения «прелестных грамот» Димитрия, выступает с
речью, в которой отнюдь не призывает народ к восста-
нию. Он лишь говорит:
Целуйте крест законному владыке;
Смирнтеся, немедленно пошлите
К Димитрию во стан митрополита,
Бояр, дьяков и выборных людей,
Да бьют челом отцу и государю.
По-видимому, в известной степени неожиданно даже
для Гаврилы Пушкина, народ вдруг по призыву мужика
бросается в Кремль, чтобы свергнуть и убить Федора.
Это единственная сцена в трагедии, у которой нет
конца. Все остальные сюжетно завершены. И лишь по-
рыв народа ничем не кончается. Этого, как правило, не
25
замечают или договаривают за Пушкина то, чего он
не сказал, черпая материал из истории. Незавершен-
ность 22-й сцены была менее заметна при первоначаль-
ном варианте финала трагедии, когда народ после убий-
ства Федора не безмолвствовал, а кричал: «Да здравст-
вует царь Димитрий Иванович!». Поведение людей вы-
глядело более последовательно: ринулись убивать Фео-
дора, а после его убийства боярами удовлетворенно
славят нового царя. В окончательной редакции мятеж-
ный порыв масс буквально ничем не кончается.» Следо-
вательно, с появлением ремарки «народ безмолвствует»
финал трагедии становится совсем загадочным. Получа-
ется, что за короткий срок (от 10 дней до нескольких
часов) кардинально переменилось не только настроение
народа (в первом варианте), но и «мнение народное»
(в окончательной редакции трагедии). Но в то же вре-
мя перелом в настроении, толпы, происшедший между
22-й и 23-й сценами, подготовил появление знаменитой
ремарки.
В процессе размышлений над загадками финала «Бо-
риса Годунова» снова возникает аналогия с древнегре-
ческой трагедией. Именно там встречается деление на-
родной массы на участников событий и хор, остающий-
ся осведомленным свидетелем и судьей происходящего.
Так обстоит дело в уже упоминавшейся трагедии Еври-
пида «Вакханки». Буйство вакханок, впавших в свя-
щенное безумие, происходит за сценой, зритель узнает
об их действиях из рассказа вестника хору, состоящему
тоже из вакханок,’ но не подверженных экстатическому
безумию. В пушкинской трагедии столь же резок конт-
раст между состоянием толпы в 22-й сцене и настрое-
нием народа в 23-й. Однако за сценой ничего не проис-
ходит, или мы об этом не узнаем. Это еще более усили-
вает необычность финала пушкинской трагедии. Возни-
кает вопрос, насколько авторский композиционный за-
мысел соответствовал идейному наполнению финала?
Далеко не всякую стихийную вспышку народного
гнева следует считать проявлением политической актив-
ности народа. Широко известно, что Пушкин хорошо
понимал причины неугасающего народного гнева про-
тив угнетателей, проявления которого могут быть раз-
личными по масштабу и целесообразности. Говорить о
какой-либо эволюции народного сознания в трагедии
от покорности воле бояр до крестьянской войны непра-
26
вомерно так же, как и говорить о тупой пассивности
народных масс. Народ у Пушкина активен, и актив-
ность эта глубже и значительнее, чем бесполезная и
потому бессмысленная вспышка. Народ в трагедии —
заинтересованный свидетель и судья происходящих со-
бытий, носитель нравственного идеала. Поэт вносит в
изображение народа философские открытия своей эпо-
хи — понимание роли народа как движущей силы ис-
тории. В трагедии роль народа весьма близка к той,
которую играет хор в структуре аттической трагедии,
но содержание этой роли значительно углубилось. В бу-
дущее человечества и русского народа Пушкин смот-
рел с оптимизмом, основанным на уверенности в посту-
пательном ходе истории12. Как человек, мыслитель и
поэт, он не мог не искать в прошлом и настоящем симп-
томов этого светлого будущего. И главным таким симп-
томом были для него уровень народного сознания и
способность народа к активному воздействию на исто-
рический процесс.
Стихийный бунт для Пушкина — признак того, что
народная душа жива, но от такого проявления народ-
ного гнева поэт — совершенно справедливо — не ждал
перемен в судьбе народа. Пушкин не мог видеть в сти-
хийных крестьянских восстаниях репетиции будущей
социальной революции, потому что не мог предугадать
ни конкретных форм такой революции, ни значения ее.
Поэтому в идейном содержании трагедии безмолвие на-
родное ' оказывается более существенным, чем стихий-
ный бунт. Поведение народа в последней сцене — это
не только протест против злодеяния Лжедмитрия, не
только угроза близкого восстания под предводительст-
вом Болотникова; это прежде всего яркий признак са-
мостоятельности и независимости народа в суждениях
и оценках исторических событий.
Независимость народа Пушкин показывает во всех
сценах трагедии с участием народа, но особенно ярко
она проявляется в финале. В те дни 1605 г., когда раз-
вивались события финала трагедии, народ, в частности
московский, поддерживал Григория Отрепьева и шед-
ших с ним бояр, действовал по. их указаниям. У Пушки-
на же разрыв между призывами бояр и ответной реак-
цией народа подчеркнуто велик. Гаврила Пушкин, как
сказано, лишь призывает народ к покорности Лжедмит-
рию, а народная толпа бросается в Кремль убивать
27
Федора. Мосальский ждет криков: «Да здравству-
ет царь Дмитрий Иванович!» — народ безмолвст-
вует.
В пушкинской трагедии народ обладает своей кол-
лективной логикой, которая еще не может быть сформу-
лирована отдельным человеком, но может управлять
мнением народным. В свою очередь, это мнение, явля-
ясь одним из проявлений народного сознания, не тож-
дественно ему. Не случайно Пушкин говорит именно
о мнении народном, которое изменчиво; его можно при-
влечь, обмануть. Обмануть народное сознание или по-
влиять на него невозможно, ибо оно развивается по
объективным законам. Безмолвие народа в последней
сцене трагедии — это не столько проявление протеста
против поведения бояр, не столько осуждение Лжедмит-
рия, не столько угроза грядущим восстанием, сколько
проявление самостоятельности народа. При таком пони-
мании знаменитой ремарки народное молчание значит
и весит больше, чем народный бунт, «'бессмысленный и
беспощадный».
Стихийно сложившееся ощущение абсолютной цен-
ности народного сознания обусловило пророческие функ-
ции хора в аттической трагедии и на новой ступени раз-
вития общественного сознания — пушкинское осмысле-
ние роли народа в истории. Исследователи пушкинской
трагедии должны стремиться, на наш взгляд, не к ана-
лизу степени революционности народа, а к выявлению
отразившейся в трагедии философии истории, основан-
ной на доверии к народному сознанию и понимании
сложности и противоречивости движения «мнения на-
родного», его постоянной зависимости от комплекса
представлений, сложившихся в народном сознании, и
его связи с событиями текущего времени. Эти проблемы
достойны изучения — на материале пушкинской траге-
дии — не только литературоведами, но и философами,
и социологами. Для истории и теории литературы осо-
бенно важно, как пушкинская философия истории обще-
ственного сознания повлияла на художественную струк-
туру его трагедии.
Опираясь на свидетельство Аристотеля, большинство
современных исследователей возводят происхождение
античной трагедии к дифирамбу — хоровой песне, быв-
шей неотъемлемой частью культа Диониса, божества
умирающей и возрождающейся природы. Следовательно,
28
Трагедия генетически восходит к обрядовым действам,
ставшим основой дионисий. Дифирамб, вероятно, состо-
ял из диалога между солистом и хором. Видимо, в об-
ряде и на наиболее ранней стадии развития трагедии
хор составляли спутники Диониса — козлоподобные
сатиры.' Значит, трагедия генетически может включать
в себя смех, веселье, восходящие к дионисийским празд-
нествам. Дифирамб должен был повествовать о мифи-
ческих событиях, связанных с увенчанием, убиением,
возрождением и прославлением божества. Обряды с
аналогич1ным идейным содержанием на определенной
стадии развития общества стали относиться и к образу
царя-жреца. Как уже было сказано, фигура царя-жреца
непосредственно связана (а зачастую и отождествлена)
с божеством плодородия.
История европейской (в том числе и русской) тра-
гедии берет свое начало от трагедии античной. Это ста-
ло возможным прежде всего потому, что у всех народов
Европы (и не только Европы) существовали мифоло-
гические представления и культы, подобные тем, из ко-
торых родился древнегреческий театр. Но, вследствие
особенностей культурного развития различных народов,
далеко не везде эта потенция реализовалась в подоб-
ных формах. Однако типологически близкие мифологи-
ческие представления и обрядовые формы стали зало-
гом органичного восприятия античного театра и освое-
ния его традиций и структуры. Пушкин создал русскую
реалистическую трагедию, базовой основой которой
была трагедия античная.-
Путь русского театра к реалистической трагедии был
длительным и сложным, но на всем протяжении и при
всех сложностях связан с театром Древних греков.
Древнегреческая трагедия легла в основу трагедий пи-
сателей древнего Рима, творчество которых, в свою оче-
редь, было образцом для первых европейских траги-
ков — от Альбертине Муссато (XIV век) до театраль-
ных деятелей эпохи Шекспира. Римская комедия Те-
ренция и Плавта, основанная на новоаттической коме-
дии, стала образцом для европейских комедиографов,
а затем, благодаря Мольеру, этот тип комедии стано-
вится господствующим для всей эпохи классицизма и
Просвещения. Лишь в течение последних трех-четырех
столетий европейская трагедия стала преобразовывать-
ся по типу древнегреческой — под влиянием более близ-
29
кого знакомства с греческими образцами риМскик тра-
гиков.
Пушкин, работая над «Борисом Годуновым», счи-
тал, что пишет трагедию. Однако вопрос о жанровой
природе этой пьесы решается по-разному. Одни счита-
ют ее, вслед за автором, трагедией, другие — драмой.
Определение жанра связано прежде всего с тем, кто
признается главным героем — царь Борис или народ.
Если народ — перед нами народная драма. Так как
народ в современном пушкиноведении многие, вслед за
С. М. Бонди, считают главным героем, то все чаще
«Бориса Годунова» называют драмой.
Несомненно, чтр главной силой исторического про-
цесса поэт считал народ. Но это обстоятельство еще
не может служить определяющим доводом при решении
вопроса, кто главный персонаж пьесы. В развитии сю-
жета, в структуре, в композиции главной фигурой явля-
ется Борис Годунов. Основные признаки трагедии —
особо напряженный, непримиримый конфликт, оканчи-
вающийся гибелью героя, конфликт, отражающий веду-
щие тенденции общественно-исторического развития,
духовное состояние человечества, конфликт между ца-
рем и народом; сугубо философский характер проблема-
тики; укрупненный характер обрисовки героя, призван-
ного решать вопросы всемирно-исторического значения.
Генезис жанра и архитектонику «Бориса Годунова»
большинство исследователей возводят к театру Шекс-
пира. На эту мысль наводят высказывания самого поэ-
та. Наиболее интересные наблюдения над художест-
венными системами двух поэтов -в пушкиноведении при-
надлежат С. М. Бонди. Однако он отметил не только
сходство, но и черты, значительно отличающие пьесу
Пушкина от трагедий и исторических хроник Шекспира.
По мнению ученого, Пушкин не использовал целый ряд
существенных качеств поэтики Шекспира. Русский дра-
матург отказался от изображения титанических страс-
тей, которые были свойственны героям Шекспира; от
деталей и подробной разработки отдельных драматиче-
ских ситуаций или психологических моментов; от рос-
коши, богатства метафор, риторических оборотов и поэ-
тических фигур языка, которым говорят герои Шекспи-
ра; от использования фантастического элемента в пье-
сах. С. М. Бонди отметил также, что, в отличие от геро-
ев Шекспира, персонажи пушкинской трагедии не объ-
30
ясняют себя зрителям, их монологи — рассказ или раз-
мышление вслух. С. М. Бонди считает, что все эти про-
изведенные Пушкиным совершенно сознательно исклю-
чения из художественной системы Шекспира обеднили,
в какой-то мере, художественную систему Пушкина,
приведя к недостаточной углубленности большинства
характеров пьесы, отсутствию в ней острых ситуаций,
некоторой суховатости подачи материала, дишая ха-
рактеры персонажей многих красок13.
Это наблюдение очень знаменательное. Попытка
объяснить такое отношение Пушкина к художественной
системе Шекспира приводит нас к необходимости снова
обратиться к истокам европейского театра. Те принципы
построения трагедий и хроник Шекспира, которые, по
словам С. М. Бонди, были отвергнуты Пушкиным, вос-
ходят к традиции древнеримского театра. Еще Ф. Гизо
в своем предисловии к переводу Шекспира 1821 года,
известном Пушкину, отмечал главное различие между
композицией трагедий и хроник Шекспира, подчеркивая,
что в трагедиях происшествия группируются вокруг
главного лица и показываются в зависимости от впе-
чатления, производимого ими на него; хроники же сос-
тоят из множества сцен и эпизодов, которые скорее за-
полняют действие, чем двигают его, и степень их зна-
чимости не зависит впрямую от переживаний главного
героя. Известно, что Пушкин использовал структуру
шекспировских хроник. Различие, проводимое Гизо
между шекспировскими трагедиями и хрониками, соот-
ветствует принципиальным отличиям римской трагедии
от древнегреческой.
В трагедиях древних греков преимущественное вни-
мание уделялось событийной стороне действия, которая
раскрывалась в стасимах, исполняемых хором, и в диа-
логах и монологах. Проблематика и философские идеи,
наполнявшие греческие драмы, выражались через ос-
мысление событий и их связи с судьбой человека. Траге-
дия представляла собою чередование отдельных хоро-
вых и диалогических сцен (эписодиев). Часто в грече-
ских трагедиях хор является выразителем этической по-
зиции, а в комедиях — основной публицистической идеи
пьесы. Причем в комедии роль хора была более актив-
ной, он самым непосредственным образом включался в
действие, принимая сторону главного героя или, наобо-
рот, всячески стараясь помешать исполнению его за-
31
МЫсла. Трагедийные трилогии, Исполнявшиеся в древней
Греции на празднествах в честь Диониса дважды в го-
ду, обязательно завершались сатировской драмой, со-
ставляя вместе с трагедиями единый драматический
комплекс. Историко-литературное значение сатировской
драмы связано главным образом с тем, что в ней был
осуществлен принцип соединения «высокого» и «низко-
го» планов изображения, развитый затем в новоатти-
ческой комедии и в драматургии нового времени. Един-
ство такого рода было возможно прежде всего благода-
ря генетической однородности этих жанров, в те време-
на еще ясно сознававшейся греками.
В древнем Рцме в комедии хор был совершенно ис-
ключен, а в трагедии сведен до минимума. Взамен хо-
ра в драму были широко введены сольные партии. Она
стала представлять собой чередование диалога, речи-
татива и сольных арий. В таком виде римские трагедии,
вероятно, ^напоминали по форме оперу XVIII века, а
комедии — оперетту.
Исследователи западноевропейской литературы не
раз отмечали влияние римского драматурга I в. н. э.
Сенеки на Шекспира. Драма Сенеки статична. Внима-
ние в ней перенесено с действия на словесную ткань.
Характерно также, что трагедии Сенеки, по мнению ис-
следователей его творчества, предназначены для чте-
ния, а не для представления. Если в греческой траге-
дии о событиях рассказывалось (показывались они
крайне редко), то Сенека выносит их непосредственно
на сцену, и именно поэтому постановка его пьес сред-
ствами театра того времени оказывалась затрудненной
или даже невозможной. Логическое развитие дейст-
вия Сенека подменяет эмоциональным нарастанием,
цельность общего впечатления — эффектом каждого
отдельного момента, трагическое настроение сгущено до
крайних пределов.
Следовательно, если у греческих драматургов идей-
ное содержащие пьесы преимущественно выражалось че-
рез анализ, сопоставление и оценку событий, в которых
проявлялись характеры героев, то в римской трагедии
идея проясняется через показ эмоций, вызванных со-
бытиями. Это приводит к тому, что наиболее важным
оказывается понимание переживаний персонажей во всей
их сложности и, как правило, противоречивости, а не
событий, осмысляемых лишь опосредованно.
32
2*
Отличия между греческой и римской трагедией свя-
заны с различными историческими судьбами и нацио-
нальными особенностями этих народов. Формирование
римской трагедии происходило на более поздней стадии
общественного развития античных народов. Поэтому в
римской трагедии зафиксирован возросший интерес к
человеческой личности14. Внимание к человеческой лич-л
ности, отделение ее от коллектива в римской драме со-
относится, хотя и на другой исторической и идейной
основе, с особенностями поэтики Шекспира15. Человек
в исторических хрониках и трагедиях английского дра-
матурга входит в историю не столько как представитель
своей социальной группы, класса, сколько времени,
эпохи.
Пушкин учитывал художественные открытия Шек-
спира, восхищался его историзмом, признавал себя его
учеником. Однако проблема «человек и история», наи-
более близкое Пушкину понимание которой дает Шек-
спир, у Пушкина начинает звучать иначе. С. М. Бонди
пишет: «Размышления Пушкина о причинах неудач ре-
волюционных восстаний, о решающей роли народа в
судьбе революции, о царской власти и причинах ее си-
лы и слабости, о социальных силах, движущих историю
в ее критические моменты, — вот вопросы, разрешав-
шиеся в новой трагедии на историческом материале»16.
Сравнивая драматические хроники Шекспира и траге-
дию Пушкина, _Д. Д. Благой отмечает, что «трагедия
борьбы личностей (так, вслед за Белинским, Благой ха-
рактеризует драматические произведения Шекспира. —
С. А., Л. Р.) перестраивается в трагедию совсем ново-
го типа, трагедию, раскрывающую «судьбу народную»...
В трагедии Пушкина представление о народе как о мо-
гучей в своих потенциях силе вытекает не только из
рассуждений на эту тему действующих лиц, но и сооб-
щается специфически художественными средствами»17.
В трагедии «Борис Годунов» более остро, чем у Шек-
спира, .звучит социальный аспект — временное и соци-
альное в объяснении психологии героя уравновешены.
В архитектонике трагедии это проявилось в усилении
роли народа в сюжете. Поэтому Пушкин в изображе-
нии активности народа обращается к опыту не римско-
го, а греческого театра, с его значительной партией хора
в_ трагедии и активностью хора в сюжетном действии
комедии. Важнейшее идейное и художественное откры-
3--3103
33
т^ие — понимание и изображение исторически активной
роли народа — потребовало от Пушкина обращения к
опыту аттической драмы.
Следует напомнить также, что преимущественное
внимание европейской исторической трагедии к событи-
ям жизни и судьбам царей и верховных правителей свя-
зано не только с исключительным социальным и полити-
ческим положением этой фигуры, но с генетической общ-
ностью образа царя и самого жанра трагедии. В свете
сказанного нам представляется, что те драматургиче-
ские потери Пушкина, о которых писал С. М. Бонди,
таковыми не являются, так как ведут к объективно бо-
лее уравновешенному изображению исторической роли
личности и народа. Трагедия Пушкина является одним
из последних значительных европейских литературных
произведений в этом жанре, где философскому осмысле-
нию подвергается фигура царя в его, взаимоотношениях
с народом. Следовательно, Пушкин в какой-то мере
подводит итоги многовековой литературной традиции.
И поэтому тоже обращение его к началу этой традиции
столь закономерно.
Изучение структуры трагедии «Борис Годунов» поз-
воляет обнаружить и другие аналогии между нею и
классической греческой трагедией. Первая сцена («Крем-
левские палаты») является ярко выраженным проло-
гом. Построена она как диалог между Воротынским и
Шуйским, чисто информативный по отношению к зри-
телю, ибо большая часть сведений, сообщаемых ими друг
другу, является новой лишь для зрителя. Воротынский
в развитии сюжета трагедии не- участвует вообще, и
Шуйский не оказывает заметного влияния на ход со-
бытий18. Содержание этой сцены и позиция участвую;
щих в.ней персонажей по отношению к сюжету траге-
дии близки к тому, что встречается в наиболее типич-
ной структуре пролога античной трагедии. Заканчива-
ется эта сцена словами Шуйского:
.....................Видишь,
Народ идет, рассыпавшись, назад —
Пойдем скорей, узнаем, решено ли, —
/
словами, как бы сообщающими о выходе хора (парод).
Можно предположить, что три последние сцены тра-
гедии представляют собой эпилог. Главная сюжетная
коллизия — борьба за власть между Борисом Годуно-
34
вым и Григорием Отрепьевым — разрешается со смер-
тью Бориса. Следующие три сцены («Ставка», «Лобное
место», «Кремль. Дом Борисов») показывают, во-пер-
вых, что сталось с последним приближенным Борисом
человеком — Басмановым, с наследником престола —
Федором Годуновым и, самое важное, что в будущем
произойдет в государстве. Именно в эпилоге звучит зна-
менитая фраза о М1нении народном, в которой сформули-
рована подлинная скрытая пружина исторического дей-
ствия. То, что Пушкин отказался от планировавшейся
им первоначально сцены торжественного въезда само-
званца в Москву, внесло существенное изменение в фи-
нал трагедии. Развязка, в достаточной мере внезапная,
перемещается в сцену смерти Бориса, поэтому послед-
ние сцены и воспринимаются как эпилог. Кроме того,
финал оказывается обращенным в будущее. И, нако-
нец, знаменитая ремарка «народ безмолвствует» стала
возможной и приобрела исключительную смысловую на-
грузку лишь при таком композиционном решении.
Д. Д. Благой сделал целый ряд интересных наблю-
дений, доказывающих симметричность как основной
принцип композиции драматургии Пушкина. Следует
указать только, что этот принцип восходит к тем же
особенностям развития коллективного сознания, которые
определили генезис жанра, проблематики и основных
образов «Бориса Годунова». Симметричность как наи-
более традиционный принцип построения классической
античной трагедии можно гипотетически объяснить тем,
что представления о мире древнего человека изначально
основывались на симметрии бинарных оппозиций (кос-
мос-хаос, живое-мертвое и т. д.). Естественно, что об-
рядовые формы создавались по тому же принципу, а
отсюда — прямой путь к античному театру.
Как кажется, наиболее сложным, неизбежно обсуж-
даемым во всех работах о пушкинской трагедии и при
этом наименее проясненным является вопрос о том, как
же все-таки, изображен народ в трагедии и какое фи-
лософское содержание вкладывает Пушкин в этот об-
раз. Исследователи, занимавшиеся решением проблемы,
использовали различные пути. Один из них, заключаю-
щийся в попытке выяснить эволюцию политических
взглядов Пушкина и в соответствии с нею интерпрети-
ровать идейное содержание трагедии, был предложен
Г. О. Винокуром, который опирался на статью
3*
35
М. Н. Покровского «Пушкин-историк». М. Н. Покров-
ский и Г. О. Винокур исходили из того, что политичес-
ким «идеалом Пушкина был феодальный режим, смяг-
ченный просвещением»19, что в пору создания «Бориса
Годунова» в сознании поэта происходила коренная пе-
реоценка его прежних убеждений: «Приходила к концу
эпоха крупных исторических потрясений, свидетелем ко-
торых Пушкин был в молодости. Итоги этих событий не
могли не поколебать несомненно искренний, но недоста-
точно зрелый либерализм Пушкина»20. Идя по этому
пути, Г. О. Винокур делает следующие выводы: «Инте-
ресы правящих классов совершенно чужды народу, а ин-
тересами масс правящие классы пользуются только для
своей собственной выгоды»; «...главная опасность для
Годунова — Hfe народ, а те социальные силы, которые
могут воспользоваться народом,, как своим средством,
то есть боярство»21.
Следует, впрочем, отметить, что мнение Г. О. Вино-
кура сразу же оказалось в противоречии с точкой зре-
ния Д. П. Якубовича, а также вызвало справедливые
возражения Б. П. Городецкого и Б. С. Мейлаха, потом
Д. Д. Благого и др. Позиция Д. Д. Благого также не
свободна от противоречий, причины возникновения кото-
рых в том, что ему и его последователям кажется очень
соблазнительной мысль об эволюции народного созна-
ния в течение семи лет, на протяжении которых разво-
рачивается действие трагедии. Такая эволюция имела
место, но уровень народного сознания, который эти ис-
следователи стремятся зафиксировать в 1605 г., отмечен
лишь в 1905 г., в частности, в статье В. И. Ленина «Ре-
волюционные дни», где есть цитата из трагедии Пуш-
кина о безмолвствующем народе (см.: Ленин В. И.
Поли. собр. соч. Т. 9/ С. 208).
Третья группа исследователей видит силу народа в
трагедии в том, что «высокий этический идеал живет
в народном сознании и именно он определяет, по Пуш-
кину, исторический суд всех деяний». Далее С. А. Фо-
мичев пишет: «Пушкин в «Борисе Годунове» создал ис-
торическую драму нового типа, драму народную, в ко-
торой не только вывел на подмостки сцены множество
разнохарактерных типов, давая выразительный социаль-
ный срез исторической эпохи и обнаружив во множест-
ве разнонаправленных искренних и корыстных челове-
ческих побуждений концентрацию исторических сил, но
36
и раскрыл высокий этический смысл «мнения народно-
го», обращенный к грядущим поколениям»22. При этом
народный этический идеал С. А. Фомичевым связыва-
ется только с проблемой детоубийства и с сознанием на-
родом своего греха — избрания цареубийцы (и дето-
убийцы) в правители. Но так понимаемый народный
грех бесконечно повторялся в истории человечества, а
«высокий этический идеал» не является ни в трагедии,
ни в реальности единственной основой изменения «мне-
ния народного», непосредственно влияющего на ход ис-
торического процесса. Разрешение этой проблемы воз-
можно лишь через анализ отношений народа и царя, как
они складывались исторически и как этот процесс от-
разился в трагедии.
Архаические истоки образа царя и оставшиеся от
той эпохи представления соседствуют в пушкинском об-
разе Бориса Годунова с чертами человека рубежа
XVI—XVII веков. Пушкин отмечал связь своего героя
с его эпохой в том новом, что было ей присуще. Во вве-
дении к «Истории Петра I» Пушкин писал: «Просвеще-
ние развивается со времен Бориса; правительство впе-
реди народа; любит иноземцев и печется о науках». И в
самом деле: с одной стороны:
..............его любимая беседа:
Кудесники, гадатели, колдуньи, —
Все вррожит, что красная невеста..,
а с другой стороны очевиден интерес Бориса к совре-
менному состоянию науки, который выражается в фи-
лософском обобщении: •
Учись, мой сын: наука сокращает
Нам опыты быстротекущей жизни.
Годунов убежден в необходимости для монарха образо-
вания, просвещения:
Учись, мой сын, и легче и яснее
Державный труд ты будешь постигать.
Речи Бориса, его приближенных и народа насыще-
ны различными образными обозначениями царской вла-
сти, восходящими к архаике и наполненными магичес-
ким подтекстом: «...принять венец смиренно согласится»
(Шуйский), «...на престол безвластный не взойдет» (Во-
ротынский), «...его страшит сияние престола» (один из
37
народа), «...венец за ним, он царь» (народ), «...златый
венец тяжелым становился» (Пимен), «...ох, тяжела
ты, шапка Мономаха» (Борис) и т. д. Возможность
утраты царской власти герои трагедии осознают в обра-
зах, восходящих к обрядовому развенчанию царя-жре-
ца: «...вряд царю Борису сдержать венец на умной го-
лове» (Пушкин), «...ужели тень сорвет с меня порфи-
ру» (Борис). Но в монологах и диалогических выска-
зываниях Бориса содержатся многочисленные попытки
философского (этического и исторического) осмысле-
ния самодержавия, т. е. стремление заложить основы
идеологии абсолютизма на русской почве. В первом мо-
нологе Борис говорит о тяжелых обязанностях правите-
ля, выделяет необходимые, по его мнению, властителю
черты («...да правлю я во славе свой народ, да буду
благ и праведен...»), призывает бояр верно и добросо-
вестно служить своему царю. Здесь же отразилось но-
вое обоснование права на власть: в отличие от Ивана
Грозного, Годунов не пытается объявить себя потом-
ком римских императоров, считая достаточным свое на-
мерение быть лично достойным трона; он не боится при-
знать, что еще недавно был одним из царских слуг.
В этом же монологе он подчеркивает, что стал царем
только благодаря народной воле.
В знаменитом монологе «Достиг я высшей власти»
содержатся горькие раздумья, трезвые оценки взаимо-
отношений верховного властителя и народа. Борис Го-
дунов сознает обязанности просвещенного и гуманного
государя перед народом и видит свой нравственный и
человеческий долг в их добросовестном исполнении:
...............Я думал свой народ
В довольствии, во славе успокоить,
Щедротами любовь его снискать...
Бог насылал на землю нашу глад,
Народ завыл, в мученьях погибая;
Я отворил им житницы, я злато
Рассыпал им, я им сыскал работы...
Пожарный огнь их домы истребил,
Я выстроил им новые жилища . .
Но народ обвиняет Бориса в стихийных бедствиях и не
испытывает благодарности за его благодеяния. И Го-
дунов делает знаменательный вывод:
38
Живая власть для черни ненавистна,
Они любить умеют только мертвых.
В этом заявлении соединяется позиция самодержца,
живая человеческая обида и отзвук устойчивого архаи-
ческого представления о царе-жреце. Слова Бориса:
Безумны мы23, когда народный плеск
Иль ярый вопль тревожит сердце наше!
— выражают самосознание монарха новой эпохи, ощу-
щающего свою особую социальную принадлежность к
правителям, убежденно противопоставляющего себя на-
роду. С этими словами перекликается высказывание Бо-
риса в разговоре с Басмановым:
Лишь строгостью мы можем неусыпной!
Сдержать народ. Так думал Иоанн,
Смиритель бурь, разумный самодержец,
Так думал и — его свирепый внук.
Нет, милости не чувствует народ:
Твори добро — не скажет он спасибо;
Грабь и казни — тебе ’ не будет хуже.
' Наряду с досадой, вызванной неблагодарностью народа,
здесь звучит один из принципов абсолютной монар-
хии — уверенность в том, что только насилием можно
сохранить и укрепить власть — и уже сформировавше-
еся понимание огромной разницы в социальном поло-
жении правителя п черни. В словах Бориса зафикси-
ровано не этническое, а социальное содержание поня-
тия «народ».
Личность Бориса в трагедии противоречива. Он ум-
ный человек, склонный к анализу и оценке историче-
ских событий, начинавший понимать значение экономи-
ки в развитии государства, стремившийся к власти не
только ради обладания ею, но и ради реализации сво-
их политических идеалов, которые во многом совпада-
ли с формирующейся идеологией просвещенного обсо-
' лютизма. Изображая так Годунова, Пушкин был исто-
рически точен, но для поэта важна была эта сторона
личности царя, так как проблема политического значе-
ния в жизни государства и нации фигуры просвещен-
ного монарха проддлжала оставаться актуальной и в
России 20-х годов XIX века.
Этические идеалы Бориса тоже во многом' опреде-
ляются его эпохой. Нравственное поведение, понимаемое
в свете личной ответственности не только перед богом,
39
но и перед людьми, для него является высшей ценно-
стью и основой гармоничного существования. Однако
Борису присущи и честолюбивые стремления к высшей
власти, желание удержать ее в своих руках и основать
династию, а в связи с этим — свойственное его классу
отношение к народу. Поэтому Борис оказывается спо-
собным на любые формы насилия и даже на преступле-
ние. Противоречия в сознании выливаются в муки со-
вести, которые сами по себе в такой форме и по такому
поводу характерны для человека нового времени.
Борису Годунову не удалось претворить в жизнь ни
политический, ни нравственный идеал. Нарушение поли-
тических принципов не воспринимается им трагически
(он слишком1 самодержец), зато несоответствие жизнен-
ного поведения ‘нравственному идеалу оценивается им
как непреходящая душевная трагедия. Симптоматично,
что ответственность перед людьми оказывается для не-
го выше ответственности перед богом. Мучаясь и стра-
дая, Годунов не вспоминает о возможности получить
отпущение грехов, в том числе и убийства Димитрия.
Бели в Византии, с которой была тесно связана идеоло-
гия царской власти на Руси, венчание на царство сни-
мало с человека любые грехи вплоть до убийства, то
для Бориса это уже не так. Став царем, он не перестал
осознавать себя человеком. Характерно также, что ве-
рующий в бога Борис без колебаний предпочитает глав-
ное дело своей жизни спасению души в христианском
понимании:
..............Умираю;
Обнимемся, прощай, мой сын; сейчас
Ты царствовать начнешь... О боже, боже!
Сейчас явлюсь перед тобой — и душу
Мне некогда очистить покаяньем.
Но чувствую — мой сын, ты мне дороже
Душевного спасенья... Так и быть!
В поведении Бориса ценностные акценты перенесе-
ны: главкой является земная жизнь, а не загробная,
(как это было характерно для человека Средневековья).
Это мужественное поведение, ибо он верит в загробные
мучения нераскаявшихся грешников, но готов созна-
тельно принять их ради продолжения сыном его земной
деятельности.
В характере и сознании царя Бориса изображены
не только черты русского человека позднего Средне-
40
вековья, но и следы архаических представлений, а также
тенденции, определяющие развитие общественного соз-
нания в последующие века.
Можно согласиться с Г. А. Гуковским, что «народ в
«Борисе Годунове» показан так же сложно, как и царь»,
что «народ — сила и творец истории, суть государства»,
что «вместе с тем он — потенциальная сила револю-
ции», но вызывают возражения следующие его мысли:
«Трагедия закончилась точно тем, чем она начиналась.
Мы вернулись к исходной ситуации. Опять народ в око-
вах (победа его восстания обернулась против него).
Опять бояре ведут политические интриги... Опять на пре-
стол вступает новый царь, поставленный боярами и не
нужный народу, ибо самозванец превратился в царя-ти-
рана... И уже опять повторяется история отношения на-
рода к Борису: народ, посадивший на трон Димитрия,
уже «в ужасе молчит», а затем «народ безмолвству-
ет». И мы уже предвидим новый взрыв ненависти на-
рода к новому царю — и опять гибель царя»24.
Вызывает удивление, насколько устойчиво представ-
ление о том, что Пушкин в трагедии изобразил народа
ное восстание.
Даже Г. А. Гуковский допускает противоречие: то
Дмитрия на престол поставили бояре, то он посажен
народом. «Опять народ в оковах» — но он и не был сво-
боден. Мы уже говорили, что сцену на Лобном месте
неправомерно считать эпизодом освободительного народ-
ного восстания. Если же видеть народно-освободитель-
ное движение в выступлении части народных масс на
стороне Лжедмитрия, то возникает целый ряд вопросов,
на которые нет ответа в тексте трагедии. Почему на рав-
нине близ Новгорода-Северского русское войско Бори-
са Годунова сражается с поляками Григория Отрепье-
ва? Почему в Севске «самозванец, окруженный своими»,
окружен «ляхами»? Почему ни в одной батальной сце-
не трагедии Пушкин не показывает русских (кроме бо-
яр), сражающихся на стороне Отрепьева? Наконец, ко-
гда Гаврила Пушкин характеризует войско самозван-
ца, он и сам пренебрежительно говорит о русских, вхо-
дящих в его состав:
Я сам скажу, что войско наше дрянь,
Что казаки лишь только сёлы грабят,
Что поляки лишь хвастают да пьют,
А русские... да что и говорить.,.
41
Поэт показал, что сила самозванца не в войске, в ко-
тором нет и восьми тысяч человек, а в «мнении народ-
ном», которое. проявляется не через освободительную
крестьянскую войну:
Димитрия ты помнишь торжество
И мирные его завоеванья,
Когда везде без выстрела ему
Послушные сдавались города,
А воевод упрямых чернь вязала?
В Борисовом войске добросовестно сражаются только
немцы-наемники.
Прежде чем заниматься выяснением исторической
роли народа, как она изображена в трагедии, следует
добиться ясностй в двух вопросах. Во-первых, какова
разница между современными научными взглядами
на эту проблему и тем, чего мы,вправе ожидать от
Пушкина. Во-вторых, что вкладываем мы в понятие
«народ» и в каком значении использовал его Пуш-
кин?
Начнем со второго, более частного вопроса. В совре-
менном языке слово «народ» имеет два основных значе-
ния. Используя греческие термины, можно сказать, что
этносом «следует считать всякую общность, которая
складывается на определенной территории, среди людей,
находящихся между собой в реальных экономических
связях и говорящих на взаимопонятном языке, сохраня-
ет, как правило, на протяжении всего периода своего су-
ществования известную культурную специфику и созна-
ет себя отдельной самостоятельной социальной группой.
И далее: «...демос означало народ как основную массу
населения... Но так как в любой стране и в любую ис-
торическую эпоху трудящиеся всегда составляют абсо-
лютное большинство населения, то и в этом случае по:
нятия народ и трудящиеся оказываются близкими друг
к другу»25. Когда говорят о проблеме «царь и народ»,
то имеют в виду второе значение слова «народ». В близ-
ком значении употребляет это слово в трагедии и Пуш-
кин. У него народ — «основная масса трудового насе-
ления, «простонародье» (в основном крестьяне и ме-
щанство)»26.
Наряду со словом народ в этом его значении в тра-
гедии употребляется в качестве синонима слово чернь.
Слово это оказалось «скомпрометированным» в стихо-
42
творении «Поэт и толпа». Лирический герой стихотво-
рения говорит толпе, черни:
Подите прочь — какое дело
Поэту мирному до вас!
В разврате каменейте смело:
Не оживит вас лиры глас!
Душе противны вы, как гробы.
Для вашей глупости и злобы
Имели вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры; —
Довольно с вас, рабов безумных...
Это стихотворение — камень преткновения для почита-
телей Пушкина. Если понимать строки поэта буквально,
ка/к это сделал Писа-рев, то получится, что поэт, народ-
ность которого стали провозглашать еще при жизни,
завершивший трагедию «Борис Годунов», в которой на-
род изображен как главная движущая сила истории,
проявляет полное презрение к этому самому народу.
Довольно быстро было найдено оправдание этим строч-
кам. Наиболее полно и современно сформулировал его
А. Блок в 1921 году: «Вряд ли когда бы то ни было
чернью называлось простонародье. Разве только те, кто
сам был достоин этой клички, применяли ее к простому
народу. Пушкин собирал народные пеони, писал про-
стонародным окладом; близким существом для него бы-
ла деревенская няня. Поэтому нужно быть тупым или
злым человеком, чтобы думать, что под чернью Пуш-
кин мог разуметь простой народ. Пушкинский словарь
выяснит это дело, — если русская культура возродит-
ся. Пушкин разумел под именем черни приблизительно
то же, что и мы. Он часто присоединял к этому суще-
ствительному эпитет «светская», давая собирательное
имя той родовой придворной знати, у которой не оста-
лось за душой ничего, кроме дворянских званий; но уже
в глазах Пушнина место родовой знати быстро занима-
ла бюрократия. Эти чиновники и суть — наша чернь...
Чернь требует от поэта служения тому же, чему слу-
жит она».
Прошло 70 лет, русская культура, может быть, не
полностью возродилась, но Пушкинский словарь мы име-
ем, и в нем отмечено четыре значения слова, и в том
числе — «простонародье, городские низы, уличная тол-
па, сброд». Да, есть и блоковское: «о невежественной,
духовно ограниченной среде, толпе»27. У Даля эти зна-
43
чения совмещены: «чернь, черный народ, простолюдины,
особенно толпа, ватага их» (Толковый словарь живого
великорусского языка. М., 1980. Т. 4. С. 595.) Традици-
онно русская интеллигенция, начиная с рубежа XVIII—
XIX веков, возлагала на народ, т. е. угнетенные массы,
надежду освобождения, построения нового, демократи-
ческого общества. Отсюда — настойчивые попытки иде-
ализации народа, которому приписывались особая нрав-
ственная чистота, мудрость, а дальше — то, чего алка-
ли ум и душа конкретного мыслителя: свободолюбие
или покорность, кротость; религиозность или равноду-
шие к Богу; независимость, самостоятельность или идил-
лические отношения «детей» к «царю-батюшке», «отцу-
благодателю» помещику. И редко кто осмеливался объ-
единить два значения слова «чернь», отмеченные у Пуш-
кина. Вот и Блок называет чернью бюрократию, что
звучит очень современно и правильно. Как это ни пе-
чально, но чернь — понятие всесословное, ибо «невеже-
ственная, духовно ограниченная толпа» может состоять
из представителей самых разных социальных слоев. Вот
ведь и Пушкин писал:
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними...
Главной революционной силой являются угнетенные
классы. Но революция — не единственная форма народ-
ной активности. Пушкин рисует эпоху, когда в России
только еще начинали возникать условия для перехода
к капитализму — процесс, завершившийся лишь через
300 лет. «Бунташный» XVII век начался войной, пово-
дом к которой послужила авантюра Григория Отрепье-
ва. Самозванец опирался на иностранную интервенцию,
на существовавшую в России боярскую оппозицию, на
антикрепостнические настроения народных масс, на Дон-
ское казачье войско. Обстановка в России сложилась
в его пользу; она была во многом типична для переход-
ной эпохи, но отличалась рядом русских особенностей,
очень осложнивших ее.
«Голод обострил социальные противоречия в стра-
не. Появление массового повстанческого движения и
восстание казачьей окраины от Дона до Яика несли
смертельную опасность феодальному государству. На-
родные движения грозили ниспровергнуть устои родив-
шегося, но еще не окрепшего крепостнического режима...
44
Бывший боярский слуга и расстрига Отрепьев, оказав-
шись на гребне народного движения, попытался сыграть
роль казацкого атамана, и народного вождя, но подлин-
ные интересы народа были ему глубоко чужды. Вт ос-
нове повсеместных выступлений против Годунова лежал
стихийный протест угнетенных масс, которые, однако,
не могли выдвинуть вождей и осмыслить задачу. Имен-
но это и позволило авантюристу, явившемуся в подхо-
дящий момент, воспользоваться движением в корыст-
ных целях». После смерти Бориса Годунова активно вы-
ступила боярская оппозиция. «Знать спешила исполь-
зовать междуцарствие, чтобы избавиться от неугодной
ей династии»28. Именно в этот момент бояре сумели
попользовать народное движение.
Пушкин очень точно показал движущие силы и ход
событий начала XVII века в России, сумев увидеть все
сложности и тонкости борьбы интересов различных со-
циальных групп. Среди сторонников Отрепьева и князь-
рюрикович Курбокий, сын идеолога боярской оппозиции
самодержавию, и Петр Басманов, сын знаменитого фа-
ворита Грозного, представитель новой знати, выдвинув-
шейся в период опричнины, и мелкий дворянин Хрущев,
и польский аристократ Мнишек, и «вольный шляхтич»
Собаньский, и донской казак Карела, и черный люд.
Одним из проявлений классовой борьбы в эту эпоху бы-
ли народные бунты. Пушкин хорошо понимал и изобра-
зил причины и направленность, но видел и бесперспек-
тивность их,, обусловленную отсутствием ^вождей и це-
лей, отражающих интересы народа. Современный исто-
рик понимает, что цели и задачи восстания, выражаю-
щие интересы народа и реально достижимые в ходе
борьбы, могут сформироваться только на определенном
этапе развития общества.
Изображение в «Борисе Годунове» народного бунта
исторически точно — он не может» привести к освобож-
дению народа, является орудием в руках реакционной
части бояр и политических авантюристов. Но поэт уже
знал, что в Западной Европе стихийные крестьянские
восстания — один из основных признаков перехода от
феодализма к капитализму. Пушкин — мыслитель и
художник — вплотную подходил к пониманию объек-
тивности общественного развития, чувствовал наличие
каких-то закономерностей, определяющих его ход, по-
нимая первостепенное значение народа в истории.
45
Исторический материал, которым оперируют совре-
менные ученые, в значительной своей части был знаком
Пушкину. Отсюда близость исторических воззрений поэ-
та к науке нашего времени. Зная о народных выступле-
ниях в поддержку Лжедмитрия, Пушкин не считал их
ни единственной, ни главной формой влияния народа на
ход истории— что и отражено в трагедии.
Вопросы о том, почему и как возникает в народном
сознании идея цареубийства, тесно связаны с вопросом
о происхождении устойчивой веры народа в доброго
царя, в возможность появления правителя; который бу-
дет заботиться о народе, жаловать и миловать его.
В самом деле, как объяснить царистские иллюзии, если
ни один царь — ^объективно — не мог ни в своей дея-
тельности, ни в личностном поведении соответствовать
народному идеалу и никогда не соответствовал ему? Ни-
какое, даже иллюзорное представление не может воз-
никнуть на пустом месте. Никакая, даже самая фанта-
стическая надежда не может быть направлена на аб-
солютно произвольный объект.
На первый из поставленных вопросов может отве-
тить человек, вооруженный современным научным ме-
тодом мышления. Мы представляем себе, что причину
возникновения этой идеи коренятся в экономических,
социальных, политических особенностях развития обще-
ства. Однако человек XVII века на этот вопрос, если
бы он перед ним возник, искал бы другие ответы.
На вопрос как, т. е. в каких формах, рождается идея
цареубийства, сейчас можно ответить, только учитывая
закономерности социального развития и развития народ-
ного сознания. Исторические закономерности развития
коллективного сознания изучены гораздо меньше, чем
закономерности развития экономики и форм обществен-
ной жизни. Но по некоторым частным аспектам этой
проблемы собран достаточно большой материал, позво-
ляющий делать некоторые выводы. К таким аспектам
относится и интересующий нас вопрос.
Как подчас кажется, возможность цареубийства и
идея замены царя могла возникнуть как результат опы-
та борьбы за власть, достижение которой часто требова-
ло политических убийств. Однако такое предположение
не учитывает специфики возникновения устойчивых
представлений в коллективном, сознании. Фольклорное
сознание может создать представление об обреченности
46
царя, только если насильственная смерть правителя яв-
ляется правилом. Между тем, как 'бы часто ни гибли
верховные правители в борьбе за власть в классовом
обществе, это никогда не осознавалось как правило, а
лишь как исключение из него. Правилом было законное
наследование престола. Только такие представления мог-
ли породить осуждение цареубийцы с точки зрения эти-
ки. Многочисленные факты политических убийств в
борьбе за трон не могли стать почвой для формирования
идеи правомерного убиения скомпрометировавшего себя
царя и замены его либо другим царем, либо другой фор-
мой государственного правления. Чтобы эта идея уко-
ренилась в общественном сознании, одной из первых
форм которого было фольклорно-мифологическое созна-
ние, нужен был другой прецедент. И он был.
Было время, когда царь-жрец расставался с властью
только в результате насильственной смерти, носившей
обрядовый характер, а его преемником, как правило,
становился убийца. Овладение магической жизнетво-
рящей силой было возможно — в сознании людей той
эпохи — только в результате победы над прежним ца-
рем и его убийства. Цари-жрецы жили и умирали ради
своего народа. Царь должен был умереть обязательно
насильственной смертью, и каждый убиенный царь той
отдаленной эпохи отдавал жизнь за народ. Здесь исто-
ки идеала доброго царя — слуги своего народа, основы
его благосостояния, хранителя вечной магической-силы,
обеспечивающей жизнь, — и уверенности в том, что
такие цари были; здесь истоки представлений о право-
мерности убийства царя, который перестал соответство-
вать народному идеалу. Конечно, мы не забываем о том,
что все эти, выраженные в современных терминах, взгля-
ды иначе окрашивались в связи с иными, доличностшы-
ми представлениями: первоначально ритуальное убие-
ние архаического царя-жреца не воспринималось никем,
в том числе и им самим, как трагедия, т. к. иным было
само представление о смерти. Ценность человеческой
жизни повышалась с развитием личностного сознания, и
только в эпоху развитого личностного сознания гибель
человека стала восприниматься трагически. К тому вре-
мени, когда установилось новое восприятие смерти чело-
века (и царя), сформировались новые правовые основы
передачи власти, новое понимание самой власти и ее
роли в обществе, новое отношение к убийству царя —
47
как к преступлению. Старая традиция уходит на пери-
ферию общественного сознания, но продолжает там
жить. Новая же традиция определяет идеологию правя-
щих классов и государственные законы, регламентиру-
ет поведение, частного человека. Когда в кризисных исто-
рических ситуациях недовольство широких народных'
масс деятельностью властей достигает наивысшего на-
кала, коллективное сознание, не находя прецедента в
новой традиции, стихийно ищет его в мыслительных кон-
струкциях, возникших в русле древней традиции, отра-
зившей давно ушедшие формы жизни.
Здесь проявилась особенность народного сознания,
которое в осмыслении новых жизненных явлений сориен-
тировано на прощлое, на традицию, на прецедент. Го-
товность к цареубийству, нравственным оправданием
которого служит осуждение цареубийцы, является про-
явлением одной из закономерностей развития народного
сознания. Народ в трагедии осуждает Бориса за убий-
ство царевича Димитрия, но готов убить за это преступ-^
ление сына избранного им же на царство Бориса и сра-‘
зу же после убийства Федора осуждает за это новое
цареубийство воскресшего царевича Димитрия, опира-
ясь на разные прецеденты.
Весь материал этой главы доказывает органическое
соответствие формы и идейно-тематического содержа-
ния — в области главной проблемы — трагедии «Борис
Годунов». Это соответствие базируется, во-первых, на
генетической общности жанра трагедии и ее главной
.проблемы; во-вторых, на глубоком историзме мышления
Пушкина, проявившемся в понимании того, что исто-
рия общества — непрерывный объективный поступатель-
ный процесс, и в овладении художественными формами
народного сознания.
48
3*
ЦАРЬ И САМОЗВАНЕЦ
В предыдущей главе рассматривались вопросы, свя-
занные с отношением .народа к царской власти и обра-
зу царя. Как отмечал Энгельс, крестьяне в России мно-
гократно восставали против дворянства и отдельных
чиновников, «но против царя — никогда, кроме тех слу-
чаев, когда во главе народа становился самозванец и
требовал себе трона»1. Но такая ситуация неизбежно
приводила к тому, что для народа, идущего за очеред-
ным претендентом на престол, царь, занимающий трон,
становился самозванцем.
Борис у Пушкина не чувствует себя самозванцем, не
сомневается в своем праве «а царский престол. В со-
ответствии с архаической традицией он считает необ-
ходимой и достаточной основой своего положения все-
народное избрание и «священное на власть благосло-
венье». Свою социальную роль Годунов осознает преж-
де всего как «державный труд», не представляя себе
высшую власть отдельно от долга и забот государствен-
ного деятеля.
О появлении Лжедмитрия царь Борис узнает в 10-й
сцене («Царские палаты»). Начинается эта сцена как
семейная: отец пришел к детям. Дочь царя появляется
только здесь и в последней сцене трагедии. Образ Ксе-
нии, созданный Пушкиным, заметно отличается от ос-
тальных персонажей. Она лишена индивидуальных
черт, не вступает в контакты с другими героями. Образ
этот чрезвычайно труден для актерского исполнения,
в нем нет живых красок. Разговор с братом («Братец,
а братец! скажи: королевич похож был на мой обра-
зок?» — «Я говорю тебе, что похож »), который поэт не
включил в окончательный текст, передавал естествен-
ное любопытство девушки, влюбившейся по портрету.
Конечно, Пушкин мог изменить начало сцены и потому,
что неизвестно, виделась ли Ксения со своим женихом в
4-3103 49
реальности. Но так или иначе, после исключения этого
диалога из трагедии героиня утратила все личностные
признаки. И пушкинская Ксения полностью совместилась
с образом сказочной царевны. Оплакивая свое несчастье,
девушка абсолютно не думает о том, как оно повлияет
на ее судьбу. Русская царевна той эпохи, оказавшаяся в
положении дочери Годунова, могла либо надеяться на
брак с другим человеком, либо опасаться заключения в
монастырь. В сохранившихся вариантах народной исто-
рической песни «Плач Ксении» запечатлелась именно
боязнь девушки попасть в монастырь. События песни от-
носятся ко времени после смерти Бориса, когда брак
для Ксении стал невозможен:
i
А что едет.к Москве Рострига,
да хочет теремы ломати,
меня хочет, Царевну, поимати,
а на Устюжну на Железну отослати,
меня хочет, Царевну, постритчи,
а в решетчатой сад засадити.
Ино ox-те мне горевати:
как мне в темну келью ступити,
у игуменьи благословитца?2
Пушкинская же Ксения только провозглашает свою
вечную верность мертвому жениху.
Она настоящая царевна, живет в реальных царских
палатах, за ней ухаживает приставленная к ней мамка.
Но и сказочная царевна живет в царских палатах, ря-
дом с ней, как правило, мамки и няньки. Мать Ксении
жива, но Мария Годунова в трагедии не появляется, и
лишь в финале сказано, что ее задушили вместе с Фео-
дором.
Мать царевны в сказке чаще всего отсутствует, а
если упоминается, то не влияет на судьбу дочери, по-
могают ей мамки-няньки (позднее сказочное переосмыс-
ление магических сил). Следовательно, ситуация начала
этой сцены полностью воспроизводит схему сказки. Есть
царевна, тоскующая по своему отсутствующему (погиб-
шему) жениху, есть утешительница и помощница мам-
ка, есть царь-отец.
Слова «я и мертвому буду ему верна» могла бы
произнести современница Пушкина, но они невероятны
в устах русской царевны начала XVII века. Ксения мог-
ла бы с горя стремиться стать монахиней, уйти от мирс-
кой жизни, что означало бы лишь сохранение памяти о
50
мертвом женихе, ибо монахини — Христовы невесты.
Она могла бы вечно плакать по умершему жениху, но
не могла сохранить ему вечной верности, т. к. дочь ца-
ря, живя в миру, не должна была остаться незамужней.
Однако то, что было невозможно для Ксении, обязатель-
но для царевны народной сказки.
Странным выглядит поведение Бориса. Он не пы-
тается утешить дочь, не обещает ей другого жениха.
Царь разговаривает с Ксенией так, как будто ни изме-
нить что-либо в ее судьбе, ни помочь ей не может.
Больше того, он чувствует себя виновником несчастья
дочери, гибели ее жениха:
Я, может быть, прогневал небеса,
Я счастие твое не мог устроить. .
Безвинная, зачем же ты страдаешь?
Однако когда Бориса обвиняют в убийстве жениха
дочери, он негодует:
Как буря, смерть уносит жениха...
И тут молва лукаво нарекает
Виновником дочернего вдовства —
Меня, меня, несчастного отца!
Годунов имел право негодовать, так как смерть датско-
го принца не только не входила в его намерения, но и
разрушила политические планы царя. Откуда же в таком
случае чувство вины, испытываемое героем? Объяснение
может быть двояким. Первое связано с христианской
моралью: несчастье Ксении — божье наказание Борису
за его грехи. Но он наказан не гибелью дочери или сы-
на, не потерей власти, имущества и т. д., а смертью че-
ловека, для него постороннего. Правильнее будет дру-
гое объяснение, с более древней основой. Убийство жени-
хов царевны ее отцом является распространенным моти- '
вом сказочного сюжета. Генезис его объяснен В. Я. Проп-
пом3. Он считает, что этот сюжетный мотив «возник из
исторически имевшихся форм борьбы за власть»4. Древ-
ние формы наследования власти царя-жреца, когда она
переходила к зятю (пришельцу, чужестранцу), т. е. пе-
редавалась через женщину, исследованы Дж. Фрэзером.
Считая, что сказка отражает реальные обычаи древности,
Пропп подчеркивает, что смена царя-жреца «могла на-
ступить тогда, когда дочь царя достигала брачного воз-
раста. Ее жених — смертельный враг царя, ее жених
4*
51
есть наследник, он тот, кто его убьет»5. Обратившись
даже только к русской сказке, можно обнаружить мно-
жество сюжетов, в которых отношения между царем и
женихами его дочери складываются враждебно. Как
правило, царь не позволяет дочери вступать в брак,
убивает всех ее женихов, задает им невыполнимые зада-
чи. В сказке всегда побеждает жених или достойнейший
из женихов. Он выполняет трудные задачи, убивает ца-
ря, женится на его дочери и овладевает престолом.
В более поздних, смягченных вариантах жених получает
полцарства впридачу к царевне, а после смерти царя —
все царство.
Среди вариантов сюжета о Кащее Бессмертном Пуш-
кин записал именйо тот, в котором есть интересующий
нас мотив: «Царь Кащей Бессмертный не хотел дочери
своей выдать замуж, покамест сам будет жив. Дочь при-
ступает к нему: «Где-де твоя смерть?..». Помощницей
и невестой Ивана-царевича является дочь царя Ка-
щея.
В трагедии Пушкина Годунова обвиняют в убийстве
царевича Дмитрия, царя Федора Иоанновича, царицы
Ирины, т. е. всех возможных претендентов на престол.
В этом ряду и датский принц, который, согласно усло-
виям русского престолонаследия, не мог быть опасен
Борису, пока был жив Федор Борисович. Реальный Бо-
рис Годунов, как известно, не совершил ни одного из
этих злодеяний, но предположить его участие в убийстве
троих первых можно было, основываясь на современной
ему логике борьбы за трон. Убийство жениха Ксении с
точки зрения этой логики абсурдно. Его можно объяс-
нить только древней традицией представлений о взаи-
моотношениях царя и его зятя, возникших в недрах
другой общественно-экономической формации, но сохра-
нившихся на периферии народного сознания, отразив-
шихся в фольклоре. Борис не убивал, не хотел и не мог
убить датского принца, но должен .был к этому стре-
миться по древним представлениям, зафиксированным
в сказочном сюжете. Эти же представления частично
объясняют (и в какой-то мере обусловливают) чувство
вины, которое испытывает Борис по отношению к
дочери.
Поэтика сказки использована Пушкиным не только в
образе Ксении, народной 'оценке поступков Бориса, но
и в композиции. Диалог Бориса с детьми не объединя-
52
ет всех троих в единую группу. Борис разговаривает
сначала только с Ксенией, потом только с Федором.
Брат и сестра в контакт не вступают. И это тоже соот-
ветствует образной структуре сказочного сюжета — там
у подобной царевны брата обычно не бывает. Царевич-
наследник — фигура сказок, возникших .в более позднее
время, при другой форме передачи власти.
В 10-й сцене сочетаются два тематически очень раз-
нородных фрагмента: Борис в своей семье и Борис-царь,
узнающий о появлении претендента на его престол.
В «Истории» Карамзина Годунов узнал о Лжедмитрии
иначе, из нескольких источников. Какой эффект дости-
гается такой композицией этой сцены?
Различные исследователи видели в ней сценически
эффективную ситуацию, когда проявляются муки совес-
ти главного героя и ставятся этические проблемы, свя-
занные со статусом властителя. С. А. Фомичев пишет:
«Убийца младенца является в народном представлении
предельным воплощением зла... высокий этический иде-
ал живет в народном сознании, и именно он определяет,
по Пушкину, суд истории»6.
Нам думается, что дело обстоит сложнее. В десятой
сцене берет верх суеверие, т. е. архаический слой в соз-
нании Бориса. Не больная совесть заговорила в царе, а
готовность видеть в снах, преследовавших его 13 лет,
пророчество грядущей гибели и развенчания. Годунов
ни минуты не верит в чудесное воскресение убитого ца-
ревича, он может лишь предположить, что тринадцать
лет назад Димитрий случайно остался жить. Но появле-
ние самозванца воспринимается им как угроза его жиз-
ни и власти. Разум человека XVII века, опытного поли-
тика, подсказывает Борису, что особой опасности пока
нет, но древнее традиционное представление берет верх
в смятенной душе царя. В конце сцены звучит мотив
обреченности Годунова. Знаменательно, что свой гряду-
щий крах он обозначает в древних формулах развен-
чания царя перед его убиением: «ужели тень сорвет с
меня порфиру», а свое положение — не менее древним
символическим образом царского венца: «Ох, тяжела ты,
шапка Мономаха». Мотив Обреченности царя звучит в
трагедии постоянно, то усиливаясь, то отходя на задний
план. За образом нежного отца, который чувствует себя
без вины виноватым в несчастии дочери, благодаря ис-
пользованию образной структуры и сюжетной ситуации
53
народной сказки стоит древний образ царя-жреца, у
которого дочь достигла брачного возраста, а значит,
скоро придет развенчание и смерть.
Пушкин постоянно пользуется древними речевыми
оборотами, связанными с увенчанием, осмеянием, раз-
венчанием, убиением царя. В 20-й сцене, изображаю-
щей кончину Бориса, финальный эпизод построен так,
что .на первый план выступает христианский обряд пред-
смертного пострижения царя в монахи. Этот обряд ос-
мысливался как забота о посмертной судьбе души царя-
христианина. Однако генетически обряд восходит к древ-
нему представлению о предсмертном развенчании царя-
жреца. Сам обряд не изображен (центром его было пе-
реодевание из царских одежд в монашеские), обозна-
чен лишь ремаркой. Поэтому всякие высказывания о нем
Бориса кажутся лишними, замедляющими действие. Ге-
рой поглощен земными заботами о будущем династий.
И, однако, его слова очень характерны:
«Ударил час, в монахи царь идет —
И темный гроб моею будет кельей...
Повремени, владыко патриарх,
Я царь еще...
В этот момент Борис видит в пострижении лишь расста-
вание с царским венцом — вскоре он уже не сможет
приказывать боярам, не сможет отдать последние
царские распоряжения.
Другой пример. Обличая Отрепьева, патриарх гово-
рит:
Он именем царевича, как ризой
Украденной, бесстыдно облачился:
Но стоит лишь ее раздрать — и сам
Он наготой своею посрамится.'
Здесь налицо элементы карнавального осмеяния лже-
царя, смеховая параллель святого пострижения Бориса.
Образ лжецаря Григория Отрепьева насыщен в трагедии
смеховыми элементами, в отличие от образа царя Бо-
риса Годунова. М. М. Бахтин называл трагедию в ряду
«наиболее карнавальных произведений Пушкина»7.
В сне, который трижды видит Лжедмитрий:
Мне снилося, что лестница крутая
Меня вела на башню; с высоты
Мне виделась Москва, чт<} муравейник;
54
Внизу народ на площади кипел
И на меня указывал со смехом;
И стыдно мне и страшно становилось —
И, падая стремглав, я пробуждался..,
М. М. Бахтин отмечал карнавальную логику «само-
званного возвышения, всенародного смехового развен-
чания на площади и падения вниз»8. В пророческом сне
самозванца дано концентрированное, опирающееся на
архаические представления, народное видение судьбы
царя. В то. же время в сне отражены реальные события,
которые произойдут после завершения действия тра-
гедии.
Большинство сцен трагедии Пушкин, как неоднократ-
но отмечалось исследователями, строил не столько как
изображение развития какого-либо события, сколько как
показ его результата или наиболее острого момента это-
го развития. Но к 5-й сцене, в которой рассказано о сне
Отрепьева, это наблюдение не относится. В ней как
будто ничего не происходит, однако звучит она проро-
чески и заканчивается так же:
Борис, Борис! все пред тобой трепещет,
Никто тебе не смеет и напомнить
О жребии несчастного младенца, —
А между тем отшельник в темной келье
Здесь на тебя донос ужасный пишет:
И не уйдешь ты от суда мирского,
Как не уйдешь от божьего суда.
Все в этой сцене носит характер непосредственной связи
прошлого с будущим, связь времен в ней почти осязае-
ма. Пимен пишет о прошлом, но для того, чтобы о нем
знали потомки. Он рассказывает об Иване Грозном,
чтобы убедить молодого мятежного чернеца в преиму-
ществах жизни в монастыре, но Грозный в рассказе
предстает ряженым «игуменом смиренным» среди ко-
щунственно играющих в монахов «кромешников». Рас-
сказав об убиении царевича Димитрия, летописец сооб-
щил Григорию сведения, которые тот впоследствии упо-
требит, чтобы стать самозванцем. Случайный разговор в
монастыре оказывается чреватым большими события-
ми в будущем.
После этой сцены следовала другая — «Ограда мо-
настырская», в которой изображен тот момент, когда
55
под влиянием Злого Чернеца Отрепьев окончательно ре-
шил принять имя Дмитрия. Но Пушкин эту сцену из
текста исключил. Если бы она осталась, то затея само-
званца казалась бы только авантюрой, родившейся из
предложения Злого Чернеца. На самом же деле идея
самозванства обусловлена более сложными процессами,
происходившими в сознании Григория Отрепьева, ти-
пичного русского человека рубежа XVI и XVII веков.
Конечно, он авантюрист, хорошо осведомленный о со-
бытиях недав!него прошлого и современности, учитываю-
щий конъюнктуру исторического момента. Но для того
чтобы убедительно сыграть роль чудесного царевича,
Григорий должен хоть иногда, хоть немного верить в
то, что он действительно царевич. Основой этой веры мо-
жет быть пророчество, таинственное чудесное предска-
зание. Так он воспринимает свой троекратно повторяю-
щийся сон. Отношение к предсказаниям в любой форме
(гадания, вещего сна) у человека XVII века было двой-
ственным. Уже более шестисот лет церковь на Руси бо-
ролась с гаданиями и верой в прорицания будущего,
объявляла их «бесовскими мечтаниями». Эта борьба бы-
ла Отражением глубоких идеологических перемен и
прежде всего новых, по сравнению с язычеством, времен-
ных представлений. Возможность узнать будущее опи-
рается на циклическое время архаики, когда существо-
вало фиксированное 'будущее (заднее время). Хрис-
тианские представления, разделяющие время и вечность,
не знают фиксированного будущего, а человеческая судь-
ба зависит лишь от воли единого бога. Поэтому библей-
ские пророки предсказывали не судьбу, а волю бога, ко-
торая могла измениться. Однако древняя вера в воз-
можность предугадать будущее не умерла еще и до на-
шего времени и тем более была сильна в начале XVII
века. Гаданиями занимались .не только простолюдины,
но и царь Борис. Поэтому Григорий называет свой сон
«бесовским мечтаньем» и тут же отмечает троекратную
повторяемость его — традиционный признак таинствен-
ности, необычности — и спрашивает Пимена: «Не чуд-
но ли?». Чудесный сон — знак избранности, предсказа-
ние необыкновенной судьбы.
Чтобы глубже понять объективное идеологическое на-
полнение образа Григория Отрепьева, необходимо рас-
смотреть самозванчество как культурное явление,
к. В. Чистов в книге «Русские народные социально-уто-
56
пические легенды XVII—XIX веков» (М., 1967) убеди-
тельно показал связь самозванчества с легендой о воз-
вращающемся царе-избавителе, который является одним
из воплощений идеи мессианства. Все образы мессий
имеют не только общую структуру, но и единый генезис.
Самым древним вариантом мессии является тотемное
животное, которое гибнет в процессе ритуального дей-
ства, чтобы возродиться и стать снова источником жиз-
ни племени. Подобную функцию выполнял позднее и
царь-жрец, но его роль универсального кормильца и оп-
лодотворителя распространялась на всю природу. Его
возвращение (воскрешение) мыслилось как приход при-
шельца-избавителя, ибо преемник магической силы иден-
тифицировался с убитым и всегда был пришельцем из
другого мира — страны смерти. Ритуальная замена осоз-
навалась как возвращение царя-жреца, несущего с со-
бой избавление от одряхления, бесплодия и гибели все-
го живого.
На основе трансформации этих представлений, по
той же схеме формируются и многочисленные культы
умирающих и воскресающих божеств плодородия — от
самых примитивных до наиболее философски осмыслен-
ных, помещенных преимущественно в идеологическую
сферу. Одной из самых ярких, хотя и не самых поздних,
является фигура Иисуса Христа. Та же схема срабаты-
вала и по отношению к некоторым героям народного
эпоса (Гэсэр) и даже историческим личностям (импе-
раторы Фридрих, Карл, Петр III и др., Христо Ботев и
т. д.)9. К- В. Чистов, изучив большой фольклорный мате-
риал, выделяет три основных типа легенд об избавите-
ле, характерных для России XVII—XIX веков: «1) ле-
генды, в которых в качестве «избавителей» выступают
короли, цари, принцы, наследники, незаконнорожден-
ные царские (королевские и т. д.) дети, свергнутые с
престола или не допущенные до него; 2) «избавители»
религиозного характера (особенно популярные в сектант-
ских кругах и движениях); 3) легенды о «благородных
разбойниках»; вождях крестьянских восстаний и войн».
К последнему типу, по мнению К. В. Чистова, примыка-
ют также возникшие в позднее время легенды «об из-
вестных политических деятелях, революционерах, вож-
дях национально-освободительных и демократических
движений»10. М. Б. Плюханова отмечает «общее стрем-
ление русского фольклорно-эсхатологического сознания’
57
XVII—XVIII веков унифицировать сакральные функции
царя-избавителя, Мессии и Антихриста»11. Она ставит
эту особенность общественного сознания в России XVII—
XVIII веков в тесную зависимость от устойчивой тенден-
ции сакрализации личности. В свою очередь, сама эта
тенденция явилась выражением формирующегося нового
отношения к человеку, важнейшим принципом которого
являлось провозглашение ценности индивидуума, повы-
шение интереса к нему. Явление само по себе новое,
обусловленное начавшимся переходом к следующей об-
щественно-экономической формации, но материализую-
щееся в коллективном сознании в старых формах12.
Движение вперед требует нового осмысления древних,
находившихся на .Периферии сознания представлений.
По словам М. Б. 'Плюхановой, снова, как часто бывает
в переходные эпохи, «имело место возобладание в куль-
туре народных сил и выход .на поверхность мифологи-
ческих пластов сознания»13. И стремление к сакрализа-
ции человека, и на новом уровне происходящая сакра-
лизация царской власти явились следствием и выраже-
нием одних закономерностей исторического развития об-
щества и общественного сознания. Возникшая в глубо-
чайшей древности на базе архаических представлений
мыслительная схема, пережив некоторые трансформа-
ции, не утратила в народном сознании своей жизнеспо-
собности и сохранила потенциал создания близких сю-
жетов с новыми героями.
Большое значение имеет богато и убедительно аргу-
ментированное положение К. В. Чистова о том, что' сю-
жеты, связанные с различными героями, возникали каж-
дый раз заново по одной схеме, жившей в народном
сознании, которую исследователь справедливо считает
«способом и элементом политического мышления». Раз-
вивая это положение, он пишет: «В народном сознании
XVII—XIX веков постоянно жило представление о воз-
можности прихода «избавителя». Но это, разумеется,
была не легенда, а именно представление, элемент или
свойство политического мировоззрения крестьянства в
эпоху готовившегося и назревавшего кризиса феодализ-
ма, в эпоху крестьянских войн, царистских иллюзий и
самозванчества»14.
Мотивируя возможность появления Лжедмитрия и
его успех, Пушкин ссылается на архаичность народного
сознания. В исключенной из текста-сцене «Ограда Мо-
58
пастырская» Чернец, объясняя Григорию раскрывающие-
ся перед ним возможности, говорит:
Слушай: глупый наш народ
Легковерен: рад дивиться чудесам и новизне.
Шуйский, в разговоре с Борисом напоминает ему:
Но знаешь сам: бессмысленная чернь
Изменчива, мятежна, суеверна,
Легко пустой надежде предана,
Мгновенному внушению послушна,
Для истины глуха и равнодушна, \
А баснями питается она.
И, наконец, Годунов констатирует:
Живая власть для черни ненавистна, 1
Они любить умеют только мертвых...
Как уже отмечалось, «хорошего» царя не было и быть
не могло, но всегда жила ® народе .вера в царя-избави-
теля, который умер или скрылся, но должен вернуться,
чтобы избавить свой народ от ужасов социальной не-
справедливости. Все формы царистских иллюзий, вера в
возвращающегося царя-избавителя и самоэванчество как
культурное явление имеют общие генетические истоки.
Вот почему все эти явления оказываются столь тесно
связанными, переходящими одно в другое в некоторые
исторические эпохи, в частности, в России XVII века.
Первым самозванцем в России был Григорий От-
репьев. Имя, которое он использовал, после его гибели,
как эстафета, переходило из рук в руки на протяжении
первого десятилетия XVII века. По утверждению
Б. А. Успенского, «самозванцы появляются в России
лишь тогда, когда в ней являются цари, т. е. после ус-
тановления и стабилизации царской власти (случаи са-
мозваного притязания на княжеский престол неиз-
вестны)»15. Будучи одной из форм антифеодального
движения, самоэванчество- могло возникнуть лишь на
основе тенденции к сакрализации личности. А. М. Пан-
ченко неоднократно писал, что «самозванство — это на-
родная оболочка бунта»16. Следовательно, для появле-
ния самозванца необходимы совершенно конкретные со-
циально-исторические условия, в том числе сформиро-
вавшаяся народная потребность в такой фигуре. В свя-
зи с этим одинаково неисторичны как мнение о том,
что ненависть народа к Борису и его трагический ко-
59
нец обусловлены преступлением, так и мысль о траги-
ческой коллективной 'вине народа, избравшего своим
правителем цареубийцу. Смерть царевича Димитрия бы-
ла актуальной дважды: сразу после Угличской драмы,
когда она стала орудием политической борьбы, и в на-
чале XVII века, когда возникли условия для появления
самозванца. И в истории, и в пушкинской трагедии на-
родные массы России были равнодушны к судьбе не-
счастного царевича до тех пор, пока не созрела настоя-
тельная потребность >в «оболочке народного бунта». Ины-
ми словами, пока не нужен был самозванец, о Дмитрии
никто не вспоминал. Знаменитые слова Пимена, в кото-
рых звучит тема «греховности» народа, произнесены, ког-
да Отрепьев уже увидел свой вещий сон, а Годунов го-
тов произнести свой монолог о несправедливости народа
к нему, царю.
В образе Григория Отрепьева, созданном Пушки-
ным, сочетаются архаическая основа .самозванчества и
тип авантюриста, т. е. человека с развитым личностным
сознанием, способного замыслить'и осуществить изме-
нение своей социальной роли, рисуя Лжедмитрия, поэт
не только воссоздал образ этого самозванца, каким он
сложился в общественном сознании за два последую-
щих столетия, и опирался на факты биографии Юрия
Богдановича (в иночестве Григория) Отрепьева, но и
создавал образ молодого человека XVII века, каким он
запечатлен в литературных произведениях той эпохи.
Юрий Богданович Отрепьев — мелкий галицкий дво-
рянин, предки которого были выходцам» из Литвы.
Отец его, Богдан Отрепьев, дослужился до> чина стре-
лецкого сотника и погиб, когда сын его был еще ребен-
ком. Первоначальным воспитанием будущего Лжедмит-
рия занималась мать. Затем он был отправлен в Моск-
ву, где продолжил образование под присмотром Семе-
на Ефимьева. Подросток проявил большие способности
и получил хорошее по тем временам образование. За-
тем он поступил на службу .к боярам Романовым.
В 1600 г. Романовых постигла опала, и двадцатилетний
Отрепьев, спасаясь от казни, стал чернецом Григорием.
Далее начинается полоса скитаний по северо-восточным
монастырям, а затем, воспользовавшись протекцией,
Григорий попал в самый аристократический Чудов мо-
настырь. Здесь проявились незаурядные литературные
способности Отрепьева и началась его стремительная
60
карьера. Очень скоро он был произведен в дьяконы й
оказался среди помощников патриарха, с которым он
являлся на Соборы и в Думу, б 1602 году Отрепьев
убежал из Чудова монастыря в Литву в сопровождении
монахов Варлаама и Мисаила. Беглецы скитались по.
украинским и литовским монастырям. В имении Вишне-
вецкого в 1603 году Отрепьев наконец объявил себя ца-.
ревичем Димитрием. Адам Вишневецкий стал первым
его покровителем, а потом именем царевича Димитрия
воспользовались в своих интересах польские магнаты
Лев Сапега, Юрий Мнишек и др. Отрепьев использовал
настроения запорожских казаков. Именно в Запорожье
в 1603 году началось формирование его армии, которая
позже, участвовала в московском походе самозванца.
Приблизительно в это же время к Лжедмитрию явились
гонцы с Дона с известием, что Донское войско готово
идти на Москву. По свидетельству Р. Г. Скрынникова,
«казаки, беглые холопы, закрепощенные крестьяне свя-
зывали с именем царевича Дмитрия надежды на осво-
бождение от ненавистного крепостного режима, установ-
ленного в стране Годуновым»17.
Вскоре после того, как Отрепьев объявил себя царе-
вичем Дмитрием, московские власти создали версию его
биографии, адресованную польскому двору, целью ко-
торой была дискредитация Григория. Эта биография
была сфабрикована по законам нового, только еще воз-
никающего на Руси жанра — бытовой повести: «Юшка
Отрепьев, як был в миру, и он по своему злодейству от-
ца своего не слухал, впал в ересь, и воровал, крал, иг-
рал в зернью и бражничал и бегал от отца многажды
и, заворовався, постригся у чернцы»18. Это жизнеопи-
сание совпадает во многом с судьбами типичных героев
бытовой русской повести XVII века о .молодом человеке.
Характеристика, которую дал Д. С. Лихачев «Повести о
Горе-Злочастии, как Горе-Злочастие довело молодца
во иноческий чин», может быть распространена и на
«Повесть о Савве Грудцыне» и, в какой-то мере, на
«Повесть о Фроле Скобееве». Д. С. Лихачев пишет, что
это «произведение, которое по своей теме занимает как
бы среднее положение в русской литературе: оно со-
единяет в себе тематику древнерусскую с тематикой но-
вой русской литературы, тематику народного творчества
и письменности, оно трагично и вместе с тем принадле-
жит народной смеховой культуре»19.
61
Обвинение Григория в многочисленных побегах от
отца базируется на популярнейшей евангельской прит-
че о блудном сыне, переосмысленной европейской сред-
невековой литературной традицией и русской бытовой
повестью XVII века. В литературной традиции герои
произведений с подобным сюжетом преступали основные
нормы официозной христианской морали. Молодец из
«Повести о Горе-Злочастии» и Савва Грудцын не слу-
шались своих отцов. Савва впал в ересь, продал душу
дьяволу, на грани убийств и грабежей стоял Молодец
под влиянием Горя-Злочастия, он же нарушил завет ро-
дителей не водиться с «костарями, корчемниками и го-
ловами кабацкими», Савва Грудцын бегал от отца при
помощи нечистой силы, Фрола Скобеева прямо называ-
ют в повести вором21, и Молодец, и Савва заканчивают
свою жизнь в монастыре, оказавшись в жизненном ту-
пике, не видя другого выхода. В бытовых повестях
XVII века житийно-средневековый мотив ухода в мо-
настырь ради совершения подвигов аскетизма, спасения
души и обретения вечного блаженства осмысляется ина-
че — монастырь становится просто последним земным
прибежищем. И те, кто пытался опорочить Отрепьева
в глазах польского двора, и Пушкин в процессе работы
над образом ’ первого самозванца обращались к тради-
ции, нашедшей новое воплощение в русских бытовых
повестях XVII века. Авторы первого варианта официаль-
ной 'биографии Лжедмитрия до возникновения жанра
бытовой повести сконструировали событийную схему,
близкую к сюжетам повестей 0 молодом человеке XVII
века. Придворные Бориса Годунова оценивают поведе-
ние человека типа Отрепьева, целиком базируясь на ста-
рых, средневековых нормах морали. Именно поэтому
они обвиняют Григория Отрепьева в традиционных по-
роках грешника в христианском понимании, не заботясь
о том, свойственны ли они на самом деле этому чело-
веку. Но в традиционной характеристике беспутного юно-
ши появляется новый элемент: уход в монастырь ради
спасения «живота1» (а не души), уход, ничего не изме-
нивший в его нравственном облике. Стремление дискре-
дитировать Отрепьева продиктовало содержание этого
документа; основной упор.в нем сделан на «воровское»
прошлое, самозваного принца.
Пушкин и в оценке, и в изображении «милого са-
мозванца» исходит из иных критериев и задач. Он на-
62
чинаёт повествование о судьбе Григория с пострижения
в монахи, умалчивая о значительном и богатом событи-
ями первом периоде его биографии. Игумен в разгово-
ре с патриархом рассказывает о нем:
«Из рода Отрепьевых, галицких боярских детей.
Смолоду постригся неведомо где...»
Григорий подтверждает эти сведения:
............... Я от отроческих лет
По келиям скитаюсь, бедный инок!
Зачем и мне не тешиться в боях,
Не пировать за царскою трапезой?
Текст трагедии создает впечатление, что, во-первых, От-
репьев затворился в монастыре, будучи подростком, и,
во-вторых, принял постриг добровольно, не вынужден-
ный к этому никакими (внешними обстоятельствами,
именно поэтому он может сожалеть о своем поступке:
Успел бы я, как ты, на старость лет
От суеты, от мира отложиться,
Произнести монашества обет
И в тихую обитель затвориться.
Пимен
Не сетуй, брат, что рано грешный свет
Покинул ты, что мало искушений
Послал тебе всевышний...
В трагедии нет фактов первых двадцати лет жизни са-
мозванца. «Воровство» Григория начинается с побега
из монастыря. В монастыре он, по пушкинской версии,
был келейником монаха-летописца Пимена (реальный
Григорий лишь в начале своего пребывания в Чудовом
монастыре был келейником Чудовского архимандрита,
а затем стал дьяконом, приближенным патриарха): Гри-
горий не выглядит униженным слугой духовного отца,
он искренне любит и уважает старца:
Как,я люблю его спокойный вид,
Когда, душой в минувшем погруженный,
Он летопись свою ведет.
Пимен отечески доброжелательно заботится о юноше,
снисходителен к нему, видит в нем своего наследника и
продолжателя главного дела жизни:
...........Брат Григорий,
Ты грамотой свой разум просветил,
Тебе свой труд передаю...
63
Взаимное уважение, привязанность, доверие и полная
откровенность далеко не всегда характеризовали духов-
ного отца и сына. Создается впечатление, что Пимен за-
менил Григорию родного отца. Поэтому побег из монас-
тыря можно расценивать как непослушание отцу и бег-
ство от него. Это впечатление усиливается, если учесть,
что образ Пимена и вся сцена в келье Чудова монасты-
ря целиком созданы Пушкиным-. Все ситуации, в кото-
рых показан в трагедии Отрепьев, были традиционны
для древнерусской литературы, включая бытовые по-
вести второй половины XVII века. Странствия героя
(«скитания меж двор»), бедствия, выпадающие на его
долю («злая' номерная нагота и босота»)21, страсть к
женщине-обольстительнице, посещение корчмы, участие
в сражениях —все это встречается в литературных жиз-
неописаниях молодого человека XVII века. Случайно ли,
что в трагедии «Лжедмитрий появляется только в мо-
настыре, питейном заведении, в странствиях по чужим
землям, на свидании с женщиной и на поле боя? Боль-
шую часть этих ситуаций Пушкин создал, не имея пря-
мой опоры в исторических источниках. Сцены в монас-
тыре и в корчме на Литовской границе противоречат
историческим фактам. Очень показательно также, что
церковь и правительство в трагедии обвиняют Григория
напрямую-в союзе с дьяволом. Игумен высказывает
предположение, что «грамота далась ему не от господа
бога»; патриарх считает его «сосудом диавольским» и
«врагругодником»; в царском приказе написано, что
«Чюдова монастыря недостойный чернец Григорий, из
роду Отрепьевых, впал в ересь и дерзнул, наученный
диаволом, возмущать святую братию всякими соблаз-
нами и беззакониями». Значит, создавая сюжетную ли-
нию Отрепьева, Пушкин следовал не столько истори-
ческим фактам, сколько фольклорно-литературной тра-
диции. Однако интерпретация этой традиции в трагедии
самостоятельна и отражает современный героям Пуш-
кина этап развития общественного сознания и литера-
туры.
Обычно исследователи пушкинской трагедии учитыва-
ют сравнительно узкий круг исторических источников,
известных драматургу. Между тем источники знаний
эпохи «Смутного времени», которую Пушкин включал в
историю своей страны как звено в цепи, связывающей
прошлое с настоящим и будущим, нельзя ограничивать
64
4*
теми книгами и документами, которые безусловно были
известны поэту. Все творчество Пушкина является сви-
детельством того, что к историческим источникам он
относил не только документы эпохи, но и литературу, и
фольклор. Можно с уверенностью утверждать, что мно-
жество устных преданий, песен, легенд, рукописных па-
мятников древнерусской литературы различных жан-
ров — от летописи и житий до образцов, как выразил-
ся бы Пушкин, «площадной» литературы самого различ-
ного характера: нравоучительных, бытовых, сатиричес-
ких стихотворных и прозаических произведений — он
знал. Хорошо известно, что на протяжении XVII и XVIII
веков рукописные сборники древнерусской литературы
переписывались, ходили по рукам и наряду с печатны-
ми изданиями хранились в частных библиотеках. Эти
собрания стали основой многих частных библиотек со-
временников Пушкина. Он был знаком с книгами, хра-
нившимися у Тургеневых, Карамзиных, Вяземских, Юсу-
повых, Муравьевых, Раевских-Давыдовых, Долгоруких,
Строгановых, Чаадаева — племянника князя Щербато-
ва, Дашковых, Воронцовых и др. Широкое знакомство
.поэта с русским фольклором в его устном бытовании,
начиная с раннего детства и кончая последним периодом
жизни, общеизвестно. Следовательно, огромен круг
фольклорных и литературных источников и материалов,
знакомство с которыми Пушкина документально не под-
тверждено и, вероятно, подтверждено уже быть не мо-
жет. Бесспорно, что поэт жил в атмосфере, насыщенной
древнерусской культурой в самых различных ее прояв-
лениях. Учитывать это, обстоятельство необходимо при
изучении всех его произведений и особенно — истори-
ческой трагедии «Борис Годунов». Так, например, нет
достоверных сведений о том, что Пушкин читал «По-
весть о Фроле Скобееве», однако она легла в основу
произведений Ц. И. Новикова (80-е годы XVIII в.) и
Н. М. Карамзина («Наталья, боярская дочь»), поэтому
трудно допустить, что он ее не знал. Примечательно,
что герой этой повести XVII века — худородный дворя-
нин, авантюрист, добившийся высокого положения пу-
тем обмана, шантажа, подкупа. Аналогична ситуация с
«.Повестью о Горе-Злочастии», которая была обнаруже-
на в 1856 г. в рукописном сборнике первой половины
XVIII века, сохранившемся в собрании М. П. Погоди-
на, близкого знакомого Пушкина. Поэт неоднократно
5-3103
65
бывал в доме Погодина, был знаком с его женой, ма-
терью, братом. М. П. Погодин — историк, писатель,
журналист, издатель «Московского вестника» (журнала,
в организации и издании которого активно участвовал
Пушкин, где была напечатана в 1827 г. сцена «Ночь.
Келья в Чудовом монастыре» — первая публикация
фрагмента трагедии), автор исторических драм, выз-
вавших пристальное и сочувственное внимание Пушки-
на. Весьма вероятно, что Пушкин познакомился с «По-
вестью о Горе-Злочастии» через Погодина, но не менее
вероятно, что он был знаком с нею значительно раньше,
так как возможностей для этого было очень много.
В частности, в сборнике «Древние Российские стихотво-
рения, собранные Киршею Даниловым» содержится не-
сколько фольклорных интерпретаций повести. Сборник
Кирши Данилова Пушкину был хорошо известен.
В 1825 году в Михайловском он, изучая русские посло-
вицы, выписал из этого сборника некоторые из них, од-
на — «горе лыком подпоясано» — прокомментирована
им так: «разительное изображение нищеты» — и явля-
ется строчкой из народной песни о Горе, которая соот-
ветствует фрагменту повести.
Если сопоставить необыкновенную судьбу Юрия Бог-
дановича Отрепьева с типичными судьбами героев бы-
товых повестей XVII века, то обнаруживается, что фа-
була бытовой повести как будто дважды повторена в
его биографии. В повестях создан литературный порт-
рет,. человека нового типа на пороге новой эпохи.
В самой ранней из них, «Повести о Горе-Злочастии», это
пока только юноша, стремящийся жить не по заветам
отца, а «как ему любо». Его судьба трагична: утратив
старые мировоззренческие и этические ориентиры, он
оказывается в тупике. Савва Грудцын близок по харак-
теру и жизненным устремлениям Юрию Богдановичу
Отрепьеву, он даже его современник. Этот герой сумел
достигнуть знатности. В. В. Кусков так характеризует
этот тип литературного героя: «Образ Саввы, как и об-
раз Молодца в «Повести о Горе-Злочастии», обобщает
черты молодого поколения, стремящегося сбросить с
себя гнет вековых традиций, жить в полную меру своих
молодецких сил. Образ беса дает возможность автору
повести объяснить причины необыкновенных удач и по-
ражений героя в жизни, а также показать мятущуюся
душу .молодого человека с его' жаждой бурной и мятеж-
66
йой жизни, стремлением Сделаться знатным»2*. Эта ха-
рактеристика полностью относится и к Юрию Отрепье-
ву. Бедность, необходимость самому пробивать себе до-
рогу в жизни, .незаурядные способности наряду со стрем-
лением к знатности — все это проявилось в поведении
реального Отрепьева с отрочества и до побега из мо-
настыря. Ему пришлось дважды начинать путь наверх —
сначала это путь служилого дворянина при богатом
боярском дворе Романовых-Черкасских, в которых сов-
ременники видели реальных претендентов на престол.
Потерпев поражение и оказавшись в монастыре (как
герой пбвести о Горе), Отрепьев, однако, снова стре-
мится достичь высокого положения, теперь уже как
церковник. Одаренный, ловкий и пронырливый инок не-
обыкновенно быстро достиг высокого положения при
главе русской церкви. До этого момента новая сущность
личности Юрия Отрепьева .не выдвигается на первый
план, не обнажается с достаточной ясностью. Лишь
после побега из монастыря, когда стали очевидны непо-
мерно честолюбивые замыслы расстриги, современники
начали.обвинять его в сношениях с дьяволом, стремясь
таким способом объяснить его талантливость и удачу,
необычное, невозможное для человека со средневеко-
вым сознанием честолюбие.
Характер Отрепьева, как и характер молодого чело-
века XVII века, отраженный в литературных персона-
жах того времени, помогает нам понять психологические
предпосылки возникновения самозванчества в России:
сдвиги в сознании и жизненной ориентации были не-
обходимым условием самозванчества. Именно эти про-
цессы, происходившие в общественном и личностном со-
знании, подготовили появление таких «птенцов гнезда
Петрова», как Меншиков.
С первой же сцены трагедии, в которой появляется
самозванец, начинается изображение типичного, хотя и
нового для XVII столетия человека — в соответствии с
основными особенностями сюжетного построения древ-
нерусской бытовой повести. Пушкин .назвал черты лич-
ности, проявившиеся в герое к 1602 г.: одаренность,
стремление жить «в полную меру своих удалых моло-
децких сил», он мечтает «тешиться в боях», «пировать
за царскою трапезой». 'Сохранено и обвинение в сноше-
ниях с нечистой силой, объясняющее, с точки зрения че-
ловека XVII века, все новое в характере и поведении пер-
5*
67
його Лжедмитрия. Видимо, 6 собтйеТствий с сюжетными
особенностями бытовых повестей, драматург сделал сво-
его героя всего лишь келейником старца Пимена: он
должен начать с безвестности и бедности, восстать из
ничтожества. Дальше Григорий становится очень похо-
жим на Фрола Скобеева: он идет на обман, подлог, шан-
таж ради достижения своей цели. С момента побега его
жизненная позиция полностью укладывается в формулу
Скобеева: «или буду полковник, или покойник». Разни-
ца лишь в масштабе притязаний героев. Авантюры и
Отрепьева, и Скобеева оканчиваются (в пределах сю-
жетного действия) победоносно.
Различия между этими образами демонстрируют не
только дистанцию между дарованиями их создателей, но
и путь, пройденный русской литературой за сто лет.
Образ Фрола Скобеева создал человек того же уровня
развития, что и его герой, в изображении возникшего в
XVII столетии человеческого типа это образ итоговый.
Оценка Фрола Скобеева проводится с точки зрения са-
мого героя, в этом сила и слабость неизвестного писа-
теля рубежа XVII—XVIII веков.
Дистанции между мировоззрением безвестных авто-
ров XVII века и жизненными позициями их героев не
было. В повестях о Горе и о Савве авторское отношение
к героям так же двойственно, как и .их характеры. Моло-
дец .и Савва неясно стремятся отойти от старых форм
жизни, но не знают новых, им нечего противопоставить
старому. Сочувствуя метаниям своих героев, жалея их,
писатели судят их еще с позиций старой морали. Отсю-
да двойственность авторского отношения к персонажам.
Писатель рубежа XVII и XVIII столетий, как и его ге-
рой, окончательно отбросил старую этику, он с восхи-
щением наблюдает за действиями Фрола Скобеева, «во-
ра, плута и ябедника». Этот персонаж в повести лишен
какой-либо моральной оценки, здесь зафиксирована од-
на из форм (может быть, не самая значительная и не
самая распространенная) полного, доведенного до кон-
ца отказа от старого. Дальше должны были следовать
и следовали поиски нового мировоззрения, начавшие-
ся тогда же — в петровскую эпоху.
В трагедии Пушкина изображенный уже в литерату-
ре XVII в. характер воссоздан так, что может быть ос-
мыслен и оценен с позиций позднейших эпох. Главное
достижение Пушкина (и русской литературы в процессе
68
ее развития, в течение следующих ста лет) заключается
в том, что герой помещен в живой поток истории.
Герои русских повестей XVII века начинают жизнен-
ные. поиски, основываясь только на собственном произ-
вольном желании. Обусловленность этого желания исто-
рическим процессом не показана. Исторические предпо-
сылки деяний Григория Отрепьева в трагедии Пушкина
изображены достаточно полно. Григорий и Пимен хоро-
шо знают «земли родной минувшую судьбу», они остро
чувствуют, что .их время — часть .непрерывного истори-
ческого ' потока. Пимен переписывает «правдивые ска-
занья» своих предшественников и считает своим долгом
столь же правдиво, «не мудрствуя лукаво», вносить в
летопись описание событий своей эпохи; видя в Гри-
гории продолжателя своего дела, он советует ему:
Описывай не мудрствуя лукаво
Все то, чему свидетель в жизни будешь:
Войну и мир, управу государей,
Угодников святые чудеса,
Пророчества и знаменья небесны...
Отрепьев видит в писаниях летописца «донос», адре-
сованный будущим поколениям. В трагедии точно изо-
бражена внутренняя и внешняя политическая обстанов-
ка, способствовавшая осуществлению авантюрного за-
мысла Отрепьева. Бояре рюриковой крови видят в
Годунове лишь ловкого авантюриста, захватившего прес-
тол, и мечтают занять его место; поляки готовы к ин-
тервенции, и Лжедмитрий — удобный для них «пред-
лог раздоров и войны». Народ недоволен правлением
Бориса (как, впрочем, любым царем) и готов к его за-
мене. В образе .самого Отрепьева поэт показывает те
черты личностного сознания, которые уже сформирова-
лись на рубеже XVI—XVII bib. и были еще одним не-
обходимым залогом возникновения самозванчества как
культурно-исторического явления. Это те черты, кото-
рые являются общими для пушкинского самозванца и
образа молодого человека, созданного писателями XVII
века.
Приключения всех этик героев начинаются с мотива
«привычная старая жизнь мне скучна». Григорий за-
мыслил стать самозванцем, «монашеской неволею ску-
чая». Он меняет имя и веру с той же легкостью, с ко-
торой Фрол Скобеев сменил мужской костюм на женс-
кий; не сумев добиться любви Марины, применяет шан-
69
таж. Григорий идет дальше «юного негодяя». Фрола,
созданного писателем XVII века: Савва Грудцын и Фрол
Скобеев, дерзко преодолев феодальную сословную лест-
ницу, лишь занимают высокое положение, на которое
у них нет права рождения, — Отрепьев становится ца-
рем, т. е. добивается высшего места в сословной иерар-
хии. Он идет на политические преступления, вступив в
сговор с внешним врагам России, приказав убить закон-
ного наследника престола. Он храбр и смел, как Савва
и Фрол, способен выносить и осуществить «свой замысел
отважный», может трезво оценить обстановку и принять
веерное решение, предприимчив и ловок, как Фрол Ско-
беев. ‘
‘Но у Григория Отрепьева есть и два качества, зна-
чительно укрупняющие его характер — поэтическое да-
рование и способность к сильной, возвышающей его
любви. Ради любви самозванец' готов отказаться даже
от своего замысла:
...Теперь гляжу я равнодушно '
На трон..., на царственную власть.
Твоя любовь... что без нее мне жизнь,
И славы блеск, и русская держава?
В глухой степи, в землянке бедной — ты,
Ты заменишь мне царскую корону,
Твоя любовь...
Он, как и другой герой Пушкина, Дон-Гуан, не желает
лгать в любви, хочет, чтобы Марина полюбила его не
за царский сан, а за его личные качества. Знамением
эпохи является также свойственная Лжедмитрию спо-
собность преодоления сословных предрассудков, высо-
кое личностное самосознание, развитое чувство собствен-
ного достоинства. Он говорит о себе:
В нем доблести таятся, может быть,
Достойные московского престола...
Увлеченный великой страстью, Отрепьев полностью рас-
крывает свою душу перед Мариной, а когда она отве-
чает на его признание уничтожающим презрением,
вдруг обнаруживает подлинное человеческое величие.
Монолог Димитрия исполнен шекспировской мощи:
Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла,
Вокруг меня народы возмутила
И в жертву мне Бориса обрекла,
70
Царевич я. Довольно, стыдно мне
Пред гордою полячкой унижаться —
Прощай навек. Игра войны кровавой,
Судьбы моей обширные заботы
Тоску любви, надеюсь, заглушат —
О как тебя я стану ненавидеть,
Когда пройдет постыдной страсти жар!
Теперь иду — погибель иль венец
Мою главу в России ожидает,
Найду ли смерть, как воин в битве честной
Иль как злодей на плахе площадной,
Не будешь ты подругою моею,
Моей судьбы не разделишь со мною;
Но — может быть, ты будешь сожалеть
Об участи, отвергнутой тобою.
В этом монологе необыкновенная судьба, небывалый
замысел, трагедия об-реченности. В нем мужество мысли,
смелость прозрения: Герой Пушкина предъявляет к Ма-
рине требования, уровню которых она не соответствует
и не может соответствовать, он ждет от нее той же вы-
соты сознания, того же человеческого величия, которые
проявляет сам. Лжедмитрий подлинно велик только в
этот момент. Здесь проявились те его качества, которые
породила, но не востребовала эпоха, потому что их реа-
лизация в пределах XVII века «была невозможна. Имен-
но за эти качества Пушкин и любит своего «милого са-
мозванца». В отличие от писателей XVII века он уви-
дел и изобразил в человеке этого века такие черты, ко-
торые реализуются лишь в будущих столетиях.
И в этой же сцене проявляется плутовская расчетли-
вость, изворотливость, ловкость самозванца. В ответ на
угрозу разоблачения он отвечает Марине:
...Ни король, ни папа, ни вельможи —
Не думают о правде слов моих.
Димитрий я иль нет — что им за дело?
Но я предлог раздоров и войны.
Им это лишь и нужно, и тебя,
Мятежница! поверь, молчать заставят.
Сцена заканчивается пошлой сентенцией самозванца о
том, что с женщинами трудно иметь дело.
В следующей сцене — «На границе литовской» —
самозванец изображен столь же противоречивым. Он
умеет оценить нравственную красоту поведения и
чувств Курбского, дает очень емкую характеристику от-
ношений Ивана Грозного и Андрея Курбского; он не за-
71
крывает глаза и на собственные преступления перед ро-
диной:
...Я Литву
Позвал на Русь, я в красную Москву
Кажу врагам заветную дорогу!..
Но он и лицемерит:
Но пусть мой грех падет не на меня*—
А на тебя, Борис-цареубийца!
Изображать такой сложный человеческий характер еще
не умели писатели XVII века — они не .могли осмыс-
лить и оценить его, ибо не обладали еще историзмом и
диалектикой мышления.
В трагедии Пушкина показаны экономические, по-
литические и культурные предпосылки появления пер-
вого в России самозванца. Драматург подверг осмысле-
нию и оценке не столько поведение конкретного челове-
ка, сколько особенности исторического развития страны,
обусловившие его появление, и сделал это с точки зре-
ния .исторического опыта следующих столетий.
Григорий Отрепьев, объявивший себя чудом остав-
шимся в живых сыном Ивана Грозного, был воспринят
широкими народными массами как настоящий царевич
Димитрий, идущий занять принадлежащий ему по пра-
ву престол. Такое мнение возникло во многом благода-
ря жившей в народном сознании идее возвращающегося
царя-избавителя. Эта идеологическая схема, по спра-
ведливому замечанию Б. А. Успенского, «объясняет не
столько появление самозванца, сколько общественную
реакцию на его появление, т. е. тот отклик и ту под-
держку, которую он получает в народных массах»23.
В сцене на площади перед собором в Москве в тол пр
народа происходит следующий разговор:
Первый
Что, уж проклинали того?
Другой
* Я стоял на паперти и слышал, как
диакон завопил: Гришка Отрепьев —
анафема!
Первый
Пускай себе проклинают; царевичу
дела нет до Отрепьева.
72
Другой
А царевичу поют теперь вечную память
Первый
Вечную память живому! Вот ужо им
будет, безбожникам.
Без веры в то, что на царство возвращается настоящий,
«первосущий», «истиннейший» и «природный» царь-изба-
витель, невозможна была бы широкая народная под-
держка дерзкого предприятия самозванца. Но «мнение
народное» меняется — как и почему? Чтобы ответить
на этот вопрос, необходимо понять особенности народ-
ной оценки царя в России XVII века.
Б. А. Успенский убедительно показал, что в России
XVII века «различаются цари по Божьему промыслу и
цари по собственной воле, причем только первые приз-
наются царями; иначе говоря, различаются безусловный
и «конвенциональный» смыслы слова царь»24. Древне-
русские книжники, однако, не сообщают никаких призна-
ков, по которым следует отличать царя «праведного» от
«неправедного». Происходит это потому, что такие ма-
териальные признаки и критерии к XVII веку почти пол-
ностью утрачены. Архаический царь-жрец эпохи рас-
пада родового строя и формирования ранних классо-
вых отношений, занявший свое место в результате побе-
ды над предшественником, уже в силу этой победы ста-
новился царем истинным, обладающим магической
мощью. Царей не истинных в тот период истории просто
не могло быть. После того, как древний порядок переда-
чи власти сменился, и она стала1 передаваться от отца
к сыну по праву наследования, истинным царем считал-
ся законный наследник. Магическая заряженность ста-
ла осмысливаться во времена христианства как божест-
венное избранничество. Человеку не дано знать божий
промысел, и поэтому определение истинности царя очень
затруднено. Но парадокс эпохи заключается в том, что
несмотря на отсутствие критериев, царей все же дели-
ли на истинных и .неистинных. Ни поведение царя, ни
даже соблюдение обрядов, узаконивающих его восшест-
вие на престол, не являлись гарантией «праведности»,
«богоизбранности» царя. Он может быть тираном и ос-
таваться истинным царем, как Иван Грозный, может,
быть законно поставлен на царство, как Борис Годунов,
73
и не быть «первосущим» царем. Богоизбранность Михаи-
ла Федоровича основывалась на том, что он еще
до рождения был избран богом для этой роли, и
уверенность в его истинности ничем не аргументиро-
вана в сказании Авраамйя Палицына, где она вы-
сказана.
Однако и в XVII веке, и в последующие столетия в
народном сознании жили исключительно устойчивые
представления о царских знаках г— как очень древних,
так и очень новых (двуглавый орел). Но истинным царь
мог считаться и без царских знаков, хотя их наличие
неопровержимо доказывало его избранность. С течением
времени оценка такого человека могла измениться, он
нередко воспринимался впоследствии как самозванец.—
например, Лжедмитрий, Пугачев и др. По-словам Б. А.
Успенского, «если истинные цари получают власть от
Бога, то ложные получают ее от дьявола»25. Поэтому
поступки, указывающие на связь с дьяволом, могли рас-
цениваться как доказательство неправедности царя, его
самозванства. Все эти модели срабатывали далеко не
всегда, и закономерность их действия обнаружить очень
трудно. Так, например, Иван Грозный, совершивший
множество кощунственных деяний, никогда не обвинял-
ся в том, что он царь «неистинный», а Петр I, столь же
законный с точки зрения правил престолонаследия, во-
спринимался как Антихрист, неистинный, подменный
•царь.
Григорий Отрепьев, первоначально пользовавшийся
поддержкой «мнения народного», потерял ее вместе с
утратой веры в него как в царя истинного. В сборнике
Кирши Данилова есть историческая песня «Гришка Рас-
стрига», в самом начале которой встречаются следующие
строчки:
Уже ли он, Расстрига, на царство сел,
Называется Расстрига прямым царем;
Царем Димитрием Ивановичем Углецким.
Опознание в нем ложного царя происходит в песне на
основании его антиповедения. Гришка женится на «ерет-
нице-безбожнице» на Николин день, когда брачные об-
ряды запрещались, вместо церкви отправляется с ней в
баню (антипод церкви, языческое капище, по представ-
лениям того времени). Характерно, что в народной пес-
не выделены не только поступки Расстриги, заставившие
74
стрельцов догадаться, что перед ними лжецарь, но
и момент, когда это произошло:
А втапоры стрельцы догадалися.
За то слово спохватилися...
Тут стрельцы догадалися,
Все. оне собиралися,
Ко Красному крылечку металися,
И тут в Москве взбунтовалися26.
Эта эволюция отношения народа к Лжедмитрию зафик-
сирована в трагедии Пушкина. Действие ее заканчива-
ется до воцарения Отрепьева и даже до въезда его в
Москву. В народной исторической песне в соответствии
с историческими фактами отношение к нему народа ме-
няется после его' воцарения. Лжедмитрий царствовал
меньше года. .Поэтому Пушкин не мог показать изме-
нившееся мнение народное через реализацию его в дей-
ствиях, но он показывает те поступки Григория, кото-
рые подготовили эту перемену — переход в католичест-
во и союз с польскими интервентами. Момент резкой
перемены отношения к самозванцу приходится на са-
мый конец трагедии, когда народ грозно безмолвствует
в ответ на призыв кричать: «Да здравствует царь Дмит-
рий Иванович!»,.
В трагедии есть два изображения убиения- цареви-
чей — Димитрий и Феодора Годунова. Почему убийство
Феодора, который не мог восприниматься и никогда не
воспринимался как истинный царь, которого народ стре-
мился убить в предыдущей сцене, вызвало, такой ужас
и оцепенение очевидцев? С точки зрения современного
человека, самое ужасное в этой сцене — убийство.
Ложь Мосальского кажется незначительным полити-
ческим ходом и почти не обращает на себя внимание.
Современный читатель уже не понимает полного зна-
чения заявления боярина:
Народ! Мария Годунова и сын ее Феодор отравили
себя ядом. Мы-видели их мертвые трупы.
Его слова не мелкая бытовая ложь. Он облыжно обви-
нил свои жертвы в самоубийстве, а самоубийство —
один из самых страшных грехов для христианина, бунт
против бога, самовольное распоряжение своей жизнью,
присвоение функции бога. Самоубийц не хоронили в
освященной земле, они теряли право на царствие не-
75
бесное. Бояре не только почти на глазах народа убили
вдову .и сына Годунова, не дав покаяться в грехах и со-
вершить молитву, но и чудовищно, кощунственно их
оболгали. Мосальский ведет себя так, как будто те, кто
столпился перед домом Бориса, являются соучастника-
ми преступления. Его слова предполагают сговор бояр
с народом, а призыв кричать здравицу в честь Димит-
рия, в сущности, является наглым требованием под-
твердить этот сговор.
Мотив лжи сопровождает Отрепьева в трагедии с
момента побега из монастыря. В корчме на литовской
границе он пытается с помощью лжи подло предать на
муки, а может быть и на смерть своего спутника Вар-
лаама. В Польше, надев .маску Лжедмитрия, он вынуж-
ден постоянно лгать. Весь дьявольский (в средневеко-
вом смысле) масштаб своей лжи он обнажает перед'
Мариной:
Виновен я; гордыней обуянный,
Обманывал я бога и царей,
Я миру лгал...
В сознании христианина правда, .истина .неразрывно свя-
заны были с богом, ложь — с дьяволом. Об этом сви-
детельствуют, в частности, русские пословицы: живи не
ложью, будет по-божьи; от бога дождь, от дьявола
ложь. Дьявол, сатана являются воплощением зла и лжи.
В финале'трагедии обнаруживается обман. Народ ощу-
щает, что перед ним посланцы лжецаря, самозванца, а
не царя-избавителя. Безмолвие народа — отказ поддер-
жать дьявольскую ложь.' Вот еще одно значение знаме-
нитой пушкинской ремарки.
Дочитав последнюю фразу трагедии, ощущаешь пот-
ребность заглянуть в будущее, увидеть дальнейшее раз-
витие тех исторических -процессов, которые изображены
в пьесе. Однако сюжетное действие ее завершено: судь-
ба Бориса и его наследника показаны полностью, ди-
намика мнения народного ясна, и хотя Лжедмитрий еще
не въехал' в Москву, о нем тоже все сказано до конца.
Гибель Григория, в трагедии (пророческий сон) и в на-
родной исторической песне очень похожи. Отличие одно:
смеховая окраска конца пушкинского Лжедмитрия.
Пушкин более точен в передаче традиционного народ-
ного восприятия и оценки царя-самозванца. Б. А. Ус-
пенский убедительно показал, что «сама концепция цар-
76
Ской власти в Древней Руси предполагает противопостав-
ление (Истинных, подлинных царей и царей ло внешнему
подобию, т. е. самозванцев. В этом смысле поведение
самозванца предстает как карнавальное поведение —
иначе говоря, самозванцы воспринимаются как ряже-
ные»27.
Царь и скоморох
Григорий Отрепьев еще при жизни своей воспри-
нимался современниками кай колдун и еретик1. Такое
его восприятие отразилось в исторических песнях о нем:
Стоит Гришка розстрижка Отрепьев сын
Против зеркала хрустальняго,
Держит книгу в руках волшебную,
Волхвуе Гришка розстридска Отрепьев сын2.
Н. Устрялов сообщает слухи о том, что у Лжедмитрия
иконы валялись ,под кроватью, а на месте икон висела
скоморошья маска3. Б. А. Успенский приводит истори-
ческие свидетельства о том, что Отрепьева и похоро:
нили как колдуна — «в убогом доме (скудельнице, т. е.
там, где хоронят самоубийц), но затем труп вырыли и
сожгли... Когда тело Лжедмитрия перед захоронением
было выставлено «на позорище», «сама земля возгну-
шилась, и звери и птицы’ таковаго сквернаго тела гну-
шалися и не терзали». Достаточно знаменательны и сви-
детельства иностранцев об издевательствах над телом
Лжедмитрия: «Для большей насмешки кинули на жи-
вот убитого государя безобразную и бесстыдную маску,
...а в рот всунули дудку»4. Б. А. Успенский и А. М. Пан-
ченко приводят слухи о бесах, игравших, как скоморохи,
над телом Лжедмитрия: «...над окаянным его телом ве-
лие плясание и бубны, и свирели, и протчая бесовская
игралища: радуетца бо его пришествия сам Сатана»5.
Как видно из сказанного, в Григории Отрепьеве видели
одновременно колдуна, волхва и скомороха. Не проти-
воречит ли одно другому и как это связывалось в на-
родном сознании с его ролью самозваного царя?
Известно, что образ царя генетически тесно связан с
образом шута, скомороха. Общераспространенным яв-
ляется представление о неразлучности этой пары. Кро-
ме того, и тот и другой до недавнего времени в народ-
78
ном сознании были носителями магической силы, т. ё.
колдунами. Но, вероятно, нельзя говорить, что родствен-
ные царю образы скомороха и юродивого произошли от
него или наоборот. У этих трех образов единый корень —
образ сначала животного тотема, потом занявшая его
место уже антропоморфная фигура первопредка-демиур-
га-культурного героя. Основные черты демиурга прини-
мает на себя жрец-шаман-прорицатель. Непосредствен-
ный контакт с предками и природными силами, влия-
ние на них через магические действия, синкретически
объединяющие в себе обрядовое слово, музыку, танец,
смех, — все эти черты жреца-шамана-прорицателя так
или иначе наследуются образами царя (через царя-жре-
ца) и мима, шута (в русском варианте — скомороха).
В этот ряд следует поставить и значительно более позд-
нюю, осложненную христианским мировоззрением ветвь
от того же корня, опосредованно, но несомненно свя-
занную с ним, — русских юродивых.
Смеховой аспект есть уже в образе первопредка-
демиурга-культурного героя. Первоначально и серьез-
ные функции творца, и смеховые элементы поведения
(трикстерство) объединялись в одной фигуре, ибо смех
мыслился как признак, носитель и даритель жизни. На-
иболее чистым примером такого соотношения смешного
и серьезного может служить палеоазиатский ворон-тво-
рец Кутх6. Разделение функций дает две фигуры: серье-
зного демиурга и шута-трикстера (например, Зевс и
Гермес и т. д.). Царь-жрец тоже первоначально соеди-
нял в себе серьезные и смеховые функции. Процедура
унижения (осмеяния) и возвышения царя-жреца и его
исторического преемника — монарха (как это утвер-
дилось в обряде коронации византийских императо-
ров) — имела двойной смысл: ритуальное убиение —
оживление (возвращение к жизни в новом облике) и
утверждение его земной, человеческой природы. Царст-
венность материально воплощалась в атрибутах царской
власти: одежде, диадеме, жезле, троне и т. д. Человек
остается царем, пока он обладает набором царских ат-
рибутов; лишившись их, будучи развенчан, он нисходит
до положения обычного человека.
Задолго до того, как византийский император брал
в руки акакию — мешочек с пылью, символизирующий
его тленную, земную, человеческую профанную природу,
в древнем Вавилоне ежегодно в пятый день праздника
79
йбвогб года «перёд входам царя в свйтую свяТых хра-
ма Мардука верховный жрец отбирал у него все приз-
наки царского достоинства. Затем босому, одетому лишь
в рубаху царю верховный жрец давал пощечину и тас-
кал его за уши»7. Только после заверения царя, «перед
лицом Мардука», что он не совершал ритуальных гре-
хов, не пренебрегал храмом и не оскорблял граждан,
ему возвращали знаки царского достоинства со слова-
ми: «Мардук услышал твою молитву... Он увеличит
царство... Он возвеличит твою царственность»8. Целью
этих обрядов было обеспечение жизни народа в насту-
пающем году (традиционная связь магических функций
царя с календарными природными циклами) и стрем-
ление подчеркнуть человеческое происхождение царя,
неполноту и непостоянство его сакральности.
Ритуальное развенчание и убиение царя-жреца, ис-
черпавшего свою магическую силу, сопровождалось ри-
туальным смехом, призванным оживить умерщвленного
в другом обличье. На следующей стадии развития об-
щественных отношений, когда в ходе ритуала царя-
жреца стали подменять другим человеком9, на него пе-
реносится прежде всего смеховой аспект обряда, т. е.
он выступает в роли трикстера. Двойник царя пока еще
не профессиональный мим, шут, скоморох, он был на-
стоящим царем, но на короткий срок; он обладал всей
полнотой власти, подразумевалось, что, хоть и на ко-
роткое время, он заимствует магическую заряженность
правителя. На следующей ступени трансформации этот
обряд приобретает ясно выраженную карнавальную ок-
раску.
Генетическая близость царя и скомороха проявля-
лась и в символике их костюма и поведения. На сред-
невековых изображениях головной убор скомороха паро-
дирует царскую корону, а сапоги красного цвета не
только потому, что такие носили византийские импера-
торы, но и потому, что красный цвет (цвет плодородия,
крови, жертвы и избранника) — это цвет царей, шутов,
дураков. Вспомним Иванушку-дурачка русской сказки,
которому братья обещают подарить за ночлег на мо-
гиле отца красную рубашку и сапоги и который потом
воцаряется; вспомним багряницу, которую надели на
Христа специально для шутовского глумления над «ца-
рем иудейским» и т. п. В «инициалах новгородских ру-
кописей XIV века «потешные ребята» — скоморохи в
5*
80
шутовских коронах и красных сапогах — исполняют за-
дорный танец вприсядку»10. На известной фреске церк-
ви в Мелетове (1465 г.) в центре композиции помещен
скоморох, торжественно восседающий во фронтальной
позе11 на «седалище, напоминающем престол». Изобра-
жение скомороха здесь весьма сходно с традиционной
иконографией царя Давида12. Вообще в древнерусском
изобразительном искусстве царь Давид, сидящий на
троне в короне и>с гуслями в руках часто неотличим от
изображения скомороха. Такое сходство не случайно.
В образе библейского царя Давида ясно видны черты
архаического шамана с его магической пляской и пени-
ем и царя-жреца.
По мнению А. Морозова, скоморохи появились пос-
ле принятия христианства, они происходят от волхвов
(шаманов родового строя); главная сфера их первона-
чальной деятельности — обряды, связанные с ритуаль-
ным смехом13. Сходные мысли о происхождении скомо-
рохов значительно раньше высказывали И. Барщевский
и Н. Гальковский14. В средние века скоморох — это по
преимуществу актер, плясун, кукольник, медведчик, шут;
однако в народном сознании он еще и знахарь, кудес-
ник, волхв, колдун. Особая магическая заряженность
скомороха была рудиментом его происхождения. Это,
по всей видимости, переходная фигура от шамана к ар-
тисту. А. М. Панченко убедительно обосновал гипотезу
о том, что скоморох — «причетник смеха», «веселье —
это обряд, а скоморохи — его иереи». Он доказал
также, что «в народном сознании скоморохи как
бы конкурируют с попами. Это, во-первых, ритуаль-
ное соперничество... Это, во-вторых, соперничество
учительное, йаставническое — состязание авторите-
тов»15.
Связь скоморохов со смеховой культурой проявляет-
ся и в том, в каких обрядах они, даже уже в средрие
века, играли ведущую роль. Это праздники и пиры, в
которых зафиксированы древние представления о жизни
и смерти (переходе от одного к другому) природы и че-
ловека. Скоморохи непременно участвуют в календарных
праздниках, связанных с умиранием и возрождением
природы (святки, масленица), в Обрядах, посвященных
переходным ситуациям в человеческой жизни (свадьба,
инициация, братчины и особенно — похороны). Ряд ис-
следователей (В. Я. Пропп, В. Е. Гусев, А. А. Морозов)
6 -3103 81
сходятся во мнении, что многие земледельческие обряды
также основаны на вере в смерть и последующее вос-
крешение после смерти, т. е. они во многом похожи на
похоронные обряды.
В народном сознании фигура скомороха оценивалась
двояко: он православный, часто защитник православия,
может спасти христианскую душу даже тогда, когда поп
бессилен; с другой стороны, скоморохи отождествля-
лись с бесами. Существует несколько фольклорных про-
изведений, в которых соревнование попа и скомороха
заканчивается победой скомороха. Такова, например,
соединившая книжные и фольклорные мотивы по-
весть «О некоем купце-лихоимце». После смерти ростов-
щика его могила проваливается «даже до ада, и гроб
его не видяшеся». Поп ничем не может помочь. По про-
сьбе жены и сыновей ростовщика в пропасть «в лю-
лечке» на веревках спускается скоморох. Бесы откры-
ли ему способ спасения души покойника, «в люте пла-
мени жгому». Родственники покойника должны раз-
дать неправедно нажитое имущество церквам и нищим.
Чтобы вернуться из ада на землю, скоморох действу-
ет, как былинный Садко в подводном царстве: рвет
струны на своих гуслях и отпрашивается на землю за
другим инструментом. В поведении скомороха сильно
ощутимы отголоски деятельности шамана. Он отправ-
ляется в мир мертвых за душой, действует при помощи
магической музыки, возвращается в мир живых, вы-
полнив свою функцию. В былине «Вавила и скоморохи»
«веселые» выступают как «люди не простые, а люди
святые», они противостоят иному миру «царя Собаки»
и побеждают его при помощи ритуального слова и пе-
ния («передаивают»). Скоморохи устойчиво изобража-
ются в фольклоре как идеологи. В частности, в «Пре-
нии о вере скомороха с философом Тарасием» скоморох
в споре с иудейским философом выступает апологетом
христианства. Полемика ведется прежде всего с по-
мощью не логических доводов, а действий, восходя-
щих к народной смеховой культуре, по модели клоун-
ского диалога: скоморох наносит удары Тарасию, вы-
дирает клок его бороды. В конечном счете потешник
выходит победителем. Но и бесы часто изображаются
с музыкальными инструментами скоморохов, как в сце-
не глумления над трупом Лжедмитрия. В русских по-
словицах сказано: бог создал попа, а бес скомороха;
82
йёрей с крестами, а скоморохи с дудаМи; скоморох попу
не товарищ; скоморошные потехи сатане в утеху.
Положительная оценка скоморохов в народе связа-
на с древней традицией. Сохраняя архаические формы
народной культуры, они тем самым являются хранителя-
ми и очень старых кардинальных идей, и представлений
о пространстве и времени, мире и человеке.
В отождествлении скоморохов с бесами, чертями, не-
чистой силой сказались наряду с теми , же древними
представлениями новые христианские воззрения, обус-
ловившие отрицательное отношение к скоморохам со
стороны церкви.
Учитывая все сказанное, зададимся вопросом: поче-
му в Отрепьеве пытались увидеть скомороха? Какие
черты его личности, судьбы и поведения давали основа-
ние для сопоставления Григория со скоморохами и от-
разились ли они в трагедии? В пушкинском тексте всего
дважды употребляется слово «скоморох» — оба раза в
связи с Отрепьевым. Первый раз это происходит в корч-
ме на литовской границе, в сцене, где наиболее ярко
отразился язык скоморохов. Ряд устойчивых призна-
ков речи скоморохов, выявленных Д. С. Лихачевым, ха-
рактерны и для языка пушкинских монахов16: скомо-
рошье обыгрывание географических названий, постоян-
ное использование названий музыкальных инструмен-
тов, рифмованная речь как непременная норма бала-
гурства, оксюморонное построение словосочетаний и
фраз, обилие в речи пословиц и скоморошьих прибау-
ток, ярко выраженная смеховая функция всех речевых
приемов.
В работах Д. С. Лихачева содержатся примеры, под-
тверждающие сделанные им наблюдения. Обыгрывание
географических названий: кому Переяславль, а мне го-
реславль; кому Боголюбово, а мне горе лютое; кому
Бело-озеро, а мне чернее смолы; кому Лаче-озеро, а мне
много плача исполнено; упоминание музыкальных, ин-
струментов: гусли строятся персты, а град наш твоей
державой («Моление Даниила Заточника»). Пушкинс-
кий монах использует оба эти приема: Литва ли, Русь
ли, что гудок, что гусли: все нам равно, было бы вино...
да вот и оно! Варлаам почти всегда говорит, складно, в
рифму, балагурит: выпьем же чарочку за шинкарочку;
когда я пью, так трезвых не люблю; не нужна тебе вод-
ка, а нужна молодка; у нас с отцом Мисаилом одна за-
6*
83
ботушка: пьем до донушка, выпьем, поворотим, и в дО-
нушко поколотим. Отрепьев демонстрирует умение го-
ворить так же складно: «Пей, да про себя разумей».
Варлаам изменил пословицу, применив оксюморон: воль-
ному воля, а пьяному рай (ср.: «вольному воля, а спасен-
ному рай»). Выражая свое недовольство поведением Гри-
гория, он использует русскую пословицу: «Скоморох по-
пу не товарищ». Пословица эта пришлась здесь как
нельзя кстати: монахи в корчме скоморошничают —
пьют, поют скоморошину, балагурят, задирая и вышучи-
вая Григория. Отказ Отрепьева от их линии поведения
раздражает Варлаама, кажется чванством. Лишь после
того, как молодой'человек начал, по мнению монахов,
ухаживать за хозяйкой, они признали в нем своего: «Эй,
товарищ! да ты к хозяйке присуседился. Знать, не нуж-
на тебе водка, а нужна молодка, дело, брат, дело!» Мес-
том, действия в этой целиком вымышленной Пушкиным
сцене корчма избрана не случайно. Корчма противопо-
ставлялась божьему храму и была одним из наиболее
типичных в литературе XVII века мест антиповедения.
Создавая образы Варлаама и Мисаила, Пушкин
практически не использовал исторические материалы,
сохранившиеся об этих людях, кроме подлинных имен.
Поэт опирался на произведения демократической сати-
ры XVII века и фольклорные сатирические произведе-
ния (скоморошины) о попах и монахах. По словам
А. А. Бестужева-Марлинского, «редкая смешная сказка
или песня обходится у нас без попа и чернеца»17. В сбор-
нике Кирши Данилова читаем:
При царе Давыде Евсеевиче,,
При старце Макарье Захарьевиче,
Было беззаконство великое:
Старицы по кельям — родильницы,
Чернецы по дорогам — разбойники...18
В песне «Чурилья-игуменья» (с. 199—201) черты анти-
поведения характеризуют монастырские нравы; песня
«Из монастыря Боголюбове старец Игренищо» является
образцом скоморошьей песни, где наряду с юмором весь-
ма заметны .и элементы сатиры (черты антиповедения):
монах Игренищо, как пушкинский Варлаам, скитается
«меж двор», собирая милостыню, «спасая душу»; похи-
тил и унес в мешке девушку19. В «Азбуке о голом и
небогатом человеке» есть такой текст: «Фома поп глуп,
тот греха не знает, а людей не спрашивает, на пропой
84
денги с прихожен берет, в карман себе кладет, а о
церковном спасении не радит и ослабу людем творит,
и на том ему, попу батку, священнику, спасибо»20.
В «Калязинской челобитной» изображен идеал жизни
монахов: «В колокола не будем звонить, а на погреб и
без звону в полночь готовы ходить; ладану да свеч не
будем жечь, пиво и вино и с лучиною пьем; уголью и
смети не будет, ризы да книги вынесем в сушило, цер-
ковь замкнем, а печать в лупки обогнем, пономарей
вышлем в слободу жить, а прикажем им почаще ходить
да вино нам-подносить, да велим им звонить с недели на
неделю в год по однажды»21. И. М. Долгорукий, неод-
нократно наблюдавший выступления поздних скоморо-
хов-кукольников в первой четверти XIX века, писал:
«Всегда мне казалось странным, что на подобных игри-
щах представляют монаха и делают из него посмешище.
Кукольной комедии не бывает без рясы... Со временем
так приучат народ видеть чернеца деревянного с бабой
в комарицкой, что и на живого старца будут с теми же
помышлениями посматривать»22.
Особый интерес приведенные произведения и многие
другие, подобные им, представляют не столько тем, что
в них сатирически отражен быт русского белого и чер-
ного духовенства, сколько благодаря тем формам, кото-
рые при этом используются.. Приемы и структуры скомо-
рошьего осмеяния закономерно и естественно переходят
из фольклора в литературу. Бродячие монахи чаще на-
рушали церковные правила и установления. Уже в си-
лу своего положения они как бы погружались в стихию
антиповедения. Пушкинские Варлаам и Мисаил — бег-
лые монахи, они окончательно отринули монастырский
устав, превратились в «кощунников», «глумцов», а это
автоматически включает их в сферу народной смеховой
культуры. Варлаам и Мисаил ведут себя и как ряже-
ные, легко меняя обличье. В начале сцены они откро-
венно демонстрируют балаганную, скоморошью сторону
своего поведения, вплоть до противопоставления себя
попам. После появления приставов эти персонажи на-
девают личины «божьих старцев, иноков смиренных».
Сама легкость, с которой меняются формы их поведе-
ния, относится к миру народного театра. Здесь проявля-
ется не только привычное для беглых монахов, вызван-
ное необходимостью бытовое поведение, но и традиция
народной культуры.
85
Парные оппозиционные категории фольклорно-мифо-
логического сознания: жизнь—бмерть, правое—левое,
мужское—женское, верх—низ, — и связанные с ними
образы — царь—шут, поп—скоморох — обладают ус-
тойчивой потенцией к переходу одного в другое. Неда-
ром двумя излюбленными масками Ивана Грозного бы-
ли монах и скоморох, причем монашество Грозного бы-
ло формой скоморошьей игры. При всей кажущейся сти-
хийности поведения чернецов, вырвавшихся из монас-
тыря на волю, оно, это поведение, крайне нормативно.
Варлаам требует и ожидает от Григория совершенно
определенных форм антиповедения. Дело не в том, что
он чувствует в Отрепьеве родственную душу, и даже не
в том, что не терпит трезвого соседа во время пьяного
застолья. Варлаам и Мисаил считают, что для юноши
возможны лишь две формы поведения — постник-пра-
ведник или монах-бродяга, кощунник и скоморох. Раз
уж Григорий присоединился к ним, то он должен вести
себя как положено; отказ пить и петь вызывает недове-
рие, подозрение, что он не тот, за кого себя выдает, не
беглый монах, а беглый каторжник («кобылу нюхал»,
т. е. был бит кнутом).
Варлаам поет песню о том, как молодому чернецу
наскучило монастырское житье, «захотелось чернецу по-
гуляти, что за те ли за святые за ворота». Кончается
эта песня тем, что ее герой сбрасывает монашеское
одеяние:
Ты сгори, моя скучная келья,
Пропади ты, мое черное платье!
Уж как полно мне, молодцу, спасаться!
Не пора ли мне, добру молодцу, жениться
Что на душечке на красной на девице?23
Эта народная песня как будто прямо повествует о судь-
бе Отрепьева. Ему, молодому чернецу, наскучила жизнь
в монашеской келье, он стал мечтать о воле, бежал из
монастыря, сбросив монашеское платье, а скоро встре-
тит «красную девицу», на которой впоследствии женится.
Варлаам, сам того не зная, угадал и предсказал судьбу
своего молодого товарища.
Пушкин подчеркнул, что Отрепьев обладал поэтичес-
ким дарованием. Игумен Чудова монастыря говорит:
«БыЛ он весьма грамотен: читал наши летописи, сочи-
нял каноны святым; но, знать, грамота далася ему не от
господа бога». В 11-й сцене, уже став самозванцем,
86
присвоив имя погибшего царевича, Отрепьев читает ла-
тинские стихи, посвященные ему придворным поэтом.
Для пушкинского героя поэт является пророком-прори-
цателем:
Стократ священ союз меча и лиры,
Единый лавр их дружно обвивает.
Родился я под небом полунощным,
Но мне знаком латинской музы голос.
И я люблю парнасские цветы.
Я верую в пророчества пиитов.
Нет, не вотще в их пламенной груди
Кипит восторг: благословится подвиг,
Его ж они прославили заране!
В ранней редакции этой речи Димитрия предшествовал
диалог Хрущова и Пушкина:
Хрущов (тихо Пушкину)
Кто сей?
Пушкин
Пиит.
Хрущов
Какое ж это званье?
Пушкин
Как бы сказать? по-русоки виршеписец
Иль скоморох.
В представлении русского человека той эпохи поэт тож-
дествен скомороху. Но ведь и сам Отрепьев — вирше-
писец, сочинявший каноны святым.
И ,в жизни, и в трагедии Отрепьев постоянно меняет
личины, рядится то чернецом, то беглым монахом, то
мирянином из пригорода, то слугой польского магната,
то чудом уцелевшим царевичем, то московским царем.
Несмотря на все сказанное, в Григории Отрепьеве
нельзя видеть не только прямого скомороха, но даже
человека с этим типом сознания. Он — честолюбец, об-
ладавший целым рядом черт сознания нового времени,
первый русский самозванец. Но почему все же и в
фольклорных произведениях, и в официальных источни-
ках, и в других проявлениях отношения к Лжедмитрию
со стороны современников так устойчив мотив его ско-
морошества, мимо' которого не мог пройти Пушкин? Как
уже говорилось, самозванчесцво на Руси было в XVII
87
веке явлением новым, поэтому общественное сознание,
как всегда в таких случаях, должно было обратиться к
старым, устоявшимся формам. Только включение ново-
го, порожденного эпохой активного формирования абсо-
лютизма образа (самозванец) в старую идейную схему
(царь — шут, скоморох) могло помочь понять и оце-
нить это явление. Старая схема оказалась в какой-то
мере продуктивной благодаря двум обстоятельствам.
В ней, пусть в мифологизированной форме, содержится
и объяснение, и оценка (негативная) нового образа, иду-
щая от монотеистического отношения к роли шута, ско-
мороха в средневековом обществе. Кроме того, самозва-
нец генетически близок сначала к обрядовым, а затем
игровым двойникам царей — как лжецарь. В цитирован-
ной уже народной исторической песне из сборника Кир-
ши Данилова о гибели Григория Отрепьева стрельцы
догадались о том, что перед ними лжецарь, после того,
как он нарушил православные нормы поведения. Поступ-
ки «Гришки-розстрижки» относятся к сфере антиповеде-
ния — баня вместо церкви, скоромное в пост и т. д.
Но и скоморошество — форма антиповедения. Увидев в
Гришке колдуна, скомороха, стрельцы в народной пес-
не догадались, что-он самозванец. В другом варианте
этой песни есть мотив понимания Отрепьевым своей об-
реченности:
Послушай, Марина, что я говорю:
Проживу, буде, я три часа,
Проживу, Марина, тридцать лет,
Не проживу, буде, я трех часов,
Не прожить мне-.ка и трех годов24.
Чувство обреченности выражается здесь через магию
цифр, характерную для древнего шамана, который обыч-
но знал, когда умрет.
В отличие от людей рубежа XVI—XVII веков, Пуш-
кин не мог видеть в самозванце скомороха, но он ввел
своего героя в обстановку скоморошьего поведения Вар-
лаама и Мисаила, показал его владение скоморошьим
языком, его поэтический дар и внешность: «А ростом он
мал, грудь широкая, одна рука короче другой, глаза
голубые, волоса рыжие, на щеке бородавка, на лбу дру-
гая». По архаическим представлениям, отразившимся в
фольклоре, асимметрия частей тела, рыжие (золотые)
волосы являются постоянными признаками человека,
88
связанного с миром мертвых и поэтому обладающего
магическими возможностями.
По этой же логике Отрепьев оценивается народом
в конце трагедии: правитель, способный на ложь, —
лжецарь.
Особое место в обширной литературе о трагедии «Бо-
рис Годунов» занимает проблема генезиса знаменитой
финальной ремарки. Среди ее источников Г. О. Винокур
и Б. П. Городецкий называли ряд эпизодов «Истории
государства Российского» Карамзина. Б. П. Городецкий
пришел к выводу, что у историка эта формула могла вы-
ражать как. активное осуждение, так и столь же актив-
ное приятие народом нового правителя25. М. П. Алек-
сеев, изучив вопрос об авторстве ремарки и, насколько
это возможно на данном этапе, убедительно доказав ее
принадлежность поэту, предложил свою интересную и
доказательно изложенную гипотезу о генезисе этой ре-
марки. Он называет другой круг источников, который,
по его мнению, «мог в большей мере вдохновить Пушки-
на на создание заключительной сцены- его трагедии, чем
Карамзин или русские летописи»26. Согласно утверж-
дению М. П. Алексеева, Пушкин мог воспользоваться
популярной во Франции крылатой фразой о народном
безмолвии, авторам которой считался знаменитый пропо-
ведник Людовика XV Жан Бове, архиепископ Сенесский,
сказавший в проповеди на похоронах Людовика XV:
«Народ, конечно, не имеет права роптать, но у него
есть право молчать, и его молчание — урок для коро-
лей»27. Затем это высказывание (по словам Тьера) бы-
ло использовано Мирабо. С трибуны Учредительного соб-
рания 15 июля 1789 г., когда стало известно, что Людо-
вик XVI идет в Учредительное собрание без стражи и
свиты, он произнес: «Пусть мрачное молчание прежде
всего встретит монарха в эту минуту скорби. Молчание
народа — урок королям»28. Далее М. П. Алексеев при-
водит ряд фактов использования этой формулы в Рос-
сии начала XIX века; в частности, встречается она и в
письмах Пушкина.
Н. И. Михайлова предложила гипотезу об античном
источнике ремарки Пушкина, в котором воспроизводит-
ся к тому же близкая к пушкинской ситуация29. Это ис-
тория гибели Гая Юлия Цезаря, безусловно хорошо из-
вестная Пушкину и всем образованным русским людям
его времени. В «Сравнительных жизнеописаниях» Плу-
89
тарха, с творчеством которого Пушкин познакомился
еще до Лицея, можно прочесть о том, как после убий-
ства Цезаря «на следующий день заговорщики во гла-
ве с Брутом вышли на форум и произнесли речи к наро-
ду. Народ слушал ораторов, не выражая ни недоволь-
ствия, ни одобрения, и полным безмолвием показывая,
что жалеет Цезаря, но чтит Брута»30. Причину, кото-
рая обусловила решение заговорщиков убить Цезаря и
их уверенность в поддержке народа, Плутарх, Тацит и
Светоний видят в том, что Цезарь стремился стать ца-
рем. Светоний, например, пишет: «Однажды, когда он
возвращался после жертвоприношения на Латинских иг-
рах..., то какой-то человек из толпы возложил на его
статую лавровый венок, перевитый белой перевязью31,
но народные трибуны Эпидий Марцил и Цезетий Флав
приказали сорвать перевязь с венка; а человека бросить
в тюрьму. Цезарь... с этих пор... уже не мог стряхнуть с
себя позор стремления к царскому званию, несмотря на
то, что однажды он ответил плебею, величавшему его
царем: «Я Цезарь, а не царь!»32. В жизнеописании Це-
заря, принадлежащем Светонию, содержатся также
указания на то, что римский народ всячески провоци-
ровал Марка Юлия Брута на убийство Цезаря — не-
смотря на то, что народ был доволен его правлением:
«Под статуей ЛуЦия Брута33 кто-то написал: «О если
б ты был жив!», а под статуей Цезаря:
Брут, изгнав царей из Рима, стал в нем первым консулом.
Этот, консулов изгнав, стал царем в конце концов»34.
А после похорон- Цезаря тот же римский народ «с факе-
лами ринулся к домам Брута- и Кассия. Его с трудом
удержали; но, встретив по пути Гельвия Цинну, народ
убил его, спутав по имени с Корнелием Цинной, кото-
рого искали за его произнесенную накануне в собрании
речь против Цезаря»35. Общеизвестно, насколько глубо-
ким был интерес Пушкина к античной культуре.
Подобие ситуации в России XVII века и Рима I ве-
ка до н. э. основано не только на общем мотиве убие-
ния правителя с согласия народа, но <и на изображении
резкой смены настроения народных масс. Идея возмез-
дия за убийство присутствует уже в трудах римских
историков: по единодушному свидетельству Аппия, Та-
цита, Плутарха и Светония, все участники заговора
против Цезаря умерли не своей смертью.
90
Использование народного безмолвия в сходных си-
туациях разными народами наводит на мысль о проявле-
нии какой-то общей закономерности во всех этих слу-
чаях. Следует подчеркнуть, что во всех приведенных
примерах молчание означает отрицание, смертный при-
говор. В средние века (в России непосредственно пред-
шествовавшие эпохе, описанной Пушкиным), когда лич-
ностное сознание было уже достаточно развито, извест-
ны случаи принятия на себя обета молчания. Были мо-
нахи-молчальники, молчание — идеальная форма язы-
ка юродивых. И монахи-молчальники, и юродивые, и
европейские рыцари в период подготовки к посвяще-
нию36 принимали обет молчания в переходный момент
жизни. Молчание осмысливалось как форма аскезы, от-
каза от земной жизни, перехода к жизни вечной. С мол-
чащими героями довольно часто встречаемся в сказках.
Существует несколько международных сюжетов, где
юноша или девушка берут на себя обет молчания (что-
бы наказать строптивую невесту или спасти братьев,
превращенных в птиц и т. д.). Никакие угрозы и опас-
ности не могут заставить героя изменить своему обету,
в результате он достигает своей цели, а затем обяза-
тельно вступает в брак. ’В этих сказочных сюжетах от-
разились архаические представления, воплощавшиеся в
обряде инициации. Подросток (юноша или девушка)
на пороге вступления в племя на правах взрослого его
члена проходили через обряд, который имитировал
смерть и воскрешение молодого человека. В процессе
прохождения обряда он считался мертвым и должен был
обладать всеми признаками смерти, в том числе безмол-
вием. Только после свершения этого обряда, как бы вос-
креснув к новой жизни, юноша или девушка могли всту-
пить в брак, что отразилось в сказке. В народном пло-
щадном языке смех, осмысливавшийся с архаических
времен как признак, носитель и даритель жизни, озна-
чал знак «да», а молчание как один из постоянных при-
знаков смерти— знак «нет». Изначально «да» — это
жизнь, а «нет» — смерть. Следовательно, безмолвие на-
рода в диалоге с царем означает отрицание правителя
и смертный приговор ему. У Пушкина мы встречаем на-
иболее прозрачный вариант такого диалога. На требова-
ние Мосальского: «Кричите: да здравствует царь Димит-
рий Иванович!» народ отвечает безмолвием, приговаривая
Лжедмитрия, царя-шута, царя-скомороха, к смерти.
91
ЦАРЬ И ЮРОДИВЫЙ
Единственная сцена трагедии, в которой появляется
Юродивый, с момента ее создания воспринималась и
автором, и читателями как исключительно важная, иде-
ологически насыщенная. В знаменитом письме Пушкина
Вяземскому поэт обронил замечание, которое уже бо-
лее полутора столетий подвергается различным интер-
претациям: «Жуковский говорит, что царь меня прос-
тит за трагедию — навряд, мой милый. Хоть она и в
хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех
моих ушей под колпак юродивого. Торчат!» В словах
Юродивого видели намеки на грехи молодости Алек-
сандра I, благодаря чему образ Бориса Годунова вос-
принимался как аллюзия, «нечистая совесть» его напря-
мую соотносилась с угрызениями совести, которые
испытывал Александр I. Позиция Юродивого по отно-
шению к царю считалась многими исследователями вы-
ражением «мнения народного» о Годунове, мнения, ко-
торое разделял и Пушкин. При наличии различных ин-
терпретаций сцены с Юродивым, все же большинство ис-
следователей видели в Юродивом представителя народа
и выразителя авторской точки зрения не только на царя
Бориса, но и на современных поэту самодержцев1.
Правда, в последнее время появилось иное понимание
образа Юродивого. По мнению Ст. Б. Рассадина, Юро-
дивый — «не голос ... народа... Он не символ, не функ-
ция, не аллегория, он — настоящий юродивый, дурачок
Николка, дикий и нелепый»2. С. А. Фомичев объединяет
обе эти точки зрения на Юродивого. Он не отрицает
факт разоблачения царя, но производит его «просто-
душный юродивый», случайно произнесший «вслух то,
о чем никто не смеет сказать убийце»3. Как и всякое
литературное произведение, эта сцена пушкинской тра-
гедии обладает объективным содержанием, которое не-
избежно шире того, что хотел сказать в ней автор. Субъ-
92
Активный ее смысл не следует сводить к историческим
аллюзиям и аналогиям-, а объективное содержание —
только к выражению устами Юродивого точки зрения
народа на царя Бориса.
Сцена «Площадь перед собором в Москве» не дати-
рована, но с большой долей вероятности можно пред-
положить, что она происходит на святках — 25 декабря
1604 г. — 6 января 1605 г., в период рождественских
праздников. Предыдущая сцена датирована Пушкиным
21 декабря 1604 года. Следующая после сцены с Юро-
дивым не, датирована, но разбросанные шо ней хроно-
логические намеки, а также изображенные в ней исто-
рические события позволяют определить время дейст-
вия. Пленный московский дворянин прибыл в армию,
сражающуюся с Отрепьевым, через две недели после
битвы под Новгородом-Северским, т. е. числа 4 января
1605 года. Через несколько дней он попал в плен. Сце:
на в Севске, происходившая накануне разгрома войск
Лжедмитрия, может быть датирована, исходя из исто-
рических сведений, 20 января (21-го января 1605 года
состоялось неудачное для самозванца сражение). Сле-
довательно, торжественное молебствие в присутствии
царя происходит не позднее начала января 1605 года,
в соборе. Не дожидаясь окончания обряда, из собора
выходит «Юродивый в железной шапке,' обвешанный
веригами, окруженный мальчишками». В первый момент
юродивого принимают за царя. Случайно ли это? Чтобы
ответить на этот вопрос и определить значение образа
Юродивого в трагедии, необходимо обратиться к юрод-
ству как культурному явлению русского средневе-
ковья.
Генетически образ царя и фигура юродивого, на уров-
не их народного осмысления, едины. Юродивый — рус-
ский средневековый вариант пророка. Первоначально
институт пророчества возник у древних евреев в VIII—
VI веках до н. э. в период формирования монотеизма.
Фигура шамана (у славян — волхва) универсальна.
Шаманы известны на определенной стадии развития
всем ' народам. С. С. Аверинцев пишет: «Такие люди
были в древней Палестине... Постепенно... древняя сти-
хия шаманского экстаза наполняется совершенно новым
нравственным смыслом. Ибо пророк стоит лицом к лицу...
с единым, праведным и милосердным богом Яхве, он
обязан этому богу1 личной верностью, во имя которой
93
ёк«у приходится вступать в столкновений с земнымй
властями... Все участники пророческого движения VIII—
VI веков до н. э. решительно укоряют богатых и власт-
ны; это уже не придворные прорицатели эпохи Давида,
а народные проповедники»4. Институт пророчества по-
лучил распространение и развитие на всем Ближнем
Востоке. Вместе с христианством, изменившись в связи
с содержанием новой религии, этот институт появился
в Византии. Видимо, еще на христианском Востоке поя-
вились первые юродивые — еще до крещения Руси. По-
лучив христианство от Византии в конце X века, Русь
познакомилась с таким явлением, как юродство. Ша-
ман, который был предтечей пророка, генетически вос-
ходит к тотемному животному, которое' позднее тран-
сформировалось в антропоморфный образ первопредка-
демиурга-культурного героя. У царя, самозванца (лже-
царя), скомороха и юродивого общие предки. Однако
в коллективном сознании общие для всех них этапы
развития завершились образом жреца-шамана-прорица-
теля. Далее один из путей эволюции этого образа при-
вел к возникновению универсальной фигуры царя и
связанных с ним представлений.
Скоморохи и юродивые — продукт русской культу-
ры. Так же, как скоморох, — русская разновидность (и
генетически, и функционально) универсального шута,
так юродство — специфически православная (по боль-
шей части русская)5 форма проявления и развития в
христианстве института пророков. Особенности истори-
ческого пути Руси — переход от родового строя, минуя
классическое' рабство, к феодализму — привели к тому,
что языческий пантеон окончательно не сформировался,
и волхвы, породив «причетников Смеха» — скоморохов,
не смогли дать другую ветвь, которая образовалась у
многих народов, создавших развитые языческие рели-
гии, — жрецов-священнослужителей. Институт право-
славного духовенства на Руси был привнесен вместе с
заимствованной религией, а пришедшее с нею юродство,
получив специфически русскую окраску, так органично
вошло в мир народной культуры потому, что этот мир
прошел уже к, тому времени необходимые для укоре-
нения этого института стадии исторического развития.
Расцвет юродства на Руси приходится на XV—первую
половину XVII столетия. К этому времени оно стало
русским национальным явлением6.
94
Юродивые делились на юродивых и юродивых Хрис-
та ради. Первые были людьми неполноценными, стра-
давшими различными психическими заболеваниями,
вторые, психически здоровые, полноценные, часто весьма
образованные и интеллектуально развитые люди, при-
нимали юродство как своеобразную форму сверхзакон-
ной, неканонической аскезы. Юродивый этого типа дей-
ствовал вполне сознательно. Он отрекался от своей
личности, буквально толкуя слова Нового Завета: «Аще
кто хощет ко мне идти, да отвержется себе» (Мф. гл.
XIV, ст. 24—25. Марк. гл. VII, ст. 34). Юродивый Хрис-
та ради, в отличие от просто юродивого, добровольно
надев на себя маску безумца, дурака, шута, мог «сни-
мать» ее лишь ночью, оставшись наедине с богом и пре-
даваясь молитве. Видеть ночное поведение юродивого
могли только очень близкие и особо доверенные люди.
Протопоп Аввакум, например, наблюдал ночные молит-
вы юродивого Федора. С полной достоверностью можно
было установить, к какому типу юродивых принадлежит
человек только после его смерти. Юродивый Христа
ради становился святым, его мощи благоухали и твори-
ли чудеса.
Пушкинский Юродивый — юродивый Христа ради.
В ответ на просьбу старухи помолиться за нее, Никол-
ка на свойственном юродивым языке иносказаний обе-
щает сделать это ночью, когда настанет для него пора
обратиться с молитвой к богу. Он поет:
Месяц светит,
Котенок плачет,
Юродивый, вставай,
Богу помолися!
Играя роль безумца, юродивый обязан обличать по-
роки и грехи людей, нарушая общественные приличия,-
«ругаться миру». «Две стороны юродства, активная и
пассивная, как бы уравновешивают и обусловливают
одна другую: добровольное подвижничество, полная тя-
гот и поношений жизнь дают юродивому право «ругать-
ся горделивому и суетному миру»7.
Появление юродивого в трагедии Пушкина нельзя
расценивать лишь как колоритную подробность русско-
го быта, характерное проявление национальных нравов
и тем более как элемент авторского «эзопова языка».
Юродство в эпоху оформления всех важнейших принци-
95
пов абсолютизма было одним из идеологических цент-
ров русской жизни. В пословице, приведенной пушкин-
ским Варлдамом — «скоморох попу не товарищ», —
отражено средневековое противостояние народной сме-
ховой площадной культуры, главной фигурой которой
был скоморох, и культуры официозной, церковной. Юро-
дивые находились между этими мирами, объединяя и
разъединяя их.
Формирование самодержавия потребовало для офи-
циальной идеологии особого, безраздельно господствую-
щего положения. В связи с этим церковь как господ-
ствующая форма официальной идеологии не могла бо-
лее допустить существования противостоящих' идеологи-
ческих форм. Скоморошество и связанную с ним народ-
ную площадную культуру церковники обличали, начи-
ная с первых лет христианства на Руси, понимая их язы-
ческую основу. Обличали, но не стремились уничтожить.
Это была борьба идеологическая, но не политическая.
К XVII веку культурный компромисс становится невоз-
можным, и спустя несколько лет после событий пуш-
кинской трагедии, в середине XVII века, началось бес-
пощадное преследование скоморохов, санкционирован-
ное абсолютистским государством. В эту же эпоху рез-
ко возрастает идеологическое значение юродивых. Обост-
рение борьбы со скоморохами и возросшее значение
юродивых — это проявления ставшего непримиримым
противоречия между народной и официальной культу-
рой. С одной стороны, юродивый принадлежит к миру
официальной; церковной христианской культуры. Он
аскет особой разновидности и святой низшего ранга.
Но он насаждает христианские моральные нормы прие-
мами карнавального общения, характерными для на-
родной площадной культуры.
Создавая образ юродивого, Пушкин весьма тщатель-
но собирал материалы о юродивых, канонизированных
русской церковью. Его особенно интересовали Василий
Блаженный и Николка Железный Колпак.
Знаменателен эпизод из жития Василия Блаженного,
приведенный в книге Д. С. Лихачева и А. М. Панченко
«Смеховой мир» древней Руси»: «Однажды в лютую
стужу один вельможа, почитавший Василия Блаженного
и любимый им, упросил юродивого прикрыть наготу.
Тот принял от вельможи лисью шубу... и пошел своей
дорогой. Какие-то мошенники позарились на дорогой по-
96
6*
дарок. Один из них лёг на дороге и притворился мерт-
вым. Когда Василий приблизился, остальные принялись
просить его подать на похороны. «Истинно ли мертв
клеврет ваш?» — спросил юродивый. «Истинно мертв, —
ответили те. — Только что скончался». Тогда Василий
Блаженный снял шубу, окутал ею мнимого мертвеца и
сказал: «Буди отныне мертв вовеки!» И мошенник умер
и вправду был погребен в этой шубе» (С. 131).
А. М. Панченко справедливо считает этих мошенников -
святочными ряжеными, участниками игры в «умруна».
Исполнявшаяся на святках — древнем языческом празд-
нестве в честь зимнего солнцестояния — игра в «ум-
руна» восходила к древним обрядовым действам, где
соединялись смерть и оживление при помощи ритуаль-
ного смеха. Непременными участниками таких обрядов
и порожденных ими народных игр были скоморохи. По
замечанию А. М. Панченко, «юродивый в данном слу-
чае включился в святочное действо, стал святочным
персонажем, но в качестве врага святочных игр»
(С. 132). Включившись в святочную игру, Василий Бла-
женный как бы возвращает ее к истокам— ведь в древ-
них обрядах участвовал не ряженый, а настоящий по-
койник. Но юродивый моделирует лишь половину
обряда — убиение; изъяв смех, он исключил и возмож-
ность воскрешения покойника «вовеки». Став участни-
ком святочной игры, как скоморох, юродивый разру-
шает изнутри древний смысл игры, он убивает в этом
эпизоде не только ряженого (может быть, скомороха),
по и самую игру, т. к. она греховна с точки зрения хрис-
тианской морали.
В пушкинской сцене с юродивым Николка Железный
Колпак оперирует приемами и элементами игры в цари,
одной из трех, исполняемых на святках (игры в мед-
ведя, в «умруна» и в цари), восходящей к тем же древ-
ним обрядам убиения и оживления и представляющей
собой третью, последнюю, стадию их игрового переос-
мысления, где выступает не животный тотем, не отправ-
ляемый на тот свет предок, а царь.
Своеобразие положения юродивого в том, что он
резко отвергает народную смеховую культуру, и наибо-
лее яркие ее носители, скоморохи — враги его; но од-
новременно столь же резко, грубо, беспощадно облича-
ет представителей официальной культуры вплоть до ца-
ря, если они живут не по христианскому идеалу. Ско-
7-3103 97
морохй еще мыслились посредниками между миром
живых и миром мертвых; ближневосточные пророки
были посредниками между людьми и единым богом;
юродивые не столько соединяют, сколько разъеди-
няют народную и официальную культуру. Идеи проро-
ка, как бы сложны ни были его отношения с богом и
с народом, продуктивны, рано или поздно они должны
победить, ибо обращены в будущее, исторически и соци-
ально прогрессивны, знаменуя и подготовляя переход
к единобожию. Юродивый — носитель неразрешимых
противоречий эпохи, эта фигура исторически бесперспек-
тивна, ибо, достигнув апогея своего общественного зна-
чения на границе средневековья и нового времени, юрод-
ство отстаивало этический идеал средневековья, дове-
денный до своего логического завершения.
В символике поведения юродивого, в особом языке,
которым он общался с толпой, большое значение имел
костюм. По странному, экстравагантному костюму сра-
зу опознавали юродивого. Вырабатывая свое одеяние,
юродивые использовали сложившийся за многие века
площадной язык народной смеховой культуры, однако
элементы его были переосмыслены. Шутовской жест
обнажения, связанный с древними обрядами плодоро-
дия, ритуальным смехдм, архаическими представления-
ми о материально-телесном низе, стал осмысливаться
как бестелесность, духовность и одновременно презре-
ние к плоти. Нагота стала символом души, юродивый
ангельски бесплотен. Во многих агиографических источ-
никах упоминается лоскутная, «многошвейная», много-
цветная рубаха, напоминающая «пестрое платье, сши-
тое из разноцветных лохмотьев», «удержавшееся в тра-
диционной одежде итальянского Арлекина»8. Костюм
арлекина, шута, скомороха пародирует царский костюм
с его драгоценной многоцветностью. Но юродивый не
осмеивает царя и его роскошное одеяние, а отвергает
роскошь царской жизни, демонстрируя ее тщету. Голов-
ной убор шута и скомороха, колпак, сделанный из тря-
пья, бересты, дерева или железа и т. п., пародировал
царскую корону. Царский головной убор разных стран
и народов, при большом количестве вариантов, всегда
включал в себя стилизованное изображение венца. Этот
символ царской власти восходит к наиболее архаическо-
му представлению о венке как знаке избранности и об-
реченности, к древнейшим обрядам увенчания и развен-
98
йания, убиения и оживления жертвы. Древний венок,
знак жертвы, избранника, знак плодородия природы,
стал символом царской власти, вероятнее всего, в связи
с образом царя-жреца, соединявшим в себе все указан-
ные функции и столь значительно повлиявшим на идео-
логическое осмысление более поздней фигуры царя.
Русская корона, шапка Мономаха, состоит из кол-
пакообразного золотого головного убора восточного
происхождения, увенчанного позже жемчужным крес-
том. Собственно короной ее делает лишь меховая ото-
рочка (венец). Николка Железный Колпак, житием ко-
торого пользовался поэт при созданий образа своего
Юродивого, действительно носил железный головной
убор конусообразной формы. Такой головной убор не
был только средством «умерщвления плоти», но и по-
добно тому, как терновый венец Христа пародировал
диадему иудейских царей, пародировал русскую шапку
Мономаха.
Образно говоря, юродивый находится между попом и
скоморохом; между сакральным пространством право-
славного собора и площадью с ее языческой, древней,
народной сущностью; между религиозной обрядностью
церковных праздников и стихией народного площадного
празднества. Сцена с юродивым в пушкинской траге-
дии происходит- на Соборной площади в Кремле. Теат-
ральные декорации, по замыслу Пушкина, вероятно,
должны были представлять вход в собор, паперть и
часть площади, находящуюся в непосредственной бли-
зости к собору. Вышедшего из собора юродивого не
случайно в первый момент принимают за царя. Он вы-
ходит из церкви в шапке, а находиться там в головном
уборе из светских людей могли только царь и юроди-
вый. Он окружен «свитой» — мальчишками. Все вместе
они производят шум, подобный тому, который должен
производить царь и его свита. Все это — элементы,
внешне сближающие поведение царя и юродивого.
Язык, которым пользовались юродивые, это язык
иносказаний, намеков, ассоциаций и аллюзий. Главное
занятие юродивого — обличение на своем языке сует-
ного мира. В трагедии объект обличения — Борис Го-
дунов. Сразу после своего появления Николка начинает
готовить своеобразный спектакль — обличение. Наме-
рение обнажить грех царя должно было возникнуть еще
в соборе. Во время христианских рождественских обря-
7*
99
дов в церкви звучали евангельские тексты, связанные 6
рождением Христа, в том числе и предания об Ироде.
Николка наблюдает священный обряд, одним из глав-
ных участников которого является человек, по его мне-
нию, подобный Ироду. Николка и выходит из собора,
чтобы начать свое «шалованье», ему нужен предлог,
реквизит и игровой конфликт, подобный евангельскому
сюжету об Ироде. Однако юродивый по самому положе-
нию человека, разделяющего официальную и народную
культуру, не может пользовать языком ни той, ни дру-
гой в полной мере. Он говорит загадками, которые тре-
буют сложных и неожиданных толкований. И Николка
не пытается прямо в соборе провозгласить анафему Бо-
рису, но и не .инсценирует на площади народную свя-
точную игру в цари, хотя многое для этого у него есть.
Есть два царя, один из них — сам Николка, явно ря-
женый, уже осмеиваемый мальчишками. Скоро выйдет
на площадь и царь Борис, уже, по мнению народа,
достойный развенчания и замены. Время действия —
святки — и место — площадь — вполне соответствуют
игре в цари. Но Юродивый в эту игру не играет. Его
позиция не вполне отражает «мнение народное». Логика
средневекового народного сознания и логика юродивых
различны. Народ видит в этот момент в Борисе царя,
не оправдавшего надежд, а значит, царя не истинного,
грешника, ибо он не от бога, а от дьявола. Юродивый
мыслит иначе: Борис совершил страшное преступление,
нарушил заповедь единого бога, поэтому он грешник.
Для юродивых царь — лишь один из сильных мира
сего, которых они, подобно пророкам, особенно после-
довательно обличали. Юродивый не может желать и
тем более требовать смены царя. Его устами говорит
бог, а не народ. Установление социальной справедливо-
сти в мире, погрязшем в скверне, замена злого царя
добрым не может быть целью юродивых, не входит в
круг задач, которые они решают. Из обличения юроди-
вым царя не следует, что его надо сменить. В своей
сцене Пушкин соединил три идейные позиции, три точ-
ки зрения на дальнейшую судьбу царя. Народ к этому
времени уже разочаровался в Борисе и ожидает Дмит-
рия. Именно поэтому главный интерес молебствия сос-
редоточен для народа вокруг фигуры Дмитрия.
Для обличения грешника Бориса юродивому нужна
ситуация, в которой он оказался бы обиженным детьми.
100
Поэтому, выпросив у старухи копеечку, Юродивый ис-
пользует ее для провоцирования детей на дурной, гре-
ховный поступок.
Юродивый
А у меня копеечка есть.
Мальчишка
Неправда! ну покажи.
(Вырывает копеечку и убегает)
Юродивый (плачет)
Взяли мою копеечку; обижают Николку!
В этих действиях Николка опирается на христианские
представления. Юродивый спровоцировал мальчика на
похищение милостыни, одно из значительных преступле-
ний против христианской морали. Но перед этим, полу-
чив копеечку, Юродивый садится на землю и поет свою
песенку, в которой обещание помолиться дано не прямо,
а на типичном языке юродивых, содержащем в себе
элементы церковной и народной культуры. Песенка Ни-
колки представляет собой вариант широко бытовавших
народных колыбельных песен, главным персонажем ко-
торых был кот (котик, коток). Функции этого образа —
убаюкивание ребенка, охрана его сна. Образ кота или
кошки в колыбельных песнях имеет архаические корни,
он, вероятно, заменил собой мифологическое существо,
стоявшее в центре древних обрядов, связанных с куль-
том предков (ранее тотема), которых призывали охра-
нять сон. Недаром в большинстве колыбельных коту
обещают «за работу заплатить» ритуальной пищей, что
является, видимо, рудиментом жертвоприношения духу
дома (домовому, кикиморе). В пушкинской песенке
не кот, а котенок, он не мурлычет, а мешает спать сво-
им плачем. Для Юродивого появление котенка («уж
ты, котенька-коток, ...приходи к нам ночевать...») —
предвестие не спокойного ночного отдыха, а аскетиче-
ского бдения и молитвы. Используя образы народной
песни, Николка, в сущности, отвергает древнюю ее язы-
ческую первооснову и тип поведения, в ней зафиксиро-
ванный. Мотивы детской песенки нужны Николке в за-
теянном им шалованье. Все, что он делает, тесно увяза-
но с тем общим, что есть в легенде об Ироде и преступ-
лении царя Бориса: убиение младенца. Спев самому се-
бе детскую песенку, Юродивый начал нести себя как
101
ребенок. Он по-детски хвалится копеечкой, а когда ее
отняли, жалуется и плачет. Чудовищное требование
зарезать мальчиков, укравших копеечку, выглядит ес-
тественным в устах человека, опустившегося до уровня
детской логики, детской непосредственности и детской
жестокости. Приспосабливая народную колыбельную,
приводя ее в соответствие со своими задачами, Николка
трансформирует знаковую систему песенки, переводя ее
на язык юродивых. Характерно также, что символами
отверженности юродивых были пес или кот. Эти образы
проявляют связь юродивых с народной смеховой культу-
рой и ее архаическими истоками9.
Создав нужную ситуацию и настроение, Николка на-
носит два точно рассчитанных удара Борису. Первая
реплика, направленная против Годунова: «Николку ма-
ленькие дети обижают... Вели их зарезать, как зарезал
ты маленького царевича», — уже таит в себе намек на
образ Ирода. Но намек этот пока зашифрован и ясен
только Юродивому. Лишь в самом конце сиены Никол-
ка окончательно все договорил:
Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода —
Богородица не велит.
Источник последней реплики Юродивого можно опре-
делить с большой степенью вероятия. В каноничес-
ких православных текстах (прежде всего в Новом За-
вете) нет самой идеи разрешения или запрета со сто-
роны Богородицы молиться за тех или иных грешников.
Эта ситуация воспроизводится в одном из самых ран-
них переведенных на Руси апокрифов «Хождение Бого-
родицы по мукам». Сюжет о посещении Богородицей
ада был очень широко известен, сохранились списки его,
начиная с XI—XII веков. В русском изобразительном
искусстве в средние века по его мотивам создавались
памятники иконописи, а в фольклоре возникли попу-
лярные духовные стихи. В «Хождении Богородицы по
мукам» на самые тяжелые муки обречены грешники,
совершившие преступления против жизни (кровосмеси-
тели, убийцы); они мучаются наравне с распявшими
Христа и вероотступниками, предавшими его учение.
Только этот, последний, разряд грешников не вызывает
жалости у богородицы: «И рече святая: «По дъелом их
буди тако». Богородица, потрясенная картинами ад-
ских мук, не только сама молит бога о снисхождении
102
к грешникам, но и «велит» молиться за них архангелам,
ангелам, пророкам, апостолам, праведникам. Обраща-
ясь к архангелу Михаилу, она говорит: «...повели и
всъмъ, да припадемъ предъ невидимымъ отцемъ и не
подвижемъ сибе, дондеже послушаетъ насъ богъ и по-
милуетъ грешныя». Тогда падеся Михаилъ ницъ лицемъ
своимъ предъ престоломъ, и вся лики небесныя, и вси
чини бесплотныхъ»10. Богородица исключает из числа
тех, за кого она велит молиться, лишь распявших Хри-
ста. Пушкинский Юродивый присоединил к этим вели-
чайшим грешникам царя Ирода и Бориса Годунова, ко-
торого отождествляет с ним. Образы царей-грешников
есть уже в «Хождении Богородицы», но там определен
их грех лишь как непослушание божьей воле. Зафик-
сированная в апокрифе, вошедшем в сознание русско-
го человека в XI—XII веках, идея греховности царя,
не исполнившего божьей воли, к XVII веку значительно
трансформируются, приобретя новую актуальность.
В 1606 году была создана «Повесть об видении не-
коему мужу духовиу», основанная на мотивах «Хожде-
ния Богородицы по мукам». Автор «Повести» поп Те-
рентий в образах, христианской символики изобразил
восстание Болотникова, последовавшее за событиями,
изображенными Пушкиным. В некоторых списках «По-
вести» Терентия содержится в обобщенной форме акту-
альная для Смутного времени идея существования ис-
тинных и неистинных царей: «Несть истины во царех же
и патриарсех». А. С. Елеонская пишет: «Характерно,
что «Повесть об видении некоему мужу духовну» была
воспринята современниками именно как публицистиче-
ское сочинение, с установкой на широкое распростра-
нение: она читалась в Успенском соборе «вслух во весь
народ»»11. Жизнь этого сочинения была длительной, оно
неоднократно переиздавалось и, по свидетельству
Н. И. Прокофьева, лишь в 1836 году Святейший Синод
запретил печатать это произведение.
Пушкинский Юродивый, следовательно, использует
ситуацию хорошо освоенного к тому времени русской
культурой апокрифа, и переосмысляет его в русле идео-
логических поисков своего времени. Николка Железный
Колпак в трагедии Пушкина высказывает мысль, начи-
навшую формироваться в сознании русских людей, ко-
торую выразил в следующем году поп Терентий в своем
публицистическом произведении,
103
Известно, что первоначально образ Ирода возник в
сознании Пушкина в связи с трагической окраской лич-
ности Бориса. Поблагодарив Вяземского за сообщенное
им замечание Карамзина о характере Бориса, Пушкин
13 сентября 1825 года писал: «Я смотрел на него с по-
литической точки, не замечая поэтической его стороны:
я его засажу за Евангелие, заставлю читать повесть об
Ироде и тому подобное». Но в процессе работы над тра-
гедией поэт образ Ирода ввел в сцену с Юродивым.
Для нас важно, что вследствие этого из официальных
церковных обрядов фигура библейского царя перешла
на площадь. Возможность включения евангельской ле-
генды об Ироде в площадное шалование юродивого обус-
ловлена закономерностями исторического развития на-
родной культуры. Историческое лицо — царь Ирод,
умерший в 4 году н. э., — в евангельском тексте транс-
формировался в соответствии с народными представле-
ниями о царе. Настоящий Ирод не был виновен в убие-
нии младенцев. Евангельский сюжет сконструировался
из нескольких наложившихся друг на друга архаических
представлений. Здесь представление об обреченном ца-
ре, стремящемся уничтожить предсказанного наследника
и убийцу; память о жертвоприношениях младенцев у
семитов-язычников; сравнительно позднее представле-
ние о необходимости этической мотивировки смены ца-
ря, отразившееся и в обвинении Бориса в злодеяниях,
которых он не совершал, но должен был совершить как
лжецарь.
Общей закономерностью развития народной культу-
ры является постепенное осмысление центрального обра-
за древнего обряда (тотема, духа плодородия, царя-
жреца и т. д.) как фигуры христианизированной или
связанной с историческими событиями. В Испании, на-
пример, это было карнавальное чучело, изображающее
вавилонскую блудницу, а с XVI века — Анну Болейн.
Известны случаи использования карнавальных форм
для дискредитации политических деятелей, обычно —
'претендентов на трон. В примечаниях к «Полтаве» Пуш-
кин цитирует «Журнал Петра Великого»: «Сильные ме-
ры, принятые Петром с обыкновенной его быстротой и
энергией, удержали Украйну в повиновении». 1708 нояб-
ря 7 числа, по указу государеву, казаки по обычаю
своему вольными голосами выбрали в гетманы полков-
ника Стародубског.9 Ивана Скоропадского,
104
8-го числа приехали в Глухов киевский, черниговский
и переяславский архиепископы.
А 9-го дня предали клятве Мазепу оные архиереи
публично; того же дня и персону (куклу. — С. А., Л. Р.)
оного изменника Мазепы вынесли и, сняв кавалерию
(которая на ту персону была надета с бантом), оную
персону бросили в палачевокие руки, которую палач,
взяв и прицепя за веревку, тащил по улице и по пло-
щади даже до виселицы, и потом повесили».
Одной из популярнейших персонификаций карна-
вального короля в Западной Европе был Ирод. Анало-
гичное бытование образа Ирода встречается и на Руси.
Самой популярной пьесой народного марионеточного
театра («вертеп») была пьеса «Царь Ирод». Н. И. Са-
вушкина приводит описание вертепного представления в
г. Глухове в 1849 г.: «Сначала представляют две кар-
тины из священной истории, из коих последняя допол-
нена вымыслами или фантазиями. Как-то: рождение в
яслях младенца-спасителя, к которому приходят на по-
клонение пастухи, а потом волхвы. Далее на сцене по-
является Ирод-царь, призывающий своих воинов, кото-
рым приказывает губить всех младенцев в Вифлеемской
стране. Тут приводят воины женщину, называемую Ра-
хиль, которая не позволяет убить своего младенца. Но
царь приказывает убить младенца, воины его закалы-
вают. Приходит Смерть, Ирод трепещет и встает 'перед
Смертью. Она сносит ему голову косою, набегают злые
духи и уносят его тело»12. Русский вертеп, по свидетель-
ству Н. И. Савушкиной, возник под влиянием аналогич-
ного украинского и белорусского театра, уже существо-
вавшего в XVII веке. Вертепные представления обычно
происходили на рождество и святки. Они были зафикси-
рованы в Пушкинскую эпоху в Смоленской и Псковской
губерниях. Н. И. Савушкина считает, что у истоков ку-
кольного театра, балагана, райка стояли скоморо-
хи. Неизвестно, был ли знаком Пушкин с пьесой
«Ирод-царь», но логика обращения его Юродивого с
образом Ирода та же, что и в этом народном произве-
дении. ,
В. Е. Гусев отмечал в качестве устойчивой тенденции
сокращение и «обмирщение» библейских сюжетов, вклю-
чавших тираноборческие мотивы13. Важно помнить, что
это «обмирщение» происходит в соответствии с формами
народной культуры, часто значительно более архаи-
105
ческими, чем евангелия. В народном театре евангельский
сюжет развивается дальше. Ирод. не только убивает
младенцев, .но и наказан за это Смертью. В пушкинской
сцене Николка поместил Ирода после смерти в ад, где
только и может встретиться с ним богородица. В верте-
пе очевидны не только рудименты внешних форм карна-
вальной игры в цари, но и их идеологический смысл.
Ирода убивают, но его смерть вызывает не страх, а
смех. Фраза Николки не вызывает смеха, она серьезна,
способна напугать зрителей.
Мнение юродивого — не мнение народа.' Народ ждет
смены царя, его «игра в цари» еще продолжается. У нее
пока нет конца, это< цепь убиений и воскрешений, ухо-
дов и возвращений. Для народа царь сакрален, утрата
сакральности отдельным человеком означает лишь пере-
дачу ее другому, достойнейшему. Юродивый лишает сак-
ральности не только Бориса, но и всякого царя, считая
ее прерогативой только бога. Николка исключает на-
дежду не только на воскрешение, но и на загробное
прощение, т. е. убивает «вовеки». Но, убивая Бориса
как человека, он как бы не помнит, что убивает царя.
«Игра в цари» существует, пока есть возможность
воскрешения. Если веру -в воскрешение уничтожить, то
умрет сама игра, а с ней и архаическая основа тради-
ционных отношений царя и народа. В трагедии Пушки-
на это происходит благодаря Юродивому, но ни он, ни
народ не осознают этого.
Пушкин понимал, чувствовал древнюю логику на-
родного сознания, хорошо,знал идеологичёские структу-
ры, порожденные ею, но эта логика уже не могла стать
основой его исторических воззрений по многим причи-
нам — прежде всего потому, что он обладал диалекти-
ческим складом мышления, для которого представление
об истории как цикле неприемлемо. Поэт увидел в
народе движущую силу истории, поэтому такое исклю-
чительное значение имели для него тенденции развития
народного сознания. Главная проблема трагедии — от-
ношения народа и царя — как важнейший аспект вклю-
чала в себя пути, средства окончательного развенчания
царя и его десакрализации. В таком культурном фено-
мене, как юродство, Пушкин мог обнаружить одну из
форм (может быть, тупиковую) этого процесса. Во вся-
ком случае, таково идейное наполнение образа Николки
в трагедии,
106
Идейное содержание сцены, поведения юродивого и
его реплик не сводится к аллегорическому изображению
политических событий пушкинской эпохи. «Уши», кото-
рые «торчат» из-под колпака Юродивого, — та идея,
которая может принадлежать только самому поэту и
хотя она и тесно связана с идейным наполнением этой
исторической фигуры, но не тождественна ему. Как уже
говорилось, в сцене с юродивым зафиксированы три
взаимосвязанные, но различные точки зрения на образ
царя и его функции — народа, юродивого и автора. Ав-
торской точкой зрения мы называем то объективное со-
держание сцены и всей трагедии, которое выясняется
на основании современных философских воззрений, ис-
торического опыта, знания некоторых особенностей эво-
люции стихийного народного сознания. Насколько этот
объективный смысл произведения понимал сам Пушкин,
биографический автор?
Мы уже говорили о тех особенностях пушкинского
мышления, которые позволяют предположить весьма зна-
чительную степень совпадения объективного смысла и
пушкинского осознания событий и образов пьесы. Проб-
лема взаимоотношений правящих и угнетенных, дворян-
ства и крестьянства, бесспорно, находилась в центре
философских, политических, исторических исканий эпохи
и ее наиболее яркого представителя — Пушкина. В сце-
не с юродивым воплощен очень своеобразный аспект
этой проблемы. Тендецция движения к трудно угадывае-
мому в будущем идейному результату оказалась выра-
женной через фигуру юродивого. Как известно, юроди-
вый — идеолог, занимающий промежуточное положение
между верхами и низами, между царем и народом, меж-
ду церковной и площадной культурой. Идея отрицания
царя, его особого социального положения, не могла за-
родиться в. ту эпоху ни в народном сознании, ни, тем
более, у представителей правящего класса. Весь ход раз-
вития действия в трагедии говорит о том, что одной из
главных тенденций общественного развития является
окончательное развенчание образа царя. Эта идея может
быть сформулирована только на материале сцены с Юро-
дивым, она объективно содержится в композиции этой
сцены, в поведении Николки. Как ^показала история, эта
идея и могла возникнуть только у представителей соци-
альных групп, промежуточных между властью и угне-
тенными народными марсами. А. М- Панченко высказал
107
принципиально важную мысль: «Среди юродивых были
не только душевно здоровые, но и интеллигентные люди.
Парадоксальное на первый взгляд сочетание этих слов —
«юродство» и «интеллигентность» — не должно нас сму-
щать. Юродство действительно могло быть одной из
форм интеллигентного и интеллектуального критициз-
ма»14. В поведении юродивого, в его мировоззрении, его
образе, сложившемся в народном сознании, есть черты,
которые роднят его с образом русского интеллигента,
сформировавшимся на протяжении XIX—XX веков в
том же общественном сознании.
Юродивый критикует людей, не взирая на их соци-
альное положение, с< точки зрения нравственности. Для
интеллигента центральными тоже всегда были нравст-
венные проблемы, в том числе когда они касались от-
ношений власти и народа.
Как интеллигент, так и юродивый, в силу промежу-
точности своего социального положения, не имеют клас-
совых интересов.
Интеллигенция, по-видимому, вместе с ориентацией
деятельности, унаследовала от юродивых фанатизм, ри-
горизм, некоторую экстатичность поведения, пренебре-
жение к материальным потребностям человека. '
Бессребреничество как один из идеалов русского ин-
теллигента восходит, вероятно, к аскетизму юродивого,
к его идее священной наготы. Сам по себе идеал бес-
сребреничества может выглядеть достаточно убедитель-
но, особенно если он сопрягается со стремлением к сво-
боде и духовной независимости, но как только аскетизм
объявляется нормой жизни для всего общества, как толь-
ко он начинает насаждаться с фанатическим упорством —
он перестает быть продуктивным и становится опасным.
Родившийся в среде интеллектуалов, этот идеал (как и
все идеи) претворяется в жизнь властителями, а не ин-
теллигенцией. Именно в среде интеллигенции возник-
ли— как альтернативные ценности — идейная широта,
мягкость, деликатность, терпимость к инакомыслию.
«Отчуждая себя от общества, надевая вериги юрод-
ства, подвижник как бы получает позволение обли-
чать, — пишет А. М. Панченко. — Но он не призывает
к переменам; его протест не имеет ничего общего с бун-
том, радикализмом или реформаторством. Юродивый не
посягает на социальный порядок, он обличает людей, а
не обстоятельства»15. Однако известно, что обществен'
108
нйй роль Юродивых резко возрастает в кризисные вре-
мена. А. М. Панченко отмечает, что в XVII веке, при
патриархе Никоне «юродивый перестал быть одиночкой,
он превратился в человека партии, примкнув к консер-
вативному течению»16. В отличие от юродивых, русская
интеллигенция в массе своей всегда была либеральна
и настроена прогрессивно.
Юродивому была чужда идея самоценности личности,
ради Христа он отказывался от собственной личности
(через отказ от разума), обрекая себя на унижения и
насмешки. Между тем именно интеллигенция сформиро-
вала в России идею самоценцости личности, уважения к
ней, идею, которая является единственной альтернативой
вечно идущей по кругу народной игре «в цари».
Часто говорят, что уважение и интерес к человечес-
кой личности заимствованы русской интеллигенцией на
Западе. И это в значительной степени верно. Однако сле-
дует заметить, что юродивый, отказываясь от своей лич-
ности, тем самым завоевывал для себя особый социаль-
ный статус человека «не от мира сего», единственного в
своем роде; он готовил почву для возникновения и уко-
ренения в России идеи самоценности человеческой лич-
ности.
ОБРАЗЫ АВАНТЮРИСТОВ В ТРАГЕДЙЙ
Общеизвестно, что Пушкин многократно обращался
к художественному анализу того -или иного социально
значимого человеческого типа. Более или мецее подроб-
но изучено «гнездо Онегина». К нему относят, кроме са-
мого Онегина, Кавказского пленника, Алеко, Клеопатру,
героя отрывка «Мы проводили вечер на даче». В этом
ряду образов художественно исследовано социальное яв-
ление, которое возникало в различные исторические эпо-
хи, топологически сходные в некоторых' своих чертах.
Появление Онегиных обусловлено определенными отно-
шениями личности и общества. В «Маленьких трагедиях»
четыре образа, в которых воплощены мировоззрение и
психологический тип эпохи Возрождения: Дон Гуан,
Лаура, Донна Анна из «Каменного гостя» и Джансон из
«Пира во время чумы»1. Не меньший интерес вызывал
у поэта тип авантюриста. В различных его произведени-
ях созданы образы людей, которым в той или иной мере
присуща эта черта характера. Это Борис Годунов, Гри-
горий Отрепьев и Марина Мнишек из трагедии «Борис
Годунов», Пугачев и Шва!брин из «Капитанской дочки»,
Мазепа и Мария Кочубей из «Полтавы», Германн из
«Пиковой дамы», Владимир Дубровский из одноимен-
ного романа и др. Нет почти ни одного крупного произ-
ведения Пушкина, где не было бы героя с авантюрным
началом. Сохранились свидетельства о том, что поэт со-
бирался вновь и вновь возвращаться к изображению это-
го человеческого типа в различные исторические эпохи.
(«Папесса Иоанна», «Влюбленный бес», «Повесть о
стрельце», «Роман на кавказских водах», «Гости съез-
жались на дачу»).
Отношение к авантюристу всегда было и остается
противоречивым. Авантюристы отличаются предприимчи-
востью, смелостью, неуемной любознательностью, без-
оглядной жаждой риска и приключений, но и бесприн-
110
ципностью, неразборчивостью в средствах достижений
цели, склонностью к плутовству и обману, даже к афе-
рам. Отношение к авантюристу всегда неоднозначно;
оценка конкретных действий авантюриста не всегда соот-
носится с их результатом, результат, в свою очередь,
с целью, цель со средствами, и, наконец, средства с
нормами морали. Прославляя отвагу и мужество море-
плавателей периода великих географических открытий,
человечество искренне забывает об их захватнических
целях, о жажде наживы, о жестокости. Очень зыбка,
неопределенна граница между жестоким конкистадором
и великим путешественником, покорителем новых земель.
Трудность в оценке авантюризма заключается в необ-
ходимости диалектического подхода к этому явлению в
каждом конкретном случае.
Авантюризм — явление, известное с глубокой древ-.
ности. Возникает вопрос: насколько оно связано с кар-
динальными основами человеческого бытия и сознания и,
значит, .насколько значительна его роль в жизни обще-
ства? Возникновение авантюризма неразрывно связано
с формированием и развитием личностного сознания.
Появление авантюриста, следовательно, возможно толь-
ко в уже сложившемся классовом обществе. Значит, аван-
тюризм — нечто совершенно новое, не имевшее преце-
дента в эпоху родового строя. Однако познание, осмыс-
ление авантюризма и оценка авантюриста стали проис-
ходить по мыслительной модели, возникшей еще на пре-
дыдущем этапе социального развития. Эта модель —
мифологический трикстер. Сходство между этими двумя
образами довольно очевидно.
Трикстер, тесно связанный с демиургом-первопред-
ком-культурным героем, выполняет некоторые его
функции, главной из которых является добывание пред-
метов культуры, навыков и умений. Для трикстера ха-
рактерна способность к оборотничеству, плутовство,
стремление обмануть, осмеять; он часто вор и обжора;
он не только насмешник, но и сам объект осмеяния; трю-
ки, которые он проделывает, часто, по словам Е. М. Ме-
летинского, выглядят «пародией на подлинные шаман-
ские деяния и акты творения»2. Однако «с помощью
трюка трикстер нередко добивается высоких культурных
целей»3. Трикстер всегда герой невзрачный, «низкий»,
но способный одержать победу, если его трюки направ-
лены на благо «своих». Но деяния его могут быть нап-
111
райлёнЫ и против социальных институтов пёрвобытногд
общества: это низменная невоздержанность, попытки
нарушения первобытнообщинной морали. Трюки, «веду-
щие к нарушению природных ii социальных норм»4,
обычно не удаются. Мифологический трикстер находит-
ся в постоянных странствиях, наполненных непреднаме-
ренными встречами, непрерывными проделками.
В фольклоре трикстерское начало обнаруживается в
животной, волшебной и авантюристической сказке. Фи-
гура трикстера возникла в мифе, т. е. она создана кол-
лективным сознанием в то время, когда личностное
Сознание еще не сформировалось. Однако в поведении
трикстера можно ндблюдать черты, характерные для
самостоятельной личности. Попытаемся это объяснить.
Уже наиболее ранние зооантропоморфные воплощения
первопредка-демиурга-культурнО'Го героя обладали трик-
стерским началом. Следовательно, можно предполо-
жить, что этот синкретический образ, будучи, по пред-
ставлениям первобытных людей, не только первым, но
и единственным, неизбежно должен был существовать
до коллектива и, значит, отдельно от коллектива и быть
как бы праличностью. Коллективное сознание задолго
до формирования личностного сознания создало его мо-
дель, в которой уже было заложено — как нечто значи-
мое — авантюрное начало. Ибо как еще назвать сотво-
рение мира, его заселение животными и людьми, добы-
вание огня и т. д. Уже в авантюрно-новеллистических
сказках ситуации трикстерских мифов окрашены соци-
ально. В них выступает человек авантюрного склада,
хотя это еще не индивидуализированный герой, а соци-
альная маска (ловкий вор, хитрый солдат, девушка-
травести, мудрая дева, выходящая замуж за правителя,
и т. д.).
Исторический, психологический и социальный ана-
лиз типа авантюриста — задача, которую на протяже-
нии столетий решала литература. Решала каждый раз
заново, в зависимости от особенностей исторической
эпохи, но всегда, сознательно или бессознательно, опи-
раясь на фольклорно-мифологическую традицию. Есть
в своем роде уникальное свидетельство того, что Пуш-
кин представлял себе эту традицию в ее целостности и
диалектической сложности. Авантюрист-самозванец,
предводитель народного восстания Емельян Пугачев
рассказал Петруше Гриневу калмыцкую сказку об орле
112
7*
й вороне. В романе эта сказка выглядит как притча;
аллегоричная по отношению к судьбе Пугачева. Между
тем эта животная сказка, созданная народом с более
архаичным уровнем сознания, чем у русских в конце
XVIII века, несет на себе явные следы трикстерского
мифа. У многих народов мира существует мифологиче-
ская оппозиция ворон—орел. И ворон, и орел обладают
чертами первопредка-демиурга-культурного героя. В
большинстве случаев при этом ворон несет в себе также’’
и черты трикстера. Культ орла, по свидетельству
Л. Я. Штернберга, особенно ярко прослеживается у
якутов, в мифологии которых, как пишет Е. М. Мелетин-
ский, «известную роль играет и ворон, но в качестве
темной силы: с вороном связываются черные шаманы,
а с орлом — белые, т. е. служители светлых небесных
богов»5. Текст о вороне и орле, использованный Пушки-
ным в «Капитанской дочке», восходит к трикстерскому
мифу о хитром вороне, который, угостившись хорошей,
качественной пищей орла, обманывает его, предлагая
взамен падаль и насмехается над ним. В процессе транс-
формации мифологический сюжет становится животной
сказкой. Пугачев использует эту сказку уже как прит-
чу, ибо дает ей аллегорическое толкование. Чтобы прев-
ратить сказку в притчу, он снимает момент обмана: его
ворон искренне хочет одарить орла долголетием.
Эпоха Пушкина — это время сложившихся капита-
листических отношений в странах Западной Европы и
появления явственно ощутимых признаков -формирова-
ния индивидуалистического сознания в русской дейст-
вительности. Именно в этом заключаются объективные
предпосылки столь обостренного интереса поэта к лич-
ности авантюриста, к его роли в общественной жизни
различных исторических эпох, а в силу этого и к приро-
де толкования образа авантюриста коллективным соз-
нанием.
Если систематизировать принципы оценки авантю-
ристов на протяжении истории человечества, то полу-
чится довольно интересная схема. Конечно, она не все-
объемлюща и не исчерпывает материал. Авантюристов
услов1но можно поделить .на две группы. К первой следу-
ет отнести тех, масштаб притязаний которых социально
высок, например самозванца. Деятельность таких аван-
тюристов может быть объективно прогрессивна, и тогда
они должны оцениваться положительно. Если же их
8-3103
ИЗ
деятельность объективно реакционна, тогда они Играют
в истории отрицательную роль. Однако в каждом кон-
кретном случае оценка современниками авантюристов
далеко не всегда объективна, так как зависит от мно-
жества различных факторов. Ко второй группе относят-
ся люди с относительно невысокими притязаниями (в
частности, достижение личного благополучия). Деятель-
ность этой группы авантюристов может быть либо симп-
томом объективно прогрессивных тенденций социальной
жизни (подготовляющаяся смена общественных форма-
ций, назревание новых общественных отношений и т. п.),
либо свидетельством или отражением реакционных яв-
лений. В зависимости от объективной направленности
деятельности авантюристов следовало бы их и оцени-
вать. Но в действительности Их общественная оценка
тоже зависит от целого ряда факторов и сама по себе
тоже отражает какие-то социальные явления или про-
цессы.
К авантюристам, чья деятельность объективно прог-
рессивна,’ а масштаб притязаний социально высок, от-
носятся Борис Годунов и Емельян Пугачев. К противо-
положной разновидности этого типа принадлежат Гри-
горий Отрепьев, Марина Мнишек, Швабрин, Мазепа.
Отражением или симптомом прогрессивных тенденций
общественного развития являются типические образы
Германна, Дубровского, Кавказского пленника, Марии
Кочубей. Авантюристов, являющихся выражением объ-
ективно-реакционных исторических явлений или тенден-
ций, нет в пушкинских произведениях. Авантюристы
такой модификации всегда оцениваются обществом од-
нозначно отрицательно и не содержат в себе диалекти-
ческой противоречивости. Во всех пушкинских произве-
дениях, где исследуется тип авантюриста, художествен-
ный и жизненный материал достаточно многообразен, а
диалектика действительности всегда четко обозначена.
Поэтому всегда возможно выяснение и объективной ро-
ли героя в историческом процессе, и выявление обуслов-
ленной эпохой его оценки народным сознанием.
В главном герое трагедии Борисе Годунове сначала
видят царя-избавителя, затем — лжецаря. Сначала
от него ждут сытой и счастливой жизни, справедливо-
сти и порядка. Затем наступает разочарование в резуль-
татах его деятельности, и в действие вступает архаиче-
ская диалектика взаимоотношений царя и народа, осу-
114
ЩёстйЛяётСЯ идей необходимой замены царя. Пока на-
род ждал осуществления своих надежд, он как бы ос-
тавлял в стороне, забывал авантюрную сторону деяний
Бориса, совершенных ради восшествия на престол — да-
же убиение царевича Димитрия было забыто до опре-
деленного времени6. Лишь с утратой веры в желание и
Возможности Бориса осуществить народные чаяния в
народной оценке этого человека на первый план вышел
его авантюризм.
В Борисе Годунове, несомненно, есть авантюрное на-
чало. В предсмертном монологе он говорит:
Я подданным рожден и умереть
Мне подданным во мраке б надлежало;
Но я достиг верховной власти... чем?
Не спрашивай...
Непрямые, нечестные, нарушающие сложившийся соци-
альный порядок пути достижения высшей власти и поз-
волили вскоре народу .увидеть в Годунове черты разру-
шителя, хитреца, плута, лже-царя (трикстера). Однако
в пушкинском образе преобладает другое. Он — госу-
дарственный деятель, выражающий прогрессивные тен-
денции своего времени. Идеал, к которому стремится
Борис, — это деятельность мудрого, просвященного мо-
нарха, справедливого, радеющего в первую очередь о
благе страны и благе подданных. Его честолюбивые
стремления (создание новой династии) в трагедии вто-
ростепенны. Даже преследуя сугубо личные цели, он
остается прогрессивным государственным деятелем. Он
готовит стране своего наследника, но стремится воспи-
тать в нем высокое понимание предназначения монарха
нового времени, мудрого правителя, образованного,
честного и чистого человека. Трагедия Бориса в том, что
эти его замыслы не могли осуществиться никогда, а
частично — лишь почти через сто лет, в петровскую
эпоху. Борис в последние месяцы жизни видел, как все
его начинания терпят крах. Он не только главный пер-
сонаж трагедии, но и единственный в ней трагический
герой. Трагедия его — в неразрешимости исторических
противоречий меЗкду его идеями и отсутствием общест-
венно-экономических условий для их осуществления в
России рубежа XVI—XVII веков.
Борис в трагедии подлинно велик, и это полностью
совпадает с авторским замыслом. Все мудрые государ-
ственные речи вложил в его уста Пушкин. Объективная
8*
115
Историческая значимость Годунова проявляется нё толь-
ко в его деяниях, но и осмыслена им, а значит, входит
в субъективный авторский замысел. Этому замыслу под-
чинена и вся композиция трагедии, отбор и расположе-
ние исторического материала. Следовательно, можно
уверенно говорить о том, что пушкинская оценка Бори-
са — царя-авантюриста — учитывает и его объективное
историческое значение, и сложность его народной оцен-
ки. Пушкин стремился показать различные точки зре-
ния и принципы оценки человека, и все они рассматри-
ваются в движении времени, в ходе исторического про-
цесса. <
Из трех фигур авантюристов в пушкинской трагедии
личность Бориса Годунова — самая крупная. Вторым
по масштабу представителем этого типа является Гри-
горий Отрепьев. Его притязания столь же велики, как
у Годунова, но ни о благе государства, ни о принципах
своего правления он не думает. Отрепьевым движет
чисто авантюрное стремление к риску, приключениям,
быстрому социальному возвышению любыми средства-
ми. В его деятельности явственно ощущается непроч-
ность, зыбкость успеха, которые он и сам, как кажется,
чувствует. Борис Годунов хочет и способен быть просве-
щенным монархом, Отрепьев лишь временами играет
эту роль — например, в 11-й и 14-й сценах («Краков.
Дом Вишневецкого» и «Граница Литовская»). Лжедмит-
рий в отличие от Годунова все время носит маску, игра-
ет роль — царевича Димитрия, возвращающегося изба-
вителя, просвещенного монарха. Григорий Отрепьев ли-
шен функции творца (даже вирши он перестал писать
после побега из монастыря), в нем сконцентрированы
лишь низшие трикстерские свойства: эгоизм, асоциаль-
ность, обман. Лжедмитрий и сам оценивает себя как
авантюриста, он трезво рассчитывает свои поступки, яс-
но сознает их эгоистические основы и цели. И в этом
его новизна в России XVII века. Однако порой Дмит-
рий срастается со своей ролью, чувствует себя цареви-
чем. В нем сказываются особенности очень сложного
сознания самозванца, живущего на грани позднего сред-
невековья и нового времени. Его авантюрные деяния ис-
ходят из уверенности в личной таинственной избранно-
сти. В знаменитом пророческом сне звучит и подсозна-
тельная фольклорная оценка Григорием себя и своей
еудьбы.
416
Народ сначала видит в Лжедмитрии законного царя-
избавителя, по праву возвращающегося «на царствен-
ный престол своих отцов». Однако в финале трагедии
это обманщик, самозванец, связанный с темными сила-
ми; он решительно осужден и отвергнут народом. За
пределами пьесы остался конец судьбы Отрепьева и
его авантюрного замысла, предсказанный и показан-
ный в вещем сне Григория.
Отношение Пушкина к Лжедмитрию находится в про-
тиворечии и с приговором народа, и с объективно-исто-
рической оценкой роли самозванца в судьбах Российско-
го государства. Поэт явно испытывает симпатию к свое-
му герою. Это обстоятельство отмечено уже давно. Объ-
яснение особого пристрастия поэта к Григорию почти
всегда основано на констатации положительных качеств
беглого инока: смелость, одаренность, острый ум и дерз-
кая отвага, т. е. лучшие черты типа авантюриста нра-
вятся Пушкину. Такое объяснение в целом правильно,
но нуждается в историческом уточнении и углублении.
Григорий Отрепьев — наиболее сложный из героев тра-
гедии. В нем соединены черты авантюриста, стремяще-
гося занять самое высокое в государстве положение, и
типичного молодого человека рубежа исторических
эпох в развитии России. Как самозванец Лжедмитрий
сыграл отрицательную роль в истории, а во второй своей
ипостаси — частного человека своего времени — явил-
ся выразителем прогрессивных исторических тенденций.
Рядом с Отрепьевым в трагедии показаны люди с
таким же, как у него, мировоззрением — Басманов и
Гаврила Пушкин, а московский дворянин Рожнов от-
носится к нему почти так же, как автор: «...и вор, а мо-
лодец». В. В. Кусков считает, что в героях бытовых
повестей XVII в. обобщены «черты молодого поколения,
стремящегося сбросить с себя гнет вековых традиций,
жить в полную меру своих удалых молодецких сил».
В образе Фролки Скобеева, наиболее близкого Орепье-
ву, Басманову и Гавриле Пушкину, отразилось «начало
процесса слияния бояр-вотчинников и служилого дво-
рянства в единое дворянское сословие, процесс возвы-
шения новой знати из дьяков и подъячих, приход «ху-
дородных» на смену «стародавних, честных родов»7.
В повестях о Савве Грудцыне и Горе-злочастии личная
судьба героев пресонифицируется в образах Горя и бе-
са8. Эти образы обусловливают и объясняют необычное
117
для средневекового сознания авантюрное поведение ге-
роев. В повестях о молодом человеке отразилось форми-
рование новой, прогрессивной личности переходной эпо-
хи с ее плохо осознанными порывами, часто бесплодны-
ми поисками нового, авантюрного поведения. Художест-
венный прием бытовых повестей XVII века — персони-
фикация личной судьбы героя — был использован Пуш-
киным в исключенной из печатной редакции сцене «Ог-
рада монастырская» в образе Злого чернеца®. Однако в
наиболее поздней из повестей о поисках удачи молодой
авантюрист XVII века Фрол Скобеев «не надеется ни
на бога, ни на дьявола, а только на свою энергию, ум
и житейский практицизм... Поступки человека определя-
ются не волею божества, беса, а его личными качест-
вами и сообразуются строго с теми обстоятельствами,
в которых этот человек действует... Таким образом,
судьба героев повести отражает характерные общест-
венные и бытовые явления конца XVII века: нарожде-
ние новой знати и разрушение старого, традиционного
бытового уклада»10. В начале XVII века эти явления
только зарождались, но Басманов и Гаврила Пушкин
ставят перед собой ту же цель и столь же неразборчи-
вы в средствах ее достижения, как и Фролка Скобеев.
Рожнов передает мнение об Отрепьеве, сложивше-
еся в дворянском ополчении, и в нем, как и в оценке
автором повести XVII века своего героя, Фрола Скобе-
ева, нет места для дьявола, беса и вообще магической
силы. Сами эти дворяне и Рожнов еще не испытывают
потребности вступить на путь авантюрных деяний, но
уже сочувствуют авантюристу и освобождаются от сред-
невековых представлений о жизненных ценностях и пу-
тях их достижения.
В трагедии отчетливо изображена политическая по-
зиция всех социальных сил в начале Смутного времени.
Борис Годунов, стремящийся к утверждению абсолют-
ной власти монарха и даже уже определивший для себя
идеал просвещенного монарха. В оппозиции к нему на-
ходятся представители старинных боярских родов: Во-
ротынский, Шуйский и Афанасий Пушкин. Эти люди
исходят из желания вернуть старые порядки, наследие
феодальной раздробленности. Это реакционная оппози-
ция. Оппозиционность Басманова другого типа. Перво-
начально этот дворянин горячо поддерживает Годуно-
ва, возвысившего его за ум и полководческие таланты.
118
Он с восторгом приветствует намерения Годунова унич-
тожить местничество. Басманов уверен,что такая ре-
форма даст ему возможность достичь высокого поло-
жения в государстве, может бйть, даже стать преемни-
ком Годунова:
................Какое
Мне поприще откроется, когда
Он сломит рог боярству родовому!
Соперников во брани я не знаю;
У царского престола стану первый...
И может быть...
Для таких как Отрепьев, Басманов, Гаврила Пушкин,
воцарение Бориса является политическим прецедентом,
доказательством того, что на троне может оказаться
худородный дворянин. Само по себе воцарение Годуно-
ва стало одной из причин дерзкого замысла Отрепьева.
Если у Лжедмитрия и Басманова возвышение «зятя
Малюты» рождало надежду на обладание царской ко-
роной, то Гаврила Пушкин, активный сторонник и эмис-
сар Отрепьева, надеется заполучить в его лице своего,
дворянского царя, который обеспечит главенство в го-
сударстве формирующегося класса дворянства. Истори-
ческий Гаврила Пушкин сумел сыграть заметную роль
в событиях смутного времени и был действительно «ге-
роем своего времени». Пушкин писал о нем: «Он был
очень талантлив — как воин, как придворный и в осо-
бенности как заговорщик. Это он и Плещеев своей не-
слыханной дерзостью обеспечили успех Самозванца.
Затем я снова нашел его в Москве в числе семи началь-
ников, защищавших ее в 1612 году, потом в 1616 году
заседающим в Думе рядом с Козьмой Мининым, потом
воеводой в Нижнем, потом среди выборных людей, вен-
чавших на царство Романова, потом послом. Он был
всем, чем угодно, даже поджигателем...» Разница в от-
ношении Басманова, и Гаврилы Пушкина к Годунову
определяется половинчатостью его деятельности. Царь
приблизил к себе худородного Басманова за его полко-
водческий талант, но об уничтожении боярских приви-
легий он еще только мечтает, и Гаврила Пушкин не
видит для себя возможности возвыситься при дворе
Бориса. Своим воцарением Годунов вызвал опасения и
недовольство у бояр, но и дворянским царем не стал.
Поэтому после смерти Бориса и Басманов перешел на
119
сторону Лжедмитрия, в котором дворянская оппозиция
чувствовала если не своего лидера, то своего человека.
Дворянство формировалось как господствующий
класс, группирующийся вокруг абсолютного монарха,
и Пушкин это показал, как и то, что поражение Бориса
Годунова неминуемо, так как против него были старая
боярская и нарождающаяся дворянская оппозиция, а
потом и народ. Получилось, что Борис не мог в полной
мере довериться сословиям феодалов. Хотя они внешне
в большинстве своем сплотились вокруг него в противо-
борстве со стихийным народным движением, на гребне
которого стремительно двигался к трону первый рус-
ский самозванец, дю внутренне готовы были к измене.
Лишь немногие феодалы с самого начала, как Гаврила
Пушкин, поддерживали Отрепьева, но его успехи умно-
жили число его приверженцев среди дворян. Бояре же,
и прежде всего Василий Шуйский, стремились использо-
вать свержение династии Годуновых в своих интересах.
Пушкин показал также, что дворянское ополчение, не-
смотря на известные симпатии к Отрепьеву, долго было
на стороне Годуновых. Измена Басманова знаменовала
новый этап смуты. После разговора с Пушкиным, трез-
во оценивая всю сложность обстановки, Басманов раз-
мышляет:
Он прав, он прав; везде измена зреет —
Что делать мне? Ужели буду ждать,
Чтоб и меня бунтовщики связали
И выдали Отрепьеву? не лучше ль
Предупредить разрыв потока бурный
И самому... Но изменить присяге!
Но заслужить бесчестье в род и род!
Сложные исторические процессы Пушкин показал
в нескольких образах, каждый из которых воплощает
в себе определенные явления и стороны этих процессов.
Борис Годунов, Воротынский, Шуйский, Отрепьев, Бас-
манов, Гаврила Пушкин,. Голицын, Мосальский, Молча-
нов, Шерефединов — это все реально существовавшие
люди того времени, чрезвычайно характерные для эпо-
хи. Однако поэту понадобился еще один вымышленный
герой, боярин из рода Пушкиных —• Афанасий Михай-
лович. Зачем? Некоторые пушкиноведы вполне серьезно
видят в этом проявление склонности поэта гордиться
своим шестисотлетним дворянством, участием мятежно-
го рода Пушкиных в крупных событиях истории Рос-
120
сии. По большей части, однако, фигура Афанасия Ми-
хайловича Пушкина совсем не привлекает внимания ис-
следователей трагедии. Между тем с помощью этого
образа поэту удалось показать важное явление — рас-
слоение русского феодального сословия, которое окон-
чательно завершилось при Петре I. Представитель стар-
шего поколения рода Пушкиных на стороне боярской
оппозиции. Именно Афанасий Михайлович Пушкин наи-
более четко сформулировал главную причину недоволь-
ства бояр Годуновым: в нем видят наследника Грозного.
Прозвучавшая из уст Афанасия Пушкина боярская оцен-
ка деятельности царя Бориса исторически верна. Сов-
ременный историк Р. Г. Скрынников пишет: «В правле-
ние Бориса Годунова в судьбах России произошел кру-
той перелом. Фактический преемник Грозного, Годунов
расширил и упрочил дворянские привилегии»11.
Дядя и племянник Пушкины представляют собой
противоположные группы расслаивающегося сословия
феодалов. Оба они недовольны царствованием Годуно-
ва, но, как уже было сказано, по разным причинам.
Одни и те же события заставляют дядю и племянника
питать различные надежды,,строить разные, планы. Ес-
ли бы Афанасий Михайлович был реальным лицом, то
через несколько месяцев он должен был бы всемерно
содействовать свержению Лжедмитрия и воцарению
Василия Шуйского. Пока еще дядя в хороших отноше-
ниях с племянником, регулярно получает от него важные
политические новости, но пройдет еще совсем немного
времени, и они станут противниками. Водораздел между
старым и новым, боярской оппозицией и формирующей-
ся новой политической силой, дворянством, проходит
внутри одного рода.
События Смутного времени вызвали огромный ин-
терес в странах Западной Европы. Образы Бориса Го-
дунова и особенно Юрия (Григория) Отрепьева стали
центральными в различных вариантах сюжета о борьбе
за царскую власть, как правило, окрашенных трагиче-
ски. В большинстве произведений о первом Лжедмитрии
так или иначе изображалась Марина Мнишек. Однако
ее образ, если и разрабатывался, то лишь как объект
страсти Димитрия или действующее лицо в любовной
интриге12. Ни один из западноевропейских писателей
не ставил своей целью изображение характера Марины
как исторического женского типа. М. П. Алексеев по-
121
казал влияние трагедии Пушкина на европейскую дра-
матургию послепушкинской эпохи, но, несмотря на это
влияние, в пьесе Жюля Ф*** «Минута всемогущества»
Марина обращается к убийцам Самозванца так:
«А знаете ли вы его имя, — вы, которые называете его
обманщиком? Его имя — справедливость. Его имя —
свет. Его имя — свобода... Вы убили его тело, но бес-
смертный дух его переживет века и, неодолимо могуще-
ственный, возвратится для довершения начатого им де-
ла»13. Только в трагедии Пушкина встречается социаль-
но-исторический подход к изображению характера Ма-
рины Мнишек. Однако в пушкиноведении ее образу,
как правило, лцбо совсем не уделяют внимания, либо
ограничиваются констатацией ее честолюбия и эгоизма.
Но Марина появляется в трагедии не столько для того,
чтобы оттенить характер Дмитрия, а как женский тип,
интересовавший Пушкина сам по себе. Первоначально
поэта, по его собственному признанию, «прельщала
мысль о трагедии без любовной интриги». Еще в июле
1825 года, когда уже были написаны первые десять
сцен, Пушкин в письме к Н. Н. Раевскому высказал сле-
дующее наблюдение: «...у женщин нет характера, у них
бывают страсти в молодости; вот почему так легко изо-
бражать их». Эта мысль, вероятно, была основана на
опыте мировой литературы предшествующих эпох и его
времени. Показательно, что, например, в русскую лю-
бовную лирику изображение женского характера приш-
ло лишь в середине XIX века (поэзия Ф. И. Тютчева,
Н. А. Некрасова). Даже в процессе работы (парал-
лельно с трагедией «Борис Годунов») над романом
«Евгений Онегин», поэт не сразу осознал, что изобра-
жает именно женский характер в образе Татьяны Лари-
ной. Об этом свидетельствует знаменитая фраза Пуш-
кина по поводу того, «какую штуку удрала» с ним Тать-
яна, выйдя замуж, — он от нее этого не ожидал. Здесь
сквозит изумление, вызванное самостоятельностью ге-
роини, ее поведением в соответствии со своим, уже соз-
данным писателем характером. В сентябре 1825 года
Пушкин писал Вяземскому: «Моя Марина славная ба-
ба: настоящая Катерина Орлова! знаешь ее?» Около
7 ноября, когда трагедия была-только что закончена,
о Марине в письме к тому же Вяземскому сказано:
«...она полька, и собою преизрядна (вроде Катерины
Орловой, сказывал это я тебе?)». Следовательно, осенью
122
1825 года образ. Марины Мнишек уже сложился в соз-
нании и трагедии Пушкина именно как женский харак-
тер, похожий, к тому же, на характер его современницы
Екатерины Орловой. В 1829 году, собираясь издать тра-
гедию и размышляя над предисловием к ней, Пушкин
писал: «...не говоря уже о том, что любовь весьма под-
ходит к романтическому и страстному характеру моего
авантюриста, я заставил Дмитрия влюбиться в Марину,
чтобы лучше оттенить ее необычный характер. У Ка-
рамзина 'он лишь бегло очерчен. Но, конечно, это была
странная красавица. У нее была только одна- страсть:
честолюбие, но до такой степени сильное' и бешеное, что
трудно себе представить. Посмотрите, как она, вкусив
царской власти, опьяненная несбыточной мечтой, отда-
ется одному проходимцу за другим, деля то отврати-
тельное ложе жида, то палатку казака, всегда готовая
отдаться каждому, кто только может дать ей слабую
надежду на более уже не существующий трон. Посмот-
рите, как она смело переносит войну, нищету, позор, в
то же время ведет переговоры, с польским королем как
коронованная особа с равным себе, и жалко кончает
свое столь бурное и необычайное существование. Я уде-
лил ей только одну сцену, но я еще вернусь к ней, если
бог продлит мою жизнь. Она волнует меня как страсть.
Она ужас до чего полька...»
Здесь Пушкин говорит о страсти как центральном,
огранизующем аспекте характера сложного и противо-
речивого, национально исторически типичного. Об этой
странной красавице действительно очень мало известно.
Даже о тех чувствах, которые привели Димитрия и Ма-
рину к браку, нельзя говорить с достаточной долей уве-
ренности. Поэтому Пушкин и пишет, что «заставил»
Димитрия полюбить Марину. Он реконструирует харак-
тер этой женщины, опираясь не только на исторические
данные о ней, но и на проявление исторических законо-
мерностей, культурно-национальных особенностей.
Если включать Марину в ту схему типов авантюрис-
та, о которой говорилось выше, то очевидно следующее:
притязания ее высоки — дочь польского почти разорен-
ного магната мечтает стать русской царицей; деятель-
ность ее сугубо эгоистична; историческая роль ничтож-
на, она только игрушка, марионетка в истории. Поэто-
му историческая ее оценка негативна, в том числе и в
трагедии. В то же время Марина изображена как чело-
123
век другого, чужеродного по отношению к России, за-
падноевропейского типа культуры14. В отличие от рус-
ских женщин той эпохи Марине присущи чрезвычайно
развитое личностное -сознание, в структуре польского
общества рубежа XVI—XVII веков она обладает другим
положением, нежели русская боярышня. Она активно
устраивает личную судьбу, она уверена в том, что ее
жизнь в ее власти:
Мнишек
А какова, скажи, моя Марина?
Я только ей промолвил: Ну, смотри!
Не упускай Димитрия!., и вот
Все кончено. Уж он р ее сетях.
Сама Марина говорит Отрепьеву:
.............я решилась
С твоей судьбой, и бурной, и неверной,
Соединить судьбу мою; то вправе
Я требовать, Димитрий, одного:
Я требую, чтоб ты души своей
Мне тайные открыл теперь надежды,
Намеренья и даже опасенья —
Чтоб об руку с тобой могла я смело
Пуститься в жизнь — не с детской слепотой,
Не как раба желаний легких мужа,
Наложница безмолвная твоя —
Но как тебя достойная супруга,
Помощница Московского царя.
В этих словах проявляется не только честолюбие Мари-
ны, но и ее отказ от той роли, которую играла тогда
русская женщина, даже царица. Марина чувствует себя
хозяйкой бала, она непринужденна и смела в общении
с мужчинами, «у ног своих видала... рыцарей и графов
благородных», т. е. занимает то место в обществе, на
которое с помощью административных мер стремился
поставить русскую дворянку Петр I. Но чувство собст-
венного достоинства у пушкинской героини сопряжено
с желанием повелевать мужчиной, требование рыцар-
ского поклонения легко может смениться спесивым
стремлением унизить его, как только выяснится, что он
стоит ниже нее на социальной лестнице. На клятвы
Самозванца Марина язвительно отвечает:
Клянешься ты! итак, должна я верить —
О, верю я! — но чем, нельзя ль узнать,
Клянешься ты? не именем ли бога,
124
Как набожный приимыш езуитов?
Иль честию, как витязь благородный,
Иль, может быть, единым царским словом*
Как царский сын? не так ли? говори.
В то же время она продемонстрировала сильный и глу-
бокий ум, поразительную зрелость суждений, учитывая
ее юный возраст:
...Ты медлишь — и меж тем
Приверженность твоих клевретов стынет,
Час от часу опасность и труды
Становятся опасней и труднее,
Уж носятся сомнительные слухи,
Уж новизна сменяет новизну;
А Годунов свои приемлет меры...
................не забывай
Высокого, святого назначенья:
Тебе твой сан дороже должен быть
Всех радостей, всех обольщений жизни,
Его ни с чем не можешь ты равнять.
Не юноше кипящему, безумно
Плененному моею красотой,
Знай: отдаю торжественно я руку
Наследнику Московского престола,
Царевичу, спасенному судьбой.
Стремясь изобразить в Марине польскую аристократку
XVII (века, Пушкин был уверен, что она была красави-
цей. Поэт опирается на традиционное представление о
польских женщинах, хотя историческая Марина облада-
ла весьма заурядной наружностью15. Так, например,
баллада «Будрыс и его сыновья», являющаяся перево-
дом из Мицкевича, построена на безусловной уверен-
ности в красоте польских девушек:
Нет на свете царицы краше польской девицы.
Весела — что котенок у печки —
И как роза румяна, а бела, что сметана;
Очи светятся будто две свечки!
Это стихотворение написано в один день с балладой
«Воевода», которая тоже была вольной переработкой
баллады Мицкевича «Дозор». В балладе «Воевода» вос-
произведена внешняя обстановка сцены «Ночь. Сад.
Фонтан». Любовное свидание происходит ночью, в саду
«на скамейке у фонтана, в белом платье... панна и муж-
чина перед ней». Благодаря дружбе с Мицкевичем Пуш-
кин мог понять и почувствовать многие специфические
черты польской культуры. Известно также, что поэт
125
был близко знаком со знатными польскими жёнщинаМй
своего времени, представительницами семейств Потоц-
ких, Браницких и др. Польская девушка уже была ге-
роиней южной поэмы «Бахчисарайский фонтан», где
Пушкин попытался показать столкновение двух типов
культуры — и тоже через женские характеры польки
Марии и грузинки Заремы, воспитанной в ханёком га-
реме. Следовательно, его знание женского польского
характера должно было быть достаточно глубоким. Од-
нако в качестве прототипа Марины Мнишек он назы-
вал только русскую аристократку Екатерину Орлову.
Видимо, не только изображение особенностей польско-
го колорита в образе Марины было важным для поэта.
Его прежде всего интересовало одно из направлений,
по которому шло развитие личностного начала в жен-
щине, а также зреющее в женском сознании стремле-
ние к изменению своего общественного статуса. Русской
действительности XVII века такие характеры неизвест-
ны,но Пушкин увидел отдельные черты Марины Мни-
шек в своей современнице Екатерине Орловой, кото-
рую в одном из писем сравнивал с Марфой Посадни-
цей.
И Борис Годунов, и Григорий Отрепьев в трагедии
показаны и в народном понимании и оценке. Только
Марина в пушкинском тексте народом никак не оцени-
вается. Однако оценка Марины Мнишек, сохраненная
народной исторической песней, была известна Пушкину.
В сборнике Кирши Данилова содержится историческая
песня, в которой рядом с Лжедмитрием присутствует
«зла еретница, безбожница Маринка». В исторически
правильной негативной народной оценке Марины есть
ряд особенностей. Будучи не в состоянии осмыслить и
оценить новый, невиданный на Руси женский характер
с помощью мыслительных категорий нового времени, на-
родное сознание прибегло к фольклорно-мифологиче-
ской традиции. Мир, из которого явилась молодая ца-
рица, осмысливается как иной, кромешный мир. В Мос-
кве она вместе с мужем продолжает жить по законам
своего мира: в пост едят скоромное, свадьбу устраивают
«накануне Николина дня», вместо церкви отправляют-
ся в баню. Маринка — злая волшебница, колдунья:
А злая его жена, Маринка безбожница,
Сорокою обвернулася
И из палат вон она вылетела.
126
Йвод к текст трагедии этого фольклорного материала
оказался для Пушкина ненужным с точки зрения идей-
ного содержания образа Марины и с точки зрения ком-
позиции и развития действия в трагедии. Для Пушкина
Марина Мнишек, с ее одаренностью, энергией, самостоя-
тельностью, используемыми лишь в эгоистических це-
лях, — предвестник исторической тенденции в развитии
типа международного авантюриста в последующие века.
Система персонажей трагедии насыщена различными
воплощениями типа авантюриста. И это исторически
закономерно: начинался «бунташный» XVII век, пере-
ходная эпоха в истории России, и авантюризм для это-
го времени — характерное явление. Архаической осно-
вой типа авантюриста является образ трикстера — как
уже говорилось,» сочетающего в себе идею созидания
(демиург) и разрушения (ложь, обман, эгоизм). Про-
порция в соотношении этих двух начал определяет исто-
рическое и социальное значение любого конкретного
образа авантюриста. В применении к трагедии Пушки-
на эта закономерность проявляется так: в Борисе явно
преобладают черты демиурга, что определяет его объек-
тивное историческое значение;' в образе Лжедмитрия
созидательное начало более характеризует его челове-
ческий и социальный тип в контексте эпохи (рядом с
ним можно поставить Басманова и Гаврилу Пушкина),
нежели содержание его индивидуальных устремлений
к царской власти. В этом персонаже создан новый для
России тип авантюриста — самозванец.
Если в Борисе Годунове и Григории Отрепьеве есть
исторически прогрессивные тенденции (в Годунове —
стремление к деятельности просвещенного монарха, в
Григории — попытка преодоления сословных барьеров
в конце средневековья), то Марина Мнишек лишена
черт творца, в ней авантюрное начало ограничено эго-
истической целью и трикстерской неразборчивостью в
средствах ее достижения. Оторванность Марины от на-
родной традиции, ее крайний индивидуализм и в пол-
ном отсутствии в ее сознании пережитков фольклорно-
мифологического мышления. Уродливые формы разви-
тия личностного сознания, зафиксированные Пушкиным
в образе Марины Мнишек, — предвестие буржуазного
авантюризма. Путь от нее ведет через, Швабрина к
Германну.
127
«ЬОРИС ГОДУЙОЙ»
Й «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
Основная тема трагедии — роль «мнения народного»,
в историческом процессе. Народное восстание в ней —
одна из форм проявления политических симпатий и ан-
типатий народа. Несмотря на то, что народное движе-
ние начала XVII века приняло в конце концов харак-
тер крестьянской войны, объективно было антифеодаль-
ным, оно все же не обладало столь определенной ан-
тидворянской классовой направленностью, как кресть-
янская война под предводительством Пугачева в
конце XVIII века. И это отразилось в произведениях
Пушкина.
Будучи тематически очень близкими, «Борис Году-
нов» и «Капитанская дочка», тем не менее, существен-
но различаются в сфере проблематики. Главная для тра-
гедии проблема взаимоотношений царя и народа в ро-
мане отходит на задний план, зато еще складывавший-
ся на рубеже XVI—XVII веков антагонизм народных ни-
зов и формирующегося дворянства; почти не нашедший
отражения в «Борисе Годунове», к концу XVIII века
стал чрезвычайно актуальным, и поэтому занял первен-
ствующее положение в проблематике «Капитанской доч-
ки». Многие исследователи отмечали отразившийся в
романе острый интерес Пушкина к политически и исто-
рически очень важному аспекту этой проблемы — воз-
можности участия и роли дворянина в крестьянском вос-
стании. Этот вопрос поэт рассматривал одновременно в
целом ряде произведений, что убедительно показано в
книге Н. Н. Петруниной и Г. М. Фридлендера «Над стра-
ницами Пушкина» (Л-, 1974). Следует подчеркнуть, что
сама постановка проблемы у Пушкина была безуслов-
но не только новаторской, но и чрезвычайно прогрес-
сивной. В сущности, в «Капитанской дочке» речь идет
об условиях перехода дворянина на сторону восставше-
го народа, преодоления дворянином той пропасти, ко-
128 8*
торая образовалась к этому времени между двумя ос-
новными классами России.
Наряду и в связи с этой главной проблемой романа
в нем разрабатываются на новом историческом материа-
ле темы самозванчества и авантюризма. Глубокая идей-
ная близость трагедии и романа бесспорна. Роднит про-
изведения также состав персонажей: восставший народ,
царь'(царица), самозванцы, дворяне-авантюристы. Если
в трагедии типичные черты русского молодого человека
определенной исторической эпохи — одна ипостась
Григория Отрепьева, то в романе художественному ис-
следованию этого типа целиком посвящен образ Петра
Гринева. Но время действия «Капитанской дочки» от-
стоит почти на 200 лет от событий «Бориса Годунова».
Поэтому появляется возможность изображения и изу-
чения одних и тех же исторических процессов в разные
эпохи — возможность, Пушкиным глубоко осознававшая-
ся и всесторонне использованная.
Два героя-дворянина противопоставлены в романе, и
это отражает расслоение дворянства в екатерининскую
эпоху. «Царствование Екатерины II, — писал Пуш-
кин, — имело новое и сильное влияние на политическое
и нравственное состояние России. Возведенная на прес-
тол заговором нескольких мятежников, она обогатила
их на счет народа и унизила беспокойное наше дворян-
ство... не нужно было ни ума, ни заслуг, ни талантов
для достижения второго места в государстве... со време-
нем история оценит влияние ее царствования на нравы».
В романе содержатся сведения о пращуре, дяде и
отце Петра Гринева, благодаря которым становятся
ясны исторические истоки мировоззрения и нравствен-
ных основ его характера. Пращур его «умер на Лобном
месте, отстаивая то, что почитал святынею своей совес-
ти»; дед «пострадал вместе с Волынским и Хрущовым»
в царствование Анны Иоанновны; отец в «молодости
своей служил при графе Минихё и вышел в отставку
премьер-майором в 17.. году». Петруша Гринев принад-
лежит к старинному дворянскому роду, представители
которого участвовали в важных событиях политической
истории страны. В рукописи романа Пушкин поставил
точную дату отставки Андрея Петровича Гринева —
1762 год, когда «несколько мятежников возвели на
престол» Екатерину II, и он, «как Миних, верен остал-
ся паденью третьего Петра». Писатель отказался от
9-3103 129
этой даты, так как она противоречила хройологйи йб-
следующих событий романа. Родившийся и выросший в
Симбирской деревне после отставки отца, что сильно
повлияло на формирование его личности, Петруша Гри-
нев к 1772 году достиг 16-летнего возраста и, следова-
тельно, появился на свет в 1756 году. Если бы его отец
находился в годы детства Петруши на службе, то
юноша получил бы совсем другое воспитание, в другой
среде, оказался бы ближе к типу личности Швабрина,
чем диктовалось творческим замыслом. И все же в на-
чале романа Пушкин с помощью одной точной детали
подчеркивает, что А. П. Гринев недоволен тем, что про-
исходит при дворе и в армии после Екатерининского
переворота. Батюшка героя ежегодно получал «При-
дворный календарь». «Эта книга имела всегда сильное
на него влияние: никогда не перечитывал он ее без осо-
бенного участия, и чтение это производило в нем всег-
да удивительное волнение желчи... Итак, батюшка чи-
тал «Придворный календарь», изредка пожимая плеча-
ми и повторяя вполголоса: «Генерал-поручик!.. Он у
меня в роте был сержантам!.. Обоих российских орде-
нов кавалер!.. А давно ли мы...» Уже в эпиграфе к пер-
вой главе Пушкин связывает противопоставление армии
и гвардии с отцом Петруши Гринева. Ответ на вопрос:
«Да кто его отец?» — во многом определяет и личность,
и судьбу героя.
Андрей Петрович Гринев обрисован в романе доста-
точно полно. Это скорый на решения, суровый, вспыль-
чивый, но житейски мудрый и добрый человек. Самой
главной чертой Гринева-отца было высокое понимание
дворянской чести как исполнения своего долга, верности
присяге, верности своему классу. Кроме того, в это по-
нятие входило требование вести нравственно-здоровый
образ жизни. Прощаясь с сыном, старик Гринев сказал:
«Служи верно, кому присягнешь: слушайся начальни-
ков; за их лаской не гоняйся; на службу не напраши-
вайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу:
Береги платье снову, а честь смолоду». Он отправляет
сына туда, где нельзя будет «мотать да повесничать».
Это прощальное напутствие очень похоже на родитель-
ские наставления, которыми напутствовал сына, поки-
давшего родной дом, персонаж одной из бытовых по-
вестей XVII века. Советы Андрея Петровича соответ-
ствуют бытовой обстановке последней:трети XVII века,
130
нравственный их смысл остался прежнйм: поМнить «своё
место среднее», «не водиться с костарями и корчемни-
ками», «не засматриваться на красных жен». Почти так
же напутствовал своего сына и пращур Гриневых.
Дед Гринева-младшего родился еще при Петре I и,
вероятнее всего, был назван в его честь, внук получил
имя и в честь деда, и в честь Петра I, и, возможно, в
честь наследника престола, будущего Петра III. В на-
броске введения к роману Петр Андреевич Гринев, бу-
дучи уже в преклонном возрасте, обращается к своему
внуку, которого тоже зовут Петруша: «...ты уродился...
в дедушку, и по-моему, это еще не беда». Третий Петр
Гринев — представитель того поколения молодых дво-
рян, которое участвовало в Отечественной войне 1812 г.
и дало декабристов.
Дав сыну столь значимое и ставшее уже семейным
имя, Андрей Петрович воспитал его в соответствии со
своим мировоззрением и готовил ему судьбу типичного
дворянина елизаветинской эпохи, в которую были силь-
ны традиции времен Петра Великого. Еще до своего
рождения Петруша был записан в Семеновский гвар-
дейский полк сержантом. Изменение планов Гринева-
отца произошло явно в связи с дворцовым переворотом
1762 года, главную роль в котором ипрали гвардейцы.
Отец героя должен был хорошо представлять себе гвар-
дейские нравы и порядки после 1762 года из писем близ-
кого родственника, старшего офицера гвардейского Се-
меновского полка князя Б. Андрей Петрович говорит о
развращенности гвардейцев, умалчивая перед женой и
сыном о своем понимании политической основы этой
развращенности.
Многократно отмечалось, что детство Петруши Гри-
нева было подобно детству Митрофанушки Фонвизина.
Учитель Петруши «мусье Бопре» «в отечестве своем
был парикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом
приехал в Россию» учителем, «не очень понимая зна-
чение этого слова». Бопре, как кажется, столь же не-
способен обучить Петрушу «по-французски, по-немецки
и всем наукам», как и учителя Митрофанушки. Пушкин-
ский и фонвизннский персонажи в равной мере прояв-
ляют пренебрежение К географии, и тот и другой боль-
шие охотники погонять голубей. Учитель Петруши был
изгнан после того, ка*к мальчик из географической кар-
ты, висевшей без применения, сделал змея. Про свое
9*
131
времяпрепровождение после отъезда Ьопре Петруша
говорит: «Я жил недорослем, гоняя голубей и играя р
чехарду с дворовыми мальчишками. Некоторые живые
подробности образа недоросля Митрофанушки Д. И. Фон-
визин заимствовал из своих воспоминаний об универси-
тетской гимназии. Если Митрофанушка вообще не слы-
шал о географии, то его мать уверена, что она и не
нужна: «Да извозчики-то на что ж? Это их дело. Это-
таки и наука-то нё дворянская». В «Чистосердечном
признании о делах моих и помышлениях» Фонвизин
вспоминал свой экзамен по географии: «Товарищ мой
спрошен был: куда течет .Волга? В Черное море, отве-
чал он; спросили о том же другого моего товарища:
в Белое, отвечад тот; сей же вопрос сделан был мне:
не знаю, сказал я с таким видом простодушия, что эк-
заменаторы единогласно мне медаль присудили»1. У Ми-
трофанушки, кроме самого автора, был еще один про-
образ' — Алеша Оленин. Но ведь писатель Д. И. Фон-
визин и президент Академии художеств, директор Пуб-
личной библиотеки А. Н. Оленин стали образованней-
шими людьми своего времени. Высмеивая в комедии
«Недоросль» отрицательные стороны типичного образо-
вания дворянского подростка второй половины XVIII
столетия, Фонвизин понимал, что не каждый дворянский
мальчик, учившийся «чему-нибудь и как-нибудь», оста-
вался Митрофанушкой.
Петруше Гриневу не повезло в нашем пушкиноведе-
нии, его юмористическое описание своего образования
принимается без поправок и дает основание для трак-
товки этого образа как человека, недалекого, весьма
ограниченного, простодушного до глупости, совершенно
невежественного, хотя и добросердечного. Отсюда идет
противопоставление доброго, честного, порядочного, но
интеллектуально неразвитого Петруши Гринева и бес-
сердечного, подлого, жестокого, но умного, зло иронич-
ного, образованного Швабрина. Наиболее распростране-
ны в пушкиноведении два толкования образа Гринева:
либо, вслед за Белинским, как человека с «ничтожным
и бесцветным» характером, прямого Митрофанушки,
либо как человека с неразвитым вследствие плохого
образования интеллектом, но проявившего «доброту и
благородство». Эволюция личности Гринева рассматри-
вается обычно лишь в сфере становления его нравст-
венности в ходе крестьянской войны, нарушившей есте-
132
ственное течение его судьбы. Наиболее развернутая ин-
терпретация этого образа принадлежит Г. П. Макого-
ненко; у него Гринев распадается на два существенно
отличающихся друг от друга образа: вначале это ти-
пичный недоросль, затем автор мемуаров, пожилой,
много повидавший, нравственно изменившийся чело-
век2. Но так ли это? К одиннадцати годам Петруша вы-
учился русской грамоте и познакомился с русскими кни-
гами своего времени настолько, что по прибытии в кре-
пость принялся писать стихи, которые «для тогдашнего
времени, были изрядны, и Александр Петрович Сума-
роков, несколько лет после, очень.их похвалял». Да и
мусье Бопре, несмотря на свое сходство с Вральманом,
сумел-таки обучить Гринева своему родному языку на-
столько, что юноша не испытывал затруднений ни в
разговорах со Швабриным (получившим, вероятно, сто-
личное образование), ни в чтении его французских книг.
Бопре успел также дать своему ученику несколько уро-
ков фехтования на шпагах, которых оказалось доста-
точно, чтобы Гринев на равных мог сражаться с опыт-
ным бретёром Швабриным. В белогорскую крепость при-
ехал 16-летний юноша, получивший обычное по тем
временам образование.
Исходя из представлений об ограниченности и не-
развитости Гринева, исследователи, как правило, видят
в этом герое лишь достаточно однозначный и жестко
регламентированный отцовским воспитанием характер.
Он кажется простым и даже примитивным, в отличие
от сложного, искушенного и противоречивого Швабри-
на. Моральная стойкость Гринева даже как будто опи-
рается на примитивность его натуры. Вероятно, из этих
представлений исходил У. Фохт, сопоставляя Петрушу
Гринева и Максима Максимыча3. Однако основные ка-
чества этих персонажей противоположны. Гринев —
активная личность, способная без особых колебаний
принимать самостоятельные решения (и очень риско-
ванные подчас), тогда как Максим Максимыч на это
решительно не способен. Чувство дворянской чести в
Гриневе еще не выродилось в готовность подчиняться
любому приказу, как это было у Максима Максимыча.
В характере Петруши не все так просто. Да, он ориен-
тирован на необходимость выполнения воинского долга,
но его представления о военной службе не столь иде-
альны. Он с детства готовится к «веселой петербургской
133
жизни», в которой, наряду с выполнением служебных
обязанностей, надеется и на «некоторое рассеяние».
Поэтому зуринский способ «привыкать ко службе» не
вызвал сопротивления в Гриневе. За одну ночь он на-
пился пьян, проиграл сто рублей и познакомился с жен-
щиной легкого’ поведения — и все под аккомпанемент
зуринских приговорок: отобедаем «чем бог послал, по-
солдатски», «это необходимо для нашего брата служи-
вого», «надобно к службе привыкать». Не мудрено, что
Савельич ахнул, увидя в Петруше «несомненные приз-
наки усердия к службе». В нравственном облике 16-
летнего Петруши уживаются прочные устои, воспитан-
ные отцом, и налет свойственных дворянской молодежи
того времени жажды сомнительных удовольствий и не-
которого легкомыслия в служебных отношениях. Раская-
ние в ночных похождениях с Зуриным не мешает ему
во время встречи со своим командиром генералом Р.,
не моргнув глазом, слукавить ради не сбывшейся на-
дежды на облегчение службы. Назначение в «глухую
крепость на границе киргиз-кайсацких степей» вызвало
у Гринева сильнейшее разочарование и досаду. По при-
бытии в Белогорскую крепость Петруша не упустил
случая притвориться гвардейским офицером, по каким-
то таинственным причинам переведенным в гарнизон.
Он скрыл; что только начинает служ!бу, и на вопрос
Ивана Игнатьевича: «Зачем изволили вы перейти из
гвардии в гарнизон?» — отвечал, «что такова была воля
начальства». Василиса Егоровна даже пытается уте-
шить мнимого петербуржца: «А ты, мой батюшка, не
печалься, что тебя упекли в наше захолустье. Не ты
первый, не ты последний. Стерпится, слюбится». В этот
момент она явно воспринимает его как второго Шваб-
рина.
Гринев и Швабрин поначалу быстро сблизились. Они
легко нашли общий язык, и Петруша на первых порах
с удовольствием слушает злые и остроумные рассказы
Швабрина о крепости и его обитателях, читает его фран-
цузские книги, видится с ним каждый день. Их роднят
молодость, легкомыслие, жажда удовольствий и веселых
развлечений, уровень образования, возвышающий прия-
телей над окружающими. Именно Швабрин был первым
критиком петрушиных стихов. Главное, что отличает
Гринева в этот период жизни — доброжелательность,
мягкость, прямота и благородство побуждений и поступ-
134
ков... Озлобленность Швабрина, которая толкает его
на неблаговидные действия, психологически объяснена
в романе — он, в сущности, очень несчастлив. Ему в
1772 году 20—23 года (Шванвич родился в 1749 г.,
Швабрин выслан из столицы за дуэль будучи уже офи-
цером — значит, не ранее 16 лет), он уже 4 года про-
зябает под началом Ивана Кузьмича Миронова и его
супруги. Карьера началась неудачно, хотя он мог бы
претендовать на быстрое продвижение по службе —
Алексей Иванович «человек умный, и хорошей фамилии,
и имеет состояние», в средствах достижения цели не
стесняется и достаточно энергичен. В глазах Маши он
обладает большим обаянием, хоть и негативным: «Он
очень мне противен, а странно: ни за что б я не хотела,
чтоб и я ему так же не нравилась. Это меня беспокоило
бы страх», — говорит она. Швабрин влюбился в Машу,
но и здесь его постигла неудача, которую он мог при-
писывать тому, что внешне столь некрасив.
С его происхождением и способностями, вкусив сто-
личной пвардейокой жизни, сидеть пятый год «на гра-
нице киргиз-кайсацких степей» без определенных на-
дежд на изменение своей судьбы да еще получить отказ
от безродной бесприданницы — это может озлобить и
менее страстного человека. Гринев, прибывший через
два месяца после отказа Маши выйти замуж за Шваб-
рина, очень быстро стал его счастливым соперником,
несмотря на все ухищрения бывшего гвардейца. Отсюда
ненависть к Петруше и болезненная сила страсти к
Маше.
К началу'Пугачевского бунта и Гринев, и Швабрин
оказались в жизненном тупике. Гринев тоже утратил
надежду на брак с дочерью коменданта, и прозябание
в крепости стало и для него тягостным: «Я потерял
охоту к чтению и словесности. Дух мой упал. Я боялся
или сойти с ума, или удариться в распутство», — пишет
он. События конца 1773—1774 годов решительно вторг-
лись в судьбы пушкинских персонажей.
Еще Д. Д. Благой отметил, что переход Швабрина
на сторону Пугачева объясняется не только стремлени-
ем «сохранить свою жизнь, уничтожить своего сопер-
ника и принудить Машу Миронову выйти за него за-
муж, но и расчетом, в случае успеха Пугачева, прихода
его к власти (что Швабрин воспринимает в соответст-
вии с характером эпохи в качестве своего рода «двор-
135
цового переворота»), сделать при нем «карьеру времен-
щика». Д. Д. Благой относит Швабрина к представи-
телям «возникшей в результате дворцовых переворотов
«новой знати», бойко болтающим по-французски и пре-
зирающим свое, отечественное, народное (см. первые
слова, обращенные им к Гриневу при их знакомстве)»4.
Однако процесс образования новой знати был обуслов-
лен не только дворцовыми переворотами XVIII века,
составляли ее люди, не обязательно лишенные «истори-
ческих и национальных традиций, чувства чести, долга».
Бели видеть «послушных прислужников самодержавия,
алчных хищников, грабящих страну и народ», Только
среди новой знати, то не будет ли это апологией ста-
рого дворянства? <Ведь и Гриневы — «послушные прис-
лужники самодержавия», и они живут за счет эксплуа-
тации-народа, а Петруша не менее бойко болтает по-
французски, чем Швабрин. Практика петровской эпохи
предшествовала теоретическому обоснованию принци-
пов формирования новой знати. В «Табели о рангах»
мерилом в оценке человека впервые провозглашаются
«услуги Отечеству», личные качества приобретают пер-
востепенное значение. В эпоху дворцовых переворотов
у власти попеременно оказывались то представители
новой знати — А. Д. Меншиков, то (после смерти Екате-
рины I) партия старой аристократии во главе с родом
Долгоруких. Решающая роль в утверждении на престо-
ле после смерти Петра II Анны Иоанновны (племянни-
цы Петра Великого, дочери Ивана Алексеевича) при-
надлежала широким слоям служилого русского дворян-
ства, выразителем интересов которых явилась гвардия.
Частота, с которой на протяжении 15 лет — с 28 янва-
ря 1725 г. (смерти Петра I) до 25 января 1741 г. (когда
на престол вступила Елизавета, дочь Петра I) — вок-
руг трона сменяли друг друга различные политические
группировки, сравнительная легкость свершения двор-
цовых переворотов явились одним из закономерных
следствий петровских реформ, разрушивших старые сос-
ловные рамки. Новая знать не была однородной по сво-
ему составу, и это отразилось в романе. Таким образом,
в целом верная и важная мысль Д. Д. Благого нуждает-
ся в уточнении.
Жизненные идеалы Андрея Петровича Гринева, пере-
данные им сыну, восходят к петровской эпохе, и особая
роль гвардии в политической жизни страны начала
136
складываться тогда же. Швабрин воспитывался в Пе-
тербурге, в семье, которая (раз он .начал службу в
гвардейском полку) была достаточно близка к общест-
венным верхам. В 1762 году он был подростком, и о
дворцовом перевороте знал хорошо. Отец Шванвича,
бывшего прообразом пушкинского персонажа, в юности
был близок с Алексеем Орловым, одним из прямых уча-
стников убийства Петра III и воцарения Екатерины II.
Правда, Пушкин дал овоему герою другую родослов-
ную — Алексей Иванович Швабрин, по-видимому, про-
исходит из русского дворянского рода, но, создавая
этот образ, писатель исходил из судьбы Михаила Шван-
вича. Швабрин сформировался как личность после ека-
терининского переворота. С 1762 по 1768 г. о« наблю-
дал, как гвардейцы-заговорщики стремительно вознес-
лись к высшим чинам, получили огромные состояния,
звания и награды. Молодые дворяне, немногим старше
Алексея Швабрина, делали блестящие карьеры, благо-
даря тому, что смогли нарушить присягу, поднять руку
на царствующего монарха, т. е. преступить сословные
нравственные нормы. Дерзость, удачливость, бесприн-
ципность стали цениться выше дворянской чести и вер-
ности присяге и окупились сторицею. Но Швабрину, как
уже было сказано, не повезло. Его карьера началась не-
счастливо. После получения известия о появлении са-
мозванца, присвоившего имя Петра III, Швабрин дол-
жен был понять, что у него появился шанс изменить
свою судьбу. Переход его на сторону Пугачева Пушкин
изобразил так, что читателю должно быть ясно: посту-
пок этот не случаен и, вероятно, даже подготовлен. Пос-
ле первого совещания у коменданта между Гриневым
и Швабриным состоялся знаменательный разговор: «Как
ты думаешь, чем это окончится?» — спросил я его.
«Бог знает, — отвечал он; — посмотрим. Важного пока-
мест еще ничего не вижу. Если же...» Тут он задумался
и в рассеянии стал насвистывать французскую арию».
Это момент рождения замысла Швабрина. Потом мы
узнаем, что урядник Максимыч ездил к Пугачеву и воз-
вратился, скрыв встречу с самозванцем от коменданта.
Казаки, которыми он комавдовал, были настроены про-
тив правительства. Достаточно правдоподобным будет
предположение, что был сговор между Пугачевым и ка-
заками о сдаче крепости. Судя по дальнейшему поведе-
нию Швабрина, он мог участвовать в этом сговоре.
137
В самом начале сражения с мятежниками Петруша в пос-
ледний раз видит Швабрина среди защитников крепос-
ти. Пушкин дает почувствовать, что он не только не
принимает никакого участия в происходящем, но отъе-
динен от остальных офицеров и занят какими-то своими
мыслями. Иван Кузьмич обошел солдат, ободряя их,
велел Ивану Игнатьевичу навести пушку на неприятеля
и сам выстрелил, Петруша с нетерпением ожидает «ре-
шительной минуты», стискивая рукоять шпаги, «Шваб-
рин стоял подле» него «и пристально глядел на неприя-
теля». Когда комендант, Иван Игнатьевич и Петр Гри-
нев повели гарнизон на вылазку, Швабрина среди них
уже не было. Вновь Петруша увидел его «среди мятеж-
ных старшин», «обстриженного в кружок и в казацком
кафтане». Можно думать, что сметливый Швабрин, уви-
дев безнадежность положения, поспешил добровольно
сдаться в плен. Но в таком случае его не должны были
сразу принять как своего, а ведь в трагический момент
казни Швабрин стоит рядом с Пугачевым как его при-
ближенный, и самозвайец принимает его советы. Собы-
тия разворачиваются так, что переход Швабрина не
мог быть мотивирован ни жаждой мести Гриневу, ни
желанием заполучить Машу (когда Швабрин перешел к
Пугачеву, он еще ничего не знал о судьбе Маши и Гри-
нева), а также не мог быть результатом внезапного ре-
шения человека, оказавшегося перед выбором (как дру-
гие офицеры) между' предательством и смертью.
В последние годы исследователи романа постепенно
утрачивают интерес к фигуре Швабрина, перенося свое
внимание преимущественно на образ Гринева. Эта тен-
денция не случайна. Придя к выводу о невозможности
добровольного перехода дворянина на сторону восстав-
шего народа по идейным соображениям, пушкинисты
видят в Швабрине лишь злобного и струсившего чело-
века. Поэтому кажется, что его образ утрачивает исто-
рическую актуальность. Так, например, Н. Н. Петруни-
на присоединяется к мнению В. Александрова о том, что
среди пугачевцев нельзя было бы представить как «дво-
рянина с перенесенной в XVIII в. идеологией декабрист
та», так и «человека вроде Радищева... Радищев, де-
кабристы— эти лучшие люди из дворян — «страшно да-
леки от народа...» Дать реалистический образ дворяни-
на-идеолога, присоединяющегося к пугачевцам, Пушкин
не *смог, потому что материалов для создания такого
138
образа не было в самой действительности»5. Н. Н. Пет-
рунина рассматривает и второй вариант, предложенный
Ю. Г. Оксманом в 1930-х годах-, оснований, на которых
Швабрин мог бы добровольно перейти к Пугачеву —
его принадлежность к дворянской оппозиции: «Реаль-
ная русская история XVIII века не знает представите-
лей петербургской гвардейской оппозиции, которые ста-
новились бы активными союзниками Пугачева... Планы
не дают оснований считать, что даже на начальной
стадии работы Пушкин видел- в Шванвиче представите-
ля гвардейской оппозиции...»6. Все это верно, но Пуш-
кин мотивировал добровольный переход Швабрина на
сторону Пугачева не тем, что было в истории, а тем,
что могло бы быть, учитывая исторические тенденции
в развитии личностного сознания дворянина екатеринин-
ской эпохи. Конечно, Швабрин не революционер и даже
не оппозиционер, он авантюрист, впитавший дух своего
времени. Рядом с Пугачевым действительно не было
человека, похожего на этого пушкинского героя, но он
потенциально мог быть. По-видимому, не оказалось в
наличии (как это нередко происходит) той случайности,
в которой воплотилась бы замеченная Пушкиным исто-
рическая закономерность.
В ходе исторических событий, благодаря которым
Швабрин надеялся возвыситься, он окончательно нрав-
ственно пал. Он совершает одну подлость за другой и,
потеряв надежду на осуществление своих, хотя и эгоис-
тических, но грандиозных планов, стремится лишь к
личной мести. Следует отметить, что решение Швабри-
на не обязательно означает уверенность в победе Пуга-
чева, он, подобно любому авантюристу, сознательно
идет на риск и надеется прежде всего на свою удачу.
Гринев же на протяжении всего романа уверён в не-
избежном поражении пугачевцев. В беседах с Пугаче-
вым проявляется не только стойкость Петра Андреевича,
но и его находчивый и самостоятельный ум. Отвечая на
вопрос самозванца, верит ли он, что перед ним великий
гбсударь, Гринев отвечает прямодушно и очень умно:
«Слушдй; скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я
признать в тебе государя? Ты человек смышленый:
ты сам увидел бы, что я лукавствую.
— Кто же я таков, по твоему разумению?
— Бог тебя знает, но кто бы ты ни был, ты шутишь
опасную шутку». Гринев апеллирует к разуму Пугачева,
139
берет на себя смелость предупредить его об опасности'
затеянного им предприятия. В отчаянную минуту, когда,
как кажется, последние надежды Гринева на спасение
Маши рушатся, т. к. Швабрин открыл Пугачеву, что
она дочь капитана Миронова, Петр Андреевич не теряет
присутствия духа и говорит с Пугачевым убедительно,
с достоинством, пробуждая лучшие стороны натуры
своего благодетеля:
«— Сам ты рассуди, можно ли было при твоих лю-
дях объявить, что дочь капитана Миронова жива. Да
они бы ее загрызли. Ничто бы ее не спасло!
— И то правда, — сказал смеясь Пугачев. — Мои
пьяницы не пощадили бы бедную девушку...
— Слушай, — продолжал я, видя его доброе рас-
положение. — Как тебя назвать, не знаю, да и знать
не хочу... Но бог видит, что жизнью моей рад бы я
заплатить тебе за то, что ты для меня сделал. Только
не требуй того, что противно чести моей и христианской
совести. Ты мой благодетель. Доверши как начал: от-
пусти меня с бедною сиротою куда нам бог путь ука-
жет. А мы, где бы ты ни был и что бы с тобой ни слу-
чилось, каждый день будем бога молить о спасении
грешной твоей души...»
На протяжении всего романа, попадая — часто вне-
запно — в весьма сложные ситуации, Гринев никогда не
теряет самообладания и говорит разумно и убедительно.
Противопоставление интеллектуального Швабрина и
наивного Гринева, ставшее уже привычным, обедняет
понимание и замысла, и идейного содержания романа.
Так, например, В. Э. Вацуро пишет: «Швабрин несет
в себе интеллектуальное начало, он «умнее» и образо-
ваннее Гринева, но это интеллектуальное начало в нем
деструктивно... Гринев... носитель наивного, но этически
полноценного начала»7. Развивая эту мысль, Н. Н. Пет-
рунина говорит: «Масштаб личности Петра Андреевича
Гринева определяет меру осознания им испытаний,
выпавших на долю юного Петруши, но и цель его прос-
та — передать эстафету чести от деда к внуку, а от
него — будущим поколениям. Однако в эту непритяза-
тельную рамку вмещается огромное «вечное» этическое
и философско-историческое содержание»8. Рассуждение
Н. Н. Петруниной опирается на общее представление
о небольшом масштабе личности Гринева. И тогда по-
лучается, что «Капитанская дочка» — чрезвычайно
140
сЛбжноё повествование, й котором наряду с Простодуш-
ным и непритязательным рассказчиком и его простой-
целью присутствует — отдельно от него — великий Пуш-
кин, вложивший в семейные записки «огромное» «веч-
но этическое и философско-историческое содержание».
Но отношения между повествователем и автором, семей-
ными записками и романом гораздо сложнее (об этом
мы скажем подробно ниже), а масштаб личности Гри-
нева не столь уж и мал.
Роман написан в форме воспоминаний, созданных в
начале XIX века. Личность их создателя и главного
героя приобретает поэтому особое значение. На долю
Петра Андреевича Гринева выпало много испытаний,
он был современником важных исторических событий:
восстания под предводительством Пугачева, великой
Французской революции, суворовских войн, короткого
царствования и убийства Павла I, «дней Александро-
вых прекрасного начала». Автор воспоминаний — чело-
век просвещенный, с несомненными литературными
способностями, со склонностью к этическим наблюде-
ниям и размышлениям нравственно-философского ха-
рактера. Он стремится как можно точнее показать со-
бытия своей юности, очень осторожен и деликатен по
отношению к Петруше, избегает оценивать его поступ-
ки с позиции прожитых лет. Голос старого Петра Анд-
реевича звучит в романе очень редко, но если уж он
берет слово, то именно для нравственно-философских
замечаний. В частности, когда рассказ дошел до сцены
допроса пленного башкирца, он считает необходимым
пояснить: «Пытка в старину так была укоренена в
обычаях судопроизводства, что благодетельный указ,
уничтоживший оную, долго оставался безо всякого дей-
ствия. Думали, что собственное признание преступника
необходимо было для его полного обличения, — мысль
не только не основательная, но даже и совершенно про-
тивная здравому юридическому смыслу, ибо, если отри-
цание подсудимого не приемлется в доказательство его
невинности, то признание его и того менее должно быть
доказательством его виновности. Даже и ныне случает-
ся мне слышать старых судей, жалеющих об уничтоже-
нии варварского обычая (предрассудок этот дожил и
до нашего времени. — С. А., Л. Р). В. наше же время
никто не сомневался в необходимости пытки, ни судьи,
ни подсудимые». Это один из редких случаев, когда
141
как бы встретились юный и старый Гринёв: то, что Для
одного обычно, нормально, у Гринева начала XIX века
вызывает осуждение и осмыслено им с позиций просве-
щенного разума. Приготовления к пытке вызвали и у
17-летнего Петруши сочувствие и жалость, которые,
несомненно, юный офицер запомнил на всю жизнь, *и не
определили ли эти чувства в какой-то мере и позицию
Петра Андреевича? Вслед за этой сценой стоит прямое
обращение Петра Андреевича к своему воображаемому
читателю: «Когда вспомню, что это случилось на моем
веку и что ныне дожил я до кроткого царствования им-
ператора Александра, не могу не дивиться быстрым ус-
пехам просвещения, и распространению правил челове-
колюбия. Молодой человек! если записки мои попадут-
ся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие из-
менения суть те, которые происходят от улучшения
нравов без всяких насильственных потрясений». Ясно,
что записки свои Гринев предназначал не только своим
непосредственным потомкам, он надеялся, что они ста-
нут передаваться из рук в руки; не исключено, что он
втайне рассчитывал та их публикацию.
Герой Пушкина наблюдателен, обладает жадным
интересом к жизни во всем ее разнообразии, душа его
открыта поэтическим впечатлениям бытия, даже если
они мрачны. Вот пугачевцы поют «заунывную бурлац-
кую песню», и Петр Андреевич вспоминает: «Невозмож-
но рассказать, какое действие произвела на меня эта
простонародная песня про виселицу, распеваемая людь-
ми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные
голоса, унылое выражение, которое придавали они сло-
вам и без того выразительным, — все потрясало меня
каким-то пиитическим ужасом». После своего освобож-
дения, вынужденный прожить некоторое время в Моск-
ве, вероятно, в ожидании необходимых бумаг, Петруша
нашел время и возможность встретиться с Сумароковым
и показать ему свои стихи. Юношу тянет к образован-
нейшим людям своего времени, хотя отношение к Пуга-
чеву у него и старого Сумарокова (умершего в 1777 г.)
диаметрально противоположны. Какие свои стихи по-
казал знаменитому поэту молодой офицер? Может быть,
в них отразились его недавние впечатления? Для Гри-
нева самозванец — благодетель, человек, судьба кото-
рого его глубоко волнует. Сумароков же писал:
142
Сей варвар не щадил ни вбЗрабт-й, йй йОла.
Пес тако бешеный, что встретит, то грызет.
Подобно так на луг из блатистого дола
Дракон шипя ползет.
Но казней пет ему довольный на свете,
Воображенье он тиранством превзошел.
И все он мерзости и в силе быв и в цвете
Во естестве нашел.
Рожденна тварь сия на свет бессильной выдрой,
Но ядом напоясь, которым рыжит Нил,
Сравняться он хотел со баснословной гидрой:
Явился крокодил.
В пушкинистике уже высказывалась мысль о сход-
стве Петра Андреевича Гринева с Иванрм Петровичем
Белкиным. Сходство это основывается на простодушии,
по-видимому, плохом образовании, добром и честном
нраве и склонности к занятиям словесностью. Во всем
остальном это абсолютно разные люди, жившие в раз-
ные эпохи, с разными личными судьбами. Следует
отметить также, что Иван Петрович Белкин обрисован
соседом, другом его отца, и только некоторые черточки
заставляют догадываться, что он тоже не так прост,
как кажется. Те исследователи, которые отмечали, что
в «Повестях Белкина» и в «Капитанской дочке» из-за
плеча рассказчика иногда виден сам Пушкин, основы-
вались как раз на представлении о Гриневе и Белкине,
как о людях малообразованных и недалеких. Следует
разграничивать Пушкина-демиурга, концептуального
автора, и Пушкина-повествователя. В «Капитанской
дочке» присутствует только концептуальный автор,
функции расказчика целиком переданы Петру Андрее-
вичу Гриневу.
Г. П. Макогоненко подчеркивает «особенность пост-
роения образа рассказчика — он дан в романе в двух
временных измерениях. Мы видим двух Гриневых —
семнадцатилетнего юношу, только что начавшего воен-
ную службу, и пятидесятилетнего мемуарйста, литера-
тора, умудренного опытом, много повидавшего человека.
Между ними не только временная, но и нравственная
дистанция»9. Стремясь показать эту особенность,
Г. П.. Макогоненко вольно или невольно проигнориро-
вал все то, что связывает двух Гриневых, а также ис-
торическую обусловленность развития характера героя.
Обусловлено же это развитие двумя обстоятельствами:
во-первых, уровнем развития личностного сознания; во-
143
вторых, ходом исторического развития, в которое Пуш-
кин включил Гринева. Высокий уровень личностного
сознания героя проявляется в самостоятельности реше-
ний. Он не боится смелых, нетрадиционных, даже аван-
тюрных решений. Именно таковы его намерения женить-
ся на безродной бесприданнице Маше Мироновой по
взаимной любви; отчаянная поездка в захваченную пуга-
чевцами Белогорскую крепость без разрешения началь-
ства. Поездка эта, кроме явной авантюрности, была еще
и нарушением воинского долга. У Гринева даже не было
определенного плана в этой поездке — он стремился в
Белогорскую крепость, надеясь на Случай и не зная, как
поступить с Машей, если ее удастся освободить. Все в этой
поездке рыло случайно: и то, что за Петрушей увязался
Савельич, и то, как они попали в руки пугачевцев, и
поведение Пугачева, и то, что на обратном пути они
встретили Зурина. Ради Маши Гринев мог бы и дезер-
тировать из войск императрицы. Рассказывая о совете
Зурина отправить Машу к родителям, он говорит: «Хотя
я не совсем был с ним согласен, однако ж чувствовал,
что долг чести требовал моего присутствия в войске
императрицы». Размышляя о том, как держаться на
следствии, Гринев предполагал, что «легко мог бы оп-
равдаться: наездничество не только никогда не было
запрещено, но еще всеми силами было одобряемо. Я мог
быть обвинен в излишней запальчивости, а не в ослу-
шании». Следовательно, покидая Оренбург, юноша на-
деялся выдать свою поездку за Машей как увлечение
наездничеством, завлекшее его на территорию, занятую
Пугачевым. Далее он размышляет: «Но приятельские
сношения мои с Пугачевым могли быть доказаны мно-
жеством свидетелей и должны были казаться по край-
ней мере весьма подозрительными. Во всю дорогу раз-
мышлял я о допросах, меня ожидающих, обдумывал
свои ответы, и решился перед судом объявить сущую
правду, полагая сей способ оправдания самым простым,
а вместе и самым надежным».
Правдивые показания для героя — лишь один из
возможных вариантов поведения, но не единственный.
Следовательно, его поведение не столь ограничено про-
исхождением и воспитанием, как это обычно представ-
ляется, а свобода выбора, которой он пользовался, ве-
лика. Авантюрное поведение свойственно не только «не-
годяю» Швабрину, но и его антиподу. Авантюризм был
144
9*
Знамением бремени и был одной из форм Проявлений
высокого уровня личностного сознания. В наброске вве-
дения к роману Петр Андреевич говорит о своем внуке,
что он склонен к «проказам», обладает «пылкими страс-
тями». И в третьем Петре Гриневе Пушкин выдвигал
на первый план не «добронравность», а активность, спо-
собность к самостоятельным решениям и неординарным
поступкам. Почему Пушкин не ввел это законченное,
столь важное для понимания характера Гринева и его
эпохи введение, в котором открывается такая историче-
ская перспектива? Убедительного ответа на этот воп-
рос нет.
Г. П. Макогоненко указал на связь между «Капи-
танской дочкой» и мемуарами Д. И. Фонвизина «Чисто-
сердечное признание в делах моих и помышлениях». Он
считал, что жанр «Капитанской дочки» может быть
определен с помощью этой ассоциации. И в самом деле,
введение Пушкина и вступление Фонвизина имеют ряд
общих черт. В частности, Гринев и Фонвизин на склоне
лет одинаково оценивали свою юность как время страс-
тей и заблуждений. Реминисценции из мемуаров Фон-
визина рассыпаны в «Капитанской дочке», и все же это
различные по жанру произведения. Отказавшись от
введения, Пушкин почти совсем снял дидактическую
направленность записок Гринева; в романе есть намек
на то, что Петр Андреевич писал литературное произ-
ведение в форме семейных воспоминаний. Фонвизин
создавал мемуары-исповедь, Пушкин — исторический
роман, для которого мемуары — только достаточно
условная форма. Поэтому «Чистосердечное признание»
должио было охватывать всю жизнь автора, Гринев
повествует об одном этапе своего прошлого, но наи-
более значительном. Мемуары Фонвизина построены по
хроникальному принципу (четыре этапа человеческой
жизни), сюжет пушкинского романа — концентрический,
не характерный для мемуаров и семейных хроник.
Андрей Петрович Гринев и отец Фонвизина во мно-
гом похожи: оба люди честные, рассудительные, при-
надлежащие к одному типу дворянина, но принципы их
изображения у Пушкина и Фонвизина резко отличают-
ся. Фонвизин на первый план выдвигает нравственные
качества своего отца, Пушкин прежде всего социально
и исторически детерминировал своего героя. Читатель
Фонвизина делает вывод о детерминированности отца
10-3103
145
Автора на основании чёрт его характера, мировоззрёнйй,
взглядов на жизнь, т. е. с помощью дедукции. Читатель
Пушкина должен идти другим путем: познакомившись
с историко-социальными ориентирами биографии Анд-
рея Петровича, он предполагает, какими качествами
должен обладать этот человек, и продолжая чтение,
находит подтверждение своих предположений. В первом
случае историко-социальная детерминированность пер-
сонажа необязательна, она остается в компетенции чи-
тателя, во втором случае она дана автором и необходи-
ма для понимания романа.
И отец Гринева, и отец Фонвизина одинаково неодоб-
рительно относятся к дуэлям. Но Фонвизин рассказы-
вает об, оценке дуэлей своим отцом в ряду описаний
других его нравственных воззрений, Андрей Петрович
высказался в письме к сыну по поводу его дуэли. Мне-
ние Фонвизина-отца впрямую не влияет на судьбу его
сына. Петруша, прочитав письмо, в котором содержится
запрещение жениться и угроза разлучить его с возлюб-
ленной за любовь и дуэль, «увидел, что все дело пошло
к черту». В мемуарах Фонвизина — статика нравоучи-
тельного описания, в «Капитанской дочке» — динамика
романного действия.
Фонвизин явно тенденциозен в отборе и освещении
подробностей начала своей биографии*, стремясь вызвать
у читателя ассоциации с Митрофанушкой из «Недорос-
ля». Писатель не забыл показать, что полученное им
образование было не так уж плохо. Сразу же вслед за
сатирическим описанием экзаменов по латыни и геогра-
фии идет серьезная и положительная характеристика
того, что дала ему университетская гимназия (у Фон-
визина — университет): «В нем, обучась по латыни, по-
ложил основание некоторым моим знаниям. В нем на-
учился я довольно немецкому языку, а паче всего в
нем получил я вкус к словесным наукам». Фонвизин-
ская ирония заметна и в том, как Петр Андреевич Гри-
нев повествует о своей жизни в родительском доме10.
Однако художественные задачи у Фонвизина и Пушки-
на различны: сатирик смотрит на свою жизнь из той
эпохи, когда создавались его мемуары; пушкинский ге-
рой стремится вспомнить и воспроизвести впечатления,
мысли и чувства своей юности, но оценивает их с пози-
ций другого человеческого возраста. Читатель мемуа-
ров все время ощущает дистанцию между повествова-
146
тёлем и героем, героя нет вне сознания повествователя.
Читатель романа совмещает в своем восприятии героя
и повествователя, ему внятен и голос Петруши, и голос
Петра Андреевича. Если в мемуарах писатель расска-
зывает о своем герое, то в романе он должен его пока-
зать в действии, в поступках, в переживании этого дей-
ствия и этих поступков. Совмещение в одном лице ге-
роя и повествователя не отменяет этого требования жан-
ра, но усложняет структуру произведения. Роман, напи-
санный в форме воспоминаний, остается романом.
Мемуарист Фонвизин исходит из представлений о
том, что жизнь человека •— это смена четырех возрас-
тов (детство, юность, зрелость и старость), наполнен-
ных своими специфическими страстями, пороками, нрав-
ственными проблемами, неизменными во все времена.
Поэтому конкретная история только фон, на котором
разворачивается судьба его героя. Пушкина интересу-
ет развитие личности в ходе испытаний значительными
историческими событиями. Поэтому в романе изобра-
жен один период жизни Петруши Гринева.
Пишущие о «Капитанской дочке» на первый план
выдвигают изображение восстания и рождение замы-
сла связывают с изучением материала о Пугачевской
войне. Но о ней написана «История Пугачева». В цент-
ре романа — проблема места, судьбы и роли человека
в больших исторических событиях. Первым планам бу-
дущей «Капитанской дочки» предшествовали наброски
1829—1В30 годов, в которых решение той же проблемы
предполагалось на материале других исторических со-
бытий: Отечественной войны 1812 года и восстания де-
кабристов в 1825 году. Оба наброска сделаны в форме
записок. Набросок «В начале 1812 года»'явно предпола-
гает написание его спустя многие годы, по воспомина-
ниям, как и записки Гринева. «Записки молодого чело-
века» представляют собой записки, сделанные в 1825 го-
ду. Героем первого отрывка является двадцатилетний
обер-офицер, повествователем он же, но в другую эпоху.
Герой, он же повествователь, «Записок одного молодо-
го человека» — юный прапорщик, только что окончив-
ший кадетский корпус. Пушкин словно примеривался к
различным формам повествования от первого лица. Это
могли быть мемуары или записки, сделанные по свеже-
му впечатлению, но.в обоих случаях речь должна была
идти о молодом офицере, человеке весьма обыкновен-
10*
147
ном, но наблюдательном, й не лишенном литературных
способностей. Повествование начинается в обоих отрыв-
ках приблизительно за полгода до двух важнейших со-
бытий истории XIX века в России. Напомним, что Пет-
руша Гринев приехал в Белогорскую крепость за год до
нача’ла восстания под предводительством Пугачева. При
почти полной неразработанности отрывков один фабуль-
ный мотив все же угадывается в достаточной степени
определенно — любовь молодого офицера, возникающая
накануне грозных событий, вторгающихся в его судьбу.
Оба персонажа не ждут того, что с ними должно про-
изойти. Очевидно, что мы имеем дело с фабулой «Капи-
танской дочки» и с одной жанровой формой. Почему
Пушкин остарил работу над произведениями, оставши-
мися в набросках, и развернул этот фабульный мотив в
той же жанровой форме’ в «Капитанской дочке»? Ответ
может быть таким. Предполагаемое личностное развитие
молодого дворянина и в 1812, и в 1825 году неминуемо
должно было происходить в связи с будущими декаб-
ристами или непосредственно в ходе восстания Черни-
говского полка. Кроме того, что эта тема была запрет-
ной, исторический материал первой четверти XIX века
не давал возможности поставить вопрос, возникший в
связи с декабристским движением, но не разрешенный
им: как и на каких условиях дворянин может объеди-
ниться с восставшим народом? Вот, вероятно, почему
Пушкин остановился на событиях 1773—74 гг.
Как доказано Н. Н. Петруниной, первые планы бу-
дущей «Капитанской дочки» предшествовали работе над
«Историей Пугачева11». Исследовательница даже выд-
вигает гипотезу о том, что, по аналогии с другими исто-
рическими романами того времени, у Пушкина «возник-
ла... мысль предпослать будущему роману историческое
введение о событиях крестьянской войны 1773—1775 го-
дов... И лишь позднее это введение переросло в самос-
тоятельное историческое исследование о пугачевщине,
которое по своей проблематике далеко вышло за рамки
первоначального замысла»12. Высказанная гипотеза
представляется очень вероятной, а все вместе взятое
подтверждает, мысль о том, что основой замысла Пуш-
кина была тема формирования личности молодого дво-
рянина в ходе важных исторических событий. Эта же
тема намечена в планах повести о стрельце, который
мог. быть «пращуром» Петруши Гринева и «умер на
148
Лобном месте, отстаивая то, что почитал святынею своей
совести». Во всех случаях обращения к этой теме Пуш-
кин собирался воплотить ее в форме романа.
Герои всех пушкинских планов и набросков о моло-
дом дворянине связаны типологически и исторически с
образом Петруши Гринева: похожи или персонажи, или
ситуации, в которых они действуют; хронологически это
или предки, или потомки его13.
Однако судьбы, подобные судьбам Гринева и Шваб-
рина, истории не известны. Как сказано, вероятность
характера и поведения Швабрина исторически законо-
мерны, можно считать случайностью отсутствие такого
человека в реальности. Взаимоотношения Петра Грине-
ва с Пугачевым, при всей исторической и психологиче-
ской достоверности, все же в значительной мере слу-
чайны. Жизненная достоверность образа Гринева дос-
тигается во многом при помощи освоения творчества
Д. И. Фонвизина как культурного феномена эпохи.
В создании образа Швабрина использован другой куль-
турный слой той же эпохи — вольтерьянство.
Вольтер с начале 1760-х годов был очень популярен
среди просвещенных русских дворян. В «Чистосердеч-
ном признании» Фонвизина содержится хоть и осуж-
дающая, но достаточно яркая характеристика русских
вольтерьянцев: «Они... прочитав Вольтера и не поняв
его, отвергают бытие божие, для того, что полагают себе
славою почитаться выше всех предрассудков... Сии лю-
дишки не не веруют, а желают, чтобы их считали не-
верующими, ибо вменяют себе в стыд не быть с Воль-
тером одного мнения». Вольтерьянство как мода на
ниспровержение всего, на остроумное злословие, на го-
товность осмеивать все и вся присуще Швабрину. Он
принадлежит к тому типу людей, для которых вольтерь-
янское отношение к миру было оправданием утраты
нравственных ориентиров и формой, которую она при-
обрела. Отношение его ко всем без исключения окру-
жающим презрительно-насмешливое, зло ироничное.
Ирония Гринева чаще всего направлена на самого себя,
тогда как Швабрину автоирония абсолютно не свойст-
венна. Гринев шутит «отменно тонко и умно, что нынче
несколько смешно», Швабрин — жестоко и коварно, не
гнушаясь откровенной ложью. Фонвизинская стихия
иронии для Гринева — форма мироощущения, для
Швабрина вольтеровская желчная, едкая, беспо-
149!
щадная ирония — средство самозащиты и нападения.
> Пушкин, как известно, в отрочестве и юности не из-
бежал влияния Вольтера. Он увидел в Вольтере и его
последователях «великих разрушителей» «старого об-
щества». В 1834 году Пушкин писал: «Она (философия
XVIII в. — С. А., Л. Р.) была направлена противу гос-
подствующей религии, вечного источника поэзии у всех
народов, а любимым орудием ее была ирония холодная
и осторожная и насмешка бешеная и площадная. Воль-
тер. великан своей эпохи, овладел и стихами, как важ-
ной отраслию умственной деятельности человека... на-
конец и он, однажды в своей жизни становится поэтом,
когда весь его разрушительный гений со всею свободою
излился в цийической поэме, где все высокие чувства,
драгоценные человечеству, были принесены в жертву
демону смеха и иронии... Влияние Вольтера было не-
имоверно. Сле'ды великого века (как называли фран-
цузы век Людовика XIV) исчезают».
Развернутые литературные портреты в творчестве
Пушкина крайне редки и почти всегда они являются
изображениями исторических лиц. В романе нет пор-
третов Гринева, его отца, четы Мироновых, но содер-
жится подробный портрет Пугачева и словесное описа-
ние живописного портрета Екатерины II работы Боро-
виковского. «В прозе художественной, — пишет
Т. Г. Цявловская, — в повестях, романах — Пушкин
портретов героев не давал. Мы находим всего несколь-
ко человек, внешность которых он запечатлел»14. Порт-
рет Швабрина дан — это молодой человек «невысокого
роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрез-
вычайно живым». Этот фрагмент очень напоминает
внешность молодого Пушкина. Поэт был невысокого
мнения о своей наружности. Он говорил о себе: «пото-
мок негров безобразный», «арапский профиль», и, на-
конец, «...могу я сказать вместе с покойною нянею моею:
хорош никогда не был, а молод был». Лев Сергеевич
Пушкин вспоминал: «Пушкин был собою дурен, но лицо
его было выразительно и одушевленно; ростом он был
мал (в нем было с небольшим пять вершков), но тонок
и сложен необыкновенно крепко и соразмерно»15.
Почему Пушкин наделил Швабрина своей наружно-
стью? Дать исчерпывающий ответ на этот вопрос очень
трудно, но некоторые соображения все же возможны.
Герой типа Швабрина с внешностью Пушкина — явная
150
автоирония. Известно, что поэт был мастером мистифи-
каций, шуток, розыгрышей. Так, например, он сочинил
в январе 1837 г. блестящий пастиш «Последний из
свбйственников Иоанны д’Арк», где Вольтер, получив
вызов на дуэль от вымышленного потомка брата Жан-
ны д’Арк, отрекся от своей поэмы «Орлеанская девст-
венница» — той самой, которую Пушкин объявил един-
ственным подлинно поэтическим произведением фран-
цузского мыслителя. В жизни самого Пушкина был ана-
логичный эпизод. На допросе по делу о «Гавриилиаде»,
поэме, окрашенной в вольтеровские тона, Пушкин от-
рекся от авторства. Произошло это в 1828 г. Известно,
что поэт любил сопоставлять себя и Вольтера, рисовал
себя иногда рядом с Вольтером. В книге Т. Г. Цявлов-
ской приведен рисунок Пушкина, на котором рядом с
портретом Вольтера, без парика, с морщинистым язви-
тельно-насмешливым лицом, помещен автопортрет, ко-
торому явно приданы черты сходства с французским
мыслителем: обритая голова, насмешливо-ироническое
выражение лица; портреты даны в одном ракурсе. Пер-
вое впечатление графини Д. Ф. Фикельмон, внучки Ку-
тузова, от встречи с Пушкиным: «Пушкин, писатель,
разговаривает очаровательно, без претензий, живо, пла-
менно. Нельзя быть безобразнее его — это смесь обезь-
яны и тигра»16. Слова «смесь обезьяны и тигра» и Пуш-
кин применял к себе, в частности, в протоколе «лицей-
ской годовщины» 19 октября 1828 года. Т. Г. Цявловская
свидетельствует, что «выражение это — ходячее, озна-
чает оно некрасивого темпераментного человека»17. Со-
хранился также набросок стихотворения Пушкина о
Вольтере, «фернейском злом мудреце»:
Еще в ребячестве, бессмысленный и злой,
Я встретил старика с плешивой головой,
С очами быстрыми, зерцалом мысли зыбкой,
С устами, сжатыми наморщенной улыбкой...
Сравнивая себя с Онегиным, поэт говорит:
Условий света свергнув бремя,
......................... »
Я был озлоблен, он угрюм,
Страстей игру мы знали оба:
Томила жизнь обоих нас;
Обоих ожидала злоба
Слепой Фортуны и людей
На самом утре наших дней...
151
В Онегине тоже есть отголоски вольтерьянства:
Сперва Онегина язык
Меня смущал; но я привык
К его язвительному спору,
И к шутке с желчью пополам,
И к злости мрачных эпиграмм.
Молодого Пушкина вообще часто сопоставляли с Воль-
тером. В дневнике В. П. Горчакова приводится разговор
светских женщин о Пушкине, в котором поэта называ-
ют «наш маленький Вольтер»18. Катенин вспоминал:
«Я в шутках называл его Le jeune Mr. Arauet (юный
господин Аруэ); сближение с Вольтером и каламбур:
а гоиег, где Дранное слово, как у нас лихой, злодей и
тому подобное, принимается в смысле льстивом, крайне
тешили покойника, и он хохотал до упада»19. А. Н. Вульф
рассказывал: «Языков в своем известном послании го-
ворит, что из Михайловского в Тригорское
На вороном аргамаке, ,
Заморской шляпою покрытый,
Вольтер, и Гете, и Расин,
Являлся Пушкин знаменитый»20
Вольтерьянец Швабрин получил внешность юного воль-
терьянца Пушкина. Переболев в юности вольтерьянст-
вом, со всей его разрушительностью, Пушкин в своем
герое показал историческую исчерпанность этого куль-
турного феномена.
У живописцев было принято изображать себя в кар-
тинах с историческими или библейскими сюжетами в
образах второстепенных участников событий. Такие
персонажи нельзя отождествлять с их создателями —
за очень редким исключением. Близкий знакомый Пуш-
кина, один из крупнейших русских художников К. Брюл-
лов изобразил себя в одном из героев своей знаменитой
«Гибели Помпеи». Пушкину тоже было, свойственно, хо-
тя бы в рисунках, переноситься в другие исторические
эпохи. Т. Г. Цявловская опубликовала два рисунка
Пушкина: придворный арап с-головой поэта и автопор-
трет в стиле времен Великой Французской революции21.
Кому еще, кроме Швабрина, из персонажей своих про-
изведений мог дать поэт свой лик вольтерьянца, нас-
мешника и остроумца?
Все три главных героя романа — Гринев, Швабрин
и Маша Миронова — являются вымышленными в пол-
152
ном смысле слова. В материалах по истории пугачев-
ского бунта таких исторических лиц нет. Взаимоотноше-
ния этих молодых людей являются достаточно триви-
альными для художественного произведения — это «лю-
бовный треугольник». В наблюдениях над сюжетной
основой романа есть два знаменательных момента, ко-
торые нуждаются в объяснении. «В процессе работы
Пушкин свободно переносит характеры и группы харак-
теров, ситуации, целые фабульные узлы из планов по- »
вествования на современную тему... в планы повести о
дворянине-пугачевце». В нескольких замыслах Пушки-
на «тема человека «неправильной» судьбы, обнаружи-
вающего нравственную стойкость в самых запутанных
обстоятельствах», становится центральной22. Основной
фабульный узел, который Пушкин переносит из замыс-
ла одного произведения в другое, — любовная интрига.
Правда, Г. П. Макогоненко утверждает, что «програм-
мная новизна «Капитанской дочки» в том и состоит, что
не любовь, а народная борьба стала «двигательницею
событий» этого романа»23- Уже в начале 1840-х годов
В. Г. Белинский выразил мнение его времени о том, что
любовь как основа сюжета устарела и не отражает всей
сложности и своеобразия современной действительно-
сти: «Интрига всегда завязана на пряничной любви,
увенчивающейся законным браком, по преодолении раз-
ных препятствий. Любовь у нас во всем — в стихах, в
романах, в повестях, в трагедиях, в комедиях и воде-,
вилях. Подумаешь, что на Руси люди только и делают,
что влюбляются, да, по преодолении разных препятст-
вий, женятся»24. При разработке сюжета Пушкин поль-
зовался теми или другими готовыми конструкциями,
наиболее универсальной из которых является любовная
интрига. Почему этот сюжетно-фабульный узел, вклю-
чающий в себя авантюрные приключения героя, несмот-
ря на многочисленные протестующие голоса критиков,
вплоть до нашего времени остается необходимым для
романа? В приведенном высказывании Белинского чет-
ко выделены основные части этой сюжетной схемы: ге-
рои влюбляются, преодолевают разные препятствия и
женятся. Чтобы понять историческую закономерность
неистребимости этого мотива в литературе, надо найти
его истоки. По отношению к «Капитанской дочке» кое-
что в этом направлении уже сделано.
Еще в 1928 году В. Шкловский отождествил образ
153
Пугачева с фигурой волшебного помощника сказки:
«Помощный разбойник. Он же в прошлом помощный
зверь. Герой оказывает разбойнику услугу, разбойник
его потом спасает»25. Шкловский увидел в романе и
сюжетную схему сказки: «Старику Гриневу понадоби-
лось, чтобы сын служил: это можно определить как
«недостачу» — не хватает чинов и орденов. Младший
Гринев отправлен в армию в сопровождении слуги. По
дороге он спасает путника и награждает его заячьим
тулупчиком. Таким образом он получает помощника.
Вредителем оказывается Швабрин, но Пугачев помогает
герою, и все кончается свадьбой». В. Б. Шкловский от-
метил и принципиальное родство романа со сказкой:
«Если пересказать романы, упрощая их содержание,
то схемы их будут похожи на схемы сказок»26. Под-
робно сказочная природа сюжетной схемы «Капитанской
дочки» рассмотрена в статье И. П. Смирнова «От сказ-
ки к роману»27. Вызывает возражения стремление
И. П. Смирнова буквально всех персонажей и все со-
бытия романа увязать со сказочным сюжетом и дейст-
вующими в них лицами. Такая установка приводит к
целому ряду натяжек и надуманных выводов. Ошибкой,
на наш взгляд, является также то, что этот исследова-
тель видит в основе структуры романа один сказочный
сюжет — нам представляется, что Пушкин использовал
два разных сказочных сюжета. Нуждается также в уточ-
нении отождествление персонажей романа с функцио-
нальными героями сказки. Вне поля зрения И. П. Смир-
нова осталась проблема функций сказочного сюжета в
структуре романа вообще и пушкинского в частности.
Мы считаем возможным предложить свои соображе-
ния по обозначенному кругу проблем.
Прежде всего следует сказать, что наиболее очевид-
ные фольклорные аналогии вызывают три.главных ге-
роя романа, а также Пугачев, отец Петра Гринева, Ека-
терина II, девка! Палашка, урядник Максимыч, Анна
Власьевна (жена смотрителя почтовой станции). За
пределами сказочной системы персонажей остаются суп-
руги Мироновы, Зурин, Савельич, Иван Игнатьевич и
др. В рамках первого сказочного сюжета действуют
Андрей Петрович и Петруша Гриневы, Маша Миронова,
Швабрин и Пугачев. К персонажам второго сюжета от-
носятся Маша Миронова, Петруша Гринев, Екатерина II
и Анна Власьевна.
154
Сюжет первой сказки очень распространен в между-
народном фольклоре, в русском1 известны несколько его
вариантов28. Герой сказки уходит из дому (часто отсы-
лаемый отцом) на поиски волшебных предметов (мо-
лодильных яблок и т. д.) или прямо на поиски невесты;
на грани своего мира и чужого («тридевятого царства»)
он встречает волшебного дарителя (от которого полу-
чает волшебного- помощника) или прямо волшебного по-
мощника, который тогда приобретает и функцию дари-
теля. Встреча происходит случайно, чаще всего в лесу
. или на границе поля и леса, на перекрестке дорог, в
поле, на улице, часто в тумане, во время непогоды, в
темноте. Этот мотив связан с рудиментами мифологи-
ческих представлений о границе своего мира (мира лю-
дей, мира живых) и чужого (мира мертвых, хаоса).
Даритель может быть животным (остаточные представ-
ления о тотемном звере), мертвецом (культ предков),
иногда это может быть умерший отец героя и т. п.
С помощью волшебного помощника герой проникает в
иной мир, проходит трудные испытания (следы обряда
инициации), побеждает антагониста (вредителя) — хо-
зияна тридевятого царства, змея, Кощея и т. д. — и до-
бывает у него невесту, магические предметы. На обрат-
ном пути на героя нападают его старшие братья или
брат, товарищи или товарищ. Обманом завладев добы-
чей, ложные герои (или герой) коварно пытаются изве-
сти героя (наносят ему тяжкие увечья, убивают или
сбрасывают его в подземелье). Герою удается спастись,
он возвращается и расстраивает свадьбу ложного героя
с похищенной красавицей. Спасает, излечивает, ожив-
ляет героя и помогает ему вновь найти невесту волшеб-
ный помощник. Сказка кончается женитьбой героя.
Второй фольклорный сюжет, использованный в «Ка-
питанской дочке» (по указателю. Аарне-Андреева 880 А,
880 В, 888), тоже является весьма распространенным в.
фольклоре разных стран. Схема его такова: очень час-
то сказка начинается с того, что муж хвастается своей
женой и за это посажен в тюрьму; жена переодевается
в мужское платье, идет к тому властителю, который
заключил ее мужа в темницу, и выручает его. В сказ-
ке 338 сборника А. Н. Афанасьева «Царица-гусляр»
жена выручает мужа, переодевшись гусляром, очаро-
вав короля чужой страны своей игрой и пением, за ко-
торые в награду получает мужа. Этот сюжет встреча-
155
ется и в героическом эпосе. Так, в сборнике Кирши Да-
нилова, который Пушкин великолепно знал, есть были-
на «Про Ставра-боярина». На пиру у князя Владимира
Ставр Годинович похвалялся умом и хитростью своей
жены, которая способна обмануть бояр и самого князя.
Князь заключает Ставра в темницу, «в погреба глубо-
кие». Жена Ставра приезжает в Киев под видом чуже-
земного посла (жениха). Умная героиня освобождает
из заточения своего мужа. Жена Ставра побеждает трех
поединщиков, стреляет из богатырского лука, обыгры-
вает князя Владимира в шахматы. Б. Н. Путилов пишет
о ней: «Героиня былины умна, находчива, остроумна.
Этими своими качествами она напоминает женщин из
сказок... Ее (можно было бы назвать последней богатыр-
кой в русском эпосе: героические черты в ней гармони-
чески соединяются с чертами обыкновенной (и обая-
тельной в этой своей обыкновенности) женщины»29.
Обнажая в развитии сюжета «Капитанской дочки»
какие-то части фольклорных сюжетов, необходимо пом-
нить о том, что тождество между романом и сказкой
невозможно, и, следовательно, речь идет именно о выяв-
лении отдельных структурных компонентов сказочного
сюжета и Отдельных функций ее персонажей в'сюжете
и системе персонажей романа. В начале «Капитанской
дочки» дано описание жизни Петруши Гринева в роди-
тельском доме. Это соответствует начальной ситуации
первого сказочного сюжета. В. Я. Пропп отмечает, что
обычно «начальная ситуация дает описание особого,
иногда подчеркнутого благополучия... Это благополучие,
конечно, служит контрастным фоном для последующей
беды»30. Жизнь Петруши в родительском доме вполне
благополучна. В 'сказке герой затем отлучается из дома.
В романе этому соответствует отъезд Гринева на служ-
бу. По Проппу, круг действий героя сказки охватывает
отправку на поиски (волшебных предметов или невес-
ты), реакцию на требование дарителя, свадьбу, магиче-
ские испытания, которые герой обязательно выдержи-
вает благодаря волшебному помощнику. Герой этого
сказочного сюжета часто отличается простодушием, гра-
ничащим с глупостью (в некоторых вариантах — дура-
чок). Однако за сказочной «глупостью» всегда скрыва--
ется положительный герой31- Так что простодушие, ис-
кренность, некоторая наивность и, самое главное, кажу-
щаяся интеллектуальная неразвитость Петруши восхо-
156
Дят к этому сказочному персонажу. Насчёт героя скй§-*
ки читатели никогда не заблуждаются, зная, что его
«придурковатость» — только маска, которая спадет со
временем. Гриневу в этом отношении не повезло — его
настойчиво отождествляли с Митрофанушкой и даже
когда замечали некоторые несоответствия этому образу,
не могли совершенно отрешиться от устоявшихся пред-
ставлений.
Следующей частью сказочного сюжета является
встреча героя с дарителем, образ которого может сов-
мещаться с волшебным помощником. Этот момент s
«Капитанской дочке» — встреча Петруши с Пугачевым
во время бурана в Оренбургской степи — отмечен мно-
гими пушкинистами: «...я глядел во все стороны, наде-
ясь увидеть хоть признак жила или дороги, но ничего
не мог различить, кроме мутного кружения метели...
Вдруг увидел я что-то черное. «Эй, ямщик! — закри-
чал я, — смотри: что там такое чернеется?» Ямщик
стал всматриваться. — А бог знает, барин, — сказал
он, садясь на свое место, — воз не воз, дерево не дере-
во, а кажется, что шевелится. Должно быть, или волк,
или человек». Так впервые Пугачев появляется перед
Гриневым и входит в роман — по’ законам сказки.
Он появляется в степи во время бурана, на границе чу-
жого для "героя мира. Образ этого мира восходит к
мифологическим космогоническим представлениям, где
любой чужой мир воспринимался как мир смерти, в
котором герой, пришедший из своего мира, не может
ничего видеть (непроглядный туман, буран в степи, тем-
ный лес, сюда же относится лабиринт — специально
построенная модель мира смерти, хтонического хаоса).
Гринев, Савельич и ямщик ничего не видят в чуждом
мире. Пугачев сразу заявил, что сторона эта ему зна-
кома, «исхожена и изъезжена вдоль и поперек». Он оп-
ределяет, куда ехать, по запаху, которого никто не чув-
ствует. Вожатый появляется в .образе не то волка, не
то человека — мотив встречи с тотемным зверем, самым
древним волшебным дарителем.
На пути к постоялому двору герою, переполненному
новыми впечатлениями и ещё недавними воспоминаниями
о родительском доме, измученному дорожными волне-
ниями и уже доверившемуся вожатому, приснился сон,
в котором реальность причудливо переплелась с фан-
157
тактикой, бон, убедительно сконструированный по Зайб-
нам трансформации действительности в сновидениях.
В нем есть и буран, и блуждание по снежной пустыне,
завершившееся невольным возвращением домой, мать
героя и вожатый. Но случайное возвращение оказалось
мотивированным несуществующим известием о, болезни
отца, в постели вместо отца оказался вожатый, и ма-
тушка настаивает, чтобы юноша принял благословение
у -этого своего посаженого отца. В сне даже как будто
содержится и пророчество: вожатый оказался разбой-
ником, он начал размахивать топором,, и комната на-
полнилась мертвыми телами. В сне «страшный мужик»
обращается с Гриневым очень ласково.
Фантастические ситуации сна воспроизводят ска-
зочно-мифологические представления. То, что вожатый
Оказался в роли посаженого отца героя объясняется
генетической связью волшебного дарителя (помощника)
с культом предков — ан мог быть умершим (умираю-
щим) отцом. Сцена с окровавленными телами людей,
зарубленных топором «страшного мужика», выступаю-
щего в качестве отца, желающего благословить героя,
почти точно воспроизводит фрагменты некоторых вол-
шебных сказок, в которых переосмыслен обряд инициа-
ции32. Смысл этого обряда — ритуальное убиение под-
ростка и его последующее воскрешение, делавшее его
полноправным членом коллектива и предоставлявшее
право вступать в брак. Воспоминания об этом жестоком,
но необходимом с точки зрения первобытного человека
обряде трансформировалось в сказке в описание тяже-
лых и опасных испытаний и приключений героя, выдер-
жав которые он побеждает и вступает в счастливый
брак. В Пугачеве есть черты волшебного дарителя (по-
мощника, организующего обряд инициации, несущего
для героя смерть и воскрешение, зло и благо). Во всех
сказочных трансформациях обряда инициации сохрани-
лись его основная идея (смерть и возрождение к новой
жизни) и более позднее понимание его как несущего
опасность и гибель. Двойственность этой разновидности
волшебного помощника отразилась в романе в двойст-
венном отношении Гринева к Пугачеву еще при первой
их встрече. Вожатый вывел Гринева из буранной степи,
но во сне Петруши он оказывается кровавым разбойни-
ком; после разговора вожатого и хозяина умета постоя-
158
лый двор, стоящий «в стороне, в степи, далече от
кого селения» стал очень походить «на разбойническую
пристань». Здесь отношения Гринева и Пугачева окон-
чательно оформились по модели отношений героя и
волшебного помощника сказки: встреченный в поле и
предложивший себя в вожатые Пугачев получил от
Петруши заячий тулупчик и заручился расположением
и помощью казака на будущее. Заметим, что Маша
Миронова видела в Гриневе готовность «всякому чело-
веку помочь» — это обязательная черта сказочного ге-
роя.
Прибыв в Белогорскую крепость, пушкинский герой
попадает в чужой для него мир. Не случайно именно
там встретил он свою суженую. Но на этом этапе раз-
вития сюжета в романе еще нет антагониста (в отличие
от сказки). Маша Миронова свободна в своем выборе
жениха и никто ее судьбой не распоряжается. Противо-
действие ее браку с Гриневым приходит со стороны
родителей Петруши, что противоречит сказке.
В статье И. П. Смирнова Зурин и Швабрин опреде-
ляются как антагонисты героя. Это абсолютно неверно.
Зурин вообще не укладывается в событийную модель
сказки, оба они принадлежат к одному с Гриневым ми-
ру, ни один из них не обладает волшебными предметами
или невестой, не является хозяином иного мира. Шваб-
рин и Гринев, как уже сказано, во многом сходны, а
в Белогорской крепости на первых порах воспринима-
лись как типологически одинаковые (в сказке—братья).
Они сразу становятся друзьями, Швабрин претендует на
роль наперсника Гринева; проступки Швабрина (донос,
клевета, предательское ранение н^ дуэли) Петруша
простил Швабрину, и они восстановили наружно дру-
жеские отношения. Следовательно, Швабрин на протя-
жении всего романа выполняет функции ложного героя.
В сказке это брат или товарищ, который после добыва-
ния героем искомого вероломно нападает на него, от-
нимает добычу и стремится погубить героя — убить,
столкнуть в яму, искалечить — потом пытается женить-
ся на его невесте. В сказке функции ложного героя
очень часто совмещаются с функциями специальных
персонажей, по терминологии В. Я- Проппа, — жалоб-
щиков, доносчиков, клеветников, предателей33. Поведе-
ние Швабрина до начала Пугачевского бунта — это по-
159
ведение клеветника (клевета на Машу), доносчика
(письмо отцу Гринева), предателя (поведение на дуэли).
Функции сказочных персонажей вообще могут совме-
щаться в одной фигуре: даритель и волшебный помощ-
ник, ложный герой и специальный персонаж (доносчик,
клеветник, предатель). Совмещение антагониста и вол-
шебного помощника в одном лице в сказке невозможно,
Ибо волшебный помощник помогает герою в борьбе с
антагонистом и не может бороться с самим собой. Одна-
ко эти фигуры генетически родственны — антагонист —
хозяин чужого мира, а волшебный помощник черпает
свою магическую силу тоже из иного мира. Но логика
развития сказочного действия развела и противопоста-
вила их друг^другу: помощник «за» героя, антагонист —
«против» него. Но в романе в образе Пугачева эти
функции соединены. После захвата Белогорской крепо-
сти пугачевцами их предводитель появляется в новом
облике — царя, а Маша и Гринев оказались в его влас-
ти, причем Петруша уже вступил в борьбу с Пугачевым.
В сцене казни офицеров крепостного гарнизона Пугачев
и антагонист, и волшебный помощник Гринева. По-ви-
димому, И. П. Смирнова ввело в заблуждение то об-
стоятельство, что дочь капитана Миронова попала в
результате захвата крепости в руки Швабрина, и Гри-
неву в дальнейшем пришлось, при помощи Пугачева,
вновь добывать невесту и избавлять ее от брака со
Швабриным. Но на самом деле Маша вынуждена ос-
таваться под властью Швабрина потому, что попасть
в руки пугачевцев для нее еще страшнее. Так что вла-
деет Машей не столько Швабрин, сколько Пугачев.
Он может в любой момент отнять девушку — собст-
венно, так он и поступил, передав ее Гриневу. То, что
Маша оказалась все же в руках Швабрина, не делает
его антагонистом — отнятая у героя невеста и в сказ-
ках оказывается в руках ложного героя, принуждающе-
го ее к браку. Сложность образа Пугачева — на уров-
не сказочного сюжета — объясняется произведенной
Пушкиным сменой миров. В начале романа домашнему
миру Петруши противостоит Оренбург и Белогорская
крепость (другое царство). Противопоставление по преи-
муществу пространственное, поэтому и Пугачев — вол-
шебный помощник встречается с ним в степи, а в их
отношениях отсутствует социальная рознь, нет вражды.
160 10*
Затем миры, в которых действуют герои, противо-
поставляются по социальному принципу — мир стихии
крестьянской войны и дворянский мир. При таком про-
тивостоянии миров Пугачев неизбежно становится ан-
тагонистом Гринева, сохраняя функции волшебного по-
мощника. Такая противоречивость функций Пугачева
соответствует диалектической сложности личности исто-
рического деятеля такого масштаба и своеобразию его
отношений с Гриневым в романном сюжете.
Пугачев сделал Машу сиротой и чуть не повесил
Гринева — как антагонист (вредитель), но он же спас
Гриневу жизнь и освободил Машу от притязаний Шваб-
рина, помогая сироте. Первоначально у Пушкина Петр
Андреевич Гринев едет прямо в Бердскую слободу к
Пугачеву, просить его помощи. Потом, по цензурным
соображениям, писатель отправил Гринева в одиночку
освобождать Машу, но все равно герой просит помощи
у Пугачева, оказавшись в его руках, пусть и невольно.
Противоречивость функций Пугачева в этой сцене осо-
бенно очевидна: Гринев находится в плену, у крестьян-
ского царя, но этот царь защищает его от своих генера-
лов и помогает добыть Машу. Характерно, что Гринев
упорно не желает, признать в Пугачеве царя, он отно-
сится к Нему как к благодетелю, настойчиво подчерки-
вая это на протяжении всего романа. Пугачев для Пет-
руши не царь — антагонист, хозяин другого царства,
а волшебный помощник в хаосе крестьянской войны.
В перипетиях сложной судьбы Гринева и Маши Ми-
роновой участвуют девка Палашка и урядник Макси-
мыч, образы, выполняющие в сказках функции специ-
альных персонажей для связок.
Первый сказочный сюжет завершается на том этапе
романного сюжета, когда герой окончательно соединил-
ся с Машей Мироновой (суженой). Она отправилась в
сопровождении верного Савельича к родителям Грине-
ва, которые обязательно примут в свой дом сироту и
полюбят ее как родную дочь. Свадьба теперь неминуе-
ма. Пушкин в нескольких повестях доводил развитие
действия до свадьбы («Метель», «Барышня-крестьян-
ка»), но никогда ее не изображал, так как само неиз-
бежное наступление свадьбы является концом сюжета —
уже в сказке.
Второй сказочный сюжет начинается с весьма реду-
цированного мотива похвальбы героя своей женой. Ко
11-3103
161
Нёц первого сюжета почти Совмещён с началок» Второго!
«...я твердо решился, как скоро обстоятельства позво-
лят, жениться на ней». На вопрос Савельича: «А что
скажет батюшка, а матушка-то что подумает?» — Гри-
нев отвечает: «Согласятся, верно согласятся, когда уз-
нают Марью Ивановну». Савельич вторит барину:
«Марья Ивановна такая добрая барышня, что грех и
пропускать оказию..., рабски буду доносить твоим ро-
дителям, что такой невесте не надобно и приданого».
Гринев попал в тюрьму по оговору Швабрина (до-
носчика, клеветника, предателя), но косвенно была ви-
новата в его несчастье Маша, и она это сознавала: из-
за нее юноша ездил в стан Пугачева; храня ее честь и
покой, не сМог оправдаться на суде. Окончательный при-
говор герою вынесла Екатерина II, русская императри-
ца, а в сказочном сюжете — властительница чужого цар-
ства. Так почти незаметно один сказочный сюжет перели-
вается в другой, а главной героиней теперь становится
Маша Миронова, и противостояние враждебных миров
теперь дается применительно к ней. Снова «свой» мир —
теперь уже для героини — имение Гриневых, ставшее
для нее родным домом, домом ее будущего мужа, а
«чужой» мир — двор Екатерины II. Архаические пред-
ставления о множественности миров, самостоятельных,
изолированных друг от друга, труднопроницаемых для
человека, хотя и связанных между собой, отразившиеся
в сказке в пространственной схеме противостояния свое-
го и чужого царств, изначально мира живых и мира
мертвых, использованы Пушкиным для изображения
многомерного, сложного, динамичного, но единого мира.
Романный герой, как и сказочный, переходит из одного
мира в другой, но миры эти окрашены и пространствен-
но, и исторически, и социально и при этом сохраняют
фольклорно-мифологическую основу. Пространственно
противостоящие друг другу в последней части романа
симбирская деревня Гриневых и двор императрицы об-
ладают историко-культурным и этическим содержа-
нием.
Приключения Гринева, хотя и строятся по схеме ска-
зочного сюжета, всегда исторически правдоподобны и
убедительно мотивированы в реальности. Этого нельзя
сказать о путешествии Маши в Царское Село. Начало
этого путешествия весьма правдоподобно. Она отправ-
ляется в дорогу, открыв цель своей поездки Авдотье
162
Васильевне Гриневой, Матери ПетрУшй, снабженная всем
необходимым, «с верной Палашей и с верным Савельи-
чем». Но это упоминание про слуг — и даже про Са-
вельича — последнее в романе. С точки зрения бытовой
достоверности'и логики характеров Палаши и Савельи-
ча, читатель должен ждать их участия в событиях раз-
вязки романа. Однако эти персонажи, отправившись в
путь вместе с Машей, словно растворились по дороге.
В «Софию» героиня приехала как будто одна, «ей от-
вели уголок за перегородкой. «В ее судьбе активное
участие приняла встреченная на почтовом дворе Анна
Власьевна, жена смотрителя. Анна Власьевна провожа-
ет Марью Ивановну «советами и благословениями»,
когда ее потребовали к государыне. Почти невозможно
представить себе, чтобы Савельич не присоединился к
этим советам и благословениям — ведь он ехал не
только охранять Машу, но и освобождать своего вос-
питанника и хозяина. Еще больше удивляет поистине
сказочная легкость, с которой Марье Ивановне удалось
добиться встречи с императрицей. Однако конец рома-
на не воспринимается как неправдоподобный. И причи-
на этого заключается в том, что Марья Ивановна дей-
ствует по модели фольклорного сюжета о жене, осво-
бождающей мужа из заточения. Именно поэтому нет
места в сюжете ни Палаше, ни Савельичу — фольклор-
ная героиня отправляется в путь в чужое царство и дос-
тигает своей цели одна. Но Пушкин и отступил от ска-
зочной сюжетной схемы: Марья Ивановна получает
волшебного помощника, которого нет в фольклорном
сюжете о жене, освобождающей мужа, •— Анну Влась-
евну. Жена смотрителя и племянница придворного ис-
топника, знающая подробности быта царицы, ввела
Машу в царский сад. Это, по-видимому, чисто сказоч-
ный мотив — вряд ли любой проситель мог так запрос-
то проникнуть в ту часть Царскосельских садов, где по
утрам регулярно гуляла Екатерина. Пушкинская герои-
ня, в отличие от фольклорной, вступает в борьбу не с
враждебным царём, а с царицей; она не прибегала ни
к хитрости, ни к другим фольклорным средствам. Марья
Ивановна добилась своего хоть и почти со сказочной
быстротой, но действуя прямодушно и честно. Ее обая-
ние, повлиявшее на решение Екатерины, — в нравствен-
ной чистоте, самоотверженности и скромности. И все-
таки встреча Марьи Ивановны Мироновой с Екатери-
11* 163
Йбй II воСприйймйетйя как пбедйнбк, в котором онй одер-
жала по'беду. Г. П. Макогоненко, например, писал:
«...честь освобождения невиновного Гринева принадле-
жит капитанской дочке. ‘Она не согласилась не только
с приговори суда, но и с решением Екатерины II. ...Она
отважилась поехать в столицу, чтобы опровергнуть ар-
гументы императрицы, осудившей Гринева. ...Маша Ми-
ронова вступила в поединок и выиграла его»34. Аргу-
ментируя свои выводы, Г. П. Макогоненко ссылается
на то, что читатель знает, с кем разговаривает Марья
Ивановна на самом деле, и восхищается ее дерзостью
и смелостью. Но ведь Маша-то разговаривает в саду
не с всесильной императрицей, а с доброжелательной
придворной дамой. Но Г- П. Макогоненко прав: Пушкин
опирается в этой сцене на читательское сознание, на
его фольклорно-мифологические слои. Живущие в на-
шем сознании фольклорные структуры определили
восприятие финальных сцен романа как поединка царя,
посадившего героя в «погребы глубокие», и жены, спа-
сающей мужа.
Изменение финала фольклорного сюжета, как и то,
что этот сюжет потребовался, связано с реальными об-
щественными условиями русской действительности и
художественным замыслом писателя. Если бы Маша
вступила в настоящую борьбу с Екатериной, то поэту
пришлось бы рисовать ее долгие и унизительные хло-
поты, мелкую борьбу с чиновниками и т. п. Вряд ли
дочке капитана Миронова удалось бы добиться аудиен-
ции у императрицы: скорее все ограничилось бы пись-
менным прошением, может быть, безрезультатным.
Даже при условии положительного ответа дело это за-
тянулось бы на месяцы или годы, что привело бы к
остановке сюжетного действия. Единственное, что могло
дать скорый и положительный результат — это личная
встреча с императрицей. Но, сохраняя историческую
точность, Пушкин должен был бы показать нравы Ека-
терининского двора, с которыми столкнулась бы капи-
танская дочка, добиваясь этой встречи. Сюжет неизбеж-
но Усложнился бы, а характер героини изменился. Толь-
ко второй фольклорный сюжет мог лечь в основу благо-
получного финала романа, в центре которого — образ
чистой и неискушенной девушки-сироты.
Очень правдоподобно и психологически убедительно
в финале романа поведение Екатерины II. В предло-
164
женной Пушкиным ситуации ведет себя в полном соот-
ветствии с историческим характером этой русской им-
ператрицы, но сама ситуация взята из фольклора. Ес-
ли бы Маша добралась до Екатерины, то ее предприя-
тие, скорее всего, закончилось бы именно так, как на-;
писал Пушкин. Но добиться этой встречи, сохранив
свои прекрасные нравственные качества, можно было
лишь в сказке или эпической песне. В финале искусно
совмещены фольклорный сюжет и историческая реаль-
ность.
Как уже говорилось, создавая характеры и судьбы
Гринева и Швабрина, Пушкин опирался не столько на.
исторические факты, сколько на исторические законо-
мерности, показывая не то, что было, а то, что должно
было быть и могло быть. Это относится в еще большей
мере к Маше Мироновой.,Правда, здесь единственный
случай в романе, когда Пушкину пришлось прибегнуть
к созданию малодостоверной ситуации. Однако поэт
писал: «...под словом роман разумеем историческую
эпоху, развитую в вымышленном повествовании». Исто-
рическая эпоха изображена Пушкиным абсолютно точ-
но, хотя и в вымышленном повествовании. Как это мож-
но осуществить, Пушкин ясно понимал: «Ум человече-
ский, по простонародному выражению, не пророк, а
угадчик; он видит общий ход вещей и может выводить
из оного глубокие предположения»35. В организации
сюжета и построении системы персонажей огромную
роль играют фольклорные структуры.
В эпилоге романа снова звучит мотив взаимоотно-
шений Гринева и Пугачева. Петр Гринев видел Пугаче-
ва плохо одетым путником, видел его царем, увенчан-
ным народом, он становится свидетелем его развенча-.
ння и смерти. Образ крестьянского царя весь пропитан
фольклорными представлениями — больше, чем дворян-
ские цари Годунов и Отрепьев. Его фольклорная функ-
циональность (властитель чужого мира и волшебный
помощник) в художественной ткани романа теснейшим
образом связана с исторической ролью Пугачева — на-
родного царя и с архаическими представлениями о пра-
вителе, все еще сохранявшими свою кардинальность в
народном сознании. Пугачев использует древние народ-
ные аргументы для доказательства своего права на
престол. Он показывал так называемые «царские зна-
ки», изба в Бердской слободе, в которой он жил, была
165
изнутри оклеена золотой бумагою, он одет был в крас-
ный кафтан (багряница — цвет царей), ездил на пре-
красном белом коне. Народ и сам творит легенду о нем
по известной архаической модели о царе-жреце (воз-
вращающемся, воскресающем избавителе). Так, напри-
мер, казак рассказывает Гриневу о признаках, которые,
по его мнению, свидетельствуют о царском происхож-
дении Пугачева: «По всему видно, что персона знатная:
за обедом скушать изволил двух жареных поросят, а
парите^ так жарко, что и Тарас Курочкин не вытерпел,
отдал веник Фомке Бикбаеву да насилу холодной во-
дой откачался... А в бане, слышно, показывал царски,е
свои знаки на грудях: на одной двуглавый орел, вели-
чиною с пятак, а на другой персона его». Здесь собра-
ны типичные признаки архаического царя: знаки цар-
ского посвящения (настоящий Пугачев показывал шра-
мы); необыкновенная выносливость в парной (отзвук
воспоминаний о ритуальном испытании огнем); золотой
дом (соединение наивного представления о роскоши
дворца с архаическими представлениями о золотом под-
земном царстве). Наряду с таким отношением к Пуга-
чеву народа, в романе правдиво показана и точка зре-
ния близко знавших его казаков, для которых он —
удалый казак Емельян Пугачев и одновременно свой,
ими выдвинутый и признанный царь.
В отличие от Григория Отрепьева, Пугачев ни на
минуту не верит в свою избранность, но зато он пони-
мает, что его царское положение подкрепляется лишь
удачливостью в исполнении народной воли. Это чело-
век своего XVIII века, но одновременно подлинно на-
родный вождь. Может быть, поэтому он более откро-
венен в исполнении взятой на себя роли, чем Лжедмит-
рий.
Сцена казни самозванца, подробно запечатленная в
«Истории Пугачева», оказалась за пределами сюжета
«Капитанской дочки». Маша Миронова добилась осво-
бождения своего будущего мужа, и на этом роман за-
канчивается. В эпилоге, написанном издателем, речь
идет о благополучной судьбе Марьи Ивановны и Петра
Андреевича Гриневых и их потомков. Однако Пушкин
счел необходимым упомянуть в нем о казни Пугачева —
перед смертью он кивнул Петруше головою, «которая
через минуту, мертвая и окровавленная, показана была
народу». Пугачев развенчан и казнен, но идея царя-
166
избавителя не ушла из народного сознания с его
смертью.
Особенность романа, по мнению М. М. Бахтина,
в том, что это «единственный становящийся жанр, по-
этому он более глубоко, существенно, чутко и быстро
отражает становление самой действительности..., он
лучше всего выражает тенденции становления нового
мира, ведь это — единственный жанр, рожденный этим
новым миром и во всем соприродный ему»36. В пушкин-
ском произведении отражены именно тенденции обще-
ственного развития в новое время. В романе показаны
крестьянская война в ее объективно историческом пони-
мании (в художественно-конкретном изображении) и
резко .возросшая роль высоко развитого личностного
сознания (в его различных историко-типологических
вариантах) в развитии общественного сознания. Про-
исхождение романной формы Бахтин связывал с пере-
осмыслением эпической традиции. Ученый убедительно
показал, как в процессе становления романа заменя-
лись основные части эпической структуры. От эпоса в
романе и особенно в историческом романе, сохранилась
тема судьбы народа, судьбы человечества, которая была
основным идейным содержанием народного эпоса. Однаг
ко роман невозможен без изображения конкретной лич-
ности в исторической эпохе. В волшебной сказке впер-
вые в словесном искусстве проявился «интерес к личной
судьбе», который «должен быть дополнен интересом к
душевным переживаниям, изображениям душевной жиз-
ни и внутренних конфликтов», чтобы стало возможным
рождение романа37.
Е. М. Мелетинскнй показал «исключительное значе-
ние сказки и сказочности (включая сюда и мифологиче-
ский фон) для формирования романа»38. Если в траге-
дии главная проблема — .взаимоотношения правителя
(вождя) и народа, то в романе 1— человек и народ, лич-
ная судьба и судьба народная. Недаром мотив любов-
ных отношений столь неизбежен для романной структу-
ры, хотя, как показал Г. П. Макогоненко, писатели, и
критики приходили к мысли об обветшалости этого мо-
тива. Называя наиболее необходимые для романного
сюжета элементы сказки, Мелетинскнй перечисляет
«эпизоды героического или фантастического сватовства
с преодолением разных трудностей и победами над со-
перниками, поиски суженой... и другие подобные ’моти-
167
вы»38. Пушкин мог бы не включать в трагедию «Борис
Годунов» любовный мотив, он обошелся без него в по-
вестях («Выстрел», «Гробовщик»), но ни один свой
роман писатель не замышлял без любовной интриги
как сюжетообразующего фактора. Е. М. Мелетинский
отмечал также, что само по себе наличие этих необхо-
димых для романа фольклорных мотивов еще не созда-
ет романа — между личной судьбой и личностью, между
добыванием невесты и формированием парной семьи и
сложными любовными отношениями людей нового вре-
мени существует огромная историческая дистанция.
Как ни далеко ушли по пути эволюции трагедия и
роман от своих генетических предков, связь между тра-
гедией и обрядовыми действами, между эпосом, сказ-
кой и романом не прервалась ни на уровне идейного
содержания, ни на уровне художественной структуры.
Оба использованных Пушкиным в «Капитанской дочке»
фольклорных сюжета встречаются как в волшебной
сказке, так и в героическом эпосе.
М. М. Бахтин подчеркивал принципиально важную
для романа особенность: в романе «через контакт с
настоящим предмет вовлекается в незавершенный про-
цесс становления мира, и на него накладывается печать
незавершенности. Как бы он ни был далек от нас во
времени, он связан с нашим неготовым настоящим не-
прерывными временными переходами, он получает от-
ношение к нашей неготовности, к нашему настоящему, а
наше настоящее идет в незавершенное будущее»39. Это
положение верно и по отношению к самому жанру: «Ро-
ман соприкасается со стихией незавершенного настояще-
го, что и не дает этому жанру застыть»40.
Как развивалась романная структура, созданная в
«Капитанской дочке»? А. В. Чичерин считал, что «во
всем стилистическом строе романов, над которыми тру-
дился Пушкин, обнаруживается тот путь, по которому он
уже шел и который вел гениального , писателя прямо к
произведению вроде «Войны и мира»41. А. В. Чичерин
сравнивал работу Пушкина над замыслами прозаиче-
ского романа и формирование и развитие замысла ро-
манов Л. Н. Толстого «Декабристы» и «Война и мир».
Он справедливо отметил, что «в прозаическом романе в
сравнении с повестями связи личности и общества долж-
ны быть конкретнее и полнее, анализ сознания острее
и тоньше. Образование'характера,, определяемого средой
16®
и семейной обстановкой как частью этой среды, становят-
ся предысторией, краеугольным камнем романа»42. Но
при этом А. В. Чичерин считал, что, замышляя сложный
роман из великосветского быта «Русский Пелам», Пуш-
кин отказался от работы над ним, чтобы написать по-
весть из истории крестьянского восстания 70-х гг. XVIII в.,
потому что думал, как кажется А. В. Чичерину, что
«Капитанская дочка» русскому народу была несравнен-
но нужнее». Это суждение, по-видимому, основано преж-
де всего на недооценке центрального образа «Капитан-
ской дочки». По мнению А. В. Чичерина, Пелымов за-
думывался как «сложный психологический образ» — в
отличие от «бесхитростного Петруши Гринева»43. По-
этому А. В. Чичерин сосредоточил внимание на рассмот-
рении сходных моментов в «Русском Пеламе», «Декаб-
ристах» и «Войне и мире», оставив в стороне «Капитан-
скую дочку». Но мысль самого же А. В. Чичерина о
связях личности и общества как содержании романа
полностью относится к «Капитанской дочке». А. В. Чи-
черин не видит связи между набросками «В начале
1812 года», «Записки молодого человека», планами по-
вести о.стрельце, «Русским Пеламом» и «Капитанской
дочкой». Но ведь это движение одного замысла: о раз-
витии и формировании личности честного, чистого, доб-
рого и благородного молодого человека в испытаниях
пошлостью и грязью жизни и невольным участием в
крупных исторических событиях — замысла, полностью
воплотившегося у Пушкина в романе «Капитанская
дочка», а у Л. Н. Толстого в «Войне и мире». При всем
различии личностей и судеб двух писателей родство их
художественных поисков очевидно. Пересекаются эпо-
хи — и Пушкин, и Толстой собирались изобразить 1825
и 1812 гг., в центре внимания очень похожие герои, ко-
торых, может быть, случайно, а может быть и нет, зовут
одинаково. Пьер Безухов относится к тому поколению,
к которому принадлежит внук Петра Андреевича Гри-
нева. Их и зовут одинаково. Поиски Пушкина более ши-
роко распространены во времени (с конца XVII века до
двадцатых годов XIX века), Л. Н. Толстой сразу опре-
делил для себя то поколение русских людей, которое
должно было стать предметом изображения в его рома-
не — поколение декабристов. А. В. Чичерин пишет: «Со
времени работы над «Декабристами», в период от 1856
до 1860 года, определился стержневой образ... — образ
169
наивного, славного, слабого, увлекающегося, правдо-
любивого, пытливого, способного отстаивать свои взгля-
ды, очень честного и очень умного человека, постоян-
но движущегося вперед, изменчивого и неизменного, пол-
ного противоречий и колебаний»44. И Пушкин, и Тол-
стой прежде всего определили стержневой образ своих
романов. Характеристика, которую дал А. В. Чичерин
Пьеру Безухову, почти полностью относится и к Петру
Гриневу. Столь же верна по отношению к обоим геро-
ям и следующая мысль исследователя: «Именно Пьер
наиболее полно вмещает в своем сознании, переживает
и оценивает исторические события и события частной
жизни как частицы общей истории народа. Его челове-
ческая судьба — особенно чувствительна к действию
этих событий. В своей классовой среде он наиболее вос-
приимчив к влиянию народа, ищет сближения с ним и,
таким образом, воплощает самое глубокое стремление
автора»45. Личные судьбы Пьера Безухова и Петра Гри-
нева тоже сходны. Герой Пушкина в начале романа
вступает во взрослую жизнь, как и Пьер в первой сце-
не «Войны и мира». Различие в том, что Гринев покида-
ет родительский дом, где и получил образование, а Бе-
зухов вернулся из-за границы, получив образование там.
Пьер в первых частях романа тоже прошел через увле-
чение вином, женщинами, игрой. Как и Гринев, он был
на время искусственно изъят из мира развлечений свет-
ских буянов. К началу крупных исторических событий,
всколыхнувших всю страну, оба героя оказались в жиз-
ненном тупике и оба они склонны искать рассеяния в
наружном разврате. Конечно, причины разочарования в
жизни Петруши и Пьера не во всем совпадали, но есть
и общие обстоятельства, приведшие их в тупик. Гринев
говорит о своем одиночестве и бездействии в Белогор-
ской крепости; можно добавить бесперспективность, мо-
нотонность его службы; но главной была несчастная
любовь: «Любовь моя разгоралась в уединении и час от
часу становилась мне тягостнее... Дух мой упал. Я боялся
или сойти с ума или удариться в распутство». Для Пье-
ра— это невозможность общественных преобразований,
в которых он хотел принять участие; но и одиночество
и вынужденное бездействие. А. В. Чичерин отметил так-
же: «Черновики показывают, что у Толстого было свое-
го рода искушение так закончить эту главу: «Только
в самой, самой глубине души своей Пьер говорил себе,
170
объясняя свою распущенную жизнь, что сделался таким
не от того, что природа его влекла к этому, а от того,
что он влюблен несчастливо в Наташу и подавил в себе
эту любовь»46.
Выход из тупика и смысл жизни герои Пушкина и
Толстого обрели, пройдя через горнило всенародных ис-
пытаний- В ходе этих испытаний и Петруша, и Пьер со-
вершают поступки необычные, резко выделяющие их из
' социальной среды. Гринева и Безухова роднит самосто-
ятельность решений и поступков, готовность взять за
них ответственность на себя. Несмотря на недостатки,
главным качеством обоих является доброта и готовность
помочь любому человеку.
Рядом с Петрушей Гриневым его друг и соперник
Швабрин. Рядом с Пьером Безуховым тоже его друг и
невольный соперник Андрей Болконский. Конечно, Бол-
конский не Швабрин, но на нем виден определенный
налет вольтерьянства — язвительность, насмешливость,
индивидуализм, презрение к светскому обществу, стрем-
ление прославиться во что бы то ни стало. Пьер Безухов
и Андрей Болконский, сами того не желая, оказались
соперниками в любви. Толстой еще в процессе работы
над «Декабристами» разрабатывал этот сюжетно-фа-
бульный узел. В черновике «Декабристов» сообщается о
судьбе героини: «...она была почти обручена с Мятли-
ным, который был убит... она мне всегда говорила, что
ей почему-то казалось, что она не выйдет за него, что он
ей нравится, но что ей кажется, что она не выйдет за
него...» Безухов, Болконский и Наташа оказались в той
же схеме отношений, что и Гринев, Швабрин и Маша
Миронова. Даже повторена ситуация отказа отца жени-
ха дать согласие на брак, только у Толстого это отец
Болконского, но ведь Пьер — сирота.
В ходе исторических событий, трагических для на-
рода, герои Пушкина и Толстого обрели счастье.
Тема преодоления социальной пропасти между дво-
рянином и народом звучит в романе Толстого. В обра-
зе Безухова показан путь сближения с народом на осно-
ве общей борьбы, решения общих национальных задач —
но это и путь нравственной и духовной общности. Петр
Гринев еще не мог перейти на сторону восставшего на-
рода, Пьер Безухов уже может разделить судьбу своего
народа, а в эпилоге он готовится к борьбе за свободу
народа, хотя еще без участия в ней самого народа.
171
Во второй части «Капитанской дочки» главной герои-
ней стала Маша Миронова. Она едет в столицу осво-
бождать Гринева и добивается своего. Действие в «Вой-
не и мире» остановлено перед восстанием декабристов,
но совершенно очевидно, что после него Пьер окажется
в Сибири, и Наташа поедет за ним, чтобы помочь спа-
стись его душе, его личности.
Сюжетная линия и образ Пьера Безухова имеют це-
лый ряд общих мотивов с сюжетом «Капитанской доч-
ки» и образом Петруши Гринева. Но в романе Толстого
есть еще один Петя, еще один юный герой. Петя Ростов
тоже добр, чист, благороден, он тоже в свои шестнад-
цать лет отправился на войну — и погиб. Не всякий
пройдет невредимым через испытание войной, оно несет
в себе смертельную опасность. В образах Петруши Гри-
нева и Пьера Безухова писатели показали формирова-
ние личности молодого человека в огне народной войны.
В образе Пети Ростова Толстой.показал слепую жесто-
кость войны. Родственная близость художественных за-
дач, идейно-тематического содержания и типологическая
общность центральных героев романов Пушкина и Тол-
стого нам кажутся достаточно очевидными. Объясняет-
ся эта близость по меньшей мере несколькими причи-
нами. Одну из них выявил А. В. Чичерин. Пушкин, по
его мнению, сделал в работе над жанром романа худо-
жественные открытия, развитие которых должно было
привести к возникновению романа-эпопеи типа «Войны и
мира». Уже только поэтому Толстой должен был их ис-
пользовать. Художественные замыслы Пушкина и Тол-
стого объединяет свойственный обоим писателям глу-
бокий историзм и диалектичнрсть мышления. И Пушкин,
'и Толстой художественно исследовали кардинальные
проблемы жизни и истории общества: личность.и обще-
ство, значение любви в жизни человека и общества,
сложные процессы развития классового общества, воз-
можности и условия сближения и .взаимопонимания
представителей различных классов, преодоление соци-
альной и национальной розни.
Литературные жанры восходят к фольклору — ив
смысле формы (сюжетно-фабульные образования, сю-
жетные функции героев, система персонажей и т. д.),
и в смысле содержания. Жанр воспринимает, конечно,
перерабатывая, многообразно модифицируя те идеи,
которые исторически зафиксировались в его генетиче-
172
Скик предках, В весьма длительном ис^орйчёекоМ про-
цессе формирования фольклорных жанров из десакра-
лизующихся мифов определенные кардинальные идеи
закрепились в конкретных жанровых формах. Идея вза-
имоотношений царя (властителя) и народа преимущест-
венно разрабатывается в трагедии; в свою очередь, пре-
рогативой романа является проблема взаимоотношений
личности и общества. Истоки трагедии — в ритуаль-
ных действах, носивших полумифологический и полу-
фольклорный характер. Оттуда в трагедию пришли и
жанровая форма, и неразрывно связанный с ней блок
идей. Роман воспринял некоторые жанровые признаки и
круг идей от волшебной сказки и героического эпоса.
Мифологическое представление об инициации, транс-
формировавшееся в сказке в мотив испытания, необхо-
димого герою для победы, в романе породило идею
формирования личности в жизненных испытаниях. Архаи-
ческие представления о женщине как носительнице и
спасительнице жизни, отразившиеся в сказке и эпосе в
различных сюжетах, в том числе и сюжете о женщине,
спасающей мужа, в романе воплотились в исключитель-
ном значении любовной интриги и других, более част-
’•'ных, мотивах (например, в ценности для общества геро-
инь типа пушкинской Маши и толстовской Наташи —
женщин, наделенных, по выражению Толстого, «жиз-
ненной силой», играющих активную роль в судьбах ге-
роев-мужчин).
Конкретный роман создает конкретный автор, он
вносит свою долю в формирование жанра как такового,
йи в этом смысле роман есть результат деятельности ин-
дивидуального сознания. Но жанр вообще и роман в
частности возникает и развивается по объективным за-
конам,- которые в свою очередь и проявляются объек-
тивно, независимо от воли художника (в художествен-
ных конструкциях, сложившихся традиционно), и через
его индивидуальное сознание. Некоторые наблюдения
над механизмом рождения жанра изложены в этой
главе.
«БОРИС ГОДУНОВ» И «ПИКОВАЯ ДАМА»
Начатое в «Борисе Годунове» художественное иссле-
дование исторического развития и трансформации типа
авантюриста Пушкин завершил в «Пиковой .даме». Если
на рубеже XVI—XVII веков этот тип в России только
складывался, то к 30-м годам XIX века самой значитель-
ной социальной модификацией его стал характер, вопло-
щенный в образе Германна. Уже в XVII веке формиру-
ются две основные разновидности авантюриста: частный
человек, делающий первые попытки преодолеть недавно
сложившиеся социальные перегородки ради устройства
личной судьбы, и лжецарь, самозванец. В трагедии изо-
бражены обе эти разновидности в образе Лжедмитрия.
Но наиболее актуальна для того, времени фигура са-
мозванца, совершенно новая для страны, но и напол-
ненная представлениями очень древними, ранее хра-
нившимися на периферии народного сознания и вновь
ставшими необходимыми для прецедентного осмысления
этого явления. После Смутного времени вплоть до эпо-
хи Петра I Россия переживала период стабилизации со-
циальной и государственной жизни, ц поэтому авантю-
ристы не играли в ,ней заметной роли.
Следующий исторический этап, когда этот человече-
ский тип снова приобретает значение как знамение вре-
мени, — петровская эпоха. Среди замыслов Пушкина
есть план повести или романа об участнике стрелецкого
бунта.
После смерти Петра на протяжении более чем чет-
верти века шло формирование той разновидности дворя-
нина-авантюриста, которая наиболее определилась во
всем масштабе своей исторической роли при Екатери-
не II. Это гвардейцы — участники дворцовых переворо-
тов, временщики, стремящиеся получить всю полноту фак-
тической власти, богатства, награды. Поэтому в «Капи-
танской дочке» значительное место занимает образ
174
Швабрина — наряду с образом Пугачейа, пйёЛедйёгО
в русской .истории крупного авантюриста-самозванца..
Авантюрист типа Швабрина — принадлежность только
своей эпохи, он ушел в прошлое вместе с Екатериной.
Его продолжение — Германн — сформировался лишь
к началу 30-х годов XIX века.. Образ самозванца сохра-'
нялся в народном сознании еще довольно долго, но в
историческом процессе в России эта фигура больше ни-
когда .не играла важной роли.
Работа над «Капитанской дочкой» и «Пиковой дамой»
шла параллельно1, а эпоха, изображенная в «Пиковой
даме», — следующий этап развития русского общества
после событий, ставших исторической основой «Капи-
танской дочки». Графиня Анна Федотовна принадлежит
к тому же поколению русских дворян, что и Маша Ми-
ронова, Гринев и Швабрин, она блистала в Париже в
те годы, когда герои «Капитанской дочки» оказались в
гуще событий крестьянской войны под предводительст-
вом Пугачева. Германн — образ, в котором отразилась
новая эпоха. В «Пиковой даме» два героя-авантюриста,
но они — представители различных этапов обществен-
ного развития. Еще Г. А. Гуковский подчеркивал исто-
ричность «Пиковой дамы»: При Петре I Германн мог бы
стремиться.выдвинуться в битвах, или стать строителем
каналов, или приблизиться к царю, при Екатерине он
прельщал бы не Лизавету Ивановну, а императрицу, —
в 1829 или 1831 году он мечтает о деньгах, дающих си-
лу, власть человеку»2. Это верно, заметим только, что
при Екатерине II Германн мог бы еще и выбрать путь
Швабрина.
«Пиковая д.а.М1а», несмотря на различие сюжетов,
многообразно связана с «Капитанской дочкой». Когда
Швабрин мог бы «прельщать императрицу», «русская
Венера» в Париже «прельщала» Ришелье и герцога Ор-
леанского, а у известного европейского авантюриста гра-
фа Сен-Жермена получила тайну трех карт и, не колеб-
лясь, использовала ее.
Мировоззрение, определившее и окрасившее лич-
ность пушкинской графини, .складывалось в 60-е — 70-е
годы XVIII века. Русского вельможу ее типа и ее по-
коления Пушкин видел в князе Н. Б. Юсупове (1751—
1831). Это вельможа екатерининского времени, с дипло-
матическими поручениями объездивший всю Европу, ви-
девший Париж предреволюционный и послереволюцион-
175
йый. Ровеснйк графййи, Ой остался ОСкблкоМ екатери-
нинской эпохи в новом XIX веке и умер в том же 1831
году, что и графиня Анна Федотовна. -В послании «К
вельможе» 1830 г. Пушкин так характеризовал Юсу-
пова:
Ты йонял жизни цель: счастливый человек,
Для жизни ты живешь. Свой долгий ясный век
Еще ты смолоду умно разнообразил,
Искал возможного, умеренно проказил;
Явился ты в Ферней — и циник поседелый,
Умов и моды вождь пронырливый и смелый,
Свое владычество на Севере любя,
Могильным голосохм приветствовал тебя.
С Фернеем распростясь, увидел ты Версаль.
Пророческих очей не простирая вдаль,
Там ликовало все. Армида молодая,
К веселью, роскоши знак первый подавая,
Не ведая, чему судьбой обречена,
Резвилась, ветреным двором окружена.
. . . ... За твой суровый пир
То чтитель промысла, то скептик, то безбожник,
Садился Дидерот на шаткий свой треножник
И проповедовал. И скромно ты внимал
За чашей медленной афею иль деисту,
Как любопытный скиф афинскому софисту.
Преобразился мир при громах новой славы.
Давно Ферней умолк...................
Барон д’Ольбах, Марле’, Гальяни, Дидерот,
Энциклопедии скептический причет,
И колкий Бомарше, и твой безносый Касти,
Все, все уже прошли. Их мненья, толки, страсти
Забыты для других. Смотри: вокруг тебя
Все новое кипит, былое истребя.
Свидетелями быв вчерашнего паденья,
Едва опомнились младые поколенья.
Жестоких опытов сбирая поздний плод,
Они торопятся с расходом свесть приход.
Им некогда шутить, обедать у Темиры
Иль спорить о стихах.................
Один все тот же ты. Ступив за твой порог,
Я вдруг переношусь во дни Екатерины.
Книгохранилаща, кумиры, и картины...............
Томский рассказывает: «Бабушка моя, лег шесть-
десят тому назад (т. е. в 1769—1771 гг. — С. А., Л. Р.),
176
11*
ездила в Париж и была там в большой моде. Народ бе-
гал за нею, чтоб увидеть la Venus moscovite; Ришелье
за нею волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было
не застрелился от ее жестокости. В то время дамы иг-
рали в фараон. Однажды при Дворе она проиграла,на
слово герцогу Орлеанскому Что-то очень много». Графи-
ня «резвилась, ветреным двором окружена», в предре-
волюционном Версале; среди ее друзей граф Сен-Жер-
мен, «о котором рассказывают так много чудесного...
он выдавал себя за Вечного Жида, за изобретателя жиз-
ненного эликсира и философского камня, и прочая».
В ее поведении, отношениях с Сен-Жерменом, в том, как
без малейших колебаний воспользовалась она тайной
трех карт, проявились черты эпохи: скептицизм, безбо-
жие, своеобразный мистицизм, вера в1 демонические си-
лы. С тех пор прошло 60 лет, но она сохранила привыч-
ки и взгляды своей молодости. «Графиня стропо следо-
вяла модам 70-х годов», в спальне ее окружали «фар-
форовые пастушки, столовые часы работы славного
Leroy, коробочки, рулетки, веера и разные дамские иг-
рушки, изобретенные в конце минувшего столетия вмес-
те с Монгольфьеровым шаром и с Месмеровым магне-
тизмом». В разговорах с Томским и Лизой она проявля-
ет привычную ироничность, трезвость и ясность суждений
наряду с избалованностью и холодным эгоизмом. Ха-
рактерно ее мнение о романах XIX века. Она совершен-
но не знает русских книг, но зато очень точно и остро-
умно определяет основные черты и колорит, француз-
ской прозы 20-х годов XIX века. Она просит у внука
«такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни мате-
ри и где бы не было утопленных тел». Сходство князя
Н. Б. Юсупова и графини Анны Федотовны очевидно,
как очевидно и то, что характеристика молодого поко-
ления из послания'«К вельможе» в полной мере отно-
сится к Германну: он расчетлив, ему «некогда шу-
тить» и тем более не свойственно «спорить о стихах».
Германн и графиня соединены преемственной связью.
Ему, как и ей, свойственны скептицизм и безбожие в
сочетании с мистицизмом. Графиня обратилась за по-
мощью к Сен-Жермену,- декларировавшему свою связь
с силами зла, магу и чернокнижнику; Германн готов
заключить договор с дьяволом. В послании «К вель-
може» Пушкин сравнивает поколения князя и современ-
ное прежде всего по представлению о цели жизни. Люди
‘/212—3103
177
типа пушкинского героя понймают смысл Жизни кйй
наслаждение жизнью, игрой интеллекта и игрой чувств.
В жизни Юсупова одинаковое место занимали раз-
\ влечения и философские беседы, вся она была окраше-
на -изяществом, артистизмом, шуткой и игрой. Графине
вряд ли свойственны философские размышления, но она
впитала в себя культуру XVIII столетия во всей ее про-
тиворечивости и с ее неповторимым колоритом. Ирония
и самоирония стали основным стилем её поведения. Мо-
лодежь нового века преисполнена практицизма, трезво-
сти и серьезности, она- лишена поэтической прелести
ушедшего века. Таков Германн. На протяжении всей по-
вести он не только ни .разу не пошутил, но ни р^зу и не
улыбнулся. Начиная с первой главы, Германн всегда рас-
судителен и серьезен, несмотря на безудержную страст-
ность натуры. В пушкиноведении есть несколько работ
о стихии иронии в «Пиковой да-ме», но эта стихия со-
вершенно не затрагивает образ Германна. Ироничны ав-
тор, Анна Федотовна, В' какой-то мере Томский. Германн
даже о том, что. можно стать любовником 87-летней
женщины для получения заветной тайны, думает серьез-
но. Авторская ирония его тоже не касается. И все же
Германн — наследник графини. Больше всего их род-
нит эгоизм и органически присущее обоим авантюрное
начало.
Германн и Анна Федотовна встретились единствен-
ный раз, и эта встреча положила начало фантастическим
отношениям между ними. Фантастика в повести только
в отношениях графини и Германна, сюжетно-фабульные
связи других персонажей остаются в сфере реальности
и никак не соприкасаются с таинственной историей влия-
ния старухи на судьбу Германна. Проблема фантасти-
ческого в повести — одна из наиболее спорных в пушки-
новедении. .История исследования этой проблемы рас-.
сматривается в статье О. С. Муравьевой «Пиковая да-
ма» в исследованиях последнего десятилетия»3 и в ра-
боте Н. Н. Петруниной «Поэтика философской повести
«Пиковая дама»4. Не пытаясь вновь рассматривать раз-
личные точки зрения на вопрос о том, есть ли фантас-
тика в повести, считаем необходимым определить свое
отношение к этой проблеме. 'Фантастические элементы,
по нашему мнению, обладают в «Пиковой даме» важ-
ной художественной функцией, играют основную роль в
ее композиции и,^прежде всего, в построении и развитии'
178
сюжета. Как справедливо отметила О. С. Муравьева,
«уязвимым местом» сторонников этой точки зрения яв-
ляется то, что «они, признавая в «Пиковой даме» фан-
тастику, не раскрывают при этом ее художественную
функцию в повести». Мы согласны и с тем, что «нужно
^стремиться раскрыть в ходе анализа... органичность и
внутреннюю необходимость фантастики. Без этого не-
возможно уяснить своеобразие художественного мира
«Пиковой дамы»3.
Н. Н. Петрунина использовала принципиально пра-
вильный и весьма ^продуктивный подход для рассмотре-
ния ’ архитектоники повести и роли в ней фантастики.
Стремясь выявить фольклорные структурные элементы
в повести, исследовательница сделала ряд интересных
наблюдений. Однако в работе Н. Н. Петруниной вызы-
вают возражения три момента.
Во-первых, литературное произведение черпает мате-
риал не только из фольклора, но и из собственно ли-
тературной традиции и реальной действительности, по-
этому стремление найти фольклорное аналогии для каж-
дого персонажа, каждой ситуации, каждого’поворота
действия неизбежно приводят к натяжкам (например,
с. 230 — о «маленькой волшебной сказке Томского» и
«большой сказке жизни Германна»; с. 231 — об «игрец-
ком анекдоте», который «играет в «Пиковой даме» ту
же роль, что и перо жар-птицы в сказке -типа «Кон^к-
Горбунок»; с. 233, 235 — Германн то «антигерой», то
«герой» и др.). И это — обязательное следствие попы-
ток уложцть литературный художественный материал
в умозрительную схему, составленную из отдельных
фольклорных блоков.
Во-вторых, сказочный сюжет является целостной ми-
ровоззренческой и художественной структурой, обладаю-
щей вполне определенным историческим содержанием,
базирующемся на определенных мифологических пред-
станЛлениях. И поэтому искусственно отделять фрагмен-
ты этой структуры и произвольно составлять из них но-
вую систему нельзя.
В-третьих, во взаимоотношениях Германна и мертвой
графини содержится значительный мистический ком-
понент, невозможный в художественной структуре народ-
ной волшебной сказки. Следовательно, не всё в повести
можно свести к волшебной сказке. Н. Н. Петрунина в
своем исследовании опирается на книгу В. Я. Проппа
Ч№* 1179
«Морфология сказки». Вьгчленяя отдельные части ска-
зочной структуры, Пропп, тем не менее, считал такой
подход к изучению сказки необходимым для решения
специфической задачи, которую ставил перед собой. Од-
нако ученый неоднократно подчеркивал, что, во-первых,
«все важнейшие вопросы изучения волшебной сказки не
могут быть-разрешены без вопроса о ее происхождении
и древнейших основах», и, во-вторых, что «хотя между
сюжетами имеются самые тесные связи, так что элемен-
ты одних сюжетов входят в другие, и хотя между, сю-
жетами иногда трудно, а иногда и невозможно провести
грань, все же типы сюжетов, несомненно, существу-
ют»6.
Сказка — художественное произведение, хотя и не
имеет автора, и разрушение ее формы обязательно ве-
дет за собой разрушение содержания. Каждый элемент
структуры сказки обладает собственным содержанием,
восходящим к мифологическим‘ представлениям,-но их
совокупность в пределах целого сюжета создает новое
художественное содержание, не сводимое к простой сум-
ме содержаний входящих в него компонентов.
В литературном произведении могут обрести- свое
место отдельные мотивы, функции и т. п. элементы сказ-
ки, и тогда задачей исследователя становится выяснение
их роли в иде'йно-художественной структуре литератур-
ного произведения. Но Когда в литературное произведе-
ние входит как сюжетообразующее начало целый ска-
зочный сюжет, Необходимо рассматривать его как некую
целостность. В данном> случае мы имеем дело с исполь-
зованием определенного типа -сказочного сюжета в ли-
тературном произведении. Такое использование допу-
скает и даже предполагает и контаминации, и трансфор-
мации сюжета, но исходить надо -из .наличия его. Сами
по себе трансформации и контаминации сказочного сю-
жета внутри литературного произведения выявляют важ-
ные особенности идейного содержания произведения.
В первых четырех главах повести Пушкина можно об-
наружить один из сказочных сюжетов о добывании не-
весты. В указателе Аарне-Андреева он зарегистрирован
под №№ АА 530 А, В, С, Д, Е; в сборнике русских ска-
зок Афанасьева это №№ 180, 200, 564 и др.
В этом сюжете получение героем волшебного (маги-
ческого) средства, помощника предшествует добыванию
невесты и женитьбы героя. Эти мотивы связаны логикой
180
развития сюжета. Не получив волшебного помощника,
волшебного средства и т. д. от волшебного дарителя, ге-
рой не может поцеловать царевну, сидящую в тереме (на
хрустальной горе, на столбе, в башне и т. п.) и женить-
ся на ней. Однако связь между получением магического
средства и добыванием невесты в сказке часто-размы-
та, т. е. герой не ставит специальной цели получить ма-
гическое средство для добывания невесты. Встреча с
будущим дарителем происходит обычно случайно. Ге-
рой получает'волшебные дары как награду за вежество,
доброту, помощь и т. д., т. е. момент обретения маги-
ческого помощника или средства в сказке обусловлен
нравственными мотивами.
В.мифе связь между получением магической силы и
добыванием женщины была обнажена. Характерная
для фольклора этическая оценка героя в мифе от-
сутствовала, он становился обладателем магической си-
лы своих тотемов, своих предков' просто потому, что был
для них своим (через .посвящение). Как в мифе, так и
в сказке женщина (невеста) не бывает средством дости-
жения каких-либо целей. — она ’ сама главная цель.
В мифе добывание женщины — это спасение рода от
смерти (женщина — носительница жизни), в сказке —
это достижение главной цели героя (формирование
семьи). Если женщина и помогает герою, то в конеч-
ном счете для того, чтобы стать его женой. Примером
может служить миф о Тезее и Ариадне или русская на-
родная сказка о женитьбе героя на дочери Кощея и т. д.
«Пиковая дама» начинается в соответствии с этим
сказочным сюжетом. Германн узнает о существований
тайны трех карт (магического средства обогащения).
Герой Пушкина, в отличие от героя сказки, сразу ис-
пытал желание завладеть .магическим средством, но не
сразу приступил к добыванию его. Лишь увидев в окне
дома графини Лизавету Ивановну, Германн принял окон-
чательное решение. В восприятии современного челове-
ка некоторая доля таинственности содержится уже в
том, как Германн нашел дом Анны Федотовны — он
дважды случайно набрел на него-: «Неведомая сила, ка-
залось, привлекала его к нему... Германн увидел свежее
личико и черные глаза. Эта минута решила его участь».
Внешне сохранена последовательность и закономер-
ность событий сказки, но связь между ними другая. Ли-
завета Ивановна представляется Германну верным сред-
181
ством для проникновения в дом графини и получения
секрета трех карт- Цель Германна — не женитьба, а обога-
щение; три карты — средство для добывания не Лиза-
веты Ивановны, а богатства. Герой сказки чарто видит
суженую сначала во сне (в волшебной книге, на портре-
те, в волшебном зеркале и т. п.), а потом — наяву.
Германну накануне *гого, как в окне дома графини он
увидел девушку,' тоже снится сон: «Ему пригрезились
карты, зеленый стол, кипа ассигнаций и груды червон-
цев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно,
выигрывал беспрестанно, и загребал к себе золото, и
клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он
вздохнул о потере своего фантастического богатства...»
Германн принял решение добыть сёкрет графини какх
бы даже против своей воли, подталкиваемый знамена-
тельными совпадениями, (дважды случайно очутился пе-
ред домом загадочной старухи), вещим сном и встре-
чей с Лизаветой Ивановной (суженая в окне). Но в соз-
нании Германна поменялись местами цель и средство,
что особенно ярко проявилось в его сне.
Отношения Германна неверно понимать лишь как
расчетливую попытку соблазнить девушку и таким об-
разом проникнуть в дом графини. Да, первое письмо к
Лизе было «слово в слово взято из немецкого романа».
Но затем страсть к обогащению сложно переплелась с
зародившимся чувством к бедной воспитаннице. Его
письма «ужр не были переведены с немецкого. Германн
их писал, вдохновленный стр-астию, и говорил языком,
ему свойственным: в них выражались и непреклонность,
его желаний и беспорядок необузданного воображения».
Письма Германна были выражением охватившей его
страсти и к золоту, и к Лизе; в сказочном сюжете они
соответствуют этапу развития действия, когда герой до-
прыгивает (обычно на коне) до окна суженой, целует-
ее, а она оставляет на нем знак, по которому впослед-
ствии жених 'будет опознан.
Наиболее фольклорно насыщенными являются третья
и четвертая главы повести: проникновение, пребывание
•и уход Германна из дома Анны Федотовны. Давно за-
мечено, что старая графиня в ночь свЬей гибели очень
похожа на мертвеца: она «сидела вся желтая, Шевеля
отвислыми губами, качаясь направо и налево. В мутных
глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли;
152
смбтря на неё, можно было бы подумать, что качанйё
страшной старухи происходило не от ее воли, но по дей-
ствию скрытого гальванизма. Вдруг это мертвое лицо’
изменилось неизъяснимо». Анна Федотовна — облада-
тельница магического знания. Германн может получить
его только от нее. Среди волшебных дарителей сказки
особо выделяется Баба Яга, образ которой восходит к
мифологическим представлениям об обряде инициации,
одним из назначений которого была подготовка юноши
к браку.
Баба Яга тесно связана с представлениями о смер-
ти и наделена явными признаками мертвеца (у нее кос-
тяная нога, она слепа и т. д.)7. Баба Яга находится в
избушке, обычно на краю леса;-только пройдя через ее
избушку, петеле встречи с ней, герой может найти свою
суженую. В -избушке герой проходит испытания (огнем,
едой и т. д.), становится посвященным и получает от
Яги магический дар (волшебного помощника, часто ко-
ня или какой-либо предмет). Отношение к Бабе' Яге
двойственное: несмотря на то, что она всегда помогает
герою, встреча с ней таит ощутимую смертельную опас-
ность, поэтому посещение избушки Бабы Яги всегда
связано с риском. Это отражение в сказке реальной
смертельной опасности обряда инициации. ’
Авантюрное посещение Германном дома Анны Федо-
товны чрезвычайно рискованно: его могли обвинить в по-
пытке ограбления. Если бы слуги графини обнаружили
героя в спальне, то произошел бы скандал, который мог
сломать его судьбу. Спальня графини, в которую Гер-
манн входит одним путем, рискуя встретить кого-нибудь
из слуг, а выходит другой, тайной дорогой, «по потаен-
ной лестнице», функционально подобна избушке Яги.
Сам дом с его коридорами, темными переходами, зала-
ми, лестницами подобен лабиринту. /
Встреча героя с Бабой Ягой внесена из другого ска-
зочного сюжета. Контаминация произошла очень естест-
венно: два сказочных сюжета типологически близки (это
сюжеты о сватовстве и женитьбе героя); в повести добы-
вание магического средства и невесты почти совмеще-
ны, и, значит, герой должен пройти через испытание и
встретить дарителя.
Герой сказки, хотя встречает Ягу внезапно и впер-
вые, знает правила поведения, обеспечивающие ему
жизнь и победу (что говорить, как поступать). Наруше-
183
ние правил влечет за собой возможность гибели. Гер-
манн просит старуху помочь ему, когда же она отказы-
вается; угрожает. И то (и другое укладывается в схе-
му взаимоотношений героя с Ягой. Но есть в его страст-
ном монологе то, что выходит за рамки сказки: «Открой-
те мне вашу тайну! — что вам в ней?:. Может быть, она
сопряжена с ужасным грехом, с пагубою вечного бла'жен--
ства, с дьявольским договором... Подумайте: вы стары;
жить вам уж не долго, — я готов взять грех на свою
душу». Продажа души дьяволу —не сказочный мотив.
Германну не удалось добиться своего, графиня умер-
ла и унесла тайну на тот свет. Хотя герой Пушкина
благополучно проник в спальню старухи, разговаривал
с нею, был в комнате у Лизаветы Ивановны и беспре-
пятственно покинул дом, — все это не принесло ему по-
беды. Несмотря на это, функция Германна в повести —
функция не ложного героя сказки, а настоящего главно-
го героя. Антигерой, обычно злой брат или друг, мо-
жет появиться лишь рядом с настоящим героем. И в
повести есть персонаж, в котором воплощены рудимен-
тарные признаки антигероя — это Нарумов. Он тоже
слышал рассказ Томского, и у него , первого возникло
желание узнать тайну старой графини. В следующей
главе Томский уже просит у бабушки разрешения пред-
ставить ей Нарумова. Легко догадаться, с какой целью
Нарумов добивается этого знакомства. Но осуществить
свой план — «подбиться в ее милость» и выведать тай-
ну трех карт — он не успел. Германн был прав, считая
этот путь слишком длинным. Нарумов успел только пред-
ставиться старой графине в последний вечер ее жизни.
Он появляется в повести еще раз, в. последней главе,
когда Германн начал пользоваться тайной Анны Федо-
товны в первый раз. Сюжетная линия Нарумова не за-
вершена, потому что нет победы героя и нет поля дея-
тельности для ложного героя. Фигура Нарумова-в «Пи-
ковой даме» подчеркив'ает, что жизненная позиция Гер-
манна не исключение, а новое правило в русской дей-
ствительности 20—ЗО^х годов XIX века.
Магического средства Германн не получил, от же-
нитьбы на Лизавете Ивановне отказался. Во время прик-
лючений этой ночи окончательно ушло из души Герман-
на чувство к Лизавете Ивановне — вместе с утратой
надежды на чудесное обогащение. Сказочный сюжет в
4-й главе завершился. Его значительная трансформация
184
'/212*
в повести обусловлена деформацией жизненных цен-
ностей в современном Германну мире, когда на первый
план выдвинулось личное обогащение как высшая цель
и содержание жизни человека.
Одновременно с окончанием сказочного сюжета на-
чинает звучать основной мотив последних глав — дого-
вор с дьяволом. Как уже говорилось, это не сказочный
мотив. Он встречается в другом фольклорном жанре —
легенде. Большинство фольклористов в настоящее вре-
мя делит народную устную прозу на два вида жанров.
В одном из них — это сказки, анекдоты, небылицы —
преобладает эстетическая функция. Для другого — бы-
вальщины, былички, предания, легенды — характерна
установка на достоверность8. «Разница между этими
двумя видами народной прозы, — отмечает В. Я. Пропп, —
не формальная, ею определяется иное отношение к
действительности как объекту художественного твор-
чества; эстетические нормы этих двух видов прозы глу-
боко различны»9. Л. И. Емельянов выделяет предания
и близкие к ним жанры «по признаку стихийного учас-
тия художественного элемента в отражении действитель-,
ности при ярко выраженной независимости этого отра-
жения от задач художественности»10. С. Н. Азбелев ко-
ренное отличие предания от легенды видит в том,.что
«основным содержанием легенды является нечто не-
обыкновеное»11. Э. В. Померанцева считала, что разни-
ца между этими жанрами главным образом определя-
ется направленностью информации, функцией: «Леген-
да стремится поучать; идеализируя своих героев, при-
зывая подражать, им. Она утверждает их святость, под-
вижничество или героизм. Основная ее функция — ди-
дактическая»12. 'Следует добавить, что дидактизм ле-
генды может опираться как на положительный пример,
так и на отрицательный; она может не только призы-
вать к подражанию, но и призывать не следовать дур-
ному примеру отрицательных героев. Наиболее распро-
страненные легенды, отрицающие тот или иной тип по-
ведения, — это легенды о договоре с дьяволом, о про-
даже души. Наиболее популярной в европейском ис-
кусстве была легенда о докторе Фаусте. Образ Фауста
возник в устном народном творчестве. В 1587 году во
Франкфурте вышла книга «для народа», в которой Ио-
ганн Шписс изложил народную легенду о докторе Фаус-
те, стремясь показать; к каким пагубным последствиям
13-3103 185
приводит человека самонадеянность, предпочитающая
науку смиренной вере. В 1599 году была опубликована
вторая книга о Фаусте, написанная Генрихом Рудоль-
фом Видманом. Этот автор записал ряд новых преда-
ний о Фаусте. В 1674 году нюрнбергский врач
Николай Иоганн Пфицер издал сокращенный вариант
книги Видмана. Эти народные книги легли .в- основу бес-
численных лубочных книжек, распространявшихся в
Германии, начиная с XVIII века. Книги о Фаусте, начи-
ная с XVI века, были переведены на все основные евро-
пейские языки: английский, голландский, фламандский,
французский, чешский, польский, шведский и ряд дру-
гих. Непосредственно вслед за книгой Шписса появи-
лись ее стихотворные обработки. Впервые легенда о
Фаусте получила театральную обработку в пьесе анг-
лийского драматурга Кристофера Марло в конце XVI
века. Во второй половине XVIII века к легенде о Фаус-
те обращаются вначале Лессинг, затем Гете. Автором
«Фауста», занявшего господствующее место в сознании
современного человека, стал И. В. Гете. В творчестве
Пушкина образ Фауста также занял определенное место.
Вопрос о взаимодействии трагедии Гете и пушкинской
«Сцены из Фауста» неоднократно рассматривался ис-
следователями как творчества. Пушкина, так и Гете13.
М. П. Алексеев поддерживает гипотезу, выдвинутую
независимо друг от друга Б. Я. Гейманом и А. Менье о
том, что пушкинская «Сцена из Фауста» могла быть из-
вестна Гете и в какой-то мере повлияла на финал зна-
менитой трагедии. Проблема взаимовлияний Гете и Пуш-
кина рассматривается в научной литературе лишь при-
менительно К пушкинской «Сцене из Фауста» и наброс-
кам «адской поэмы». В процессе изучения этой пробле-
мы выяснилось, что знакомство русского поэта с пер-
вой частью «Фауста» Гете безусловно, а со второй воз-
можно, но не доказано. М. П. Алексеев напомнил ус-
тановленный еще Б. Л. Модзалевским «'бесспорный факт
знакомства Пушкина с книгой Шписса — правда, в
поздней и-сокращенной французской переделке»14.
В легендах о продаже души дьяволу можно заме-
тить некоторые структурные элементы, характерные и
для сказок. Легенда начинается с того, что герой ис-
пытывает острую необходимость в чем-либо: в женщине,
богатстве, знатности, магическом знании и т. д. (по тер-
минологии, применяемой В. Я. Проппом для сказки, —
186
йёдостача невесты, волшебного средства, диковинок, де-
нег, средств к существованию и пр.)15. Герой легенды
обращается за помощью к дьяволу или его посредни-
ку — колдуну, ведьме и т. п. Эти персонажи соответ-
ствуют фигуре сказочного волшебного дарителя. Разни-
ца функций волшебного дарителя сказки и сатаны или
его посредников в том, что в помощи сказочного дарите-
ля нет подвоха, обмана, тогда как целью дьявола всегда
является погибель человеческой души. Обращающийся
за помощью к сатане всегда знает, что расплатой будет
гибель души. Очень часто отношения между человеком и
нечистой силой оформляются как договор: черт обеща-
ет определенные услуги в о(бмен на бессмертие души.
В частности, в народных книгах о докторе Фаусте Ме-
фистофель берет на себя обязанности в течение 24 лет
кормить, поить и одевать героя, доставлять ему деньги,
предоставлять всевозможные удовольствия и отвечать
на все вопросы жаждущего безграничного познания
человека. Помощь дьявола обеспечивает герою различ-
ные жизненные успехи, после чего неизбежно наступает
расплата. Именно таков и финал легенды о докторе
Фаусте.
Но легенды о продаже души дьяволу могут иметь
и другое, благополучное, завершение. Получив дьяволь-
ские дары, герой раскаивается и обращается к деве Ма-
рии. Она советует ему раздать неправедное богатство
нищим или передать церкви. Герой постригается в мо-
нахи, и после смерти душа его обретает вечное блажен-
ство, а козни дьявола нейтрализуются. В. М. Жирмун-
ский по этому поводу писал: «Благополучная развязка
демонологической легенды должна была свидетельство-
вать о силе христианской церкви, побеждающей козни
дьявола, о возможности прощения грешника через по-
каяние, о спасительной роли заступничества святых и в
особенности богоматери... Одна из таких легенд расска-
зывает о рыцаре.., который промотав свое состояние, че-
рез чернокнижника искал помощи дьявола, но, отрек-
шись от Христа и от веры, не мог произнести хулы на
богоматерь, и она спасла его душу от гибели»16. Анало-
гичные легенды известны в русском фольклоре, «этот
жанр был одним из самых распространенных в средне-
вековой письменности... Сюжетными источниками «По-
вести о Савве Грудцыне» были религиозные легенды о
юноше, который, согрешил, продав душу дьяволу, за-
13*
137
тем покаялся и был пройген»17, благодаря богородице.
Савву Грудцына исследователи не раз называли «рус-
ским Фаустом». «'Благополучный» финал легенды о про-
даже души дьяволу напоминает многочисленные разра-
ботки сюжета уже не волшебных, а авантюрно-новел-
листических сказок «о карточном игроке, бражнике, ме-
льнике и т. д., но чаще всего о солдате, который играет
в карты с чертями или со Смертью, попадает в ад, бла-
годаря своей храбрости и природной смекалке не толь-
ко благополучно возвращается оттуда, но даже выводит
с собой и помещает в рай множество грешных душ, вы-
игранных -им в карты в аду у черте# или у самого дья-
вола»18. М. П. Алексеев приводит сказки на этот сюжет
французского, немецкого, итальянского, украинского, бе-
лорусского и русского фольклора.
Благополучный финал легенды и сказки (в сказке
финал всегда благополучный) наполнен различным
идейным содержанием. Если в легенде он знаменует со-
бой победу божественного начала над сатанинским в
борьбе за душу человека, то в сказке человек побеж-
дает черта, сатану или саму Смерть благодаря собствен-
ному уму, хитрости и ловкости, в отличие от волшебной
сказки, где победу героя обеспечивает волшебный по-
мощник. Жанр" сказки значительно архаичнее легенды.
Поэтому космогонические представления сказки восхо-
дят к первобытной модели вселенной, состоящей из мно-
жества миров, сводимых к двум: миру героя (миру жи-
вых) и тридевятому царству (миру мертвых). Очень су-
щественно в сказке путешествие героя в иной мир и
возвращение оттуда. В легенде тоже встречается пред-
ставление о двух мирах, но они иные, так как основаны
на дуализме средневековой христианской церкви, кото-
рая сделала бога источником добра, а дьявола — ви-
новником и воплощением .зла в мире. Христианская ре-
лигия представляла дьявола в качестве мятежного ан-
гела, отпавшего от бога, не властного в конечном счете
сопротивляться всемогуществу божию. По мнению цер-
ковников, бог использует дьявола для испытания правед-
ных и наказания грешных, поэтому земной мир является
ареной деятельности Сатаны. Таким образом возникли
грешный земной мир людей и потусторонний небесный
божий мир. При этом христианская идеология и мораль
провозглашали отрицание земной жизни и ее радостей,
как царства дьявола, во имя потустороннего мира, цар-
188
ствия божия. Но в народных средневековых представ-
лениях дьявол фактически становится столь же могу-
щественным, как бог, по крайней мере, в пределах зем-
ной жизни. В этих представлениях сохранена архаиче-
ская бинарная оппозиция миров, хотя и с обратным зна-
ком. В сказке положительным знаком наделен мир ге-
роя, земной мнр, мир живых; в легенде человек обретает
вечное 'блаженство после смерти.
Еще одним важным отличием сказки от легенды яв-
ляется ярко выраженная мистическая окраска леген-
дарных сюжетов.
Источники, по которым Пушкин мог познакомиться с
международным сюжетом о продаже души дьяволу,
трудно учесть. В частности, кроме знания французско-
го пересказа книги Шписса, поэт располагал русскими’
переводами всех сколько-нибудь заметных западноев-
ропейских повестей на адские и демонологические те-
мы, опубликованными во второй половине XVIII столе-
тия19. В статье И. П. Смирнов^20 говорится о пути про-
никновения этого сюжета в творчество Пушкина через
«Повесть о Савве Грудцыне». М. П. Алексеев приводит
также ряд свидетельств того, как мотив авантюрно-но-
веллистической сказки об игре в карты в аду мог стать
известен поэту. В. В. Виноградов рассмотрел суеверия,
связанные с картами, бытовавшие в Европе XVIII—XIX
Ьеков21. В. В. Виноградов упоминает также о пиковой
даме в игрецких рассказах как воплощении «тайной не-
доброжелательности». К этому можно добавить, что в
легендах русских цыган Пиковая Дама превратилась в
персонифицированный образ вторичной мифологии: «Всю
правду она о будущем говорит, и все тебе предсказыва-
ет, и даже на вопросы отвечает», но и представляет оп-
ределенную опасность для человека: «...не дай бог ее
перебить, когда она говорить начнет, или задержать,
когда она захочет уйти. Задушить может»22.
Глубокие и многочисленные, фольклорные и литера-
турные истоки введения сюжета о продаже души дьяво-
лу в «Пиковую даму» очевидны. Надо выяснить причи-
ны использования этого сюжета и его роль в повести.
Мотив продажи души в повести Пушкина, насколько
нам известно, не исследован. Его считают не состоявшим-
ся, т. к. на прямое предложение Германна графиня не
ответила. Но само получение чего-либо от дьявола осоз-
навалось как сделка с ним, залогом в которой была
189
душа. В свое время Анна Федотовна вступила в такую
сделку, и посредником был Сен-Жермен. Она не приня-
ла этого всерьез, как и Савва Грудцын, подписавший
«рукописание мало некое», «не придав этому особого
значения»23. По-видимому; она полностью осознала вюю
серьезность своего поступка в разговоре с Германном:
«Это была шутка, — сказала она наконец, — клянусь
вам! это была шутка.
— Этим нечего шутить, — возразил сердито Гер-
манн. — Вспомните Чаплицкого, которому помогли вы
отыграться.
Графиня видимо смутилась. Черты ее изобразили
сильное движение души». Германн, в отличие от графи-
ни, ясно сознает, на какой путь он вступает. Решение,
которое он принял, и. потрясение, испытанное в спальне
старухи, должны были убить в нем все чувства, кроме
страсти к деньгам. И Пушкин констатирует: «...ни сле-
зы бедной девушки, ни удивительная прелесть ее горе-
сти не тревожили суровой души его. Он не чувствовал
угрызений совести при мысл1и о мертвой старухе. Одно
его ужасало: невозвратная потеря тайны, от которой
ожидал он обогащения». Сделка с дьяволом ведет за
собой потерю души в буквальном смысле слова; но бес-
поворотная решимость человека на этот шаг тоже вле-
чет за сРбой потерю души и в религиозно-мистическом
и в нравственнонпсихолопическом значении. Из спальни
графини Германн вышел/ полностью утратив способ-
ность любить, сочувствовать горю другого человека, ис-
пытывать угрызения совести, т. е. основы человеческой
морали. Отказ от Лизаветы Ивановны в ночь гибели
старухи, также отголосок легенды о продаже души: во
всех легендах с этим сюжетом герой холост, а в ряде
случаев его женитьба прямо запрещена дьяврлом. Этот
мотив восходит к архаическим представлениям о жен-
щине носительнице жизни, продолжательнице рода и
его спасительнице. Эти представления в сказочных сю-
жетах определили главную цель героя — добывание
невесты и женитьба на ней.
В легендах о продавшихся дьяволу в роли спаси-
тельницы чаще всего выступает богородица, мадонна
(женщина, в священном браке родившая богочеловека,
спасителя рода человеческого). Запрет дьявола всту-
пать в брак заключившим с ним договор продиктован
стремлением закрыть дорогу к спасению-
190
В финале трагедии Гёте звучит тема Гретхен, где
ее образ сливается с образом девы Марии, «здесь по-
нимаемой как вечно женственное, как символ рожде-
ния и смерти, как вечно несущее и рождающее священ-
ное лоно, как начало, обновляющее человечество и пе-
редающее его лучшие стремления и мечты из рода в
род, от поколения к поколению»24. В финале трагедии
Гёте в сюжет легенды вносится существенное дополне-
ние: в спасении души Фауста наряду с девой Марией
участвует Маргарита — грешная земная возлюбленная
Фауста. Последняя часть трагедии окрашена в мисти-
ко-религиозные тона. Маргарита появляется не только
рядом с девой Марией, но и с Марией Магдалиной, и
с Марией Самаритянкой, и с Марией Египетской. По-
смертная судьба Гретхен решена Гёте по аналогии с
судьбами евангельских и житийных героинь; но ее роль
в спасении души Фауста опирается на сказочные сюже-
ты, в которых главная героиня суженая чили жена ге-
роя.
Над финалом «Фауста» Гёте работал в 1830—31 гг.,
за несколько месяцев до того, как в сознании Пушкина
начал формироваться замысел «Пиковой дамы». Нель-
зя утверждать, что Пушкин знал о содержании фи-
нала «Фауста», приступая к работе над «Пиковой да-
мой». Однако, учитывая выявленные и проанализирован-
ные В. М. Журмунским и М. П. Алексеевым контакты
пушкинского круга русских литераторов и Гете, постоян-
ный интерес поэта к новинкам европейской литературы и
установившуюся к 1830 году возможность его удовлет-
ворения через дипломатические каналы, трудно пред-
ставить себе, что поэт ничего не знал о работе Гете над
заключительной частью «Фауста». Это, конечно, не оз-
начает, что Пушкин использовал в «Пиковой даме» ху-
дожественные открытия Гете, хотя взаимовлияние не-
мецкого и русского поэтов и здесь не исключается. Не-
сомненно одно: на художественные структуры «Фауста»
и «Пиковой дамы» оказал влияние международный ле-
гендарный сюжет о договоре с дьяволом. Очевидно так-
же, что в финале «’Пиковой дамы», как и в трагедии Ге-
те, в .роли возможной спасительницы души героя высту-
пает земная женщина. У Пушкина нет образа богоро-
дицы, но ведь нет -и спасения героя. Значение образа
Лизаветы Ивановны в финале повести более, чем у Ге-
те, связало со сказочным сюжетом. Условие жениться на
191
Лизавете Ивановне графиня ставит от своего имени, а
не от имени тех сил, которые ее послали сообщить тай-
ну трех карт — это в ней от сказочного помощника, ибо
она дает Германну последний шанс .на спасение.
К Германну явилось существо, причудливо совмес-
тившее в себе функции ведьмы, посланной дьяволом, и
Яги, готовой помочь молодому человеку спасти душу.
Помогать мертвая старуха будет на_ том свете, высту-
пая в качестве защитника Германна перед богом; он
ведь, приняв на себя грех договора с дьяволом вместе
с тайной трех карт, спас ее душу, и она может теперь
предстать перед богом.
В многочисленных рассказах о покойниках стойко
присутствует поверье о том, что не очистившись от гре-
хов земной жизни (через покаяние, различные обряды,
милостыню и т. д.), умерший не может покинуть землю
и обрести покой. Эпизод в церкви, куда Германн явил-
ся просить прощения у умершей по его вине старухи,
призван показать, что она находится во власти дьявола
и не может получить вечное успокоение. Любые поступ-
ки, не сообразные с общепринятыми представлениями о
мертвеце, были знаком того, что им овладел дьявол.
Германн точно выполнил полученные от старухи ука-
зания по использованию трех карт, но не воспользовал-
ся подсказанной ему возможностью опасения. Силы зла
овладели его душой. Обнаружив вместо туза пиковую
даму, в первую минуту ошеломленный Германн считает
случившееся роковой ошибкой.( «Он не верил собствен-
ным глазам, не понимая, как мог он обдёрнуться».
И лишь очевидный знак таинственных сил заставил его
понять, что произошло: «Пиковая дама прищурилась и
усмехнулась, и он узнал в ней графиню». Германн во-
скликнул, узнав ее: «Старуха!» — но увидел он не ста-
руху, а графиню в пору ее молодости, такую, какой она
была, получив от Сен-Жермена тайну трех карт; какой
он увидел ее на портрете Лебрена, висевшем в ее спаль-
не. Дамы в картах — это молодые красавицы. В пи-
ковой даме Германн увидел «необыкновенное сходство»
со старухой, но не ее; в каком бы облике не показалась
ему старая графиня, он вбегда видит в ней старуху, ко-
торая умерла по его вине.
Германн был третьим, кто знал и использовал тайну
трех карт. Графиня Анна Федотовна прожила долгую
и благополучную жизнь, дьявольский договор вступил
192
в силу лишь после ее смерти. Чаплицкий, отыгравший
в молодости свои триста тысяч, «умер в нищете, промо-
тав миллионы». Германну этот секрет принес крушение
жизненных планов и гибель.
В финале повести Пушкин переводит повествование
в реальный план, гибель души героя происходит здесь,
на земле. Германн жив, но духовное начало в нем, его
личность погибли. В творчестве поэта отражены два
представления о безумии человека. Одно из них, восхо-
дящее к древним воззрениям человечества, отразилось в
стихотворении «Не дай мне бог сойти с ума». Это вдох-
новенный «пламенный бред», «нестройные, чудные гре-
зы», единение с природой, почти шаманское, экстатиче-
ское. Такое безумие освобождает человека от оков разу-
ма, умножает его силы, дает ему необыкновенную свобо-
ду; оно сродни более позднему представлению о бого-
вдохновенном безумце, пророке, юродивом, поэте. Такое
безумие — освобождение души, но безумие Германна —
не освобождение, а потеря души: «Он сидит в Обухов-
ской больнице в 17 нумере; не отвечает ни на какие
вопросы и бормочет необыкновенно скоро: «Тройка, се-
мерка, туз! Тройка, семерка, дама!..»
Г. А. Гуковский писал, что Германн — «могучее, ти-
пическое обобщение, образ, созданный на основе глу-
бокого уразумения социального процесса проникнове-
ния капитализма в самые основы русской жизни»; «Пуш-
кин впервые в России дал художественный анализ этой
темы и художественный метод ее раскрытия, — изобра-
жение черной силы денег, губящей личность, мораль,
психику человека»25. Он подчеркивал, что Пушкин бе-
зусловно первый в мировой литературе наметил эту те-
му и путь ее изображения в «Скупом рыцаре». И в том,
и в другом произведении велика роль фольклорных об-
разов и сюжетов прежде всего потому, что уровень раз-
вития капитализма в России начала 30-х годов был еще
в сфере экономики относительно невысок — капитализм
проник раньше всего в сознание человека и отношения
между людьми. Поэтому анализ наступавшей в России
эры капитализма и ее 'исторических результатов был про-
дуктивен лишь в области общественного и личностного
сознания. Анализ новых общественных отношений воз-
можен был не с позиции влияния на них экономических
отношений, а только с точки зрения пользы или вреда
капитализма для человечества, т. е. с точки зрения ос-
193
нов нравственности, отложившихся в художественных
структурах фольклора. Отказ Германна- от брака, от-
сутствие в его характере ценнейших для человечества
качеств: до|броты, умения считаться с интересами и чув-
ствами других, готовности помогать слабым и обездо-
ленным (по терминологии сказки, Германн обидел си-
роту в лице Лизаветы Ивановны) — обнаруживает .в
нем нарушителя кардинальных норм человечности.
Осуждение буржуазного эгоцентризма на примере
судьбы Германна отличается -от решения этой проблемы
в литературе пушкинского времени. Такие персонажи
осуждались в ней потому, что несли зло- окружавшим
их людям. В конце повести Пушкин рассказал об аб-
солютном благополучии Лизаветы Ивановны и Томско-
го — персонажей, с которыми непосредственно сталки-
вался Германн. Пушкинский герой губит только себя.
В образе Германна заключена идея саморазрушения
человеческой личности, воспринявшей пороки буржуаз-
ного сознания.
В отличие от персонажей «онегинского гнезда», тип
авантюриста показан в развитии, в смене эпох (от Смут-
ного времени до 30-х годов XIX века), как часть и отра-
жение единого исторического процесса в его российской
специфике, в контексте мировой и национальной куль-
туры.
ЕВРИПИД, ШЕКСПИР, ПУШКИН.
ФОРМИРОВАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ТРАГЕДИИ
Как уже говорилось в этой книге, главная пробле-
ма пушкинской трагедии очень органична для ее жанра,
ибо истоки жанра и образа царя восходят к одним и тем
же архаическим представлениям человечества. Наибо-
лее ярко, естественно генетическое родство жанра и об-
раза царя проявляется в античных трагедиях различных
авторов и, в частности, в трагедии Еврипида «Вакхан-
ки». Сюжет ее основан на мифах, связанных с установле-
нием в Греции культа Диониса. Как известно, Дионис-
Вакх, бог-покровитель земледельцев и виноградарей,
отождествлявшийся с виноградной лозой, вином, быком
и т. д., далеко не сразу получил признание. Хотя. Дио-
нис был. известен греческой мифологии очень давно, на-
ибольший взлет его популярности относят к VII в. до
н. э. Это была эпоха развития полисного государства с
его демократизмом, отвергавшим аристократический пан-
теон. Экстатический культ Диониса оказался наиболее
подходящим для выражения новых идей полисного кол-
лектива. В рамках этого культа возникла и достигла
расцвета аттическая трагедия. Однако само сказание об
утверждении Диониса в борьбе с врагами его религии
сравнительно редко становилось основой сюжета произ-
ведений афинских драматургов: из около 600 названий
несохранившихся трагедий V — начала IV века едва
ли 20 указывают на связь их содержания с мифами о
Дионисе. Среди них две трилогии Эсхила, одна из пьес
которых, «Пенфей», по словам античного комментатора,
являлась предшественницей еврипидовых «Вакханок».
Так как,от обеих трилогий Эсхила сохранились только
небольшие отрывки, то «Вакханки» являются единствен-
ным для нас литературным памятником классического
периода древнегреческой литературы, запечатлевшим
миф о борьбе Диониса с его противниками.
195
В трагедии Еврипида врагом культа Диониса явля-
ется прежде всего царь Пенфей. Пенфей не приемлет в
дионисиях экстатическое веселье, раскованность, празд-
ничную свободу поведения. Героями этого произведения
являются и бог Дионис, с культом которого связано рож-
дение античной трагедии, и царь, образ которого гене-
тически родствен божеству плодородия. В этой связи
характерен идущий еще от мифа .и перенесенный' в тра-
гедию мотив растерзания царя. Пенфея буквально ра-
зорвала на части одержимая безумием по воле Вакха
Агаба:
Вот в обе руки левую берет
Злосчастного Пенфея руку, крепко
В бок уперлась и... вырвала с плечом —
Не силою, а божьим изволеньем.
Ино с другой напала стороны
И тело рвет. Явилась Автоноя,
За ней толпа... . . ................
Разбросаны останки по скалам
Обрывистым, в глубокой части леса1.
Растерзание является наиболее ритуальной и наиболее
архаической формой убиения царя. В ней заключено
представление о царе-жреце, который был bi первую оче-
редь не властителем, а носителем плодородия. Разбро-
санные по земле куски его тела должны были оплодо-
творить землю. Функция носителя плодородия является
общей для царя-жреца и 'божества плодородия, напри-
мер Диониса. Поэтому в архаическом сознании сакраль-
ная фигура царя-жреца сближалась и даже идентифи-
цировалась с божеством плодородия.
Для современников Еврипида эти представления уже
давно устарели, поэтому Пенфей растерзан обезумев-
шими горожанками, которые впоследствии не помнят
своих деяний. Избрав для Пенфея такое наказание, Дио-
нис как бы передал фиванскому царю свою наиболее
древнюю функцию. Пенфей, теряющий рассудок перед
гибелью, видит Диониса в образе 'быка, т. е. в виде то-
темного зверя, в облике которого сам Дионис был рас-
терзан куретами.
Все внешние обрядовые признаки убиения царя со-
хранены в Пенфее: Дионис увенчал его плющом, вознес
на вершину ели, после чего
....................с высоты на землю
Он полетел и грохнулся,
196
Затем произошло развенчание («Пенфей с волос срыва-
ет митру») и убиение фиванского царя2. Но это уже
лишь обрядовые формы избранничества и жертвенно-
сти царя, архаическое содержание их утрачено. Пенфей
хороший царь, подданные уважают и любят его, Фивам
не угрожают неурожай и голод, стихийные бедствия и
моровые поветрия. Пенфей убит не по воле народа, а по
повелению Диониса. Однако растерзали его не лидий-
ские вакханки, сопровождавшие бога, а толпы фиванок.
Царь Пенфей виновен не в том, что не обеспечил благо-
получия подданным, <а в отказе от новой демократичес-
кой идеологии в форме дионисийского культа.
В трагедии Еврипида царь уже стал выразителем
аристократической идеологии в противовес наступающе-
му демократическому дионисийскому культу: он оцени-
вается не как податель жизненных благ и универсаль-
ный оплодотворитель природы, а как выразитель опре-
деленной идеологии. Убив Пёнфея, Дионис утвердил в
Фивах новую, демократическую идеологию.
Как бы ни относился сам драматург к Дионису и
вообще к богам (религиозный скепсис Еврипида извес-
тен), в его трагедии отражена победоносная стихия дио-
нисийского культа. Вместе с мифом о Дионисе, побеж-
дающем, покоряющем Элладу, в трагедию вошли идеи,
возникшие в VII веке до н. э. в связи с началом клас-
сической рабовладельческой формации и. восхождени-
ем к власти демократических элементов. «В области же
религиозно-мифологической это было бунтом против
аристократического Олимца и взрывом оргиастических
сил,., восставших снизу, из деревни, из захолустной
Фракии, где зарождалась антиолимпийская, чисто демо-
кратическая, рабовладельческая религия и мифология»3.
Вместе с мифом о побеждающем Дионисе в трагедию
Еврипида вошли идеи противопоставления аристократи-
ческого Олимпа и нового экстатического демократичес-
кого культа. Хотел того или не хотел драматург, но, за-
щищая «чистые обряды» богов, принадлежащих к ари-
стократическому Олимпу, и отрицая «вакхическое безу-
мие» дионисии, царь оказывается не только врагом Дио-
ниса, но и врагом демократического начала, содержа-
щегося в его культе. В трагедии Еврипида уже проти-
востоят две фигуры, которые В' архаическом сознании
идентифицировались, — божество плодородия и. царь.
И произошло это потому, что Дионис сохранил свою
197
ЙрёйнюЮ сущность, а царь, Становясь только npaBHTej
лем, утратил ее, утратив вместе с нею свою неразрыв-
ную связь с народом. У Еврипида еще ,нет противостоя-
ния царя и народа, но изображен тот исторический мо-
мент развития образа царя, когда оно- уже назревает.
Теоретическое изучение трагедии начал Аристотель в
IV веке до н. э. К этому времени греческая трагедия
прошла уже значительный путь развития в -произведе-
ниях Эсхила, Софокла и Еврипида, и Аристотель уже
неясно представлял себе возникновение жанра. Однако
он чувствовал и отразил в своих определениях ритуаль-
но-религиозную природу традиции греческой трагедии,
т. е. то, что послужило .мостом для перехода трагедии в
литературный жанр.
Исследователи, изучавшие истор-ию трагедии, давно
установили, что после античности «второй взлет жанра
свершился спустя 2 тысячи лет, в эпоху Возрождения и
барокко, и прежде всего в Англии и Испании, где она
стала возможной как явление народного- театра, на ос-
нове традиций литургической драмы и мистерии, («страс-
ти» Христа и святых сыграли в генезисе западноевропей-
ской трагедии роль, аналогичную античным «действам
о Дионисе»)4. И это естественно, потому что и античная,
и вторичная христианская мифология базируется на од-
них и тех же архаических представлениях, а в религи-
озных действах о страстям Христа сохранились ярко
выраженные черты обряда увенчания, развенчания, ос-
меяния, убиения и воскрешения божества плодородия
или царя-жреца, свойственного в эпоху родового строя
народам Европы как и всем народам мира. Уже в сред-
ние века эти обряды сохранились в народной культуре
испанцев, англичан и т. д. в виде бытовых обычаев ,.и
игр карнавального типа. Таким образом, европейская
трагедия эпохи Возрождения и барокко в качестве ге-
нетической основы использовала сложийшиеся формы
античной трагедии, христианские мистерии и местную
карнавальную традицию. Все эти составные части ее
истоков восходят к одним и тем же архаическим пред-
ставлениям.
Говоря о Шекспире, одном из бесспорно выдающихся
деятелей европейской культуры Возрождения и барок-
ко, М. М. Бахтин отмечал: «Смысловые сокровища, вло-
женные Шекспиром в его произведения, создавались и
собирались веками и даже тысячелетиями: они таились
198
в языке..-, в формах могучей народной культуры (прё*
имущественно карнавальных)..., в театрально-зрелищ-
ных жанрах (мистерийных, фарсовых и др.),в сюжетах,
уходящих своими корнями в доисторическую древность,
наконец, в формах мышления»5. Наиболее ярко архаичес-
кая структура, связанная с образом царя, проявилась
в трагедии «Король Лир». Трагедия начинается с само-
развенчания Лира. Он решил передать свою власть,
богатство и даже корону дочерям. Сразу вслед за этим
Гонеридья и Регана начинают глумиться над Лиром, что
по архаической схеме соответствует осмеянию развен-
чанного царя. Лир, сопровождаемый шутом, уходит в
степь, в бурю, там он теряет рассудок. По традиционной
схеме судьбы царя, уход в бурную степь — это уход в
иной мир; мир хаоса и смерти. Архаическое сознание
воспринимало безумие как переживание смерти. Устой-
чивая близость монарха и шута «восходит к древнейше-
му культурному архетипу, отождествляющему царя и
изгоя-раба, прокаженного, нищего, шута.»6. Шут — ри-
туальный двойник царя-жреца. Когда царь начал ста-
новиться хотя и сакрализов.анным, но властителем, об-
ряд развенчания производился не над ним —шут-двой-
ник осмеивался и умирал вместо царя. Шут появился,
когда обряд начал разрушаться. В процессе дальнейшей
трансформации древнего обряда на первый план высту-
пает смеховая природа фигуры шута, а в карнавале шут
и царь почти полностью сливаются в образе шутовского
короля7.
Лир возвращается к Корделии, вновь увенчанный шу-
товским венком «из кашки, васильков, репья, чертопо-
лоха и крапивы — обычных сорных трав в хлебах у
нас», он воскрес в новом качестве.
Конечно, все перечисленные элементы традиционной
структуры заслонены и -объяснены бытовыми и психоло-
гическими мотивами поведения Лира, его дочерей и
придворных. Однако архаическая структура сохранила
важную идейную информацию, осмысленную по-новому
в новую эпоху. В трагедии короля Лира исследователи
уже давно увидели трагедию целого гибнущего- социаль-
ного строя — феодализма. Но Шекспир изображал боль-
шие социальные конфликты через судьбы отдельных лю-
дей, обрисованных всегда с большой психологической
глубиной. Распад семейных связей знаменует разруше-
ние феодальных отношений, и закономерно связан с
199
новой стадией разбития идеи самоценности человеческой
личности. Лир уверен, что близкие .почитают его за вы-
сокие личные качества, а не потому, что о;н обладает
властью. Но оказывается, что действительно любят в нем
отца и человека Корделия, шут и К^нт- Королевская
власть у Шекспира лишена сакральности. Вся траге-
дия, в сущности, посвящена развенчанию короля и воз-
величиванию человека.
Лир плохой король, он совершенно не думает о сво-
ем народе, он самовластно разделил государство на час-
ти, он изгнал из страны благородного Конта, он пред-
почитает лесть правде. С первой же сцены Шекспир пе-
реводит разговор в план нравственных гуманистических
категорий. Английский драматург совсем не показал в
трагедии, .нцрод. Но он сумел все же изобразить про-
пасть между жизнью короля и. нищего. В блеске влас-
ти и славы Лир не задумывается о том, как живут его
подданные. Покинув дворец, оказавшись 'беззащитным
перед разгулом стихии, испытав холод и бесприютность,
Лир впервые задумался о жизни бедняков:
Бездомные, нагие горемыки,
Где вы сейчас? Чем отразите вы
Удары этой лютой непогоды?
В лохмотьях, с непокрытой головой
И тощим брюхом? Как я мало думал
Об этом прежде? Вот тебе урок,
Богач надменный! СтанН на место бедных,
Почувствуй то, что чувствуют они,
И дай им часть от своего избытка
В знак высшей справедливости небес.
Оказавшись в бурю посреди дикой степи, Лир теперь во
всех, кого встречает там, видит несчастных и обездолен-
ных. Он жалеет Кента и Эдгара, в которых видит слугу
и нищего. Он стремится во всем уподобиться бедняку.
Именно в нищем король увидел подлинного человека:
«Неужели вот это, собственно, и есть человек? Присмот-
ритесь к нему. На нем все свое, ничего чужого... Непри-
крашенный человек и есть именно это .бедное, .голое дву-
ногое животное, и больше ничего. Долой, долой с себя
все лишнее! Ну-ка отстегни мне вот тут. (Срывает с се-
бя одежды)». В трагедию вошла тема единства челове-
чества: король и нищий прежде всего люди. Но если ко-
роль, превращаясь в нищего, обогащает свою личность
гуманистическими, идеями, то в (настоящем бедняке он
200
13*
пока еще не видит личности для Herb-это Все еще
«голое двуногое животное», вызывающее жалость вслед-
ствие только физических страданий.
В сцене в степи соединены очень важные вещи: кос-
мическое и социальное, сЗтеды архаических представле-
ний об ином мире и нравственное возрождение человека,
познавшего страдание. Герой Шекспира попал в мир,
где все существует с иным знаком придворный играет
роль слуги, знатный юноша — роль сумасшедшего бедня-
ка, а сам Лир находится в положении бездомного бро-
дяги. Самим собой остался только шут. .Пбтерявший
рассудок Лир именно теперь прозрел, увидел ..лидей в
истинном свете, узнал им цену — и все это в обстанов-
ке, очень напоминающей потусторонний мир мифа,- где
только и мог человек (по архаическим представлениям)
приобрести знания, не доступные ему в мире живых. Акт
магического познания переосмыслен как нравственное"
прозрение. Фантасмагория этой сцены, благодаря уни-
версальной мифологической основе, передает современ-
ные Шекспиру идеи.
Развенчанный, подвергнутый глумлению, пережив-
ший безумие Лир не может воскреснуть как король, но
в последней, части трагедии он возродился как человек.
Трагедия начинается с того, что герой Шекспира, само-
довольно верящий в свои исключительные человеческие
качества, расстался с королевским саном, а заканчива-
ется тем, что эти качества проявляются в нем на самом
деле. Корона :— знак избранности и жертвенности, ве-
нок из полевых трав — знак величия и страдания чело-
века. В воскрешении Лира-человека его смерть ничего
не может изменить.
В трагедии Шекспира не народ развенчивает, осмеи-
вает, убивает короля. Но воскресение Лира — это вос-
становление в его сознании глубоко народных в своей
основе нравственных начал. Исторически сложившееся
ко времени Шекспира противостояние царя (короля) и
народа не отражено в сюжетном действии и конфликте
трагедии. Однако оно те могло не проявиться. Если у
Еврипида наказываемый Пенфей уподобляется божеству
плодородия в момент его-убиения, то у. Шекспира раз-
венчанный Лир уподоблен беднейшим из своих поддан-
ных. Пенфей наказан (богом. Лир осужден с позиций
исконных народных гуманистических нравственных на-
чал. Несмотря на идейную и временную дистанцию меж-
14-3103 - 201
дУ .произведениями Еврипида и Шекспира, оба драма-
турга пользуются одними и теми же традиционными об-
рядовыми формами. Пенфей ввергнут Дионисом в сос-
тояние безумия и увенчан, плющом (символом Вакха),
безумный Лир надел венок из диких трав, растущих на
полях Англйй. Еще ритуальное в греческой трагедии бе-
зумие Пенфея у Шекспира приобретает пророческий ха-
рактер. Пенфей в состоянии ритуального безумия ви-
дит Диониса в образе быка; Лир, отвергнув социальные
условности, увидел в бедняке человека, равного себе.
Пушкин, использовавший опыт и греческой, и шек-
спировской трагедии, решает проблему взаимоотношений
царя и народа на уровне философии истории своего вре-
мени. В. «Борисе Годунове» народ выведен на сцену,
он изображен как могучая историческая сила, от кото-
рой зависит не только судьба, царя, он обладает собст-
венным голосом и собственным мнением о происходя-
щих событиях. На первом плане оказываются проявле-
’ ния объективных исторических закономерностей. Эле-
менты древнего обряда .в трагедии Пушкина перенесены
из сюжетного действия в аферу сознания персонажей и
народа. Для Пушкина мотив увенчания, развенчания и
т. д. царя были фактом общественного сознания, а в ху-
дожественной структуре трагедии — средством изобра-
жения особенностей личного и коллективного сознания,
процессов, происходящих в нем, и одним из средств ис-
торического углубления идейного содержания, трагедии.
Ни в греческой трагедии, ни в произведениях Шекс-
пира не ставилась проблема социально-исторической
оценки, царской власти, как таковой. В трагедии Пушки-
на это часть главной проблемы. Поэтому он не ограни-
чился изображением судьбы одного царя, как Еврипид и
Шекспир. Народ поочередно свергает двух царей, а Го-
дунов приходит к выводу о то)и, что
Живая власть для черни ненавистна..
Они любить умеют только мертвых.
Здесь отразилось понимание исторической закономерно-
сти: царь и народ по своим интересам и устремлениям
противоположны, противоречия в их отношениях не-
примиримы. Но мысль эта сформулирована по образцу
древней мыслительной модели: умерший' царь достоин
народной любви, ибо он умер, -чтобы народ жил.
202
Архаическая фольклорно-мифологическая структура,
в центре которой образ царя, влияющего на судьбы кол-
лектива и зависящего от него, не потеряла своей1 акту-
альности на протяжении тысячелетий. Произошло это
потому, что в ней заключены кардинальные для челове-
чества идеи: идея жертвенности во имя народа (здесь —
потенция трагического), идея ответственности правите-
ля перед народом и права народа судить и менять его,
идея возрождения (вначале ритуального воскрешения,
потом духовного воскресения) человека.
14*
ПРИМЕЧАНИЯ
К введению "
1 Белинский В. Г. Собр. соч.: В 3-х т. Т. 3. М., 1948- С. 376.
2- Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества- М., 1979.
С. 331.
3. См.: Фрэзер Дж. Золотая ветвь. М., 1980; Рыбаков Б. А.
Язычество древних славян. М., 1981-
4. Вейнберг И. П- Человек в культуре древнего Ближнего Вос-
тока. М., 1986. С. 116.
5. См. об этом: Пропп В,. Я. Эдип в свете фольклор а//Пропп
В. Я. Фольклор и действительность. М., 1976. С. 258—300.
6. Аналогичны игры с медведем у северных народов, британ-
цев и Тг д., а также игры с быком у древних греков и римлян, со-
хранившиеся до настоящего времени в Испании и Латинской Аме-
рике в виде корриды.
* 7. См.: Пропп В? Я. Ритуальный смех в фольклоре//Пропп В. Я.
Фольклор и* действительность. М.,'1976.
8. Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII
столетиях. Т. 1. Ч. 2. М., 1915, С- 307—308. См- также: Некрыло-
ва А. Ф. Медвежья комедия: Некоторые проблемы и аспекты изу-
чения//Фольклор и этнография: У этнографических истоков фольк-
лорных сюжетов и образов. Л-, 1984. С- 195. Отголоски этих обы-
чаев встречаются в романах А. С.. Пушкина («Дубровский» и Л. Н.
Толстого «Война и мир», рассказах Н. С. Лескова и т. д.
•9. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1981.
10. См. об этом: Веселовский А. Н. Разыскания в области рус-
ского духовного стиха. Спб., 1883. Ч. VII.
11- См.: Велецкая Н- Н. Языческая символика славянских ар-
хаических ритуалов. М., 1978. С. 79 и поел.
12. Гусев В. Е. От обряда к народному театру (эволюция* свя-
точных игр в покойника)//Фольклор и этнография: Обряды и обря-
довый фольклор. Л., 1974. С. 49—'60; Чичеров В. И. Зимний пе-
риод русского народного земледельческого календаря' XVI—XIX
веков: Очерки по истории народных- -верований//Труды ИЭ АН
СССР. Нов. сер. Т. XI. М.» 1957.
13. Новое известие о России времени Ивана Грозного: «Сказа-
ние» Альберта Шлихтинга/Пер-, ред й примеч. А- И. Малеина. Л.,
1934. '
14. Панченко А. М. Русская культура в канун петровских ре-
форм. Л., 1984. С. 112-
15. Очень своеобразно шло переосмысление власти короля,
его функций на Западе в эпоху Возрождения, когда ренессансные
мыслители вплотную подошли к идее просвещенного монарха, фи-
гура которого была отражена в книге Ф- Рабле. «Гаргантюа и
Пантагрюэль».
204
16. Остаточные явления подобных представлений зафиксирова-
ны в монологе Бориса Годунова:
Бог насылал на землю нашу глад,
Я отворил им житницы......................
Они, ж меня, беснуясь, проклинали,
Пожарный огнь их домы истребил,
Я выстроил им новые жилища. ‘
Они же меня пожаром упрекали!
У Карамзина читаем о древних славянах: «Но древнейшие Бояре,
Воеводы, Князья, Паны, Жупаны и самые Короли Славянские во
многих отношениях зависели от произвола граждан, которые не-
редко, единодушно избрав начальника, вдруг лишали его своей
доверенности, иногда без всякой вины, единственно по легкомыс-
лию, клевете, или в несчастиях: ибо народ всегда склонен обви-
нять Правителей, если они не умеют отвратить бедствий от Госу-
дарства. Сих примеров довольно в- Истории языческих, даже и
христианских'С л авян»//История Государства Российского./Г. 1. М.,
1989. С. 74.
17. См: Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Александр и
Цезарь//Плутарх. Соч. М., 1983. Современное научное объяснение
этого явления см.: Костюхин Е. А. Александр Македонский в ли-
тературной и фольклорной традиции. М., 1972.
18. Гай Светоний Транквилл. Жизнь^ двенадцати цезарей- М.,
1966. С. 6.
19. Там же. С. 70.
20- Иванов В. Г. История этики средних веков. Л., 1984. С. 163.
21. См.: Маркс К-, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С- 313—314.
22. См-: Дмитриева Р. П. Сказание о князьях Владимирских.
М., 1’955.
23. См.: Елеонская А. £. Русская публицистика 2-й пОл- XVII в.
М., 1978. С- 19—21.
К главе 1
1. Бонди С. М. О Пушкине: Статьи и исследования. М., 1978.
С. 120; Фомичев С. А. Драматургия А. С. Пушкина//История рус-
ской драматургии, ^XVII — первая половина XIX вв. Д„ 1982.
С. .272—273; Филиппова Н. Ф. Народная драма А- С. Пушкина
«Борис Годунов». М., 1972. С. 60—61.
2. В «Утвержденной грамоте Земокого Собора 1598 г.» чита-
ем: «...окрест кельи и по всему монастырю и за монастырем все
православное крестьянство всея Русския земли, с женами и детьми,
великий плач и рылательный глас мног испущаху, от горести. серд:
ца и от многого сетования жены сущих своих младенцев на земЛю
с слезнцм рыданием пометаху». Городецкий Б. П.. Драматургия
Пушкина. М.; Л., 1953. С. 151—152’.
Н. М. Карамзин пишет: «...все требовали? царя, отца, Бориса!
Матери кинули на землю своих грудных младенцев и не слушали их
крика. Искренность побеждала притворство; вдохновение действо-
вало'и на равнодушных, и на самых лицемеров!» — Карамзин Н. М.
История Государства Российского. Т. X, Спб., 1824. С. 234—235.
205
В статье П. А. Орлова «Трагедия Пушкина «Борис Годунов» и
«История Государства Российского» Карамзина» предлагается иная
интерпретация этого фрагмента: «Ни о каком единодушии Карам-
зин не говорит: Было и «притворство» и «равнодушие» и «лицеме-
рие...» (Филологии, науки. 1981. № 6. С. 8.). Это призер произ-
вольного толкования ясного текста. П. А. Орлов не принимает во
внимание слова Карамзина «искренность- побеждала...», зато вы-
деляет курсивом «притворство», «равнодушных», «лицемеров» и с
помощью такого приема искажает смысл цитаты-
3. Значительно обедняя содержание этой сцены, П. А. Орлов
считает, что Пушкин Изобразил- всего лишь «неподготовленность на-
рода к навязанной ему (Борисом Годуновым и Иовом,. — С. А.,
Л. Р.) роли, вследствие чего сами выборы царя носят .трагикоми-
ческий, фарсовый характер» [Орлов П. А. Указ. соч. С. 8.]
4. К мысли о возможности сопоставления трагедии «Борис Го-
дунов» с произведениями Эсхила и Софокла, вслед за И. В. Кире-
евским, пришел Н. И. Балашов. См.: Балашов И- И- «Борис Го-
дунов» Пушкина: Основа драматической структуры//Изв. АН СССР.
Сер. литерат. и яз- Т- 39. № 3. 1980. С., 205—218.
5. См. об этом:.. Бернштейн Д. «Борис Годунов» Пушкина и
русская историческая драматургия в эпоху декабризма//Пушкин —
родоначальник новой русской литературы. М.; Л., 1941. С. 217—
263.
6. См.: Бернштейн Д. «Борис Годунов»//Литературное наследст-
во. Т. 16—18- 1984. С. 215—247; Благой Д. Д. От Кантемира до
наших дней. Т. 2. М., 1973; Бонди С. М. О Пушкине. М., 1978 и
др-; Городецкий Б- П. Драматургия Пушкина. М.; Л., 1953; Горо-
децкий Б. П. Трагедия, А. С. Пушкина «Борис Годунов». Л., 1969;
Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М-,
1957; Рассадин С. Б. Драматург Пушкин: Поэтика: Идеи: Эволю-
ция. М., 1977; Филиппова Н. Ф. «Борис Годунов» А. С- Пушкина.
М., 1984; и др.
7. Благой Д. Д. Указ. соч. С. 110.
8. Следует, правда, сказать, что существует и другое понима-
ние народной активности. Возражая против недооценки «в истори-
ческих представлениях Карамзина, роли народа», П. А. Орлов пи-
шет: «Народ в представлениях Карамзина ни в коей мере не вы-
ступает пассивной массой. Он кормит своим трудом всю Русскую
землю, защищает осажденные города, восстанавливает разрушен-
ные врагами селения, расширяет пределы Московского государст-
ва. -Воспитанный в правилах христианской, морали, он чаще всего
покорен своим правителям, что не мешает ему иметь о каждом из
них свое мнение. Но когда его терпению приходит конец, он выра-
жает свое недовольство бунтами и восстаниями... Достаточно вспом-
нить псковский бунт 1314 г., московский бунт 1547 г., вызванный
пожарными бедствиями, и особенно народные волнения в период
так называемого «Смутного времени» (Орлов П. А. Указ. соч. С. 5).
Эта концепция представляется в высшей степени уязвимой. Про-
изведена подмена понятий: обычная и необходимая жизнедеятель-
ность людей трактуется как политическая активность народа, ко-
торая, в свою очередь, подменяется стихийными проявлениями на-
родного отчаяния. Так как (на протяжении всей статьи) П- А. Ор-
лов не делае'Г попытокv сопоставить философию истории Карамзина
с современными воззрениями на эти проблемы, то не ясно, кому
206
принадлежит указанная подмена -понятий — ученому XIX века или
его интерпретатору.
9. Благой Д. Д. Указ- соч. С- 108.
10. Винокур Г. О. Комментарий к трагедии Пушкина «Борис
Годунов»//Пушкин А. С. Поли, собр- соч. Т- 7. Л., 1935.
11. Карамзин Н. М. История Государства Российского, Т. XI.
Спб., 1824, С. 198.
12. Ср.: «Когда народы, распри позабыв, в единую семью сое-
динятся...»!; Слух обо мне пройдет по всей Руси великой.
•И назовет меня всяк сущий в ней язык:
' И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
'Тунгуз, и друг степей калмык...
13. См.: Бонди С. М. Указ. соч. С. 191—208.
14. Об античной трагедии см.: Радциг С. И. История древне-
греческой литературы. 4-е_изд. М., 1977; Борухович В. Г- История
древнегреческой литературы: Классический период. М-, 1962; Яр--
хо В. Н. Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегре-
ческой трагедии. М.,_ 1978; Его же. У истоков европейской коме-
дии- М., 1979; Гробарь-Пассек М. Е. Античные сюжеты и формы в
западноевропейской .литературе. М-, .1966; История римской ли-
тературы. В 2 т.//Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Гробарь-Пас-
сек, Ф. А. Петровского. М., 1959—1962-
15- О творчестве Шекспира см.: Аникст А. Шекспир: Ремесло
драматурга. М., 1974; Пинский Л. Е. Шекспир: Основные начала
драматургии- М., 1971; Урнов М. В., Урнов Д. М. Шекспир: Его
герой и его время. М., 1964; Шведов Ю. Ф. Исторические хроники
Шекспира. М., 1964; Его же. -Эволюция шекспировской трагедии.
М., 1975. . *
16. Бонди С. М- Указ. соч. С- 190.
17. -Благой Д. Д. Указ. соч. С- 105—107.
18. Оригинальную гипотезу, о роли, бояр (Шуйского, Воротынс-
кого, Пушкиных и др.) в трагедии см-: Гуревич А. М. История и
современность в «Борисе Годунове»//Известия АН СССР. Сер- лит.
и яз. Т. 43. № 3. 1984. С. 204—214.
19. Покровский М. Н. Пушкин — историк//Пушкин А. С. Поли,
собр. соч.: В 6 т. Т. V. Кн. 1. М.; Л;, 1933. С. 20.
'20 - Винокур Г. О.' Комментарий к трагедии А- С. Пушкина «Бо*
рис Годунов». С. 466.
21. Там же. С. 478.
22. Фомичев С- А. Драматургия А. С- Пушкина//Истори-я рус--
ской драматургии: XVII — первая половина XIX вв. Л., 1982,
С. 275—276.
23. Царственные персонажи Шекспира никогда не говорят про
себя «мы», у них нет ощущения принадлежности к какой-либо об-
щей социальной группе королей, правителей и т. п., или оно на
втором плане. У Шекспира главная тема — личность и история, у
Пушкина — личность и народ.
24- Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля.
М., .1957. С. 9—72.
25- Чебоксаров Н. Н., Чебоксарова И. А. Народы, расы куль-
туры. М., 1985- С. 29, 7.
26. Словарь языка А. С. Пушкина: В 4 т. Т. 2. М-, 1957. С. 725-
27. Там же. Т- 4. М., 1961- С. 409.
28. Скрынников Р. Г, Борис Годунов. М., 1978. С- 177—181.
207
К главе 2
1. Маркс К-, Энгельс Ф. Поли. собр. соч- 2-е изд. Т. 2; С. 547.
2. Русские исторические песни: Хрестоматия/Сост. В. И. Игна-
тов. М., 1985- С. 984.
3. Пропп В. Я. Фольклор и действительность. М., 1976. С. 258—
299. •
4. Там же- С. 264.
5. Там же. С. 265.
6. Фомичев X- А. Поэзия Пушкина: Творческая эволюция. Л;,
1986. С-.151.
7. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979.-
С. 185-
8. Там же. С- 198.
9. Чистов К. В. Народные традиции и фольклор: Очерки теории.
Л., 1986. С- 201—211.
10. Там же- С. 217.
11. Плюханова М. Б. О некоторых чертах личностного созна-
ния в России XVII века//Художественный язык Средневековья.
М., 1982- С. 192.
12. А. М- Панченко отмечает: «Показательно, что в отличие от
Западной Европы русские источники до начала XVII века не зна-
ют ни одного самозванца/ хотя в историческом бытии ситуации,
«йредрасполагавшие» к самозванству, возникали многократно. Та-
ковы и феодальная война XV века, когда боролись обе линии по-
томков Дмитрия Донского, и схватка за престол между внуком и
сыном Ивана III еще при жизни последнего, и в особенности ко-
нец царствования Грозного, когда от руки отца погиб царевич Иван
Иванович. Между тем ни в одной из этих ситуаций самозванец не
появился... Русское самозванство возникло тогда, когда поколеба-
лось относительное, единство средневековой идеологии." Низы приш-
ли к мыслило соперничестве с властью, хотя в той же. монархичес-
кой оболочке.-.» (Панченко А- М. Указ. соч. С. 15—16).
13. Плюханова М. Б. Указ. соч. С. 198.
14. Чистов К. В. Народные традиции и фольклор. С. 216.
15. Успенский Б. А. Царь и самозванец: Самоэванчество в Рос-
сии как культурно-исторический феномен//Художественный язык
Средневековья. М., 1982. С. 202.
16- Панченко А. М- Указ. соч?С. 15.
17. Скрынников Р. Г. Указ, соч: С. 175—177.
18. Цит. по: Скрынников Р. Г. Указ. соч. С. 156.
19. Лихачев Д. С. Жизнь человека в представлении неизвестно-
го автора XVII века//Повесть о Горе-Злочастии. Л., 1984. С. 89-
20. Характерное совпадение: Савва Грудцын постригся в том же
аристократическом Чудовскода монастыре на территории Кремля,
откуда бежал в Польшу инок Григорий Отрепьев-
21. Двигаясь по дороге к Литовской-границе, Григорий и его
спутники живут подаянием,. Отрепьев выглядит нищим: «Парень-то,
каж’ётся, гол, с него взять нечего», — говорит пристав. В Польше
будущий^ русский царь первоначально был слугою у Вишневецкого.
22. Кусков В- В.-История древнерусской литературы. М., 1977.
С. 205-206-
23. Успенский Б.. А. Указ. соч. С. 201,
24. Там же- С. 204-
208
25. Там же. С. 205.
26. Древние Российские стихотворения, собранные Киршею Да-
ниловым. М., 1977. С- 63—64.
27- Успенский Б. А. Указ. соч. С. 207.
*
К главе 3
1. См-: Успенский Б. А. Указ. соч. С. 214—217.
2. Миллер В. Ф. Исторические песни русского народа XVI—
XVII вв- Пг., 1915. С. 590.
3. Сказания современников о, Димитрии-самозванце. 3-е изд-
Спб., 1859. С. 196—238.
4. Успенский Б. А. Указ, соч- С- 216.
5. Там же. С. 216f Панченко А. М. Русская культура в канун
Петровских реформ. С- 17- '
6. См.: Мелетинский Е. М. Палеоазиатский мифологический эпос:
Цикл ворона. М.‘, 1979.
7. Аналогичны этому обряду действия людей, глумившихся над
Христом: одев в пародийный царский наряд, назвав царем иудей-
ским, его били по лицу и таскали за уши.
8- Вейнберг И- П. Указ. соч. С. 119.
9. См. об этом: Фрэзер Дж. Гл. 24, 25, 26.
10. Даркевич В. П. Танцы и акробатика в искусстве средневе-
ковья//Культура и искусство средневекового города. М., 1984- С- 18.
И. См.: Вагнер Г. К. Проблема жанров в древнерусском ис-
кусство. М., 1974. С. 243- Фронтальное положение персонажа на
иконе подчеркивает высокую степень его сакральности, так как та-
кое изображение знаменовало прямую соотнесенность с вечностью —
вечное неподвижно. См. об этом: Лихачев Д. С. Поэтика древне-
русской литературы. М., 1979. Известна также скульптура XII ве-
ка из Покровской церкви г- Владимира, изображающая царя Да-
вида с русскими пятиятр.унными крыловидными гуслями в руках;
на новгородских миниатюрах XIV века часто встречается изобра-
жение Давида с гуслями.
12. См.: Лихачев Д. С- Древнейшее русское изображение 'Ско-
мороха и его значение для истории скоморошества//Проблемы срав-
нительной филологии. М.; Л., 1964- С. 462—466.
13. Морозов А. Скоморохи на Севере//Север: Альманах- Ар-
хангельск, 1946.
14. Барщевский И. Несколько слов из истории искусства ско-
морохов. Ростов-Ярославский. 1914; Гальковский Н- Борьба хрис-
тианства с остатками язычества в’древней Руси. Т. 1. Харьков,
1916
15. Панченко А. М. Русская культура в канун Петровских ре-
форм. С. 73-
16: Лихачев Д. С. «Моление» Даниила Заточника//Лихачев Д. С.
Великое наследие. М.; 1975. С. 205—221: Лихачев Д. С., Панчен-
ко А. М. «Смеховой мир» древней Руси. Л., 1976. С. 9—3*0.
17- Бестужев-Марлинский А. А. Соч.: В 2 т- Т. 2. М., 195Я.
С. 602. -
18. Древние российские стихотворения, собранные Киршею Да-
ниловым. С. 201,
209
19. Подробно об этом см-: Народно-поэтическая сатира/Подг.
текста и примеч. Д. М- Молдавского. Л., 1960. С. 7.
20. Русская демократическая сатира XVII в./Подг- текстов и
коммент. В. П. Адриановой-Перетц. М., 1977. С- 28.
21. Там же- С. 54;
22 Журнал путешествия из Москвы в Нижний Новгород кня-
зя И. М- Долгорукого. М., 1870.:С.--31.
23. Русская народная лирическая поэзия. Л., 1984- С. 269—270.
24. Исторические’песни, баллады. М., 1986. С. 169.
25. Городецкий Б. П- Драматургия Пушкина. М.; Л.. 1953.
26. Алексеев М. П. Ремарка Пушкина. «Народ безмолвствует»//
Алексеев М. П. Пушкин. Сравнительно-исторические исследования.
Л., 1984. С- 244.
27. Там ж£. С. 247-
28. Там же2 С. 246.
29. См.’: Михайлова Н. И. К источникам ремарки «НарЪд без-
молвствует» в трагедии «Борис Годунов»//Временник Пушкинской
комиссии. Вып- 20. Л., 1986. С. 150—153.
30. Плутарх. Сравнительные жизнеописания-: Александр и Це-
зарь.//Соч. М., 1983. С. 164.
34. Белая перевязь, диадема, была знаком царской 'власти.
32. Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М.,
1966. С. 30. -
33. Легендарный предок Марка Юния Брута, первый римский
консул, цареубийца.
34- Гай Светоний Транквилл. Указ. соч. С- 31.
35. Там же. С. 33. *• - . f
36. Такой образ средневекового рыцаря, посвятившего себя слу-
жению Мадонне и принявшего в знак этого обет молчания, создан
Пушкиным в стихотворении «Жил на свете рыцарь бедный».
К главе? 4 >
1. См-, напр.: Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалисти-,
ческого стиля. М., 1957. С. 32; Городецкий Б. П. Драматургия Пуш-
кина. М., Л., 1953. С. 134; Петров С. М, А. С. Пушкин. Очерк жиз-
ни и творчества. М-, 1973, С. 152; и др.
2. Рассадин Ст. Б. Драматург Пушкин. Поэтика. Идеи. Эволю-
ция. М., 1977. С- 32.
3. Фомичев С. А. Поэзия Пушкина: творческая эволюция. Л.
1986- С. 153. - .• ’
4. Аверинцев С. С. Древнееврейская литература//История все-
мирной литературы. Т. 1. М., 1983. С. 284—285.
5. Как известно, из нескольких десятков юродивых, чествуемых
православной церковью, только шесть подвизались на христианском
Востоке. См.: Панченко А. М. Смех ка’к зрелище//Лихачев Д. С.,
Панченко А. М, «Смеховой мир» древней Руси. Л., 1976. С. 93.
6. См- об этом: Там же. С. 93—94-
7. Там же. С. 101.
8. Веселовский А. Н. Разыскания в области русской духов-
ного стиха. VI—X В.//СОРЯС, 1883. Т. XXXII. № 4. С. 210.
9. Лихачев Д. С., Панченко А. М. Указ. соч. С. 153—154.
210
10. Хрестоматия по древней русской литературе. М., 1973. С. 98.
11. Елеонская А. С. Русская публицистика второй половины
XVII века. М., 1978. С. 7.
12. Савушкина Н. И. Русский народный театр. М., 1976. С. 129.
13. Гусев В. Е. Взаимосвязи русской вертепной драмы с бе-
лорусской и украинской//Славянский фольклор. М., 1972'. С. 307—
311.
14. Лихачев Д. С., Панченко А. М. «Смеховой мир» древней
Руси, С. 102.
15. Там же. С. 156.
16. Там же, С. 156.
К главе 5
1.. См. об этом: Агранович С. 3., Рассовская Л. П. Историзм
Пушкина и поэтика фольклора. Саратов, 1988.
2. Мелетинский Е. М. Структурно-типологический анализ ми-
фов северо-восточных палеоазиатов: Вороний цикл//Типологичес-
кие исследования по фольклору: Сб. ст. памяти В. Я. Проппа
(1895—1970). М., 1975. С. 105.
3. Костюхин Е. А. Типы и формы животного эпоса. М. 1987.
С. 32.
4. Мелетинский Е. М. Палеоазиатский мифологический эпос:
Цикл ворона. М., 1979. С. 47.
5. Штернберг Л. Я. -Культ орла у сибирских народов. Л.,
1925; Штернберг Л. Я. Первобытная религия в свете этнографии.
М.; Л., 1936; Мелетинский Е. М. Указ. соч. С. 195.-
6. Иное толкование «темы детей», абсолютно внеисторическое,
см/. Напомнящий В. С. Поэзия и судьба: Над страницами духовной
биографии Пушкина. М., 1987.
7. Кусков В. В. Указ. соч. С.~205—206. —
8. Там же. С. 204.
9. Ср.: «...на образе искусителя — «Злого чернеца» — явно
имеется некоторый налет мистического (уж не дьявол ли?)». — Бла-
гой Д. Д. От Кантемира до наших дней. Т. 2. М., 1973. С. 109.
10. Кусков В. В. Указ соч. С. 206—207.
11. Скрынников Р. Г. Борис Годунов. М., 1978. С. 182.
' 12. См.Алексеев М. П. Борис Годунов и Дмитрий Самозванец
в западноевропейской драме//Алексеев Ml П. Пушкин it мировая
литература.. Л., 1987. С. 362—401.
13. Там же. С. 396.
14. Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стн-.
ля.-М., 1957.
15. Скрынников Р. Г. Самозванцы в России в начале XVII ве-
ка: Григорий Отрепьев. Новосибирск. 1987.
I а К главе 6
L Русская литература XVIII в./Ред., вступит, ст. и примеч.
Г. А. Гуковского. Л., 1937. С. ЗЫ, 455.
2, Макогоненко Г. П, Избранные работы. Л.» 1987. С. 464 и поел.
211
3. Фохт У. Становление критического реалнзма/Пушкнн. Лер-
монтов, Гоголь/В кн.: Развитие реализма в русской литературе.
В 3 т. Т. 1. М., 1972. С. 164—233.
4. Благой Д. Д. А. С. Пушкин//Соколов А. Н. История рус-
ской литературы XIX века (1-я половина). М.; 1976. С. 454.
5. Петрунина Н. Н. Проза Пушкина (пути эволюции). Л., 1987.
. С. 26—37.
6. Там же. С. 262.
7. Вацуро. В. Э. Из историко-литературного комментария к
стихотворениям Пушкина//Пушкин. Исследования и материалы.
Т.'ХП. Л., 1986. С. 323.
8. Петрунина Н. Н. Указ. соч. С. 285.
9. Макогоненко Г. П. Избранные работы. С. 469.
10. Там же. 42. 470.
11. Петрунина Н. Н. Указ. соЧ7 С. 245 и поел.
12. Там же. С; 257.
13. К попыткам разработки образа молодого дворянина отно-
сится и фрагмент из «Русского Пелама». Отец героя очень напоми-
нает Петрушу Гринева: «Отец мой был пожалован сержантом, ког-
да еще бабушка была им брюхата. Он "воспитывался, дома до
18 лет. Учитель его, т-ч Декор, был простой и добрый старичок,
очень хорошо знавший французскую орфографию^ Он женился про-
тив воли своих родителей на девушке, которая была старее его не-
сколькими годами. ...Старый Савельич, его камердинер...»
14. Цявловская Т. Г. Рисунки Пушкина. М., 1987. С. 119.
15. Пушкин Л. С. Биографическое известие об А. С. Пушкине
до 1826 года//А. С; Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т.
Т. 1. М., 1985. С. 54.
16. Измайлов Н. В. Пушкин в дневнике графини Д. Ф. Фи-
кельмон.//Временник Пушкинской комиссии. 1962. М.: Л., 1963.
С. 33.
17. Цявловская Т. Г. Рисунки Пушкина. С. 343.
18. Горчаков В. П. Выдержки из дневника об А. С. Пушкине//
А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 253—254.
19. Катенин П. А. Воспоминания о Пушкине//Там же. С. 188.
20. Вольф А. Н. Рассказы о Пушкине, записанные М. И. Се-
мевским.//Там же. С. 448.
21. Цявловская !. Г. Указ. соч. С. 342. 346.
22. Петрунина Н. Н. Указ. соч. С. 245, 244. См. также: Чиче- .
рин А. В. Возникновение романа-эпопеи. М., 1958. О. 106; Рома-
нов Н. М. Эволюция пушкинского замысла романа о Пелымове//
Русская литература. 1961. № 4. С. 193, 200; Измайлов Н. В.
‘Очерки творчества Пушкина. Л., 1975. С. 211; и др.
23. Макогоненко Г. П. Избранные работы. С. 462.
24. Белинский В. Г. Поли. собр. соч. Т. 8. М„ 1955. С. 387—388.
25. Шкловский В. Б. Гамбургский счет. Л., 1928. С. 31.
26. Шкловский В. Б. Тетива: О несходстве сходного. М., 1970.
С. 220, 217.
27. История жанров в русской литературе X—XVII вв.//Труды
отдела древнерусской литературы. Т. XXVII. Л., 1972. С. 284—
320.
28. См. напр.: Жирмунский В. М. Эпическое сказание об Ал-
памыше и «Одиссея» Гомера//Жирмунский В. М. Сравнительное ли-
тературрведение: Л., 1979. С. 314—335. Наиболее известен вариант-
212
этого сюжета № 301 по указателю Аарне-Андрёева. [Андреев Н. ft.
Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне]..Л., 1929.
29. Путилов Б. Н. Русский и южно-славянский,героический эпос.
М., 1971. С. 245—246.
30. Пропп В. Я. Морфология сказки. М., 1969. С. 30—31.
31. Мелетинскнй Е. М. Герой волшебной сказки. М., 1958.
С. 64—161.
4 32.- См.: Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки.
Л., 1986. С. 93—98.
33. Пропп В. Я- Морфология сказки. С. 73.
34. Макогоненко Г. П. Избранные работы. C.J527.
35. Мысль Пушкина перекликается с высказыванием М. М*. Бах-
тина об одном из важнейших различий между эпосом и романом:
«Для эпоса ' характерно пророчество, для романа предсказание.
Эпическое пророчество всецело осуществляется в пределах абсо-
лютного прошлого... Роман же хочет пророчить факты, предсказы-
вать и влиять на реальное будущее, будущее автора и читателей»//
Бахтин М. М. Эпос ,и роман. С. 418.
36. Там же. С. 395.
37. Мелетинскнй Е. М. Введение в историческую поэтику эпо-
са и романа. М., 1986. С. 149.
38. Там же. С. 148.
39. Бахтин М., М. Эпос и роман. С. 418.
40. Там же. С. 414.
41. Чичерин А. В. Возникновение романа-эпопеи. С. 118.
42. Там же. С. 104.
43. Там же. С. 115.
44. Там же. С. 133.
45. Там же. С. 141.
46. Там же. С. 176.
К главе 7
1. Петрунина Н. Н. Проза Пушкина (пути эволюции). Л., ,1987.
С. 199—287.
2. Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы цэеалистического стиля.
М., 1957. С. 343.
3. Русская литература. 1977. № 3. С. 219—228.
4. Петрунина Н. Н. Указ. соч. С. 199—240. /
5. Муравьева О. С. ‘«Пиковая дама» в исследованиях послед-
него десятилетия//Русская литература. 1977. № 3. С. 221. *
6. Пропп В. Я- Русская сказка. Л., 1984. С. 200—201.
7. Пропп В.‘ Я. Исторические корни волшебной сказки. С. 52—
111.
8. См. об этом в советской фольклористике: Чистов К- В. К воп-
росу о принципах классификации жанров устной народной прозы.
М., 1964; Азбелев С. Н. Отношение предания, легенды и сказки к
действительности //Славянский фольклор и историческая действитель-
ность. М., 1964. С. 5—28; Азбелев С. Н. Проблема международ-
ной систематизации преданий, и легенд//Русский фольклор: Мате-
риалы и исследования. X. М., Л., 1966. С. 176—193; Чистов К. В.
Проблемы категорий устной народной прозы. Fasula, 1967, Bd. IX,
213
Н. 1— 3. С. 13—26; Померанцева Э. В. Мифологические персонажи
в русском фольклоре. М., 1975; Пропп В. Я. Фольклор и действи-
тельность. М., 1976 и др.
9. Пропп В. Я- Фольклор и действйтельность. С. 50.
10. Емельянов Л. И. Проблема художественности. устного рас-
сказа//Русский фольклор: Материалы и исследования. Вып. V. М.,
Л., 1960. С. 254.
‘ 11. Азбелев С. Н. Отношение предания, легенды и сказки к
действительности. С. 11.
12. Померанцева Э. В. Мифологические персонажи в русском
фольклоре. С. 12.
13: Укажем основные работы: Жирмунский В. М. Гете в рус-
ской -литературе. Л., 1982; Макогоненко Г. П. Пушкин и Гете: К
истории истолкования пушкинской «Сцены из Фауста»//ХУ1П век.
Л., 1975. С. 184—281 (См. там же библиографическую справку о
работах на эту тему); Гейман Б. Я. Петербург в «Фаусте» Гете//
Докл. и сообщ. филологич. ин-та ЛГУ. Л., 1950. Вып. 2. С. 64—96;
Алексеев М. П. Пушкин и мировая литература. Л., 1987. С. 402—
501и др.
>14. Алексеев М. П,. Пушкин и мировая литература. С. 490.
15. Пропп В. Я. Морфология сказки. С. 37.
16. Жирмунский В. М. История легенды о Фаустс//Легенда о
докторе Фаусте. М., 1978. С. 264.
17. История русской литературы X—XVII веков. М., 1980.
С. 390. Подробнее см. об этом: Демкова Н. С., Лйхачев Д. С.,
Панченко А. М. Основные^ направления в беллетристике XVII в.//
Истоки русской беллетристики. Л., 1970. С. 525—536.
18. Алексеев М. П. Пушкин и мировая литература. С. 454—
455.
19. См.: Алексеев М. П. Указ. соч. С. 428—430 и поел.
20. Смирнов И. 1Ъ «Уединенный домик на Васильевском» и
«Повесть о Савве Грудцыне»//Пушкин. Исследования и материалы.
Т. IX. Л., 1979.. С. 207—214.
21. Виноградов В. В. Стиль «Пиковой дамы»//Виноградов В. В.
О языке художественной прозы. М., 1980. С. 176—203.
22. Сказки и песни, рожденные в дороге: Цыганский фольклор.
Мм 1985, С. 247,
23. Кусков В. В. История древнерусской литературы. М., 1977.
С. 204.
24. Вильям-Вильмонт Н. Н. Предисловие к трагедии «Фауст»//
Гете И. В. Собр. соч. в 13 т. Юбил. изд. Т. 5. М., 1947. С. 40-
25- Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля.
С. 341.
К главе 8
1. Еврипид. Трагедии. Т. 2. М.^ 1969. С. 478.
2. Ср. сон Григория Отрепьева в «Борисе Годунове».
3. Лосев А. Ф. Античная мифология в ее историческом разви-
тии. М., 1957. С. 153.
4. Михайлов А. В., Шестаков Д. П. Трагедия//КЛЭ. Т. 7. М.,
1972. С. 590.
214
5. Бахтин М М. Ответ на вопрос редакции «Нового мира»//
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 332.
6. Лихачев Д. С., Панченко А. М. «Смеховой мир» древней
Руси. Л., 1976. С- Л 64.
7. См. об этом в фундаментальных трудах Д. Фрэзера, М. Элиа-
де; М. М. Бахтина.
СОДЕРЖАНИЕ
Архаические истоки и эволюция образа царя в народном
сознании . . .............................3
Царь и народ ........................17
Царь и самозванец . . • . 49
Царь и скоморох ........................78
Царь и юродивый .' . . • 92
Образы авантюристов в трагедии.......................‘110
«Борис Годунов» и «Капитанская дочка» - . . 128
«Борис Годунов» и «Пиковая дама» . . • . 174
Еврипид, Шекспир, Пушкин. Формирование и эволюция
трагедии ..................... . . 195
Примечания . . •.............................204
АГРАНОВИЧ Софья Залмановна,
РАССОВСКАЯ Людмила Петровна
МИФ, ФОЛЬКЛОР, ИСТОРИЯ
В ТРАГЕДИИ «БОРИС ГОДУНОВ»
И В ПРОЗЕ А. С. ДУШКИНА
Редактор Н. А. Сидоренко
Обложка художника Е. В. Хуртиной
Художёственный редактор Е. |И. Бочаров
Технический редактор И.'С. Кол ыш ев а
Корректор Т. И- Щелокова
- Сдано в набор 19.06.91: Подписано^ печать 25.01.92. Формат
84Х108!/з2. Гарнитура Литературная. Печать высокая. Печ.
л. 6,75. Уч.-изд. л. 11,34. Тир. 2 000 экз. Заказ № 3103.
С. 7-92. .
Издательство «Самарский университет»,
443011, г. Самара, ул. Акад. Павлова, 1.
Издательство «Самарский Дом печати»,
443086, г. Самара, проспект Карла Маркса, 20 К
14*