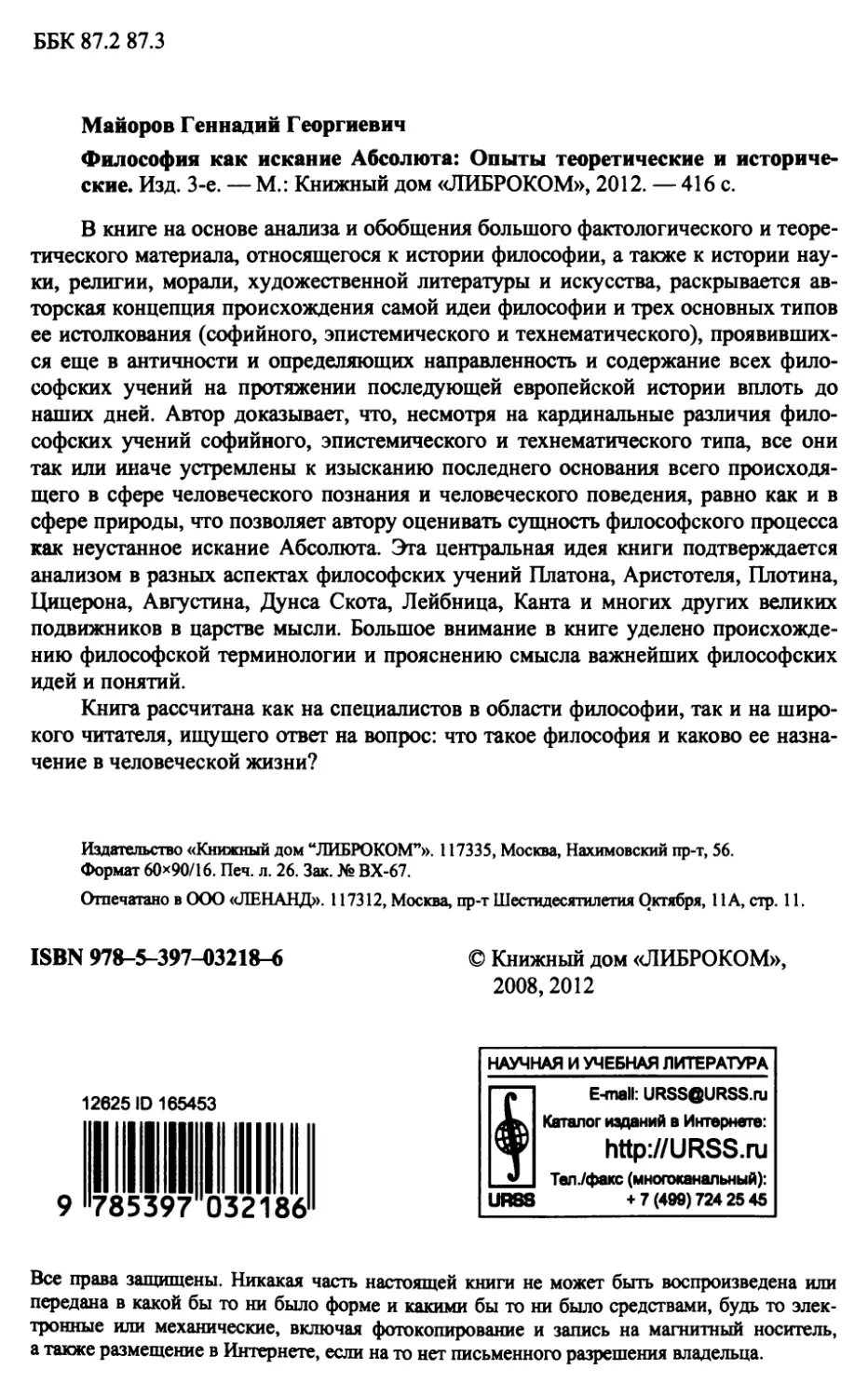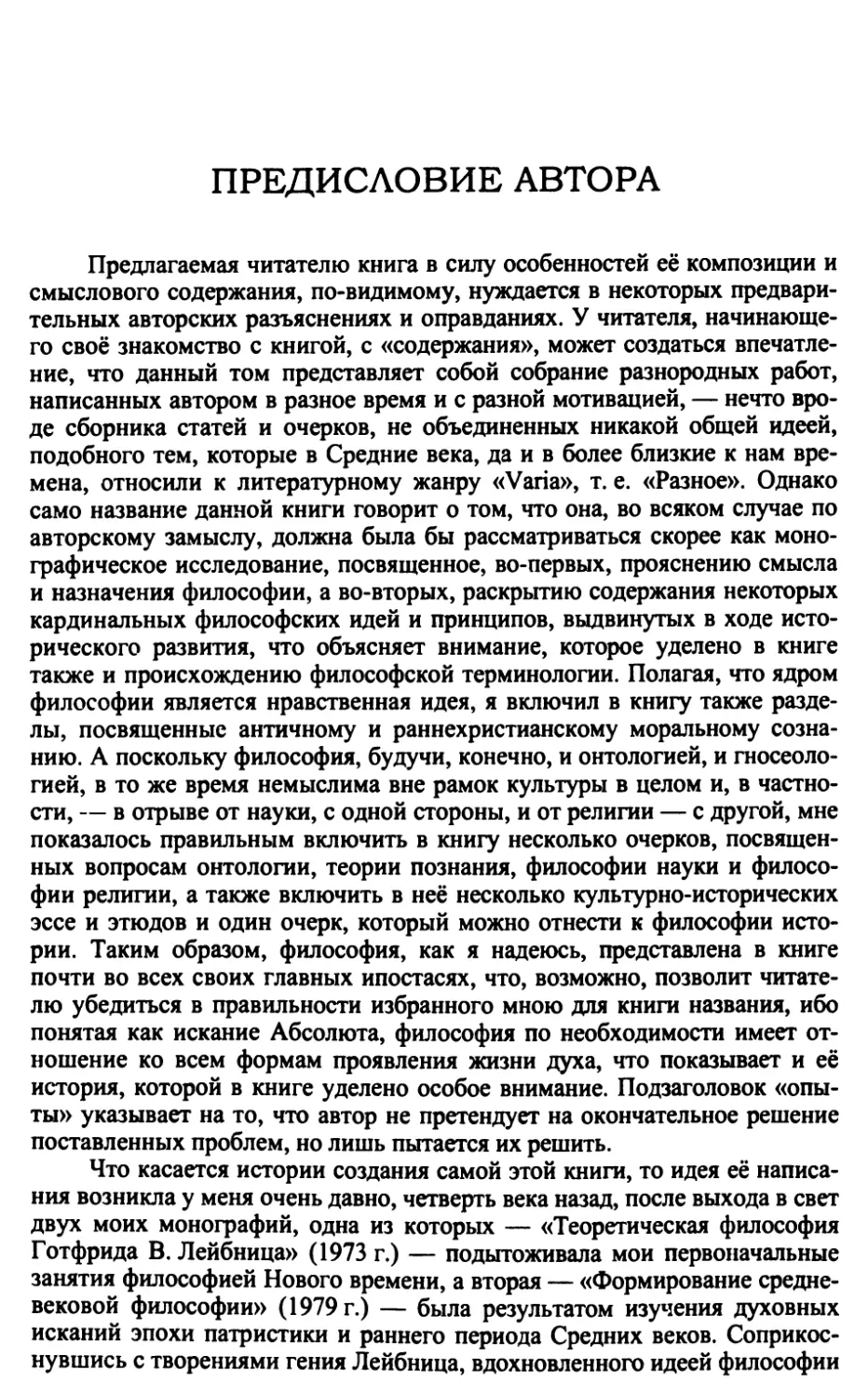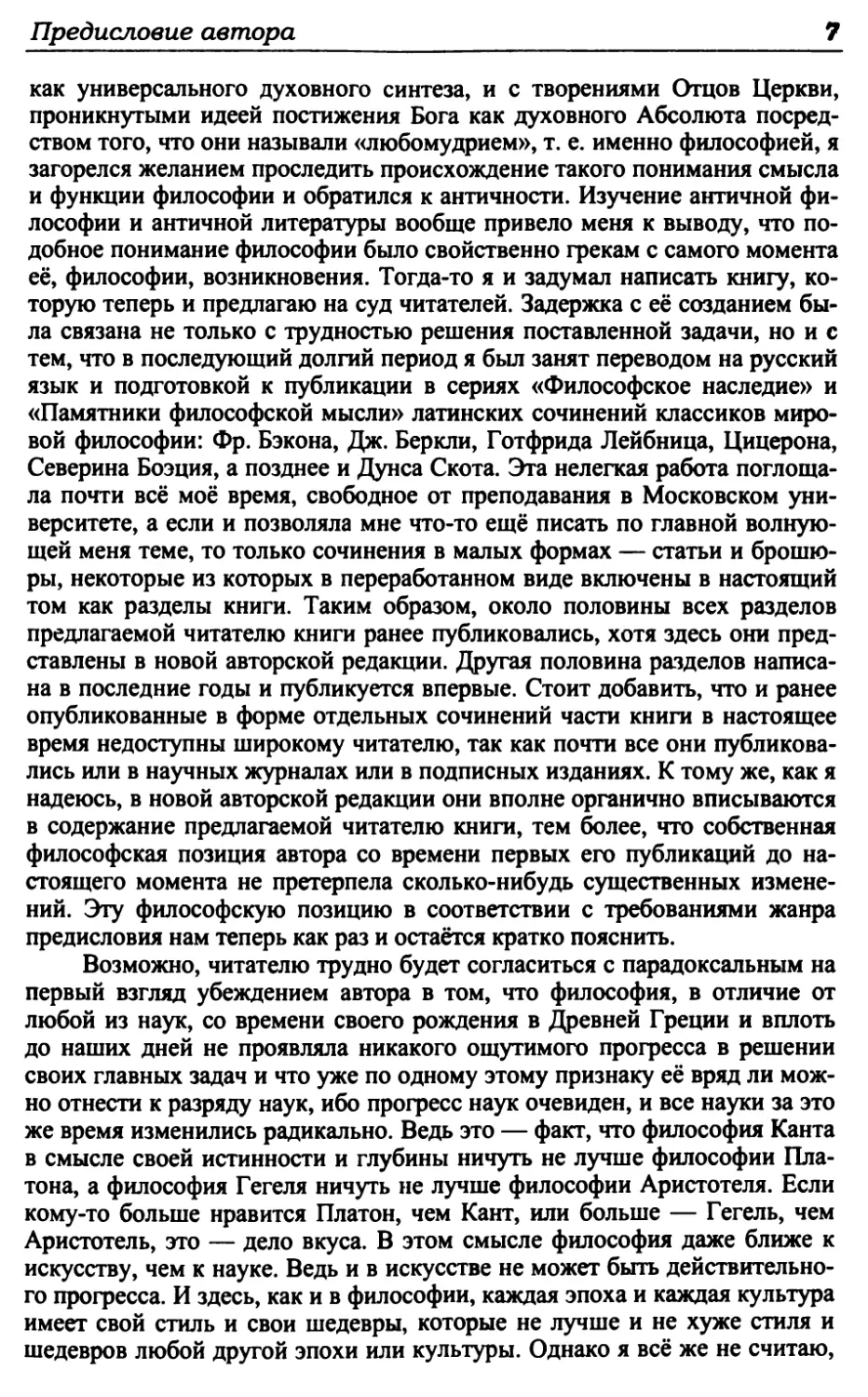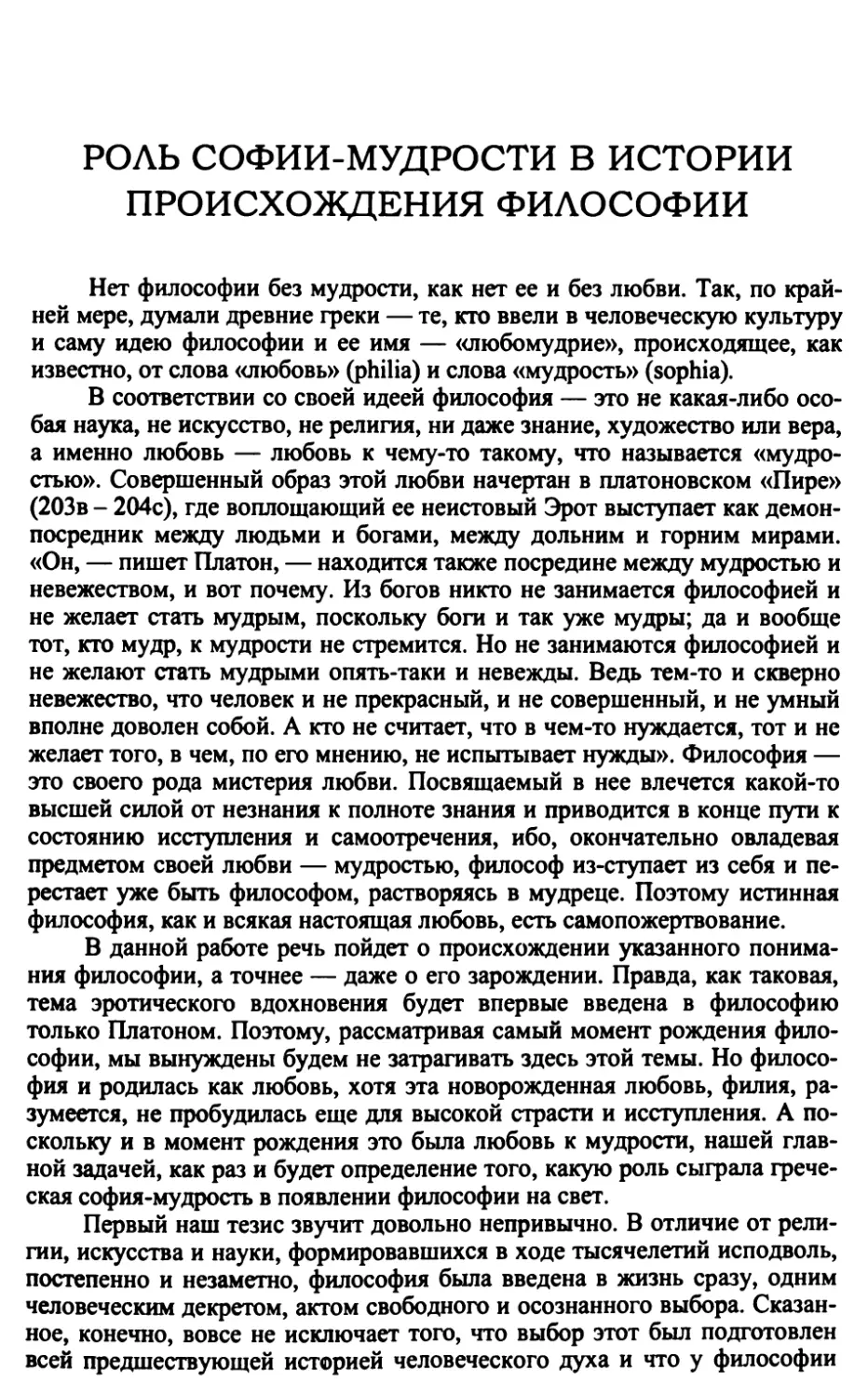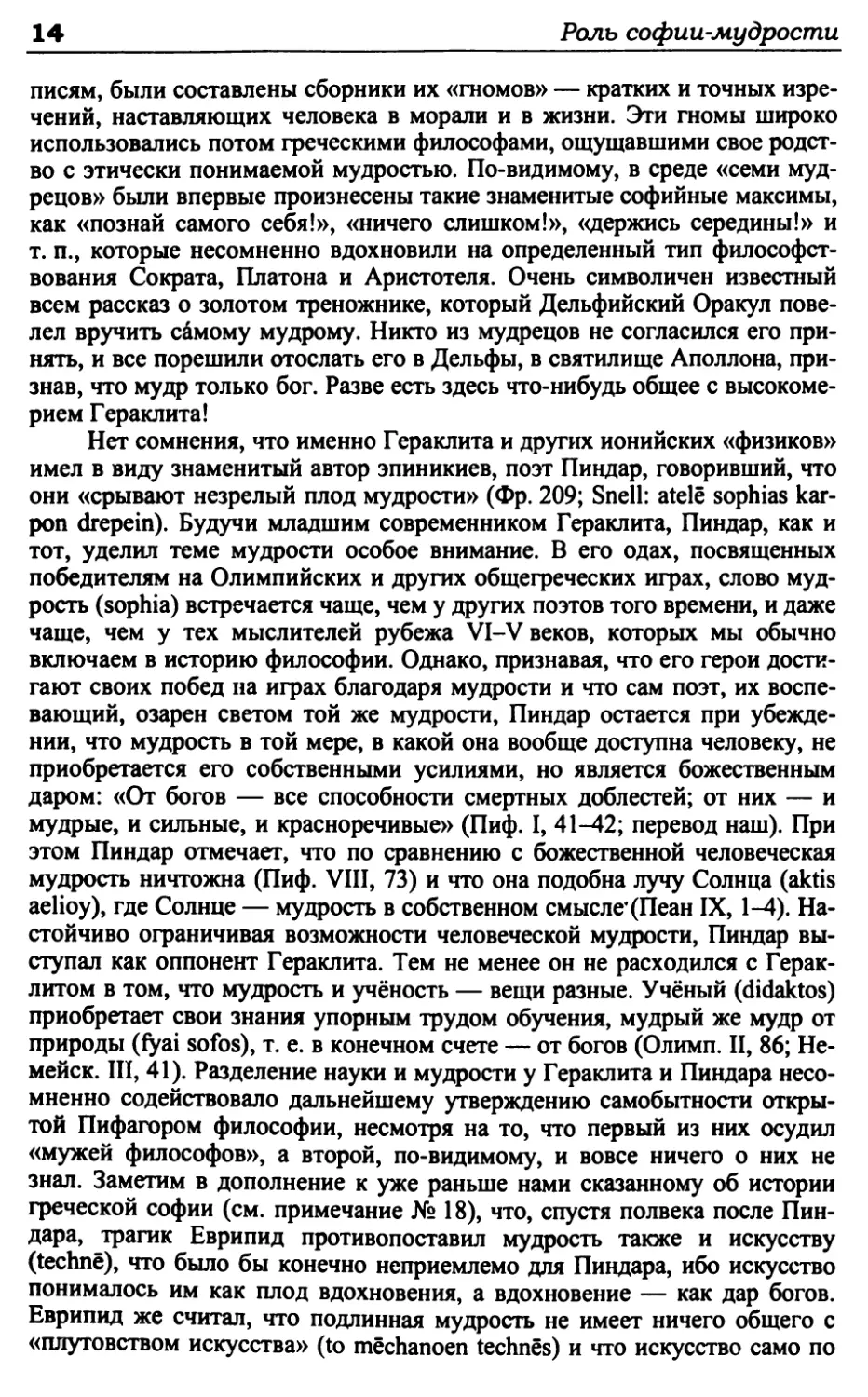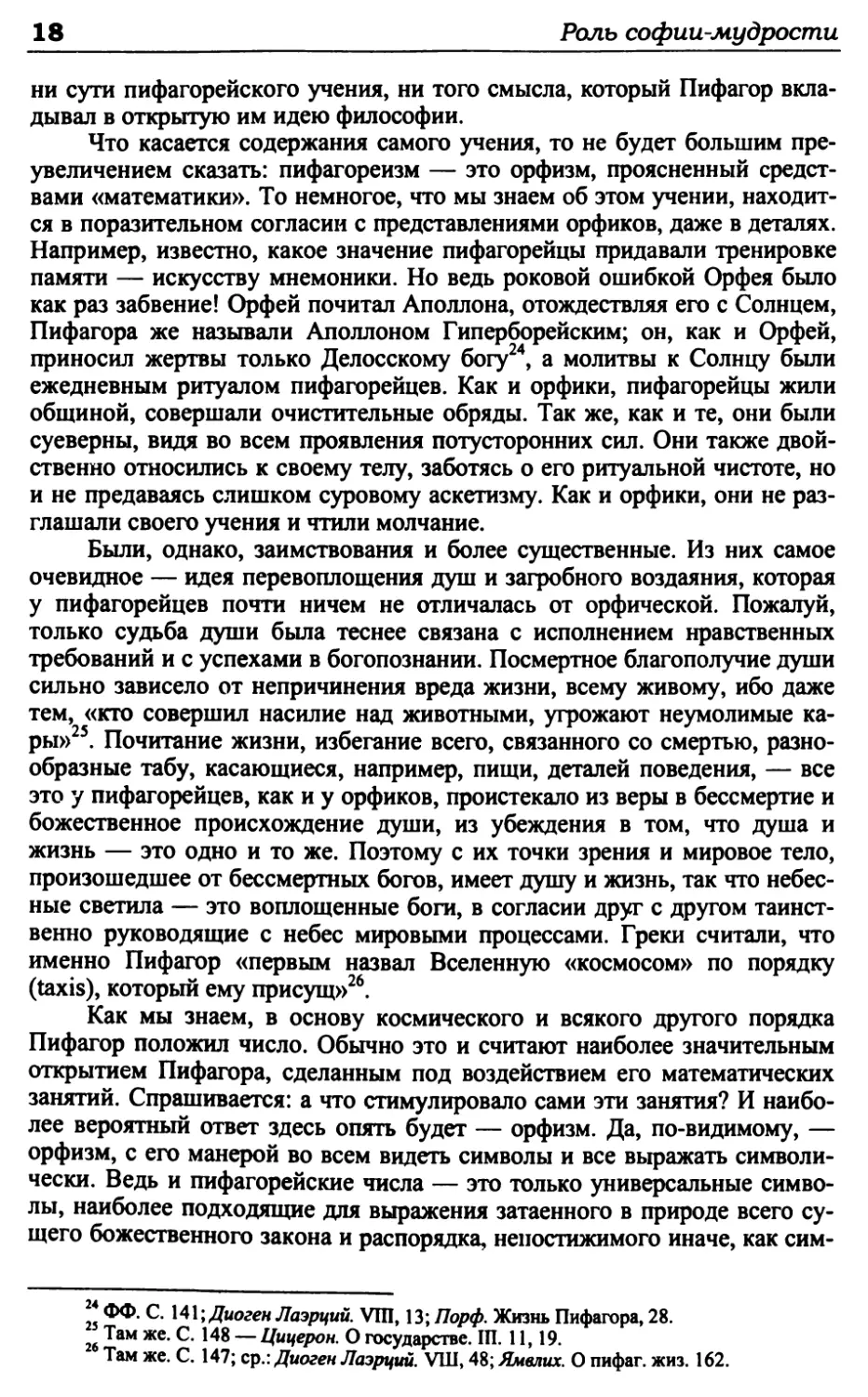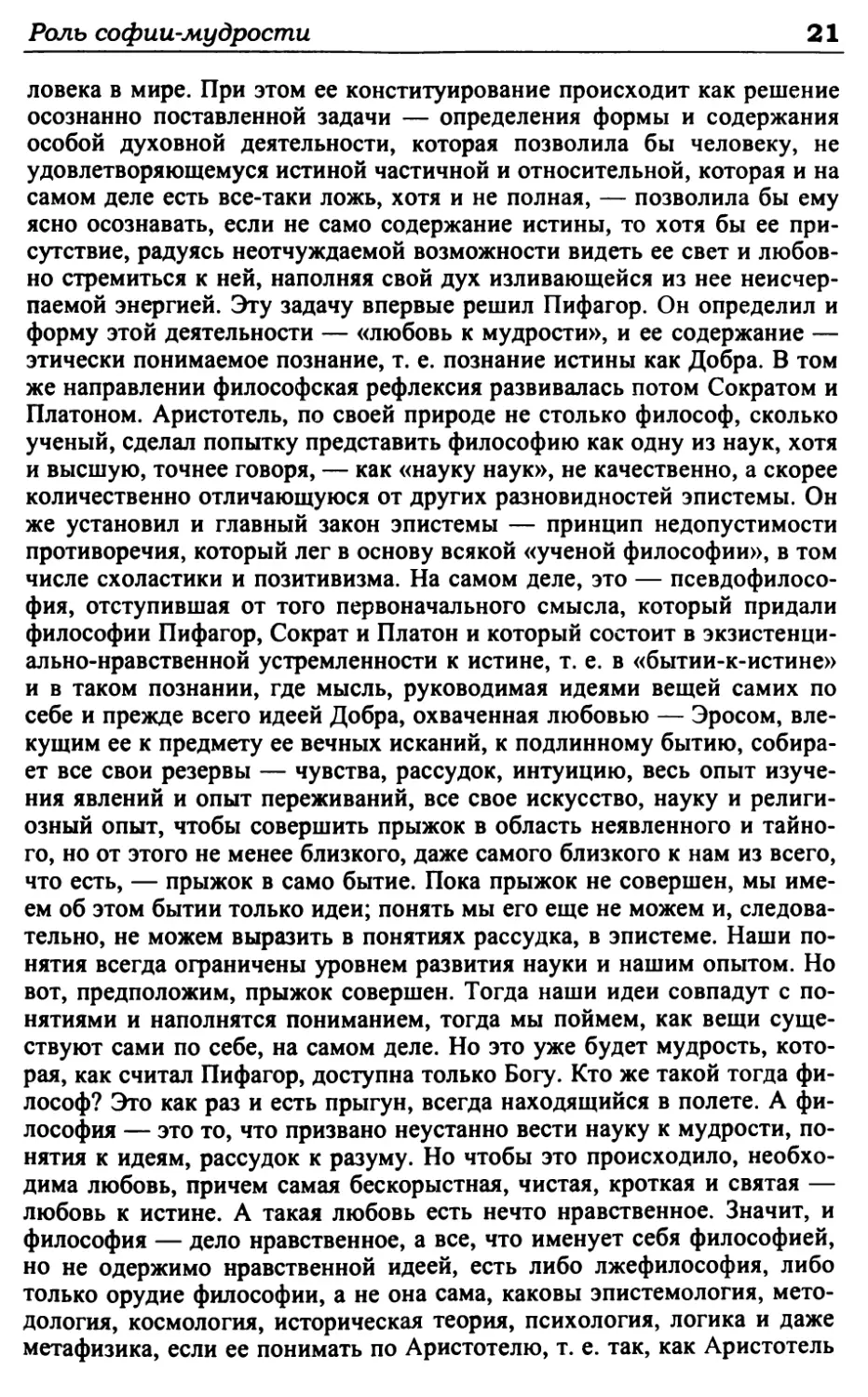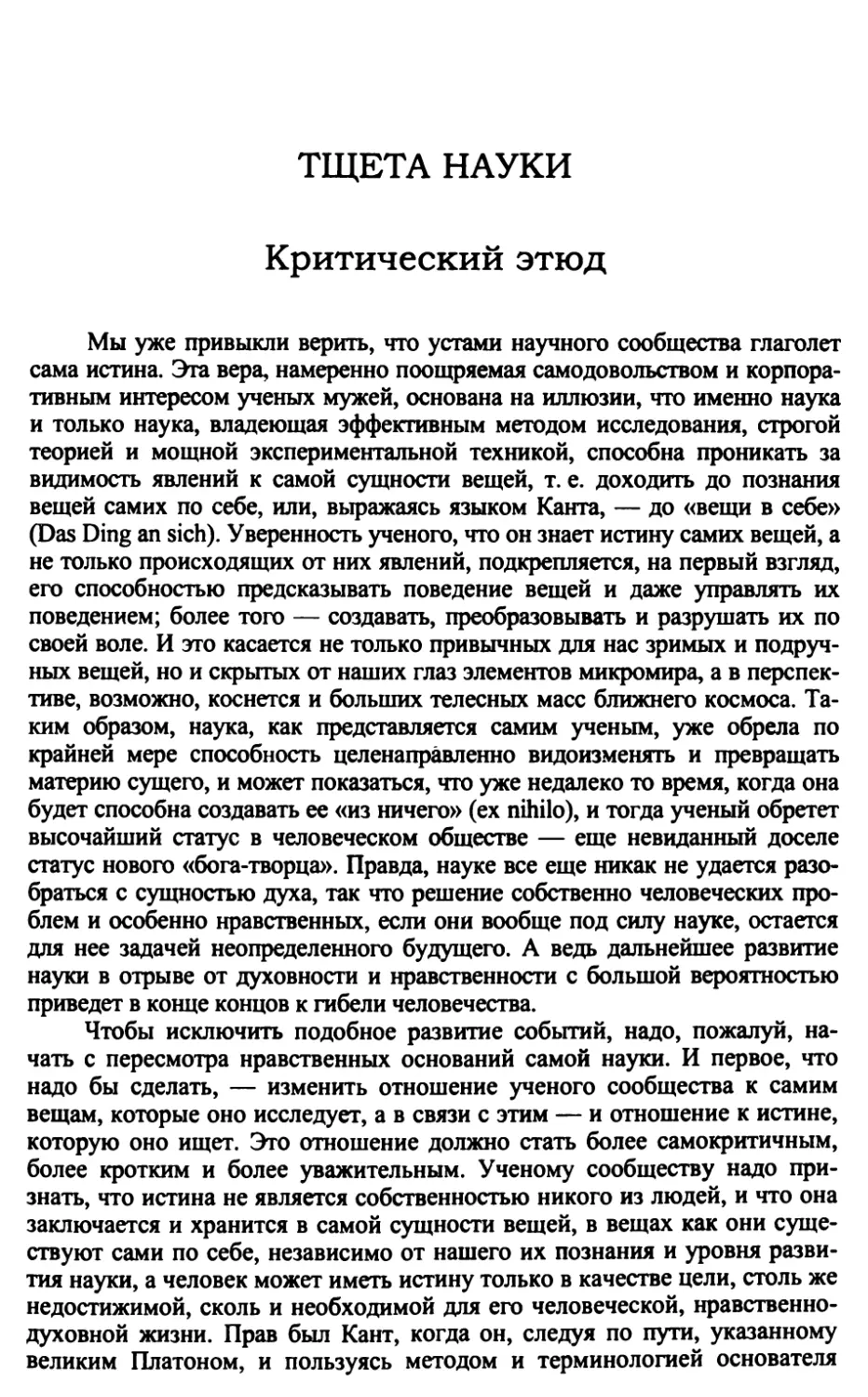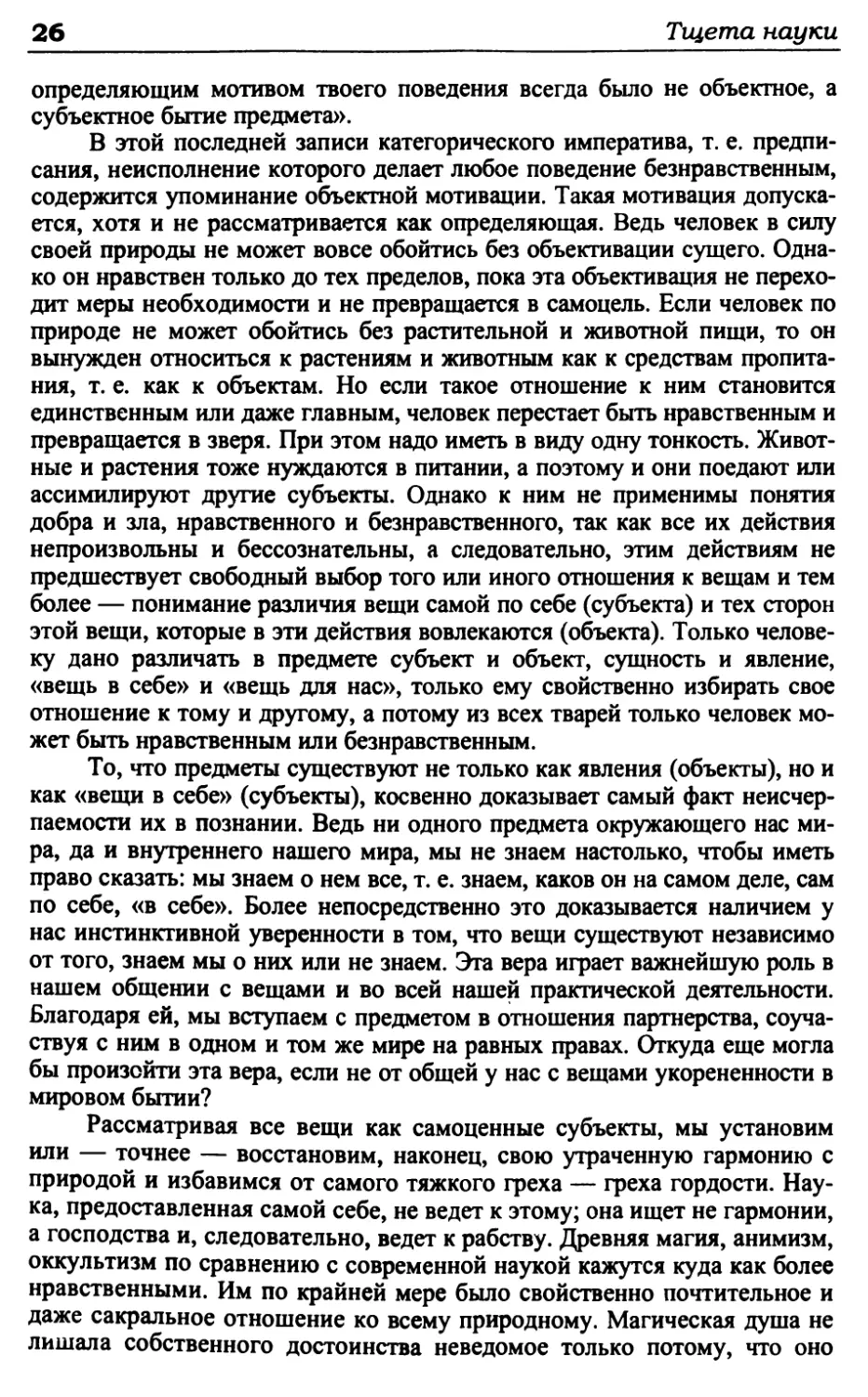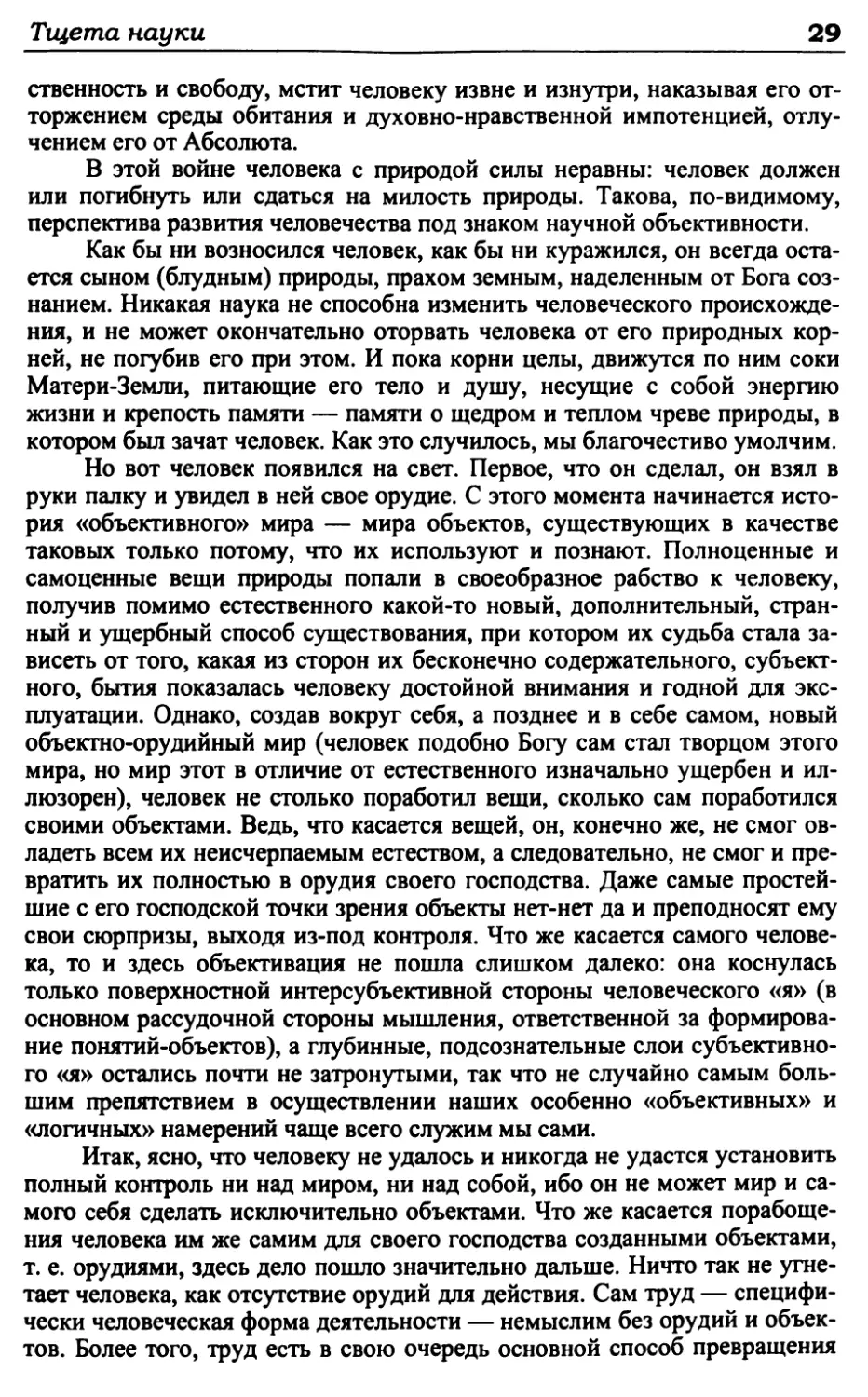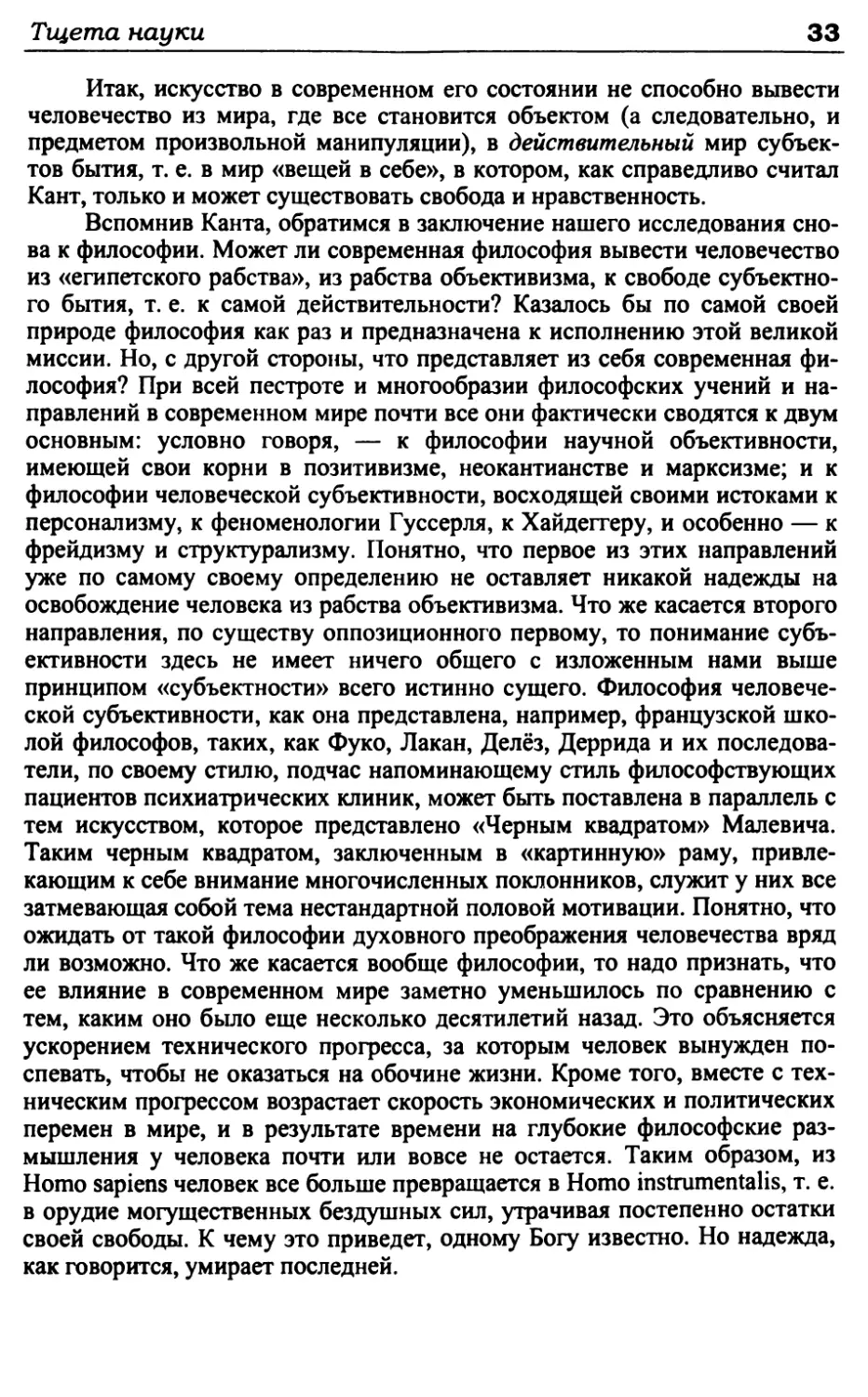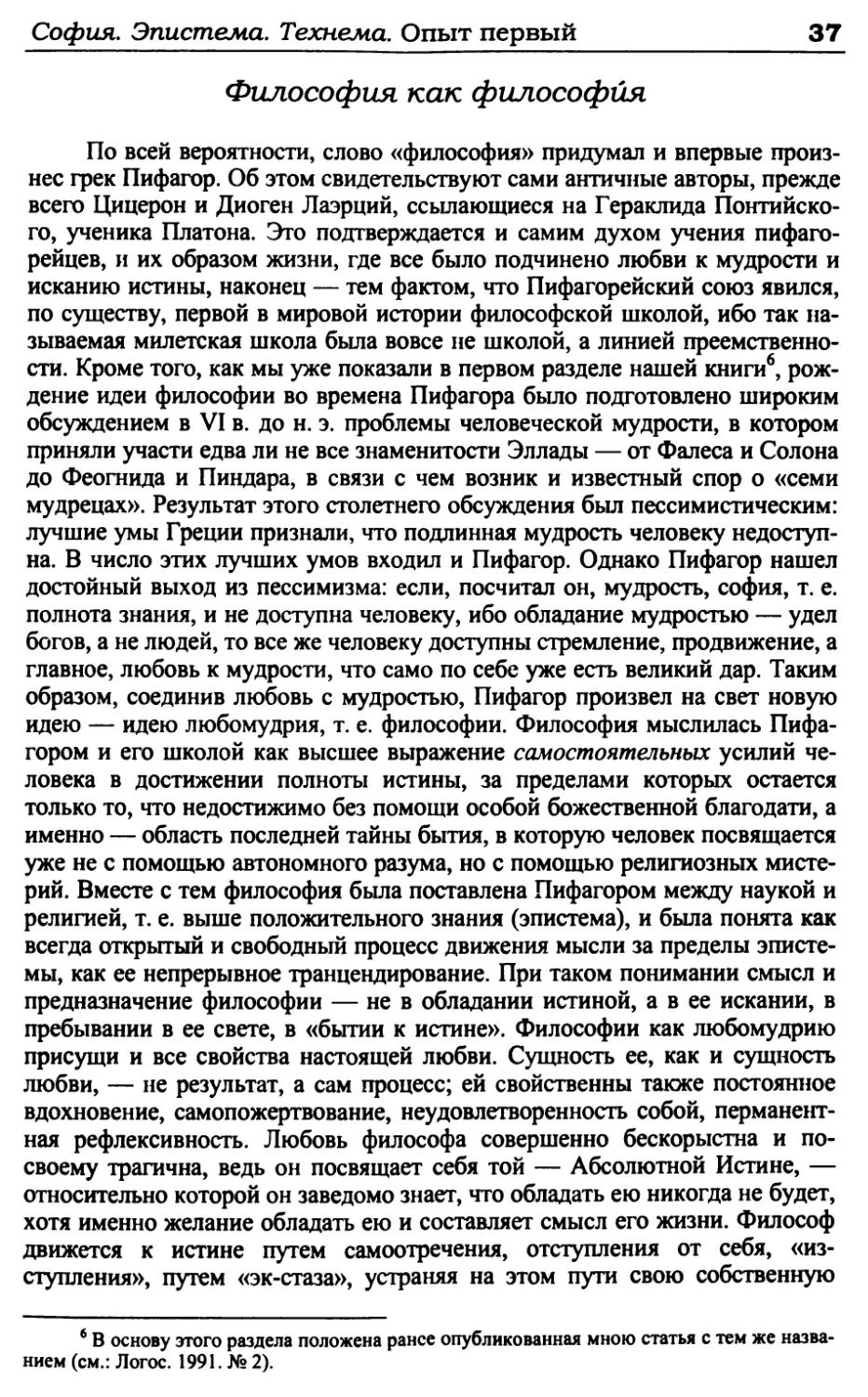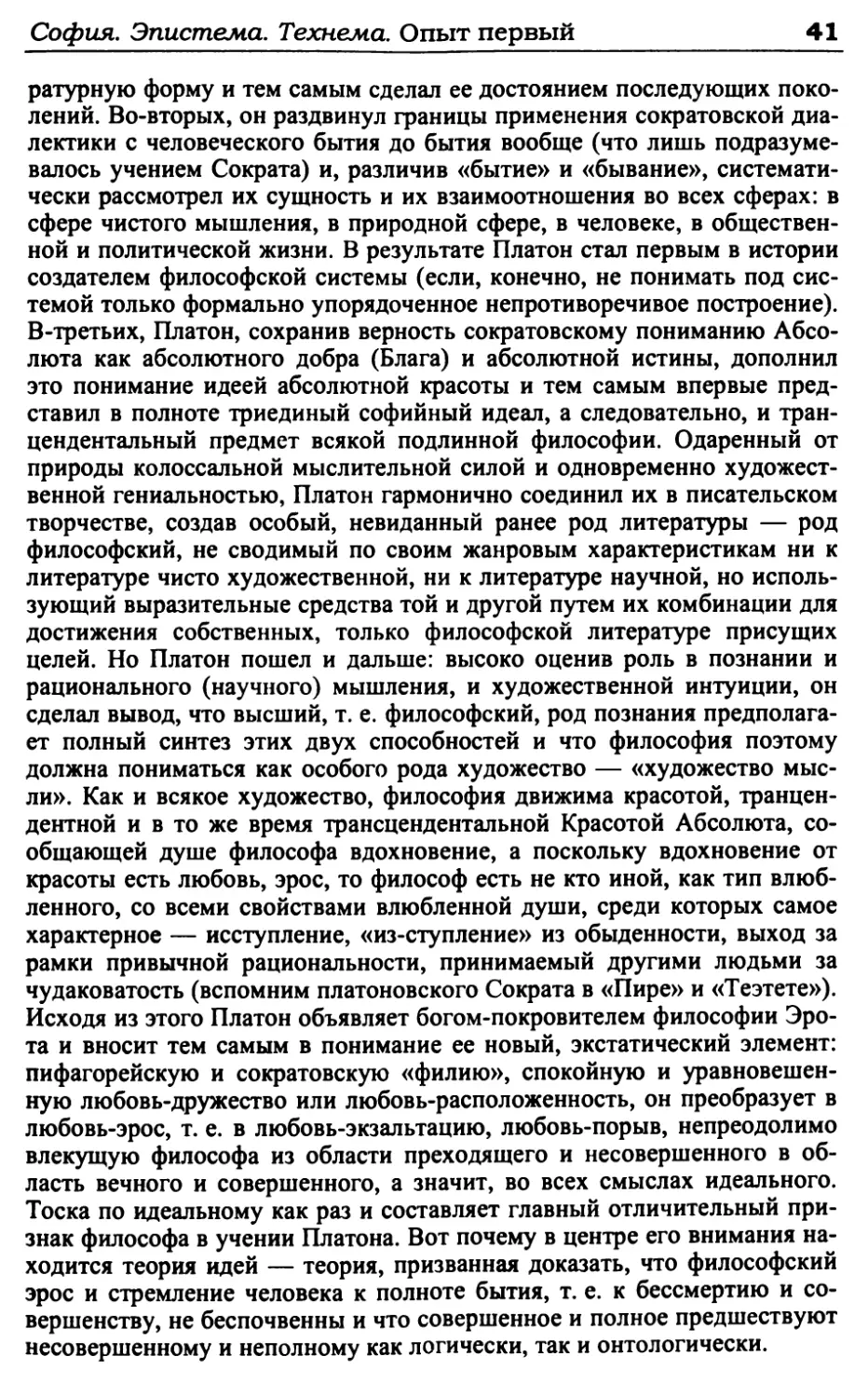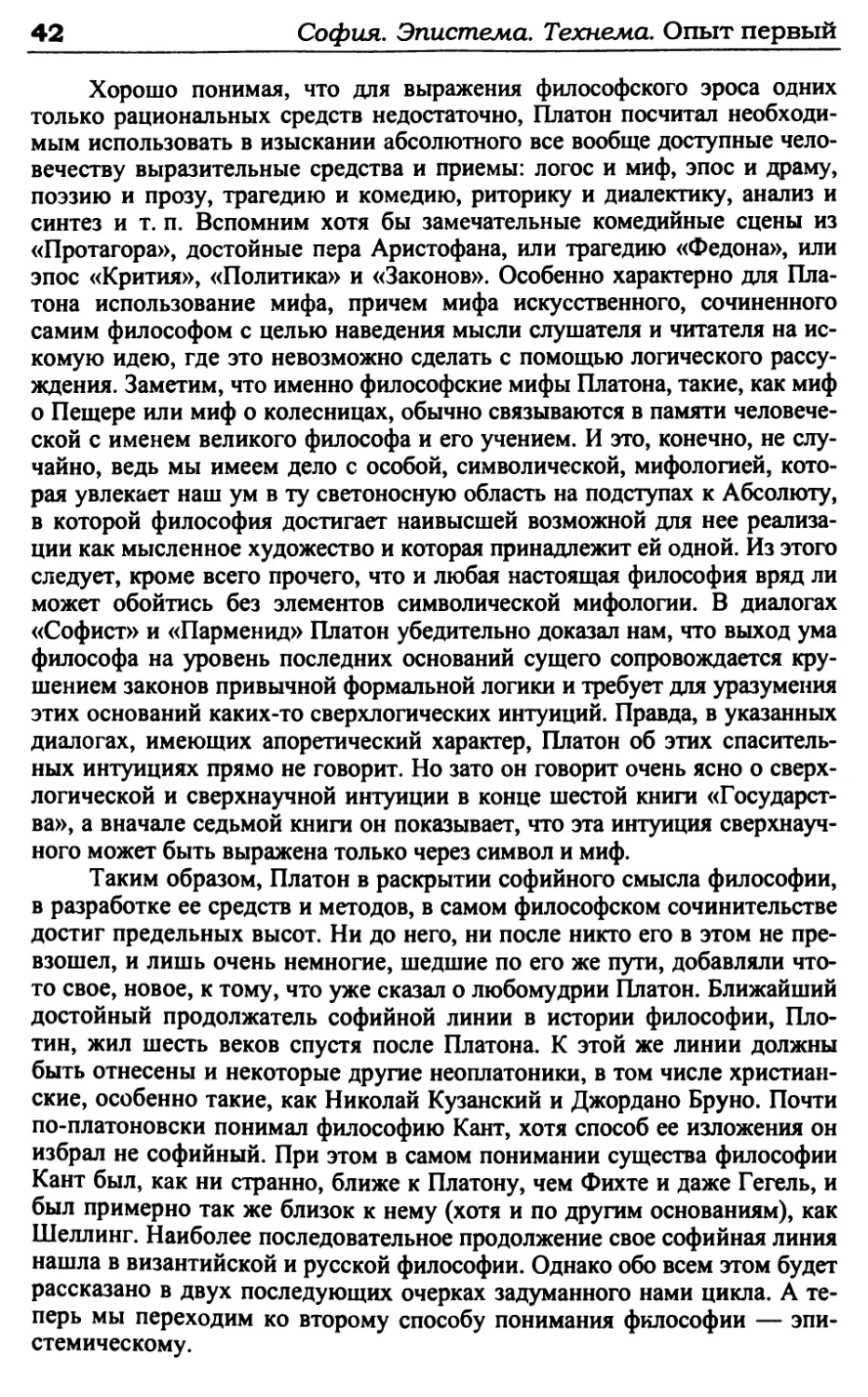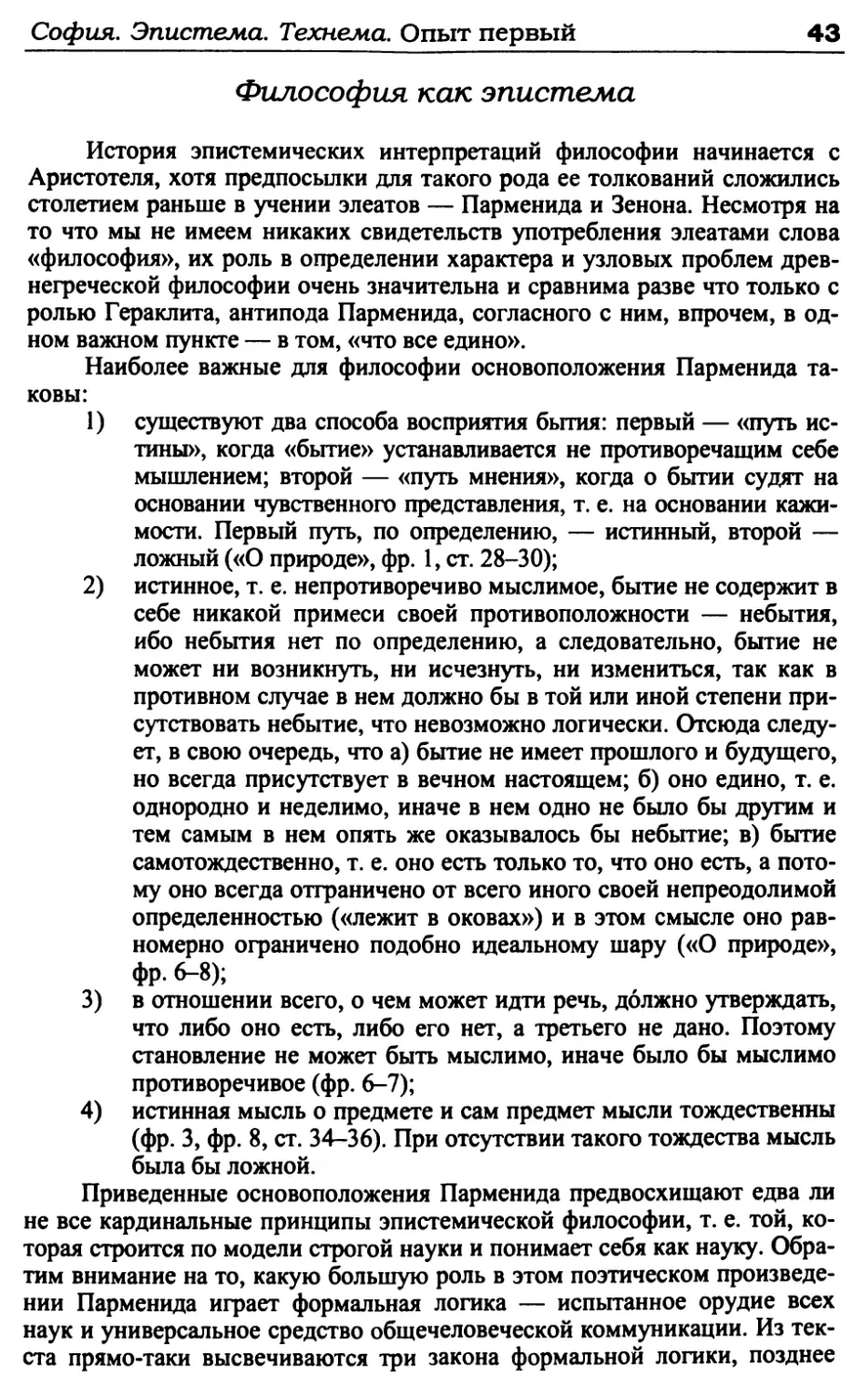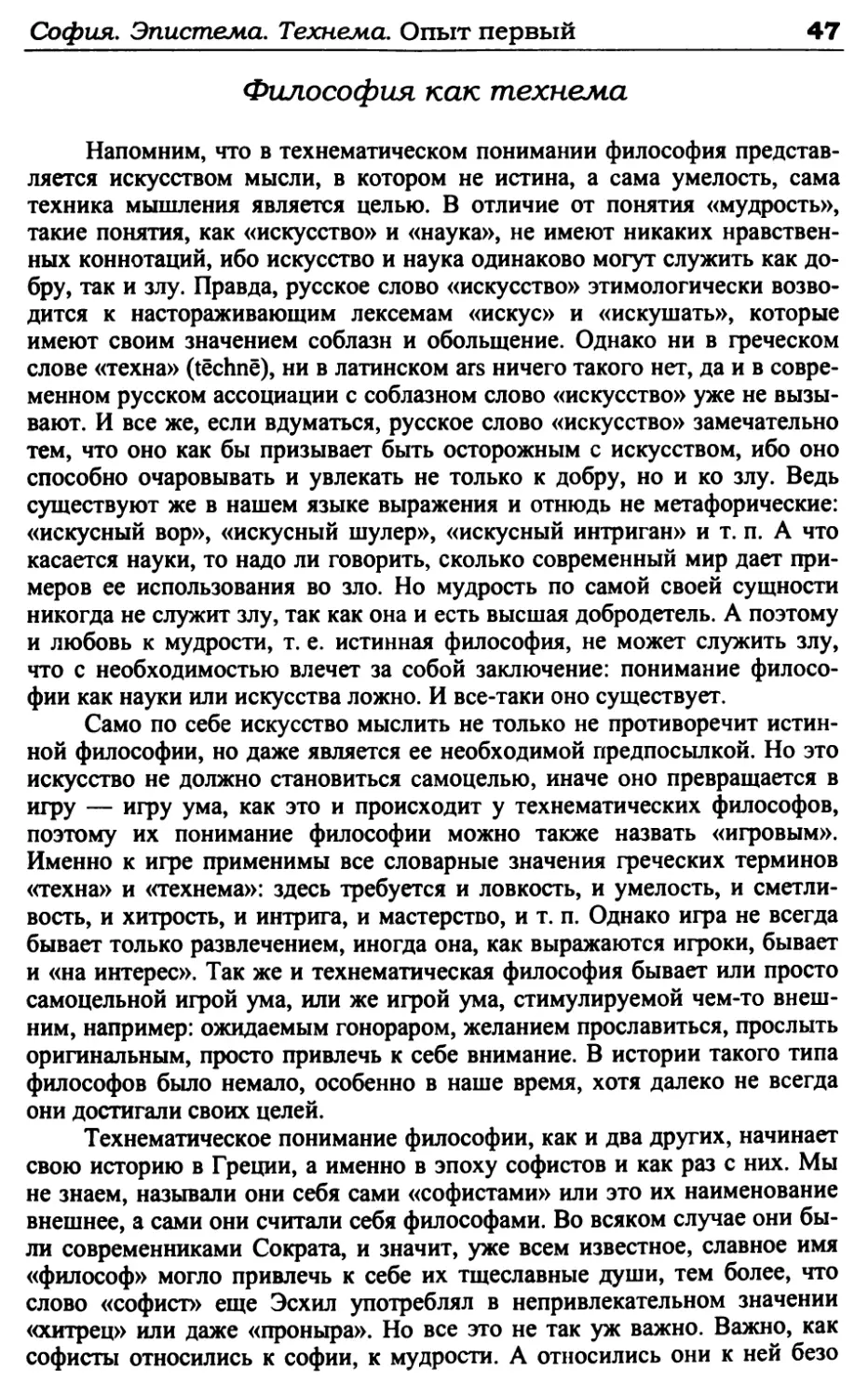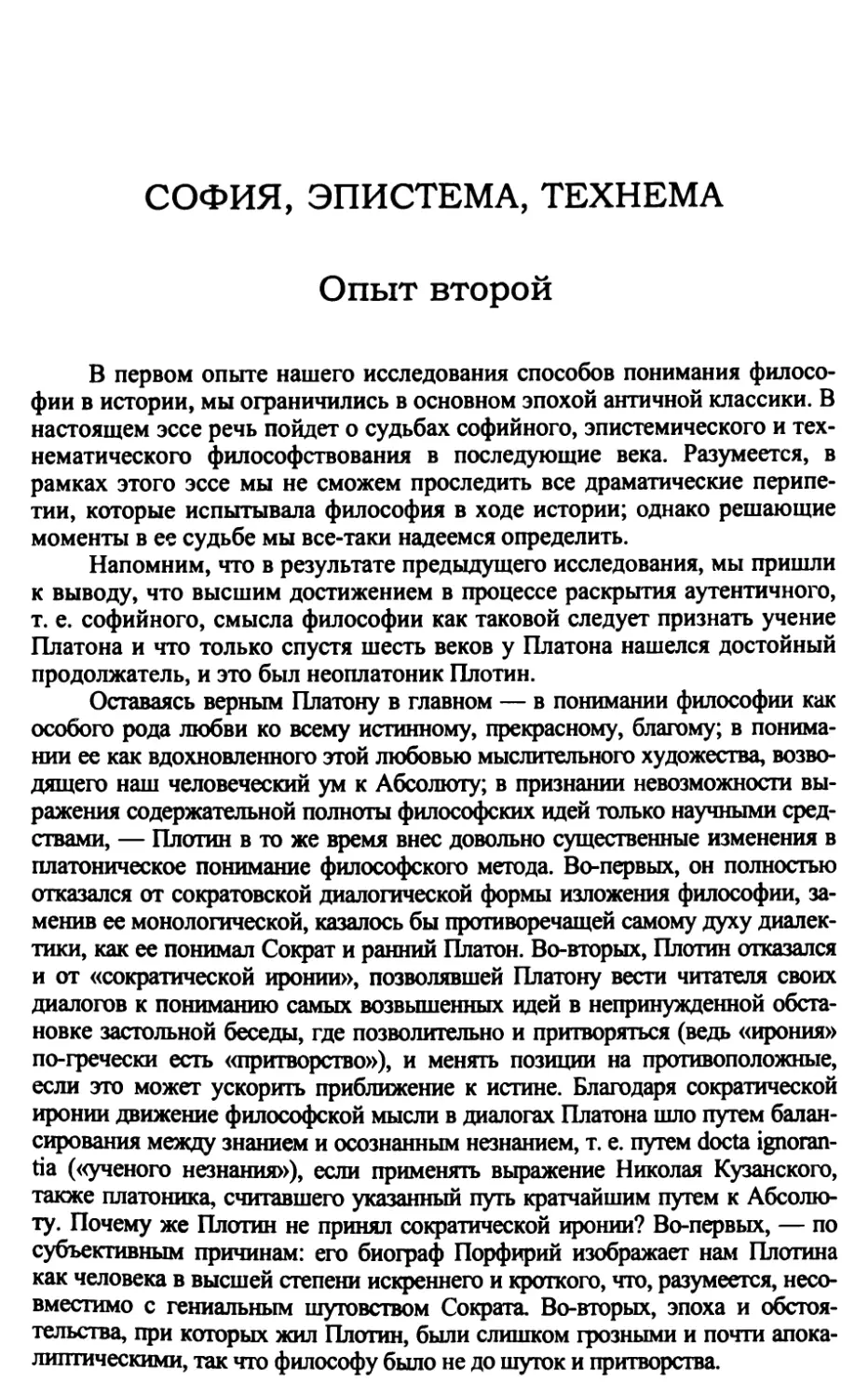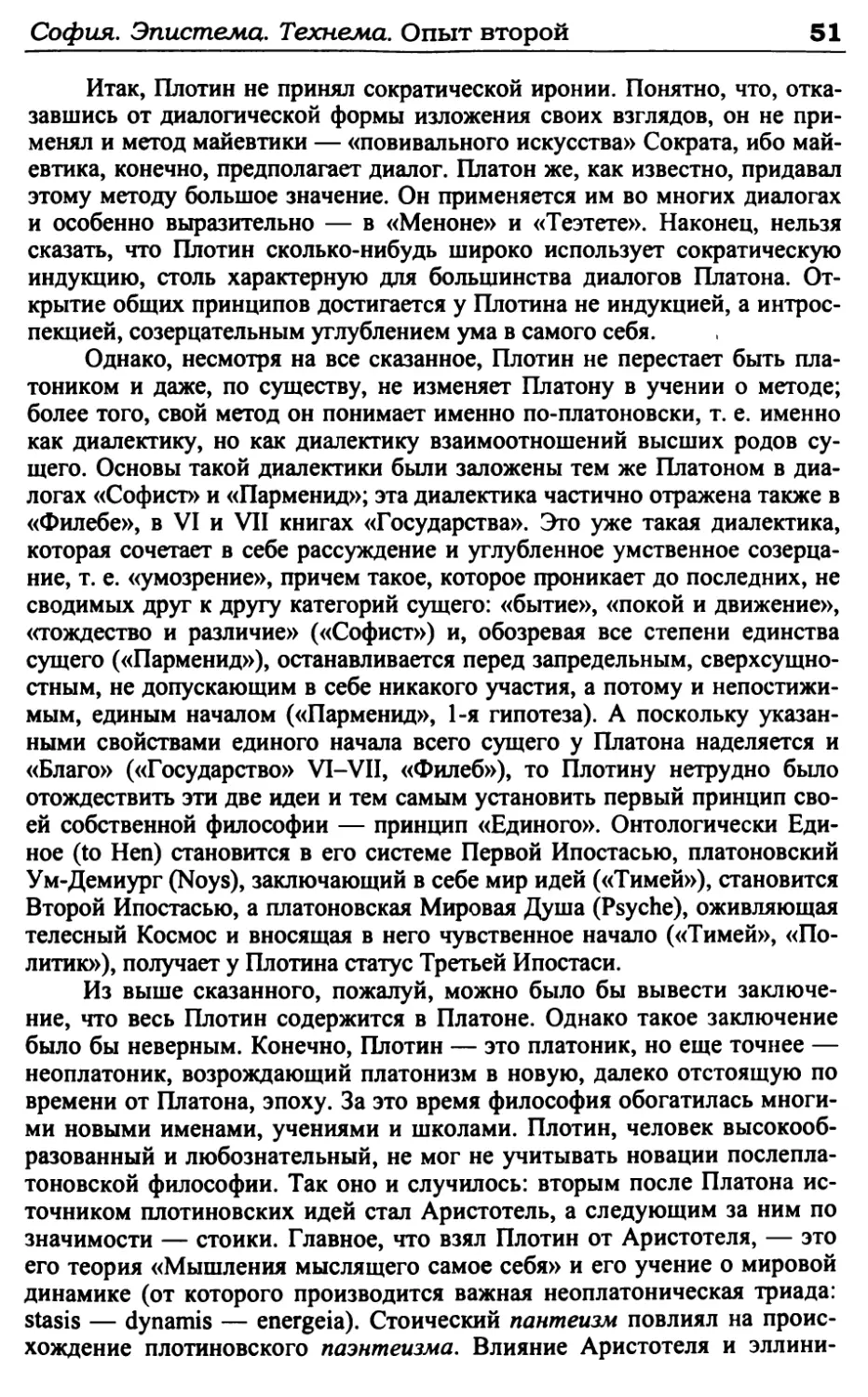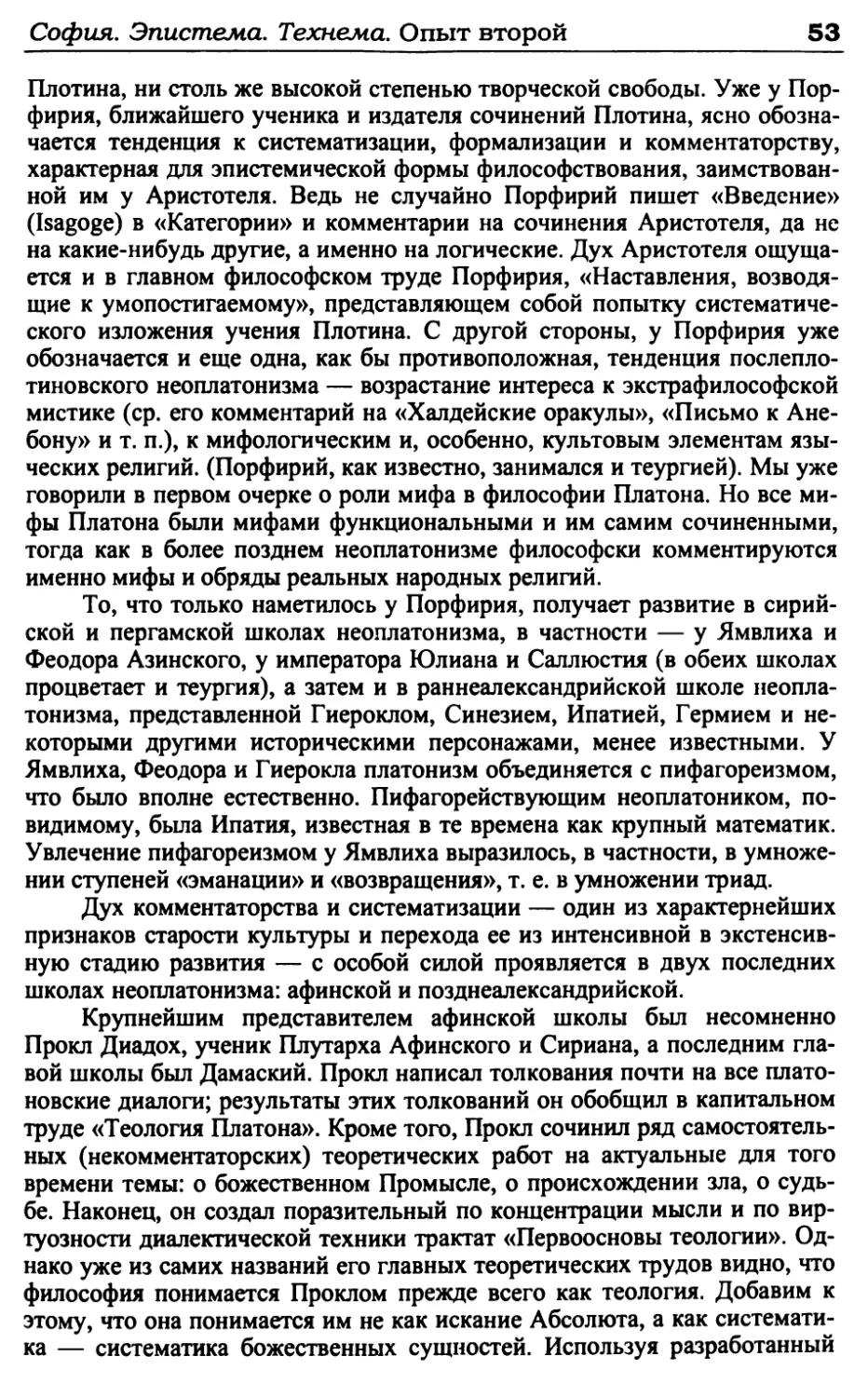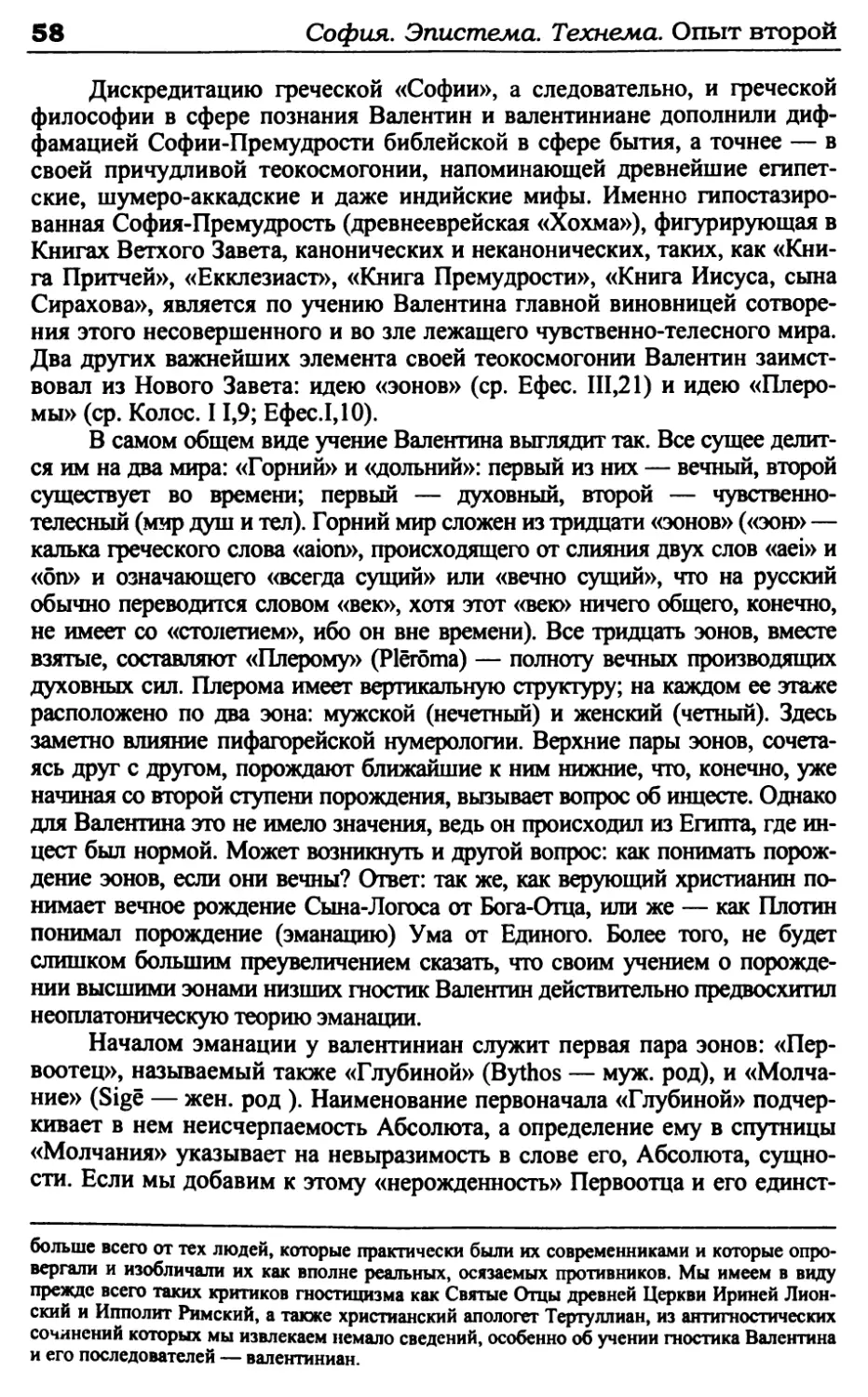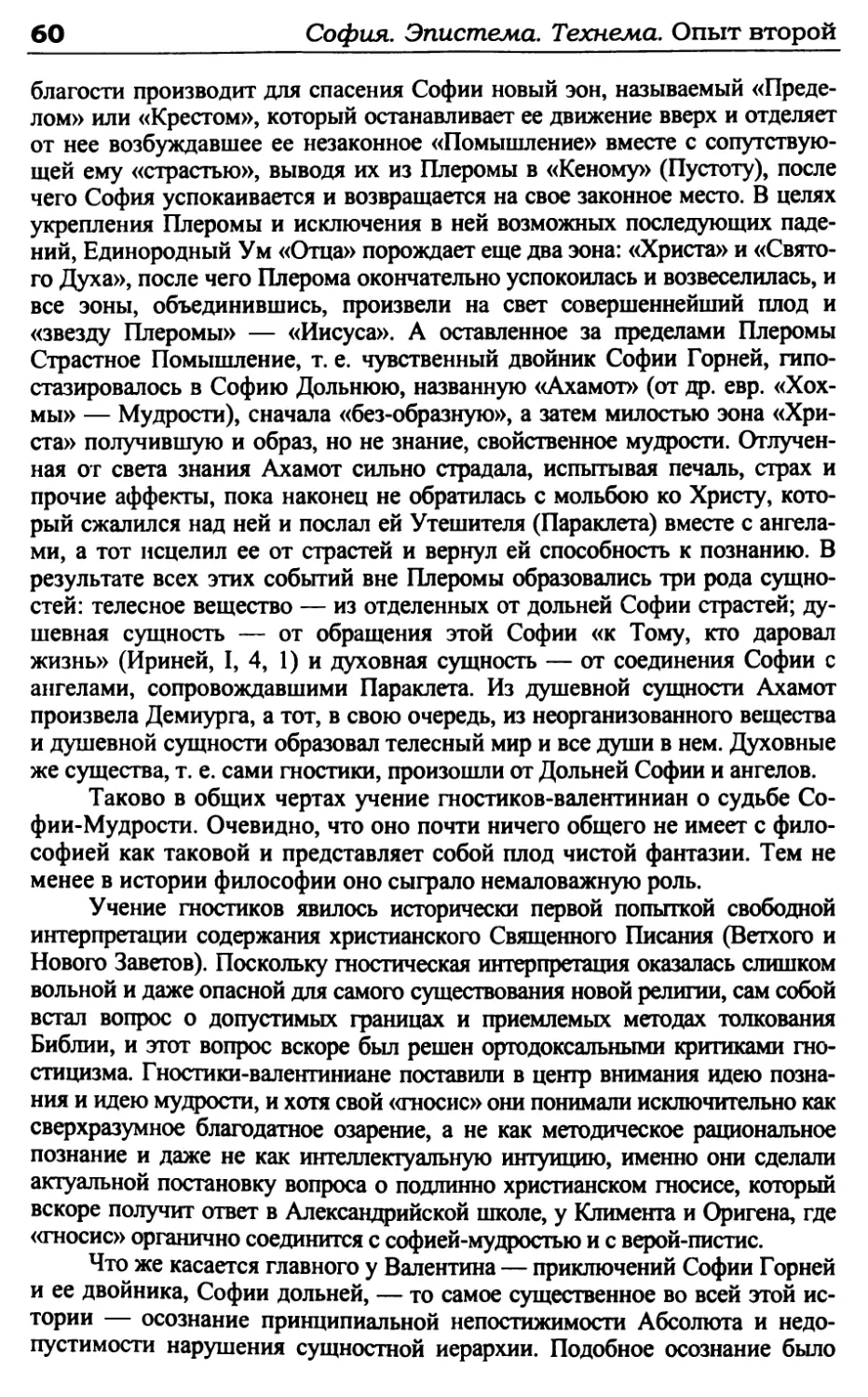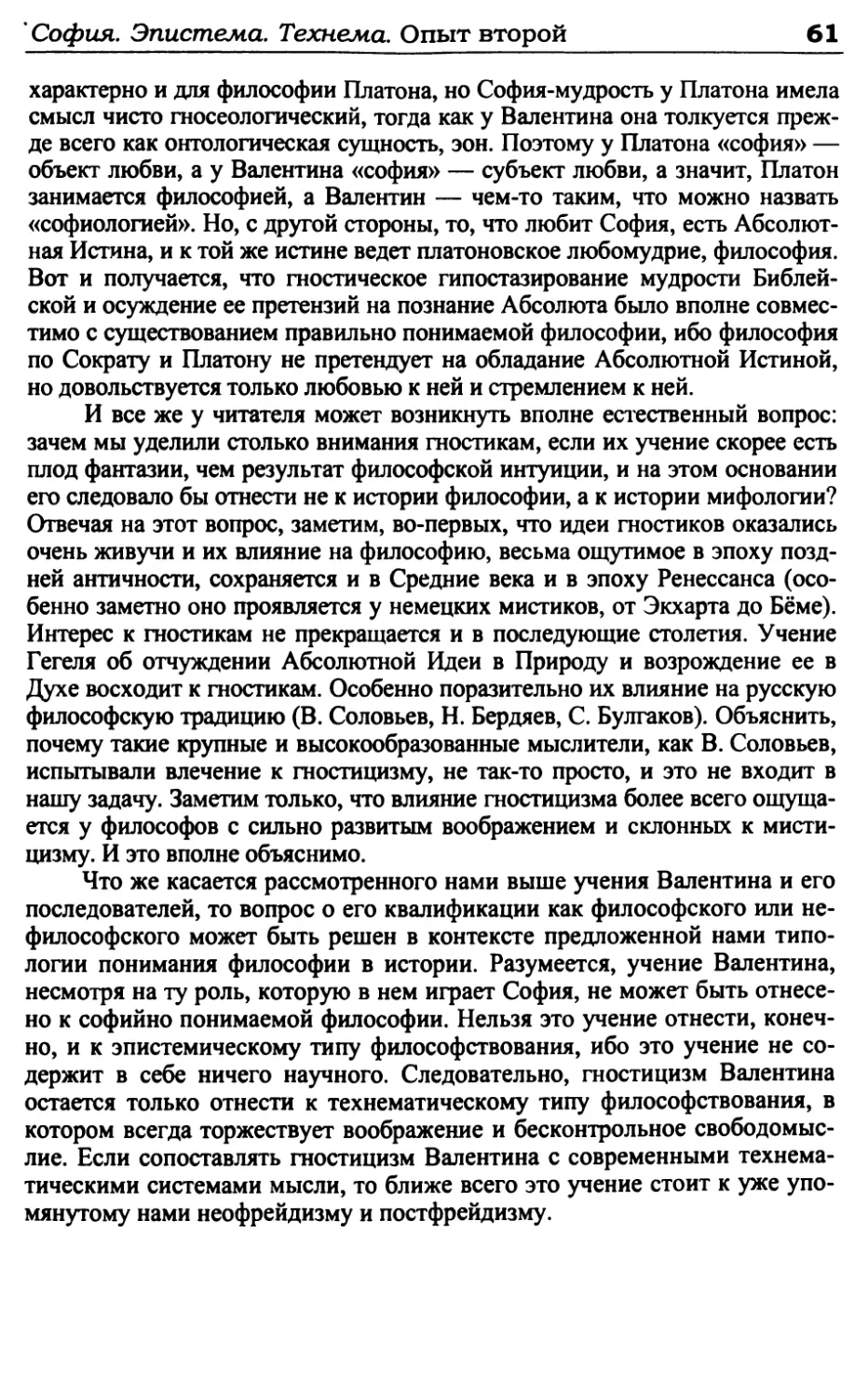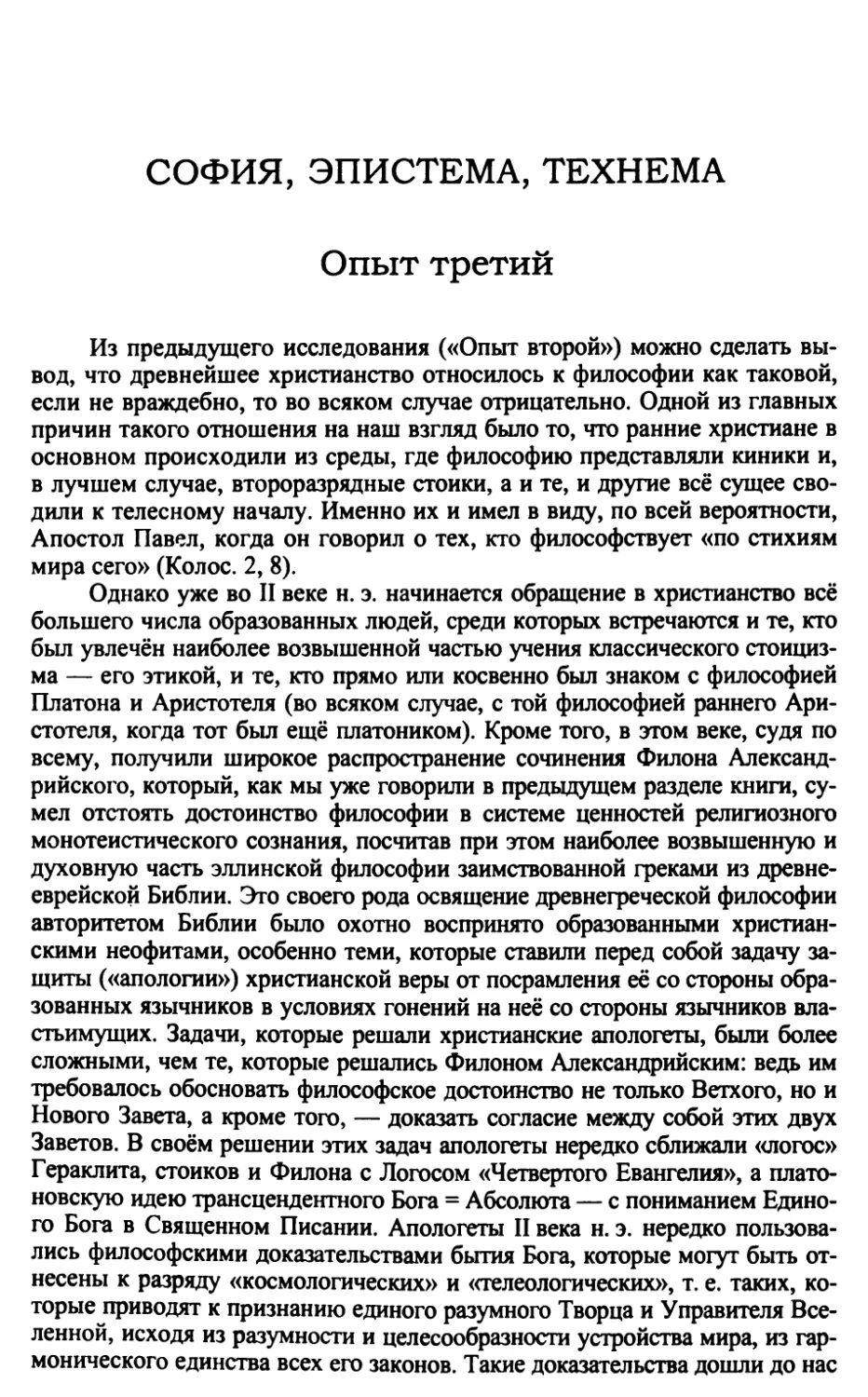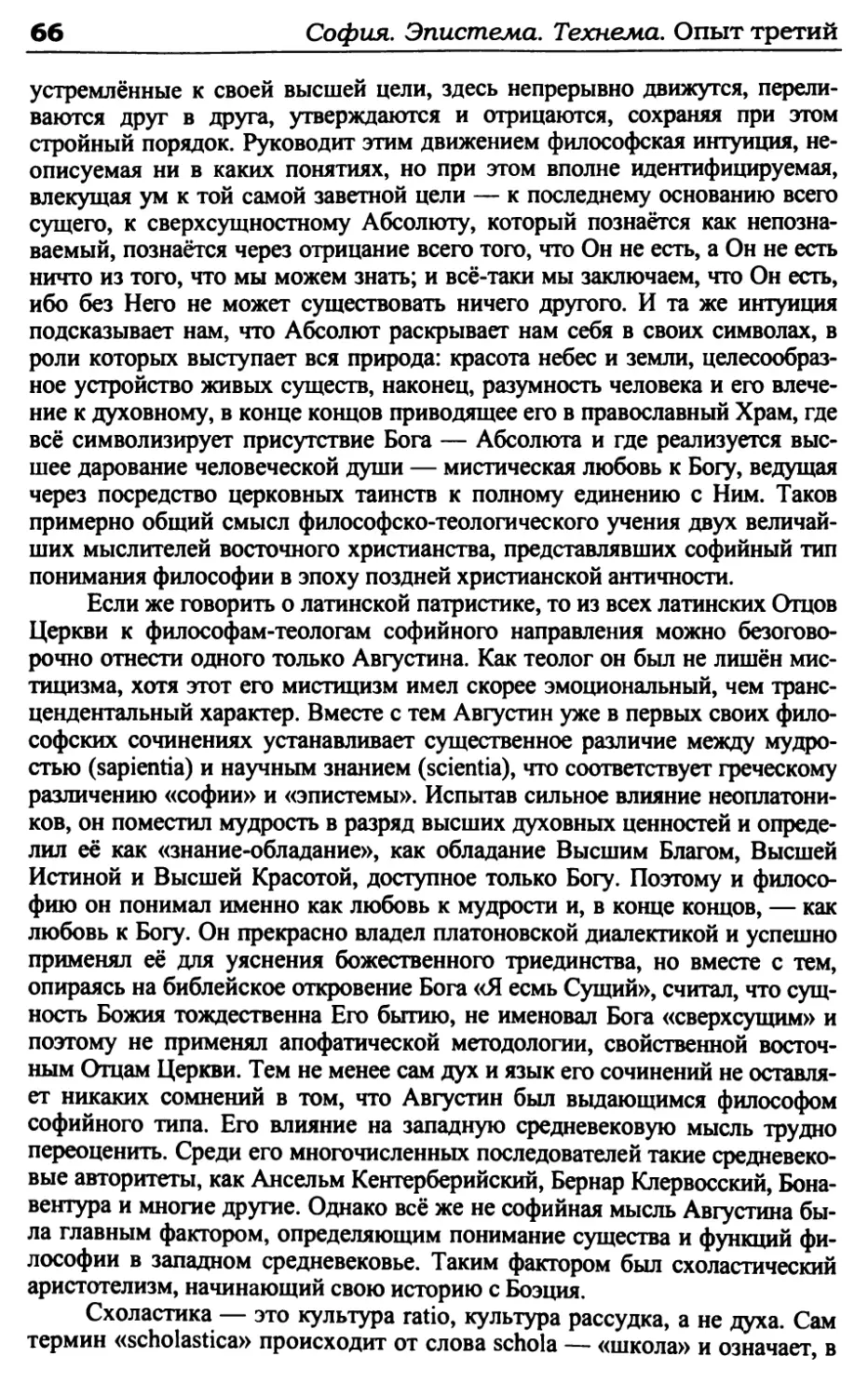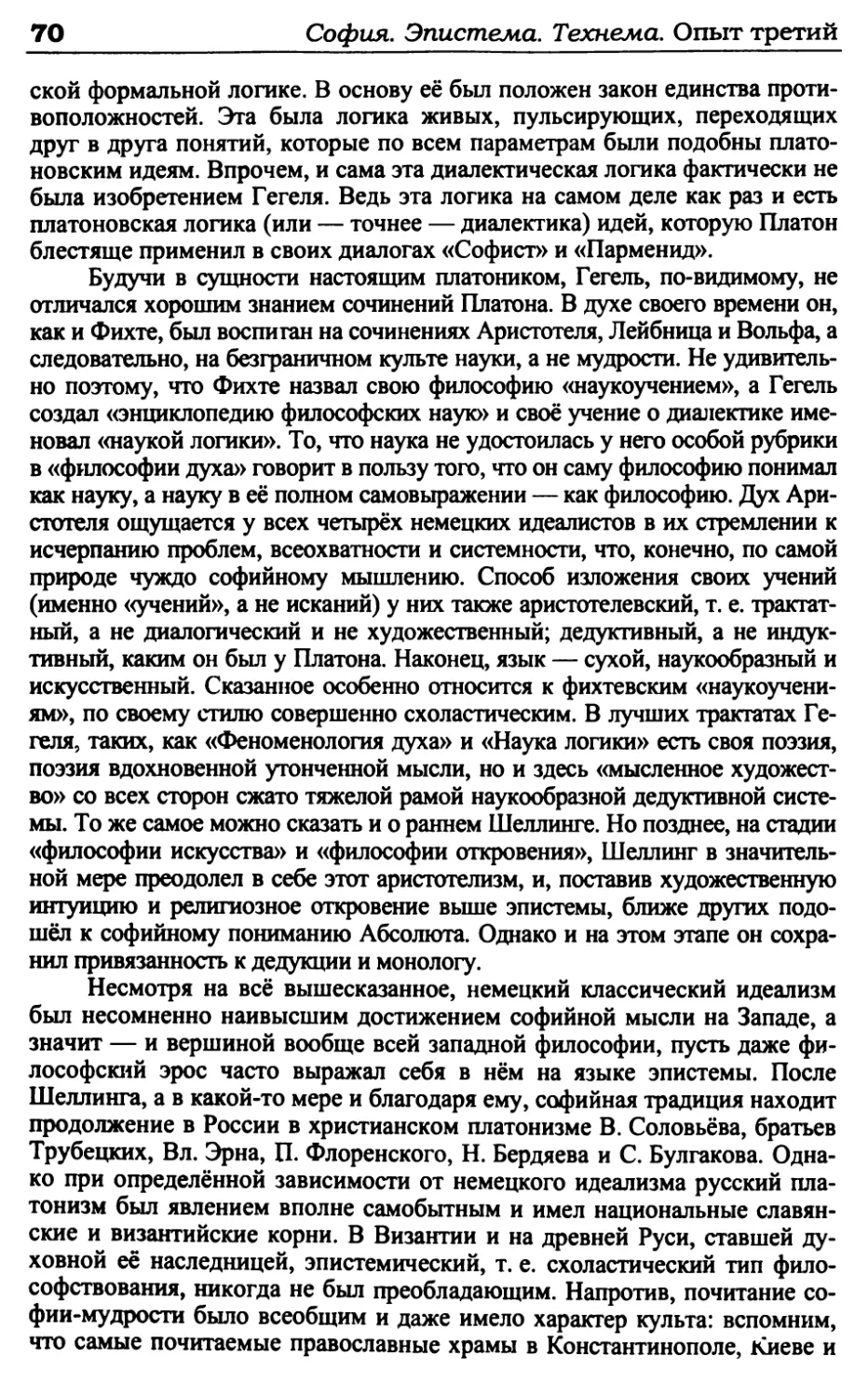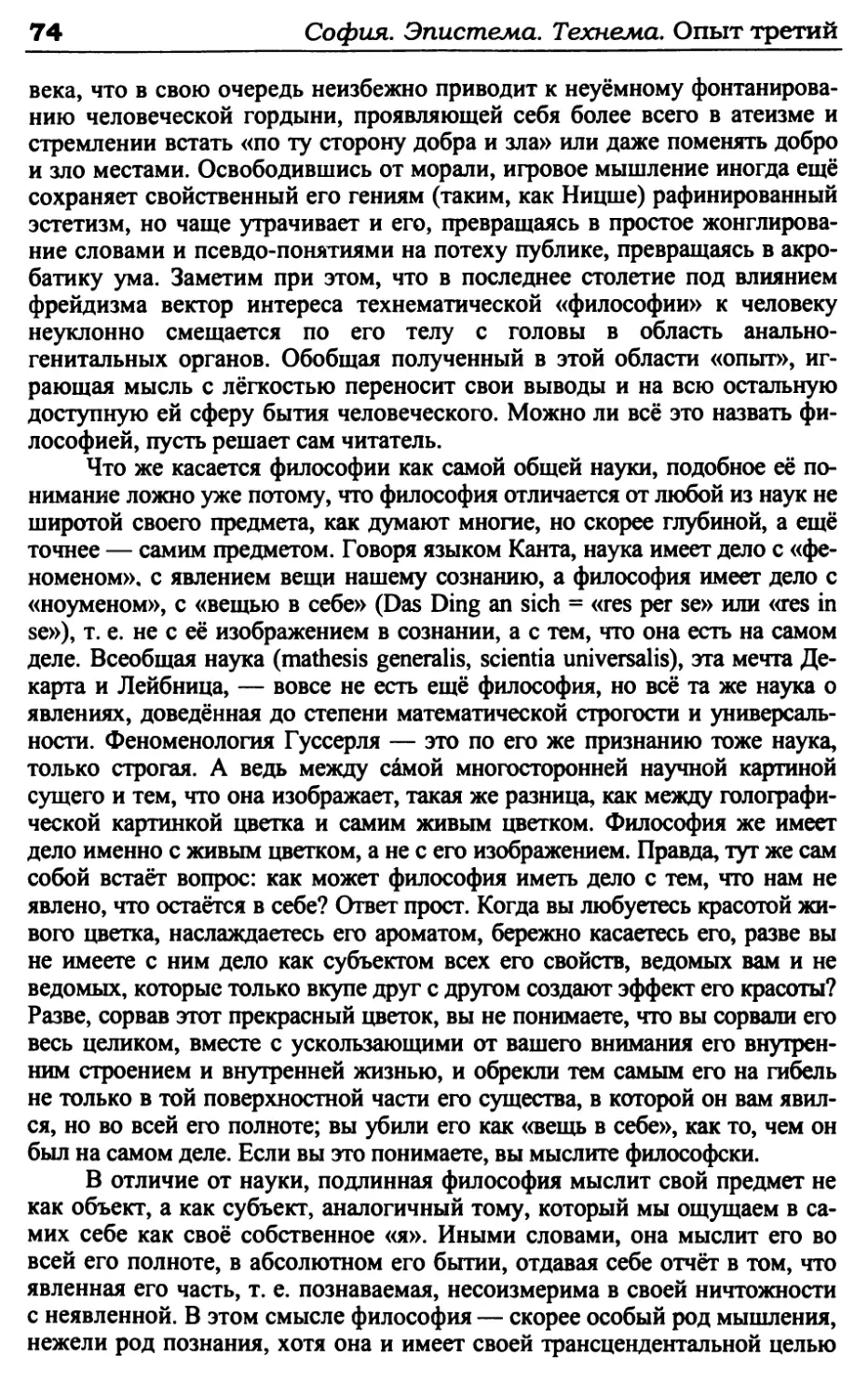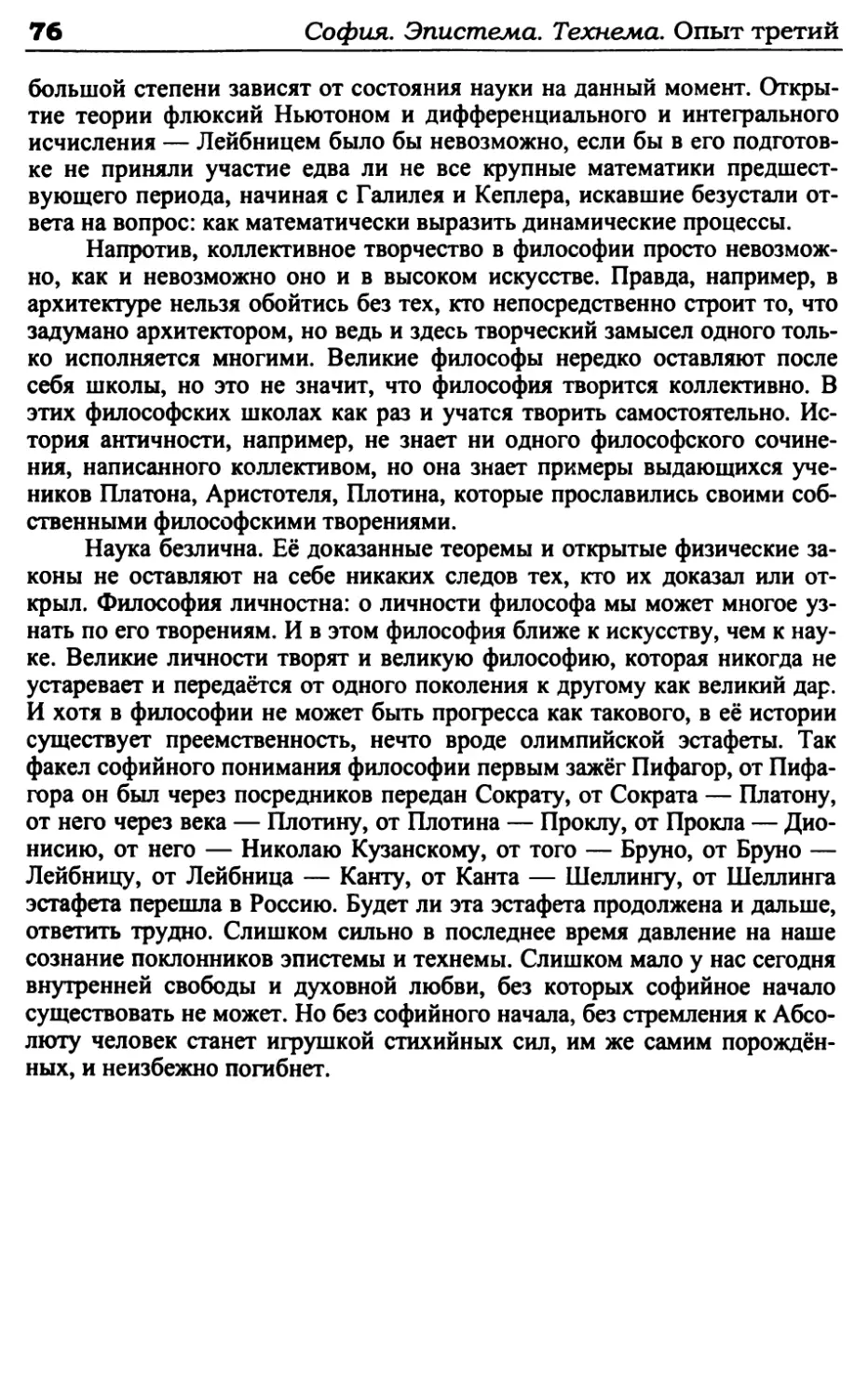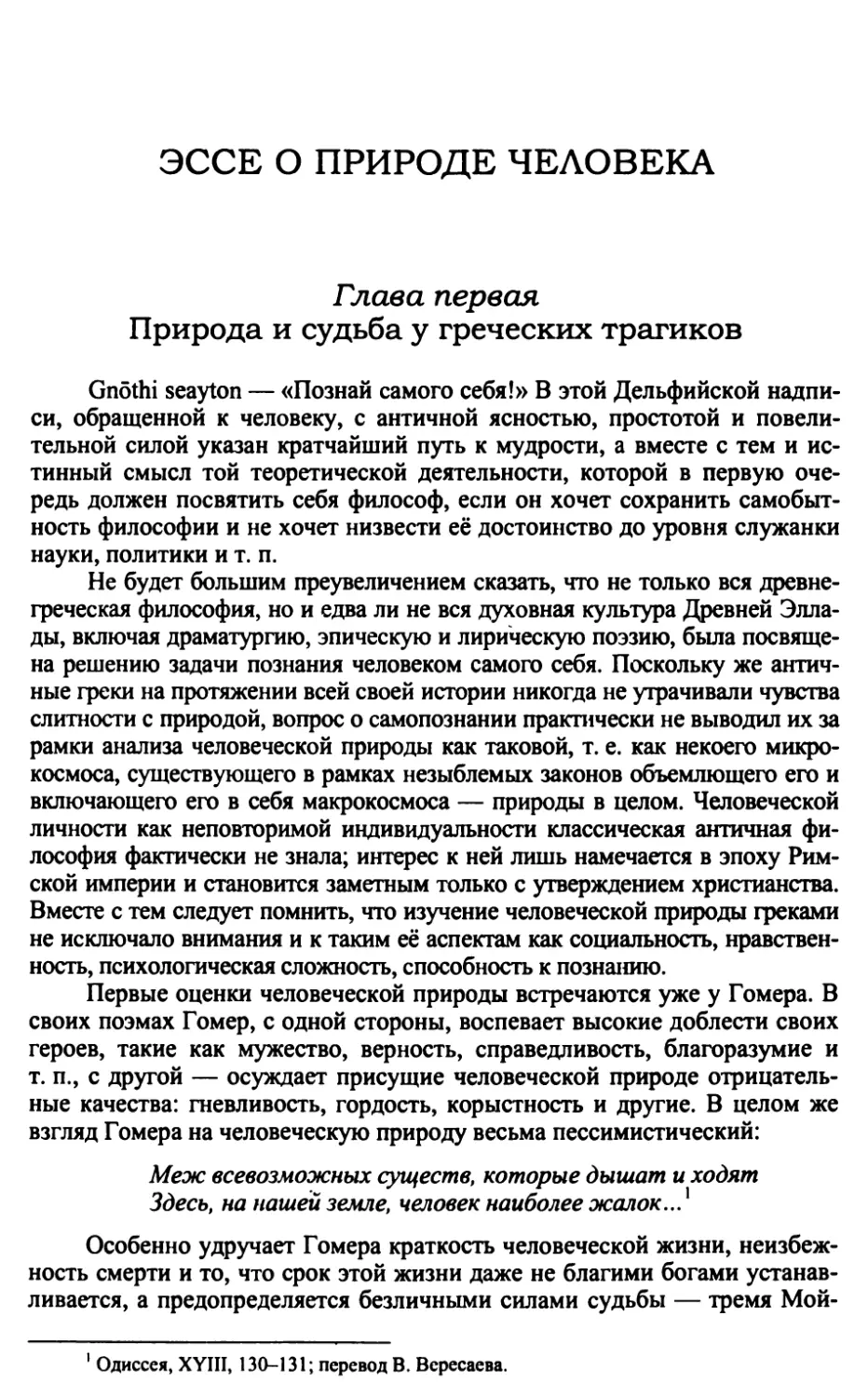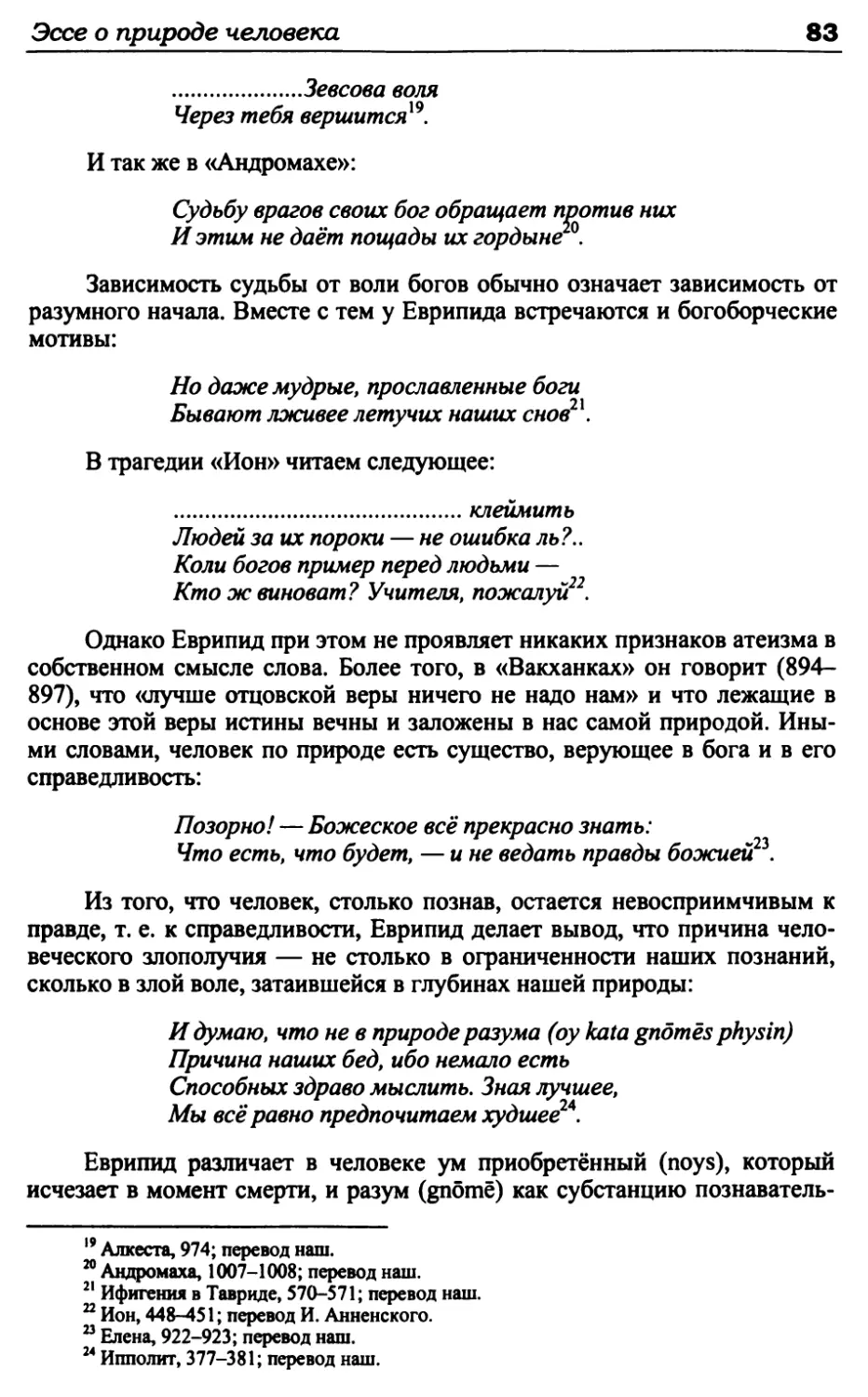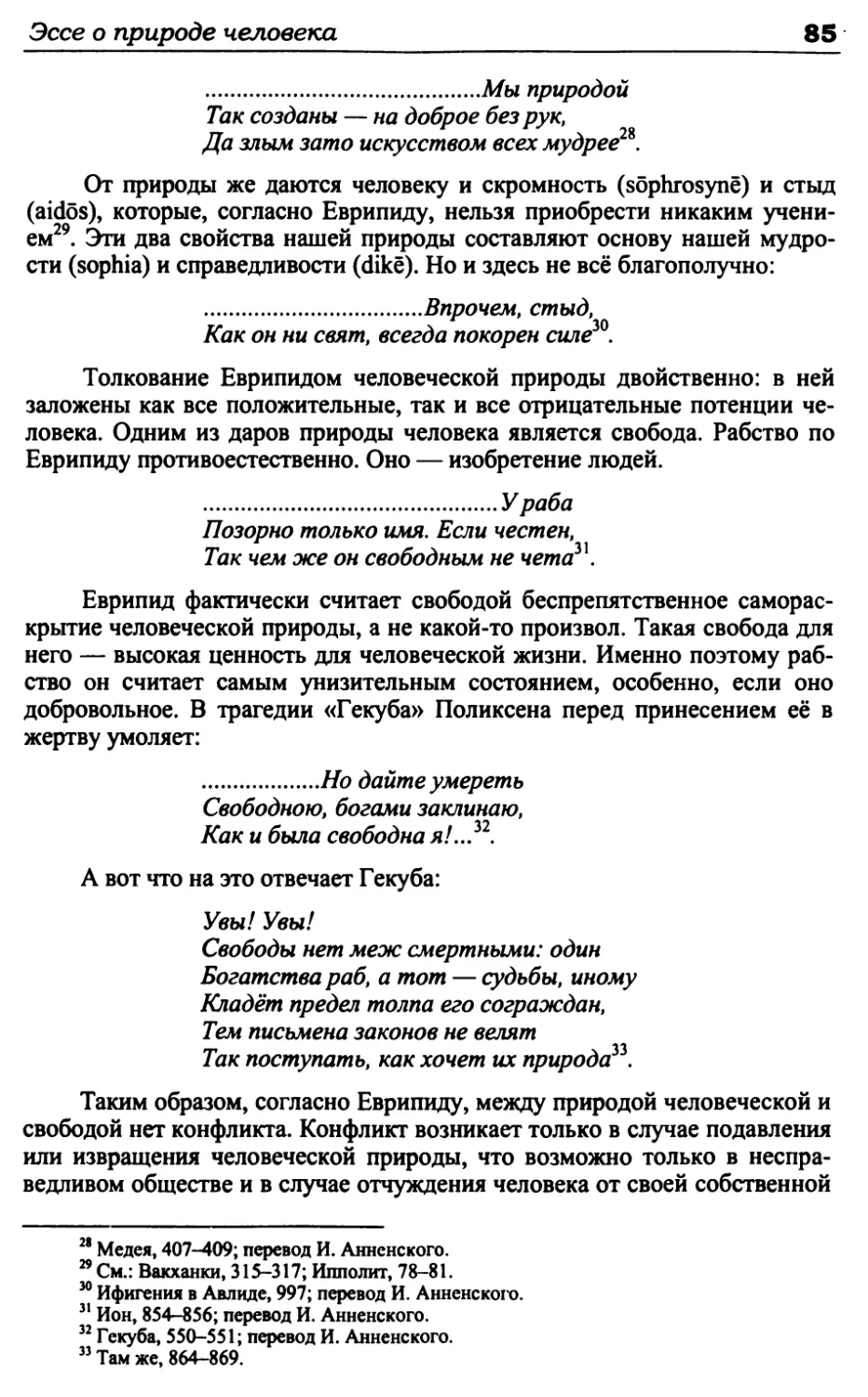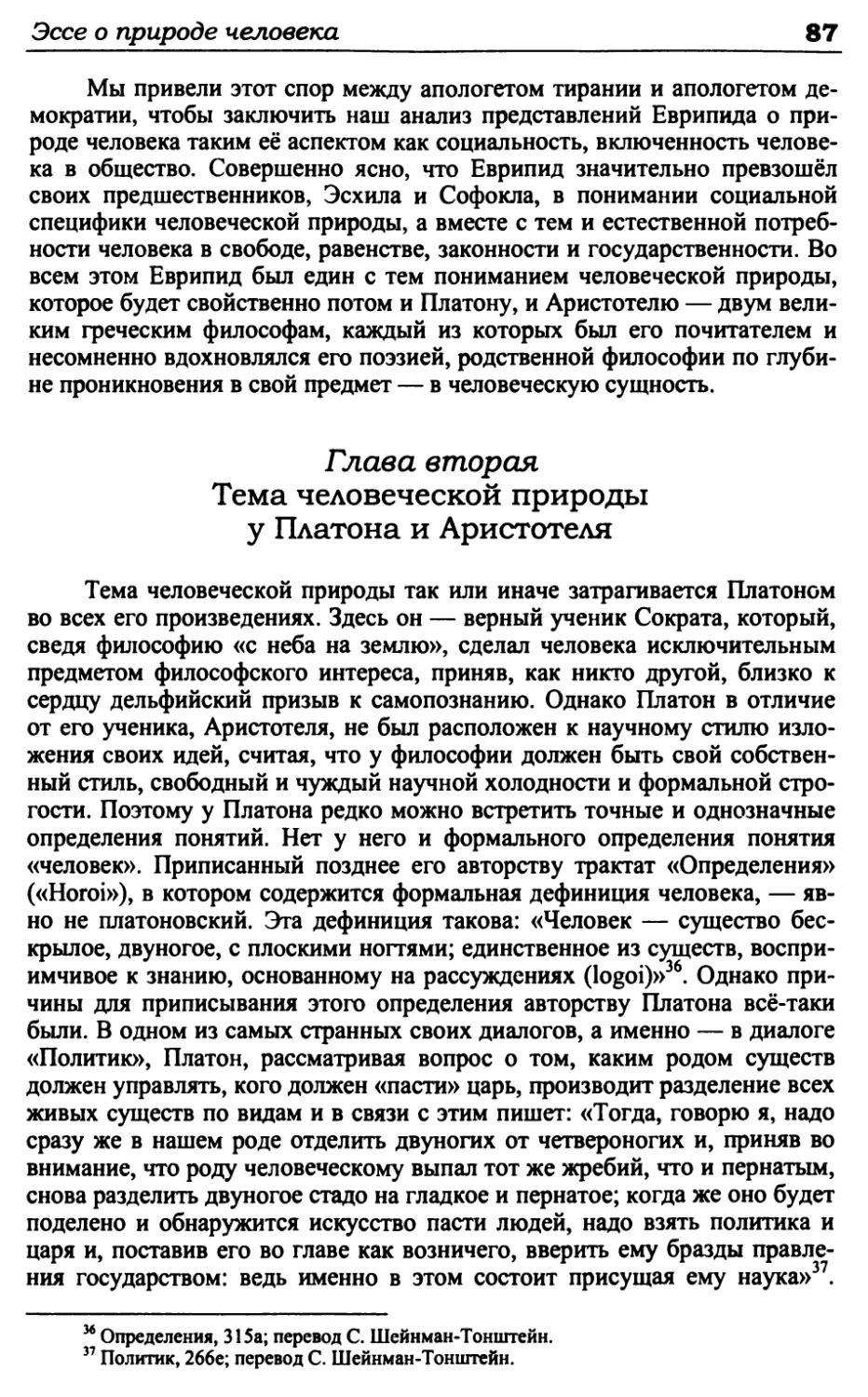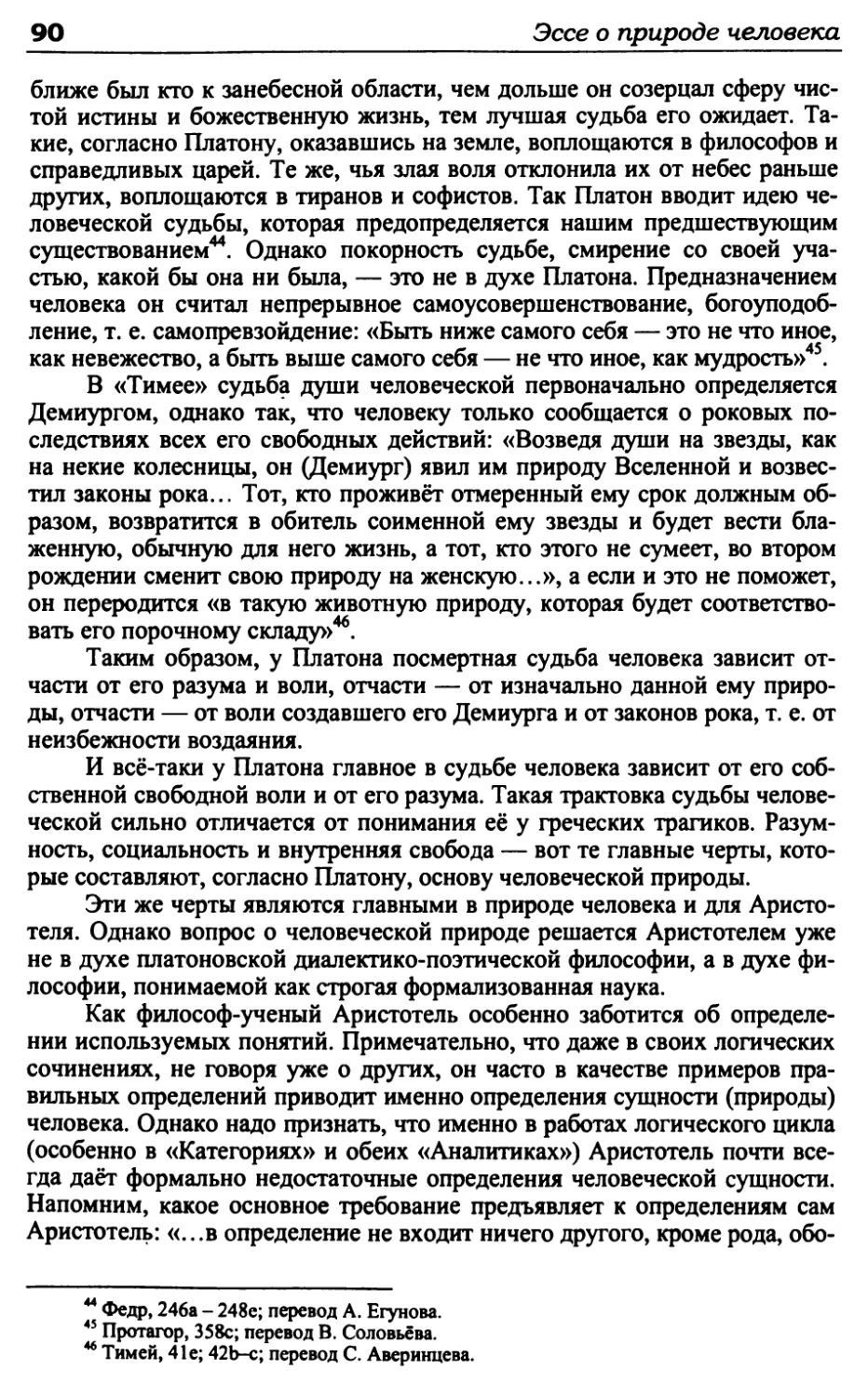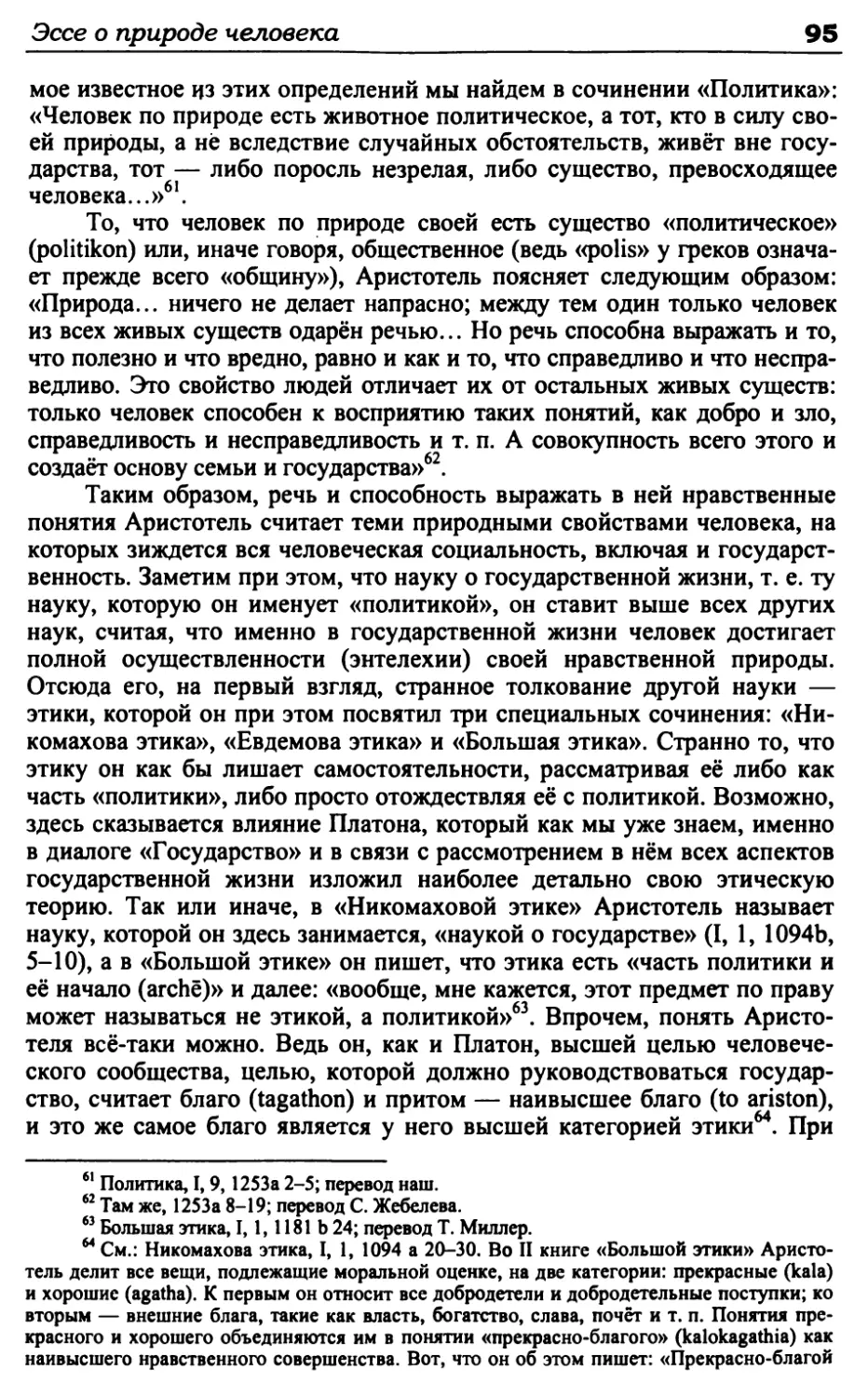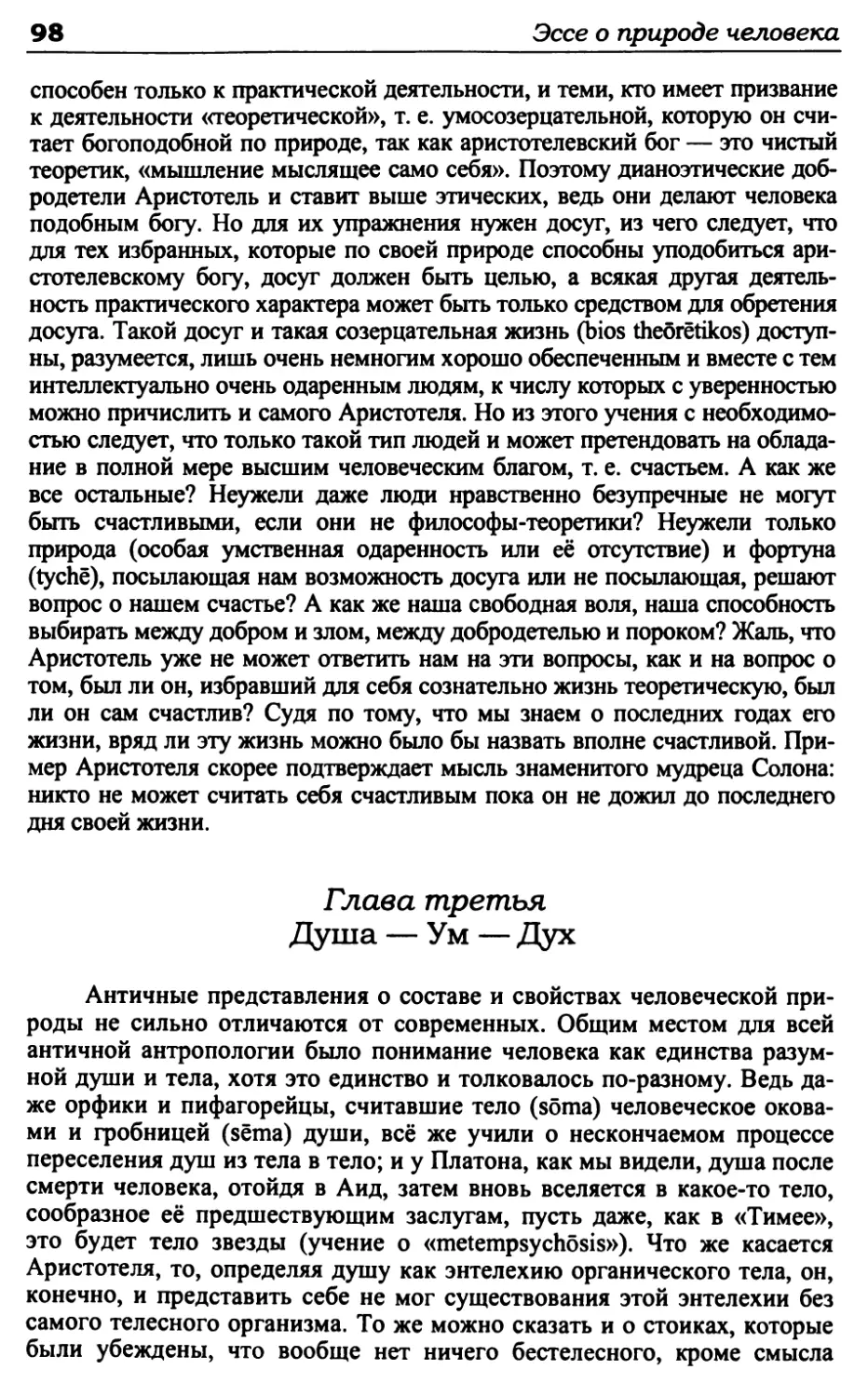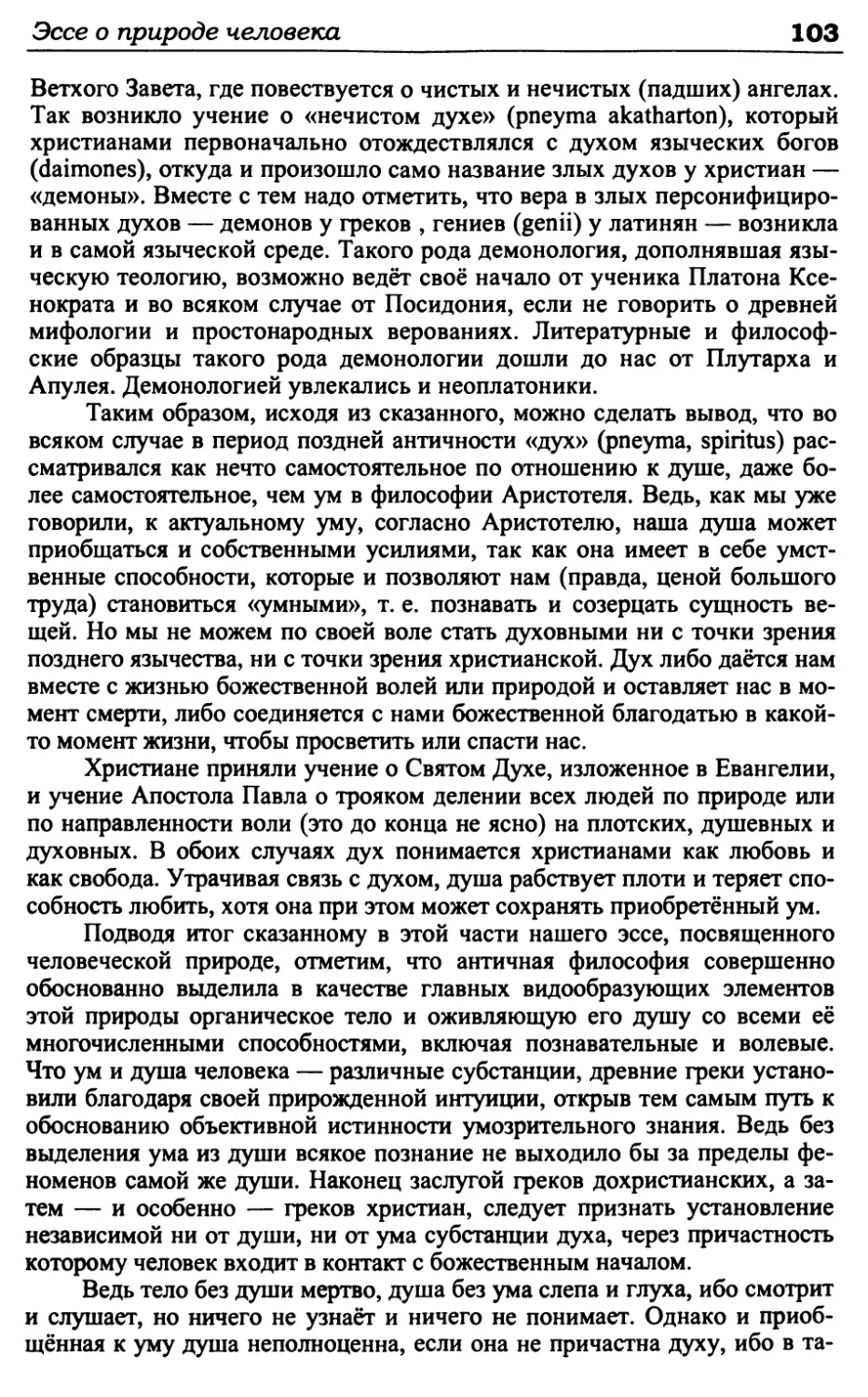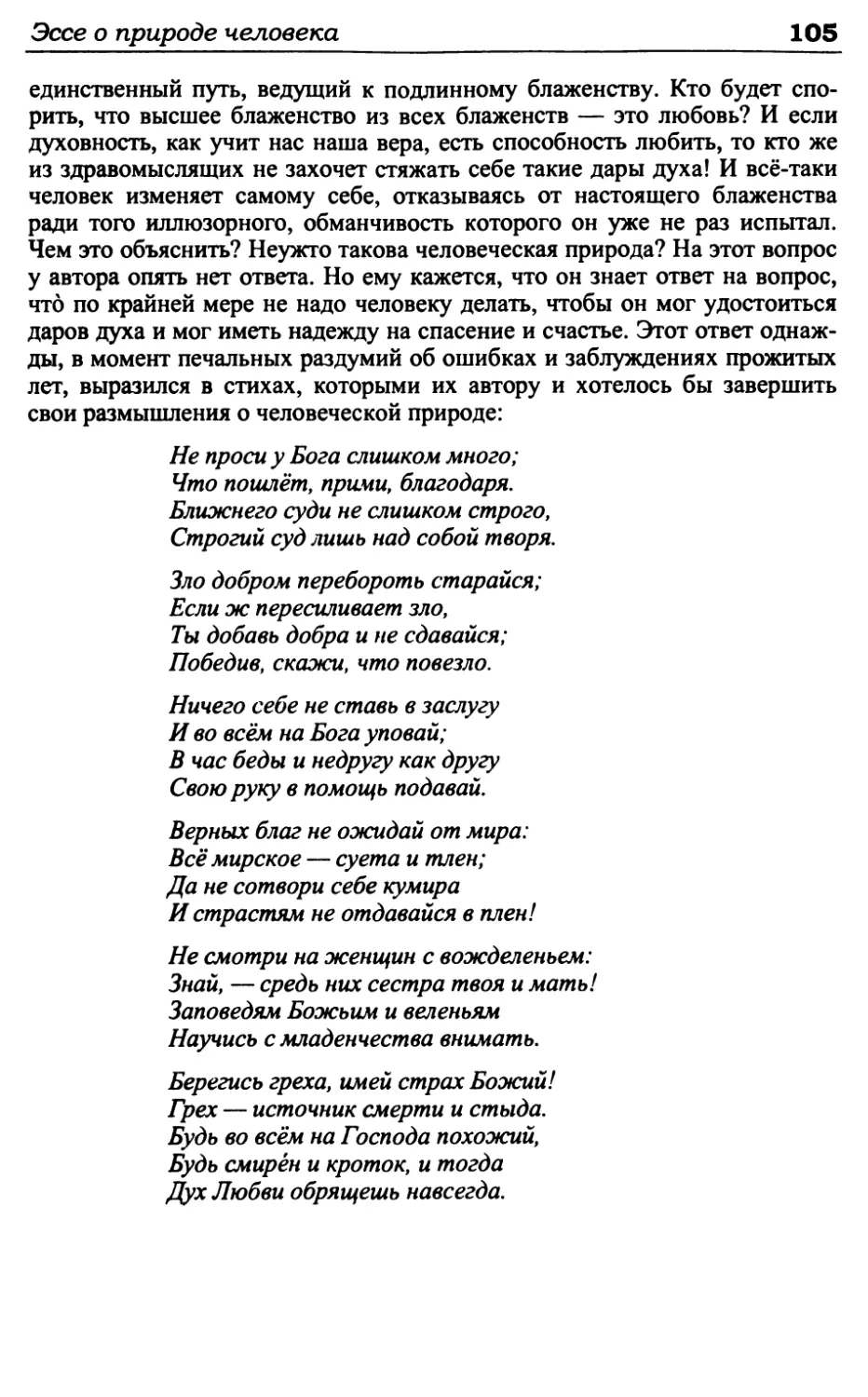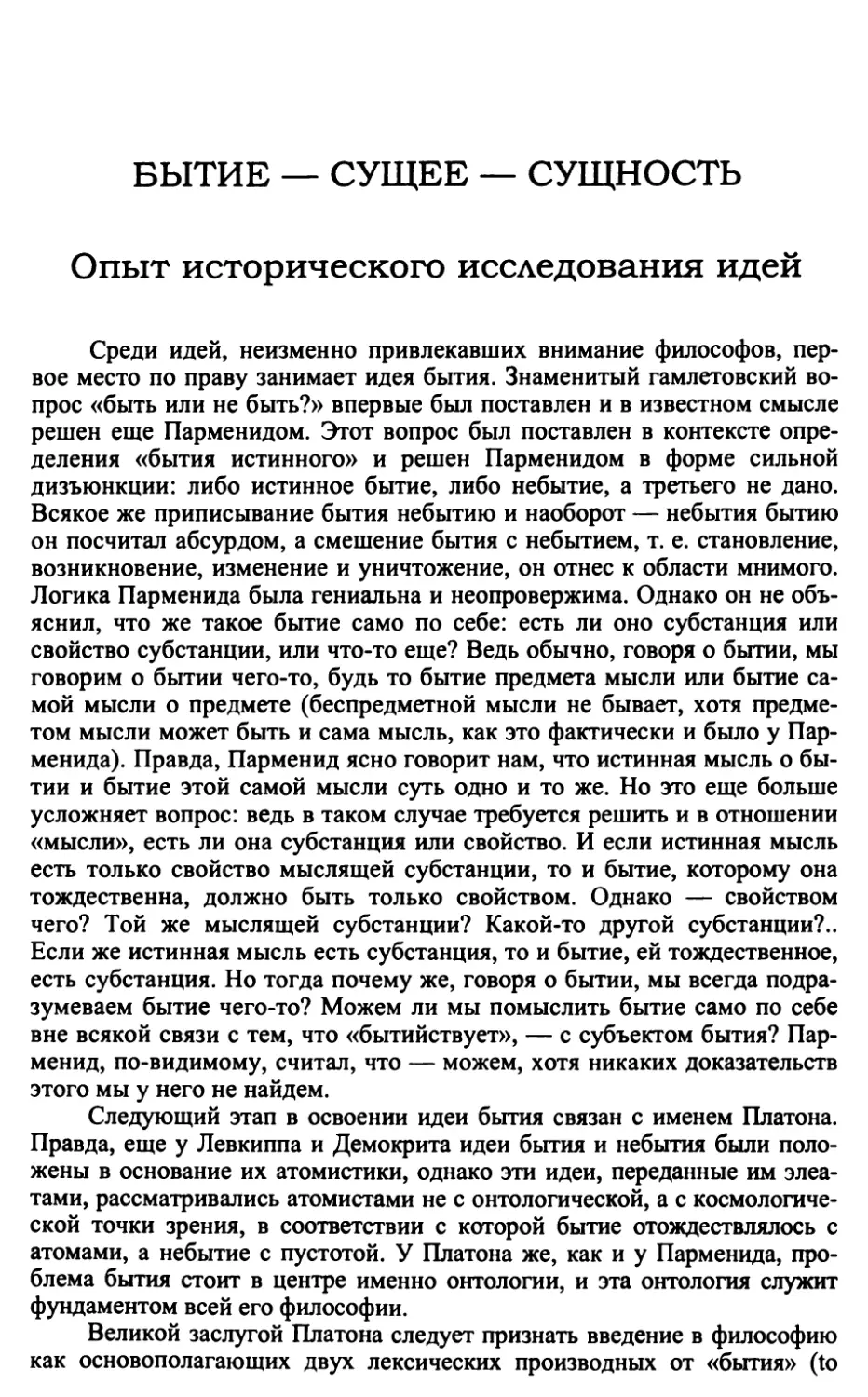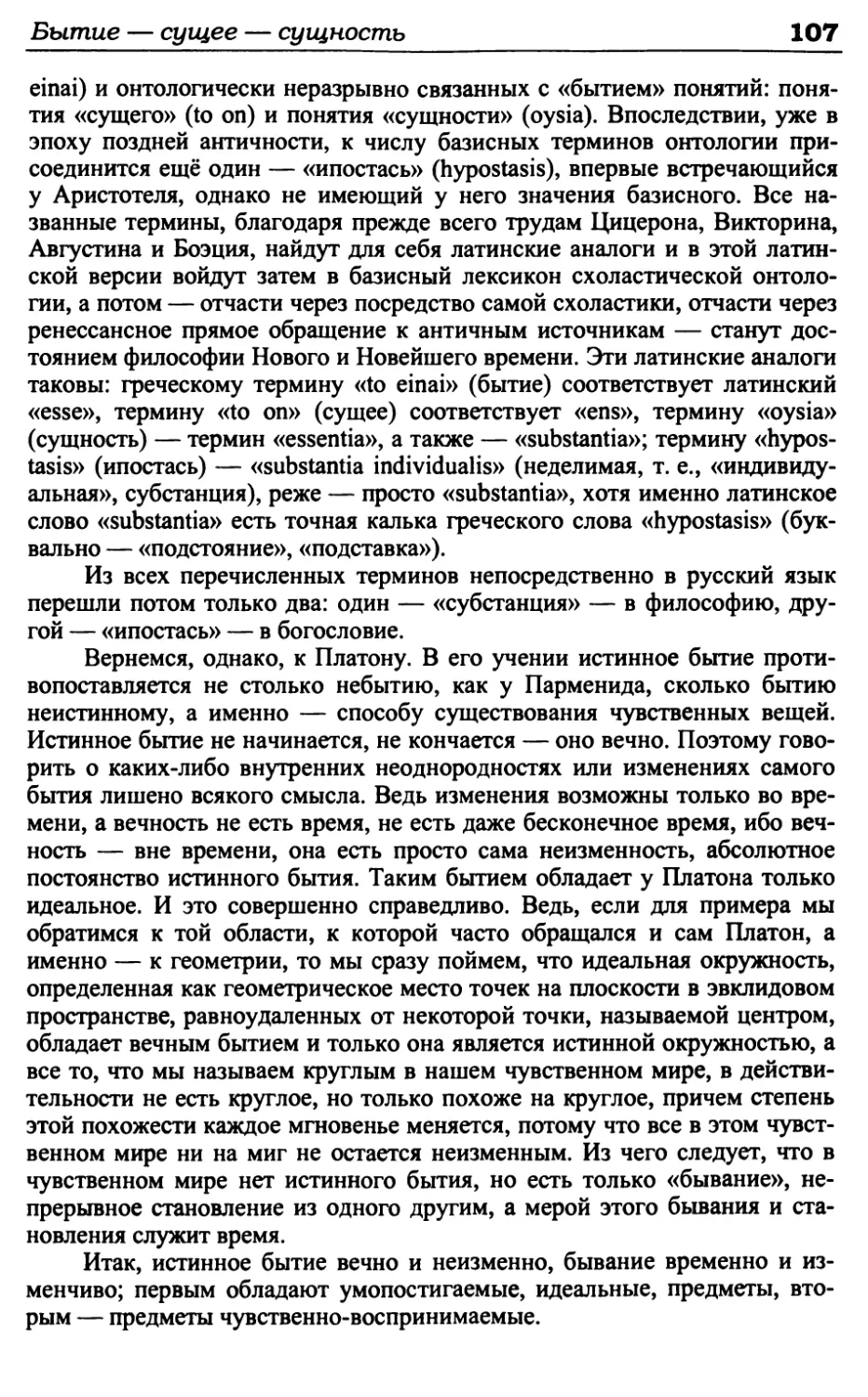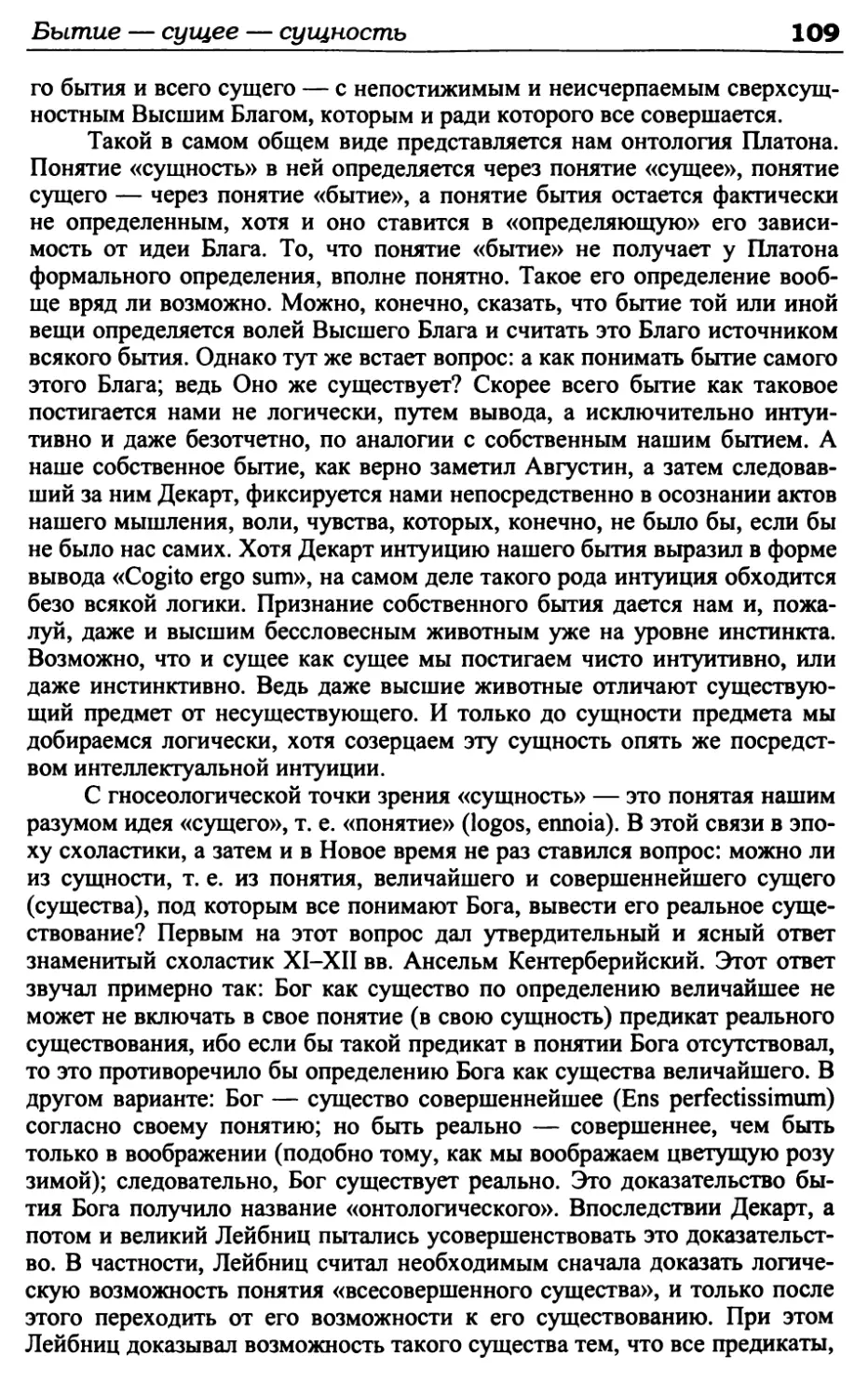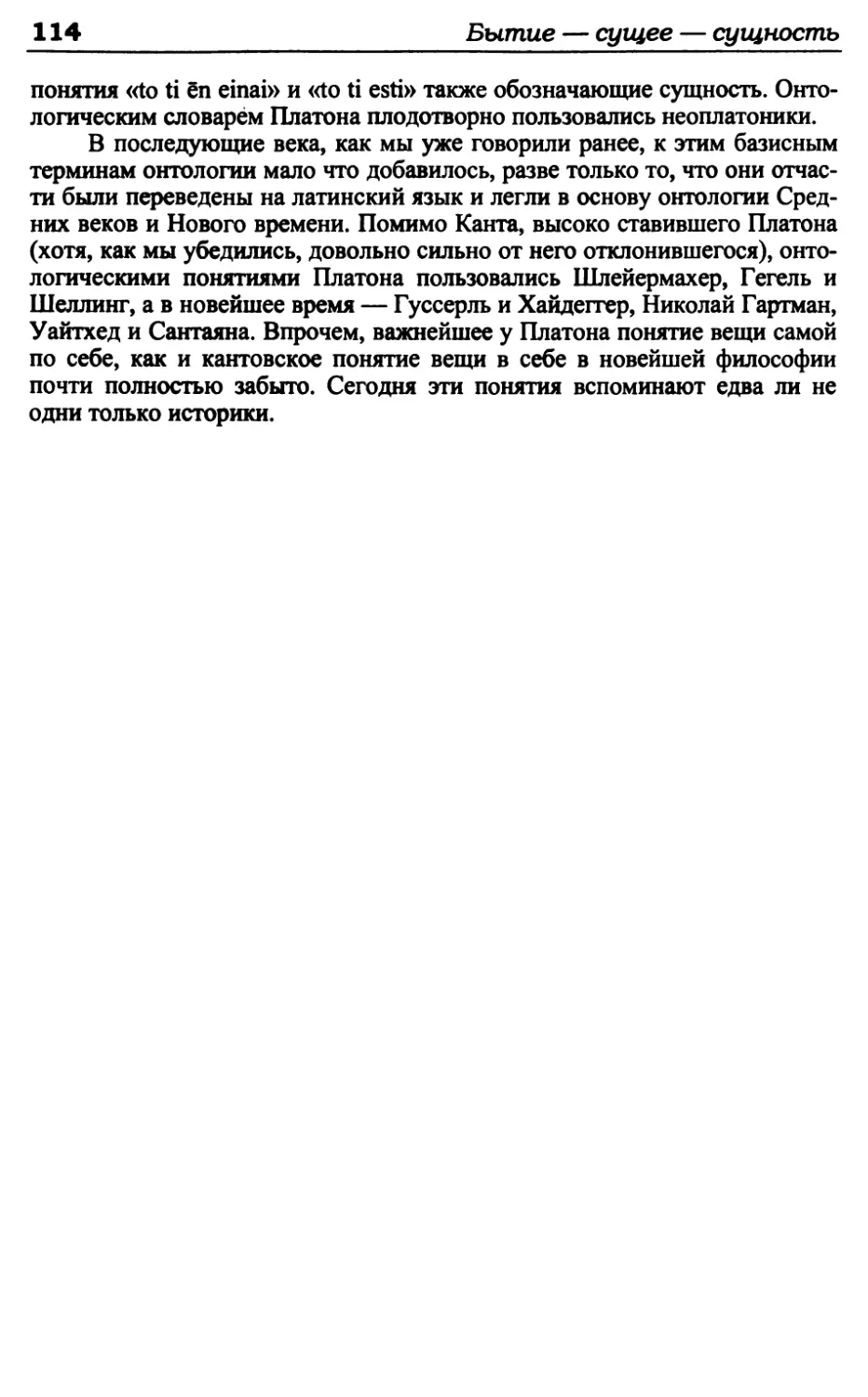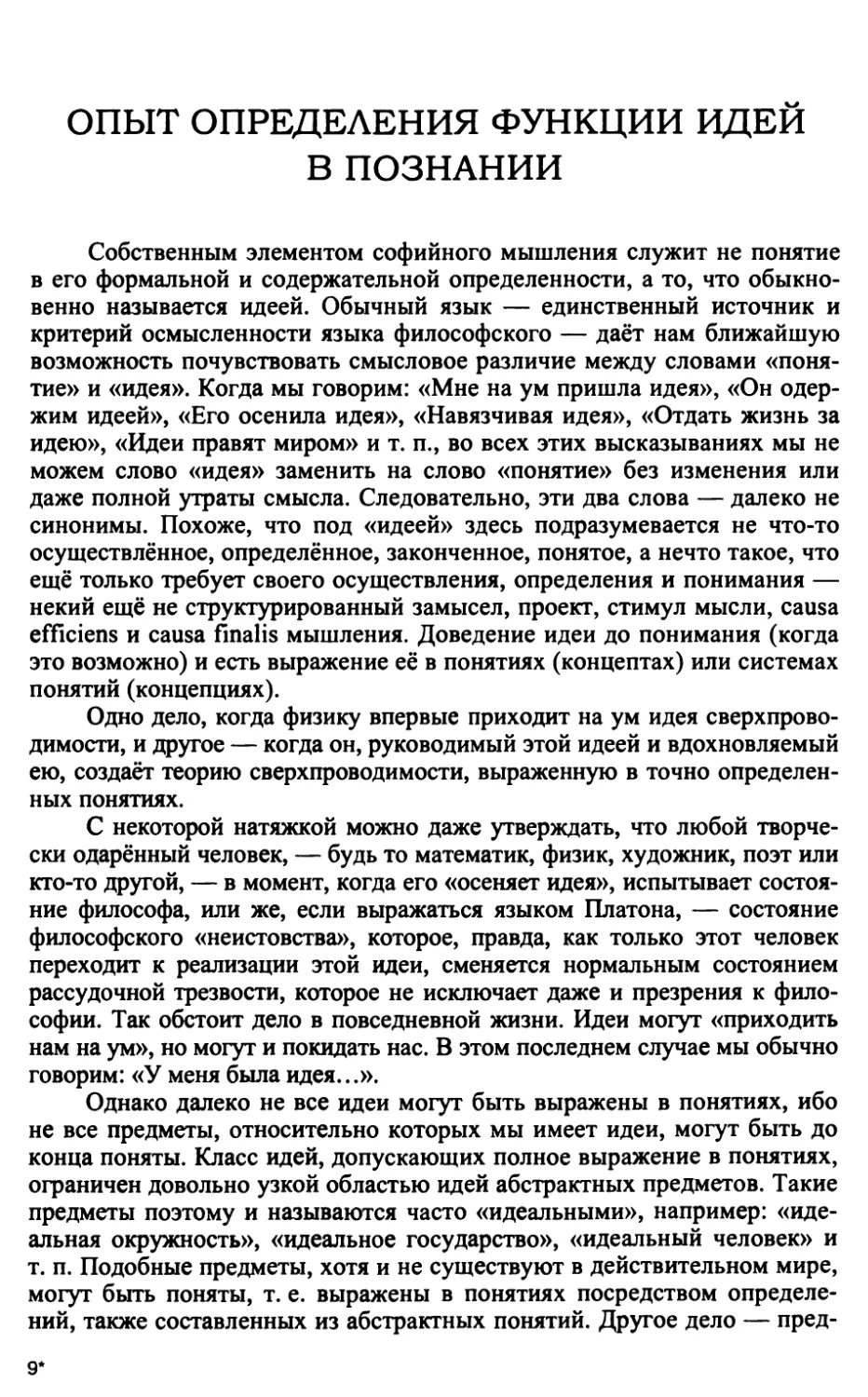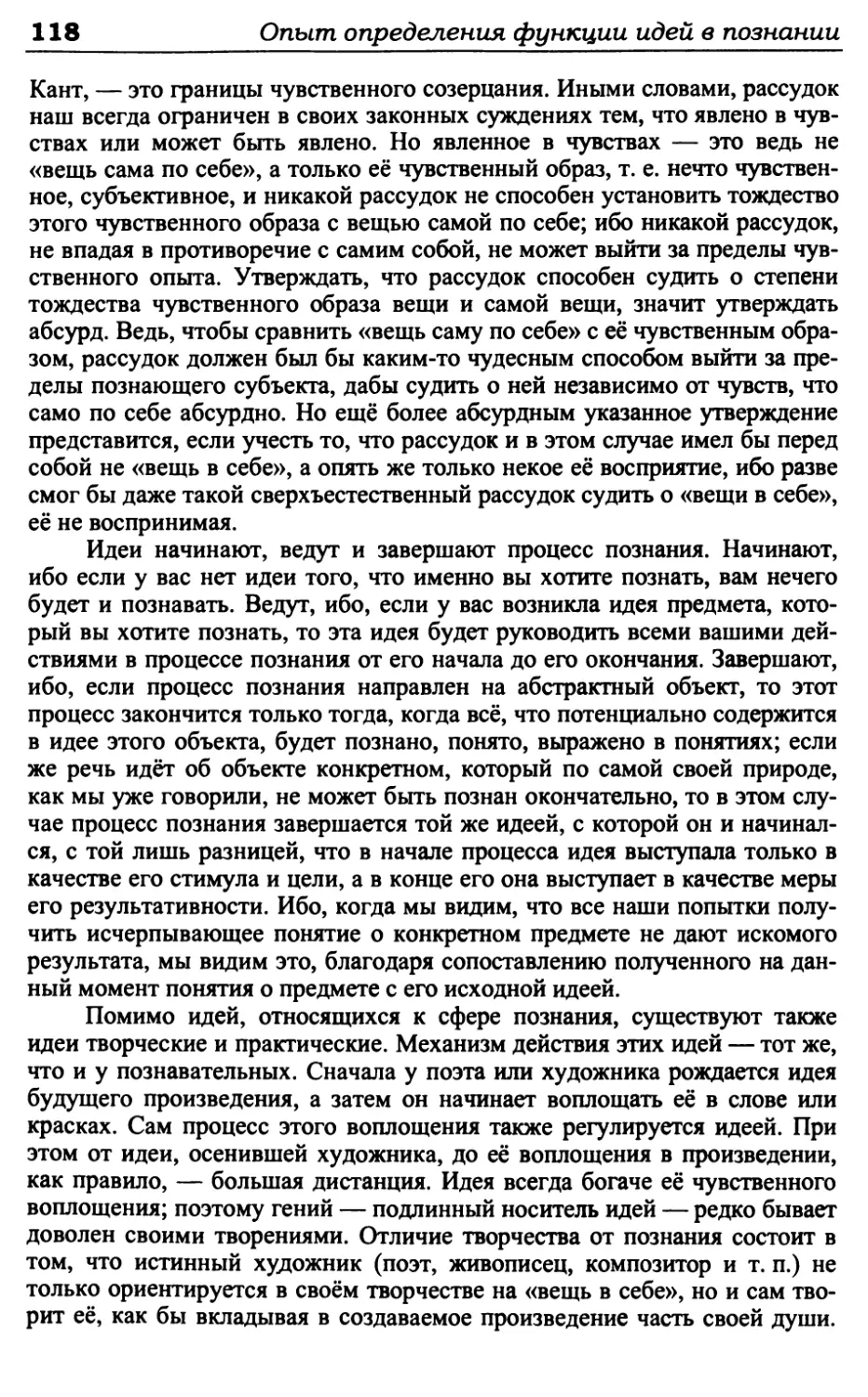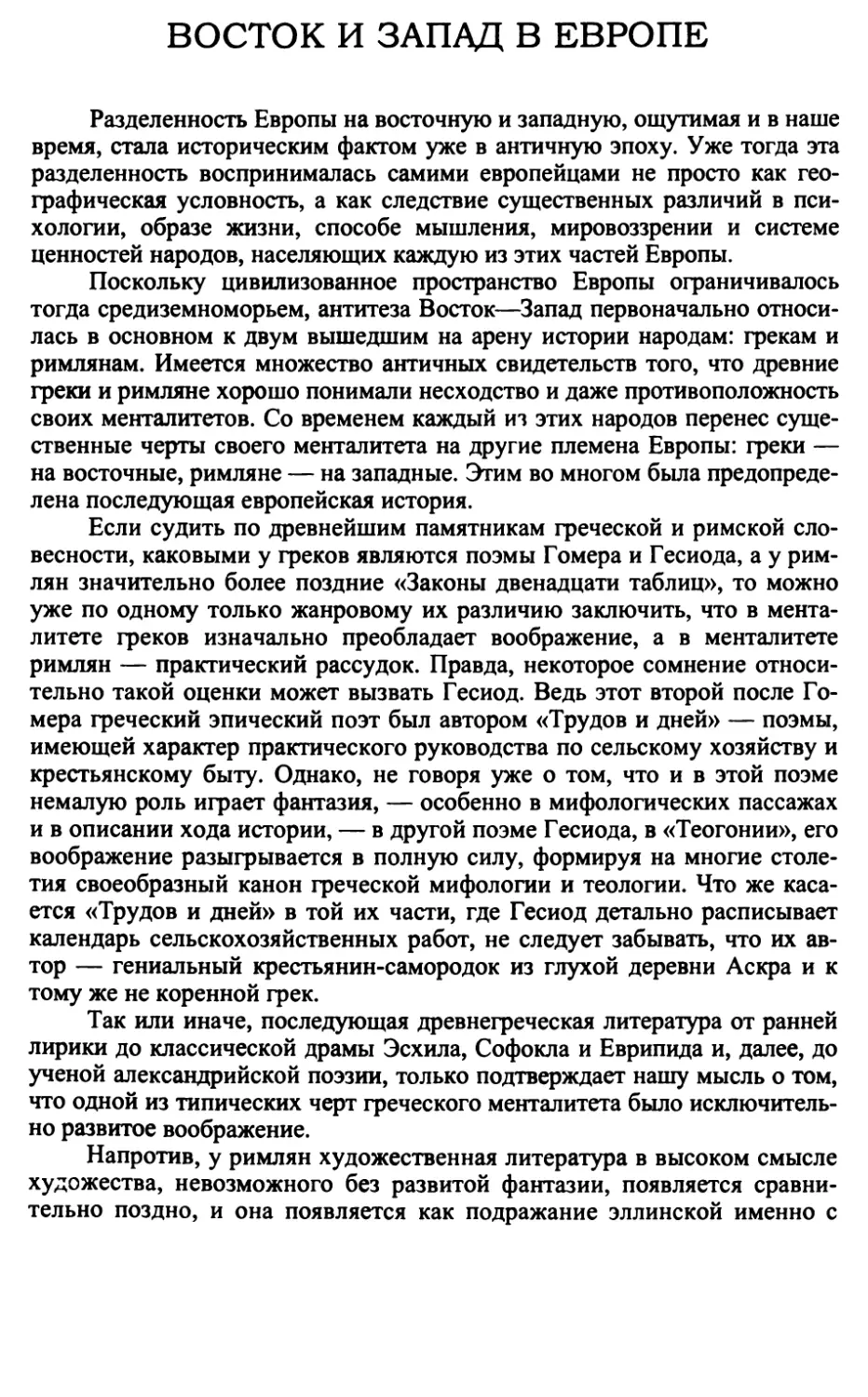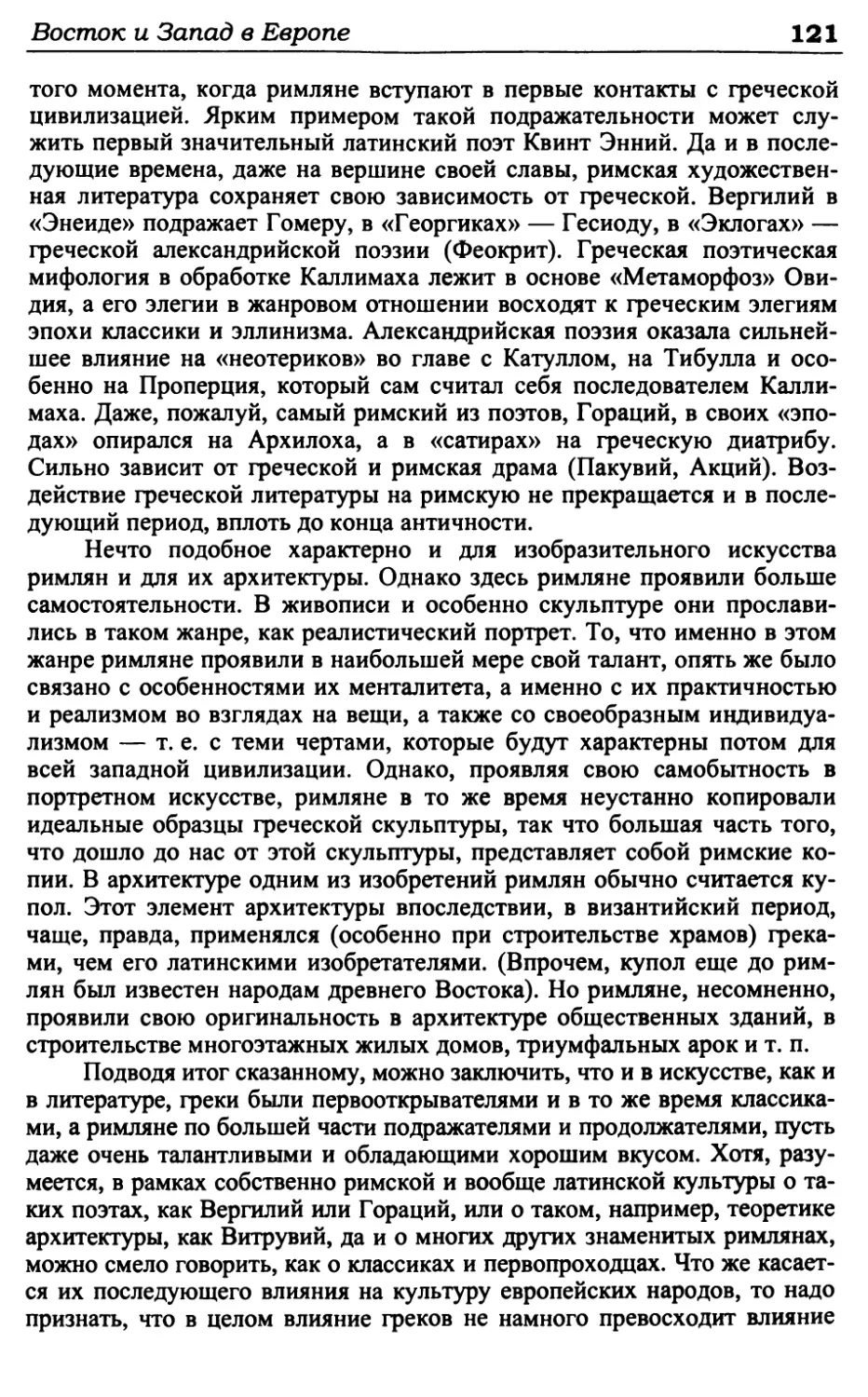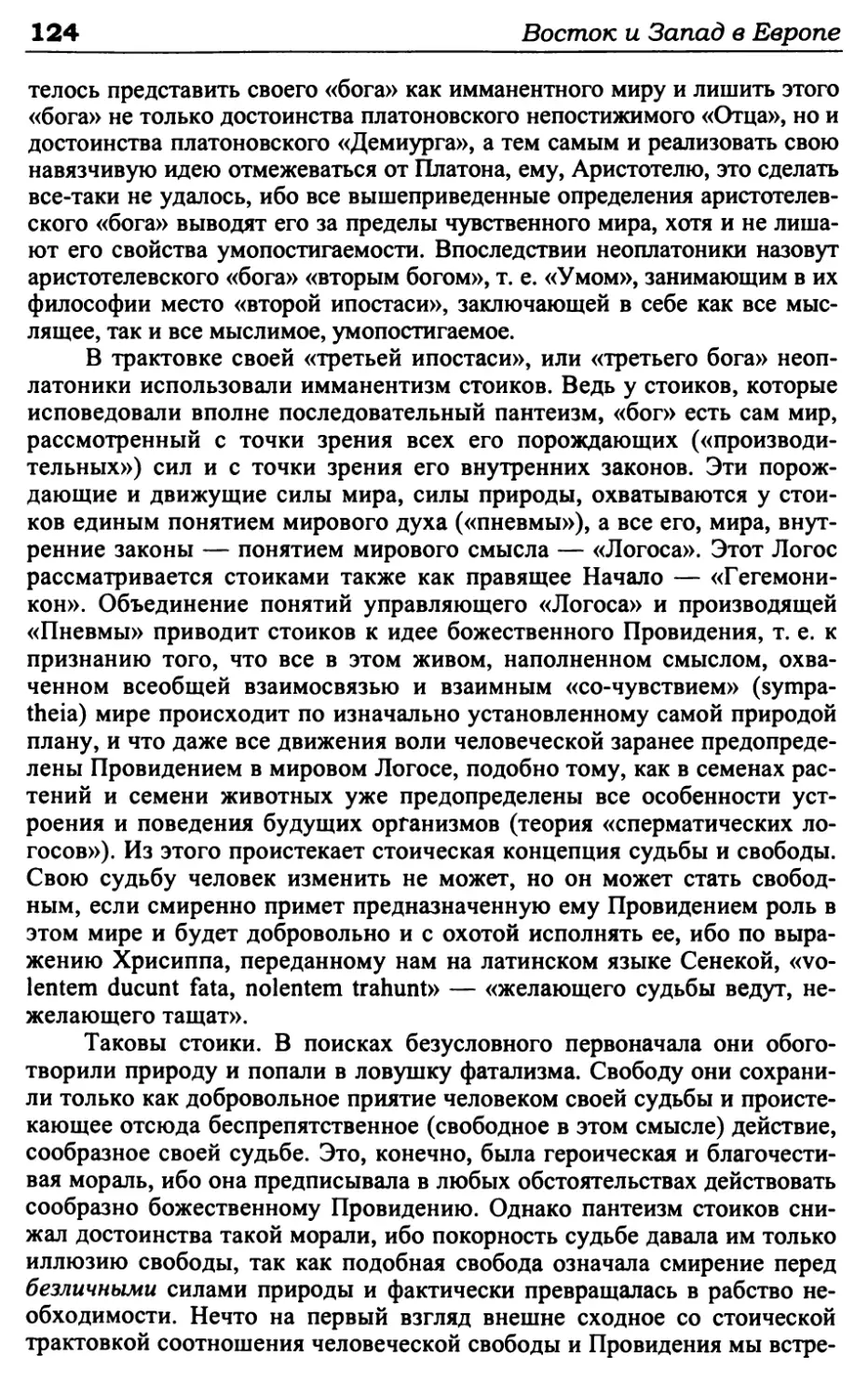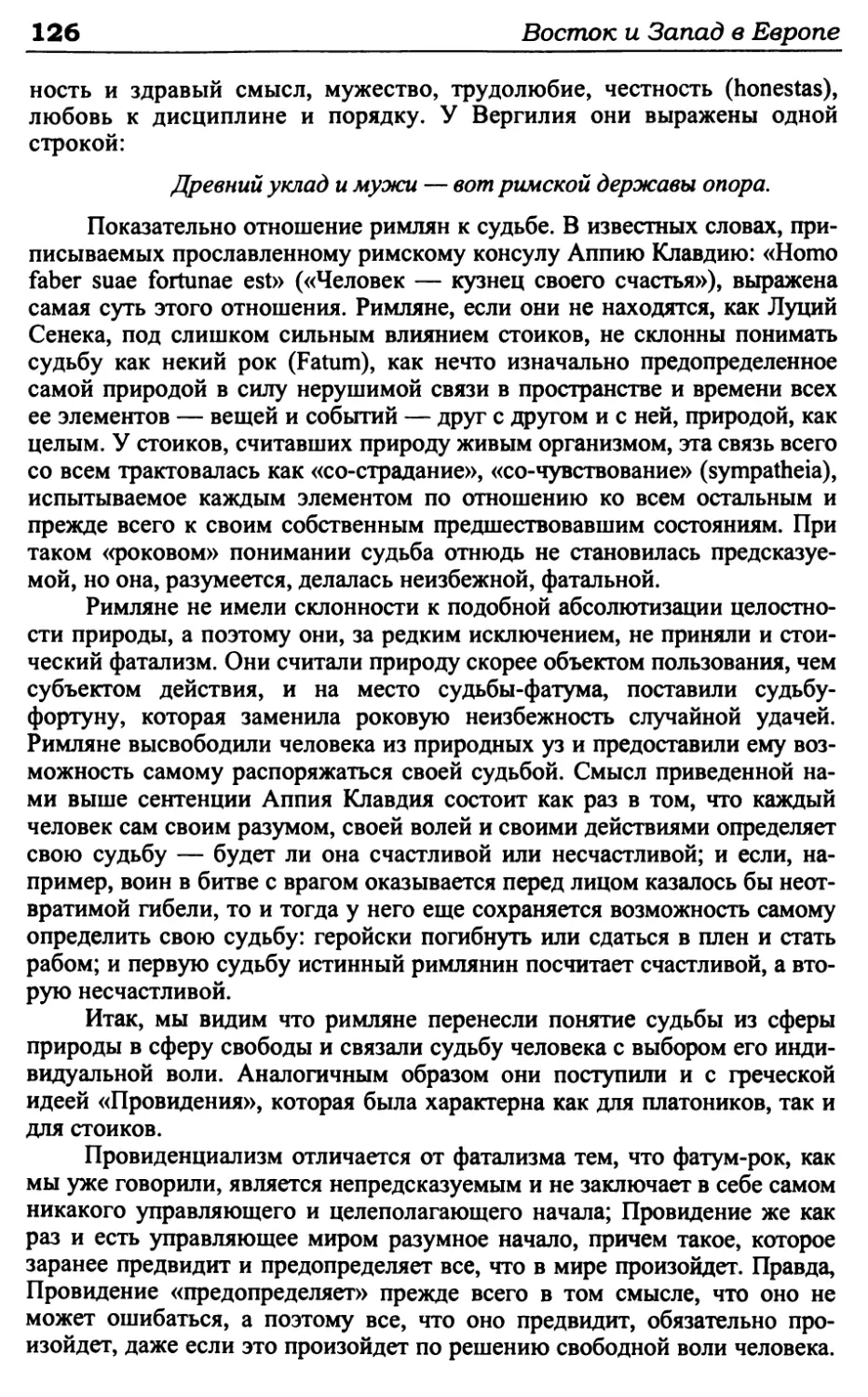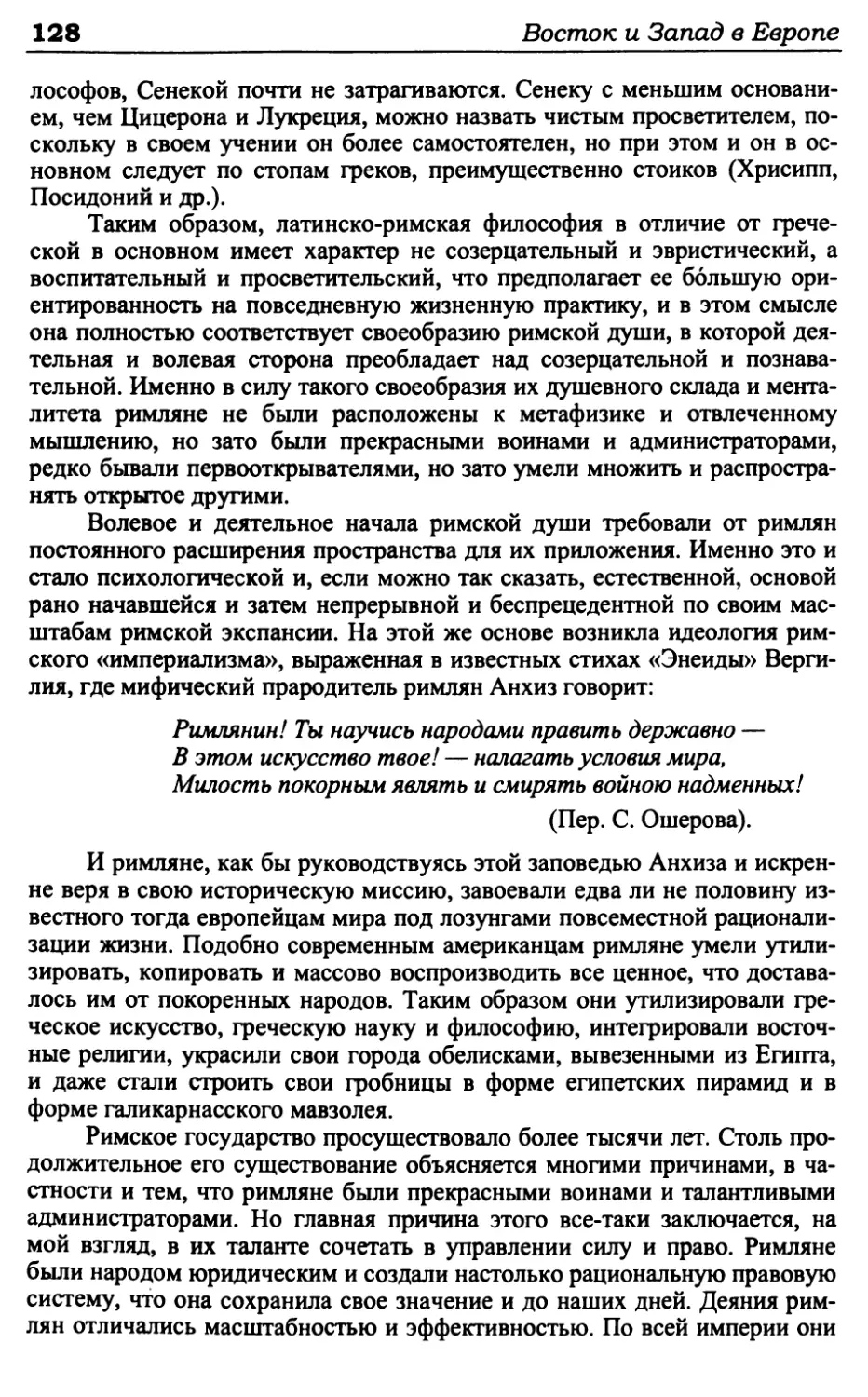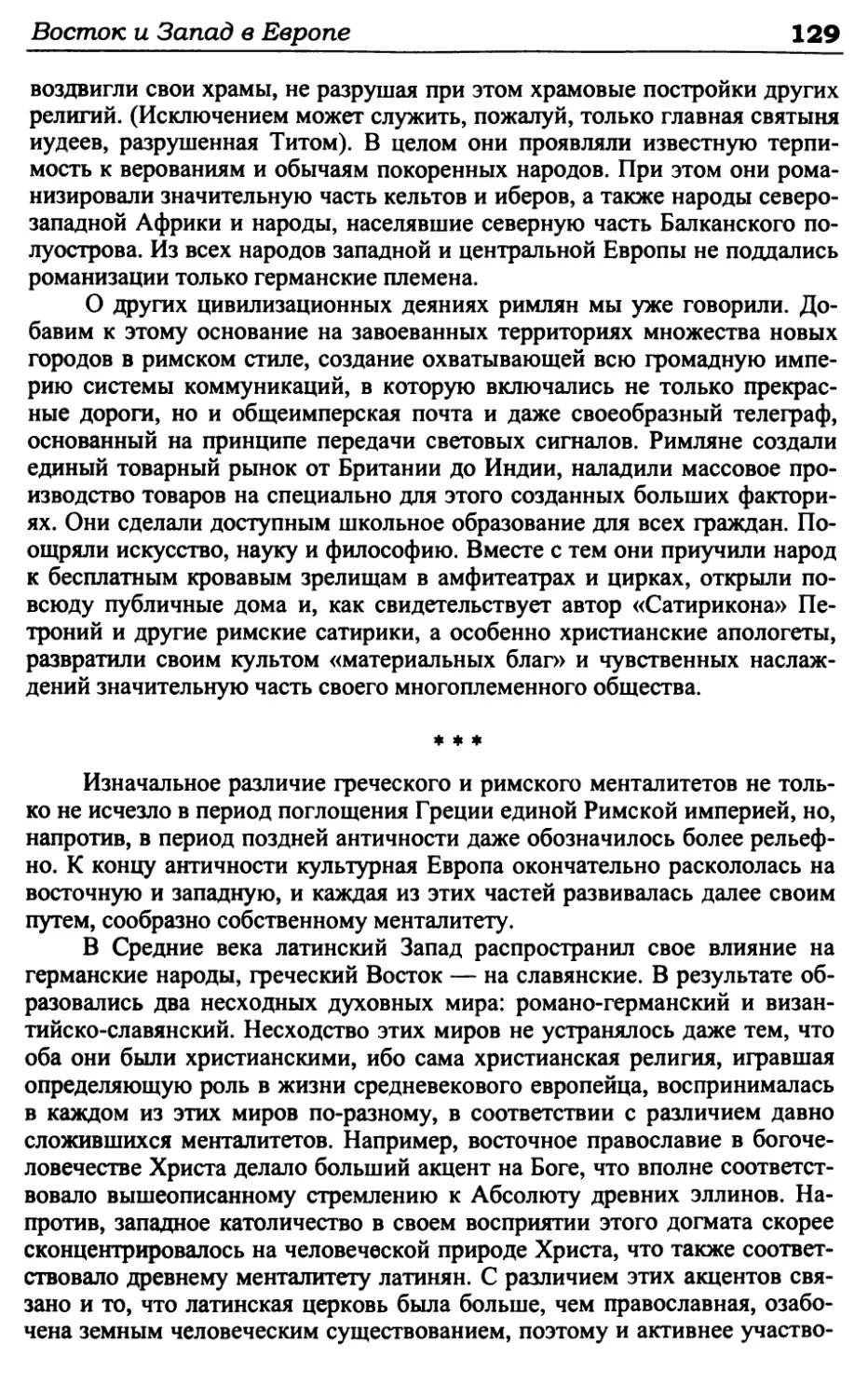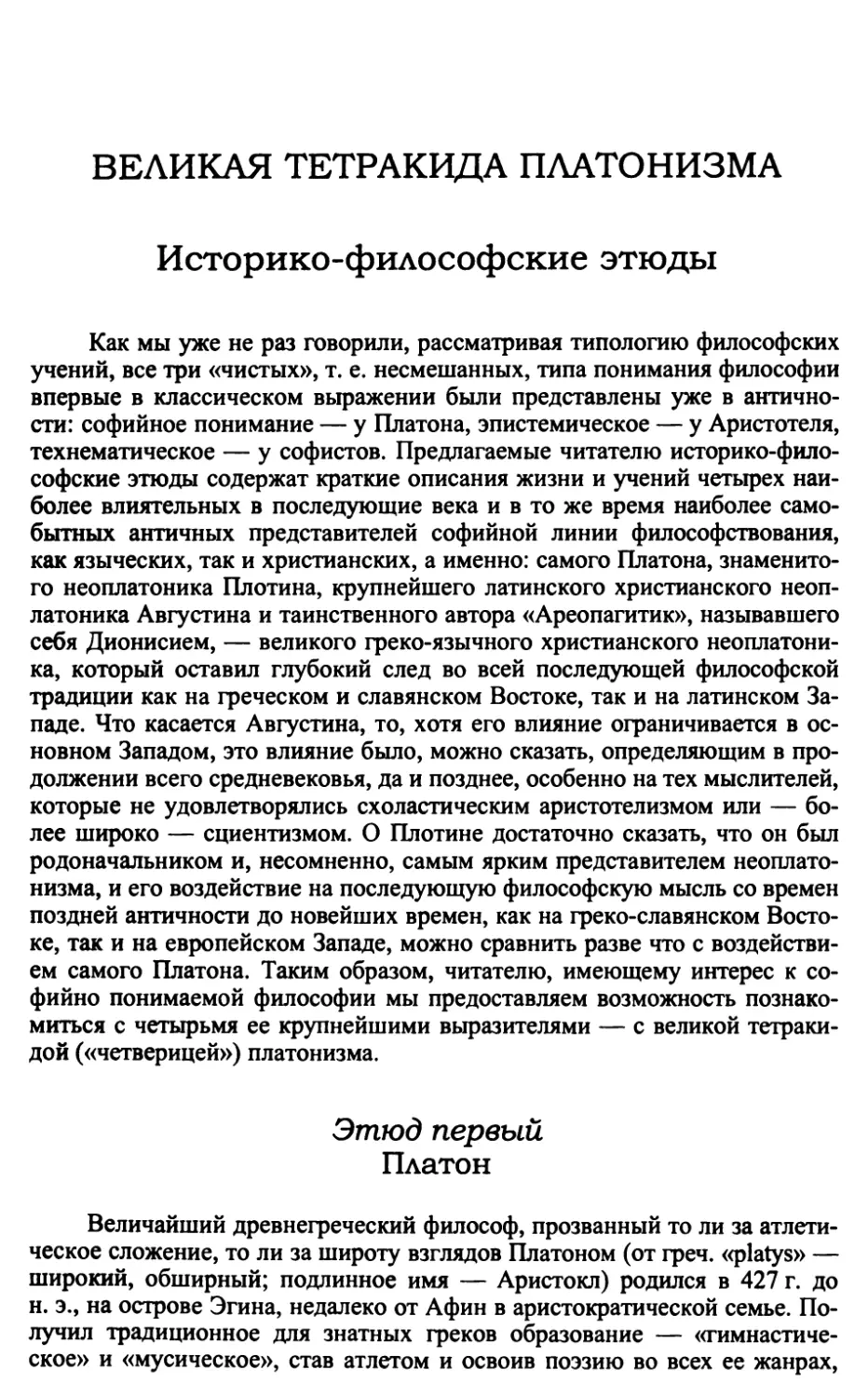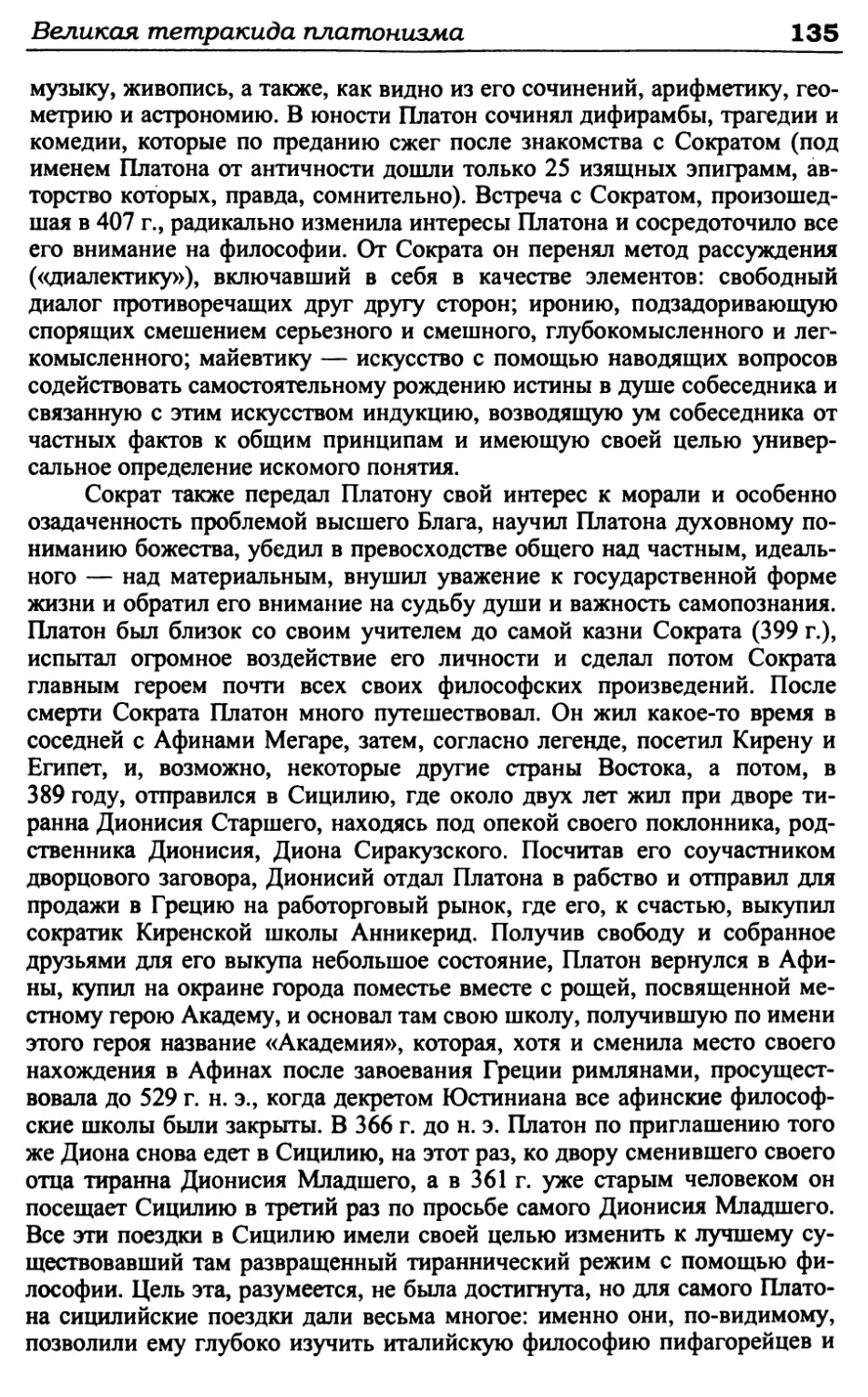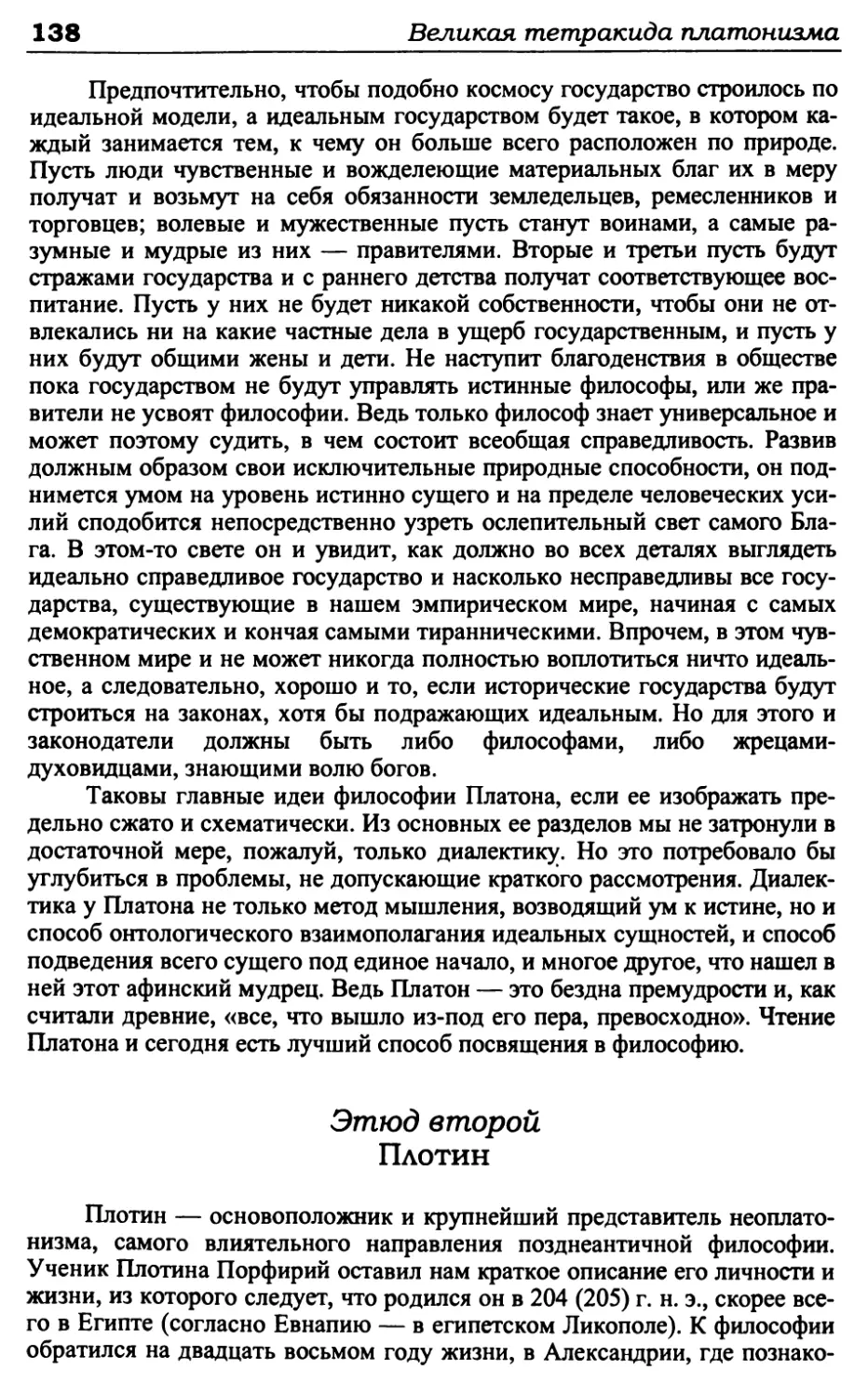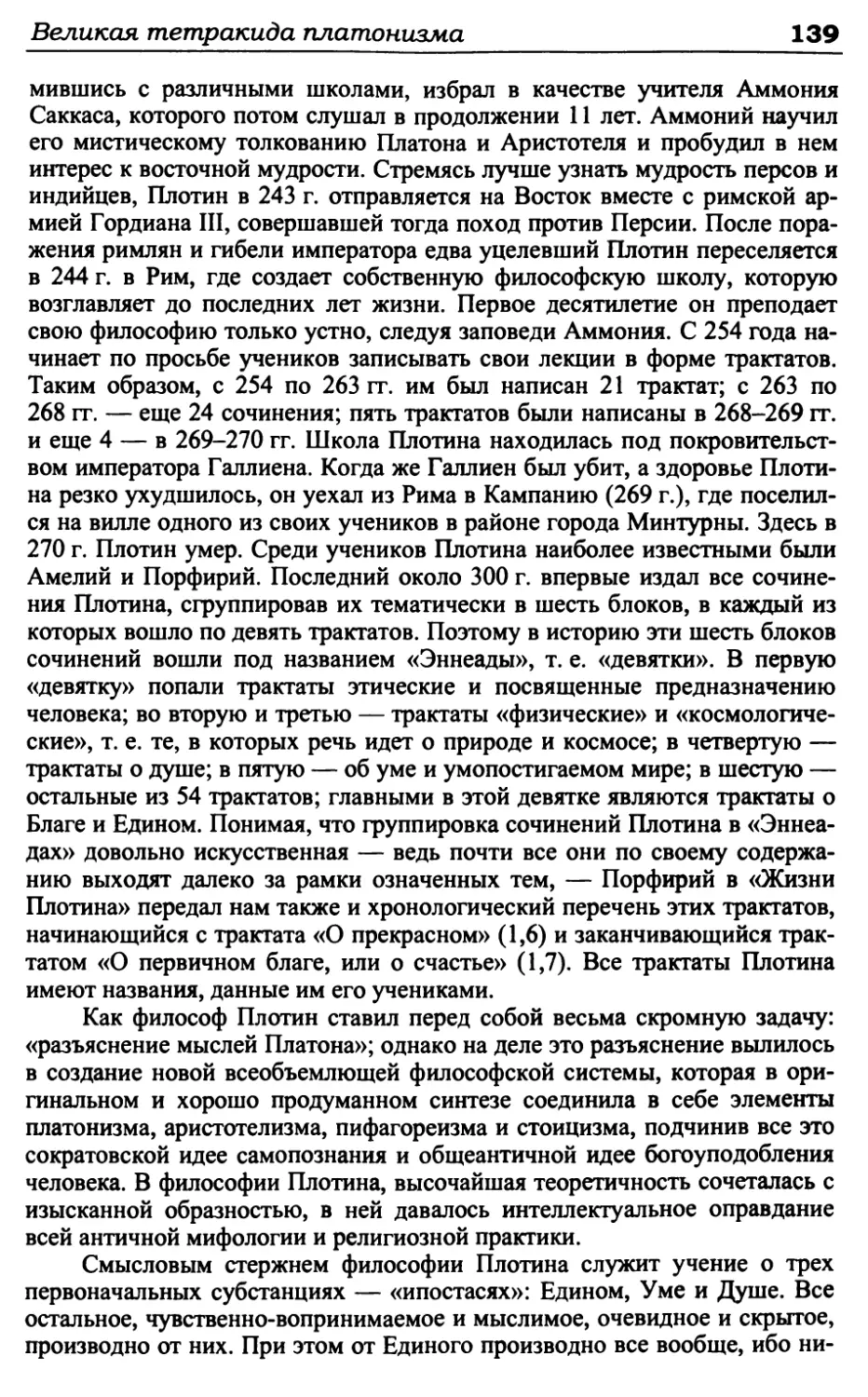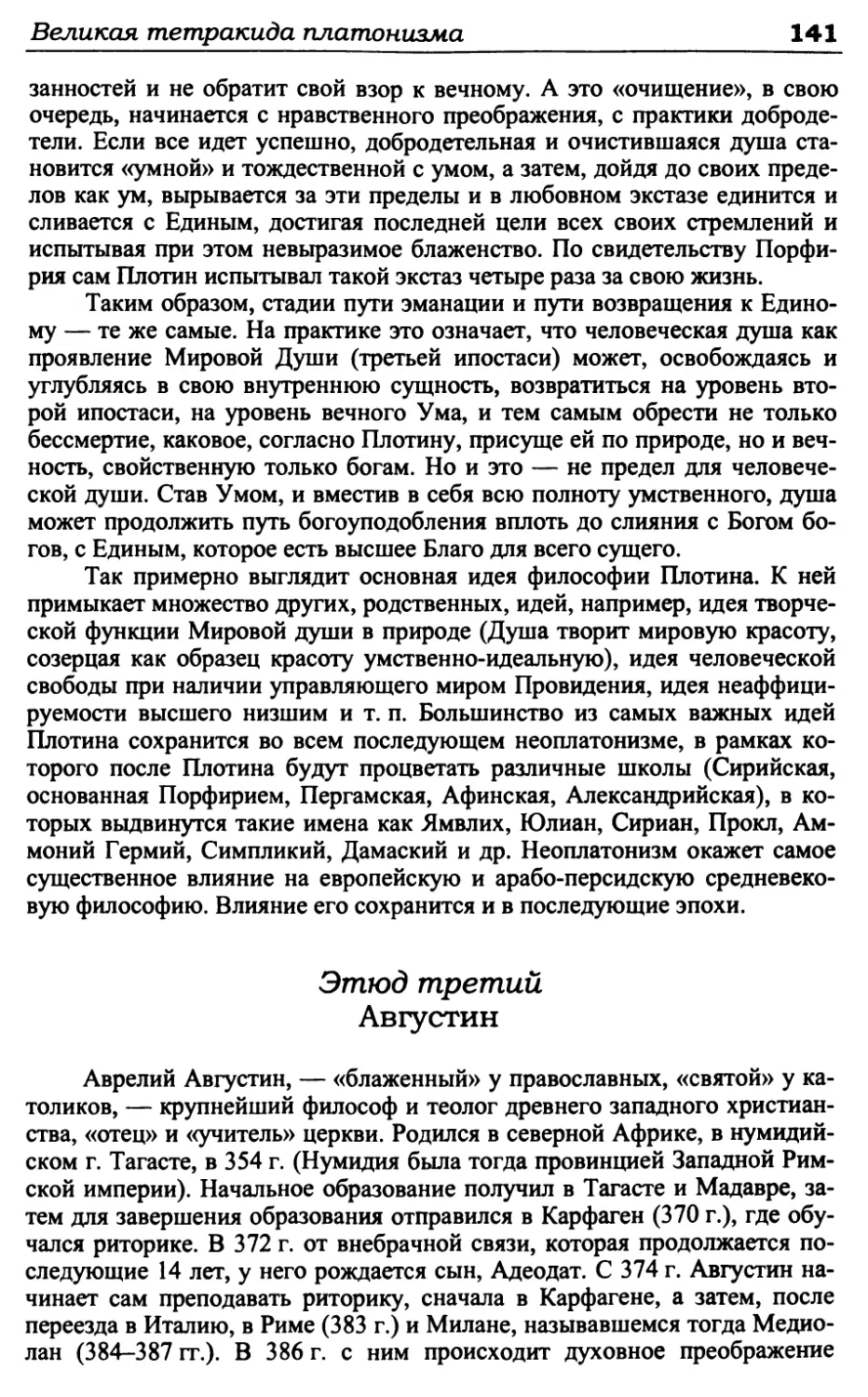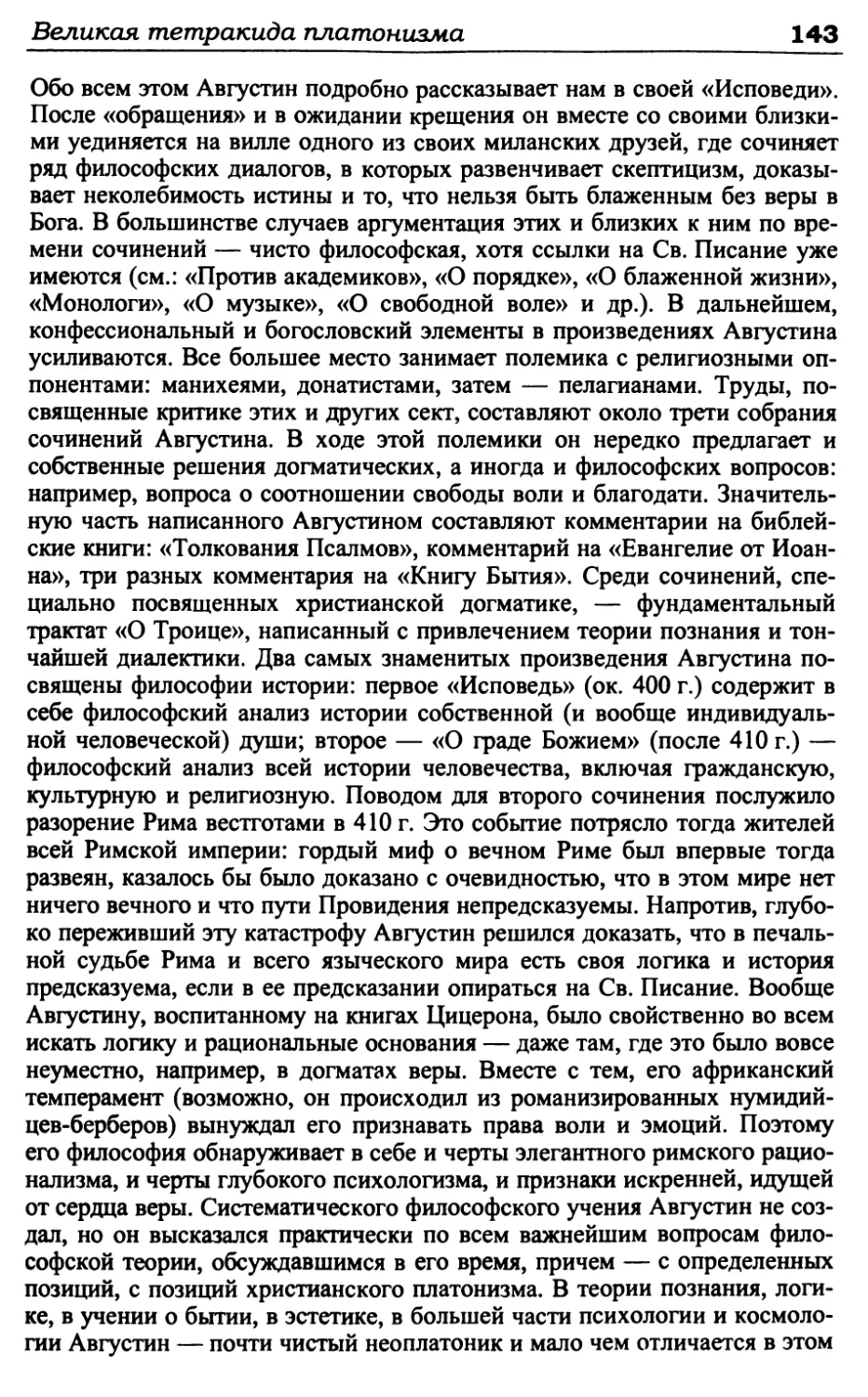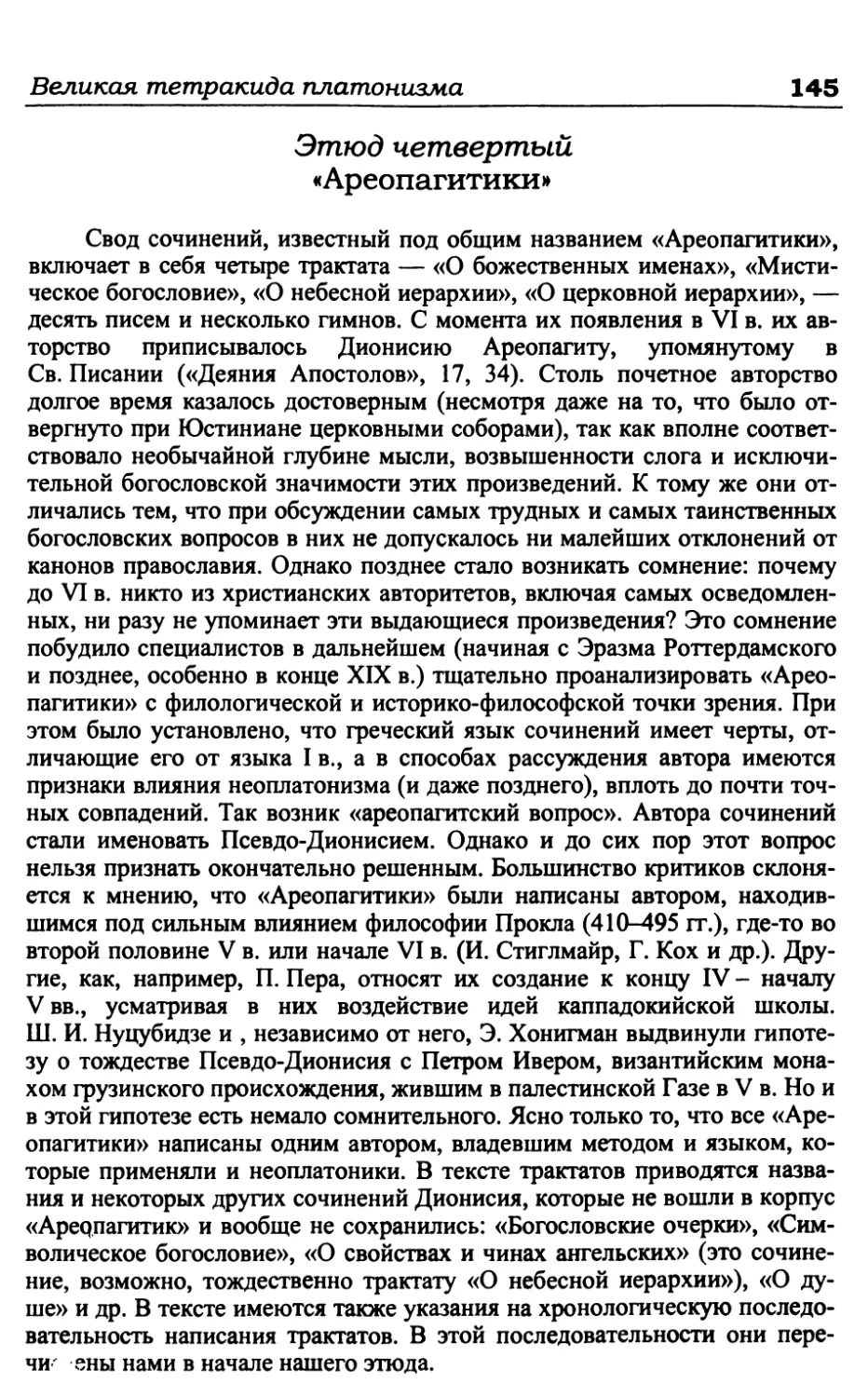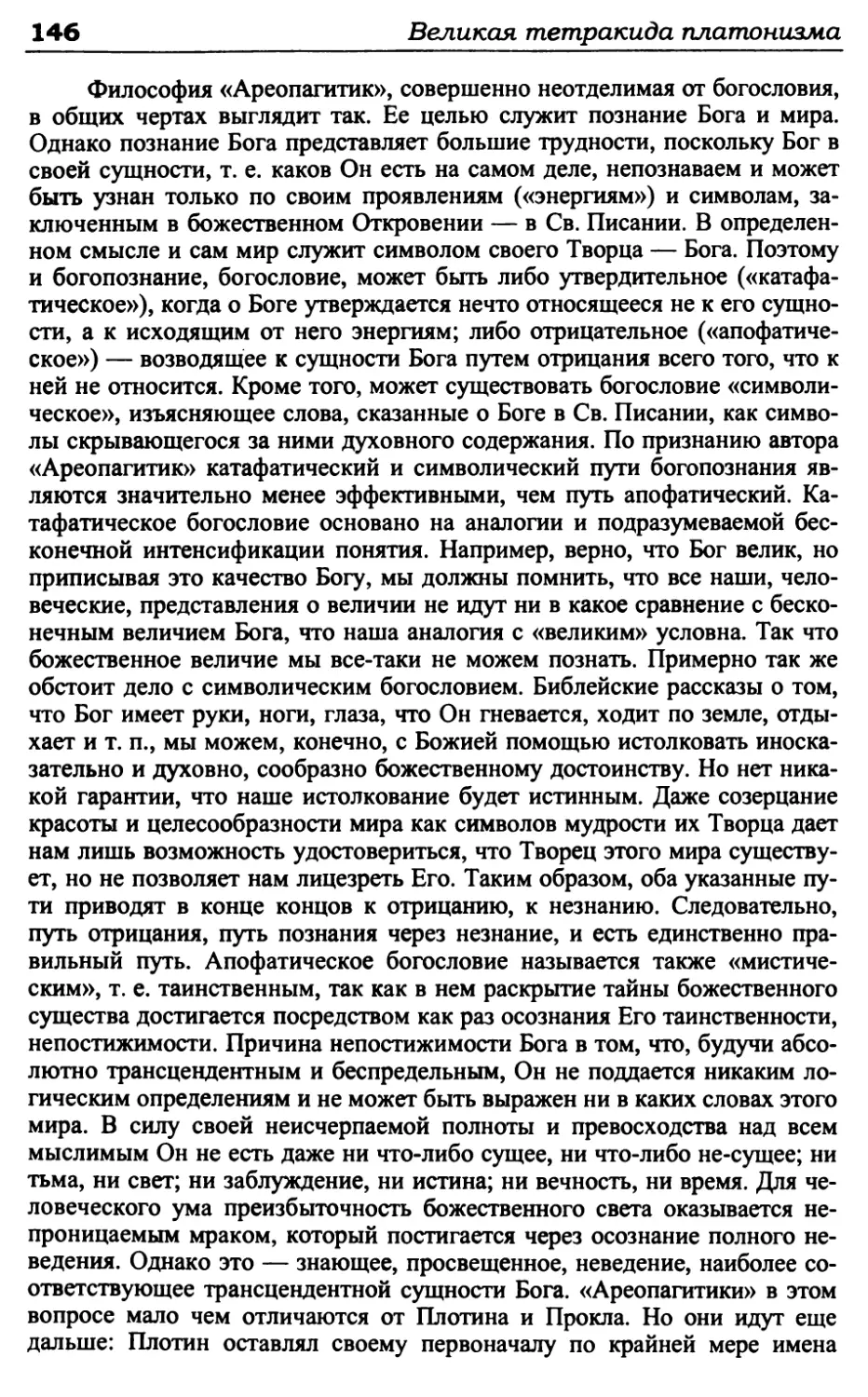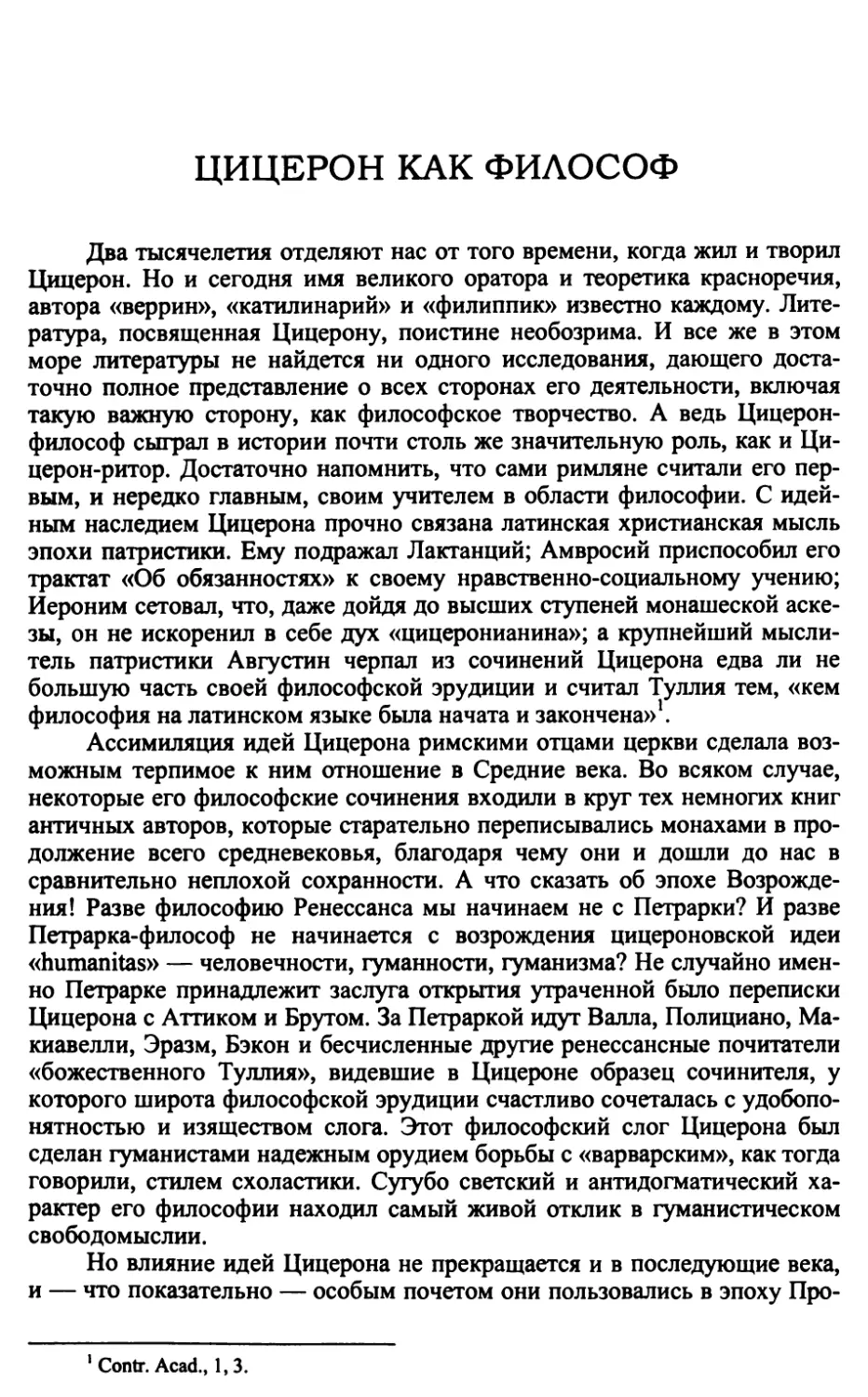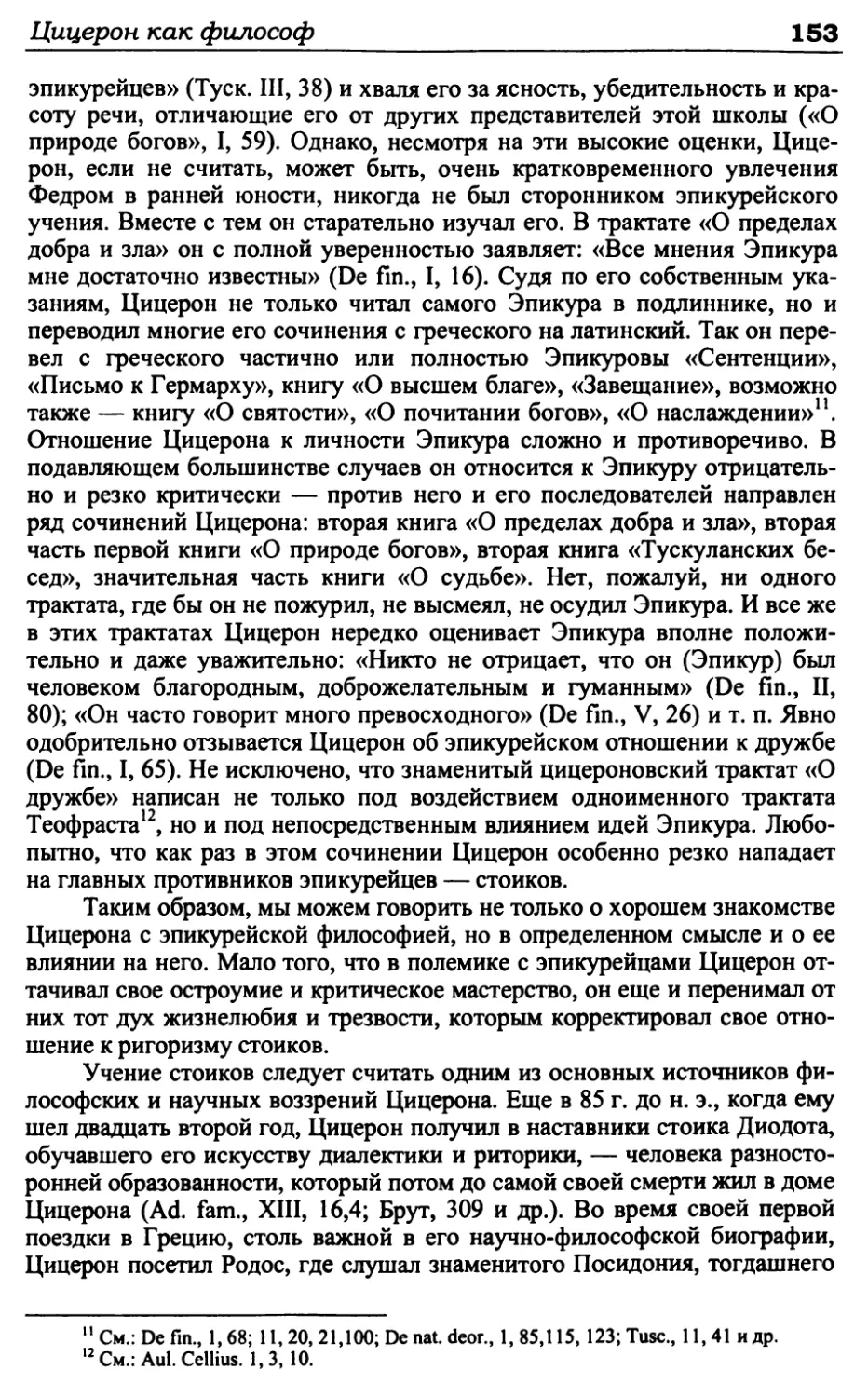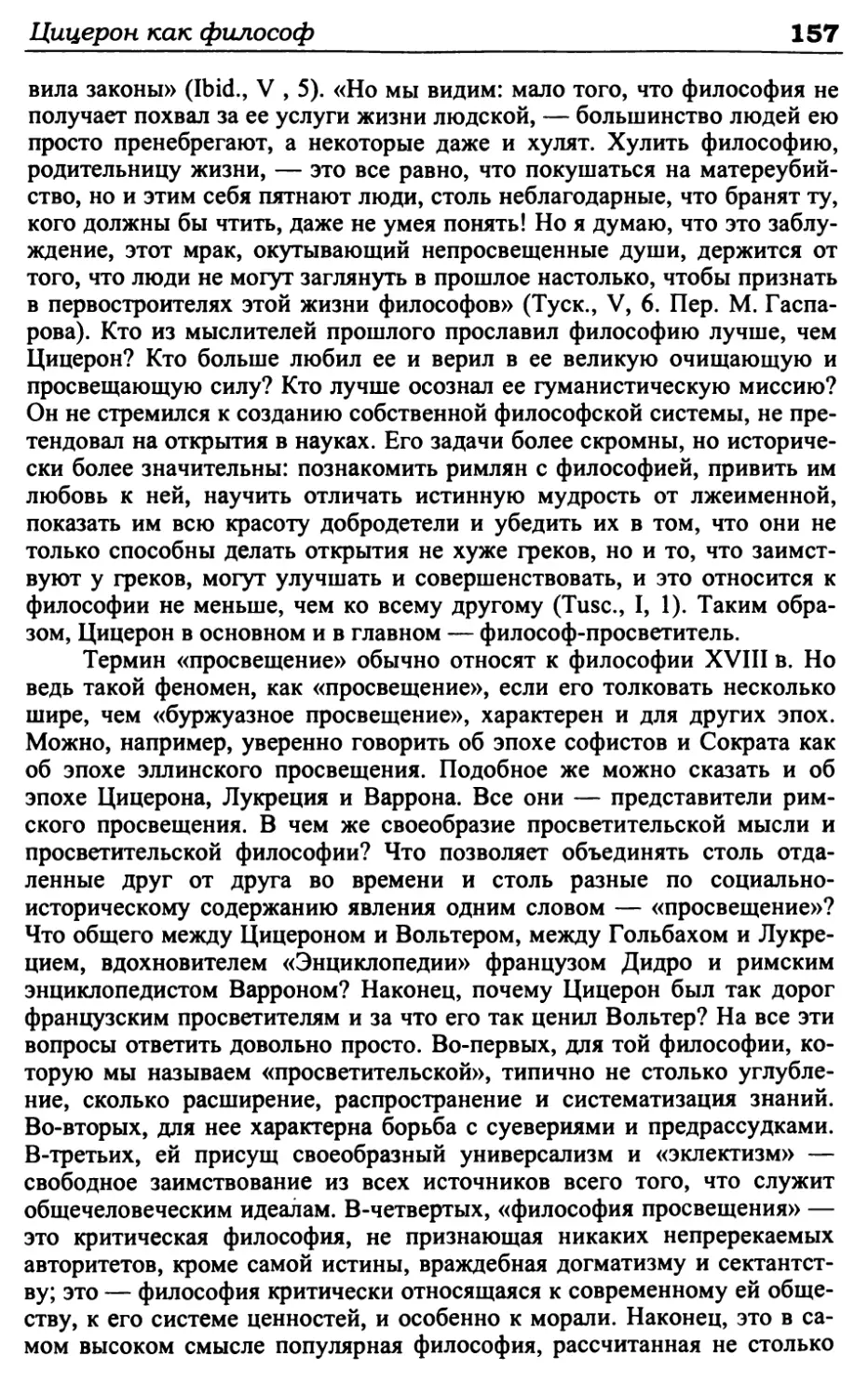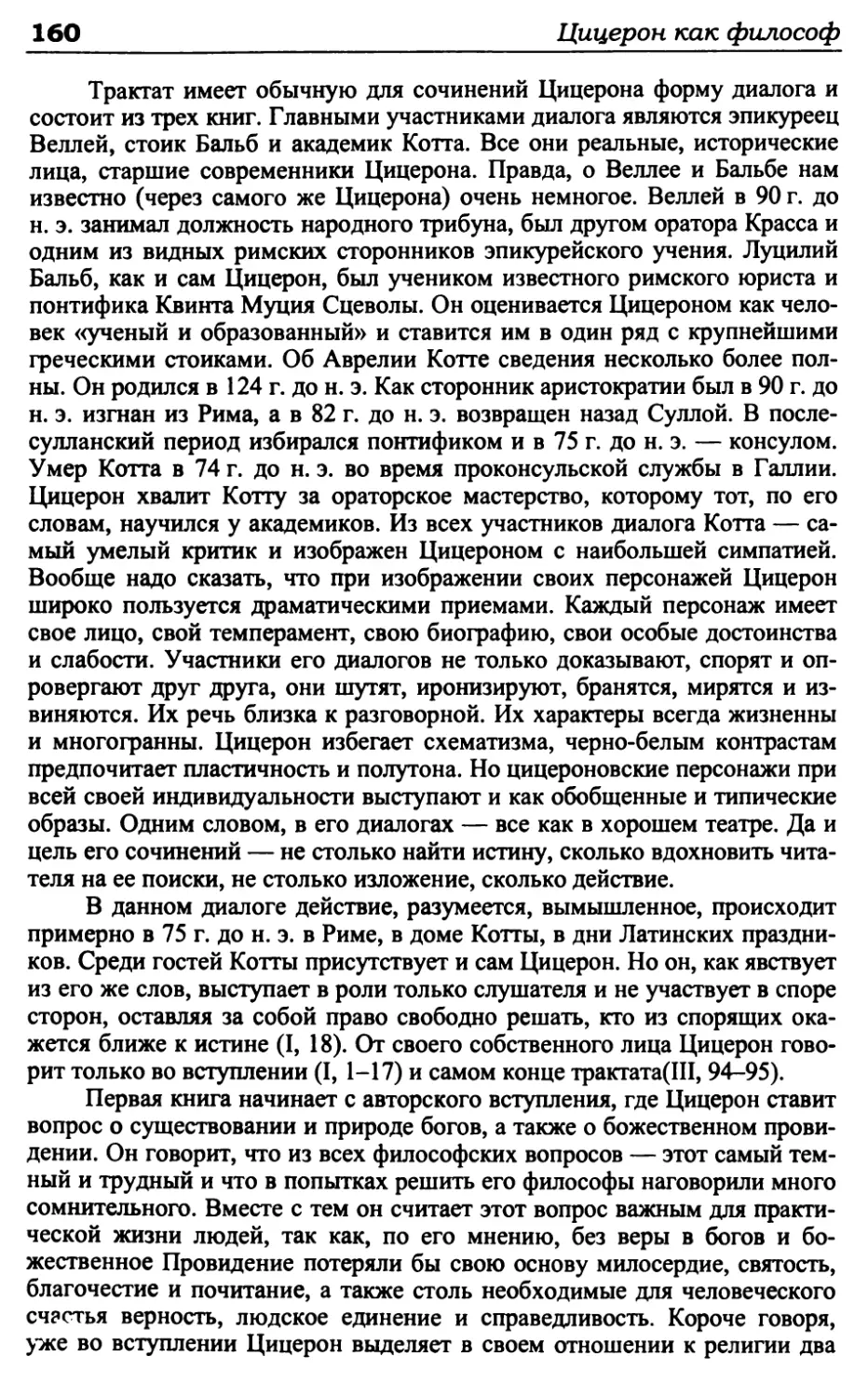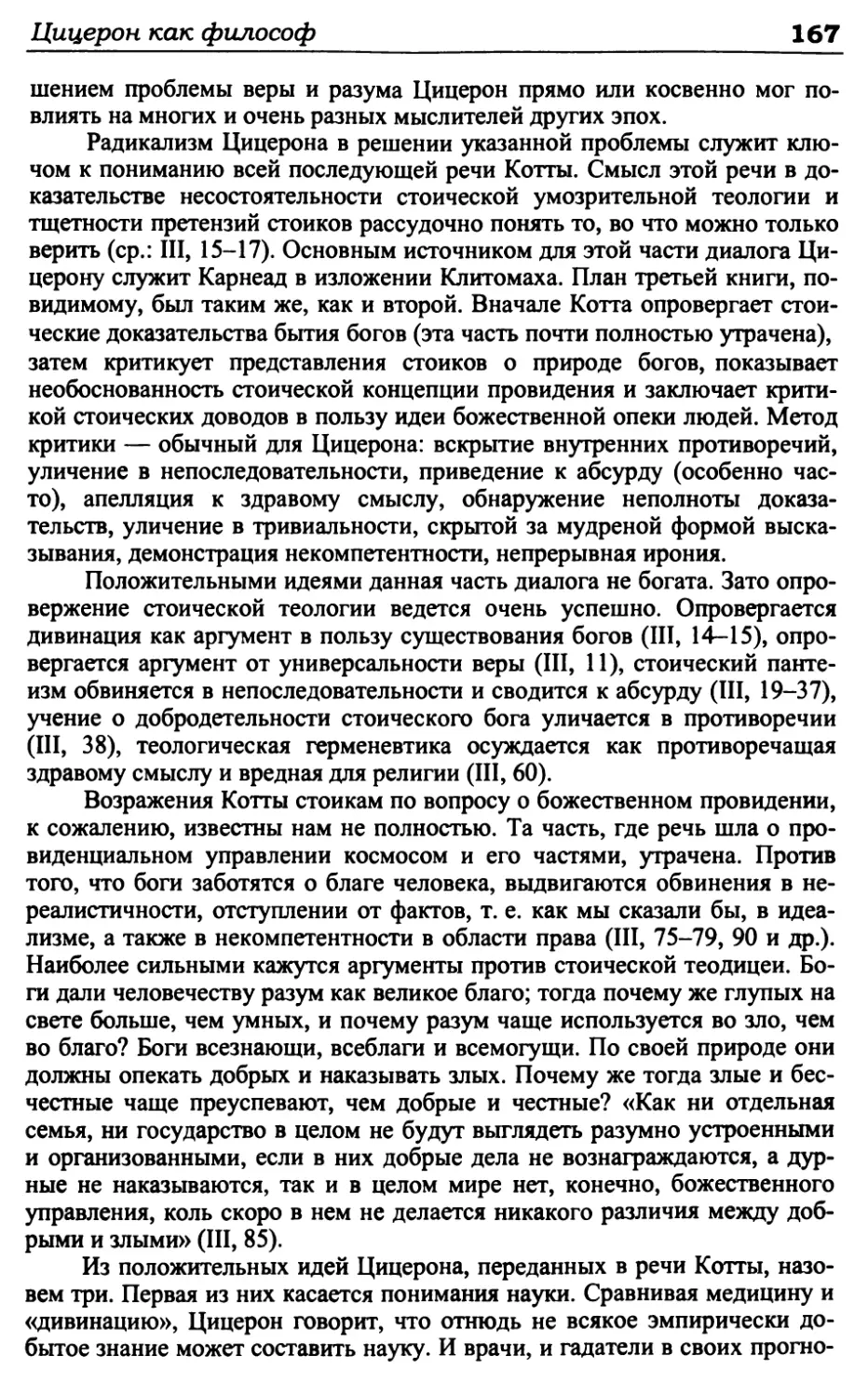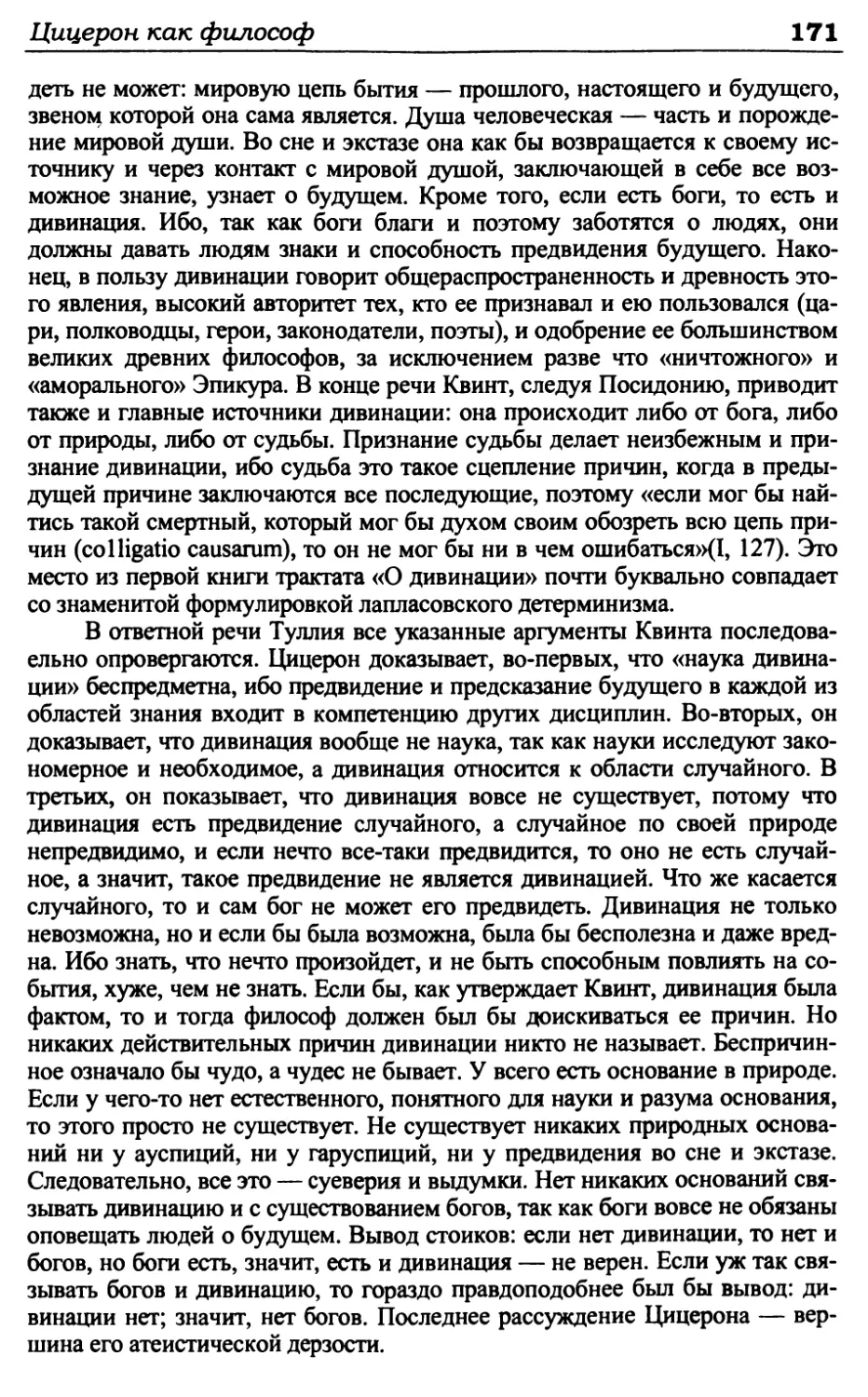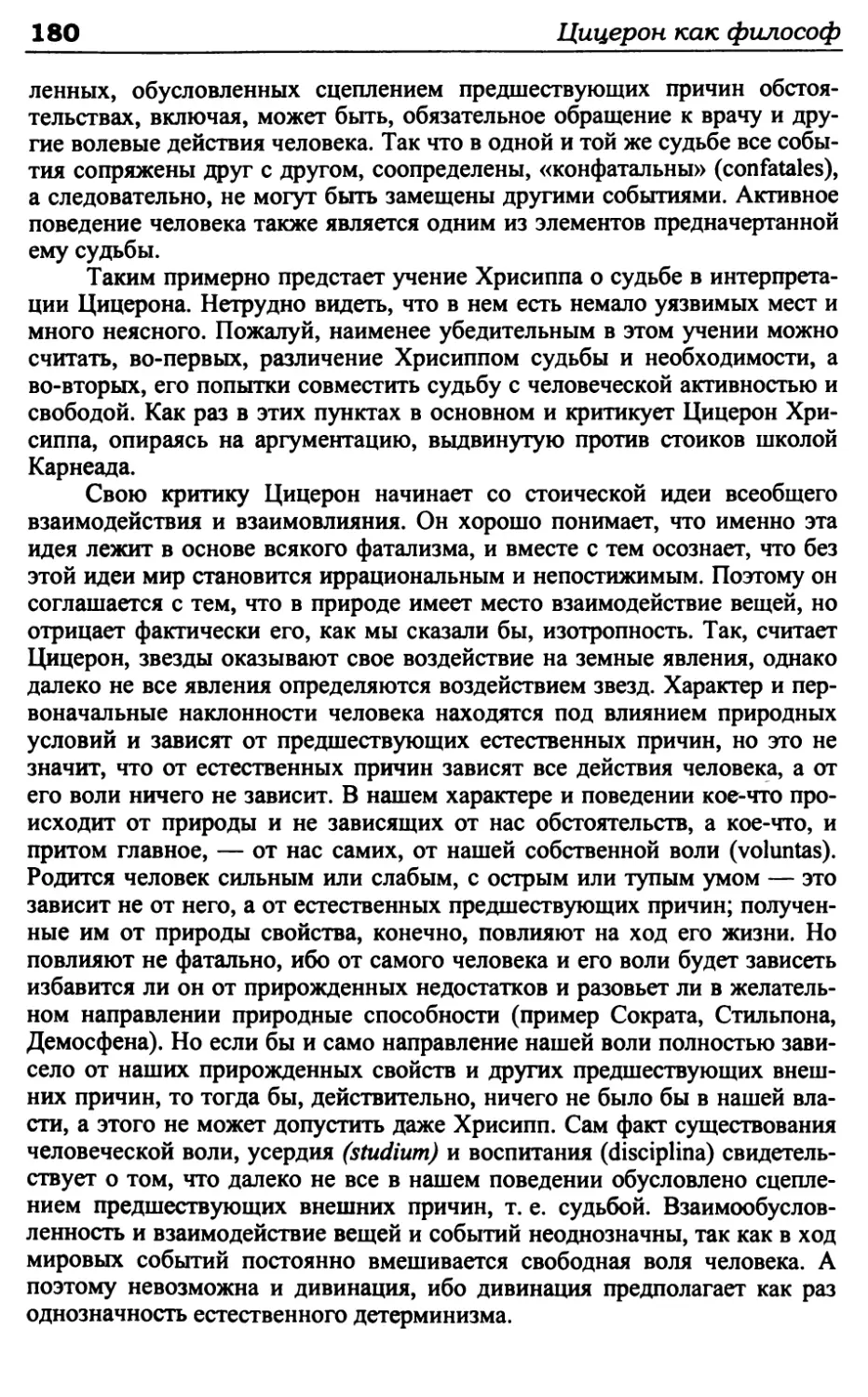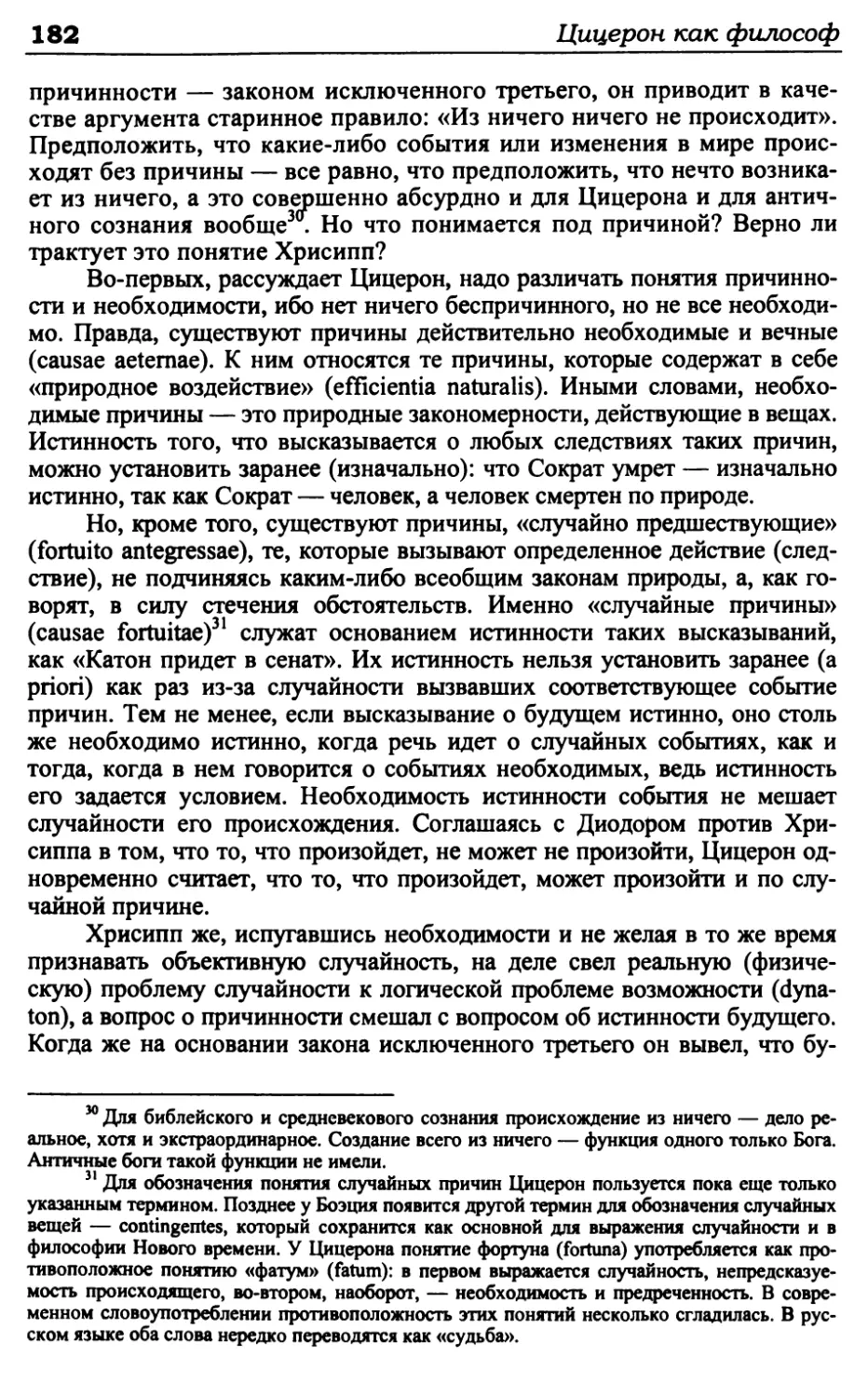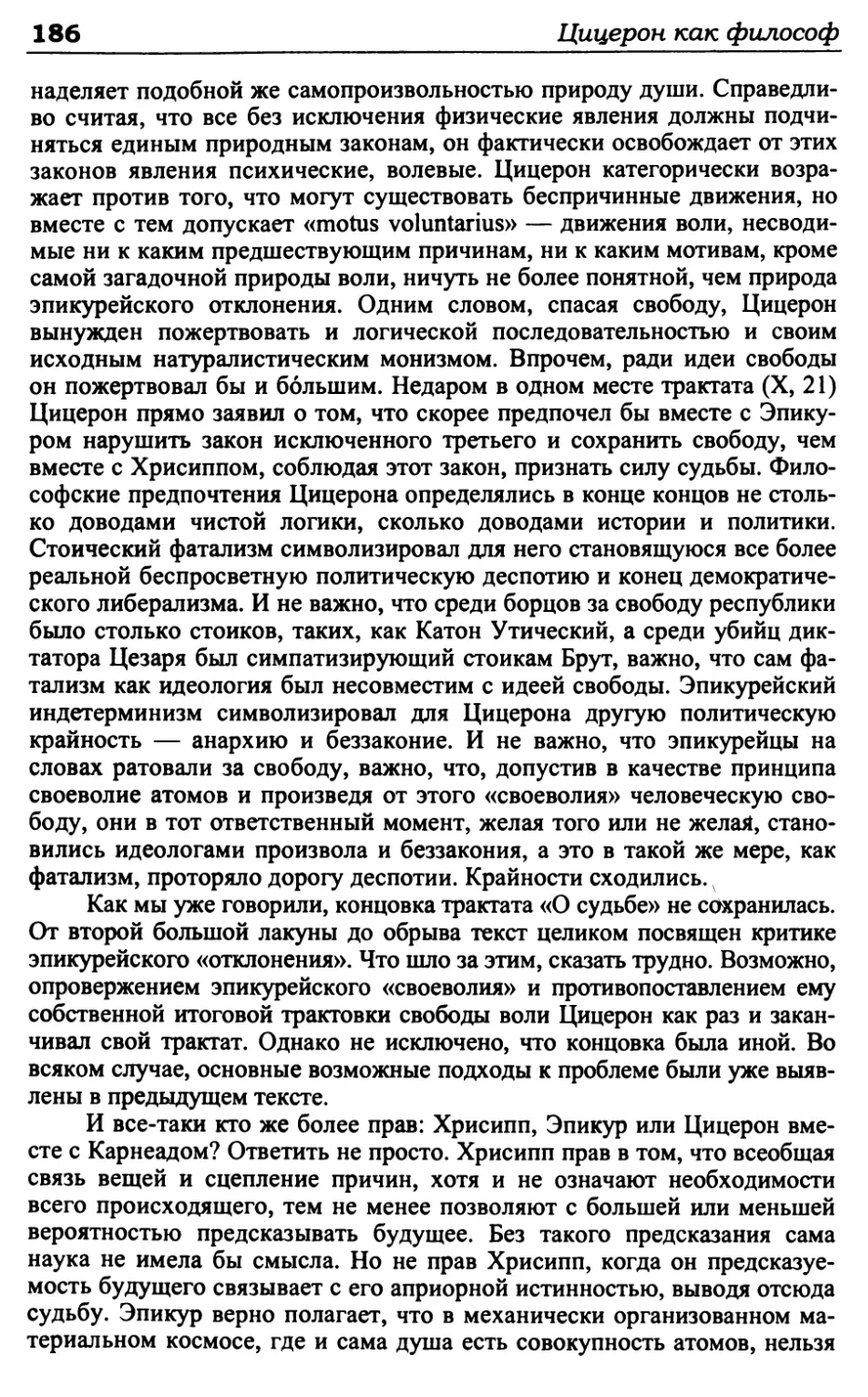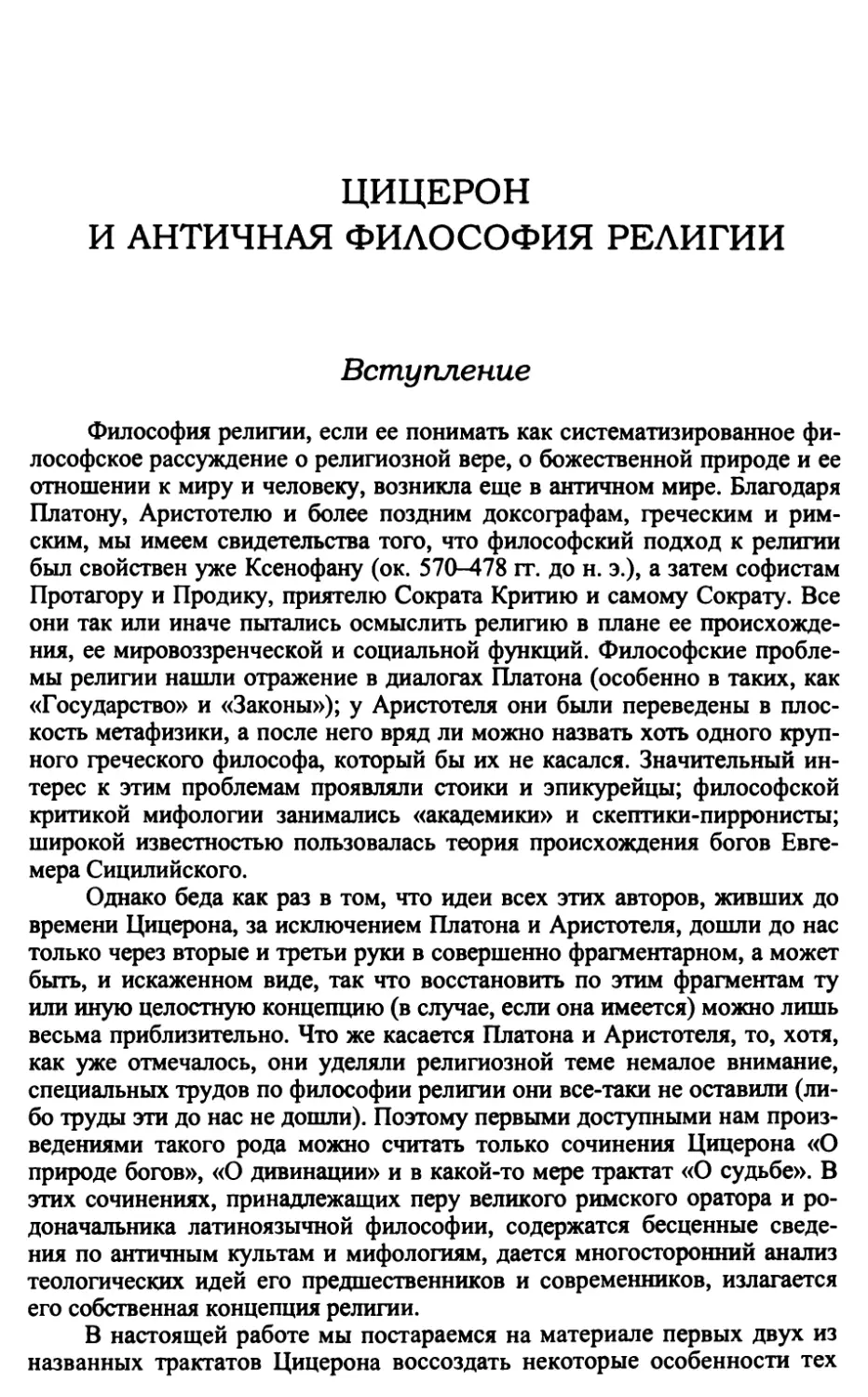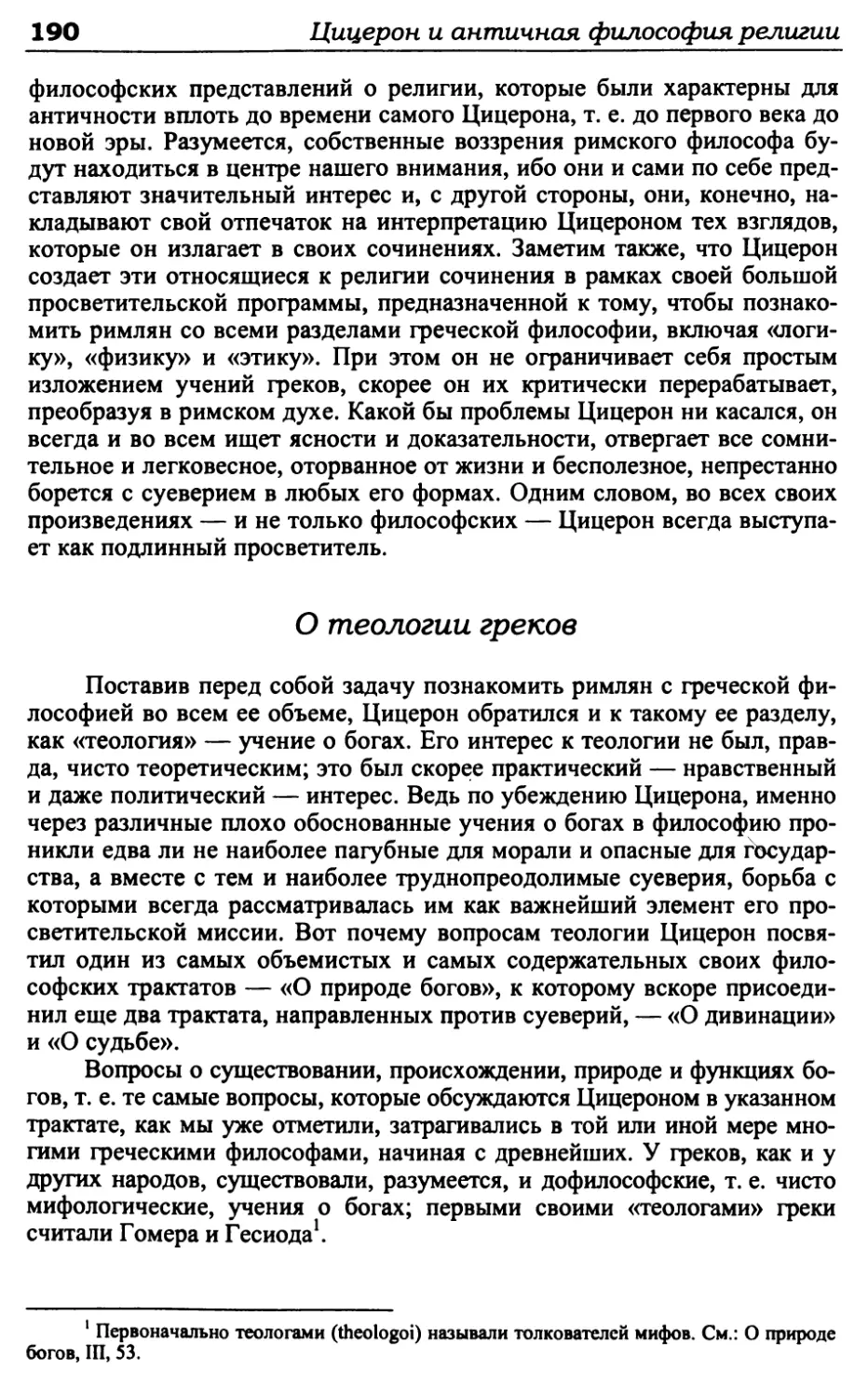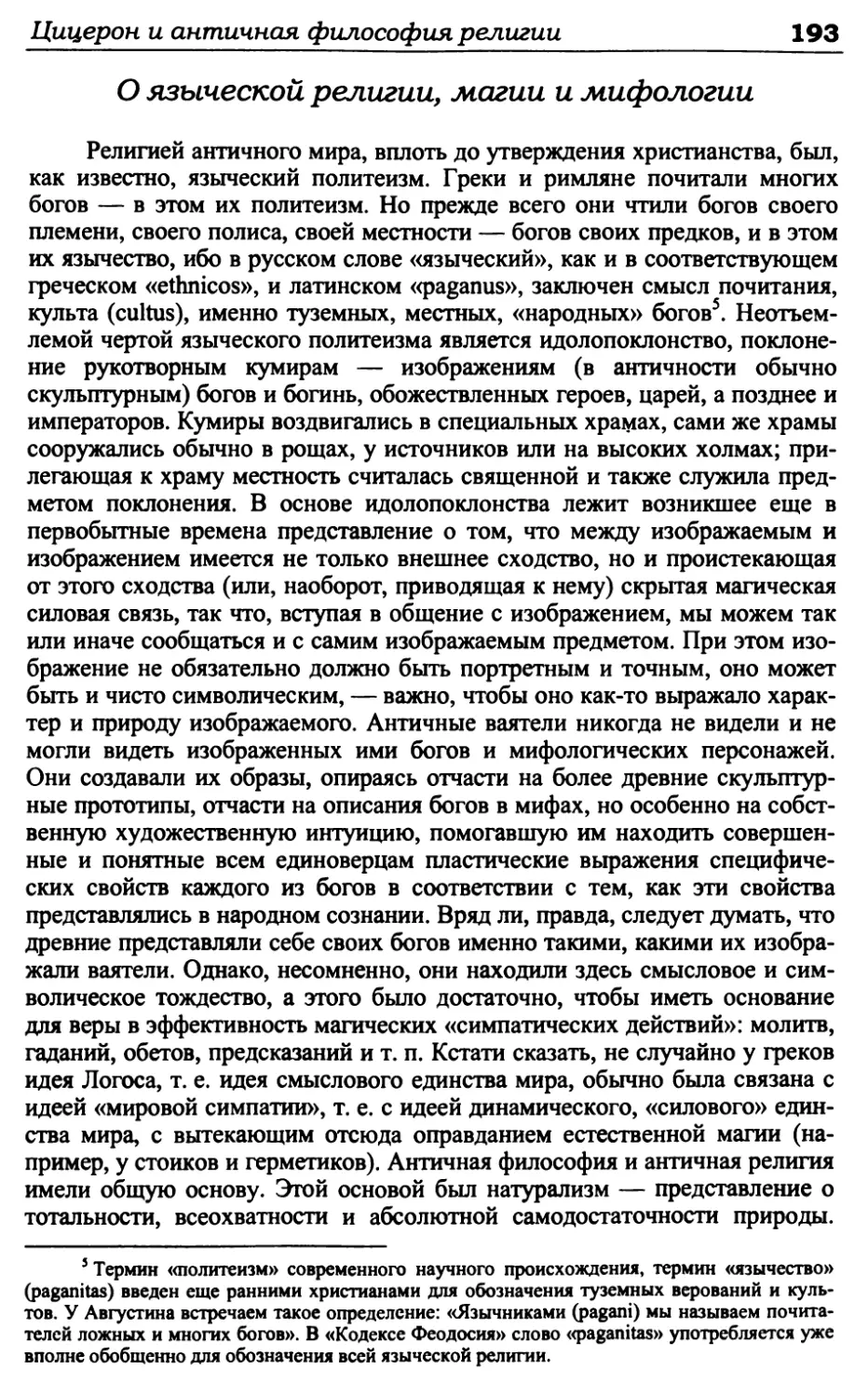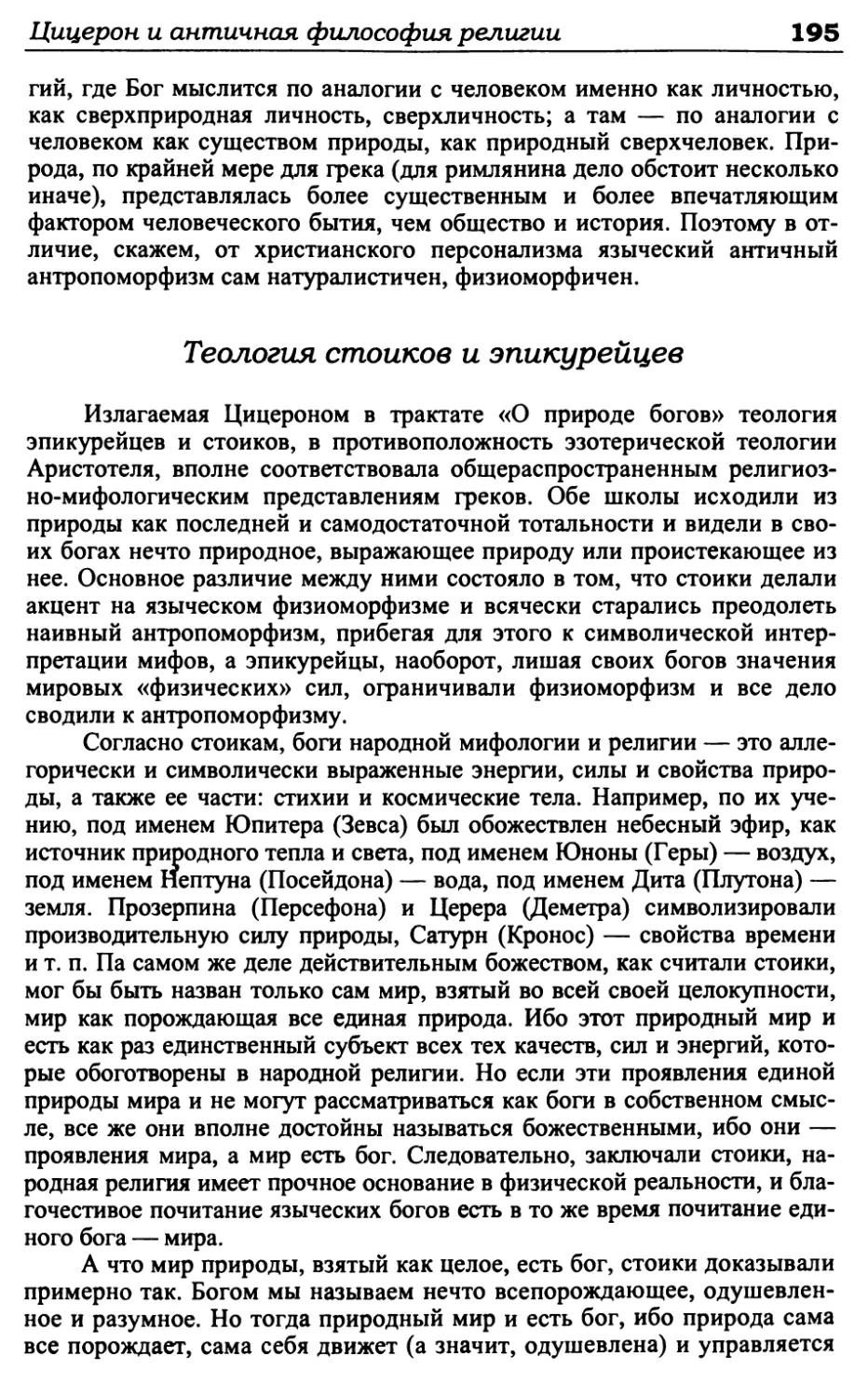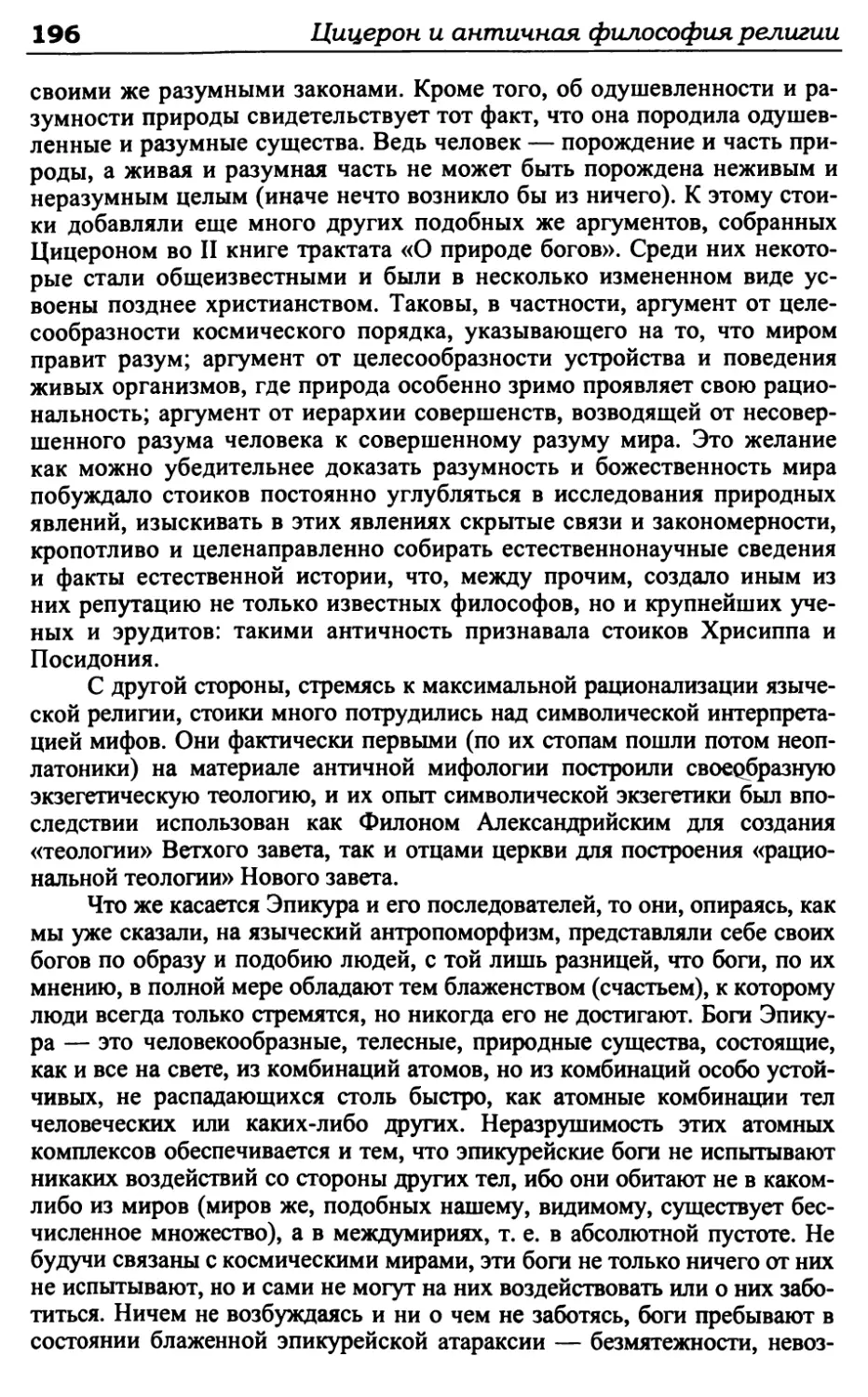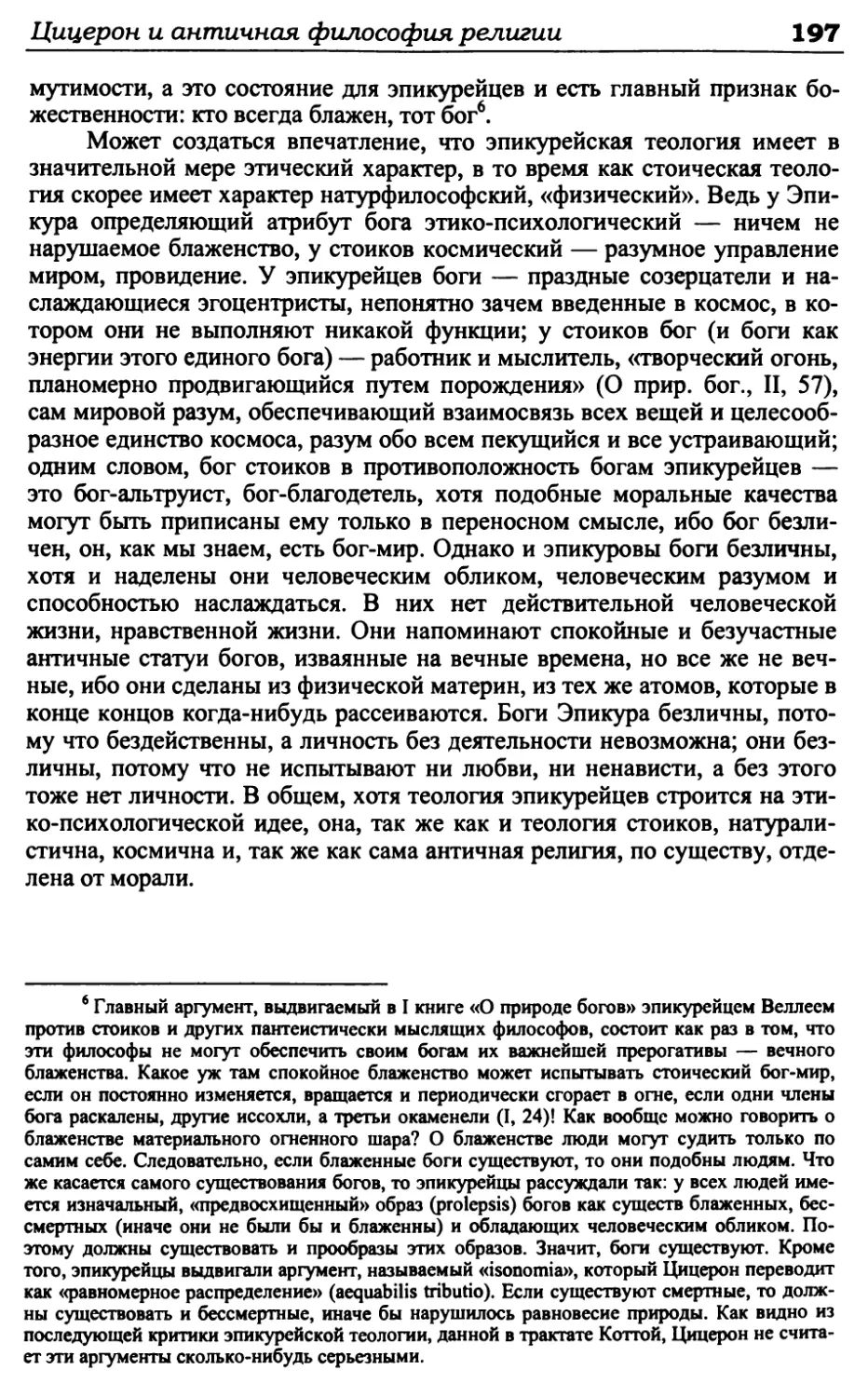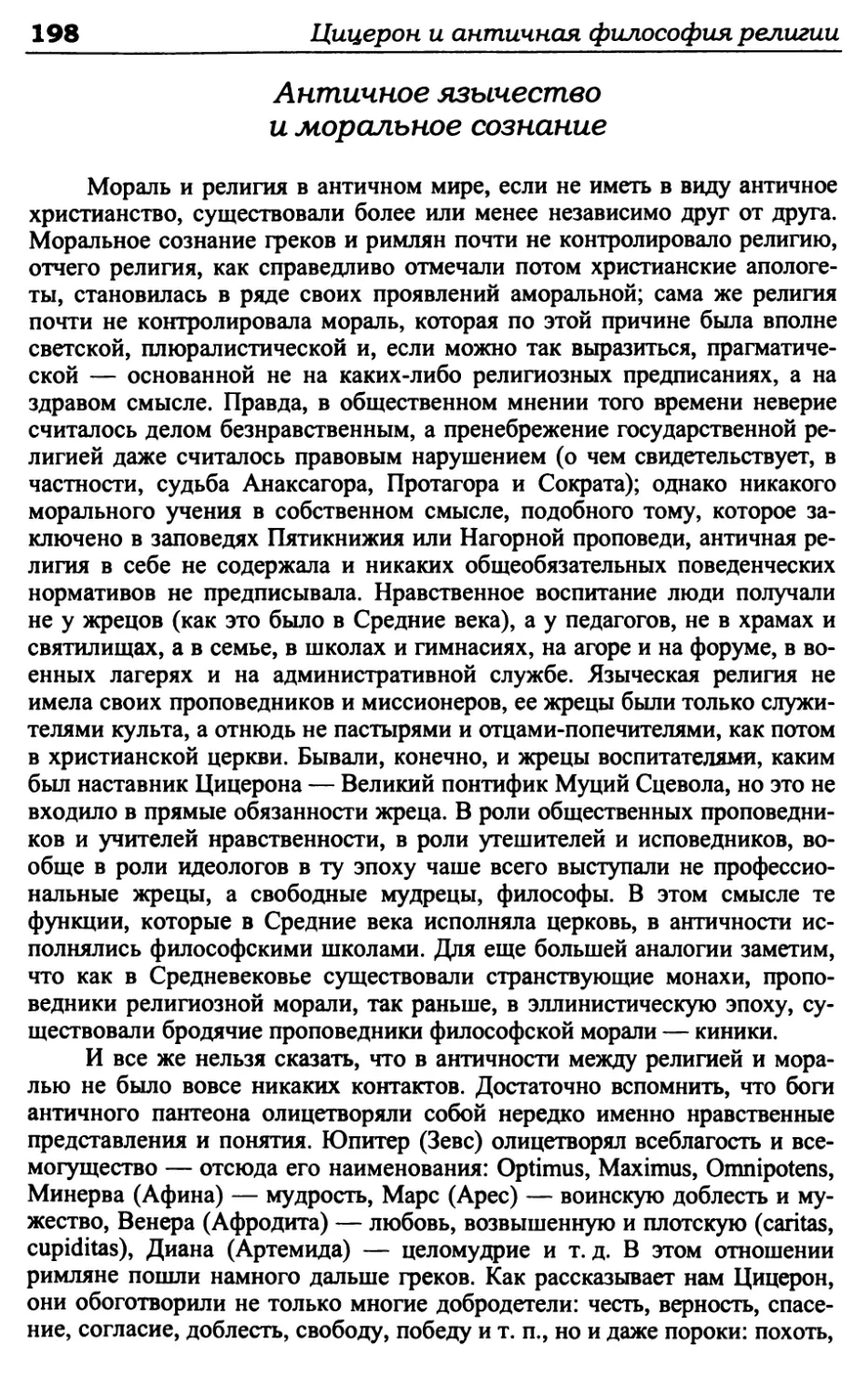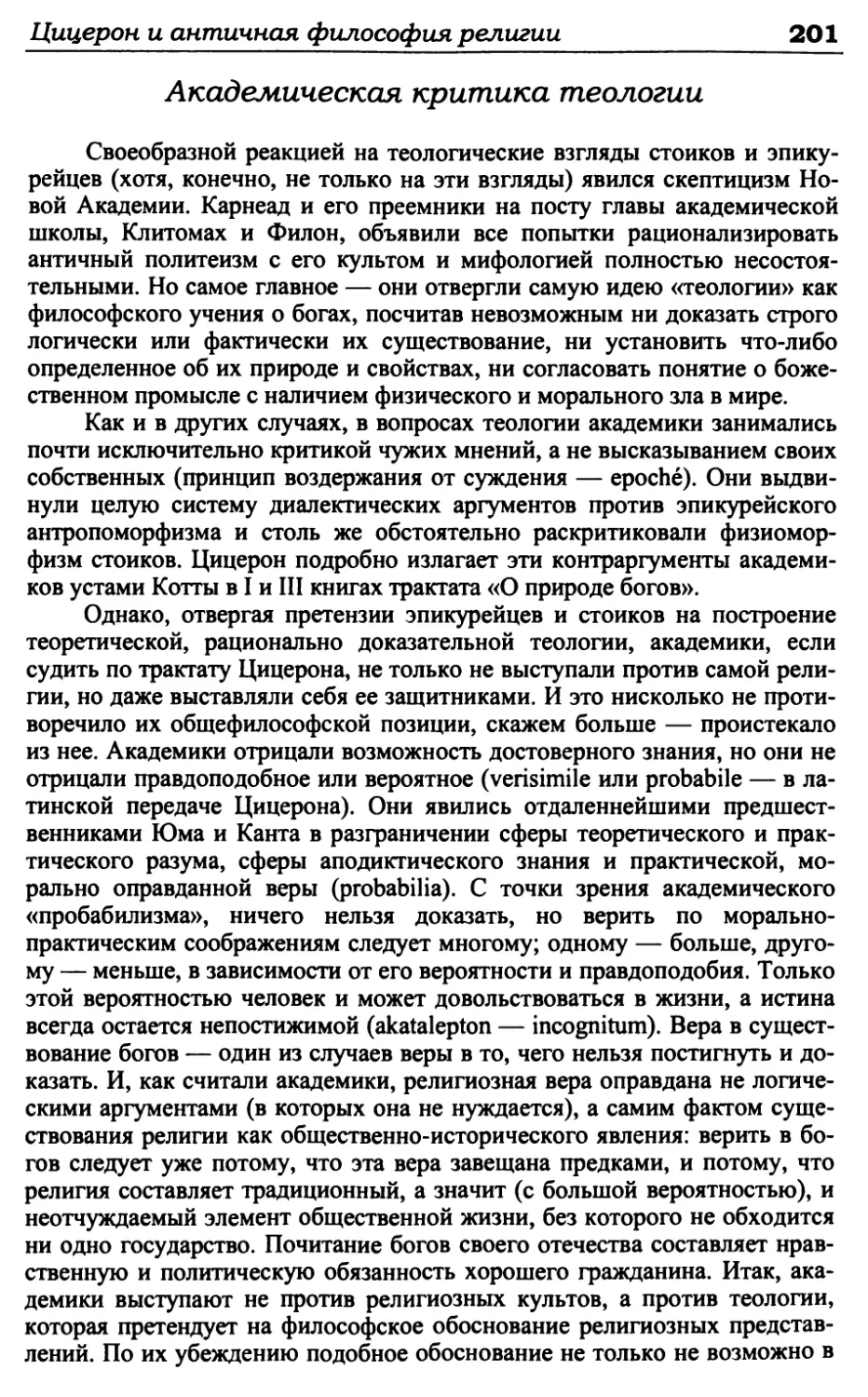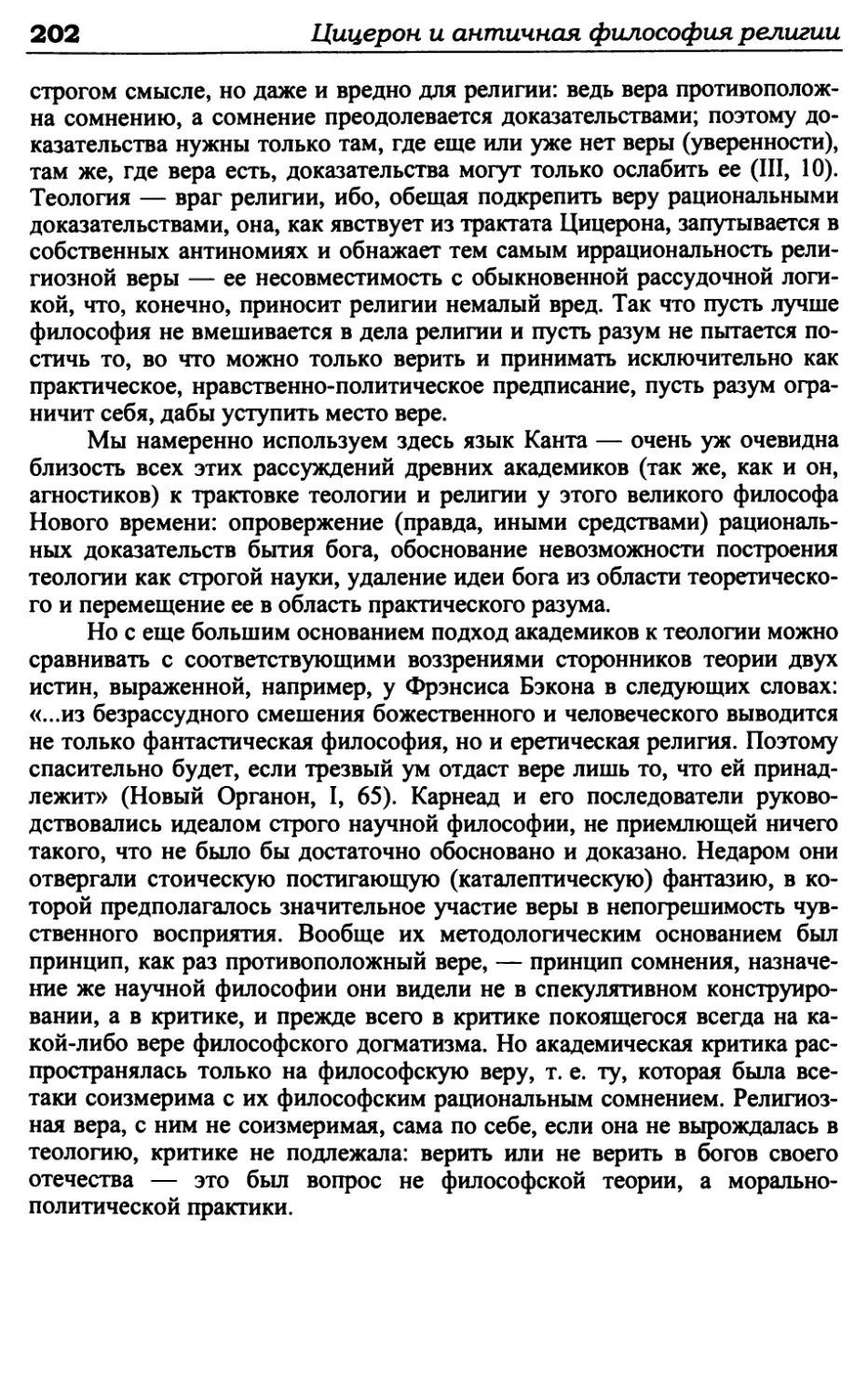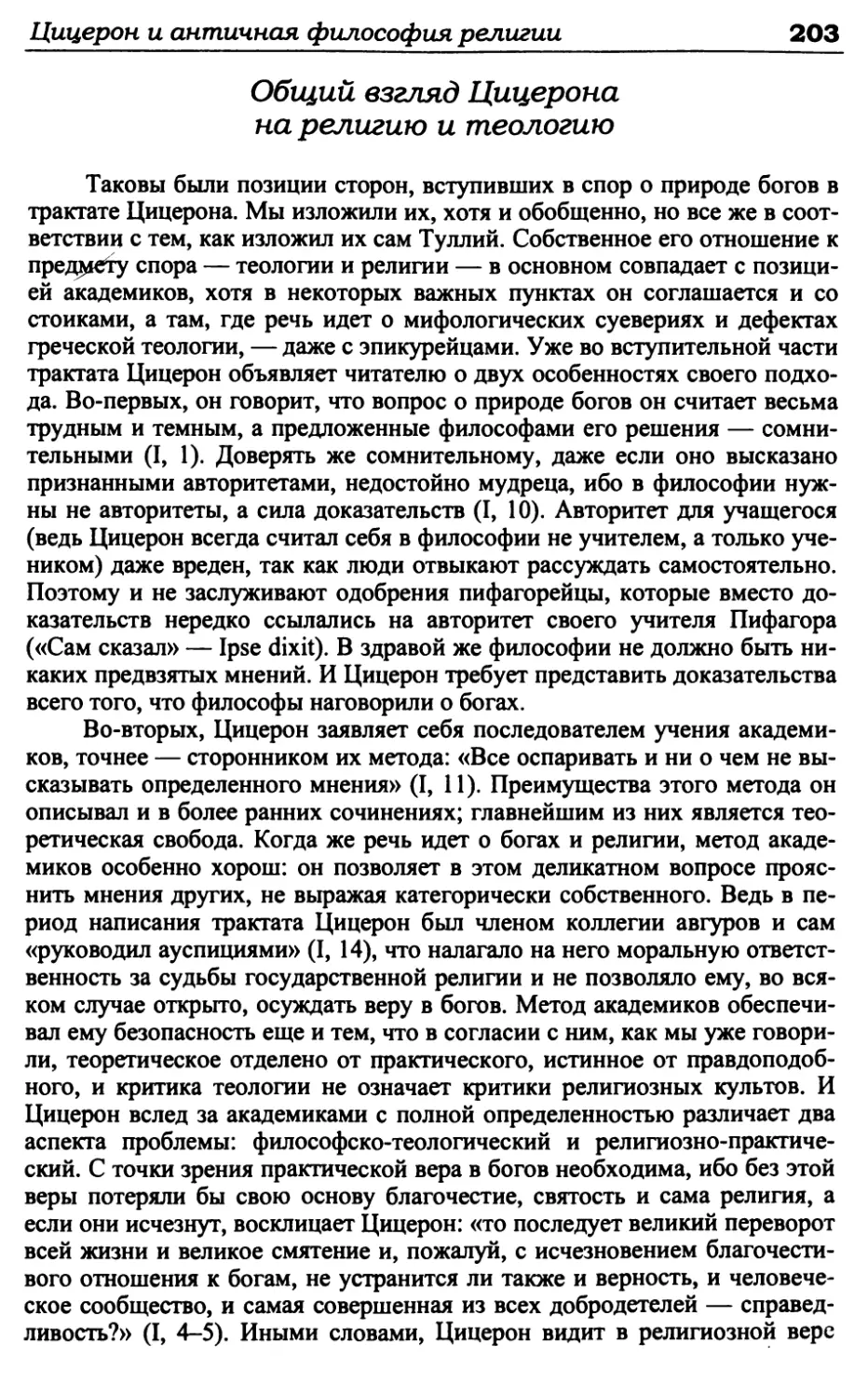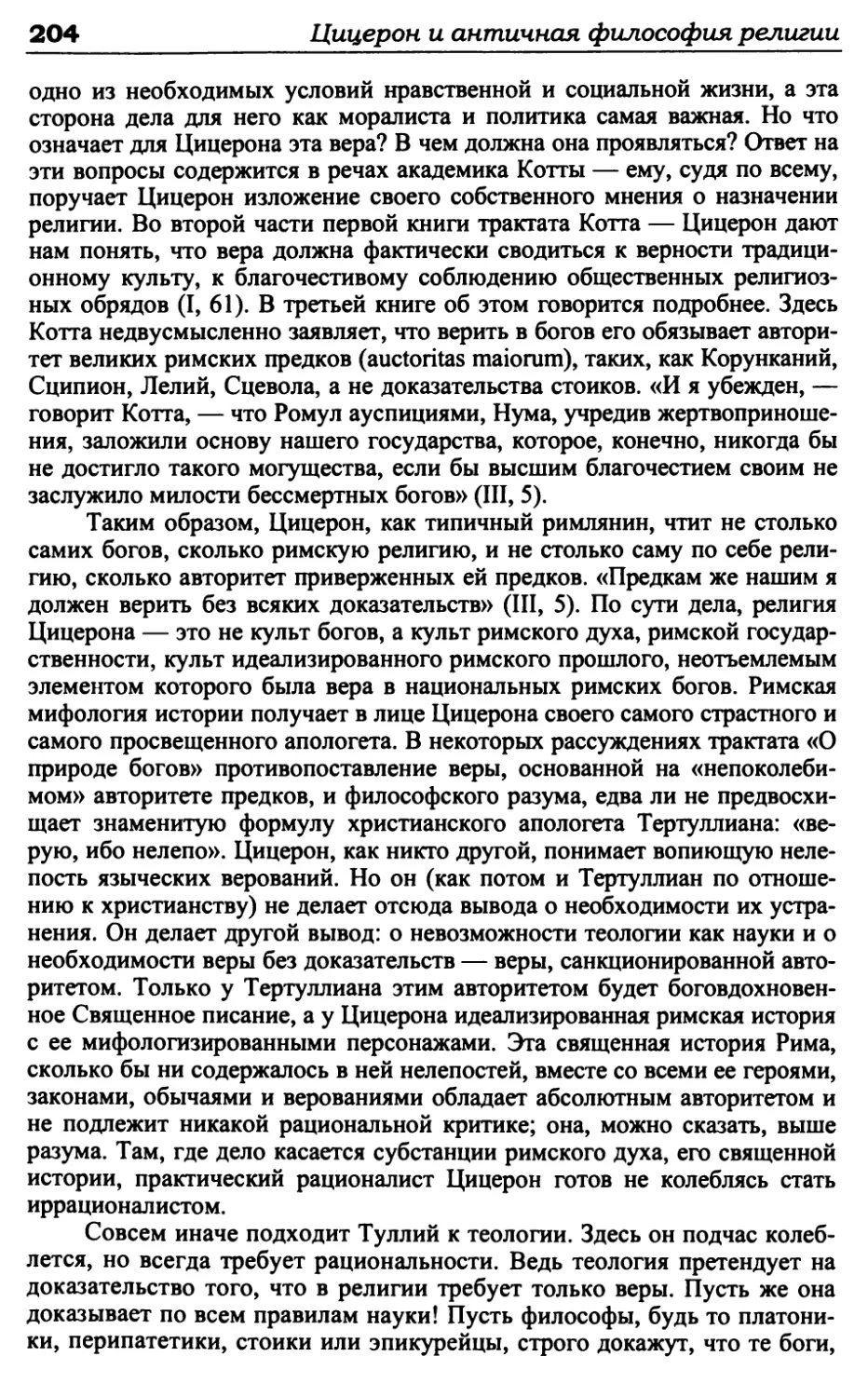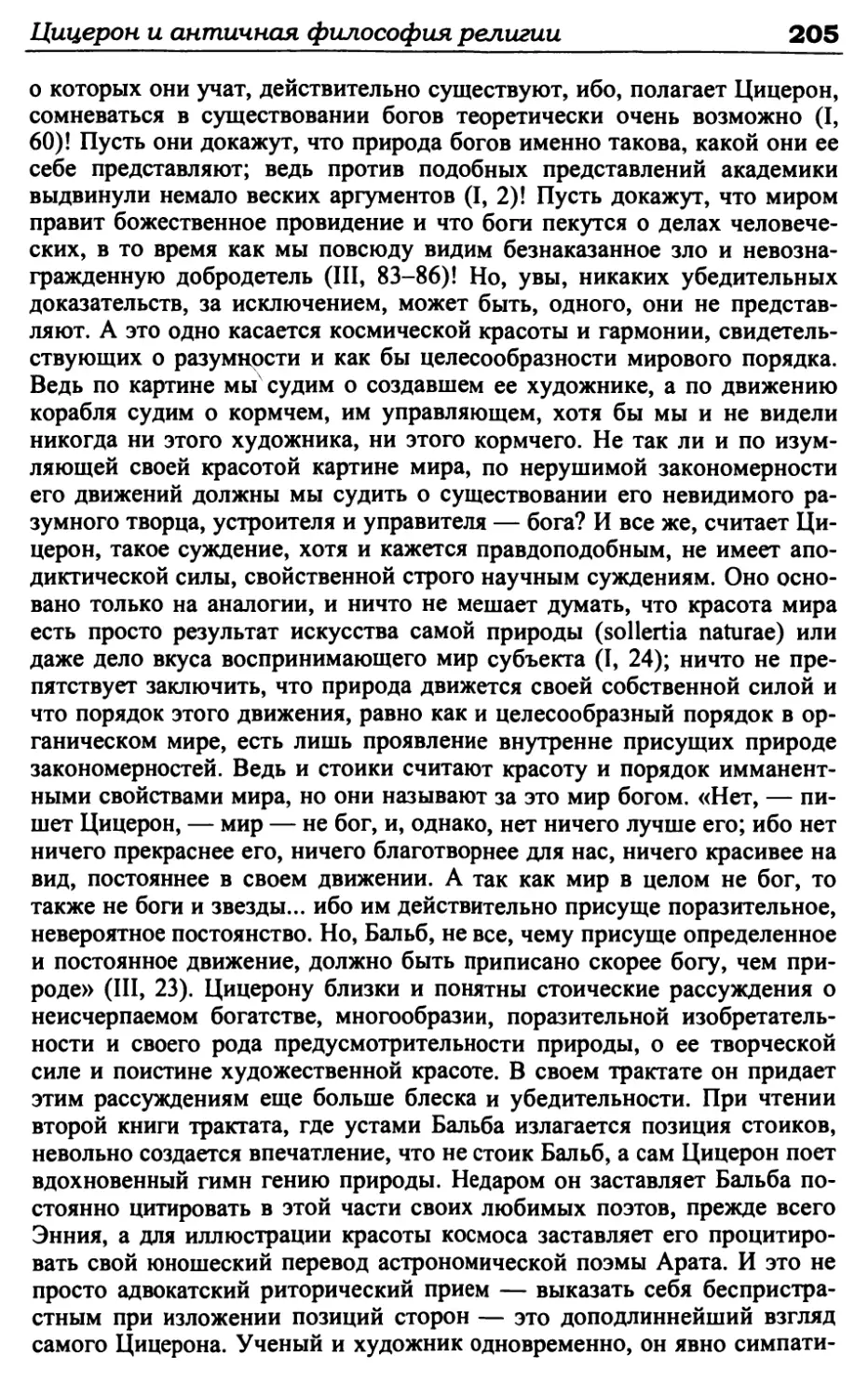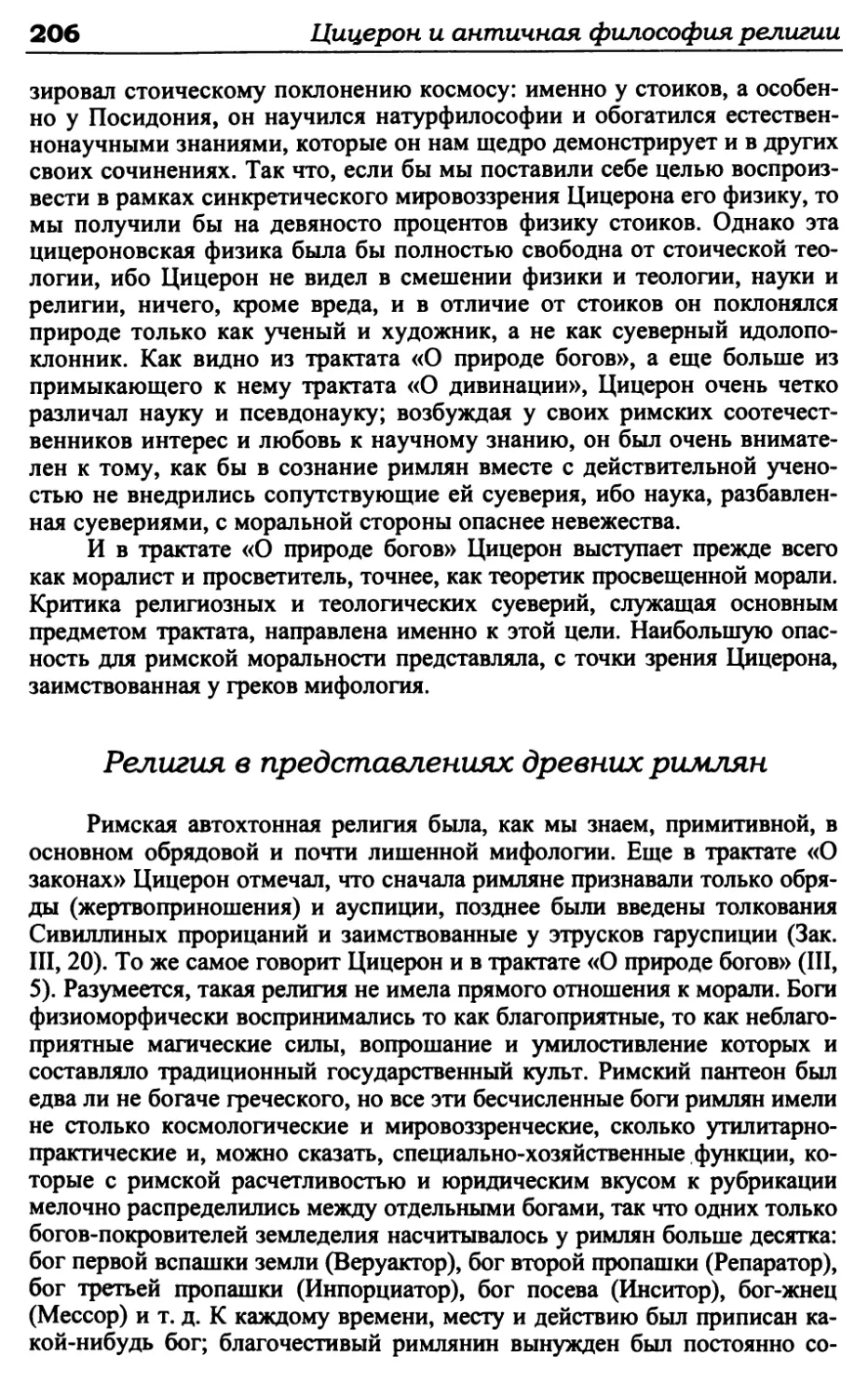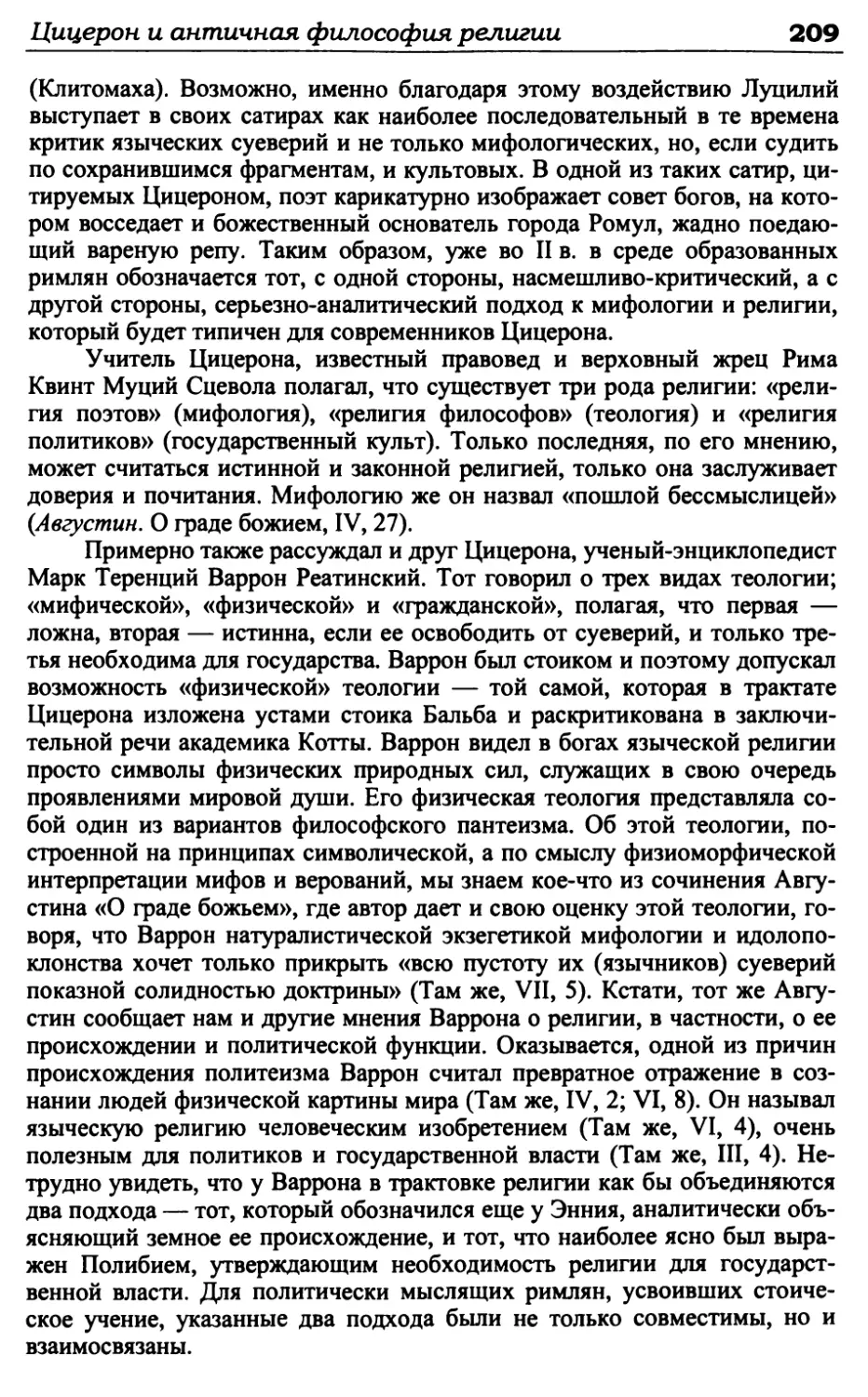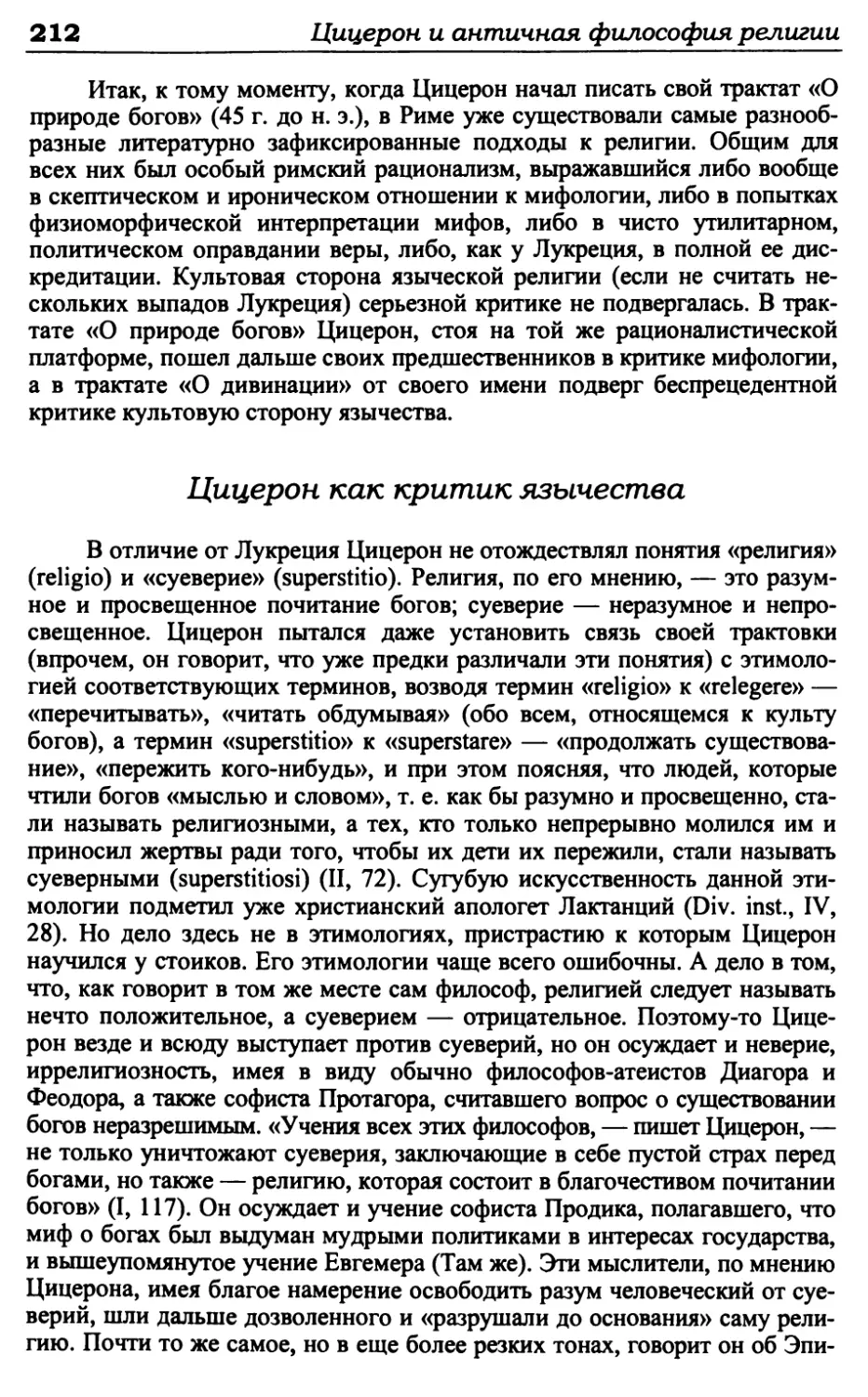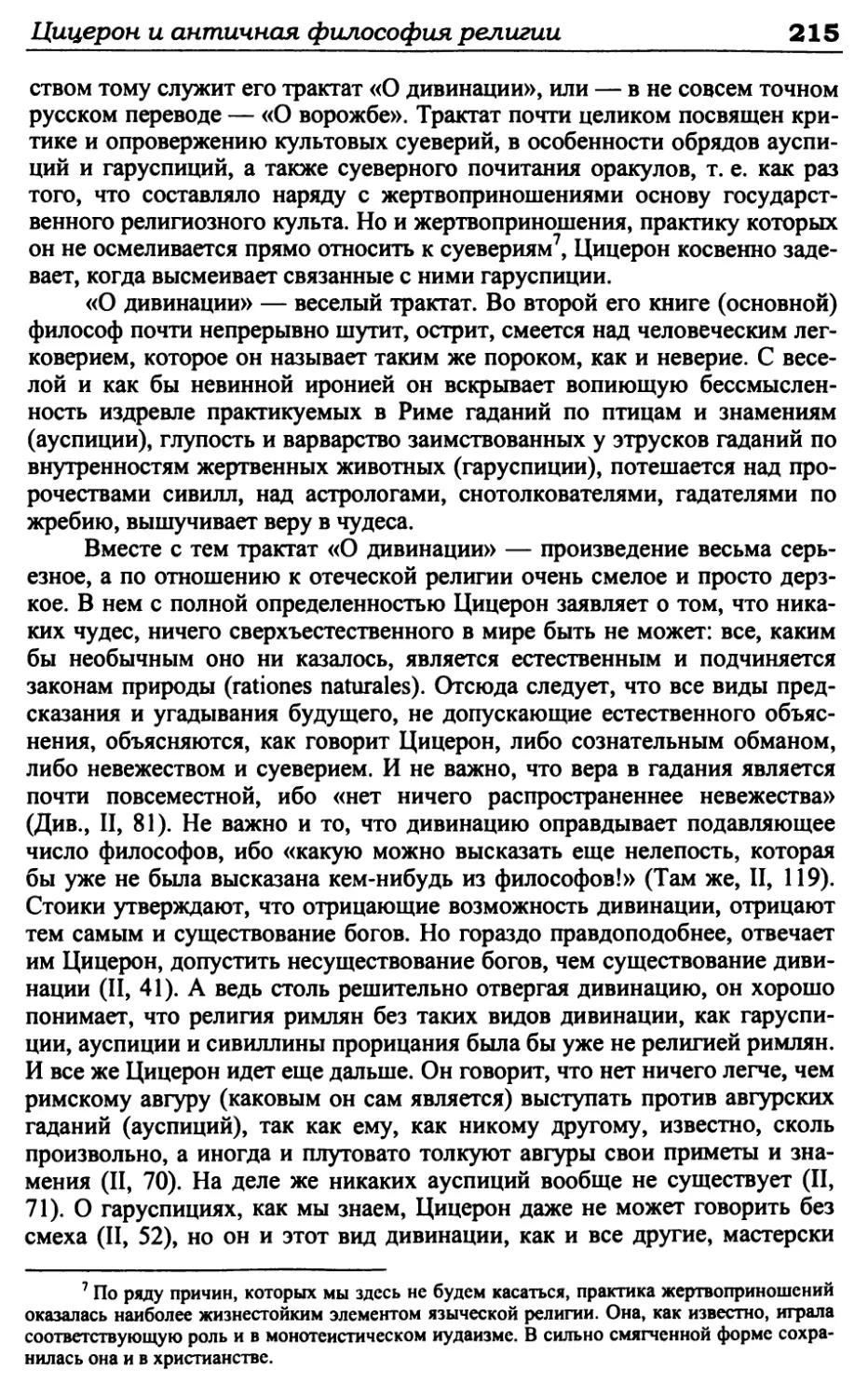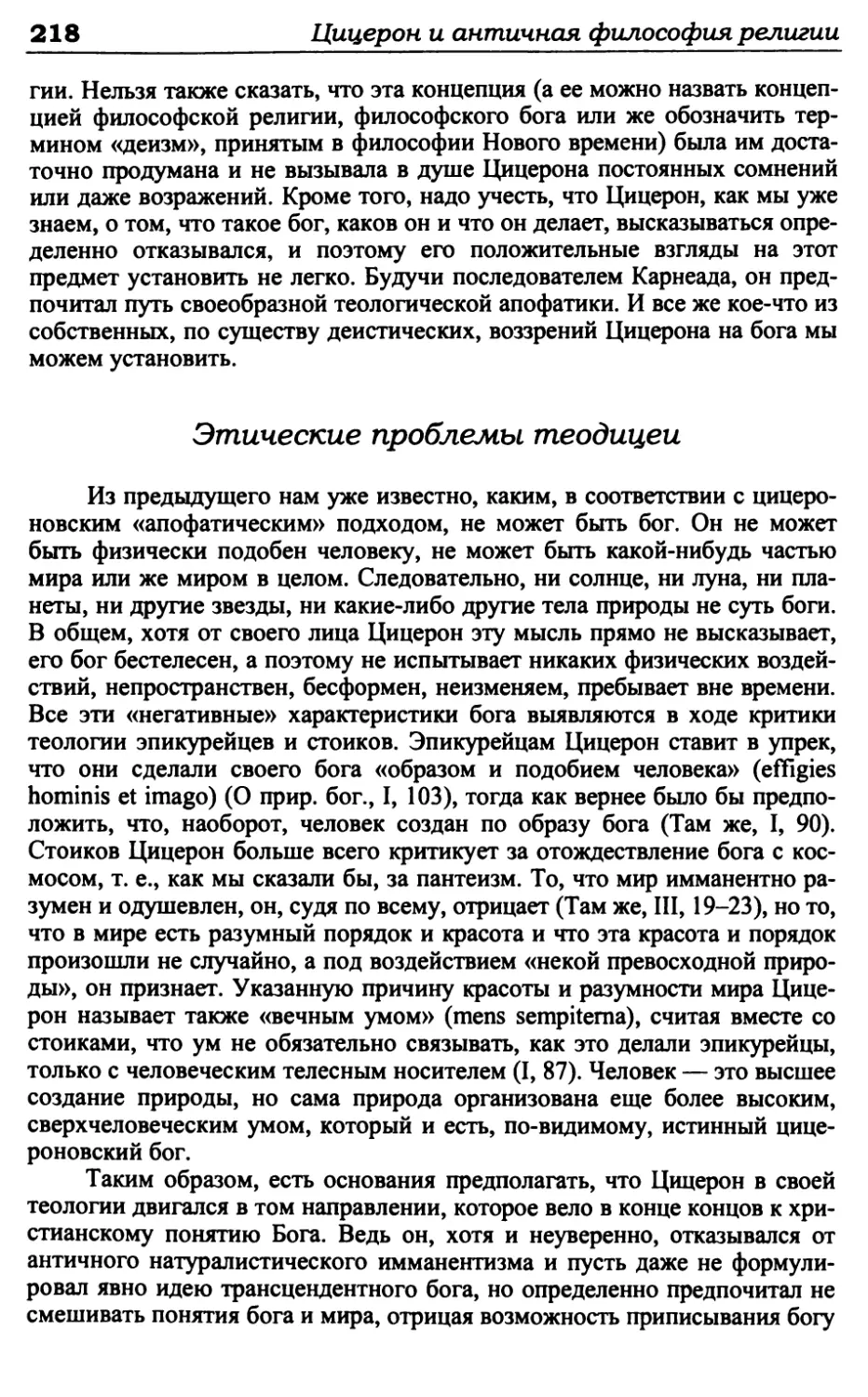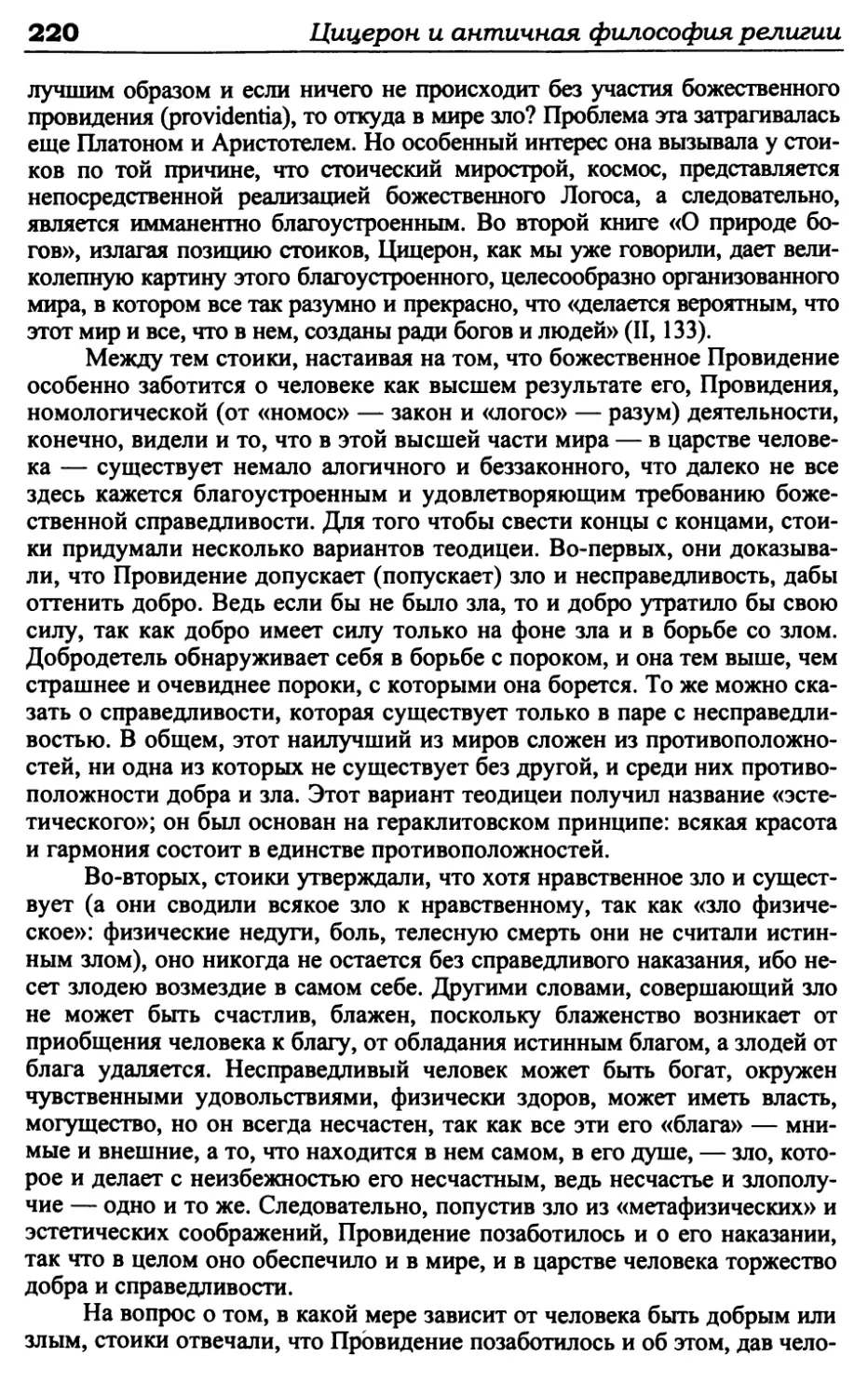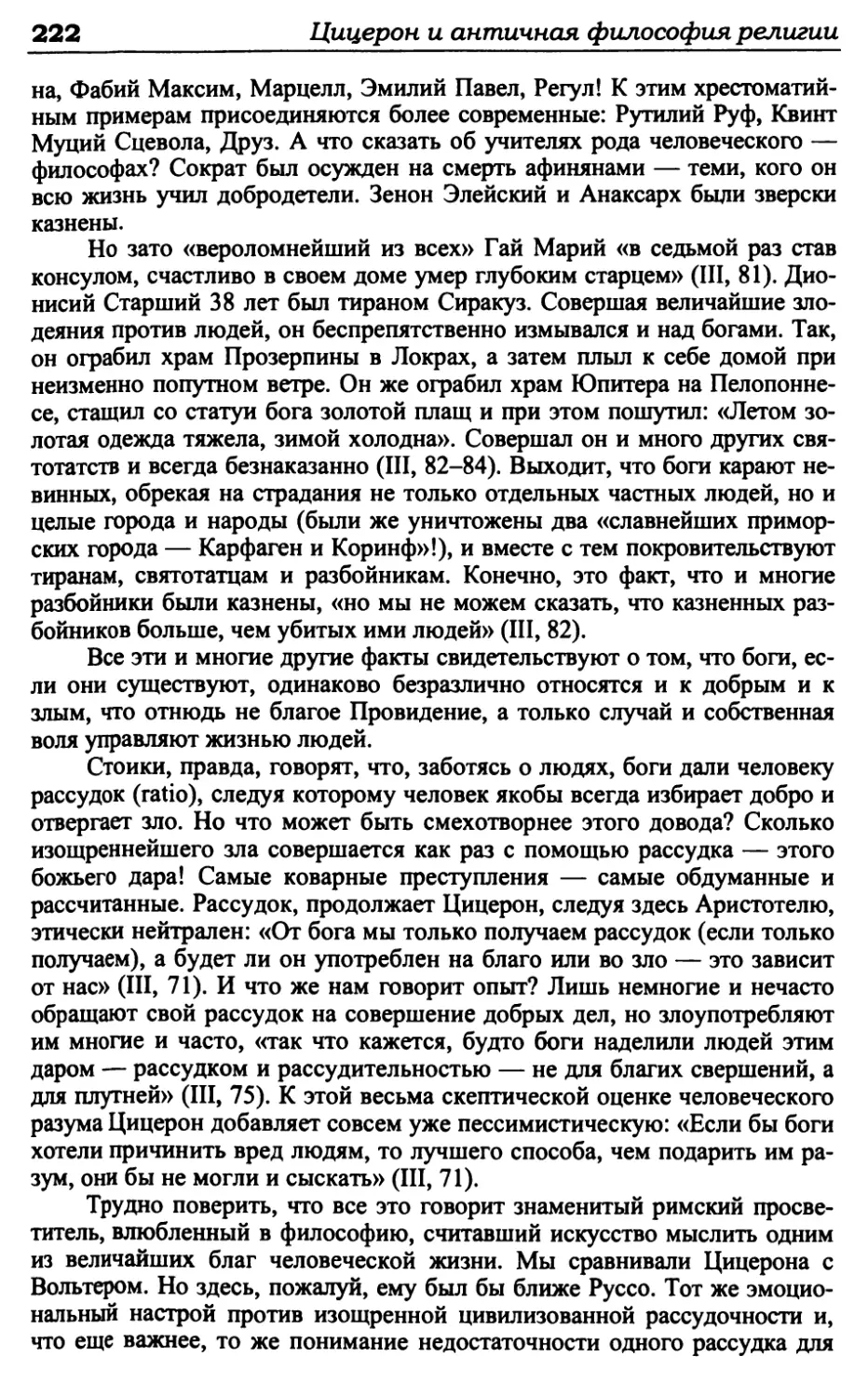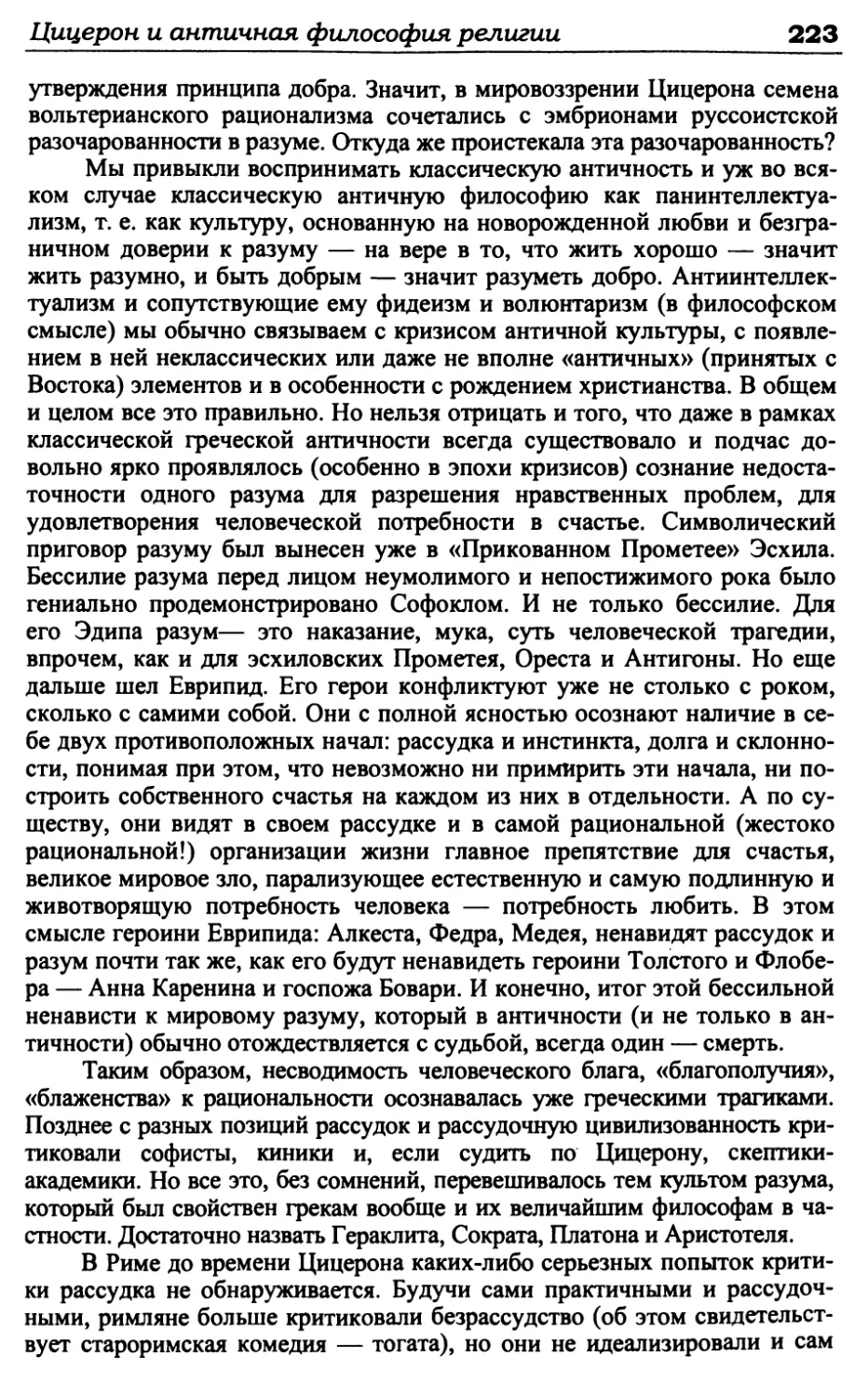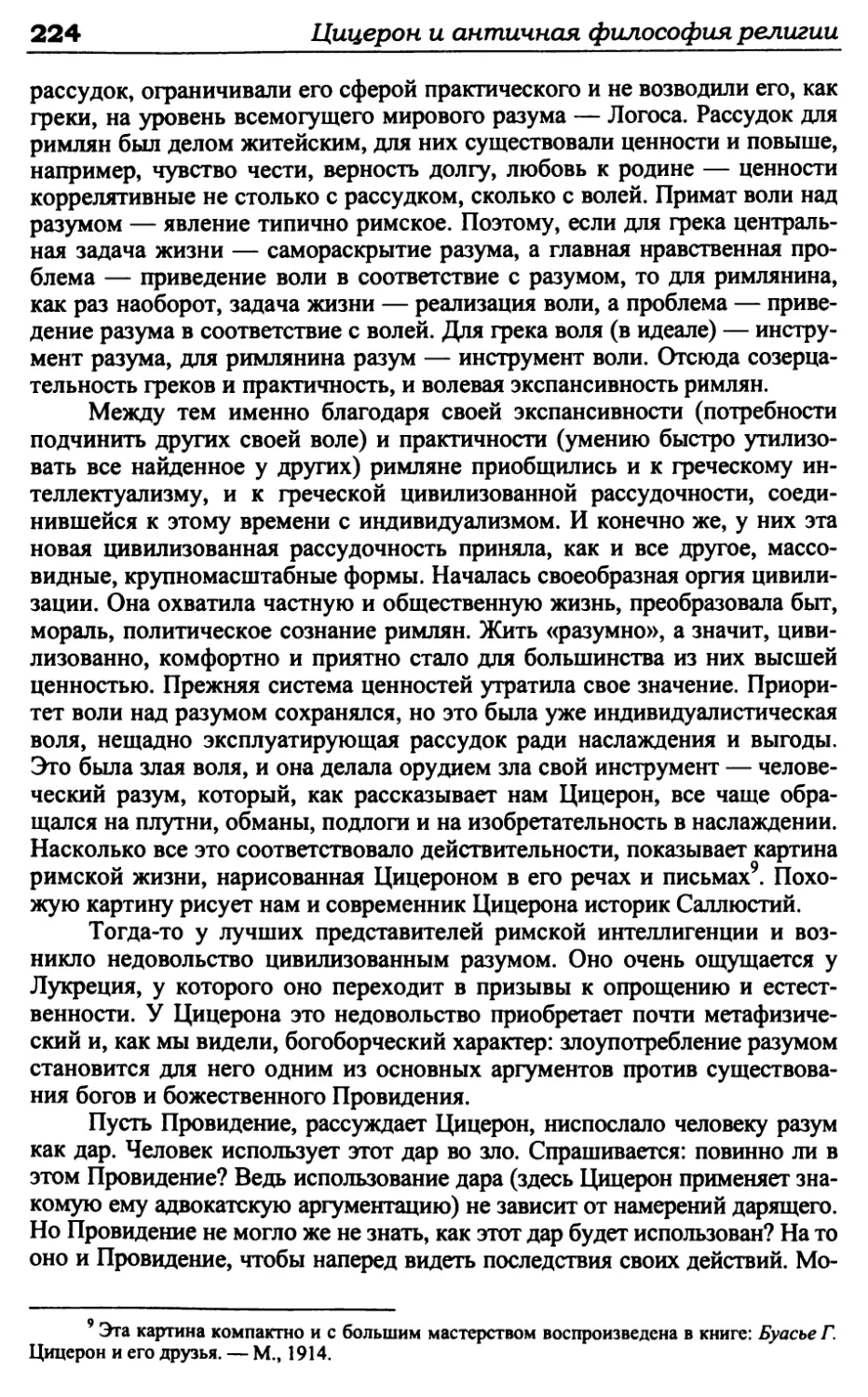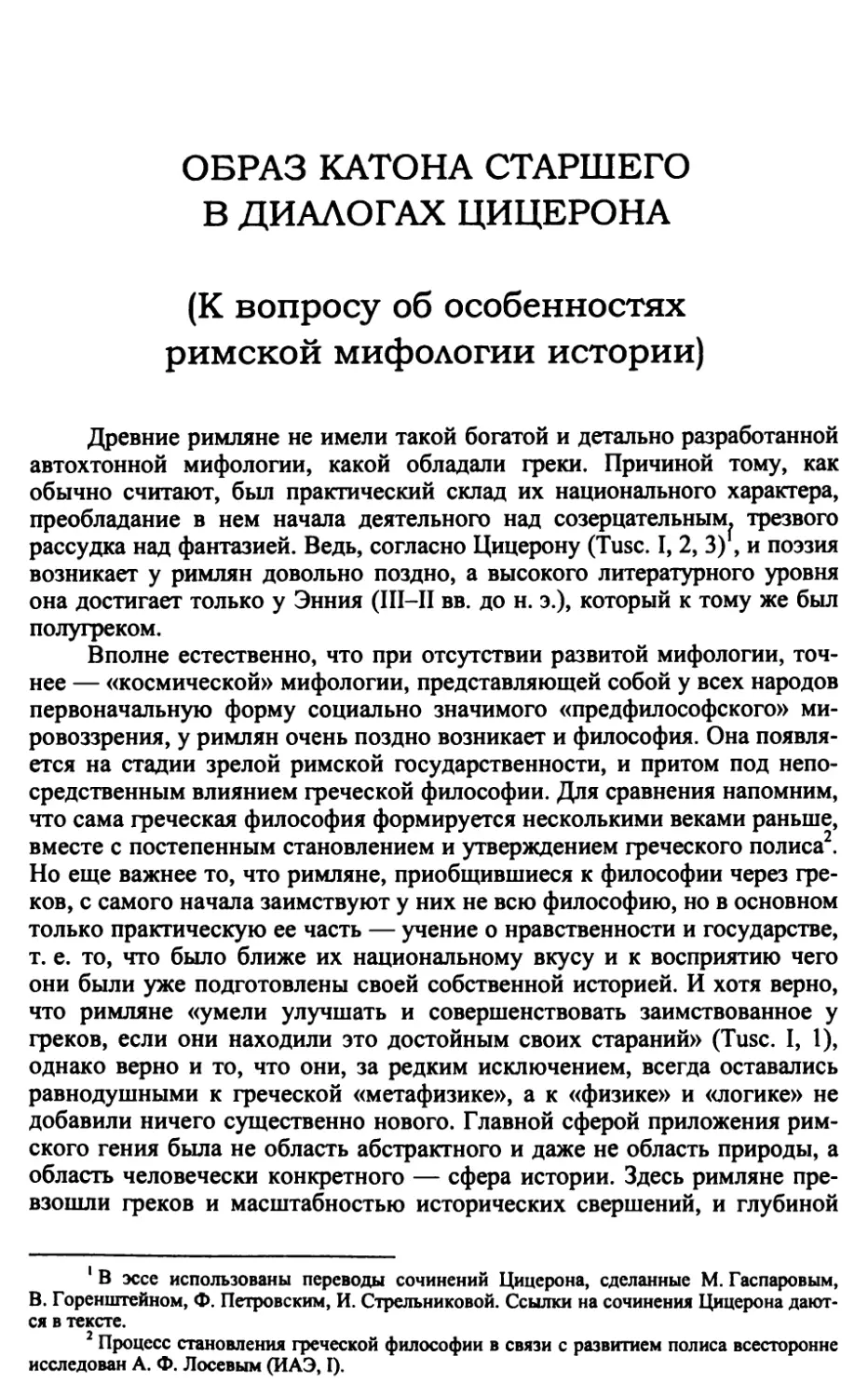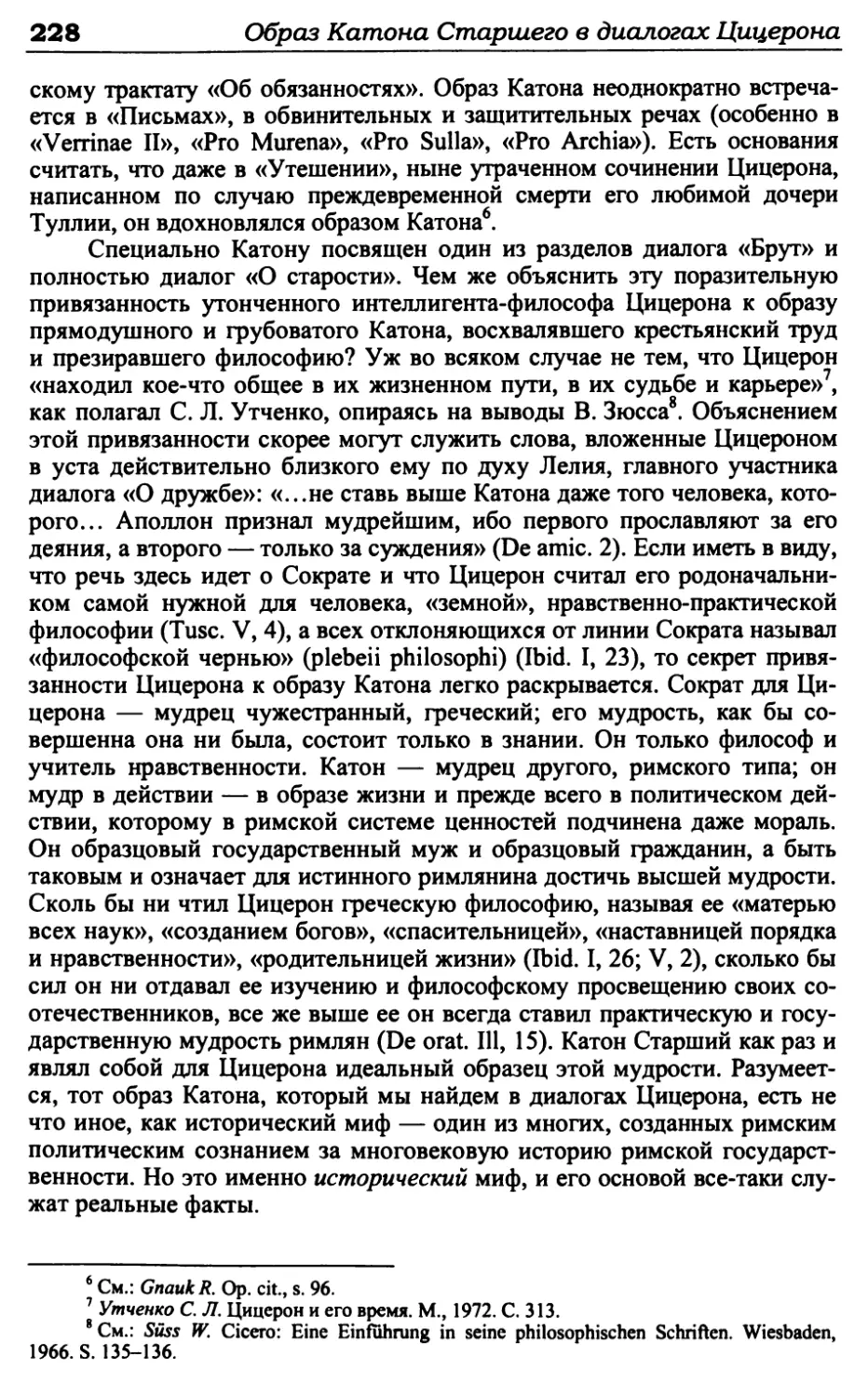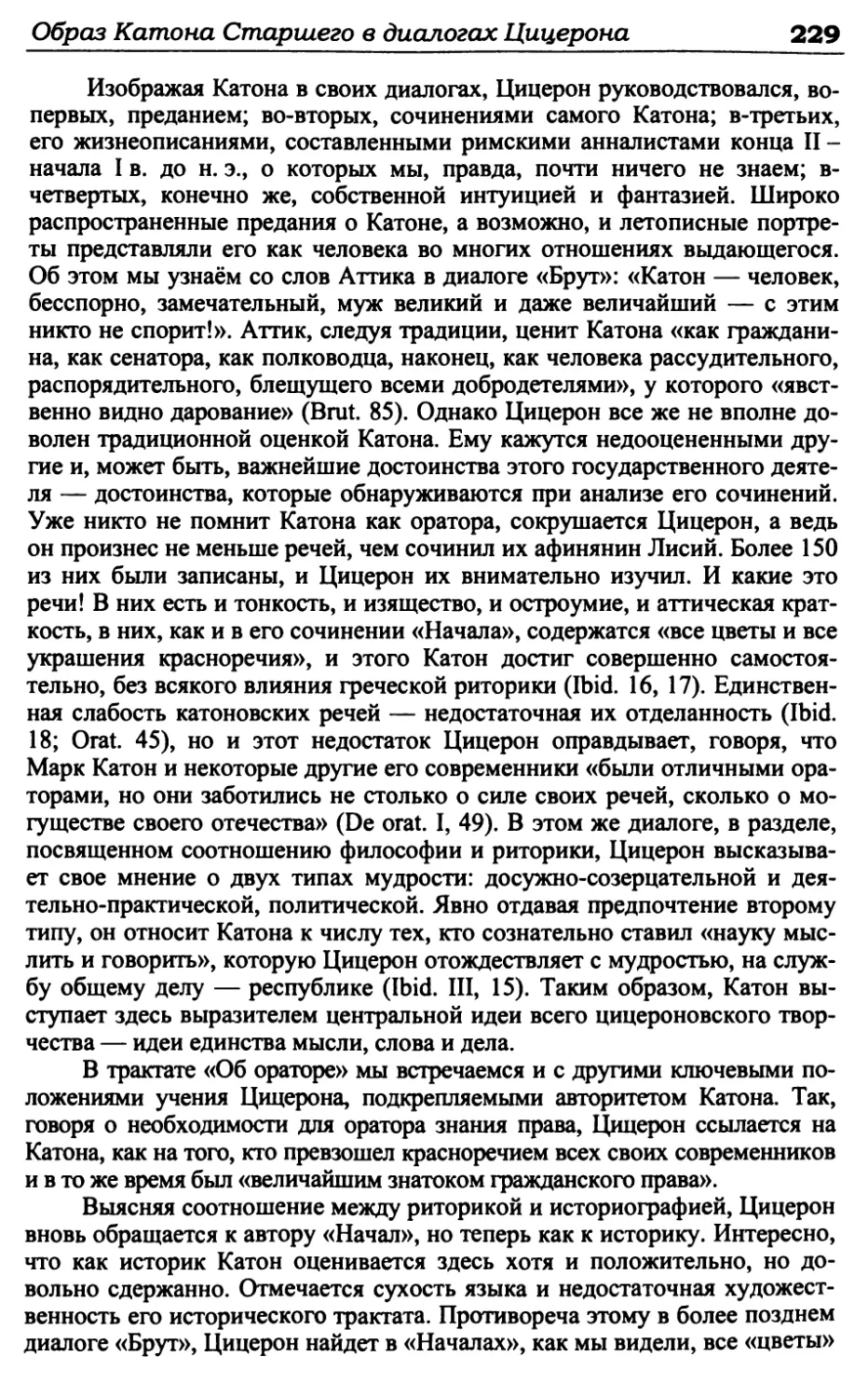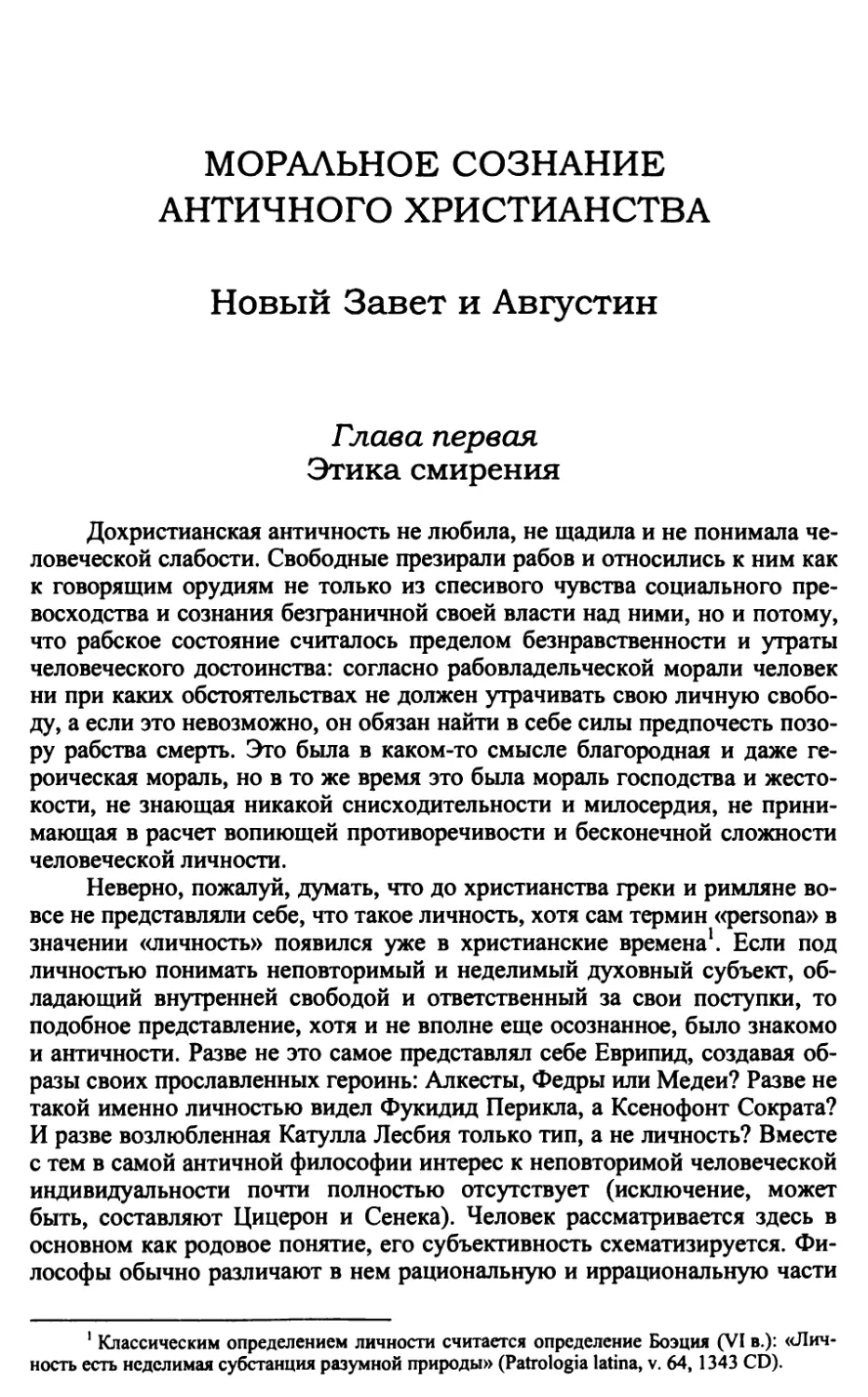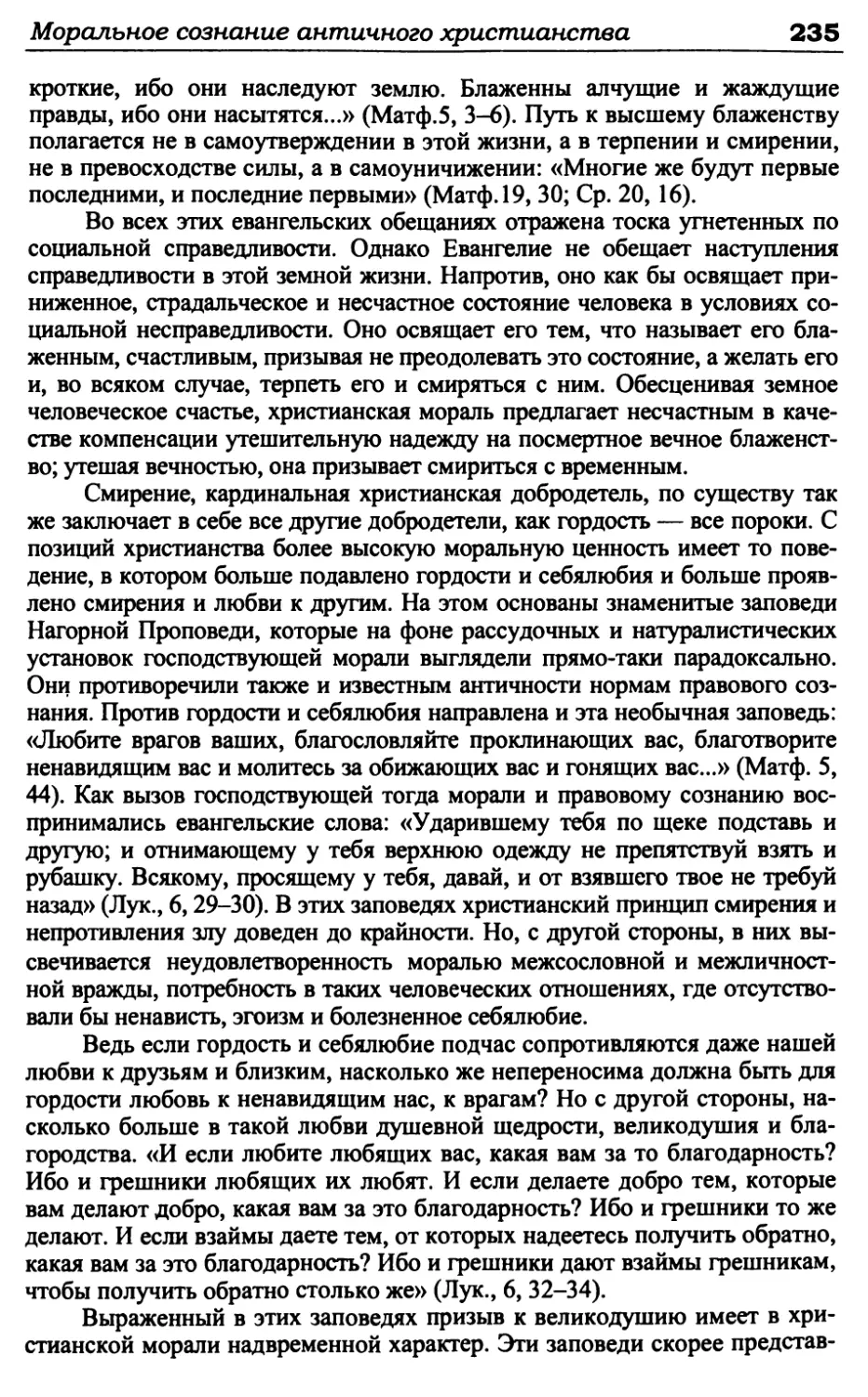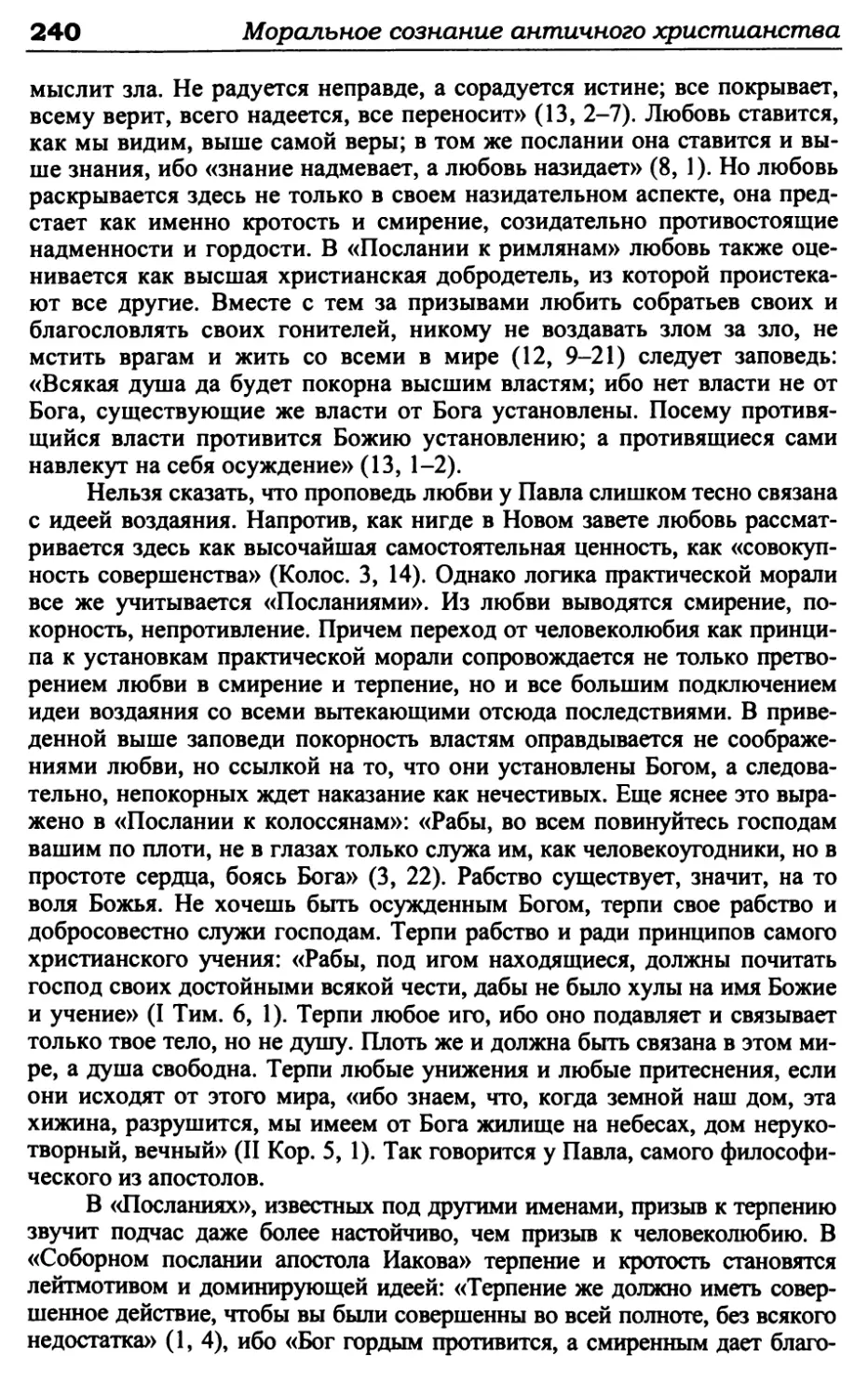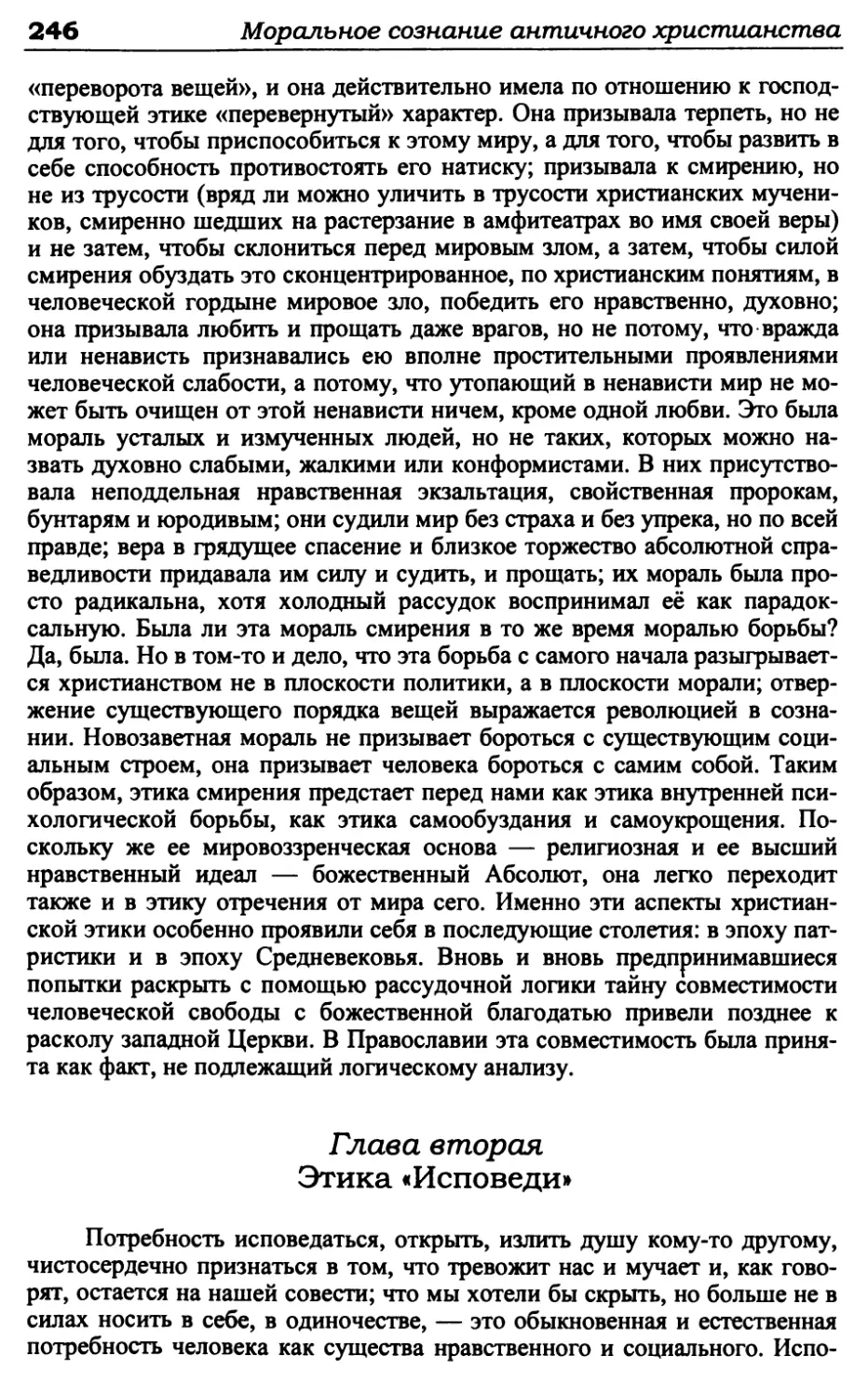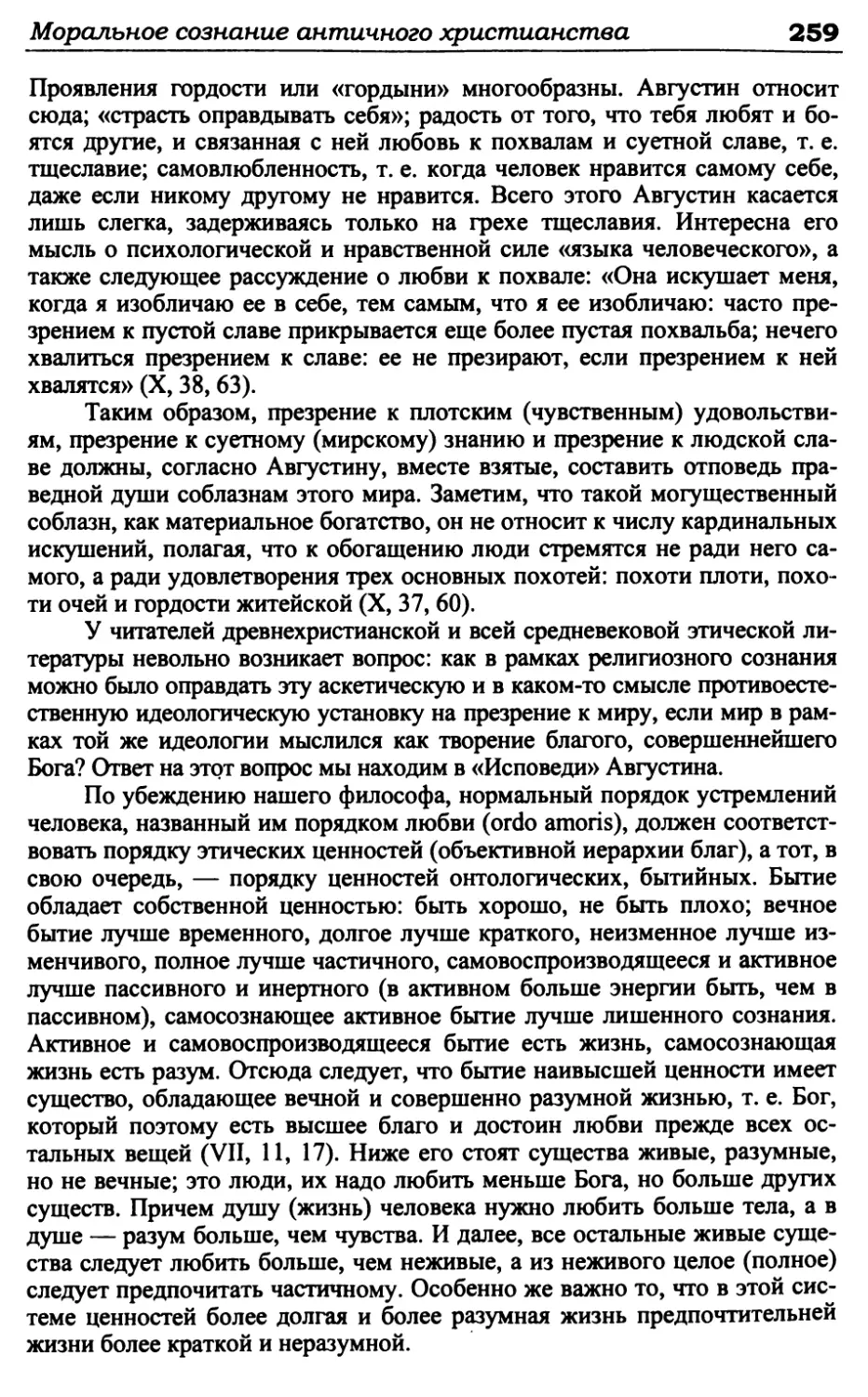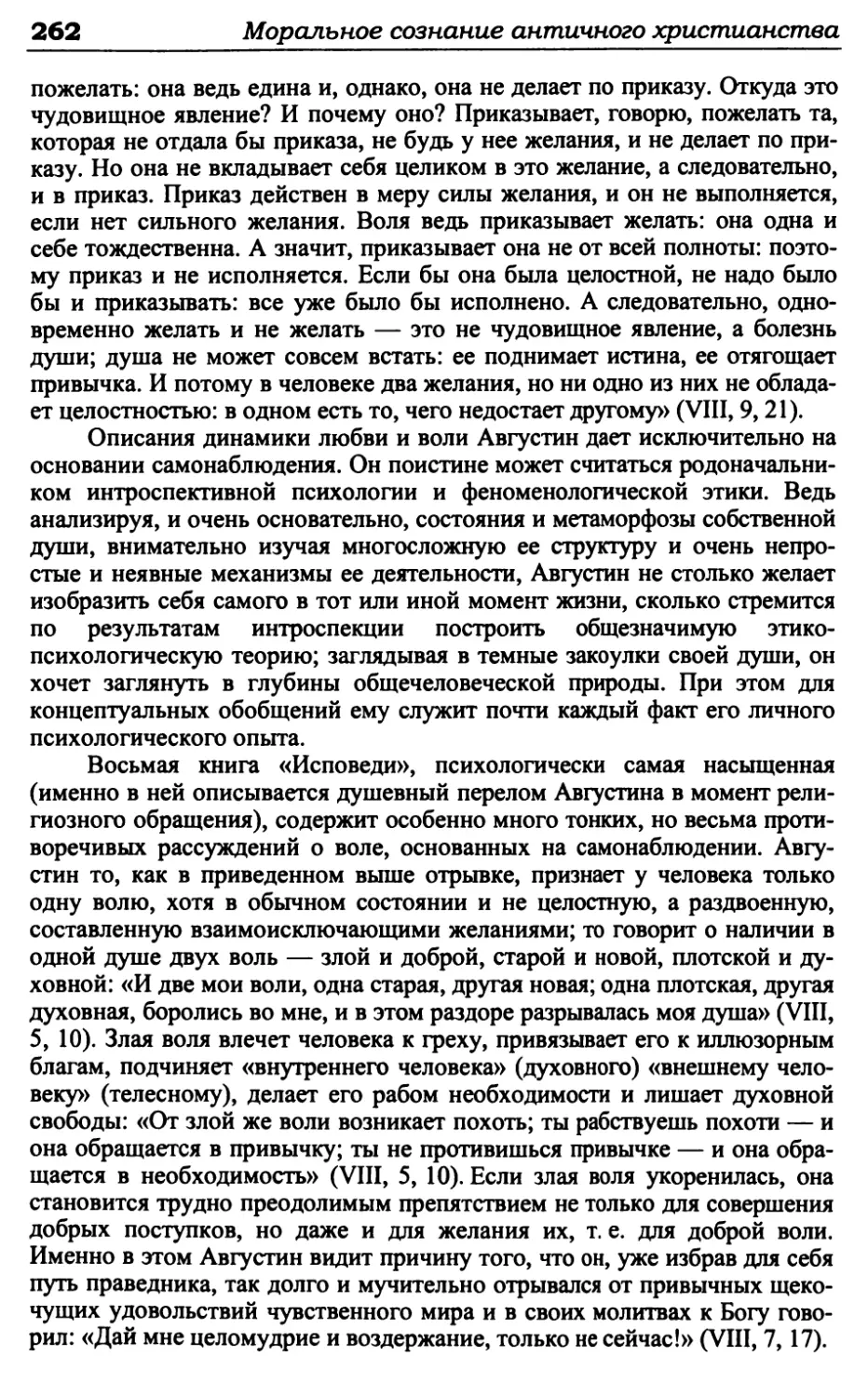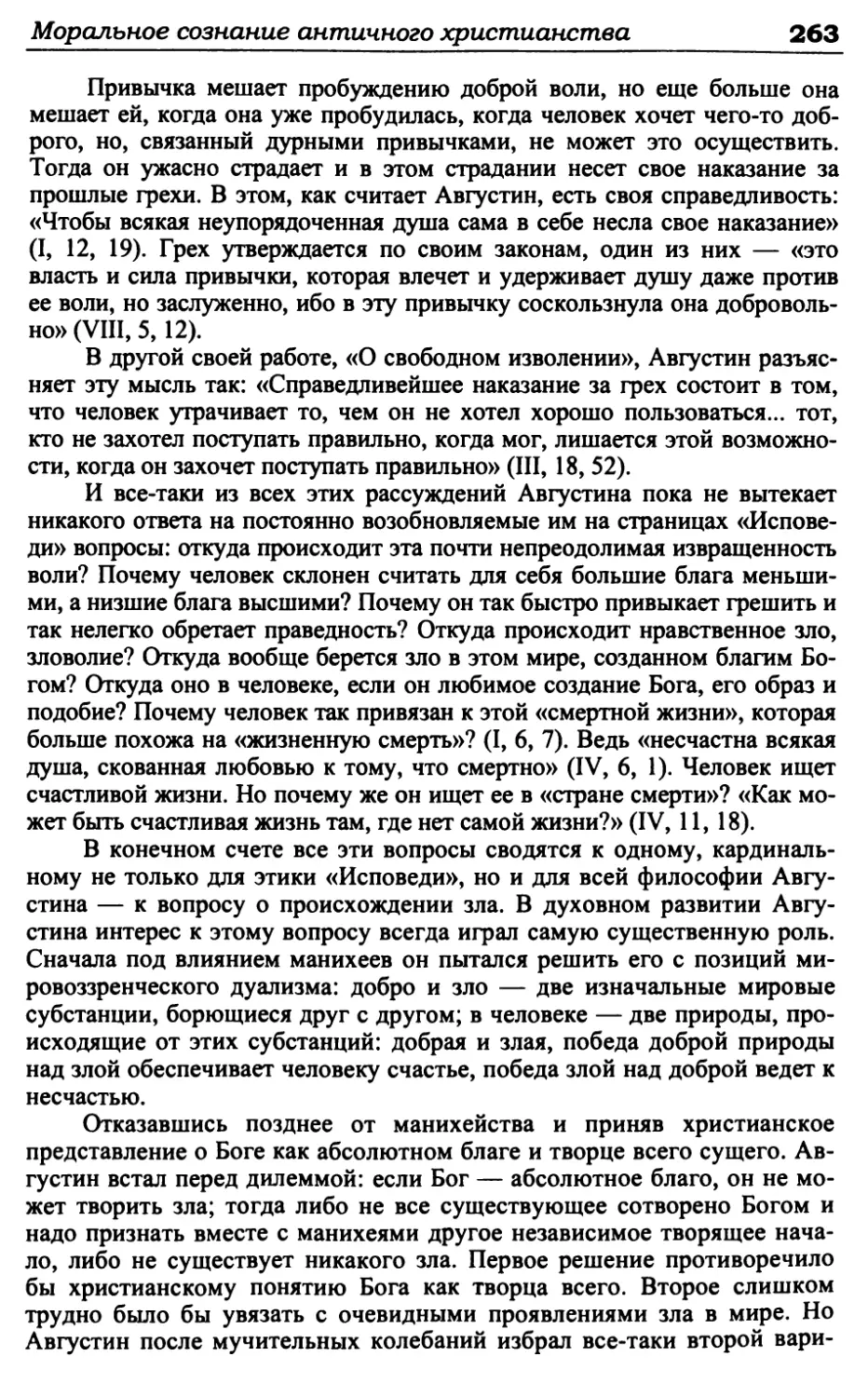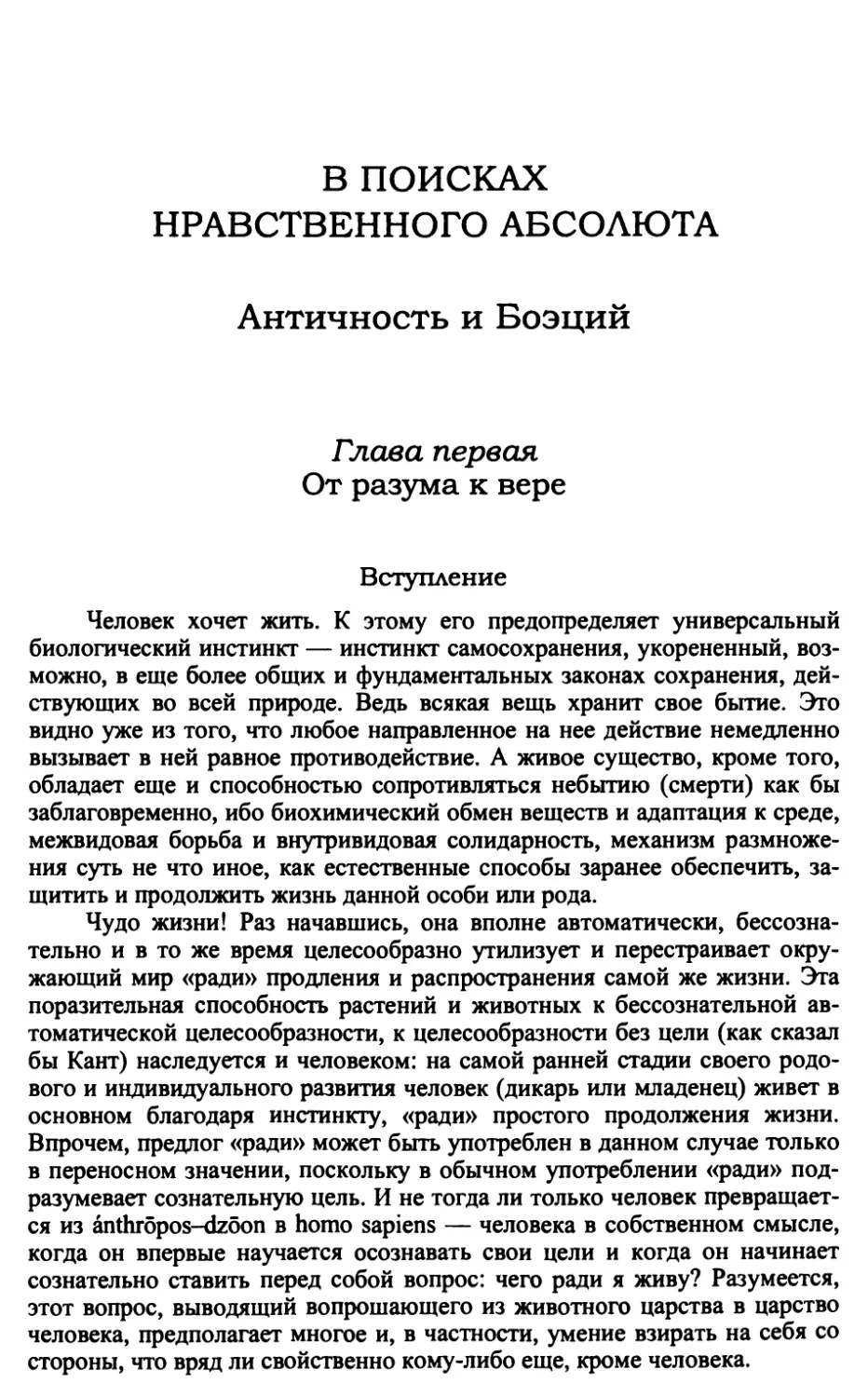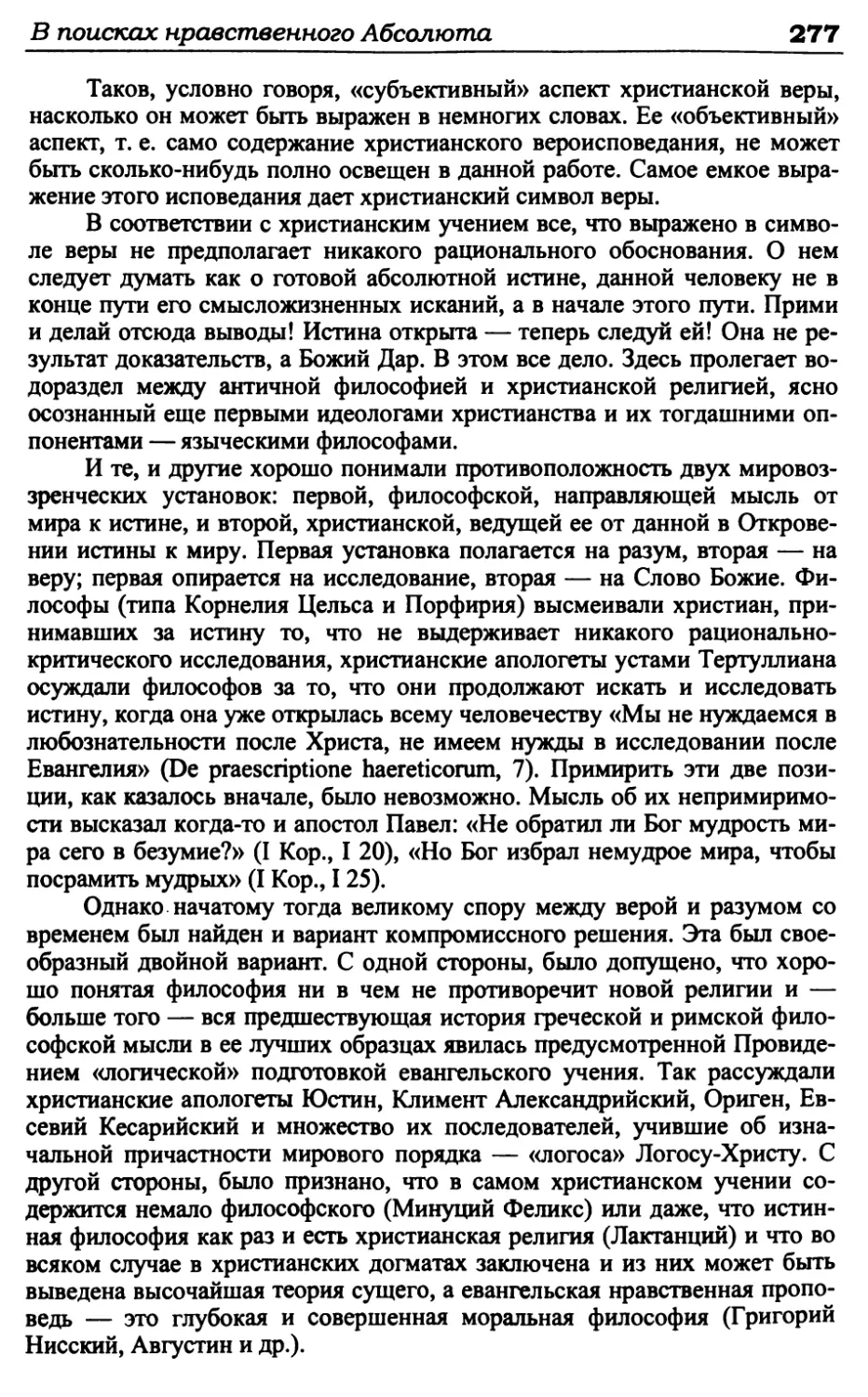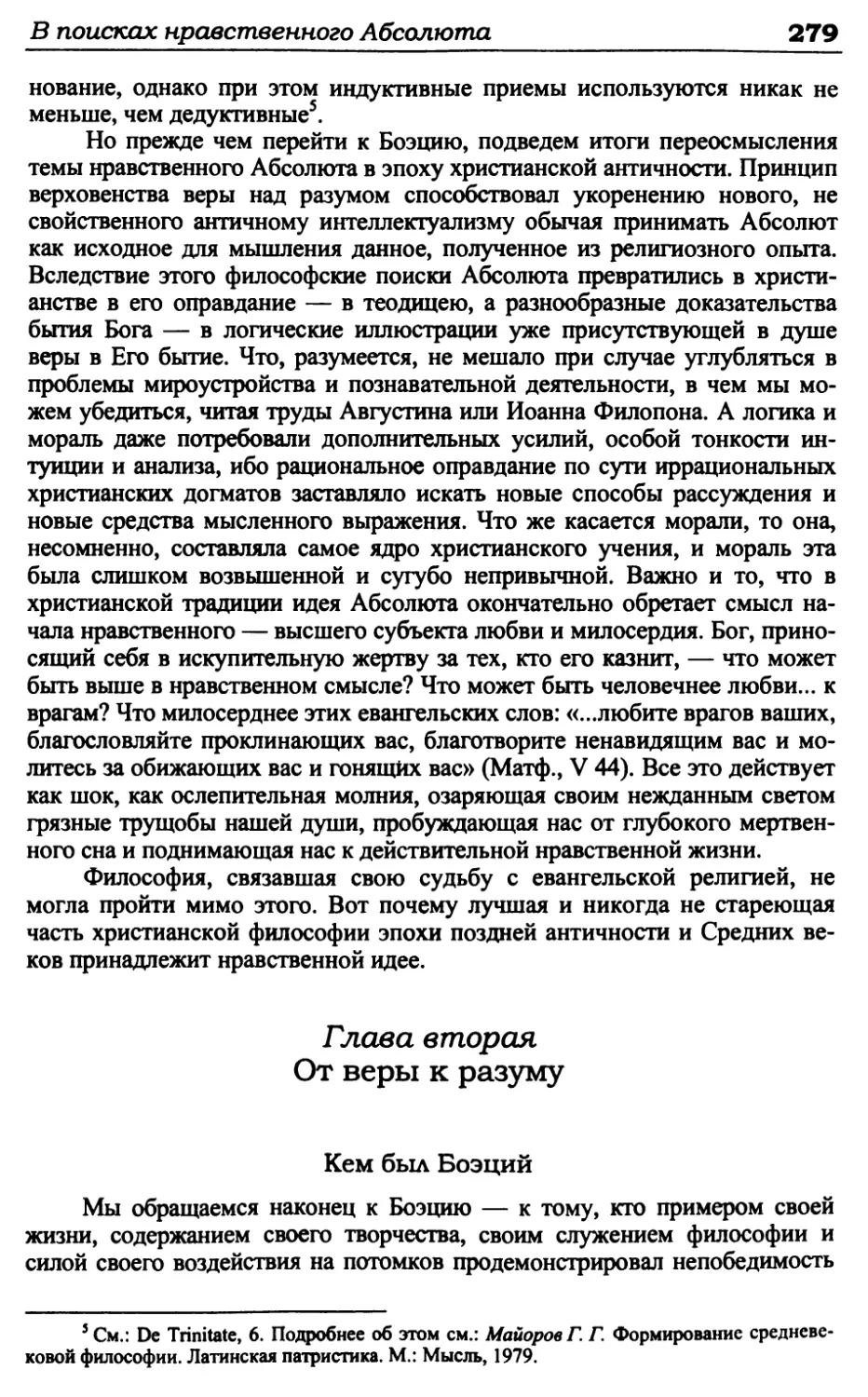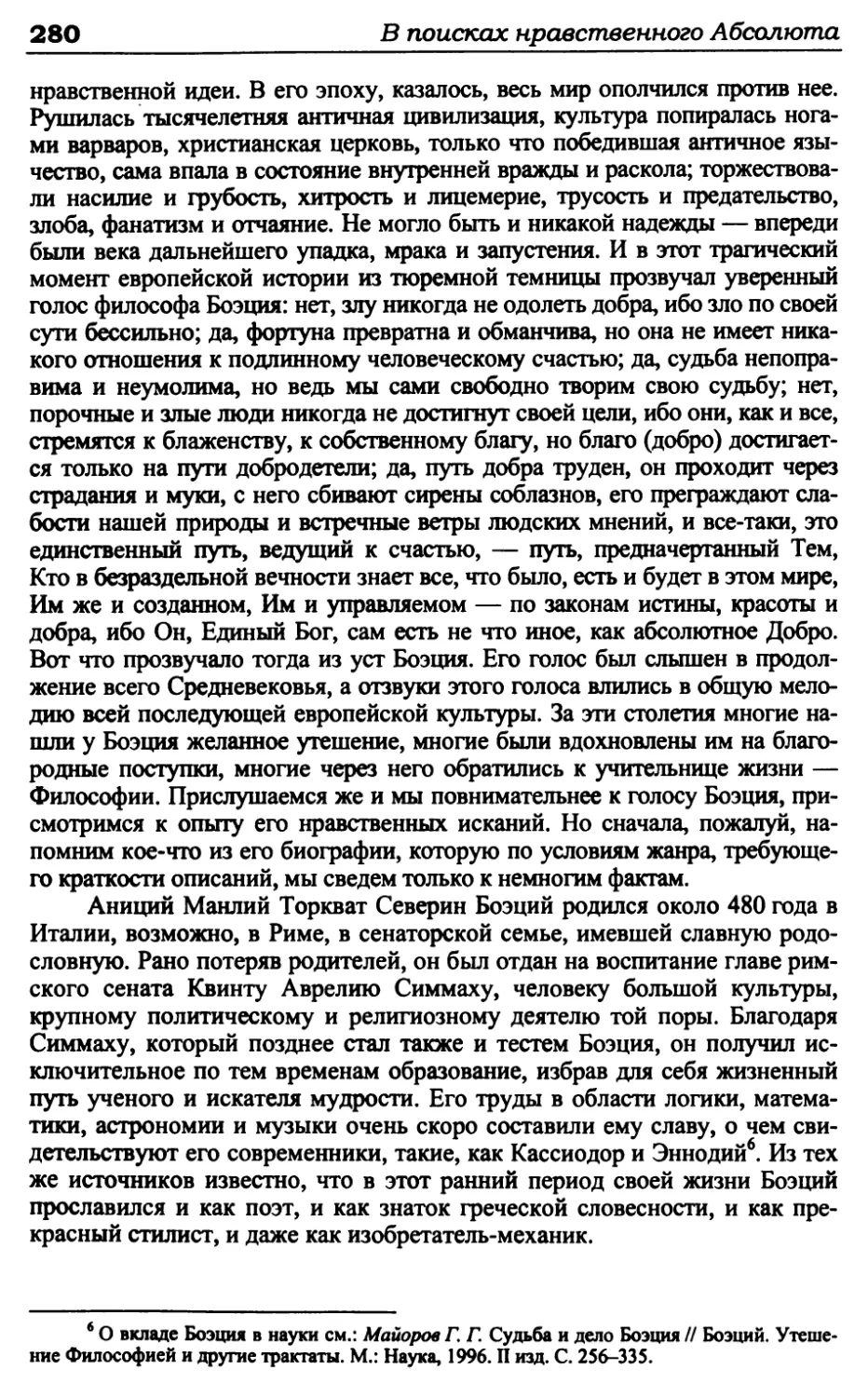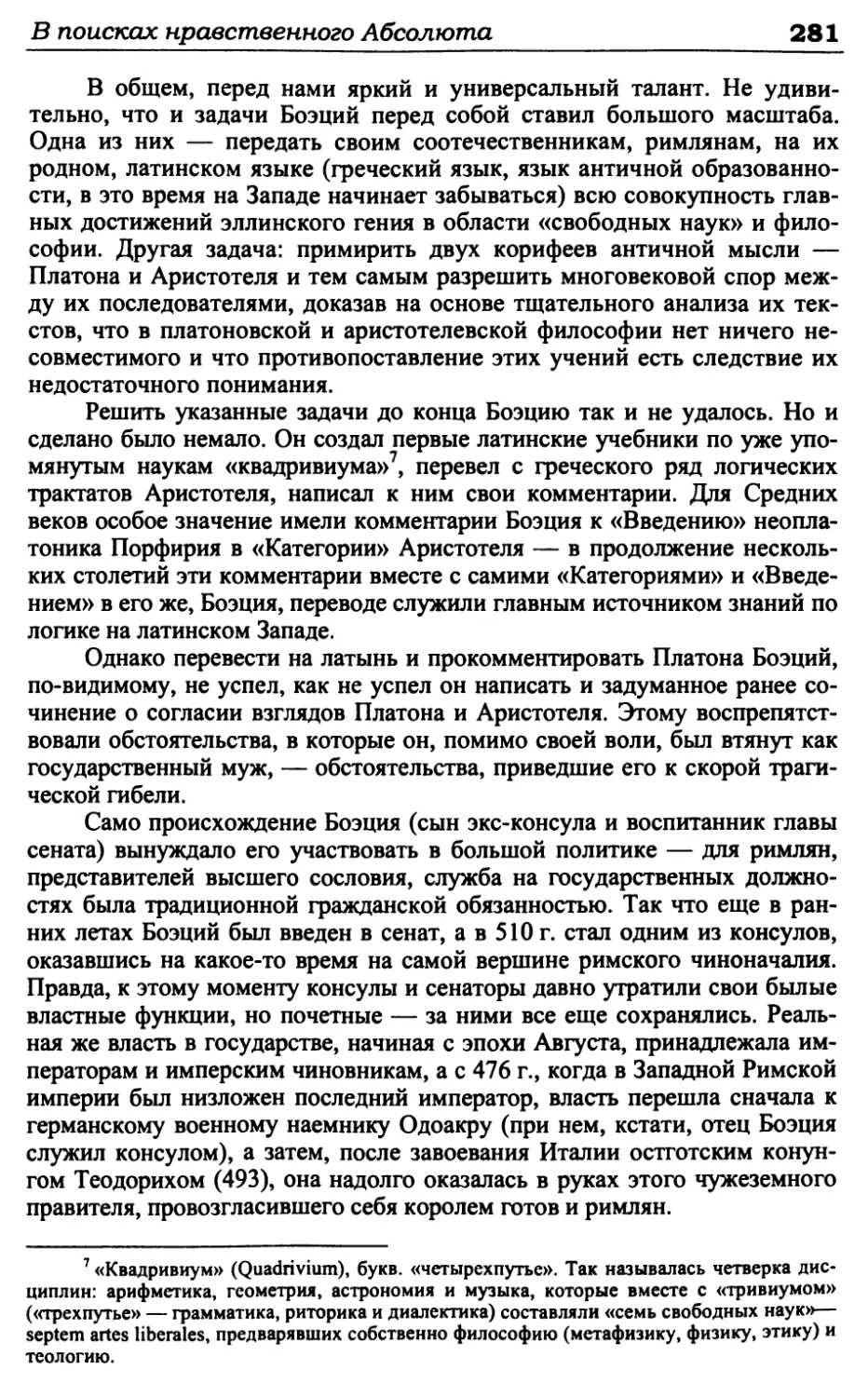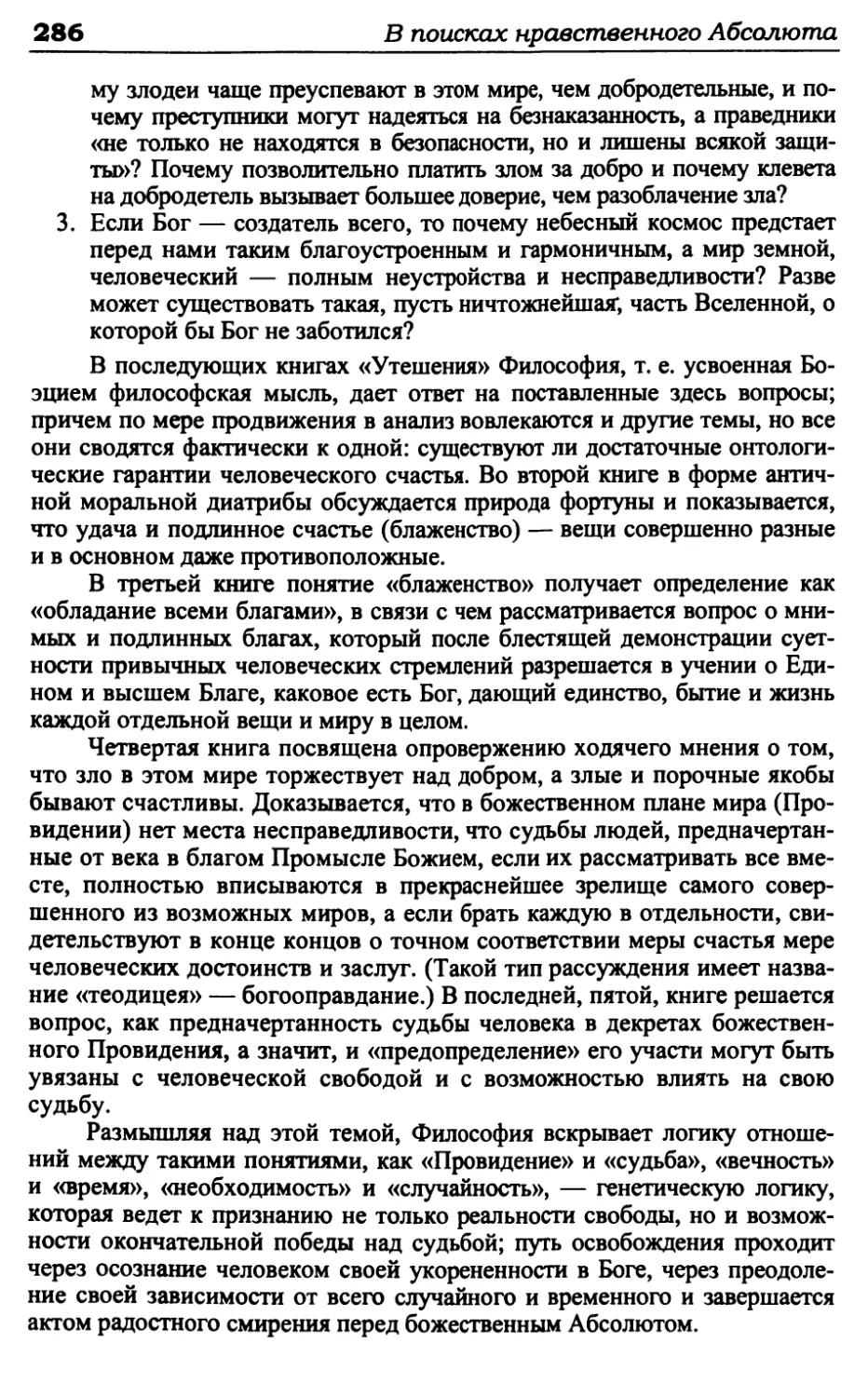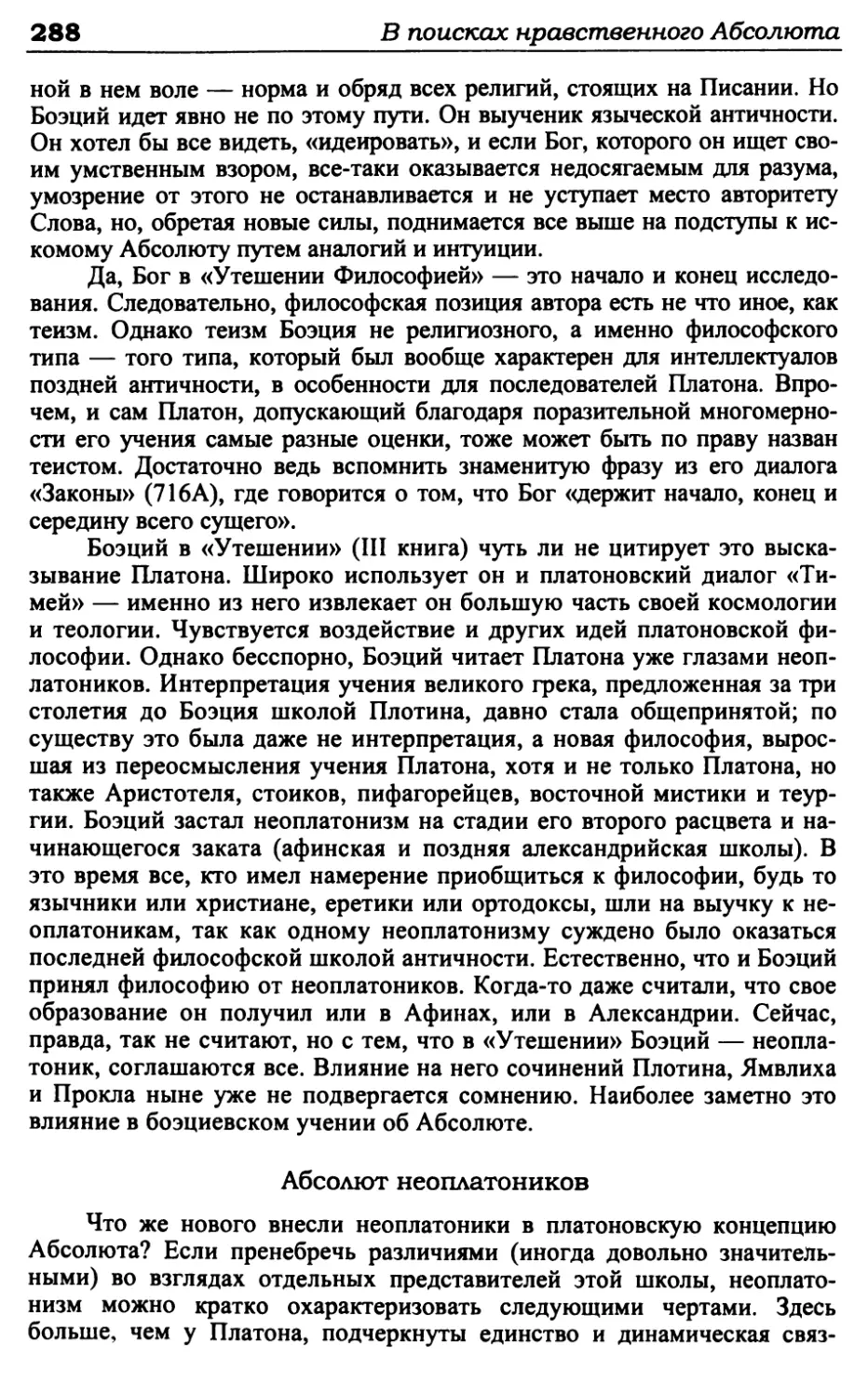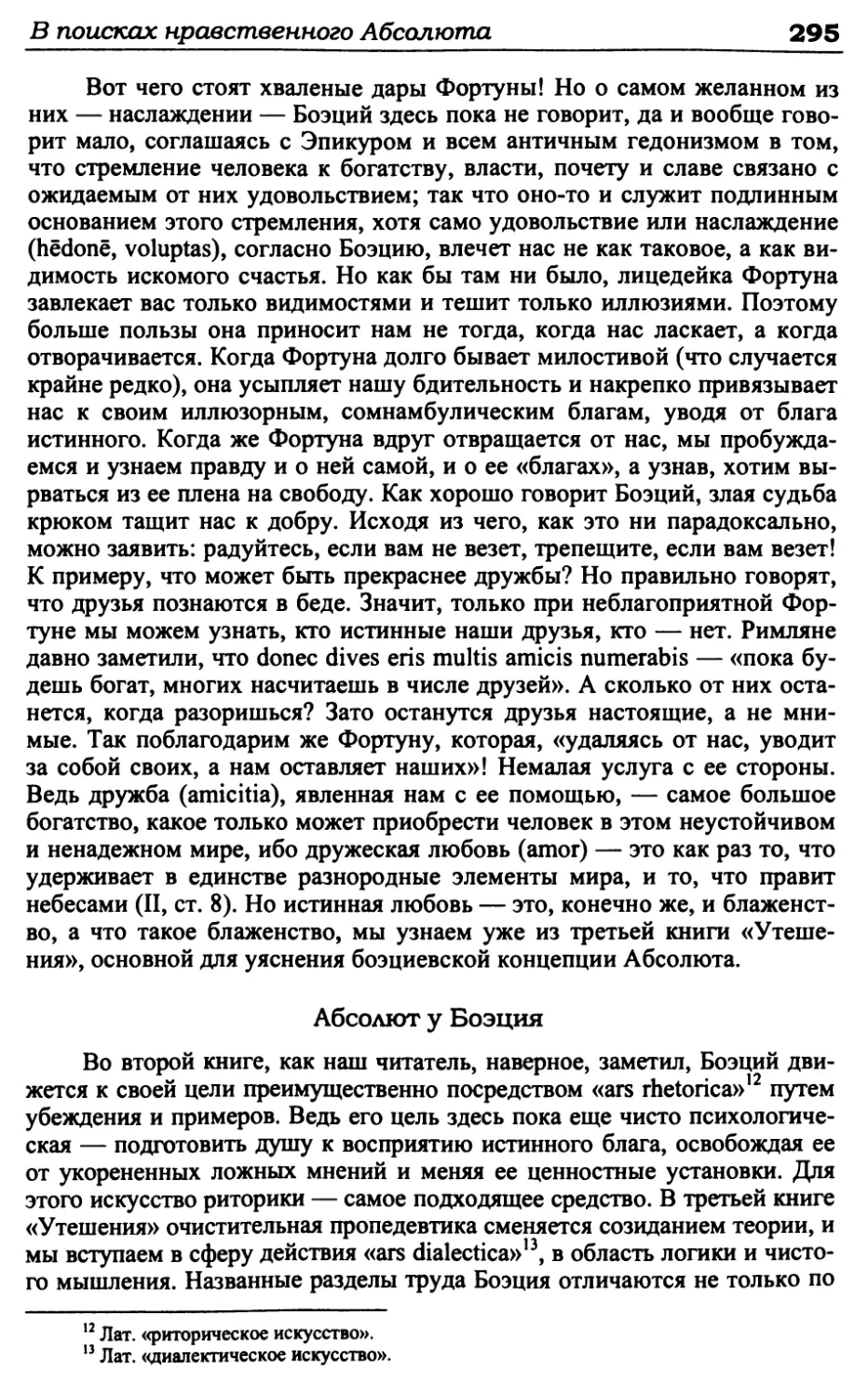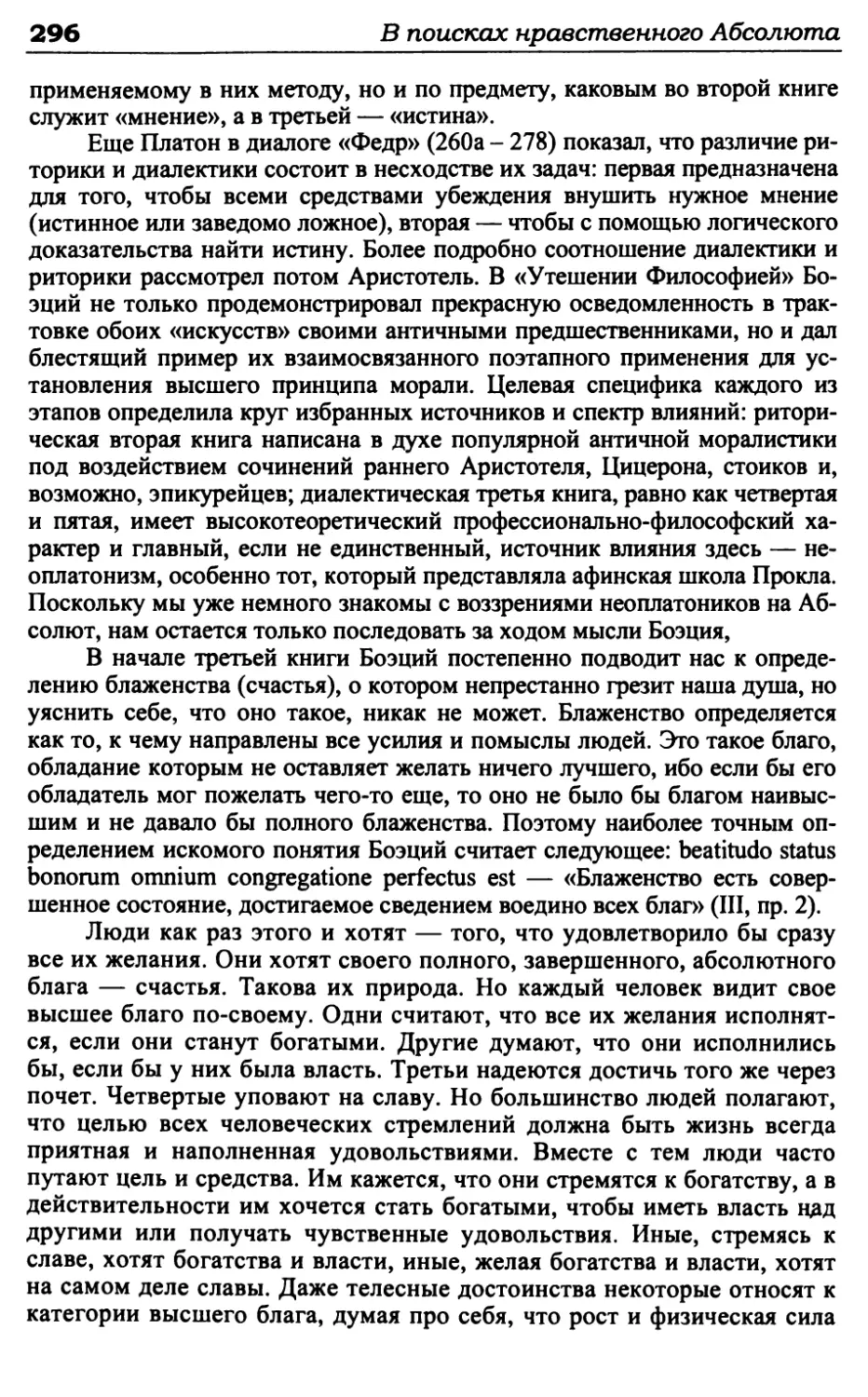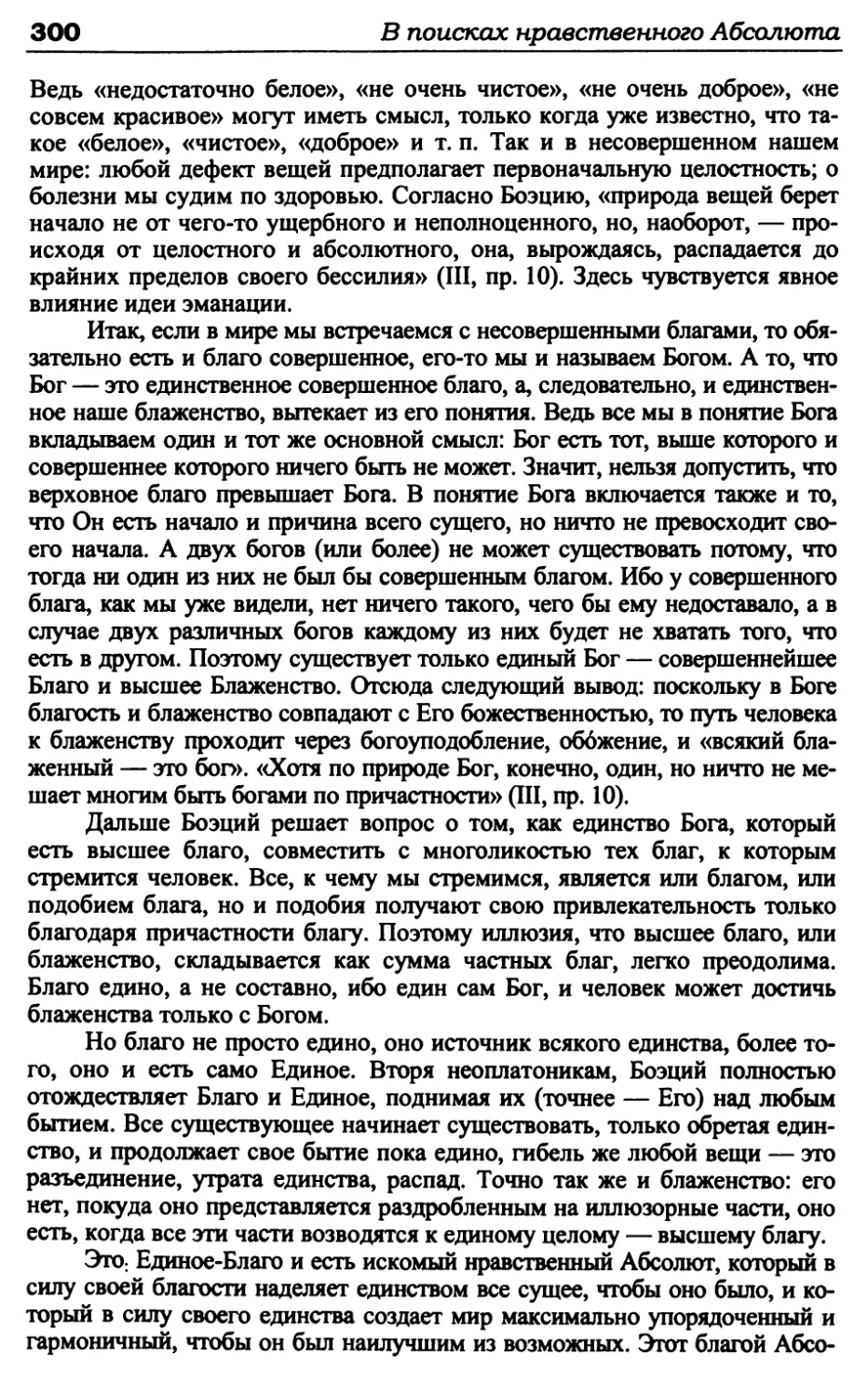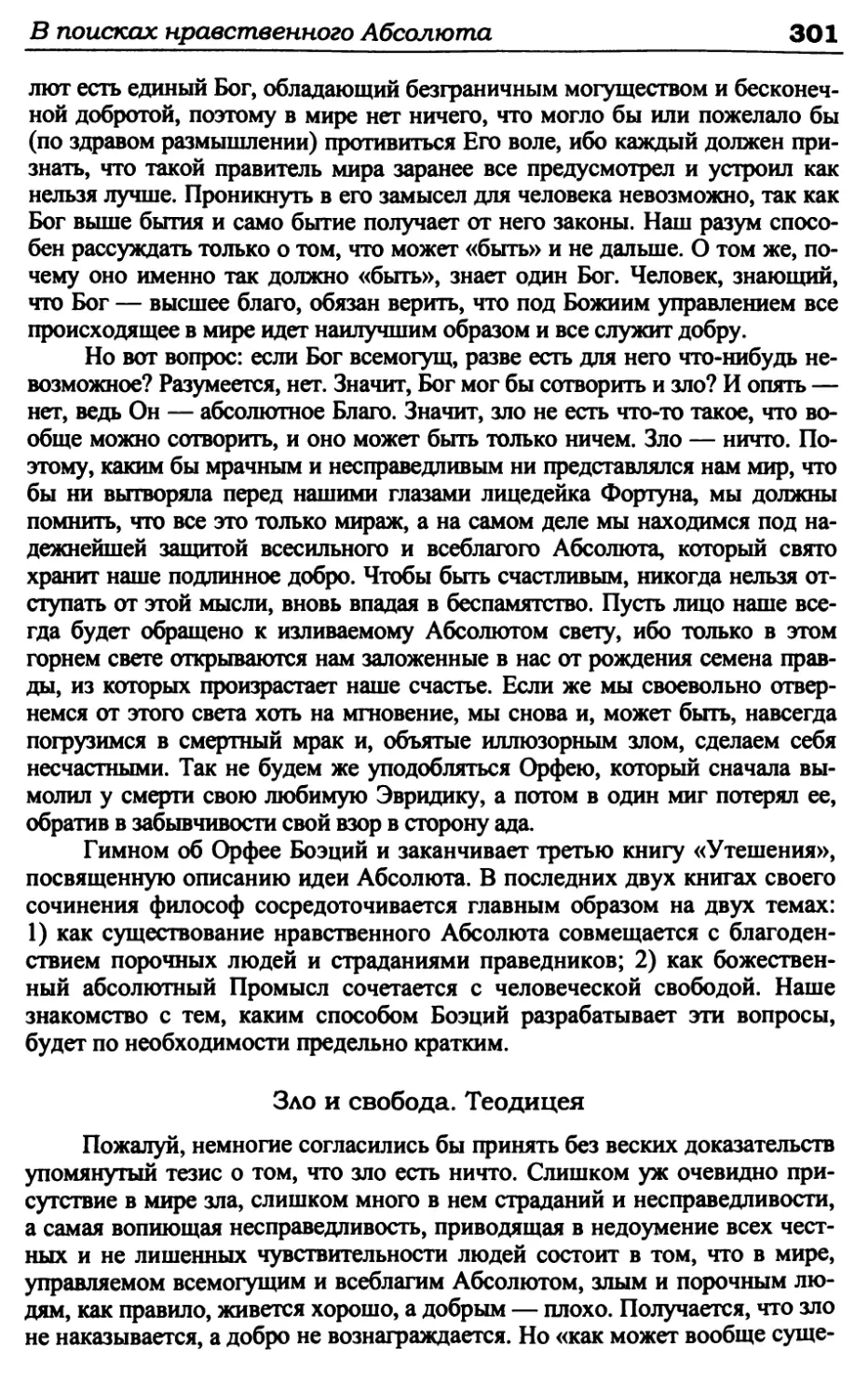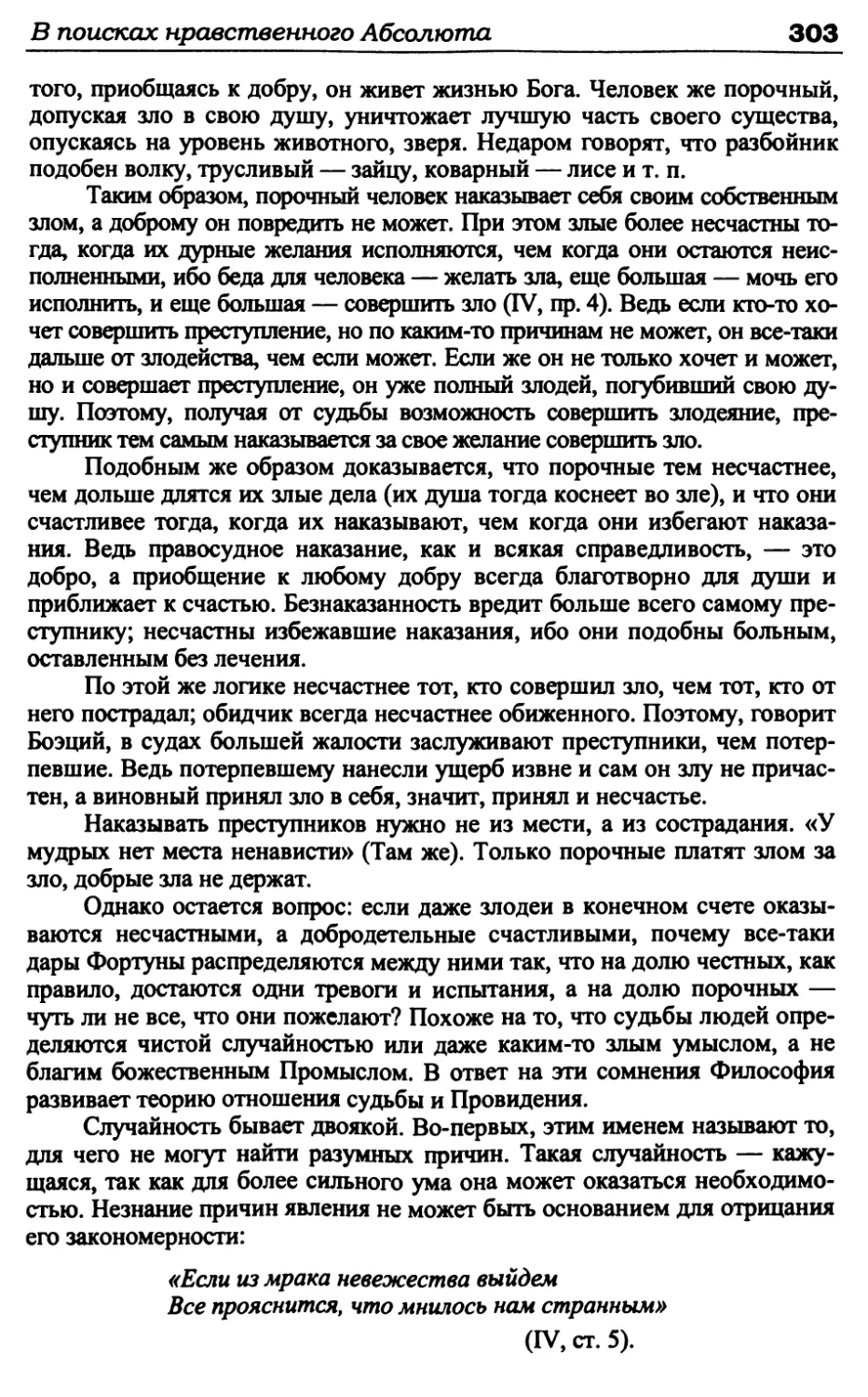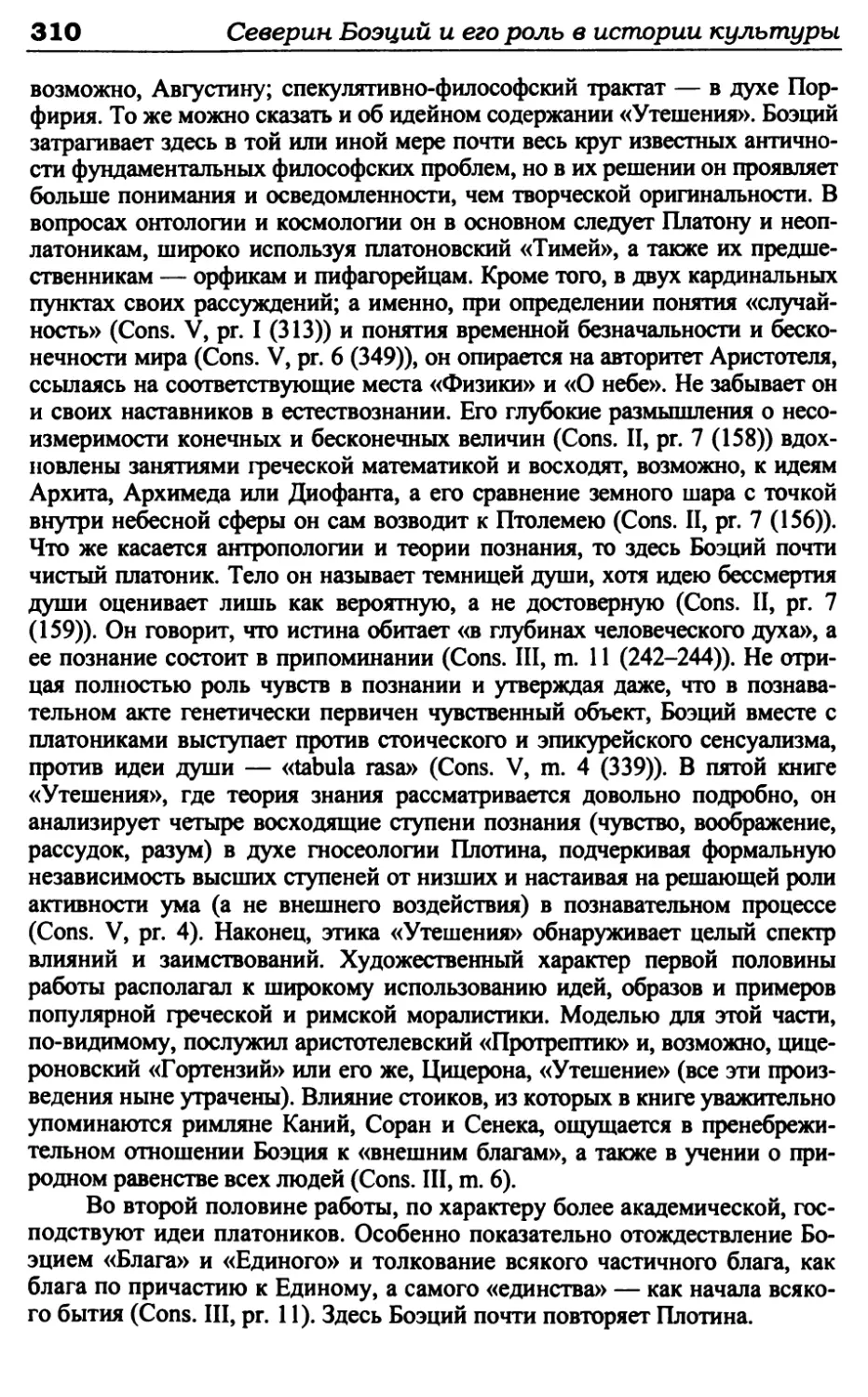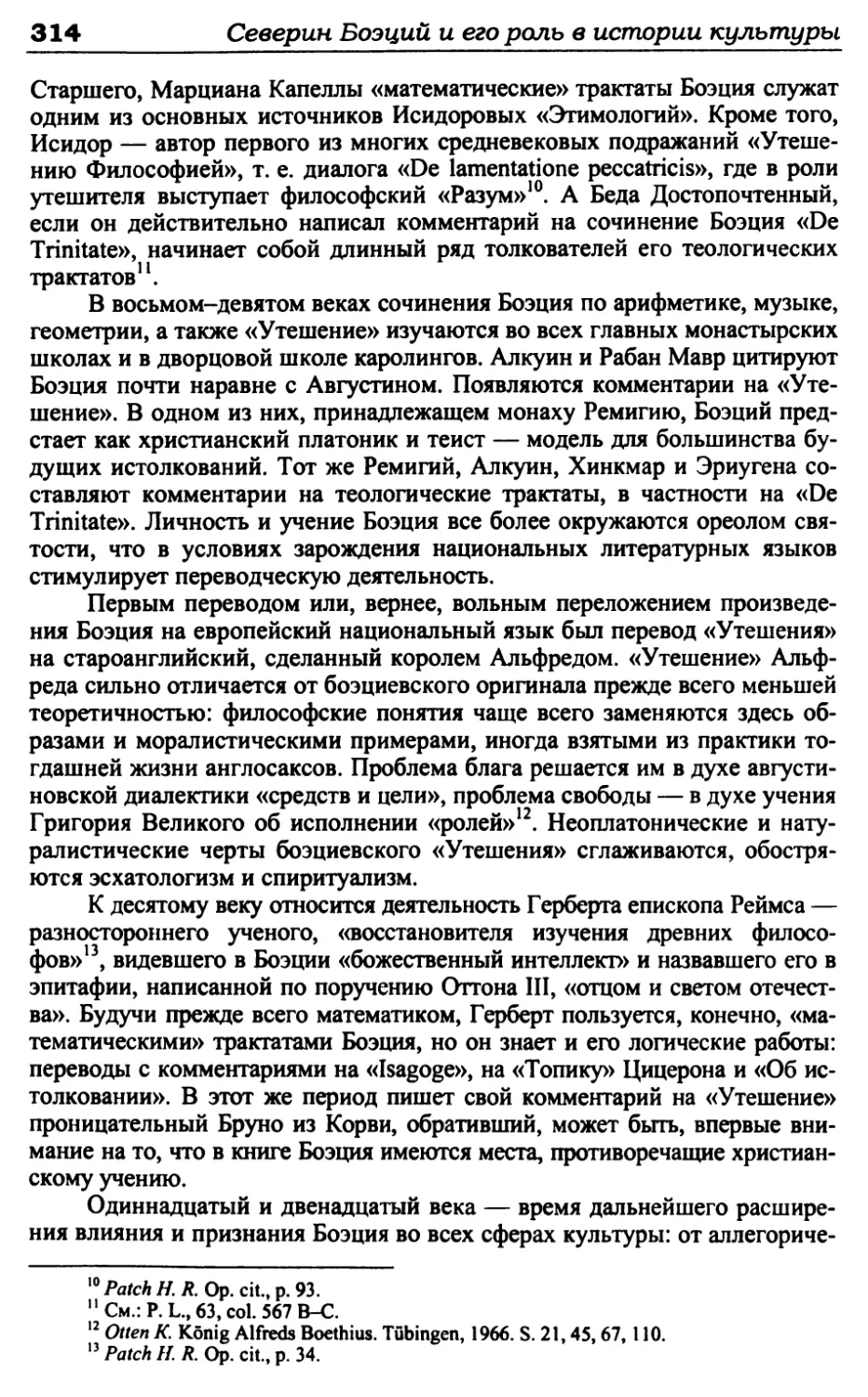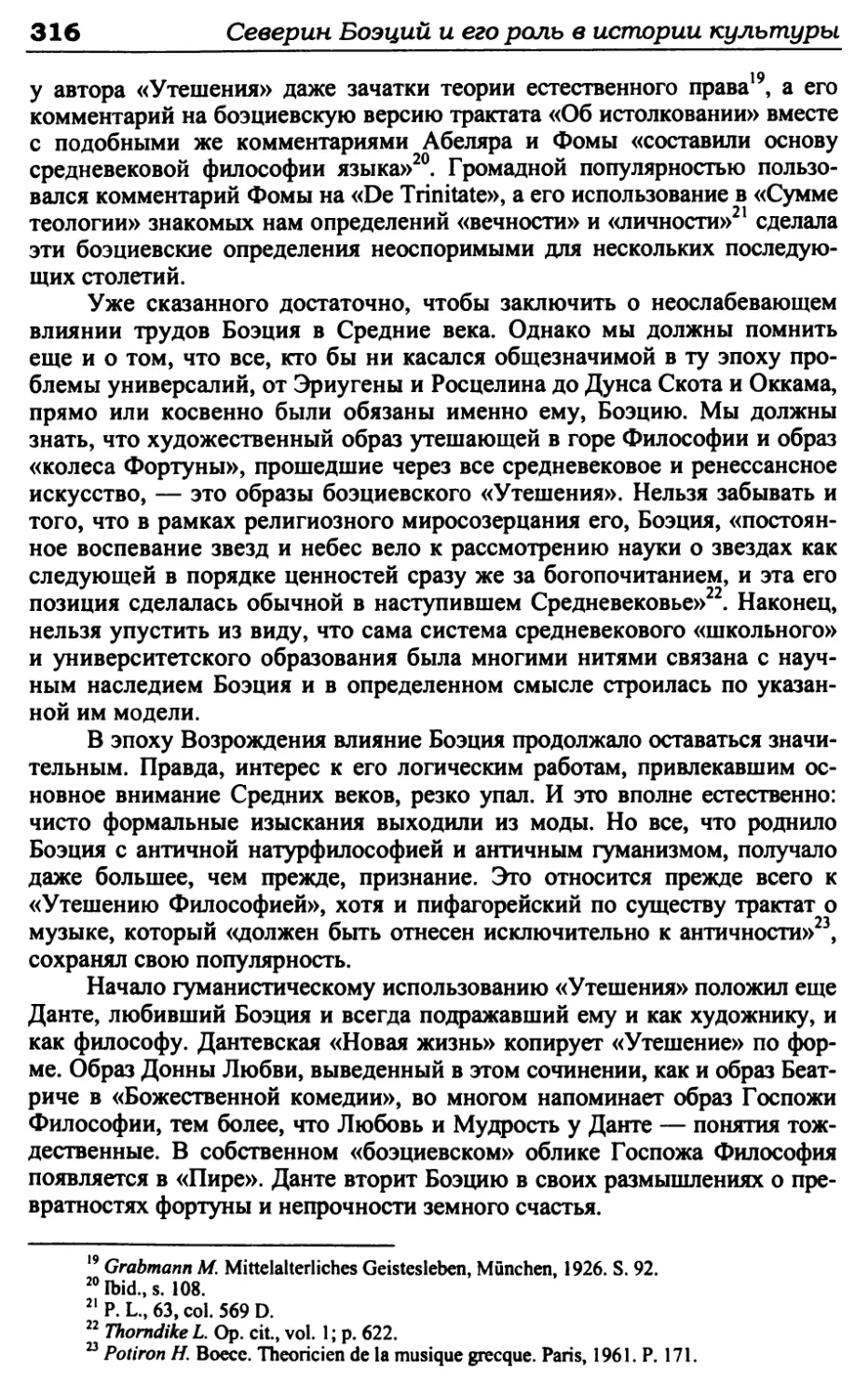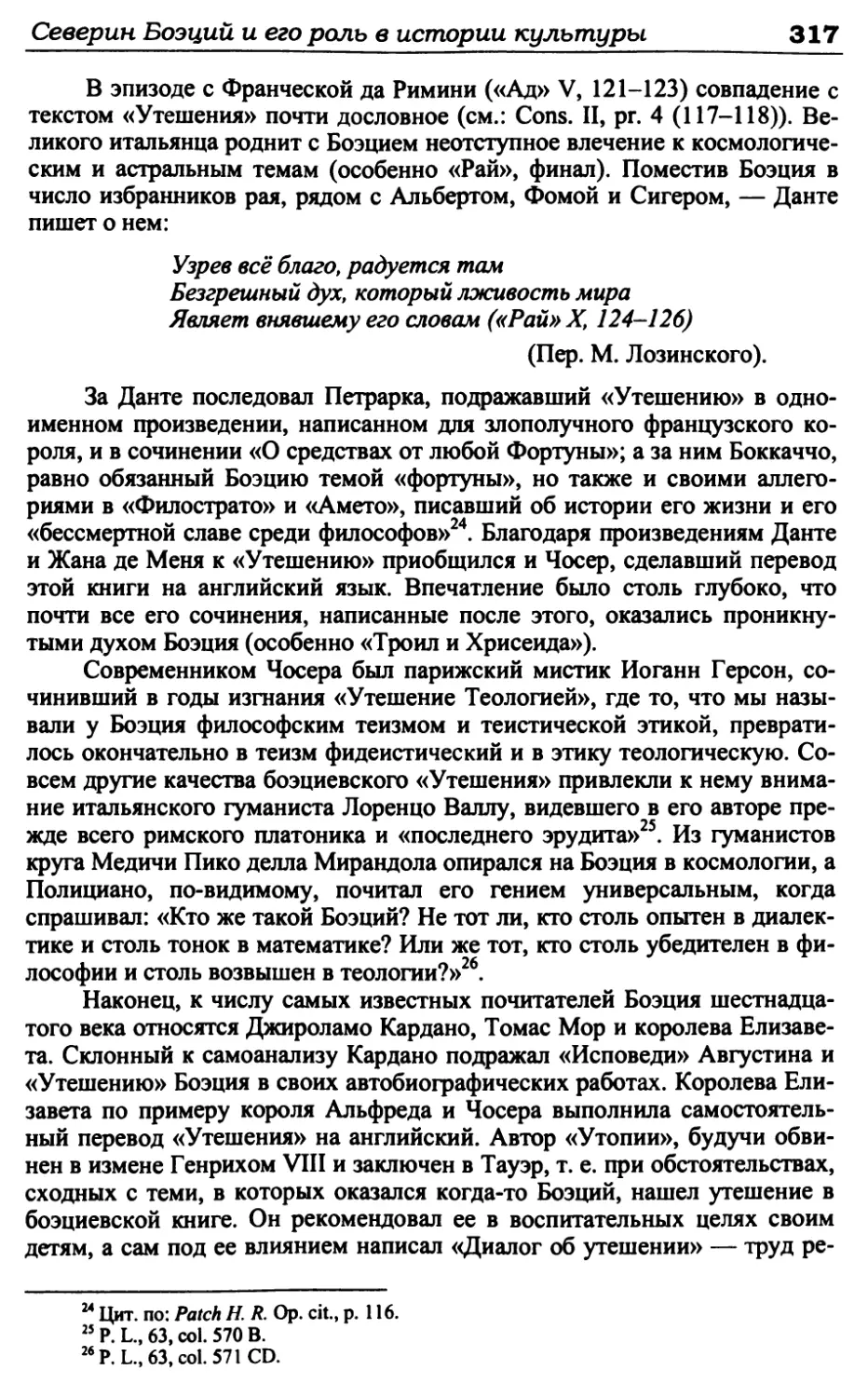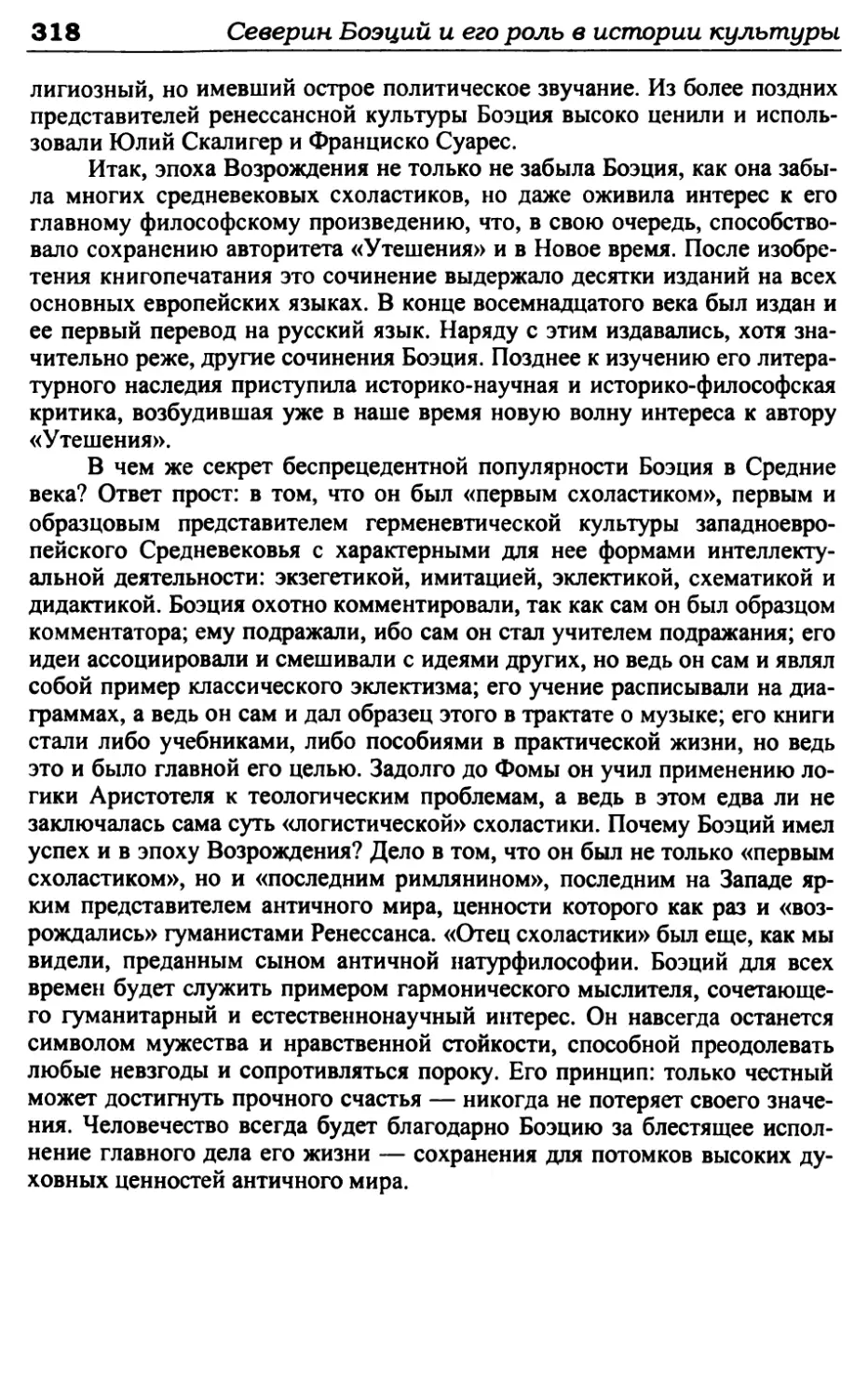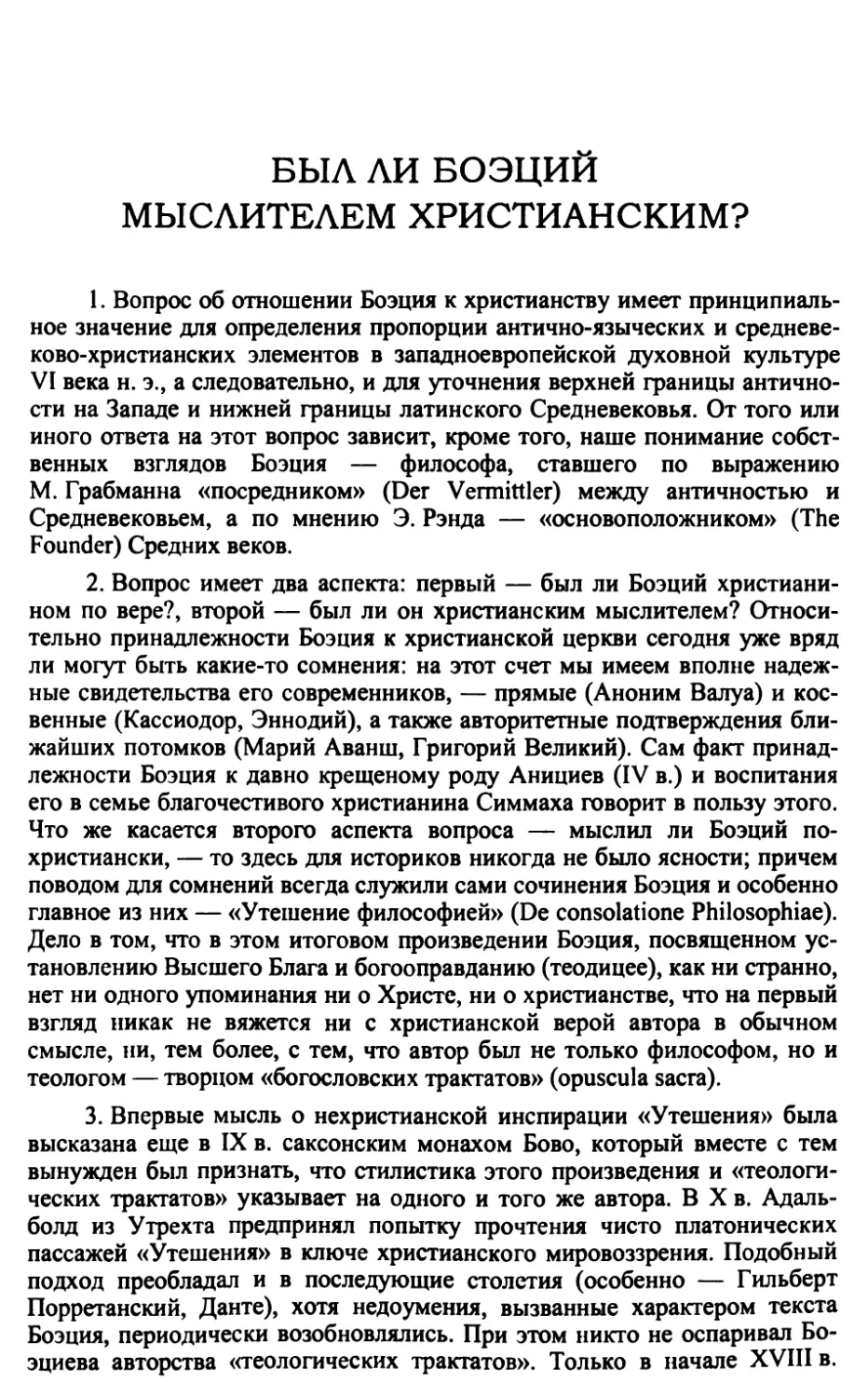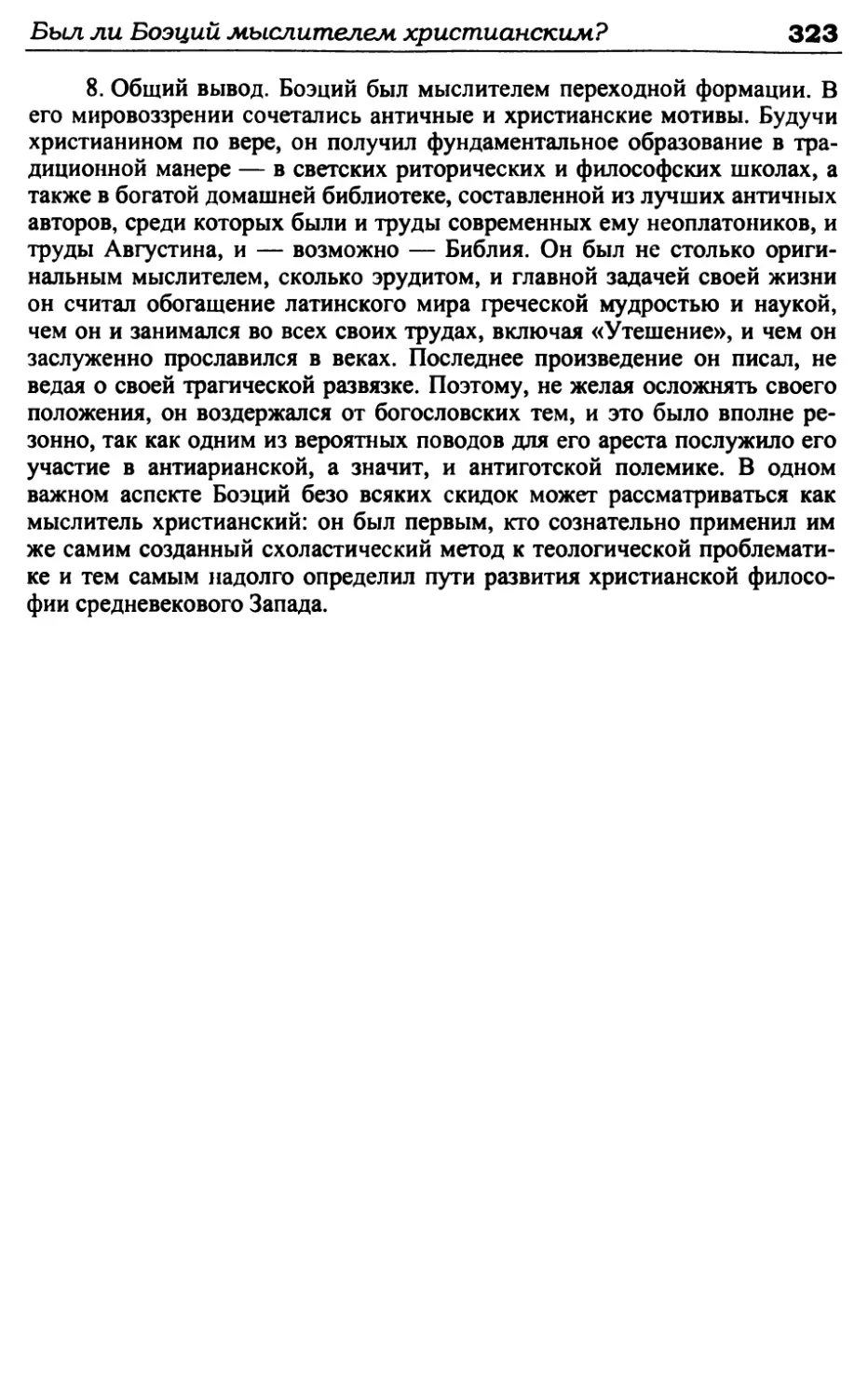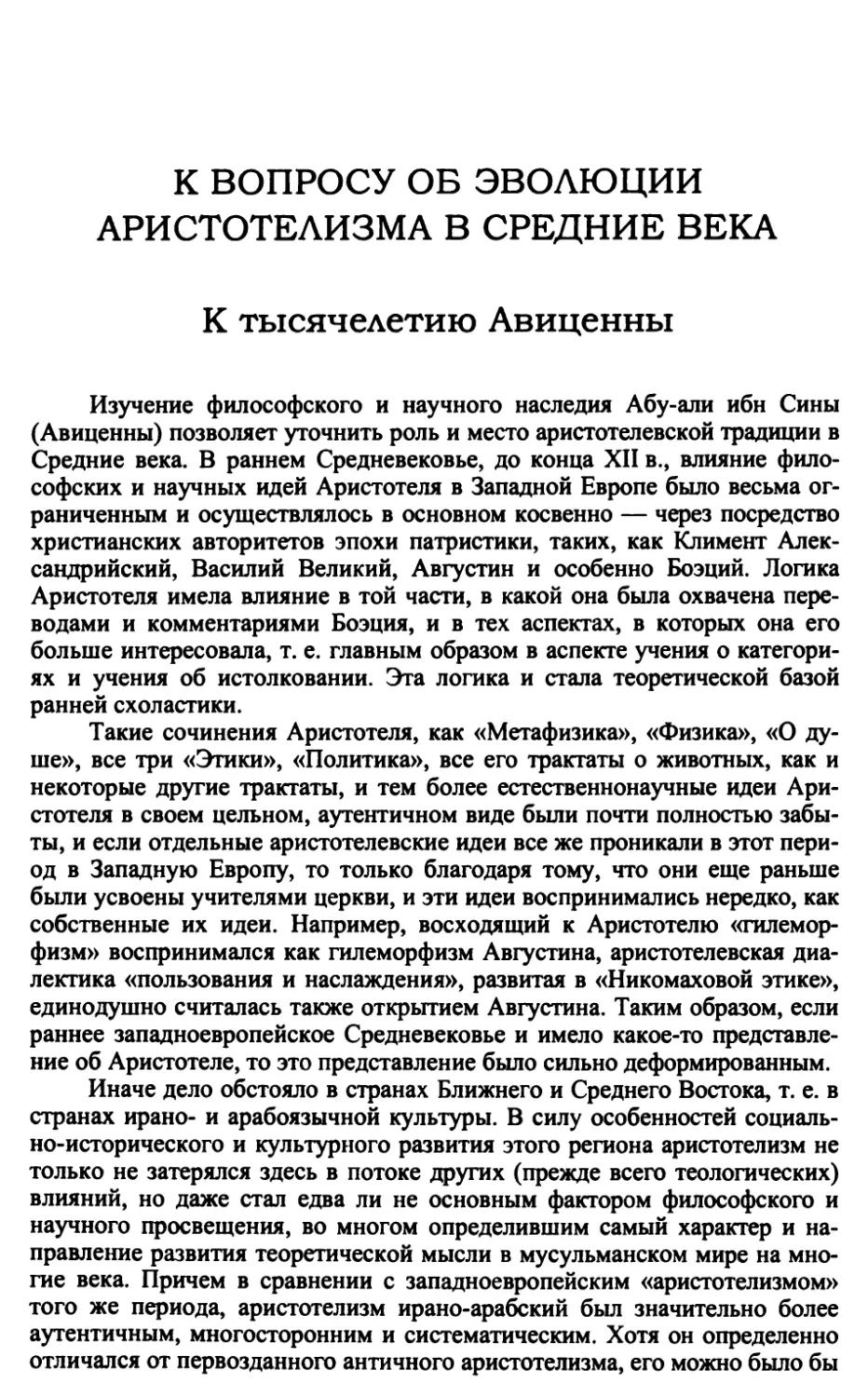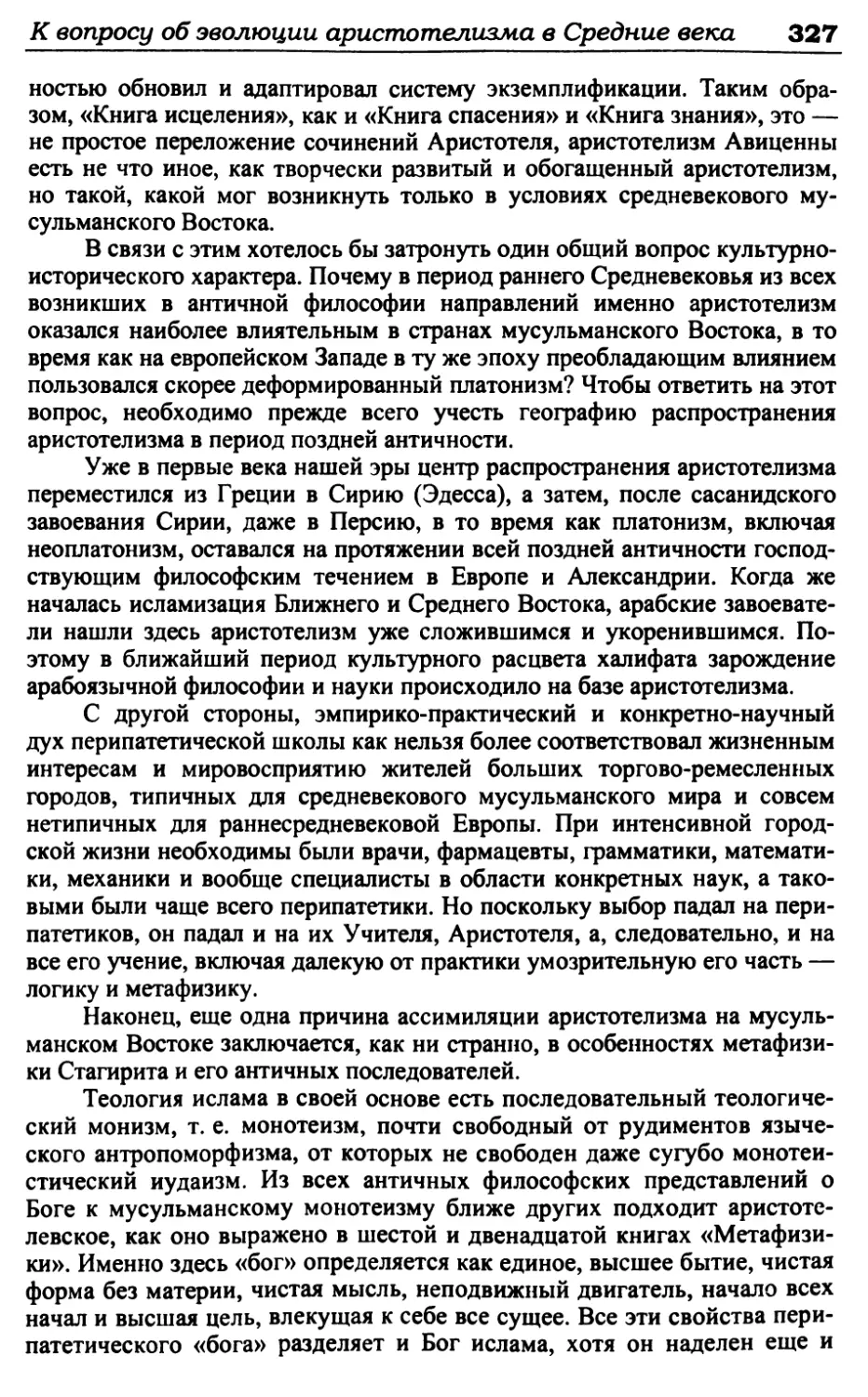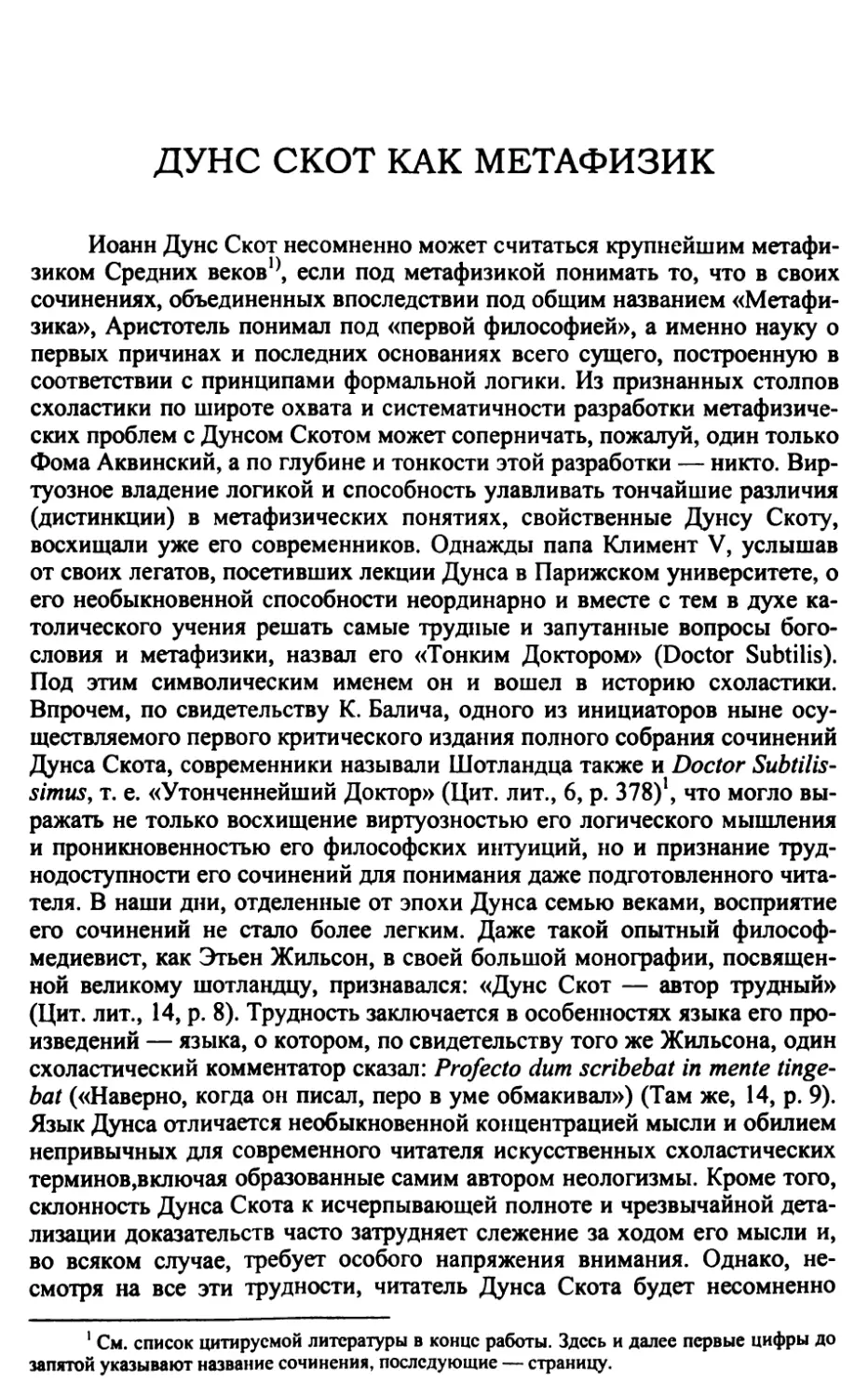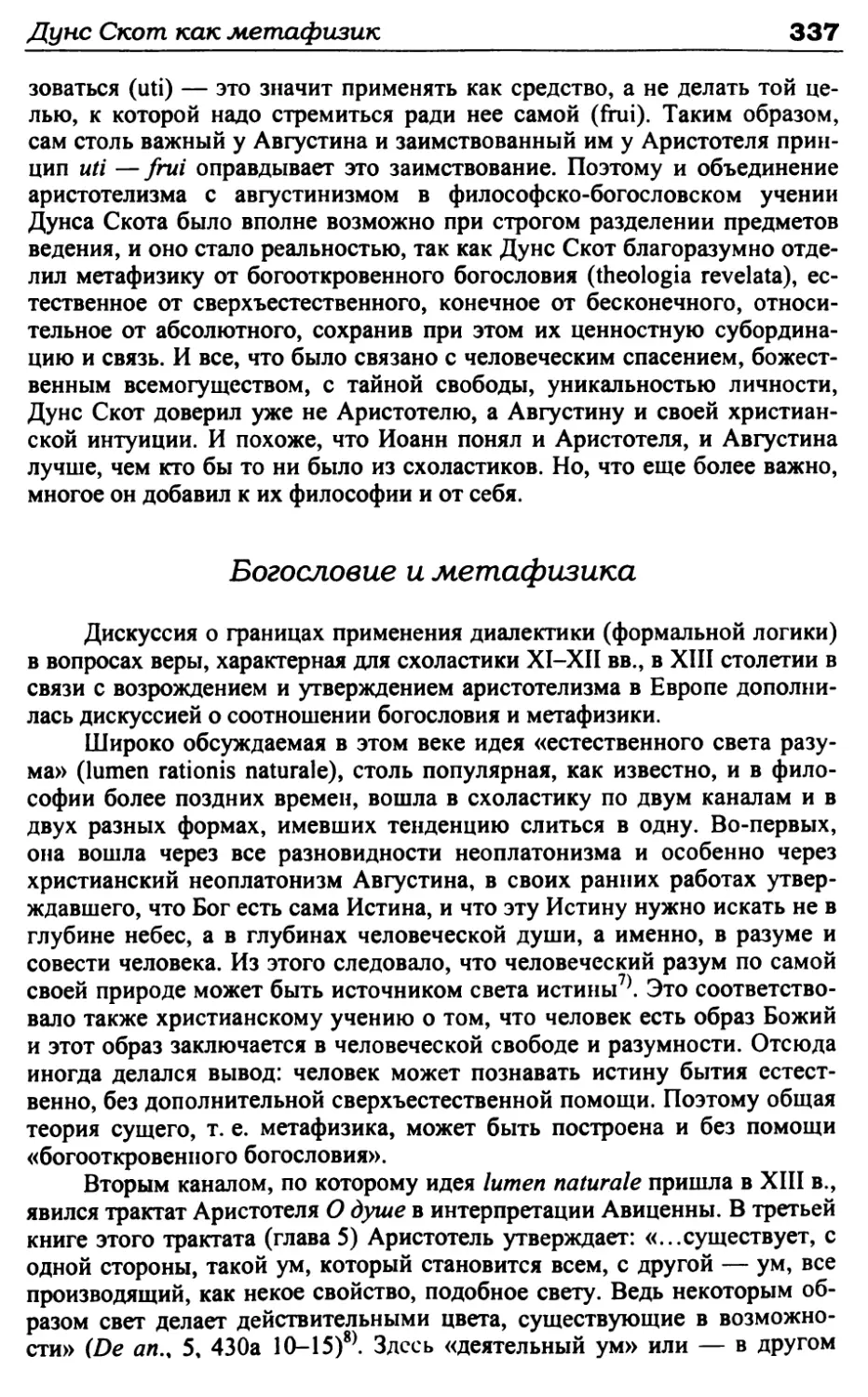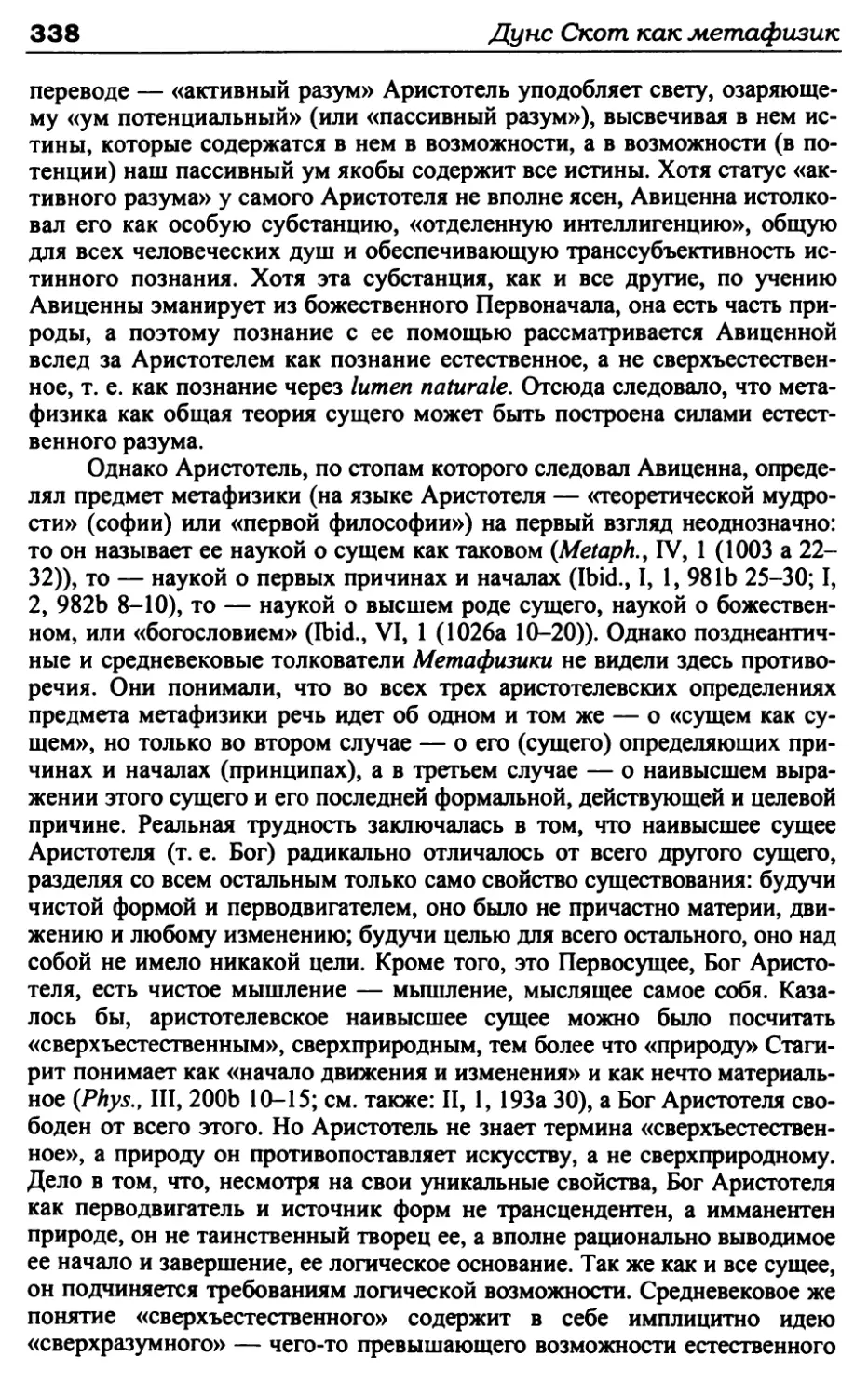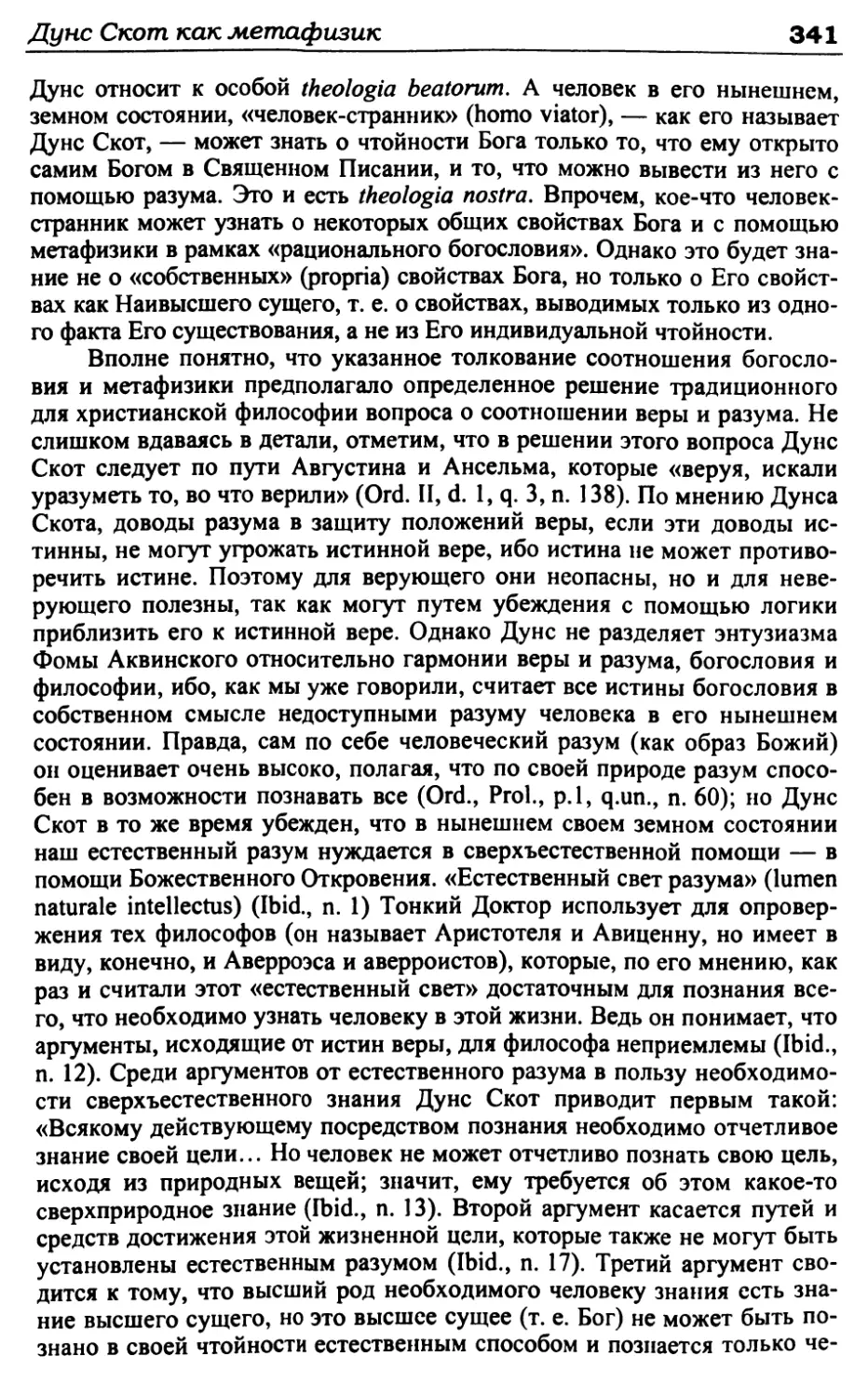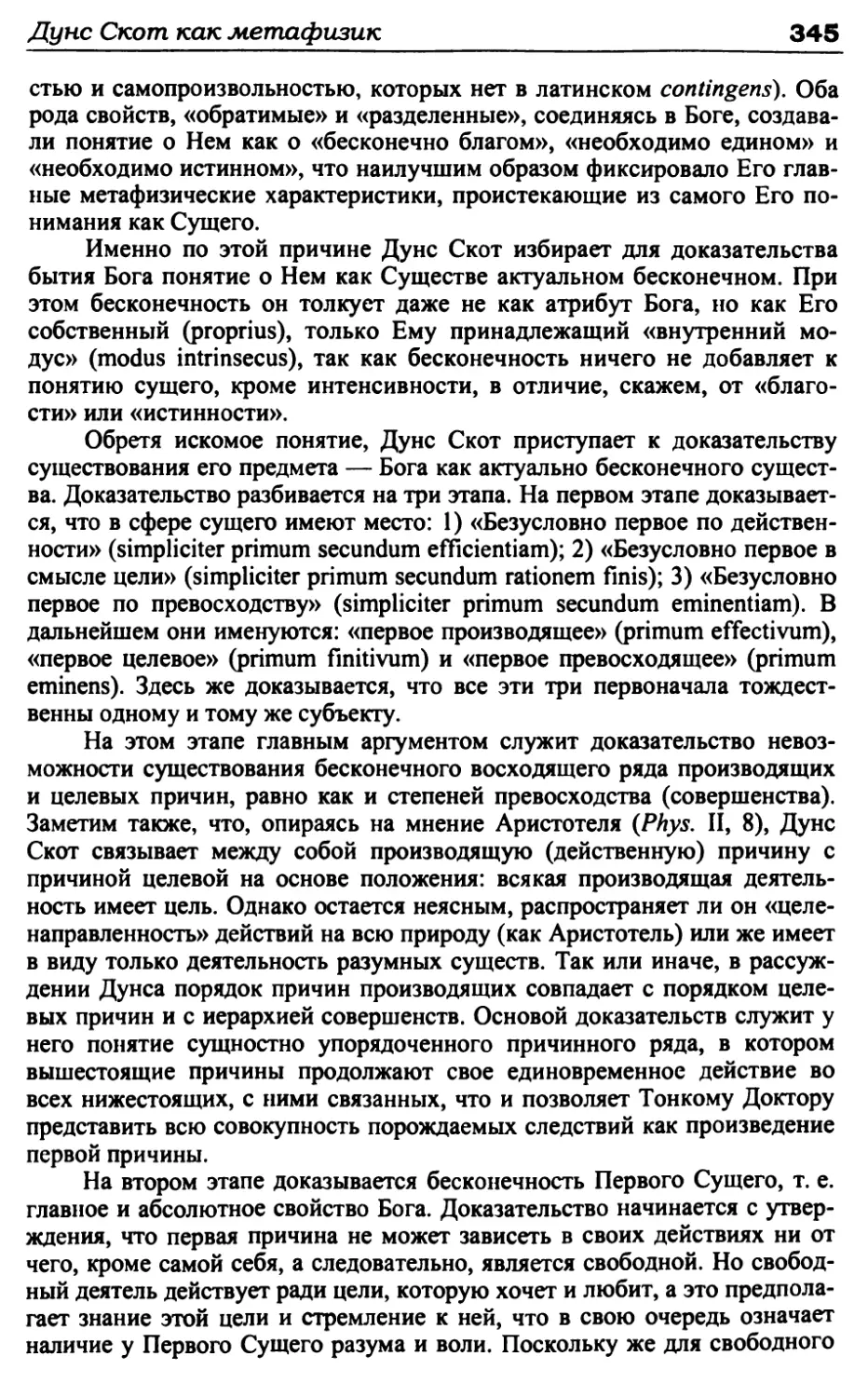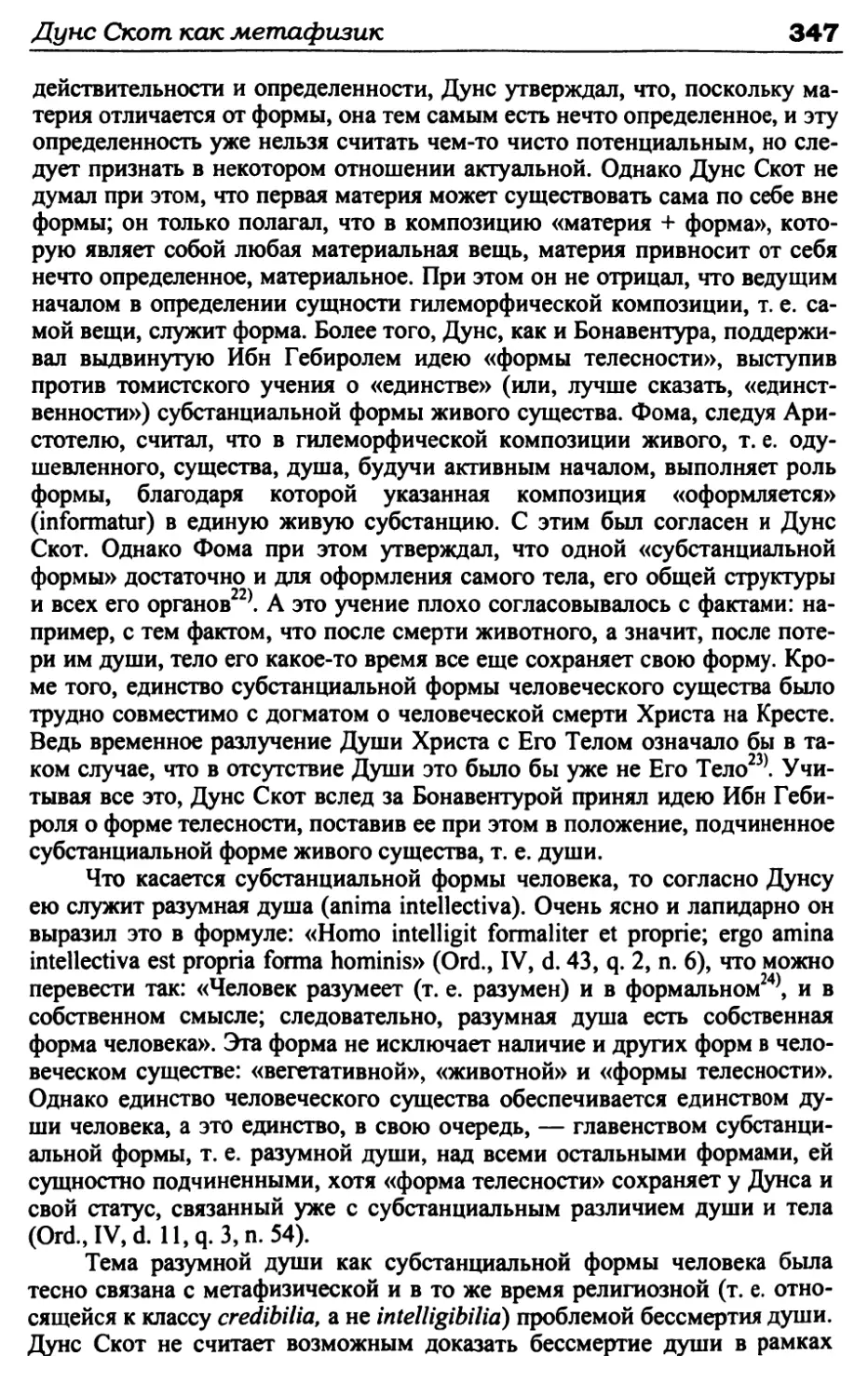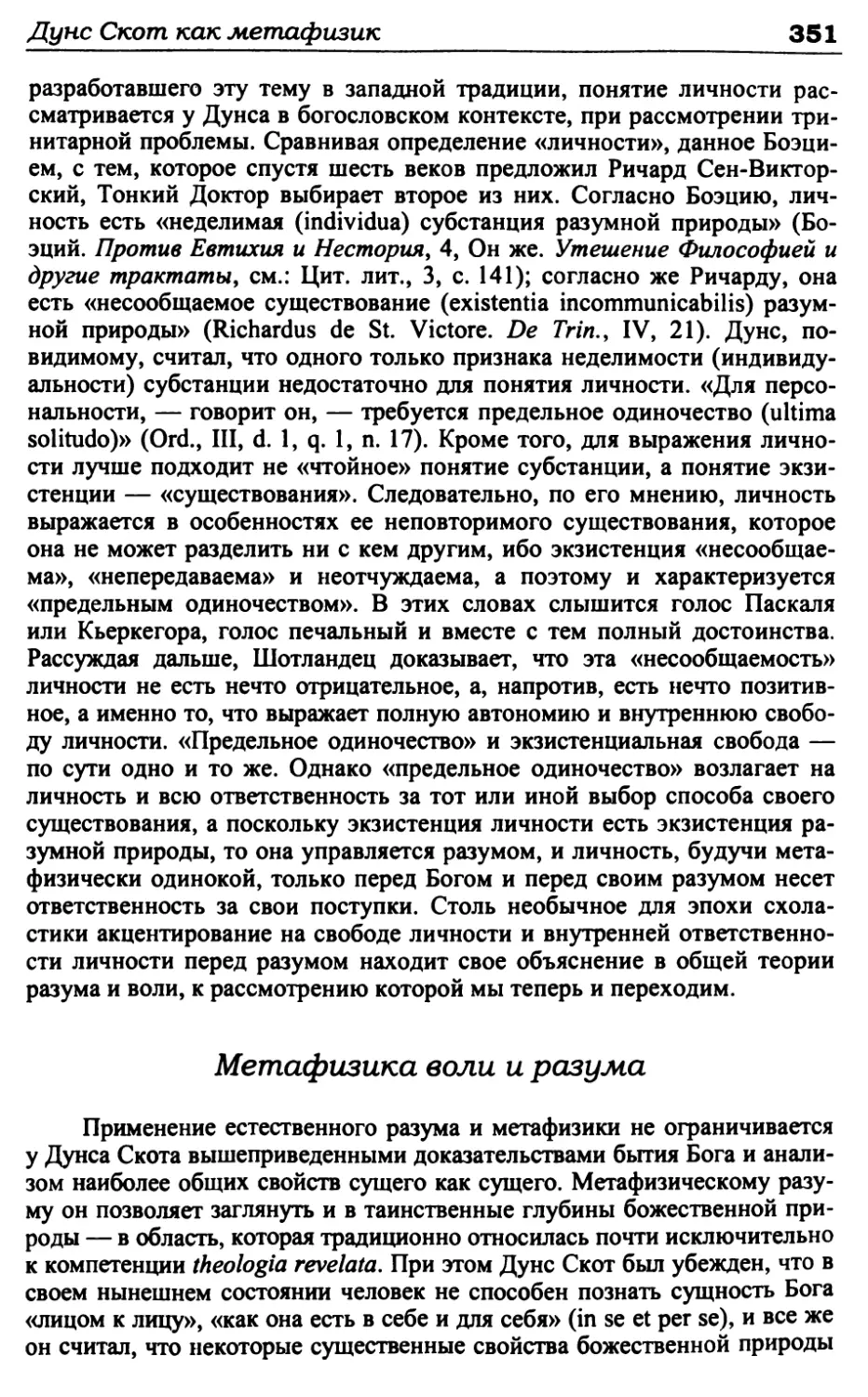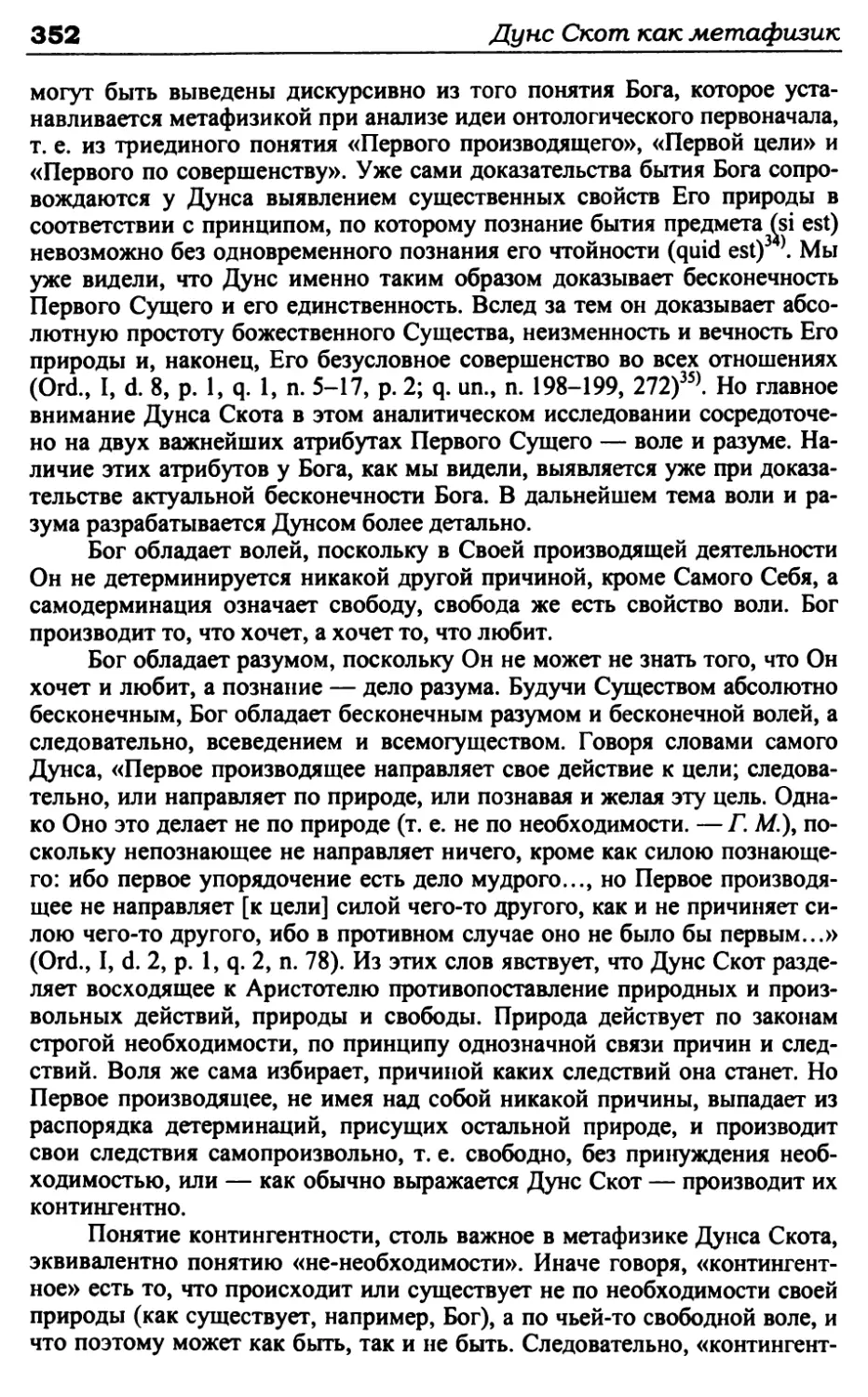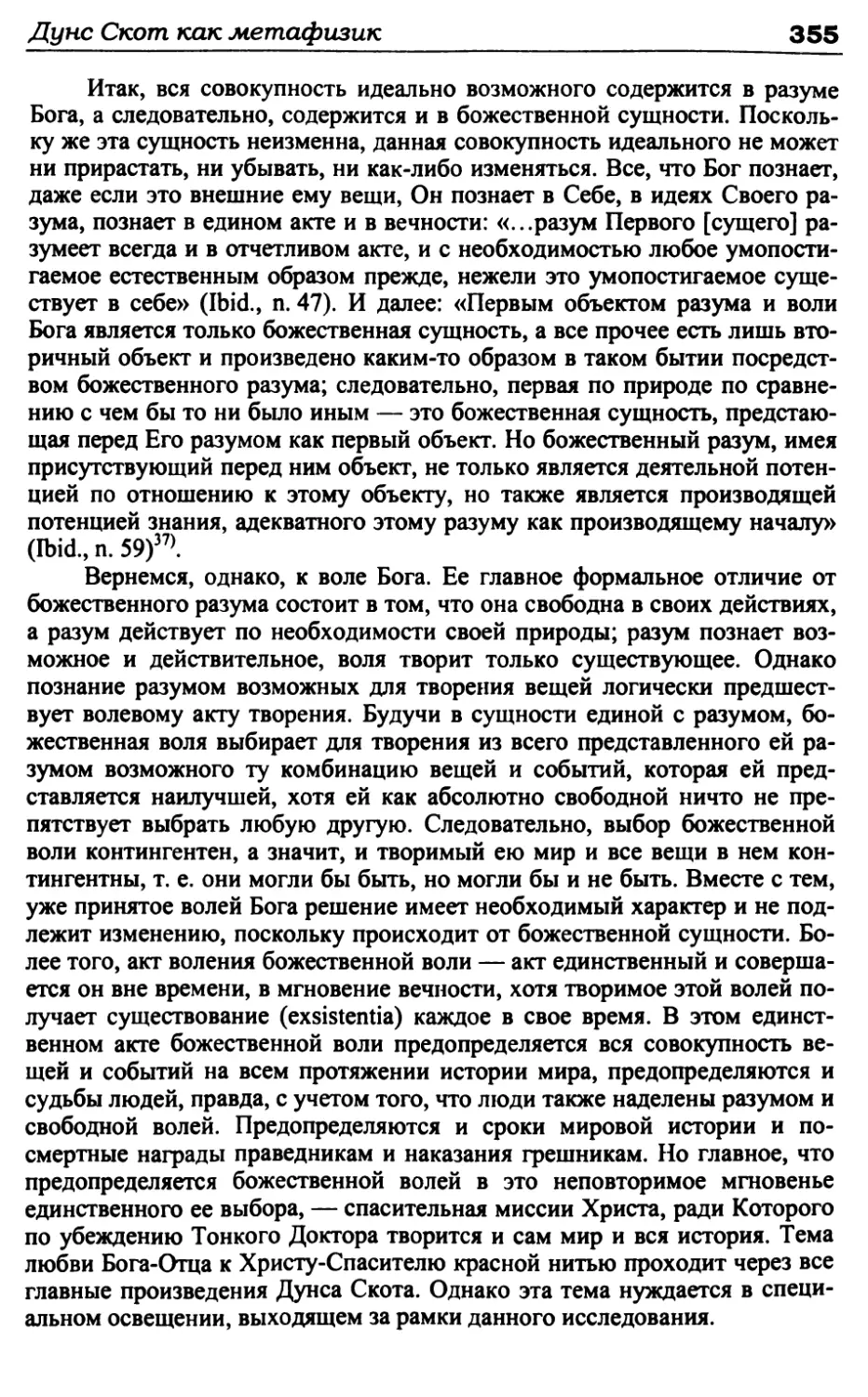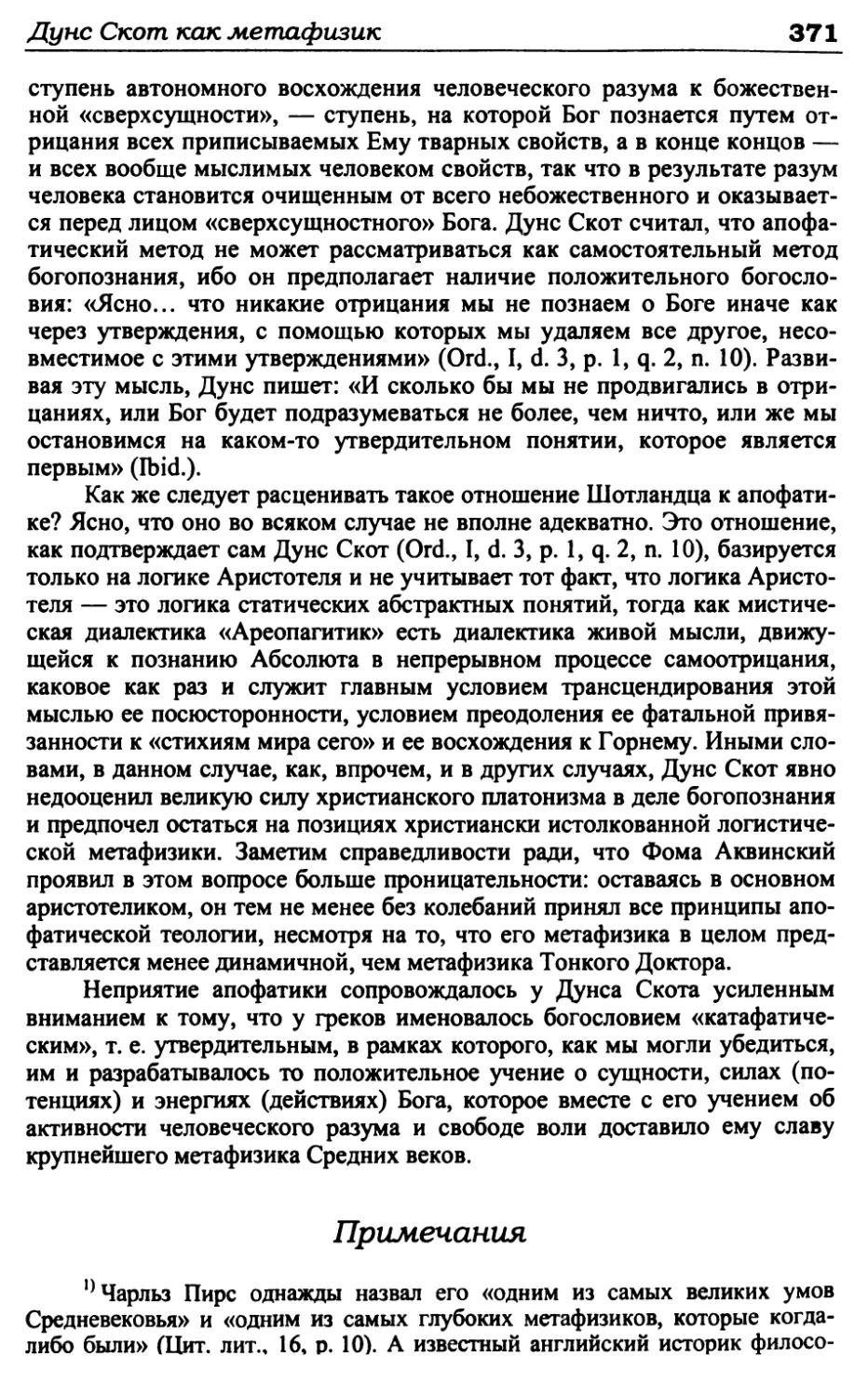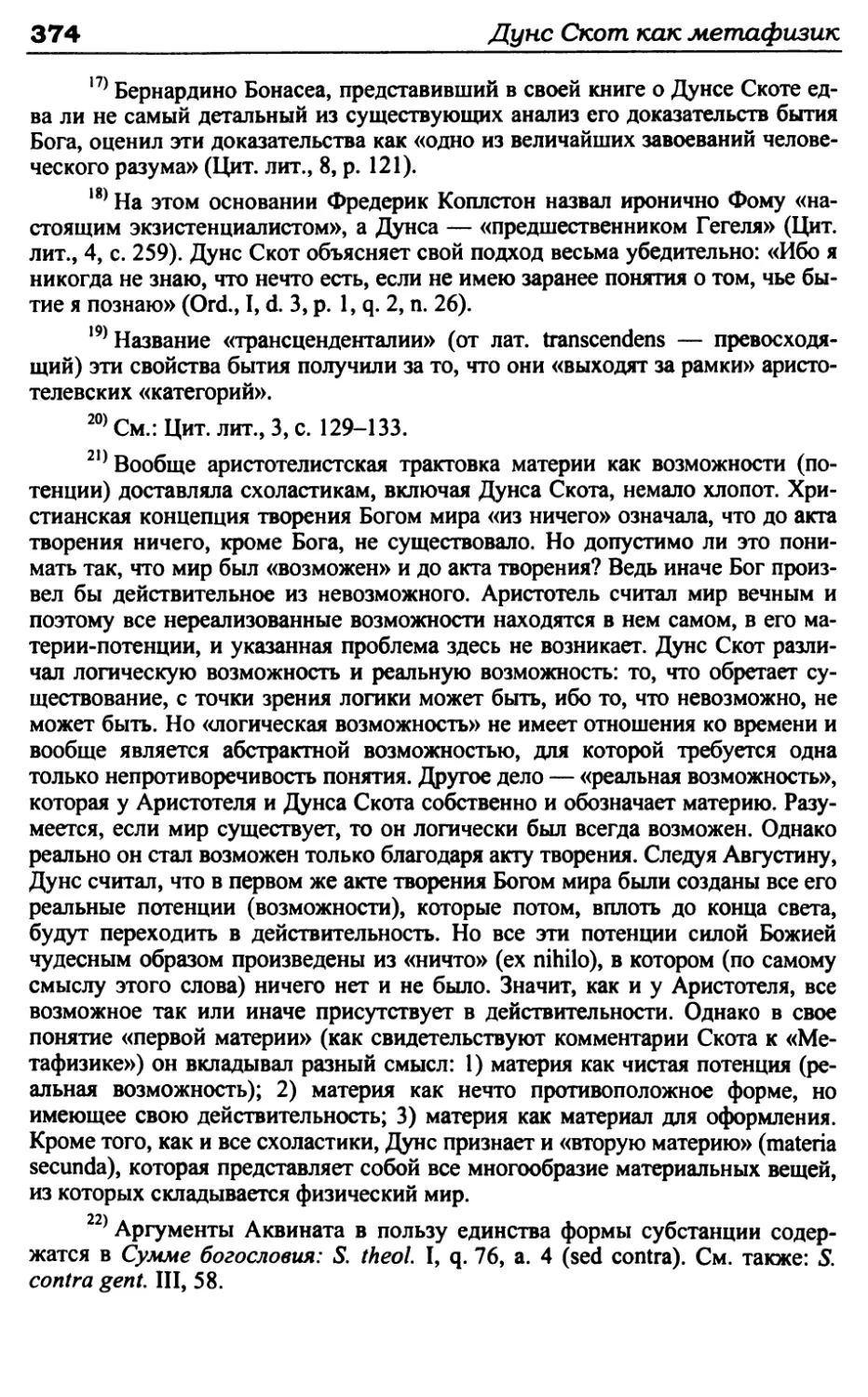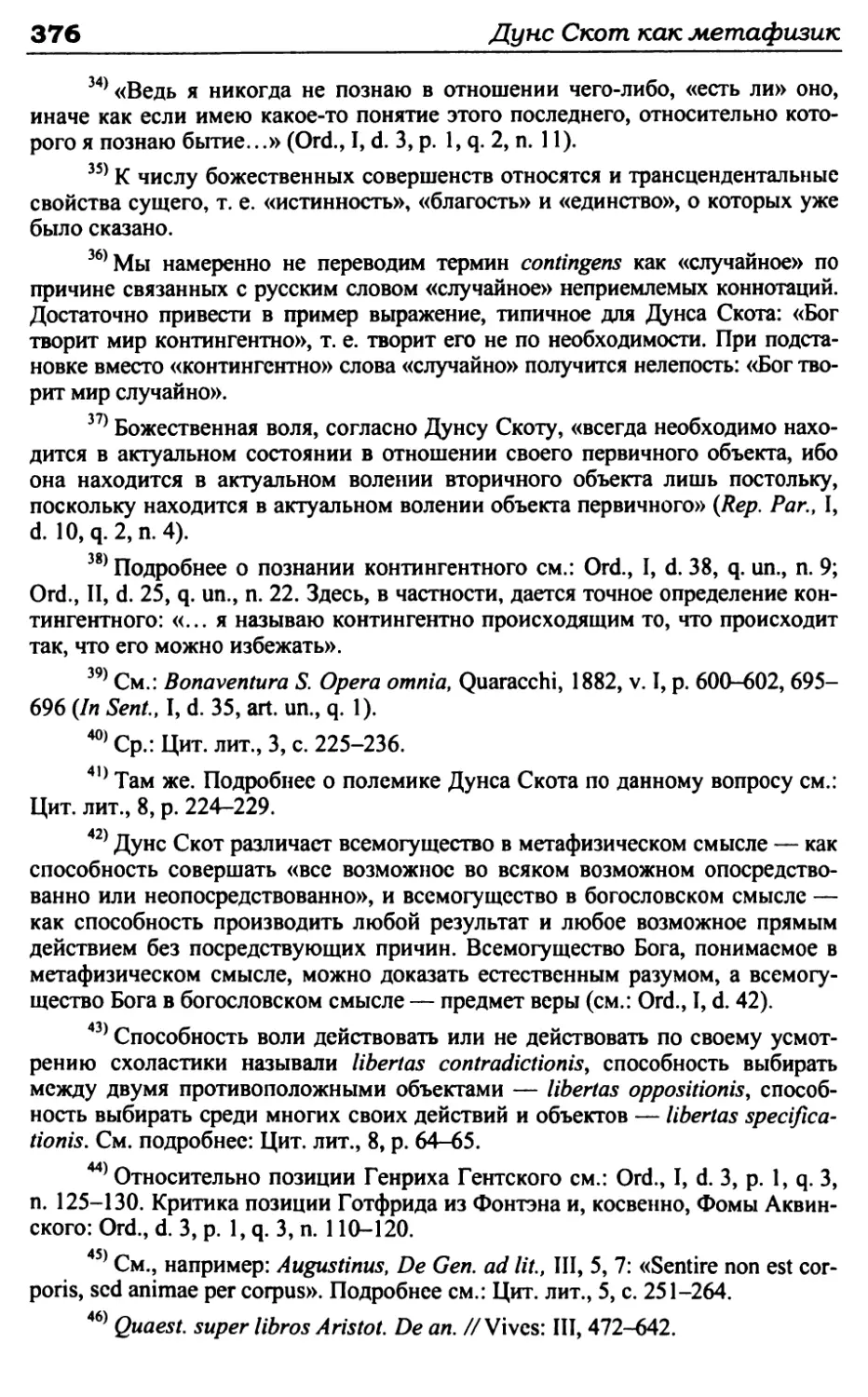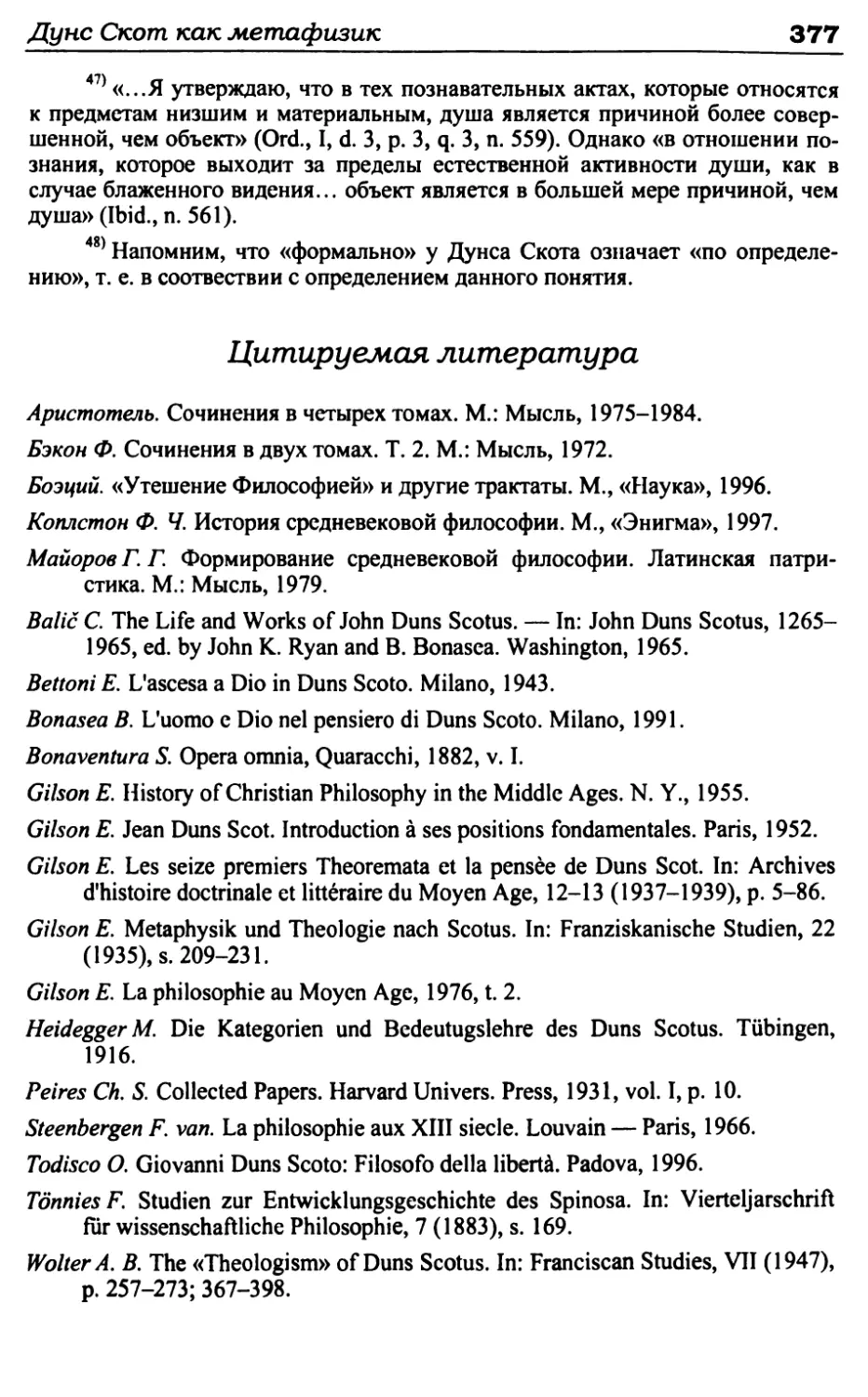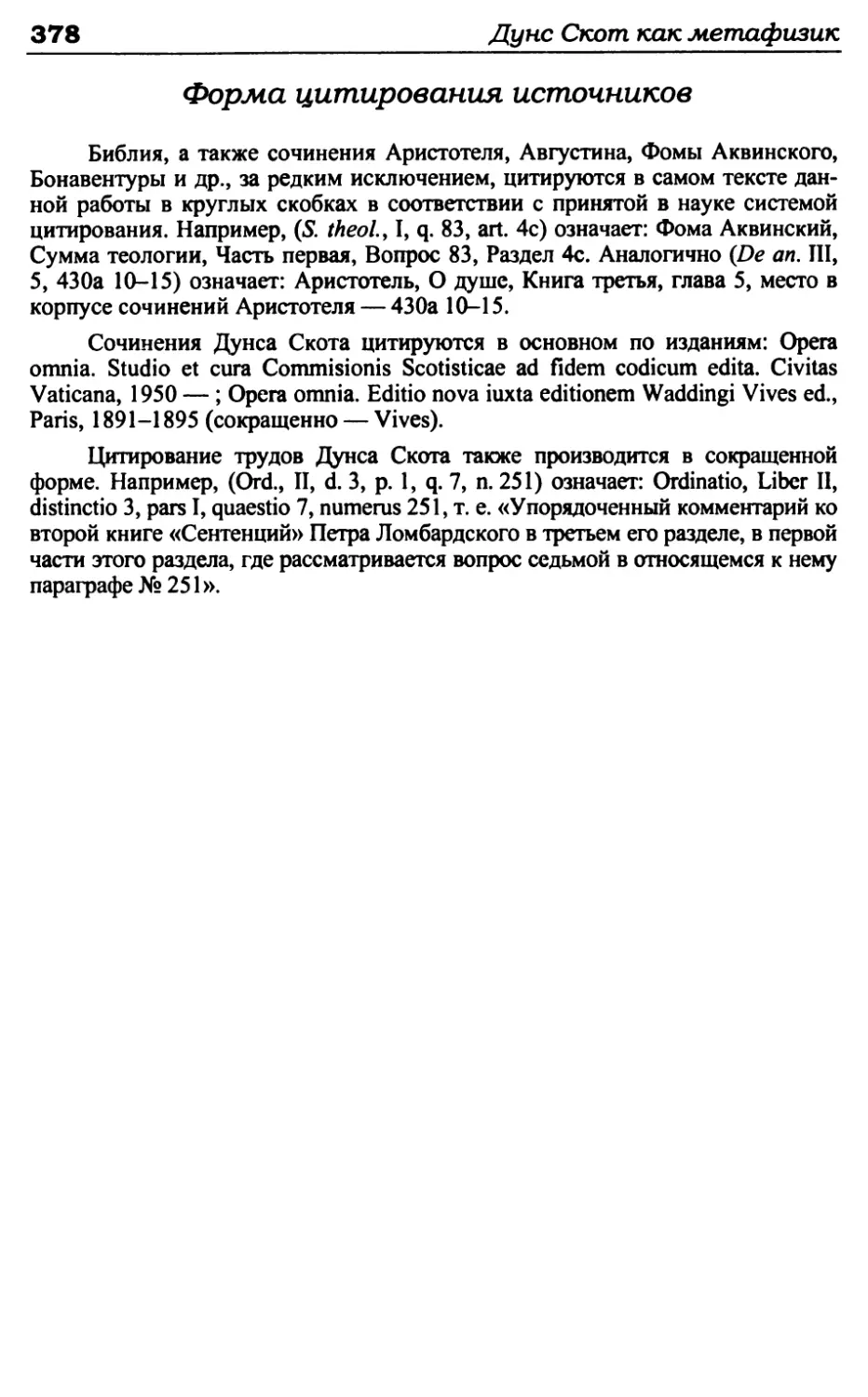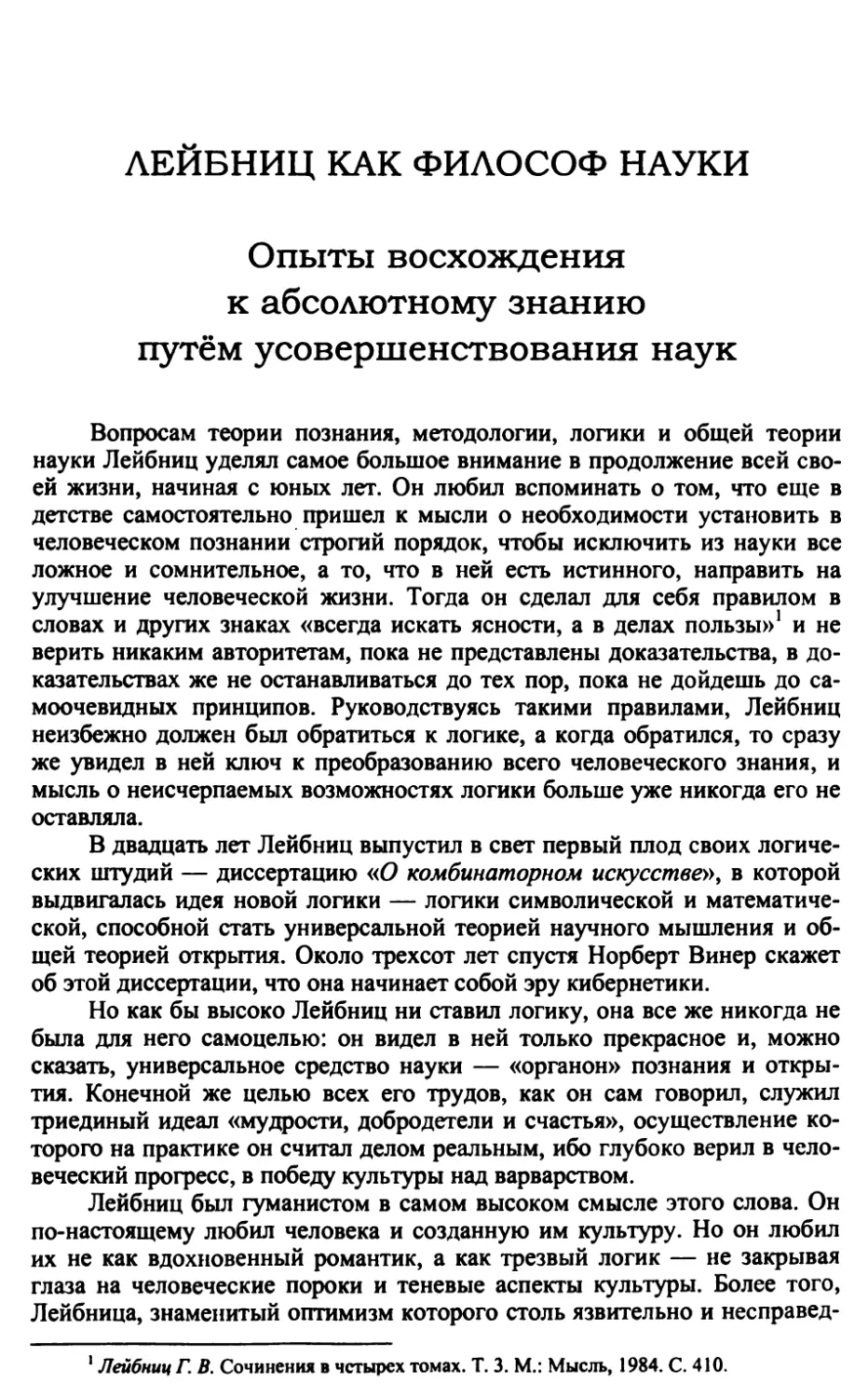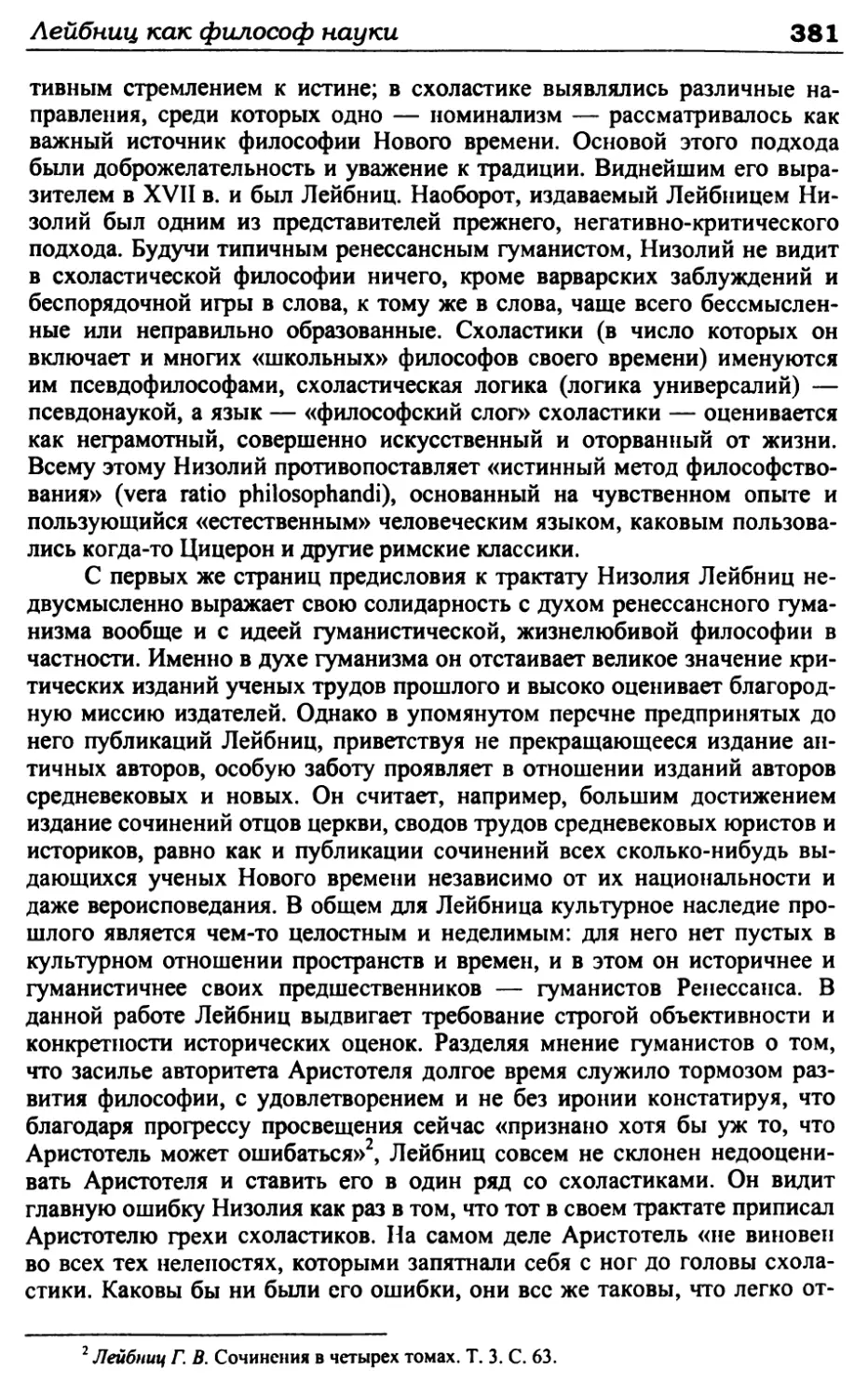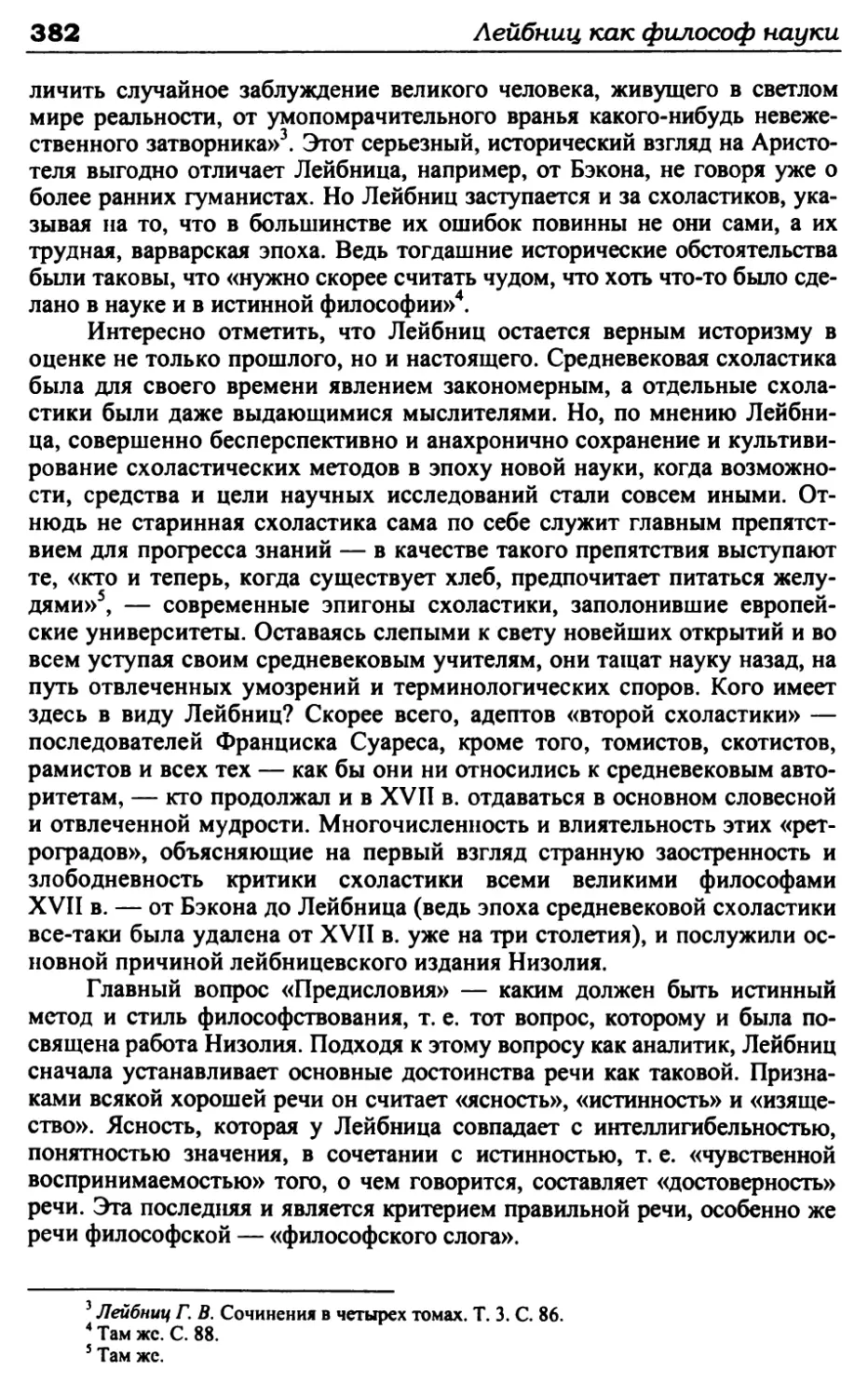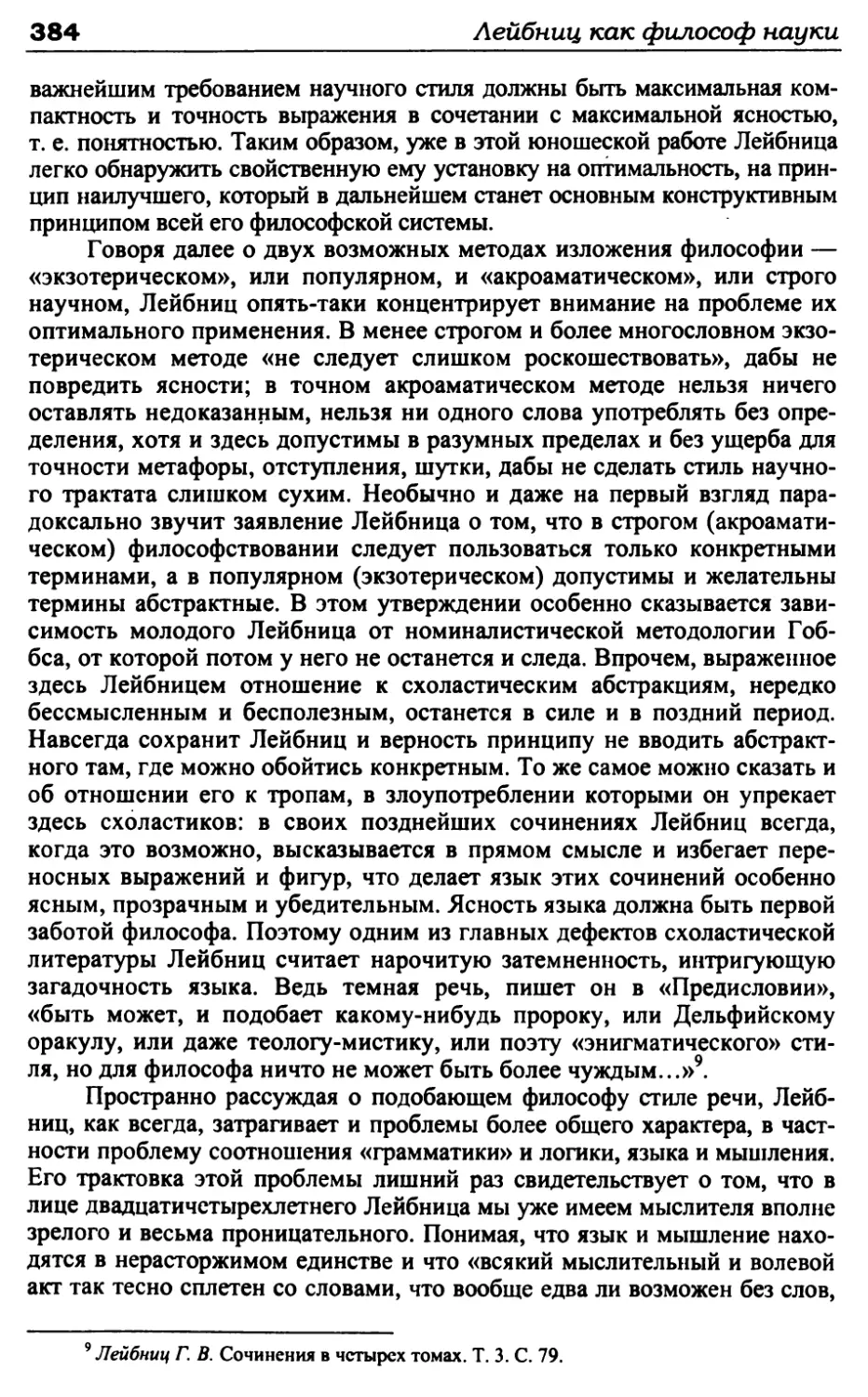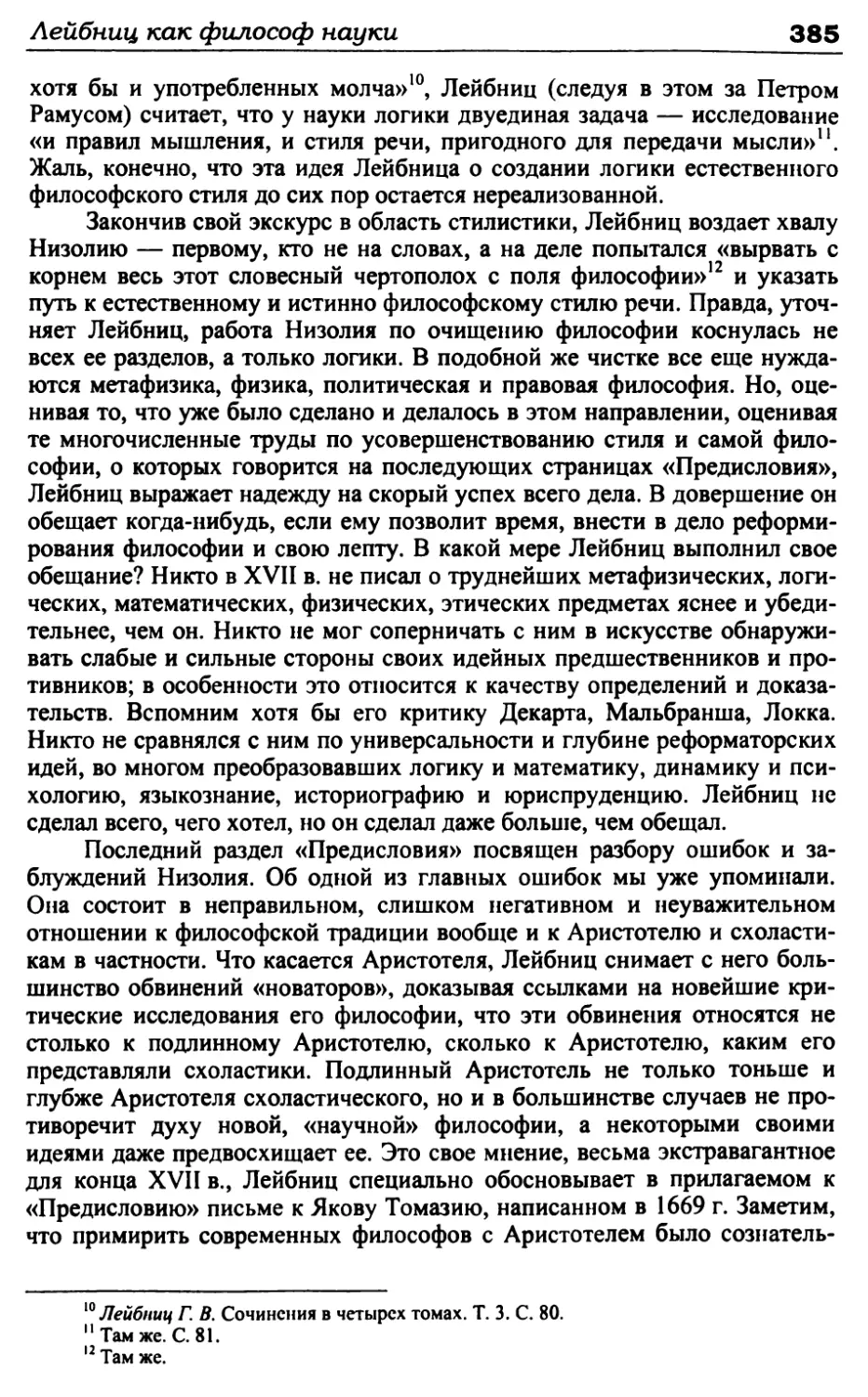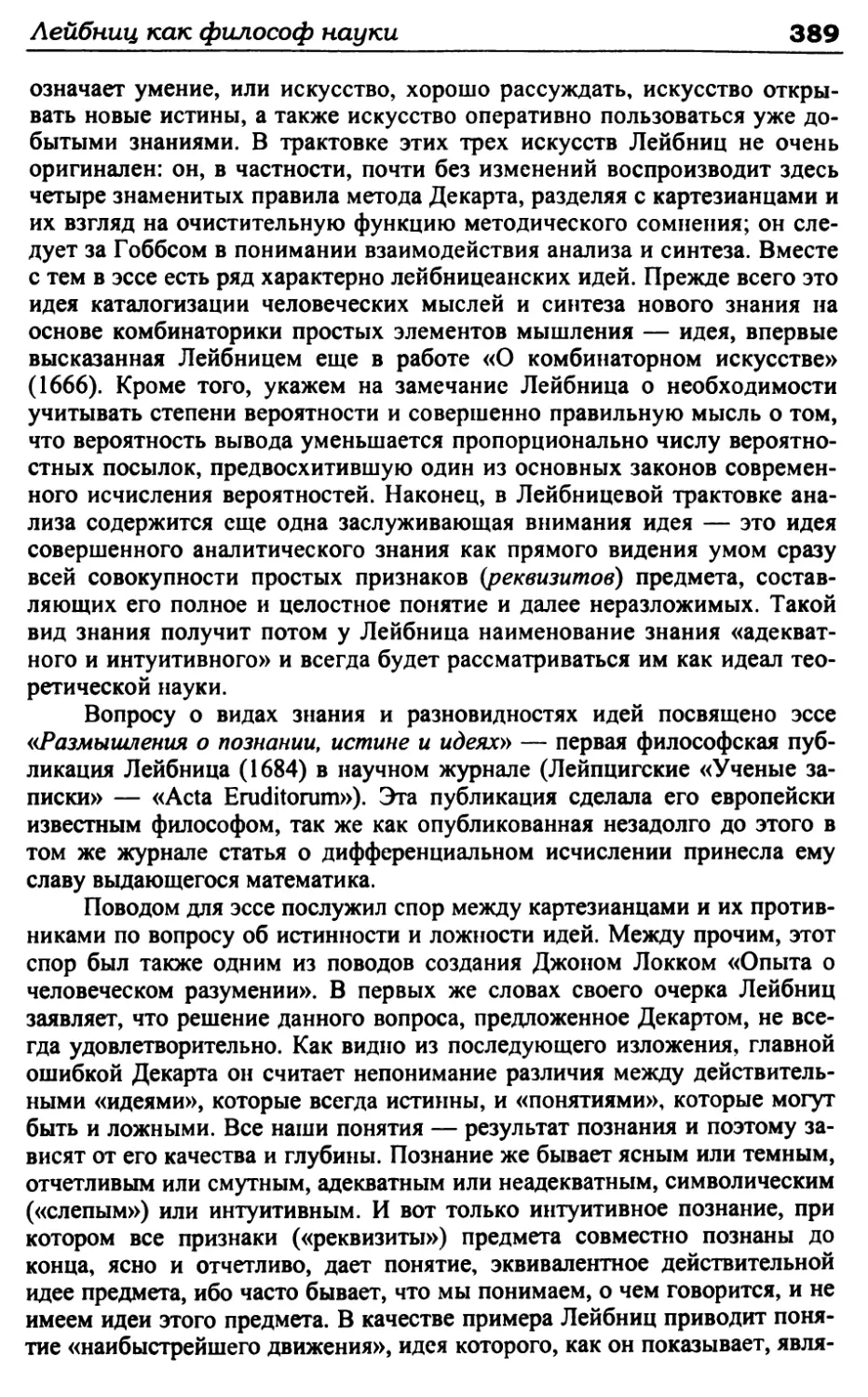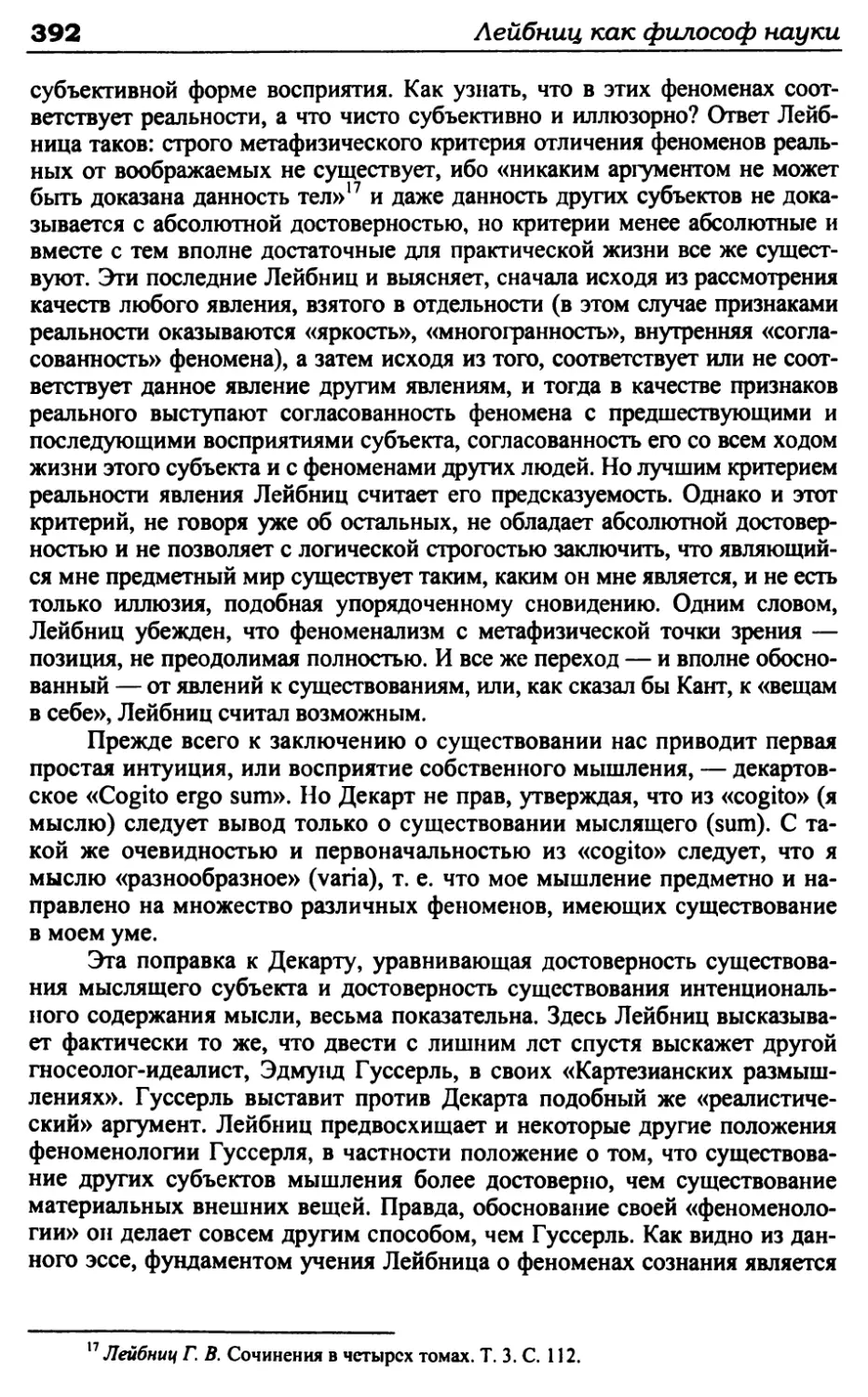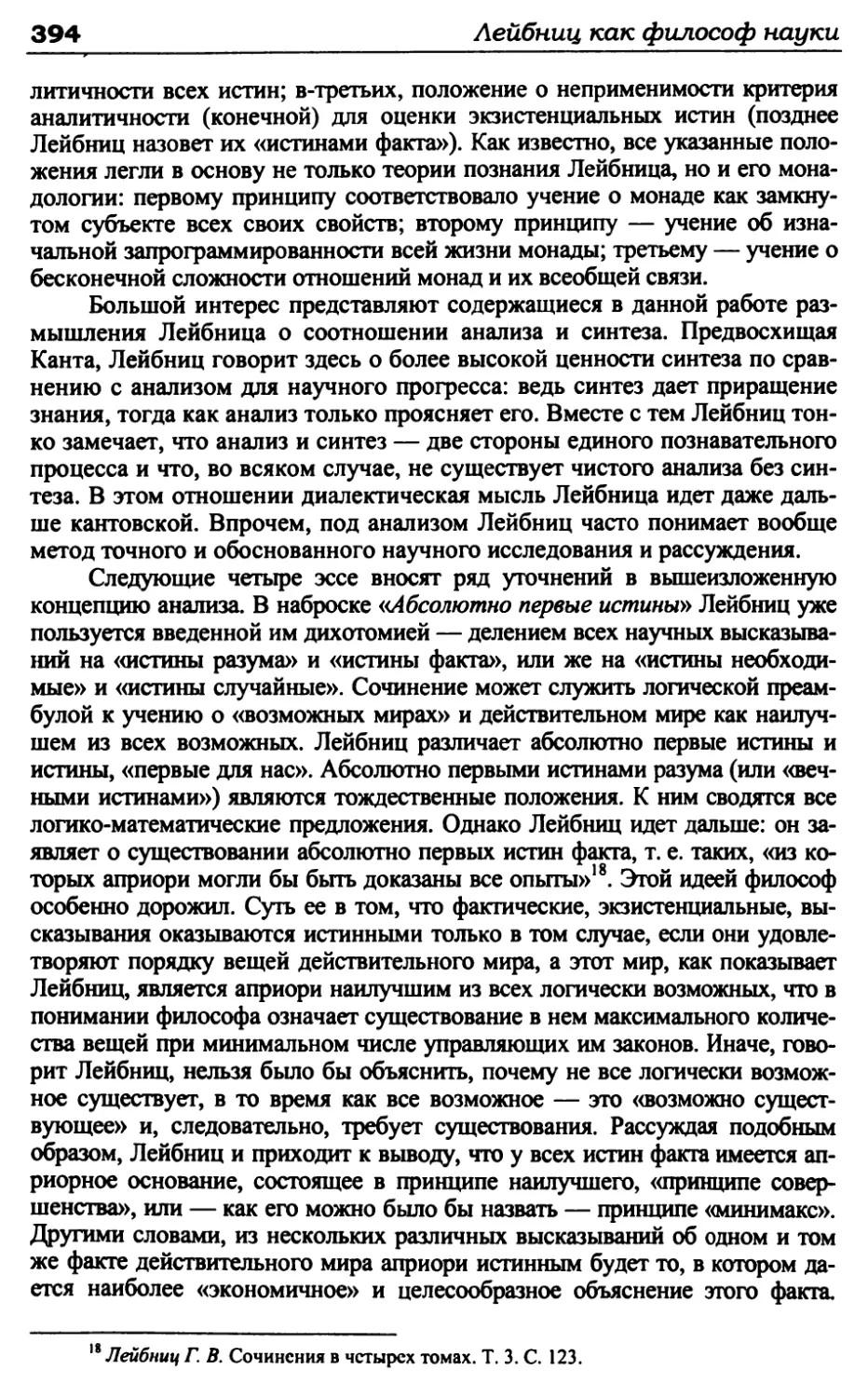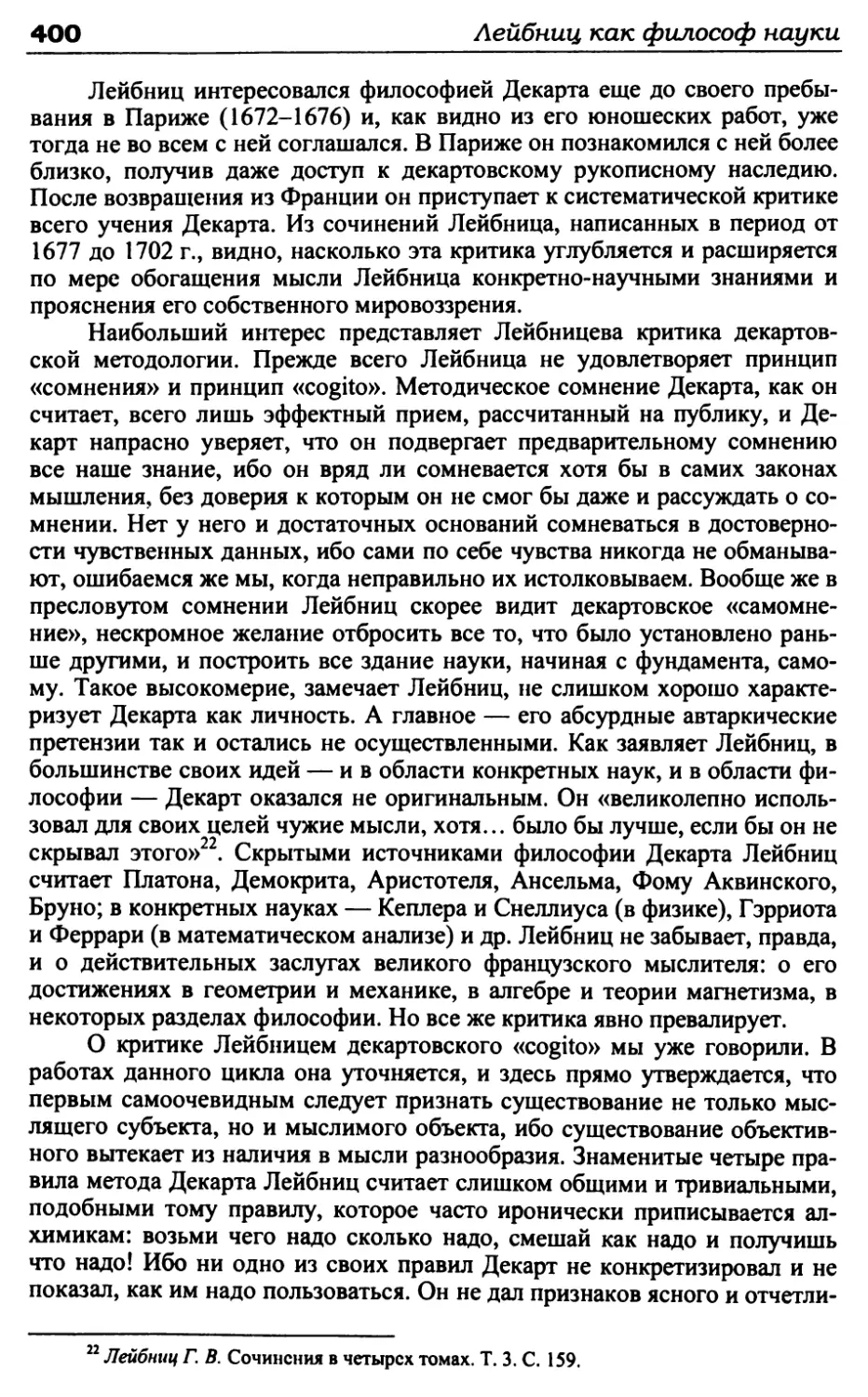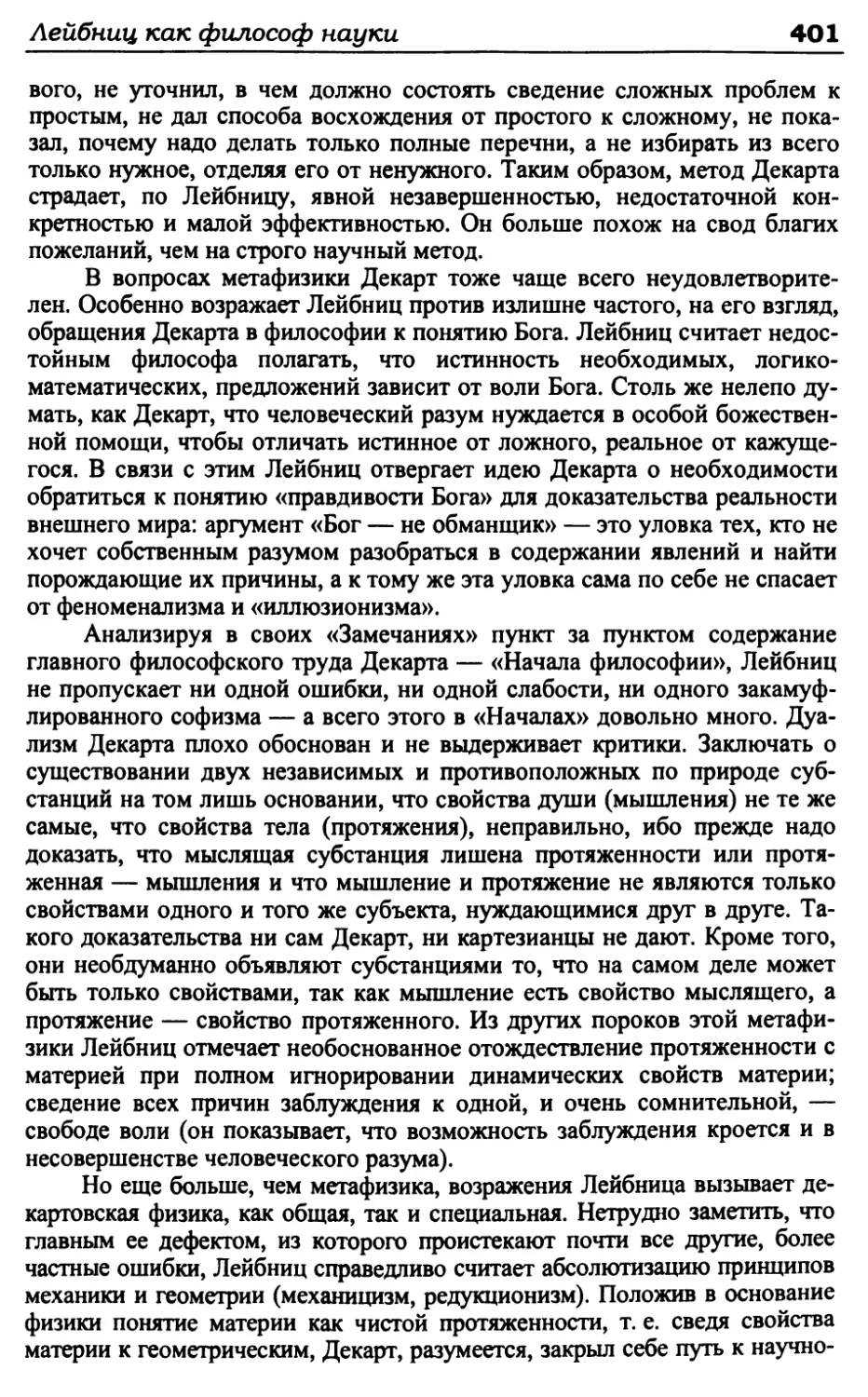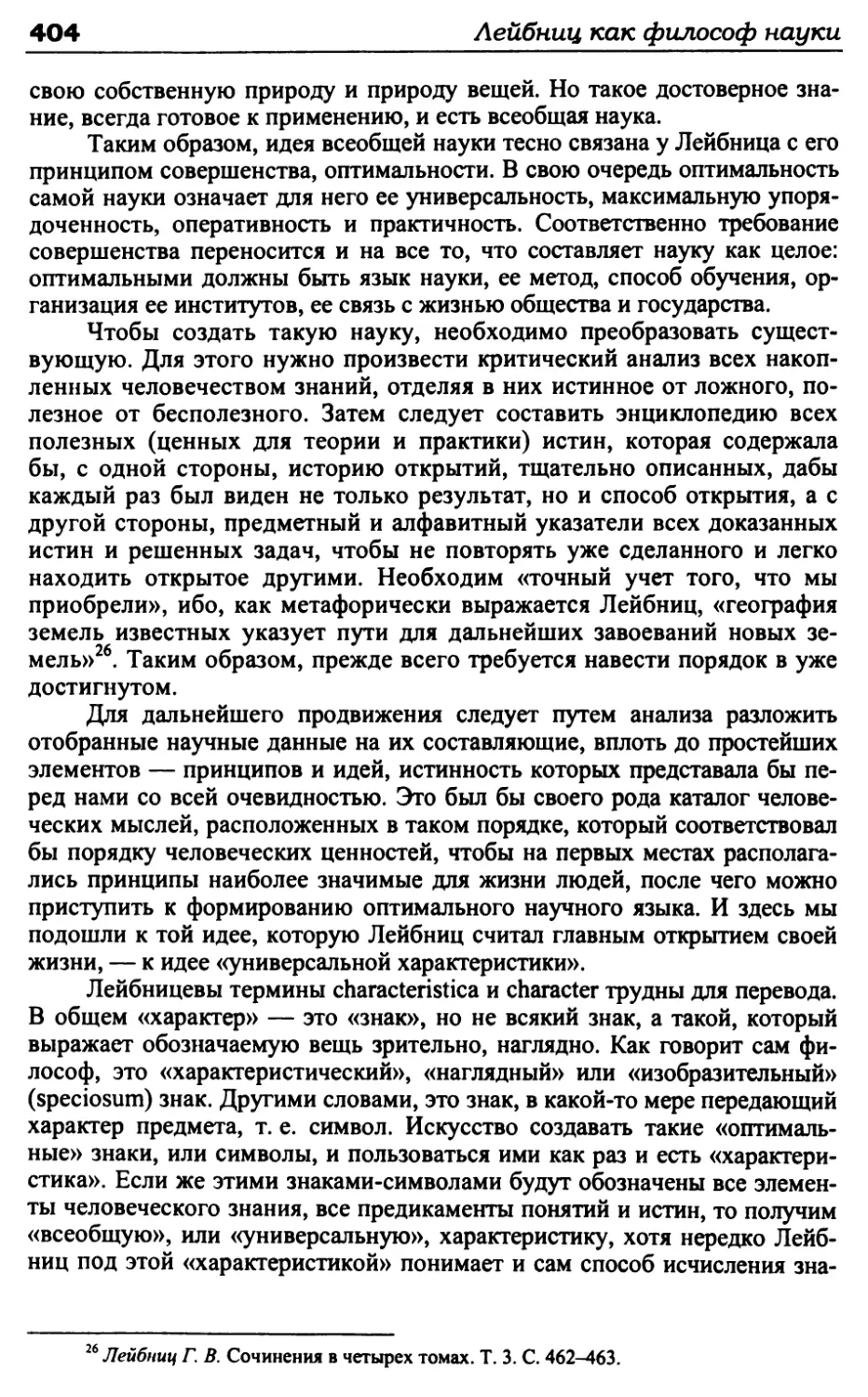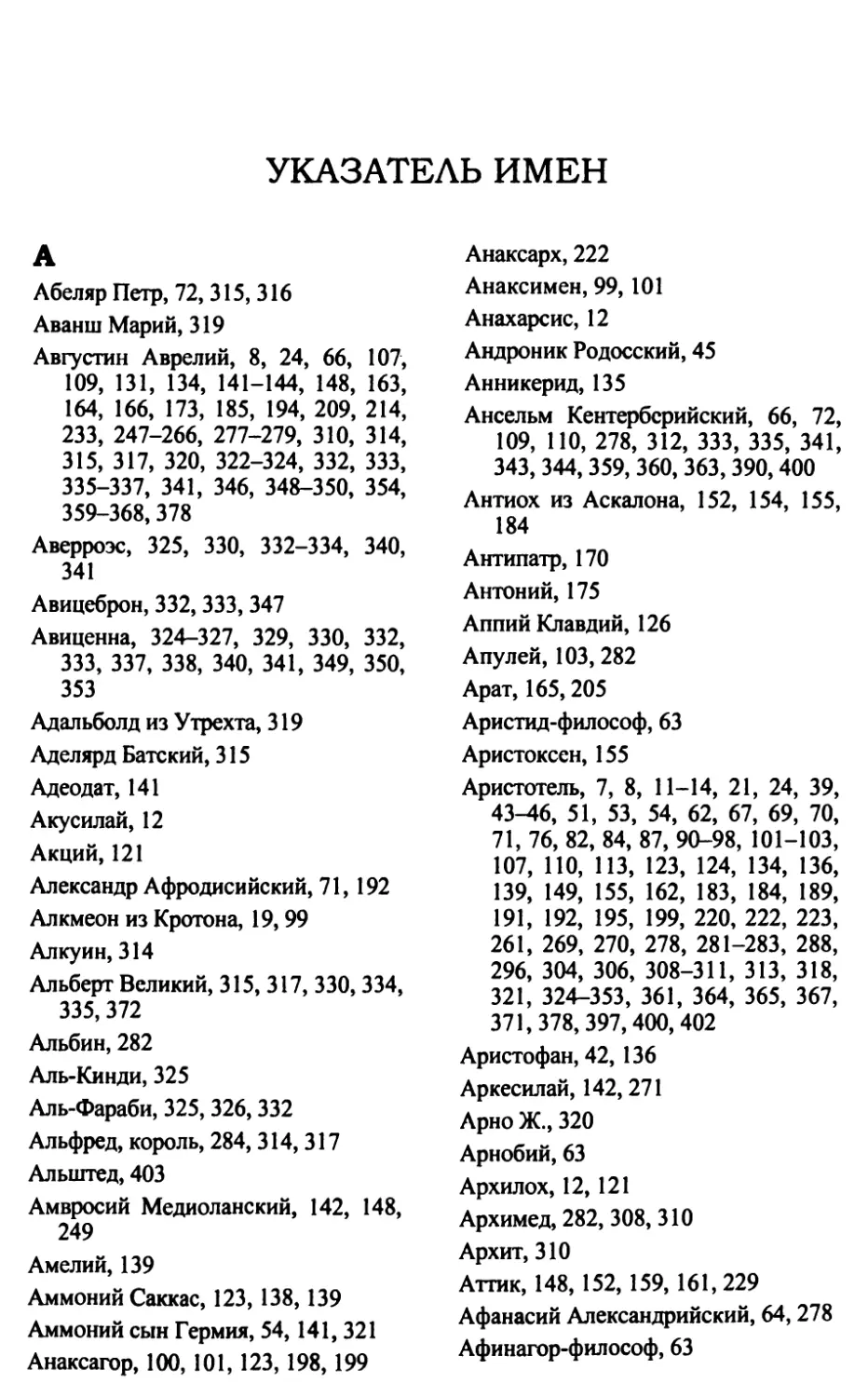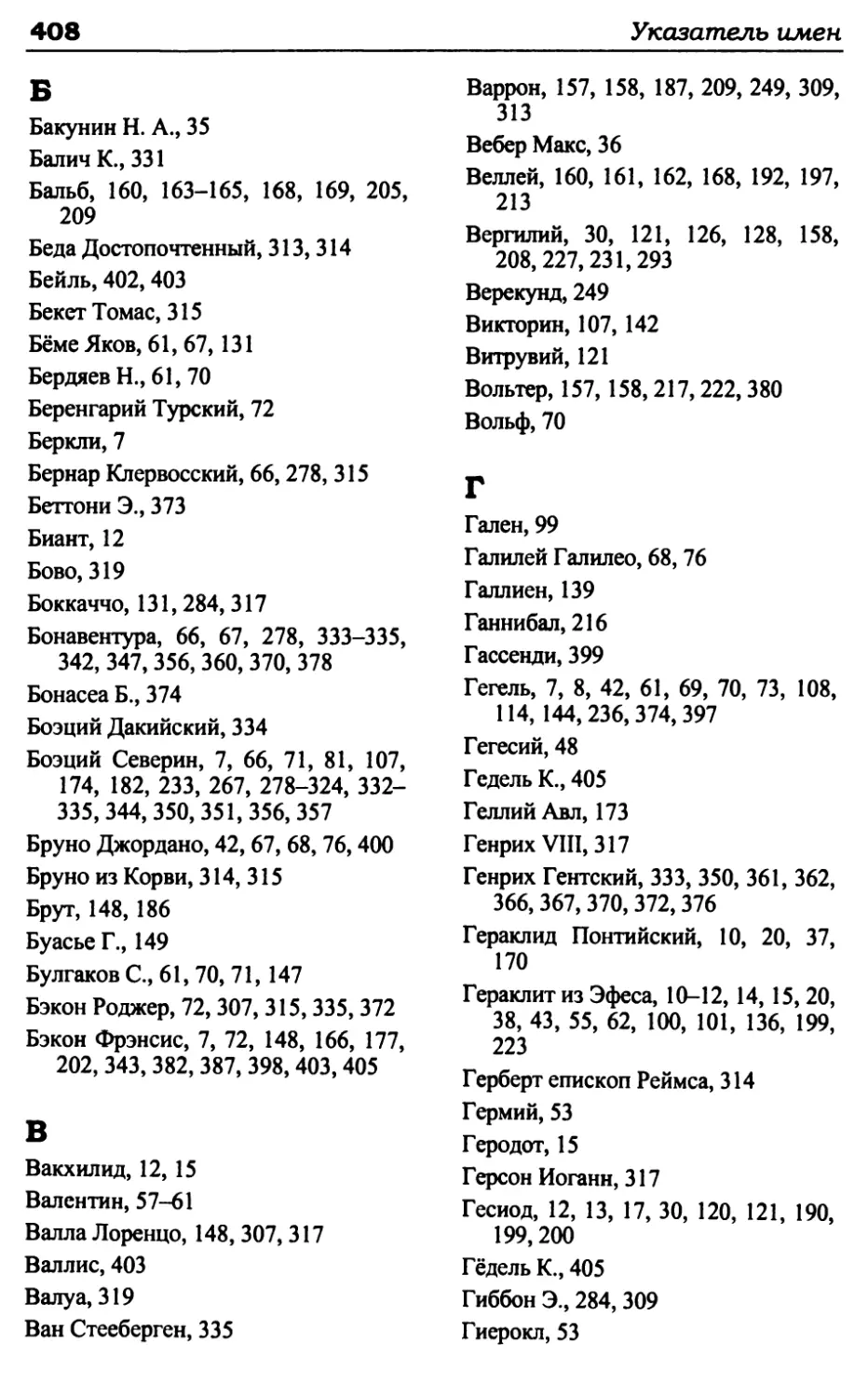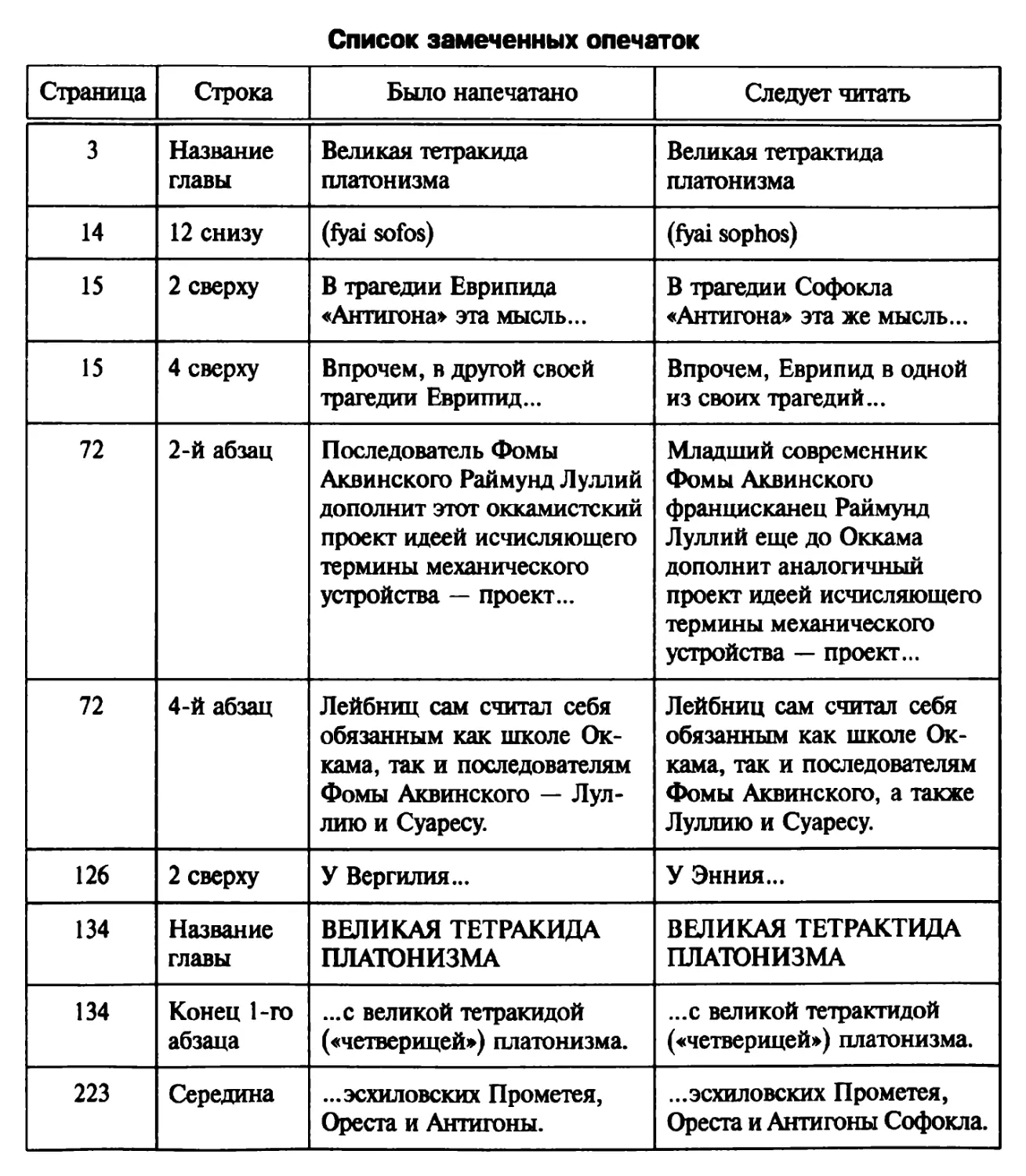Автор: Майоров Г.Г.
Теги: философия онтология метафизика гносеология философия истории социальная философия история философии издательство urss
ISBN: 978-5-397-03218-6
Год: 2008
Текст
Г. Г. Майоров
ФИЛОСОФИЯ
КАК ИСКАНИЕ
АБСОЛЮТА
Опыты теоретические
и исторические
Издание третье
URSS
МОСКВА
ББК 87.2 87.3
Майоров Геннадий Георгиевич
Философия как искание Абсолюта: Опыты теоретические и
исторические. Изд. 3-е. — М: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. — 416 с.
В книге на основе анализа и обобщения большого фактологического и
теоретического материала, относящегося к истории философии, а также к истории
науки, религии, морали, художественной литературы и искусства, раскрывается
авторская концепция происхождения самой идеи философии и трех основных типов
ее истолкования (софийного, эпистемического и технематического),
проявившихся еще в античности и определяющих направленность и содержание всех
философских учений на протяжении последующей европейской истории вплоть до
наших дней. Автор доказывает, что, несмотря на кардинальные различия
философских учений софийного, эпистемического и технематического типа, все они
так или иначе устремлены к изысканию последнего основания всего
происходящего в сфере человеческого познания и человеческого поведения, равно как и в
сфере природы, что позволяет автору оценивать сущность философского процесса
как неустанное искание Абсолюта. Эта центральная идея книги подтверждается
анализом в разных аспектах философских учений Платона, Аристотеля, Плотина,
Цицерона, Августина, Дунса Скота, Лейбница, Канта и многих других великих
подвижников в царстве мысли. Большое внимание в книге уделено
происхождению философской терминологии и прояснению смысла важнейших философских
идей и понятий.
Книга рассчитана как на специалистов в области философии, так и на
широкого читателя, ищущего ответ на вопрос: что такое философия и каково ее
назначение в человеческой жизни?
Издательство «Книжный дом "ЛИБРОКОМ"». 117335, Москва, Нахимовский пр-т, 56.
Формат 60x90/16. Печ. л. 26. Зак. № ВХ-67.
Отпечатано в ООО «ЛЕНАНД». 117312, Москва, пр-т Шестидесятилетия Октября, 11 А, стр. 11.
ISBN 978-5-397-03218-6
© Книжный дом «ЛИБРОКОМ»,
2008, 2012
12625 ID 165453
9^85397^321861
НАУЧНАЯ И УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
URSS
E-mail: URSSQURSS.ru
Каталог изданий в Интернете:
http://URSS.ru
Тел./факс (многоканальный):
+ 7(499)724 25 45
Все права защищены. Никакая часть настоящей книги не может быть воспроизведена или
передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то
электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель,
а также размещение в Интернете, если на то нет письменного разрешения владельца.
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие автора 6
Роль софии-мудрости в истории происхождения философии 9
Тщета науки. Критический этюд 23
София. Эпистема. Технема (Размышления о способах понимания
философии в ходе ее истории). Опыт первый 34
Философия как философия 37
Философия как эпистема 43
Философия как технема 47
София, Эпистема. Технема. Опыт второй 50
София. Эпистема. Технема. Опыт третий 62
Эссе о природе человека 77
Глава первая. Природа и судьба у греческих трагиков 77
Глава вторая. Тема человеческой природы
у Платона и Аристотеля 87
Глава третья. Душа — Ум — Дух 98
Бытие — сущее — сущность.
Опыт исторического исследования идей 106
Опыт определения функции идей в познании 115
Восток и Запад в Европе 120
Великая тетракида платонизма. Историко-философские этюды 134
Этюд первый. Платон 134
Этюд второй. Плотин 138
Этюд третий. Августин 141
Этюд четвертый. «Ареопагитики» 145
Цицерон как философ 148
Цицерон и античная философия религии 189
Вступление 189
О теологии греков 190
О языческой религии, магии и мифологии 193
Теология стоиков и эпикурейцев 195
4 Содержание
Античное язычество и моральное сознание 198
Академическая критика теологии 201
Общий взгляд Цицерона на религию и теологию 203
Религия в представлениях древних римлян 206
Цицерон как критик язычества 212
Этические проблемы теодицеи 218
Образ Катона Старшего в диалогах Цицерона.
(К вопросу об особенностях римской мифологии истории) 226
Моральное сознание античного христианства.
Новый Завет и Августин 233
Глава первая. Этика смирения 233
Глава вторая. Этика «исповеди» 246
В поисках нравственного Абсолюта. Античность и Боэций 267
Глава первая. От разума к вере 267
Глава вторая. От веры к разуму 279
Северин Боэций и его роль в истории западноевропейской
культуры. (К 1500-летнему юбилею) 307
Был ли Боэций мыслителем христианским? 319
К вопросу об эволюции аристотелизма в Средние века.
К тысячелетию Авиценны 324
Дуне Скот как метафизик 331
Факторы влияния и эрудиция 332
Богословие и метафизика 337
Метафизика воли и разума , 351
Примечания 371
Цитируемая литература 377
Форма цитирования источников 378
Лейбниц как философ науки. Опыты восхождения
к абсолютному знанию путём усовершенствования наук 379
Указатель имен 407
Светлой памяти моей матери
Антонины Павловны Майоровой
посвящаю
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Предлагаемая читателю книга в силу особенностей её композиции и
смыслового содержания, по-видимому, нуждается в некоторых
предварительных авторских разъяснениях и оправданиях. У читателя,
начинающего своё знакомство с книгой, с «содержания», может создаться
впечатление, что данный том представляет собой собрание разнородных работ,
написанных автором в разное время и с разной мотивацией, — нечто
вроде сборника статей и очерков, не объединенных никакой общей идеей,
подобного тем, которые в Средние века, да и в более близкие к нам
времена, относили к литературному жанру «Varia», т. е. «Разное». Однако
само название данной книги говорит о том, что она, во всяком случае по
авторскому замыслу, должна была бы рассматриваться скорее как
монографическое исследование, посвященное, во-первых, прояснению смысла
и назначения философии, а во-вторых, раскрытию содержания некоторых
кардинальных философских идей и принципов, выдвинутых в ходе
исторического развития, что объясняет внимание, которое уделено в книге
также и происхождению философской терминологии. Полагая, что ядром
философии является нравственная идея, я включил в книгу также
разделы, посвященные античному и раннехристианскому моральному
сознанию. А поскольку философия, будучи, конечно, и онтологией, и
гносеологией, в то же время немыслима вне рамок культуры в целом и, в
частности, — в отрыве от науки, с одной стороны, и от религии — с другой, мне
показалось правильным включить в книгу несколько очерков,
посвященных вопросам онтологии, теории познания, философии науки и
философии религии, а также включить в неё несколько культурно-исторических
эссе и этюдов и один очерк, который можно отнести к философии
истории. Таким образом, философия, как я надеюсь, представлена в книге
почти во всех своих главных ипостасях, что, возможно, позволит
читателю убедиться в правильности избранного мною для книги названия, ибо
понятая как искание Абсолюта, философия по необходимости имеет
отношение ко всем формам проявления жизни духа, что показывает и её
история, которой в книге уделено особое внимание. Подзаголовок
«опыты» указывает на то, что автор не претендует на окончательное решение
поставленных проблем, но лишь пытается их решить.
Что касается истории создания самой этой книги, то идея её
написания возникла у меня очень давно, четверть века назад, после выхода в свет
двух моих монографий, одна из которых — «Теоретическая философия
Готфрида В. Лейбница» (1973 г.) — подытоживала мои первоначальные
занятия философией Нового времени, а вторая — «Формирование
средневековой философии» (1979 г.) — была результатом изучения духовных
исканий эпохи патристики и раннего периода Средних веков.
Соприкоснувшись с творениями гения Лейбница, вдохновленного идеей философии
Предисловие автора
7
как универсального духовного синтеза, и с творениями Отцов Церкви,
проникнутыми идеей постижения Бога как духовного Абсолюта
посредством того, что они называли «любомудрием», т. е. именно философией, я
загорелся желанием проследить происхождение такого понимания смысла
и функции философии и обратился к античности. Изучение античной
философии и античной литературы вообще привело меня к выводу, что
подобное понимание философии было свойственно грекам с самого момента
её, философии, возникновения. Тогда-то я и задумал написать книгу,
которую теперь и предлагаю на суд читателей. Задержка с её созданием
была связана не только с трудностью решения поставленной задачи, но и с
тем, что в последующий долгий период я был занят переводом на русский
язык и подготовкой к публикации в сериях «Философское наследие» и
«Памятники философской мысли» латинских сочинений классиков
мировой философии: Фр. Бэкона, Дж. Беркли, Готфрида Лейбница, Цицерона,
Северина Боэция, а позднее и Дунса Скота. Эта нелегкая работа
поглощала почти всё моё время, свободное от преподавания в Московском
университете, а если и позволяла мне что-то ещё писать по главной
волнующей меня теме, то только сочинения в малых формах — статьи и
брошюры, некоторые из которых в переработанном виде включены в настоящий
том как разделы книги. Таким образом, около половины всех разделов
предлагаемой читателю книги ранее публиковались, хотя здесь они
представлены в новой авторской редакции. Другая половина разделов
написана в последние годы и публикуется впервые. Стоит добавить, что и ранее
опубликованные в форме отдельных сочинений части книги в настоящее
время недоступны широкому читателю, так как почти все они
публиковались или в научных журналах или в подписных изданиях. К тому же, как я
надеюсь, в новой авторской редакции они вполне органично вписываются
в содержание предлагаемой читателю книги, тем более, что собственная
философская позиция автора со времени первых его публикаций до
настоящего момента не претерпела сколько-нибудь существенных
изменений. Эту философскую позицию в соответствии с требованиями жанра
предисловия нам теперь как раз и остаётся кратко пояснить.
Возможно, читателю трудно будет согласиться с парадоксальным на
первый взгляд убеждением автора в том, что философия, в отличие от
любой из наук, со времени своего рождения в Древней Греции и вплоть
до наших дней не проявляла никакого ощутимого прогресса в решении
своих главных задач и что уже по одному этому признаку её вряд ли
можно отнести к разряду наук, ибо прогресс наук очевиден, и все науки за это
же время изменились радикально. Ведь это — факт, что философия Канта
в смысле своей истинности и глубины ничуть не лучше философии
Платона, а философия Гегеля ничуть не лучше философии Аристотеля. Если
кому-то больше нравится Платон, чем Кант, или больше — Гегель, чем
Аристотель, это — дело вкуса. В этом смысле философия даже ближе к
искусству, чем к науке. Ведь и в искусстве не может быть
действительного прогресса. И здесь, как и в философии, каждая эпоха и каждая культура
имеет свой стиль и свои шедевры, которые не лучше и не хуже стиля и
шедевров любой другой эпохи или культуры. Однако я всё же не считаю,
8
Предисловие автора
что философия есть некая разновидность искусства: не считаю по той
причине, что основной созидательной силой в искусстве служит
чувственная интуиция, а в философии в роли такой силы выступает интуиция
интеллектуальная. Кроме того, хотя у искусства и философии есть ещё и
то общее, что они никогда не удовлетворяются ничем относительным и
устремлены к абсолютному, они всё же существенно отличаются друг от
друга в том, что искусство устремлено как к высшей, пусть даже и
недостижимой, своей цели — к абсолютному художественному совершенству,
а философия устремлена к Абсолютной Истине и к Абсолютному Началу,
которые совпадают в идее Абсолюта как такового. По мнению автора
настоящей книги искания Абсолюта как раз и составляют основное
содержание философского процесса в продолжении всей его истории. При этом
надо заметить, что многие философы, и притом самые значительные и
влиятельные, такие, как Платон, Аристотель, Плотин, Августин,
Дионисий Ареопагит, Лейбниц, Кант, Гегель и другие, включая наших, таких,
как Владимир Соловьёв и Павел Флоренский, отождествляли Абсолют с
чем-то божественным или даже с самим Богом. Не значит ли это, что все
названные и им подобные философы в действительности были просто
теологами в современном смысле этого слова? Ответом на этот вопрос мы
и заключим наше предисловие. Дело в том, что теолог изначально
принимает Божественный Абсолют в акте веры, а затем, исходя из своей веры,
устанавливает отношения между Богом как Абсолютом, с одной стороны,
и миром и человеком — с другой. Философ же движется в обратном
направлении: от мира и человека — к Абсолюту. При этом путь философа
бесконечен, даже если он движется в правильном направлении, ибо
философ движется путём познания, а окончательное познание Абсолюта
(Абсолютной Истины) невозможно. Однако это не означает, что стремление
философа к абсолютному знанию бесплодно. Ведь, двигаясь в правильном
направлении, философ с каждым шагом всё больше озаряется светом
Абсолютной Истины, а тем самым и всё больше просвещается, всё больше
узнавая и о мире и о самом себе — человеке.
Мне остаётся только поблагодарить всех тех, кто так или иначе
способствовал выходу этой книги в свет и особенно тех, кто помогал мне в
технической подготовке текста книги к изданию.
Москва, Переделкино
25 октября 2003 года.
РОЛЬ СОФИИ-МУДРОСТИ В ИСТОРИИ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ФИЛОСОФИИ
Нет философии без мудрости, как нет ее и без любви. Так, по
крайней мере, думали древние греки — те, кто ввели в человеческую культуру
и саму идею философии и ее имя — «любомудрие», происходящее, как
известно, от слова «любовь» (philia) и слова «мудрость» (sophia).
В соответствии со своей идеей философия — это не какая-либо
особая наука, не искусство, не религия, ни даже знание, художество или вера,
а именно любовь — любовь к чему-то такому, что называется
«мудростью». Совершенный образ этой любви начертан в платоновском «Пире»
(203в - 204с), где воплощающий ее неистовый Эрот выступает как демон-
посредник между людьми и богами, между дольним и горним мирами.
«Он, — пишет Платон, — находится также посредине между мудростью и
невежеством, и вот почему. Из богов никто не занимается философией и
не желает стать мудрым, поскольку боги и так уже мудры; да и вообще
тот, кто мудр, к мудрости не стремится. Но не занимаются философией и
не желают стать мудрыми опять-таки и невежды. Ведь тем-то и скверно
невежество, что человек и не прекрасный, и не совершенный, и не умный
вполне доволен собой. А кто не считает, что в чем-то нуждается, тот и не
желает того, в чем, по его мнению, не испытывает нужды». Философия —
это своего рода мистерия любви. Посвящаемый в нее влечется какой-то
высшей силой от незнания к полноте знания и приводится в конце пути к
состоянию исступления и самоотречения, ибо, окончательно овладевая
предметом своей любви — мудростью, философ из-ступает из себя и
перестает уже быть философом, растворяясь в мудреце. Поэтому истинная
философия, как и всякая настоящая любовь, есть самопожертвование.
В данной работе речь пойдет о происхождении указанного
понимания философии, а точнее — даже о его зарождении. Правда, как таковая,
тема эротического вдохновения будет впервые введена в философию
только Платоном. Поэтому, рассматривая самый момент рождения
философии, мы вынуждены будем не затрагивать здесь этой темы. Но
философия и родилась как любовь, хотя эта новорожденная любовь, филия,
разумеется, не пробудилась еще для высокой страсти и исступления. А
поскольку и в момент рождения это была любовь к мудрости, нашей
главной задачей, как раз и будет определение того, какую роль сыграла
греческая софия-мудрость в появлении философии на свет.
Первый наш тезис звучит довольно непривычно. В отличие от
религии, искусства и науки, формировавшихся в ходе тысячелетий исподволь,
постепенно и незаметно, философия была введена в жизнь сразу, одним
человеческим декретом, актом свободного и осознанного выбора.
Сказанное, конечно, вовсе не исключает того, что выбор этот был подготовлен
всей предшествующей историей человеческого духа и что у философии
10
Роль софии-мудрости
была своя «предфилософия». Тем не менее, как нечто самостоятельное,
как особая форма духовной жизни, отличающая себя от всех других,
философия рождается сразу, в точно определенном месте и времени, но
главное — она рождается не из мифологии и науки (как обычно считают),
а из потребностей нравственного сознания.
По свидетельству Гераклида Понтийского (IV в. до н. э.),
переданному нам Диогеном Лаэрцием1, свое имя и свой особый статус философия
впервые получила у Пифагора. И хотя существует мнение, что ее
первооткрывателем следует считать не Пифагора, а скорее Сократа или
Платона2, с этим мнением вряд ли можно согласиться, так как у Платона (а,
следовательно, с большой вероятностью и у Сократа) термины «философия»,
«философ», «философствовать» употребляются уже как вполне
привычные, без каких-либо предварительных разъяснений, что говорит об их
более раннем введении в греческий язык. Приоритет Пифагора
подтверждают и другие античные авторы, жившие задолго до Диогена Лаэрция,
такие, как Исократ и Диодор Сицилийский3. Не имеет преимущества
перед Пифагором и Гераклит, которому Климент Александрийский
приписывает высказывание: «Ведь сколь же многих вещей знатоками должны
быть любомудрые мужи»4, ибо, во-первых, Гераклит жил все-таки позже
Пифагора, а во-вторых, он осуждал Пифагора как раз за многознание,
каковое сам считал признаком отсутствия ума и мудрости5, а это наводит на
мысль о том, что приведенная цитата в противоречии с прямолинейным
истолкованием ее у Климента, есть всего лишь иронический выпад
Гераклита в сторону пифагорейцев, называвших себя «любомудрами» (philoso-
phoi). Если же дело обстоит именно так, то мы имеем здесь самое древнее
(почти современное Пифагору) и самое надежное (ведь оно исходит от
сильного и, судя по всему, честного противника) подтверждение
приоритета Пифагора в изобретении философии. И речь идет не только о
термине. Ведь Гераклит, горделиво претендовавший на обладание самой
мудростью (sophia)6, не мог, по-видимому, одобрить и предложенную
Пифагором основную идею, состоящую в том, что человеческое познание по
причине своей естественной ограниченности никогда не способно достичь
уровня абсолютного знания, которое и есть сама мудрость — «софия»;
поэтому человеку, посвятившему себя исследованию истины бытия,
остается только любить эту мудрость и неустанно стремиться к истине как к
идеалу, а обладание ею благочестиво предоставить Богу; в этом и
заключается суть философии — любовного и смиренного служения истине.
Диоген Лаэрций в указанном уже нами месте своего труда передает ту же
идею в следующих словах: «Философию философией (любомудрием), а
себя философом (любомудром) впервые стал называть Пифагор... мудре-
1 Диоген Лаэрций. 1,12.
2 См.: Burkert W. Platon oder Pythagoras? — In: «Hermes», 88 (1969).
См.: Фрагменты ранних греческих философов. Изд. А. В. Лебедева. М.: Наука, 1989.
С. 140^148. Далее: ФФ. С...
\х Дильс—Кранц, фр. 35. Русск. перевод у Лебедева несколько иной (см.: ФФ. С. 191).
Там же. Фр. 40,129. ФФ. С. 195,196.
6 Там же. Фр. 101,50,112. ФФ. С. 194-195, 198-199.
Роль софии-мудрости
11
цом же, по его словам, может быть только Бог, а не человек. Ибо
преждевременно было бы философию называть «мудростью», а упражняющегося
в ней — «мудрецом», как если бы он изострил уже свой дух до предела; а
философ (любомудр) — это просто тот, кто испытывает влечение к
мудрости» (Пер. М. Гаспарова).
Из приведенных слов видно, насколько разнятся моральные установки
двух мыслителей, когда они рассуждают о познавательных возможностях
человека. «Физик» Гераклит (так его вместе с почти всеми другими «досо-
кратиками» называет Аристотель), теоретик Логоса, т. е. «логик», мало
внимания уделявший нравственной теме и очень много — проблеме
выражения в слове неуловимого и противоречивого космического бытия,
фактически оставляет человеческую любознательность безо всякого
нравственного контроля. Единственное ограничение, которое он здесь устанавливает, —
это недоступность истины для толпы7. Для просвещенного же,
«аристократического» ума истина ясна, доступна и проста. Проста, следовательно, и
мудрость, которая состоит в признании того, что все едино8. Поэтому прост
и един должен быть и сам ум — носитель мудрости, а «многознание
обретению ума не научает»9, ибо истина бытия не открывается уму по частям,
но в соответствии со своим «логосом» (именем) либо открывается уму вся
сразу («истина» по-гречески «alêtheia», что значит «нескрытое», ясное,
явное), либо вообще не открывается, если ее испытывать не умом, а
чувствами1 : «природа любит скрываться»1 \
Из всего сказанного видно, что Гераклит видит себя не искателем
истины, философом, а именно мудрецом, софосом, уже владеющим
окончательной истиной. Он совершенно чужд самокритичности12 и не
слишком расположен к рефлексии. Его речь похожа на пророчество, его
рассуждения начисто лишены доказательств и воспринимаются как
чистые откровения, озарения, непосредственные свидетельства самой
истины, которая у него и есть ведь «открытость», «алетейя». Если сравнить
все это с тем, что Пифагор, а потом и почти все другие греческие
мыслители понимают под философией, то станет ясно, что по форме
выражения, по стилю мы имеем здесь дело еще не с философией, а скорее с
поэзией и визионерством, хотя по содержанию и методу ноуменального
вхождения в проблемы (диалектическому методу) — это настоящая и
очень высокая философия. Гераклит просто еще сам не понимает, что
то, чем он занимается, есть особый род духовной деятельности с особой
областью приложения, которая не совпадает ни с единой чисто софий-
ной реальностью божественной истины, ни с множественной эпистем-
ной предметностью частных наук. То, что сфера приложения филосо-
1' Дильс—Кранц, фр. 1, 2, 57, 104. ФФ. С. 189,197,214,246.
8 Там же. Фр. 50.
9 Там же. Фр. 40
10 Там же. Фр. 17,56,21, особенно — 16 (ФФ. С. 252).
11 Там же. Фр. 123; ср.: Фр. 54: «скрытая гармония лучше явной».
12 Гераклиту приписывается даже высказывание о том, что сначала он не знал ничего,
а теперь знает все (фр. 101).
13 «Эпистема» — русская транскрипция греч. episténrê — «точное научное знание».
12
Роль софии-мудрости
фии и ее собственная предметность помещается как раз между этими
двумя областями, и то, что философ поэтому — и не мудрец, и не просто
ученый, а скорее «ученый», стремящийся к мудрости, из «досократиков»
понял один только предшественник Гераклита Пифагор. Спрашивается,
почему же умный Гераклит не принял столь великую идею Пифагора?
Возможно, потому, что он знал о Пифагоре только как о «математике»,
т. е. как об ученом14, обладавшем, по-видимому, впечатляющей
эрудицией15, которая и вызвала раздражение «самоучки»16 Гераклита. Слышал
ли что-нибудь он о Пифагоровом понимании философии, судить
невозможно, тем более, что учение Пифагора было тайным и не подлежало
разглашению.
И все-таки, пожалуй, главное, почему Гераклит не принял идею
Пифагора, состоит в том, что он недооценивал в понятии мудрости
этического аспекта, который впервые по достоинству был оценен именно в школе
Пифагора.
Аристотель недаром называл «досократиков» (кроме пифагорейцев и
софистов) «физиками», т. е. исследователями «природы» (physis), а не
«мудрецами». Ведь, если судить по лирической и драматической поэзии
VI-V вв., а также по сочинениям Платона и, хотя и позднему,
свидетельству Диогена Лаэрция17, мудрецами (sophoi) называли в это время уже
совершенно другого рода людей18. Так называли прежде всего тех, кто
14 Слово «математик» (mathèmatikos) в древнегреческом языке означало вообще
«ученый», приобретший свои знания учением. Оно происходит от слова (mâthësis) —
обучение, изучение, воспитание, и (màthèma) — наука, учение, знание. Поскольку уже в V в. до
н. э., благодаря в том числе Пифагору и его ученикам, обучение юношества в Греции
стало включать в себя обязательное преподавание арифметики (науки о числе) и
геометрии (науки об измерении), понятие науки частично отождествилось с «математикой».
Вместе с тем греки для понятия «наука» применяли и другие термины; важнейший из них
«эпистема» (см. прим. 13) — для выражения точно установленного, достоверного знания,
независимо от его происхождения (слово это происходит либо от ephistèmi — ставлю,
устанавливаю, либо от pistis — вера). От этого слова произошел современный термин
«эпистемология» — «учение о научном знании». Называли греки науку и «историей»
(bistorfa) — словом, которое у них обозначало не только историческое знание, но, прежде
всего «осведомленность» в широком смысле, знание фактов, добытых путем не
учительской, а собственной активности. Слово это происходит от (historco) — что означает
«исследую», «разыскиваю», «расспрашиваю». Таким образом, одним русским словом мы
переводим довольно разные по смыслу греческие термины.
,3См.:фр. 129 (ФФ. С. 196).
16 Там же. Фр. 101 (ФФ. С. 195).
17 Диоген Лаэрций. 1,13.
Перечень мудрецов у Диогена Лаэрция: Фалес, Солон, Периандр, Клеобул, Хилон,
Биант, Питтак, а также — Анахарсис, Мисон, Ферекид, Эпименид, Писистрат (1, 13). К
этому списку потом добавлены: Акусилай, Пифагор, Эпихарм и некоторые другие (см.: Там же,
1,41-42). Обозначение «семь мудрецов» впервые встречается у Аристотеля («О философии»,
фр. 8, Ross).
Впервые слово «мудрость» (sophiS) встречается в европейской литературе у Гомера
(Илиада, XV, 412). Но здесь оно употребляется в значении технического мастерства
ремесленника, которое, правда, достигается под руководством божества — Афины. Техноморф-
ный узус «софии» и однокоренных с ней слов сохраняется и в дальнейшем: у Гесиода
(фр. 193, Труды и дни, 649), Архилоха (фр.44), Алкмана (фр.2. 2), Сафо (фр.60), Ивика
(фр. 3. 23) и в так называемых Гомеровских гимнах (V. 483, 511), а позднее — у Пиндара
(Олимп., ΥΠ, 72; Пиф. V, 115; Нем. ΥΠ, 17 и др.), у Вакхилида (Эгин. 12, 1), Эсхила (Умо-
Роль софии-мудрости
13
умел правильно различать добро и зло, кто вдумывался в смысл
человеческой жизни и мог указать человеку путь к счастью. Таковы именно
известные всей античности «семь мудрецов», возглавляемые Фалесом,
который (впрочем, единственный из них) был одновременно и знаменитым
«физиком», возглавляя у Аристотеля и их список.
В эту славную семерку греки a posteriori старались включить и
других прославленных своей мудростью людей, так что семерка со временем
растянулась до двадцатки. Но среди всех греческих и негреческих
кандидатов в мудрецы-софосы не было ни одного, который не ставил бы на
первое место в своей мысли проблемы экзистенциальные и этические.
В некоторых списках «семи» значится и имя Пифагора. Никто из
этих «мудрецов», за исключением, может быть, Фалеса и Пифагора, не
оставил никаких сочинений. Однако впоследствии, по памяти или по за-
ляющие, 770; фр. 390) и даже у Платона (Апология, 22; Софист, 233 и др.). Особенно часто
такая софия ассоциируется с искусством кормчего и строителя; ее ближайший аналог —
«метида» (metis) — смышленность, предусмотрительность. От этой самой Метиды из головы
Зевса родилась Афина, богиня-дева, покровительница изобретательства, практических наук
и ремесел. Культ Афины был развит в тех полисах, где процветала промышленная
деятельность. Мудрость Афины можно было бы назвать не столько «софийной», сколько, по ее
происхождению и существу, «метидической» или даже «методической», так как главное в
ней — как раз метод. Аристотель в «Никомаховой этике» называет эту мудрость «доблестью
искусства» и считает ее низшей ступенью софии (VI, 7, 2). Холодная и сухая дева Афина,
неподвластная Эросу-Любви, не могла стать ни родительницей философии, ни ее
покровительницей, оставшись навсегда защитницей «технэ», и, пожалуй, «эпистемы». Философию
же взяли под свое покровительство сам Эрос, державный Зевс да Аполлон с Музами, а
может быть, еще и Дионис. Так что крепка ее защита. Однако рождению философии
предшествовало появление софии «мусической», которая соседствует в сознании тех же поэтов с
техноморфной Софией, начиная с Гесиода, подчас почти сливаясь с ней. У Сафо и Пиндара
«софия» — источник поэтического вдохновения, у Софокла и Еврипида — пророческий дар,
полученный от богов. Она дает возможность поэту и пророку без помощи рассуждения и
исследования, в каком-то непостижимом мистическом озарении непосредственно видеть
истину бытия, точнее — слышать ее в глубинах своей души, произносимую словами самого
божества. Постепенно происходит наполнение мусической софии нравственным смыслом.
Это заметно уже в элегиях Ксенофана (2; 11), но особенно — у Симонида (фр. 4а) и Феогни-
да (ст. 790,1010, 564 и др.). Элегик Феогнид впервые соединяет софию с эросом (ст. 1160 —
«одержимо любящие мудрость») и полагает ее в самопознании (ст. 120, 499 и др.). Но это
уже то время, когда в жизнь вошла в качестве вполне самостоятельной ипостаси софия
этическая, о которой речь дальше. Отметим, что у всех трех ипостасей софии —
«методической», мусической и этической имеются общие черты: божественность ее происхождения,
совершенство, непосредственная связь с самим бытием через недискурсивное благодатное с
ним общение путем мистической интуиции. Эти качества софии во многом предопределили
наиболее существенные свойства будущей философии. В одной из поздних своих работ Ф.
Ницше верно, кажется, заметил: «Подлинная цель всякого философствования — intuitio
mystika» (цит. по: Albert К. Ober Piatons Begriff der Philosophie. Academia Verl., Tübingen,
1989, S. 11). Ведь если вдуматься в это выражение и не пугаться слова «мистический», то
получится, что цель философии — дойти до самого бытия, скрытого и утаенного от всегда
ограниченного самим собой дискурсивного разума, но всегда открытого для
непосредственного общения с любящим его духом. Об истории идеи «софии» в раннегреческой литературе
см.: GladigovB. Sophia und Kosmos. Untersuchungen zur Frugeschichte von «sophos» und
«sophie». Hildesheim, 1965. О «софии» в культуре древних народов средиземноморского
ареала см.: Leisegang H. Sophia. — In: Pauly — Wissova Realencyklopädie.., Reihe 11, Halbband 5,
S. 1019-1039. О происхождении самого термина см.: Топоров В. Н. Еще раз о
древнегреческой «sophia»: происхождение слова и его внутренний смысл. В кн.: Структура текста. М.:
Наука, 1980. С. 148-173.
14
Роль софии-мудрости
писям, были составлены сборники их «гномов» — кратких и точных
изречений, наставляющих человека в морали и в жизни. Эти гномы широко
использовались потом греческими философами, ощущавшими свое
родство с этически понимаемой мудростью. По-видимому, в среде «семи
мудрецов» были впервые произнесены такие знаменитые софийные максимы,
как «познай самого себя!», «ничего слишком!», «держись середины!» и
т. п., которые несомненно вдохновили на определенный тип
философствования Сократа, Платона и Аристотеля. Очень символичен известный
всем рассказ о золотом треножнике, который Дельфийский Оракул
повелел вручить самому мудрому. Никто из мудрецов не согласился его
принять, и все порешили отослать его в Дельфы, в святилище Аполлона,
признав, что мудр только бог. Разве есть здесь что-нибудь общее с
высокомерием Гераклита!
Нет сомнения, что именно Гераклита и других ионийских «физиков»
имел в виду знаменитый автор эпиникиев, поэт Пиндар, говоривший, что
они «срывают незрелый плод мудрости» (Фр. 209; Snell: atelê sophias kar-
pon drepein). Будучи младшим современником Гераклита, Пиндар, как и
тот, уделил теме мудрости особое внимание. В его одах, посвященных
победителям на Олимпийских и других общегреческих играх, слово
мудрость (sophia) встречается чаще, чем у других поэтов того времени, и даже
чаще, чем у тех мыслителей рубежа VI-V веков, которых мы обычно
включаем в историю философии. Однако, признавая, что его герои
достигают своих побед на играх благодаря мудрости и что сам поэт, их
воспевающий, озарен светом той же мудрости, Пиндар остается при
убеждении, что мудрость в той мере, в какой она вообще доступна человеку, не
приобретается его собственными усилиями, но является божественным
даром: «От богов — все способности смертных доблестей; от них — и
мудрые, и сильные, и красноречивые» (Пиф. I, 41-42; перевод наш). При
этом Пиндар отмечает, что по сравнению с божественной человеческая
мудрость ничтожна (Пиф. VIII, 73) и что она подобна лучу Солнца (aktis
aelioy), где Солнце — мудрость в собственном смысле* (Пеан IX, 1-4).
Настойчиво ограничивая возможности человеческой мудрости, Пиндар
выступал как оппонент Гераклита. Тем не менее он не расходился с
Гераклитом в том, что мудрость и учёность — вещи разные. Учёный (didaktos)
приобретает свои знания упорным трудом обучения, мудрый же мудр от
природы (fyai sofos), т. е. в конечном счете — от богов (Олимп. II, 86; Не-
мейск. III, 41). Разделение науки и мудрости у Гераклита и Пиндара
несомненно содействовало дальнейшему утверждению самобытности
открытой Пифагором философии, несмотря на то, что первый из них осудил
«мужей философов», а второй, по-видимому, и вовсе ничего о них не
знал. Заметим в дополнение к уже раньше нами сказанному об истории
греческой софии (см. примечание № 18), что, спустя полвека после
Пиндара, трагик Еврипид противопоставил мудрость также и искусству
(technê), что было бы конечно неприемлемо для Пиндара, ибо искусство
понималось им как плод вдохновения, а вдохновение — как дар богов.
Еврипид же считал, что подлинная мудрость не имеет ничего общего с
«плутовством искусства» (to mêchanoen technês) и что искусство само по
Роль софии-мудрости
15
себе безразлично к добру и злу, тогда как мудрость (sophia) имеет сугубо
нравственную природу. В трагедии Еврипида «Антигона» эта мысль в
переводе Ф.Зелинского выражена так:
«Кто в мудрость искусство возвёл,
Тот путь проторил и к добру и к худу»
(365-367).
Впрочем, в другой своей трагедии Еврипид, возможно под влиянием
Сократа и пифагорейцев, демонстрирует значительно более
пессимистический взгляд на человеческую мудрость, чем тот, который был присущ
Пиндару и тем более — Гераклиту:
«... кто считает
Иль мудрецом себя, или глубоко
Проникшим в тайну жизни, заслужил
Название безумца...»
(«Медея», 7225-1227. Пер. И. Анненского).
Знание «тайны жизни», распознавание добра и зла — в этом
заключается самая суть мудрости в понимании всех трёх великих греческих
трагиков: Эсхила, Софокла и Еврипида. Подобное же понимание
характерно и для близкого к пифагорейцам комедиографа Эпихарма, и для
историка Геродота, и для таких поэтов, как Симонид Кеосский, Вакхилид и
Феогнид, которых мы уже упоминали раньше. Из чего следует, что в
конце шестого века и особенно в пятом веке греческая софия наполняется
нравственной силой и смысложизненным содержанием, а здоровый
скептицизм в отношении человеческих софийных возможностей все более
удаляет истинную мудрость в небеса, оставляя ее человеку лишь как
желанную, но недостижимую цель. С другой стороны, в этот же период
зарождается и быстро развивается европейская наука: сначала математика и
естествознание (включая медицину и географию), а затем история,
языкознание и риторика.
Вдохновленная своими первыми успехами в познании явлений
окружающего мира, наука сразу же начинает посягать и на «сущность» — на
абсолютную истину (особенно, что касается познания природы). Этим
посягательствам с самого начала противодействует блестящая и глубокая
художественная литература, принимающая на себя также заботу о душе
человека и его нравственности, о которых наука еще почти ничего не
знает. И все-таки эти важнейшие элементы жизни в каком-то смысле
остаются бесприютными. Под сенью поэтических Муз душа и нравственность не
чувствуют себя в полной безопасности: им нужна собственная Муза-
покровительница. Правда, их опекают отчасти мистериальные религии, —
особенно орфизм с его очистительным культом и верой в бессмертие и
возрождение души. Однако античная религия все чаще вступает в
конфликт с любознательностью пробудившегося для творчества светского
ума, а жизнь в греческих полисах становится все более мирской, практич-
16
Роль софии-мудрости
ной и рассудочной; над Мифом во многих сферах жизни торжествует
Логос, чуждый всякой сентиментальности и мистицизма.
Ответом на все эти процессы как раз и было рождение философии,
взявшей под свое покровительство судьбы души и нравственности и
ставшей благожелательной посредницей между наукой и античной
религией, между логосом и мифом. Войдя в античную культуру, она
облагородила и миф и логос, смягчила всегда существующий между ними
антагонизм и тем самым сохранила их для этой культуры в качестве
равноправных ее соучастников.
Вернемся, однако, к Пифагору. Какой-то особой заботой Провидения
его личность как будто специально была создана для решения великой
задачи, которую история поставила в тот момент перед греками: соединить
друг с другом мистериальное, логическое и нравственное начала в
человеческом духе и создать на основе их синтеза новый род духовной активности
человека — философское творчество, новый тип людей — философов и
новый образ жизни — философский. Кому же еще была по силам такая
задача, если не Пифагору, в самой личности которого в прекрасной гармонии
сошлись ученый, мистик и учитель нравственности. Что бы мы ни думали о
реальном вкладе Пифагора в науку — ведь ничего достоверного об этом мы
знать, конечно, не можем — все же было бы непростительным упрямством
не доверять свидетельствам всей античности о том, что именно Пифагор
открыл для европейцев законы несоизмеримости в геометрии и первую
теорию числа. А это и означало по существу рождение европейской
математики. В комментарии Прокла к Евклиду19 читаем: «...Пифагор
преобразовал занятия геометрией в свободную науку, изучая ее высшие начала и
рассматривая теоремы отвлеченно и умозрительно. Он же открыл теорию
несоизмеримых и конструкцию космических фигур». Добавим к этому
знаменитую «теорему Пифагора», пифагорейское учение о пропорциях и
гениальную попытку установить единую математическую структуру мира
путем приведения к взаимному соответствию арифметических,
геометрических, физических и космических элементов.
Но Пифагор был одновременно и великим мистиком. Посвященный,
судя по всему, в орфические мистерии, он воспринял от орфиков их
интерес к посмертной судьбе души, благоговение перед тайным и
потусторонним, причудливый символизм отношений скрытого и явного, культ
музыки, культ дружбы и многое другое.
Известно, что орфики верили в метемпсихоз как закон судьбы,
карающий душу за ее неправедное существование и воздающий за
праведное; считали тело «гробницей» души, из которой она может выйти и
воссоединиться с родственным ей бестелесным божественным началом
путем таинственных очистительных обрядов и добродетельной жизни. Судя
по дошедшим до нас фрагментам орфических гимнов и древним
свидетельствам , в орфизме детально разрабатывались такие сюжеты легенды
об Орфее, как его служение Аполлону и Музам, подарившим ему вол-
'' In Euclidum, 65, 1,1. Русский пер.: ФФ. С. 141.
Перевод этих фрагментов в: ФФ. С. 35-65.
Роль софии-мудрости
17
шебный дар умиротворять и гармонизировать все сущее музыкой и
пением; сошествие Орфея в Аид (где он силой своей любви к Евридике, своей
музыкой и пением покоряет адских владык, побеждая смерть) и его
неудачное возвращение на землю, при котором он теряет выведенную из ада
возлюбленную жену из-за забвения священного наказа; наконец,
растерзание Орфея неистовыми вакханками за его непочтение к их богу
Дионису и последующее воскрешение его в силах природы и её гармонии.
Разрабатывая этот миф, орфики обогащали его разнообразными элементами
более древних мифологий, связанных прежде всего с элевсинским,
дельфийским и дионисийским культами, но также — с олимпийским культом
Зевса и древнейшей религией титанов. Замечательной особенностью
орфизма в сравнении с традиционными религиями было то, что орфики не
просто верили, но и толковали свои мифы и обряды, видя в них символы
реальных процессов, происходящих в космической и человеческой жизни.
Несмотря на то, что тело человека считалось у них «гробницей» и
наказанием души, каким-то «скверным» титаническим началом — прахом
испепеленных Зевсовой молнией титанов, — они видели в нем
одновременно и божественное начало, ибо согласно орфическому мифу в пепле
титанов, из которого был сотворен человек, содержатся частицы тела
младенца Диониса, растерзанного и съеденного титанами по наущению
Геры21. Зато в их отношении к космическому телу не было никакой
двусмысленности: они считали его священным.
Мы не будем останавливаться на загадочной орфической теокосмо-
гонии, чем-то напоминающей космогонические мифы индийских Вед и
иранской Авесты. Отметим только, что особое значение в ней придается
двум полярным первоначалам: безвидному Хаосу (Ночи) и
формообразующему Эросу (оба относятся к первоначалам и Гесиодом), а также
символу жизни — «мировому Яйцу»22. Космогонический Эрос, по-видимому,
имел в орфизме какую-то связь с тем эросом, который в легенде об Орфее
дает певцу силу сойти в ад и вернуть жизнь Евридике, несмотря на «закон
Адрастеи». Скорее всего это и есть один и тот же Эрос, а если так, то
становится ясно, что любовь у орфиков есть и начало жизни, и путь в
бессмертие, и способ общения с трансцендентным. Наряду с Эросом —
любовью экстатической и трансцендирующей, орфики, как и все греки,
высоко ценили другую любовь — «близкую», интимную, дружескую (philia).
Они жили братствами и, возможно, имели общее имущество. Мораль
орфиков была строга, но милосердна; образ жизни суров, но радостен. Если
верить Платону, их обряды были веселы, но они слишком уж усердно
совершали свои таинства, очищаясь от грехов и первородной титанической
скверны23. Как и в любой другой языческой религии,
культово-магический элемент в орфизме преобладал над нравственным.
Вот, пожалуй, и все, что нужно нам знать об орфиках, чтобы понять
умонастроение Пифагора. А без учета орфического воздействия не понять
21 См.: ФФ. С. 58-59 (Свидетельства Климента Александрийского и Олимпиодора).
22 Там же. С. 38-39,47.
23 Государство, 364с - 365а
18
Роль софии-мудрости
ни сути пифагорейского учения, ни того смысла, который Пифагор
вкладывал в открытую им идею философии.
Что касается содержания самого учения, то не будет большим
преувеличением сказать: пифагореизм — это орфизм, проясненный
средствами «математики». То немногое, что мы знаем об этом учении,
находится в поразительном согласии с представлениями орфиков, даже в деталях.
Например, известно, какое значение пифагорейцы придавали тренировке
памяти — искусству мнемоники. Но ведь роковой ошибкой Орфея было
как раз забвение! Орфей почитал Аполлона, отождествляя его с Солнцем,
Пифагора же называли Аполлоном Гиперборейским; он, как и Орфей,
приносил жертвы только Делосскому богу24, а молитвы к Солнцу были
ежедневным ритуалом пифагорейцев. Как и орфики, пифагорейцы жили
общиной, совершали очистительные обряды. Так же, как и те, они были
суеверны, видя во всем проявления потусторонних сил. Они также
двойственно относились к своему телу, заботясь о его ритуальной чистоте, но
и не предаваясь слишком суровому аскетизму. Как и орфики, они не
разглашали своего учения и чтили молчание.
Были, однако, заимствования и более существенные. Из них самое
очевидное — идея перевоплощения душ и загробного воздаяния, которая
у пифагорейцев почти ничем не отличалась от орфической. Пожалуй,
только судьба души была теснее связана с исполнением нравственных
требований и с успехами в богопознании. Посмертное благополучие души
сильно зависело от непричинения вреда жизни, всему живому, ибо даже
тем, «кто совершил насилие над животными, угрожают неумолимые
кары»25. Почитание жизни, избегание всего, связанного со смертью,
разнообразные табу, касающиеся, например, пищи, деталей поведения, — все
это у пифагорейцев, как и у орфиков, проистекало из веры в бессмертие и
божественное происхождение души, из убеждения в том, что душа и
жизнь — это одно и то же. Поэтому с их точки зрения и мировое тело,
произошедшее от бессмертных богов, имеет душу и жизнь, так что
небесные светила — это воплощенные боги, в согласии друг с другом
таинственно руководящие с небес мировыми процессами. Греки считали, что
именно Пифагор «первым назвал Вселенную «космосом» по порядку
(taxis), который ему присущ»26.
Как мы знаем, в основу космического и всякого другого порядка
Пифагор положил число. Обычно это и считают наиболее значительным
открытием Пифагора, сделанным под воздействием его математических
занятий. Спрашивается: а что стимулировало сами эти занятия? И
наиболее вероятный ответ здесь опять будет — орфизм. Да, по-видимому, —
орфизм, с его манерой во всем видеть символы и все выражать
символически. Ведь и пифагорейские числа — это только универсальные
символы, наиболее подходящие для выражения затаенного в природе всего
сущего божественного закона и распорядка, непостижимого иначе, как сим-
ФФ. С. 141; Диоген Лаэрций. УШ, 13; Порф. Жизнь Пифагора, 28.
2б Там же. С. US —Цицерон. О государстве. ΙΠ. 11,19.
Там же. С. 147; ср.: Диоген Лаэрций. УШ, 4Ъ;Ямвлих. О пифаг. жиз. 162.
Роль софии-мудрости
19
волически, с помощью чисел. Почему таков числовой распорядок сущего,
человеку знать не дано, ибо, как говорит один из последователей
Пифагора, кротонец Алкмеон, «О вещах незримых, о вещах божественных,
очевидной истиной (saphêneia) обладают (лишь) боги»27.
И все-таки числа и другие математические образы дают человеку
возможность правильно, в пределах научной эпистемы, судить о вещах
благодаря мистической памяти об их божественных основаниях. Вот что
пишет об этом неоплатоник Прокл: «Математические науки были
изобретены пифагорейцами для припоминания (анамнесис) о божественном;
посредством их, как посредством образов, они пытались трансцендиро-
вать к потусторонним началам. Как говорят те, кто занимается
изложением пифагорейских учений, они посвящали богам и числа, и фигуры»28. А в
другом месте тот же Прокл пишет: «Поэтому и Платон преподает нам
много замечательных положений о богах посредством математических
фигур, и философия пифагорейцев пользуется ими как завесой для
прикрытия посвящения в таинства божественных учений. Таково же
«Священное слово» и «Вакханки» Филолая и вся манера Пифагорова
наставления о богах»29.
Таким образом, если верить Проклу — а у нас нет оснований ему не
верить, — манера Пифагора символически выражать божественные
тайны, сообразная, кстати, оккультному характеру его учения и школы, была
вполне орфической, а математика потребовалась ему как наиболее
подходящая форма для их выражения. Следовательно, наука имела для него не
самоцельный, а только служебный характер, — как потом у Платона и
вообще у всех истинных философов. Возможно, Прокл несколько
упрощает дело, но факт остается фактом: и в своем учении о числе Пифагор
зависит от орфиков.
Но самое главное, в чем он от них зависит, что более всего повлияло
на происхождение философии, это состоявшееся а орфизме объединение
дионисийского и аполлонийского начал: начала хаотического,
экстатического, безмерного и беспредельного и начала порядка, равновесия, меры и
предела. Из этого объединения родилась идея встречи и гармонии
противоположностей (единого и многого, движения и покоя, тождества и
различия и т. п.), из которых греки могли теперь диалектически ткать свои
прекрасные образы бытия. Эта идея озарила Пифагору космос и яснее
обозначила возможности и границы человеческого познания, определив в
этих границах и собственное место философии. Судьба пожизненно
уделила ей место как раз посредине между знанием и осведомленным
незнанием (отсюда мудрое «ученое незнание» Сократа, Дионисия и Николая
Кузанского), между пределом и беспредельным, логическим и
мистическим, искусством и природой, наукой и мудростью, миром и Богом, — в
общем то место, которое в платоновском «Пире» занимает Эрос, демон
любви. И хотя Пифагор, в отличие от орфиков, по-видимому, не слишком
27 ФФ. С. 272. Ср. у Сгобея: «Сущность (estö) вещей, которая вечна, и сама природа
требуют божественного, а не человеческого знания» — ФФ. С. 442.
28 Там же. С. 437.
29 Там же. С. 444.
20
Роль софии-мудрости
почитал это божество и поклонялся, как мы знаем, одному Аполлону
(отчего его мысль гармонична и проницательна, но лишена платоновской
вдохновенности), все же именно Пифагор, а не кто другой, Пифагор, а не
Гераклит, впервые распространил принцип дуальной оппозиции на все
области сущего, что и стало «мисто-логической», диалектической,
основой возникновения философии. Однако для появления философии на свет
одного Логоса, даже мистического и диалектического, было бы
недостаточно. Нужен был и соответствующий Этос. Так вот, заслуга соединения
диалектического Логоса с софийньм Этосом, диалектики с
нравственностью, принадлежит опять-таки Пифагору.
По свидетельству Диогена Лаэрция, Пифагор, возможно, первым
написал книгу о воспитании30, которому в его школе придавали самое
большое значение. В отличие от «физиков» он не меньше размышлял о
нравственности, чем о природе, и оставил потомству немало ценных
предписаний в духе «семи мудрецов» и в своем, «философском», духе.
Среди них, например, такие: «Главное для людей... в том, чтобы наставить
душу к добру или злу. Счастлив человек, когда душа у него становится
доброю... Добродетель есть лад (harmonia), здоровье, всякое благо и
бог»31. «В общении держаться так, чтобы не друзей делать врагами, а
врагов друзьями. Ничего не мнить своей собственностью»32. «Беги от всякой
хитрости, отсекай огнем, железом и любым орудием от тела болезнь, от
души невежество, от утробы роскошество, от города смуту, от семьи
ссору, от всего, что есть, неумеренность»33.
Автор «Жизни Пифагора» Порфирий считал, что сама математика
нужна была кротонскому мудрецу только для того, чтобы вести людей к
счастью34, и это, по-видимому, так, ибо по Гераклиду Понтийскому
Пифагор видел путь к счастью (евдемонии) «в познании совершенства чисел»35,
а в совершенстве чисел видел символ высшего человеческого блага —
Бога. Поэтому два самых существенных нравственных наставления
Пифагора таковы: «Стремиться к истине, ибо только это приближает людей к
богу»36 и совсем краткое, в котором весь Пифагор: «Следуй богу!»37. Идя
дальше «физиков» и предвосхищая Сократа и Платона, Пифагор
сознательно отождествляет истину и благо, цель познания и цель
нравственности и тем самым превращает созданную им философию в особое бытие, в
образ жизни38.
Подведем итоги. Философия рождается в Греции в ответ на
нравственную потребность критически оценить подлинное достоинство че-
Диоген Лаэрций. VUI, 6.
31 Там же, VIII, 32-33.
Там же, VUI, 23. Ср.: «У друзей все общее», «Дружба — равенство» (Там же, \ТП, 10),
«Друг — это второе я» (Порфир., 33).
"Π<φφ.922.
34 Там же, 47.
35 ФФ. С. 148.
гбПорф.,4\.
3^ФФ.С. 148(Стобей).
О «философском образе жизни» пифагорейцев упоминает Платон. См.:
Государство, X 600а.
Роль софии-мудрости
21
ловека в мире. При этом ее конституирование происходит как решение
осознанно поставленной задачи — определения формы и содержания
особой духовной деятельности, которая позволила бы человеку, не
удовлетворяющемуся истиной частичной и относительной, которая и на
самом деле есть все-таки ложь, хотя и не полная, — позволила бы ему
ясно осознавать, если не само содержание истины, то хотя бы ее
присутствие, радуясь неотчуждаемой возможности видеть ее свет и
любовно стремиться к ней, наполняя свой дух изливающейся из нее
неисчерпаемой энергией. Эту задачу впервые решил Пифагор. Он определил и
форму этой деятельности — «любовь к мудрости», и ее содержание —
этически понимаемое познание, т. е. познание истины как Добра. В том
же направлении философская рефлексия развивалась потом Сократом и
Платоном. Аристотель, по своей природе не столько философ, сколько
ученый, сделал попытку представить философию как одну из наук, хотя
и высшую, точнее говоря, — как «науку наук», не качественно, а скорее
количественно отличающуюся от других разновидностей эпистемы. Он
же установил и главный закон эпистемы — принцип недопустимости
противоречия, который лег в основу всякой «ученой философии», в том
числе схоластики и позитивизма. На самом деле, это —
псевдофилософия, отступившая от того первоначального смысла, который придали
философии Пифагор, Сократ и Платон и который состоит в
экзистенциально-нравственной устремленности к истине, т. е. в «бытии-к-истине»
и в таком познании, где мысль, руководимая идеями вещей самих по
себе и прежде всего идеей Добра, охваченная любовью — Эросом,
влекущим ее к предмету ее вечных исканий, к подлинному бытию,
собирает все свои резервы — чувства, рассудок, интуицию, весь опыт
изучения явлений и опыт переживаний, все свое искусство, науку и
религиозный опыт, чтобы совершить прыжок в область неявленного и
тайного, но от этого не менее близкого, даже самого близкого к нам из всего,
что есть, — прыжок в само бытие. Пока прыжок не совершен, мы
имеем об этом бытии только идеи; понять мы его еще не можем и,
следовательно, не можем выразить в понятиях рассудка, в эпистеме. Наши
понятия всегда ограничены уровнем развития науки и нашим опытом. Но
вот, предположим, прыжок совершен. Тогда наши идеи совпадут с
понятиями и наполнятся пониманием, тогда мы поймем, как вещи
существуют сами по себе, на самом деле. Но это уже будет мудрость,
которая, как считал Пифагор, доступна только Богу. Кто же такой тогда
философ? Это как раз и есть прыгун, всегда находящийся в полете. А
философия — это то, что призвано неустанно вести науку к мудрости,
понятия к идеям, рассудок к разуму. Но чтобы это происходило,
необходима любовь, причем самая бескорыстная, чистая, кроткая и святая —
любовь к истине. А такая любовь есть нечто нравственное. Значит, и
философия — дело нравственное, а все, что именует себя философией,
но не одержимо нравственной идеей, есть либо лжефилософия, либо
только орудие философии, а не она сама, каковы эпистемология,
методология, космология, историческая теория, психология, логика и даже
метафизика, если ее понимать по Аристотелю, т. е. так, как Аристотель
22
Роль софии-мудрости
понимал свою «первую философию». Впрочем, к счастью, основатель
Ликея не мог удержаться в рамках своей программы универсальной
эпистемы, и в той мере, в какой он отходил от нее, двигаясь в софийном
направлении, он давал блестящие образцы подлинной философии: в
основном это то, что потом взяли у него неоплатоники.
Когда мне говорят, что философия произошла от синтеза
предшествовавших ей мифологии и конкретной науки, у меня невольно возникает
вопрос: а на какой же собственно основе происходил этот синтез? И вокруг
чего? И что побудило греков совершить этот синтез? И я не нахожу другого
ответа, кроме того, что мифология и наука явились для этого синтеза не
более, чем сырым материалом, а его энтелехией, определяющей причиной и
главным стимулом было нечто более фундаментальное и более важное для
человека, нечто глубоко экзистенциальное — достигшая к тому времени
большой глубины и утонченности нравственная потребность.
ТЩЕТА НАУКИ
Критический этюд
Мы уже привыкли верить, что устами научного сообщества глаголет
сама истина. Эта вера, намеренно поощряемая самодовольством и
корпоративным интересом ученых мужей, основана на иллюзии, что именно наука
и только наука, владеющая эффективным методом исследования, строгой
теорией и мощной экспериментальной техникой, способна проникать за
видимость явлений к самой сущности вещей, т. е. доходить до познания
вещей самих по себе, или, выражаясь языком Канта, — до «вещи в себе»
(Das Ding an sich). Уверенность ученого, что он знает истину самих вещей, а
не только происходящих от них явлений, подкрепляется, на первый взгляд,
его способностью предсказывать поведение вещей и даже управлять их
поведением; более того — создавать, преобразовывать и разрушать их по
своей воле. И это касается не только привычных для нас зримых и
подручных вещей, но и скрытых от наших глаз элементов микромира, а в
перспективе, возможно, коснется и больших телесных масс ближнего космоса.
Таким образом, наука, как представляется самим ученым, уже обрела по
крайней мере способность целенаправленно видоизменять и превращать
материю сущего, и может показаться, что уже недалеко то время, когда она
будет способна создавать ее «из ничего» (ex nihilo), и тогда ученый обретет
высочайший статус в человеческом обществе — еще невиданный доселе
статус нового «бога-творца». Правда, науке все еще никак не удается
разобраться с сущностью духа, так что решение собственно человеческих
проблем и особенно нравственных, если они вообще под силу науке, остается
для нее задачей неопределенного будущего. А ведь дальнейшее развитие
науки в отрыве от духовности и нравственности с большой вероятностью
приведет в конце концов к гибели человечества.
Чтобы исключить подобное развитие событий, надо, пожалуй,
начать с пересмотра нравственных оснований самой науки. И первое, что
надо бы сделать, — изменить отношение ученого сообщества к самим
вещам, которые оно исследует, а в связи с этим — и отношение к истине,
которую оно ищет. Это отношение должно стать более самокритичным,
более кротким и более уважительным. Ученому сообществу надо
признать, что истина не является собственностью никого из людей, и что она
заключается и хранится в самой сущности вещей, в вещах как они
существуют сами по себе, независимо от нашего их познания и уровня
развития науки, а человек может иметь истину только в качестве цели, столь же
недостижимой, сколь и необходимой для его человеческой, нравственно-
духовной жизни. Прав был Кант, когда он, следуя по пути, указанному
великим Платоном, и пользуясь методом и терминологией основателя
24
Тщета науки
скептицизма Пиррона, различил «вещь в себе» (ноумен) как
неисчерпаемый для познания субъект бытия и явление (феномен) этой «вещи в себе»
как объект. Современная наука, вдохновленная своими успехами в
познании явлений окружающего мира, фактически проигнорировала это мудрое
признание Кантом нетождественности субъекта бытия и объекта
познания, из чего воспоследовала всеобщая убежденность в «объективности»
науки как высшей ее ценности.
Установка современного ученого на объективность, или — лучше
даже сказать — на объектность изучаемого сущего, связана с типичным для
нашей цивилизации господско-рабским отношением к действительности,
таким, когда вещи и люди рассматриваются не как нечто самобытное и
самоценное, а как нечто подручное и инструментальное, как средства и
предметы владения, как то, из чего мы можем извлечь для себя пользу или
удовольствие. Безнравственность такого «объектного» (впрочем, одновременно
и «объективного») отношения к людям очевидна. Но что сказать о
подобном отношении к остальным существам и вещам — к животным,
растениям, к так называемой неорганической природе? Можно ли считать его
нравственным? Ведь нравственность возможна только в отношениях между
субъектами, и она невозможна ни в мире одних только объектов, ни даже в
области субъетю-объеюгных отношений. Поэтому отношение к человеку,
природе, любой вещи только тогда нравственно, когда они
рассматриваются как самоценные элементы бытия, как имеющие собственное и
безусловное право на существование суверенные субъекты. Нечто подобное
Лейбниц говорил о монадах. Но только вряд ли следовало ему связывать субъ-
ектность («субстанциальность» в его языке) всего истинно-сущего с его
психической природой, ибо даже если бы в мире помимо людей не
существовало никаких других духовных существ, то и тогда у нас не было бы
никаких оснований лишать собственного достоинства и права быть
субъектами другие вещи, поскольку и обыкновенный камень, представляющийся
нам лишь мертвой грудой вещества, а ученым — скоплением
безжизненных молекул, атомов, элементарных и субэлементарных частиц или
энергий, на самом деле, — если учесть непреодолимую ограниченность нашего
знания и неисчерпаемость реальности, — есть, возможно, нечто
неизмеримо большее — такая же бездна и такая же загадка, как и мы сами. Вправе ли
мы в таком случае обращаться с камнем только как с нашим объектом или
подручным средством? А что если из-за ограниченности нашего познания
от нас осталось скрытым как раз самое важное, знание чего коренным
образом изменило бы наше представление о месте и значении этого камня в
универсуме? Поэтому предпосылкой действительно нравственного
отношения не только к человеку, но и ко всей реальности должна быть
презумпция самоценности и субъеютюго характера всех вещей.
Зависимость нравственности от того, что мы признаем самоценным
(целью), а что — только служебным (средством), была замечена уже
Аристотелем, осознана Августином и теоретически осмыслена Кантом.
Однако категорический императив Канта, дающий очень точное выражение
нравственной идеи применительно к межчеловеческим отношениям,
представляется недостаточным, если его брать в качестве критерия нрав-
Тщета науки
25
ственности как таковой. Ведь Кант в «Основах метафизики
нравственности» пишет: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в
своем лице, и в лице всякого другого также как к цели и никогда не
относился бы к нему только как к средству» (Соч. в шести томах, М:
«Мысль», 1965, т. 4, ч. 1, с. 270). Здесь основной принцип нравственности
распространяется исключительно на межчеловеческие отношения.
Правда, в других формулировках категорического императива, предложенных
Кантом, можно усмотреть и более широкое толкование. Например, в том
же сочинении имеется также и такая формулировка: «Поступай только
согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время
можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом» (Там же, с. 260). Так
же и в «Критике практического разума» Кант формулирует свой
«категорический императив» то з более конкретной, то в более абстрактной
форме. В своей конкретной форме этот императив представляется здесь чуть
ли не откровенным выражением человеческой гордыни: «Во всем
сотворенном все что угодно и для чего угодно может быть употреблено всего
лишь как средство; только человек, а с ним и каждое разумное существо
есть цель сама по себе» (Там же, с. 414). Выраженный в такой форме
категорический императив Канта может быть принят разве что теми, кто
относится к Божьему творению — природе, включая сюда и животных, как
предмету нещадной эксплуатации, как хищник к своей добыче. Однако я
думаю, что если бы Кант был свидетелем современной экологической
катастрофы и современной вакханалии потребительства, он, возможно,
сделал бы свою формулировку более общей; например, такой: «Поступай,
всегда исходя из того, что ты сам и все другие люди, и все другие
существа этого мира, подобные тебе и неподобные, известные и неизвестные
должны признаваться тобой не только твоим средством, но и твоей целью,
не только объектами (явлениями), но и субъектами (вещами в себе)».
Впрочем, в той же «Критике» Кант формулирует свой «основной закон
чистого практического разума» в такой форме, в которой он приемлем и в
нашем контексте: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же
время иметь силу принципа всеобщего законодательства» (Там же, с. 347).
Правда, он приемлем только в том случае, если указанное «всеобщее
законодательство» относится ко всему творению. Мы, конечно, не хотим
навязывать Канту то, чего у него нет, и, пожалуй, согласимся, что при
нашей интерпретации в кантовский императив все же вносится
существенная поправка. Кстати, похожую поправку в «категорический
императив» внес когда-то итальянский философ Джоберти, критиковавший
Канта за «забвение бытия» с позиций христианского платонизма. Правда, в
редакции Джоберти «категорический императив» приобрел большую
универсальность, но не большую ясность: «Признай на практике бытие,
которое ты познал в теории». Если прояснить основной смысл этой
формулы Джоберти, то она означает требование признавать на практике
право на существование всего того, что наш разум истинно постиг как
имеющее на это право. Справедливость этой маскимы очевидна.
Категорический императив нравственности, учитывая все сказанное выше,
можно было бы записать еще и в такой формулировке: «Поступай так, чтобы
26
Тщета науки
определяющим мотивом твоего поведения всегда было не объектное, а
субъектное бытие предмета».
В этой последней записи категорического императива, т. е.
предписания, неисполнение которого делает любое поведение безнравственным,
содержится упоминание объектной мотивации. Такая мотивация
допускается, хотя и не рассматривается как определяющая. Ведь человек в силу
своей природы не может вовсе обойтись без объективации сущего.
Однако он нравствен только до тех пределов, пока эта объективация не
переходит меры необходимости и не превращается в самоцель. Если человек по
природе не может обойтись без растительной и животной пищи, то он
вынужден относиться к растениям и животным как к средствам
пропитания, т. е. как к объектам. Но если такое отношение к ним становится
единственным или даже главным, человек перестает быть нравственным и
превращается в зверя. При этом надо иметь в виду одну тонкость.
Животные и растения тоже нуждаются в питании, а поэтому и они поедают или
ассимилируют другие субъекты. Однако к ним не применимы понятия
добра и зла, нравственного и безнравственного, так как все их действия
непроизвольны и бессознательны, а следовательно, этим действиям не
предшествует свободный выбор того или иного отношения к вещам и тем
более — понимание различия вещи самой по себе (субъекта) и тех сторон
этой вещи, которые в эти действия вовлекаются (объекта). Только
человеку дано различать в предмете субъект и объект, сущность и явление,
«вещь в себе» и «вещь для нас», только ему свойственно избирать свое
отношение к тому и другому, а потому из всех тварей только человек
может быть нравственным или безнравственным.
То, что предметы существуют не только как явления (объекты), но и
как «вещи в себе» (субъекты), косвенно доказывает самый факт
неисчерпаемости их в познании. Ведь ни одного предмета окружающего нас
мира, да и внутреннего нашего мира, мы не знаем настолько, чтобы иметь
право сказать: мы знаем о нем все, т. е. знаем, каков он на самом деле, сам
по себе, «в себе». Более непосредственно это доказывается наличием у
нас инстинктивной уверенности в том, что вещи существуют независимо
от того, знаем мы о них или не знаем. Эта вера играет важнейшую роль в
нашем общении с вещами и во всей нашей практической деятельности.
Благодаря ей, мы вступаем с предметом в отношения партнерства,
соучаствуя с ним в одном и том же мире на равных правах. Откуда еще могла
бы произойти эта вера, если не от общей у нас с вещами укорененности в
мировом бытии?
Рассматривая все вещи как самоценные субъекты, мы установим
или — точнее — восстановим, наконец, свою утраченную гармонию с
природой и избавимся от самого тяжкого греха — греха гордости.
Наука, предоставленная самой себе, не ведет к этому; она ищет не гармонии,
а господства и, следовательно, ведет к рабству. Древняя магия, анимизм,
оккультизм по сравнению с современной наукой кажутся куда как более
нравственными. Им по крайней мере было свойственно почтительное и
даже сакральное отношение ко всему природному. Магическая душа не
лишала собственного достоинства неведомое только потому, что оно
Тщета науки
27
неведомо и не разгадано. Наоборот, чем менее что-то поддавалось
познанию, тем более самоценным становилось оно в глазах древних. Мир
для них складывался из соучаствующих в мистерии бытия деятельных
субъектов, взаимопризнание и взаимоузнавание которых
обеспечивалось не экспансией разума, а органическим сочувствием (sympatheia),
естественным сродством всего сущего.
Чем меньше люди «знали» и полагались на свой разум, тем меньше у
них было претензий к миру. Однако надо все же признать, что рост
претензий и гордыни всегда опережал рост реальных познаний. Правда, вряд
ли можно отрицать, что развивая свою науку, человек многому научился.
Но, во-первых, сколько бы много он ни познал, сфера познанного им
всегда ограничена, конечна, тогда как сфера непознанного всегда бесконечна,
а поэтому его знание несоизмеримо с его незнанием, и он не может быть
даже полностью уверен в том, знает ли он на самом деле то, что он, как
ему кажется, знает.
Кроме того, вся человеческая ученость ограничивается знанием
«объективного», «объектного», а значит самим же человеком
сконструированного мира, или — лучше сказать — знанием мира, отраженного в кривом и
плохо отшлифованном зеркале его сознания. При этом человек за всю свою
научную историю ни на йоту не продвинулся ни в познании своего
внутреннего «я», ни в познании других вещей как они существуют в качестве
субъектов. За это время он даже кое-что утратил, ибо с разрушением основ
своей первоначальной органической жизни и с отчуждением от реального
мира вследствие его объективации или, говоря гегелевским языком,
опредмечивания (Verdinglichung), человек постепенно почти утратил
естественную способность сопереживания, сочувствия, сострадания (sympatheia),
которая в разных ипостасях всегда была едва ли не единственным данным
человеку природой выходом к другой субъективности.
Таковы неутешительные результаты развития науки в плане
познания истинного бытия вещей. В этом отношении ближе к цели подошла
философия. Уже древние философы, начиная с Пифагора, понимали, что
все вещи реального мира, включая самих людей, неисчерпаемы для
познания, и философ не в праве ограничивать значение вещей той ролью,
которую они, как нам кажется, играют для нас, людей, т. е. ролью
объектов, и поэтому он должен допустить как нечто более важное и
фундаментальное их собственное, не зависящее от нашего восприятия, бытие —
«бытие в себе», каковое должно мыслиться уже как бытие субъектов, а не
объектов. И в этом, как ясно показал потом Кант, состоит главное отличие
философа от ученого. Ученый смотрит на свой предмет исключительно
как на объект, вследствие чего он, между прочим, запрещает себе
выходить за пределы возможного опыта и требует «объективности»
исследования, которая в конце концов сводится к навязыванию вещи самой по
себе человеческой формы ее восприятия и подведению этого восприятия
под категории человеческого рассудка. Важно, что требование
объективности исследования, выдвигаемое наукой, отнюдь не означает какого-то
уважения к самобытности (бытию в себе) изучаемого предмета. Оно
подразумевает только недопустимость отклонения самой же науки от внут-
28
Тщета науки
ренних ее норм и запрещение выходить за пределы очерченного ею же
возможного опыта, т. е. за пределы мира «явлений». В конечном счете
научная объективность, по-видимому, сводится к некой
интерсубъективности, к консенсусу ученых относительно правил и фактов, причем
предметам оставляется только функция объектов. И хотя ученый, казалось бы,
больше всего стремится узнать именно действительное положение вещей,
т. е. «как оно есть на самом деле», он всегда, в силу своей изначальной
познавательной установки, подменяет «действительность» научной
«объективностью», а «вещь в себе» — «вещью для нас», где «для нас»
означает «для нашей науки», для научного сообщества — «наиболее трезвой и
самой осведомленной части человечества», что, как предполагается,
исключает всякий субъективизм и произвол.
Соблазненный навязчивыми посулами «объективной» науки,
человек почти разучился любить природу, и на место прежнего
биологического родственного чувства пришло рациональное к ней отношение, в
котором мало страсти, но много холодного практического расчета. Нельзя
сказать, что человек больше не видит в вещах красоты, но его восхищение их
красотой подобно тому «умилению», которое испытывает насильник,
видя прелести своей жертвы. Даже когда человек оплакивает им же самим
вызванную гибель природы, он плачет не по ней самой, а по себе,
понимая, что без природы он пропал, — это крокодиловы слезы.
Превратив все в объект, человек в пылу науко-творчества
объективировал, «опредметил» и самого себя. А став своим собственным
объектом, он признал в себе действительным только «объективное», т. е.
интерсубъективное, определенное согласным мнением ученых, и значит
признал своим чужое, а не собственное. Вследствие такого отчуждения от
самого себя, человек утратил органическое само-чувствие и сознание
своей уникальности, неповторимости, субъективности; он перестал слушать
голос инстинктов, разучился себя понимать, преобразовался в массового
среднестатистического человека, в предмет собственных и чужих
манипуляций. Подменив себя абстрактной научной схемой, конкретный живой
человек не мог, конечно, испытывать к своему новому облику сердечного
влечения, и он разлюбил и себя самого, и себе подобных.
В действительности, как мы видим, наука не только не приблизила
человека к природе и к себе самому, но, напротив, соблазнив
перспективой всемогущества, привела его к отчуждению от природы и к
самоотчуждению. И повинна в этом как раз хваленая научная объективность,
равнозначная отказу признать самоценность «вещей в себе», признать
абсолютность их бытия. Наука все перевела в план относительности,
релятивизма, все выразила в отношении к усредненному восприятию и
абстрактному «логосу» ученого, исключив из своей картины мира и человека
всякую спонтанность, чудо и тайну. Из человеческой жизни навсегда
ушла сказка. Фактически наука расколола целостный мир на два враждебных
лагеря:^ лагерь агрессивного, атакующего человека, оснащенного
чудовищной техникой насилия и стремящегося к единоличному мировому
господству, и лагерь обороняющейся природы, которая, противясь
объективации, опредмечиванию, утилизации и покушению на ее, природы, дев-
Тщета науки
29
ственность и свободу, мстит человеку извне и изнутри, наказывая его
отторжением среды обитания и духовно-нравственной импотенцией,
отлучением его от Абсолюта.
В этой войне человека с природой силы неравны: человек должен
или погибнуть или сдаться на милость природы. Такова, по-видимому,
перспектива развития человечества под знаком научной объективности.
Как бы ни возносился человек, как бы ни куражился, он всегда
остается сыном (блудным) природы, прахом земным, наделенным от Бога
сознанием. Никакая наука не способна изменить человеческого
происхождения, и не может окончательно оторвать человека от его природных
корней, не погубив его при этом. И пока корни целы, движутся по ним соки
Матери-Земли, питающие его тело и душу, несущие с собой энергию
жизни и крепость памяти — памяти о щедром и теплом чреве природы, в
котором был зачат человек. Как это случилось, мы благочестиво умолчим.
Но вот человек появился на свет. Первое, что он сделал, он взял в
руки палку и увидел в ней свое орудие. С этого момента начинается
история «объективного» мира — мира объектов, существующих в качестве
таковых только потому, что их используют и познают. Полноценные и
самоценные вещи природы попали в своеобразное рабство к человеку,
получив помимо естественного какой-то новый, дополнительный,
странный и ущербный способ существования, при котором их судьба стала
зависеть от того, какая из сторон их бесконечно содержательного,
субъектного, бытия показалась человеку достойной внимания и годной для
эксплуатации. Однако, создав вокруг себя, а позднее и в себе самом, новый
объектно-орудийный мир (человек подобно Богу сам стал творцом этого
мира, но мир этот в отличие от естественного изначально ущербен и
иллюзорен), человек не столько поработил вещи, сколько сам поработился
своими объектами. Ведь, что касается вещей, он, конечно же, не смог
овладеть всем их неисчерпаемым естеством, а следовательно, не смог и
превратить их полностью в орудия своего господства. Даже самые
простейшие с его господской точки зрения объекты нет-нет да и преподносят ему
свои сюрпризы, выходя из-под контроля. Что же касается самого
человека, то и здесь объективация не пошла слишком далеко: она коснулась
только поверхностной интерсубъективной стороны человеческого «я» (в
основном рассудочной стороны мышления, ответственной за
формирование понятий-объектов), а глубинные, подсознательные слои
субъективного «я» остались почти не затронутыми, так что не случайно самым
большим препятствием в осуществлении наших особенно «объективных» и
«логичных» намерений чаще всего служим мы сами.
Итак, ясно, что человеку не удалось и никогда не удастся установить
полный контроль ни над миром, ни над собой, ибо он не может мир и
самого себя сделать исключительно объектами. Что же касается
порабощения человека им же самим для своего господства созданными объектами,
т. е. орудиями, здесь дело пошло значительно дальше. Ничто так не
угнетает человека, как отсутствие орудий для действия. Сам труд —
специфически человеческая форма деятельности — немыслим без орудий и
объектов. Более того, труд есть в свою очередь основной способ превращения
30
Тщета науки
«вещей в себе» в объекты и орудия. Через его посредство происходит
отчуждение в пользу человека собственной сущности вещей: разъятие этой
сущности и порабощение им (человеком) той ее части, которая становится
его объектом. Труд, даже самый творческий, всегда есть эксплуатация
вещей, ибо он всегда насильственно использует вещи только как средства,
игнорируя их автономию и целостность, их свободу и субъектный
характер. Альтернативой труду служит игра, ибо игра предполагает
добровольное участие в ней всех сторон и наличие между участниками субъект-
субъектных отношений. Там, где этого нет, нет и игры, даже когда в
качестве партнера выступает автомат или вообще неодушевленный предмет.
Ведь и в этом случае, играя, мы, хотя и условно, рассматриваем
контрагента как равного нам партнера и субъекта, а не только как объект.
Игровые отношения с миром характерны для всякой органической жизни; они
типичны для животных и свойственны первобытному человеку. Гесиод и
Вергилий рисуют нам золотой век человечества, век Кроноса-Сатурна,
как торжество игры человека и природы. Царством игры представляется
Эдем у древних иудеев. Все это — очень правдивые реминисценции
первоначальной органической жизни человечества, когда потребности еще
немногочисленных людей были в основном естественными и
удовлетворялись самой природой. С ростом народонаселения и формированием
искусственных потребностей игровые отношения сменились трудовыми; с
этого момента началась жестокая эксплуатация человеком природы, своих
собратьев и самого себя.
Со временем человек разучился обходиться с природой как равный с
равным, присвоив статус субъекта только самому себе, а природе оставив
только роль объекта. На самом же деле он собственную субъективность
объективировал, так как отсек в своем сознании ту главнейшую часть
своего «я», которая как раз и связывает человека интимно и органично с
природной бездной — лоном всякой свободы и автономии.
Древние еще хорошо понимали, что человек обретает значение
распорядительного центра, т. е. субъекта, обретает свободу и автономию
не в противостоянии своей собственной и окружающей его природе, а в
единении и слиянии с ней, ибо только таким путем человек поднимается
до беспрепятственной активности и достигает полного самовыражения.
К сожалению, эти указания древних, основанные на их неизвращенном,
целомудренном чувстве реальности, были потом забыты, и в
человечестве восторжествовал иной принцип — принцип господства над
природой, предполагающий веру в то, что человек и природа — это нечто
совершенно разное, и что человек, занимая в иерархии сущего ступень
более высокую, имеет право пользоваться природой как простым
материалом и средством для достижения своих особых, сверхприродных
целей. Обольстившись дарованной ему творческой способностью, человек
самозабвенно отдался великой переделке, перестройке и переплавке
окружающего мира и самого себя, в результате чего он создал в себе и в
ближайшем своем окружении «вторую природу», называемую
культурой. Это был мир труда — царство объектов и орудий. Придав ему
значение высшей ценности, человек незаметно для себя вскоре стал его ра-
Тщета науки
31
бом. За горизонтом этого искусственного мира продолжало, конечно,
существовать необъятное царство действительности, но, увлекшись,
человек в конце концов и ему отказал в праве на независимое от культуры,
самостоятельное бытие, придав ему статус «объективного мира».
Объективный мир — это по существу мир культуры, экстраполированный
на всю реальность, где неизвестное человеку получает гипотетическое
существование по аналогии с известным. Выйти из объективного мира в
мир действительный человек столько же не может, сколько не хочет.
Он уже привык к окружению подручных, односторонне высвеченных
светом его разума вещей-объектов, он страшится темноты неведомого и
непредсказуемого, боится утраты своей власти над вещами. И его
опасения и страхи основательны. Вступив в действительный мир, человек и
вправду окажется в таинственном и загадочном для него царстве, в
стране чудес, где нет господства и подчинения, где всякая вещь —
свободная индивидуальность и актуальная бесконечность, и где
проводником ему будет служить уже не холодный и мрачный рассудок (ratio),
который подобно дантевскому Вергилию вел человека по адским кругам
объективного мира, а только любовь — та, что у Данте в образе
Беатриче ведет нас по Раю. Впрочем, человеку и не надо вступать в этот
истинный, действительный, мир, он ведь в нем и так всегда находится,
хотя и не задумывается над этим. Неподлинная жизнь человека течет по
поверхности подлинной, и стоит ему отважиться заглянуть в глубь
потока, он сразу узнает о том, кто он на самом деле и где находится.
Измышленный человеком объективный мир можно, пожалуй, сравнить со
сновидением, которое мы испытываем, оставаясь в то же время спящими
участниками обычной жизни. Все образы сновидения сложены из
элементов впечатлений, получаемых нами наяву. Но спящий не отдает себе
в этом отчета и принимает эпифеномены действительности за саму
действительность. Точно так же, находясь одновременно в двух мирах, один
из которых действительный, а другой, называемый объективным, —
мнимый, хотя и сложенный человеческой волей и воображением из
фрагментов действительного мира, — человек, пока не опомнится,
принимает этот производный, эпифеноменальный объективный мир за
действительный и поступает соответствующим образом. Поэтому люди
ведут себя в жизни подобно сомнамбулам: двигаясь к своим
иллюзорным целям, они, ничего не подозревая, в действительности оказываются
в конце концов на карнизе бытия. И вот, они, спящие, идут по этому
карнизу над бездной смерти, хранимые лунным божеством, и если кто-
нибудь вдруг разбудит их, они, очнувшись и увидев весь ужас своего
положения, потеряют равновесие и неизбежно погибнут. Но погибнуть
они могут и не проснувшись. Значит, разбудить их надо раньше, чем они
выйдут на карниз. Кто же может разбудить этих сомнамбул? Кто
выведет их из плена жестоких грез о порабощении природы и мировом
господстве? Ясно, что это должен быть какой-то посредник между двумя
мирами: объективным и действительным, Но два этих мира
соприкасаются только в человеческом духе и больше нигде. Следовательно,
прозрение человечества — дело его же духа, задача каких-то особых
32
Тщета науки
форм духовной деятельности. Наука со всем своим реквизитом для этого
не подходит, ибо она целиком погружена в объективное.
Иное дело — искусство, если его понимать не только как «технэ»,
т. е. как мастерство и изобретательность ума, а как «пойэсис» — как
творчество художественной фантазии, соединенной с интуицией
истинно сущего. Искусство в таком понимании совершенно чуждо
стремлению к объективации. Настоящий художник — будь то поэт или прозаик,
романист или драматург, живописец или ваятель, композитор или
исполнитель — достигает поставленной перед собой цели только тогда,
когда он добивается максимальной идентификации себя с тем, что он
изображает. Например, писатель-романист должен сам пережить жизни
всех своих разнотипных героев, их глазами увидеть изображаемую в
романе природу, их чувствами и их умом воспринять все описанные в
романе события; он должен вместе со своими героями страдать, любить,
ненавидеть; иными словами, он только тогда достигнет высшей цели
искусства — художественной правды, когда он представит читателю
всю бездну субъектного бытия своих героев и окружающего их мира.
Так же и живописец и музыкант, изображающие своими средствами
волнующееся море или цветущий сад, не достигнут успеха, если — как
ни странно это звучит — не отождествят себя в своем воображении с
этим морем и с этим садом как с полноправными субъектами бытия,
такими же таинственными и непостижимыми, как и сам человек.
Однако сегодня говорить об искусстве как средстве спасения
человечества от кошмара торжествующей объективности было бы просто
нелепо. Современное искусство в подавляющей своей части — это ярмарка
тщеславия, где главная цель — блеснуть оригинальностью и шокировать
публику, жаждущую острых ощущений и всего того, что уводит от
действительности. Символом современного искусства может служить
знаменитый «Черный квадрат» Малевича. Приходится только удивляться, как
могут тысячи и тысячи людей со всех концов земли с умным видом часами
стоять перед этим признанным «шедевром» мирового искусства, взирая с
благоговением на кусок холста, покрытого более или менее равномерно
черной краской и ничего, кроме этой черноты и микроскопического
светлого пятнышка на ней, не изображающего. Сколько усилий потратили
филистеры-искусствоведы, чтобы отыскать глубокий смысл в этой, с
позволения сказать, картине. А может быть экстравагантный Малевич
просто пошутил? Может быть решил таким незатейливым способом
удостовериться в скудоумии своих почитателей?.. Но как бы там ни было, кусок
холста, покрытый черной краской, был признан шедевром современной
живописи. Это символично. Это — приговор, подписанный самому себе
современным искусством. Оно больше не способно радовать нас
голубизной неба и благоуханием цветущих садов, величественной красотой
горных вершин и штормящего моря. Оно закрывает все проявления
действительной жизни одним черным квадратом, бессмысленным и в то же время
«объективным», как и все остальное, созданное современной артефактной
цивилизацией, предавшей забвению бесконечно-содержательное истинное
бытие вещей самих по себе.
Тщета науки
33
Итак, искусство в современном его состоянии не способно вывести
человечество из мира, где все становится объектом (а следовательно, и
предметом произвольной манипуляции), в действительный мир
субъектов бытия, т. е. в мир «вещей в себе», в котором, как справедливо считал
Кант, только и может существовать свобода и нравственность.
Вспомнив Канта, обратимся в заключение нашего исследования
снова к философии. Может ли современная философия вывести человечество
из «египетского рабства», из рабства объективизма, к свободе
субъектного бытия, т. е. к самой действительности? Казалось бы по самой своей
природе философия как раз и предназначена к исполнению этой великой
миссии. Но, с другой стороны, что представляет из себя современная
философия? При всей пестроте и многообразии философских учений и
направлений в современном мире почти все они фактически сводятся к двум
основным: условно говоря, — к философии научной объективности,
имеющей свои корни в позитивизме, неокантианстве и марксизме; и к
философии человеческой субъективности, восходящей своими истоками к
персонализму, к феноменологии Гуссерля, к Хайдеггеру, и особенно — к
фрейдизму и структурализму. Понятно, что первое из этих направлений
уже по самому своему определению не оставляет никакой надежды на
освобождение человека из рабства объективизма. Что же касается второго
направления, по существу оппозиционного первому, то понимание
субъективности здесь не имеет ничего общего с изложенным нами выше
принципом «субъектности» всего истинно сущего. Философия
человеческой субъективности, как она представлена, например, французской
школой философов, таких, как Фуко, Лакан, Делёз, Деррида и их
последователи, по своему стилю, подчас напоминающему стиль философствующих
пациентов психиатрических клиник, может быть поставлена в параллель с
тем искусством, которое представлено «Черным квадратом» Малевича.
Таким черным квадратом, заключенным в «картинную» раму,
привлекающим к себе внимание многочисленных поклонников, служит у них все
затмевающая собой тема нестандартной половой мотивации. Понятно, что
ожидать от такой философии духовного преображения человечества вряд
ли возможно. Что же касается вообще философии, то надо признать, что
ее влияние в современном мире заметно уменьшилось по сравнению с
тем, каким оно было еще несколько десятилетий назад. Это объясняется
ускорением технического прогресса, за которым человек вынужден
поспевать, чтобы не оказаться на обочине жизни. Кроме того, вместе с
техническим прогрессом возрастает скорость экономических и политических
перемен в мире, и в результате времени на глубокие философские
размышления у человека почти или вовсе не остается. Таким образом, из
Homo sapiens человек все больше превращается в Homo Instrumentalis, т. е.
в орудие могущественных бездушных сил, утрачивая постепенно остатки
своей свободы. К чему это приведет, одному Богу известно. Но надежда,
как говорится, умирает последней.
СОФИЯ. ЭПИСТЕМА. ТЕХНЕМА
(Размышления о способах понимания
философии в ходе ее истории)
Опыт первый
Много ли найдется слов, которые самой своей конструкцией
выражали бы вложенный в них смысл с такой же определенностью и
безупречной ясностью, как его выражает слово «философия»? Ведь древние
греки сконструировали этот термин, как мы увидим, не случайно, а
совершенно сознательно, с намерением выразить в одном слове
свойственное человеческому духу высокое стремление («любовь» — «филия»)
к обладанию полнотой истины, т. е. к тому, что они называли мудростью
(«софия»). Однако шло время, и в ходе истории к этому
первоначальному и единственно аутентичному способу понимания философии
добавлялись иные толкования, пока, наконец, в последнее столетие смысл
слова «философия» не оказался настолько размытым, что не только
«непосвященные» — будь то ученые мужи, политики или простые
обыватели1, — но и те, кого ныне как раз и именуют «философами», стали
называть этим святым словом едва ли не всё, что им заблагорассудится: то
особого рода науку, то некое искусство герменевтики, то какие-то
языковые игры, то мифологию бессознательного, то некоторую особую
форму идеологии...
Можно себе представить, какие затруднения при этом положении
дел должен испытывать добросовестный историк при воссоздании
философского процесса. Что он должен включать в историю философии? Не
1 Если говорить о «непосвященных», не секрет, что, например, люди науки в
большинстве своем имеют о философии довольно расплывчатое и в то же время весьма
нелестное представление: они видят в ней нечто слишком претенциозное и для самой науки мало
полезное, а иногда и вредное — некую абстрактную псевдонауку, противоположную по
своей сущности наукам конкретным. Заметим, что к так называемым «конкретным» наукам
относятся фактически все науки вообще, включая математику и современную логику,
относятся на том основании, что каждая из этих наук имеет свой собственные конкретный
предмет. Парадоксальным образом получается, что у конкретных наук нет больше их
естественного дополнения — наук абстрактных, а то, что еще можно им, конкретным наукам,
противопоставить как имеющее неконкретный, т. е. отвлеченный от реальной действительности,
характер, как раз и есть философия. Впрочем, ученые мужи, как и обыватели, в большинстве
случаев начинают судить о философии несколько раньше, чем успевают с ней
познакомиться. Более уважительно относятся к ней деятели искусства, угадывая в философии нечто
родственное художественному вдохновению (то, о чем говорит Платон в «Федре»).
София. Эпистема. Технема. Опыт первый
35
включать же в нее «творения» каких-нибудь графоманов и психопатов на
том основании, что они сами или их «единомышленники» называют эти
опусы шедеврами философии! Даже если допустить законность разных
толкований сущности философии, все же остается в силе вопрос о том,
как отличить философию от нефилософии и в особенности от
родственных ей форм духовной активности, таких, как религия, моралистика и
политическая идеология. Вправе ли мы относить к философии таких
великих моралистов и гениев художественной литературы, как Достоевский
и Лев Толстой, или таких политических мыслителей, как Маркс, Бакунин,
Ленин? Кроме того, остается нерешенным вопрос: считать ли философией
мудрость Древнего Востока? Единственный способ решить все эти
вопросы и устранить связанные с ними затруднения — это установить
достаточно определенное и исторически обоснованное понятие философии, а
чтобы это сделать, необходимо на какое-то время воздержаться от любых
предвзятых мнений о сущности философии и предоставить слово самой
истории.
Для начала обратим внимание на тот немаловажный факт, что в то
время как идея мудрости и соответствующее ей слово фиксируются в
литературе всех культурных народов древности (что доказано, в частности,
исследованиями академика В. Н. Топорова), идея философии встречается
только у греков, а в языках других древних культур отсутствует и
соответствующее ей автохтонное слово. Из этого можно сделать вывод, что
философия в собственном смысле есть изобретение чисто европейское. И,
как будет показано ниже, ее открытие и последующее развитие вплоть до
полного воплощения ее идеи связано исключительно с особенностями
менталитета и самосознания древних греков.
Распространение философии в мире происходило путем простого
заимствования ее идеи и самого ее имени у греков другими народами.
Так слово «философия» без существенных фонетических изменений
перешло сначала в латинский, а затем в сирийский и арабский языки.
Позднее оно укоренилось во всех новоевропейских языках2, а в
последнее столетие было усвоено остальным миром. Разумеется,
перенесение греческой идеи3 философии на почву иных менталитетов, равно
как и перемещение ее во времени из одной эпохи в другую, добавляло
к этой идее какие-то нюансы, но существенно она измениться не
могла, иначе это была бы уже не идея философии, а какая-то другая . При
этом надо отметить, что на вопрос, что такое философия, уже сами
греки отвечали по-разному. Одни из них считали, что философия —
2 Русское слово «любомудрие» — точная калька, снятая с греческого слова
«философия».
3 Термин «идея» здесь и всюду мы употребляем в значении стимула мышления в
отличие от термина «понятие», который означает результат мышления. Понятие есть то или
иное понимание идеи, так что об одной и той же идее могут быть разные понятия. Это
относится и к идее философии. Вообще идея имеет направленность от предмета к мысли, а
понятие, наоборот, — от мысли к предмету. Данное различение восходит к Платону.
4 Так же со времен античности не изменились и другие идеи духовных предметов,
например, идеи ума, рассудка, чувства, воображения, идеи честности и подлости и т. п.
Впрочем, не изменились и идеи стола и хлеба.
36
София. Эпистема. Технема. Опыт первый
это влечение духа к совершенному (абсолютному) знанию и любовь к
мудрости, и это полностью совпадало с буквальным смыслом
греческого слова «философия». Другие понимали под философией некую
науку, а именно высшую из наук, царствующую над всеми
остальными. Третьи же видели в философии своего рода искусство и
виртуозность мысли, умение все доказывать или опровергать. Эти три типа
понимания философии можно, воспользовавшись термином Макса Ве-
бера, назвать «идеальными типами»: в чистом виде они представлены
редко, но все иные известные нам способы понимания философии в
античности (назовем их «смешанными») редуцируются к ним. На наш
взгляд, представленная типология пониманий (толкований) идеи
философии, будучи исчерпывающей, имеет приложение и ко всей
последующей истории философии вплоть до современности. Сегодня, как и
в античные времена, смешанный тип понимания философии является
преобладающим, но если тогда это было смешение первого и второго
из трех идеальных типов, то ныне — смешение второго и третьего, что,
как станет ясно из дальнейшего, свидетельствует о снижении
философского пафоса и общем упадке философии.
Итак, мы утверждаем, что греки не только открыли для нас
философию, но и исчерпали все основные возможные способы ее понимания5.
Теперь наша задача — доказать это. Но прежде дадим этим способам
(типам) понимания соответствующие их сущности названия. Первый,
поскольку он ориентирован на мудрость, назовем «софийным» (от греч.
sophia — «мудрость»); второй, ориентированный на науку, назовем «эпи-
стемическим» (от греч. epistëmë — «точно установленное знание»,
«наука»); третий, ориентированный на мастерство, изобретательность и
ловкость мышления, одним словом — на его технику, назовем «технематиче-
ским» (от греч. technêma — «искусное произведение», «изобретение»,
«выдумка», «интрига», «ловкий трюк» и т. п.). Вооружившись этими
терминами, приступим к делу.
5 Все вышеизложенное может создать впечатление, что автор страдает болезнью
европоцентризма. Чтобы этого не случилось, заметим, что европоцентризм есть нечто как раз
противоположное, а именно — когда считают, что уж если философия родилась в Европе, то
она, конечно, должна родиться и во всем остальном мире, как будто ценности европейские (а
сегодня можно было бы добавить — и американские) по самому своему определению с
необходимостью являются ценностями общечеловеческими. Со стороны нравственной такая
позиция не может быть охарактеризована иначе, как завышенное самомнение и болезненное
самодовольство. Но порочность европоцентризма (и американизма) еще и в другом — в том,
что можно назвать passio unification is, т. е. страстью к единообразию, трудно совместимой с
декларированным современной западной цивилизацией принципом плюрализма. Этой
страсти можно противопоставить слова великого европейца Торквато Тассо: «Nel variar natura è
bel la» — «Природа прекрасна в разнообразии». Да и кто докажет, что философия сама по
себе лучше тех своеобразных форм самовыражения человеческого духа, которые были
рождены на Древнем Востоке? Ведь философия даже в самом адекватном ее понимании есть
только захватывающее, возвышающее человека стремление к Абсолюту, в то время как
восточная мудрость учит полному слиянию с Абсолютом. Известно, что учение философа
Плотина о слиянии единичной души с Единым, добавившее к европейской философии некий
новый, не свойственный ей ранее элемент, имеет восточные корни. Да и христианство,
которому, правда, Запад давно уже, по существу, изменил, не выдержав его высоких требований
к человеческой личности, тоже пришло с Востока.
София. Эпистема. Технема. Опыт первый
37
Философия как философия
По всей вероятности, слово «философия» придумал и впервые
произнес грек Пифагор. Об этом свидетельствуют сами античные авторы, прежде
всего Цицерон и Диоген Лаэрций, ссылающиеся на Гераклида Понтийско-
го, ученика Платона. Это подтверждается и самим духом учения
пифагорейцев, и их образом жизни, где все было подчинено любви к мудрости и
исканию истины, наконец — тем фактом, что Пифагорейский союз явился,
по существу, первой в мировой истории философской школой, ибо так
называемая милетская школа была вовсе не школой, а линией
преемственности. Кроме того, как мы уже показали в первом разделе нашей книги6,
рождение идеи философии во времена Пифагора было подготовлено широким
обсуждением в VI в. до н. э. проблемы человеческой мудрости, в котором
приняли участи едва ли не все знаменитости Эллады — от Фалеса и Солона
до Феогнида и Пиндара, в связи с чем возник и известный спор о «семи
мудрецах». Результат этого столетнего обсуждения был пессимистическим:
лучшие умы Греции признали, что подлинная мудрость человеку
недоступна. В число этих лучших умов входил и Пифагор. Однако Пифагор нашел
достойный выход из пессимизма: если, посчитал он, мудрость, софия, т. е.
полнота знания, и не доступна человеку, ибо обладание мудростью — удел
богов, а не людей, то все же человеку доступны стремление, продвижение, а
главное, любовь к мудрости, что само по себе уже есть великий дар. Таким
образом, соединив любовь с мудростью, Пифагор произвел на свет новую
идею — идею любомудрия, т. е. философии. Философия мыслилась
Пифагором и его школой как высшее выражение самостоятельных усилий
человека в достижении полноты истины, за пределами которых остается
только то, что недостижимо без помощи особой божественной благодати, а
именно — область последней тайны бытия, в которую человек посвящается
уже не с помощью автономного разума, но с помощью религиозных
мистерий. Вместе с тем философия была поставлена Пифагором между наукой и
религией, т. е. выше положительного знания (эпистема), и была понята как
всегда открытый и свободный процесс движения мысли за пределы эписте-
мы, как ее непрерывное транцендирование. При таком понимании смысл и
предназначение философии — не в обладании истиной, а в ее искании, в
пребывании в ее свете, в «бытии к истине». Философии как любомудрию
присущи и все свойства настоящей любви. Сущность ее, как и сущность
любви, — не результат, а сам процесс; ей свойственны также постоянное
вдохновение, самопожертвование, неудовлетворенность собой,
перманентная рефлексивность. Любовь философа совершенно бескорыстна и по-
своему трагична, ведь он посвящает себя той — Абсолютной Истине, —
относительно которой он заведомо знает, что обладать ею никогда не будет,
хотя именно желание обладать ею и составляет смысл его жизни. Философ
движется к истине путем самоотречения, отступления от себя, «из-
ступления», путем «эк-стаза», устраняя на этом пути свою собственную
6 В основу этого раздела положена ранее опубликованная мною статья с тем же
названием (см.: Логос. 1991. № 2).
38
София. Эпистема. Технема. Опыт первый
непрозрачность для света истины. Поэтому философия в своем конкретном
применении есть самокритика разума, а по своему методу она есть апофа-
тика, завершающаяся в идеале созерцанием света истины. Главные
нравственные добродетели философа — кротость и правдолюбие (филалетейя).
Научить философии можно только отчасти, научить быть философом
нельзя вовсе. Философский склад ума — дар Божий. Настоящие философы как
и святые, встречаются редко. Они — души избранные.
Выдвинутая Пифагором идея философии в первое столетие своего
существования (до последней трети V века до н. э.) не имела заметного
влияния и оставалась исключительно собственностью пифагорейцев, их
неразглашаемой тайной. В силу этого последнего обстоятельства она и не
была тогда оценена по достоинству греческим миром. Даже Гераклит,
человек гениальный, но слишком гордый, чтобы признать себя любящим
мудрость, а не мудрецом, лишь посмеялся над новоявленными «любомуд-
рыми мужами» (эти его слова — первое в истории упоминание имени
философов), упрекнув их в «многознании», которое «уму не научает», и
назвав их любомудрие «пустомудрием». Однако спустя столетие после
Пифагора явился Сократ, который не только поддержал пифагорейскую
идею философии, но и развил и прославил ее настолько, что она стала
после него важнейшим элементом всей греческой культуры.
Именно благодаря Сократу само слово «философия» становится у
греков общеупотребительным. Скорее всего ему же (хотя, возможно, и
софистам) принадлежит изобретение и внедрение в культуру другого
базисного термина — «диалектика». Этим словом Сократ назвал свой метод
(способ стимуляции человеческой мысли в ее движении к абсолютной
истине путем выявления и преодоления антиномий познания) —
собственный метод философии. Этимологически и по существу слово
«диалектика» означает искусство мысленно-речевого диалога. Поэтому, избрав
это слово для обозначения метода философии, Сократ прозорливо указал
тем самым и на единственный адекватный способ выражения
философских идей: этот способ есть открытый в бесконечность свободный диалог,
а не монолог и не трактат, практикуемый в науках. Сознательная,
целенаправленная разработка диалектического метода — величайшая заслуга
Сократа. Три стороны, или три ступени, этого метода суть «ирония»,
«майевтика», «эпагогика» (индукция). На первой, очистительной, ступени
философ освобождает себя от всякого догматизма и мнимого знания,
доводя свой ум до полного апофатического самоотречения («я знаю, что я
ничего не знаю»). На второй, побудительной, ступени очищенный от
предвзятых мнений ум философа обнаруживает свое родство с истиной и,
более того, свою способность с помощью вопрошания извлекать ее из
самого себя («познай самого себя»!). На третьей, эпагогической стадии
ум, вновь обретя уверенность, но теперь уже обоснованную, продвигается
путем наведения от найденных в себе частных истин к более общим,
охватывающим всё более широкий спектр бытия, пока не дойдет до
последних онтологических оснований (до «созерцания поля истины»). Впрочем,
процесс наведения мысли на последние основания сущего, если судить по
так называемым «сократическим диалогам» Платона, у Сократа всегда
София. Эпистема. Технема. Опыт первый
39
остается открытым и незаконченным, хотя идея безусловных оснований
всего ряда восходящих истин неизменно присутствует в диалектическом
процессе как его цель. В этом отношении Сократ ни на шаг не отступает
от того понимания философии, которое было свойственно Пифагору.
Более того, открытие Сократом диалектического метода означало
дальнейшее углубление и расширение этого понимания.
Принцип иронии констатировал определяющую роль в философии
отрицания и противоречия. Принцип майевтики устанавливал, что
генеральное направление движения философской мысли к абсолютной истине
(к Абсолюту) есть направление вовнутрь, а не вовне, как думали
предшественники Сократа, так называемые физики (о софистах мы не говорим,
так как они отрицали саму возможность абсолютной истины). Исходя из
этого, Сократ вывел за пределы философии изучение внешней природы,
предоставив ее исследователям-естественникам, и сделал единственным
законным предметом философского интереса человеческий дух во всех
формах его проявления, особенно в нравственной и познавательной.
Именно в этом смысле надо понимать известные слова Цицерона,
сказанные им о Сократе: «Сократ свел философию с неба на землю», ибо Сократ
первым из европейцев понял, что ключ к разгадке всех тайн бытия,
включая даже тайны неба, находится в душе обыкновенного земного человека,
который, сам не зная того, является венцом природы и поэтому ближе
всего стоит к Абсолюту, к Небесам Небес. Спустившись благодаря
Сократу на землю, философия не только не утратила своей возвышенности, но
даже достигла своей предельной высоты, заняв свое естественное место у
подножия Абсолюта.
Однако Сократ ясно осознавал, что формы человеческого общения
с Абсолютом не исчерпываются философией, в случае которой вектор
этого общения всегда направлен от человека к Богу и восхождение
осуществляется автономными усилиями человеческого разума. Он, как и
Пифагор, верил в возможность иных, экстралогических или даже «эк-
траментальных» форм общения с Абсолютом, когда само Божество по
своей воле, при полной пассивности человеческого ума таинственно
вразумляет человека, направляя его на путь истинный, предостерегая и
спасая его. Мы говорим здесь о сократовском учении о даймонии, о
котором, к сожалению, знаем совсем немного. В любом случае это учение
отвергает расхожее мнение об однобоком сократовском рационализме,
наиболее агрессивным сторонником которого был Лев Шестов.
Разумеется, рационализм — это измена самой идее философии ради идеи
положительного, определенного исключительно научными критериями
знания, но как раз против этого выступал Сократ, противопоставив
этому динамическую гармонию рационального и иррационального.
Разработка рационального элемента в познании происходит, как мы
уже видели, на третьей ступени сократического метода, т. е. на стадии эпа-
гогической, индуктивной. И здесь Сократ проявляет свою неизменную
изобретательность. Даже Аристотель, совершенно чуждый духу сократизма,
отмечал великую заслугу Сократа в разработке индуктивных
умозаключений и определении понятий (правильнее было бы сказать, в определении
40
София. Эпистема. Технгма. Опыт первый
идей с помощью и в форме понятий). Индукция и определения у Сократа —
две стороны одного и того же умственного процесса: в своем последнем
предназначении они обеспечивают сакраментальный для человека процесс
восхождения к абсолютной истине посредством истин относительных. В
каждом же отдельном случае эпагоге-индукция есть наведение мысли на
искомый предмет, а точнее, на его идею, служащую представителем
предмета в человеческом духе. Подобно магниту, идея влечет к себе
любознательную мысль, которая старается «схватить», «охватить» ее, заключить ее
в рамки уже познанного, т. е. «определить», «определить», а тем самым
посредством определения (horos) и понять ее, т. е. выразить ее в определе-
ном слове-понятии (logos). Однако любая конкретная вещь (речь не идет о
вещах абстрактных) в силу своей включенности в мировую взаимосвязь и
соотнесенности с Абсолютом требует для своего полного понимания
знания всех остальных вещей, которых неисчислимое множество, а кроме того,
требует и познания самого Абсолюта как принципа их бытия и единства.
Поэтому процесс наведения мысли на идею конкретного предмета
оказывается, по существу, бесконечным, что, правда, не мешает ему двигаться к
своей цели, сменяя более поверхностные определения на все более
глубокие и разносторонние и высвечивая предмет все более ясно, хотя и без
надежды когда-либо закончить этот восходящий процесс. Продуктами такой
индукции всякий раз являются «определенные» наши понятия,
составляющие арсенал положительной науки, никогда, разумеется, не завершенной.
Сказанное позволяет нам объяснить и ту особенность «сократических
диалогов» Платона, что и они, к разочарованию читателей, всегда оказываются
как бы незавершенными: ведя нас с большим искусством к разрешению
поставленной проблемы и обогащая нас на этом пути все новыми и новыми
знаниями, Сократ никогда не приводит нас к окончательным решениям,
оставляя вопрос открытым. Таков метод Сократа.
В заключение этого раздела скажем еще о том, что Сократ не только
своим учением, но и самой своей жизнью и даже своей смертью показал
нам, что такое философия и кто такой философ. Если судить по его
жизни, философия есть равнодушие к внешним благам и забота о благах
души, среди которых главные — справедливость и познание истины. Если
судить по его смерти, философ — это тот, кто, признавая неизбежность
смерти и не зная точно, что за ней последует, тем не менее и в ее
преддверии ведет себя так, — ставя общее благо выше личного, — как если бы
его душа была бессмертна.
Итак, Сократ блестяще исполнил миссию, предначертанную ему
судьбой. Он ввел открытую Пифагором философию в мир и пояснил
человечеству ее смысл и предназначение. И все-таки окончательное
утверждение философии в мире, наивысшее и самое полное выражение ее идеи
связаны с именем не Сократа, а Платона, которого единственного еще в
античности называли за это «божественным философом».
Оценить по достоинству все, что сделал Платон для философии, в
рамках данной работы, разумеется, невозможно. Поэтому выделим то,
что нам представляется главным. Во-первых, Платон, приняв от Сократа
философию в устной форме, придал ей адекватную письменную, лите-
София. Эпистема. Технема. Опыт первый
41
ратурную форму и тем самым сделал ее достоянием последующих
поколений. Во-вторых, он раздвинул границы применения сократовской
диалектики с человеческого бытия до бытия вообще (что лишь
подразумевалось учением Сократа) и, различив «бытие» и «бывание»,
систематически рассмотрел их сущность и их взаимоотношения во всех сферах: в
сфере чистого мышления, в природной сфере, в человеке, в
общественной и политической жизни. В результате Платон стал первым в истории
создателем философской системы (если, конечно, не понимать под
системой только формально упорядоченное непротиворечивое построение).
В-третьих, Платон, сохранив верность сократовскому пониманию
Абсолюта как абсолютного добра (Блага) и абсолютной истины, дополнил
это понимание идеей абсолютной красоты и тем самым впервые
представил в полноте триединый софийный идеал, а следовательно, и тран-
цендентальный предмет всякой подлинной философии. Одаренный от
природы колоссальной мыслительной силой и одновременно
художественной гениальностью, Платон гармонично соединил их в писательском
творчестве, создав особый, невиданный ранее род литературы — род
философский, не сводимый по своим жанровым характеристикам ни к
литературе чисто художественной, ни к литературе научной, но
использующий выразительные средства той и другой путем их комбинации для
достижения собственных, только философской литературе присущих
целей. Но Платон пошел и дальше: высоко оценив роль в познании и
рационального (научного) мышления, и художественной интуиции, он
сделал вывод, что высший, т. е. философский, род познания
предполагает полный синтез этих двух способностей и что философия поэтому
должна пониматься как особого рода художество — «художество
мысли». Как и всякое художество, философия движима красотой, транцен-
дентной и в то же время трансцендентальной Красотой Абсолюта,
сообщающей душе философа вдохновение, а поскольку вдохновение от
красоты есть любовь, эрос, то философ есть не кто иной, как тип
влюбленного, со всеми свойствами влюбленной души, среди которых самое
характерное — исступление, «из-ступление» из обыденности, выход за
рамки привычной рациональности, принимаемый другими людьми за
чудаковатость (вспомним платоновского Сократа в «Пире» и «Теэтете»).
Исходя из этого Платон объявляет богом-покровителем философии
Эрота и вносит тем самым в понимание ее новый, экстатический элемент:
пифагорейскую и сократовскую «филию», спокойную и
уравновешенную любовь-дружество или любовь-расположенность, он преобразует в
любовь-эрос, т. е. в любовь-экзальтацию, любовь-порыв, непреодолимо
влекущую философа из области преходящего и несовершенного в
область вечного и совершенного, а значит, во всех смыслах идеального.
Тоска по идеальному как раз и составляет главный отличительный
признак философа в учении Платона. Вот почему в центре его внимания
находится теория идей — теория, призванная доказать, что философский
эрос и стремление человека к полноте бытия, т. е. к бессмертию и
совершенству, не беспочвенны и что совершенное и полное предшествуют
несовершенному и неполному как логически, так и онтологически.
42
София. Эпистема. Технема. Опыт первый
Хорошо понимая, что для выражения философского эроса одних
только рациональных средств недостаточно, Платон посчитал
необходимым использовать в изыскании абсолютного все вообще доступные
человечеству выразительные средства и приемы: логос и миф, эпос и драму,
поэзию и прозу, трагедию и комедию, риторику и диалектику, анализ и
синтез и т. п. Вспомним хотя бы замечательные комедийные сцены из
«Протагора», достойные пера Аристофана, или трагедию «Федона», или
эпос «Крития», «Политика» и «Законов». Особенно характерно для
Платона использование мифа, причем мифа искусственного, сочиненного
самим философом с целью наведения мысли слушателя и читателя на
искомую идею, где это невозможно сделать с помощью логического
рассуждения. Заметим, что именно философские мифы Платона, такие, как миф
о Пещере или миф о колесницах, обычно связываются в памяти
человеческой с именем великого философа и его учением. И это, конечно, не
случайно, ведь мы имеем дело с особой, символической, мифологией,
которая увлекает наш ум в ту светоносную область на подступах к Абсолюту,
в которой философия достигает наивысшей возможной для нее
реализации как мысленное художество и которая принадлежит ей одной. Из этого
следует, кроме всего прочего, что и любая настоящая философия вряд ли
может обойтись без элементов символической мифологии. В диалогах
«Софист» и «Парменид» Платон убедительно доказал нам, что выход ума
философа на уровень последних оснований сущего сопровождается
крушением законов привычной формальной логики и требует для уразумения
этих оснований каких-то сверхлогических интуиции. Правда, в указанных
диалогах, имеющих апоретический характер, Платон об этих
спасительных интуициях прямо не говорит. Но зато он говорит очень ясно о
сверхлогической и сверхнаучной интуиции в конце шестой книги
«Государства», а вначале седьмой книги он показывает, что эта интуиция
сверхнаучного может быть выражена только через символ и миф.
Таким образом, Платон в раскрытии софийного смысла философии,
в разработке ее средств и методов, в самом философском сочинительстве
достиг предельных высот. Ни до него, ни после никто его в этом не
превзошел, и лишь очень немногие, шедшие по его же пути, добавляли что-
то свое, новое, к тому, что уже сказал о любомудрии Платон. Ближайший
достойный продолжатель софийной линии в истории философии,
Плотин, жил шесть веков спустя после Платона. К этой же линии должны
быть отнесены и некоторые другие неоплатоники, в том числе
христианские, особенно такие, как Николай Кузанский и Джордано Бруно. Почти
по-платоновски понимал философию Кант, хотя способ ее изложения он
избрал не софийный. При этом в самом понимании существа философии
Кант был, как ни странно, ближе к Платону, чем Фихте и даже Гегель, и
был примерно так же близок к нему (хотя и по другим основаниям), как
Шеллинг. Наиболее последовательное продолжение свое софийная линия
нашла в византийской и русской философии. Однако обо всем этом будет
рассказано в двух последующих очерках задуманного нами цикла. А
теперь мы переходим ко второму способу понимания философии — эпи-
стемическому.
София. Эпистема. Технема. Опыт первый
43
Философия как эпистема
История эпистемических интерпретаций философии начинается с
Аристотеля, хотя предпосылки для такого рода ее толкований сложились
столетием раньше в учении элеатов — Парменида и Зенона. Несмотря на
то что мы не имеем никаких свидетельств употребления элеатами слова
«философия», их роль в определении характера и узловых проблем
древнегреческой философии очень значительна и сравнима разве что только с
ролью Гераклита, антипода Парменида, согласного с ним, впрочем, в
одном важном пункте — в том, «что все едино».
Наиболее важные для философии основоположения Парменида
таковы:
1) существуют два способа восприятия бытия: первый — «путь
истины», когда «бытие» устанавливается не противоречащим себе
мышлением; второй — «путь мнения», когда о бытии судят на
основании чувственного представления, т. е. на основании
кажимости. Первый путь, по определению, — истинный, второй —
ложный («О природе», фр. 1, ст. 28-30);
2) истинное, т. е. непротиворечиво мыслимое, бытие не содержит в
себе никакой примеси своей противоположности — небытия,
ибо небытия нет по определению, а следовательно, бытие не
может ни возникнуть, ни исчезнуть, ни измениться, так как в
противном случае в нем должно бы в той или иной степени
присутствовать небытие, что невозможно логически. Отсюда
следует, в свою очередь, что а) бытие не имеет прошлого и будущего,
но всегда присутствует в вечном настоящем; б) оно едино, т. е.
однородно и неделимо, иначе в нем одно не было бы другим и
тем самым в нем опять же оказывалось бы небытие; в) бытие
самотождественно, т. е. оно есть только то, что оно есть, а
потому оно всегда отграничено от всего иного своей непреодолимой
определенностью («лежит в оковах») и в этом смысле оно
равномерно ограничено подобно идеальному шару («О природе»,
фр. 6-8);
3) в отношении всего, о чем может идти речь, должно утверждать,
что либо оно есть, либо его нет, а третьего не дано. Поэтому
становление не может быть мыслимо, иначе было бы мыслимо
противоречивое (фр. 6-7);
4) истинная мысль о предмете и сам предмет мысли тождественны
(фр. 3, фр. 8, ст. 34-36). При отсутствии такого тождества мысль
была бы ложной.
Приведенные основоположения Парменида предвосхищают едва ли
не все кардинальные принципы эпистемической философии, т. е. той,
которая строится по модели строгой науки и понимает себя как науку.
Обратим внимание на то, какую большую роль в этом поэтическом
произведении Парменида играет формальная логика — испытанное орудие всех
наук и универсальное средство общечеловеческой коммуникации. Из
текста прямо-таки высвечиваются три закона формальной логики, позднее
44 София. Эпистема. Технема. Опыт первый
более точно сформулированные Аристотелем: закон тождества, закон
непротиворечия и закон исключенного третьего. Далее: противопоставление
Парменидом истины и мнения фактически выливается в фиксацию им
коренного различия логического понятия и чувственного представления,
которые, согласно Пармениду, несоизмеримы: мыслимое непредставимо,
представимое немыслимо. Последнее положение, т. е. утверждение о том,
что нельзя помыслить, не впадая в логическое противоречие, даже того,
что представляется нашим чувствам совершенно очевидным, как
движение и множественность вещей, специально доказывалось потом учеником
Парменида Зеноном.
Учение Парменида о неизменяемости и самотождественности бытия
вместе с его учением о тождестве бытия и истинной мысли доказывало
необходимость для научного понятия сохранять свое значение
неизменным в течение всего процесса рассуждения, а учение об ограниченности
бытия обосновывало обязательность для научных понятий определений.
Зенон же, продолжая дело Парменида, показал всю эту научную
методологию в действии в своих апориях, продемонстрировав при этом впервые
огромную значимость в науке доказательств от противного. Но важнее
всего то, что элеаты признали законы формальной логики законами
самого бытия, а ее метод — единственно истинным методом истолкования
бытия, чем они и подготовили аристотелевское понимание философии как
науки. Ведь мы должны помнить, что предметом «первой философии» у
Аристотеля является сущее как таковое, т. е. само бытие, а его
определяющим принципом — закон недопустимости противоречия.
Аристотель вышел из платоновской Академии; он был самым
одаренным из учеников Платона, но и самым своевольным (по мнению
самого учителя, переданному нам античной доксографией). В первый период
своего творчества он, правда, в основном следовал предписаниям учителя,
сочиняя философские диалоги, которые, судя по немногочисленным
сохранившимся фрагментам, были наполнены мысленным художеством и
глубоким переживанием человеческой экзистенции. Такими были его
диалоги «Евдем», «О благе», «О философии» и сочинение, написанное в
форме побуждения к занятиям философией, «Протрептик». Здесь
философия понимается Аристотелем как наставница в жизни, хранительница
добродетели, утешительница в горе, влекущая человека к высшему благу,
т. е. понимается совершенно по-платоновски. Однако позднее, после
смерти Платона и выхода из Академии, Аристотель под влиянием
обстоятельств и пробудившихся потребностей своей натуры целиком посвящает
себя конкретно-научным исследованиям, собирая отовсюду,
систематизируя и обобщая все, что было известно в его эпоху во всех областях знания.
В результате этой работы он стал первым в европейской истории «поли-
гистором» — первым энциклопедистом. Более того, Аристотель может по
праву считаться и создателем большинства античных наук, кроме
математических. Величайшей его заслугой является создание науки логики,
которая потребовалась ему как раз для целей упорядочения, систематизации
и обобщения знания. Хотя сам термин «логика» был введен позднее,
Аристотель понимал эту науку именно как науку о «логосе», о способах рас-
София. Эпистема. Технема. Опыт первый
45
суждения как такового, а поэтому считал ее универсальным орудием —
«органоном» — всех других наук. Сами науки он сгруппировал по
классам (теоретические, практические, творческие) сообразно родам
человеческой деятельности, а внутри классов — по предметам знания. По
методу науки у Аристотеля не отличаются, ибо органон един для всех наук.
Как и следовало ожидать, в число наук (теоретических) Аристотель
включает и философию. Сказалась длительная вовлеченность его в сферу
научных исследований. Впрочем, на этом этапе полной ясности с
определением места философии у Аристотеля нет. Иногда он относит к
компетенции философа и все другие фундаментальные науки, включая физику
(философию природы) и математику. Видимо, поэтому он вводит
специальное понятие «первой философии», или «протофилософии», чтобы
отличить ее от философии в более широком смысле, охватывающем и
«физику», и «этику», и «математику», и «политику», и «экономику», и
«поэтику», и «риторику», и «диалектику». Именно эта «первая философия»
включена Аристотелем в число теоретических наук в качестве первой по
номеру и по значимости.
В определении предмета «первой философии» у Аристотеля также
нет окончательной ясности. Под своим собственным именем в шестой
книге «Метафизики» протофилософия отождествляется с «теологией» —
наукой о божественном, о неизменно и бестелесно сущем. И в первой
книге того же трактата говорится о божественности предмета высшей
науки, но сама эта наука уже называется просто «мудростью» (софией), а
ее предметом полагаются первые причины и начала. Наконец, в четвертой
книге «Метафизики» предметом и философии, и мудрости объявляется
сущее как таковое, т. е. чистое бытие.
Не ставя здесь перед собой задачу совместить указанные
определения, отметим только, что Аристотель фактически не делает различия
между философией и софией-мудростью, а это говорит о его полном
игнорировании первоначального смысла философии. Кроме того, хотя
отождествленная с мудростью философия и ставится в иерархии наук на
самое высокое место, она все же ничем не отличается от других
теоретических наук, кроме своего предмета, а следовательно, она есть
обыкновенная теоретическая наука, стоящая в иерархической вертикали после (т. е.
выше) физики (и математики), за что по всей справедливости может
называться «мета-физикой», или просто «метафизикой». И хотя этот термин
появился случайно, став названием папки, в которую издатель однажды
потерянного и потом, к счастью, найденного архива Аристотеля
Андроник Родосский упаковал сочинения, которые не знал, куда отнести,
обозначив эту папку надписью «после физики», тем не менее слово
«метафизика» с поразительной точностью выражает аристотелевское понимание
философии как упорядоченной, построенной по законам формальной
логики, строгой науки, отличающейся формально от физики только большей
общностью и большей ценностью своего предмета .
7 Сегодня термин «метафизика» употребляется так же вольно, как и термин
«философия». Им нередко пользуются для обозначения чего-то как раз противоположного научной
46
София. Эпистема. Технема. Опыт первый
Отметим и еще один момент. В классификации наук Аристотеля
этика совершенно справедливо, с точки зрения принятых им критериев,
отделена от первой философии и включена в класс наук практических
(«Никомахова этика», кн. VI). Если же учесть, что первая философия у
него совпадает с Софией, то получается нечто невероятное: из идеи
мудрости, а следовательно, и из идеи самой философии изымается
нравственное ядро, а вместе с ним философия утрачивает и свой
нравственный пафос, превращаясь в сухую схоластику. Мы не хотим,
конечно, сказать, что Аристотель мало интересовался темой
нравственности. Напротив, на эту тему он написал значительно больше, чем на тему
метафизики, и, может быть, написанное на эту тему — лучшее из всего,
что он написал. Однако смещение нравственной идеи в сторону
периферии философского интереса означало полный разрыв Аристотеля с
платоновской традицией, в которой нравственная идея всегда остается
живым сердцем философии. Таким образом, философия была понята
Аристотелем главным образом как метафизика, как наука об
абстрактном бытии. Истолковав ее как эпистему, зажатую в тиски формальной
логики8, Аристотель лишил ее изначальной духовной самобытности,
превратил из поэзии в скучную прозу, из творчества любви в работу
рассудка. Вместе с тем он же стал изобретателем подходящей формы
изложения такой философии — типичной для науки формы
структурированного трактата, оставшейся и в последующие века основной
формой самовыражения эпистемической философии.
Дальнейшая судьба эпистемически понятой философии была на
редкость счастливой, особенно в эпоху схоластики и первые столетия Нового
времени. Поскольку и восточная (арабоязычная), и западная (латиноязыч-
ная) схоластика опиралась на Аристотеля, она разделяла и его понимание
философии. Но и мыслители семнадцатого века, за исключением, может
быть, Паскаля, философа скорее софийного типа, разделяли
аристотелевское понимание, несмотря на свою критику схоластики. Вообще надо
признать большим заблуждением свойственное историкам философии
чрезмерное противопоставление философских позиций этих двух эпох,
особенно если иметь в виду позднее Средневековье. Сходств здесь
больше, чем различий.
Первый удар по метафизике и неограниченной власти эпистемы в
философии был нанесен Юмом, а второй, сокрушительный, Кантом, после
чего метафизика стала рассматриваться чаще как нечто отрицательное.
Однако история метафизики заслуживает более серьезного исследования,
а это неосуществимо в рамках данной работы. Поэтому перейдем к
анализу технематического толкования философии.
философии, например какой-нибудь разгулявшейся технематики. Однако вплоть до конца
ΧΓΧ в. этот термин использовался неизменно в его исконном значении, даже когда
метафизика отвергалась или подвергалась критике.
Понятие «диалектика», означавшее у Сократа и Платона собственный метод
философии — метод продвижения к абсолютной истине, Аристотель истолковал только как
орудие «мнимого знания», как инструмент риторики.
София. Эпистема. Технема. Опыт первый
47
Философия как технема
Напомним, что в технематическом понимании философия
представляется искусством мысли, в котором не истина, а сама умелость, сама
техника мышления является целью. В отличие от понятия «мудрость»,
такие понятия, как «искусство» и «наука», не имеют никаких
нравственных коннотаций, ибо искусство и наука одинаково могут служить как
добру, так и злу. Правда, русское слово «искусство» этимологически
возводится к настораживающим лексемам «искус» и «искушать», которые
имеют своим значением соблазн и обольщение. Однако ни в греческом
слове «техна» (têchnë), ни в латинском ars ничего такого нет, да и в
современном русском ассоциации с соблазном слово «искусство» уже не
вызывают. И все же, если вдуматься, русское слово «искусство» замечательно
тем, что оно как бы призывает быть осторожным с искусством, ибо оно
способно очаровывать и увлекать не только к добру, но и ко злу. Ведь
существуют же в нашем языке выражения и отнюдь не метафорические:
«искусный вор», «искусный шулер», «искусный интриган» и т. п. А что
касается науки, то надо ли говорить, сколько современный мир дает
примеров ее использования во зло. Но мудрость по самой своей сущности
никогда не служит злу, так как она и есть высшая добродетель. А поэтому
и любовь к мудрости, т. е. истинная философия, не может служить злу,
что с необходимостью влечет за собой заключение: понимание
философии как науки или искусства ложно. И все-таки оно существует.
Само по себе искусство мыслить не только не противоречит
истинной философии, но даже является ее необходимой предпосылкой. Но это
искусство не должно становиться самоцелью, иначе оно превращается в
игру — игру ума, как это и происходит у технематических философов,
поэтому их понимание философии можно также назвать «игровым».
Именно к игре применимы все словарные значения греческих терминов
«техна» и «технема»: здесь требуется и ловкость, и умелость, и
сметливость, и хитрость, и интрига, и мастерство, и т. п. Однако игра не всегда
бывает только развлечением, иногда она, как выражаются игроки, бывает
и «на интерес». Так же и технематическая философия бывает или просто
самоцельной игрой ума, или же игрой ума, стимулируемой чем-то
внешним, например: ожидаемым гонораром, желанием прославиться, прослыть
оригинальным, просто привлечь к себе внимание. В истории такого типа
философов было немало, особенно в наше время, хотя далеко не всегда
они достигали своих целей.
Технематическое понимание философии, как и два других, начинает
свою историю в Греции, а именно в эпоху софистов и как раз с них. Мы
не знаем, называли они себя сами «софистами» или это их наименование
внешнее, а сами они считали себя философами. Во всяком случае они
были современниками Сократа, и значит, уже всем известное, славное имя
«философ» могло привлечь к себе их тщеславные души, тем более, что
слово «софист» еще Эсхил употреблял в непривлекательном значении
«хитрец» или даже «проныра». Но все это не так уж важно. Важно, как
софисты относились к софии, к мудрости. А относились они к ней безо
48
София. Эпистема. Технема. Опыт первый
всякого благоговения и даже иронично, считая ее разменной монетой и
предметом торговли. Важно и то, что софисты, даже если они и не
называли себя философами, своим отношением к мудрости, своим способом
мышления и всем своим поведением дали образец, которому подражали
или который самостоятельно воспроизводили другие, уже определенно
считавшие себя философами. Греческие софисты играли на деньги, но,
будучи людьми образованными и талантливыми, попутно просвещали
своих соплеменников и учили их рассуждать, так что без них расцвет
философской мысли в эпоху Сократа и Платона вряд ли состоялся бы.
Однако он состоялся, как известно, и в противовес софистам, ведь Сократ и
Платон именно в борьбе с софистикой формировали свои взгляды, и в
этой борьбе они реабилитировали идею мудрости, девальвированную
софистами, и утвердили идею философии.
Софисты, наверное, вполне искренне считали мудростью многозна-
ние и умение доказывать и опровергать все, что угодно — виртуозность
мысли. Софист Горгий прославился тем, что умел блестяще опровергнуть
сегодня то, что блестяще доказал вчера. Чтобы привлечь к себе внимание
и удержать его, софисты должны были эпатировать и выглядеть
экстравагантно. Отсюда максимализм и парадоксальность их суждений. Тот же
Горгий учил своих слушателей, что или ничего не существует, или, если
что-то и существует, его нельзя познать, или , если его и можно познать,
это нельзя выразить в слове. И все это он вполне правдоподобно
доказывал. Софист Ксениад утверждал, что небытие прежде и главнее бытия, а
предводитель софистов Протагор учил, что истин столько, сколько людей,
и столько же существует миров, ибо человек есть мера всех вещей.
Софист Фразимах у Платона доказывает Сократу, что несправедливость
лучше справедливости, а другой софист, Калликл, убеждает, что
справедливость придумали слабые, чтобы угнетать сильных. Впрочем, будучи
релятивистами, не признавая никаких абсолютов и ничего не принимая
всерьез, все эти софисты в другой раз могли, если нужно, доказать
противоположное. Они, как хорошие актеры, должны были всегда быть
готовыми играть любую роль. Всеядность, шутовство, актерство, отсутствие
глубокой веры в то, чему они учат, рядом с обширной эрудицией,
глубоким интересом к языку и другим средствам выражения мысли, рядом с
превосходной техникой мышления — все это свойственно не только
греческим софистам, но и любому заметному философу технематической
ориентации. Но поскольку во всем этом софисты были первыми, то в
память о них данному способу философствования может быть присвоено н
третье имя — «софистический».
Может возникнуть вопрос: а существовали ли на свете и существуют
ли сегодня философы, подобные софистам? В эпоху античности по всем
признакам технематическими следует признать Кратета, который
превратил кинизм в цинизм ради забавы и эпатажа; из киренаиков — Гегесия,
теоретика самоубийства; из мегариков — Стильпона и Евбулида,
сделавших своей профессией диалектику и апоретику; из академиков — Карнеа-
да, практиковавшего «акаталепсию» и, подобно Горгию, доказывавшего и
опровергавшего одно и то же. Можно, наверное, назвать и других. Однако
София. Эпистема. Технема. Опыт первый
49
мы должны помнить, что говорим о технематическом типе понимания как
об «идеальном» типе, который редко встречается в чистом виде и служит
скорее для оценки тенденции. Как тенденция игровое понимание
философии совершенно не характерно для таких серьезных эпох, как поздняя
Античность и Средневековье; напротив — характерно для Ренессанса и
Просвещения; в XVII и XIX вв. примеры такого понимания редки, но зато
в XX в. оно становится заметным, а в конце его — преобладающим.
Думается, что современным бесчисленным хайдегтерианцам,
постструктуралистам, постфрейдистам, теоретикам деконструкции и языковых игр
ближе все-таки данный тип понимания философии, т. е. понимание
игровое, софистическое и технематическое сразу.
Но, завершая этот очерк, не могу не отметить тот факт, что ни один
великий философ в истории никогда не разделял указанного понимания
философии и что все более или менее значительные философы
предпочитали либо софийное, либо эпистемическое ее толкование.
Остается надеяться, что предложенная типология философских
учений позволит внести определенные коррективы в бытующие у нас
представления о соотношении философских парадигм в истории.
Типология этих парадигм, доставшаяся нам по наследству от «марксистов-
ленинцев», в основу которой положена идея борьбы материализма и
идеализма, диалектики и метафизики, является упрощенной и даже
ошибочной. Во всяком случае материализм правильно было бы
противопоставлять не идеализму, а спиритуализму, сообразно оппозиции
материя — дух. Что же касается идеализма, что надо признать, что всякая
философия есть идеализм, ибо философ, в отличие, скажем, от ученого,
никогда не ограничивается относительным и всегда неустанно ищет
последнее, совершенное, «идеальное» объяснительное основание — некую
идею (или принцип), из которой или с помощью которой можно вывести
и обосновать все остальное. Такой главенствующей идеей для
материалиста служит идея материи, для спиритуалиста — идея духа. Поэтому
материализм — это идеализм материи, а спиритуализм — идеализм
духа. Что же касается противопоставления диалектики и метафизики, то
оно не вполне корректно, ибо «диалектикой» называется метод, а
«метафизикой» — определенная (эпистемическая) система философии, но
метод можно противопоставить только методу, а систему — системе.
СОФИЯ, ЭПИСТЕМА, ТЕХНЕМА
Опыт второй
В первом опыте нашего исследования способов понимания
философии в истории, мы ограничились в основном эпохой античной классики. В
настоящем эссе речь пойдет о судьбах софийного, эпистемического и тех-
нематического философствования в последующие века. Разумеется, в
рамках этого эссе мы не сможем проследить все драматические
перипетии, которые испытывала философия в ходе истории; однако решающие
моменты в ее судьбе мы все-таки надеемся определить.
Напомним, что в результате предыдущего исследования, мы пришли
к выводу, что высшим достижением в процессе раскрытия аутентичного,
т. е. софийного, смысла философии как таковой следует признать учение
Платона и что только спустя шесть веков у Платона нашелся достойный
продолжатель, и это был неоплатоник Плотин.
Оставаясь верным Платону в главном — в понимании философии как
особого рода любви ко всему истинному, прекрасному, благому; в
понимании ее как вдохновленного этой любовью мыслительного художества,
возводящего наш человеческий ум к Абсолюту; в признании невозможности
выражения содержательной полноты философских идей только научными
средствами, — Плотин в то же время внес довольно существенные изменения в
платоническое понимание философского метода. Во-первых, он полностью
отказался от сократовской диалогической формы изложения философии,
заменив ее монологической, казалось бы противоречащей самому духу
диалектики, как ее понимал Сократ и ранний Платон. Во-вторых, Плотин отказался
и от «сократической иронии», позволявшей Платону вести читателя своих
диалогов к пониманию самых возвышенных идей в непринужденной
обстановке застольной беседы, где позволительно и притворяться (ведь «ирония»
по-гречески есть «притворство»), и менять позиции на противоположные,
если это может ускорить приближение к истине. Благодаря сократической
иронии движение философской мысли в диалогах Платона шло путем
балансирования между знанием и осознанным незнанием, т. е. путем docta ignoran-
tia («ученого незнания»), если применять выражение Николая Кузанского,
также платоника, считавшего указанный путь кратчайшим путем к
Абсолюту. Почему же Плотин не принял сократической иронии? Во-первых, — по
субъективным причинам: его биограф Порфирий изображает нам Плотина
как человека в высшей степени искреннего и кроткого, что, разумеется,
несовместимо с гениальным шутовством Сократа. Во-вторых, эпоха и
обстоятельства, при которых жил Плотин, были слишком грозными и почти
апокалиптическими, так что философу было не до шуток и притворства.
София. Эпистема. Технама. Опыт второй
51
Итак, Плотин не принял сократической иронии. Понятно, что,
отказавшись от диалогической формы изложения своих взглядов, он не
применял и метод майевтики — «повивального искусства» Сократа, ибо май-
евтика, конечно, предполагает диалог. Платон же, как известно, придавал
этому методу большое значение. Он применяется им во многих диалогах
и особенно выразительно — в «Меноне» и «Теэтете». Наконец, нельзя
сказать, что Плотин сколько-нибудь широко использует сократическую
индукцию, столь характерную для большинства диалогов Платона.
Открытие общих принципов достигается у Плотина не индукцией, а
интроспекцией, созерцательным углублением ума в самого себя.
Однако, несмотря на все сказанное, Плотин не перестает быть
платоником и даже, по существу, не изменяет Платону в учении о методе;
более того, свой метод он понимает именно по-платоновски, т. е. именно
как диалектику, но как диалектику взаимоотношений высших родов
сущего. Основы такой диалектики были заложены тем же Платоном в
диалогах «Софист» и «Парменид»; эта диалектика частично отражена также в
«Филебе», в VI и VII книгах «Государства». Это уже такая диалектика,
которая сочетает в себе рассуждение и углубленное умственное
созерцание, т. е. «умозрение», причем такое, которое проникает до последних, не
сводимых друг к другу категорий сущего: «бытие», «покой и движение»,
«тождество и различие» («Софист») и, обозревая все степени единства
сущего («Парменид»), останавливается перед запредельным,
сверхсущностным, не допускающим в себе никакого участия, а потому и
непостижимым, единым началом («Парменид», 1-я гипотеза). А поскольку
указанными свойствами единого начала всего сущего у Платона наделяется и
«Благо» («Государство» VI-VII, «Филеб»), то Плотину нетрудно было
отождествить эти две идеи и тем самым установить первый принцип
своей собственной философии — принцип «Единого». Онтологически
Единое (to Hen) становится в его системе Первой Ипостасью, платоновский
Ум-Демиург (Noys), заключающий в себе мир идей («Тимей»), становится
Второй Ипостасью, а платоновская Мировая Душа (Psyche), оживляющая
телесный Космос и вносящая в него чувственное начало («Тимей»,
«Политик»), получает у Плотина статус Третьей Ипостаси.
Из выше сказанного, пожалуй, можно было бы вывести
заключение, что весь Плотин содержится в Платоне. Однако такое заключение
было бы неверным. Конечно, Плотин — это платоник, но еще точнее —
неоплатоник, возрождающий платонизм в новую, далеко отстоящую по
времени от Платона, эпоху. За это время философия обогатилась
многими новыми именами, учениями и школами. Плотин, человек
высокообразованный и любознательный, не мог не учитывать новации послепла-
тоновской философии. Так оно и случилось: вторым после Платона
источником плотиновских идей стал Аристотель, а следующим за ним по
значимости — стоики. Главное, что взял Плотин от Аристотеля, — это
его теория «Мышления мыслящего самое себя» и его учение о мировой
динамике (от которого производится важная неоплатоническая триада:
stasis — dynamis — energeia). Стоический пантеизм повлиял на
происхождение плотиновского паэнтеизма. Влияние Аристотеля и эллини-
52
София. Эпистема. Технема. Опыт второй
стической философии ощущается и во многих других пунктах
неоплатонизма Плотина. Однако нас здесь больше интересуют не влияния, а то,
что же получилось в результате преобразования учения Платона в
неоплатонизм Плотина. А получилось следующее.
Плотин более детально, чем Платон, разработал главную идею
всякой софийно понимаемой философии — идею Абсолюта («Единого»), а
также прояснил динамику «про-исхождения» (proodos) всего мыслимого
бытия («Ум») и всего чувственного бывания («Душа») от Единого, т. е.
от преисполненного собой Блага. Вместе с тем Плотин прояснил и
динамику возвращения (epistrophé) отчужденной от Абсолюта в своей
гордыне (tolma, hybris) человеческой души к ее истоку — к Единому путем
последовательных стадий ее самоусовершенствования: 1) путем
обретения душой гражданских и нравственных добродетелей (aretai); 2) путем
очищения ее от чувственных привязанностей (katharsis); 3) путем
приобщения ее к умственно-идеальному («обумление») через просвещение
и просветление (phötismos) и, наконец, 4) путем единения ставшей умом
души с Единым как Абсолютом (henösis). На этой последней стадии ум-
душа уже находится за пределами возможной области познаваемого и
поэтому единение с Единым приобретает смысл не гносеологического, а
онтологического процесса, в ходе которого ум-душа, созерцая преизо-
билующую красоту субстанциального Блага, преисполняется «Эросом»,
неистовой любовью к Нему, и, стыдясь своей ограниченности и
сложности, стремится выйти из самой себя и, упростившись, отождествиться с
предметом своей любви. Этот производимый философским Эросом
выход ума-души из самой себя, называемый экстазом (ekstasis),
сопровождается окончательным ее «упрощением» (haploosis) — так что она,
уподобляясь совершенной простоте Единого (to Hen), сама становится
неделимой единицей (henas) и в этот самый момент сливается и
отождествляется с Единым, достигая высшей цели своей жизни — обожения
(theiösis), ибо Единое Плотина (как и Благо Платона) как раз и есть
наивысшее философское Божество, безымянный родитель всех богов
языческого пантеона.
Так в общих чертах выглядит софийное ядро чрезвычайно сложной
философии Плотина. Как это было и у Платона, философия понимается у
Плотина как любовь к Абсолютной истине, а такая любовь приводит в
движение все понятия нашего рассудка, устремляя их на осмысление
присутствующих в нашем разуме «идей» — подлинных представителей в
нашем сознании самой действительности или, как сказал бы Кант,
представителей «вещи в себе» (das Ding an sich). В заключение этой части скажем
еще и о том, о чем умолчать невозможно: Плотин, как никто другой,
воплотил в своей жизни софийный идеал писательской скромности, даже
намеком не сообщив во всем немалом объеме своих сочинений ни слова о
себе и в то же время запечатлев в этих сочинениях великую силу
присущего ему софийного вдохновения — философского Эроса.
После Плотина неоплатонизм в своей «языческой» форме
просуществовал еще два с половиной столетия. Однако этот неоплатонизм уже не
обладал ни столь же высоким софийным пафосом, каким он обладал у
София. Эпистема. Технема. Опыт второй
53
Плотина, ни столь же высокой степенью творческой свободы. Уже у
Порфирия, ближайшего ученика и издателя сочинений Плотина, ясно
обозначается тенденция к систематизации, формализации и комментаторству,
характерная для эпистемической формы философствования,
заимствованной им у Аристотеля. Ведь не случайно Порфирий пишет «Введение»
(Isagoge) в «Категории» и комментарии на сочинения Аристотеля, да не
на какие-нибудь другие, а именно на логические. Дух Аристотеля
ощущается и в главном философском труде Порфирия, «Наставления,
возводящие к умопостигаемому», представляющем собой попытку
систематического изложения учения Плотина. С другой стороны, у Порфирия уже
обозначается и еще одна, как бы противоположная, тенденция послепло-
тиновского неоплатонизма — возрастание интереса к экстрафилософской
мистике (ср. его комментарий на «Халдейские оракулы», «Письмо к Ане-
бону» и т. п.), к мифологическим и, особенно, культовым элементам
языческих религий. (Порфирий, как известно, занимался и теургией). Мы уже
говорили в первом очерке о роли мифа в философии Платона. Но все
мифы Платона были мифами функциональными и им самим сочиненными,
тогда как в более позднем неоплатонизме философски комментируются
именно мифы и обряды реальных народных религий.
То, что только наметилось у Порфирия, получает развитие в
сирийской и пергамской школах неоплатонизма, в частности — у Ямвлиха и
Феодора Азинского, у императора Юлиана и Саллюстия (в обеих школах
процветает и теургия), а затем и в раннеалександрийской школе
неоплатонизма, представленной Гиероклом, Синезием, Ипатией, Гермием и
некоторыми другими историческими персонажами, менее известными. У
Ямвлиха, Феодора и Гиерокла платонизм объединяется с пифагореизмом,
что было вполне естественно. Пифагорействующим неоплатоником, по-
видимому, была Ипатия, известная в те времена как крупный математик.
Увлечение пифагореизмом у Ямвлиха выразилось, в частности, в
умножении ступеней «эманации» и «возвращения», т. е. в умножении триад.
Дух комментаторства и систематизации — один из характернейших
признаков старости культуры и перехода ее из интенсивной в
экстенсивную стадию развития — с особой силой проявляется в двух последних
школах неоплатонизма: афинской и позднеалександрийской.
Крупнейшим представителем афинской школы был несомненно
Прокл Диадох, ученик Плутарха Афинского и Сириана, а последним
главой школы был Дамаский. Прокл написал толкования почти на все
платоновские диалоги; результаты этих толкований он обобщил в капитальном
труде «Теология Платона». Кроме того, Прокл сочинил ряд
самостоятельных (некомментаторских) теоретических работ на актуальные для того
времени темы: о божественном Промысле, о происхождении зла, о
судьбе. Наконец, он создал поразительный по концентрации мысли и по
виртуозности диалектической техники трактат «Первоосновы теологии».
Однако уже из самих названий его главных теоретических трудов видно, что
философия понимается Проклом прежде всего как теология. Добавим к
этому, что она понимается им не как искание Абсолюта, а как
систематика — систематика божественных сущностей. Используя разработанный
54
София. Эпистема. Технема. Опыт второй
Плотином принцип вертикальной триады, Прокл, следуя за Ямвлихом,
дополняет его принципом горизонтальной триады, и совмещая оба этих
принципа, создает чрезвычайно усложненную схоластическую иерархию
сверхсущего и сущего, составленную из богов-генад, богов-умов и богов-
душ, от которых производится им и вся космическая иерархия. Эта
гениальная по своему совершенству всеобщая упорядоченность не оставляет в
теологии Прокла никакого места для альтернативного мышления, для той
теоретической свободы, которая является одним из кардинальных
условий существования софийно понимаемой философии.
И все-таки заметим, что «диалектическая схоластика» Прокла была
еще очень далека от той «схоластической диалектики», которая
возобладает (особенно на Западе) в эпоху средневековья. Восходящие и
нисходящие иерархии сущностей у Прокла еще наполнены живой энергией и
движением. Сущности как бы переливаются друг в друга, образуя единый
надмирный и мировой процесс, а диалектический способ изображения
этого процесса имеет мало общего с той формальной логикой, которой
пользовались средневековые схоластики. Поэтому, при всех оговорках,
Прокла все же следует отнести скорее к софийной, чем к эпистемической
традиции истолкования философии. Но с гораздо меньшим основанием
это можно было бы сделать в отношении неоплатоников позднеалександ-
рийской школы.
Эта школа, представленная такими именами, как Аммоний (сын
Гермия), Олимпиодор Младший, Симпликий, Элий и др., хотя и
сохраняла свою связь с неоплатонизмом афинским (Симпликий, например, даже
преподавал в Афинах), все же существенно отличалась от афинской
школы по своему духу и по своим интересам. Предметом внимания
александрийцев в этот период был не столько Платон, сколько Аристотель. Все
они были комментаторами, и комментировали они главным образом
Аристотеля, причем преимущественно его работы логического цикла. Сам
факт такого выбора предопределял ориентацию александрийцев на эпи-
стемическую модель философствования, т. е. по сути дела на ученость,
науку, а не на философию в собственном смысле. Идя по пути Порфирия,
александрийцы Аммоний, Элий, Давид, Стефан писали ученые
комментарии на «Категории», «Об истолковании», «Первую аналитику» и на само
«Введение» Порфирия. Аристотелевские трактаты комментировал и
ученик Аммония монофизит Иоанн Филопон — автор сочинения «О
вечности мира против Прокла».
Для будущего аристотелеведения большое значение имели
комментарии Симпликия к трем важным сочинениям Стагирита: «О душе», «О
небе» и «Физика». В этих комментариях содержится немало уникальных
сведений по истории философии и истории науки.
Таким образом, александрийцы благодаря своим ученым трудам,
хотя и не продвинули вперед философию в собственном смысле, однако
сыграли важную роль в передаче античного знания следующей эпохе —
эпохе Средних веков. Но прежде, чем перейти к рассмотрению судеб
философии в Средние века, мы должны на некоторое время вернуться назад
и проследить, как толковала философию античность христианская.
София. Эпистема. Технема. Опыт второй
55
* * *
Неоплатонизм оказал решающее влияние на христианское
понимание философии в эпоху патристики, как на греческом Востоке, так и на
латинском Западе. А еще задолго до времени Плотина писавший по-
гречески александрийский иудей Филон установил определенное родство
ветхозаветной Премудрости (древнееврейской «Хохмы») и греческой
«Софии».
Он же впервые отождествил важнейшее в греческой философии
понятие «Логос» с миросозидающим и мироустрояющим
божественным Словом «Книги Бытия». Поставив перед собой задачу
апологетическую — доказать просвещенным грекам, что за простотой и
кажущейся наивностью библейского повествования скрывается глубокий
духовный и философский смысл, Филон прибег к знакомому еще
Платону и стоикам, а особенно александрийским филологам методу алле-
горезы — к методу, который станет, спустя полтора - два столетия,
основным продуктивным методом христианского философствования.
Стоит также отметить, что Филон первым заявил о прямой
преемственности между двумя традициями: библейской духовной и греческой фи-
лософско-интеллектуальной, провозгласив, что Платон и его великие
предшественники, такие как Фалес и Пифагор, посещавшие Египет и
Ближний Восток, почерпнули свою мудрость из библейских
источников, и что Платон был тем же для греков, кем был Моисей для евреев.
Наконец, отметим и еще одну важную заслугу Филона. Опережая на два
века Плотина и следуя, возможно, по стопам Гераклита и Платона,
Филон по-своему учил о совпадении двух путей: «пути вниз» и «пути
вверх». Первый путь — это путь творения Единым Богом мира через
посредство Своего Слова-Логоса и происходящих от него семенных
«логосов» всех вещей и душ. Второй путь — это путь возвращения
сотворенных душ к своему истоку Богу-Творцу через нравственный
катарсис, познание, веру и любовь; причем познание, согласно Филону,
проходя все свои этапы, завершается вступлением познающей души в
область непознаваемого — в область того «божественного мрака», в
который вступил Моисей при своей встрече с Богом на Синайской горе.
В «Жизнеописании Моисея» Филон толкует этот знаменитый пассаж из
книги «Исход», как аллегорию непостижимости божественной
сущности, т. е. — иными словами — непостижимости Абсолюта. То, что
Филон понимает Бога как Абсолют, подтверждается и его учением о
безусловной и неограниченной божественной свободе, которая не
позволяет человеческому уму проникнуть в мотивы божественных действий, а
следовательно, и приблизиться к пониманию сущности Божьей.
Хотя Филона никак нельзя упрекнуть в недооценке значения
просвещения, образования и морального совершенствования, он все же
считал высшей целью человеческой жизни не познание и не добродетель, а
безусловное подчинение божественной воле, достигаемое через
религиозную веру. Поэтому и весь цикл благородных наук (в число которых он
вслед за Посидонием включал грамматику, риторику, диалектику,
арифметику, геометрию, астрономию и музыку) и сама греческая философия
56
София. Эпистема. Технема. Опыт второй
являются для него только служанками, помогающими душе
подготовиться к встрече с богооткровенными истинами Священного Писания. Встреча
с Богом-Абсолютом в силу его непостижимости совершается у человека
не через познание, а через признание — через веру и любовь.
Таким образом, Филон Александрийский достаточно ясно выразил
свое понимание философии как последней ступени в восхождении
человеческого духа к Абсолюту, выше которой уже расположена сфера
сверхразумного единения с Богом через просветленную веру и любовь, через
успокоение в божественной Премудрости (Софии). Следовательно, Филон
понимал философию именно как любомудрие и движение души к
Абсолюту, т. е. понимал ее софийно, ставя ее ниже самой Мудрости, но выше
всякой науки. Труды Филона Александрийского были отвергнуты
ортодоксальным иудаизмом, однако спустя полтора столетия ими
воспользовались христианские апологеты и богословы, восприняв из них метод
аллегорического толкования Священного Писания.
Священное Писание христиан, Библия, как известно, включает в
себя Ветхий Завет и Новый Завет. Книги Ветхого Завета (если не
считать «Книги Маккавеев») были записаны задолго до того, как греческая
философия стала заметным явлением всей средиземноморской
культуры. Понятно, что в них нельзя найти никаких признаков контактов и тем
более полемики с греческой философией. Греческий перевод
«Семидесяти толковников», осуществленный в Александрии в начале третьего
века до н. э. (т. е. после наивысшего взлета философской мысли греков в
классическую эпоху и после ее распространения по всему культурному
ареалу Средиземноморья), уже содержит в себе элементы лексики,
которой пользовались и греческие философы. Однако собственное
смысловое содержание Ветхого Завета как чисто религиозного Откровения от
этого не менялось, и только такие заинтересованные и проницательные
толкователи, как Филон, могли находить в ветхозаветном тексте нечто
родственное идеям греческой философии. Другое дело — Новый Завет,
который почти целиком был изначально записан на греческом языке в
условиях, когда все восточное Средиземноморье давно уже было
эллинизировано, и когда миром уже правил Рим. Поэтому в Новом Завете
вполне отчетливо выражено и отношение к греческой философии.
В «Первом Послании Коринфянам» Апостол Павел, намекая на
греческих философов, говорит, что «Эллины ищут мудрости» (1,22), но
«немудрое Божие премудрее человеков» (1,25) и «Бог избрал немудрое мира,
чтобы посрамить мудрых» (1,27), «чтобы никакая плоть не хвалилась пред
Богом» (1,29); и далее: «И слово мое и проповедь моя не в убедительных
словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша
утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией» (2, 4-5),
ибо «мудрость мира сего есть безумие пред Богом...» (3,19).
Из приведенных цитат видно, что Апостол Павел упрекает греческую
философию в элитарности и гордыне, в том, что философы безнадежно
пытаются познать то, что на самом деле относится к сфере непостижимого для
человеческого ума — к сфере божественного всемогущества и
божественной Премудрости, перед лицом которых мудрость человеческая предстает
София. Эпистема. Технема. Опыт второй
57
как «немудрость», т. е. как глупость и даже как «безумие», а то, что
философам кажется глупостью, — вера в божественность Христа распятого, —
на самом деле оказывается истинной мудростью, обретение которой скорее
доступно далекому от философии простецу, чем высокоумному философу,
ибо сила Божия «совершается в немощи» (II Кор., 12, 9).
В «Послании Колоссянам» Апостол Павел совсем уже
недвусмысленно пишет: «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и
пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не
по Христу...» (2,8).
Таким образом, философия входит в становящийся христианский
мир под знаком осуждения. Однако, по мере обращения в христианство
все большего числа людей образованных, возникает потребность найти
точки соприкосновения христианской веры и греческой философии, что,
конечно, невозможно было сделать без преобразования философии из
любомудрия «по стихиям мира» в любомудрие по Христу, а это
преобразование означало замещение (во всяком случае частичное и временное)
Софии-Мудрости античной Софией-Премудростью библейской. И такое
замещение было произведено уже во втором веке христианской эры.
Определенную (провоцирующую) роль здесь сыграли гностики, особенно
Валентин и его последователи.
Разделив, вслед за Апостолом Павлом (1 Кор.,2.14-15; 3,1-3) всех
людей на три разряда («плотские», «душевные», «духовные»), валенти-
ниане считали, что в отличие от людей «душевных» и «плотских»,
которые в силу своей природной ограниченности должны в вопросах
религии довольствоваться только верой («пистис»), люди «духовные», к
которым они относили самих себя, имеют изначальную способность к
познанию («гносис») религиозных истин и всех тайн бытия, вплоть до
познания тайн внутрибожественной жизни. За эту претензию на
таинственный «гносис» они и были наименованы «гностиками». И поскольку
по их убеждению гносис достигается не собственными усилиями
познающего, не его познавательной активностью, стимулируемой любовью
к мудрости (софии), т. е. философией, а получается гностиком в готовом
виде как дар благодати — как некое персональное откровение,
«послание» высших сил, адресованное данному гностику, — то из этого
следовало, во-первых, что гностик не нуждается ни в какой философии и ни в
какой мудрости (софии), понимаемой как истинное знание причин и
начал, добытое собственными усилиями человека (претензии на такое
знание они рассматривали как «дерзость», «наглость» (tolma)); во-вторых,
из этого следовало, что все остальные люди, т. е. «плотские» и
«душевные», лишенные благодати (харизмы) по своей природе, должны верить
всему, что говорят им о высших силах, началах и причинах гностики-
харизматики, пусть даже это будет казаться чистейшей выдумкой или
бредом воспаленного воображения. Добавим, что гностики по тем^же
причинам считали себя свободными и от общепринятых норм морали .
1 О гностиках мы знаем не так уж мало, несмотря на то, что они считали свое учение
тайным, не допускающим разглашения. Причем — что очень важно — мы знаем о нем
58
София. Эпистема. Технема. Опыт второй
Дискредитацию греческой «Софии», а следовательно, и греческой
философии в сфере познания Валентин и валентиниане дополнили
диффамацией Софии-Премудрости библейской в сфере бытия, а точнее — в
своей причудливой теокосмогонии, напоминающей древнейшие
египетские, шумеро-аккадские и даже индийские мифы. Именно
гипостазированная София-Премудрость (древнееврейская «Хохма»), фигурирующая в
Книгах Ветхого Завета, канонических и неканонических, таких, как
«Книга Притчей», «Екклезиаст», «Книга Премудрости», «Книга Иисуса, сына
Сирахова», является по учению Валентина главной виновницей
сотворения этого несовершенного и во зле лежащего чувственно-телесного мира.
Два других важнейших элемента своей теокосмогонии Валентин
заимствовал из Нового Завета: идею «эонов» (ср. Ефес. 111,21) и идею
«Плеромы» (ср. Колос. 11,9; Ефес.1,10).
В самом общем виде учение Валентина выглядит так. Все сущее
делится им на два мира: «Горний» и «дольний»: первый из них — вечный, второй
существует во времени; первый — духовный, второй — чувственно-
телесный (мир душ и тел). Горний мир сложен из тридцати «эонов» («эон» —
калька греческого слова «aion», происходящего от слияния двух слов «aei» и
«ön» и означающего «всегда сущий» или «вечно сущий», что на русский
обычно переводится словом «век», хотя этот «век» ничего общего, конечно,
не имеет со «столетием», ибо он вне времени). Все тридцать эонов, вместе
взятые, составляют «Плерому» (Plêrôma) — полноту вечных производящих
духовных сил. Плерома имеет вертикальную структуру; на каждом ее этаже
расположено по два эона: мужской (нечетный) и женский (четный). Здесь
заметно влияние пифагорейской нумерологии. Верхние пары эонов,
сочетаясь друг с другом, порождают ближайшие к ним нижние, что, конечно, уже
начиная со второй ступени порождения, вызывает вопрос об инцесте. Однако
для Валентина это не имело значения, ведь он происходил из Египта, где
инцест был нормой. Может возникнуть и другой вопрос: как понимать
порождение эонов, если они вечны? Ответ: так же, как верующий христианин
понимает вечное рождение Сына-Логоса от Бога-Отца, или же — как Плотин
понимал порождение (эманацию) Ума от Единого. Более того, не будет
слишком большим преувеличением сказать, что своим учением о
порождении высшими зонами низших гностик Валентин действительно предвосхитил
неоплатоническую теорию эманации.
Началом эманации у валентиниан служит первая пара эонов: «Пер-
воотец», называемый также «Глубиной» (Bythos — муж. род), и
«Молчание» (Sigê — жен. род ). Наименование первоначала «Глубиной»
подчеркивает в нем неисчерпаемость Абсолюта, а определение ему в спутницы
«Молчания» указывает на невыразимость в слове его, Абсолюта,
сущности. Если мы добавим к этому «нерожденность» Первоотца и его единст-
больше всего от тех людей, которые практически были их современниками и которые
опровергали и изобличали их как вполне реальных, осязаемых противников. Мы имеем в виду
прежде всего таких критиков гностицизма как Святые Отцы древней Церкви Ириней
Лионский и Ипполит Римский, а также христианский апологет Тертуллиан, из антигностических
сочинений которых мы извлекаем немало сведений, особенно об учении гностика Валентина
и его последователей — валентиниан.
София. Эпистема. Технема. Опыт второй
59
венность и изначальность, ибо «Молчание» понимается как его
внутренняя бессловесная, скрытая Мысль (Ennoia), то мы вынуждены будем
признать, что Валентин описывает Первоначало своей эманации почти так
же, как позднее Плотин, пусть даже пока только на языке образов.
Вторая пара эонов, порождаемая первой, — это Отчий «Ум» и
нераздельная с ним «Истина» (полное совпадение со второй Ипостасью
Плотина!), от которых рождаются пятый, мужской, эон — «Слово» (Логос) и
шестой, женский, — «Жизнь», составляющие третью пару, которая
напоминает собой третью ипостась Плотина — «Душу»; а третья пара
порождает, в свою очередь, четвертую: «Человек» и «Церковь». Указанные четыре
пары эонов образуют «Родоначальную Восьмерицу» (Ogdoas), причем две
последние пары «Восьмерицы» продолжают дальнейшие порождения:
«Слово» и «Жизнь», помимо четвертой пары, порождают еще пять пар
эонов, а «Человек» и «Церковь» в свою очередь также производят на свет
двенадцать спаренных эонов, в числе которых гипостазированные
христианские добродетели: Вера (Pistis), Надежда (Elpis) и Любовь (Agapë).
Последним эоном, порожденным Человеком и Церковью, тридцатым в общем
порядке эманации является София-Премудрость. Заметим, что, хотя 22
зона, следующих за Родоначальной Восьмерицей, также соединены в пары по
половому признаку, однако эти пары уже бездетны. Бездетна и последняя
пара, составленная из Софии и ее мужского дополнения, имя которого
Thelêtos — «Желанный» (двадцать девятый эон).
Последующая судьба Софии — подходящий предмет исследования
для современных фрейдистов-психоаналитиков. Ведь, согласно Валентину,
именно неудовлетворенная любовная страсть (то, что в психоанализе
именуется «либидо») «Софии Сладострастной» (Sophia Proynikos) послужила
началом катастрофических событий в Плероме, приведших в конце концов
к сотворению чувственно-телесного мира. В изложении Иринея (1,2,1-2)
София-Премудрость, «совращенная любовью», захотела «испытать объятия
своего супруга», Желанного, но двадцать девятый эон, будучи по природе,
как и она сама, не способным к естественному деторождению, не поддался
ее обольщению, и тогда неудовлетворенная страсть Софии преобразовалась
(«сублимировалась», если выражаться языком психоанализа) в страсть к
познанию Первоотца, т. е. Абсолюта. Эта страсть к познанию запредельной
основы вечносущего была свойственна в скрытой форме всем зонам,
расположенным в Плероме ниже «Ума», хотя по статусу только один Отчий
Ум, называемый также Единородным, знает Отца (здесь, как и в других
случаях, очевидно прямое влияние Нового Завета). Однако только у
«Софии» эта незаконная страсть достигает такой силы, что заставляет ее
покинуть свое естественное место и устремиться вверх по иерархии эонов
вплоть до ступени, занимаемой Умом и Истиной, на которой София
надеялась обрести все возможное знание о Первоотце и всех Его замыслах.
Такого рода «любознательность» и незаконное стремление к тому, что
превышает твои природные силы, называется, как мы уже говорили, «толмой» —
наглостью, которая наказуема. И несчастная София чуть было не погибла,
возносясь в сферы действия более могущественных горних сил, в которых
она должна была бы полностью раствориться. Однако Первоотец по своей
60
София. Эпистема. Технема. Опыт второй
благости производит для спасения Софии новый зон, называемый
«Пределом» или «Крестом», который останавливает ее движение вверх и отделяет
от нее возбуждавшее ее незаконное «Помышление» вместе с
сопутствующей ему «страстью», выводя их из Плеромы в «Кеному» (Пустоту), после
чего София успокаивается и возвращается на свое законное место. В целях
укрепления Плеромы и исключения в ней возможных последующих
падений, Единородный Ум «Отца» порождает еще два зона: «Христа» и
«Святого Духа», после чего Плерома окончательно успокоилась и возвеселилась, и
все зоны, объединившись, произвели на свет совершеннейший плод и
«звезду Плеромы» — «Иисуса». А оставленное за пределами Плеромы
Страстное Помышление, т. е. чувственный двойник Софии Горней,
гипостазировалось в Софию Дольнюю, названную «Ахамот» (от др. евр.
«Хохмы» — Мудрости), сначала «без-образную», а затем милостью зона
«Христа» получившую и образ, но не знание, свойственное мудрости.
Отлученная от света знания Ахамот сильно страдала, испытывая печаль, страх и
прочие аффекты, пока наконец не обратилась с мольбою ко Христу,
который сжалился над ней и послал ей Утешителя (Параклета) вместе с
ангелами, а тот исцелил ее от страстей и вернул ей способность к познанию. В
результате всех этих событий вне Плеромы образовались три рода
сущностей: телесное вещество — из отделенных от дольней Софии страстей;
душевная сущность — от обращения этой Софии «к Тому, кто даровал
жизнь» (Ириней, I, 4, 1) и духовная сущность — от соединения Софии с
ангелами, сопровождавшими Параклета. Из душевной сущности Ахамот
произвела Демиурга, а тот, в свою очередь, из неорганизованного вещества
и душевной сущности образовал телесный мир и все души в нем. Духовные
же существа, т. е. сами гностики, произошли от Дольней Софии и ангелов.
Таково в общих чертах учение гностиков-валентиниан о судьбе
Софии-Мудрости. Очевидно, что оно почти ничего общего не имеет с
философией как таковой и представляет собой плод чистой фантазии. Тем не
менее в истории философии оно сыграло немаловажную роль.
Учение гностиков явилось исторически первой попыткой свободной
интерпретации содержания христианского Священного Писания (Ветхого и
Нового Заветов). Поскольку гностическая интерпретация оказалась слишком
вольной и даже опасной для самого существования новой религии, сам собой
встал вопрос о допустимых границах и приемлемых методах толкования
Библии, и этот вопрос вскоре был решен ортодоксальными критиками
гностицизма. Гностики-валентиниане поставили в центр внимания идею
познания и идею мудрости, и хотя свой «гносис» они понимали исключительно как
сверхразумное благодатное озарение, а не как методическое рациональное
познание и даже не как интеллектуальную интуицию, именно они сделали
актуальной постановку вопроса о подлинно христианском гносисе, который
вскоре получит ответ в Александрийской школе, у Климента и Оригена, где
«гносис» органично соединится с софией-мудростью и с верой-пистис.
Что же касается главного у Валентина — приключений Софии Горней
и ее двойника, Софии дольней, — то самое существенное во всей этой
истории — осознание принципиальной непостижимости Абсолюта и
недопустимости нарушения сущностной иерархии. Подобное осознание было
София. Эпистема. Технема. Опыт второй
61
характерно и для философии Платона, но София-мудрость у Платона имела
смысл чисто гносеологический, тогда как у Валентина она толкуется
прежде всего как онтологическая сущность, эон. Поэтому у Платона «софия» —
объект любви, а у Валентина «софия» — субъект любви, а значит, Платон
занимается философией, а Валентин — чем-то таким, что можно назвать
«софиологией». Но, с другой стороны, то, что любит София, есть
Абсолютная Истина, и к той же истине ведет платоновское любомудрие, философия.
Вот и получается, что гностическое гипостазирование мудрости
Библейской и осуждение ее претензий на познание Абсолюта было вполне
совместимо с существованием правильно понимаемой философии, ибо философия
по Сократу и Платону не претендует на обладание Абсолютной Истиной,
но довольствуется только любовью к ней и стремлением к ней.
И все же у читателя может возникнуть вполне естественный вопрос:
зачем мы уделили столько внимания гностикам, если их учение скорее есть
плод фантазии, чем результат философской интуиции, и на этом основании
его следовало бы отнести не к истории философии, а к истории мифологии?
Отвечая на этот вопрос, заметим, во-первых, что идеи гностиков оказались
очень живучи и их влияние на философию, весьма ощутимое в эпоху
поздней античности, сохраняется и в Средние века и в эпоху Ренессанса
(особенно заметно оно проявляется у немецких мистиков, от Экхарта до Бёме).
Интерес к гностикам не прекращается и в последующие столетия. Учение
Гегеля об отчуждении Абсолютной Идеи в Природу и возрождение ее в
Духе восходит к гностикам. Особенно поразительно их влияние на русскую
философскую традицию (В. Соловьев, Н. Бердяев, С. Булгаков). Объяснить,
почему такие крупные и высокообразованные мыслители, как В. Соловьев,
испытывали влечение к гностицизму, не так-то просто, и это не входит в
нашу задачу. Заметим только, что влияние гностицизма более всего
ощущается у философов с сильно развитым воображением и склонных к
мистицизму. И это вполне объяснимо.
Что же касается рассмотренного нами выше учения Валентина и его
последователей, то вопрос о его квалификации как философского или
нефилософского может быть решен в контексте предложенной нами
типологии понимания философии в истории. Разумеется, учение Валентина,
несмотря на ту роль, которую в нем играет София, не может быть
отнесено к софийно понимаемой философии. Нельзя это учение отнести,
конечно, и к эпистемическому типу философствования, ибо это учение не
содержит в себе ничего научного. Следовательно, гностицизм Валентина
остается только отнести к технематическому типу философствования, в
котором всегда торжествует воображение и бесконтрольное
свободомыслие. Если сопоставлять гностицизм Валентина с современными технема-
тическими системами мысли, то ближе всего это учение стоит к уже
упомянутому нами неофрейдизму и постфрейдизму.
СОФИЯ, ЭПИСТЕМА, ТЕХНЕМА
Опыт третий
Из предыдущего исследования («Опыт второй») можно сделать
вывод, что древнейшее христианство относилось к философии как таковой,
если не враждебно, то во всяком случае отрицательно. Одной из главных
причин такого отношения на наш взгляд было то, что ранние христиане в
основном происходили из среды, где философию представляли киники и,
в лучшем случае, второразрядные стоики, а и те, и другие всё сущее
сводили к телесному началу. Именно их и имел в виду, по всей вероятности,
Апостол Павел, когда он говорил о тех, кто философствует «по стихиям
мира сего» (Колос. 2, 8).
Однако уже во II веке н. э. начинается обращение в христианство всё
большего числа образованных людей, среди которых встречаются и те, кто
был увлечён наиболее возвышенной частью учения классического
стоицизма — его этикой, и те, кто прямо или косвенно был знаком с философией
Платона и Аристотеля (во всяком случае, с той философией раннего
Аристотеля, когда тот был ещё платоником). Кроме того, в этом веке, судя по
всему, получили широкое распространение сочинения Филона
Александрийского, который, как мы уже говорили в предыдущем разделе книги,
сумел отстоять достоинство философии в системе ценностей религиозного
монотеистического сознания, посчитав при этом наиболее возвышенную и
духовную часть эллинской философии заимствованной греками из
древнееврейской Библии. Это своего рода освящение древнегреческой философии
авторитетом Библии было охотно воспринято образованными
христианскими неофитами, особенно теми, которые ставили перед собой задачу
защиты («апологии») христианской веры от посрамления её со стороны
образованных язычников в условиях гонений на неё со стороны язычников вла-
стьимущих. Задачи, которые решали христианские апологеты, были более
сложными, чем те, которые решались Филоном Александрийским: ведь им
требовалось обосновать философское достоинство не только Ветхого, но и
Нового Завета, а кроме того, — доказать согласие между собой этих двух
Заветов. В своём решении этих задач апологеты нередко сближали «логос»
Гераклита, стоиков и Филона с Логосом «Четвертого Евангелия», а
платоновскую идею трансцендентного Бога = Абсолюта — с пониманием
Единого Бога в Священном Писании. Апологеты II века н. э. нередко
пользовались философскими доказательствами бытия Бога, которые могут быть
отнесены к разряду «космологических» и «телеологических», т. е. таких,
которые приводят к признанию единого разумного Творца и Управителя
Вселенной, исходя из разумности и целесообразности устройства мира, из
гармонического единства всех его законов. Такие доказательства дошли до нас
София. Эпистема. Технема. Опыт третий
63
от Аристида-философа, Юстина-философа, Афинагора-философа и др. То,
что в христианской традиции с их именами соединились прозвища
«философов», говорит о том, что уже во II веке философия была признана
христианством как нечто положительное, однако — не всякая философия, а только
та, которую они считали истинной, т. е. ведущей к христианской вере или
исходящей из неё. При этом в период «апологетов», как известно,
существовали и такие защитники христианской веры, которые относились к
философии критически и даже враждебно; среди них наиболее известные — Та-
тиан, ученик Юстина, и знаменитый Тертуллиан, провозгласивший
принцип: «credibile quia ineptum» — «достойно веры, ибо нелепо». Позднее
неприятие философии как таковой будет характерно и для Арнобия.
В последующие два столетия преобладающим в христианстве стало
положительное отношение к философии. Этому способствовало
утверждение в сознании христиан первоначального смысла философии как
«любомудрия». Если «Мудрость», «Премудрость» (Sophia) в
христианском богословии есть исключительное свойство или даже одна из
Ипостасей Единого Бога, значит «любомудрие» есть в то же время «любовь к
Богу», а следовательно, — и стремление к богопознанию и к единению с
Богом. Зачатки такого понимания философии можно найти уже у Юстина-
философа. Позднее, у христианского апологета Лактанция эта позиция
будет выражена в известных словах: «Истинная философия и есть
христианская религия».
Ещё в начале третьего века н. э. просвященный христианин Климент
Александрийский, следуя по стопам Филона, введёт тройственное
разделение всего человеческого познания: пропедевтическая первая ступень —
«благородные науки»; вторая ступень — философия; третья ступень —
теология, завершающаяся мистическим экстазом. При таком разделении
философия понимается как пропедевтика теологии, как ближайшая
ступень к тому, что завершается истинным богопознанием. Позднее
христианский историк и богослов Евсевий Кесарийский будет рассматривать
философские искания прошлого именно как «предуготовление
Евангелия» (Praeparatio Evangelica).
Учеником Климента Александрийского и, кроме того, учеником
неоплатоника Аммония Саккаса был знаменитый Ориген, который первым в
христианской истории построил всеобъемлющую систему знания о Боге,
мире и человеке, изложенную им в трактате «О началах». Впоследствии эта
система во многих пунктах была признана еретической и в конце концов
была осуждена на Пятом Вселенском Соборе в Константинополе. Ориген
был также автором апологетического сочинения «Против Кельса». Однако
главную часть его громадного литературного наследия составляют
толкования Библии. В контексте нашего исследования нужно отметить тот
поразительный факт, что Ориген, ученик Климента и Аммония, теоретик
Логоса, онтолог, антрополог и тонкий диалектик, нигде не защищает
философию и не стремится быть или казаться философом. Даже сам термин
«философия» он не желает отнести к своей системе, к своему учению. Поэтому
мы ничего не можем сказать о его собственном толковании философии,
хотя именно Ориген, благодаря введенной им в широкое употребление ал-
64
София. Эпистема. Технема. Опыт третий
легорезе и его систематизации «начал», может по праву считаться первым
самобытным философом христианства, пусть даже и неортодоксальным.
После легализации христианства в Римской Империи при
Константине Великом сближение богословия с философией становится нормой.
Обретя свободу, а затем и статус государственной религии, христианство
столкнулось с проблемой своего конфессионального единства, которая
существовала и раньше, но теперь, когда борьба за простое выживание
осталась в прошлом, проблема единого для всех христиан символа веры и
единого богословия стала особенно актуальной, тем более, что в
предшествующий период нелегального существования и жестоких гонений
разбросанные по громадной территории империи разноплеменные
христианские общины подчас довольно сильно отличались в своих верованиях.
Четвертый век христианской эры был веком непрекращающихся
богословских споров, в процессе которых поэтапно вырабатывалась единая
догматика истинного православия. Позиция каждой из спорящих сторон
во многом определялась тем, какую трактовку философии они принимали.
Все великие отцы и учители православной церкви, такие, как Св.
Афанасий Александрийский, Св. Василий Кесарийский, Св. Григорий Богослов,
Св. Григорий Нисский, Св. Кирилл Александрийский, разделяли
платоническое (неоплатоническое) понимание философии как любомудрия, как
неустанного познавательного и любовного стремления духа
человеческого к Абсолюту — Единому Живому Богу. Иначе говоря, все они понимали
философию софийно. Особенно это было характерно для самого
утончённого и поэтичного из них — для Григория Богослова (Назианзина). В его
сочинениях мы повсюду встречаемся со словом «philosophia», которое
переводчики конца XIX - начала XX веков обычно передают на русский
язык как «любомудрие», по-видимому, с той целью, чтобы его не путать с
тем извращённым пониманием философии, которое господствовало в
мире в их время. Григорий Богослов, получивший образование в
Александрии и Афинах, испытавший благотворное воздействие на свои
философские взгляды неоплатонизма, использовал в своём богословии и
платоническую диалектику. Её использовали и два других каппадокийца —
Василий Великий и, особенно, Григорий Нисский. Применение истинной
диалектики в вопросах богопознания позволило каппадокийцам отстоять
православное учение о божественной Троице и теоретически
опровергнуть все разновидности арианской ереси, которая сама базировалась не на
софийном, а на эпистемическом толковании философии и её метода.
Ариане и — в частности — критикуемый всеми тремя каппадокийцами
Евномий, рассуждали о Едином Боге, т. е. Абсолюте, в терминах обычной
формальной логики, не терпящей «противоречий» и приложимой, как мы
знаем, только к области абстрактных объектов. Но любой объект
конкретный настолько неисчерпаем, что допускает по отношению к себе даже
взаимоисключающие определения1. Что же говорить о таком конкретном
объекте, как Абсолют, в котором, согласно самой его идее все противопо-
О неисчерпаемости конкретного и невозможности выразить его содержание в
однозначных понятиях см. раздел данной книги: «Опыт определения функции идей в познании».
София. Эпистема. Технема. Опыт третий
65
ложности совпадают! Идея Единого Бога-Абсолюта, в божественности
которого совпадают три Его Ипостаси, конечно, не приемлема для
рассудка, мыслящего формально. Но ведь в том-то и роковая ограниченность
всякого рассудка, что он способен мыслить только статическое,
остановленное, определённое своими точными границами, вообще — мёртвое, а
не живое. Эпистемическое мышление принципиально не способно
постичь не только Абсолют, но даже любую конкретную вещь.
Надо сказать, что и последующая борьба православия с ересями в V-
IX вв. была по существу борьбой софийного типа мышления с эпистемиче-
ским. Так в вопросе о двух природах во Христе несториане пришли к
выводу, что, если во Христе две природы — божественная и человеческая, то (по
законам аристотелевской формальной логики) и два Лица: одно —
божественное, другое — человеческое. Напротив, монофизиты, исходя из того, что
несторианство ведёт к удвоению личности Христа, впали в другую
крайность, приписав Христу только божественную природу, считая, что в
момент рождения человеческая природа Иисуса была полностью поглощена
соединившейся с ней более могущественной божественной природой. По
этой же рассудочной монофизитской схеме рассуждали потом моноэнерге-
тисты и монофелиты, оказавшиеся не способными помыслить единство
двух действий и единство двух воль в одном богочеловеческом Лице
Христа. Не лишне будет заметить, что и ересь иконоборчества, потрясавшая
позднее всю Византийскую империю в продолжение полутора столетий,
возникла на той же основе: ведь иконоборцы считали, что почитание икон
есть разновидность идолопоклонства, не будучи способны понять, что в
иконах почитается на само творение иконописца, а то, что на них
изображено доступным для восприятия человека способом, что внушено
иконописцу свыше и освящено таинственной божественной благодатью. Силой
этой благодати устанавливается связь изображенного на иконе с
человеческой телесной природой Христа, а символически — даже и с божественной
его природой. Так рассуждал последний по времени из восточных отцов
Церкви Иоанн Дамаскин. Он защищал иконопочитание в терминах
христианского неоплатонизма. Однако в своём знаменитом сочинении «Точное
изложение православной веры», в его первой части, посвященной
«диалектике», он выступает уже как аристотелик, понимая диалектику как
обыкновенную формальную логику, или даже проще — как учение об определении
смысла терминов. Это говорит о том, что эпоха античной философии к
этому времени уже закончилась и началась эпоха средневековой схоластики.
Вместе с тем следует заметить, что в дальнейшем схоластика получила
значительно большее развитие на латинском Западе, чем на византийском
Востоке, где до самого падения Византии главным направлением
философствования всё-таки оставался христианский неоплатонизм, соединенный с
особым христианским мистицизмом. В эпоху патристики
непревзойдёнными образцами такого христианско-неоплатонического мистицизма можно
считать сочинения Дионисия Ареопагита и Максима Исповедника. В этих
сочинениях, посвященных чисто религиозным и теологическим темам,
платоновская диалектика в соединении с философской интуицией достигает
таких высот, которых она не достигала ни у кого и никогда. Все понятия,
66
София. Эпистема. Технема. Опыт третий
устремлённые к своей высшей цели, здесь непрерывно движутся,
переливаются друг в друга, утверждаются и отрицаются, сохраняя при этом
стройный порядок. Руководит этим движением философская интуиция,
неописуемая ни в каких понятиях, но при этом вполне идентифицируемая,
влекущая ум к той самой заветной цели — к последнему основанию всего
сущего, к сверхсущностному Абсолюту, который познаётся как
непознаваемый, познаётся через отрицание всего того, что Он не есть, а Он не есть
ничто из того, что мы можем знать; и всё-таки мы заключаем, что Он есть,
ибо без Него не может существовать ничего другого. И та же интуиция
подсказывает нам, что Абсолют раскрывает нам себя в своих символах, в
роли которых выступает вся природа: красота небес и земли,
целесообразное устройство живых существ, наконец, разумность человека и его
влечение к духовному, в конце концов приводящее его в православный Храм, где
всё символизирует присутствие Бога — Абсолюта и где реализуется
высшее дарование человеческой души — мистическая любовь к Богу, ведущая
через посредство церковных таинств к полному единению с Ним. Таков
примерно общий смысл философско-теологического учения двух
величайших мыслителей восточного христианства, представлявших софийный тип
понимания философии в эпоху поздней христианской античности.
Если же говорить о латинской патристике, то из всех латинских Отцов
Церкви к философам-теологам софийного направления можно
безоговорочно отнести одного только Августина. Как теолог он был не лишён
мистицизма, хотя этот его мистицизм имел скорее эмоциональный, чем
трансцендентальный характер. Вместе с тем Августин уже в первых своих
философских сочинениях устанавливает существенное различие между
мудростью (sapientia) и научным знанием (scientia), что соответствует греческому
различению «софии» и «эпистемы». Испытав сильное влияние
неоплатоников, он поместил мудрость в разряд высших духовных ценностей и
определил её как «знание-обладание», как обладание Высшим Благом, Высшей
Истиной и Высшей Красотой, доступное только Богу. Поэтому и
философию он понимал именно как любовь к мудрости и, в конце концов, — как
любовь к Богу. Он прекрасно владел платоновской диалектикой и успешно
применял её для уяснения божественного триединства, но вместе с тем,
опираясь на библейское откровение Бога «Я есмь Сущий», считал, что
сущность Божия тождественна Его бытию, не именовал Бога «сверхсущим» и
поэтому не применял апофатической методологии, свойственной
восточным Отцам Церкви. Тем не менее сам дух и язык его сочинений не
оставляет никаких сомнений в том, что Августин был выдающимся философом
софийного типа. Его влияние на западную средневековую мысль трудно
переоценить. Среди его многочисленных последователей такие
средневековые авторитеты, как Ансельм Кентерберийский, Бернар Клервосский, Бона-
вентура и многие другие. Однако всё же не софийная мысль Августина
была главным фактором, определяющим понимание существа и функций
философии в западном средневековье. Таким фактором был схоластический
аристотелизм, начинающий свою историю с Боэция.
Схоластика — это культура ratio, культура рассудка, а не духа. Сам
термин «scholastica» происходит от слова schola — «школа» и означает, в
София. Эпистема. Технема. Опыт третий
67
первую очередь, систему знаний и навыков рассуждения, приобретаемых
в ходе обучения в средневековых школах и университетах. Понятно, что
для схоластики характерен культ формальной, аристотелевской, логики,
которая, как и прежде, именуется «диалектикой», а так же и культ
строгой, упорядоченной науки (scientia ordinata). Как это ни странно звучит,
характерная для Нового времени вера в безграничные возможности науки
зарождается именно в эпоху схоластики. Понятно, что схоластика и
философию толкует как одну из наук, как «царицу наук», как науку
всеобъемлющую (scientia universalis) или как «общую науку» (scientia generalis).
Интересно, что и саму теологию такие крупнейшие схоластики, как Фома
Аквинский и Дуне Скот, относили к разряду «scientiae», оставляя за
пределами компетенции науки лишь то в христианской вере, что совершенно
было неподвластно никакому, даже самому схоластически изощрённому
рассудку, как, например, — культовые таинства.
Конечно, помимо схоластики, а отчасти даже и в рамках схоластики,
на Западе в Средние века существовала ещё и мистика. Но относительно
этой мистики следует сказать, что она в своей, августинианской форме
(как у сен-викторцев или Бонавентуры) имела не философский, а скорее
психологический характер, а поэтому такая мистика не сильно влияла на
господствующий сциентистский (эпистемический) тип понимания
философии. Если же речь идёт о трансцендентальной мистике Экхарта, Сузо,
Таулера и Рюйсбрука, а позднее и Якова Бёме, то надо иметь в виду, что
источник этой мистики — византийский, и прежде всего этот источник —
Дионисий Ареопагит.
Итак, в латинском средневековье преобладающей формой
толкования философии было аристотелевское, сциентистское, эпистемиче-
ское. Эта же форма остаётся преобладающей и в первые века Нового
времени — в период почти всеобщей веры в безграничные возможности
науки, основанной на союзе рассудка (ratio) и опыта (experientia). Из
крупных философов исключение представляют Блез Паскаль и Николай
Мальбранш.
Однако если начало Нового времени датировать семнадцатым веком,
а конец Средневековья — веком четырнадцатым, то период между этими
двумя веками можно выделить как особую эпоху, получившую у
историков наименование «Эпоха Возрождения», или «Ренессанс». Само её
название очень удачно по многим причинам, в том числе и потому, что
именно в то время начинается освобождение от схоластики и возвращение
к жизни истинной философии, к той, которую завещали человечеству
Сократ и Платон и которую потом подменил наукой Аристотель.
Образцовым софийным мыслителем этого времени был Николай Ку-
занский, понимавший философию по-сократовски, как «учёное незнание»
и самокритику разума, как бесконечный процесс искания мыслью
Абсолюта, а сам Абсолют — по-платоновски: как Единое, в котором
совпадают все противоположности. Впрочем, язык и стиль сочинений Николая не
вполне соответствовал софийности его мысли и сохранял ещё отпечаток
схоластической учёности. От этого недостатка был уже свободен другой
знаменитый платоник Ренессанса, Джордано Бруно, последователь Нико-
68
София. Эпистема. Технема. Опыт третий
лая Кузанского, который вернул философии адекватную ей языковую и
жанровую форму: художественный диалог. Однако, наполнив свои
диалоги искрометной мыслью и прекрасными поэтическими образами,
запечатлев в них великое вдохновение, происходящее от Любви-Эроса, Бруно,
как нам кажется, обратил свою любовь, свой «героический энтузиазм» не
столько на «софию», сколько на саму философию, которую он почти
обожествлял и которой он приписал больше достоинств, чем она имеет. По
этой причине Бруно-философ, забыв философское требование кротости,
говорил слишком категорично и его диалоги, в отличие от диалогов
Платона или, скажем, Галилея, подчас лишены должной рефлексивности и
самокритичности. И всё-таки Бруно, как и Николай Кузанский, стоят в
одном строю с Платоном и Плотином.
В Новое время софийное толкование философии как «учёного
незнания» и любви к Абсолюту в чистом виде не встречается вплоть до
Канта. Правда, у Спинозы понятие субстанции как causa sui вполне
соответствует идее Абсолюта, а его «интеллектуальная любовь к Богу»
фактически совпадает по смыслу с Пифагоровым определением философии. Но
всё это тонет в пучине спинозовского рационализма и пантеистического
монизма, подобно тому, как раньше замечательная трактовка Бога-
Абсолюта у Дунса Скота утонула в его схоластике. По стилю своего
мышления в семнадцатом веке ближе всего к истинной философии стоит
Паскаль, глубоко переживший феномен бесконечности. Однако Паскаль
не занимался идеей самой философии. Великий Лейбниц, хотя и считал
себя последователем Платона, был совершенно лишён философской
кротости и поэтому верил, что с помощью разработанных им новой логики и
новой математики можно охватить всё сущее, включая Абсолют. На этом
пути он сделал много блестящих открытий, но такой его подход к
философии никак нельзя назвать софийным. Дэвид Юм отверг претензии
метафизики на абсолютное знание, однако философии он оставил только
«впечатления», к которым редуцировал и все «идеи»; Абсолют же он
отнёс к предметам только веры, проявив в противоположность Лейбницу
чрезмерную «кротость». Все перечисленные мыслители Нового времени
за те или иные свои глубокие интуиции должны быть по справедливости
включены в историю подлинной философии, несмотря на то, что сами они
исповедывали философию эпистемическую. Напомним, что подлинной
мы считаем ту философию, которая соответствует своей первоначальной
идее, открытой Пифагором, разработанной Сократом и окончательно
проясненной и реализованной Платоном. В этом смысле всякая подлинная
философия есть платонизм. Однако не всякий платонизм есть подлинная
философия. Например, поздний александрийский неоплатонизм — скорее
герменевтика, чем философия в собственном смысле. Вместе с тем
итальянский платонизм Розмини и Джоберти — это подлинная философия.
Если философия есть запечатленное в слове неповторимое мысленное и
духовное переживание великой личностью своего присутствия в свете
Абсолюта, если она — дело индивидуального опыта, а не знание,
почерпнутое из книг и полученное в школах, то мы вполне справедливо исключим
из числа подлинных философов и многих других почитателей Платона.
София. Эпистема. Технема. Опыт третий
69
Однако мы с полным правом отнесём к числу великих платонистов
Иммануила Канта, который и сам признавал, что ему ближе всех из
философов именно Платон.
Главной заслугой Канта перед философией можно считать то, что он
вернул ей древнее достоинство и возвратил её на то естественное для неё
место, на которое она была поставлена Сократом и Платоном. Во-первых,
философия была понята Кантом не как положительное знание, а как
критика разума, т. е. сократически, и одно это в условиях господства
рационализма и наивного эмпиризма уже можно считать революцией. Во-
вторых, различив явления («феномены») и вещи-в-себе («ноумены») и
предоставив наукам изучение явлений с помощью понятий рассудка, а
философии, понятой как «диалектика», оставив предданные разуму, но
непостижимые для рассудка в силу своей антиномичности идеи вещей-в-
себе, Кант вывел философию из того научного плена, в котором она
находилась со времени (и во многом по вине) Аристотеля. Сбросив цепи,
наложенные на неё наукой, вернувшись в свою родную стихию — в стихию
свободы и занявшись привычным для себя делом — охотой за
Абсолютной Истиной, философия должна была благодаря Канту вскоре достичь в
этом деле выдающихся результатов. Так и случилось: сразу же после
Канта явились три могучих ума, три гения конструктивного, созидательного
мышления (сам Кант был скорее гением мышления аналитически-
критического), которые устремили всю свою энергию по поиски
Абсолюта и на разгадку тайны происхождения от Него всего сущего. Речь идёт,
разумеется, о Фихте, Шеллинге и Гегеле. Результатом их деятельности
стали три грандиозные философские системы, для построения которых
каждый из них создал особый метод и особый философский язык,
отличные от методов и языка, принятых в науке. Все эти три замечательных
немца были, конечно, идеалистами в том классическом смысле, в каком
идеалистом был и Платон, а именно — в том смысле, что совершенное,
«идеальное», абсолютное, они наделяли наибольшей степенью реальности
(действительности), а всё остальное производили из этого идеального, как
его, Абсолюта, порождение. Таким идеальным Началом, от которого всё
происходит и в которое всё возвращается, из которого всё логически и
исторически выводится и в чём всё успокаивается, служит у Гегеля
«Абсолютная Идея», у Шеллинга — «Бог Абсолют», у Фихте — «Абсолютное
Я». При этом во всех трёх случаях философия понимается как мысленное
движение к Абсолюту, т. е. понимается так же, как она понималась у
Платона и неоплатоников и как она понималась Кантом. Сам же Абсолют
мыслился Фихте, Шеллингом и Гегелем не как некая статическая
данность, но как живой вечный процесс, отражающийся в мировом процессе
у Гегеля как история. В отличие от позднего Шеллинга, находившегося
под сильным влиянием немецкой мистики и, в частности, под влиянием
Николая Кузанского, а поэтому считавшего свой Абсолют сверхразумным
и непостижимым, доступным только религиозной вере, Фихте и Гегель
были в этом отношении большими оптимистами, и они даже создали,
каждый свою, логику постижения Абсолюта. Гегель присвоил ей название
диалектической логики, в противоположность традиционной аристотелев-
70
София. Эпистема. Технема. Опыт третий
ской формальной логике. В основу её был положен закон единства
противоположностей. Эта была логика живых, пульсирующих, переходящих
друг в друга понятий, которые по всем параметрам были подобны
платоновским идеям. Впрочем, и сама эта диалектическая логика фактически не
была изобретением Гегеля. Ведь эта логика на самом деле как раз и есть
платоновская логика (или — точнее — диалектика) идей, которую Платон
блестяще применил в своих диалогах «Софист» и «Парменид».
Будучи в сущности настоящим платоником, Гегель, по-видимому, не
отличался хорошим знанием сочинений Платона. В духе своего времени он,
как и Фихте, был воспитан на сочинениях Аристотеля, Лейбница и Вольфа, а
следовательно, на безграничном культе науки, а не мудрости. Не
удивительно поэтому, что Фихте назвал свою философию «наукоучением», а Гегель
создал «энциклопедию философских наук» и своё учение о диалектике
именовал «наукой логики». То, что наука не удостоилась у него особой рубрики
в «философии духа» говорит в пользу того, что он саму философию понимал
как науку, а науку в её полном самовыражении — как философию. Дух
Аристотеля ощущается у всех четырёх немецких идеалистов в их стремлении к
исчерпанию проблем, всеохватности и системности, что, конечно, по самой
природе чуждо софийному мышлению. Способ изложения своих учений
(именно «учений», а не исканий) у них также аристотелевский, т. е. трактат-
ный, а не диалогический и не художественный; дедуктивный, а не
индуктивный, каким он был у Платона. Наконец, язык — сухой, наукообразный и
искусственный. Сказанное особенно относится к фихтевским «наукоучени-
ям», по своему стилю совершенно схоластическим. В лучших трактатах
Гегеля, таких, как «Феноменология духа» и «Наука логики» есть своя поэзия,
поэзия вдохновенной утонченной мысли, но и здесь «мысленное
художество» со всех сторон сжато тяжелой рамой наукообразной дедуктивной
системы. То же самое можно сказать и о раннем Шеллинге. Но позднее, на стадии
«философии искусства» и «философии откровения», Шеллинг в
значительной мере преодолел в себе этот аристотелизм, и, поставив художественную
интуицию и религиозное откровение выше эпистемы, ближе других
подошёл к софийному пониманию Абсолюта. Однако и на этом этапе он
сохранил привязанность к дедукции и монологу.
Несмотря на всё вышесказанное, немецкий классический идеализм
был несомненно наивысшим достижением софийной мысли на Западе, а
значит — и вершиной вообще всей западной философии, пусть даже
философский эрос часто выражал себя в нём на языке эпистемы. После
Шеллинга, а в какой-то мере и благодаря ему, софийная традиция находит
продолжение в России в христианском платонизме В. Соловьёва, братьев
Трубецких, Вл. Эрна, П. Флоренского, Н. Бердяева и С. Булгакова.
Однако при определённой зависимости от немецкого идеализма русский
платонизм был явлением вполне самобытным и имел национальные
славянские и византийские корни. В Византии и на древней Руси, ставшей
духовной её наследницей, эпистемический, т. е. схоластический тип
философствования, никогда не был преобладающим. Напротив, почитание со-
фии-мудрости было всеобщим и даже имело характер культа: вспомним,
что самые почитаемые православные храмы в Константинополе, Киеве и
София. Эпистема. Технема. Опыт третий
71
Новгороде были посвящены Софии — Премудрости Божией. В русском
платонизме не только торжествует софийный тип мышления,
неотделимый от православия, но и сама идея Софии впервые в истории получает
тщательное и всестороннее осмысление, приобретая статус
онтологической сущности. Правда, истолкования Софии, предложенные русскими
философами от Соловьёва до Булгакова, имели известные отличия,
главным образом отличия богословского характера, но в философском
отношении они совпадали и между собой, и с тем толкованием, которое
давали Мудрости Пифагор, Сократ и Платон: София есть предельное
выражение Божественного присутствия в мире; единство Истины, Добра и
Красоты, осуществлённое в Божественном Логосе и претворённое в
ускользающей от наших чувств и неохватной для нашего разума подлинной
природе вещей. Как и у Платона, София здесь — одухотворяющая мир
Красота, влечение к которой есть любовь, эрос, философия. На этой
высокой ноте и заканчивает свою историю к середине двадцатого века
философия в собственном смысле этого слова.
История философии, понимаемой эпистемически, как мы уже
говорили, начинается с Аристотеля, у которого она впервые обретает вид
всеобъемлющей научной системы; затем продолжается в смешении с софий-
ными элементами у стоиков, эпикурейцев и скептиков, а потом, после
публикации основного корпуса сочинений Аристотеля и комментариев к
ним Александра Афродисийского и Фемистия, вновь возрождается у
позднеантичных перипатетиков и, как мы уже говорили в нашем втором
«Опыте» — у александрийских неоплатоников.
В Средние века софийные функции философии переходят к богоот-
кровенной теологии, а то, что остается от самой философии, это — в
основном «диалектика», которая понимается как служебная дисциплина, что и
зафиксировано в известной формуле: philosophia ancilla theologiae est
(«философия — служанка теологии»). Правда, диалектика понимается шире,
чем у Аристотеля, — как искусство рассуждения вообще, но понимается
всё же не по-платоновски, а по-аристотелевски, т. е. как формальная логика.
На Западе аристотелизм воспринимается сначала в передаче Боэция, а затем
и в передаче арабов. У самих же арабов термином «фаласифа» (философия)
обозначается именно аристотелизм. Аристотель, благодаря Боэцию и
арабам, становится высшим философским авторитетом для всей схоластики. В
XIII веке его именуют обычно не Аристотелем, а просто Философом: «Как
утверждает Философ», «Философ сказал» и т. п. Такие фразы часто
встречаются даже у самых знаменитых представителей схоластики, таких, как
Фома Аквинский и Дуне Скот. Эпистемическое философствование
торжествует. Главные силы направлены на решение логических задач, принятых
по наследству от Боэция: установить истинную природу общих понятий —
«универсалий» и логически доказать существование Бога. Язык схоластики
наполняется такими терминами, как «дефиниции», «силлогизмы»,
«универсалии», «суппозиции», «интенции», «трансценденталии», «унивокация»,
«эквивокация» и т. п. Преобладающие формы изложения — трактат в
форме комментария, монолог, иногда — полемический диалог, наставление;
«свод мнений» (sententiae), «summa» — упорядоченная система богослов-
72
София. Эпистема. Технема. Опыт третий
ских и философских взглядов автора. Идеал стиля — язык
формализованной науки. Применение рассудка расширяется временами до Запредельных
для него истин мистического богословия, что неизбежно ведёт к ереси (Бе-
ренгарий Турский, Абеляр, Гильберт Порретанский и пр.). В борьбе с
ересями устанавливается ответственное разграничение двух типов теологии:
theologia sacra и theologia naturalis, последняя получает также наименование
«рациональной» теологии.
В период позднего Средневековья «диалектика», благодаря усилиям
Оккама и его последователей постепенно преобразуется в общую теорию
познания, в недрах которой рождается идея философии как строгой
универсальной науки, упорядочивающей чувственные данные с помощью
терминов и знаков. Последователь Фомы Аквинского Раймунд Луллий
дополнит этот оккамистский проект идеей исчисляющего термины
механического устройства — проект, который он осуществил и на практике,
став изобретателем первой в истории машины, моделирующей
человеческое мышление.
В свете сказанного можно подвергнуть сомнению общепринятое
представление о философии Нового времени как о чём-то совершенно
противоположном схоластике и полностью отрицающей средневековую
схоластику, даже если учесть, что почти все крупные философы XVII-
XVIII веков (исключая великого Лейбница и немногих других) то и дело
третировали схоластику как провал в истории философии. В
действительности многие из своих идей, в том числе идею «научной философии»
философы Нового времени переняли именно у схоластиков. От них же они
унаследовали и идею строгого научного метода.
Классический рационализм Декарта и Спинозы продолжил линию Ан-
сельма Кентерберийского. Лейбниц сам считал себя обязанным как школе
Оккама, так и последователям Фомы Аквинского — Луллию и Суаресу. Тот
же Лейбниц во многих пунктах своего учения имеет предшественником
Дунса Скота. Даже классический английский эмпиризм от Фр. Бэкона до
Локка уходит своими корнями в тринадцатое и четырнадцатое столетие: к
Роберту Гроссетесту, Роджеру Бэкону и особенно к Оккаму. Но главное то,
что все эти мыслители Нового времени исповедовали тот же, что и
схоластики, тип понимания самой философии — эпистемический тип. Пользуясь
новыми средствами, новыми данными науки и будучи людьми
талантливыми, они в условиях освобождения философии от опеки теологии далеко
продвинулись по сравнению со схоластиками в деле придания философии
статуса строгой и универсальной науки. Для этого они усовершенствовали
логику, разработали методологию познания, прояснили метафизику, создали
новую физику, дополнив её учениями о человеческой природе и природе
общества, и всё это они, каждый по-своему, охватили единой системой.
Однако созданные в XVII веке великие научно-философские системы Декарта,
Спинозы и Лейбница, претендовавшие на роль истинных по критериям
строгой науки, в следующем столетии подверглись решительной критике
сначала со стороны Юма, а затем и Канта. Острие критики было направлено
против метафизических оснований этих систем и вообще против претензий
всякой метафизики быть наукой. Понятно, что атака на метафизику велась
София. Эпистема. Технема. Опыт третий
73
опять же с позиций науки, но как бы науки ещё более строгой. В результате
этой атаки метафизика как особая наука была повержена, и на смену ей, как
мы уже знаем, пришла диалектическая философия немецкого классического
идеализма, в котором переосмысленная идея науки фактически была
возведена в ранг абсолютного знания, т. е. как бы в ранг мудрости. Другими,
более отдаленными, результатами критики Юмом и Кантом (а затем и
Гегелем) метафизики стали: с одной стороны, отказ философов следовать в
фарватере «объективной», рациональной науки и переключение их интереса на
сферу человеческой субъективности и сферу иррациональных оснований
сущего (поздний Шеллинг, Фр. Шлегель, Кьеркегор, Шопенрауэр, Эд. Гар-
тман и др.); с другой стороны, — объявление Опостом Контом о конце
метафизической стадии в эволюции европейской мысли и начале
«позитивной», научной стадии, ознаменовавшее рождение позитивизма, которому
суждено было в последующие полтора столетия, сменяя свои формы,
оставаться главным оплотом эпистемически понимаемой философии.
Однако протест против новой диктатуры научной парадигмы в
философии не заставил себя ждать. В противовес ей сначала возникли
различные варианты философии жизни, а затем явились на свет
феноменология и экзистенциализм в различных сочетаниях друг с другом. Тогда же
зародился и структурализм, сначала утверждавшийся на эпистемической
платформе, но затем, смешавшись с другими новомодными течениями,
такими, как неофрейдизм и послегуссерлевская феноменология,
перешедший на платформу технематического философствования. В последние
десятилетия, как мы уже говорили в нашем «первом опыте» исследования
типов понимания философии, «технематический тип» становится
наиболее распространённым, ибо современный человек всё больше
превращается в «человека играющего» (homo ludens) и вполне естественно, что он
требует соответствующей развлекательной и возбуждающей философии.
Описывать в данной небольшой работе все разновидности современной
технематической философии не представляется возможным. Поэтому нам
остаётся только сделать выводы из всего сказанного.
Итак, мы выявили в истории европейской мысли три основных типа
понимания сущности и назначения философии и, кроме того, некоторые
разновидности их смешения. Что же заставляет нас только первый, со-
фийный, тип её понимания считать действительно истинным, хотя и два
остальных были нередко представлены мыслителями первой величины,
такими, как Декарт или Ницше?
Ложность игрового, технематического, толкования философии
доказывается уже тем, что философия — это не игра ума и не произвол
фантазии, а любовь к совершенной мудрости, к Абсолютной Истине.
Виртуозность мышления, изощренность языка и блеск эрудиции не являются для
философии самоцелью, ибо философия не есть ни развлечение, ни
самоутверждение; она есть служение истине, которому приличествует
скромность и благоговение, а не эпатаж и самодовольство, столь характерные
для philosophi ludentes, для снобов, играющих в философию. Упразднение
ими Абсолюта и абсолютных ценностей ведёт их к такого рода
релятивизму, который парадоксально сочетается с абсолютизацией самого чело-
74
София. Эпистема. Технема. Опыт третий
века, что в свою очередь неизбежно приводит к неуёмному
фонтанированию человеческой гордыни, проявляющей себя более всего в атеизме и
стремлении встать «по ту сторону добра и зла» или даже поменять добро
и зло местами. Освободившись от морали, игровое мышление иногда ещё
сохраняет свойственный его гениям (таким, как Ницше) рафинированный
эстетизм, но чаще утрачивает и его, превращаясь в простое
жонглирование словами и псевдо-понятиями на потеху публике, превращаясь в
акробатику ума. Заметим при этом, что в последнее столетие под влиянием
фрейдизма вектор интереса технематической «философии» к человеку
неуклонно смещается по его телу с головы в область анально-
генитальных органов. Обобщая полученный в этой области «опыт»,
играющая мысль с лёгкостью переносит свои выводы и на всю остальную
доступную ей сферу бытия человеческого. Можно ли всё это назвать
философией, пусть решает сам читатель.
Что же касается философии как самой общей науки, подобное её
понимание ложно уже потому, что философия отличается от любой из наук не
широтой своего предмета, как думают многие, но скорее глубиной, а ещё
точнее — самим предметом. Говоря языком Канта, наука имеет дело с
«феноменом», с явлением вещи нашему сознанию, а философия имеет дело с
«ноуменом», с «вещью в себе» (Das Ding an sich = «res per se» или «res in
se»), т. е. не с её изображением в сознании, а с тем, что она есть на самом
деле. Всеобщая наука (mathesis generalis, scientia universalis), эта мечта
Декарта и Лейбница, — вовсе не есть ещё философия, но всё та же наука о
явлениях, доведённая до степени математической строгости и
универсальности. Феноменология Гуссерля — это по его же признанию тоже наука,
только строгая. А ведь между самой многосторонней научной картиной
сущего и тем, что она изображает, такая же разница, как между голографи-
ческой картинкой цветка и самим живым цветком. Философия же имеет
дело именно с живым цветком, а не с его изображением. Правда, тут же сам
собой встаёт вопрос: как может философия иметь дело с тем, что нам не
явлено, что остаётся в себе? Ответ прост. Когда вы любуетесь красотой
живого цветка, наслаждаетесь его ароматом, бережно касаетесь его, разве вы
не имеете с ним дело как субъектом всех его свойств, ведомых вам и не
ведомых, которые только вкупе друг с другом создают эффект его красоты?
Разве, сорвав этот прекрасный цветок, вы не понимаете, что вы сорвали его
весь целиком, вместе с ускользающими от вашего внимания его
внутренним строением и внутренней жизнью, и обрекли тем самым его на гибель
не только в той поверхностной части его существа, в которой он вам
явился, но во всей его полноте; вы убили его как «вещь в себе», как то, чем он
был на самом деле. Если вы это понимаете, вы мыслите философски.
В отличие от науки, подлинная философия мыслит свой предмет не
как объект, а как субъект, аналогичный тому, который мы ощущаем в
самих себе как своё собственное «я». Иными словами, она мыслит его во
всей его полноте, в абсолютном его бытии, отдавая себе отчёт в том, что
явленная его часть, т. е. познаваемая, несоизмерима в своей ничтожности
с неявленной. В этом смысле философия — скорее особый род мышления,
нежели род познания, хотя она и имеет своей трансцендентальной целью
София. Эпистема. Технема. Опыт третий
75
познание того, что она мыслит, т. е. познание вещей в себе. И она даже
мобилизует для этой цели все средства и результаты научного познания.
Без науки философское мышление было бы пусто.
Но всё-таки более близкое родство у философии не с наукой, а с
художеством, с искусством, хотя это вовсе не означает, что наилучшая
философия — как раз и есть та, которую мы наименовали «технематиче-
ской». Дело в том, что в отличие от учёного философ, как и художник,
имеет дело не с абстрактными объектами и феноменами, а с конкретными
предметами, с «вещами в себе». Ум настоящего философа наделён от
природы интуицией целостности и одновременно бесконечной сложности
или — лучше даже сказать — противоречивой сложенности всего
конкретного (слово «конкретный» происходит от латинского глагола «соп-
crescere», означающего «срастаться», «слагаться»). Эта интеллектуальная
интуиция соответствует чувственной интуиции настоящего художника,
которая тоже проникает за поверхность явлений и прозревает в своём
предмете то, чего обыкновенный наблюдатель в нём не увидит, а учёный
ум не поймёт и отвергнет как химеру, — таящуюся в этом предмете
целостную бесконечность. В этом секрет вечной актуальности шедевров
искусства, ибо каждая эпоха находит в них всегда что-то новое, своё; но в
этом же секрет их уникальности, не допускающей степеней сравнения при
их оценке: бессмысленно спрашивать, что совершеннее «Дорифор» Поли-
клета или «Давид» Микеланджело, поэзия Петрарки или поэзия Пушкина,
музыка Баха или музыка Вагнера. То же самое можно сказать и о
философии. Её интуиции никогда не устаревают: Платон и Кант так же
актуальны сегодня, как и в своё время и при этом Кант ничуть не актуальнее и
даже ничуть не истиннее Платона. Ни в искусстве, ни в философии
никакого исторического прогресса нет и быть не может, иначе скульптуры
Родена мы должны были бы признать более совершенными, чем
скульптуры Донателло или Микеланджело. Интуиция гения — дар Божий, а
гений может родиться в любую эпоху. Вспомним хотя бы Гомера,
творившего свои непревзойденные эпические поэмы в самую тёмную эпоху
греческой истории — в эпоху, от которой, кроме этих великих поэм, даже
никаких следов не осталось. А если говорить о философии, то вспомним
Плотина, жившего в период тяжелейшего кризиса Римской Империи.
Другое дело — наука. Прогресс в ней очевиден. Сегодня мы знаем о
мире явлений несравнимо больше, чем знал о них античный человек.
Кроме того, мы знаем эти явления значительно глубже. Состояние науки
существенно зависит от исторических обстоятельств, так как наука —
творчество коллектива, она творится в научных школах. Не случайно пик
развития науки в античном мире приходится на эпоху эллинизма, когда
под покровительством эллинистических монархов были созданы научные
школы в Александрии, в Сиракузах, в Пергаме и других местах
Средиземноморья. В благоприятных условиях социальной и экономической
либерализации бурно развивается наука и в Новое время. Бесспорно, что
личное дарование имеет и в науке очень большое значение. Однако
состояние и уровень развития науки в каждый момент истории
определяется совокупной деятельностью учёных. И наоборот, открытия учёного в
76
София. Эпистема. Технема. Опыт третий
большой степени зависят от состояния науки на данный момент.
Открытие теории флюксий Ньютоном и дифференциального и интегрального
исчисления — Лейбницем было бы невозможно, если бы в его
подготовке не приняли участие едва ли не все крупные математики
предшествующего периода, начиная с Галилея и Кеплера, искавшие безустали
ответа на вопрос: как математически выразить динамические процессы.
Напротив, коллективное творчество в философии просто
невозможно, как и невозможно оно и в высоком искусстве. Правда, например, в
архитектуре нельзя обойтись без тех, кто непосредственно строит то, что
задумано архитектором, но ведь и здесь творческий замысел одного
только исполняется многими. Великие философы нередко оставляют после
себя школы, но это не значит, что философия творится коллективно. В
этих философских школах как раз и учатся творить самостоятельно.
История античности, например, не знает ни одного философского
сочинения, написанного коллективом, но она знает примеры выдающихся
учеников Платона, Аристотеля, Плотина, которые прославились своими
собственными философскими творениями.
Наука безлична. Её доказанные теоремы и открытые физические
законы не оставляют на себе никаких следов тех, кто их доказал или
открыл. Философия личностна: о личности философа мы может многое
узнать по его творениям. И в этом философия ближе к искусству, чем к
науке. Великие личности творят и великую философию, которая никогда не
устаревает и передаётся от одного поколения к другому как великий дар.
И хотя в философии не может быть прогресса как такового, в её истории
существует преемственность, нечто вроде олимпийской эстафеты. Так
факел софийного понимания философии первым зажёг Пифагор, от
Пифагора он был через посредников передан Сократу, от Сократа — Платону,
от него через века — Плотину, от Плотина — Проклу, от Прокла —
Дионисию, от него — Николаю Кузанскому, от того — Бруно, от Бруно —
Лейбницу, от Лейбница — Канту, от Канта — Шеллингу, от Шеллинга
эстафета перешла в Россию. Будет ли эта эстафета продолжена и дальше,
ответить трудно. Слишком сильно в последнее время давление на наше
сознание поклонников эпистемы и технемы. Слишком мало у нас сегодня
внутренней свободы и духовной любви, без которых софийное начало
существовать не может. Но без софийного начала, без стремления к
Абсолюту человек станет игрушкой стихийных сил, им же самим
порождённых, и неизбежно погибнет.
ЭССЕ О ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА
Глава первая
Природа и судьба у греческих трагиков
Gnöthi seayton — «Познай самого себя!» В этой Дельфийской
надписи, обращенной к человеку, с античной ясностью, простотой и
повелительной силой указан кратчайший путь к мудрости, а вместе с тем и
истинный смысл той теоретической деятельности, которой в первую
очередь должен посвятить себя философ, если он хочет сохранить
самобытность философии и не хочет низвести её достоинство до уровня служанки
науки, политики и т. п.
Не будет большим преувеличением сказать, что не только вся
древнегреческая философия, но и едва ли не вся духовная культура Древней
Эллады, включая драматургию, эпическую и лирическую поэзию, была
посвящена решению задачи познания человеком самого себя. Поскольку же
античные греки на протяжении всей своей истории никогда не утрачивали чувства
слитности с природой, вопрос о самопознании практически не выводил их за
рамки анализа человеческой природы как таковой, т. е. как некоего
микрокосмоса, существующего в рамках незыблемых законов объемлющего его и
включающего его в себя макрокосмоса — природы в целом. Человеческой
личности как неповторимой индивидуальности классическая античная
философия фактически не знала; интерес к ней лишь намечается в эпоху
Римской империи и становится заметным только с утверждением христианства.
Вместе с тем следует помнить, что изучение человеческой природы греками
не исключало внимания и к таким её аспектам как социальность,
нравственность, психологическая сложность, способность к познанию.
Первые оценки человеческой природы встречаются уже у Гомера. В
своих поэмах Гомер, с одной стороны, воспевает высокие доблести своих
героев, такие как мужество, верность, справедливость, благоразумие и
т. п., с другой — осуждает присущие человеческой природе
отрицательные качества: гневливость, гордость, корыстность и другие. В целом же
взгляд Гомера на человеческую природу весьма пессимистический:
Меле всевозможных существ, которые дышат и ходят
Здесь, на нашей земле, человек наиболее жалок...х
Особенно удручает Гомера краткость человеческой жизни,
неизбежность смерти и то, что срок этой жизни даже не благими богами
устанавливается, а предопределяется безличными силами судьбы — тремя Мой-
1 Одиссея, XYIII, 130-131; перевод В. Вересаева.
78
Эссе о природе человека
рами, которые, невзирая ни на какие заслуги, не сообразуясь ни с какими
разумными основаниями, прядут, тянут и в какой-то момент прерывают
нить нашей жизни. Насколько распространенной была в Элладе вера во
всесилие судьбы, свидетельствует сама многообразная лексика,
использованная в древнегреческой литературе для вьфажения её идеи: Moira
(«участь»), Aisa («доля», «удел»), Heimarmenë («жребий»), Tychê
(«выпадающее на долю случайное счастье или несчастье»), Anankë («рок», или
«неизбежность», «предопределенность»), Adrasteia («неотвратимость воз-
дания»), Nêma («нить судьбы») и т. п. Об изменении своей судьбы
собственными силами человек классической Греции и не помышляет, ибо по
его убеждению судьбы людские определяются где-то в непостижимых
глубинах самой природы, персонифицированными силами которой
являются боги, а восстание против природы или даже попытка преобразования
её по своему усмотрению — дело безнадежное и даже кощунственное.
Поэтому наиболее достойное поведение человека по отношению к
собственной судьбе — мужественное её принятие, какой бы она ни была,
счастливой или несчастливой. Парадокс в том, что, будучи фаталистами в
отношении всего, что связано с природой вообще и с человеческой
природой в частности, греки высоко ценили как политическую, так и личную
свободу и презирали рабство. В этой любви к свободе, которая
проявляется уже в поэмах Гомера, греки похожи на римлян. Однако только у
римлян, в устах Аппия Клавдия, впервые прозвучат слова, провозгласившие
свободу человека от рока: «Человек — кузнец своего счастья». (Homo
faber suae fortunae est). В этой фразе эллинской созерцательности и
эллинскому натурализму были противопоставлены римский практицизм и
римская наивная вера в человеческую самодостаточность. При этом римляне
вовсе не избежали в своей трактовке человеческой природы влияния
греческого натурализма. В частности, идея судьбы, выраженная как в
понятии «рока» (fatum), так и в понятиях «провидения» (Providentia) и
«случайного счастья или несчастья» (fortuna), будет широко использоваться
римскими философами-стоиками и римскими поэтами.
Вернемся, однако, к грекам. Бессилие человека перед лицом
неумолимой судьбы особенно ярко выражено в классической греческой трагедии. У
Эсхила прикованный к скале Прометей так отвечает предводительнице хора
океанид на её утешающие слова о скором его освобождении:
ПРОМЕТЕЙ Ещё не хочет Мойра всевершащая
Исполнить это. Только после тысяч мук
И после тысяч пыток плен мой кончится.
Умение любое — пред судьбой ничто.
ОКЕЛНИДА А кто лее правит кормовым веслом судьбы?
ПРОМЕТЕЙ Три Мойры да Эринии, что помнят всё.
ОКЕАНИДЛ Так что же, Зевс им уступает силою?
ПРОМЕТЕЙ И Зевс от предрешенной не уйдёт судьбы2.
2 Прометей прикованный, 511-518; перевод С. Апта.
Эссе о природе человека
79
Таким образом, не только люди, но и боги и даже Зевс согласно
Эсхилу полностью зависят от судьбы, хотя в одном из сохранившихся
фрагментов другой трагедии («Гелиады») Эсхил и говорит о Зевсе (в духе
орфического гимна и предвосхищая знаменитый гимн Клеанфа):
Зевс — и эфир, Зевс — и земля, и небо — Зевс:
Всё сущее и всё превыше сущего3.
Но ведь и Зевс подвластен судьбе. Поэтому у Эсхила Прометей
героически и смиренно принимает свою страшную участь:
С величайшей легкостью
Принять я должен жребий свой. Ведь знаю же,
Что нет сильнее силы, чем всевластный рок4.
И всё-таки в другой своей трагедии Эсхил пеняет на судьбу за её
равнодушие к добру и злу:
Печальна участь праведных, в одно ярмо
Судьбиной сопряженных с нечестивыми5.
Но поскольку бороться с судьбой — дело бессмысленное, то:
Пред неизбежным (Adrasteia) мудрые склоняются6.
Так говорит Эсхил устами Океаниды, а словами Прометея он
отвечает слуге Зевса Гермесу:
Но на твоё холопство тяжкий жребий мой
Я променять, знай твердо, не согласен, нет7.
Напомним читателю, что Прометей в соответствии со своим
именем — это провидец, заранее знающий, что с ним произойдет, и что он
сознательно движется по линии своей судьбы, сначала ради обделенного
природой человечества похищая у богов огонь и передавая людям тайны
искусств и наук, а затем — получая за это своеволие возмездие от
обманутых богов в виде мучительной казни, которая — что он также
предвидит — продлится долго, но когда-то закончится вместе со свержением
сонма олимпийских богов и воцарением новых, более разумных и
справедливых властителей мира. Кто же они, эти новые боги? И что же это
будет за новый мир? На этот вопрос Эсхил не даёт нам ответа.
Возможно, Эсхил имел в виду мир просвещенного науками и искусствами
человечества, возвысившегося благодаря познаниям и обретенной
справедливости до уровня богов. Иначе, зачем же Прометей ради людей обма-
3 Фр. 70; перевод М. Гаспарова.
4 Прометей прикованный, 103-105; перевод С. Апта.
3 Семь против Фив, 597-598; перевод В. Иванова.
6 Прометей прикованный, 936; перевод А. Пиотровского.
7 Там же, 966-967; перевод С. Апта.
80
Эссе о природе человека
нул богов и пошел на страшную казнь? Если такая интерпретация
возможна, мы вправе рассматривать Эсхила как первого выразителя идеи
бесконечного человеческого прогресса или даже идеи обожения
человечества. Итак, начав с характеристики Эсхила, как певца фатализма, мы
заканчиваем его оценкой как первого гуманиста, видевшего в
просвещении человечества ключ к его благоденствию и совершенствованию его
природы. Можно, однако, истолковать Эсхила иначе, хотя и рискуя быть
обвиненными в необъективности. Его можно посчитать и
провозвестником новой, более гуманной, религии, которая должна прийти на смену
олимпийской или даже вообще языческой, провозвестником религии, в
которой оппозиция бог — человек сменится Богочеловеческим
единством. Иначе говоря, в образе эсхиловского Прометея можно усмотреть
зарождающееся, ещё совершенно античное по природе, но всё же
предчувствие Христа. Эсхил близок будущему христианству и в своём
сочувственном отношении к простым бедным людям. Для примера
приведём одно место из «Орестеи»:
А правда светит и в домах,
Где стены черный дым коптит.
Она лишь с тем, кто сердцем чист.
Она бежит от золотого трона,
Грязь увидавши на руках владыки,
Она смеётся над богатством чванным,
И всё послушно замыслам её8.
Тема судьбы, пожалуй, ещё более рельефно, чем у Эсхила,
обозначается в трагедиях Софокла, где судьба предстает как совершенно
непостижимая враждебная человеку сила, ведущая его от несчастья к
несчастью, — сила, которая, если и возносит человека к обманчивому
счастью, то только для того, чтобы потом сбросить с высоты и сильнее
ударить. Классический пример человека, ставшего игрушкой в руках
судьбы — царь Эдип. Природа (а значит, и сама судьба) наделила Эдипа
всеми благородными качествами. Благодаря своему уму и воинской
доблести он спасает Фивы от чудовища (Сфинкс) и за этот подвиг
избирается фиванским царём. Он женится на вдове прежнего царя Лая,
производит от неё потомство и царствует мудро и справедливо. Все эти
поступки Эдипа с точки зрения их субъективной мотивации нравственно
безупречны. Однако через двадцать лет вдруг обнаруживается, что за
ними стоят страшные невольные преступления: до своего прибытия в
Фивы Эдип случайно вступает в поединок с царём Лаем и убивает его, а
Лай, как теперь выясняется, — это его отец; затем, став сам царём Фив,
он женится на вдове Лая, т. е., — не ведая о том, — на собственной
матери, и от этого кровосмесительного брака рождаются его дети. Узнав
всё это, несчастный Эдип отрекается от царства, ослепляет себя, и
уходит в добровольное изгнание.
8 Агамемнон, 767-773; перевод С. Апта.
Эссе о природе человека
81
Софокл явно сочувственно относится к Эдипу, считая его невинной
жертвой слепой судьбы, которую он отождествляет чаще всего со
«случаем» (tychë), т. е. со сцеплением непредсказуемых случайных событий,
которые не управляются никаким разумным целеполагающим началом,
никаким Провидением:
...Всем правит случай (ta tes tychës) — это ясно,
А Провиденья (Pronoia) в этом мире нет нигде9.
В другой трагедии того же цикла, в «Антигоне», Софокл выражает
эту мысль так:
Возносит случай (tychë) ввысь, и он же низвергает
И тех, кто счастлив, и — кто счастьем обойдён™.
Однако у Софокла встречаются и другие трактовки судьбы, где
судьба рассматривается как предопределяющая сила и неизбежность
(anankê):
Но сила судьбы (moiridia), что за сила ужасная!11
Нет, с неизбежностью (апапкё) уж лучше не сражаться12.
Аякс, властитель! Нет для человека
Сильнее гнёта, чем судьбы решеньеи.
В трагедии «Филоктет» (502-506) Софокл, предвосхищая известное
рассуждение Боэция о колесе фортуны, говорит, что человек должен быть
особенно бдительным именно тогда, когда судьба ему максимально
благоприятствует, ибо это означает, что уже в следующий момент, будучи
переменчивой, она понесёт его вниз, отнимая всё, что дала.
Общее представление Софокла о человеческой природе
двойственно. В трагедии «Аякс» оно даже более пессимистично, чем в приведенном
нами выше стихе Гомера. Здесь Софокл, в частности, говорит:
Я думаю: мы все — живые люди —
Лишь призраки (eidola), одни пустые тени (skia)14.
В то же время в трагедии «Антигона» читаем:
Много есть чудес на свете, Человек — их всех чудесней15.
9 Царь Эдип, 977-978; перевод наш.
,р Антигона, 1158; перевод наш.
11 Там же, 951; перевод наш.
12 Там же, 1106; перевод наш.
1 Аякс, 485-486; перевод Ф. Зелинского.
14 Там же, 125-126; перевод С. Шервинского.
15 Антигона, 340-341; перевод С. Шервинского.
82
Эссе о природе человека
Разумеется, столь несходные оценки Софоклом человеческой
природы зависят от контекста, в котором они произносятся. И тем не менее, они
свидетельствуют об осознании поэтом того факта, что человек
парадоксально совмещает в себе и ничтожество, и величие.
Противоречивость человеческой природы, выраженная в
постоянном несовпадении в душе человека долга и склонности, в
непрекращающемся конфликте в ней разума и чувства, сознания своей
зависимости от судьбы и сознания своей свободы — вот что находится в центре
внимания последнего по времени, но не по значению, великого
древнегреческого трагика, Еврипида. Его изображение человека более сложно
и более реалистично, чем у Эсхила и Софокла. Как заметил Аристотель
в «Поэтике» (60b 32), «Софокл изображает людей такими, какими они
должны быть, а Еврипид — такими, какие они есть». Он чаще вводит в
свои трагедии проблематику современной ему жизни, а жизнь его, как
известно, протекала в Афинах в эпоху наивысшего расцвета афинской
полисной демократии, а позднее — и начавшегося её кризиса, когда
ощущение свободы и самодостаточности человека (софист Протагор
выразил это ощущение в знаменитой формуле: «Человек есть мера всех
вещей, существующих — что они существуют; несуществующих — что
они не существуют») сменилось снова ощущением неодолимой власти
судьбы.
Еврипид не любит софистов и не разделяет их веру в
неограниченные возможности просвещения. По его убеждению знание наук и
искусств (само по себе — вещь полезная и даже прекрасная) не устраняет
трагизма человеческого существования, которое, если выражаться языком
Хайдеггера, Еврипид понимает, как «бытие к смерти»:
Пойми: мы — смертные, и ждёт нас ложе смертное;
Жив завтра будет ли — никто не может знать.
Как поведёт себя судьба — покрыто тайною;
Её наукою, искусством не постичь16.
И ниже, в той же трагедии, Еврипид добавляет о судьбе:
Силе суровой её милосердие чуждо17.
Однако, в отличие от Эсхила и Софокла, Еврипид нередко подчиняет
судьбу воле богов (theos, daimôn), чаще всего — воле Зевса, а иногда
представляет судьбу как некое божество (daimôn), сопровождающее
человека в течение всей жизни:
Поистине тебя многострадальной
Твой тяжкий демон сделал19.
А в «Алкесте» Еврипид устами хора говорит о судьбе:
16 Алкеста, 785-786; перевод наш.
17 Там же, 983; перевод наш.
18 Гекуба, 721-722; перевод И. Анненского.
Эссе о природе человека
83
Зевсова воля
Через тебя вершится19.
И так же в «Андромахе»:
Судьбу врагов своих бог обращает против них
И этим не даёт пощады их гордыне °.
Зависимость судьбы от воли богов обычно означает зависимость от
разумного начала. Вместе с тем у Еврипида встречаются и богоборческие
мотивы:
Но даже мудрые, прославленные боги
Бывают лживее летучих наших снов21.
В трагедии «Ион» читаем следующее:
клеймить
Людей за их пороки — не ошибка ль?..
Коли богов пример перед людьми —
Кто ж виноват? Учителя, пожалуй^2.
Однако Еврипид при этом не проявляет никаких признаков атеизма в
собственном смысле слова. Более того, в «Вакханках» он говорит (894-
897), что «лучше отцовской веры ничего не надо нам» и что лежащие в
основе этой веры истины вечны и заложены в нас самой природой.
Иными словами, человек по природе есть существо, верующее в бога и в его
справедливость:
Позорно! — Божеское всё прекрасно знать:
Что есть, что будет, — и не ведать правды божией23.
Из того, что человек, столько познав, остается невосприимчивым к
правде, т. е. к справедливости, Еврипид делает вывод, что причина
человеческого злополучия — не столько в ограниченности наших познаний,
сколько в злой воле, затаившейся в глубинах нашей природы:
И думаю, что не в природе разума (оу kata gnomes physin)
Причина наших бед, ибо немало есть
Способных здраво мыслить. Зная лучшее,
Мы всё равно предпочитаем худшее1*.
Еврипид различает в человеке ум приобретённый (noys), который
исчезает в момент смерти, и разум (gnome) как субстанцию познаватель-
19 Алкеста, 974; перевод наш.
20 Андромаха, 1007-1008; перевод наш.
21 Ифигения в Тавриде, 570-571; перевод наш.
22 Ион, 448-451 ; перевод И. Анненского.
23 Елена, 922-923; перевод наш.
24 Ипполит, 377-381; перевод наш.
84
Эссе о природе человека
ной способности, которую он обычно отождествляет с бессмертным
духом, имеющим общую природу с небесным эфиром (aithër):
Пусть ум (noys) умерших и не о/сив, но дух (gnome)
бессмертный их
В бессмертный возвращен стремительный эфир25.
Из этих слов видно, что представления Еврипида о «разумном духе»
или о «духовном разуме», т. е. о том, что у него именуется «гнома»,
имеют гилозоистическую окраску.
Мысль Еврипида об отделении гномы человека в момент его
смерти от остальной части его существа и слиянии этой субстанции с
небесным эфиром нельзя толковать как мысль о бессмертии человека.
Слишком уж глубоко Еврипид во всех своих трагедиях переживает именно
смертность человека, его конечность, неизбежность ухода из жизни.
Пифагорейское учение о переселении душ его не очень затронуло, в
отличие от почитавшего Еврипида великого Платона. И это довольно
странно, если учесть, что одна из его драм, «Вакханки», специально
посвящена культу Диониса — центральной фигуры в орфическо-пифаго-
рейском пантеоне.
Аристотель недаром назвал Еврипида самым трагическим из поэтов.
Вся жизнь человеческая для него есть движение к смерти и борьба за
улучшение своей земной доли, а эта доля, в конечном счёте, от воли
человеческой не зависит:
Безумные, поймите долю смертных:
Вся жизнь — борьба. Иной сегодня счастлив,
Тот будет счастлив, тот уже бывал —
Игра судьбы...26.
Неотвратимость судьбы выражается в необратимости времени, ход
которого ведёт нас к старости, предвестнице смерти: стихи, посвященные
старости в цитируемой трагедии, передают очень личное отношение
Еврипида к этому периоду жизни:
О, как тебя я ненавижу, старость
Неумолимая! Как ненавижу
Тех, кто продлить стремится жизнь — питаньем,
Икутаньем, и всяким чародейством,
Борясь с теченьем времени — самим же
Пора уж место младшим уступить27.
Трагизм жизни усиливается дурными наклонностями, заложенными
в человеческой природе. Вот что говорит Медея о женщинах:
25 Елена, 1114-1116; перевод наш.
26 Просительницы, 549-553; перевод С. Шервинского
27 Там же, 1108-1114.
Эссе о природе человека 85
Мы природой
Так созданы — на доброе безрук
Да злым зато искусством всех мудрее2*.
От природы же даются человеку и скромность (sophrosynê) и стыд
(aidôs), которые, согласно Еврипиду, нельзя приобрести никаким
учением29. Эти два свойства нашей природы составляют основу нашей
мудрости (sophia) и справедливости (dike). Но и здесь не всё благополучно:
Впрочем, стыд,
Как он ни свят, всегда покорен силе30.
Толкование Еврипидом человеческой природы двойственно: в ней
заложены как все положительные, так и все отрицательные потенции
человека. Одним из даров природы человека является свобода. Рабство по
Еврипиду противоестественно. Оно — изобретение людей.
У раба
Позорно только имя. Если честен,
Так чем лее он свободным не чета3].
Еврипид фактически считает свободой беспрепятственное
самораскрытие человеческой природы, а не какой-то произвол. Такая свобода для
него — высокая ценность для человеческой жизни. Именно поэтому
рабство он считает самым унизительным состоянием, особенно, если оно
добровольное. В трагедии «Гекуба» Поликсена перед принесением её в
жертву умоляет:
Но дайте умереть
Свободною, богами заклинаю,
Как и была свободна я!...32.
А вот что на это отвечает Гекуба:
Увы! Увы!
Свободы нет меж смертными: один
Богатства раб, а тот — судьбы, иному
Кладёт предел толпа его сограждан,
Тем письмена законов не велят
Так поступать, как хочет их природа33.
Таким образом, согласно Еврипиду, между природой человеческой и
свободой нет конфликта. Конфликт возникает только в случае подавления
или извращения человеческой природы, что возможно только в
несправедливом обществе и в случае отчуждения человека от своей собственной
28 Медея, 407-409; перевод И. Анненского.
29 См.: Вакханки, 315-317; Ипполит, 78-81.
30 Ифигения в Авлиде, 997; перевод И. Анненского.
31 Ион, 854-856; перевод И. Анненского.
32 Гекуба, 550-551 ; перевод И. Анненского.
33 Там же, 864-869.
86
Эссе о природе человека
природы, когда он избирает ложную систему ценностей. Кантовское
противопоставление природы и свободы не свойственно античности. Для
античного человека природа — мать, из лона которой он вышел и в лоно
которой он должен возвратиться по велению судьбы, т. е. той же природы.
Однако свобода толкуется Еврипидом и в другом смысле: как
состояние общества, как характеристика его человечности и
справедливости. Эта сторона свободы блестяще раскрыта поэтом в его трагедии
«Просительницы», или (в другом переводе) «Умоляющие» (Hiketides). Здесь, в
полемике афинянина Тезея и фиванского глашатая, Тезей отстаивает
преимущества демократической формы правления, установленной в Афинах,
перед единовластием, характерным для Фив, терпеливо выслушивая
аргументы, и небеспочвенные, своего противника. Фиванец, в частности,
говорит, что лучше, когда
Один стоит у власти, не толпа.
Никто речами дутыми не кружит
Голов себе на пользу и не вертит
Народом; знавший почести и ласку
Там не вредит потом и, клеветой
Скрыв прошлое, суда не избегает.
И может ли народ, не разбираясь
В делах и нуждах, государством править?
Надежней опыт быстрого решенья...34.
Ответ Тезея выражает взгляд на вещи самого Еврипида:
Нет ничего для государства хуже
Единовластия (tyrannou). Во-первых, нет
При нём законов общих (nomoi koinoi) — правит царь.
Нет равенства. Он сам себе закон.
А при законах писанных — одно
Для неимущих и богатых право,
И может смело бедный обвинять
Богатого в его дурном поступке, —
И победит слабейший, если прав.
Свобода (eleytheron) в том, что на вопрос: «Кто хочет
Подать совет полезный государству?» —
Кто хочет — выступает, кто не хочет —
Молчит. Где равенство найти полнее?
Там, где народ у власти, выдвиженъю
Он рад бывает новых сильных граждан,
А самодержец (basileys)e этом видит зло.
И наилучших, в ком приметил разум,
Уничтожает, трепеща за власть..?5.
34 Просительницы, 411-420; перевод С. Шервинского.
35 Там же, 428-447.
Эссе о природе человека
87
Мы привели этот спор между апологетом тирании и апологетом
демократии, чтобы заключить наш анализ представлений Еврипида о
природе человека таким её аспектом как социальность, включенность
человека в общество. Совершенно ясно, что Еврипид значительно превзошёл
своих предшественников, Эсхила и Софокла, в понимании социальной
специфики человеческой природы, а вместе с тем и естественной
потребности человека в свободе, равенстве, законности и государственности. Во
всем этом Еврипид был един с тем пониманием человеческой природы,
которое будет свойственно потом и Платону, и Аристотелю — двум
великим греческим философам, каждый из которых был его почитателем и
несомненно вдохновлялся его поэзией, родственной философии по
глубине проникновения в свой предмет — в человеческую сущность.
Глава вторая
Тема человеческой природы
у Платона и Аристотеля
Тема человеческой природы так или иначе затрагивается Платоном
во всех его произведениях. Здесь он — верный ученик Сократа, который,
сведя философию «с неба на землю», сделал человека исключительным
предметом философского интереса, приняв, как никто другой, близко к
сердцу дельфийский призыв к самопознанию. Однако Платон в отличие
от его ученика, Аристотеля, не был расположен к научному стилю
изложения своих идей, считая, что у философии должен быть свой
собственный стиль, свободный и чуждый научной холодности и формальной
строгости. Поэтому у Платона редко можно встретить точные и однозначные
определения понятий. Нет у него и формального определения понятия
«человек». Приписанный позднее его авторству трактат «Определения»
(«Horoi»), в котором содержится формальная дефиниция человека, —
явно не платоновский. Эта дефиниция такова: «Человек — существо
бескрылое, двуногое, с плоскими ногтями; единственное из существ,
восприимчивое к знанию, основанному на рассуждениях (logoi)»36. Однако
причины для приписывания этого определения авторству Платона всё-таки
были. В одном из самых странных своих диалогов, а именно — в диалоге
«Политик», Платон, рассматривая вопрос о том, каким родом существ
должен управлять, кого должен «пасти» царь, производит разделение всех
живых существ по видам и в связи с этим пишет: «Тогда, говорю я, надо
сразу же в нашем роде отделить двуногих от четвероногих и, приняв во
внимание, что роду человеческому выпал тот же жребий, что и пернатым,
снова разделить двуногое стадо на гладкое и пернатое; когда же оно будет
поделено и обнаружится искусство пасти людей, надо взять политика и
царя и, поставив его во главе как возничего, вверить ему бразды
правления государством: ведь именно в этом состоит присущая ему наука»37.
36 Определения, 315а; перевод С. Шейнман-Тонштейн.
37 Политик, 266е; перевод С. Шейнман-Тонштейн.
88
Эссе о природе человека
По-видимому, именно это место из «Политика» стало для Диогена-киника
поводом посмеяться над Платоном: «Когда Платон, — сообщает нам
другой Диоген (Лаэрций), — дал определение, имевшее большой успех:
«Человек есть животное о двух ногах, лишенное перьев», Диоген ощипал
петуха и принёс к нему в школу, объявив: «Вот платоновский человек!».
После этого к определению было добавлено: «и с широкими ногтями»38.
Разумеется, к этому полушутливому, хотя и формально верному,
«номинальному» определению человека платоновское понимание
человеческой природы, конечно, не сводится. В диалоге «Государство» Платон
описывает нам «идеального» человека как прежде всего существо
разумное и нравственное по своей природе, которое реализует себя в
общественной и государственной жизни. Однако Платон здесь акцентирует и на
различии природных задатков людей. Так, по его мнению, от природы у
одних людей больше развито разумное начало (logistikon), которое
проявляется в такой добродетели (aretê) как «мудрость» (sophia); у других —
преобладает волевое, или гневливое, начало (thymoeides), которому
соответствует добродетель «мужество» (andreia); у третьих — вожделяющее
начало (epithymêtikon), которое, занимая собой большую часть любой
человеческой души и доставляя ей больше всего забот, укрощается
добродетелью, именуемой sôphrosynë, что на русский язык можно перевести
только группой слов: «благоразумие», «рассудительность», «скромность»,
«чувство меры», «воздержность» и т. п.39 Гармоническое сочетание в
душе человека всех этих трёх природных начал, означающее в то же время
подчинение гневливого и вожделеющего начал разумному началу,
приводит к рождению высшей человеческой добродетели — справедливости
(dikaiosynê)40. А справедливостью Платон считает такое состояние
общественных отношений, когда каждый занимается тем, к чему он более
всего склонен по своей природе; и по этому принципу Платон разделяет своё
государство на сословия. Те, у которых от природы преобладает разумное
начало, должны править государством, у которых — волевое, должны
стать воинами и защищать его, а те, у которых преобладает вожделеющее
(а таких большинство) должны заняться материальным производством и
торговлей. Впрочем, Платон не считает принадлежность к тому или
иному сословию наследственным и допускает переход детей из одного
сословия в другое в зависимости опять же от их природных способностей.
Таким образом, политическая философия Платона во многом опирается на
его представления о человеческой природе, а в этих представлениях
можно заметить признаки гуманизма. Например, Платон выступает против
дискриминации женщин. Он доказывает, что женщины, хотя по своей
природе и относятся к «слабому полу», однако могут управлять
государством наравне с мужчинами, могут участвовать в его защите и способны
не хуже мужчин обучаться наукам и искусствам, получать
гимнастическое и мусическое воспитание .
38 Диоген Лаэрций, VI, 40; перевод М. Гаспарова.
39 См.: Politeia, IV, 430d - 432b; 439b - 442d.
40 См.: там же, 433а - 435с; 442d - 445b.
41 См.: там же, V, 454с - 467а.
Эссе о природе человека
89
Платон совершенно справедливо указывает на то, что человек
должен занимать место в обществе и государстве в соответствии с его
природными дарованиями, а не в зависимости от положения его родителей,
от случайных обстоятельств или от его эгоистических потребностей, как
это происходило всегда и происходит в наше время. Платон первым в
истории раскрыл широкие возможности человеческого познания и показал
высокое предназначение человека в этом мире. Он всесторонне раскрыл
нравственную природу человека, воспел его божественное
происхождение в «Тимее» и его бессмертие в «Федоне» и «Федре». Вместе с тем, он
показал всю противоречивую сложность человеческого существа,
влекущегося к вечному и совершенному, но ограниченному в этом своём
влечении временным и несовершенным. Однако это противоречие Платон
пытается разрешить, устанавливая, что человеческая природа
складывается из двух начал: из бессмертной души и смертного тела. Следуя орфико-
пифагорейской традиции, Платон считает тело оковами и гробницей
души, а смерть тела — освобождением души от этих оков42. В диалоге «Фе-
дон», в котором Платон излагает свои знаменитые четыре доказательства
бессмертия души, он говорит, что разумная душа, — если она при жизни в
теле не рабствовала телесным удовольствиям, а всегда стремилась к
познанию вечного и идеального, — освободившись от тела, переселяется в
сферу божественного, вечного, идеального — родственного её настоящей
природе; если же в своей земной жизни она всецело была привязана к
своему телу и ко всему телесному, она по справедливости вновь получает
то, что любила, вселяясь в новое тело, в новые оковы. Это переселение
человеческих душ из тела в тело («метемпсихос») — судьба большинства,
и лишь немногие души — души истинных философов, которые умирают
для этого мира ещё при жизни в нём, — достигают полного освобождения
от тела и переселяются в бестелесную область истинного бытия43.
Впрочем, в «Федре» Платон толкует судьбу человеческих душ несколько
иначе. Эти души уподобляются колесницам, несущимся в занебесную
божественную область. Их влекут два крылатых коня, символизирующих
собой две воли: добрую и злую. Правит колесницей разум. Добрый конь
(благая воля), послушный вознице-разуму, несёт колесницу души вверх, в
божественную область; злой конь (злая воля) тянет колесницу вниз, в мир
земной. В большинстве случаев перетягивает злой конь, и тогда
колесница начинает беспорядочное движение, сталкивается с другими подобными
же колесницами, ломает их и себя и рушится вместе с ними на землю с
поднебесной высоты, вновь вселяясь в земное смертное тело. И лишь
немногие души-колесницы достигают «занебесной» области и, созерцая
горний мир недолгое время, вбирают в себя знание вечного и идеального,
знание божественной жизни, божественной красоты и божественной
истины. Но и они в конце концов не выдерживают напряжения пребывания
в божественной области и тоже падают на землю, вселяясь в смертные
тела. Однако дальнейшая судьба вновь воплотившихся не одинакова. Чем
42 Федон, 67c-d; перевод С. Маркиша.
43 Там же, 81 а-е.
90
Эссе о природе человека
ближе был кто к занебесной области, чем дольше он созерцал сферу
чистой истины и божественную жизнь, тем лучшая судьба его ожидает.
Такие, согласно Платону, оказавшись на земле, воплощаются в философов и
справедливых царей. Те же, чья злая воля отклонила их от небес раньше
других, воплощаются в тиранов и софистов. Так Платон вводит идею
человеческой судьбы, которая предопределяется нашим предшествующим
существованием44. Однако покорность судьбе, смирение со своей
участью, какой бы она ни была, — это не в духе Платона. Предназначением
человека он считал непрерывное самоусовершенствование, богоуподоб-
ление, т. е. самопревзойдение: «Быть ниже самого себя — это не что иное,
как невежество, а быть выше самого себя — не что иное, как мудрость»45.
В «Тимее» судьба души человеческой первоначально определяется
Демиургом, однако так, что человеку только сообщается о роковых
последствиях всех его свободных действий: «Возведя души на звезды, как
на некие колесницы, он (Демиург) явил им природу Вселенной и
возвестил законы рока... Тот, кто проживёт отмеренный ему срок должным
образом, возвратится в обитель соименной ему звезды и будет вести
блаженную, обычную для него жизнь, а тот, кто этого не сумеет, во втором
рождении сменит свою природу на женскую...», а если и это не поможет,
он переродится «в такую животную природу, которая будет
соответствовать его порочному складу»46.
Таким образом, у Платона посмертная судьба человека зависит
отчасти от его разума и воли, отчасти — от изначально данной ему
природы, отчасти — от воли создавшего его Демиурга и от законов рока, т. е. от
неизбежности воздаяния.
И всё-таки у Платона главное в судьбе человека зависит от его
собственной свободной воли и от его разума. Такая трактовка судьбы
человеческой сильно отличается от понимания её у греческих трагиков.
Разумность, социальность и внутренняя свобода — вот те главные черты,
которые составляют, согласно Платону, основу человеческой природы.
Эти же черты являются главными в природе человека и для
Аристотеля. Однако вопрос о человеческой природе решается Аристотелем уже
не в духе платоновской диалектико-поэтической философии, а в духе
философии, понимаемой как строгая формализованная наука.
Как философ-ученый Аристотель особенно заботится об
определении используемых понятий. Примечательно, что даже в своих логических
сочинениях, не говоря уже о других, он часто в качестве примеров
правильных определений приводит именно определения сущности (природы)
человека. Однако надо признать, что именно в работах логического цикла
(особенно в «Категориях» и обеих «Аналитиках») Аристотель почти
всегда даёт формально недостаточные определения человеческой сущности.
Напомним, какое основное требование предъявляет к определениям сам
Аристотель: «...в определение не входит ничего другого, кроме рода, обо-
44 Федр, 246а - 248е; перевод А. Егунова.
45 Протагор, 358с; перевод В. Соловьёва.
46 Тимей, 4le; 42b-c; перевод С. Аверинцева.
Эссе о природе человека
91
значаемого как первое, и видовых отличий» (Метафизика, VII, 1037b 25-
30). Но именно видовые отличия человеческой природы обычно
представлены у Аристотеля недостаточно. Вот примеры подобных
определений, не выдерживающих никакой критики. «Человек есть двуногое
животное (dzöon), живущее на суше» (Вторая аналитика, II, 92а 30). Но ведь
и двуногие петухи тоже живут на суше! Там же даётся и «уточняющее»
определение: «Смертное, одушевленное существо, имеющее ноги,
двуногое, бескрылое». (II, 92а 39). Однако и в этом определении,
напоминающем определение, приписываемое Платону, видовая специфика человека
выражена недостаточно, а она состоит прежде всего в том, что человек —
существо, наделенное разумом. Подобный же недостаток в определении
сохраняется и в «Топике» (I, 101b 23), где, кстати, указывается, что
«определение обозначает «to ti en einai» — «то, что было в состоянии бытия»
(I, 101b 23)47; иначе говоря, оно обозначает сущность (oysia) вещи.
В то же время и во «Второй аналитике», и в «Топике» делаются
попытки определить природу (сущность) человека и более точно: «двуногое
животное, поддающееся воспитанию» (Вторая аналитика, И, 96Ь 32);
«существо, способное овладевать знаниями» (Топика, I, 103а 27). Эти
определения, хотя и не вполне строги, но всё же ближе к реальным, так как
способность к овладению знаниями и податливость к воспитанию
общественных добродетелей действительно являются специфическими
чертами человеческой природы. Но странно, что в «Метафизике» такого рода
определений не встречается. Там мы находим только ранее упомянутые
«недостаточные» определения, типа: «живущее на суше, двуногое,
бескрылое» (VII, 1037b 23-24) или даже просто «двуногое животное» (VIII,
1045а 14) и т. п.
Наибольшее внимание проблеме человеческой природы Аристотель
уделяет в трактате «О душе». Именно здесь человек определяется как
единство разумной души и тела. Понятно, что в этом сочинении
Аристотель больше внимания уделил душе, чем телу. Причём в класс
одушевленных существ он включил не только людей и животных, но и растения.
У растений — растительная душа, у неразумных животных — двойная
душа: растительная и животная, у людей — тройная: растительная,
животная и собственно человеческая, «разумная». Функции растительной
души — питание, рост, воспроизведение, старение и т. п. — сохраняются
и у животных и у человека, у которого сохраняются и все функции
животной души, такие как свободное движение и чувственная способность
(зрение, обоняние, вкус, слух, осязание и пр.). Однако животная душа у
человека частично подчиняется (в нормальном случае) разумной душе; в
47 На русский язык «to ti δη einai» обычно переводят, как «суть бытия», хотя вряд ли
кто понимает смысл этого словосочетания. Если имеется в виду сущность самого бытия,
т. е. — что означает «быть»?, то этот вопрос вряд ли разрешим логически. Он решается
только на уровне интуиции, позволяющей нам ощущать проявления нашего собственного
бытия и по аналогии заключать о бытии других вещей. Определить смысл и «суть» бытия
невозможно в силу отсутствия у нас понятий более высокого уровня общности.
Единственное, что мы можем, — так это понять бытие как нечто противоположное его отсутствию,
т. е. небытию. Но «суть» бытия как такового ни понять, ни вьфазить невозможно. Поэтому
«to ti δη einai» — это не «суть бытия», а «суть» того, что им обладает.
92
Эссе о природе человека
значительно меньшей мере ей подчиняется и низшая, растительная, душа.
Общее определение души у Аристотеля таково: «душа есть первая
энтелехия естественного тела, обладающего в возможности жизнью», или же:
«душа есть первая энтелехия естественного тела, обладающего
органами»48. Далее следует ещё такое разъяснение: «душа же есть сущность (to ti
en einai) и внутренняя форма (logos) такого тела, которое в самом себе
имеет начало движения и покоя» . В связи с этим Аристотель даёт и
характеристику энтелехии: «А то единое и бытие, хотя и по-разному
называется, в действительности есть энтелехия»50.
Таким образом, исходя из данных определений, следует, что всякая
душа есть энтелехия органического тела, которая сообщает ему целесообразное
устройство, сообщает единство всем его органам, а тем самым сообщает ему
и бытие особого рода, бытие жизни — бытие живого организма. Поэтому
энтелехию следует понимать как осуществленность внутренней цели
телесного организма, каковой является жизнь. Или же — как переход
органического тела как материальной возможности жизни к действительной жизни.
Результат этого — единство души и тела в живом существе5 ].
Согласно Аристотелю всё в природе реализует какую-то цель,
бессознательно или сознательно. Сознательно, с пониманием, свои цели
реализует божество, своей мыслью направляющее мировой процесс, и
человек, наделенный свободной волей и разумом. Животные неразумные и
растения осуществляют заложенные в их природе цели бессознательно, но
в рамках общемировой целесообразности. Под категорию «живого»
(dzöon) существа, как мы уже сказали, Аристотель подводит и растения, и
животных (так же — dzöon) и людей. Поскольку же термины «живое» и
«животное» обозначаются у него одним и тем же словом «dzöon», нет
возможности различить, особенно в определениях, какое из двух значений
этого слова имеет в виду философ. Иногда Аристотель выражается так,
что создаётся впечатление, что все живые существа (помимо бога-
перводвигателя) он делит на два класса: животные и растения, человека
же рассматривает как подкласс животных, а именно — как животное,
наделенное разумом. Так, он пишет: «Ведь растительная душа (threptikë
psyche, буквально — «питательная») присуща и другим [видам живых
существ], она первая и самая общая сила (dynamis) души, благодаря которой
жизнь (to dzën) присуща и всем остальным [видам]. Её дело порождение и
питание. Ведь самая естественная деятельность для живых существ
(dzösin), — если они достигли зрелости и не изувечены и если им не
свойственно самопроизвольное зарождение, — производить другое, себе
подобное: животному — животное (dzöon men dzöon), растению — растение
(phyton de phyton), чтобы иметь возможность быть причастными вечному
(aei) и божественному»52.
48 О душе, II, 412а 27; П, 412Ь 5-6; перевод П. Попова.
49 Там же, II, 412Ь 17; перевод наш.
50 Там же, II, 412Ь 9; перевод наш.
51 «...Kakei hê psyche kai to soma to dzöon» — «душа и тело составляют живое
[существо]» (Там же, II, 413а 30).
Там же, 415а, 23 - 415Ь, 1 ; перевод наш.
Эссе о природе человека
93
Из приведенной цитаты видно, что Аристотель именует живыми
существами все (hapasin) три класса одушевленных: и растения и животных
и, конечно, подразумеваемых людей. Но затем, говоря о порождении, он
называет только животных и растения, а это как раз и означает, что
человек рассматривается им как вид животного. Поэтому нет никакой
надобности всякий раз, когда речь идёт о человеке, переводить dzöon как
«живое существо», объединяя тем самым человека с растениями, которые
тоже именуются у Аристотеля живыми существами 3.
Тот факт, что Аристотель рассматривал человека, как вид
животного, хотя и особый, высший вид, отличный от всех других, подтверждается
косвенно и другими суждениями Стагирита: «О жизни, по-видимому,
нельзя говорить как об одном виде: ведь одна жизнь свойственна
животным, другая — растениям»54. Ясно, что люди здесь включены в вид
животных. И, возвращаясь к трактату «О душе», процитируем ещё одно
место, где Аристотель разбирает чувственные способности души животных.
Последовательно проанализировав зрение, слух, обоняние, вкус, он
переходит к природе осязания, придавая ему особое значение в развитии
познавательных способностей человека (при этом вкусовые ощущения он
рассматривает как разновидность осязания). Особенность всякого
осязания — контакт с воспринимаемым предметом без посредников. «В других
чувствах человек уступает многим животным, а что касается осязания, то
он далеко превосходит их в тонкости этого чувства. Именно поэтому
человек есть самое разумное из всех живых существ»55.
Рассмотрев далее вопрос о том, каким органом чувств мы
воспринимаем предмет в его целостности, а также такие свойства предметов
как движение, покой, фигура, величина, число, единство, и установив,
что для восприятия таких вещей у человека нет особого телесного
органа, а следовательно, всё это должно восприниматься только самой
душой, её особым «общим чувством» (aisthësis koinë), объединяющим
данные всех пяти чувств в единое восприятие предмета56, Аристотель
анализирует затем такую способность души как воображение (phantasia), а
затем переходит к исследованию той части души, «которой душа
познаёт (gignöskei) и уразумевает (phronei)»57, к способности мышления (to
noein), которая есть ум (noys).
53 В существующих русских переводах аристотелевское dzöon по отношению к
человеку почти всегда передается словами «живое существо». При этом подчас возникают
парадоксы. Например, в переводе А. В. Кубицкого «Категорий» есть такое место (5, ЗЬ, 25-30):
«Сущностям свойственно и то, что им ничего не противоположно... Равным образом нет
ничего противоположного и человеку или живому существу». То, что «человеку» ничто не
противоположно — это верно. Но вот «живому существу» как раз противоположно
«неживое существо». Если бы А. В. Кубицкий перевёл здесь dzöon как «животное» всё было бы
правильно, ведь «животному», как и человеку, ничто не противоположно.
54 Топика, VI, 10,148а 25-30; перевод наш.
55 О душе, П, 421 а 20-23; перевод П. Попова. Может быть лучше было перевести:
«самое разумное из всех животных», потому что, какие же ещё живые существа мог иметь в
виду Аристотель: уж не растения ли? Уж не своего ли бога, который у него определяется как
чистый ум? Нет, конечно.
^Там же, III, 425а 13-30.
57 Там же, 429а 10.
94
Эссе о природе человека
Аристотеля интересуют два вопроса: существует ли мышление
отдельно от остальной части души и как происходит сам процесс
мышления и умственного познания. Решая первый вопрос, Аристотель пишет:
«И поскольку ум (noys) может мыслить (noein) всё, ему необходимо
быть ни с чем не смешанным... чтобы [всё] познавать»58. И далее: «...в
возможности ум некоторым образом есть то, что он мыслит, в
действительности же (а1Г entelecheiai) — никоим образом пока он не мыслит.
Это должно [происходить] так, как на писчей дощечке, на которой в
действительности ещё ничего не написано. Подобное же происходит и с
умом. И он сам же мыслим так же, как и всё мыслимое. Ведь у того, что
лишено материи (hylë), умственное (to nooyn) и умопостигаемое (to
nooymenon) — одно и то же, ибо одно и то же — умосозерцательное
познание и то, что им познаваемо»59.
И, наконец, завершая свои рассуждения о природе ума, Аристотель
излагает свою знаменитую теорию двух умов: возможного
(потенциального, пассивного) и действительного (актуального и активного) —
теорию, которая дала повод будущим схоластикам для нескончаемых споров.
«И действительно, — пишет Аристотель, — существует, с одной стороны,
такой ум, который становится всем, с другой — ум, всё производящий,
как некое свойство, подобное свету. Ведь некоторым образом свет делает
действительными цвета, существующие в возможности. И этот ум
существует отдельно и не подвержен ничему, он ни с чем не смешан, будучи
по своей сущности деятельностью... Ведь этот ум не таков, что он иногда
мыслит, иногда не мыслит. Только существуя отдельно, он есть то, что он
есть, и только это бессмертно и вечно... Ум же, подверженный
воздействиям, преходящ и без деятельного ума ничего не может мыслить»60.
Таким образом, анализ природы ума приводит Аристотеля к выводу,
что ум человеческий это только возможность познания, а реальное знание
неизменных оснований бытия и сущности, выраженное в форме понятий
и истинных суждений, он получает через озарение своего потенциального
ума, т. е. своей умственной познавательной способности, светом ума
божественного, который вечен, неизменен и содержит в себе всю полноту
истины.
Дальнейшие рассуждения Аристотеля о природе души в
анализируемом нами трактате приводят его к выделению в этой природе таких
элементов как влечение (стремление) и воля, которые он различает по их
связи с другими способностями души: влечение связано с
чувственностью, воля — с разумом. Воля контролирует наши влечения, направляя их
на то, к чему призывает разум. Так что воля оценивается Аристотелем как
нечто положительное, в отличие от Платона (позднего), согласно
которому наряду с доброй волей существует и злая.
В заключение этой главы обратимся к тем определениям
человеческой природы, которые содержатся в других трактатах Аристотеля. Са-
58 О душе, III, 429а 18-20.
59 Там же, 429Ь ЗО-430а 1-4; перевод наш.
60 Там же, 430d 13-25; перевод П. Попова.
Эссе о природе человека
95
мое известное из этих определений мы найдем в сочинении «Политика»:
«Человек по природе есть животное политическое, а тот, кто в силу
своей природы, а не вследствие случайных обстоятельств, живёт вне
государства, тот — либо поросль незрелая, либо существо, превосходящее
человека...»61.
То, что человек по природе своей есть существо «политическое»
(politikon) или, иначе говоря, общественное (ведь «polis» у греков
означает прежде всего «общину»), Аристотель поясняет следующим образом:
«Природа... ничего не делает напрасно; между тем один только человек
из всех живых существ одарён речью... Но речь способна выражать и то,
что полезно и что вредно, равно и как и то, что справедливо и что
несправедливо. Это свойство людей отличает их от остальных живых существ:
только человек способен к восприятию таких понятий, как добро и зло,
справедливость и несправедливость и т. п. А совокупность всего этого и
создаёт основу семьи и государства»62.
Таким образом, речь и способность выражать в ней нравственные
понятия Аристотель считает теми природными свойствами человека, на
которых зиждется вся человеческая социальность, включая и
государственность. Заметим при этом, что науку о государственной жизни, т. е. ту
науку, которую он именует «политикой», он ставит выше всех других
наук, считая, что именно в государственной жизни человек достигает
полной осуществленности (энтелехии) своей нравственной природы.
Отсюда его, на первый взгляд, странное толкование другой науки —
этики, которой он при этом посвятил три специальных сочинения: «Ни-
комахова этика», «Евдемова этика» и «Большая этика». Странно то, что
этику он как бы лишает самостоятельности, рассматривая её либо как
часть «политики», либо просто отождествляя её с политикой. Возможно,
здесь сказывается влияние Платона, который как мы уже знаем, именно
в диалоге «Государство» и в связи с рассмотрением в нём всех аспектов
государственной жизни изложил наиболее детально свою этическую
теорию. Так или иначе, в «Никомаховой этике» Аристотель называет
науку, которой он здесь занимается, «наукой о государстве» (I, 1, 1094b,
5-10), а в «Большой этике» он пишет, что этика есть «часть политики и
её начало (arche)» и далее: «вообще, мне кажется, этот предмет по праву
может называться не этикой, а политикой»63. Впрочем, понять
Аристотеля всё-таки можно. Ведь он, как и Платон, высшей целью
человеческого сообщества, целью, которой должно руководствоваться
государство, считает благо (tagathon) и притом — наивысшее благо (to ariston),
и это же самое благо является у него высшей категорией этики64. При
61 Политика, 1,9,1253а 2-5; перевод наш.
62 Там же, 1253а 8-19; перевод С. Жебелева.
63 Большая этика, 1,1,1181 b 24; перевод Т. Миллер.
64 См.: Никомахова этика, I, 1, 1094 а 20-30. Во II книге «Большой этики»
Аристотель делит все вещи, подлежащие моральной оценке, на две категории: прекрасные (kala)
и хорошие (agatha). К первым он относит все добродетели и добродетельные поступки; ко
вторым — внешние блага, такие как власть, богатство, слава, почёт и т. п. Понятия
прекрасного и хорошего объединяются им в понятии «прекрасно-благого» (kalokagathia) как
наивысшего нравственного совершенства. Вот, что он об этом пишет: «Прекрасно-благой
96
Эссе о природе человека
этом нельзя сказать, что Аристотель путает политику с этикой.
Напротив, все три его этических трактата посвящены именно нравственности
и её основе — добродетели (aretë). Просто он считает, что нравственным
человек не может существовать вне общественной и государственной
жизни и что поэтому нет «этики» вне «политики».
Согласно Аристотелю, всякий человек, хороший (aqathos) или
плохой (kakos), по своей природе стремится к своему наибольшему благу,
которое именуется «счастьем» (eydaimonia). Однако не все знают, что
самым главным и совершенно необходимым условием достижения счастья
является добродетель — то, что Аристотель понимает прежде всего как
наилучшее состояние данных человеку от природы способностей души и
самой души в целом. Иногда же Аристотель толкует это понятие и более
широко, относя его и к телу: в этих случаях добродетелью именуется
оптимальное состояние телесного организма человека, предполагающее
здоровье, наличие физической силы, гармоничное функционирование
всех его частей и органов, телесную красоту. Вообще у Аристотеля
добродетель, aretë, — это высшее качество и совершенное состояние всего
того, что получено от природы. Поэтому добродетелей много. В отличие
от Платона, у которого число добродетелей (aretai) ограничивается
четырьмя нравственными, т. е. добродетелями нрава (характера),
Аристотель не только многократно умножает (особенно в «Никомаховой этике»)
число «этических», т. е. нравственных, добродетелей, но и прибавляет к
ним ещё и «дианоэтические» добродетели, к которым он относит
различные совершенства, обретаемые умственной, мыслительной, стороной
нашей души (dianoia). К дианоэтическим добродетелям относятся,
например, такие, как сообразительность, хорошая память, умение правильно
судить, созерцать истинное и т. п. Хотя Аристотель определяет
добродетель как середину между двумя крайностями — избытком и недостатком,
к дианоэтическим добродетелям это определение не подходит.
Согласно Аристотелю, человеческая природа как таковая заключает
в себе только наши способности (dynameis) к нравственному поведению,
мышлению и познанию. Реализация же (energeia) этих способностей
зависит от нашей свободной воли. Полная реализация силой нашей воли всех
дарованных нам природой положительных способностей и есть
осуществление (entelecheia) нашего природного предназначения, ибо, согласно
Аристотелю, природа действует, хотя и бессознательно, но
целесообразно, и всё, что она содержит в себе как возможное, должно, каждое в своё
время, переходить в действительное. Не от воли человека зависит, какие
способности он получит при своем рождении, но именно от неё зависит,
как он воспользуется этими способностями. Ведь человек рождается ни
добродетельным, ни порочным, ни умным, ни глупым. Тем или другим он
становится в зависимости от воспитания и самовоспитания и
самообучения. Добродетели — это приобретаемые свойства души и ума. Если их
тот, для кого вещи, которые хороши сами по себе, хороши, а вещи, которые сами по себе
прекрасны, [и для него] прекрасны. Такой человек и хорош, и прекрасен (kalos kai agathos)...
И его не портят такие вещи, как богатство, власть». (Большая этика, II, 9, 1207 b 30 - 1208 а
1-3); перевод наш.
Эссе о природе человека
97
упражнять, они превращаются в склад души (hexis), в характер, в
потребность, и человека такого склада по праву называют уже добродетельным.
Но если постоянно предаваться порокам, то и порочность может стать
постоянным складом души, и тогда уже очень трудно будет вернуться к
добродетельной жизни, т. е. — к той жизни, к которой человек
предназначен по своей природе как существо разумное.
Итак, согласно Аристотелю, добродетель есть такое благо, без
которого человек не может достичь искомого счастья, блаженства. Однако он
при этом считает, что для человеческого счастья одного только
нравственного и умственного совершенства недостаточно. Для этого нужно
обладать ещё и телесными благами, т. е. телесными совершенствами (aretai),
о которых мы говорили выше: хорошим здоровьем, силой, приятной
внешностью и т. п. Кроме того, для полного счастья, — считает
Аристотель, — нужны и так называемые внешние блага, зависящие в большей
мере от судьбы, а не от нас самих; такими благами он считает рождение в
хорошей семье, в хорошей стране, в хорошее время; получение хорошего
воспитания, материальный достаток и прочее такого рода. Из чего можно
заключить, что Аристотель в своё определение счастья как евдемонии
включает и удачу (tyche), т. е. фортуну, за что его справедливо будут
потом критиковать стоики. Ведь, полагая, что нельзя быть счастливым, если
у тебя есть физические недостатки и ты слаб здоровьем, или если ты
родился в бедной семье, в неблагополучном государстве или в эпоху смут,
Аристотель тем самым лишает всякой надежды на счастье большую часть
человечества и делает саму добродетель бессильной. А на самом деле
сила и красота добродетели в том, что она способна преодолевать все эти
неблагоприятные обстоятельства, ибо там, где нет трудностей, нет и
добродетели. Аристократическое высокомерие и даже жестокость
Аристотель проявляет и в других частях своего учения о человеке. Так,
например, он считает, что дети, рожденные с элементами физического уродства,
должны уничтожаться. Характерно и его отношение к рабству, которое он
считает явлением вполне естественным и совершенно справедливым. Вот,
что, к примеру, он говорит о рабах в «Политике»: «Все те, кто в такой
сильной степени отличается от других людей, в какой душа отличается от
тела, а человек от животного (это бывает со всеми, чья деятельность
заключается в применении физических сил, и это лучшее, что они могут
дать), те люди по своей природе рабы»65. И далее: «Очевидно, во всяком
случае, что одни люди по природе свободны, Другие — рабы, и этим
последним быть рабами и полезно и справедливо» .
Таким образом, Аристотель фактически отлучает рабов от рода
человеческого, относя их в соответствии с их природой к классу своеобразных
животных. Но и среди свободных людей он проводит резкую демаркацию
между женщинами и мужчинами67, а также между теми, кто по природе
65 Политика, 1,1, 13,1254 b 16-18; перевод С. Жебелева.
66 Там же, 1255 а 39-40.
67 Например, в одном месте он говорит: «... и женщина бывает хорошая, и даже раб,
хотя, пожалуй, первая и хуже мужчины, а второй и совсем плох» (Поэтика, 54 а 20-22);
перевод наш.
98
Эссе о природе человека
способен только к практической деятельности, и теми, кто имеет призвание
к деятельности «теоретической», т. е. умосозерцательной, которую он
считает богоподобной по природе, так как аристотелевский бог — это чистый
теоретик, «мышление мыслящее само себя». Поэтому дианоэтические
добродетели Аристотель и ставит выше этических, ведь они делают человека
подобным богу. Но для их упражнения нужен досуг, из чего следует, что
для тех избранных, которые по своей природе способны уподобиться
аристотелевскому богу, досуг должен быть целью, а всякая другая
деятельность практического характера может быть только средством для обретения
досуга. Такой досуг и такая созерцательная жизнь (bios theôrêtikos)
доступны, разумеется, лишь очень немногим хорошо обеспеченным и вместе с тем
интеллектуально очень одаренным людям, к числу которых с уверенностью
можно причислить и самого Аристотеля. Но из этого учения с
необходимостью следует, что только такой тип людей и может претендовать на
обладание в полной мере высшим человеческим благом, т. е. счастьем. А как же
все остальные? Неужели даже люди нравственно безупречные не могут
быть счастливыми, если они не философы-теоретики? Неужели только
природа (особая умственная одаренность или её отсутствие) и фортуна
(tychê), посылающая нам возможность досуга или не посылающая, решают
вопрос о нашем счастье? А как же наша свободная воля, наша способность
выбирать между добром и злом, между добродетелью и пороком? Жаль, что
Аристотель уже не может ответить нам на эти вопросы, как и на вопрос о
том, был ли он, избравший для себя сознательно жизнь теоретическую, был
ли он сам счастлив? Судя по тому, что мы знаем о последних годах его
жизни, вряд ли эту жизнь можно было бы назвать вполне счастливой.
Пример Аристотеля скорее подтверждает мысль знаменитого мудреца Солона:
никто не может считать себя счастливым пока он не дожил до последнего
дня своей жизни.
Глава третья
Душа — Ум — Дух
Античные представления о составе и свойствах человеческой
природы не сильно отличаются от современных. Общим местом для всей
античной антропологии было понимание человека как единства
разумной души и тела, хотя это единство и толковалось по-разному. Ведь
даже орфики и пифагорейцы, считавшие тело (soma) человеческое
оковами и гробницей (sema) души, всё же учили о нескончаемом процессе
переселения душ из тела в тело; и у Платона, как мы видели, душа после
смерти человека, отойдя в Аид, затем вновь вселяется в какое-то тело,
сообразное её предшествующим заслугам, пусть даже, как в «Тимее»,
это будет тело звезды (учение о «metempsychosis»). Что же касается
Аристотеля, то, определяя душу как энтелехию органического тела, он,
конечно, и представить себе не мог существования этой энтелехии без
самого телесного организма. То же можно сказать и о стоиках, которые
были убеждены, что вообще нет ничего бестелесного, кроме смысла
Эссе о природе человека
99
(lekton) и пустоты (kenöma). А эпикурейцы вообще не признавали
ничего бестелесного и считали душу (подобно Анаксимену) скоплением
воздуха, точнее — легких и подвижных атомов воздуха. При этом все
античные греки сходились в том, что душа — жизнетворное начало, что
она оживляет тело и сообщает человеку жизнь, а смерть они понимали
как отделение души-жизни от тела.
Надо признать, что античная, т. е. греко-римская наука, имела
достаточно полное представление о строении и функциях человеческого тела,
т. е. об анатомии и физиологии, хотя даже самые знаменитые античные
врачи от Алкмеона и Гиппократа до Галена, как показала последующая
история, здесь во многом ошибались.
Что же касается науки о душе, или — как сегодня сказали бы —
«психологии», то её проблемы решались большей частью в рамках
философии, как мы уже могли убедиться, анализируя аристотелевский трактат
«О душе». Особенно преуспели греки в дифференциации способностей
души. Об этом стоит сказать подробнее.
Прежде всего заметим, что, хотя греки, за исключением Демокрита и
эпикурейцев, считали душу, в отличие от тела, пространственно
неделимой и в этом смысле — простой, единой субстанцией, они в то же время
наделяли её, и вполне справедливо, различными силами и способностями
или даже своего рода душевными органами, наличие которых не означало
делимость души (ибо эти бестелесные «органы» были от неё
неотделимы), но всё же означало её функциональную сложность. К таким
«органам» можно было бы отнести «чувствилище» (aisthëtërion),
обеспечивающее человеческую способность чувствовать (aisthêsis), phantastikon —
орган воображения (phantasia), logistikon — орган осмысления и
рассуждения (logismos), mnêmonikon — орган памяти и воспоминания (mnëmê,
mneia). Слово phrên означало у греков одновременно и один из важных
органов человеческого тела (диафрагма) и орган здравомыслия, разумения
и понимания (phronêsis). Все перечисленные и им подобные «органы»
вместе с сопутствующими им способностями можно условно отнести к
сфере восприятия и познания. Сюда же можно отнести и такие
способности, как сознавание (syneidësis) и совесть (syneidos), которые связаны с
таким «органом» души как «стыд» (aidös). Сюда же отнесём и
способность synesis, которая имеет значение сообразительности, понимания, а
также и совести.
Другая группа слов древнегреческого философского, поэтического и
научного языков, выражающих человеческие способности и «органы»
души, относится уже не столько к познанию и восприятию, сколько к
практической и творческой деятельности. Главный «орган» души,
выводящий человека во внешний мир, — воля, хотя без воли невозможны ни
познание, ни восприятие, равно как и без этих последних невозможна
сама воля.
Словарь терминов древнегреческого языка, относящихся к воле и её
проявлениям, значительно беднее, чем словарь терминов, относящихся к
познанию и мышлению, что свидетельствует о том, что греки были больше
теоретиками, чем практиками, в чём они были противоположны римлянам.
100
Эссе о природе человека
Понятие воли передаётся у греков главным образом двумя
базисными словами: boylësis (boylêma) и thelëma (thelësis), причём в первом случае
более сильно выражен момент решимости, а во втором — момент
желательности. Кроме того, понятие воли как стремления и порыва передаётся
словами hormê, orexis и некоторыми другими.
Особое значение в структуре человеческой души имеют thymos и
gnômë — силы, способности или «органы» души, для выражения которых
в русском языке нет точных лексических эквивалентов. Условно их смысл
можно передать словами «жизненная сила» и соответственно —
«познавательная сила», хотя thymos часто означает также и «дух», и «волю», и
«активную страсть» (для «пассивной страсти» в древнегреческом языке
существует слово pathos), a gnômë у трагиков понимается также и как
«разум», и как «воля», и даже как «совесть». У Еврипида это слово, как мы
уже говорили, означает бессмертное духовное начало в человеке, а у
Гераклита — разум, правящий миром (Фр. 41 DK).
Все перечисленные «органы» или способности души, по мнению
греков, даны ей от природы, т. е. являются врождёнными и неотделимыми
от неё. Исключением можно считать разве что толкование «гномы» у
Еврипида, хотя и у него, как мы показали раньше, отделение гномы от
смертной части души не означает отделения её от души как таковой, ибо
гнома для него как раз и есть бессмертная часть души.
Остаётся вопрос: относится ли к разряду неотделимых способностей
души «логос»? Увы, несмотря на всё многообразие словарных значений
этого термина и широчайшее его употребление в античной философии,
его вряд ли можно отнести к понятиям психологического ряда, пусть даже
Гераклит и говорил о нём как о «логосе общем для всех» (Фр. 114 DK).
Ведь Гераклит говорил о нём не как о присущей каждой душе
способности, а как об общем для всех мировом законе, как об истинном смысле
мирового процесса, и при этом он подчеркивал, что большинство людей
не понимает этот Логос, даже когда услышит о нём, хотя на самом деле
эти люди могли бы понять его, имея такой орган души как logistikon, если
бы они развили в себе логическую способность (logismos).
Перейдём теперь к вопросу о соотношении души и ума (noys).
Прежде всего обратим внимание на тот факт, что, уже начиная с Гомера, ум (у
него — noos) считался чем-то привходящим для души, а поэтому и
отделимым от неё (Одиссея, X, 240). Ксенофан, говоря о своём «боге»,
называет его вечным целостным умом (noys), а душу (psyche) как
тождественную дыханию (pneyma) считает смертной (Диоген Лаэрций, IX, 18).
Следовательно, уже Ксенофан считал ум некоей субстанцией, отличной от
души, отдельно от неё существующей и имеющей божественный статус.
Его младший современник Гераклит, говоря, что «многознание ум иметь
(noyn echein) не научает» (Фр. 114 DK), тем самым даёт понять, что ум не
свойство человеческой природы, а нечто приобретаемое и утрачиваемое;
следовательно, — что-то самостоятельное, а не какое-то природное
свойство души. Окончательно статус субстанции, а не свойства, ум (noys)
обретает у Анаксагора, который считал ум ни с чем не смешанной, вечной и
неизменной субстанцией, безо всяких усилий правящей и движущей кос-
Эссе о природе человека
101
мосом. У Платона ум так же вечен и неизменен, так же не испытывает
никаких воздействий и есть Демиург мира и субстанция всего идеального.
Согласно Платону, душа может приобщаться к уму, становиться «умной»,
однако может и отпадать от ума. И Аристотель, следуя Анаксагору, также
считал актуальный ум отдельной, ни с чем не смешанной субстанцией,
более того, — субстанцией, тождественной богу. У Плотина Ум — вторая
божественная ипостась (субстанция), стоящая выше Души.
Таким образом, в лице лучших своих представителей античная
философия считала ум отдельной субстанцией, т. е. отделимой от души.
Правда, Аристотель помимо актуального ума вводил ещё и ум
потенциальный, но этот ум он рассматривал исключительно как чистую
способность человеческой души, которая без воздействия актуального ума не
имеет никакой действительной силы.
Нам остаётся теперь выяснить, в каком отношении по античным
представлениям находятся человеческая природа и дух (pneyma). Слово
«pneyma» по свидетельству одного из последних неоплатоников
Афинской школы, Дамаския (Dubitat. et solut., 124b) употреблял ещё Ферекид
Сиросский, рассматривая «пневму» как один из теогонических элементов,
наряду с «огнём» и «водой». В таком контексте «пневма», конечно, имела
значение воздуха, однако — особого, породившего поколение
«воздушных» богов, т. е. своего рода духов. Иными словами, в употреблении Фе-
рекида в понятии «pneyma» имплицитно содержалось и значение «духа».
Следующий известный нам случай употребления термина
«pneyma» — это единственный дошедший до нас фрагмент сочинения
«О природе» Анаксимена (Plac.philos., I 3, 4): «...holon ton kosmon
pneyma kai aer periechei» — «весь этот космос пневма и воздух
охватывают». Вряд ли можно считать, что слова «воздух» и «пневма» Анакси-
мен употребляет здесь как синонимы. Если же под словом «pneyma»
понимать «дыхание» (как это делают наши переводчики), то встаёт
вопрос: может ли дыхание что-то охватывать или обнимать? Не лучше ли
в данном случае перевести «pneyma» как «дух», понимая под этим
тончайшую телесную живую субстанцию, вдыхаемую и выдыхаемую
вместе с воздухом, ибо у милетских «физиков», как и у Гераклита, мир —
это живой, дышащий организм. Тем более, что у стоиков,
продолживших позднее линию философствования ионийских досократиков,
«pneyma» как раз и будет толковаться как особая жизнетворная, хотя и
телесная, субстанция (Diog. Laert. VII, 52, 140, 156-159).
У трагиков «pneyma» понимается то как «дуновение», то как «дух».
В частности, у Эсхила встречаются выражения «pneyma bioy» («дух
жизни» и «pneyma anienai» («испустить дух», т. е. умереть), У Еврипида же
найдём даже противопоставление «пневмы» и «тела»:
«...pneyma men pros aithera, to soma d'es gën...»
(Hiketides, 533-534).
Дух (пневма) после смерти должен возвратиться в эфир (aithër),
откуда он пришёл, а тело (soma) — в землю. Дух здесь понимается, по-
102
Эссе о природе человека
видимому, как нечто родственное эфиру — тончайшей невесомой и
неощутимой субстанции.
У Платона в «Федоне» встречается упоминание распространенной
точки зрения, что душа в момент смерти «рассеивается словно пневма или
дым» (70а). Что здесь Платон понимает под «пневмой» не очень ясно, но
скорее всего — выдыхаемый теплый воздух. В любом случае сам Платон
ставит «душу» (psyche), понимаемую им как нечто бессмертное и
бестелесное (asömaton), выше «пневмы», понимаемой как то, что временно
поддерживает жизнь смертного тела. Однако в псевдоплатоновском
диалоге «Аксиох», написанном по всем признакам где-то в конце IV века до
н. э., уже говорится о «божественной пневме» именно как о божественном
духе (theion pneyma), ибо трудно представить себе, что автор диалога
такого рода в выражении «theion pneyma» мог вложить какой-то иной
смысл, кроме духовного. У Аристотеля, напротив, как и следовало
ожидать, понятие пневмы как духа полностью отсутствует.
В ранний период эллинизма, на рубеже IV—III вв., понятие
«божественного духа» становится, по-видимому, достаточно распространённым.
Во всяком случае и у комедиографа Менандра мы встречаемся с таким
удивительным стихом:
«eit esti toyto pneyma theion eite noys»
(484,3)
(«это — либо божественный дух, либо ум»).
Здесь уже не остается сомнений, что поставленная в один ряд с умом
пневма — это дух.
В этот же период в Александрии появляется греческий перевод
Библии — текст «Семидесяти толковников», в котором слово «pneyma»
становится одним из важнейших слов Священного Писания, обозначающих
Дух: «Дух Божий» (Pneyma theoy — Genesis, 1, 2) и «Дух жизни» (Pneyma
dzôës — ib., 6, 17). Позднее, с возникновением христианства идея духа
приобретает значение особой субстанции, одной из трёх ипостасей
единого Бога — ипостаси Святого Духа (Hagion Pneyma, лат. Sanctus Spiritus).
Субстанциализация понятия пневмы происходила, как мы уже отмечали,
и в эллинистической философии, а именно — у стоиков и некоторых
платоников. Например, у Плутарха мы читаем: «to hieron kai daimonion en
moysais pneyma» — «в музах [присутствует] священный и демонический
(или божественный — Г. М) дух» (Plut. 2, 605а).
Субстанциализация духа в эпоху эллинизма и раннего
христианства сопровождалась его, духа, персонализацией. В учении о Св. Троице
Святой Дух понимался не только как одна из трёх Ипостасей, но и как
одно из трёх Лиц Единого Бога. Персонализация духа происходила и вне
рамок тринитарного богословия. На рубеже старой и новой эры
получило широкое распространение древнее анимистическое представление о
неких сверхъестественных существах, влияющих на жизнь человека, —
о добрых и злых духах. В христианство это представление перешло из
Эссе о природе человека
103
Ветхого Завета, где повествуется о чистых и нечистых (падших) ангелах.
Так возникло учение о «нечистом духе» (pneyma akatharton), который
христианами первоначально отождествлялся с духом языческих богов
(daimones), откуда и произошло само название злых духов у христиан —
«демоны». Вместе с тем надо отметить, что вера в злых
персонифицированных духов — демонов у греков , гениев (genii) у латинян — возникла
и в самой языческой среде. Такого рода демонология, дополнявшая
языческую теологию, возможно ведёт своё начало от ученика Платона Ксе-
нократа и во всяком случае от Посидония, если не говорить о древней
мифологии и простонародных верованиях. Литературные и
философские образцы такого рода демонологии дошли до нас от Плутарха и
Апулея. Демонологией увлекались и неоплатоники.
Таким образом, исходя из сказанного, можно сделать вывод, что во
всяком случае в период поздней античности «дух» (pneyma, Spiritus)
рассматривался как нечто самостоятельное по отношению к душе, даже
более самостоятельное, чем ум в философии Аристотеля. Ведь, как мы уже
говорили, к актуальному уму, согласно Аристотелю, наша душа может
приобщаться и собственными усилиями, так как она имеет в себе
умственные способности, которые и позволяют нам (правда, ценой большого
труда) становиться «умными», т. е. познавать и созерцать сущность
вещей. Но мы не можем по своей воле стать духовными ни с точки зрения
позднего язычества, ни с точки зрения христианской. Дух либо даётся нам
вместе с жизнью божественной волей или природой и оставляет нас в
момент смерти, либо соединяется с нами божественной благодатью в какой-
то момент жизни, чтобы просветить или спасти нас.
Христиане приняли учение о Святом Духе, изложенное в Евангелии,
и учение Апостола Павла о трояком делении всех людей по природе или
по направленности воли (это до конца не ясно) на плотских, душевных и
духовных. В обоих случаях дух понимается христианами как любовь и
как свобода. Утрачивая связь с духом, душа рабствует плоти и теряет
способность любить, хотя она при этом может сохранять приобретённый ум.
Подводя итог сказанному в этой части нашего эссе, посвященного
человеческой природе, отметим, что античная философия совершенно
обоснованно выделила в качестве главных видообразующих элементов
этой природы органическое тело и оживляющую его душу со всеми её
многочисленными способностями, включая познавательные и волевые.
Что ум и душа человека — различные субстанции, древние греки
установили благодаря своей прирожденной интуиции, открыв тем самым путь к
обоснованию объективной истинности умозрительного знания. Ведь без
выделения ума из души всякое познание не выходило бы за пределы
феноменов самой же души. Наконец заслугой греков дохристианских, а
затем — и особенно — греков христиан, следует признать установление
независимой ни от души, ни от ума субстанции духа, через причастность
которому человек входит в контакт с божественным началом.
Ведь тело без души мертво, душа без ума слепа и глуха, ибо смотрит
и слушает, но ничего не узнаёт и ничего не понимает. Однако и
приобщённая к уму душа неполноценна, если она не причастна духу, ибо в та-
104
Эссе о природе человека
кой душе нет истинной любви. Ведь даже если я «имею дар пророчества,
и знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы
переставлять, а не имею любви, — то я ничто» (I Коринф., 13).
Типичная ошибка современного человека — смешение понятий
«дух» и «ум». А ведь опыт показывает, что люди бездуховные и даже
просто злые могут обладать хорошими умственными способностями.
Они могут безошибочно рассуждать, произносить убедительные речи,
много знать и многое уметь. Например, они могут прекрасно играть в
шахматы. При этом они даже могут пожертвовать вам слона (чтобы
выиграть партию!), но при этом они не пожертвуют и рубля нищему,
умирающему от голода.
Главный плод ума — знание. Но по словам того же послания
Апостола Павла «знание надмевает, а любовь назидает» (Там же, с. 8). Значит,
дух и ум — вещи разные. Это различие выражается в частности и в том,
что деятельность ума вполне успешно моделируется компьютерами,
настолько успешно, что компьютер может обыгрывать в шахматы
чемпионов мира. Но попробуйте смоделировать дух, совесть, любовь! Пожалуй,
ничего не получится. Значит, наличие ума не есть ещё достаточный
признак «человечности». Вот почему те, которых мы называем умными,
нередко бывают и бесчеловечными. Вообще же в отношении добра и зла ум
нейтрален. Он — орудие воли: на что его направит воля, тем он и
займётся. А воля направляется на то, что мы любим. Значит, любовь и есть то,
ради чего всё. Но истинная любовь — это уже область духа; более того
любовь — это сам дух; а с другой стороны, по слову Апостола, дух — это
любовь. Значит, дух в иерархии человеческих дарований занимает самое
высокое место. Как же соотносится этот дух, дарованный нам свыше, с
основными способностями нашей природы? Ответить на этот нелёгкий
вопрос в данном кратком очерке его автор не берётся и предлагает
читателю пока удовольствоваться простой аллегорией.
Представим себе парусный корабль. Его корпус и содержимое — это
наше тело, парус — душа, кормчий — наш ум. Представим, что корабль
готов к отплытию и кормчий способен вести его к желанной цели. Чего
же не хватает? Не хватает попутного ветра. Желанная наша цель —
достижение подлинного счастья, а попутный ветер, несущий наш корабль к
желанной цели, — это и есть дух. Пока дух отсутствует душа
человеческая либо коснеет вместе со своим телом в ленивой неподвижности, либо
подобно кораблю, застигнутому бурей, бросается из стороны в сторону в
житейском море, сокрушаемая волнами страстей, то взлетая на гребень
волны, то падая в разверзшуюся пропасть, то непомерно возносясь в
приступах своей гордыни, то повергаясь в глубины отчаяния...
Но вот подул попутный ветер духа. Наполненный духом парус несёт
корабль, управляемый умом, к заветной цели и если всё ещё и не
достигает её, всё-таки всё более к ней приближается.
Как ветер не зависит от природы корабля и его паруса, так и дух наш
сам по себе не зависит от особенностей природы человека и свойств
души. Дух и духовность едины для всех и любой может причаститься духу.
Но, что удивительно, не все хотят, несмотря на то, что путь духа — это
Эссе о природе человека
105
единственный путь, ведущий к подлинному блаженству. Кто будет
спорить, что высшее блаженство из всех блаженств — это любовь? И если
духовность, как учит нас наша вера, есть способность любить, то кто же
из здравомыслящих не захочет стяжать себе такие дары духа! И всё-таки
человек изменяет самому себе, отказываясь от настоящего блаженства
ради того иллюзорного, обманчивость которого он уже не раз испытал.
Чем это объяснить? Неужто такова человеческая природа? На этот вопрос
у автора опять нет ответа. Но ему кажется, что он знает ответ на вопрос,
что по крайней мере не надо человеку делать, чтобы он мог удостоиться
даров духа и мог иметь надежду на спасение и счастье. Этот ответ
однажды, в момент печальных раздумий об ошибках и заблуждениях прожитых
лет, выразился в стихах, которыми их автору и хотелось бы завершить
свои размышления о человеческой природе:
Не проси у Бога слишком много;
Что пошлёт, прими, благодаря.
Ближнего суди не слишком строго,
Строгий суд лишь над собой творя.
Зло добром перебороть старайся;
Если ж пересиливает зло,
Ты добавь добра и не сдавайся;
Победив, скажи, что повезло.
Ничего себе не ставь в заслугу
И во всём на Бога уповай;
В час беды и недругу как другу
Свою руку в помощь подавай.
Верных благ не ожидай от мира:
Всё мирское — суета и тлен;
Да не сотвори себе кумира
И страстям не отдавайся в плен!
Не смотри на женщин с вожделеньем:
Знай, — средь них сестра твоя и мать!
Заповедям Божьим и веленьям
Научись с младенчества внимать.
Берегись греха, имей страх Божий!
Грех — источник смерти и стыда.
Будь во всём на Господа похожий,
Будь смирен и кроток, и тогда
Дух Любви обрящешь навсегда.
БЫТИЕ — СУЩЕЕ — СУЩНОСТЬ
Опыт исторического исследования идей
Среди идей, неизменно привлекавших внимание философов,
первое место по праву занимает идея бытия. Знаменитый гамлетовский
вопрос «быть или не быть?» впервые был поставлен и в известном смысле
решен еще Парменидом. Этот вопрос был поставлен в контексте
определения «бытия истинного» и решен Парменидом в форме сильной
дизъюнкции: либо истинное бытие, либо небытие, а третьего не дано.
Всякое же приписывание бытия небытию и наоборот — небытия бытию
он посчитал абсурдом, а смешение бытия с небытием, т. е. становление,
возникновение, изменение и уничтожение, он отнес к области мнимого.
Логика Парменида была гениальна и неопровержима. Однако он не
объяснил, что же такое бытие само по себе: есть ли оно субстанция или
свойство субстанции, или что-то еще? Ведь обычно, говоря о бытии, мы
говорим о бытии чего-то, будь то бытие предмета мысли или бытие
самой мысли о предмете (беспредметной мысли не бывает, хотя
предметом мысли может быть и сама мысль, как это фактически и было у
Парменида). Правда, Парменид ясно говорит нам, что истинная мысль о
бытии и бытие этой самой мысли суть одно и то же. Но это еще больше
усложняет вопрос: ведь в таком случае требуется решить и в отношении
«мысли», есть ли она субстанция или свойство. И если истинная мысль
есть только свойство мыслящей субстанции, то и бытие, которому она
тождественна, должно быть только свойством. Однако — свойством
чего? Той же мыслящей субстанции? Какой-то другой субстанции?..
Если же истинная мысль есть субстанция, то и бытие, ей тождественное,
есть субстанция. Но тогда почему же, говоря о бытии, мы всегда
подразумеваем бытие чего-то? Можем ли мы помыслить бытие само по себе
вне всякой связи с тем, что «бытийствует», — с субъектом бытия?
Парменид, по-видимому, считал, что — можем, хотя никаких доказательств
этого мы у него не найдем.
Следующий этап в освоении идеи бытия связан с именем Платона.
Правда, еще у Левкиппа и Демокрита идеи бытия и небытия были
положены в основание их атомистики, однако эти идеи, переданные им элеа-
тами, рассматривались атомистами не с онтологической, а с
космологической точки зрения, в соответствии с которой бытие отождествлялось с
атомами, а небытие с пустотой. У Платона же, как и у Парменида,
проблема бытия стоит в центре именно онтологии, и эта онтология служит
фундаментом всей его философии.
Великой заслугой Платона следует признать введение в философию
как основополагающих двух лексических производных от «бытия» (to
Бытие — сущее — сущность
107
einai) и онтологически неразрывно связанных с «бытием» понятий:
понятия «сущего» (to on) и понятия «сущности» (oysia). Впоследствии, уже в
эпоху поздней античности, к числу базисных терминов онтологии
присоединится ещё один — «ипостась» (hypostasis), впервые встречающийся
у Аристотеля, однако не имеющий у него значения базисного. Все
названные термины, благодаря прежде всего трудам Цицерона, Викторина,
Августина и Боэция, найдут для себя латинские аналоги и в этой
латинской версии войдут затем в базисный лексикон схоластической
онтологии, а потом — отчасти через посредство самой схоластики, отчасти через
ренессансное прямое обращение к античным источникам — станут
достоянием философии Нового и Новейшего времени. Эти латинские аналоги
таковы: греческому термину «to einai» (бытие) соответствует латинский
«esse», термину «to on» (сущее) соответствует «ens», термину «oysia»
(сущность) — термин «essentia», а также — «substantia»; термину
«hypostasis» (ипостась) — «substantia individualis» (неделимая, т. е.,
«индивидуальная», субстанция), реже — просто «substantia», хотя именно латинское
слово «substantia» есть точная калька греческого слова «hypostasis»
(буквально — «подстояние», «подставка»).
Из всех перечисленных терминов непосредственно в русский язык
перешли потом только два: один — «субстанция» — в философию,
другой — «ипостась» — в богословие.
Вернемся, однако, к Платону. В его учении истинное бытие
противопоставляется не столько небытию, как у Парменида, сколько бытию
неистинному, а именно — способу существования чувственных вещей.
Истинное бытие не начинается, не кончается — оно вечно. Поэтому
говорить о каких-либо внутренних неоднородностях или изменениях самого
бытия лишено всякого смысла. Ведь изменения возможны только во
времени, а вечность не есть время, не есть даже бесконечное время, ибо
вечность — вне времени, она есть просто сама неизменность, абсолютное
постоянство истинного бытия. Таким бытием обладает у Платона только
идеальное. И это совершенно справедливо. Ведь, если для примера мы
обратимся к той области, к которой часто обращался и сам Платон, а
именно — к геометрии, то мы сразу поймем, что идеальная окружность,
определенная как геометрическое место точек на плоскости в эвклидовом
пространстве, равноудаленных от некоторой точки, называемой центром,
обладает вечным бытием и только она является истинной окружностью, а
все то, что мы называем круглым в нашем чувственном мире, в
действительности не есть круглое, но только похоже на круглое, причем степень
этой похожести каждое мгновенье меняется, потому что все в этом
чувственном мире ни на миг не остается неизменным. Из чего следует, что в
чувственном мире нет истинного бытия, но есть только «бывание»,
непрерывное становление из одного другим, а мерой этого бывания и
становления служит время.
Итак, истинное бытие вечно и неизменно, бывание временно и
изменчиво; первым обладают умопостигаемые, идеальные, предметы,
вторым — предметы чувственно-воспринимаемые.
108
Бытие — сущее — сущность
Это общеизвестное положение Платона заставляет нас обратить
внимание на другую фундаментальную идею онтологии, почти не
затронутую Парменидом, — на идею «сущего» (to on), т. е. на идею
субъекта бытия. Ведь как бы мы ни изощрялись в абстрактном мышлении,
мы никогда не сможем помыслить бытие в отрыве от того, что бытийст-
вует, или, выражаясь проще, от того, — что существует, т. е. — от
«сущего». Что такое бытие само по себе, что такое «быть» вне связи с тем,
что этим бытием обладает, понять вряд ли возможно. Недаром Гегель,
выстраивая свою остроумную дедукцию онтологических категорий и
начав ее с идеи чистого бытия (т. е. именно бытия, взятого вне связи с
тем, что им обладает), пришел к выводу, что такое абстрактное бытие
тождественно ничто.
Однако у Платона бытие трактуется двояко: с одной стороны, оно
есть свойство всего истинно сущего, т. е. идеального, с другой стороны,
бытие само есть идея, eidos (особенно в диалоге «Софист»). Как это
понимать? Может быть, так, что у истинного бытия, как и у всякой идеи есть
свое подобие в чувственном мире и это подобие есть «бывание», которое
имеет вид становления, изменчивого существования и перехода в иное
(genesis, alloiösis). И если имеет место такое «бывание» в чувственном
мире, то и для него имеет место свой прообраз в идеальном мире, и этот
прообраз как раз и есть идея истинного бытия. Так же и все остальное, что
имеется в чувственных вещах положительного, получает свое временное
существование (бывание) от вечно сущих идей. Даже само время, в
котором протекает это существование есть, согласно платоновскому «Тимею»,
«подвижный образ вечности», а вечность — это способ бытия идей.
Только чисто отрицательное в собственном смысле принадлежит самим
вещам: неустойчивость, непостоянство, несовершенство формы, разруши-
мость и т. п., но все это не от идей, от причастности к которым вещи
получают свое существование, а от материи, с которой они фатально
сопряжены и которая есть своего рода потенция небытия, «меон» (mê on) —
«не-сущее» в противоположность «сущему» (to on). То, что вещь в своем
изменчивом существовании получает от истинно сущего через
причастность (methexis), уподобление (mimesis) и присутствие (paroysia), есть ее,
вещи, «сущность» (oysia), и эта ее сущность, отвлеченная от меонической
материи и освобожденная от чувственного тумана, созерцаемая одним
только умом, есть идея этой вещи. Так у Платона вводится третий
важнейший термин онтологии — понятие сущности (oysia). Повторяем:
сущность данной вещи и ее идея, ее истинный смысл, тождественны, а
поэтому с утратой своей сущности вещь перестает быть тем, чем она была.
Однако сама сущность с превращением вещи в другую вещь не
уничтожается, как не уничтожается и тождественная ей идея. Таким образом, мир
идей Платона можно толковать как совокупный мир сущностей всех
возможных, всех мыслимых вещей. Сущность есть то, что связывает любое
сущее (to on) и любое положительное качество сущего с их источником —
с истинно сущим, т. е. с совершенным, идеальным сущим, а через него —
с самим истинным бытием и в конце концов — с первоисточником всяко-
Бытие — сущее — сущность
109
го бытия и всего сущего — с непостижимым и неисчерпаемым
сверхсущностным Высшим Благом, которым и ради которого все совершается.
Такой в самом общем виде представляется нам онтология Платона.
Понятие «сущность» в ней определяется через понятие «сущее», понятие
сущего — через понятие «бытие», а понятие бытия остается фактически
не определенным, хотя и оно ставится в «определяющую» его
зависимость от идеи Блага. То, что понятие «бытие» не получает у Платона
формального определения, вполне понятно. Такое его определение
вообще вряд ли возможно. Можно, конечно, сказать, что бытие той или иной
вещи определяется волей Высшего Блага и считать это Благо источником
всякого бытия. Однако тут же встает вопрос: а как понимать бытие самого
этого Блага; ведь Оно же существует? Скорее всего бытие как таковое
постигается нами не логически, путем вывода, а исключительно
интуитивно и даже безотчетно, по аналогии с собственным нашим бытием. А
наше собственное бытие, как верно заметил Августин, а затем
следовавший за ним Декарт, фиксируется нами непосредственно в осознании актов
нашего мышления, воли, чувства, которых, конечно, не было бы, если бы
не было нас самих. Хотя Декарт интуицию нашего бытия выразил в форме
вывода «Cogito ergo sum», на самом деле такого рода интуиция обходится
безо всякой логики. Признание собственного бытия дается нам и,
пожалуй, даже и высшим бессловесным животным уже на уровне инстинкта.
Возможно, что и сущее как сущее мы постигаем чисто интуитивно, или
даже инстинктивно. Ведь даже высшие животные отличают
существующий предмет от несуществующего. И только до сущности предмета мы
добираемся логически, хотя созерцаем эту сущность опять же
посредством интеллектуальной интуиции.
С гносеологической точки зрения «сущность» — это понятая нашим
разумом идея «сущего», т. е. «понятие» (logos, ennoia). В этой связи в
эпоху схоластики, а затем и в Новое время не раз ставился вопрос: можно ли
из сущности, т. е. из понятия, величайшего и совершеннейшего сущего
(существа), под которым все понимают Бога, вывести его реальное
существование? Первым на этот вопрос дал утвердительный и ясный ответ
знаменитый схоластик XI-XII вв. Ансельм Кентерберийский. Этот ответ
звучал примерно так: Бог как существо по определению величайшее не
может не включать в свое понятие (в свою сущность) предикат реального
существования, ибо если бы такой предикат в понятии Бога отсутствовал,
то это противоречило бы определению Бога как существа величайшего. В
другом варианте: Бог — существо совершеннейшее (Ens perfectissimum)
согласно своему понятию; но быть реально — совершеннее, чем быть
только в воображении (подобно тому, как мы воображаем цветущую розу
зимой); следовательно, Бог существует реально. Это доказательство
бытия Бога получило название «онтологического». Впоследствии Декарт, а
потом и великий Лейбниц пытались усовершенствовать это
доказательство. В частности, Лейбниц считал необходимым сначала доказать
логическую возможность понятия «всесовершенного существа», и только после
этого переходить от его возможности к его существованию. При этом
Лейбниц доказывал возможность такого существа тем, что все предикаты,
110
Бытие — сущее — сущность
входящие в понятие всесовершенного существа, суть положительные
предикаты, включая и предикат существования, а поэтому они все
совместимы друг с другом, и понятие такого существа непротиворечиво, а
следовательно, и возможно. Однако для перехода от возможности бытия
Бога к Его действительному существованию Лейбниц пользовался уже не
аргументом Ансельма, а своим законом достаточного основания.
Еще задолго до Лейбница аргумент Ансельма был отвергнут двумя
крупнейшими схоластиками: Фомой Аквинским и Дунсом Скотом. Смысл
их контраргументации сводился фактически к тому, что бытие
(существование) не может быть предикатом понятия; иными словами, сущность не
может включать в себя существования, а следовательно, существование
(бытие) не может быть выведено из сущности, т. е. из понятия вещи.
Позднее подобная аргументация против онтологического доказательства
была детально разработана Кантом, который к тому же свел все другие
известные к тому времени доказательства бытия Бога к онтологическому,
и тем самым отверг и их, придя к выводу, что хотя идея Бога есть
необходимая трансцендентальная идея чистого разума, но само существование
Бога есть предмет веры, а не знания.
Таким образом, предпринятый нами экскурс в онтологию более
поздних времен показывает, что те трудности, с которыми столкнулся
Платон при толковании идеи бытия, имели не субъективный характер
некоего недопонимания, но характер вполне объективный: они были
связаны с невозможностью определить бытие через какое-либо понятие более
высокого статуса в логической иерархии. Ведь поставить идею бытия под
производительную мощь идеи Блага, еще вовсе не значит определить
понятие бытия или, как якобы выражался Аристотель, понять «суть бытия»
(так неверно переводят у нас его выражение «to ti en einai»). Вообще надо
сказать, что никакого понятия бытия нет и быть не может, а есть только
идея и интуиция бытия. Ведь понять бытие можно было бы только через
другие, более высокого уровня онтологические понятия, а таких нет и
быть не может, ибо ближайшие к «бытию» понятия «сущего» и
«сущности» сами уже предполагают идею бытия.
Говоря об онтологии Платона, нельзя опустить и еще одного
важного нововведения, а именно — его понятия «вещи самой по себе», или
«вещи в себе», в установлении которого Платон намного опередил всех
своих последователей и на два тысячелетия опередил Канта.
Известно, что учение Платона об идеях-эйдосах было ответом на
поставленный им вопрос: что стоит за всеми нашими изменчивыми
чувственно-конкретными и рассудочно-ограниченными представлениями и
понятиями о вещах, особенно о тех, которые имеют для человечества
особую значимость, таких, как «благо», «красота», «истина»,
«справедливость» и т. п. С помощью виртуозно применяемой сократической
диалектики, своего рода феноменологической редукции и самоуглубляющегося
умозрения (созерцания умом своего предмета) Платон возводил своего
читателя в область чистого умопостигаемого бытия, «идеального» как в
смысле своей полноты и совершенства, так и в смысле своей
нематериальности. При этом материя как раз и понималась Платоном как начало
Бытие — сущее — сущность
111
небытия и как своего рода причина изменчивости, пространственной
распределенности и дефективности формы чувственно-воспринимаемых
вещей, служащих лишь отдаленными временными подобиями своих эйдо-
сов. А все то, что есть в вещах чувственных положительного, более или
менее устойчивого, оформленного и понятного, они, согласно Платону,
имеют от своей большей или меньшей причастности (methexis) и уподоб-
ленности (mimesis) своим идеальным прообразам, эйдосам, которые в
этих вещах как бы «присутствуют» (paroysia), будучи для них их
сущностью (oysia), причиной (aitia), смыслом (logos) и целью их бытия (telos). В
меру понятности для человеческого ума этих эйдосов, т. е. в меру
способности нашей к созерцанию идей полного, совершенного, истинно-
сущего, мы имеем и понятия (ennoiai) о причастных этим идеям
чувственных вещах. Однако, в силу нестабильности и бесконечного разнообразия
чувственных вещей, истинного знания о них быть не может.
Согласно Платону, по отношению к чувственному возможны в
лучшем случае только правильное мнение (ortha doxa), вера (pistis) и
уподобление (eikasia). Истинное же знание может относиться только к
истинно сущему, а не к его несовершенному подобию,
представленному в чувственных вещах. Что же конкретно понимает Платон под
«истинно сущим»? В диалоге «Пир» (211 а-Ь) он утверждает, что за всеми
проявлениями прекрасного в чувственном мире, всегда частичными,
преходящими, бледными и неистинными, стоит истинно прекрасное,
«прекрасное.., но само по себе, с самим собой единовидное вечно
сущее» (to kalon... all' ayto kath' hayto meth' haytoy monoeides aei on).1 И
все, что представляется нам более или менее красивым в этом
чувственном мире, представляется нам таковым благодаря своей
причастности (methexis) этому «самому по себе» и «в себе» прекрасному.
Следовательно, согласно Платону, узреть красоту в вещах, значит увидеть в
них признаки подобия красоте самой по себе, т. е. «красоте в себе», а
это значит узреть их причастность «виду», «эйдосу», «идее»
прекрасного. В этом эйдосе-виде и заключена вся истинная красота. Сами эйдосы
(eidê auta) как раз и представляют собой истинные и сущностные
причины того, что вещи являются нам именно такими, а не другими. За
пределами чувственности стоит сверхчувственный мир эйдосов-идей:
«некие идеи справедливого самого по себе, прекрасного, благого и
всего подобного этому» (dikaioy ti eidos ayto kath' ayto kai kaloy kai agathoy
kai pantön ay tön toioytön). («Парменид», 130 b). И если покажется, что
речь у Платона идет только о высших категориях этики и эстетики
(Благо, Красота и т. п.), то следует напомнить, что и для
математических предметов и для физических (например в «Тимее») и даже для
самого «подобия», хотя подобие есть способ отношения между вещами и
идеями, у Платона имеются свои эйдосы (см. например: «Парменид»
129 е), а в десятой книге «Государства» он говорит и о единственном
1 В немецком переводе Ф. Шлсйермахера это звучит совсем уже по-кантовски и по-
гегелевски: «...dieses Schöne... an und fur und in sich selbst ewig überall dasselbe seiend...»
(Piaton, Werke, Bd. 3, Wissenschaftliche Buch., Darmstadt, 1990, S. 347.)
112
Бытие — сущее — сущность
для всех кроватей эйдосе «кровати» (kline) (597 с). Более того, в «Пар-
мениде» (130 d-e) по поводу сомнений юного Сократа, можно ли
допустить существование идей для таких пустяшных вещей как «грязь»,
«сор», «волос» и т. п., Платон устами Парменида увещевает Сократа
такими словами: «Ты еще молод, Сократ, и философия еще не
завладела тобой всецело, как, по моему мнению, завладеет со временем, когда
ни одна из таких вещей не будет казаться тебе ничтожной; теперь же
ты, по молодости, еще слишком считаешься с мнением людей» (130 е.
Цит. по изданию А. Ф. Лосева). Однако в том же «Пармениде» Платон
демонстрирует всю сложность для человеческого разума постижения
самого по себе мира идей-эйдосов, и даже антиномичность их единства
и взаимного отношения, что и в этом пункте позволяет считать Платона
предшественником Канта.
Фактически платоновские идеи, как и трансцендентальные идеи
Канта, служащие основой кантовской трансцендентальной диалектики,
представляют не столько результаты, сколько стимулы познания.
Вместе с тем идеи-эйдосы понимаются Платоном, как скрытые от чувств и
рассудка и не зависящие от них умопостигаемые последние основания
мира явлений, т. е. понимаются именно как «вещи в себе», о которых
мы знаем только то, что они существуют независимо от нашей воли и
что они участвуют в нашем опыте, с одной стороны, в качестве его
первопричины, а с другой стороны, — в качестве последней цели.
Здесь Платон и Кант вполне согласны друг с другом. Иначе что могло
бы значить утверждение Канта о том, что «вещи в себе» аффицируют
нашу чувственность? Или — утверждение Канта, что идеи чистого
разума выводят нас за пределы возможного опыта? Разве это не то же
самое, что утверждать вместе с Платоном, что существующие сами по
себе умопостигаемые эйдосы вещей, содержащие в себе всю полноту
их реальности, так или иначе воздействуют на нашу чувственность и
порождают в ней свои несовершенные образы, а при участии нашего
рассудка эти образы упорядочиваются и превращаются в наши понятия
о вещах — понятия столь же далекие от собственной сущности вещей
самих по себе, сколь далеки у Канта понятия о явлениях вещей от
понимания вещей в себе.
Однако мне могут возразить: но ведь Кант агностик и он не
допускает возможности познания вещей в себе. А Платон, напротив, считает, что
только через постижение красоты самой по себе мы познаем все красивое.
Но, во-первых, Платон рассуждает в таких случаях не в терминах
действительности, а в терминах возможности. Ведь он только говорит, что если
бы кто-то постиг прекрасное само по себе, тот мог бы безошибочно
судить о том, что красиво или некрасиво в чувственном мире. Так же и о
благе, но что касается блага, то оно у Платона и вовсе непостижимо. Но
ведь от непостижимого Блага у Платона происходит вся иерархия идей.
Отсюда след непостижимости переносится и на все другие идеи, а
поэтому на всю систему Платона как бы падает тень агностицизма, и это
особенно заметно в таких диалогах Платона, как «Софист», «Парменид»,
«Теэтет», а также в его письмах.
Бытие — сущее — сущность
113
Таким образом, попытки Платона и Канта противопоставить вещи
сами по себе (в себе) доступным нашему восприятию явлениям,
приводят обоих мыслителей к своего рода агностицизму, а попытки выйти в
сфере чистого разума к вещам в себе приводят их к антиномиям: у
Платона эти антиномии сформулированы в «Софисте» и «Пармениде», у
Канта — в «Критике чистого разума». Отличие Канта от Платона здесь в
том, что для Платона антиномичность мышления — признак его
движения вперед, к нескончаемому углублению познания (через тернии — к
звездам!). У Канта же антиномии имеют характер запретительных
сигналов. И это вполне соответствует различию их темпераментов: Платон
в философии — поэт, Кант, вне всякого сомнения, в философии —
ученый профессор. И все-таки между ними много общего и прежде всего их
объединяет идея «вещей самих по себе» («вещей в себе»),
противопоставленная идее «вещей для нас», т. е. явлений.
Заметим, однако, что указанное противопоставление «вещей в себе»
и «явлений» имело у Платона и Канта несколько различный смысл.
Платон понимал «вещь саму по себе» как истинно сущее и как самое
сущность того, что нам является в чувственном мире. Более того, Платон
именно «вещи сами по себе», и только их, наделял истинным бытием, т. е.
бытием вечным и полным и неизменным. Напротив, Кант отнял у «вещей
в себе» и истинность, и сущность, и даже бытие, сославшись на их
абсолютную непознаваемость и представив их как некий «х», который
воздействует на чувственность и каким-то чудесным образом приводит в
движение всю систему познания, не оставляя в ней при этом никаких
собственных следов.
Понятие «вещи самой по себе» употреблялось довольно часто после
Платона еще до Канта, особенно в латинской схоластике. Например, у
Дунса Скота оно употребляется в нескольких различных языковых
выражениях. Как и у других схоластиков, у Дунса Скота чаще всего
встречается форма «res per se» — «вещь сама по себе». Но, кроме того, он
употребляет и выражения «res de se» — «вещь в отношении самой себя» и «res in
se» — «вещь в себе». Первая форма: «res per se» обычно передает смысл
вещи, рассмотренной вне связи ее с другими вещами. Вторая форма почти
платоновская: «res de se» чаще выражает то, что вещь такова в силу ее
собственной сущности. Наконец, «res in se» толкуется у Дунса Скота уже
почти по-кантовски: как «вещь в себе» в отвлечении от ее внешних
проявлений, или явлений нашему сознанию.
Никогда не выходили из философского употребления и другие
названные выше платоновские термины. Например, термин eidos — один из
важнейших у Аристотеля, но Аристотель употребляет его в ином
значении, чем Платон: «eidos» у Аристотеля — это «форма» или
классификационный «вид». Зато термин «idea» он не жалует и употребляет всегда в
контексте критики теории идей. Термин «oysia» — «сущность» особенно
широко применяется Аристотелем как в метафизике, так и в логике. Столь
же широко применяются им термины «to on» — «сущее» и «to einai» —
«бытие». В дополнение к этим базисным терминам Аристотель вводит
114 Бытие — сущее — сущность
понятия «to ti en einai» и «to ti esti» также обозначающие сущность.
Онтологическим словарём Платона плодотворно пользовались неоплатоники.
В последующие века, как мы уже говорили ранее, к этим базисным
терминам онтологии мало что добавилось, разве только то, что они
отчасти были переведены на латинский язык и легли в основу онтологии
Средних веков и Нового времени. Помимо Канта, высоко ставившего Платона
(хотя, как мы убедились, довольно сильно от него отклонившегося),
онтологическими понятиями Платона пользовались Шлейермахер, Гегель и
Шеллинг, а в новейшее время — Гуссерль и Хайдеггер, Николай Гартман,
Уайтхед и Сантаяна. Впрочем, важнейшее у Платона понятие вещи самой
по себе, как и кантовское понятие вещи в себе в новейшей философии
почти полностью забыто. Сегодня эти понятия вспоминают едва ли не
одни только историки.
ОПЫТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИИ ИДЕЙ
В ПОЗНАНИИ
Собственным элементом софийного мышления служит не понятие
в его формальной и содержательной определенности, а то, что
обыкновенно называется идеей. Обычный язык — единственный источник и
критерий осмысленности языка философского — даёт нам ближайшую
возможность почувствовать смысловое различие между словами
«понятие» и «идея». Когда мы говорим: «Мне на ум пришла идея», «Он
одержим идеей», «Его осенила идея», «Навязчивая идея», «Отдать жизнь за
идею», «Идеи правят миром» и т. п., во всех этих высказываниях мы не
можем слово «идея» заменить на слово «понятие» без изменения или
даже полной утраты смысла. Следовательно, эти два слова — далеко не
синонимы. Похоже, что под «идеей» здесь подразумевается не что-то
осуществлённое, определённое, законченное, понятое, а нечто такое, что
ещё только требует своего осуществления, определения и понимания —
некий ещё не структурированный замысел, проект, стимул мысли, causa
effîciens и causa finalis мышления. Доведение идеи до понимания (когда
это возможно) и есть выражение её в понятиях (концептах) или системах
понятий (концепциях).
Одно дело, когда физику впервые приходит на ум идея
сверхпроводимости, и другое — когда он, руководимый этой идеей и вдохновляемый
ею, создаёт теорию сверхпроводимости, выраженную в точно
определенных понятиях.
С некоторой натяжкой можно даже утверждать, что любой
творчески одарённый человек, — будь то математик, физик, художник, поэт или
кто-то другой, — в момент, когда его «осеняет идея», испытывает
состояние философа, или же, если выражаться языком Платона, — состояние
философского «неистовства», которое, правда, как только этот человек
переходит к реализации этой идеи, сменяется нормальным состоянием
рассудочной трезвости, которое не исключает даже и презрения к
философии. Так обстоит дело в повседневной жизни. Идеи могут «приходить
нам на ум», но могут и покидать нас. В этом последнем случае мы обычно
говорим: «У меня была идея...».
Однако далеко не все идеи могут быть выражены в понятиях, ибо
не все предметы, относительно которых мы имеет идеи, могут быть до
конца поняты. Класс идей, допускающих полное выражение в понятиях,
ограничен довольно узкой областью идей абстрактных предметов. Такие
предметы поэтому и называются часто «идеальными», например:
«идеальная окружность», «идеальное государство», «идеальный человек» и
т. п. Подобные предметы, хотя и не существуют в действительном мире,
могут быть поняты, т. е. выражены в понятиях посредством
определений, также составленных из абстрактных понятий. Другое дело — пред-
9*
116
Опыт определения функции идей в познании
меты конкретные. Само слово «конкретное» происходит от латинского
«concretum», что означает «сращённое», т. е. нечто такое, в чём все
части и части частей, все свойства и состояния неразрывно связаны друг с
другом, а вместе с тем прямо или косвенно связаны и со всем остальным
действительным миром. Именно в силу этой их включённости во
всеобщую связь, в связь всего со всем, конкретные предметы никогда не
могут быть поняты до конца, а следовательно, и всякое познание их в
понятиях никогда не может стать завершённым и полностью истинным, но
всегда остаётся в лучшем случае только более или менее вероятным.
Кроме того, конкретные вещи в отличие от абстрактных существуют вне
нашего ума, и поэтому мы можем знать о них только то, как они нашему
уму являются, а не как они существуют сами по себе, т. е. как «вещи в
себе»1. Впрочем, и сам наш ум, взятый во всей своей конкретности, есть
тоже «вещь в себе». Правда, мы имеем известную возможность выхода
непосредственно к «вещам в себе» в практическом и творческом
действии, а значит, казалось бы, и возможность корректировать наши понятия
о них. Но парадокс в том, что даже наше прямое и непосредственное
взаимодействие с «вещами в себе» мы в конце концов воспринимаем
тем же умом и воспринимаем в той же форме явления, а не само по себе.
Кроме того, никакое наше действие с конкретным предметом, не может
выявить всей полноты его внутреннего содержания, ибо это содержание
неисчерпаемо именно в силу его конкретности. Осознание всего этого
как раз и приводит нас к идее того, что ещё не познано и не может быть
до конца познано и на что, тем не менее, в первую очередь нацелен
процесс познания. Точнее говоря, идея «вещи в себе» даже предшествует
нашим попыткам познать эту «вещь» в понятиях, ибо идея задаёт
познанию его предмет как задачу, а понятия суть искомые результаты
решения этой задачи.
Термин «вещь в себе» может, правда, ввести в заблуждение. Ведь мы
привыкли вещами называть нечто вне нас находящееся и даже нечто
материальное («вещественное»). Но в данном случае этот термин имеет
более широкое значение: им обозначается всё конкретное, не важно —
материальное или духовное, внешнее нам или внутреннее. Например, вещь в
себе — это я сам, но не в том виде, как я сам себе представляюсь, а в том
виде, каков я на самом деле, во всей неисчерпаемой полноте и истине
своего бытия, во всей своей жуткой бездонности и самому-себе-
непонятности.
Итак, идея есть заданность «вещи самой по себе» в сознании, задан-
ность её во всей её полноте и конкретности. С идеи начинается процесс
познания и она же служит ему целью, ибо целью познания как раз и
является знание того, каковы вещи на самом деле. Идея же контролирует
эффективность наших понятий, указывая нам на то, в верном ли
направлении идёт процесс понятийного приближения к «вещи в себе» как объекту,
пригодно ли данное понятие для выражения какого-то объективного мо-
1 О происхождении и последующей истории термина «вещь в себе» см. раздел
«Бытие, сущее, сущность» данной книги.
Опыт определения функции идей в познании 117
мента вещи. Идея подобна математической функции, которая разлагается
в бесконечный сходящийся ряд, где члены разложения — это понятия.
Имплицитно такая функция содержит в себе всю совокупность этих
неисчислимых членов. Точно так же и идея конкретного потенциально
охватывает совокупность всех возможных истинных понятий о предмете.
Лейбниц, когда-то специально занимавшийся проблемой познания
индивидуально-конкретного, называл такую совокупность «полным
индивидуальным понятием» (notio compléta individualis). Достижение такого
понятия означало бы исчерпывающее познание того, что потенциально
содержит в себе идея предмета. Однако тот же Лейбниц убедительно
доказывал, что такого рода познание недостижимо для человека в силу
бесконечной сложности индивидуально-конкретного, отражающего в себе, как
в зеркале, всю сложность действительного мира. Поэтому Лейбниц
считал, что таким понятием, адекватным конкретному объекту, на который
указывает его, объекта, идея, обладает только Бог. Действительно,
доведение всего того, на что указывает идея, до уровня понятий, т. е. до
точного и определённого понимания, означало бы достижение абсолютного
знания конкретного, т. е. означало бы исчерпание неисчерпаемого, что,
конечно, не в человеческих силах. Но если предположить невозможное,
т. е., что бесконечное познание конкретного доведено до конца,
результатом этого было бы достижение полного тождества понятия и идеи, а
значит — и полной понятности идеи. В действительности же идеи
конкретных вещей всегда остаются не вполне понятными, хотя они в то же время
могут быть психологически более или менее ясными и отчетливыми, ибо
сама природа идей такова, что она постоянно требует ясности и
понимания, а это как раз и стимулирует процесс образования,
совершенствования, смены и взаимодействия понятий.
Идея — материнское лоно понятий, их кормилица, наставница и
предводительница. Понятия — её порождения, причём не всегда ей
подвластные, ибо понятия нередко выходят за указанные им идеей пределы, и
тогда познание отходит от своего предмета, а следовательно, и от истины.
Сами же идеи не могут в строгом смысле быть истинными или ложными.
Их природа символическая, как символы идеи могут быть только более
или менее выразительными. Ведь идея ничего не высказывает о своём
предмете (а истинность и ложность — свойства высказываний), она на
него только указывает и подразумевает его во всей его конкретности и
многозначности, не претендуя ни на какие однозначные оценки, ни на
какой анализ.
Идея — стимул мышления, понятия — его результат. Идеи
представляют в нашем сознании саму действительность; понятия —
представляют в нём наше понимание этой действительности. Идеи — порождения
разума, интеллектуальной интуиции; понятия — порождения рассудка,
результат рассуждения. Именно благодаря интеллектуальной интуиции и,
пожалуй, ещё благодаря врождённому инстинкту мы способны выходить
за пределы чувственных явлений и устремляться к «вещам самим по
себе», ибо никакие логические действия рассудка не могут нас к ним
вывести. Ведь границы применения нашего рассудка, как верно определил их
118
Опыт определения функции идей в познании
Кант, — это границы чувственного созерцания. Иными словами, рассудок
наш всегда ограничен в своих законных суждениях тем, что явлено в
чувствах или может быть явлено. Но явленное в чувствах — это ведь не
«вещь сама по себе», а только её чувственный образ, т. е. нечто
чувственное, субъективное, и никакой рассудок не способен установить тождество
этого чувственного образа с вещью самой по себе; ибо никакой рассудок,
не впадая в противоречие с самим собой, не может выйти за пределы
чувственного опыта. Утверждать, что рассудок способен судить о степени
тождества чувственного образа вещи и самой вещи, значит утверждать
абсурд. Ведь, чтобы сравнить «вещь саму по себе» с её чувственным
образом, рассудок должен был бы каким-то чудесным способом выйти за
пределы познающего субъекта, дабы судить о ней независимо от чувств, что
само по себе абсурдно. Но ещё более абсурдным указанное утверждение
представится, если учесть то, что рассудок и в этом случае имел бы перед
собой не «вещь в себе», а опять же только некое её восприятие, ибо разве
смог бы даже такой сверхъестественный рассудок судить о «вещи в себе»,
её не воспринимая.
Идеи начинают, ведут и завершают процесс познания. Начинают,
ибо если у вас нет идеи того, что именно вы хотите познать, вам нечего
будет и познавать. Ведут, ибо, если у вас возникла идея предмета,
который вы хотите познать, то эта идея будет руководить всеми вашими
действиями в процессе познания от его начала до его окончания. Завершают,
ибо, если процесс познания направлен на абстрактный объект, то этот
процесс закончится только тогда, когда всё, что потенциально содержится
в идее этого объекта, будет познано, понято, выражено в понятиях; если
же речь идёт об объекте конкретном, который по самой своей природе,
как мы уже говорили, не может быть познан окончательно, то в этом
случае процесс познания завершается той же идеей, с которой он и
начинался, с той лишь разницей, что в начале процесса идея выступала только в
качестве его стимула и цели, а в конце его она выступает в качестве меры
его результативности. Ибо, когда мы видим, что все наши попытки
получить исчерпывающее понятие о конкретном предмете не дают искомого
результата, мы видим это, благодаря сопоставлению полученного на
данный момент понятия о предмете с его исходной идеей.
Помимо идей, относящихся к сфере познания, существуют также
идеи творческие и практические. Механизм действия этих идей — тот же,
что и у познавательных. Сначала у поэта или художника рождается идея
будущего произведения, а затем он начинает воплощать её в слове или
красках. Сам процесс этого воплощения также регулируется идеей. При
этом от идеи, осенившей художника, до её воплощения в произведении,
как правило, — большая дистанция. Идея всегда богаче её чувственного
воплощения; поэтому гений — подлинный носитель идей — редко бывает
доволен своими творениями. Отличие творчества от познания состоит в
том, что истинный художник (поэт, живописец, композитор и т. п.) не
только ориентируется в своём творчестве на «вещь в себе», но и сам
творит её, как бы вкладывая в создаваемое произведение часть своей души.
Опыт определения функции идей в познании 119
Поэтому произведения великих художников оказываются столь же
неисчерпаемыми для познания, как и все другие «вещи в себе».
Что же касается идей практических, имеющих отношение к
поведению человека в обществе: моральных, политических, экономических,
юридических и т. п., то надо сказать, что и они, как идеи, наделены
регулятивной, направляющей функцией. Таковы идеи добра, справедливости,
пользы, свободы, равенства, человеколюбия и многие другие, на которые
с разной степенью их понимания ориентируются люди в своих
взаимоотношениях и которые никогда не могут быть вполне реализованы в
эмпирическом мире.
ВОСТОК И ЗАПАД В ЕВРОПЕ
Разделенность Европы на восточную и западную, ощутимая и в наше
время, стала историческим фактом уже в античную эпоху. Уже тогда эта
разделенность воспринималась самими европейцами не просто как
географическая условность, а как следствие существенных различий в
психологии, образе жизни, способе мышления, мировоззрении и системе
ценностей народов, населяющих каждую из этих частей Европы.
Поскольку цивилизованное пространство Европы ограничивалось
тогда Средиземноморьем, антитеза Восток—Запад первоначально
относилась в основном к двум вышедшим на арену истории народам: грекам и
римлянам. Имеется множество античных свидетельств того, что древние
греки и римляне хорошо понимали несходство и даже противоположность
своих менталитетов. Со временем каждый из этих народов перенес
существенные черты своего менталитета на другие племена Европы: греки —
на восточные, римляне — на западные. Этим во многом была
предопределена последующая европейская история.
Если судить по древнейшим памятникам греческой и римской
словесности, каковыми у греков являются поэмы Гомера и Гесиода, а у
римлян значительно более поздние «Законы двенадцати таблиц», то можно
уже по одному только жанровому их различию заключить, что в
менталитете греков изначально преобладает воображение, а в менталитете
римлян — практический рассудок. Правда, некоторое сомнение
относительно такой оценки может вызвать Гесиод. Ведь этот второй после
Гомера греческий эпический поэт был автором «Трудов и дней» — поэмы,
имеющей характер практического руководства по сельскому хозяйству и
крестьянскому быту. Однако, не говоря уже о том, что и в этой поэме
немалую роль играет фантазия, — особенно в мифологических пассажах
и в описании хода истории, — в другой поэме Гесиода, в «Теогонии», его
воображение разыгрывается в полную силу, формируя на многие
столетия своеобразный канон греческой мифологии и теологии. Что же
касается «Трудов и дней» в той их части, где Гесиод детально расписывает
календарь сельскохозяйственных работ, не следует забывать, что их
автор — гениальный крестьянин-самородок из глухой деревни Аскра и к
тому же не коренной грек.
Так или иначе, последующая древнегреческая литература от ранней
лирики до классической драмы Эсхила, Софокла и Еврипида и, далее, до
ученой александрийской поэзии, только подтверждает нашу мысль о том,
что одной из типических черт греческого менталитета было
исключительно развитое воображение.
Напротив, у римлян художественная литература в высоком смысле
художества, невозможного без развитой фантазии, появляется
сравнительно поздно, и она появляется как подражание эллинской именно с
Восток и Запад в Европе
121
того момента, когда римляне вступают в первые контакты с греческой
цивилизацией. Ярким примером такой подражательности может
служить первый значительный латинский поэт Квинт Энний. Да и в
последующие времена, даже на вершине своей славы, римская
художественная литература сохраняет свою зависимость от греческой. Вергилий в
«Энеиде» подражает Гомеру, в «Георгиках» — Гесиоду, в «Эклогах» —
греческой александрийской поэзии (Феокрит). Греческая поэтическая
мифология в обработке Каллимаха лежит в основе «Метаморфоз»
Овидия, а его элегии в жанровом отношении восходят к греческим элегиям
эпохи классики и эллинизма. Александрийская поэзия оказала
сильнейшее влияние на «неотериков» во главе с Катуллом, на Тибулла и
особенно на Проперция, который сам считал себя последователем
Каллимаха. Даже, пожалуй, самый римский из поэтов, Гораций, в своих
«эподах» опирался на Архилоха, а в «сатирах» на греческую диатрибу.
Сильно зависит от греческой и римская драма (Пакувий, Акций).
Воздействие греческой литературы на римскую не прекращается и в
последующий период, вплоть до конца античности.
Нечто подобное характерно и для изобразительного искусства
римлян и для их архитектуры. Однако здесь римляне проявили больше
самостоятельности. В живописи и особенно скульптуре они
прославились в таком жанре, как реалистический портрет. То, что именно в этом
жанре римляне проявили в наибольшей мере свой талант, опять же было
связано с особенностями их менталитета, а именно с их практичностью
и реализмом во взглядах на вещи, а также со своеобразным
индивидуализмом — т. е. с теми чертами, которые будут характерны потом для
всей западной цивилизации. Однако, проявляя свою самобытность в
портретном искусстве, римляне в то же время неустанно копировали
идеальные образцы греческой скульптуры, так что большая часть того,
что дошло до нас от этой скульптуры, представляет собой римские
копии. В архитектуре одним из изобретений римлян обычно считается
купол. Этот элемент архитектуры впоследствии, в византийский период,
чаще, правда, применялся (особенно при строительстве храмов)
греками, чем его латинскими изобретателями. (Впрочем, купол еще до
римлян был известен народам древнего Востока). Но римляне, несомненно,
проявили свою оригинальность в архитектуре общественных зданий, в
строительстве многоэтажных жилых домов, триумфальных арок и т. п.
Подводя итог сказанному, можно заключить, что и в искусстве, как и
в литературе, греки были первооткрывателями и в то же время
классиками, а римляне по большей части подражателями и продолжателями, пусть
даже очень талантливыми и обладающими хорошим вкусом. Хотя,
разумеется, в рамках собственно римской и вообще латинской культуры о
таких поэтах, как Вергилий или Гораций, или о таком, например, теоретике
архитектуры, как Витрувий, да и о многих других знаменитых римлянах,
можно смело говорить, как о классиках и первопроходцах. Что же
касается их последующего влияния на культуру европейских народов, то надо
признать, что в целом влияние греков не намного превосходит влияние
122
Восток и Запад в Европе
римлян, а в отношении западных народов римское влияние во всяком
случае не меньше греческого.
Вернемся, однако, к самим грекам. Наряду с исключительно
развитым воображением греческому менталитету были присущи и такие
черты, как чувство слитности с природой, созерцательность и
любознательность. Это, в частности, выразилось в том, что архитектура древних
греков, их города и селения были, как правило, прекрасно вписаны в
пейзаж; их любовь к познанию и созерцанию сделала из них нацию
странствующих, а в единстве с их тягой к первоосновам — нацию
философов. Легендарные мифопоэтические образцы странствующих
греков — это Одиссей и аргонавты. Однако греки странствовали не только
в воображении. С древнейших времен они действительно славились как
прекрасные мореплаватели. Странствуя по морям в поисках красоты,
новизны, приключений и нечаянного счастья, они основали свои
мирные колонии в самых живописных местах Южной Европы: от берегов
Крыма и Кавказа до берегов Италии, южной Галлии, Испании и
северной Африки; они расселились в приморских областях Малой Азии и
едва ли не на всех островах Средиземноморья. При этом у нас нет
оснований утверждать, что невиданная по своим масштабам ранняя
греческая колонизация осуществлялась исключительно или даже главным
образом силой оружия, сопровождаясь обращением покоренных
народов в рабство. Напротив, факты истории говорят о том, что эта
колонизация чаще всего происходила вполне мирно, и греки покоряли
аборигенов своих колоний не столько силой оружия, сколько «Одиссеевой
хитростью» (которой у них не отнять), изобретательностью и, конечно,
притягательной силой своей культуры. В этом отношении раннегрече-
ская цивилизация не идет ни в какое сравнение с более поздним
распространением в мире римского владычества: оно почти всегда
осуществлялось силой оружия.
Своей прирожденной созерцательности и любознательности греки
обязаны и тем, что именно им принадлежит честь открытия и
первоначальной разработки целой системы наук, служащих и по сей день основой
человеческой образованности. Среди них науки математические и
«физические» (естественные), такие, как наука о числах («арифметика»), наука
об измерении («геометрия»), наука о гармонии («музыка») и наука о
небесных светилах («астрономия»), а также механика, гидростатика,
география, зоология, ботаника и медицина. Кроме того, они создали и цикл так
называемых гуманитарных наук, в числе которых «диалектика»,
«грамматика», «риторика», а также поэтика, историография, этика, наука о
государстве и праве. Римляне, если что и добавили к этим наукам от себя, все
же неизменно шли по стопам греков. Как и следовало ожидать, они
превзошли греков, пожалуй, только в юриспруденции и, может быть, еще в
некоторых науках практической ориентации, таких, как военное дело.
Кроме того, они пошли дальше греков в благоустройстве городов, в
строительстве дорог, мостов, водопроводных систем (акведуков) и
вообще в рационализации и благоустройстве общественной и частной жизни.
Они привили человечеству потребность в комфорте и удобствах.
Восток и Запад в Европе
123
Что же касается философии, то здесь греки всегда оставались
недосягаемыми, и римляне могли только восхищаться творениями греческих
философов, либо, в лучшем случае, подражать им и воспроизводить их
учения, как это делали Цицерон, Лукреций и Сенека. Открытие и развитие
философии вплоть до ее совершенных классических форм — несомненно,
величайшая заслуга греков. Ни одна нация за всю последующую историю
не дала миру столько великих и влиятельных философов, сколько их дали
греки. К философии греков привела не только их природная
любознательность и не только их склонность к созерцанию, которое по-гречески
именуется словом theöria (теория), почти созвучным со словом theos (бог).
Греков привела к философии еще одна черта их менталитета —
неудовлетворенность конечным, временным, относительным и устремленность к
бесконечному, вечному и абсолютному. Ведь эта устремленность как раз
и реализуется в философии и только в философии, тогда как прямой
контакт с Абсолютом достигается, по-видимому, только через религиозную
веру и религиозное чувство. Начиная с Фалеса, и в продолжение всей
своей истории древнегреческая философия ищет первоначала и
первопричины всего сущего, двигаясь от признания таковыми телесно-чувственных,
хотя в то же время живых и одушевленных, стихий к признанию
первичности сверхчувственного идеального1, а затем — у Платона и особенно у
неоплатоников, начиная с Аммония и Плотина, — к установлению в
качестве первоначала не только сверхчувственного, но и сверхразумного
Единого Блага, непостижимого Бога-Абсолюта.
Неоплатонизм явился завершающим синтезом всей античной
философии. Поэтому в его учении, кроме всего того, что перешло в него из
философии Платона, присутствуют в том или ином виде существенные
элементы и философии Аристотеля, и философии стоиков — двух самых
влиятельных, после платоновской, философских систем в эпоху поздней
античности.
У Аристотеля, как известно, имеется учение о четырех причинах
сущего. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что
«материальная причина» в его понимании не имеет действительного бытия и
представляет собой только его возможность, а три остальные причины,
делающие всякую вещь действительной, т. е. «формальная», «движущая»
и «целевая», возводятся им в конечном счете к единой первопричине, к
«единому богу», который есть форма всех форм, неподвижный перводви-
гатель и наивысшая цель для всего существующего. Кроме того, будучи
формой всех форм, аристотелевский «бог» есть «мышление, мыслящее
самое себя», так как чистая форма в отрыве материи, есть не что иное, как
чистая мысль, или понятие. И хотя Аристотелю, по-видимому, очень хо-
1 Уже у Анаксимандра его «алейрон» имеет сверхчувственный характер, ибо в нем как
источнике всего все находится в неразличимой слитности, а поэтому и не может быть
воспринято чувствами. У Гераклита Космос устрояется «художественным огнем» и Логосом,
которые вряд ли можно считать чем-то чувственным. У Парменида и Зенона Элейского
чувственное отождествляется с «мнимым», а истинным признается только единое идеальное
бытие. У Анаксагора устроителем и двигателем мира вещей является Ум, у Эмпедокла —
Любовь и Вражда.
124
Восток и Запад в Европе
телось представить своего «бога» как имманентного миру и лишить этого
«бога» не только достоинства платоновского непостижимого «Отца», но и
достоинства платоновского «Демиурга», а тем самым и реализовать свою
навязчивую идею отмежеваться от Платона, ему, Аристотелю, это сделать
все-таки не удалось, ибо все вышеприведенные определения
аристотелевского «бога» выводят его за пределы чувственного мира, хотя и не
лишают его свойства умопостигаемости. Впоследствии неоплатоники назовут
аристотелевского «бога» «вторым богом», т. е. «Умом», занимающим в их
философии место «второй ипостаси», заключающей в себе как все
мыслящее, так и все мыслимое, умопостигаемое.
В трактовке своей «третьей ипостаси», или «третьего бога»
неоплатоники использовали имманентизм стоиков. Ведь у стоиков, которые
исповедовали вполне последовательный пантеизм, «бог» есть сам мир,
рассмотренный с точки зрения всех его порождающих
(«производительных») сил и с точки зрения его внутренних законов. Эти
порождающие и движущие силы мира, силы природы, охватываются у
стоиков единым понятием мирового духа («пневмы»), а все его, мира,
внутренние законы — понятием мирового смысла — «Логоса». Этот Логос
рассматривается стоиками также как правящее Начало — «Гегемони-
кон». Объединение понятий управляющего «Логоса» и производящей
«Пневмы» приводит стоиков к идее божественного Провидения, т. е. к
признанию того, что все в этом живом, наполненном смыслом,
охваченном всеобщей взаимосвязью и взаимным «со-чувствием» (sympa-
theia) мире происходит по изначально установленному самой природой
плану, и что даже все движения воли человеческой заранее
предопределены Провидением в мировом Логосе, подобно тому, как в семенах
растений и семени животных уже предопределены все особенности
устроения и поведения будущих организмов (теория «сперматических
логосов»). Из этого проистекает стоическая концепция судьбы и свободы.
Свою судьбу человек изменить не может, но он может стать
свободным, если смиренно примет предназначенную ему Провидением роль в
этом мире и будет добровольно и с охотой исполнять ее, ибо по
выражению Хрисиппа, переданному нам на латинском языке Сенекой, «vo-
lentem ducunt fata, nolentem trahunt» — «желающего судьбы ведут,
нежелающего тащат».
Таковы стоики. В поисках безусловного первоначала они
обоготворили природу и попали в ловушку фатализма. Свободу они
сохранили только как добровольное приятие человеком своей судьбы и
проистекающее отсюда беспрепятственное (свободное в этом смысле) действие,
сообразное своей судьбе. Это, конечно, была героическая и
благочестивая мораль, ибо она предписывала в любых обстоятельствах действовать
сообразно божественному Провидению. Однако пантеизм стоиков
снижал достоинства такой морали, ибо покорность судьбе давала им только
иллюзию свободы, так как подобная свобода означала смирение перед
безличными силами природы и фактически превращалась в рабство
необходимости. Нечто на первый взгляд внешне сходное со стоической
трактовкой соотношения человеческой свободы и Провидения мы ветре-
Восток и Запад в Европе
125
тим и в христианстве. Однако там отношение между человеком и
Провидением будет пониматься как отношение между двумя свободными
личностями — между личностью Бога и личностью человека, а поэтому
понятие свободы приобретет совершенно иной смысл. Более того,
христианское учение о Боге-Личности с самого начала станет фактором
ослабления влияния стоического фатализма.
Неоплатонизм, вобравший в себя отдельные идеи стоиков, как
известно, явился на свет через два века после возникновения христианства. К тому
же влияние стоических идей ограничивалось у неоплатоников в основном
теорией третьей ипостаси, т. е. Мировой Души, которая у Плотина, как и у
стоиков есть царство природы. Сама Мировая Душа, содержащая в себе все
«логосы» (смыслы) существующих во времени вещей и все индивидуальные
души, порождающая в себе все явления чувственного мира, именуется за это
у неоплатоников, как мы уже говорили, «третьим богом». Однако, хотя эта
Мировая Душа имманентно, как и у стоиков, присутствует в природе, творя
и сами вещи и их чувственные образы, она лишена в учении неоплатоников
той автономии, которой у стоиков наделена производительная пневма. То же
можно сказать и о структурирующих чувственный мир и придающих вещам
этого мира временную форму «логосах» (logoi). В неоплатонизме все
положительное, что имеет душа, включая творческую силу, она получает через
посредство эманации от «второго бога», т. е. от Ума; так же и «логосы»
чувственных вещей суть не что иное, как несовершенные отражения
содержащихся в Уме идей, а поэтому мир Души не может существовать и быть
понят без мира Ума, так же как умственный мир не может существовать и быть
понят без сверхумного, вечного, непостижимого Единого, без «первого
бога» — Абсолютного Блага.
Таким образом, как явствует из сказанного, греческая философия,
особенно в заключительной фазе своего развития, наилучшим образом
выразила ту черту греческого менталитета, которую можно назвать тягой
к абсолютному, вечному и трансцендентному.
Заметим однако, что в древнегреческой философии почти никакого
внимания не уделено человеческой индивидуальности. Человек
рассматривается здесь почти исключительно как родовое существо, т. е. либо как
элемент природы, либо как элемент общества, либо как то и другое
вместе, но почти никогда — как самоценный субъект и неповторимая
личность. Кроме того, несмотря на развитую греческую историографию, в
самой философии природа человеческая, за редким исключением,
рассматривается внеисторически, т. е. как не меняющаяся в ходе истории.
Все это связано с теми особенностями древнегреческого менталитета,
которые были уже отмечены нами выше: с чувством слитности с природой,
с созерцательностью, с неудовлетворенностью временным и стремлением
к вечному.
Напротив, для менталитета римлян характерна погруженность не в
природную, а в человеческую стихию — в стихию истории и
гражданской жизни. Римлянин принадлежит не вечности, а времени, и поэтому
старается как можно лучше устроиться в этой жизни. Его главные
добродетели — любовь к отечеству и верность обычаям предков, практич-
126
Восток и Запад в Европе
ность и здравый смысл, мужество, трудолюбие, честность (honestas),
любовь к дисциплине и порядку. У Вергилия они выражены одной
строкой:
Древний уклад и мужи — вот римской державы опора.
Показательно отношение римлян к судьбе. В известных словах,
приписываемых прославленному римскому консулу Аппию Клавдию: «Homo
faber suae fortunae est» («Человек — кузнец своего счастья»), вьфажена
самая суть этого отношения. Римляне, если они не находятся, как Луций
Сенека, под слишком сильным влиянием стоиков, не склонны понимать
судьбу как некий рок (Fatum), как нечто изначально предопределенное
самой природой в силу нерушимой связи в пространстве и времени всех
ее элементов — вещей и событий — друг с другом и с ней, природой, как
целым. У стоиков, считавших природу живым организмом, эта связь всего
со всем трактовалась как «со-страдание», «со-чувствование» (sympatheia),
испытываемое каждым элементом по отношению ко всем остальным и
прежде всего к своим собственным предшествовавшим состояниям. При
таком «роковом» понимании судьба отнюдь не становилась
предсказуемой, но она, разумеется, делалась неизбежной, фатальной.
Римляне не имели склонности к подобной абсолютизации
целостности природы, а поэтому они, за редким исключением, не приняли и
стоический фатализм. Они считали природу скорее объектом пользования, чем
субъектом действия, и на место судьбы-фатума, поставили судьбу-
фортуну, которая заменила роковую неизбежность случайной удачей.
Римляне высвободили человека из природных уз и предоставили ему
возможность самому распоряжаться своей судьбой. Смысл приведенной
нами выше сентенции Аппия Клавдия состоит как раз в том, что каждый
человек сам своим разумом, своей волей и своими действиями определяет
свою судьбу — будет ли она счастливой или несчастливой; и если,
например, воин в битве с врагом оказывается перед лицом казалось бы
неотвратимой гибели, то и тогда у него еще сохраняется возможность самому
определить свою судьбу: геройски погибнуть или сдаться в плен и стать
рабом; и первую судьбу истинный римлянин посчитает счастливой, а
вторую несчастливой.
Итак, мы видим что римляне перенесли понятие судьбы из сферы
природы в сферу свободы и связали судьбу человека с выбором его
индивидуальной воли. Аналогичным образом они поступили и с греческой
идеей «Провидения», которая была характерна как для платоников, так и
для стоиков.
Провиденциализм отличается от фатализма тем, что фатум-рок, как
мы уже говорили, является непредсказуемым и не заключает в себе самом
никакого управляющего и целеполагающего начала; Провидение же как
раз и есть управляющее миром разумное начало, причем такое, которое
заранее предвидит и предопределяет все, что в мире произойдет. Правда,
Провидение «предопределяет» прежде всего в том смысле, что оно не
может ошибаться, а поэтому все, что оно предвидит, обязательно
произойдет, даже если это произойдет по решению свободной воли человека.
Восток и Запад в Европе
127
Иными словами, представляется, что фатализм не совместим со свободой,
а провиденциализм совместим. Однако следует помнить, что Провидение
не только предвидит, но и направляет ход событий.
Знаменитый римлянин Цицерон, философ свободы, отвергал
греческую идею Провидения (Pronoia), исходя из того, что, если возможно
безошибочное предвидение результатов нашего свободного выбора, то это
означает, что наш выбор уже заранее предопределен и у нас не остается
никакой свободы. При этом Цицерон, постоянно критиковавший и
высмеивавший Эпикура, добавлял, что он скорее предпочел бы ошибаться
вместе с Эпикуром, чем принять эту «стоическую старуху Пронойю» (т. е.
Провидение). Таков был приговор одного из просвещеннейших римлян,
вынесенный одной из главных школ греческой философии.
Цицерон, как настоящий римлянин, выше всего ценил человеческую
свободу и довольно скептически относился ко всем течениям и школам
греческой философии, кроме разве что той школы, где как раз он и
пристрастился к скептицизму и критицизму, т. е. кроме школы Новой
Академии. При этом он неплохо знал и философию других школ, особенно тех,
которые были популярны в современном ему римском обществе, а
именно — философию школы эпикурейцев и школы стоиков. Именно Цицерон
издал поэму «О природе вещей» никому не известного тогда поэта-
философа Лукреция и впервые изложил на латинском языке в своих
сочинениях философию стоиков, перипатетиков и академиков. Он перевел,
также впервые, на свой язык некоторые диалоги Платона. Однако по сути
дела в философии он был эклектик и просветитель, а не творец. Открытый
им Лукреций как философ тоже был не творцом, а просветителем,
излагавшим философию Эпикура. Таким же просветителем был позднее и
Сенека, передавший римлянам на латинском языке философию стоиков.
Однако следует заметить, что эти три самые значительные из римских
философов, писавших на латинском языке, привнесли в излагаемые ими
учения и свой римский дух. Так, в поэме Лукреция во второй книге
развивается тема индивидуальной неповторимости всех вещей чувственного
мира, тема вполне римская. В третьей книге содержатся замечательные
выпады Лукреция против нравов современного ему общества (ст. 59-86).
Конец четвертой книги, посвященный теме любви и «плодов Венеры»
(ст. 1030-1280), написан в чисто римском утилитарно-прагматическом
духе, хотя, как и все у Лукреция, прекрасным стихом. В пятой книге
развивается типичная для римской гражданской поэзии тема закона и права.
В поэме много примеров из римской истории. Сам дух поэмы по-римски
рациональный.
Что же касается Сенеки, то большинство его трактатов, таких как «О
благодеяниях», «О блаженной жизни», «О милосердии», «О гневе» и т. п.
посвящены чисто римским темам, которые разрабатываются в основном
на материале римской истории. В «Письмах к Луцилию» помимо
моральной тематики затрагиваются и многие другие вопросы, но и здесь Сенека
выступает прежде всего как типичный римский моралист, озабоченный
состоянием нравов и поисками смысла в этой жизни. Вопросы онтологии
и теории познания, представляющие основной интерес для греческих фи-
128
Восток и Запад в Европе
лософов, Сенекой почти не затрагиваются. Сенеку с меньшим
основанием, чем Цицерона и Лукреция, можно назвать чистым просветителем,
поскольку в своем учении он более самостоятелен, но при этом и он в
основном следует по стопам греков, преимущественно стоиков (Хрисипп,
Посидоний и др.).
Таким образом, латинско-римская философия в отличие от
греческой в основном имеет характер не созерцательный и эвристический, а
воспитательный и просветительский, что предполагает ее большую
ориентированность на повседневную жизненную практику, и в этом смысле
она полностью соответствует своеобразию римской души, в которой
деятельная и волевая сторона преобладает над созерцательной и
познавательной. Именно в силу такого своеобразия их душевного склада и
менталитета римляне не были расположены к метафизике и отвлеченному
мышлению, но зато были прекрасными воинами и администраторами,
редко бывали первооткрывателями, но зато умели множить и
распространять открытое другими.
Волевое и деятельное начала римской души требовали от римлян
постоянного расширения пространства для их приложения. Именно это и
стало психологической и, если можно так сказать, естественной, основой
рано начавшейся и затем непрерывной и беспрецедентной по своим
масштабам римской экспансии. На этой же основе возникла идеология
римского «империализма», выраженная в известных стихах «Энеиды»
Вергилия, где мифический прародитель римлян Анхиз говорит:
Римлянин! Ты научись народами править державно —
В этом искусство твое! — налагать условия мира,
Милость покорным являть и смирять войною надменных!
(Пер. С. Ошерова).
И римляне, как бы руководствуясь этой заповедью Анхиза и
искренне веря в свою историческую миссию, завоевали едва ли не половину
известного тогда европейцам мира под лозунгами повсеместной
рационализации жизни. Подобно современным американцам римляне умели
утилизировать, копировать и массово воспроизводить все ценное, что
доставалось им от покоренных народов. Таким образом они утилизировали
греческое искусство, греческую науку и философию, интегрировали
восточные религии, украсили свои города обелисками, вывезенными из Египта,
и даже стали строить свои гробницы в форме египетских пирамид и в
форме галикарнасского мавзолея.
Римское государство просуществовало более тысячи лет. Столь
продолжительное его существование объясняется многими причинами, в
частности и тем, что римляне были прекрасными воинами и талантливыми
администраторами. Но главная причина этого все-таки заключается, на
мой взгляд, в их таланте сочетать в управлении силу и право. Римляне
были народом юридическим и создали настолько рациональную правовую
систему, что она сохранила свое значение и до наших дней. Деяния
римлян отличались масштабностью и эффективностью. По всей империи они
Восток и Запад в Европе
129
воздвигли свои храмы, не разрушая при этом храмовые постройки других
религий. (Исключением может служить, пожалуй, только главная святыня
иудеев, разрушенная Титом). В целом они проявляли известную
терпимость к верованиям и обычаям покоренных народов. При этом они
романизировали значительную часть кельтов и иберов, а также народы
северозападной Африки и народы, населявшие северную часть Балканского
полуострова. Из всех народов западной и центральной Европы не поддались
романизации только германские племена.
О других цивилизационных деяниях римлян мы уже говорили.
Добавим к этому основание на завоеванных территориях множества новых
городов в римском стиле, создание охватывающей всю громадную
империю системы коммуникаций, в которую включались не только
прекрасные дороги, но и общеимперская почта и даже своеобразный телеграф,
основанный на принципе передачи световых сигналов. Римляне создали
единый товарный рынок от Британии до Индии, наладили массовое
производство товаров на специально для этого созданных больших
факториях. Они сделали доступным школьное образование для всех граждан.
Поощряли искусство, науку и философию. Вместе с тем они приучили народ
к бесплатным кровавым зрелищам в амфитеатрах и цирках, открыли
повсюду публичные дома и, как свидетельствует автор «Сатирикона» Пе-
троний и другие римские сатирики, а особенно христианские апологеты,
развратили своим культом «материальных благ» и чувственных
наслаждений значительную часть своего многоплеменного общества.
* * *
Изначальное различие греческого и римского менталитетов не
только не исчезло в период поглощения Греции единой Римской империей, но,
напротив, в период поздней античности даже обозначилось более
рельефно. К концу античности культурная Европа окончательно раскололась на
восточную и западную, и каждая из этих частей развивалась далее своим
путем, сообразно собственному менталитету.
В Средние века латинский Запад распространил свое влияние на
германские народы, греческий Восток — на славянские. В результате
образовались два несходных духовных мира: романо-германский и визан-
тийско-славянский. Несходство этих миров не устранялось даже тем, что
оба они были христианскими, ибо сама христианская религия, игравшая
определяющую роль в жизни средневекового европейца, воспринималась
в каждом из этих миров по-разному, в соответствии с различием давно
сложившихся менталитетов. Например, восточное православие в богоче-
ловечестве Христа делало больший акцент на Боге, что вполне
соответствовало вышеописанному стремлению к Абсолюту древних эллинов.
Напротив, западное католичество в своем восприятии этого догмата скорее
сконцентрировалось на человеческой природе Христа, что также
соответствовало древнему менталитету латинян. С различием этих акцентов
связано и то, что латинская церковь была больше, чем православная,
озабочена земным человеческим существованием, поэтому и активнее участво-
130
Восток и Запад в Европе
вала в политической жизни общества. В некоторые периоды
Средневековья она брала на себя и функции государственного управления2.
Православная же церковь больше заботилась о подготовке паствы к посмертному
бытию. В этой связи не случайным представляется и то, что главным
христианским праздником на Западе для большинства верующих фактически
является Рождество, а на православном Востоке — Пасха. Ведь Рождество
знаменует начало земной, человеческой жизни Христа, а Пасха —
Воскресение Христа для жизни Небесной, открывающее путь к посмертному
воскрешению всего человечества.
Западная церковь была больше, чем восточная, расположена к разного
рода новациям, в том числе догматическим. Уже после всех семи
Вселенских соборов, на которых были окончательно утверждены основы
христианской догматики, католики добавили к святоотеческому символу веры «Filio-
que»3, а позднее чрезвычайно усилили культ Девы Марии, особенно начиная
с XIV века, когда схоластики (в числе первых — Дуне Скот) начали
обосновывать логически тезис о Ее «непорочном зачатии», не опираясь при этом ни
на какие свидетельства Св. Писания и Св. Предания. Несколько веков спустя
Ватикан признал этот тезис догматом веры. На самом деле этот
католический догмат (произведение латинской рациональности, позволяющей
человеку вторгаться в запредельные для него тайны веры) фактически почти
уравнивает способ рождения Богородицы и способ рождения самого
Спасителя, что можно истолковать (конечно, в противоречии с благочестивым
намерением авторов этого догмата) как тенденцию к «дитеизму».
Католицизм был порождением Рима, и он никогда не мог бы
возникнуть в Греции. Он унаследовал от древнего Рима идею единого мирового
порядка, основанного на силе и праве, что особенно проявилось в
организации крестовых походов.
Для утверждения своей власти в мире, не только духовной, но и
светской (вспомним хотя бы «Исидоровы декреталии»), католицизм
всесторонне использовал римскую рациональность. Он создал эффективную
систему Церковного управления, хорошо продуманное каноническое
право, создал дисциплинированные легионы — монашеские ордена, наладил
всемирную миссионерскую деятельность. Католические монастыри очень
мало напоминают скиты и киновии византийских монахов. Это, как
правило, хорошо организованные и достаточно комфортные учреждения,
нередко занимающиеся коммерческой деятельностью.
Католицизм «рационально» реформировал христианскую догматику,
введя в нее политически хитроумный догмат об исключительной харизме
Папы (впоследствии — догмат о папской непогрешимости ex cathedra).
Латинская рациональность побудила католиков потребовать целибата
клириков; к чему привел этот целибат мы сегодня хорошо знаем (и не только
В эпоху Ренессанса, если судить по разным литературным свидетельствам той поры,
в частности — по сочинениям Макиавелли, папы со своими наемными армиями нередко
участвовали в междоусобных войнах итальянских князей и республики Флоренция.
Мы не имеем намерения обсуждать здесь смысл этого нововведения, так как в
трудах отечественных богословов тема Filioque раскрыта с достаточной полнотой. Ими же
доказана несовместимость этого догмата со святоотеческой верой.
Восток и Запад в Европе
131
через сочинения Боккаччо). Та же рациональность, граничащая с
цинизмом, оправдала в Средние века торговлю индульгенциями. Типично
латинским «юридическим» изобретением была католическая инквизиция —
изобретением, которого стыдятся ныне и сами католики.
В теологии и философии западного Средневековья преобладал тот же
римский рационализм: в теологии господствовала катафатика, в
философии — рассудочная аристотелизирующая схоластика; имевший место на
Западе мистицизм чаще имел характер эмоционально-психологический (как
у Августина), чем трансцедентальный, как на Востоке. Немецкий трансце-
дентальный мистицизм (Экхарт, Сузо, Таулер, Бёме и т. п.) развивался на
греко-византийской основе, особенно под влиянием «Ареопагитик».
В противоположность католицизму восточное православие мало
интересовалось земными делами и никогда не имело такой политической
власти. Хотя внешне Византия напоминала царство теократии, реальную
политику здесь делали императоры и чиновники, а церковь находилась в
услужении у государства. То же самое потом было и в России. Эта
сильная зависимость от мирских властей всегда была бедствием для церкви. В
этом смысле католическая церковь находилась в более благоприятных
условиях.
Ограниченная в своем влиянии на мирскую жизнь православная
церковь с тем большей энергией утверждала себя в сфере духовной,
проповедуя отречение от мира, презрение к плоти, нравственное
самосовершенствование и мистическое созерцание. Следствием этой спиритуализации
церкви было широкое распространение в Византии таких явлений, как
нетипичное для Запада индивидуальное монашество: отшельничество,
схимничество, столпничество и т. п. Наиболее общей формой постижения
«вещей божественных» стали здесь мистическое созерцание и озарение
благодатным светом. Общение с Богом достигалось в «сугубой молитве»,
которая у исихастов происходила в молчании, умственно и духовно. В
православном богословии мистика и апофатика заняли главенствующее
положение, оттеснив на второй план «рациональные» и катафатические
методы. В византийской философии преобладал христианский
неоплатонизм и сохранялся исконный греческий интерес к проблемам вечным.
Схоластика здесь не получила такого развития, как на Западе, мистика
имела не только гносеологический, но и онтологический характер.
* * *
Таким образом, Восток и Запад Европы обрели свою специфику еще
в античном мире и сохранили ее в Средние века. В Новое время романо-
германский мир, сохраняя свои внутренние различия (романский и
германский менталитеты никогда не были полностью тождественными даже
в своих фундаментальных свойствах), пошел по пути дальнейшей
рационализации и оптимизации земной жизни. Реформация, правда,
продемонстрировала с полной ясностью существенные различия менталитетов
романских и германских народов. Однако общая система ценностей, на
которые ориентировались романские и германские народы в долгий средне-
132
Восток и Запад в Европе
вековый период, а затем опять же общая для обоих этносов
трансформация этой системы ценностей в период наступающего капитализма стали
теми факторами, которые предотвратили возможное углубление кризиса
западноевропейского единства, спровоцированного Реформацией.
Дальнейшее развитие капитализма сопровождалось все большей унификацией
системы ценностей романских и германских народов, хотя оппозиция
Восток—Запад сохраняла еще довольно долго свое значение в Европе,
что с наибольшей отчетливостью проявилось в двух мировых войнах.
Однако вскоре после Второй Мировой войны, когда человечество оказалось
уже на грани войны третьей и опять мировой, но еще более
разрушительной и скорее всего гибельной для Европы, произошла невиданная ранее
моральная, технологическая и научная революция, которая решительно
изменила ситуацию во всем мире и в особенности в Европе. Началась
тотальная унификация всей системы человеческих ценностей, в которой
ментальные различия народов Западной и Восточной Европы стали
стираться. В настоящее время этот процесс идет полным ходом. Идея единой
Европы, без «востока» и «запада», где романские, германские и
славянские народы, католики, православные и протестанты вместе с
европейскими мусульманами живут по одним и тем же базисным законам,
становится сегодня реальностью. Не очень ясно только, какое место в этой
единой Европе отведено России. И не исчезнет ли в процессе такой
унификации великое достояние человечества: самобытность народов и
многообразие культур? Ясно одно: если интеграция Европы пойдет по пути
нивелирования различий культур и обычаев населяющих ее народов, или же
путем навязывания Западом своей специфической системы ценностей
народам Востока Европы, включая Россию, то такая интеграция будет
равносильна крушению всей европейской цивилизации.
* * *
Итак, подведем итоги сказанному. Деление Европы на восточную и
западную при всей своей кажущейся условности имеет не только
географический, но и культурно-исторический и духовный смысл. Судьбы этих
двух частей Европы складывались по-разному, что породило
существенные различия в психологии, мироощущении, способах мышления и
системе ценностей населяющих их народов. Ничего плохого в этом
разнообразии, конечно, нет, ибо только из разнообразия складывается гармония.
Однако, как показывает историческая практика, эти различия
западных и восточных европейцев нередко оборачивались взаимным
непониманием и отчуждением, а иногда и попытками достичь единообразия
насильственным путем.
Так, совсем еще недавно известная коллективистская модель
«правильного» жизнеустройства (своеобразная атеистическая пародия на
православный идеал соборной жизни верующих) упорно навязывалась
Востоком Западу как единственно верная, а сегодня, после поражения
советского коммунизма, Запад с не меньшим упорством силится навязать Вое-
Восток и Запад в Европе
133
току свою индивидуалистическую и прагматическую модель и тоже
считает ее единственной гарантией всеобщего благоденствия.
Подобного рода попытки унификации Европы, если бы они удались,
привели бы к катастрофе, так как была бы устранена основная пружина,
приводившая до сих пор в движение всю европейскую культуру. Эта
пружина — соревнование и взаимодействие двух самобытных менталитетов,
дополнявших и обогащавших друг друга на протяжении всей
предшествующей истории, начиная с античных времен. Однако сегодня речь идет
уже не только об унификации образа жизни и системы ценностей всех
европейцев; становится все более реальной перспектива унификации всей
мировой жизни на основе усвоения всеми народами принципов
глобализма, и если такое случится, то по законам энтропии, человечество
неизбежно остановится в своем духовном и культурном развитии, а возможно, и
вовсе исчезнет с лица Земли. Чтобы этого не случилось, народы, сохраняя
свою самобытность, должны научиться уважать и поощрять самобытность
других, ибо только тогда и только таким способом беспорядочное много-
звучие сбивающих друг друга с ритма и заглушающих друг друга культур
и мировоззрений столь разных народов можно обратить в симфонию.
ВЕЛИКАЯ ТЕТРАКИДА ПЛАТОНИЗМА
Историко-философские этюды
Как мы уже не раз говорили, рассматривая типологию философских
учений, все три «чистых», т. е. несмешанных, типа понимания философии
впервые в классическом выражении были представлены уже в
античности: софийное понимание — у Платона, эпистемическое — у Аристотеля,
технематическое — у софистов. Предлагаемые читателю
историко-философские этюды содержат краткие описания жизни и учений четырех
наиболее влиятельных в последующие века и в то же время наиболее
самобытных античных представителей софийной линии философствования,
как языческих, так и христианских, а именно: самого Платона,
знаменитого неоплатоника Плотина, крупнейшего латинского христианского
неоплатоника Августина и таинственного автора «Ареопагитик», называвшего
себя Дионисием, — великого греко-язычного христианского
неоплатоника, который оставил глубокий след во всей последующей философской
традиции как на греческом и славянском Востоке, так и на латинском
Западе. Что касается Августина, то, хотя его влияние ограничивается в
основном Западом, это влияние было, можно сказать, определяющим в
продолжении всего средневековья, да и позднее, особенно на тех мыслителей,
которые не удовлетворялись схоластическим аристотелизмом или —
более широко — сциентизмом. О Плотине достаточно сказать, что он был
родоначальником и, несомненно, самым ярким представителем
неоплатонизма, и его воздействие на последующую философскую мысль со времен
поздней античности до новейших времен, как на греко-славянском
Востоке, так и на европейском Западе, можно сравнить разве что с
воздействием самого Платона. Таким образом, читателю, имеющему интерес к со-
фийно понимаемой философии мы предоставляем возможность
познакомиться с четырьмя ее крупнейшими выразителями — с великой тетраки-
дой («четверицей») платонизма.
Этюд первый
Платон
Величайший древнегреческий философ, прозванный то ли за
атлетическое сложение, то ли за широту взглядов Платоном (от греч. «platys» —
широкий, обширный; подлинное имя — Аристокл) родился в 427 г. до
н. э., на острове Эгина, недалеко от Афин в аристократической семье.
Получил традиционное для знатных греков образование —
«гимнастическое» и «мусическое», став атлетом и освоив поэзию во всех ее жанрах,
Великая тетракида платонизма
135
музыку, живопись, а также, как видно из его сочинений, арифметику,
геометрию и астрономию. В юности Платон сочинял дифирамбы, трагедии и
комедии, которые по преданию сжег после знакомства с Сократом (под
именем Платона от античности дошли только 25 изящных эпиграмм,
авторство которых, правда, сомнительно). Встреча с Сократом,
произошедшая в 407 г., радикально изменила интересы Платона и сосредоточило все
его внимание на философии. От Сократа он перенял метод рассуждения
(«диалектику»), включавший в себя в качестве элементов: свободный
диалог противоречащих друг другу сторон; иронию, подзадоривающую
спорящих смешением серьезного и смешного, глубокомысленного и
легкомысленного; майевтику — искусство с помощью наводящих вопросов
содействовать самостоятельному рождению истины в душе собеседника и
связанную с этим искусством индукцию, возводящую ум собеседника от
частных фактов к общим принципам и имеющую своей целью
универсальное определение искомого понятия.
Сократ также передал Платону свой интерес к морали и особенно
озадаченность проблемой высшего Блага, научил Платона духовному
пониманию божества, убедил в превосходстве общего над частным,
идеального — над материальным, внушил уважение к государственной форме
жизни и обратил его внимание на судьбу души и важность самопознания.
Платон был близок со своим учителем до самой казни Сократа (399 г.),
испытал огромное воздействие его личности и сделал потом Сократа
главным героем почти всех своих философских произведений. После
смерти Сократа Платон много путешествовал. Он жил какое-то время в
соседней с Афинами Мегаре, затем, согласно легенде, посетил Кирену и
Египет, и, возможно, некоторые другие страны Востока, а потом, в
389 году, отправился в Сицилию, где около двух лет жил при дворе ти-
ранна Дионисия Старшего, находясь под опекой своего поклонника,
родственника Дионисия, Диона Сиракузского. Посчитав его соучастником
дворцового заговора, Дионисий отдал Платона в рабство и отправил для
продажи в Грецию на работорговый рынок, где его, к счастью, выкупил
сократик Киренской школы Анникерид. Получив свободу и собранное
друзьями для его выкупа небольшое состояние, Платон вернулся в
Афины, купил на окраине города поместье вместе с рощей, посвященной
местному герою Академу, и основал там свою школу, получившую по имени
этого героя название «Академия», которая, хотя и сменила место своего
нахождения в Афинах после завоевания Греции римлянами,
просуществовала до 529 г. н. э., когда декретом Юстиниана все афинские
философские школы были закрыты. В 366 г. до н. э. Платон по приглашению того
же Диона снова едет в Сицилию, на этот раз, ко двору сменившего своего
отца тиранна Дионисия Младшего, а в 361 г. уже старым человеком он
посещает Сицилию в третий раз по просьбе самого Дионисия Младшего.
Все эти поездки в Сицилию имели своей целью изменить к лучшему
существовавший там развращенный тираннический режим с помощью
философии. Цель эта, разумеется, не была достигнута, но для самого
Платона сицилийские поездки дали весьма многое: именно они, по-видимому,
позволили ему глубоко изучить италийскую философию пифагорейцев и
136
Великая тетракида платонизма
элеатов, идеи которых были затем широко использованы Платоном в его
трудах. Среди других идейных влияний, которые испытал Платон в ходе
своей жизни, значительным было влияние Гераклита, возможно через
посредство гераклитовцев Кратила и Калликла, ставших персонажами его
диалогов. На язык и стиль Платона оказали влияние греческие трагики,
особенно Еврипид, и комедиографы — Эпихарм, Аристофан, а также —
несомненно — софисты и Сократ. Платон умер в 346 г. в Афинах, оставив
потомству большое литературно-философское наследие, включающее в
себя множество больших, средних и малых диалогов (из них 23
подлинных и еще 19 приписываемых авторству Платона с той или иной
вероятностью), «Защитительную речь Сократа» («Апология»), 13 писем,
большинство из которых скорее всего неподлинные, и уже упомянутые 25
эпиграмм. Последователей Платона было великое множество. Из его
школы вышел Аристотель; платониками были Плутарх, Плотин, Прокл, если
говорить о самых известных.
Как бы мы ни относились к Платону, его философия со всех точек
зрения представляет собой вершину античного философского творчества,
отличаясь поразительной многогранностью мысли, колоссальной силой
воображения, глубиной суждения, ясностью понимания и богатством
языка. По масштабам философской одаренности рядом с Платоном в
истории человечества поставить просто некого. Но это как раз и служит
главным препятствием для усвоения его философии человеком
обыкновенным. Кроме того, Платон — ярчайший диалектик, у которого все
связано со всем и всякая мысль чревата противоречием, а это очень
затрудняет возможность судить о его писаниях категорически, а тем более
однозначно. Но если заранее договориться о гипотетичности всех наших
суждений, получится такая картина. Ядро философии Платона составляет
теория идей и дополняющая ее теория души. Вокруг этого ядра
выстраиваются концепция знания, учение о космосе, о красоте, о человеке и его
нравственности, о государстве. Центром тяготения всех элементов
платоновского учения служит высшая нравственная идея — идея Блага. Во всех
своих разделах и элементах эта философия есть последовательный и
очень продуманный идеализм: подлинной реальностью, полным и
действительным бытием, по мнению Платона, обладает только конкретно-
идеальное — умопостигаемые эйдосы-идеи и сам мыслящий их ум, а все
чувственно-воспринимаемое существует неподлинно и неполно, так как
заключает в себе и бытие — определенность формы, устойчивость
предмета, и небытие — неопределенность материи, его, предмета,
изменчивость. В любой чувственной вещи нет ни одного качества, которое
присутствовало бы в ней с идеальной полнотой. Будучи, в силу своей
полноты, завершенными (совершенными) формами сущего, идеи не изменяются
и являются поэтому вечными, тогда как вещи, страдающие от неполноты
бытия, непрерывно изменяются и находятся в процессе становления, как
бы стремясь восполнить недостающее бытие. Соответственно идеи не
возникают и не гибнут, а все чувственное, несовершенное постоянно
рождается и погибает. Местом идей служит только ум, местом ума —
только душа, а местом души — тело. Поэтому разумная часть души бессмерт-
Великая тетракида платонизма
137
на, как и сам ум; неразумная же ее часть, привязанная к телу, рождается,
умирает и вновь возрождается, меняя тела, т. е. переселяясь каждый раз
после смерти в новое тело (метемпсихоз). В момент смерти душа
освобождается от старого тела и переселяется на время в загробный мир.
Разумная часть души, хранящая по своей природе истину бытия, знает, что и
как происходит в действительности, но когда над ней господствует
неразумная часть, душа забывает о подлинном бытии и впадает в заблуждения
и невежество. Поэтому познание есть припоминание душой того, что она
когда-то знала (анамнесис). Лучшим подтверждением теории анамнесиса
служит невозможность начать исходный во всяком мышлении акт
сравнения, если мы изначально не знаем, что такое равенство и неравенство.
Процесс познания направляется Эросом — заложенной в душе человека
любовью к идеальному: к прекрасному, истинному и благому во всей их
полноте. Путь познания от смутного представления к истинному знанию
проходит по восходящим ступеням через чувство (веру и уподобление),
рассудок и разум; в разуме достигается прямое созерцание идей, т. е.
истины. Мир в целом (макрокосм) устроен так же, как и человек
(микрокосм). Он имеет ум, душу и тело. Однако вся его душа и все тело
бессмертны, так как мир один и мировой душе некуда было бы переселяться
после гибели мира.
Видимый мир создан божеством (демиургом) по модели мира
идеального, по тем идеям, которые извечно присутствуют в божественном
уме. Однако он был сотворен из хаотической и лишенной всякой
определенности материи, столь же вечной, как и сам бог; поэтому наш мир не
идеален, но не так уж и плох: будучи создан благим богом, он —
наилучший из всех возможных материальных миров. Человек же был сотворен
низшими богами, поэтому у него больше несовершенств, чем у мира в
целом. Космос одушевлен, разумен и божествен, правда, божествен по
разряду низших богов, так как он существует не в неизменной вечности,
подобно демиургу и его идеям, а в изменяющемся времени, которое, хотя
и является «подвижным образом вечности», обладая бесконечностью, все
же имеет эту бесконечность только в смысле непреодолимой
незавершенности. Вместе с тем, мир находится под опекой Провидения и реализует в
себе максимально возможное для него благо. К благу стремится и всякий
человек, но не всякий знает, в чем оно состоит. Чтобы не ошибиться, надо
знать человеческую природу и потенции души. Ведь душа в человеке
ценнее тела, и внимание должно быть обращено именно на блага души. А
у души три стороны или потенции — чувственная (вожделеющая),
волевая (яростная) и разумная. Значит, благом души будет наилучшее
состояние этих сторон с точки зрения состояния души в целом. А лучше всего
для души, когда чувства и вожделения сдержанны, воля мужественна,
разум мудр, а душа в целом справедлива. Если душа имеет все эти
доблести («добродетели»), она может рассчитывать на счастливую жизнь, если
нет — ее неизбежно поджидает несчастье. Поскольку же человек живет в
обществе, в государстве, то и здесь эти добродетели должны найти
применение, особенно та из них, которая называется справедливостью.
138
Великая тетракида платонизма
Предпочтительно, чтобы подобно космосу государство строилось по
идеальной модели, а идеальным государством будет такое, в котором
каждый занимается тем, к чему он больше всего расположен по природе.
Пусть люди чувственные и вожделеющие материальных благ их в меру
получат и возьмут на себя обязанности земледельцев, ремесленников и
торговцев; волевые и мужественные пусть станут воинами, а самые
разумные и мудрые из них — правителями. Вторые и третьи пусть будут
стражами государства и с раннего детства получат соответствующее
воспитание. Пусть у них не будет никакой собственности, чтобы они не
отвлекались ни на какие частные дела в ущерб государственным, и пусть у
них будут общими жены и дети. Не наступит благоденствия в обществе
пока государством не будут управлять истинные философы, или же
правители не усвоят философии. Ведь только философ знает универсальное и
может поэтому судить, в чем состоит всеобщая справедливость. Развив
должным образом свои исключительные природные способности, он
поднимется умом на уровень истинно сущего и на пределе человеческих
усилий сподобится непосредственно узреть ослепительный свет самого
Блага. В этом-то свете он и увидит, как должно во всех деталях выглядеть
идеально справедливое государство и насколько несправедливы все
государства, существующие в нашем эмпирическом мире, начиная с самых
демократических и кончая самыми тиранническими. Впрочем, в этом
чувственном мире и не может никогда полностью воплотиться ничто
идеальное, а следовательно, хорошо и то, если исторические государства будут
строиться на законах, хотя бы подражающих идеальным. Но для этого и
законодатели должны быть либо философами, либо жрецами-
духовидцами, знающими волю богов.
Таковы главные идеи философии Платона, если ее изображать
предельно сжато и схематически. Из основных ее разделов мы не затронули в
достаточной мере, пожалуй, только диалектику. Но это потребовало бы
углубиться в проблемы, не допускающие краткого рассмотрения.
Диалектика у Платона не только метод мышления, возводящий ум к истине, но и
способ онтологического взаимополагания идеальных сущностей, и способ
подведения всего сущего под единое начало, и многое другое, что нашел в
ней этот афинский мудрец. Ведь Платон — это бездна премудрости и, как
считали древние, «все, что вышло из-под его пера, превосходно». Чтение
Платона и сегодня есть лучший способ посвящения в философию.
Этюд второй
Плотин
Плотин — основоположник и крупнейший представитель
неоплатонизма, самого влиятельного направления позднеантичной философии.
Ученик Плотина Порфирий оставил нам краткое описание его личности и
жизни, из которого следует, что родился он в 204 (205) г. н. э., скорее
всего в Египте (согласно Евнапию — в египетском Ликополе). К философии
обратился на двадцать восьмом году жизни, в Александрии, где познако-
Великая тетракида платонизма
139
мившись с различными школами, избрал в качестве учителя Аммония
Саккаса, которого потом слушал в продолжении 11 лет. Аммоний научил
его мистическому толкованию Платона и Аристотеля и пробудил в нем
интерес к восточной мудрости. Стремясь лучше узнать мудрость персов и
индийцев, Плотин в 243 г. отправляется на Восток вместе с римской
армией Гордиана III, совершавшей тогда поход против Персии. После
поражения римлян и гибели императора едва уцелевший Плотин переселяется
в 244 г. в Рим, где создает собственную философскую школу, которую
возглавляет до последних лет жизни. Первое десятилетие он преподает
свою философию только устно, следуя заповеди Аммония. С 254 года
начинает по просьбе учеников записывать свои лекции в форме трактатов.
Таким образом, с 254 по 263 гг. им был написан 21 трактат; с 263 по
268 гг. — еще 24 сочинения; пять трактатов были написаны в 268-269 гг.
и еще 4 — в 269-270 гг. Школа Плотина находилась под
покровительством императора Галлиена. Когда же Галлиен был убит, а здоровье
Плотина резко ухудшилось, он уехал из Рима в Кампанию (269 г.), где
поселился на вилле одного из своих учеников в районе города Минтурны. Здесь в
270 г. Плотин умер. Среди учеников Плотина наиболее известными были
Амелий и Порфирий. Последний около 300 г. впервые издал все
сочинения Плотина, сгруппировав их тематически в шесть блоков, в каждый из
которых вошло по девять трактатов. Поэтому в историю эти шесть блоков
сочинений вошли под названием «Эннеады», т. е. «девятки». В первую
«девятку» попали трактаты этические и посвященные предназначению
человека; во вторую и третью — трактаты «физические» и
«космологические», т. е. те, в которых речь идет о природе и космосе; в четвертую —
трактаты о душе; в пятую — об уме и умопостигаемом мире; в шестую —
остальные из 54 трактатов; главными в этой девятке являются трактаты о
Благе и Едином. Понимая, что группировка сочинений Плотина в «Эннеа-
дах» довольно искусственная — ведь почти все они по своему
содержанию выходят далеко за рамки означенных тем, — Порфирий в «Жизни
Плотина» передал нам также и хронологический перечень этих трактатов,
начинающийся с трактата «О прекрасном» (1,6) и заканчивающийся
трактатом «О первичном благе, или о счастье» (1,7). Все трактаты Плотина
имеют названия, данные им его учениками.
Как философ Плотин ставил перед собой весьма скромную задачу:
«разъяснение мыслей Платона»; однако на деле это разъяснение вылилось
в создание новой всеобъемлющей философской системы, которая в
оригинальном и хорошо продуманном синтезе соединила в себе элементы
платонизма, аристотелизма, пифагореизма и стоицизма, подчинив все это
сократовской идее самопознания и общеантичной идее богоуподобления
человека. В философии Плотина, высочайшая теоретичность сочеталась с
изысканной образностью, в ней давалось интеллектуальное оправдание
всей античной мифологии и религиозной практики.
Смысловым стержнем философии Плотина служит учение о трех
первоначальных субстанциях — «ипостасях»: Едином, Уме и Душе. Все
остальное, чувственно-вопринимаемое и мыслимое, очевидное и скрытое,
производно от них. При этом от Единого производно все вообще, ибо ни-
140
Великая тетракида платонизма
что не может быть тем, что оно есть, если ему не присуще единство; от
Ума производно все умственное, ибо без Ума не может быть ни
мышления, ни мыслимого; от Души произволен весь чувственный мир, ибо без
присутствия Души ничто не имело бы чувственных свойств. Вместе с тем
сам Ум произволен от Единого, а Душа — от Ума. Произведением же
Души является вся природа. Всякая низшая ипостась потенциально
содержится в высшей, актуально же — содержит в себе высшую. Поэтому
природа одушевлена, в любой душе есть ум и всякий подлинный ум
заключает в себе единство своего содержания. Переход от одной ипостаси к
другой происходит путем эманации — исхождения, излияния, излучения
энергии бытия от высшего к низшему. Эманация есть как бы
упорядоченное заполнение небытия бытием, напоминающее движение от центра к
периферии и подобное излучению Солнца. Как и у Платона, в учении
Плотина Солнце символизирует источник бытия, жизни и всего благого
(само Единое = Благо), его свет символизирует свет истины (само
истинное бытие), а заполняемая этим светом темнота символизирует собой
материю как принцип небытия, неопределенности, отсутствия формы и
единства, как начало множественности и зла. Среднюю ипостась, Ум, у
Плотина, как и у Платона, можно считать точкой опоры, служащей для
понимания двух других. Ведь бытие истинное, т. е. не содержащее в себе
примеси небытия, а следовательно, полное и неизменное, как раз и есть
бытие умопостигаемое, идеальное (платоновские вечные идеи), и его
место — Ум. Правда, и в Уме есть следы небытия, ибо Ум множествен и
содержит в себе не только что-то одно, но и другое, что означает
отсутствие, т. е. небытие, одного в другом. Раз в Уме существует множество
форм, то в нем должна быть и особая мыслительная материя, в которой
эти формы разнятся. Однако, несмотря на присутствие в Уме следов
небытия, или же умопостигаемой материи, все умственные формы (т. е.
идеи как акты живой мысли) составляют вместе единое целое, а поврозь
представляют как бы аспекты этого целого, имя которому истинное бытие
и истинная жизнь. Соответственно только об этом бытии и этой жизни
может быть умное истинное знание. Хотя источник и причина этого
бытия — в Едином, само Единое — выше бытия, как причина — выше
своего следствия. Оно — сверхбытие, а поэтому оно недостижимо для
разумного познания и в этом смысле непознаваемо. Ведь всякое истинное
разумное познание есть познание через причину и через анализ, а у
Единого нет причины и оно недоступно анализу, так как абсолютно просто и
неразложимо. Следовательно, способ восприятия Единого должен быть
какой-то иной. Согласно его природе это должно быть «упрощение» и
«единение», достигаемые через полное самоотречение, через любовь и
безотчетное созерцание горнего. Выход познающего субъекта к Единому
— это выход из ума, за пределы ума, «изумление», исступление, экстаз,
напоминающий по словам Плотина «трезвое опьянение». Однако экстазу
должно предшествовать наивысшее напряжение умственных сил,
умственное «просветление» души, к которому ведет практика созерцания
умопостигаемого. Но и такое созерцание будет невозможным, если прежде
субъект не очистит свою душу от телесных забот и чувственных привя-
Великая тетракида платонизма
141
занностей и не обратит свой взор к вечному. А это «очищение», в свою
очередь, начинается с нравственного преображения, с практики
добродетели. Если все идет успешно, добродетельная и очистившаяся душа
становится «умной» и тождественной с умом, а затем, дойдя до своих
пределов как ум, вырывается за эти пределы и в любовном экстазе единится и
сливается с Единым, достигая последней цели всех своих стремлений и
испытывая при этом невыразимое блаженство. По свидетельству Порфи-
рия сам Плотин испытывал такой экстаз четыре раза за свою жизнь.
Таким образом, стадии пути эманации и пути возвращения к
Единому — те же самые. На практике это означает, что человеческая душа как
проявление Мировой Души (третьей ипостаси) может, освобождаясь и
углубляясь в свою внутреннюю сущность, возвратиться на уровень
второй ипостаси, на уровень вечного Ума, и тем самым обрести не только
бессмертие, каковое, согласно Плотину, присуще ей по природе, но и
вечность, свойственную только богам. Но и это — не предел для
человеческой души. Став Умом, и вместив в себя всю полноту умственного, душа
может продолжить путь богоуподобления вплоть до слияния с Богом
богов, с Единым, которое есть высшее Благо для всего сущего.
Так примерно выглядит основная идея философии Плотина. К ней
примыкает множество других, родственных, идей, например, идея
творческой функции Мировой души в природе (Душа творит мировую красоту,
созерцая как образец красоту умственно-идеальную), идея человеческой
свободы при наличии управляющего миром Провидения, идея неаффици-
руемости высшего низшим и т. п. Большинство из самых важных идей
Плотина сохранится во всем последующем неоплатонизме, в рамках
которого после Плотина будут процветать различные школы (Сирийская,
основанная Порфирием, Пергамская, Афинская, Александрийская), в
которых выдвинутся такие имена как Ямвлих, Юлиан, Сириан, Прокл,
Аммоний Гермий, Симпликий, Дамаский и др. Неоплатонизм окажет самое
существенное влияние на европейскую и арабо-персидскую
средневековую философию. Влияние его сохранится и в последующие эпохи.
Этюд третий
Августин
Аврелий Августин, — «блаженный» у православных, «святой» у
католиков, — крупнейший философ и теолог древнего западного
христианства, «отец» и «учитель» церкви. Родился в северной Африке, в нумидий-
ском г. Тагасте, в 354 г. (Нумидия была тогда провинцией Западной
Римской империи). Начальное образование получил в Тагасте и Мадавре,
затем для завершения образования отправился в Карфаген (370 г.), где
обучался риторике. В 372 г. от внебрачной связи, которая продолжается
последующие 14 лет, у него рождается сын, Адеодат. С 374 г. Августин
начинает сам преподавать риторику, сначала в Карфагене, а затем, после
переезда в Италию, в Риме (383 г.) и Милане, называвшемся тогда Медио-
лан (384-387 гг.). В 386 г. с ним происходит духовное преображение
142
Великая тетракида платонизма
(«обращение») и Августин становится верующим христианином; в 387 г.
он принимает крещение и посвящает себя духовному служению. Покинув
Медиолан, он решает навсегда возвратиться в Африку, но по пути на
несколько месяцев задерживается в Риме, где умирает его мать, святая
Моника, христианка, горячо любившая сына и всегда желавшая видеть его
христианином (отец Августина Патриций был язычником, крестившимся
только перед смертью, а сам Августин был с детства «оглашенным», т. е.
допущенным в церковь, но не посвященным в таинства). Незадолго до
смерти Св. Моники между матерью и сыном состоялась мистическая
беседа об ожидающем душу вечном блаженстве. В 388 г. Августин
возвращается в Африку, где вместе с родственниками и друзьями,
обратившимися вместе с ним в христианство, устраивает монашеское общежитие в
родном Тагасте. Позднее он переселяется в приморский город северной
Африки Гиппон, где ему присваивают сан пресвитера, а затем, в 395 г. он
посвящается в епископы Гиппона. В этом городе протекает вся его
дальнейшая деятельность, отмеченная заботой о пастве, борьбой за единство
церкви и неустанным литературным творчеством. Умер Августин в 430 г.
в момент осады Гиппона вандалами Гейзериха.
В духовном развитии бл. Августина особое значение имели
следующие события. В 19-летнем возрасте, изучая Цицерона как ритора, он
натолкнулся на его философский диалог «Гортензий» (ныне утраченный), в
котором Цицерон вдохновенно призывал читателей посвятить себя
целиком философии и мудрости, каковые по его убеждению только и могут
привести человека к желанному для него счастью. Прочтение этого
диалога вызвало в душе Августина большое смятение и после этого он уже
никогда не утрачивал интереса и любви к философии. В поисках
мудрости он тогда же обратился к Библии, но встретив в первых же ее книгах
много, как ему тогда казалось, несообразного, он доверился критикам
Ветхого Завета манихеям, с которыми потом поддерживал тесные
отношения девять лет, вплоть до прибытия в Медиолан. Разочарование в
дуалистической манихейской теории началось еще в Карфагене, особенно
после беседы с известным тогда манихеем Фавстом, против которого
позднее Августин напишет огромный трактат. По прибытии в Рим его
скептические настроения усиливаются под влиянием чтения книг
Цицерона об «академиках», последователях Аркесилая и Карнеада. Августин
отрекается от манихейства и остается некоторое время «скептиком».
Однако, оказавшись в Медиолане и встретившись со знаменитым
христианским проповедником и теологом Св. Амвросием (также отцом церкви),
который толковал Библию с помощью средств неоплатонизма, Августин
вышел из состояния скепсиса и вновь заинтересовался христианством.
Этому способствовало и предпринятое им в это время самостоятельное
изучение книг неоплатоников (некоторых трактатов Плотина в переводе
Викторина и возможно, каких-то работ Порфирия), которые убедили его в
духовности Бога и нематериальности души, а также в том, что зло
несубстанциально. Окончательно поверить в истинность христианского учения
помогли ему чтение «Посланий» апостола Павла, наиболее
философического из всех апостолов, и рассказы о жизни христианских отшельников.
Великая тетракида платонизма
143
Обо всем этом Августин подробно рассказывает нам в своей «Исповеди».
После «обращения» и в ожидании крещения он вместе со своими
близкими уединяется на вилле одного из своих миланских друзей, где сочиняет
ряд философских диалогов, в которых развенчивает скептицизм,
доказывает неколебимость истины и то, что нельзя быть блаженным без веры в
Бога. В большинстве случаев аргументация этих и близких к ним по
времени сочинений — чисто философская, хотя ссылки на Св. Писание уже
имеются (см.: «Против академиков», «О порядке», «О блаженной жизни»,
«Монологи», «О музыке», «О свободной воле» и др.). В дальнейшем,
конфессиональный и богословский элементы в произведениях Августина
усиливаются. Все большее место занимает полемика с религиозными
оппонентами: манихеями, донатистами, затем — пелагианами. Труды,
посвященные критике этих и других сект, составляют около трети собрания
сочинений Августина. В ходе этой полемики он нередко предлагает и
собственные решения догматических, а иногда и философских вопросов:
например, вопроса о соотношении свободы воли и благодати.
Значительную часть написанного Августином составляют комментарии на
библейские книги: «Толкования Псалмов», комментарий на «Евангелие от
Иоанна», три разных комментария на «Книгу Бытия». Среди сочинений,
специально посвященных христианской догматике, — фундаментальный
трактат «О Троице», написанный с привлечением теории познания и
тончайшей диалектики. Два самых знаменитых произведения Августина
посвящены философии истории: первое «Исповедь» (ок. 400 г.) содержит в
себе философский анализ истории собственной (и вообще
индивидуальной человеческой) души; второе — «О граде Божием» (после 410 г.) —
философский анализ всей истории человечества, включая гражданскую,
культурную и религиозную. Поводом для второго сочинения послужило
разорение Рима вестготами в 410 г. Это событие потрясло тогда жителей
всей Римской империи: гордый миф о вечном Риме был впервые тогда
развеян, казалось бы было доказано с очевидностью, что в этом мире нет
ничего вечного и что пути Провидения непредсказуемы. Напротив,
глубоко переживший эту катастрофу Августин решился доказать, что в
печальной судьбе Рима и всего языческого мира есть своя логика и история
предсказуема, если в ее предсказании опираться на Св. Писание. Вообще
Августину, воспитанному на книгах Цицерона, было свойственно во всем
искать логику и рациональные основания — даже там, где это было вовсе
неуместно, например, в догматах веры. Вместе с тем, его африканский
темперамент (возможно, он происходил из романизированных нумидий-
цев-берберов) вынуждал его признавать права воли и эмоций. Поэтому
его философия обнаруживает в себе и черты элегантного римского
рационализма, и черты глубокого психологизма, и признаки искренней, идущей
от сердца веры. Систематического философского учения Августин не
создал, но он высказался практически по всем важнейшим вопросам
философской теории, обсуждавшимся в его время, причем — с определенных
позиций, с позиций христианского платонизма. В теории познания,
логике, в учении о бытии, в эстетике, в большей части психологии и
космологии Августин — почти чистый неоплатоник и мало чем отличается в этом
144
Великая тетракида платонизма
смысле от Плотина. Зато в антропологии и этике, в учении о
происхождении и судьбах мира и человека, а, тем более, в учении о философском
смысле веры и религии — он чистый христианин. Что же касается самой
идеи Бога, то, как мы уже знаем, Плотин внес в августиновскую трактовку
христианского Бога свою весомую лепту. Это видно и по трактату «О
Троице», где описание идеи Бога ведется иногда в тех же терминах, что и
описание Единого у Плотина. Однако чаще при описании этой идеи
Августин пользуется психологическими аналогиями (например, Св. Троица
описывается по аналогии с тройственным единством памяти, воли и
разумения), опираясь при этом на библейское высказывание о том, что «Бог
есть Сущий», т. е. — что Бог и бытие — одно и то же (у Плотина Единое
выше бытия). Снижение идеи Бога до уровня бытия освобождало
Августина от необходимости слишком иррациональной теологии. Достаточно
рациональна и его трактовка традиционной для христианства проблемы
соотношения веры и знания: вера необходима пока мы не знаем, хотя
само знание выше веры («верю, чтобы понять!»); Однако далеко не все, во
что мы верим, можно сейчас проверить познанием (например, факты
прошлого, события будущего), поэтому вера бывает полезна, даже когда
знание невозможно. Вера в Бога не только не исключает богопознание, но
и ведет к нему. Важнейшим шагом на этом пути является человеческое
самопознание, ибо Бог живет не вне нас, а в нашей душе. Он есть сама
Истина, обитающая в нашем уме. Поэтому и всякое истинное знание
(например, знание геометрии или знание добра и зла) происходит благодаря
озарению светом божественной истины нашего ума. Отвергая
сверхразумное знание вместе с идеей сверхбытия, Августин устанавливал
пределом познавательных стремлений чистый и совершенный Разум Бога,
образом которого является человеческий разум. Вместе с тем, он не
пренебрегал и чувственным познанием, считая чувства сами по себе
безошибочными свидетелями реальности. Он разработал чрезвычайно тонкую
теорию времени, считая время, с одной стороны, порядком следования
явлений, с другой — формой чувственного восприятия этих явлений. В этом
он опередил на много столетий и Лейбница, и Канта. Совершенно новым
теоретическим результатом была философия истории Августина. Он
впервые представил историю как развитие всего человеческого общества
по единому, предначертанному Провидением плану, направленному к
одной цели: спасению «града Божия» и погибели «града земного»,
понимая под «двумя градами» перемешанные друг с другом сообщества
«себялюбцев» и «боголюбцев». Подчиняя этой эсхатологической идее все
события реальной и легендарной истории Августин подготовил своей
концепцией идею объективного исторического закона, подхваченную потом
Гегелем и Марксом. Влияние Августина в последующие века было
огромным. Раннее западное средневековье находилось почти полностью под
воздействием его идей. Их широко использовали и такие столпы
схоластики, как Фома Аквинский, Дуне Скот и Оккам, ему подражал Петрарка,
родственные Августину взгляды развивали позднее Декарт, Лейбниц,
Мальбранш. Августинианство имеет влияние и в наше время. ,jr-°
Великая тетракида платонизма
145
Этюд четвертый
«Ареопагитики»
Свод сочинений, известный под общим названием «Ареопагитики»,
включает в себя четыре трактата — «О божественных именах»,
«Мистическое богословие», «О небесной иерархии», «О церковной иерархии», —
десять писем и несколько гимнов. С момента их появления в VI в. их
авторство приписывалось Дионисию Ареопагиту, упомянутому в
Св. Писании («Деяния Апостолов», 17, 34). Столь почетное авторство
долгое время казалось достоверным (несмотря даже на то, что было
отвергнуто при Юстиниане церковными соборами), так как вполне
соответствовало необычайной глубине мысли, возвышенности слога и
исключительной богословской значимости этих произведений. К тому же они
отличались тем, что при обсуждении самых трудных и самых таинственных
богословских вопросов в них не допускалось ни малейших отклонений от
канонов православия. Однако позднее стало возникать сомнение: почему
до VI в. никто из христианских авторитетов, включая самых
осведомленных, ни разу не упоминает эти выдающиеся произведения? Это сомнение
побудило специалистов в дальнейшем (начиная с Эразма Роттердамского
и позднее, особенно в конце XIX в.) тщательно проанализировать
«Ареопагитики» с филологической и историко-философской точки зрения. При
этом было установлено, что греческий язык сочинений имеет черты,
отличающие его от языка I в., а в способах рассуждения автора имеются
признаки влияния неоплатонизма (и даже позднего), вплоть до почти
точных совпадений. Так возник «ареопагитский вопрос». Автора сочинений
стали именовать Псевдо-Дионисием. Однако и до сих пор этот вопрос
нельзя признать окончательно решенным. Большинство критиков
склоняется к мнению, что «Ареопагитики» были написаны автором,
находившимся под сильным влиянием философии Прокла (410-495 гг.), где-то во
второй половине V в. или начале VI в. (И. Стиглмайр, Г. Кох и др.).
Другие, как, например, П. Пера, относят их создание к концу IV - началу
Vbb., усматривая в них воздействие идей каппадокийской школы.
Ш. И. Нуцубидзе и , независимо от него, Э. Хонигман выдвинули
гипотезу о тождестве Псевдо-Дионисия с Петром Ивером, византийским
монахом грузинского происхождения, жившим в палестинской Газе в V в. Но и
в этой гипотезе есть немало сомнительного. Ясно только то, что все
«Ареопагитики» написаны одним автором, владевшим методом и языком,
которые применяли и неоплатоники. В тексте трактатов приводятся
названия и некоторых других сочинений Дионисия, которые не вошли в корпус
«Арерпагитик» и вообще не сохранились: «Богословские очерки»,
«Символическое богословие», «О свойствах и чинах ангельских» (это
сочинение, возможно, тождественно трактату «О небесной иерархии»), «О
душе» и др. В тексте имеются также указания на хронологическую
последовательность написания трактатов. В этой последовательности они пере-
чи' ены нами в начале нашего этюда.
146
Великая тетракида платонизма
Философия «Ареопагитик», совершенно неотделимая от богословия,
в общих чертах выглядит так. Ее целью служит познание Бога и мира.
Однако познание Бога представляет большие трудности, поскольку Бог в
своей сущности, т. е. каков Он есть на самом деле, непознаваем и может
быть узнан только по своим проявлениям («энергиям») и символам,
заключенным в божественном Откровении — в Св. Писании. В
определенном смысле и сам мир служит символом своего Творца — Бога. Поэтому
и богопознание, богословие, может быть либо утвердительное («катафа-
тическое»), когда о Боге утверждается нечто относящееся не к его
сущности, а к исходящим от него энергиям; либо отрицательное («апофатиче-
ское») — возводящее к сущности Бога путем отрицания всего того, что к
ней не относится. Кроме того, может существовать богословие
«символическое», изъясняющее слова, сказанные о Боге в Св. Писании, как
символы скрывающегося за ними духовного содержания. По признанию автора
«Ареопагитик» катафатический и символический пути богопознания
являются значительно менее эффективными, чем путь апофатический. Ка-
тафатическое богословие основано на аналогии и подразумеваемой
бесконечной интенсификации понятия. Например, верно, что Бог велик, но
приписывая это качество Богу, мы должны помнить, что все наши,
человеческие, представления о величии не идут ни в какое сравнение с
бесконечным величием Бога, что наша аналогия с «великим» условна. Так что
божественное величие мы все-таки не можем познать. Примерно так же
обстоит дело с символическим богословием. Библейские рассказы о том,
что Бог имеет руки, ноги, глаза, что Он гневается, ходит по земле,
отдыхает и т. п., мы можем, конечно, с Божией помощью истолковать
иносказательно и духовно, сообразно божественному достоинству. Но нет
никакой гарантии, что наше истолкование будет истинным. Даже созерцание
красоты и целесообразности мира как символов мудрости их Творца дает
нам лишь возможность удостовериться, что Творец этого мира
существует, но не позволяет нам лицезреть Его. Таким образом, оба указанные
пути приводят в конце концов к отрицанию, к незнанию. Следовательно,
путь отрицания, путь познания через незнание, и есть единственно
правильный путь. Апофатическое богословие называется также
«мистическим», т. е. таинственным, так как в нем раскрытие тайны божественного
существа достигается посредством как раз осознания Его таинственности,
непостижимости. Причина непостижимости Бога в том, что, будучи
абсолютно трансцендентным и беспредельным, Он не поддается никаким
логическим определениям и не может быть выражен ни в каких словах этого
мира. В силу своей неисчерпаемой полноты и превосходства над всем
мыслимым Он не есть даже ни что-либо сущее, ни что-либо не-сущее; ни
тьма, ни свет; ни заблуждение, ни истина; ни вечность, ни время. Для
человеческого ума преизбыточность божественного света оказывается
непроницаемым мраком, который постигается через осознание полного
неведения. Однако это — знающее, просвещенное, неведение, наиболее
соответствующее трансцендентной сущности Бога. «Ареопагитики» в этом
вопросе мало чем отличаются от Плотина и Прокла. Но они идут еще
дальше: Плотин оставлял своему первоначалу по крайней мере имена
Великая тетракида платонизма
147
Единого и Блага, в мистическом богословии «Ареопагатик» Бог ставится
выше противоположностей единого и многого, добра и зла. Впрочем, в
катафатическом богословии эти понятия трактуются вполне в духе
неоплатонизма: единство Бога — как абсолютное единство; зло — как
недостаток или отсутствие добра, т. е. как нечто не имеющее собственной
субстанции. Более оригинальны «Ареопагитики» в учении об иерархии
(«священноначалии») сущего, в котором земное человеческое сообщество
мыслится как вселенская церковная организация, служащая зеркалом
организации небесного сообщества ангелов.
Значение «Ареопагитик» в истории философии трудно переоценить.
В Византии и славянском мире это был на протяжении веков высший
эталон богословской и философской мысли. Все крупнейшие византийские
теологи, начиная с Максима Исповедника и кончая Григорием Паламой,
опирались на их авторитет. Трактаты Дионисия стали первыми
философскими трудами, переведенными на древнерусский язык. Они существенно
повлияли в недавние времена на таких русских философов, как В.
Соловьев, П. Флоренский, С. Булгаков, В. Лосский и др. В Западной Европе
они стали известны только в IX в., когда были переведены на латынь
Эриугеной, перенесшим многие идеи «Ареопагитик» в свой труд «О
разделении природы». В XIII веке они получили на Западе всеобщее
признание. Их высоко чтил Фома Аквинский, ими вдохновлялся Экхарт.
Особенно сильное воздействие они оказали на Николая Кузанского.
ЦИЦЕРОН КАК ФИЛОСОФ
Два тысячелетия отделяют нас от того времени, когда жил и творил
Цицерон. Но и сегодня имя великого оратора и теоретика красноречия,
автора «веррин», «катилинарий» и «филиппик» известно каждому.
Литература, посвященная Цицерону, поистине необозрима. И все же в этом
море литературы не найдется ни одного исследования, дающего
достаточно полное представление о всех сторонах его деятельности, включая
такую важную сторону, как философское творчество. А ведь Цицерон-
философ сыграл в истории почти столь же значительную роль, как и
Цицерон-ритор. Достаточно напомнить, что сами римляне считали его
первым, и нередко главным, своим учителем в области философии. С
идейным наследием Цицерона прочно связана латинская христианская мысль
эпохи патристики. Ему подражал Лактанций; Амвросий приспособил его
трактат «Об обязанностях» к своему нравственно-социальному учению;
Иероним сетовал, что, даже дойдя до высших ступеней монашеской
аскезы, он не искоренил в себе дух «цицеронианина»; а крупнейший
мыслитель патристики Августин черпал из сочинений Цицерона едва ли не
большую часть своей философской эрудиции и считал Туллия тем, «кем
философия на латинском языке была начата и закончена»1.
Ассимиляция идей Цицерона римскими отцами церкви сделала
возможным терпимое к ним отношение в Средние века. Во всяком случае,
некоторые его философские сочинения входили в круг тех немногих книг
античных авторов, которые старательно переписывались монахами в
продолжение всего средневековья, благодаря чему они и дошли до нас в
сравнительно неплохой сохранности. А что сказать об эпохе
Возрождения! Разве философию Ренессанса мы начинаем не с Петрарки? И разве
Петрарка-философ не начинается с возрождения цицероновской идеи
«humanitas» — человечности, гуманности, гуманизма? Не случайно
именно Петрарке принадлежит заслуга открытия утраченной было переписки
Цицерона с Аттиком и Брутом. За Петраркой идут Валла, Полициано,
Макиавелли, Эразм, Бэкон и бесчисленные другие ренессансные почитатели
«божественного Туллия», видевшие в Цицероне образец сочинителя, у
которого широта философской эрудиции счастливо сочеталась с
удобопонятностью и изяществом слога. Этот философский слог Цицерона был
сделан гуманистами надежным орудием борьбы с «варварским», как тогда
говорили, стилем схоластики. Сугубо светский и антидогматический
характер его философии находил самый живой отклик в гуманистическом
свободомыслии.
Но влияние идей Цицерона не прекращается и в последующие века,
и — что показательно — особым почетом они пользовались в эпоху Про-
1 Contr. Acad., 1,3.
Цицерон как философ
149
свещения и Великой Французской революции, т. е. в эпоху,
просветительские и республиканские идеалы которой были во многом созвучны
идеалам самого Туллия. Как и гуманистам Ренессанса, идеологам
Просвещения импонировало Цицероново стремление соединить мудрость с
красотой и пользой и создать «популярную» — понятную всем образованным
людям, — «красноречивую» и применимую на практике философию.
Вместе с тем по мере выдвижения новых грандиозных спекулятивных
систем, подобных учениям Декарта, Спинозы и Лейбница, «популярная»
философия Цицерона становилась все менее привлекательной для
философов-профессионалов. В сравнении с теоретической строгостью и
метафизической углубленностью этих учений, а тем более возникших позднее
учений классического немецкого идеализма, философия Цицерона
воспринималась как развлекательная беллетристика. С другой стороны,
расширение историко-философского кругозора, позволившее в конце концов
по достоинству оценить значение великих античных систем Демокрита,
Платона и Аристотеля, а также учений основных эллинистических школ,
опять же ставило Цицерона в невыгодное положение. Сопоставление его с
греческими корифеями приводило исследователей к выводу о сугубой
подражательности и эклектичности его философии. Роковую роль в
падении репутации Цицерона в XIX в. сыграли два известных немецких
историка — Моммзен и Друманн, представившие его в своих «Историях
Рима» в самом дурном свете и как политического деятеля, и как мыслителя.
Т. Моммзен видел в сочинениях Цицерона только упражнения
«фельетониста и адвоката». Под влиянием подобной гиперкритики русский
биограф Цицерона Е. Орлов говорил о нем, что «он не дал ни одной мысли,
которая обогатила бы сумму наших идей»2. Такие оценки вообще
типичны для девятнадцатого века.
Правда, французский историк Г. Буасье, автор великолепно
написанной монографии «Цицерон и его друзья», считал Цицерона
родоначальником новой, специфически римской философии с ее ориентацией на
практичность и рациональность, полагая, что народы Запада только через
ее посредство смогли потом воспринять философию греческую3. Позднее
взгляд на Цицерона как на учителя Запада подробно развил выдающийся
представитель русской школы классической филологии Ф. Зелинский в
работе «Цицерон в ходе веков», изданной на немецком языке4. Другой
представитель той же школы — М. Покровский характеризовал Цицерона
как «одного из крупнейших римских и европейских гуманистов-
просветителей»5. Так что стремление по достоинству оценить Цицерона
имело место и в тот период, когда в относящейся к римской эпохе
историографии почти безраздельно господствовали мнения Моммзена. В
более близкие к нам времена это стремление нашло свое выражение в двух
работах, имеющих одно и то же название «Цицерон и его время», —
2 Орлов Е. Демосфен и Цицерон. СПб., 1898. С. 85.
3 Буасье Г. Цицерон и его друзья. М., 1914. С. 315-316.
4 Zielinski Th. Cicero im Wandel der Jahrhunderte. Leipzig; Berlin, 1908.
5 Покровский Λ/. M. Лекции по Цицерону. М., 1914. Ч. П. С. 28.
150
Цицерон как философ
итальянского историка Э. Чачери и российского ученого С. Л. Утченко.
Касаясь вопроса об исторической роли философского творчества
Цицерона, Утченко справедливо отмечает, что главной заслугой Цицерона как
мыслителя следует считать не то, что он популярно изложил римлянам
греческую философию и привил им вкус к философии вообще, и даже не
то, что он создал латинскую научно-философскую терминологию,
которой европейцы пользуются и теперь, а то, что он осуществил
сознательный и целенаправленный синтез идей греческой философии, «на основе
извлечений и отбора всего, по его мнению, наиболее приемлемого» для
здравого смысла римлян7.
В книге Утченко специально не ставится задача анализа философии
Цицерона, но справедливости ради отметим, что именно в ней впервые в
нашей литературе дается краткая и, как правило, довольно точная
характеристика почти всех его философских произведений.
Так оценивали философию Цицерона историки и филологи. Что же
касается самих философов, то приходится с сожалением констатировать,
что в последние два века те из них, кто писали общие работы по истории
античной философии, к Цицерону оставались более или менее
равнодушны. Это относится даже к скрупулезному Целлеру, который, пожалуй, был
настолько же предан грекам, насколько равнодушен к римлянам. Прочно
закрепившаяся за Цицероном слава эклектика и популяризатора погасила
интерес к нему крупнейших историков философии. Работа по изучению
его философского наследия перешла в руки более узких специалистов. Из
лучших назовем двух современных: Г. Ханта, автора книги «Гуманизм
Цицерона»8, и В. Зюсса, выпустившего монографию «Цицерон. Введение
в его философские сочинения»9. Обе книги строятся по принципу
последовательного анализа главных философских произведений Цицерона с
выявлением их «оригинального», собственно цицероновского и
собственно римского содержания. Большое внимание уделено здесь и роли
Цицерона в передаче философских идей древности последующим поколениям,
и его значению в формировании европейского гуманизма. «Популярная»
философия Цицерона трактуется в обеих книгах уже отнюдь не как
упрощенная и развлекательная, а как достигающая глубокого понимания в
сердцах и умах многих людей, как такая философия, которая чужда
напыщенности и изощренности и которая обращается к человеку в простых,
но очень выразительных словах, увлекая его к мудрости не только своим
содержанием, но и прекрасной художественной формой. Именно о такой
«истинной» популярности философии Цицерона говорил в свое время
Иммануил Кант, когда писал: «Чтобы научиться истинной популярности,
нужно читать древних, например, философские сочинения Цицерона...
Ибо истинная популярность требует большого практического знания мира
и людей, их понятий, вкуса и склонностей, на что нужно постоянно
обращать внимание при изложении и даже в выборе уместных, пригодных для
6 Ciaceri Ε. Cicerone е i suoi tempi. Milano, 1926.
7 См.: Утченко С. Л. Цицерон и его время. М., 1972. С. 369.
8 Hunt Я. The humanism of Cicero. Melbourne, 1954.
9 Süss W. Cicero. Eine Einfuiung in seine philosophischen Schriften. Wiesbaden, 1966.
Цицерон как философ
151
популяризации выражений. Такое нисхождение до степени понимания
публики и обычных выражений, при котором не упускается
схоластическое совершенство... есть и на самом деле великое и редкое совершенство,
знаменующее большое проникновение в науку»10. Из этих слов Канта
становится ясным, что следует не упрекать Цицерона за такого рода
популярность его философии, а скорее стараться раскрыть секрет этой
удивительной популярности. Отрадно отметить, что историко-философская
критика последних десятилетий как раз и действует в этом направлении,
примером чему служат упомянутые работы Ханта и Зюсса.
Имеется также тенденция по-новому оценить эклектизм Цицерона.
Если раньше применительно к Цицерону в этот термин вкладывали
преимущественно отрицательное, обычное, значение некритического и
беспринципного соединения в одном учении разнородных идей,
заимствованных из случайных источников, то теперь в его эклектизме все чаще
усматривают грандиозную попытку создать на новой социально-
исторической основе своеобычную римскую философию, своеобразие
которой заключалось бы в ее универсальности и одновременно в ее пар-
тикулярности, т. е. философию, соответствующую и универсалистскому
духу мировой римской державы, и индивидуальным духовным
потребностям каждого ее гражданина; а эта философия, рассчитанная на всех и
каждого в этом огромном, пестром и противоречивом римском мире,
поневоле должна была стать эклектической, или, лучше сказать,
синтетической, объединяющей в себе и пропускающей через себя все, что было
создано до нее в области мысли подвластными Риму народами. С этой точки
зрения эклектизм Цицерона — не досужее дилетантство, а сознательно
поставленная и эффективно разрешенная задача громадной важности.
Примером подобного подхода к проблеме римского эклектизма вообще и
эклектизма Цицерона в частности могут служить работы А. Ф. Лосева
«История античной эстетики» и «Эллинистически-римская эстетика», где
Цицерону посвящены и специальные главы.
Правильная оценка эклектизма, или — лучше сказать —
синкретизма, Цицерона не снимает, конечно, вопроса об идейных источниках его
философии и влиянии на его взгляды концепций эллинистических школ.
Рассмотрим этот вопрос подробнее.
Сам Цицерон никогда не скрывал, что его философские воззрения
сложились под воздействием греческих учений. Еще в юности он
слушал лекции тогдашнего главы Афинской Академии Филона из Лариссы,
нашедшего приют в Риме во время Митридатовой войны (Брут, 306).
Филон принял Академию от Клитомаха, плодовитого автора, ученика
схоларха Карнеада. Карнеад был основателем и крупнейшим философом
так называемой Новой Академии, для которой характерны критическая
и скептическая направленность, а также приверженность
сократическому методу. Сам Карнеад ничего не писал; о его учении можно было
узнать из книг Клитомаха и Филона. Однако, как отмечал потом Цицерон,
Клитомах передавал идеи Карнеада более точно, чем Филон (Acad., И,
Кант И. Трактаты и письма. М., 1980. С. 355.
152
Цицерон как философ
78). Филон же в своих книгах отрицал, что существуют две Академии
(Acad., 1,13) древняя, собственно платоновская, и новая, карнеадовская,
считая, что у Карнеада не было никаких принципиальных расхождений с
Платоном, а скептицизм Карнеада имел единственную цель — защитить
платоновское учение от догматизма стоиков. Впоследствии, когда
Цицерон писал свои философские диалоги, он очень часто ссылался и на
Карнеада, и вообще на Академию; причем в первом случае он, по-
видимому, пользовался в основном сочинениями Клитомаха, а во
втором — лекциями и сочинениями Филона, ибо Карнеада он обычно
представляет читателю по-клитомаховски как сократика и скептика, а говоря
об Академии, он, как правило (за исключением специальной работы об
«академиках» (Acad., I и II), не делает различия между Древней
Академией и Новой. Касаясь влияния Филона на становление Цицерона как
философа, следует также заметить, что именно лекции Филона могли
дать первый импульс цицероновскому эклектизму, т. е. такому типу
философствования, когда главной заботой мыслителя становится не
доказательство своей самобытности и экстраординарности, а старательное
собирание на ниве истории рассыпанных тут и там зерен истины с верой
в то, что истинное знание, независимо оттого, когда и кем оно было
добыто, всегда и для всех остается истинным.
На стиль и метод мышления Цицерона оказал сильное влияние и Ан-
тиох из Аскалона, преемник Филона на посту главы Афинской Академии,
пошедший еще дальше своего учителя по пути сближения академической
философии с философией старых школ, и не только с философией
Платона, но и с учениями перипатетиков и стоиков. По мнению Антиоха,
расхождения между платониками, аристотеликами и стоиками имеют чисто
словесный характер. Отстаивая это мнение, он выступил против
скептицизма и феноменализма Филона, сочинив опровержение его книг (Acad.,
II, 12). Цицерон, будучи в период последних лет диктатуры Суллы в
Афинах, слушал лекции Антиоха целых шесть месяцев. Впоследствии он
писал об Антиохе как о «знаменитейшем и мудрейшем философе старой
Академии, который вновь (после Филона) оживил его — никогда,
впрочем, не угасавший полностью — интерес к философии» (Брут, 313).
Обучение у Антиоха должно было окончательно убедить Цицерона в том, что
истина одна, и она не принадлежит ни одной из школ, поэтому все учения,
исключая самые аморальные, заслуживают внимания: расходясь в своих
заблуждениях, философы сходятся, когда говорят истину. Пожалуй,
именно Антиох научил Цицерона ценить стоиков и перипатетиков,
оставаясь академиком.
Тогда же, в Афинах Цицерон вместе со своим другом Аттиком
слушал лекции эпикурейцев Федра и Зенона (De fin., I, 16). Федра, которого
он, по-видимому, читал и раньше (Ad fam., XIII, 1, 2), Цицерон высоко
ценил «сначала как философа, а потом как достойного и прекрасного
человека». Среди эпикурейцев он считал Федра каким-то исключением и
говорил, что в сравнении с ним не знает «никого утонченнее, никого
гуманнее» («О природе богов», I, 93). Об эпикурейце Зеноне Цицерон
также отзывался весьма положительно, называя его «остроумнейшим из
Цицерон как философ
153
эпикурейцев» (Туск. III, 38) и хваля его за ясность, убедительность и
красоту речи, отличающие его от других представителей этой школы («О
природе богов», I, 59). Однако, несмотря на эти высокие оценки,
Цицерон, если не считать, может быть, очень кратковременного увлечения
Федром в ранней юности, никогда не был сторонником эпикурейского
учения. Вместе с тем он старательно изучал его. В трактате «О пределах
добра и зла» он с полной уверенностью заявляет: «Все мнения Эпикура
мне достаточно известны» (De fin., I, 16). Судя по его собственным
указаниям, Цицерон не только читал самого Эпикура в подлиннике, но и
переводил многие его сочинения с греческого на латинский. Так он
перевел с греческого частично или полностью Эпикуровы «Сентенции»,
«Письмо к Гермарху», книгу «О высшем благе», «Завещание», возможно
также — книгу «О святости», «О почитании богов», «О наслаждении»11.
Отношение Цицерона к личности Эпикура сложно и противоречиво. В
подавляющем большинстве случаев он относится к Эпикуру
отрицательно и резко критически — против него и его последователей направлен
ряд сочинений Цицерона: вторая книга «О пределах добра и зла», вторая
часть первой книги «О природе богов», вторая книга «Тускуланских
бесед», значительная часть книги «О судьбе». Нет, пожалуй, ни одного
трактата, где бы он не пожурил, не высмеял, не осудил Эпикура. И все же
в этих трактатах Цицерон нередко оценивает Эпикура вполне
положительно и даже уважительно: «Никто не отрицает, что он (Эпикур) был
человеком благородным, доброжелательным и гуманным» (De fin., И,
80); «Он часто говорит много превосходного» (De fin., V, 26) и т. п. Явно
одобрительно отзывается Цицерон об эпикурейском отношении к дружбе
(De fin., I, 65). Не исключено, что знаменитый цицероновский трактат «О
дружбе» написан не только под воздействием одноименного трактата
Теофраста12, но и под непосредственным влиянием идей Эпикура.
Любопытно, что как раз в этом сочинении Цицерон особенно резко нападает
на главных противников эпикурейцев — стоиков.
Таким образом, мы можем говорить не только о хорошем знакомстве
Цицерона с эпикурейской философией, но в определенном смысле и о ее
влиянии на него. Мало того, что в полемике с эпикурейцами Цицерон
оттачивал свое остроумие и критическое мастерство, он еще и перенимал от
них тот дух жизнелюбия и трезвости, которым корректировал свое
отношение к ригоризму стоиков.
Учение стоиков следует считать одним из основных источников
философских и научных воззрений Цицерона. Еще в 85 г. до н. э., когда ему
шел двадцать второй год, Цицерон получил в наставники стоика Диодота,
обучавшего его искусству диалектики и риторики, — человека
разносторонней образованности, который потом до самой своей смерти жил в доме
Цицерона (Ad. fam., XIII, 16,4; Брут, 309 и др.). Во время своей первой
поездки в Грецию, столь важной в его научно-философской биографии,
Цицерон посетил Родос, где слушал знаменитого Посидония, тогдашнего
11 См.: De fin., 1,68; 11,20,21,100; De nat. deor., 1, 85,115,123; Tusc., 11,41 и др.
12 См.: Aul. Cellius. 1,3, 10.
154
Цицерон как философ
главу Стой, полигистора и, несомненно, самого влиятельного философа
того времени. Впоследствии Цицерон называл Посидония своим
«приятелем» (De fin., I, 6) и своим «учителем» («О судьбе», 5). Как мыслитель
Посидоний стремился к универсальному знанию, построенному на
натурфилософской и естественнонаучной основе. А этот его универсализм,
стремление связать все со всем, как часто бывало в истории философии, с
неизбежностью вел к эклектизму: в его учении «физика» соединялась с
астрологией, естественной магией и мантикой, наука — с суевериями,
стоические идеи — с платоническими и перипатетическими. Посидоний
ориентировал философию в том же направлении, что и Антиох, хотя
последний имел опорной точкой платонизм, а первый — стоицизм. Слушая
Посидония после Антиоха, Цицерон, разумеется, должен был еще раз
убедиться, что между стоиками с одной стороны, и платониками и
перипатетиками с другой, нет непреодолимых расхождений и что, во всяком
случае, в каждом из их учений есть много такого, что приемлемо и для
других. По-видимому, именно Посидоний своими одноименными
произведениями подсказал Цицерону идею создания трактатов «О природе
богов», «О дивинации» и «О судьбе», хотя, как мы увидим, Цицерон в этих
трактатах отнюдь не во всем следует за Посидонием, а в последних двух и
определенно выступает против него. В чем Цицерон действительно
ученик Посидония — так это в космологии и физике, однако очищенных от
всякой астрологии, магии и мантики. Значительное влияние Посидония
ощущается в третьей книге последнего цицероновского трактата «Об
обязанностях». Но в том же трактате, а еще больше в первых философских
диалогах Цицерона «О республике» и «О законах» чувствуется влияние
другого прославленного стоика — Панетия, учителя Посидония. Панетий,
один из духовных руководителей «кружка Сципиона», ставшего в
середине II в. до н. э. первым центром философского просвещения римлян, был
наставником тех, кого Цицерон считал для себя образцовыми римлянами
и кого он поэтому с наибольшей и нескрываемой симпатией изобразил в
своих диалогах — самого Сципиона, Лелия, Фанния, Сцеволу. Не
случайно Панетий пришелся по вкусу в этом аристократическом кружке. Его
стоицизм по сравнению с учением Древней Стой был, по словам самого
Цицерона, куда более мягким, компромиссным и светским (De fin., IV,
79). Эти черты должны были, конечно, импонировать Цицерону. Кроме
того, Панетий больше, чем его ученик Посидоний, внимания уделял
вопросам этики и политики, где также отстаивал принципы умеренности,
практичности и реализма. Он отказался от стоического ригоризма,
высказывал сомнения относительно мантики и астрологии. Все это побудило
Цицерона постоянно обращаться к его сочинениям. Анализ диалогов
Цицерона показывает, что, хотя он, может быть, более основательно и
всесторонне знал учение Посидония, все же из всего стоицизма именно
учение Панетия оказало на него наибольшее влияние.
Из других близких по времени источников философских воззрений
Цицерона можно упомянуть и перипатетиков: Критолая, Диодора, Кра-
тилпа и Стасея. Их Цицерон не называет своими учителями, но нередко
на них ссылается, а главное — он разделяет многие мнения перипатети-
Цицерон как философ
155
ков, особенно в этике. В последней, пятой книге трактата «О пределах
добра и зла», где Цицерон формулирует наиболее вероятный, на его
взгляд, способ разрешения проблемы, он фактически излагает мнение
перипатетиков. То же самое можно сказать и о пятой книге «Тускуланских
бесед». Однако главными источниками этих книг следует скорее признать
не современных Цицерону перипатетиков, а древних: самого Аристотеля
и Теофраста. Знает Цицерон также Стратона, Дикеарха и Аристоксена,
причем, судя по его «Письмам», знает нередко по первоисточникам.
Аристотеля же он знает только раннего; главные труды Аристотеля периода
Ликея, по-видимому, ему не были доступны. Отсюда вполне понятно, что
Цицерон, как и Филон с Антиохом, считал, что «Аристотель и Теофраст с
Древней Академией на деле согласны, а в способе выражения несколько
расходятся» (De leg., I, 38,55). Не находя у перипатетиков ничего особо
оригинального по сравнению с платониками, Цицерон обычно объединял
их и все лавры «Ликея» присваивал «Академии». Что же касается самого
Аристотеля, то его он ценил очень высоко, считая «после Платона первым
среди философов» (De fin., V, 10).
Влияние идей Платона на мировоззрение Цицерона отмечается на
протяжении всего его творчества. Особенно сильно оно сказалось на
ранних его диалогах «О республике» и «О законах», написанных в
подражание одноименным диалогам Платона. Первый из этих диалогов
заканчивается знаменитым «апофеозом» («Сон Сципиона»), где Цицерон
фактически воспроизводит платоновскую идею посмертного воздаяния.
Значительно влияние платоновской философии и в «Тускуланских беседах» и в
«Катоне». Кроме уже указанных, из произведений Платона Цицерон знал
«Апологию», диалоги «Федон» и «Федр». Он был первым латинским
переводчиком диалога «Тимей». Вместе с тем надо отметить, что, несмотря
на неизменное преклонение перед Платоном, Цицерон никогда не был и
не считал себя платоником. Учение «величайшего из философов»
представлялось ему слишком умозрительным и отвлеченным. Из всего
платонизма, пожалуй, только одна идея по-настоящему глубоко затронула
Цицерона и была им навсегда усвоена: это идея самодвижения и
самоопределения души. В метемпсихоз и анамнесис, равно как и в теорию
бестелесных эйдосов, он всерьез не верил.
Наконец, надо сказать и о влиянии Древней Стой. Цицерон немало
говорит и о Зеноне и о Клеанфе, но знает по первоисточникам он, по-
видимому, только Хрисиппа. В его время из необъятного литературного
наследства Хрисиппа сохранялось еще довольно многое. Похоже на то,
что Цицерон был знаком с некоторыми его сочинениями по логике и
этике. Критикуя другие стороны учения этого стоика, Цицерон полностью
одобряет его логику (диалектику) и даже считает, что в этой части
философии Хрисипп сделал больше всех других (De fin., IV, 9) и что
«диалектика — наука Хрисиппа» (Orat., 115). Так что не от Аристотеля, а от
Хрисиппа усвоил логику Цицерон. Из этических сочинений Хрисиппа (или их
позднейших переложений) Цицерон брал в основном примеры и общие
места, а аргументацию обычно не принимал. Об этой аргументации он
специально написал книгу «Парадоксы стоиков». Вместе с тем учение о
156
Цицерон как философ
самодостаточности добродетели для счастья постоянно увлекало
Цицерона своей возвышенностью и ни «Тускуланские беседы», ни трактат «О
пределах добра и зла» не дают оснований считать, что Цицерон когда-
либо полностью отказывался от стоического понимания высшего блага.
Итак, мы перечислили здесь основные источники философии
Цицерона. Как видно из этого обзора, Цицерон в своем философском
становлении не обошел вниманием ни одной из великих классических и
эллинистических школ. От каждой из них он что-то позаимствовал, но
от чего-то и отрекся. Список философов, включая досократиков,
которых Цицерон цитирует и излагает, одобряет и критикует можно было бы
десятикратно увеличить. Такова почти невероятная эрудиция Цицерона
и таков почти необозримый круг источников, вовлеченных им в сферу
критической переработки и предполагавшегося последующего синтеза.
Но не сама по себе эрудиция была целью Цицерона в философии, его
конечной целью было создание новой, универсальной по методу и
содержанию, римской по духу философии. А потому ближайшей и
предварительной его задачей становилось отделение истинного и
правдоподобного от ложного и маловероятного во всей предшествующей истории
философской мысли. Рим расширился до пределов мира — римская
философия должна была начинаться как всемирная. Эта идея руководит
Цицероном во всех его философских работах. Она придает его
сочинениям действительно космополитический и вместе с тем неподдельно
патриотический, римский характер, сообщает им дух непредвзятости и
одновременно глубокой заинтересованности, наполняет их страстью
непрерывного поиска и нетерпеливым ожиданием окончательного
результата, делает их открытыми, как мир, и все-таки определенными в
своих границах, как Рим. При чтении его сочинений неотвратимо
создается впечатление, что Цицерон независим от своих источников. Сколько
бы он ни излагал, сколько бы ни цитировал греков, он всегда выступает
не в роли простого комментатора или компилятора, а в роли
неподкупного судьи. Он не чувствует себя связанным обязательствами с какой-
либо школой, ему чужды сектантство и партийная ненависть, для него
«сила доказательств» выше всякого авторитета («О природе богов», I,
10). Эта сила доказательств и является для Цицерона одним из двух
основных критериев оценки греческих идей. «Пусть же, — пишет Цицерон
в «Тулусканских беседах», — каждый защищает мнение, которое ему по
душе, а мы будем придерживаться правила не сковывать себя уставами
какой бы то ни было секты, как это обычно делается в философии, а
будем по своему обыкновению искать на каждый вопрос самого
правдоподобного ответа» (Tusc, IV, 7). Другим критерием оценки философских
идей греков для Цицерона служит их «полезность для республики»,
которая на практике означает их пригодность для улучшения римских
нравов и для развития римского просвещения. Ведь философия, по
убеждению Цицерона, — это «наука об исцелении души» (Tusc, III, 6) и «наука
жить достойно» (Ibid., IV, 6). Она же — «руководительница душ, изы-
скательница добродетелей, гонительница пороков», она породила
государства, «объединила в общество рассеянных по земле людей», «устано-
Цицерон как философ
157
вила законы» (Ibid., V , 5). «Но мы видим: мало того, что философия не
получает похвал за ее услуги жизни людской, — большинство людей ею
просто пренебрегают, а некоторые даже и хулят. Хулить философию,
родительницу жизни, — это все равно, что покушаться на
матереубийство, но и этим себя пятнают люди, столь неблагодарные, что бранят ту,
кого должны бы чтить, даже не умея понять! Но я думаю, что это
заблуждение, этот мрак, окутывающий непросвещенные души, держится от
того, что люди не могут заглянуть в прошлое настолько, чтобы признать
в первостроителях этой жизни философов» (Туск., V, 6. Пер. М. Гаспа-
рова). Кто из мыслителей прошлого прославил философию лучше, чем
Цицерон? Кто больше любил ее и верил в ее великую очищающую и
просвещающую силу? Кто лучше осознал ее гуманистическую миссию?
Он не стремился к созданию собственной философской системы, не
претендовал на открытия в науках. Его задачи более скромны, но
исторически более значительны: познакомить римлян с философией, привить им
любовь к ней, научить отличать истинную мудрость от лжеименной,
показать им всю красоту добродетели и убедить их в том, что они не
только способны делать открытия не хуже греков, но и то, что
заимствуют у греков, могут улучшать и совершенствовать, и это относится к
философии не меньше, чем ко всему другому (Tusc, I, 1). Таким
образом, Цицерон в основном и в главном — философ-просветитель.
Термин «просвещение» обычно относят к философии XVIII в. Но
ведь такой феномен, как «просвещение», если его толковать несколько
шире, чем «буржуазное просвещение», характерен и для других эпох.
Можно, например, уверенно говорить об эпохе софистов и Сократа как
об эпохе эллинского просвещения. Подобное же можно сказать и об
эпохе Цицерона, Лукреция и Варрона. Все они — представители
римского просвещения. В чем же своеобразие просветительской мысли и
просветительской философии? Что позволяет объединять столь
отдаленные друг от друга во времени и столь разные по социально-
историческому содержанию явления одним словом — «просвещение»?
Что общего между Цицероном и Вольтером, между Гольбахом и
Лукрецием, вдохновителем «Энциклопедии» французом Дидро и римским
энциклопедистом Варроном? Наконец, почему Цицерон был так дорог
французским просветителям и за что его так ценил Вольтер? На все эти
вопросы ответить довольно просто. Во-первых, для той философии,
которую мы называем «просветительской», типично не столько
углубление, сколько расширение, распространение и систематизация знаний.
Во-вторых, для нее характерна борьба с суевериями и предрассудками.
В-третьих, ей присущ своеобразный универсализм и «эклектизм» —
свободное заимствование из всех источников всего того, что служит
общечеловеческим идеалам. В-четвертых, «философия просвещения» —
это критическая философия, не признающая никаких непререкаемых
авторитетов, кроме самой истины, враждебная догматизму и
сектантству; это — философия критически относящаяся к современному ей
обществу, к его системе ценностей, и особенно к морали. Наконец, это в
самом высоком смысле популярная философия, рассчитанная не столько
158
Цицерон как философ
на философов-профессионалов, сколько вообще на образованную
публику; поэтому она антисхоластична, пользуется доступным языком и
часто выражается в художественной форме. По всем указанным
признакам Лукреций и Гольбах, Варрон и Дидро, Цицерон и Вольтер —
представители одной и той же философии просвещения.
Будучи просветителем, Цицерон является также
философом-гуманистом, хотя бы и с учетом того, что понятие «гуманизм» по отношению к
античности должно применяться несколько иначе, чем по отношению к
Новому времени. Гуманизм Цицерона выразился прежде всего в его постоянном
внимании к судьбе человеческого индивида, к его психологии, к его
горестям и радостям, к тому, как сделать человека счастливым при любых, даже
самых неблагоприятных обстоятельствах. Цицерон не предлагает здесь
спасительных рецептов, но он глубоко верит в возможность человеческого
счастья. При этом после некоторых колебаний он отказывается от завышенного
идеала счастья, который выдвигали стоики (см. например: О дружбе, 18), и
ищет такой идеал, который при всей своей возвышенности, был бы
реалистичным и достижимым для обычного, со всеми его слабостями,
исторического человека. Гуманизм Цицерона проявился в его отстаивании идеи
человеческой свободы (см.: трактат «О судьбе»), в бережном, почти интимном
отношении к культурному наследию прошлого, в глубоком уважении и
понимании духовного творчества других людей. Он проявился в
цицероновском обосновании социальных, гражданских и моральных обязанностей
человека, в высочайшей оценке дружбы, в неподдельной любви к добродетели
и в том страстном убеждении, что по-настоящему счастлив быть может
только человек честный (vir bonus). Поразительно и достойно восхищения,
что Цицерон, по натуре человек довольно тщеславный, о котором Плутарх
позднее писал, что «он без конца восхвалял самого себя»13 и что он «без
памяти любил славу»14, сумел в своих книгах по достоинству оценить такую
человеческую добродетель, как «скромность», а в образе Катона Старшего в
одноименном диалоге воспел простой и нелегкий крестьянский труд и,
предвосхищая Горация и Вергилия, учил, что именно занятие земледелием
«наиболее соответствует образу жизни мудреца» («Катон», 51). Говоря о
гуманизме Цицерона, нельзя не вспомнить и о том, что одно из самых
прекрасных и влиятельных его произведений «Тускуланские беседы» учит нас
не бояться смерти, быть мужественными и преодолевать страдания, утешает
нас в горе, учит умеренности в страстях и неограниченности в добрых делах.
Цицерон был сложный человек, не слишком последовательный политик и
весьма противоречивый мыслитель. Но в одном он оставался
последовательным: в своих философских сочинениях он всегда стремился дать ответ
на вопрос, как человеку стать лучше. И в этом его гуманизм.
13 Плутарх. Цицерон, 24.
Там же, 51. Но тот же Плутарх говорил о Цицероне, что он прославил в речах,
книгах и письмах всех достойных современников (Там же, 24) и «дал надежные доказательства
своего презрения к наживе, своего человеколюбия и честности» (Там же, 52).
Цицерон как философ
159
* * *
Избранные нами для анализа три трактата Цицерона — «О природе
богов», «О дивинации» и «О судьбе» — не относятся к числу самых
совершенных его произведений. Вместе с тем в просветительской
программе Цицерона они занимают особенно важное место: именно в них дает он
развернутую и всестороннюю критику господствующих суеверий, в них
определяет свое отношение к религии, в них с наибольшей ясностью
выражает свое убеждение в том, что за достоверное следует принимать
только либо доказанное строго рациональными доводами, либо
оправданное исторической практикой.
Все три произведения созданы Цицероном в последний период его
деятельности, когда им была написана и большая часть других его
философских трактатов. Для Цицерона это был трудный период, хотя для
человеческой культуры, может быть (по выражению Квинтилиана), —
«счастливейший» 5. После победы при Фарсале (48 г. до н. э.) Юлий Цезарь
становится фактически единоличным диктатором. Его положение еще
более укрепляется после разгрома сенатских войск в Африке (46 г. до
н. э.) и Испании (весна 45 г. до н. э.). Цицерон, один из признанных
лидеров сената и участник недавних антицезарианских кампаний, оказывается
отстраненным от политической жизни. Испытывая непреодолимую
ненависть к любым формам диктатуры и осознавая в то же время свое
бессилие изменить создавшуюся ситуацию, он уединяется в своей Тускулан-
ской вилле и лишь изредка наезжает в Рим. Однако и в этих условиях он,
по его собственным словам, не оставляет своих забот о республике:
лишенный возможности быть ее политическим руководителем, он решает
посвятить себя делу просвещения своих сограждан и «ради самой же
республики» изложить римлянам на их родном языке греческую философию
(«О природе богов», I, 7). К усиленным занятиям философией побудило
его и еще одно, притом трагическое обстоятельство. Весной 45 г. до н. э.
умирает его любимая дочь Туллия. После ее смерти он какое-то время
находится в состоянии полного отчаяния и даже помышляет о
самоубийстве. Утешение он получает только в философии. За кратчайший срок
(45-44 гг. до н. э.) он пишет и издает более десятка философских работ, в
числе которых и три названных трактата, направленных против суеверия.
Первый из них — «О природе богов» был начат Цицероном летом
45 г. до н. э. и закончен не позднее февраля следующего года. В письме к
Аттику в июне 45 г. до н. э. Цицерон просит своего друга выслать ему
для работы сочинения эпикурейца Федра «О богах» (Péri theôn), что
можно считать указанием на время начала подготовки первой книги
трактата16. Вместе с тем о Цезаре в трактате говорится как о еще
здравствующем диктаторе, что служит свидетельством подготовки его издания
до мартовских ид. О его издании Цицерон сообщает во второй книге «О
дивинации» (II, 3).
15 Instit. orat., ΧΠ. 11,7.
16 Ad Att., XIII, 39.
160
Цицерон как философ
Трактат имеет обычную для сочинений Цицерона форму диалога и
состоит из трех книг. Главными участниками диалога являются эпикуреец
Веллей, стоик Бальб и академик Котта. Все они реальные, исторические
лица, старшие современники Цицерона. Правда, о Веллее и Бальбе нам
известно (через самого же Цицерона) очень немногое. Веллей в 90 г. до
н. э. занимал должность народного трибуна, был другом оратора Красса и
одним из видных римских сторонников эпикурейского учения. Луцилий
Бальб, как и сам Цицерон, был учеником известного римского юриста и
понтифика Квинта Муция Сцеволы. Он оценивается Цицероном как
человек «ученый и образованный» и ставится им в один ряд с крупнейшими
греческими стоиками. Об Аврелии Котте сведения несколько более
полны. Он родился в 124 г. до н. э. Как сторонник аристократии был в 90 г. до
н. э. изгнан из Рима, а в 82 г. до н. э. возвращен назад Суллой. В после-
сулланский период избирался понтификом и в 75 г. до н. э. — консулом.
Умер Котта в 74 г. до н. э. во время проконсульской службы в Галлии.
Цицерон хвалит Котту за ораторское мастерство, которому тот, по его
словам, научился у академиков. Из всех участников диалога Котта —
самый умелый критик и изображен Цицероном с наибольшей симпатией.
Вообще надо сказать, что при изображении своих персонажей Цицерон
широко пользуется драматическими приемами. Каждый персонаж имеет
свое лицо, свой темперамент, свою биографию, свои особые достоинства
и слабости. Участники его диалогов не только доказывают, спорят и
опровергают друг друга, они шутят, иронизируют, бранятся, мирятся и
извиняются. Их речь близка к разговорной. Их характеры всегда жизненны
и многогранны. Цицерон избегает схематизма, черно-белым контрастам
предпочитает пластичность и полутона. Но цицероновские персонажи при
всей своей индивидуальности выступают и как обобщенные и типические
образы. Одним словом, в его диалогах — все как в хорошем театре. Да и
цель его сочинений — не столько найти истину, сколько вдохновить
читателя на ее поиски, не столько изложение, сколько действие.
В данном диалоге действие, разумеется, вымышленное, происходит
примерно в 75 г. до н. э. в Риме, в доме Котты, в дни Латинских
праздников. Среди гостей Котты присутствует и сам Цицерон. Но он, как явствует
из его же слов, выступает в роли только слушателя и не участвует в споре
сторон, оставляя за собой право свободно решать, кто из спорящих
окажется ближе к истине (I, 18). От своего собственного лица Цицерон
говорит только во вступлении (I, 1-17) и самом конце трактатами, 94-95).
Первая книга начинает с авторского вступления, где Цицерон ставит
вопрос о существовании и природе богов, а также о божественном
провидении. Он говорит, что из всех философских вопросов — этот самый
темный и трудный и что в попытках решить его философы наговорили много
сомнительного. Вместе с тем он считает этот вопрос важным для
практической жизни людей, так как, по его мнению, без веры в богов и
божественное Провидение потеряли бы свою основу милосердие, святость,
благочестие и почитание, а также столь необходимые для человеческого
счастья верность, людское единение и справедливость. Короче говоря,
уже во вступлении Цицерон выделяет в своем отношении к религии два
Цицерон как философ
161
аспекта: теоретический и практический, или, другими словами, философ-
ско-теологический и нравственно-политический. Уже здесь он высказывает
глубокое сомнение в возможности построения теоретической теологии —
такой, где все было бы основано на силе доказательств, а не на слепой вере
(I, 10). В то же время он склоняется к тому, что для нравственности и
политики религия необходима. Таким образом, Цицерон с самого начала
обозначает свой собственный подход к проблеме — подход, который очень
напоминает будущую теорию двойственной истины.
После вступления слово предоставляется эпикурейцу Веллею. Его
речь состоит из трех частей: в первой — он с большой иронией
критикует или просто высмеивает общие принципы теологии Платона и стоиков
(I, 18-24); во второй — дает критический обзор истории философской
теологии, начиная с Фалеса и кончая Диогеном Вавилонским (I, 25—41); в
третьей — излагает и защищает эпикурейское учение о богах (I, 42-56).
Неравнозначность и стилистическая неоднородность указанных частей
речи Веллея объясняется, по-видимому, тем, что Цицерон использовал
для ее сочинения разные источники. Основным источником для второй и,
возможно, третьей части были трактаты упоминавшегося нами
эпикурейца Зенона Сидонского. Об этом свидетельствует простое сравнение
содержания второй части с сохранившимися фрагментами из Филодема —
последователя Зенона. Вероятным источником для первой части можно
считать тот самый трактат Федра «О богах», который Цицерон просил
ему выслать в письме к Аттику. Поэтому-то в первой части речи,
составленной по Федру, больше риторики и общих мест, а во второй и третьей,
написанных по Зенону, больше конкретного анализа и аргументации. Во
всяком случае, ясно одно — речь Веллея передает не просто
цицероновское восприятие эпикурейского учения, она, по крайней мере в первых
двух частях, передает само это учение. Однако в этой речи можно уловить
и собственные симпатии и антипатии Цицерона. Даже неподготовленному
читателю бросится в глаза замечание Цицерона о чрезмерной
самоуверенности эпикурейцев (I, 18). В речи Веллея все утверждения звучат
действительно слишком категорично. Его ирония и шутки подчас грубоваты,
доводы иногда довольно легковесны. Особенно неубедительно и даже
издевательски звучит в устах Веллея обоснование эпикуровской теории
«истечения образов» и его идеи антропоморфности богов. По всему этому
чувствуется, что эпикурейцы не в большом почете у Цицерона. Тем не
менее Цицерон не хочет выглядеть пристрастным и старается сохранить
объективность. Его принцип при изложении философии такой же, каким
позднее будет руководствоваться другой римлянин, Тацит, при изложении
истории: судить «без гнева и пристрастия», «не поддаваясь любви и не
зная ненависти»17. Вот почему, несмотря на существенные расхождения с
мнениями самого Цицерона, аргументы Веллея представляются в
большинстве случаев весьма убедительными. Более того, в ряде мест в самом
тоне и способе аргументации Веллея вычитывается солидарность
Цицерона с критическими замечаниями и недоумениями эпикурейцев. Так,
17 Анналы 1,1; История 1,2.
162
Цицерон как философ
вопросы, касающиеся происхождения мира от бога и времени от
вечности, которые Веллей обращает к платоникам (I, 19-23), — это, конечно, и
вопросы Цицерона. Эпикурейская критика непоследовательностей в
теологии Аристотеля (I, 33) и несообразностей пантеизма и герменевтики
стоиков (I, 36-41) — это одновременно и позиция самого Цицерона.
Полностью солидарен Цицерон с Веллеем, когда тот выступает против
стоической идеи провидения (пронойя) как судьбы и основы мантики — этого
«заразного суеверия» (I, 55). Короче говоря, Цицерон одобряет большую
часть эпикурейской критики и совершенно не приемлет эпикурейскую
догматику, т. е. созданное Эпикуром и его последователями
положительное учение о богах.
Вторую половину первой книги диалога «О природе богов» занимает
речь Котты против эпикурейцев. Хотя Котта, как мы знаем, — сторонник
Новой Академии, эта его речь составлена Цицероном на основе не только
академических (Клитомах, Филон), но и стоических источников. Мало того,
что Котта подчеркивает здесь преимущества стоиков перед эпикурейцами
(I, 121) и цитирует Посидония (I, 123), он использует и характерно
стоические возражения против эпикуреизма и нередко такие, которые не могли
быть приняты у академиков. Например, отвергая мнение эпикурейцев о
человекоподобии богов, Котта явно поддерживает стоическую идею
возможности разума, не связанного с человеческим телом (I, 87, 89, 98).
Совершенно в духе стоиков он говорит о невозможности блаженства без
добродетели (I, 110). В духе стоиков ведется и критика эпикурейского
антропоморфизма. Резкие оценки Эпикура как врага и ниспровергателя религии
также идут от стоиков. Очень показательна защита Коттой от эпикурейских
нападок телеологического доказательства бытия бога (1,100).
Как считает большинство исследователей данного трактата
Цицерона, главным источником для речи Котты в первой книге было то
сочинение Посидония «О богах», о котором сообщает Диоген Лаэрций (VII,
138). В последней, пятой книге этого сочинения Посидоний давал
опровержение эпикурейской теологии. Если учесть, что Цицерон в
следующем разделе своего трактата фактически воспроизводит остальные
четыре книги указанного сочинения Посидония, вывод о зависимости речи
Котты от содержания пятой книги кажется вполне обоснованным.
Однако не следует переоценивать эту зависимость. Все-таки в начальной
части речи (I, 57-64) Котта рассуждает совсем не как стоик, а как чистый
академик: «Спроси меня, какова, по-моему, природа богов, и я тебе,
вероятно, ничего не отвечу» (I, 57); «По всем вопросам, а особенно
физическим, я скорее мог бы сказать, чего нет, чем, что есть» (I, 60); «То, что
боги существуют — это я не буду оспаривать, но буду оспаривать
доказательства» (I, 62). Подобные же «академические» суждения встречаются
во всей речи (I, 71, 80, 86, 90 и др.). Конечно, острая и даже агрессивная
критика эпикуреизма (см. например: 1,61) наводит на мысль о влиянии в
данном пункте врагов Эпикура — стоиков. Но мы знаем, что
эпикурейцев критиковал также Карнеад (см.: «О судьбе»), а значит, и Клитомах,
которого читал Цицерон. Кроме того, в своей речи Котта не раз
упоминает академика Филона. Следовательно, говорить о том, что Посидоний —
Цицерон как философ
163
главный источник для речи Котты, преждевременно. Да и сводимо ли
содержание этой речи к греческим источникам? Ведь совершенно
очевидно, что в большинстве случаев устами Котты здесь говорит сам
Цицерон. При этом заметим, что там, где прорывается мысль самого
Цицерона, речь становится особенно «римской» и особенно гражданственной.
Котта-Цицерон говорит, что он удивляется, как один гарусник
может, глядя на другого, удерживаться от смеха (I, 71), и в то же время
заявляет: я сам понтифик, считающий, что необходимо в высшей степени
свято соблюдать общественные религиозные обряды (I, 61). Еще он
утверждает, что сомневаться в существовании богов теоретически очень
возможно и, больше того, что существование богов — это вообще не предмет
доказательств, а предмет веры (I, 61-62), столь необходимой, согласно
Цицерону, для общественной жизни. Задолго до Августина Цицерон
провозглашает религиозную веру особым случаем веры вообще. Нельзя жить,
если не верить (credere) тому, что недоступно непосредственному
чувственному восприятию. Нельзя, например, не верить историческим фактам
и открытиям разума, хотя их не всегда можно чувственно проверить (I,
87-88). Нельзя доказать существование богов, но верить в них заставляет
история и практика гражданской жизни. Пусть природа богов недоступна
человеческому познанию — религиозные обряды, переданные предками,
должны свято соблюдаться. Религия состоит не в теологии, а в
«благочестивом культе богов» (deorum culto pio) (I, 117). Иногда создается
впечатление, что Цицерон считал теологию не только излишней для религии, но
и враждебной ей. Его не устраивала ни платоническая теология, ни
аристотелевская, ни стоическая, а об Эпикуре он говорил, что тот своей
«теологией» «до основания разрушил всю религию и не руками, а учением
своим опрокинул храмы и жертвенники бессмертных богов» (I, 115).
Вполне одобряя Эпикура за его борьбу с суевериями, Цицерон осуждал
его за то, что, уничтожая суеверия, он уничтожил также и религию
(I, 117). А чем, по Цицерону, суеверие отличается от религии, мы узнаём
из второй книги трактата.
Вторая книга «О природе богов», написанная Цицероном, как мы
уже сказали, в основном на материале сочинения Посидония, излагает
принципы стоической теологии. Выразителем учения стоиков выступает
Бальб. Он произносит очень длинную речь, в которой, по-видимому, в
соответствии с темами первых четырех книг трактата Посидония
раскрываются четыре вопроса: о существовании богов, их природе, их
управлении миром, их заботе о человеке (И, 3).
Мы не будем останавливаться здесь на всем чрезвычайно
насыщенном содержании речи Бальба, тем более что мы не ставим себе задачей
анализировать философию стоиков. Нас здесь интересуют ведь сам
Цицерон и его собственная философия. Поэтому, как и ранее, заострим
внимание лишь на том, что Цицерон особенно одобряет и что, судя по характеру
речи, — не одобряет у стоиков и, конечно же, на том, что в этой речи
принадлежит его самостоятельной мысли.
Вначале заметим, что почти все доказательства существования Бога,
использованные позднее христианскими философами и теологами, со-
164
Цицерон как философ
держатся во второй книге цицероновского сочинения «О природе богов».
Здесь и доказательство от иерархии совершенств(И, 32-39), и от
космической красоты и гармонии (II, 4, 14, 19, 54-56) и аргумент от
целесообразности творений природы (II, 13, 14, 37,85). Но это — аргументы не
Цицерона, как считали многие в Средние века и даже в Новое время, а стоиков.
Нет достаточных оснований считать, что Цицерон верил в силу этих
аргументов, за исключением разве что второго. В третьей книге трактата он
устами Котты будет критиковать, и притом весьма убедительно, и
стоическую теорию совершенств, и телеологию. Другие, специально стоические
аргументы в пользу существования божественного Провидения он и вовсе
отвергнет. Пожалуй, только два довода из речи Бальба Цицерон признает
правдоподобными: первый — стоический, апеллирующий к космической
гармонии; второй — римский и собственно цицероновский, состоящий в
том, что величие римского государства было создано теми, кто исполнял
обряды религии отцов (II, 8).
По вопросу о природе и свойствах богов Цицерон, несомненно,
солидарен со стоической критикой антропоморфизма. Слишком
вдохновенна и неподдельна речь Бальба в этой части (II, 59-72), чтобы не
увидеть за ней мысли самого Цицерона. Он соучаствует в рассуждении
Бальба о происхождении языческого политеизма. Вместе с ним он
рассматривает политеизм как олицетворение и обожествление природных
сил и человеческих потребностей (II, 59-69). Принимает он отчасти и
стоический метод герменевтики, а к греческим аллегориям и этимологи-
ям добавляет множество своих, латинских. Всю поэтическую
мифологию, он, как и стоики, толкует либо как аллегорию, либо как «бабьи
сказки и суеверия» (II, 70). Самому Цицерону принадлежит, по-видимому,
вводимое в этой части понятийное различение «религии» (religio) и
«суеверия» (superstitio), хотя, что касается предлагаемой им этимологии этих
терминов, уже Лактанций18 отмечал ее искусственность. Религия,
согласно Бальбу — Цицерону, есть разумное и просвещенное почитание богов;
суеверие неразумное и непросвещенное (II, 72). Это определение можно
было бы, учитывая все известное нам о Цицероне, переформулировать
так: истинная религия — это вера в разумность мирового порядка и
уважение к государственному богослужению. Все остальное, выдаваемое за
религию, — чистейшее суеверие.
Вопросу о разумности и целесообразности мирового порядка
уделена третья часть речи Бальба. Она особенно нравилась христианам (Мину-
ций Феликс, Лактанций, Августин и др.), так как в ней мир прославлялся
как порождение единого разумного начала и, хотя Бальб нигде не
называет это начало сверхприродным, создавалось впечатление, что он
защищает монотеистическое воззрение. Исключительно сильны и эстетически
совершенны применяемые здесь аналогии (особенно II, 82, 87, 88).
Невероятно богат и многообразен привлекаемый для подтверждения тезиса
материал: данные астрономии, географии, математики, биологии,
антропологии, анатомии, примеры из сферы искусства, ссылки на красноречие
,8Dediv. instit. IV, 28.
Цицерон как философ
165
и право, философов и поэтов. Невольно подумаешь, что Цицерону этот
тезис был особенно близок и дорог и что не стоик Бальб, а сам Цицерон
отстаивает его. Но Бальб собирался отстаивать тезис, что миром правит
божественное Провидение, а Цицерон заставил его защищать несколько
иной тезис: что мир сам по себе прекрасен и разумен и что он наилучший
из всех возможных (II, 87). Цицерон нигде не говорит об искусстве богов
в природе, но говорит об искусстве самой природы (sollertia naturae) —
искусстве, все производящем, объединяющем, организующем,
украшающем. Цицерон нигде не выставляет идею божественного промысла — он
убеждает только в том, что в природе нет ничего пустого, заброшенного,
напрасного, в ней правит не слепой случай, а закон, и этот закон сродни
человеческому разуму. Видно, что Цицерон, как, вероятно, и служащий
ему примером Посидоний, относится к миру сразу и как ученый, и как
художник. Недаром он заставляет Бальба постоянно цитировать своих
любимых поэтов, прежде всего Энния, а для иллюстрации красоты
космоса заставляет его процитировать свой юношеский перевод Арата. Если в
основе второй книги «О природе богов» и лежит упомянутое сочинение
Посидония, все же в цицероновском тексте иные акценты и во многом
иное содержание. Расхождения Цицерона со стоиками особенно заметны
в последней, четвертой части речи Бальба, где рассматривается вопрос о
божественной опеке людей (II, 155-167).
Переходя к этой части, Бальб — Цицерон как бы снижает тон.
Аргументация становится поспешной и малоубедительной. Порой даже
проскальзывает ирония над собственными доводами (II, 158-160). Но
окончательно Цицерон отмежевывается от стоической концепции провидения,
когда заставляет Бальба признать самым сильным доводом в ее пользу тот
аргумент, который самому Цицерону представляется самым слабым, —
существование дивинации (II, 162). Таким образом, Цицерон дает понять,
что все предыдущие рассуждения Бальба он считает справедливыми
только в той мере, в какой они относятся к миру, а не к божественному
провидению. Впрочем, такой итог находится в явном противоречии с теми
стараниями, которые Бальб — Цицерон приложил раньше для доказательства
того, что миром управляет имманентное разумное начало. Ведь признавая
это начало, Цицерон должен был бы признать и Провидение, так как у
стоиков это «главенствующее» начало («гегемоникон») и есть
Провидение. Но Цицерон знал, что в понятие провидения стоики включают еще и
нечто другое, связанное у них с дивинацией и фатализмом, а это он
относил уже к разряду суеверий и принять не мог.
Как бы там ни было, вторая книга «О природе богов» — лучшая
часть этого произведения Цицерона. Она дает нам массу уникальных
сведений из античного естествознания и натурфилософии, рисует
великолепную и полную оптимизма картину мира, содержит ряд блестящих
научных догадок и предвосхищений. Прекрасны, например, мысли Цицерона о
том, что человеческий труд украшает Землю [И, 99], о том, что из
животного мира человек выделился благодаря прямохождению (И, 140) и своим
рукам, приспособленным к любому труду (II, 150-151), что этими своими
руками мы создаем «в природе как бы вторую природу» (И, 152), что для
166
Цицерон как философ
своего счастья человек имеет в природе все необходимое, кроме
бессмертия, но что бессмертие «не имеет к счастью никакого отношения» (II,
153). Все эти мысли, кем бы первым они ни были высказаны,
принадлежат Цицерону, ибо именно они выражают самую суть его общего
мировоззрения.
Третья книга трактата содержит речь Котты против теологии
стоиков. Эта речь дошла до нас с большими сокращениями (незначительные
сокращения, возможно, были и во второй книге). Поскольку лакуны
приходятся на те места, где Котта должен был бы опровергать концепции,
близкие монотеизму, можно предположить, что сокращения были
произведены христианскими переписчиками.
В третьей книге Цицерон окончательно определяет свое отношение к
религии, которое он схематически обозначил во вступлении и несколько
уточнил в книге первой. Словами Котты он говорит о том, что для него
мнение предков о почитании богов неколебимо (III, 5) и что в вопросах
религии авторитетами для него являются не стоики, а великие римские
граждане: Сципион, Сцевола и Лелий — автор знаменитой речи о религии (Там
же). Все, что составляет религию, по его мнению, сводится к традиционной
обрядности, ауспициям и прорицаниям, остальное же — домыслы поэтов и
философов. Толкование религии не имеет смысла, ибо оно очевидные вещи
делает сомнительными. Это относится и к доказательствам существования
богов: «доказательствами очевидность ослабляется» (III, 9).
Что здесь имеет в виду Цицерон? Мы требуем доказательств, когда в
чем-то не уверены. Если мы уверены, т. е. «верим», «убеждены»,
доказательства нам уже не нужны. Если же нам доказывают то, во что мы уже
верим, нас как бы вновь возвращают в состояние неуверенности, т. е. в
состояние поиска того, что уже было найдено. Поэтому, рассуждает
Цицерон, вера в существование богов, переданная римлянам предками и
усвоенная ими через посредство священных для него государственных
установлений, не только не укрепляется философскими доводами, но даже
неизбежно ослабляется (III, 10). За этими рассуждениями Цицерона
скрывается определенный тип решения той проблемы, которая в Средние века
выделилась как проблема соотношения веры и разума. Причем
цицероновское решение этой проблемы на первый взгляд — самое радикальное:
религиозная вера и теоретический разум несовместимы. Такое решение
могло быть легко преобразовано и в концепцию «чистой веры» и, как мы
уже отмечали, в концепцию двойственной истины. Не случайно Цицерона
любили цитировать, с одной стороны, чистые фидеисты вроде Тертуллиа-
на и Иеронима, а с другой — такие мыслители, как Фрэнсис Бэкон. Но
чем объяснить, что его любил цитировать также и Августин? Дело в том,
что в цицероновском решении проблемы скрывалась еще и третья
возможность. Отделив религию от философии и признав умозрительную
теологию делом несостоятельным, Цицерон в то же время сделал философию
основным орудием критики суеверий, в том числе тех, которыми
непрерывно обрастали языческие культы (чисто культовую сторону религии он
считал неприкосновенной). Когда Августин занялся критикой язычества,
он нашел у Цицерона много подходящего материала. Так что своим ре-
Цицерон как философ
167
шением проблемы веры и разума Цицерон прямо или косвенно мог
повлиять на многих и очень разных мыслителей других эпох.
Радикализм Цицерона в решении указанной проблемы служит
ключом к пониманию всей последующей речи Котты. Смысл этой речи в
доказательстве несостоятельности стоической умозрительной теологии и
тщетности претензий стоиков рассудочно понять то, во что можно только
верить (ср.: III, 15-17). Основным источником для этой части диалога
Цицерону служит Карнеад в изложении Клитомаха. План третьей книги, по-
видимому, был таким же, как и второй. Вначале Котта опровергает
стоические доказательства бытия богов (эта часть почти полностью утрачена),
затем критикует представления стоиков о природе богов, показывает
необоснованность стоической концепции провидения и заключает
критикой стоических доводов в пользу идеи божественной опеки людей. Метод
критики — обычный для Цицерона: вскрытие внутренних противоречий,
уличение в непоследовательности, приведение к абсурду (особенно
часто), апелляция к здравому смыслу, обнаружение неполноты
доказательств, уличение в тривиальности, скрытой за мудреной формой
высказывания, демонстрация некомпетентности, непрерывная ирония.
Положительными идеями данная часть диалога не богата. Зато
опровержение стоической теологии ведется очень успешно. Опровергается
дивинация как аргумент в пользу существования богов (III, 14-15),
опровергается аргумент от универсальности веры (III, 11), стоический
пантеизм обвиняется в непоследовательности и сводится к абсурду (III, 19-37),
учение о добродетельности стоического бога уличается в противоречии
(III, 38), теологическая герменевтика осуждается как противоречащая
здравому смыслу и вредная для религии (III, 60).
Возражения Котты стоикам по вопросу о божественном провидении,
к сожалению, известны нам не полностью. Та часть, где речь шла о
провиденциальном управлении космосом и его частями, утрачена. Против
того, что боги заботятся о благе человека, выдвигаются обвинения в
нереалистичности, отступлении от фактов, т. е. как мы сказали бы, в
идеализме, а также в некомпетентности в области права (III, 75-79, 90 и др.).
Наиболее сильными кажутся аргументы против стоической теодицеи.
Боги дали человечеству разум как великое благо; тогда почему же глупых на
свете больше, чем умных, и почему разум чаще используется во зло, чем
во благо? Боги всезнающи, всеблаги и всемогущи. По своей природе они
должны опекать добрых и наказывать злых. Почему же тогда злые и
бесчестные чаще преуспевают, чем добрые и честные? «Как ни отдельная
семья, ни государство в целом не будут выглядеть разумно устроенными
и организованными, если в них добрые дела не вознаграждаются, а
дурные не наказываются, так и в целом мире нет, конечно, божественного
управления, коль скоро в нем не делается никакого различия между
добрыми и злыми» (III, 85).
Из положительных идей Цицерона, переданных в речи Котты,
назовем три. Первая из них касается понимания науки. Сравнивая медицину и
«дивинацию», Цицерон говорит, что отнюдь не всякое эмпирически
добытое знание может составить науку. И врачи, и гадатели в своих прогно-
168
Цицерон как философ
зах ссылаются на свой опыт. И те, и другие могут ошибаться. Но врачи в
своих прогнозах исходят из разумных оснований и самой природы, а
гадатели сами толком не знают, как угадывают. Поэтому медицина —
наука, дивинация — нет (III, 15). Другими словами, Цицерон понимает здесь
под наукой рационально организованное и опирающееся на факты знание,
т. е. то же самое, что и мы. Только такому знанию Цицерон вполне
доверяет. Фактичность и рациональность в своем единстве выступают у него
критерием отбора правдоподобного и в учении стоиков. Он, например,
охотно одобряет у стоиков идею взаимосвязи частей природы, ибо эта
идея рациональна и подтверждается фактами. Но он отвергает их мысль о
том, что взаимосвязь в природе обеспечивается присутствием единого
божественного духа, ибо это и нерационально и нефактично (III, 28). Как
истинный римлянин, Цицерон хочет всегда оставаться на твердой почве
рассудка и фактов.
Другая идея Цицерона говорит о наличии у него довольно сильной
тенденции к атеизму. В одном месте третьей книги диалога он словами
Котты заявляет, что, вместо того чтобы, как стоики, доводить число
божеств до неизмеримого множества, лучше отказаться и от единственного
бога, преградив тем самым дорогу суевериям. «И последнее будет самым
правильным» (III, 53). Эта мысль дополняется и другими подобными же
высказываниями (III, 28, 47 и т. д.). После таких суждений невольно
встает вопрос: а был ли Цицерон искренен, когда говорил о своей вере в богов
отечества? Ответить на этот вопрос в данной работе мы не беремся.
Наконец, третья идея, выдвинутая Цицероном в последней книге
диалога «О природе богов», — это идея совести как достаточного гаранта
справедливой общественной жизни. Совесть человеческая (conscientia),
говорит Котта — Цицерон, «безо всякого божественного разума способна
взвешивать добродетели и пороки. Не будь ее, все пропало бы» (III, 85).
Если учесть контекст, в котором это говорится (а это сказано после
повествования о безнаказанных злодеяниях тирана Дионисия), можно с
уверенностью заключить, что Цицерон считает совесть более действенной
гарантией морального поведения, чем страх перед божественным
возмездием, и, кроме того, вполне допускает нравственность, не зависящую от
религии. А продолжив эту экстраполяцию, мы придем и к такому выводу:
Цицерон наивно верит в возможность справедливого общества атеистов,
только бы эти атеисты жили по совести. Добавим к этому, что обращение
Цицерона к идее совести делает его предтечей философии более поздних
времен, в частности, предтечей раннехристианской философии, в которой,
правда, в противоположность философии Цицерона понятие совести
будет тесно связано с понятием религиозной веры.
Диалог «О природе богов», где, как мы убедились, выразителем
мнений самого Цицерона был избран академик Котта, заканчивается
совершенно неожиданно. Его завершают слова Цицерона: «...мы разошлись,
притом так, что Веллею показалось более истинным рассуждение Котты,
а мне — более схожим с истинной рассуждение Бальба» (III, 95). Считать
ли эту фразу, а значит, и ссылку на нее Квинта в диалоге «О дивинации»
(I, 9) более поздней христианской вставкой или признать в ней уступку
Цицерон как философ
169
Цицерона враждебному атеизму общественному мнению римлян?
Вероятность того и другого примерно одинакова. Известно, что Цицерон
временами был довольно труслив, а во времена создания трактата Цезарь был
на вершине своего могущества и имел все основания по малейшему
поводу наказать Цицерона. Но, с другой стороны, известно также, что
христианские переписчики старательно подчистили текст трактата и что в 302 г.
по декрету Диоклетиана диалог Цицерона вместе с его же диалогом «О
дивинации» был осужден на сожжение как вредный для государственной
(тогда еще языческой) религии. Поэтому обвинять Цицерона в трусости и
даже в непоследовательности в данном случае мы не решаемся и
оставляем этот вопрос на усмотрение читателя.
Перейдем теперь ко второму из сочинений Цицерона этого цикла —
к диалогу «О дивинации». О его философской ценности существуют
разные мнения. Французский издатель этого диалога М. Леклерк, например,
считал его «самым оригинальным и самым философским из произведений
этого великого человека». Думаю, что по крайней мере в отношении
философичности Леклерк глубоко заблуждался. Трактат «О дивинации» по
своему значению для философской теории не идет ни в какое сравнение
не только с такими сочинениями Цицерона, так «Тускуланские беседы»,
«Об обязанностях» или «О судьбе», но даже с трактатом «О природе
богов». Специально философских идей там совсем не много. Кроме того,
трактат «О дивинации» страдает рядом литературных несовершенств
(повторы, многословие, перенасыщенность примерами и цитатами),
свидетельствующих о его недоработанности (особенно первая книга). Однако
рассмотрение его в числе двух других произведений Цицерона данного
цикла вполне оправдано. Во-первых, этот диалог действительно
представляет собой, если не самое, то все же очень оригинальное сочинение
Цицерона. Во-вторых, он теснейшим образом связан с проблематикой
трактатов «О природе богов» и «О судьбе» и служит как бы переходным звеном
между ними. Наконец, в-третьих, это один и самых информативных
цицероновских трактатов, где содержатся совершенно уникальные сведения
как о самом Цицероне и его творчестве, так и о событиях римской
истории, о науке того времени, о народных верованиях и обычаях, об
античных культах и всевозможных суевериях. Но, поскольку число философ-
ско-теоретических идей в трактате все-таки сравнительно невелико, мы
ограничимся довольно краткой его характеристикой.
Диалог «О дивинации» написан Цицероном в первой половине 44 г.
до н. э. в двух книгах. Причем первая его книга в большей своей части
была подготовлена незадолго до убийства Цезаря, вторая — после. То, что
две эти книги разделены «мартовскими идами», отразилось и на их
содержании. Во вступлении к первой книге Цицерон старается всячески
оградить себя от обвинения в атеизме и даже — если это все-таки не
христианская вставка — считает себя обязанным объяснить, почему он в
предыдущем трактате сделал антирелигиозную речь Котты столь
убедительной, хотя сам в конце неожиданно присоединился к позиции Бальба (I, 8-9).
Зато во второй книге тон его рассуждений становится даже еще более
дерзким и ироническим по отношению к теологии, чем в речах Котты.
170
Цицерон как философ
Цицерон доходит до того, что осмеливается ставить под сомнение не
только философскую теологию, но и обряды римской государственной
религии (II, 41, 70,71, 111-112), в верности которым он уверял нас в
трактате «О природе богов».
Важно отметить и еще один нюанс. В диалоге «О дивинации» во
второй книге речь держит сам Цицерон. Он говорит от своего лица и
почти не ссылается при этом на источники, из чего можно заключить, что
Цицерон здесь выражает в основном свое собственное мнение. Но
источниками он, разумеется, пользуется, их — если говорить о главных — два:
Карнеад (в изложении Клитомаха), когда-то опровергавший стоическую
мантику (I, 7), и Панетий — единственный из стоиков, не веривший в ди-
винацию(И, 87).
Для первой книги, где речь в защиту дивинации ведет брат Цицерона
Квинт, использовано значительно большее число источников, в основном
стоических: Хрисипп, Антипатр, Диоген Вавилонский, Посидоний.
Использованы сочинения перипатетика Кратиппа, платоника Гераклида
Понтийского, историков Каллисфена, Фабия Пиктора, Целия, Филиста и
др. Вообще речь Квинта не без умысла (II, 27) составлена почти из одних
только литературных примеров, и в ней почти полностью отсутствуют
доказательства. В речи Туллия доказательства явно преобладают над
примерами. Уже самой пропорцией примеров и аргументов
обеспечивается победа противника дивинации над ее защитником.
В тексте трактата по меньшей мере трижды встречается определение
дивинации. В самом начале дивинация (по-гречески — мантика)
определяется как «предчувствие и знание будущих событий» (praesentio et scientia
rerum ftiturarum) (I, 1). Но потом, после того как Цицерон вместе с Квинтом
убеждаются, что существуют иные виды предзнания будущего, помимо
дивинации, такие, как научное предвидение, предвидение врачей,
политиков, кормчих и т. п., дается другое определение: дивинация — это
предсказание и предчувствие будущих случайных событий (I, 9). В речи Туллия это
определение повторяется еще раз (II, 13). Однако на протяжении всего
трактата под дивинацией понимается прежде всего угадывание, гадание.
Дивинация делится на два вида: естественную и искусственную. К
первой относятся вещие сны и снотолкование, а также экстатические
прорицания и их толкования. Ко второй — искусство авгуров, гарусников,
гадателей по жребию и другим знакам и приметам.
В обоснование оправданности всего этого, помимо примеров, Квинт
выдвигает несколько довольно слабых аргументов. Они таковы.
Предчувствие и предугадывание будущего некоторыми людьми, даже
невежественными, — это факт и факт не случайный, пусть даже мы не знаем его
причины. То, что не все предсказанное гадателями сбывается, не упраздняет ди-
винацию, так как прогнозы врачей тоже не всегда сбываются, но это не
подвергает сомнению медицину. Дивинация основана на опыте, на
обобщении наблюдений многих поколений людей за приметами и знаками,
предваряющими события. Она основана также на природе самой души человека,
ибо, когда душа освобождается от своей заботы о теле — во сне или в
экстазе, — она становится способной видеть то, что обремененная телом ви-
Цицерон как философ
171
деть не может: мировую цепь бытия — прошлого, настоящего и будущего,
звеном которой она сама является. Душа человеческая — часть и
порождение мировой души. Во сне и экстазе она как бы возвращается к своему
источнику и через контакт с мировой душой, заключающей в себе все
возможное знание, узнает о будущем. Кроме того, если есть боги, то есть и
дивинация. Ибо, так как боги благи и поэтому заботятся о людях, они
должны давать людям знаки и способность предвидения будущего.
Наконец, в пользу дивинации говорит общераспространенность и древность
этого явления, высокий авторитет тех, кто ее признавал и ею пользовался
(цари, полководцы, герои, законодатели, поэты), и одобрение ее большинством
великих древних философов, за исключением разве что «ничтожного» и
«аморального» Эпикура. В конце речи Квинт, следуя Посидонию, приводит
также и главные источники дивинации: она происходит либо от бога, либо
от природы, либо от судьбы. Признание судьбы делает неизбежным и
признание дивинации, ибо судьба это такое сцепление причин, когда в
предыдущей причине заключаются все последующие, поэтому «если мог бы
найтись такой смертный, который мог бы духом своим обозреть всю цепь
причин (colligatio causarum), то он не мог бы ни в чем ошибаться»(1, 127). Это
место из первой книги трактата «О дивинации» почти буквально совпадает
со знаменитой формулировкой лапласовского детерминизма.
В ответной речи Туллия все указанные аргументы Квинта последова-
ельно опровергаются. Цицерон доказывает, во-первых, что «наука
дивинации» беспредметна, ибо предвидение и предсказание будущего в каждой из
областей знания входит в компетенцию других дисциплин. Во-вторых, он
доказывает, что дивинация вообще не наука, так как науки исследуют
закономерное и необходимое, а дивинация относится к области случайного. В
третьих, он показывает, что дивинация вовсе не существует, потому что
дивинация есть предвидение случайного, а случайное по своей природе
непредвидимо, и если нечто все-таки предвидится, то оно не есть
случайное, а значит, такое предвидение не является дивинацией. Что же касается
случайного, то и сам бог не может его предвидеть. Дивинация не только
невозможна, но и если бы была возможна, была бы бесполезна и даже
вредна. Ибо знать, что нечто произойдет, и не быть способным повлиять на
события, хуже, чем не знать. Если бы, как утверждает Квинт, дивинация была
фактом, то и тогда философ должен был бы доискиваться ее причин. Но
никаких действительных причин дивинации никто не называет.
Беспричинное означало бы чудо, а чудес не бывает. У всего есть основание в природе.
Если у чего-то нет естественного, понятного для науки и разума основания,
то этого просто не существует. Не существует никаких природных
оснований ни у ауспиций, ни у гаруспиций, ни у предвидения во сне и экстазе.
Следовательно, все это — суеверия и выдумки. Нет никаких оснований
связывать дивинацию и с существованием богов, так как боги вовсе не обязаны
оповещать людей о будущем. Вывод стоиков: если нет дивинации, то нет и
богов, но боги есть, значит, есть и дивинация — не верен. Если уж так
связывать богов и дивинацию, то гораздо правдоподобнее был бы вывод:
дивинации нет; значит, нет богов. Последнее рассуждение Цицерона —
вершина его атеистической дерзости.
172
Цицерон как философ
Распространенность веры в дивинацию, продолжает Цицерон, не
признак ее истинности, ибо «нет ничего распространеннее невежества»
(II, 81). У того, что дивинация так прочно укоренилась, три причины:
невежество, суеверие, обман. В прорицаниях сивилл и других оракулов
больше обмана, чем наития. Кое-что проистекает и из общественной
психологии: люди никогда не удивляются привычному, даже если оно
значительно, но непривычное поражает их, становится для них знамением чего-
то важного. Согласие философов в признании дивинации ни о чем не
говорит: «Какую можно высказать еще нелепость, которая бы уже не была
высказана кем-нибудь из философов!» (II, 119). То, что авгуры и гарусни-
ки иногда угадывали, — не аргумент. Ведь не могли же они быть такими
невезучими, чтобы хотя бы иногда не попадать случайно в цель. То же
самое можно сказать о сновидениях. Хотя сны являются только
воспроизведением спутанных прошлых впечатлений, все же мы слишком часто и
много спим, чтобы во сне иногда не видеть чего-нибудь сбывающегося.
Таковы в основном аргументы Цицерона против дивинации.
В трактате содержится много тонких мыслей Туллия, имеющих более
частный характер. Но главное здесь — непримиримая и очень искусная
борьба с суевериями. В этой борьбе Цицерон был не одинок. Ее вели, хотя и
с других позиций, эпикурейцы. Цицерон понимает это и неоднократно
указывает в диалоге на свою близость к ним в этом вопросе. Но полного
единства между ними и Цицероном все-таки не было. Такой выдающийся их
представитель, как римлянин Лукреций, считал, что суеверие,
поработившее все народы, держится только на человеческой слабости (см.: «О
природе вещей» I, 62-65). Цицерон в трактате «О дивинации» писал то же самое
почти в тех же словах (см.: II, 148). Однако Лукреций вместе с суевериями
предлагал освободиться и от всякой религии, он был последовательным
атеистом. Цицерон из политических, а, может быть, отчасти и из своих
мировоззренческих соображений оставлял место в обществе для религии. Он
уверял, что с устранением суеверия не устраняется сама религия (II, 148) и
что «красота мира и порядок, который царит в небесах, побуждают род
человеческий признать существование некой вечной превосходной природы и
поклоняться ей» (Там же). Он думал, что признание религии должно
сочетаться с познанием природы, а суеверие должно вырываться «со всеми его
корнями» (II, 149). Многие так думали и после него, например писавший о
нем Плутарх19. Но что осталось бы от государственной религии римлян,
которую как политический институт считал себя обязанным защищать
Цицерон, если ее освободить от суеверий. Ничего. Догадывался ли об этом
Туллий. Думаю, что да. Но он утаил это.
В диалоге «О дивинации» Цицерон рассматривал и опровергал и
такой вид суеверия, как вера в судьбу. Но специально этому вопросу он
посвятил заключительный трактат данного цикла «О судьбе». Огромная
теоретическая значимость этого трактата заставляет нас, несмотря на его
небольшой объем, уделить ему особое внимание.
Плутарх защищал идею религии как от суеверий, так и от атеизма. См.: Александру
LXXV: О суеверии, I.
Цицерон как философ
173
* * *
Трактат «О судьбе» (De fato), написанный Цицероном в 44 г. до н. э.,
спустя несколько месяцев после мартовских ид, дошел до нас в сильно
сокращенном виде. Во всех сохранившихся списках отсутствуют начало и
конец, в срединной части имеются две большие лакуны. Когда и при
каких обстоятельствах были утрачены отсутствующие ныне части, точно
установить невозможно. Кажется, еще Августин (354-430 гг.) знал этот
трактат целиком20, а в нынешнее свое состояние он был приведен скорее
всего в Средние века.
Вопрос о том, какая часть первоначального объема сочинения
сохранилась, может быть решен с достаточной вероятностью, если учесть
следующие обстоятельства. Сам Цицерон неоднократно говорит об этом
своем сочинении как об одной книге (liber)21, а не о книгах (libri); о его
«книге» о судьбе упоминают и другие римские писатели (Авл Геллий,
Макробий). Кроме того, эта «книга» была задумана Цицероном как
прямое продолжение уже известных нам трактатов «О природе богов» и «О
дивинации» и должна была явиться завершением трилогии, посвященной
вопросу о соотношении божественного провидения, возможности
предвидения будущего и человеческой свободы. Если учесть ту роль, которую
идея свободы играет в писательском творчестве и политической
деятельности Цицерона, станет ясно, какое большое значение должен он был
придавать завершающему трактату трилогии — единственному прямо
относящемуся к проблеме свободы и ее философским предпосылкам.
Исходя из этого, а также зная, что Цицерон о том, что считал важным, имел
обыкновение говорить особенно обстоятельно и подробно22, мы должны
предположить, что книга о судьбе не была слишком маленькой. Во всяком
случае, она вряд ли была намного меньше других «книг» этого цикла,
хотя — из соображений композиционного единства цикла — вряд ли и
намного больше. Но простое ее сравнение с книгами «О природе богов» и
«О дивинации» показывает, что сохранившаяся часть трактата о судьбе по
объему примерно в три раза меньше наибольших из этих книг (вторая «О
природе богов» и вторая «О дивинации») и в два раза меньше наименьшей
(третья «О природе богов»). Отсюда можно заключить, что из трактата «О
судьбе» до нас дошло примерно от одной трети до половины
первоначального объема. Что же исчезло? Попытаемся ответить на этот вопрос в
ходе анализа имеющегося текста.
В сохранившемся варианте книга начинается с обрывка фразы (I, 1),
где Цицерон, судя по смыслу, говорит о том, что он собирается изложить
вопрос о судьбе, относящийся, по его словам, к той части философии,
которая касается нравов, т. е. к этике, или моральной философии. Здесь он,
между прочим, впервые вводит для обозначения этической части
философии тот самый латинский термин (pars moralis), который через Средние
века перешел в новоевропейскую литературу.
20 См.: De civ. Dei, IV, passim.
21 См., например: О дивинации, II, 3.
22 Ср.: Оратор, 28.
174
Цицерон как философ
Далее Цицерон указывает на то, что вопрос о судьбе связан с
другим, относящимся уже к компетенции не морали, а логики, вопросом об
истинности высказываний о будущем, т. е. о «возможном» и «случайном».
Цицерон обещает рассмотреть в трактате и этот вопрос. Таким образом,
сохранившийся вариант трактата начинается с определения предмета
исследования. Затем Цицерон переходит к описанию избранного им метода
изложения и обстоятельств, при которых трактат был создан (1,1 - II, 4). В
соответствии с правилами цицероновской риторики все это относится к
«вступлению»23. Точно так же начинаются и оба других сочинения этого
цикла. Отсюда можно заключить, что утраченная начальная часть книги
«О судьбе» представляла собой одну-две вводные фразы или даже только
первую половину того предложения, со второй половины которого
начинается существующий ныне текст.
Наиболее существенным во «вступлении» представляется
замечание Цицерона о том, что в данном трактате он вынужден изменить
своему обычному способу изложения, — когда каждая из спорящих сторон
поочередно высказывает свои мнения, чтобы читатель сам мог выбрать,
что более правдоподобно (I, 1), — и прибегнуть к иному способу, при
котором, как явствует из дальнейшего, он собирается открыто выражать
свои личные симпатии и антипатии и нарочито отстаивать свои
собственные взгляды на предмет, пользуясь при этом, правда, критическим
методом а^демиков (I, 1 - II, 4). Это изменение манеры изложения
Цицерон мотивирует просьбой его собеседника Гирция и, по-видимому,
тем, что при совпадении их прочих взглядов и недостаточной
подготовленности Гирция в философии, тот не может выступать в роли
выразителя противоположной точки зрения. Однако в действительности
переход Цицерона от «неявной» диалогической формы изложения к «явной»
и недвусмысленной «монологической» имел более глубокие причины, о
которых следует сказать.
Расположенность к «монологу» и к более определенному
высказыванию собственных взглядов на вещи характерна не только для трактата
«О судьбе», но и дня всех других сочинений Цицерона, написанных
после смерти Цезаря 4. Особенно отчетливо эта тенденция определилась в
трактате «Об обязанностях», где идея самовыражения находит уже
вполне адекватную ей жанровую форму — форму «наставления» (в
римской литературной традиции жанр Institutiones получил потом широкое
распространение: Квинтилиан, Лактанций, Боэций, Кассиодор и др.). В
более ранних сочинениях Цицерона присущая ему от природы
потребность в самовыражении сдерживалась, во-первых, тем, что по
большинству трактуемых вопросов он просто не имел еще определенного
собственного мнения и поэтому предпочитал «ничего не утверждать, а обо
всем только допытываться, по большей части выражая сомнения и не
23 Ср.: Оратор, 35.
24 Уже в трактате «О дивинации» он вместо того, чтобы, как обычно, предоставить
слово кому-нибудь из друзей или исторических персонажей, предпочитает во II книге
говорить от своего лица.
Цицерон как философ
175
доверяя самому себе» . Во-вторых, в годы диктатуры Цезаря указанная
потребность сковывалась страхом перед диктатором — страхом,
соединенным с чувством вины и собственной неполноценности: ведь Цицерон
хорошо знал, что после Фарсала он обязан своим относительно
спокойным существованием только не заслуженной им милости и
великодушию Цезаря. Впрочем, Цицерон и тогда вел себя, как всегда,
непоследовательно: получив в Брундизии прощение у Цезаря и дав ему
фактически понять, что он больше не вмешивается в политику и занимается
только философией, Цицерон — стоило только Цезарю отплыть в
Испанию — вновь набирается дерзости и выпускает совершенно
вызывающую в той ситуации антицезарианскую книгу о Катоне. Однако этот
случай — скорее исключение; содержание всех сохранившихся
сочинений Цицерона 46 - начала 44 г. до н. э. свидетельствует о том, что
типичной для него в это время линией поведения было академическое
«эпохэ» — воздержание от определенного суждения.
После мартовских ид Цицерон освободился от вынужденных
самоограничений и вскоре обрел небывалую уверенность в себе. Это
проявилось, в частности, в его новой писательской манере, а позднее — в
бескомпромиссной и роковой для него борьбе с Антонием. Таким образом,
одной из причин, побудивших Цицерона отступить в трактате «О судьбе»
от прежнего метода изложения, было изменение политической ситуации.
Другая причина заключалась в самом предмете исследования. Дело в том,
что тема судьбы теснейшим образом связана с вопросом о свободе воли и
ответственности людей за свои поступки. В тот переломный момент,
когда с диктатурой Цезаря было покончено, но римляне, уже начавшие
отвыкать от политической самодеятельности и республиканских порядков,
не проявляли должной заботы о дальнейшей судьбе отечества и своей
пассивностью даже содействовали тому, что «всюду стали появляться
причины для новых волнений» (I, 2) и становилась все более реальной
возможность новой диктатуры, — в тот момент вопрос о свободе и
ответственности приобретал особую остроту. Цицерон понимал, что его
гражданский долг — долг человека, который, как он сам считал, всю свою
жизнь отдал борьбе за свободу республики в условиях постоянно
угрожавшей ей тирании, — не позволяет ему в данных обстоятельствах
сохранять пусть даже формальный нейтралитет в споре между свободой и
судьбой, между проистекающей из свободы ответственностью и
фаталистической безответственностью. Он должен был с полной ясностью
высказаться в пользу свободы и во что бы то ни стало вывести себя и своих
сограждан из хитроумно построенных стоиками лабиринтов фатализма.
Этим главным образом и объясняется то отклонение от диалогического
метода, о котором Цицерон говорит во «вступлении» к «De fato», как о
какой-то маленькой уступке Гирцию.
После «вступления», заканчивающегося фигурой перехода к
обсуждению самой темы «итак, начнем» (Proinde ordire), обнаруживается первая
большая лакуна (II, 4 - III, 5). Если судить по той риторической схеме,
25 О дивинации, Π, 8,2.
176
Цицерон как философ
которую Цицерон применяет в двух других диалогах этого цикла, в
существующем тексте «De fato» отсутствуют «формулировка тезиса» и
значительная часть «разработки»26. Как формулировался тезис? Ответить хотя
бы приблизительно на этот вопрос помогает уцелевшая часть его (тезиса)
разработки, как раз и составляющая весь остаток сохранившегося текста.
Из содержания этого текста следует, что главный тезис, отстаиваемый
Цицероном в «De fato», звучал примерно так: если существует судьба, то
все события, включая человеческие поступки и вызвавшие их стремления
и решения воли, происходят с необходимостью в силу предшествующих
им естественных внешних причин и поэтому не находятся в нашей власти.
А если так, то мы не свободны в своих поступках и не несем1 за них
никакой ответственности и, следовательно, не заслуживаем ни наград, ни
наказаний. В таком случае теряют смысл правосудие и нравственность, а
вместе с ними и вся гражданская жизнь, ибо само их существование
зависит от предположения человеческой свободы и ответственности. Поэтому
вероятнее допустить, что никакой судьбы нет. Но судьба есть, если
возможна дивинация, т. е. если возможно истинное предсказание всех
будущих событий. Указанная дивинация была бы невозможна, если бы не все
происходило в силу изначально определенного, необходимого и
естественного ряда причин и если бы что-нибудь совершалось случайно и без
предшествующих (antécédentes) внешних (externae) причин.
Следовательно, избавление от судьбы связано и с доказательством
того, что не все может быть заранее предсказано и что существуют
непредсказуемые случайные события и зависящие от нас свободные
поступки. Такой, примерно, была формулировка основного тезиса «De fato».
Разработка указанного тезиса производилась Цицероном в двух
речах, в первой из которых (полностью утраченной), по-видимому, как
обычно, давалось внешне беспристрастное изложение позиций
критикуемых сторон, в данном случае — позиции стоиков и, возможно, —
эпикурейцев. Судя по всему, наибольшее внимание в этой части Цицерон
уделяет взглядам таких защитников идеи судьбы, как Хрисипп и Посидоний.
Во второй речи (начало которой также утрачено) Цицерон дает
критическую оценку ранее изложенных позиций и попутно выражает свои
собственные взгляды на судьбу, опираясь при этом на учение академиков,
точнее, на учение Карнеада, известное Цицерону из лекций Филона или из
сочинений Клитомаха.
Вторая речь, как, по всей вероятности, и первая, строится
Цицероном по принципу нарастающей сложности и глубины разбираемой аргу-
6 О том, что Цицерон строил свои философские сочинения, особенно в этот-период,
по правилам ораторского искусства, тем самым отчасти компенсируя невозможности
произносить публичные речи, свидетельствуют его слова, сказанные во «вступлении» ко II книге
«О дивинации»: «В книгах я высказывал свои мнения, выступал с речами; я считал, что
философия послужит для меня некой заменой государственной деятельности» (II, 7). В трактате
«О судьбе» Цицерон также произносит «речи» (orationes): в одном месте он прямо говорит о
том, что вопрос об «одобрениях» (assensiones) он «уже затрагивал в своей первой речи», т. е.
в ныне утраченной части трактата (De fato, 40). Таким образом, книга «О судьбе» строилась
Цицероном как композиция из двух «речей»: за и против.
Цицерон как философ
177
ментации. Поэтому сперва он анализирует более «легкие» аргументы в
пользу судьбы, выдвинутые Посидонием (начало второй речи). Из того,
что осталось от этой части, можно заключить, что аргументация
Посидония, как ее представил Цицерон, сводилась в основном к разнообразным
примерам заранее предреченных и якобы фатальных событий (пример с
квадригой на рукоятке кинжала, пример с утонувшим в сточной канаве и
т. п.). С подобными доказательствами посредством случайных примеров
Цицерону как опытному оратору и адвокату было не трудно справиться;
он за шестнадцать столетий до Френсиса Бэкона уже хорошо знал о
великом могуществе контрпримера в индуктивных доказательствах, знал, что
одного-единственного контрпримера бывает достаточно, чтобы
опровергнуть и такую теорию, которая была подтверждена тысячами других
примеров. Вот почему он не считает нужным долго спорить с Посидонием и,
сославшись на то, что все примеры Посидония основаны либо на
реальном природном взаимодействии, либо на простом совпадении и поэтому
не нуждаются для своего объяснения в особой силе судьбы (vis fatalis),
шутливо предлагает оставить Посидония как своего учителя в покое и
обратиться к «ловушкам» Хрисиппа.
Хрисипп — логик, и его доказательства судьбы отнюдь не
исчерпываются примерами, они требуют более обстоятельного опровержения.
Логике Цицерон должен был противопоставить логику27. И вот он
решительно вступает в логический спор с Хрисиппом, и ведет его с
необычайной основательностью и последовательностью в продолжение почти всей
сохранившейся части второй речи, отвлекаясь лишь на то, чтобы в одном
случае указать на несовместимость своей критики стоической идеи
судьбы с той философией «свободы», которую противопоставили стоическому
фатализму Эпикур и его последователи, а в другом случае, чтобы
подтвердить свои мнения авторитетом Карнеада и его школы.
В представлении Цицерона Хрисиппова концепция судьбы выглядит
так. Судьба есть причинно-следственная цепь, в которую включена
данная вещь и которая определяет все ее последующие состояния и их
изменения. Беспричинные изменения невозможны. Иначе пришлось бы
отказаться от одного из главных принципов логики, гласящего, что всякое
высказывание либо истинно, либо ложно (принцип исключенного
третьего), ибо если вещь может изменяться беспричинно, то никакое
произносимое сейчас суждение о будущем ее состоянии не является ни истинным,
ни ложным, так как в данный момент лишено основания и своей
истинности, и своей ложности. А если нет ничего беспричинного и каждое
событие в прошлом, настоящем и будущем вызывается своими естественными
предшествующими причинами (causae naturales antécédentes), связанными
един», й цепью, то основания истинности высказываний о будущих
событиях заключены в самой природе, и поэтому одно из двух
противоречащих высказываний о будущем уже сейчас истинно, а другое ложно. Но
так как «суждение» о том, что случится с вещью в будущем уже сейчас
27 В трактате «Парадоксы стоиков» (Paradoxa stoicorum) Цицерон сам дает логическую
реконструкцию основоположений стоического морального учения.
178
Цицерон как философ
истинно, то можно сказать, что тому, что случиться, заранее «суждено»,
«предречено» случиться, т. е. такова судьба2 данной вещи. Судьбы всех
вещей связаны и переплетены между собой, так как мир един и все
составляющие его вещи и события находятся в непрерывном
взаимодействии (contagio rerum). Благодаря этому универсальному взаимодействию,
благодаря мировой «симпатии» (со-чувствованию, со-страданию всех
вещей), становится возможным предсказание, предугадывание судеб, т. е.
дивинация: ведь в силу связи всего со всем по явлениям здешним и
нынешним можно судить о дальних и будущих. И наоборот, сам факт
существования дивинации (а для Хрисиппа это — факт) доказывает, что в
природе все так связано и в пространстве и во времени, что даже
отдаленнейшие звезды влияют на сцепление причин и следствий здесь, на Земле,
а обстоятельства далекого прошлого влияют на ход событий в настоящем
и будущем. Вот почему судьба человека зависит от того, под какой
звездой он родился, и при каких вообще природных обстоятельствах он
появился на свет: где он родился, кто были его родители, каково было
состояние погоды, каково расположение светил и т. п. Ведь и человек, как и
все в природе, включен в причинно-следственную цепь, в универсальное
взаимодействие, и он зависит в своем поведении от «предшествующих
природных причин» и, следовательно, имеет свою судьбу. Не только
восприятия и впечатления (visa impressa) человека зависят от внешних
предшествующих причин, но также и происходящие от этих впечатлений
желания и стремления, а поэтому (хотя и не полностью) и наши действия.
Даже наши собственные оценки наших стремлений — их одобрение или
неодобрение (assensiones) — зависят от предшествующих причин, а
значит, от судьбы.
Короче говоря, и в человеке, и во всей природе все происходит так,
как складываются обстоятельства, а они «складываются» под
воздействием всей совокупности от вечности определенных причин — в этом и
состоит сила судьбы (vis fatalis).
Однако судьба не есть то же самое, что необходимость. Ведь
необходимость — это то, противоположное чему невозможно и противоречит
законам самой природы. Например, что Сократ умрет — это необходимо,
ибо Сократ человек, а все люди по природе смертны; поэтому
противоположное: «Сократ не умрет» — невозможно. Таким образом, истинность
утверждения «Сократ умрет» определена изначальными и абсолютными
28 В латинском языке, как и в русском, слово «судьба» («рок») происходит от глагола,
выражающего процесс высказывания, суждения: fatum — от fan (говорить, речь, изрекать);
ср. рус: судьба — от «судить», рок — от «речь». Исторически представление о судьбе,
возможно, возникло из переживания практики исполнения судейских решений (приговоров), а
также практики деления на части общинной собственности (урожая, охотничьей или
военной добычи) сообразно заслугам каждого — отсюда «доля», «участь», «удел». Подобный
раздел общинной собственности обычно происходил на общей сходке, где все общинники
«судили», кому какую часть уделить; скорее всего первоначально слова «судьба» и «удел»
означали сам этот процесс «обсуждения» и «уделения», а слово «рок» (ср.: «рек») означало
изречение последнего слова и последней воли общинной сходки. Может быть поэтому в
слове «рок» и сейчас момент неотвратимости выражен более сильно, чем в слове «судьба».
Цицерон как философ
179
причинами (causae principales et perfectae) . Но то, что Сократ умрет в
тюрьме, выпив по приговору афинского суда яду, не является изначально
необходимым, так как не вытекает непосредственно из законов природы,
и противоположное этому (т. е. что Сократ умрет не в тюрьме и т. п.) не
является заведомо невозможным. И все же то, что Сократ умрет именно
так, произойдет не без предшествующих причин и в силу такой именно
судьбы Сократа, хотя причины, вызвавшие такую именно смерть Сократа,
являются не изначальными и абсолютными, а «вспомогательными и
ближайшими» (adjuvantes et proximae). Сократ должен был умереть в силу
той изначальной причины, что он смертен, но ближайшей причиной его
смерти были сложившиеся в этот момент обстоятельства и его
собственное решение (одобрение — «assensio») умереть. Судьба и есть цепь
причин вспомогательных и ближайших, а не изначальных и абсолютных,
представляющих необходимость. Что же касается решений человеческой
воли или «одобрений», то они зависят как от изначальных причин (от
самой природы воли), так и от ближайших. Ближайшими причинами
«одобрений» служат непосредственные впечатления, которые не в нашей
власти. Однако впечатления служат лишь толчком для воли, вызывая
соответствующие стремления, а дальнейшая оценка (одобрение) возникшего
стремления и последующее действие зависят уже от внутренних причин и
от собственной природы нашей воли, т. е. находятся в нашей власти.
Отсюда следует, что, несмотря на то, что все происходит в силу судьбы (ибо
все имеет свои ближайшие причины), человек несет ответственность за
свои решения, а за свои поступки заслуживает наград и наказаний.
Кроме того, если судьба и необходимость — вещи разные,
возможность истинного предсказания судьбы (дивинация) вовсе не предполагает
необходимости того, что произойдет, как предсказано, ибо «может
произойти и то, что не произойдет». Предсказание астрологов: «Тот, кто
родился при восходе Сириуса, не умрет в море» — может оказаться
истинным не по необходимости, а в силу такой именно судьбы тех, кто родился
при восходе Сириуса, т. е. такого сцепления ближайших причин всех
событий их жизни, которое исключает их гибель в море. Следовательно,
дивинация покоится не на необходимом или, выражаясь более поздним
языком, «априорном» знании абсолютных причин, а на индукции и
«апостериорном» обобщении наблюдений за судьбами людей. Поэтому
упомянутое предсказание астрологов лучше было бы переформулировать так:
«Нет такого человека, который родился бы при восходе Сириуса и умер
бы в море».
Наконец, судьба нисколько не препятствует человеческой
активности, ибо так называемый «ленивый софизм» легко опровергается. Ведь
если человеку суждено выздороветь, то это не значит, что он выздоровеет
при любых обстоятельствах — обратится он за помощью к врачу или нет.
Наоборот, «суждено» означает, что он выздоровеет только при опреде-
29 Слово «principales» Цицерон употребляет здесь в том же смысле, в каком
схоластики будут употреблять термин «a priori», также означающий «изначально». Иными словами,
«causae principales» — это априорные причины.
180
Цицерон как философ
ленных, обусловленных сцеплением предшествующих причин
обстоятельствах, включая, может быть, обязательное обращение к врачу и
другие волевые действия человека. Так что в одной и той же судьбе все
события сопряжены друг с другом, соопределены, «конфатальны» (confatales),
а следовательно, не могут быть замещены другими событиями. Активное
поведение человека также является одним из элементов предначертанной
ему судьбы.
Таким примерно предстает учение Хрисиппа о судьбе в
интерпретации Цицерона. Нетрудно видеть, что в нем есть немало уязвимых мест и
много неясного. Пожалуй, наименее убедительным в этом учении можно
считать, во-первых, различение Хрисиппом судьбы и необходимости, а
во-вторых, его попытки совместить судьбу с человеческой активностью и
свободой. Как раз в этих пунктах в основном и критикует Цицерон
Хрисиппа, опираясь на аргументацию, выдвинутую против стоиков школой
Карнеада.
Свою критику Цицерон начинает со стоической идеи всеобщего
взаимодействия и взаимовлияния. Он хорошо понимает, что именно эта
идея лежит в основе всякого фатализма, и вместе с тем осознает, что без
этой идеи мир становится иррациональным и непостижимым. Поэтому он
соглашается с тем, что в природе имеет место взаимодействие вещей, но
отрицает фактически его, как мы сказали бы, изотропность. Так, считает
Цицерон, звезды оказывают свое воздействие на земные явления, однако
далеко не все явления определяются воздействием звезд. Характер и
первоначальные наклонности человека находятся под влиянием природных
условий и зависят от предшествующих естественных причин, но это не
значит, что от естественных причин зависят все действия человека, а от
его воли ничего не зависит. В нашем характере и поведении кое-что
происходит от природы и не зависящих от нас обстоятельств, а кое-что, и
притом главное, — от нас самих, от нашей собственной воли (voluntas).
Родится человек сильным или слабым, с острым или тупым умом — это
зависит не от него, а от естественных предшествующих причин;
полученные им от природы свойства, конечно, повлияют на ход его жизни. Но
повлияют не фатально, ибо от самого человека и его воли будет зависеть
избавится ли он от прирожденных недостатков и разовьет ли в
желательном направлении природные способности (пример Сократа, Стильпона,
Демосфена). Но если бы и само направление нашей воли полностью
зависело от наших прирожденных свойств и других предшествующих
внешних причин, то тогда бы, действительно, ничего не было бы в нашей
власти, а этого не может допустить даже Хрисипп. Сам факт существования
человеческой воли, усердия (studium) и воспитания (disciplina)
свидетельствует о том, что далеко не все в нашем поведении обусловлено
сцеплением предшествующих внешних причин, т. е. судьбой.
Взаимообусловленность и взаимодействие вещей и событий неоднозначны, так как в ход
мировых событий постоянно вмешивается свободная воля человека. А
поэтому невозможна и дивинация, ибо дивинация предполагает как раз
однозначность естественного детерминизма.
Цицерон как философ
181
То, что дивинация не подтверждается никакими фактами, Цицерон
доказывал в предшествующем трактате. В книге о судьбе он считает
этот вопрос уже решенным и его интересует здесь не фактическая, а
только логическая сторона проблемы. Ведь и с логической точки зрения,
считает Цицерон, рассуждения Хрисиппа о дивинации и судьбе далеко
не безупречны. Прежде всего Хрисипп подменяет проблему
предсказуемости будущего вопросом об истинности высказываний о будущем, а
сам этот вопрос решает не вполне корректно. Ведь Хрисипп признает,
что из двух противоречащих друг другу суждений о будущем, одно с
необходимостью истинно, а другое ложно и что в будущем случится
именно то, что «суждено» в истинном «суждении», и не случится того,
что «суждено» в ложном. Почему же тогда он, допуская возможность
истинного предсказания будущего (дивинацию), не считает
предсказанное необходимым? Если точно известно, что суждение «Сципион
захватит Нуманцию» истинно, разве может Сципион не захватить Нуманцию?
Другое дело — если истинность суждения не установлена, тогда
событие может произойти или так, или иначе. Но тогда не будет и речи о
дивинации. А если истинность может быть установлена и, следовательно,
дивинация есть, предсказанное событие должно произойти с
неизбежностью. Таким образом, согласно Цицерону, Хрисипп, чтобы быть
последовательным, должен был бы либо отказаться от дивинации, а значит, и
от судьбы, либо признать тождество судьбы и необходимости.
На самом деле, продолжает Цицерон, истинность и
предсказуемость — вещи разные. Если суждение истинно, то независимо от того,
знает это произносящий его или не знает, оно с необходимостью
соответствует реальному положению дел, не важно — прошлому,
настоящему или будущему. То, что сказано истинно, не может когда-либо
обратиться в ложное и вообще не может произойти иначе, чем сказано. И не
имеет значения, произойдет ли оно случайно или в силу необходимости,
оно произойдет только так, как сказано. Если истинно, что Катон придет
в сенат в такой-то день, то это непременно случится, хотя Катона
приведет в сенат не необходимость, а стечение случайных обстоятельств. И из
этого вовсе не следует никакой предреченное™ будущего. Ведь
предрекать будущее — значит заранее выносить о нем истинные суждения и
заранее знать об их истинности. Но именно этого, по мнению Цицерона,
человек в большинстве случаев сделать не в состоянии, ибо он способен
безошибочно предвидеть только то, что подчиняется природной
необходимости (например, что Сократ умрет), но не то, что зависит от
случайных обстоятельств и свободной воли людей (что Сократ умрет тогда-то).
Хрисипп же, допустив против всех фактов дивинацию, тем самым
упразднил и случайность и свободу, и все подчинил на деле неумолимому
року, хотя и не решился сказать об этом открыто.
В своих выводах Хрисипп опирается на принцип причинности.
Цицерон тоже отстаивает этот принцип как наиболее
фундаментальный во всей философии. Он даже, кажется, лучше, чем Хрисипп,
чувствует разницу между понятиями физической причинности и
логического основания. Поэтому наряду с Хрисипповым аргументом в пользу
182
Цицерон как философ
причинности — законом исключенного третьего, он приводит в
качестве аргумента старинное правило: «Из ничего ничего не происходит».
Предположить, что какие-либо события или изменения в мире
происходят без причины — все равно, что предположить, что нечто
возникает из ничего, а это совершенно абсурдно и для Цицерона и для
античного сознания вообще . Но что понимается под причиной? Верно ли
трактует это понятие Хрисипп?
Во-первых, рассуждает Цицерон, надо различать понятия
причинности и необходимости, ибо нет ничего беспричинного, но не все
необходимо. Правда, существуют причины действительно необходимые и вечные
(causae aeternae). К ним относятся те причины, которые содержат в себе
«природное воздействие» (efficientia naturalis). Иными словами,
необходимые причины — это природные закономерности, действующие в вещах.
Истинность того, что высказывается о любых следствиях таких причин,
можно установить заранее (изначально): что Сократ умрет — изначально
истинно, так как Сократ — человек, а человек смертен по природе.
Но, кроме того, существуют причины, «случайно предшествующие»
(fortuito antegressae), те, которые вызывают определенное действие
(следствие), не подчиняясь каким-либо всеобщим законам природы, а, как
говорят, в силу стечения обстоятельств. Именно «случайные причины»
(causae fortuitae)31 служат основанием истинности таких высказываний,
как «Катон придет в сенат». Их истинность нельзя установить заранее (а
priori) как раз из-за случайности вызвавших соответствующее событие
причин. Тем не менее, если высказывание о будущем истинно, оно столь
же необходимо истинно, когда речь идет о случайных событиях, как и
тогда, когда в нем говорится о событиях необходимых, ведь истинность
его задается условием. Необходимость истинности события не мешает
случайности его происхождения. Соглашаясь с Джщфом против Хри-
сиппа в том, что то, что произойдет, не может не произойти, Цицерон
одновременно считает, что то, что произойдет, может произойти и по
случайной причине.
Хрисипп же, испугавшись необходимости и не желая в то же время
признавать объективную случайность, на деле свел реальную
(физическую) проблему случайности к логической проблеме возможности (dyna-
ton), а вопрос о причинности смешал с вопросом об истинности будущего.
Когда же на основании закона исключенного третьего он вывел, что бу-
30 Для библейского и средневекового сознания происхождение из ничего — дело
реальное, хотя и экстраординарное. Создание всего из ничего — функция одного только Бога.
Античные боги такой функции не имели.
31 Для обозначения понятия случайных причин Цицерон пользуется пока еще только
указанным термином. Позднее у Боэция появится другой термин для обозначения случайных
вещей — contingentes, который сохранится как основной для выражения случайности и в
философии Нового времени. У Цицерона понятие фортуна (fortuna) употребляется как
противоположное понятию «фатум» (fatum): в первом выражается случайность,
непредсказуемость происходящего, во-втором, наоборот, — необходимость и предреченность. В
современном словоупотреблении противоположность этих понятий несколько сгладилась. В
русском языке оба слова нередко переводятся как «судьба».
Цицерон как философ
183
дущее изначально определенно и истинно, то вынужден был допустить
судьбу, которая — допусти он случайность и различие между физическим
и логическим детерминизмом — была бы излишней.
Во-вторых, следует видеть разницу между причиной и условием
совершения действия. Ибо под причиной понимается не все то, что
чему-то предшествовало, а только то, что и предшествовало и совершило
то, чему было причиной. Иначе, иронически замечает Цицерон,
пришлось бы признать, что путник, так как он был хорошо одет, явился
причиной того, что разбойник его ограбил. Таким образом, Цицерон,
расходясь не только со стоиками, но и с высоко ценимым им
Аристотелем, считал в собственном смысле причинами только причины
действующие, производящие (causae efficientes) — здесь он предвосхищает
современную нам трактовку причинности. При этом он устанавливает
одно важное для будущей философии различие — между тем, без чего
что-то не может произойти^те quo), и тем, отчего что-то должно
произойти (quo), т. е. различие между условием и причиной, хорошо
известное Цицерону из юридической практики. С учетом указанного
различия Цицерон дает такое окончательное определение причины:
«Причина — это то, что своим наличием необходимо производит (efïicit) то,
чему оно является причиной». Как видно из этого определения, Цицерон
предполагает, что в любой причинно-следственной связи имеется
элемент необходимости. Не противоречит ли это его учению о случайных
причинах? Нисколько. Ведь из того, что причина необходима для
следствия, вовсе не следует, что сама по себе причина является
необходимой, т. е. изначально, извечно предопределенной: для известного класса
следствий необходимы именно случайные причины. Поэтому Цицерон с
полной убежденностью заявляет: даже допуская, что у всякого события
есть свои «предшествующие причины», мы вовсе не обязаны принимать
ни необходимость, ни судьбу.
Что же касается вопроса о свободе воли и человеческой
активности, то, по мнению Цицерона, все попытки Хрисиппа увязать эти
понятия с идеей судьбы оказались безуспешными. Хрисиппово
опровержение «ленивого софизма» он считает вполне убедительным, хотя и
слишком изощренным. Похоже, что вполне положительно Цицерон
оценивает и ту часть учения Хрисиппа об «одобрениях», в которой тот вводит
подразделение причин на «изначальные» и «ближайшие». Однако
Цицерон считает, что все эти диалектические тонкости сами по себе не могут
вывести Хрисиппа из лабиринта фатализма, и покуда Хрисипп
настаивает на идее судьбы и на вытекающей из нее идее детерминированности
человеческой воли внешними причинами, он не в состоянии объяснить
ни свободы, ни активности человека. Аналогия воли с вращающимся
цилиндром хороша, но она-то, судя по всему, и побуждает в первую
очередь Цицерона обвинять Хрисиппа в непоследовательности: ведь
если Хрисипп признает судьбу, то он должен остановиться на признании
полной детерминированности движений воли внешними впечатлениями
и исключить самоопределение воли, но если он допускает спонтанное
движение воли, а внешние впечатления считает только поводами, при-
184
Цицерон как философ
чем ничего не определяющими, этих движений, то он обязан отказаться
от судьбы. В данном вопросе Хрисипп, согласно Цицерону, занимает
неустойчивую позицию — позицию, как бы колеблющуюся между
фатализмом или, как мы бы сказали, нецесситаризмом демокритовского
типа и точкой зрения сторонников свободы воли; и хотя логика самого
учения не позволяет Хрисиппу выйти за рамки фатализма,
притягательная сила свободы заставляет его нарушать эту логику и отвергнуть если
не судьбу, то, во всяком случае, необходимость.
На этом спор Цицерона с Хрисиппом прерывается. Следует вторая
большая лакуна. Что содержалось в этой утраченной части? По всей
вероятности, именно здесь Цицерон излагал в концентрированном виде тот
взгляд на свободу воли и человеческую активность, который казался ему
наиболее правильным и который он постоянно подразумевал, хотя и не
раскрывал в достаточной мере в предшествующей полемике с Хрисиппом.
Как видно из этой полемики, в своей трактовке свободы воли
Цицерон в основном солидарен с Карнеадом, а также с той позицией,
которая восходит еще к Платону и Аристотелю, хотя в сохранившемся
тексте он на Платона нигде не ссылается, а Аристотеля почему-то
причисляет к сторонникам нецесситаризма. Карнеада Цицерон особенно хвалит
за своеобразный реализм — за предпочтение простых фактов
диалектическим тонкостям стоиков. Ведь это факт, что в нашем поведении кое-
что зависит от нас самих. Следовательно, не все зависит от внешней
необходимости, или судьбы (XIV, 31). Факт — что ничего не бывает без
причины. Но это не значит, что все наши действия и движения
вызываются только внешними причинами, ибо причиной наших действий
может быть и наша воля и могут существовать произвольные движения
(motus voluntarius) (XI, 23). Вспомним, однако, что «реализм» Карнеада
имел не конструктивный, а лишь методический характер; как и все
академики, Карнеад апеллировал к фактам не столько для утверждения,
сколько для опровержения и оценки меры правдоподобия тех или иных
мнений. Главнейшее требование академиков — не идти дальше гипотез
и видимостей. В трактате «О судьбе» Цицерон не имел намерения
ограничиваться только критикой и гипотезами. Ему надо было отстоять
свободу со всей категоричностью. Поэтому очень вероятно предположить,
что вторая большая лакуна в тексте трактата была когда-то заполнена
рассуждениями в духе не только критицизма Карнеада, но и идеализма
Платона, Филона и Антиоха. Цицерон, по-видимому, излагал здесь ту
самую платоническую концепцию самодвижения души, которую он
упоминает в связи с идеей бессмертия в других своих трактатах («Тус-
куланские беседы», «О старости»). В соответствии с этой концепцией
сущностью и природой души является жизнь, а жизнь — это
самодвижение и, следовательно, самоопределение. Но то, что определяется к
действию и движению самим собой, свободно. Если же человеческая
душа свободна, то никакой судьбы нет. Таким, пожалуй, был
окончательный ответ Цицерона стоикам. Свобода получала оправдание через идею
внутренней причинности; выходя из лабиринтов стоического фатализма,
Цицерон как философ
185
Цицерон не вставал, однако, и на путь индетерминизма, которому, по
его убеждению, следовали эпикурейцы.
Критика учения Эпикура занимает в трактате «О судьбе» почти
такое же важное место, как и критика учения стоиков. Хотя и в других
трактатах, как мы знаем, Цицерон не обходит Эпикура молчанием, все
же в данном случае для антиэпикурейских выпадов — подчас
представляющихся довольно искусственными отступлениями — у Цицерона
были особые основания. Дело в том, что, питая неприязнь к эпикурейскому
учению в целом, ему вовсе не хотелось оказаться в одном лагере с
Эпикуром в таком решающем вопросе, как вопрос о человеческой свободе.
А ведь Эпикур, по мнению Цицерона, именно ради оправдания свободы
сочинил всю свою систему. Не кто иной, как Эпикур, выступил
наиболее последовательно против фатализма стоиков, и теперь, когда сам
Цицерон взялся за опровержение фатализма, ему надо было во что бы то ни
стало показать, что его обоснование человеческой свободы не имеет
ничего общего с эпикурейским. Поэтому-то Цицерон во всех узловых
пунктах полемики с Хрисиппом вдруг переходит к нападкам на
Эпикура. Он довольно остроумно отстаивает отрицаемую Эпикуром
универсальность закона исключенного третьего; с большим искусством
защищает принцип причинности и высмеивает эпикурейское «отклонение»
атомов. Это «отклонение» Цицерон однозначно трактует как
беспричинность, индетерминизм. Вместе с тем он не только одобряет
эпикурейскую идею «тяжести», «веса» как внутреннего, природного свойства
атомов, но даже использует аналогию с весом атомов для объяснения
самоопределения человеческой воли. Интересно отметить, что спустя
несколько веков христианский философ Августин, хорошо знавший этот
трактат Цицерона, также использует аналогию со свойством тяжести
при описании волевых процессов.
Цицерон требовал от эпикурейцев ответа: чем вызвано пресловутое
отклонение атомов? Если оно вызвано самой природой атомов, то что же
именно из природных свойств атомов вызывает отклонение: форма,
положение, размер, вес? Ни в одном из этих свойств возможности
отклонения не содержится. Других природных свойств атомов эпикурейцы не
называют. Значит, из природы атомов отклонение не вытекает. Кроме
того, если отклонение было бы свойством природы атомов, то почему тогда,
согласно самим же эпикурейцам, атомы отклоняются не все и не всегда.
Может быть какие-то иные силы вызывают отклонение? Но эпикурейцы
не допускают ничего другого в природе, кроме атомов и пустоты, они не
допускают и ничего сверхъестественного. Остается признать, что
отклонение атомов происходит беспричинно, а это — то же самое, что признать
нечто возникающим из ничего. Не слишком ли высокая цена за
сохранение человеческой свободы?
Для Цицерона эпикурейский индетерминизм столь же неприемлем,
как и стоический фатализм. Однако избежать этих двух крайностей ему
удается тоже не малой ценой: примирение свободы с детерминизмом
достигается им на путях психофизического дуализма. Ведь отрицая у
атомов свойство самопроизвольного отклонения, Цицерон в то же время
186
Цицерон как философ
наделяет подобной же самопроизвольностью природу души.
Справедливо считая, что все без исключения физические явления должны
подчиняться единым природным законам, он фактически освобождает от этих
законов явления психические, волевые. Цицерон категорически
возражает против того, что могут существовать беспричинные движения, но
вместе с тем допускает «motus voluntarius» — движения воли,
несводимые ни к каким предшествующим причинам, ни к каким мотивам, кроме
самой загадочной природы воли, ничуть не более понятной, чем природа
эпикурейского отклонения. Одним словом, спасая свободу, Цицерон
вынужден пожертвовать и логической последовательностью и своим
исходным натуралистическим монизмом. Впрочем, ради идеи свободы
он пожертвовал бы и большим. Недаром в одном месте трактата (X, 21)
Цицерон прямо заявил о том, что скорее предпочел бы вместе с
Эпикуром нарушить закон исключенного третьего и сохранить свободу, чем
вместе с Хрисиппом, соблюдая этот закон, признать силу судьбы.
Философские предпочтения Цицерона определялись в конце концов не
столько доводами чистой логики, сколько доводами истории и политики.
Стоический фатализм символизировал для него становящуюся все более
реальной беспросветную политическую деспотию и конец
демократического либерализма. И не важно, что среди борцов за свободу республики
было столько стоиков, таких, как Катон Утический, а среди убийц
диктатора Цезаря был симпатизирующий стоикам Брут, важно, что сам
фатализм как идеология был несовместим с идеей свободы. Эпикурейский
индетерминизм символизировал для Цицерона другую политическую
крайность — анархию и беззаконие. И не важно, что эпикурейцы на
словах ратовали за свободу, важно, что, допустив в качестве принципа
своеволие атомов и произведя от этого «своеволия» человеческую
свободу, они в тот ответственный момент, желая того или не желай,
становились идеологами произвола и беззакония, а это в такой же мере, как
фатализм, проторяло дорогу деспотии. Крайности сходились.
Как мы уже говорили, концовка трактата «О судьбе» не сохранилась.
От второй большой лакуны до обрыва текст целиком посвящен критике
эпикурейского «отклонения». Что шло за этим, сказать трудно. Возможно,
опровержением эпикурейского «своеволия» и противопоставлением ему
собственной итоговой трактовки свободы воли Цицерон как раз и
заканчивал свой трактат. Однако не исключено, что концовка была иной. Во
всяком случае, основные возможные подходы к проблеме были уже
выявлены в предыдущем тексте.
И все-таки кто же более прав: Хрисипп, Эпикур или Цицерон
вместе с Карнеадом? Ответить не просто. Хрисипп прав в том, что всеобщая
связь вещей и сцепление причин, хотя и не означают необходимости
всего происходящего, тем не менее позволяют с большей или меньшей
вероятностью предсказывать будущее. Без такого предсказания сама
наука не имела бы смысла. Но не прав Хрисипп, когда он
предсказуемость будущего связывает с его априорной истинностью, выводя отсюда
судьбу. Эпикур верно полагает, что в механически организованном
материальном космосе, где и сама душа есть совокупность атомов, нельзя
Цицерон как философ
187
сохранить свободу без допущения произвола в движении атомов,
каковым является его «очень малое» («элахистон») отклонение. Но Эпикур
ошибается, думая, что все в природе организовано механически и что
нет никакой принципиальной разницы между физическим и
психическим. Цицерон (вслед за Карнеадом) особенно прав, когда он в решении
проблемы свободы предлагает больше доверять фактам, чем теориям.
Он несомненно прав, когда, опираясь на факты, уверяет нас в том, что
если нет свободы, то нет ни ответственности, ни морали, ни права. Он не
ошибается и тогда, когда говорит, что свобода относится к духовной
сфере, а не к материальной, и тогда, когда, отстаивая свободу, заботится
в то же время о сохранении принципа причинности. С полным
основанием отделяет он проблему истинности от проблемы предсказуемости.
Но заблуждается Цицерон, когда он вовсе отрицает возможность
предсказания будущих случайных событий, ибо с определенной
вероятностью они все-таки могут быть предсказуемы. Не прав Цицерон, когда
учит, что действия воли могут не зависеть от мотивов, и когда, упрекая
Эпикура в допущении произвола в физическом мире, сам допускает его
в мире психическом. Наконец, не прав Цицерон и в том, что не доводит
до конца свою идею объективной случайности (если иметь в виду
только сохранившийся текст) и фактически отождествляет всякое сцепление
причин с необходимостью.
Подведем итоги. Во всех трех рассмотренных трактатах Цицерон
предстает перед нами как незаурядный мыслитель, первоклассный
полемист и тонкий диалектик. Его общефилософская позиция может быть
охарактеризована как натуралистический монизм с некоторыми
отклонениями в сторону платонического идеализма. В философии природы он в
основном следует за стоиками, исключая те моменты, где стоики впадают
в суеверие (персонификация природных сил, мантика, фатализм). Там, где
стоики изменяют своему натурализму или становятся слишком
умозрительными, Цицерон безо всяких скидок подвергает их нелицеприятной,
беспощадной и весьма убедительной критике, а иногда и осмеянию, так
что подчас создается впечатление, что даже не эпикурейцы, а именно
стоики — главные противники Цицерона. Из трех школ, мнения которых
отражены в основном в трактатах, только школа академиков никогда не
подвергается нападкам. Более того, Академия выступает в роли судьи
философии стоиков и эпикурейцев. Это и понятно: в методологии, теории
познания, эристике и диалектике Цицерон — верный ученик и
последовательный сторонник учения академиков.
Наиболее самостоятелен Цицерон в этике, где он всегда
рассматривает человека как субъект свободы и моральной ответственности,
отвергая фатализм в любой его форме. В отношении к религии он следует
примеру своего первого учителя Муция Сцеволы, который делил ее на
«религию поэтов», «религию философов» (теологию) и «религию политиков» и
считал достойной доверия и почитания только последнюю. Он следует
также примеру Марка Варрона, своего современника и друга, автора
«Древностей», подразделявшего теологию на «мифическую»,
«физическую» (философскую) и «гражданскую» и полагавшего, что первая ложна,
188
Цицерон как философ
вторая истинна, если ее освободить от суеверий, и только третья
необходима для государства. От себя же он добавлял, что никакая религия не
может быть строго философской и никакая философская теология не
может быть строго доказательной.
Наконец, величайшее значение Цицерона как философа состоит в
том, что он, как никто другой из его современников, включая даже
Лукреция и Саллюстия, выразил в своих книгах римскую самобытность,
передал в них тот особый комплекс идей и представлений, который сложился
под воздействием исторических факторов той эпохи в особое римское
самосознание, отличное от самосознания греков, но все такое же
античное. Достигнув зрелости, это самосознание требовало своего выражения в
культуре вообще и в философии в частности. И оно нашло своего
наилучшего выразителя именно в Цицероне.
ЦИЦЕРОН
И АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ
Вступление
Философия религии, если ее понимать как систематизированное
философское рассуждение о религиозной вере, о божественной природе и ее
отношении к миру и человеку, возникла еще в античном мире. Благодаря
Платону, Аристотелю и более поздним доксографам, греческим и
римским, мы имеем свидетельства того, что философский подход к религии
был свойствен уже Ксенофану (ок. 570-478 гг. до н. э.), а затем софистам
Протагору и Продику, приятелю Сократа Критию и самому Сократу. Все
они так или иначе пытались осмыслить религию в плане ее
происхождения, ее мировоззренческой и социальной функций. Философские
проблемы религии нашли отражение в диалогах Платона (особенно в таких, как
«Государство» и «Законы»); у Аристотеля они были переведены в
плоскость метафизики, а после него вряд ли можно назвать хоть одного
крупного греческого философа, который бы их не касался. Значительный
интерес к этим проблемам проявляли стоики и эпикурейцы; философской
критикой мифологии занимались «академики» и скептики-пирронисты;
широкой известностью пользовалась теория происхождения богов Евге-
мера Сицилийского.
Однако беда как раз в том, что идеи всех этих авторов, живших до
времени Цицерона, за исключением Платона и Аристотеля, дошли до нас
только через вторые и третьи руки в совершенно фрагментарном, а может
быть, и искаженном виде, так что восстановить по этим фрагментам ту
или иную целостную концепцию (в случае, если она имеется) можно лишь
весьма приблизительно. Что же касается Платона и Аристотеля, то, хотя,
как уже отмечалось, они уделяли религиозной теме немалое внимание,
специальных трудов по философии религии они все-таки не оставили
(либо труды эти до нас не дошли). Поэтому первыми доступными нам
произведениями такого рода можно считать только сочинения Цицерона «О
природе богов», «О дивинации» и в какой-то мере трактат «О судьбе». В
этих сочинениях, принадлежащих перу великого римского оратора и
родоначальника латиноязычной философии, содержатся бесценные
сведения по античным культам и мифологиям, дается многосторонний анализ
теологических идей его предшественников и современников, излагается
его собственная концепция религии.
В настоящей работе мы постараемся на материале первых двух из
названных трактатов Цицерона воссоздать некоторые особенности тех
190
Цицерон и античная философия религии
философских представлений о религии, которые были характерны для
античности вплоть до времени самого Цицерона, т. е. до первого века до
новой эры. Разумеется, собственные воззрения римского философа
будут находиться в центре нашего внимания, ибо они и сами по себе
представляют значительный интерес и, с другой стороны, они, конечно,
накладывают свой отпечаток на интерпретацию Цицероном тех взглядов,
которые он излагает в своих сочинениях. Заметим также, что Цицерон
создает эти относящиеся к религии сочинения в рамках своей большой
просветительской программы, предназначенной к тому, чтобы
познакомить римлян со всеми разделами греческой философии, включая
«логику», «физику» и «этику». При этом он не ограничивает себя простым
изложением учений греков, скорее он их критически перерабатывает,
преобразуя в римском духе. Какой бы проблемы Цицерон ни касался, он
всегда и во всем ищет ясности и доказательности, отвергает все
сомнительное и легковесное, оторванное от жизни и бесполезное, непрестанно
борется с суеверием в любых его формах. Одним словом, во всех своих
произведениях — и не только философских — Цицерон всегда
выступает как подлинный просветитель.
О теологии греков
Поставив перед собой задачу познакомить римлян с греческой
философией во всем ее объеме, Цицерон обратился и к такому ее разделу,
как «теология» — учение о богах. Его интерес к теологии не был,
правда, чисто теоретическим; это был скорее практический — нравственный
и даже политический — интерес. Ведь по убеждению Цицерона, именно
через различные плохо обоснованные учения о богах в философию
проникли едва ли не наиболее пагубные для морали и опасные для
государства, а вместе с тем и наиболее труднопреодолимые суеверия, борьба с
которыми всегда рассматривалась им как важнейший элемент его
просветительской миссии. Вот почему вопросам теологии Цицерон
посвятил один из самых объемистых и самых содержательных своих
философских трактатов — «О природе богов», к которому вскоре
присоединил еще два трактата, направленных против суеверий, — «О дивинации»
и «О судьбе».
Вопросы о существовании, происхождении, природе и функциях
богов, т. е. те самые вопросы, которые обсуждаются Цицероном в указанном
трактате, как мы уже отметили, затрагивались в той или иной мере
многими греческими философами, начиная с древнейших. У греков, как и у
других народов, существовали, разумеется, и дофилософские, т. е. чисто
мифологические, учения о богах; первыми своими «теологами» греки
считали Гомера и Гесиода1.
1 Первоначально теологами (theologoi) называли толкователей мифов. См.: О природе
богов, Ш, 53.
Цицерон и античная философия религии
191
Однако «теология» как особый раздел философии впервые
появляется, по-видимому, только у Аристотеля. В шестой книге «Метафизики» она
(теология) отождествляется с «первой философией» — с наукой о
неизменно сущем, о неподвижной сущности. В двенадцатой книге понятие
неизменно сущего разъясняется и конкретизируется в учении о неподвижном
перводвигателе, форме всех форм и мышлении, мыслящем самое себя, —
иными словами, в учении о боге. Расчленяя в профессорской манере прежде
единую, динамически целостную и диалектически неопределенную
греческую мудрость на строго аналитические и формально определенные ее
разделы — философские дисциплины, Аристотель отделил в рамках
теоретической мудрости «первую философию», или теологию, от «второй
философии», т. е. физики, и поставил первую над второй по достоинству.
Указанное отделение теологии от физики, от философии природы, и возведение ее
в ранг верховной руководящей науки было для дохристианской античности
явлением уникальным и для большинства философов непонятным и
неприемлемым. Не случайно вплоть до позднего эллинизма Аристотелеву
классификацию наук не поддерживала ни одна философская школа, кроме разве
что его собственной — перипатетической. Для всех остальных школ более
подходящей оказалась классификация, предложенная современником
Аристотеля платоником Ксенократом, в основе которой лежало деление
философии на диалектику (логику), физику и этику. При таком членении
философии, принятом с незначительными модификациями у древних
платоников, стоиков, эпикурейцев и скептиков, теология как учение о богах (у
Аристотеля это скорее учение не о богах, а о божественном, о божественных
предметах) включалась обычно в физику, в науку о природе, как часть ее.
Уникальность же Аристотеля заключалась как раз в нетрадиционном для
классической античности, особом понимании природы. Природа (physis)
определяется им как сфера изменчивого (см.: Физика, II, 1), так что физика
как наука о природе «имеет дело с чем-то подвижным» (Метафизика,
1026а), тогда как «первая философия», т. е. теология, по определению имеет
дело с вечной и неподвижной сущностью — с той, которую в силу
принятой дефиниции природы можно представить только как внеприродную или
сверхприродную. Сфера бытия становится у Аристотеля шире сферы бытия
природного, над бытием изменчивым он ставит бытие неизменное, над
физикой воздвигает теологию. В других классических и раннеэллинистиче-
ских школах такого сужения понятия природы не произошло, это понятие
трактовалось в основном так же, как оно трактовалось досократиками, —
как обозначающее всю сферу сущего. Поэтому у стоиков и эпикурейцев, у
скептиков и даже древних академиков (несмотря на их противопоставление
бытия изменчивого и бытия неизменного) божественное включено в
природу, а теология (учение о богах) включена в физику2. Таким образом, аристо-
2 Конечно, аристотелевский отрыв «божественного» от «физического» был уже
подготовлен и элсатской концепцией неизменного мыслимого Единого, не совместимого с
изменчивостью чувственно-физического мира, и платоновским учением об истинном бытии
(бытии сразу реальном и идеальном) и мистическом «бывании» чувственных вещей— это «бы-
вание» есть как бы «недобытие», стоящее в иерархии реальности ниже бытия идеального
(полного). Однако Единое Парменида — это еще Природа, правда, взятая только в се умопо-
192
Цицерон и античная философия религии
телевское понимание теологии, изложенное в «Метафизике», в эпоху
раннего эллинизма не имело сколько-нибудь заметного влияния. И это
объясняется не только тем, что указанная теология была слишком абстрактной и
умозрительной и что она была слишком далека от тех представлений о
богах, которые содержались в древних теогониях и общегреческой
мифологии, но прежде всего тем, что «Метафизика» относится к сочинениям
Аристотеля, не известным раннему эллинизму, обнародованным только в I в. до
н. э. и получившим достаточное признание лишь во П-Ш вв. н. э., особенно
после выхода комментариев Александра Афродисийского. Интересно
отметить, что вместе с другими идеями Аристотеля его идея теологии как науки
о сверхприродной сущности оказала громадное влияние на всю философию
поздней античности, непосредственно — на «средний платонизм» и
неоплатонизм, косвенно — на философию патристики. Но здесь следует сделать
одну оговорку. Аристотелевское учение о божественном — это в его
понимании сугубо философское учение, так же как аристотелевское
сверхприродное — это еще нечто вполне рациональное и даже сугубо рациональное,
относящееся к сфере чистой, предельно логизированной мысли. Это
теология разума, а не веры, теология умозрения, а не откровения. И в этом ее
существенное отличие от всякой религиозной теологии, в том числе
христианской. Сверхприродное (метафизическое) Аристотеля совсем не то же
самое, что «сверхъестественное» в обычном смысле.
Впрочем, идеи поздних сочинений Аристотеля, включая
теологические, для нас сейчас не так уж важны. Ведь Цицерон еще ничего не знает
ни о «Метафизике», ни об упомянутой аристотелевской теологии3. В
трактате «О природе богов» он воспроизводит в основном
соответствующие учения эпикурейцев и стоиков, а также критику этих учений со
стороны Новой Академии. Попутно он знакомит римлян с представлениями о
богах других греческих философов, начиная с Фалеса и кончая ему
современными, а также с верованиями и суевериями разных народов4. Свое
изложение Цицерон, как всегда, сопровождает явно или неявно
выраженными собственными оценками теологии и религии, каковые чаще всего
весьма ироничны и критичны в отношении теологии и довольно
осторожны и осмотрительны в отношении религии.
стигаемом аспекте, а идеи Платона — это еще не Бог и не боги, но только образцы для
божественного миросозидания («Тимей»). Другими словами, ни у Парменида, ни у Платона
теория неизменно сущего отнюдь не трактуется еще как теология в собственном смысле.
3 Цицерон знает только раннего Аристотеля. Он, в частности, ссылается на трактат «О
философии», ныне утраченный. Здесь Аристотель пока еще не очень отличается по своим
взглядам от Платона, в том числе и в вопросах теологии; правда, в III книге «О философии»,
где речь шла, по-видимому, о богах, Аристотель, по словам Цицерона, уже формулирует
свою идею божественного перводвигателя; но этот перводвигатель мыслится им не как
неподвижный, а как вращающийся вокруг мира (см.: О природе богов, I, 33).
Критика мнений греческих философов о богах дается Цицероном в основном в I
книге трактата устами эпикурейца Веллея. Несмотря на свою неприязнь к школе Эпикура,
Цицерон, судя по всему, относится к этой критике явно сочувственно. Критика народных
суеверий имеется во всех трех книгах трактата, но особенно в речах академика Котты.
Цицерон и античная философия религии
193
О языческой религии, магии и мифологии
Религией античного мира, вплоть до утверждения христианства, был,
как известно, языческий политеизм. Греки и римляне почитали многих
богов — в этом их политеизм. Но прежде всего они чтили богов своего
племени, своего полиса, своей местности — богов своих предков, и в этом
их язычество, ибо в русском слове «языческий», как и в соответствующем
греческом «ethnicos», и латинском «paganus», заключен смысл почитания,
культа (cultus), именно туземных, местных, «народных» богов5.
Неотъемлемой чертой языческого политеизма является идолопоклонство,
поклонение рукотворным кумирам — изображениям (в античности обычно
скульптурным) богов и богинь, обожествленных героев, царей, а позднее и
императоров. Кумиры воздвигались в специальных храмах, сами же храмы
сооружались обычно в рощах, у источников или на высоких холмах;
прилегающая к храму местность считалась священной и также служила
предметом поклонения. В основе идолопоклонства лежит возникшее еще в
первобытные времена представление о том, что между изображаемым и
изображением имеется не только внешнее сходство, но и проистекающая
от этого сходства (или, наоборот, приводящая к нему) скрытая магическая
силовая связь, так что, вступая в общение с изображением, мы можем так
или иначе сообщаться и с самим изображаемым предметом. При этом
изображение не обязательно должно быть портретным и точным, оно может
быть и чисто символическим, — важно, чтобы оно как-то выражало
характер и природу изображаемого. Античные ваятели никогда не видели и не
могли видеть изображенных ими богов и мифологических персонажей.
Они создавали их образы, опираясь отчасти на более древние
скульптурные прототипы, отчасти на описания богов в мифах, но особенно на
собственную художественную интуицию, помогавшую им находить
совершенные и понятные всем единоверцам пластические выражения
специфических свойств каждого из богов в соответствии с тем, как эти свойства
представлялись в народном сознании. Вряд ли, правда, следует думать, что
древние представляли себе своих богов именно такими, какими их
изображали ваятели. Однако, несомненно, они находили здесь смысловое и
символическое тождество, а этого было достаточно, чтобы иметь основание
для веры в эффективность магических «симпатических действий»: молитв,
гаданий, обетов, предсказаний и т. п. Кстати сказать, не случайно у греков
идея Логоса, т. е. идея смыслового единства мира, обычно была связана с
идеей «мировой симпатии», т. е. с идеей динамического, «силового»
единства мира, с вытекающим отсюда оправданием естественной магии
(например, у стоиков и герметиков). Античная философия и античная религия
имели общую основу. Этой основой был натурализм — представление о
тотальности, всеохватности и абсолютной самодостаточности природы.
3 Термин «политеизм» современного научного происхождения, термин «язычество»
(paganitas) введен еще ранними христианами для обозначения туземных верований и
культов. У Августина встречаем такое определение: «Язычниками (pagani) мы называем
почитателей ложных и многих богов». В «Кодексе Феодосия» слово «paganitas» употребляется уже
вполне обобщенно для обозначения всей языческой религии.
194
Цицерон и античная философия религии
Все есть природа и природа есть все — таков кардинальный принцип
античного мышления. Следовательно, если боги существуют, то они либо
природные изначальные силы, либо создания природы. Но все силы и
создания природы связаны единой и непрерывной связью, «золотой цепью
бытия»; поэтому и общение с богами — действие возможное и даже
естественное, хотя это действие исключительное, тайное, магическое. Вера в
возможность такого общения природного человека с природными богами
посредством естественной магии с помощью символических изображений
богов и их атрибутики как раз и составляет психологическую основу
языческих культов.
Однако религиозная вера язычества не исчерпывалась культовой
верой. Как и во всякой религии, культ здесь дополнялся мифом, верой в
легендарную, сакральную историю богов. Если для культовой стороны
языческого политеизма главным производящим принципом был
натурализм, или — лучше сказать — «физиоморфизм», т. е. обоготворение сил
и свойств природы, для мифологической его стороны основным
порождающим началом явился антропоморфизм и социоморфизм, т. е.
олицетворение этих природных сил и свойств, придание им человеческого
облика и наделение их атрибутами социального бытия. Сакральная
история богов создавалась как фантастическое отражение человеческой
реальной истории. При этом надо иметь в виду, что для погруженного в
природу античного сознания культовый физиоморфизм более
фундаментален, чем мифологический антропоморфизм, вследствие чего и
культовая вера была более прочной, чем вера в мифы, особенно у
римлян. Канонической сакральной мифологии античность вообще не знала.
С мифами обращались весьма вольно и нередко, даже в эпоху
классической античности, подвергали их иронической критике и осмеянию.
Смехотворным и неприемлемым для критиков, как можно судить по Ксено-
фану, в мифологии считался именно антропоморфизм. Физиоморфизм,
хотя и констатированный уже софистами (Продик), подобной критике,
по-видимому, в те времена еще не подвергался. Настоящая критика
языческого физиоморфизма будет позднее дана христианами, и притом с
позиций новой креационистской теологии, теологии трансцендентного
Бога. Такие отцы христианской церкви, как Августин, проницательно
определят самую суть язычества в поклонении «не творцу, а творению»,
не создателю природы, а самой природе. Правда, еще в дохристианские
времена с совершенно других позиций — с позиций академического
скептицизма — обожествление природы было всесторонне подвергнуто
критике Карнеадом и Клитомахом. Но эта критика, как видно из
трактата Цицерона «О природе богов», касалась не столько языческой религии
как таковой, сколько, как мы увидим, теологии стоиков. В общем,
античность с большей охотой верила в божественность природы, чем в
человечность и «человекообразность» богов. Это и понятно. Ведь
языческий антропоморфизм происходит отнюдь не от сознания
превосходства человеческо-личностного начала над стихийно-природным, и
поэтому он мало общего имеет с «антропоморфизмом», или — лучше
сказать — персонализмом христианства и других монотеистических рели-
Цицерон и античная философия религии
195
гий, где Бог мыслится по аналогии с человеком именно как личностью,
как сверхприродная личность, сверхличность; а там — по аналогии с
человеком как существом природы, как природный сверхчеловек.
Природа, по крайней мере для грека (для римлянина дело обстоит несколько
иначе), представлялась более существенным и более впечатляющим
фактором человеческого бытия, чем общество и история. Поэтому в
отличие, скажем, от христианского персонализма языческий античный
антропоморфизм сам натуралистичен, физиоморфичен.
Теология стоиков и эпикурейцев
Излагаемая Цицероном в трактате «О природе богов» теология
эпикурейцев и стоиков, в противоположность эзотерической теологии
Аристотеля, вполне соответствовала общераспространенным
религиозно-мифологическим представлениям греков. Обе школы исходили из
природы как последней и самодостаточной тотальности и видели в
своих богах нечто природное, выражающее природу или проистекающее из
нее. Основное различие между ними состояло в том, что стоики делали
акцент на языческом физиоморфизме и всячески старались преодолеть
наивный антропоморфизм, прибегая для этого к символической
интерпретации мифов, а эпикурейцы, наоборот, лишая своих богов значения
мировых «физических» сил, ограничивали физиоморфизм и все дело
сводили к антропоморфизму.
Согласно стоикам, боги народной мифологии и религии — это
аллегорически и символически выраженные энергии, силы и свойства
природы, а также ее части: стихии и космические тела. Например, по их
учению, под именем Юпитера (Зевса) был обожествлен небесный эфир, как
источник природного тепла и света, под именем Юноны (Геры) — воздух,
под именем Нептуна (Посейдона) — вода, под именем Дита (Плутона) —
земля. Прозерпина (Персефона) и Церера (Деметра) символизировали
производительную силу природы, Сатурн (Кронос) — свойства времени
и т. п. Па самом же деле действительным божеством, как считали стоики,
мог бы быть назван только сам мир, взятый во всей своей целокупности,
мир как порождающая все единая природа. Ибо этот природный мир и
есть как раз единственный субъект всех тех качеств, сил и энергий,
которые обоготворены в народной религии. Но если эти проявления единой
природы мира и не могут рассматриваться как боги в собственном
смысле, все же они вполне достойны называться божественными, ибо они —
проявления мира, а мир есть бог. Следовательно, заключали стоики,
народная религия имеет прочное основание в физической реальности, и
благочестивое почитание языческих богов есть в то же время почитание
единого бога — мира.
А что мир природы, взятый как целое, есть бог, стоики доказывали
примерно так. Богом мы называем нечто всепорождающее,
одушевленное и разумное. Но тогда природный мир и есть бог, ибо природа сама
все порождает, сама себя движет (а значит, одушевлена) и управляется
196
Цицерон и античная философия религии
своими же разумными законами. Кроме того, об одушевленности и
разумности природы свидетельствует тот факт, что она породила
одушевленные и разумные существа. Ведь человек — порождение и часть
природы, а живая и разумная часть не может быть порождена неживым и
неразумным целым (иначе нечто возникло бы из ничего). К этому
стоики добавляли еще много других подобных же аргументов, собранных
Цицероном во II книге трактата «О природе богов». Среди них
некоторые стали общеизвестными и были в несколько измененном виде
усвоены позднее христианством. Таковы, в частности, аргумент от
целесообразности космического порядка, указывающего на то, что миром
правит разум; аргумент от целесообразности устройства и поведения
живых организмов, где природа особенно зримо проявляет свою
рациональность; аргумент от иерархии совершенств, возводящей от
несовершенного разума человека к совершенному разуму мира. Это желание
как можно убедительнее доказать разумность и божественность мира
побуждало стоиков постоянно углубляться в исследования природных
явлений, изыскивать в этих явлениях скрытые связи и закономерности,
кропотливо и целенаправленно собирать естественнонаучные сведения
и факты естественной истории, что, между прочим, создало иным из
них репутацию не только известных философов, но и крупнейших
ученых и эрудитов: такими античность признавала стоиков Хрисиппа и
Посидония.
С другой стороны, стремясь к максимальной рационализации
языческой религии, стоики много потрудились над символической
интерпретацией мифов. Они фактически первыми (по их стопам пошли потом
неоплатоники) на материале античной мифологии построили своеобразную
экзегетическую теологию, и их опыт символической экзегетики был
впоследствии использован как Филоном Александрийским для создания
«теологии» Ветхого завета, так и отцами церкви для построения
«рациональной теологии» Нового завета.
Что же касается Эпикура и его последователей, то они, опираясь, как
мы уже сказали, на языческий антропоморфизм, представляли себе своих
богов по образу и подобию людей, с той лишь разницей, что боги, по их
мнению, в полной мере обладают тем блаженством (счастьем), к которому
люди всегда только стремятся, но никогда его не достигают. Боги
Эпикура — это человекообразные, телесные, природные существа, состоящие,
как и все на свете, из комбинаций атомов, но из комбинаций особо
устойчивых, не распадающихся столь быстро, как атомные комбинации тел
человеческих или каких-либо других. Неразрушимость этих атомных
комплексов обеспечивается и тем, что эпикурейские боги не испытывают
никаких воздействий со стороны других тел, ибо они обитают не в каком-
либо из миров (миров же, подобных нашему, видимому, существует
бесчисленное множество), а в междумириях, т. е. в абсолютной пустоте. Не
будучи связаны с космическими мирами, эти боги не только ничего от них
не испытывают, но и сами не могут на них воздействовать или о них
заботиться. Ничем не возбуждаясь и ни о чем не заботясь, боги пребывают в
состоянии блаженной эпикурейской атараксии — безмятежности, невоз-
Цицерон и античная философия религии
197
мутимости, а это состояние для эпикурейцев и есть главный признак
божественности: кто всегда блажен, тот бог6.
Может создаться впечатление, что эпикурейская теология имеет в
значительной мере этический характер, в то время как стоическая
теология скорее имеет характер натурфилософский, «физический». Ведь у
Эпикура определяющий атрибут бога этико-психологический — ничем не
нарушаемое блаженство, у стоиков космический — разумное управление
миром, провидение. У эпикурейцев боги — праздные созерцатели и
наслаждающиеся эгоцентристы, непонятно зачем введенные в космос, в
котором они не выполняют никакой функции; у стоиков бог (и боги как
энергии этого единого бога) — работник и мыслитель, «творческий огонь,
планомерно продвигающийся путем порождения» (О прир. бог., II, 57),
сам мировой разум, обеспечивающий взаимосвязь всех вещей и
целесообразное единство космоса, разум обо всем пекущийся и все устраивающий;
одним словом, бог стоиков в противоположность богам эпикурейцев —
это бог-альтруист, бог-благодетель, хотя подобные моральные качества
могут быть приписаны ему только в переносном смысле, ибо бог
безличен, он, как мы знаем, есть бог-мир. Однако и эпикуровы боги безличны,
хотя и наделены они человеческим обликом, человеческим разумом и
способностью наслаждаться. В них нет действительной человеческой
жизни, нравственной жизни. Они напоминают спокойные и безучастные
античные статуи богов, изваянные на вечные времена, но все же не
вечные, ибо они сделаны из физической материн, из тех же атомов, которые в
конце концов когда-нибудь рассеиваются. Боги Эпикура безличны,
потому что бездейственны, а личность без деятельности невозможна; они
безличны, потому что не испытывают ни любви, ни ненависти, а без этого
тоже нет личности. В общем, хотя теология эпикурейцев строится на эти-
ко-психологической идее, она, так же как и теология стоиков,
натуралистична, космична и, так же как сама античная религия, по существу,
отделена от морали.
6 Главный аргумент, выдвигаемый в I книге «О природе богов» эпикурейцем Веллеем
против стоиков и других пантеистически мыслящих философов, состоит как раз в том, что
эти философы не могут обеспечить своим богам их важнейшей прерогативы — вечного
блаженства. Какое уж там спокойное блаженство может испытывать стоический бог-мир,
если он постоянно изменяется, вращается и периодически сгорает в огне, если одни члены
бога раскалены, другие иссохли, а третьи окаменели (I, 24)! Как вообще можно говорить о
блаженстве материального огненного шара? О блаженстве люди могут судить только по
самим себе. Следовательно, если блаженные боги существуют, то они подобны людям. Что
же касается самого существования богов, то эпикурейцы рассуждали так: у всех людей
имеется изначальный, «предвосхищенный» образ (prolepsis) богов как существ блаженных,
бессмертных (иначе они не были бы и блаженны) и обладающих человеческим обликом.
Поэтому должны существовать и прообразы этих образов. Значит, боги существуют. Кроме
того, эпикурейцы выдвигали аргумент, называемый «isonomia», который Цицерон переводит
как «равномерное распределение» (aequabilis tributio). Если существуют смертные, то
должны существовать и бессмертные, иначе бы нарушилось равновесие природы. Как видно из
последующей критики эпикурейской теологии, данной в трактате Коттой, Цицерон не
считает эти аргументы сколько-нибудь серьезными.
198
Цицерон и античная философия религии
Античное язычество
и моральное сознание
Мораль и религия в античном мире, если не иметь в виду античное
христианство, существовали более или менее независимо друг от друга.
Моральное сознание греков и римлян почти не контролировало религию,
отчего религия, как справедливо отмечали потом христианские
апологеты, становилась в ряде своих проявлений аморальной; сама же религия
почти не контролировала мораль, которая по этой причине была вполне
светской, плюралистической и, если можно так выразиться,
прагматической — основанной не на каких-либо религиозных предписаниях, а на
здравом смысле. Правда, в общественном мнении того времени неверие
считалось делом безнравственным, а пренебрежение государственной
религией даже считалось правовым нарушением (о чем свидетельствует, в
частности, судьба Анаксагора, Протагора и Сократа); однако никакого
морального учения в собственном смысле, подобного тому, которое
заключено в заповедях Пятикнижия или Нагорной проповеди, античная
религия в себе не содержала и никаких общеобязательных поведенческих
нормативов не предписывала. Нравственное воспитание люди получали
не у жрецов (как это было в Средние века), а у педагогов, не в храмах и
святилищах, а в семье, в школах и гимнасиях, на агоре и на форуме, в
военных лагерях и на административной службе. Языческая религия не
имела своих проповедников и миссионеров, ее жрецы были только
служителями культа, а отнюдь не пастырями и отцами-попечителями, как потом
в христианской церкви. Бывали, конечно, и жрецы воспитателями, каким
был наставник Цицерона — Великий понтифик Муций Сцевола, но это не
входило в прямые обязанности жреца. В роли общественных
проповедников и учителей нравственности, в роли утешителей и исповедников,
вообще в роли идеологов в ту эпоху чаше всего выступали не
профессиональные жрецы, а свободные мудрецы, философы. В этом смысле те
функции, которые в Средние века исполняла церковь, в античности
исполнялись философскими школами. Для еще большей аналогии заметим,
что как в Средневековье существовали странствующие монахи,
проповедники религиозной морали, так раньше, в эллинистическую эпоху,
существовали бродячие проповедники философской морали — киники.
И все же нельзя сказать, что в античности между религией и
моралью не было вовсе никаких контактов. Достаточно вспомнить, что боги
античного пантеона олицетворяли собой нередко именно нравственные
представления и понятия. Юпитер (Зевс) олицетворял всеблагость и
всемогущество — отсюда его наименования: Optimus, Maximus, Omnipotens,
Минерва (Афина) — мудрость, Марс (Apec) — воинскую доблесть и
мужество, Венера (Афродита) — любовь, возвышенную и плотскую (Caritas,
cupiditas), Диана (Артемида) — целомудрие и т. д. В этом отношении
римляне пошли намного дальше греков. Как рассказывает нам Цицерон,
они обоготворили не только многие добродетели: честь, верность,
спасение, согласие, доблесть, свободу, победу и т. п., но и даже пороки: похоть,
Цицерон и античная философия религии
199
страх, вожделение, сладострастие (см. там же, II, 60-63 и др.). И всем
этим божествам римляне воздвигали статуи, посвящали храмы, молились,
давали обеты, приносили жертвы, веря в то, что у моральных качеств и
действий также есть в природе свои невидимые могущественные
покровители, способные магически повлиять благоприятно или неблагоприятно
на поведение верующего. Короче говоря, к религии не обращались с
вопросом, что есть добро и что есть зло (подобные вопросы относились
тогда к компетенции философии, а не религии), но к ней обращались за
помощью в реализации добра и зла.
Однако преимущественной формой контакта античной религии и
морали был все-таки не союз, а конфликт. Моральное сознание
развивалось быстрее, чем религиозное. Уже в эпоху классической Греции
сложившиеся в архаические времена с их примитивной моральностью
мифологические представления о богах вызывают протест со стороны
нравственного чувства образованных людей. Это заметно, например, у
греческих трагиков, особенно у Еврипида. Философская критика
языческого антропоморфизма, данная Ксенофаном, также имела
нравственную подоплеку. «Все, что есть у людей бесчестного и позорного, —
говорит Ксенофан у Секста Эмпирика, — приписали богам Гомер и Геси-
од» (Мат., IX, 193). Платон же, желая в своем идеальном государстве
защитить нравственность стражей от пагубного влияния мифологии,
предлагает вообще отбросить большинство мифов о богах, в том числе
те, «которые рассказывали Гесиод, Гомер и остальные поэты. Составив
для людей лживые сказания, они стали им их рассказывать, да и до сих
пор рассказывают» (Государство, 377, d). Платон очень ясно осознает
полную несовместимость мифологического бытописания богов с
нормами современной ему морали и фактически предлагает реформировать
мифологию путем сведения ее к философской теологии, основанной на
коренной нравственной идее — идее блага. Как он сам пишет: «Это был
бы один из законов и одно из предначертаний относительно богов:
сообразно с ним... следует утверждать, что бог — причина не всего, а
только блага» (Там же, 380 с). Потребность освободить религиозную
веру (без которой античный мир, несмотря на всю его светскость,
обойтись, конечно, не мог) от наивной и аморальной мифологии и придать ей
более духовный характер ощущалась и до Платона. Эта потребность
проявлялась во все более широком распространении мистериальных
культов, в которых духовно-нравственный элемент играл значительно
большую роль, чем в олимпийской религии. Она проявлялась и в досо-
кратической философии, когда на место традиционных мифологических
богов пифагорейцы ставили числа, Гераклит — Логос, элеаты —
Единое, Эмпедокл (в «Очищениях») — дух, Анаксагор — ум. Но, пожалуй,
сильнее всего потребность в духовной религии и неприятие архаической
мифологии выразились у Сократа, у которого понятие бога едва ли не
полностью утрачивает свой прежний космологический смысл и
становится почти чисто этическим.
Вместе с тем все перечисленные философские учения (сюда
можно отнести и теологию Аристотеля) строились не на основе традицион-
200
Цицерон и античная философия религии
ной мифологии, а в противовес или же в дополнение к ней. И только
стоики попытались построить свою теологию на основе этой
мифологии, хотя и они, конечно, в еще большей степени, чем их
предшественники, побуждались религиозно-нравственной потребностью — ведь во
времена стоиков мораль архаической мифологии выглядела совсем уже
смехотворной. Метод, которым воспользовались стоики для оправдания
несообразностей древней мифологии, был тем же, который применяли
потом и христиане для оправдания противоречий и «нелепостей»
Ветхого завета, — метод трактовки мифа как иносказания. В такой
трактовке даже чудовищный с точки зрения обычной морали миф об
оскоплении Кроносом своего отца Урана и заключении в оковы Кроноса
Зевсом (его же сыном) — миф, рассказанный Гесиодом в «Теогонии»,
осужденный Ксенофаном (В 12) как беззаконный, а Платоном
(Государство, 377е-378а) названный в первой своей части «величайшей ложью», а
во второй — тем, о чем лучше умолчать, даже этот миф оказался весьма
остроумной, хотя и недостаточно благопристойной аллегорией
реальных природных процессов и явлений. В явно упрощенной передаче
Цицерона стоический смысл этой аллегории таков: оскопленный Уран —
это небесный огненный эфир, который без помощи какого-либо
специального органа «сам от себя рождает все», а то, что Кронос, который
якобы символизирует поток времени (по-гречески время выражается
созвучным словом — Chronos), был закован Зевсом, означает, что на
время, дабы оно «не бежало слишком быстро» и чтобы у него была своя
мера, были наложены звездные «узы» (О природе богов, II, 63-64), т. е.
что, создав небесные светила с их круговращениями, Зевс (бог-
природа) учредил тем самым космическую меру времени. Подобным же
образом изощрялись стоики в толковании других архаических мифов.
Однако стоическая герменевтика была малоэффективна для
поддержания античной религии. Натуралистическая интерпретация мифов вела
фактически к демифологизации, поскольку, как мы уже отмечали,
мифология не существует без антропоморфизма. Но ведь и языческая религия
не существует без мифологии. Значит, пантеизм и натурализм стоиков
против их намерения даже подрывали основы языческой религиозности.
Еще в большей степени подрывал эти основы эпикуреизм, который уже в
античные времена чаще всего воспринимался как плохо замаскированный
атеизм. Эпикурейская теология, хотя и была, как мы знаем,
антропоморфической, открыто противопоставляла себя традиционной мифологии,
удаляя своих богов подальше от людей и их нравов, лишая этих богов их
едва ли не важнейшей для всякой религии и мифологии способности —
способности воздействия на человеческую жизнь. А исключая
воздействие богов также и на природу, совершенно изолируя их в междумириях,
эпикурейцы подрывали уже не только мифологическую, но и культовую,
магическую, сторону религии. Таким образом, стоики, как позднее
неоплатоники, безуспешно старались с помощью своей теологии спасти
языческий политеизм, эпикурейцы же, желая того или не желая, также с
помощью некоей теологии, все делали для того, чтобы погубить его.
Цицерон и античная философия религии
201
Академическая критика теологии
Своеобразной реакцией на теологические взгляды стоиков и
эпикурейцев (хотя, конечно, не только на эти взгляды) явился скептицизм
Новой Академии. Карнеад и его преемники на посту главы академической
школы, Клитомах и Филон, объявили все попытки рационализировать
античный политеизм с его культом и мифологией полностью
несостоятельными. Но самое главное — они отвергли самую идею «теологии» как
философского учения о богах, посчитав невозможным ни доказать строго
логически или фактически их существование, ни установить что-либо
определенное об их природе и свойствах, ни согласовать понятие о
божественном промысле с наличием физического и морального зла в мире.
Как и в других случаях, в вопросах теологии академики занимались
почти исключительно критикой чужих мнений, а не высказыванием своих
собственных (принцип воздержания от суждения — epoché). Они
выдвинули целую систему диалектических аргументов против эпикурейского
антропоморфизма и столь же обстоятельно раскритиковали физиомор-
физм стоиков. Цицерон подробно излагает эти контраргументы
академиков устами Котты в I и III книгах трактата «О природе богов».
Однако, отвергая претензии эпикурейцев и стоиков на построение
теоретической, рационально доказательной теологии, академики, если
судить по трактату Цицерона, не только не выступали против самой
религии, но даже выставляли себя ее защитниками. И это нисколько не
противоречило их общефилософской позиции, скажем больше — проистекало
из нее. Академики отрицали возможность достоверного знания, но они не
отрицали правдоподобное или вероятное (verisimile или probabile — в
латинской передаче Цицерона). Они явились отдаленнейшими
предшественниками Юма и Канта в разграничении сферы теоретического и
практического разума, сферы аподиктического знания и практической,
морально оправданной веры (probabilia). С точки зрения академического
«пробабилизма», ничего нельзя доказать, но верить по морально-
практическим соображениям следует многому; одному — больше,
другому — меньше, в зависимости от его вероятности и правдоподобия. Только
этой вероятностью человек и может довольствоваться в жизни, а истина
всегда остается непостижимой (akatalepton — incognitum). Вера в
существование богов — один из случаев веры в то, чего нельзя постигнуть и
доказать. И, как считали академики, религиозная вера оправдана не
логическими аргументами (в которых она не нуждается), а самим фактом
существования религии как общественно-исторического явления: верить в
богов следует уже потому, что эта вера завещана предками, и потому, что
религия составляет традиционный, а значит (с большой вероятностью), и
неотчуждаемый элемент общественной жизни, без которого не обходится
ни одно государство. Почитание богов своего отечества составляет
нравственную и политическую обязанность хорошего гражданина. Итак,
академики выступают не против религиозных культов, а против теологии,
которая претендует на философское обоснование религиозных
представлений. По их убеждению подобное обоснование не только не возможно в
202
Цицерон и античная философия религии
строгом смысле, но даже и вредно для религии: ведь вера
противоположна сомнению, а сомнение преодолевается доказательствами; поэтому
доказательства нужны только там, где еще или уже нет веры (уверенности),
там же, где вера есть, доказательства могут только ослабить ее (III, 10).
Теология — враг религии, ибо, обещая подкрепить веру рациональными
доказательствами, она, как явствует из трактата Цицерона, запутывается в
собственных антиномиях и обнажает тем самым иррациональность
религиозной веры — ее несовместимость с обыкновенной рассудочной
логикой, что, конечно, приносит религии немалый вред. Так что пусть лучше
философия не вмешивается в дела религии и пусть разум не пытается
постичь то, во что можно только верить и принимать исключительно как
практическое, нравственно-политическое предписание, пусть разум
ограничит себя, дабы уступить место вере.
Мы намеренно используем здесь язык Канта — очень уж очевидна
близость всех этих рассуждений древних академиков (так же, как и он,
агностиков) к трактовке теологии и религии у этого великого философа
Нового времени: опровержение (правда, иными средствами)
рациональных доказательств бытия бога, обоснование невозможности построения
теологии как строгой науки, удаление идеи бога из области
теоретического и перемещение ее в область практического разума.
Но с еще большим основанием подход академиков к теологии можно
сравнивать с соответствующими воззрениями сторонников теории двух
истин, выраженной, например, у Фрэнсиса Бэкона в следующих словах:
«...из безрассудного смешения божественного и человеческого выводится
не только фантастическая философия, но и еретическая религия. Поэтому
спасительно будет, если трезвый ум отдаст вере лишь то, что ей
принадлежит» (Новый Органон, I, 65). Карнеад и его последователи
руководствовались идеалом строго научной философии, не приемлющей ничего
такого, что не было бы достаточно обосновано и доказано. Недаром они
отвергали стоическую постигающую (каталептическую) фантазию, в
которой предполагалось значительное участие веры в непогрешимость
чувственного восприятия. Вообще их методологическим основанием был
принцип, как раз противоположный вере, — принцип сомнения,
назначение же научной философии они видели не в спекулятивном
конструировании, а в критике, и прежде всего в критике покоящегося всегда на
какой-либо вере философского догматизма. Но академическая критика
распространялась только на философскую веру, т. е. ту, которая была все-
таки соизмерима с их философским рациональным сомнением.
Религиозная вера, с ним не соизмеримая, сама по себе, если она не вырождалась в
теологию, критике не подлежала: верить или не верить в богов своего
отечества — это был вопрос не философской теории, а морально-
политической практики.
Цицерон и античная философия религии
203
Общий взгляд Цицерона
на религию и теологию
Таковы были позиции сторон, вступивших в спор о природе богов в
трактате Цицерона. Мы изложили их, хотя и обобщенно, но все же в
соответствии с тем, как изложил их сам Туллий. Собственное его отношение к
предмету спора — теологии и религии — в основном совпадает с
позицией академиков, хотя в некоторых важных пунктах он соглашается и со
стоиками, а там, где речь идет о мифологических суевериях и дефектах
греческой теологии, — даже с эпикурейцами. Уже во вступительной части
трактата Цицерон объявляет читателю о двух особенностях своего
подхода. Во-первых, он говорит, что вопрос о природе богов он считает весьма
трудным и темным, а предложенные философами его решения —
сомнительными (I, 1). Доверять же сомнительному, даже если оно высказано
признанными авторитетами, недостойно мудреца, ибо в философии
нужны не авторитеты, а сила доказательств (I, 10). Авторитет для учащегося
(ведь Цицерон всегда считал себя в философии не учителем, а только
учеником) даже вреден, так как люди отвыкают рассуждать самостоятельно.
Поэтому и не заслуживают одобрения пифагорейцы, которые вместо
доказательств нередко ссылались на авторитет своего учителя Пифагора
(«Сам сказал» — Ipse dixit). В здравой же философии не должно быть
никаких предвзятых мнений. И Цицерон требует представить доказательства
всего того, что философы наговорили о богах.
Во-вторых, Цицерон заявляет себя последователем учения
академиков, точнее — сторонником их метода: «Все оспаривать и ни о чем не
высказывать определенного мнения» (I, И). Преимущества этого метода он
описывал и в более ранних сочинениях; главнейшим из них является
теоретическая свобода. Когда же речь идет о богах и религии, метод
академиков особенно хорош: он позволяет в этом деликатном вопросе
прояснить мнения других, не выражая категорически собственного. Ведь в
период написания трактата Цицерон был членом коллегии авгуров и сам
«руководил ауспициями» (I, 14), что налагало на него моральную
ответственность за судьбы государственной религии и не позволяло ему, во
всяком случае открыто, осуждать веру в богов. Метод академиков
обеспечивал ему безопасность еще и тем, что в согласии с ним, как мы уже
говорили, теоретическое отделено от практического, истинное от
правдоподобного, и критика теологии не означает критики религиозных культов. И
Цицерон вслед за академиками с полной определенностью различает два
аспекта проблемы: философско-теологический и
религиозно-практический. С точки зрения практической вера в богов необходима, ибо без этой
веры потеряли бы свою основу благочестие, святость и сама религия, а
если они исчезнут, восклицает Цицерон: «то последует великий переворот
всей жизни и великое смятение и, пожалуй, с исчезновением
благочестивого отношения к богам, не устранится ли также и верность, и
человеческое сообщество, и самая совершенная из всех добродетелей —
справедливость?» (I, 4-5). Иными словами, Цицерон видит в религиозной вере
204
Цицерон и античная философия религии
одно из необходимых условий нравственной и социальной жизни, а эта
сторона дела для него как моралиста и политика самая важная. Но что
означает для Цицерона эта вера? В чем должна она проявляться? Ответ на
эти вопросы содержится в речах академика Котты — ему, судя по всему,
поручает Цицерон изложение своего собственного мнения о назначении
религии. Во второй части первой книги трактата Котта — Цицерон дают
нам понять, что вера должна фактически сводиться к верности
традиционному культу, к благочестивому соблюдению общественных
религиозных обрядов (I, 61). В третьей книге об этом говорится подробнее. Здесь
Котта недвусмысленно заявляет, что верить в богов его обязывает
авторитет великих римских предков (auctoritas maiorum), таких, как Корунканий,
Сципион, Лелий, Сцевола, а не доказательства стоиков. «И я убежден, —
говорит Котта, — что Ромул ауспициями, Нума, учредив
жертвоприношения, заложили основу нашего государства, которое, конечно, никогда бы
не достигло такого могущества, если бы высшим благочестием своим не
заслужило милости бессмертных богов» (III, 5).
Таким образом, Цицерон, как типичный римлянин, чтит не столько
самих богов, сколько римскую религию, и не столько саму по себе
религию, сколько авторитет приверженных ей предков. «Предкам же нашим я
должен верить без всяких доказательств» (III, 5). По сути дела, религия
Цицерона — это не культ богов, а культ римского духа, римской
государственности, культ идеализированного римского прошлого, неотъемлемым
элементом которого была вера в национальных римских богов. Римская
мифология истории получает в лице Цицерона своего самого страстного и
самого просвещенного апологета. В некоторых рассуждениях трактата «О
природе богов» противопоставление веры, основанной на
«непоколебимом» авторитете предков, и философского разума, едва ли не
предвосхищает знаменитую формулу христианского апологета Тертуллиана:
«верую, ибо нелепо». Цицерон, как никто другой, понимает вопиющую
нелепость языческих верований. Но он (как потом и Тертуллиан по
отношению к христианству) не делает отсюда вывода о необходимости их
устранения. Он делает другой вывод: о невозможности теологии как науки и о
необходимости веры без доказательств — веры, санкционированной
авторитетом. Только у Тертуллиана этим авторитетом будет боговдохновен-
ное Священное писание, а у Цицерона идеализированная римская история
с ее мифологизированными персонажами. Эта священная история Рима,
сколько бы ни содержалось в ней нелепостей, вместе со всеми ее героями,
законами, обычаями и верованиями обладает абсолютным авторитетом и
не подлежит никакой рациональной критике; она, можно сказать, выше
разума. Там, где дело касается субстанции римского духа, его священной
истории, практический рационалист Цицерон готов не колеблясь стать
иррационалистом.
Совсем иначе подходит Туллий к теологии. Здесь он подчас
колеблется, но всегда требует рациональности. Ведь теология претендует на
доказательство того, что в религии требует только веры. Пусть же она
доказывает по всем правилам науки! Пусть философы, будь то
платоники, перипатетики, стоики или эпикурейцы, строго докажут, что те боги,
Цицерон и античная философия религии
205
о которых они учат, действительно существуют, ибо, полагает Цицерон,
сомневаться в существовании богов теоретически очень возможно (I,
60)! Пусть они докажут, что природа богов именно такова, какой они ее
себе представляют; ведь против подобных представлений академики
выдвинули немало веских аргументов (I, 2)! Пусть докажут, что миром
правит божественное провидение и что боги пекутся о делах
человеческих, в то время как мы повсюду видим безнаказанное зло и
невознагражденную добродетель (III, 83-86)! Но, увы, никаких убедительных
доказательств, за исключением, может быть, одного, они не
представляют. А это одно касается космической красоты и гармонии,
свидетельствующих о разумности и как бы целесообразности мирового порядка.
Ведь по картине мы судим о создавшем ее художнике, а по движению
корабля судим о кормчем, им управляющем, хотя бы мы и не видели
никогда ни этого художника, ни этого кормчего. Не так ли и по
изумляющей своей красотой картине мира, по нерушимой закономерности
его движений должны мы судить о существовании его невидимого
разумного творца, устроителя и управителя — бога? И все же, считает
Цицерон, такое суждение, хотя и кажется правдоподобным, не имеет
аподиктической силы, свойственной строго научным суждениям. Оно
основано только на аналогии, и ничто не мешает думать, что красота мира
есть просто результат искусства самой природы (sollertia naturae) или
даже дело вкуса воспринимающего мир субъекта (I, 24); ничто не
препятствует заключить, что природа движется своей собственной силой и
что порядок этого движения, равно как и целесообразный порядок в
органическом мире, есть лишь проявление внутренне присущих природе
закономерностей. Ведь и стоики считают красоту и порядок
имманентными свойствами мира, но они называют за это мир богом. «Нет, —
пишет Цицерон, — мир — не бог, и, однако, нет ничего лучше его; ибо нет
ничего прекраснее его, ничего благотворнее для нас, ничего красивее на
вид, постояннее в своем движении. А так как мир в целом не бог, то
также не боги и звезды... ибо им действительно присуще поразительное,
невероятное постоянство. Но, Бальб, не все, чему присуще определенное
и постоянное движение, должно быть приписано скорее богу, чем
природе» (III, 23). Цицерону близки и понятны стоические рассуждения о
неисчерпаемом богатстве, многообразии, поразительной
изобретательности и своего рода предусмотрительности природы, о ее творческой
силе и поистине художественной красоте. В своем трактате он придает
этим рассуждениям еще больше блеска и убедительности. При чтении
второй книги трактата, где устами Бальба излагается позиция стоиков,
невольно создается впечатление, что не стоик Бальб, а сам Цицерон поет
вдохновенный гимн гению природы. Недаром он заставляет Бальба
постоянно цитировать в этой части своих любимых поэтов, прежде всего
Энния, а для иллюстрации красоты космоса заставляет его
процитировать свой юношеский перевод астрономической поэмы Арата. И это не
просто адвокатский риторический прием — выказать себя
беспристрастным при изложении позиций сторон — это доподлиннейший взгляд
самого Цицерона. Ученый и художник одновременно, он явно симпати-
206
Цицерон и античная философия религии
зировал стоическому поклонению космосу: именно у стоиков, а
особенно у Посидония, он научился натурфилософии и обогатился
естественнонаучными знаниями, которые он нам щедро демонстрирует и в других
своих сочинениях. Так что, если бы мы поставили себе целью
воспроизвести в рамках синкретического мировоззрения Цицерона его физику, то
мы получили бы на девяносто процентов физику стоиков. Однако эта
цицероновская физика была бы полностью свободна от стоической
теологии, ибо Цицерон не видел в смешении физики и теологии, науки и
религии, ничего, кроме вреда, и в отличие от стоиков он поклонялся
природе только как ученый и художник, а не как суеверный
идолопоклонник. Как видно из трактата «О природе богов», а еще больше из
примыкающего к нему трактата «О дивинации», Цицерон очень четко
различал науку и псевдонауку; возбуждая у своих римских
соотечественников интерес и любовь к научному знанию, он был очень
внимателен к тому, как бы в сознание римлян вместе с действительной
ученостью не внедрились сопутствующие ей суеверия, ибо наука,
разбавленная суевериями, с моральной стороны опаснее невежества.
И в трактате «О природе богов» Цицерон выступает прежде всего
как моралист и просветитель, точнее, как теоретик просвещенной морали.
Критика религиозных и теологических суеверий, служащая основным
предметом трактата, направлена именно к этой цели. Наибольшую
опасность для римской моральности представляла, с точки зрения Цицерона,
заимствованная у греков мифология.
Религия в представлениях древних римлян
Римская автохтонная религия была, как мы знаем, примитивной, в
основном обрядовой и почти лишенной мифологии. Еще в трактате «О
законах» Цицерон отмечал, что сначала римляне признавали только
обряды (жертвоприношения) и ауспиции, позднее были введены толкования
Сивиллиных прорицаний и заимствованные у этрусков гаруспиции (Зак.
III, 20). То же самое говорит Цицерон и в трактате «О природе богов» (III,
5). Разумеется, такая религия не имела прямого отношения к морали. Боги
физиоморфически воспринимались то как благоприятные, то как
неблагоприятные магические силы, вопрошание и умилостивление которых и
составляло традиционный государственный культ. Римский пантеон был
едва ли не богаче греческого, но все эти бесчисленные боги римлян имели
не столько космологические и мировоззренческие, сколько утилитарно-
практические и, можно сказать, специально-хозяйственные функции,
которые с римской расчетливостью и юридическим вкусом к рубрикации
мелочно распределились между отдельными богами, так что одних только
богов-покровителей земледелия насчитывалось у римлян больше десятка:
бог первой вспашки земли (Веруактор), бог второй пропашки (Репаратор),
бог третьей пропашки (Инпорциатор), бог посева (Инситор), бог-жнец
(Мессор) и т. д. К каждому времени, месту и действию был приписан
какой-нибудь бог; благочестивый римлянин вынужден был постоянно со-
Цицерон и античная философия религии
207
вершать жертвоприношения и другие обряды, должен был в своей
религии больше действовать, чем переживать и воображать. Поэтому, как
верно заметил А. Ф. Лосев, в римской религии, по сравнению с греческой,
«поражают бедность фантазии, незначительность и смехотворность
мифологических вымыслов, отсутствие самой потребности в живых образах
божеств» (Эллинистически-римская эстетика. — М., 1979. — С. 34.). Как
и во всем римском, в римской религии деятельный элемент явно
преобладает над созерцательным.
Вторжение греческой мифологии должно было произвести в
религиозном сознании римлян подлинную революцию. Греческие, а позднее
азиатские и африканские мифы несли с собой ранее не свойственные
римлянам представления о богах как человекоподобных существах,
гиперболически наделенных всеми людскими добродетелями и пороками, но
составляющих особое сверхчеловеческое сообщество, призванное, помимо
всего прочего, руководить жизнью человеческой и одновременно служить
для нее образцом.
С нравственной стороны большинство этих мифов было далеко не
безупречно, а многие казались совершенно аморальными даже античному
сознанию. Вплетение подобной мифологии в религиозные представления
римлян грозило санкционированием безнравственности, подрывом
ригористической староримской морали, устои которой и без того постоянно
расшатывались начавшимся еще в III в. до н. э. процессом эллинизации
римской жизни.
Попытки противодействовать введению иноземных культов и
эллинизации римской религии наблюдаются уже в III—II вв. Тогда же начинает
проявляться и скептическое, а подчас и ироническое отношение к
греческой мифологии, У Плавта в «Амфитрионе» эллинские боги с римскими
именами Юпитера, Меркурия и т. п. (отождествление греческих богов с
аналогичными им по своим магическим функциям римскими богами
произошло у римлян задолго до Плавта) выступают персонажами веселой
комедии: Юпитер — в роли незадачливого соблазнителя чужой жены,
Меркурий — в роли его помощника, т. е. сводника. Греческий миф об
Амфитрионе и Алкмене у отца римской комедиографии становится
поводом посмеяться над скроенными по человеческим меркам олимпийцами.
Скептическое отношение к мифологии встречается и в
сохранившихся фрагментах поэмы Энния «Анналы». Но особенно показателен тот
факт, что Энний, этот крупнейший староримский поэт, стал переводчиком
на латинский язык сочинения Евгемера Сицилийского «Священная
запись», в котором содержалось рационалистическое истолкование
греческой мифологии и в котором боги рассматривались как жившие прежде
выдающиеся люди, обожествленные современниками или потомками за
их могущество или какие-либо другие выдающиеся качества. Согласно
Сексту Эмпирику, Евгемер, в частности, говорил: «Когда жизнь людей
была неустроена, то те, кто превосходил других силою и разумом, так что
они принуждали всех повиноваться их приказаниям, стараясь достигнуть
в отношении себя большего поклонения и почитания, сочинили, будто
они владеют некоторой изобильной божественной силою, почему многи-
208
Цицерон и античная философия религии
ми и были сочтены за богов» (Мат., IX, 17). Упоминая об этом учении
Евгемера, Цицерон между прочим замечает, что Энний не только перевел
сочинения этого «безбожника», который «совершенно и целиком
уничтожил религию», но и «более других стал его последователем» (О прир.
бог., I, 119). Отметим, что, будучи последователем и даже
пропагандистом безбожного евгемеризма, Энний вплоть до времен Вергилия
оставался самым почитаемым римским поэтом. Не важно, что он не принял
всерьез греческую мифологию и теологию, важно, что он первым воспел
священную римскую историю, положив тем самым литературное начало
новой мифологии — мифологии «римских деяний» (res gestae), а эта
последняя всегда принималась римлянами всерьез.
Как относился к религии Катон Цензор? Скорее всего, как и в
других подобных случаях, он чтил в ней традиционное и исконно римское,
боролся же с новациями и заимствованиями, а, следовательно, пекся о
неприкосновенности древнейших обрядов, защищал как законовед права
понтификов и авгуров, но вместе с тем не одобрял эллинизацию и
мифологизацию римской религии, равно как и введение иноземных
культов. Катон, по свидетельству Цицерона, высмеивал даже
заимствованные у этрусков гаруспиции, говоря: «Удивляюсь, как может
удерживаться от смеха один гаруспик, когда смотрит на другого» (Див., II, 51).
А ведь гаруспиции во времена Катона не были в римской религии какой-
то новацией; и все же они не были чем-то исконно римским, поэтому
такому блюстителю римской традиции, как Катон, позволительно было
над ними посмеиваться. Катон и его сторонники настояли в 186 г. на
запрещении сенатом культа Диониса в Риме и по всей Италии. За этим
сенатским постановлением последовали казни тысяч приверженцев дио-
нисийских мистерий.
В кружке Сципиона господствовал дух трезвого свободомыслия,
однако, если судить по речи Лелия в защиту прав жреческих коллегий, о
которой нам кое-что сообщает Цицерон, это свободомыслие сочеталось
иногда с защитой традиционной римской религиозности. Близкий к кругу
Сципиона Эмилиана грек Полибий в своей «Истории» очень точно
выразил рационально-практический смысл отношения римских аристократов-
просветителей к религии: «Чтобы обуздывать толпу, нужно держать ее в
повиновении и страхе. Для этого нужна вера в богов и страх
преисподней». Здесь мы встречаемся с, так сказать, вольтерианским, чисто
политическим и инструментальным подходом к религии, характерным для
последующей эпохи конца республики. Не исключено, что «благочестивый»
и «мудрый» Лелий, как его называет Цицерон, бывший к тому же
авгуром, защищал права староримского жречества, исходя из тех же
политических соображений, что и Полибий. Недаром Цицерон в вопросах
отношения к религии, как и во многих других вопросах, считал позицию
Лелия для себя образцовой.
Другим предшественником Цицерона из Сципионова кружка был
поэт Гай Луцилий, зачинатель римской сатиры, страстный обличитель
пороков римского общества второй половины II в. до н. э. Как позднее
сам Цицерон, Луцилий испытал идейное воздействие Новой Академии
Цицерон и античная философия религии
209
(Клитомаха). Возможно, именно благодаря этому воздействию Луцилий
выступает в своих сатирах как наиболее последовательный в те времена
критик языческих суеверий и не только мифологических, но, если судить
по сохранившимся фрагментам, и культовых. В одной из таких сатир,
цитируемых Цицероном, поэт карикатурно изображает совет богов, на
котором восседает и божественный основатель города Ромул, жадно
поедающий вареную репу. Таким образом, уже во Ив. в среде образованных
римлян обозначается тот, с одной стороны, насмешливо-критический, а с
другой стороны, серьезно-аналитический подход к мифологии и религии,
который будет типичен для современников Цицерона.
Учитель Цицерона, известный правовед и верховный жрец Рима
Квинт Муций Сцевола полагал, что существует три рода религии:
«религия поэтов» (мифология), «религия философов» (теология) и «религия
политиков» (государственный культ). Только последняя, по его мнению,
может считаться истинной и законной религией, только она заслуживает
доверия и почитания. Мифологию же он назвал «пошлой бессмыслицей»
(Августин. О граде божием, IV, 27).
Примерно также рассуждал и друг Цицерона, ученый-энциклопедист
Марк Теренций Варрон Реатинский. Тот говорил о трех видах теологии;
«мифической», «физической» и «гражданской», полагая, что первая —
ложна, вторая — истинна, если ее освободить от суеверий, и только
третья необходима для государства. Варрон был стоиком и поэтому допускал
возможность «физической» теологии — той самой, которая в трактате
Цицерона изложена устами стоика Бальба и раскритикована в
заключительной речи академика Котты. Варрон видел в богах языческой религии
просто символы физических природных сил, служащих в свою очередь
проявлениями мировой души. Его физическая теология представляла
собой один из вариантов философского пантеизма. Об этой теологии,
построенной на принципах символической, а по смыслу физиоморфической
интерпретации мифов и верований, мы знаем кое-что из сочинения
Августина «О граде божьем», где автор дает и свою оценку этой теологии,
говоря, что Варрон натуралистической экзегетикой мифологии и
идолопоклонства хочет только прикрыть «всю пустоту их (язычников) суеверий
показной солидностью доктрины» (Там же, VII, 5). Кстати, тот же
Августин сообщает нам и другие мнения Варрона о религии, в частности, о ее
происхождении и политической функции. Оказывается, одной из причин
происхождения политеизма Варрон считал превратное отражение в
сознании людей физической картины мира (Там же, IV, 2; VI, 8). Он называл
языческую религию человеческим изобретением (Там же, VI, 4), очень
полезным для политиков и государственной власти (Там же, III, 4).
Нетрудно увидеть, что у Варрона в трактовке религии как бы объединяются
два подхода — тот, который обозначился еще у Энния, аналитически
объясняющий земное ее происхождение, и тот, что наиболее ясно был
выражен Полибием, утверждающим необходимость религии для
государственной власти. Для политически мыслящих римлян, усвоивших
стоическое учение, указанные два подхода были не только совместимы, но и
взаимосвязаны.
210
Цицерон и античная философия религии
Иначе думали те римляне, которые были сторонниками
эпикуреизма. Трудно представить, чтобы все они относились безразлично к судьбам
своего государства и находили удовлетворение, в соответствии с идеалом
Эпикура, только в частной уединенной жизни. Ведь это были римляне! И
все же, если судить по поэме Лукреция, они не придавали большого
значения государственному культу и, во всяком случае, не связывали
благополучие Римского государства с верностью религии отцов. У Лукреция,
правда, нет прямых выпадов против государственного культа, но есть,
например, такие строки (V, 1198-1204):
Нет, благочестье не в том, что пред всеми с покрытой главою
Ты к изваяньям идешь и ко всем алтарям припадаешь,
Иль повергаешься ниц, или, длани свои простирая,
Молишься храмам богов, иль обильною кровью животных
Ты окропляешь алтарь, или нижешь обет на обеты,
Но в созерцанье всего при полном спокойствии духа.
(Пер. Ф. Петровского).
Благочестие, по Лукрецию, состоит, таким образом, не в соблюдении
древних обрядов, а в спокойном приятии естественного хода вещей, в
способе жизни, согласном с природой. Поэт не пытается доказать, что
богов вовсе не существует или что их не следует почитать. Но
существующие языческие формы богопочитания он считает бессмысленными,
нравственно вредными, а подчас и преступными: (I, 80-83):
Тут одного я боюсь: чтобы как-нибудь ты не подумал,
Что приобщаешься мной к нечестивым ученьям, вступая
На преступлений стезю. Но, напротив, религия больше
И нечестивых сама и преступных деяний рождала.
(Пер. Ф. Петровского).
Вслед за этими словами Лукреций с большой художественной силой
описывает одно из классических «религиозных преступлений»:
жертвоприношение Ифигении в Авлиде. Лукреция смело можно назвать
мыслителем антирелигиозным, хотя его вряд ли следует называть атеистом в
буквальном смысле слова. Он открыто выступает против того, что
принято называть «религиозной верой», т. е. верой в таинственное
божественное всемогущество, в божественное провидение, верой в посмертное
воздаяние и т. п. — все это он отвергает как суеверия. Подобные суеверия, по
его мнению, основаны на незнании природы вещей. Раскрытие природы
вещей, а в этом и заключается основная цель его поэмы, должно, по
замыслу автора, устранить суеверия, установить естественные причины для
всех явлений, включая такое явление, как сама религиозная вера. К
причинам, порождающим религиозную веру, относится у Лукреция прежде
всего страх перед грозными и величественными явлениями природы, а
также страх возмездия за совершенные людьми преступления и проступки
(V, 1204-1240). Оба этих страха преодолеваются посредством разума:
разумным познанием природы и разумным образом жизни. В результате
Цицерон и античная философия религии
211
достигается безмятежность, соединенная со спокойным созерцанием
всего происходящего — с благочестием. Так вера замещается знанием,
сверхъественное замещается естественным, мифология — космологией.
Даже боги, которых, хотя и почти только номинально, сохраняет
Лукреций, следующий в этом за Эпикуром, оказываются у него не предметом
религиозной веры, а только предметом философского знания. О
необходимости почитания этих эпикурейских богов поэт не говорит ни слова. Он
лишь констатирует их существование, восхищается их бессмертием и
совершенным блаженством. Их местонахождение он определяет где-то в
эфирной области: (III, 18-24):
Видно державу богов и спокойную всю их обитель,
Где не бушуют ни ветры, ни дождь, низвергаясь из тучи,
Не проливается, где и мороз пеленой белоснежной,
Падая, их не гнетет, а эфир безоблачный вечно
Их покрывает и весь улыбается в свете разлитом.
Все им природа дает в изобилье, ничто не смущает
Вечного мира богов и ничто никогда не тревожит.
(Пер. Ф. Петровского).
Знание о богах мы приобретаем, согласно Лукрецию, по тем
образам, которые мы фиксируем в своем сознании независимо от нашей воли и
которые не могли бы появиться без соответствующих внешних причин.
Такого рода знание Эпикур называл «prolepsis» — предвосхищение.
Поскольку «предвосхищенное» знание о богах как бессмертных и
блаженных существах свойственно всем людям, должны существовать и сами
боги, причем в существенных чертах похожие на те образы, в которых
они представляются людям. Впрочем, кроме бессмертия и блаженства, а
также физической тонкости и огромности размеров, никаких иных
существенных черт образов богов Лукреций не указывает. Другие же свойства,
приписанные богам мифологии, равно как и все легенды об их
происхождении, образе жизни и господстве над миром, Лукреций считает чистым
вымыслом (II, 644-645):
Как ни прекрасны и стройны чудесные эти преданья,
Правдоподобия в них, однако же, нет никакого.
(Пер. Ф. Петровского).
Мифы о богах и загробной жизни поэт либо полностью отвергает,
либо пытается найти в них аллегории реальной действительности. Так, во
второй книге дается аллегорическое толкование мифа о Великой Матери
Богов Рее-Кибеле и связанной с ее культом обрядности. В третьей книге
обитатели подземного царства Титий, Сизиф, Данаиды, Кербер, Фурии и
сам Тартар рассматриваются как аллегории душераздирающих любовных
страстей, неумеренного честолюбия, жадности, страха перед возмездием.
Применение аллегорического толкования мифов роднит Лукреция со
стоиками и еще раз свидетельствует о том, что его эпикуреизм имел
достаточно эклектический, т. е. чисто римский, характер.
212 Цицерон и античная философия религии
Итак, к тому моменту, когда Цицерон начал писать свой трактат «О
природе богов» (45 г. до н. э.), в Риме уже существовали самые
разнообразные литературно зафиксированные подходы к религии. Общим для
всех них был особый римский рационализм, выражавшийся либо вообще
в скептическом и ироническом отношении к мифологии, либо в попытках
физиоморфической интерпретации мифов, либо в чисто утилитарном,
политическом оправдании веры, либо, как у Лукреция, в полной ее
дискредитации. Культовая сторона языческой религии (если не считать
нескольких выпадов Лукреция) серьезной критике не подвергалась. В
трактате «О природе богов» Цицерон, стоя на той же рационалистической
платформе, пошел дальше своих предшественников в критике мифологии,
а в трактате «О дивинации» от своего имени подверг беспрецедентной
критике культовую сторону язычества.
Цицерон как критик язычества
В отличие от Лукреция Цицерон не отождествлял понятия «религия»
(religio) и «суеверие» (superstitio). Религия, по его мнению, — это
разумное и просвещенное почитание богов; суеверие — неразумное и
непросвещенное. Цицерон пытался даже установить связь своей трактовки
(впрочем, он говорит, что уже предки различали эти понятия) с
этимологией соответствующих терминов, возводя термин «religio» к «relegere» —
«перечитывать», «читать обдумывая» (обо всем, относящемся к культу
богов), а термин «superstitio» к «superstare» — «продолжать
существование», «пережить кого-нибудь», и при этом поясняя, что людей, которые
чтили богов «мыслью и словом», т. е. как бы разумно и просвещенно,
стали называть религиозными, а тех, кто только непрерывно молился им и
приносил жертвы ради того, чтобы их дети их пережили, стали называть
суеверными (superstitiosi) (II, 72). Сугубую искусственность данной
этимологии подметил уже христианский апологет Лактанций (Div. inst., IV,
28). Но дело здесь не в этимологиях, пристрастию к которым Цицерон
научился у стоиков. Его этимологии чаще всего ошибочны. А дело в том,
что, как говорит в том же месте сам философ, религией следует называть
нечто положительное, а суеверием — отрицательное. Поэтому-то
Цицерон везде и всюду выступает против суеверий, но он осуждает и неверие,
иррелигиозность, имея в виду обычно философов-атеистов Диагора и
Феодора, а также софиста Протагора, считавшего вопрос о существовании
богов неразрешимым. «Учения всех этих философов, — пишет Цицерон, —
не только уничтожают суеверия, заключающие в себе пустой страх перед
богами, но также — религию, которая состоит в благочестивом почитании
богов» (I, 117). Он осуждает и учение софиста Продика, полагавшего, что
миф о богах был выдуман мудрыми политиками в интересах государства,
и вышеупомянутое учение Евгемера (Там же). Эти мыслители, по мнению
Цицерона, имея благое намерение освободить разум человеческий от
суеверий, шли дальше дозволенного и «разрушали до основания» саму
религию. Почти то же самое, но в еще более резких тонах, говорит он об Эпи-
Цицерон и античная философия религии
213
куре — этом маскирующемся безбожнике, который «учением своим
опрокинул храмы и жертвенники бессмертных богов» (I, 115) и «с корнем
вырвал религию из человеческих душ» (I, 120).
Итак, религию, определенную как «благочестивое почитание богов»,
Цицерон одобряет, а суеверие и неверие осуждает. Но в чем же он
усматривает ту грань, которая отделяет религию от суеверия? На этот вопрос
четкого ответа у него мы так и не находим. Если «благочестивое
почитание» понимать вместе с Цицероном как «разумное» и «просвещенное», то
что конкретно здесь подразумевается? Цицерон определяет благочестие
(pietas) как «справедливость по отношению к богам» (I, 116), но в чем же
должна состоять эта справедливость?
Чтобы хотя бы как-то прояснить эти вопросы, давайте посмотрим,
что Цицерон относит к суевериям. Для начала отметим, что к суевериям
он причисляет все виды антропо- и социоморфизма в представлениях о
богах. Поэтому всю мифологию греков он третирует как «бабьи сказки»,
и это не безобидные сказки для детей, а социально и нравственно
вредные вымыслы — тем более вредные, чем пленительней язык поэтов-
мифографов. «Ибо они, — говорит Цицерон вместе с эпикурейцем Вел-
леем, — вывели богов, воспламененных гневом и безумствующих от
похоти, заставили нас увидеть их войны, сражения, битвы, раны; кроме
того, — их ненависть, раздоры, разногласия, рождения, смерть, ссоры,
жалобы, проявления самой необузданной похоти, супружеские измены,
заключения в цепи, сожительство со смертными и в результате —
рождение смертного потомства от бессмертных» (I, 42). Если бог для
человека — образец и цель и если уподобление богу есть высший для
античности нравственный идеал, то можно себе представить, какие
последствия для человеческой моральности имело бы уподобление богам
мифологии, подражание им как образцу. Цицерон хорошо это понимает и
поэтому относит всю мифологию к разряду суеверий.
К суевериям он относит и вымыслы магов, безумства египтян в этом
же роде, затем также представления невежественной толпы (Там же, 43), в
общем, все самые распространенные в его время представления о богах.
Здесь он полностью солидарен с эпикурейцами. Но и эпикурейские
мнения о богах он тоже приравнивает к суевериям, ибо если боги Эпикура и
не воюют, и не развратничают, если даже людям их можно и не бояться,
так как дела людские их вовсе не касаются, все же они немногим
отличаются от вымышленных богов мифологии, поскольку также скроены по
человеческим меркам, и более того, уподоблены Эпикуром не лучшим
людям, а равнодушным ко всему бездельникам, занятым только
собственным наслаждением и лишенным каких-либо нравственных добродетелей
(I, 67). Цицерон против наделения эпикурейцами богов человеческим
телесным обликом, и здесь, как почти во всех других случаях, критика
эпикурейского антропоморфизма выливается в блестящую критику
антропоморфизма вообще: «Вы даже не чувствуете, как много берете на себя,
когда добиваетесь, чтобы мы признали, что у людей и богов одна и та же
фигура. Богу, в таком случае, придется ухаживать за своим телом и
заботиться о нем так же, как это приходится делать человеку. Придется хо-
214
Цицерон и античная философия религии
дить, бегать, наклоняться, сидеть, хватать, наконец, иметь язык и дар
речи. А вы еще говорите, что есть боги-мужчины и боги-женщины, — что
из этого следует, сами понимаете. Право же я не перестаю удивляться,
откуда ваш глава набрался этих мнений!» (I, 94-95).
Цицерон, конечно, знает, откуда взялись эти мнения у Эпикура. Он
знает, что они заимствованы из народной религии и мифологии. Но
критиковать суеверия эпикурейцев — дело совершенно безопасное, а кому не
ясно, что критикуются здесь и суеверия всей эпохи!
Далее Цицерон относит к суевериям и обожествление природы, ее
созданий и ее свойств, а также обожествление полезных человеку или
вредных ему вещей, свойств души и абстрактных понятий. Этим
суевериям, как известно, содействовали стоики, которые, хотя и пользовались
аллегорическим толкованием многобожия, в своем стремлении найти
рациональное основание для каждого мифа и верования народной религии
не только не сокращали число богов, но даже расширяли и без того
переполненный языческий пантеон. Исходя из того, что все значимое для
человека, чему он склонен поклоняться, происходит от единого бога-мира и
от его божественного Логоса, они считали допустимым строить храмы
любым проявлениям этого Логоса и почитать его самовыражения под
видом отдельных божеств. Высмеивая стоиков за подобное оправдание
многобожия, Цицерон уподобляет их теологию верованиям сирийцев и
египтян, обожествивших почти всех животных, или же вымыслам греков и
римлян, превративших в богов своих национальных героев (III, 39).
Короче говоря, одним из величайших суеверий, которому в противоречие с
монистической тенденцией их философии, поддались и стоики, Цицерон
считает сам политеизм. Наш философ не выступает против политеизма
прямо, но та ирония, с которой он говорит о нелепостях многобожия,
выдает в нем или скрытого монотеиста или даже «застенчивого» атеиста.
«Мне думается, не слишком ли их (богов) много!» — восклицает Цицерон
и затем разъясняет, что едва ли встретится какое-либо явление природы
или человеческой жизни, которое у какого-нибудь народа уже не было
обожествлено, и что процесс этот не имеет никаких разумных границ, и
нет никаких преимуществ у одного типа обожествления перед другим, так
что если уже отвергнуть одних богов язычества, то можно с таким же
правом признать несуществующими и всех других (III, 40-52). «Итак, или это
(обоготворение) продолжится безмерно, или мы ничего из этого не
примем, чтобы тем самым не способствовать бесконечному росту суеверия»
(III, 52). Многочисленные аргументы против политеизма, предложенные в
трактате Цицерона от лица академика Котты, широко использовались
позднее христианскими авторами, такими, как Тертуллиан, Лактанций,
Августин. Желая того или не желая, Цицерон, заявивший о себе как о
защитнике религии отцов, своей книгой «О природе богов» теоретически
подготовил крах античного язычества.
Мы уже знаем, что под «религией отцов» Цицерон понимал один
только культ и то, что можно назвать культовой верой, — исключающей
всякую рефлексию верой в магическую силу традиционно римских
священных обрядов. Однако и в этом он был непоследователен. Свидетель-
Цицерон и античная философия религии
215
ством тому служит его трактат «О дивинации», или — в не совсем точном
русском переводе — «О ворожбе». Трактат почти целиком посвящен
критике и опровержению культовых суеверий, в особенности обрядов
ауспиций и гаруспиций, а также суеверного почитания оракулов, т. е. как раз
того, что составляло наряду с жертвоприношениями основу
государственного религиозного культа. Но и жертвоприношения, практику которых
он не осмеливается прямо относить к суевериям7, Цицерон косвенно
задевает, когда высмеивает связанные с ними гаруспиций.
«О дивинации» — веселый трактат. Во второй его книге (основной)
философ почти непрерывно шутит, острит, смеется над человеческим
легковерием, которое он называет таким же пороком, как и неверие. С
веселой и как бы невинной иронией он вскрывает вопиющую
бессмысленность издревле практикуемых в Риме гаданий по птицам и знамениям
(ауспиции), глупость и варварство заимствованных у этрусков гаданий по
внутренностям жертвенных животных (гаруспиций), потешается над
пророчествами сивилл, над астрологами, снотолкователями, гадателями по
жребию, вышучивает веру в чудеса.
Вместе с тем трактат «О дивинации» — произведение весьма
серьезное, а по отношению к отеческой религии очень смелое и просто
дерзкое. В нем с полной определенностью Цицерон заявляет о том, что
никаких чудес, ничего сверхъестественного в мире быть не может: все, каким
бы необычным оно ни казалось, является естественным и подчиняется
законам природы (rationes naturales). Отсюда следует, что все виды
предсказания и угадывания будущего, не допускающие естественного
объяснения, объясняются, как говорит Цицерон, либо сознательным обманом,
либо невежеством и суеверием. И не важно, что вера в гадания является
почти повсеместной, ибо «нет ничего распространеннее невежества»
(Див., II, 81). Не важно и то, что дивинацию оправдывает подавляющее
число философов, ибо «какую можно высказать еще нелепость, которая
бы уже не была высказана кем-нибудь из философов!» (Там же, II, 119).
Стоики утверждают, что отрицающие возможность дивинации, отрицают
тем самым и существование богов. Но гораздо правдоподобнее, отвечает
им Цицерон, допустить несуществование богов, чем существование
дивинации (И, 41). А ведь столь решительно отвергая дивинацию, он хорошо
понимает, что религия римлян без таких видов дивинации, как
гаруспиций, ауспиции и сивиллины прорицания была бы уже не религией римлян.
И все же Цицерон идет еще дальше. Он говорит, что нет ничего легче, чем
римскому авгуру (каковым он сам является) выступать против авгурских
гаданий (ауспиций), так как ему, как никому другому, известно, сколь
произвольно, а иногда и плутовато толкуют авгуры свои приметы и
знамения (II, 70). На деле же никаких ауспиций вообще не существует (II,
71). О гаруспициях, как мы знаем, Цицерон даже не может говорить без
смеха (II, 52), но он и этот вид дивинации, как и все другие, мастерски
7 По ряду причин, которых мы здесь не будем касаться, практика жертвоприношений
оказалась наиболее жизнестойким элементом языческой религии. Она, как известно, играла
соответствующую роль и в монотеистическом иудаизме. В сильно смягченной форме
сохранилась она и в христианстве.
216
Цицерон и античная философия религии
опровергает множеством аргументов и примеров. В частности, он
приводит пример с Цезарем, который в период Гражданской войны не
послушал неблагоприятного предсказания главного гаруспика и переправил
войска в Африку, где и победил. «А сколько неверных советов дали нам
(республиканцам) гаруспики в эту гражданскую войну!» — восклицает
Цицерон. Но особенно красноречив рассказ Цицерона о Ганнибале,
который, находясь в изгнании у Вифинского царя Прусия, когда тот не
решался начать сражение из-за неблагоприятных гаруспиций (печень
жертвенного быка имела нездоровый вид), сказал царю: «Неужели ты куску
бычьего мяса предпочитаешь верить больше, чем старому полководцу?» (II,
52). Смеется Цицерон и над историей с жертвоприношением,
совершенным Цезарем накануне Мартовских ид, когда жертвенное животное якобы
оказалось без сердца (II, 37). Все подобное он оценивает как намеренные
выдумки, рассчитанные на суеверие толпы.
А еще больше сознательного обмана Цицерон видит в прорицаниях
оракулов. Приводя в подтверждение этого десятки очень ярких примеров,
он напоминает, в частности, и слова своего великого предшественника в
ораторском искусстве Демосфена, который заклеймил подкупленного
македонским царем Филиппом Дельфийского оракула словами «Пифия
филиппствует» (II, 118). О прорицаниях Кумской сивиллы, высказанных в
греческих гекзаметрах и считавшихся официальным и священным
документом Римского государства («Сивиллины книги»), Цицерон говорит,
что они так туманны и не конкретны, что подойдут к любому времени и
событию. К тому же в них больше искусства и «умственного напряжения,
чем вдохновения». «Нет, — заключает Цицерон, — эти стихи сочинены
не в состоянии исступления... Так что спрячем и будем хранить
сивиллины книги, как и предки нам завещали!» (II, 111-112).
Таким образом, объявив себя в предыдущем трактате защитником
культовой стороны римской религии, Цицерон в сочинении «О дивина-
ции» третирует существенные элементы этого культа как грубые
суеверия и обман. Он, правда, и здесь не предлагает отменить
государственный религиозный культ или отказаться от практики ауспиций и
гаруспиций (между тем сивиллины книги он просто предлагает сдать в
архив). Нет, он даже призывает распространять, поддерживать и
«пропагандировать» религию (II, 149). Но все эти призывы Цицерона почти
полностью обесцениваются несколькими многозначительными
признаниями. Из одного из них («но тут мы одни и можем не бояться» — II, 28)
явствует, что не только уважение к традиции, которое в этой книге
временами тоже колеблется, но обыкновенный страх перед наказанием
руководит Цицероном в его оценках национальной религии. О том, чего и
кто должен бояться, он ясно высказался в предыдущем трактате, когда
говорил, что среди философов прошлого было немало атеистов, но они
не рискнули открыто заявить о своих взглядах, поскольку одно только
сомнение по поводу существования богов, выраженное Протагором,
повело за собой наказание — Протагор был изгнан из Афин, а сочинения
его сожжены (О прир. бог., I, 63).
Цицерон и античная философия религии
217
Заслуживает внимания и еще одно признание Цицерона; на его
основании можно заключить, что в своем самом внутреннем и прежде
тщательно скрываемом отношении к религии Цицерон, как и во многом
другом, — предшественник почитавшего его Вольтера. Сразу же после
высмеивания древнего обряда ауспиций и слов: «Древность ошибалась во
многих вещах, на которые мы теперь смотрим по-другому», Цицерон
пишет: «При всем том, учитывая воззрения простого народа и в коренных
интересах государства, необходимо поддерживать и обычаи (mores), и
религию, и учения, и права авгуров, и авторитет их коллегии» (Див., II,
70). А чуть ниже он добавляет, что обычай гадания по молниям (вид
ауспиций) нужен был Римскому государству, чтобы под благовидным
предлогом только тогда созывать народное собрание, когда это требовалось
правителям (Там же, II, 73). Вот так признание! Значит, государственная
религия римлян нужна только для политического манипулирования?
Только для сдерживания невежественного простонародья? Поистине в
таких заявлениях Цицерона как бы слышится уже саркастический голос
Вольтера: «Если бы бога не было, его следовало бы выдумать». Нет! Не
верит Цицерон в священную силу языческих культовых обрядов, он верит
лишь в то, что без них, к сожалению, нельзя обойтись.
Итак, в глубине души Цицерон понимает, что как вся мифология, так
и культовая сторона язычества представляют собой либо сплошное
суеверие, либо намеренный политический обман. И все-таки он постоянно
уверяет, что с устранением суеверия не устраняется сама религия, и что
«красота и порядок, который царит в небесах, побуждают род человеческий
признать существование некой вечной превосходной природы и
поклоняться ей» (II, 148). Он полагает, что признание религии может и должно
сочетаться с познанием природы, а суеверие необходимо вырывать «со
всеми его корнями» (Π, 149)8. О какой же религии он тогда говорил? О
государственной религии римлян? Но в таком случае он был бы трусом и
лицемером: ведь он, конечно, знал, что от этой религии ничего не
осталось бы, если бы она была освобождена от суеверий. О Цицероне, давшем
нам превосходный образец столь смелой и нелицеприятной критики
язычества, не хочется думать как о простом лицемере. Значит, на уме у него
была идея какой-то иной, «истинной», религии, «естественной»,
вытекающей из самой природы, подлинно благочестивой и нравственной,
основанной на вере в бога — творца природы и подателя всех благ, а также
на вере в бессмертие души, на вере, свободной от устрашающих образов
телесных мук Тартара и в то же время дающей человеку надежду не
превратиться в ничто вместе с гибелью тела и не остаться не
вознагражденным за те муки, которые он должен был вытерпеть в этой жизни ради
торжества добродетели. То, что у Цицерона была идея такой религии,
явствует не только из его трактатов «О природе богов» и «О дивинации», но
и из других его сочинений: «Тускуланские беседы», «О старости». Однако
ни в одном его сочинении нет четкого изложения этой концепции рели-
8 Позднее, во II в. н. э., аналогичный взгляд на религию и суеверие выскажет автор
биографии Цицерона Плутарх Херонейский (см.: О суеверии, I; Александр, 75).
218
Цицерон и античная философия религии
гии. Нельзя также сказать, что эта концепция (а ее можно назвать
концепцией философской религии, философского бога или же обозначить
термином «деизм», принятым в философии Нового времени) была им
достаточно продумана и не вызывала в душе Цицерона постоянных сомнений
или даже возражений. Кроме того, надо учесть, что Цицерон, как мы уже
знаем, о том, что такое бог, каков он и что он делает, высказываться
определенно отказывался, и поэтому его положительные взгляды на этот
предмет установить не легко. Будучи последователем Карнеада, он
предпочитал путь своеобразной теологической апофатики. И все же кое-что из
собственных, по существу деистических, воззрений Цицерона на бога мы
можем установить.
Этические проблемы теодицеи
Из предыдущего нам уже известно, каким, в соответствии с
цицероновским «апофатическим» подходом, не может быть бог. Он не может
быть физически подобен человеку, не может быть какой-нибудь частью
мира или же миром в целом. Следовательно, ни солнце, ни луна, ни
планеты, ни другие звезды, ни какие-либо другие тела природы не суть боги.
В общем, хотя от своего лица Цицерон эту мысль прямо не высказывает,
его бог бестелесен, а поэтому не испытывает никаких физических
воздействий, непространствен, бесформен, неизменяем, пребывает вне времени.
Все эти «негативные» характеристики бога выявляются в ходе критики
теологии эпикурейцев и стоиков. Эпикурейцам Цицерон ставит в упрек,
что они сделали своего бога «образом и подобием человека» (effigies
hominis et imago) (О прир. бог., I, 103), тогда как вернее было бы
предположить, что, наоборот, человек создан по образу бога (Там же, I, 90).
Стоиков Цицерон больше всего критикует за отождествление бога с
космосом, т. е., как мы сказали бы, за пантеизм. То, что мир имманентно
разумен и одушевлен, он, судя по всему, отрицает (Там же, III, 19-23), но то,
что в мире есть разумный порядок и красота и что эта красота и порядок
произошли не случайно, а под воздействием «некой превосходной
природы», он признает. Указанную причину красоты и разумности мира
Цицерон называет также «вечным умом» (mens sempiterna), считая вместе со
стоиками, что ум не обязательно связывать, как это делали эпикурейцы,
только с человеческим телесным носителем (I, 87). Человек — это высшее
создание природы, но сама природа организована еще более высоким,
сверхчеловеческим умом, который и есть, по-видимому, истинный
цицероновский бог.
Таким образом, есть основания предполагать, что Цицерон в своей
теологии двигался в том направлении, которое вело в конце концов к
христианскому понятию Бога. Ведь он, хотя и неуверенно, отказывался от
античного натуралистического имманентизма и пусть даже не
формулировал явно идею трансцендентного бога, но определенно предпочитал не
смешивать понятия бога и мира, отрицая возможность приписывания богу
Цицерон и античная философия религии
219
любых «мирских», а значит и человеческих, качеств, за исключением
разума и, как мы сейчас увидим, нравственности.
Осуждая эпикурейцев за то, что они уподобили своих богов людям,
так сказать, чувственно-материально (фигурой, строением, стремлением к
наслаждению), Цицерон советует им лучше поискать сходства у богов с
людьми в добродетели (I, 96). Делать добро — вот что является
признаком высшего совершенства, и если боги существуют и они, как и следует
из их понятия, совершенны, то они в высшей степени добродетельны. Сам
Эпикур учил, что нельзя блаженным быть без добродетели, и в то же
время говорил, что боги блаженны. Значит, эпикурейские боги должны бы
быть и добродетельны. Но о какой добродетели может идти речь у тех,
кто ни о ком не заботится, никого не любит и вообще ничего не делает
(nihil agens)? Ведь добродетель, продолжает Цицерон, по самой своей
природе деятельна (virtus actuosa), она должна выражаться в действии (I,
110). Наиболее же достойная богов добродетель — забота о людях и
любовь к ним. И далее, обращаясь к эпикурейцам, Цицерон пишет:
«Насколько лучше вас стоики, которых вы критикуете. Они считают, что
мудрые люди — друзья мудрым, даже незнакомым, ибо нет ничего
любезнее добродетели, и кто ею владеет, того мы будем любить, из какого
бы он племени ни происходил. А вы, сколько зла ведь вы причиняете тем,
что относите стремление помочь людям и доброжелательность к
проявлениям слабости. Не говоря уже о богах, вы считаете, что и люди, если бы
не их слабость, не проявляли бы ни великодушия, ни желания помочь
другому. Но разве среди добрых людей нет естественного чувства
взаимной любви? Ведь и само слово дружба (amicitia) происходит от столь
дорогого нам слова любовь (amor), но если мы используем ее для нашей
выгоды, а не на пользу тому, кого мы любим, то это будет не дружба, а
какая-то торговля услугами. Таким способом любят луга, пашни, стада
скота, ибо от них получают доход, а любовь (Caritas) и дружба бескорыстны.
Тем более это относится к богам, которые, ни в чем не нуждаясь, и друг
друга любят, и о людях заботятся» (1,121-122).
Из приведенной цитаты довольно ясно видно, что Цицерон, пусть
даже устами скептика Котты, вводит идею бога как существа прежде
всего нравственного с такими чертами, как стремление помочь людям (grati-
ficatio), милосердие (gratia), благожелательность, или благоволив (benevo-
lentia), милость, или любовь (caritas). Несколько ранее он приписывает
богу такие моральные атрибуты, как доброта, или благость (bonitas),
благодетельность (beneficentia), относя их к высшим нравственным
достоинствам (I, 121). Здесь Цицерон, возможно, впервые в римской литературе
столь определенно формулирует словарь морально-теологических
терминов, которые составят потом основу латинского лексикона христианской
теистической этики.
Выдвинув на первый план морально-теистические аспекты теологии,
Цицерон волей-неволей должен был столкнуться с рядом проблем,
получивших впоследствии название проблем теодицеи (богооправдания). Одна
из них такова: если бог разумен и нравствен, если он создатель и
управитель мира, если он в силу своей благости устраивает все в этом мире наи-
220
Цицерон и античная философия религии
лучшим образом и если ничего не происходит без участия божественного
провидения (Providentia), то откуда в мире зло? Проблема эта затрагивалась
еще Платоном и Аристотелем. Но особенный интерес она вызывала у
стоиков по той причине, что стоический мирострой, космос, представляется
непосредственной реализацией божественного Логоса, а следовательно,
является имманентно благоустроенным. Во второй книге «О природе
богов», излагая позицию стоиков, Цицерон, как мы уже говорили, дает
великолепную картину этого благоустроенного, целесообразно организованного
мира, в котором все так разумно и прекрасно, что «делается вероятным, что
этот мир и все, что в нем, созданы ради богов и людей» (II, 133).
Между тем стоики, настаивая на том, что божественное Провидение
особенно заботится о человеке как высшем результате его, Провидения,
номологической (от «номос» — закон и «логос» — разум) деятельности,
конечно, видели и то, что в этой высшей части мира — в царстве
человека — существует немало алогичного и беззаконного, что далеко не все
здесь кажется благоустроенным и удовлетворяющим требованию
божественной справедливости. Для того чтобы свести концы с концами,
стоики придумали несколько вариантов теодицеи. Во-первых, они
доказывали, что Провидение допускает (попускает) зло и несправедливость, дабы
оттенить добро. Ведь если бы не было зла, то и добро утратило бы свою
силу, так как добро имеет силу только на фоне зла и в борьбе со злом.
Добродетель обнаруживает себя в борьбе с пороком, и она тем выше, чем
страшнее и очевиднее пороки, с которыми она борется. То же можно
сказать о справедливости, которая существует только в паре с
несправедливостью. В общем, этот наилучший из миров сложен из
противоположностей, ни одна из которых не существует без другой, и среди них
противоположности добра и зла. Этот вариант теодицеи получил название
«эстетического»; он был основан на гераклитовском принципе: всякая красота
и гармония состоит в единстве противоположностей.
Во-вторых, стоики утверждали, что хотя нравственное зло и
существует (а они сводили всякое зло к нравственному, так как «зло
физическое»: физические недуги, боль, телесную смерть они не считали
истинным злом), оно никогда не остается без справедливого наказания, ибо
несет злодею возмездие в самом себе. Другими словами, совершающий зло
не может быть счастлив, блажен, поскольку блаженство возникает от
приобщения человека к благу, от обладания истинным благом, а злодей от
блага удаляется. Несправедливый человек может быть богат, окружен
чувственными удовольствиями, физически здоров, может иметь власть,
могущество, но он всегда несчастен, так как все эти его «блага» —
мнимые и внешние, а то, что находится в нем самом, в его душе, — зло,
которое и делает с неизбежностью его несчастным, ведь несчастье и
злополучие — одно и то же. Следовательно, попустив зло из «метафизических» и
эстетических соображений, Провидение позаботилось и о его наказании,
так что в целом оно обеспечило и в мире, и в царстве человека торжество
добра и справедливости.
На вопрос о том, в какой мере зависит от человека быть добрым или
злым, стоики отвечали, что Провидение позаботилось и об этом, дав чело-
Цицерон и античная философия религии
221
веку природный разум, который и позволяет ему следовать добру и
отвращаться от зла.
В отличие от орфиков, пифагорейцев и платоников стоики не
принимали идею загробного воздаяния и, хотя соглашались с тем, что злодеи
часто не получают немедленною возмездия за свои злодеяния, а
порочные — за свои пороки, полагали, что Провидение в этих случаях только
отсрочивает наказание, чтобы дать человеку возможность исправиться и
искупить свою вину, потом же неисправимых все-таки настигает
возмездие либо в последующей их жизни, либо в жизни их детей, внуков и
вообще потомков. Возмездие здесь понимается, конечно, как испытываемое
злодеем или его потомками душевное страдание, происходящее от
сознания утраты тех мнимых благ, к которым они были привязаны и которые
судьба в конце концов отняла у них, или же, в случае раскаяния, от
самого сознания неистинности этих благ.
Что же касается вознаграждения за благодеяния и добродетель, то
стоики не имели в этом деле вообще никаких претензий к Провидению,
так как считали, что душевная радость, проистекающая от сознания
содеянного добра, сама по себе служит вознаграждением за добродетель.
Таким образом, у стоиков получалось, что добрые всегда счастливы, а злые
всегда несчастны, и все это благодаря неусыпной заботе Провидения о
роде человеческом в целом и о каждом человеке в частности. Забота же
эта осуществляется благодаря трем качествам божества: всезнанию,
всемогуществу и благости. Заметим, кстати, что указанные эпитеты
стоического божества (в Риме они часто вообще относились к Юпитеру): «От-
nisciens», «Praepotens» (Omnipotens), «Bonus» (Optimus) перешли потом в
качестве основных и на христианского Бога.
Значительная часть третьей книги «О природе богов» была
посвящена Цицероном критике стоической теодицеи и концепции Провидения.
Цицерон не углубляется в теоретическую аргументацию стоиков и
старается опровергнуть их больше фактами. Основной тезис, который он хочет
доказать, звучит так: если даже боги существуют, все же сами факты
свидетельствуют о том, что они не пекутся ни о роде человеческом в целом,
ни об отдельных людях; следовательно, нет никакого Провидения и
человек предоставлен в жизни самому себе и случаю, но зато он свободен и
может сам вершить свою судьбу без всякого вмешательства богов.
Как бы забыв о главном доводе стоической теодицеи, что зло
неизбежно для самого существования добра, и о том доводе, согласно
которому зло само себе служит возмездием, а добро — вознаграждением,
Цицерон в своей критике делает упор на несовместимости божественной опеки
рода человеческого с фактом преуспевания злых и страдания добрых.
«Если бы, — пишет он, — боги действительно пеклись о роде
человеческом, то они должны были бы сделать всех людей добрыми, или, по
меньшей мере, особенно опекать добрых» (III, 80). Но что говорит нам
история? Сколько из самых выдающихся мужей, составляющих славу
римского народа, закончило свою жизнь в опале, изгнании или даже было
убито своими согражданами? Сколько из них, проявивших почти
невероятное мужество в борьбе за отечество, пало от руки врагов? Оба Сципио-
222
Цицерон и античная философия религии
на, Фабий Максим, Марцелл, Эмилий Павел, Регул! К этим
хрестоматийным примерам присоединяются более современные: Рутилий Руф, Квинт
Муций Сцевола, Друз. А что сказать об учителях рода человеческого —
философах? Сократ был осужден на смерть афинянами — теми, кого он
всю жизнь учил добродетели. Зенон Элейский и Анаксарх были зверски
казнены.
Но зато «вероломнейший из всех» Гай Марий «в седьмой раз став
консулом, счастливо в своем доме умер глубоким старцем» (III, 81).
Дионисий Старший 38 лет был тираном Сиракуз. Совершая величайшие
злодеяния против людей, он беспрепятственно измывался и над богами. Так,
он ограбил храм Прозерпины в Локрах, а затем плыл к себе домой при
неизменно попутном ветре. Он же ограбил храм Юпитера на
Пелопоннесе, стащил со статуи бога золотой плащ и при этом пошутил: «Летом
золотая одежда тяжела, зимой холодна». Совершал он и много других
святотатств и всегда безнаказанно (III, 82-84). Выходит, что боги карают
невинных, обрекая на страдания не только отдельных частных людей, но и
целые города и народы (были же уничтожены два «славнейших
приморских города — Карфаген и Коринф»!), и вместе с тем покровительствуют
тиранам, святотатцам и разбойникам. Конечно, это факт, что и многие
разбойники были казнены, «но мы не можем сказать, что казненных
разбойников больше, чем убитых ими людей» (III, 82).
Все эти и многие другие факты свидетельствуют о том, что боги,
если они существуют, одинаково безразлично относятся и к добрым и к
злым, что отнюдь не благое Провидение, а только случай и собственная
воля управляют жизнью людей.
Стоики, правда, говорят, что, заботясь о людях, боги дали человеку
рассудок (ratio), следуя которому человек якобы всегда избирает добро и
отвергает зло. Но что может быть смехотворнее этого довода? Сколько
изощреннейшего зла совершается как раз с помощью рассудка — этого
божьего дара! Самые коварные преступления — самые обдуманные и
рассчитанные. Рассудок, продолжает Цицерон, следуя здесь Аристотелю,
этически нейтрален: «От бога мы только получаем рассудок (если только
получаем), а будет ли он употреблен на благо или во зло — это зависит
от нас» (III, 71). И что же нам говорит опыт? Лишь немногие и нечасто
обращают свой рассудок на совершение добрых дел, но злоупотребляют
им многие и часто, «так что кажется, будто боги наделили людей этим
даром — рассудком и рассудительностью — не для благих свершений, а
для плутней» (III, 75). К этой весьма скептической оценке человеческого
разума Цицерон добавляет совсем уже пессимистическую: «Если бы боги
хотели причинить вред людям, то лучшего способа, чем подарить им
разум, они бы не могли и сыскать» (III, 71).
Трудно поверить, что все это говорит знаменитый римский
просветитель, влюбленный в философию, считавший искусство мыслить одним
из величайших благ человеческой жизни. Мы сравнивали Цицерона с
Вольтером. Но здесь, пожалуй, ему был бы ближе Руссо. Тот же
эмоциональный настрой против изощренной цивилизованной рассудочности и,
что еще важнее, то же понимание недостаточности одного рассудка для
Цицерон и античная философия религии
223
утверждения принципа добра. Значит, в мировоззрении Цицерона семена
вольтерианского рационализма сочетались с эмбрионами руссоистской
разочарованности в разуме. Откуда же проистекала эта разочарованность?
Мы привыкли воспринимать классическую античность и уж во
всяком случае классическую античную философию как панинтеллектуа-
лизм, т. е. как культуру, основанную на новорожденной любви и
безграничном доверии к разуму — на вере в то, что жить хорошо — значит
жить разумно, и быть добрым — значит разуметь добро.
Антиинтеллектуализм и сопутствующие ему фидеизм и волюнтаризм (в философском
смысле) мы обычно связываем с кризисом античной культуры, с
появлением в ней неклассических или даже не вполне «античных» (принятых с
Востока) элементов и в особенности с рождением христианства. В общем
и целом все это правильно. Но нельзя отрицать и того, что даже в рамках
классической греческой античности всегда существовало и подчас
довольно ярко проявлялось (особенно в эпохи кризисов) сознание
недостаточности одного разума для разрешения нравственных проблем, для
удовлетворения человеческой потребности в счастье. Символический
приговор разуму был вынесен уже в «Прикованном Прометее» Эсхила.
Бессилие разума перед лицом неумолимого и непостижимого рока было
гениально продемонстрировано Софоклом. И не только бессилие. Для
его Эдипа разум— это наказание, мука, суть человеческой трагедии,
впрочем, как и для эсхиловских Прометея, Ореста и Антигоны. Но еще
дальше шел Еврипид. Его герои конфликтуют уже не столько с роком,
сколько с самими собой. Они с полной ясностью осознают наличие в
себе двух противоположных начал: рассудка и инстинкта, долга и
склонности, понимая при этом, что невозможно ни примирить эти начала, ни
построить собственного счастья на каждом из них в отдельности. А по
существу, они видят в своем рассудке и в самой рациональной (жестоко
рациональной!) организации жизни главное препятствие для счастья,
великое мировое зло, парализующее естественную и самую подлинную и
животворящую потребность человека — потребность любить. В этом
смысле героини Еврипида: Алкеста, Федра, Медея, ненавидят рассудок и
разум почти так же, как его будут ненавидеть героини Толстого и
Флобера — Анна Каренина и госпожа Бовари. И конечно, итог этой бессильной
ненависти к мировому разуму, который в античности (и не только в
античности) обычно отождествляется с судьбой, всегда один — смерть.
Таким образом, несводимость человеческого блага, «благополучия»,
«блаженства» к рациональности осознавалась уже греческими трагиками.
Позднее с разных позиций рассудок и рассудочную цивилизованность
критиковали софисты, киники и, если судить по Цицерону, скептики-
академики. Но все это, без сомнений, перевешивалось тем культом разума,
который был свойствен грекам вообще и их величайшим философам в
частности. Достаточно назвать Гераклита, Сократа, Платона и Аристотеля.
В Риме до времени Цицерона каких-либо серьезных попыток
критики рассудка не обнаруживается. Будучи сами практичными и
рассудочными, римляне больше критиковали безрассудство (об этом
свидетельствует староримская комедия — тогата), но они не идеализировали и сам
224
Цицерон и античная философия религии
рассудок, ограничивали его сферой практического и не возводили его, как
греки, на уровень всемогущего мирового разума — Логоса. Рассудок для
римлян был делом житейским, для них существовали ценности и повыше,
например, чувство чести, верность долгу, любовь к родине — ценности
коррелятивные не столько с рассудком, сколько с волей. Примат воли над
разумом — явление типично римское. Поэтому, если для грека
центральная задача жизни — самораскрытие разума, а главная нравственная
проблема — приведение воли в соответствие с разумом, то для римлянина,
как раз наоборот, задача жизни — реализация воли, а проблема —
приведение разума в соответствие с волей. Для грека воля (в идеале) —
инструмент разума, для римлянина разум — инструмент воли. Отсюда
созерцательность греков и практичность, и волевая экспансивность римлян.
Между тем именно благодаря своей экспансивности (потребности
подчинить других своей воле) и практичности (умению быстро
утилизовать все найденное у других) римляне приобщились и к греческому
интеллектуализму, и к греческой цивилизованной рассудочности,
соединившейся к этому времени с индивидуализмом. И конечно же, у них эта
новая цивилизованная рассудочность приняла, как и все другое, массо-
видные, крупномасштабные формы. Началась своеобразная оргия
цивилизации. Она охватила частную и общественную жизнь, преобразовала быт,
мораль, политическое сознание римлян. Жить «разумно», а значит,
цивилизованно, комфортно и приятно стало для большинства из них высшей
ценностью. Прежняя система ценностей утратила свое значение.
Приоритет воли над разумом сохранялся, но это была уже индивидуалистическая
воля, нещадно эксплуатирующая рассудок ради наслаждения и выгоды.
Это была злая воля, и она делала орудием зла свой инструмент —
человеческий разум, который, как рассказывает нам Цицерон, все чаще
обращался на плутни, обманы, подлоги и на изобретательность в наслаждении.
Насколько все это соответствовало действительности, показывает картина
римской жизни, нарисованная Цицероном в его речах и письмах9.
Похожую картину рисует нам и современник Цицерона историк Саллюстий.
Тогда-то у лучших представителей римской интеллигенции и
возникло недовольство цивилизованным разумом. Оно очень ощущается у
Лукреция, у которого оно переходит в призывы к опрощению и
естественности. У Цицерона это недовольство приобретает почти
метафизический и, как мы видели, богоборческий характер: злоупотребление разумом
становится для него одним из основных аргументов против
существования богов и божественного Провидения.
Пусть Провидение, рассуждает Цицерон, ниспослало человеку разум
как дар. Человек использует этот дар во зло. Спрашивается: повинно ли в
этом Провидение? Ведь использование дара (здесь Цицерон применяет
знакомую ему адвокатскую аргументацию) не зависит от намерений дарящего.
Но Провидение не могло же не знать, как этот дар будет использован? На то
оно и Провидение, чтобы наперед видеть последствия своих действий. Мо-
Эта картина компактно и с большим мастерством воспроизведена в книге: Буасье Г.
Цицерон и его друзья. — М., 1914.
Цицерон и античная философия религии
225
жет быть, оно не способно было предотвратить злоупотребление своим
даром? Но тогда оно не всемогуще, и не все от него зависит, что также не
соответствует понятию Провидения. Остается признать, что оно
злонамеренно. «Поэтому, — говорит Цицерон, обращаясь к стоикам, — должно
обвинять это ваше Провидение, которое даровало рассудок тем, о ком оно
заранее знало, что они будут использовать его превратно и недостойно» (III, 78).
Увлеченные риторикой Цицерона, мы могли бы подумать, что он,
отказываясь столь красноречиво от идеи Провидения — от этой базисной
идеи всякой религиозной философии, окончательно отрекается и от самой
религии. Но это было бы неверно. Цицерон отказывается только от
попыток, типичных для стоиков, платоников и других античных философских
школ, рационально обосновать положения религии. Иными словами, он
отрекается от любой теологии. Вместе с тем от религии как особого рода
духовной и культовой деятельности он и здесь не отрекается. Более того,
завершая свой трактат «О природе богов», он неожиданно для читателя в
вопросе о существовании богов вдруг склоняется к точке зрения стоиков.
Для него религия — это факт истории, политики и морали, факт
очевидный и универсальный, убеждающий его в достаточной обоснованности
религиозного опыта. Этот факт, по мнению Цицерона, подлежит
рациональному философскому исследованию, что вовсе не означает, что
рациональными являются и сами основоположения религии. Ведь разум может
применяться и к тому, что по происхождению своему выходит за его
пределы, лишь бы анализ этих явлений ни в чем не отступал от данных опыта
и принципов логики. Если эти требования удовлетворены, то можно с
полным правом приступать и к созданию философии религии, обобщая
весь тот материал, который накоплен человечеством в области
религиозных верований, культов, мифов, догматов, не обязывая себя ни к какой
определенной собственной религиозной позиции. Таким выглядит
цицероновский подход к данной проблеме.
Не будет преувеличением сказать, что Цицерон, хотя он и любил
подчеркивать свою преданность национальной римской вере, из всех античных
мыслителей наиболее близко подошел к научно-критическим методам
изучения религии, благодаря чему мы имеем от него самую значительную и
самую беспристрастную информацию из всего того, что нам оставила
античность, касающуюся греко-римской языческой религиозности. В заслугу
Цицерону следует поставить и то, что он дал нам первый из сохраненных
историей образец обстоятельно разработанной философии религии,
вобравший в себя многие идеи предшественников, о воззрениях которых мы
можем судить теперь подчас только благодаря его сочинениям.
ОБРАЗ КАТОНА СТАРШЕГО
В ДИАЛОГАХ ЦИЦЕРОНА
(К вопросу об особенностях
римской мифологии истории)
Древние римляне не имели такой богатой и детально разработанной
автохтонной мифологии, какой обладали греки. Причиной тому, как
обычно считают, был практический склад их национального характера,
преобладание в нем начала деятельного над созерцательным, трезвого
рассудка над фантазией. Ведь, согласно Цицерону (Tusc. I, 2, 3), и поэзия
возникает у римлян довольно поздно, а высокого литературного уровня
она достигает только у Энния (Ш-П вв. до н. э.), который к тому же был
полугреком.
Вполне естественно, что при отсутствии развитой мифологии,
точнее — «космической» мифологии, представляющей собой у всех народов
первоначальную форму социально значимого «предфилософского»
мировоззрения, у римлян очень поздно возникает и философия. Она
появляется на стадии зрелой римской государственности, и притом под
непосредственным влиянием греческой философии. Для сравнения напомним,
что сама греческая философия формируется несколькими веками раньше,
вместе с постепенным становлением и утверждением греческого полиса2.
Но еще важнее то, что римляне, приобщившиеся к философии через
греков, с самого начала заимствуют у них не всю философию, но в основном
только практическую ее часть — учение о нравственности и государстве,
т. е. то, что было ближе их национальному вкусу и к восприятию чего
они были уже подготовлены своей собственной историей. И хотя верно,
что римляне «умели улучшать и совершенствовать заимствованное у
греков, если они находили это достойным своих стараний» (Tusc. I, 1),
однако верно и то, что они, за редким исключением, всегда оставались
равнодушными к греческой «метафизике», а к «физике» и «логике» не
добавили ничего существенно нового. Главной сферой приложения
римского гения была не область абстрактного и даже не область природы, а
область человечески конкретного — сфера истории. Здесь римляне
превзошли греков и масштабностью исторических свершений, и глубиной
В эссе использованы переводы сочинений Цицерона, сделанные М. Гаспаровым,
В. Горенштейном, Ф. Петровским, И. Стрельниковой. Ссылки на сочинения Цицерона
даются в тексте.
Процесс становления греческой философии в связи с развитием полиса всесторонне
исследован А. Ф. Лосевым (ИАЭ, I).
Образ Катона Старшего в диалогах Цицерона
227
исторического чувства. Политическое, моральное и даже религиозное
сознание римского гражданина было всецело связано с историей, но
всегда — заметим — не с историей «большого» мира, а с историей Города
(Urbs) и своего народа. При всем своем универсализме, столь достоверно
показанном в известной книге А. Ф. Лосева3, римляне больше патриоты,
даже националисты, чем космополиты, — во всяком случае, во времена
республики и раннего принципата. И неудивительно, что предания
собственной истории, легендарной и действительной, выступали у них в
роли сакральных мифов, отчасти компенсируя бедность автохтонной
«космической» мифологии — той, что персонифицирует и обожествляет силы
природного космоса. Эта своеобразная мифология «домашней» истории
оказала на всю римскую культуру почти такое же могучее
оплодотворяющее воздействие, какое эллинская космическая мифология оказала на
культуру греков. В поэзии, в риторике, в моралистике, в правовой
теории, наконец, в историографии — словом, везде, где проявил себя
римский гений, «exemplum domesticum имеет для римлян такую же силу и
значение, как для древних греков мифическая парадигма»4. Трудно
представить себе произведения Софокла и Еврипида, Эмпедокла или Платона
без мифических персонажей. Точно так же нельзя представить себе
поэму Энния или диалоги Цицерона без персонажей реальной римской
истории — без всех этих Камиллов, Регулов, Дециев, Клавдиев, Фабрициев,
Сципионов и т. п. Наиболее яркое литературное воплощение римская
мифология истории нашла в период поздней республики и в век Августа,
у Цицерона, Вергилия и Тита Ливия, хотя у поэта Вергилия,
подражавшего Гомеру, слишком еще силен чисто мифологический элемент, а у
историографа Тита Ливия — чисто исторический. Что же касается
Цицерона, то у него мы имеем мифологию истории так сказать в классическом
ее виде, когда реальные (а не легендарные) исторические факты и
персонажи наделяются особым трансцендентальным смыслом, приобретают
значение мировоззренческих факторов, идеологических и моральных
парадигм.
Скептик и релятивист, «не связанный правилами ни одной
философской школы» (Tusc. V, 29), считавший греческую мифологию «дикой
выдумкой поэтов и художников» (Ibid. I, 6) сомневавшийся даже в
существовании божественного провидения (De nat. deor. Ill, 33-39), Цицерон
искренне верил в абсолютную ценность римского государства, в святость
его традиций и установлений, включая и религиозные (Ibid. Ill, 2), в
непогрешимость и нравственное совершенство героев его истории5. И,
пожалуй, самым почитаемым героем римской истории был для Цицерона Марк
Порций Катон Цензор, или — как его называют иначе — Катон Старший.
Среди риторических и философских трактатов Цицерона нет ни одного, в
котором бы не упоминался и не ставился в пример Катон. Это относится и
к юношескому сочинению «Do inventione», и к последнему цицеронов-
3 См.: Лосев А. Ф. Эллинистически-римская эстетика. М., 1979. С. 12-14, 85-94 и др.
4 GnaukR. Die Bedeutung des Marius und Cato major für Cicero. В., 1935. S. 8.
5 Подробнее см.: Vogt J. Cicero Glaube an Rom. Darmstadt, 1963.
228 Образ Катона Старшего в диалогах Цицерона
скому трактату «Об обязанностях». Образ Катона неоднократно
встречается в «Письмах», в обвинительных и защитительных речах (особенно в
«Verrinae II», «Pro Murena», «Pro Sulla», «Pro Archia»). Есть основания
считать, что даже в «Утешении», ныне утраченном сочинении Цицерона,
написанном по случаю преждевременной смерти его любимой дочери
Туллии, он вдохновлялся образом Катона6.
Специально Катону посвящен один из разделов диалога «Брут» и
полностью диалог «О старости». Чем же объяснить эту поразительную
привязанность утонченного интеллигента-философа Цицерона к образу
прямодушного и грубоватого Катона, восхвалявшего крестьянский труд
и презиравшего философию? Уж во всяком случае не тем, что Цицерон
«находил кое-что общее в их жизненном пути, в их судьбе и карьере»7,
как полагал С. Л. Утченко, опираясь на выводы В. Зюсса8. Объяснением
этой привязанности скорее могут служить слова, вложенные Цицероном
в уста действительно близкого ему по духу Лелия, главного участника
диалога «О дружбе»: «...не ставь выше Катона даже того человека,
которого... Аполлон признал мудрейшим, ибо первого прославляют за его
деяния, а второго — только за суждения» (De amie. 2). Если иметь в виду,
что речь здесь идет о Сократе и что Цицерон считал его
родоначальником самой нужной для человека, «земной», нравственно-практической
философии (Tusc. V, 4), а всех отклоняющихся от линии Сократа называл
«философской чернью» (plebeii philosophi) (Ibid. I, 23), то секрет
привязанности Цицерона к образу Катона легко раскрывается. Сократ для
Цицерона — мудрец чужестранный, греческий; его мудрость, как бы
совершенна она ни была, состоит только в знании. Он только философ и
учитель нравственности. Катон — мудрец другого, римского типа; он
мудр в действии — в образе жизни и прежде всего в политическом
действии, которому в римской системе ценностей подчинена даже мораль.
Он образцовый государственный муж и образцовый гражданин, а быть
таковым и означает для истинного римлянина достичь высшей мудрости.
Сколь бы ни чтил Цицерон греческую философию, называя ее «матерью
всех наук», «созданием богов», «спасительницей», «наставницей порядка
и нравственности», «родительницей жизни» (Ibid. I, 26; V, 2), сколько бы
сил он ни отдавал ее изучению и философскому просвещению своих
соотечественников, все же выше ее он всегда ставил практическую и
государственную мудрость римлян (De orat. Ill, 15). Катон Старший как раз и
являл собой для Цицерона идеальный образец этой мудрости.
Разумеется, тот образ Катона, который мы найдем в диалогах Цицерона, есть не
что иное, как исторический миф — один из многих, созданных римским
политическим сознанием за многовековую историю римской
государственности. Но это именно исторический миф, и его основой все-таки
служат реальные факты.
6 См.: GnaukR. Op. cit., s. 96.
7 Утченко С. Л. Цицерон и его время. М., 1972. С. 313.
8 См.: Süss W. Cicero: Eine Einführung in seine philosophischen Schriften. Wiesbaden,
1966. S.135-136.
Образ Катона Старшего в диалогах Цицерона
229
Изображая Катона в своих диалогах, Цицерон руководствовался, во-
первых, преданием; во-вторых, сочинениями самого Катона; в-третьих,
его жизнеописаниями, составленными римскими анналистами конца II -
начала I в. до н. э., о которых мы, правда, почти ничего не знаем; в-
четвертых, конечно же, собственной интуицией и фантазией. Широко
распространенные предания о Катоне, а возможно, и летописные
портреты представляли его как человека во многих отношениях выдающегося.
Об этом мы узнаём со слов Аттика в диалоге «Брут»: «Катон — человек,
бесспорно, замечательный, муж великий и даже величайший — с этим
никто не спорит!». Аттик, следуя традиции, ценит Катона «как
гражданина, как сенатора, как полководца, наконец, как человека рассудительного,
распорядительного, блещущего всеми добродетелями», у которого
«явственно видно дарование» (Brut. 85). Однако Цицерон все же не вполне
доволен традиционной оценкой Катона. Ему кажутся недооцененными
другие и, может быть, важнейшие достоинства этого государственного
деятеля — достоинства, которые обнаруживаются при анализе его сочинений.
Уже никто не помнит Катона как оратора, сокрушается Цицерон, а ведь
он произнес не меньше речей, чем сочинил их афинянин Лисий. Более 150
из них были записаны, и Цицерон их внимательно изучил. И какие это
речи! В них есть и тонкость, и изящество, и остроумие, и аттическая
краткость, в них, как и в его сочинении «Начала», содержатся «все цветы и все
украшения красноречия», и этого Катон достиг совершенно
самостоятельно, без всякого влияния греческой риторики (Ibid. 16, 17).
Единственная слабость катоновских речей — недостаточная их отделанность (Ibid.
18; Orat. 45), но и этот недостаток Цицерон оправдывает, говоря, что
Марк Катон и некоторые другие его современники «были отличными
ораторами, но они заботились не столько о силе своих речей, сколько о
могуществе своего отечества» (De orat. I, 49). В этом же диалоге, в разделе,
посвященном соотношению философии и риторики, Цицерон
высказывает свое мнение о двух типах мудрости: досужно-созерцательной и
деятельно-практической, политической. Явно отдавая предпочтение второму
типу, он относит Катона к числу тех, кто сознательно ставил «науку
мыслить и говорить», которую Цицерон отождествляет с мудростью, на
службу общему делу — республике (Ibid. Ill, 15). Таким образом, Катон
выступает здесь выразителем центральной идеи всего цицероновского
творчества — идеи единства мысли, слова и дела.
В трактате «Об ораторе» мы встречаемся и с другими ключевыми
положениями учения Цицерона, подкрепляемыми авторитетом Катона. Так,
говоря о необходимости для оратора знания права, Цицерон ссылается на
Катона, как на того, кто превзошел красноречием всех своих современников
и в то же время был «величайшим знатоком гражданского права».
Выясняя соотношение между риторикой и историографией, Цицерон
вновь обращается к автору «Начал», но теперь как к историку. Интересно,
что как историк Катон оценивается здесь хотя и положительно, но
довольно сдержанно. Отмечается сухость языка и недостаточная
художественность его исторического трактата. Противореча этому в более позднем
диалоге «Брут», Цицерон найдет в «Началах», как мы видели, все «цветы»
230
Образ Каттюна Старшего в диалогах Цицерона
красноречия. Однако и в данном случае Катон не осуждается:
несовершенства его литературного слога списываются на счет неразвитости
тогдашнего искусства историографии (Ibid. II, 12). В целом же в
риторических диалогах Катон предстает как государственный муж, поистине
совершенный: «А чего в самом деле, — говорит Цицерон, — недоставало
Марку Катону, кроме нынешнего заморского и заемного лоска
образованности? Разве знание права мешало ему выступать с речами? или его
ораторские способности — изучать право? И в той и в другой области он
работал с успехом. Разве известность, какую он заслужил, ведя частные
дела, отвлекала его от дел государственных? Нет: он был мужественнее всех
в народном собрании, лучше всех в сенате и, бесспорно, был отличным
полководцем. Словом, в те времена у нас не было ничего, что можно знать
и изучать и чего бы он не знал, не исследовал и даже не описал бы в своих
сочинениях» (Ibid. Ill, 33).
Иные стороны личности Катона раскрываются в специально
посвященном ему диалоге «О старости». Цицерон сочинил этот диалог в
предпоследний год своей жизни, находясь в вынужденном уединении в Туску-
ле, где когда-то родился и на старости лет жил сам Катон. По-видимому,
здесь, в Тускуле, Катон написал свой знаменитый трактат «О
земледелии», сохранившийся до наших дней. В нем старый сенатор возвеличивал
крестьянский труд и скромный сельский образ жизни, со всей
свойственной ему дотошностью (вспомним: Carthaginem esse delendam!) описывал
хозяйственное устройство и распорядок работ на идеальной, с его
«государственной» точки зрения, римской вилле. Диалог Цицерона как раз и
показывает нам Катона в его частной (хотя и не только) сельской жизни,
главным содержанием которой является нелегкий, но необходимый для
образцового римского гражданина труд.
Катон уже стар, ему 84 года. Но он и теперь сочетает в себе все
добродетели римлянина. Каковы же они? Прежде всего это «политические»,
гражданские добродетели. Он неустанно заботится о благе республики.
Когда-то он защищал ее как воин на полях сражений, как трибун, легат и
консул (18)9, потом оберегал ее традиции и нравственные устои как
цензор, теперь он помогает ей советами (42), защищая ее своей мудростью и
авторитетом (15). Политический идеал, которому он всегда следует,
может быть выражен известным стихом Энния (Ann.):
«Древний уклад и мужи — вот римской державы опора».
Но древний уклад основан на труде и «естественном» образе жизни,
отсюда же проистекает и доблесть мужей. Поэтому идеалом Катона
является в конце концов трудовая и естественная жизнь. Перечисляя причины,
которые обычно делают старость непривлекательной, первой он называет
вынужденную бездеятельность (15) и на многих примерах показывает, что
активность, и притом общественно полезная, доступна всякому возрасту и
что любой труд, а особенно крестьянский, приличествует честному граж-
Здесь и далее в скобках указываются параграфы диалога «О старости» в
соответствии с принятой разбивкой.
Образ Катона Старшего в диалогах Цицерона 231
данину (21-24). О собственной активности в преклонном возрасте он
говорит: «Я работаю над седьмой книгой «Начал»; собираю все воспоминания
о древности, теперь особенно тщательно обрабатываю речи,
произнесённые мною при защите во всех знаменитых делах; рассматриваю авгураль-
ное, понтификальное и гражданское право; много занимаюсь и греческой
литературой. ...Оказываю помощь друзьям, часто прихожу в сенат,
добровольно принося туда плоды зрелого и долгого размышления, и защищаю
их силами своего духа, а не тела» (38). Нетрудно заметить, что устами
Катона здесь говорит о своих занятиях сам Цицерон. Но пусть нас это не
смущает; ведь образ Катона — это образ идеального римлянина, а он и
должен заниматься всеми этими вещами. Кроме того, у такого земного и
практичного человека, как Цицерон, идеалы не могли слишком
расходиться с действительностью, и как бы то ни было его изображение занятий
Катона выглядит вполне достоверно: ведь Катон действительно в старости
заканчивал свои книги и занимался правом, ходил пешком из Тускула в
Рим, чтобы выступить на форуме, и, вполне возможно, изучал греческую
литературу. Деятельный римлянин — это просто нормально. Цицерон
даже весьма объективен, ибо дальше он еще подробнее изображает
добродетели Катона, самому Цицерону не очень свойственные. Ведь занятие,
самое близкое сердцу Катона, — это земледелие (51), чего не скажешь о
Цицероне. Больше того, согласно Катону, земледелие «наиболее
соответствует образу жизни мудреца» (51) — это уже нечто такое, что невольно
напоминает не о Цицероне, а о таких мудрецах, как Гораций и Вергилий.
Правда, у цицероновского Катона «земледельческая» мудрость имеет свойства
гражданской добродетели: ведь земледелие достойно мудреца, так как
«приносит пользу всему человеческому роду» (56), и прекрасно было то
время, когда сенаторы пахали и отправлялись решать государственные
дела прямо с поля (56-57). Да что сенаторы! Персидский царь Кир
Младший гордился тем, что сам обрабатывал свой сад (59). Мудрость Катона
включает также экономический (неотъемлемый от римского сознания!) и
эстетический элементы. Мудрец изберет земледелие и потому, что оно
«прибыльно» (51), и потому, что земледельческий труд сам по себе несет
большую радость — его живописанию в диалоге посвящены, может быть,
лучшие страницы (51-59). В общем, «хорошо обработанную землю ничто
не может превзойти ни по доходности, ни по красоте» (57). Катон у
Цицерона — рачительный и рассудительный хозяин, и Цицерон, если сравнить
его диалог с катоновским «руководством» по земледелию, не погрешает
против истины. Но важно другое: трудолюбие и хозяйственная
предприимчивость обязательны для цицероновского идеального римлянина.
Переходя от гражданских добродетелей к добродетелям характера и
достоинствам души, отметим, что Катон, как совершенный римлянин,
скромен в потребностях (8, 55), прост в обращении (24), дружелюбен и
гостеприимен (35,45,46), не раб плотских наслаждений, но и не отвергает
их полностью (45-48) — плотским удовольствиям он предпочитает
духовные (49-50). Он понимает, что «в царстве наслаждения доблесть
утвердиться не может» (41) и что тот, кто стремится только к наслаждениям,
не может быть хорошим гражданином (40). Он одобряет строгость, но не
232 Образ Катона Старшего в диалогах Цицерона
любит жестокость (66). Мужественно переносит он смерть любимого
сына (84), собственной смерти не страшится (72), но зато, как истинный
римлянин, стремится к бессмертной славе (82). Во всем своем поведении
он руководствуется античным принципом меры (33, 45-48). Добавим еще
и то, что Катон обладает трезвым рассудком (5), редкостной памятью (21)
и телесной крепостью (27), и тогда образ идеального римлянина,
нарисованный Цицероном в диалоге «О старости», будет завершен.
Подведем итоги. Образ Катона Старшего, созданный Цицероном, это
не исторический в собственном смысле, а идеологический и
мифологический образ. В нем воплотились мечты и идеалы Цицерона, убежденного
республиканца и патриота, глубоко переживавшего современный ему
процесс разложения римского республиканского строя и девальвации
традиционных римских гражданских и нравственных ценностей.
Цицероновский Катон соединяет в себе все те свойства римского национального
характера, которыми держалась республика и с утратой которых она, по
мнению Цицерона, неизбежно должна была погибнуть. Поэтому миф о
Катоне — это «работающий» миф. Он должен был напомнить римлянам
об их славном прошлом, об их ответственности перед историей, должен
был повлиять на их мировоззрение и в какой-то мере приостановить
начавшийся процесс перерождения. Таков был расчет Цицерона. И хотя этот
расчет не оправдался, он был не лишен смысла. Практичные и
рассудочные римляне охотнее верили мифам о своих знаменитых предках, чем
греческим мифам о богах и доисторических героях. Культ национальной
истории прививался им столетиями. И они действительно верили в того
совершенного Катона, которого изобразил Цицерон, и верили, как
свидетельствуют более поздние историки, философы и поэты, до последних
времен империи.
МОРАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ
АНТИЧНОГО ХРИСТИАНСТВА
Новый Завет и Августин
Глава первая
Этика смирения
Дохристианская античность не любила, не щадила и не понимала
человеческой слабости. Свободные презирали рабов и относились к ним как
к говорящим орудиям не только из спесивого чувства социального
превосходства и сознания безграничной своей власти над ними, но и потому,
что рабское состояние считалось пределом безнравственности и утраты
человеческого достоинства: согласно рабовладельческой морали человек
ни при каких обстоятельствах не должен утрачивать свою личную
свободу, а если это невозможно, он обязан найти в себе силы предпочесть
позору рабства смерть. Это была в каком-то смысле благородная и даже
героическая мораль, но в то же время это была мораль господства и
жестокости, не знающая никакой снисходительности и милосердия, не
принимающая в расчет вопиющей противоречивости и бесконечной сложности
человеческой личности.
Неверно, пожалуй, думать, что до христианства греки и римляне
вовсе не представляли себе, что такое личность, хотя сам термин «persona» в
значении «личность» появился уже в христианские времена1. Если под
личностью понимать неповторимый и неделимый духовный субъект,
обладающий внутренней свободой и ответственный за свои поступки, то
подобное представление, хотя и не вполне еще осознанное, было знакомо
и античности. Разве не это самое представлял себе Еврипид, создавая
образы своих прославленных героинь: Алкесты, Федры или Медеи? Разве не
такой именно личностью видел Фукидид Перикла, а Ксенофонт Сократа?
И разве возлюбленная Катулла Лесбия только тип, а не личность? Вместе
с тем в самой античной философии интерес к неповторимой человеческой
индивидуальности почти полностью отсутствует (исключение, может
быть, составляют Цицерон и Сенека). Человек рассматривается здесь в
основном как родовое понятие, его субъективность схематизируется.
Философы обычно различают в нем рациональную и иррациональную части
1 Классическим определением личности считается определение Боэция (VI в.):
«Личность есть неделимая субстанция разумной природы» (Patrologia latina, v. 64, 1343 CD).
234
Моральное сознание античного христианства
и при этом полагают, что в совершенном человеке вторая из них должна
находиться под полным контролем первой. Такой контроль обеспечивает
человеку уделенную ему как «разумному животному» меру счастья.
Основанная на столь упрощенном понимании человека, античная этика
имела характер рассудочный и натуралистический. Осознание того, что
отдельный живой, реальный, «цельный» человек есть не только сила,
свобода, разум, но одновременно и слабость, зависимость, неразумие, что добро
в нем неизбежно сочетается со злом, а добродетель с пороком и грехом и
что человек, чтобы устоять в добре, нуждается в помощи — осознание
всего этого приходит в античный мир вместе с христианством.
Христианская мораль возникает в противовес господствующей,
рабовладельческой, как мораль рабов и угнетенных, т.е. — по античным
критериям — как мораль слабых. С точки зрения этой новой морали
главным человеческим пороком, скрывающим в себе все остальные пороки,
является гордость, или же, по-другому, гордыня — чувство собственной
самодостаточности, доходящее до крайнего себялюбия и презрения ко
всем другим. Гордость действительно вырастает из способности человека
самоопределяться и самоутверждаться, она есть следствие осознания
человеком своей силы и свободы. Поэтому ранние христиане вполне
справедливо отождествили с понятием гордости всю господствующую тогда
систему морали: ведь самоутверждение, сила и свобода, пожалуй, были в
этой системе основными нравственными ценностями, а этический идеал
счастливой, «блаженной» жизни (идеал высшего человеческого блага)
мыслился как реализация этих ценностей. О том, что дело обстояло
именно так, свидетельствуют философско-этические учения этой эпохи:
эпикурейское, стоическое и скептическое, каждое из которых в той или иной
форме провозглашало основой счастливой жизни самодостаточность,
автаркию и утверждало, что понимаемое таким образом счастье может быть
в принципе достигнуто собственными усилиями каждого индивида.
Обретение человеком свободы от внешних сил и связанных с ними страстей,
достижение полного господства разума над чувствами и волей считались
вершиной Мудрости.
Христианство отвергло все эти этические идеалы и ценности прежде
всего по причине их очевидной неосуществимости, нереальности.
Человек слишком слаб, чтобы быть самодостаточным, таким с позиций
христианской веры может быть только один Бог. В своем стремлении к
самоутверждению и самодостаточности человек как бы претендует на
божеское, а в этом-то и состоит великий грех гордости.
Морали гордого человека раннее христианство, выражавшее
идеологию общественных низов, хотело противопоставить мораль человека
кроткого и смиренного, признающего свою ограниченность,
страдающего, неустроенного, плачущего и несчастного — таких в тогдашнем мире
было подавляющее большинство. К ним и обращены были евангельские
слова: «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я
успокою вас...» (Матф., И, 28). И счастливая жизнь (блаженство) обещана в
Евангелии не сильным и гордым: «Блаженны нищие духом, ибо их есть
Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны
Моральное сознание античного христианства
235
кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие
правды, ибо они насытятся...» (Матф.5, 3-6). Путь к высшему блаженству
полагается не в самоутверждении в этой жизни, а в терпении и смирении,
не в превосходстве силы, а в самоуничижении: «Многие же будут первые
последними, и последние первыми» (Матф.19, 30; Ср. 20, 16).
Во всех этих евангельских обещаниях отражена тоска угнетенных по
социальной справедливости. Однако Евангелие не обещает наступления
справедливости в этой земной жизни. Напротив, оно как бы освящает
приниженное, страдальческое и несчастное состояние человека в условиях
социальной несправедливости. Оно освящает его тем, что называет его
блаженным, счастливым, призывая не преодолевать это состояние, а желать его
и, во всяком случае, терпеть его и смиряться с ним. Обесценивая земное
человеческое счастье, христианская мораль предлагает несчастным в
качестве компенсации утешительную надежду на посмертное вечное
блаженство; утешая вечностью, она призывает смириться с временным.
Смирение, кардинальная христианская добродетель, по существу так
же заключает в себе все другие добродетели, как гордость — все пороки. С
позиций христианства более высокую моральную ценность имеет то
поведение, в котором больше подавлено гордости и себялюбия и больше
проявлено смирения и любви к другим. На этом основаны знаменитые заповеди
Нагорной Проповеди, которые на фоне рассудочных и натуралистических
установок господствующей морали выглядели прямо-таки парадоксально.
Они противоречили также и известным античности нормам правового
сознания. Против гордости и себялюбия направлена и эта необычная заповедь:
«Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите
ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас...» (Матф. 5,
44). Как вызов господствующей тогда морали и правовому сознанию
воспринимались евангельские слова: «Ударившему тебя по щеке подставь и
другую; и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и
рубашку. Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй
назад» (Лук., 6,29-30). В этих заповедях христианский принцип смирения и
непротивления злу доведен до крайности. Но, с другой стороны, в них
высвечивается неудовлетворенность моралью межсословной и
межличностной вражды, потребность в таких человеческих отношениях, где
отсутствовали бы ненависть, эгоизм и болезненное себялюбие.
Ведь если гордость и себялюбие подчас сопротивляются даже нашей
любви к друзьям и близким, насколько же непереносима должна быть для
гордости любовь к ненавидящим нас, к врагам? Но с другой стороны,
насколько больше в такой любви душевной щедрости, великодушия и
благородства. «И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность?
Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые
вам делают добро, какая вам за это благодарность? Ибо и грешники то же
делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно,
какая вам за это благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам,
чтобы получить обратно столько же» (Лук., 6, 32-34).
Выраженный в этих заповедях призыв к великодушию имеет в
христианской морали надвременной характер. Эти заповеди скорее представ-
236
Моральное сознание античного христианства
ляют собой императивы нравственности как таковой, то есть абсолютной.
Вместе с тем, эти заповеди фиксируют некоторые особенности той
нравственности, которая является общечеловеческим идеалом.
Что мы имеем в виду? Например, ту мысль, что наилучший
воспитатель душ человеческих — это доброта, которая и укрепляет в добре
того, кто ее проявляет, и искореняет зло в том, на кого она обращена.
Ведь доброта, если она глубокая и искренняя, если не сиюминутная, а
настойчивая, если она принцип, действительно парализует злобу и
настраивает на ответную доброту. Настоящая доброта не горда и не
кичлива, она смиренна и кротка; она не слишком рассуждает, не исчисляет
прибытков и убытков, не мелочится; она исходит не от рассудка, а от
сердца; она есть порождение любви. Давать безвозмездно, ничего не
желая взамен, не ожидая даже благодарности, и при этом давать не от
избытка, а просто из желания дать — это непривычно, нелогично,
однако это благородно и великодушно настолько, что любой захотел бы
видеть вокруг себя именно таких людей.
В таком ключе, по-видимому, следует понимать приведенные выше
евангельские заповеди, если рассматривать их даже сами по себе, вне
религиозного учения, в которое они включены, если искать в них
императивы общечеловеческой морали. Все это, конечно, императивы
исключительной или даже идеальной нравственности, отличные от тех, которыми
человек руководствуется в повседневной жизни.
Обычная мораль основана на юридическом понятии справедливости,
она еще находится в сильнейшей зависимости от первичного по отношению
к ней правового сознания. (На то, что право предшествует морали
исторически и логически, обратил внимание еще Гегель.) В справедливости,
понимаемой морально-юридически, заключен принцип эквивалентности
действия и ответного действия. Иными словами, справедливость имеет место
тогда, когда за добро платят равносильным добром, за зло — равносильным
злом. У этой морали имеется не только правовая, но и экономическая
подоплека — отношения эквивалентного обмена, характерные для любого
общества, не достигшего уровня абсолютного экономического изобилия.
Существование такой морали исторически оправдано, хотя сам принцип
нравственной жизни в ней реализован далеко не полностью.
Посмотрим, однако, что собой представляет юридическая
справедливость с точки зрения совершенной нравственности. Человек ударил
другого человека, а тот нанес ему ответный удар, пусть не только из
соображений самозащиты, но и для того, чтобы злодеяние не осталось
безнаказанным и чтобы злодей, испытав на себе действие того же зла,
которое он сам причинил, не осмеливался и дальше творить такое же
зло. Можно ли считать поведение потерпевшего вполне моральным?
Чего он достиг своим ответным ударом? Пусть этот удар удержал
обидчика от повторного злодеяния. Но что именно его удержало? Страх.
Страх возмездия. Страх предполагаемого собственного страдания. Но
ведь страх — сугубо отрицательная эмоция, а выражающаяся в нем
трусость — нравственный порок. Страх может удержать от злодеяния (в
действительности он-то чаще всего и удерживает), но он не способен
Моральное сознание античного христианства
237
нравственно улучшить, сделать добрее; скорее, наоборот — страх
угнетает, портит, деформирует, разлагает человеческую личность, подавляя
в ней такие неотчуждаемые ее свойства, как свободное волеизъявление и
человеколюбие. Нельзя же быть добрым, нельзя же любить из страха!
Неделание зла из страха — это ведь еще не доброта и не добродетель;
это, конечно, вполне законное, правовое поведение, но отнюдь еще не
моральное в собственном смысле.
Аналогично обстоит дело и с воздаянием добром за добро, если это
происходит в рамках юридической справедливости, т. е. если ты делаешь
добро другому только за то, что он сам тебе его раньше сделал, или же
ожидая, что тебе его тоже сделают. В римском правовом сознании такая
мораль была зафиксирована в формуле «do ut des» — «даю, чтобы ты мне
дал». Здесь, разумеется, все справедливо, но увы! — донравственно. Ведь
делающий добро ради воздаяния, по существу, корыстен, он делает его
ради ожидаемого впоследствии собственного удовольствия, а тот, кто
делает его только из благодарности, ожидает, что и другой будет поступать
с ним так же, т. е. тоже отблагодарит добром за добро и как бы вернет
назад доставленное ему удовольствие. Корыстность же, как известно, —
нравственный порок. Корыстные деяния, даже если они имеют вид
благодеяний, на самом деле безнравственны, так как они проистекают не из
нравственного чувства, а из себялюбия и эгоизма, пусть даже из эгоизма
разумного, опирающегося на принцип справедливости.
Итак, «юридическая мораль» зиждется на двух столпах: страхе и
корысти. Разумная регуляция этих двух начал приводит к
осуществлению идеала юридической справедливости. Указанная мораль, если брать
ее в чистом виде, опирается в основном на человеческий рассудок и
отрицательные инстинкты, роднящие человека с животным миром.
Характерная в особенности для языческой античности, она исходит и из
античного понимания человека как разумного животного, не считаясь
фактически с такими составляющими человеческой личности, как совесть,
раскаяние, искренность, человеколюбие и т. п. А подлинная
нравственность, возвысившаяся до самой себя и поднявшаяся над правовым
сознанием, коренится именно в этих составляющих. Если представить себе
эту идеальную мораль, или же нравственность в собственном смысле, то
она должна была бы строиться не на принципе юридической
справедливости, определение которого с таким вдохновением отыскивал когда-то
Платон, а на некоем более возвышенном и более духовном принципе,
который можно было бы назвать категорическим императивом
человеколюбия, или же принципом безусловной доброты. По правилам этой
морали все действия производились бы людьми, как говорится, не за
страх, а за совесть. Доброта, ставшая безусловным принципом и
внутренней потребностью личности, определяла бы ее поведение таким
образом, что другая личность всегда имела бы для нее ценность не
меньшую, чем собственная, и поэтому добро оказывалось бы ей без всякого
ожидания воздаяния, естественно и непринужденно, из простой
потребности любить, как оно оказывается человеком самому себе.
Следовательно, императивом подобной «идеальной» нравственности могла бы
238
Моральное сознание античного христианства
послужить формула: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя», т. е.
как раз та формула, которая в Евангелии (Матф., 22, 39-40) названа
одной из двух главнейших библейских заповедей.
Однако евангельская мораль — это отнюдь не абстрактно-идеальная
мораль, исходящая из доведенного до логического конца понятия
нравственности и рассчитанная на совершенного, а следовательно, исторически
несуществующего человека. Нет. Это — мораль религиозная. Ее адресат —
человек обычный, несовершенный и грешный, сам по себе бессильный
жить по принципу безусловной доброты и требующий хотя бы только
справедливости. Она исходит из того, что даже принцип справедливости
неосуществим в условиях здешнего, земного существования, и она обещает
терпящим несправедливость посмертное вознаграждение — вечное
блаженство, но не всем, а только тем, кто верит и живет по заповедям Бога.
Евангельская этика, как и вообще христианская этика, теоцентрична, в центре ее
внимания находится идея Бога.
Вместе с тем ей присущ своеобразный реализм, проявляющийся, в
частности, в том, что принцип безусловной доброты в чистом виде
прилагается в ней только к Богу (только Бог обладает абсолютной
жертвенностью), а по отношению к человеку она вводит этот принцип в сильно
ослабленном виде, дополняя его более земным «принципом
справедливости». Иными словами, евангельская этика, как и всякая другая этика,
рассчитанная на восприятие обыкновенного («массового») человека,
строится на идее компенсации, воздаяния. Но ее своеобразие в том, что
она обещает воздаяние за самое «безусловную доброту».
Евангельская мораль как бы двухслойна: ее внутренний слой,
предписания совершенной нравственности, ограничен со всех сторон
внешним слоем, юридическим сознанием эпохи. По существу, это
выглядит так: будь нравственно совершенным, люби добро (Бога) ради
него самого... и за это тебя ожидает «Царство Небесное»; будь добрым,
люби людей ради них же самих, как ты любишь себя... и за это тебя
ожидает вечное блаженство. Чем бескорыстнее ты будешь себя вести,
тем большая награда тебя ожидает. Чем больше отдашь, тем больше
получишь. Чем больше возьмешь, тем меньше тебе будет дано. Именно
таков, по-видимому, смысл евангельских слов: «Все, что имеешь,
продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах» (Лук. 48,
22), «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому
войти в Царствие Божие» (Лук. 18, 24). Идея воздаяния присутствует и в
заповедях смирения: «Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в
Царстве Небесном» ((Матф. 18, 4), «Ибо кто возвышает себя, тот унижен
будет, а кто унижает себя, тот возвысится (Матф., 23, 12). Та же идея и в
заповеди прощения: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения
их, то простит и вам Отец ваш небесный» (Матф., 6, 14). Наконец, то же
и в отношении самой праведности, означающей исполнение всех
заповедей: «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет
праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное»
(Матф., 5, 20).
Моральное сознание античного христианства
239
В свою очередь, неправедным, т. е. тем, кто не будет жить по
Новому Завету, обещаны посмертные вечные муки (Матф. 24, 36). Можно себе
представить, какое воздействие должны были оказывать на верующих эти
два мерцающих из неопределенного будущего (ведь «о дне же и часе
никто не знает») эсхатологических образа расплаты: образ вечного
блаженства рая и образ вечных мук ада.
Сам принцип «завета» имеет юридический характер. Завет — это
своеобразный договор Бога с людьми. Вступающий в этот договор человек
как бы добровольно становится подданным особого государства, где есть и
свои законы — предписания абсолютной нравственности — и свой суд,
устанавливающий степень соответствия поведения предписаниям, —
«Страшный суд», обещанный после «второго пришествия», — и
положенные по суду награда и наказание. Особенность этого государства в том, что
оно существует прежде всего для тех, кто в него верит. Но для верующих
его законы имеют уже в известном смысле принудительную силу. И в этом
едва ли не главный парадокс евангельской морали: юридическая
принудительность и страх перед судом кажутся несовместимыми с содержанием ее
нравственных предписаний, основанных на императиве безусловной
доброты. Если верующий действительно живет по евангельским заповедям, его
не интересуют никакие награды и наказания; если же он ждет за свои
поступки наград и наказаний, то он уже не живет по заповедям.
Это противоречие между возвышенным нравственным идеалом и
юридическим способом его осуществления сохранится и во всем
последующем христианстве, а особенно в западном. В ходе истории оно
проявится там в самых разных формах, в том числе и в такой, как почти
непрерывное противоборство двух типов христианской религиозности: формально-
юридической и нравственно-психологической. Борьба за «очищение»
христианской жизни, как правило, сопровождалась критикой клерикального
юридизма и противопоставлением ему евангельской этики любви. Однако
такое противопоставление никогда не могло быть последовательным, ибо,
как мы знаем, в самом же Евангелии нравственное мировоззрение нередко
оказывается соединенным с элементами мировоззрения юридического, и
это, между прочим, приводит к тому, что возвышенная этика любви подчас
незаметно переходит здесь в этику самого по себе смирения и терпения, в
этику благоразумия, ибо есть большая разница между смирением ради
любви и смирением ради собственного спасения.
Еще явственнее указанный переход от любви к терпеливому
смирению наблюдается в других книгах Нового Завета, особенно в «Посланиях
апостола Павла».
В «Посланиях» о любви, о человеколюбии говорится много
прекрасного. Вот, например, что об этом сказано в «Первом послании к
коринфянам»: «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею
всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не
имею любви — то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело
мое на сожжение, а любви не имею — нет мне в том пользы. Любовь
долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не
превозносится, не гордится. Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не
240 Моральное сознание античного христианства
мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает,
всему верит, всего надеется, все переносит» (13, 2-7). Любовь ставится,
как мы видим, выше самой веры; в том же послании она ставится и
выше знания, ибо «знание надмевает, а любовь назидает» (8, 1). Но любовь
раскрывается здесь не только в своем назидательном аспекте, она
предстает как именно кротость и смирение, созидательно противостоящие
надменности и гордости. В «Послании к римлянам» любовь также
оценивается как высшая христианская добродетель, из которой
проистекают все другие. Вместе с тем за призывами любить собратьев своих и
благословлять своих гонителей, никому не воздавать злом за зло, не
мстить врагам и жить со всеми в мире (12, 9-21) следует заповедь:
«Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от
Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему
противящийся власти противится Божию установлению; а противящиеся сами
навлекут на себя осуждение» (13, 1-2).
Нельзя сказать, что проповедь любви у Павла слишком тесно связана
с идеей воздаяния. Напротив, как нигде в Новом завете любовь
рассматривается здесь как высочайшая самостоятельная ценность, как
«совокупность совершенства» (Колос. 3, 14). Однако логика практической морали
все же учитывается «Посланиями». Из любви выводятся смирение,
покорность, непротивление. Причем переход от человеколюбия как
принципа к установкам практической морали сопровождается не только
претворением любви в смирение и терпение, но и все большим подключением
идеи воздаяния со всеми вытекающими отсюда последствиями. В
приведенной выше заповеди покорность властям оправдывается не
соображениями любви, но ссылкой на то, что они установлены Богом, а
следовательно, непокорных ждет наказание как нечестивых. Еще яснее это
выражено в «Послании к колоссянам»: «Рабы, во всем повинуйтесь господам
вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в
простоте сердца, боясь Бога» (3, 22). Рабство существует, значит, на то
воля Божья. Не хочешь быть осужденным Богом, терпи свое рабство и
добросовестно служи господам. Терпи рабство и ради принципов самого
христианского учения: «Рабы, под игом находящиеся, должны почитать
господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие
и учение» (I Тим. 6, 1). Терпи любое иго, ибо оно подавляет и связывает
только твое тело, но не душу. Плоть же и должна быть связана в этом
мире, а душа свободна. Терпи любые унижения и любые притеснения, если
они исходят от этого мира, «ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта
хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом
нерукотворный, вечный» (II Кор. 5, 1). Так говорится у Павла, самого
философического из апостолов.
В «Посланиях», известных под другими именами, призыв к терпению
звучит подчас даже более настойчиво, чем призыв к человеколюбию. В
«Соборном послании апостола Иакова» терпение и кротость становятся
лейтмотивом и доминирующей идеей: «Терпение же должно иметь
совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого
недостатка» (1,4), ибо «Бог гордым противится, а смиренным дает благо-
Моральное сознание античного христианства
241
дать» (4, 6). Как видно, в практической этике «Посланий» смирение и
терпение получают уже не столько моральное, сколько религиозное
обоснование. Впрочем, эти два типа обоснования в Новом Завете вряд ли отделимы
друг от друга. Ведь сама религия новозаветного христианства строится на
моральной основе, а новозаветная мораль — на религиозной. Это
сказывается и на решения других важных проблем христианской этики, одной из
которых уже в Новом Завете становится проблема соотношении
человеческой свободы и божественного предопределения или же — под несколько
иным углом зрения — проблема свободы и благодати.
Нет нужды доказывать, что новозаветная этика смирения как факт
исторический была порождением определенной эпохи, определенных
социально-исторических обстоятельств. Но поскольку это — этика
религиозная, у нее есть и еще один, более важный, источник — христианская,
или библейская, теология, из которой смиренный статус человека
выводился с такой же необходимостью, с какой он выводился из всеобщего в
то время сознания невозможности изменить исторический мир к лучшему.
Библейская теология наделяла Бога тремя главнейшими
атрибутами: всезнанием, всемогуществом и всеблагостью, а также функциями
творца, хранителя и распорядителя всего сущего. При таком понимании
Бога все сотворенное, вместе взятое, и всякая тварь в отдельности
оказывались в полной зависимости от самого Его существования и от Его
воли, каковые представлялись абсолютными, необходимыми и
изначальными, т. е. извечными. Немаловажно и то, что Бог, согласно
христианскому учению, творит все «из ничего», из небытия, вызывая все вещи
к жизни из абсолютного ничтожества, и эта печать ничтожного
происхождения, выражающаяся в их непостоянстве, временности,
изменчивости и самопроизвольном стремлении к своему истоку — к ничто, к
разрушению, к смерти, сохраняется за ними в продолжение всего их
существования. Более того, здесь утверждается, что если бы Бог хоть на одно
мгновение оставил мир без присмотра и без своей сохраняющей и
творящей бытие силы, он тотчас исчез бы, обратился бы в то самое ничто,
от которого произошел. Получается, что мир держится на одной только
доброй воле Бога.
Все сказанное о мире относится и к человеку, который, по Библии,
тоже тварь, получившая бытие из ничтожества, из праха. Поэтому человек
по своей природе смертен, непостоянен, зависим, вообще несовершенен
или даже ничтожен. Понятно, что при такой его природе самое
правильное поведение человека — это смирение, кротость. Но человек — тварь
особенная, он создан по образу и подобию Бога. Как и Бог, он обладает
знанием, могуществом и волей (способностью желать и избирать добро).
Он также обладает способностью творить (производить), правда, всегда из
чего-то, а не из ничего; сохранять, правда, на время, а не навсегда;
распоряжаться, правда, не всем и не вполне. И хотя указанные способности
человека несоизмеримы с божественными и почти ничтожны, он чувствует
их в себе как нечто божественное и по недостатку знания и доброты легко
воображает себя богом, что проявляется в человеческом чувстве полной
242
Моральное сознание античного христианства
независимости (неограниченной свободы) и чувстве самоутверждения.
Это и есть гордыня, осуждаемая Библией.
Гордыня происходит из несовершенства воли. Совершенная воля
всегда ориентирована на максимальное добро, а таковым в библейской
теологии является Бог. Несовершенная воля человека (изменчивая и не
вполне свободная, ибо она создана из ничто) не имеет собственных сил
всегда удерживаться на высоте добра и легко отклоняется ко злу. Иными
словами, человек оказывается не способным собственными силами
устоять в любви к Богу и в нем быстро перевешивает любовь к самому себе.
Чтобы устоять в добре, человеку нужна помощь от Бога, называемая в
Библии благодатью. Трудно человеку удержаться в добре, но еще труднее
подняться от зла к добру. Здесь, согласно Библии, требуется еще большая
благодать. Случай отпадения человека от уже соединенного с ним добра,
т. е. Бога, иллюстрируется в Ветхом Завете грехопадением Адама и Евы.
Решающее значение в этом отпадении придается вкушению ими плодов
от древа познания добра и зла, т. е. их стремлению познать то, что может
быть известно только Богу. Стремление все знать — начало гордыни,
всезнайство ведет к зазнайству. Дальнейший рост гордыни — в переходе от
«все знаю» к «все могу». Здесь человек возносится до утверждения
собственного всемогущества, равного божественному. Наконец, триумф
гордыни в переходе от «все могу» к «все, что я хочу, есть благо», что
означает вседозволенность и безграничное своеволие. Всезнайство,
самонадеянность и своеволие как раз и составляют основное содержание того
понятия гордыни, которое мы встречаем в Библии. Почему Бог своей
благодатью не удержал Адама и Еву от грехопадения? Потому что в его плане
мира содержалась вся последующая история спасения.
Другой случай, когда Бог своей благодатью поднимает человека от
зла к добру, лучше всего иллюстрируется в Новом Завете историей
крестной жертвы Христа. Трудность задачи — восстановления в человеке
почти утраченного образа Бога, образа безусловной доброты — вызывает
необходимость экстраординарной помощи, и Бог ради спасения людей
сперва посылает им на помощь своего Сына, воплощенного в человека,
чтобы Он примером своей жизни и своим учением победил людскую
гордыню и прославил смирение, а затем отдает Его в жертву людям, чтобы
своей смертью Он искупил грехи людские и чтобы для тех, кто в это
поверит, открылся путь к вечной жизни. Благодать здесь заключается и в
самом воплощении, и в Христовой проповеди, и в крестной жертве, и
даже в самой вере во все это, так как согласно новозаветной теологии
человек без помощи Бога бессилен не только подняться от зла к добру, но
даже и поверить в добро.
Таковы некоторые положения библейской (ветхозаветной и
новозаветной) теологии, служащие дополнительным основанием христианской
этики смирения. Из них вытекает крайне напряженная и парадоксальная с
точки зрения рассудочного мышления этика, и эта парадоксальность
фиксируется уже в «Посланиях апостола Павла». С одной стороны, здесь
многократно говорится о том, что Христос принес себя в жертву за всех
людей и открыл тем самым путь спасения всем. С другой стороны, не менее
Моральное сознание античного христианства
243
настойчиво развивается известное евангельское положение: «Много
званных, а мало избранных». Эти утверждения еще нетрудно было бы
согласовать: ведь из того, что путь открыт всем, вовсе не следует, что по этому
пути все пойдут; но как быть с самим «избранием» и как быть с
человеческой свободой, которая как раз и предполагается утверждением, что путь
открыт всем? Пытаясь ответить на эти вопросы, наш рассудок терпит крах.
У апостола Павла читаем: «Ибо кого Он предузнал, тем и
предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным
между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал; а
кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил» (Рим. 8,
29-30). Это место надолго стало камнем преткновения для всех
толкователей христианской этической теории. В соответствии с изложенной
выше теологией Бог от вечности знает все, в том числе и то, что случится
когда-либо с любым человеком в любой момент его жизни. И Он не
только заранее (точнее — всегда) знает, но и определяет к
существованию все, что существует, а значит, — с точки зрения логики рассудка, —
и любого человека со всеми его праведными и неправедными
поступками. А поскольку без воли и участия Бога вообще ничего не происходит,
то и все поступки человека в момент их совершения оказываются
предопределенными волей Бога, и, следовательно, человек, действуя, сам
ничего не решает в своей судьбе, так как за него все извечно предрешил
Бог. Если же предположить, что Бог не все предрешил и кое-что оставил
на произвол человека, то и божественная воля и божественное
могущество окажутся ограниченными. Из этого следует, что и собственная воля
человека — способность делать тот или иной выбор между добром и
злом — зависит от изначальной воли Бога. Человек и пожелать не может
того, что ему не предопределено пожелать. «Потому что, — говорит
Павел, — Бог производит в вас и хотение, и действие по своему
благоволению» (Фил. 2, 13). Что же тогда, — риторически вопрошает рассудок, —
остается от человеческой свободы, принадлежность которой человеку
уподобляет его Богу? Правда, не зная, к чему он предопределен, человек
субъективно действует по своей воле, он ощущает в себе присутствие
этой воли, потребность и необходимость выбора, он обдумывает свой
выбор и, приняв решение, действует на свой страх и риск. Однако
субъективное ощущение свободы — результат незнания человеком своей
полной зависимости от Бога. Если же человек узнаёт об изначальной
предопределенности и своего «хотения», и своего решения, и своего
действия, то колеблется, а потом исчезает и это ощущение свободы. Он все
равно продолжает выбирать и действовать, но осознавая при этом, что
его выбором управляет Бог и что сам Бог через него действует. В таком
случае человек, рассуждающий чисто формально, легко может утратить
чувство ответственности, ведь чтобы он ни выбрал, как бы ни поступил,
все это заранее было предопределено Богом, а значит, иначе он
поступить и не мог. Пусть человек — говорит нам холодный рассудок — хочет
исправиться и стать из неправедного праведным. Но, во-первых, само это
хотение может появиться в нем только как дар благодати, и если Бог
заранее не предрешил этого, то оно никогда и не появится. Во-вторых, да-
244 Моральное сознание античного христианства
же если желание исправиться появилось, для его осуществления нужны
душевные силы, а они — тоже дар благодати, их не будет, если Бог
предопределил им не быть. Наконец, в-третьих, если есть и желание, и сила,
нужно еще и знание, как исправиться, приобретение которого также
зависит от Бога. И вот человеку, чтобы исправиться, остается только
верить, надеяться и любить, т. е. упражнять в себе три кардинальные
христианские добродетели (I Кор. 13, 13). Вера в то, что он предопределен
Богом к спасению, а спасение уготовано праведным, вызывает в нем
желание праведности; надежда на Бога в деле спасения придает ему силы
стать праведным, а любовь к Богу-Спасителю открывает ему путь
праведности, ибо Христос говорит о себе в Евангелии: «Я есмь путь и
истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через меня» (Иоан. 14,
6). Однако и вера, и надежда, и любовь опять же есть не что иное, как дар
благодати. И если человеку Бог не предопределил их получить, то их у
него и не будет. Тогда человек сыграет по заранее установленному
сценарию роль антигероя в этой жизненной драме и, пройдя от начала до
конца путь греха, получит потом за свою неправедную жизнь
заслуженное наказание: вместе с другими «плевелами» будет отделен на
Страшном суде от «пшеницы» праведников и предан вечным мукам. Такова
судьба тех, кто не попал в число избранных Богом. А по какому
принципу — спросит любопытный рассудок — Бог распределяет роли? Почему,
например, именно данному человеку досталась пожизненная роль
антигероя — неисправимого грешника, а кому-то другому — роль героя-
праведника? Справедливо, конечно, наказывать того, кто всегда делал
только зло и даже не пожелал добра. Но только в том случае, если он мог
его пожелать. А мог ли, если он изначально, самим Богом был
предопределен не желать? Столь же справедливо вознаграждать тех, кто всегда
делал только добро и никогда даже не пожелал зла. И опять только в том
случае, если они могли его пожелать. Но ведь не могли, если заранее
были предопределены не желать! Пусть бы хоть то или иное воздаяние
оправдывалось качеством исполнения каждым своей роли. Но ведь тогда
хорошо исполнивший роль даже злодея не противоречил бы воле Бога и
получал бы «заслуженное» вознаграждение, а это безусловно абсурдно.
Таков неутешительный итог автономного применения рассудка к
недоступной для него сфере божественного, приобщение к которой возможно
только через веру.
Почему всё-таки Бог именно этому назначил быть злодеем, а тому
добродетельным? Да потому, что, если бы он изначально поменял того и
другого местами, ничего не изменилось бы. Другой тогда с тем же
основанием задал бы тот же вопрос: а почему я? Изначальное распределение
ролей делается не по предшествующим заслугам, так как абсолютному
началу ничего не предшествовало, а из соображений наилучшей
композиции мира, в котором нужны и праведники, и грешники, ибо праведность
может проявить себя только в борьбе с грехом (Рим. 9, 22-23). Таков,
примерно, смысл знаменитого рассуждения о предпочтении Иеговой
Исаву Иакова, содержащегося в девятой главе «Послания к римлянам»: «Ибо,
когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, —
Моральное сознание античного христианства
245
дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от
Призывающего, — сказано было ей (Ревекке): «больший будет в порабощении у
меньшего» (9, И—12). И далее: «Итак, помилование зависит не от
желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего... Итак, кого
хочет, милует; а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне: «за что же еще
обвиняет? Ибо кто противостанет воле Его?» А ты кто, человек, что
споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: «зачем ты меня так
сделал?» Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси
сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?»
(9, 18-21).
Этой цитатой мы и заключим наш разбор новозаветной этики
смирения и её теологических оснований. Подведём итоги. Изложенная
этика, начавшая свою жизнь вместе с христианской религией, сразу же
противопоставила себя этике господства и самоутверждения, античной
этике свободного гордого человека, который, угождая своей гордыне,
обратил в рабство чуть ли не полмира. Но смирение, к которому призывала
новая этика, само по себе было не слишком вдохновляющей
компенсацией за нескончаемые страдания, испытываемые угнетённым
большинством. Смириться с этим миром без твёрдой надежды на лучшее
будущее, на спасение — это было выше человеческих сил даже в ту
жестокую, утратившую веру в земное человеческое счастье эпоху. И вот,
пришла надежда на спасение! Она пришла вместе с верой в
сверхъестественного Спасителя.
Возникшая христианская религия с помощью своей особой
теологии оправдала смирение и осудила гордость, а поскольку гордость была
этическим идеалом властвующего меньшинства, она оправдала
теологически и морально угнетённое большинство, вернув всем отверженным
мира сего отчужденное от них господствующей идеологией
человеческое достоинство. Все были признаны равными от рождения перед
Богом. Впрочем, к подобному же выводу ещё раньше пришли некоторые
античные философские школы, такие, как школа киников и школа
стоиков, учившие о природном равенстве всех людей. Однако христианство
вовсе не ставило перед собой задачу ликвидировать фактическое
социальное неравенство здесь, на земле. Напротив, оно призывало терпеть
его и смиряться с ним, призывало каждого оставаться в своем статусе.
Терпеть смиренно своё рабство значило подражать Христу, который
явился в мир в облике раба, вынес безропотно все унижения и был
распят как раб. В то же время добровольное «рабство человекам»
осуждалось христианством, ибо по своей природе человек — раб Божий, и
только одному Богу по праву принадлежит не только его тело, но и сама
его душа. Беззаветное служение Господу Богу спасительно для души:
«Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её; а кто потеряет душу
свою ради Меня, тот обретёт её» (Матф. 16, 25).
И все-таки, как это ни парадоксально, новозаветная этика смирения
имела бунтарский, революционный характер. В своих нравственных
установках она ориентировала против существующего несправедливого мира,
она питалась потребностью изменить этот мир, ожиданием грядущего
246 Моральное сознание античного христианства
«переворота вещей», и она действительно имела по отношению к
господствующей этике «перевернутый» характер. Она призывала терпеть, но не
для того, чтобы приспособиться к этому миру, а для того, чтобы развить в
себе способность противостоять его натиску; призывала к смирению, но
не из трусости (вряд ли можно уличить в трусости христианских
мучеников, смиренно шедших на растерзание в амфитеатрах во имя своей веры)
и не затем, чтобы склониться перед мировым злом, а затем, чтобы силой
смирения обуздать это сконцентрированное, по христианским понятиям, в
человеческой гордыне мировое зло, победить его нравственно, духовно;
она призывала любить и прощать даже врагов, но не потому, что вражда
или ненависть признавались ею вполне простительными проявлениями
человеческой слабости, а потому, что утопающий в ненависти мир не
может быть очищен от этой ненависти ничем, кроме одной любви. Это была
мораль усталых и измученных людей, но не таких, которых можно
назвать духовно слабыми, жалкими или конформистами. В них
присутствовала неподдельная нравственная экзальтация, свойственная пророкам,
бунтарям и юродивым; они судили мир без страха и без упрека, но по всей
правде; вера в грядущее спасение и близкое торжество абсолютной
справедливости придавала им силу и судить, и прощать; их мораль была
просто радикальна, хотя холодный рассудок воспринимал её как
парадоксальную. Была ли эта мораль смирения в то же время моралью борьбы?
Да, была. Но в том-то и дело, что эта борьба с самого начала
разыгрывается христианством не в плоскости политики, а в плоскости морали;
отвержение существующего порядка вещей выражается революцией в
сознании. Новозаветная мораль не призывает бороться с существующим
социальным строем, она призывает человека бороться с самим собой. Таким
образом, этика смирения предстает перед нами как этика внутренней
психологической борьбы, как этика самообуздания и самоукрощения.
Поскольку же ее мировоззренческая основа — религиозная и ее высший
нравственный идеал — божественный Абсолют, она легко переходит
также и в этику отречения от мира сего. Именно эти аспекты
христианской этики особенно проявили себя в последующие столетия: в эпоху
патристики и в эпоху Средневековья. Вновь и вновь предпринимавшиеся
попытки раскрыть с помощью рассудочной логики тайну совместимости
человеческой свободы с божественной благодатью привели позднее к
расколу западной Церкви. В Православии эта совместимость была
принята как факт, не подлежащий логическому анализу.
Глава вторая
Этика «Исповеди»
Потребность исповедаться, открыть, излить душу кому-то другому,
чистосердечно признаться в том, что тревожит нас и мучает и, как
говорят, остается на нашей совести; что мы хотели бы скрыть, но больше не в
силах носить в себе, в одиночестве, — это обыкновенная и естественная
потребность человека как существа нравственного и социального. Испо-
Моральное сознание античного христианства
247
ведовались и каялись друг другу люди во все времена. Но обычаем и
правилом, нравственной, а точнее — религиозно-нравственной, нормой и
обязанностью исповедь и покаяние стали только в христианстве. Это
подтверждается и всей историей христианской литературы — как древней,
так и средневековой, в которой исповедальные мотивы играют весьма
существенную роль, наполняя собой произведения самого различного
характера и подчас неожиданно врываясь в самые отвлеченные философ-
ско-теологические рассуждения. Классическим образцом литературной
исповеди, положившим начало «исповеди» как особому жанру, явилась
«Исповедь» Августина, отца западной христианской церкви, крупнейшего
ее теолога, философа и моралиста. Хотя это сочинение было создано в
эпоху патристики (около 400 г.) и запечатлело в себе прежде всего
духовную ситуацию и идейные искания того времени, тем не менее в силу
отмеченного нами в другом месте2 своеобразия средневекового сознания
авторитет «Исповеди», как и других творений Августина, был в Средние
века необычайно высок, можно даже сказать, незыблем, так что
изложенное здесь нравственно-психологическое учение оказалось для
западноевропейского Средневековья в известном смысле нормативным, во многом
определившим характер и проблемы схоластической этики.
Из тринадцати книг «Исповеди» к этике имеют непосредственное
отношение первые десять, последние три относятся больше к теологии,
хотя одиннадцатая книга замечательна также и в чисто философском
плане: в ней излагается знаменитая августиновская теория времени. Впрочем,
все книги «Исповеди» проникнуты религиозным духом, пересыпаны
молитвенными обращениями к Богу, насыщены скрытыми и явными
цитатами из Библии, наполнены рассуждениями о Боге и Его неисповедимом
Промысле, о Его спасительной благодати и безграничном милосердии.
Как следует из его собственных признаний, свою исповедь Августин
предназначает Богу и людям, но по существу, он исповедуется не столько
ради людей, сколько ради самого себя, больше всего он занят своим
«личным» отношением с Богом и своим спасением.
Содержание «Исповеди» как бы укладывается в форму эллипса с
двумя фокусами (центрами), в одном из которых помещается «Бог», а в
другом авустиновское «я»; теоцентризм в «Исповеди» сочетается с
эгоцентризмом. Причиной теоцентризма является, конечно, глубокая и
искренняя религиозность Августина. А какова причина такого
эгоцентризма? Может быть, она заключена в характере автора «Исповеди»? Но
возможно, она — в особенностях жанра. Ведь исповедь предполагает
самоанализ, самораскрытие, самоуглубление. К тому же это — религиозная
исповедь, имеющая своим прямым назначением «очищение»
индивидуальной души для последующего общения с Богом. И наконец, хотя
«Исповедь» — произведение вполне оригинальное, в нем все же чувствуется
влияние другого, тысячелетием ранее написанного, религиозного
произведения, а именно «Псалмов Давида», в которых так же, как и у Августи-
2 См.: Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии (латинская
патристика). М.: Мысль, 1979. С. 3-22.
248
Моральное сознание античного христианства
на, человек исповедуется Богу, пытается понять Его, славит Его, кается в
грехах и ищет в Боге свое спасение. «Исповедь» напоминает
ветхозаветные «Псалмы» и своей блестящей художественной формой,
вдохновенностью и выразительностью языка, поэтичностью, а главное, некоторыми
центральными религиозно-этическими идеями. Такова, например, идея
богоизбранности самой личности автора, служащая лейтмотивом как
«Псалмов», так и «Исповеди».
Обозревая историю своей жизни, Августин приходит к выводу, что
все события, с ним произошедшие, происходили по изначальному
божественному плану, в котором ему была заранее уготована роль
спасаемого Богом грешника. Чтобы ни совершал, чтобы ни замышлял Августин,
как бы далеко ни отклонялся от праведного пути, Бог всегда и все
обращал ему на пользу. За грехи он его наказывал, но так, чтобы сами
естественно проистекающие из греха последствия постепенно отбивали у
него охоту грешить. Бог оставлял ему свободу и муку выбора (для
Августина, человека крайне эмоционального и в то же время очень
разностороннего, выбор всегда был мучителен), но если даже тот избирал
худшее, это худшее оказывалось потом необходимым элементом
восхождения к лучшему. Избрав его к спасению не но заслугам, а даром, в силу
«преизбытка своей благодати», Бог вел его по жизни так, чтобы, с одной
стороны, он, даже не понимая этого и часто желая совсем иного, все-
таки шел к намеченной Божественным Провидением цели, а с другой
стороны, чтобы он получил предназначенную ему награду (спасение)
заслуженно, достаточно потрудившись на этом пути: перестрадав,
победив в себе многочисленные соблазны и искушения, преобразовав свою
волю, оторвав свою любовь от мирских радостей и принеся ее в жертву
Богу. Именно таким смыслом наполняет Августин в «Исповеди»
историю своей предшествующей жизни от рождения до окончательного
обращения в христианство. Вся эта история, подобно описанной
Августином позднее истории «двух градов», предстает как непрерывная борьба
добра и зла, но в данном случае — борьба внутренняя, психологическая,
борьба с самим собой, происходящая под руководством Провидения. В
«Граде божьем» он стремился обосновать провиденциализм как
принцип общественной истории, в «Исповеди» он хотел обосновать его как
принцип жизни отдельной личности.
Внешняя биография Августина в «Исповеди» выглядит так. Родился
он в 354 г. в североафриканском городе Тагасте в семье небогатого
римского гражданина Патриция, который был язычником и только перед
смертью под влиянием своей жены принял христианство. Мать Августина
Моника, ревностная христианка, позднее канонизированная святая, с
самого момента рождения сына заботилась о его религиозности, хотя и не
стесняла в этом деле его свободу. По ее желанию Августин еще
младенцем был причислен к церковной общине (через обряд «оглашения»), хотя
его крещение по обычаю того времени было отложено до сознательного
возраста. Будучи только «оглашенным», катехуменом, Августин мог не
считать себя слишком связанным с церковью. До тридцатилетнего
возраста он и вел вполне независимый светский образ жизни. Получив сперва
Моральное сознание античного христианства
249
начальное, а потом высшее (риторическое) образование, Августин стал
преподавателем риторики в Карфагене. Здесь же он впервые сошелся с
манихеями, околохристианской сектой, распространившейся в это время
по всей Римской империи. В возрасте около двадцати девяти лет
Августин переезжает в Рим, где также некоторое время преподает риторику в
основном в среде тех же манихеев. По протекции префекта Рима,
образованнейшего человека и лидера языческой партии в сенате Квинта Симма-
ха Августин за свои заслуги в риторическом искусстве посылается ко
двору императора Валентиниана II в Медиолан (Милан), чтобы
возглавить придворную школу риторики. Здесь, в Милане, занимаясь
преподаванием, он углубляется в философию и науки, окончательно рвет с
манихейством (разочарование в манихействе началось у него еще в Карфагене
после встречи с одним из «начальников» и «святых» этой секты Фавстом),
слушает проповеди епископа и теолога Амвросия, изучает Священное
Писание и, наконец, обращается в христианство и принимает крещение. В
промежутке между актом духовного обращения и крещения оставляет
риторскую школу и поселяется вместе с несколькими родственниками,
друзьями, сыном и матерью на вилле своего покровителя Верекунда, где
сочиняет несколько религиозно-философских трактатов. После крещения
принимает со своими спутниками решение отказаться от светской жизни
и вернуться на родину, в Африку, чтобы целиком посвятить себя
служению церкви. По пути в Африку останавливается в гавани Рима, городе
Остии, и здесь умирает его мать Моника, с которой за несколько дней до
ее смерти у него происходит таинственная беседа о Боге и загробной
жизни. Кратким, но очень проникновенным жизнеописанием Моники
Августин и заканчивает биографическую часть «Исповеди».
Однако «Исповедь» — не просто автобиография. Главное в ней — те
размышления, которые вызывают в душе Августина воспоминания о
событиях прошлого: ретроспективный анализ собственной души,
перерастающий в углубленное философское исследование вообще человеческой
природы и человеческого предназначения, сосредоточенный на
важнейших моральных проблемах и в то же время нацеленный на решение чисто
религиозной задачи — задачи «спасения души».
С первых и до последних страниц своего сочинения Августин не
перестает размышлять о том, что такое человеческое счастье и какими
путями оно достигается. Августиновская этика — это своеобразный
христианский эвдемонизм. Его отличие от эвдемонизма античного в
том, что, хотя стремление к счастью и понимается здесь как основной
стимул поведения человека, само счастье мыслится как нечто
трансцендентное, находящееся за пределами этой жизни и не достижимое
собственными силами человека. Августин полностью разделяет свойственное
всей античности представление о счастье как обладании высшим
благом. Но античность еще во времена Варрона (I в. до н. э.) знала не менее
двух десятков отличных друг от друга философских трактовок «высшего
блага», среди них были и такие, которые отождествляли его с «богом».
В древнем христианстве при всем многообразии позиций по другим
вопросам вопрос о человеческом благе решался всегда однозначно: вые-
250 Моральное сознание античного христианства
шее благо — это Бог, а для человека — любовь к Богу, уподобление
Богу, единство с Ним, каковое в полной мере может быть достигнуто
только в посмертном существовании.
Августин пишет свою «Исповедь», будучи уже глубоко убежденным
христианином. Вопрос о высшем благе для него уже решен. И вот теперь
он совершенно искренне, привлекая все известные ему логические и
риторические средства, весь свой духовный опыт, старается на примере
собственной жизни доказать себе и другим, что у человека нет блага без Бога
и что естественная потребность человека в счастье, проявляющаяся в
постоянном беспокойстве и метаниях души, не может быть удовлетворена
призрачными и преходящими благами этого мира, ибо человек, даже
когда сам того не подозревает, хочет счастья не временного, а вечного,
которое он может обрести только в Боге. В молитвенном обращении к Богу,
начинающем «Исповедь», Августин восклицает: «Ты создал нас для Себя,
и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе» (1,1,1).
Нелегко дается Августину это убеждение. Он слишком
наблюдателен, слишком чувствителен, слишком привязчив, чтобы, не колеблясь,
отвергнуть даже во имя бессмертия смертную красоту этого мира,
привлекательность временных земных благ, очарование чувственной любви и
бескорыстной дружбы. Об этом говорят, например, такие его признания:
«Есть своя прелесть в красивых предметах, в золоте, серебре и прочем;
только взаимная приязнь делает приятным телесное прикосновение;
каждому чувству говорят воспринимаемые им особенности предметов. В
земных почестях, в праве распоряжаться и стоять во главе есть своя красота;
она заставляет и раба жадно стремиться к свободе... Жизнь, которой мы
живем здесь, имеет свое очарование: в ней есть некое свое благолепие,
соответствующее всей земной красоте. Сладостна людская дружба,
связывающая милыми узами многих в одно. Ради всего этого человек и
позволяет себе грешить и в неумеренной склонности к таким, низшим,
благам покидает Лучшее и Наивысшее...» (II, 5, 10).
Августин не отрицает, что все эти блага действительно несут людям
радость, более прочную — если это блага внутренние и духовные, менее
прочную — если они внешние и телесные, сиюминутную — если мнимые.
Однако и мнимые блага, под видом которых обычно скрываются зло и
пороки, влекут к себе именно потому, что представляются благами
истинными. Одним словом, общим правилом человеческого поведения является
стремление к благу, от которого ожидается радость и счастье. Вот почему,
когда речь идет о причине совершенного преступления, она
представляется вероятной только в том случае, если мы находим у преступника или
желание достичь для себя какое-либо из земных благ, или же страх
потерять его. «Он убил человека. Почему? Он влюбился в его жену или ему
понравилось его имение; он хотел его ограбить, чтобы на это жить; он
боялся, что тот нанесет ему крупные потери; он был обижен и горел
желанием отомстить. Разве совершил бы человек убийство без причины, из
наслаждения самим убийством? Кто этому поверит?» (II, 5,11).
Даже в своих очевидных душевных пороках, полагает Августин,
люди, одержимые ненасытным стремлением к благу, стараются усмотреть
Моральное сознание античного христианства
251
какое-то благообразие, и никто не любит порок ради него самого:
гордость «прикидывается высотой души», честолюбие оправдывается
благами почета и славы, жестокость — желанием внушить уважение с
помощью страха, похотливость — желанием ответной любви, любопытство
принимает вид любознательности, «невежество и глупость прикрываются
именами простоты и невинности», лень представляется желанием покоя,
роскошь называет себя удовлетворенностью и достатком,
расточительность — щедростью, скупость — бережливостью, зависть оправдывает
себя желанием превосходства, гнев — потребностью в справедливой
мести, страх, «боясь необычной и внезапной беды, заранее старается
обеспечить безопасность тому, что любит» (II, 6, 13).
Привязанность к земным благам делает людей несчастными, когда
они их утрачивают. Причем в силу господствующей перевернутой, как
считает Августин, системы человеческих ценностей «блага жизни стоят
тем меньше слез, чем больше о них плачут, и стоят тем больше слез, чем
меньше о них плачут» (X, 1,1).
И здесь он во многом прав, особенно если речь идет о людях
порочных. Честолюбец больше всего страдает, когда его лишают почестей,
стяжатель — богатства, развратник — любовных утех, деспот — власти.
Нередко смерть для них предпочтительнее подобных «лишений». И почти
никто не чувствует себя несчастным, когда он теряет свои
действительные блага — достоинства души. Мало кто, становясь менее щедрым,
менее воздержанным, менее скромным и добрым, признает себя от этого
более несчастным и утрачивает вкус к жизни. Люди больше переживают
потерю близкого человека, пусть даже ничем не примечательного, нежели
потерю великого человека, если тот им не был близок. А дети рыдают,
когда у них отнимут любимую игрушку, и в то же время спокойно
переносят болезнь, а часто и смерть родственников. Такова человеческая
психология. Мы больше дорожим тем, что любим, а любим часто не по
достоинству, а по прихоти, сообразуясь не с разумом и естественным
порядком ценностей, а с инстинктом и привычкой.
Тема любви не сходит со страниц «Исповеди». И этому есть свои
причины. Первая из них та, что Августин хочет понять себя и свое
поведение на разных этапах своей жизни, а то, что мы в данный момент
любим, и есть мы сами. Вторая причина заключается в особенностях его
темперамента: ничто не доставило ему в жизни больше хлопот, чем его
страстная потребность в земной любви, которую он часто несправедливо
по отношению к самому себе квалифицирует просто как «похоть плоти».
Наделенный от природы редкостной чувствительностью,
эмоциональностью и в то же время могучей волей и очень сильным трезвым
рассудком, Августин постоянно испытывал на себе не только позитивные, но
и, так сказать, негативные следствия такой многоплановой одаренности.
Он легко увлекался тем, к чему питал интерес и отдавал все свои чувства
тому, что его увлекало. Противодействие своим привязанностям и утрату
предметов любви он глубоко переживал, испытывая невероятные
душевные муки. Вся «Исповедь», можно сказать, полита его слезами. В детстве
он лил горькие слезы и впадал в отчаяние, когда его отрывали от люби-
252
Моральное сознание античного христианства
мых игр и заставляли, наказывая побоями за непослушание, учиться
грамоте. Это было насилие над его волей и над его любовью, которое
отзывалось в детской душе Августина тайной болью и страданием, так что
спустя сорок лет, давно уже будучи «смиренным» служителем церкви,
Августин вспоминает об этой поре своей жизни с каким-то ужасом и
говорит, что вряд ли нашелся бы человек, не пожелавший предпочесть
повторению своего детства даже смерть.
Позднее с такой же неподдельной страстью и ревностью Августин
предается поэзии, театру, риторике, философии, религии. Он проходит
через все соблазны жизни, испытывая на собственном опыте истинную
цену земным благам. Он ищет в них наслаждения, а среди наслаждений
ищет самых сильных. В хаотическом процессе этих поисков он в
шестнадцатилетнем возрасте открывает в себе свою самую деспотическую
страсть — страсть половой любви. Во второй книге «Исповеди» читаем:
«Что же доставляло мне наслаждение как не любить и быть любимым?
Только душа моя, тянувшаяся к другой душе, не умела соблюсти меру,
остановясь на светлом рубеже дружбы; туман поднимался из болота
плотских желаний и бившей ключом возмужалости, затуманивал и помрачал
сердце мое, и за мглою похоти уже не различался ясный свет
привязанности. Обе кипели, сливаясь вместе, увлекали неокрепшего юношу по
крутизнам страстей и погружали его в бездну пороков» (II, 2, 2). Все это
случилось еще в Тагасте или же в Мадавре, где начинались его образование и
опыт жизни. Уже тогда, как он пишет, «колючая чаща моих похотей
разрослась выше головы моей; не было руки выкорчевать ее» (II, 3,6).
Упрекнув родителей и воспитателей, что они тогда не удержали его
«своей рукой» от увлечения любовными наслаждениями, Августин делает
одно тонкое замечание, касающееся, так сказать, социологии морали.
Наши пороки нередко укрепляются и подхлестываются стихийным
общественным мнением. В детстве и юности это чаще всего мнение сверстников.
Мы любим или вынуждены делать вид, что любим, то же, что и они,
иначе оказываемся в изоляции. Отроческие представления о мужестве, хотя
все подростки хотят выглядеть «мужами», не совпадают обычно с
настоящим понятием мужества и в одном из своих проявлений сводятся к
«успеху» у девушек, к «неотразимости» в половой любви. Столь же
превратны представления этого возраста о других проявлениях мужества,
каковое смешивается с наглостью, грубостью, жестокостью,
авантюризмом, прочими пороками. Шокирующая сила этих пороков как раз и
принимается за выражение «мужской» силы, мужества, на которое в
действительности сами подростки редко бывают способны. Вот что рассказывает
нам Августин: «...мне стыдно было перед сверстниками своей малой
порочности. Я слушал их хвастовство своими преступлениями; чем эти
преступления были мерзостнее, тем больше мои сверстники хвастались
собой. Мне и распутничать нравилось не только из любви к распутству, но и
из тщеславия. Не порок ли заслуживает порицания? А я, боясь порицания,
становился порочнее, и если не было проступка, в котором мог бы я
сравняться с другими негодяями, то я сочинял, что мною сделано то, чего я в
Моральное сознание античного христианства
253
действительности не делал, лишь бы меня не презирали за мою
невинность и не ставили бы ни в грош за мое целомудрие» (И, 3, 7).
О губительном воздействии на личность превратного общественного
мнения Августин говорит и в других местах своего сочинения. Так, он
отмечает, что уже в самом начале его сознательной жизни общественное
мнение (тогда в лице родителей и учителей) осадило его призраками
обманчивого богатства, суетной славы и сомнительного почета; оно
рукоплескало ему, когда он в ходе обучения выказывал способности со
временем достигнуть всего этого (например, овладеть красноречием и
науками), оно приветствовало его криками одобрения, когда он загорался
любовью к тому, что любят все, независимо от его нравственной ценности, и
внушало ему при этом, «чтобы человек стыдился, если он ведет себя не
так, как все» (I, 13, 21). Как когда-то его идейный вдохновитель Цицерон,
Августин ненавидит толпу. Она, носитель худого общественного мнения,
возбуждает, пестует, вскармливает едва ли не все человеческие пороки, а
взрастив их, ликует и торжествует, словно бы имея единственной своей
целью развращение и разрушение личности. Есть порочные страсти,
которые проявляют себя только в толпе и перед толпой.
Августин описывает состояние своего друга Алипия, человека по
природе в высшей степени добродушного и смирного, когда он попал на
гладиаторские игры. Толпа зрителей, хотя и не сразу, все же заразила его
своей кровожадностью настолько, что он неожиданно для себя вскоре
стал упиваться зрелищем истекающего кровью гладиатора, с нетерпением
стал ждать новых представлений в амфитеатре и даже соблазнять к этому
других, чтобы окруженному толпой новых любителей кровопролитий
получать еще большее наслаждение в коллективном экстазе (VI, 8, 13).
Другой случай: толпа совращает человека на коллективное преступление,
которое иногда совершается им не ради какой-то личной корысти, а
только ради солидарности с соучастниками, ради того, чтобы угодить толпе и
испить вместе с ней чашу преступного наслаждения. В одиночку,
полагает Августин, преступления ради преступления никто совершать не будет.
Именно в таком смысле истолковывает он свою детскую историю с
воровством плодов из соседского сада, выводя из этой типичной и почти
невинной истории целую концепцию порочности человеческой души. Он
кается здесь, что наслаждение, которое он искал в этом воровстве, было
для него не в украденных плодах, «оно было в самом преступлении и
создавалось сообществом вместе грешивших» (И, 8, 16). Это была «жажда
вредить на смех и забаву», «стремление к чужому убытку без погони за
собственной выгодой, без всякой жажды отомстить, а просто потому, что
говорят: «пойдем, сделаем, и стыдно не быть бесстыдным» (И, 9, 17). Так
толпа учила его любить и то, что ему следовало бы ненавидеть.
Как бы там ни было, в первый период своей молодости Августин
жил в основном по уставам толпы и по инстинктам своей природы.
Вспоминая о девяти годах (с 19 до 28 лет) своей жизни в Карфагене, он
опять возвращается к теме любви. Он говорит, что «любил любить» и,
никогда не удовлетворенный в этой своей потребности, постоянно искал,
что бы ему полюбить, и подобные поиски снова и снова приводили его к
254 Моральное сознание античного христианства
любви плотской: «Любить и быть любимым было мне сладостнее, если я
мог овладеть возлюбленной. Я мутил источник дружбы грязью похоти; я
туманил ее блеск адским дыханием желания» (III, 1, 1). Но плотская
любовь очень скоро обнажила перед ним свою горестную изнанку: «Я был
любим, я тайком пробирался в тюрьму наслаждения, весело надевал на
себя путы горестей, чтобы секли меня своими раскаленными железными
розгами ревность, подозрения, страхи, гнев и ссоры» (Там же). Может
быть, это и побудило его несколько упорядочить свою чувственную
любовь и сосредоточить ее на одной только женщине, которую он выбрал
себе в сожительницы, а не в жены, так как она, по-видимому, не могла
стать его законной женой из-за своего низкого социального положения.
О самой этой женщине, прожившей с ним в любовном союзе почти
десяток лет, Августин ничего не говорит и даже не называет ее имени; зато
он достаточно говорит о своей любви к ней и о тех страданиях, которые
он испытал, когда был вынужден с ней расстаться, уже будучи в Италии.
Отказавшись по настоянию матери от своей наложницы ради
предстоявшего законного брака и отправив ее назад в Африку, он, «раб похоти», не
дождался женитьбы и заменил на время ту сожительницу другой.
Однако, говорит он, душа его болела по той: «Не заживала рана моя,
нанесенная разрывом с первой сожительницей моей: жгучая и острая боль
прошла, но рана загноилась и продолжала болеть тупо и безнадежно» (VI,
15, 25). Это было, вероятно, сильнейшее, хотя и не последнее испытание
его плотской воли. Освобождение от длительной и постоянной
чувственной привязанности открыло ему доступ к иным, более духовным
радостям. Но его чувственность, как можно судить по содержанию
последующих книг «Исповеди», от этого отнюдь не угасла и продолжала
беспокоить Августина даже тогда, когда он, став епископом, казалось бы,
надежно укрылся от ее соблазнов щитом религиозной веры и служения.
Называя три главных искушения, которым он остается подверженным и в
новом своем состоянии благочестивого церковнослужителя, он особенно
сетует на «похоть плоти», постоянно подкрадывающуюся к нему, если не
наяву, то во сне (X, 30,41). Другие два искушения — это «похоть очей» и
«гордость житейская»; вместе с первым они составляют, согласно
Августину, следующему здесь духу и букве «Первого Послания апостола
Иоанна» (2, 16), три основных проявления извращенной любви, три
патологические и в то же время общечеловеческие страсти, отвлекающие
человека от пути добра и склоняющие его ко злу. В трактовке Августина они
предстают как любовь к чувственным удовольствиям, любовь к суетному
знанию и неумеренная любовь к самому себе. Десятая книга «Исповеди»,
в значительной своей части посвященная анализу указанных форм
извращенной любви, может считаться ключом к раскрытию всей августи-
новской этики.
Как видно из этой книги, «похоть плоти» понимается Августином
намного шире, чем просто бесконтрольное сексуальное влечение
(«распутная тревога»), которое он в себе особенно осуждает и считает
искушением, наиболее трудно преодолимым, поскольку с ним связано самое
сильное из чувственных наслаждений. К разновидностям плотской похоти
Моральное сознание античного христианства
255
он относит также влечение к наслаждению пищей и вином, к
наслаждению запахами, звуками, красками и формами. Когда подобные
наслаждения становятся самоцелью, возникают соответствующие душевные
пороки: сластолюбие, пьянство, чревоугодие и другие, для которых нет даже
подходящего названия. Если же половое чувство не цель, а только
средство продолжения рода, если вкус только средство утоления голода и
жажды, если обоняние, осязание, слух и зрение служат только для
необходимого человеку распознавания стоящих за ними вещей и не превращаются
в самостоятельный источник наслаждения вроде «удовольствия от
щекотки», тогда человек пользуется своими чувствами вполне нормально и
«морально», не сбиваясь на путь порока. Но где та грань, спрашивает себя
Августин, которая отделяет необходимое применение чувств от
извращенного? Ведь простейшее и самое естественное удовлетворение
полового чувства или чувства голода (да и любого другого) обязательно
сопровождается удовольствием. Как отличить это удовольствие от наслаждения
самим этим удовольствием?
Пытаясь разобраться в этом вопросе, Августин пишет:
«Поддержание здоровья — вот причина, почему мы едим и пьем, но к ней
присоединяется удовольствие — спутник опасный, который часто пытается зайти
вперед, чтобы ради него делалось то, что, судя по моим словам и
желанию, я делаю ради здоровья. У обоих, однако, мера не одна: того, что для
здоровья достаточно, наслаждению мало. Часто трудно определить, что
здесь: необходимая ли пока забота о теле и помощь ему или прислужива-
нье обманам прихотливой чувственности. Этой неопределенностью
веселится несчастная душа, рассчитывая на нее как на извинение и защиту;
она радуется, что не видит меры потребного здоровью и ссылкой на
здоровье прикрывает службу чревоугодию» (X, 31, 44). В общем, у
Августина получается, что, когда имеешь дело с чувствами, удержаться на грани
необходимого не так-то просто. Он и сам жалуется, что при всем своем
желании никак не может освободиться ни от одного из чувственных
искушений, разве только от соблазна запахов, но и здесь он не вполне
уверен, ибо не знает достаточно, что таит в себе его душа: «Вот они, эти
горестные потемки, в которых скрыты от меня возможности, живущие во
мне; душа моя, спрашивая себя о своих силах, знает, что не стоит себе
доверять: то, что в ней есть, обычно скрыто и обнаруживается только
опытом. В этой жизни, которая называется «сплошным искушением»,
никто не может быть спокоен за себя: если он мог стать из плохого
хорошим, это еще не значит, что он не станет из хорошего плохим» (X, 32,48).
Говоря об искушениях слуха, Августин признается, что подвластен
очарованию музыкального пения, хотя убежден, что не музыка псалмов
(речь идет о вошедшем тогда в обычай пении псалмов в церкви), а их
содержание должно вызывать в праведной душе наслаждение. Впрочем, он
склоняется к тому, что пение псалмов полезно для церкви, так как душа
слабая, «упиваясь звуками, воспрянет, исполняясь благочестия» (X, 33,
50). Августин, как всегда, практичен: для пользы церкви не грешно
пожертвовать кое-чем в теории.
256 Моральное сознание античного христианства
Последний вид плотского искушения — соблазны зрения,
сопровождающие жизнь человека в отличие от других соблазнов почти
непрерывно, за исключением периодов сна. Прельщает прекрасное зрелище
этого физического мира, расцвеченного благодаря солнечному свету
приятными красками и наполненного благообразными формами.
Прельщает и то, что добавлено к красоте природы и людским трудом:
произведения ремесел и искусств, вся эта «одежда, обувь, посуда и
всяческая утварь, картины и другие изображения» (Августин почему-то не
называет среди прочего архитектуру, может быть, по причине ее упадка
в это время). Однако, по мнению христианского философа, ни красота
мира, ни тем более красота человеческих произведений не должны
становиться предметом самоцельного наслаждения. Даже свет солнца,
позволяющий нам все это видеть, без которого душа тоскует и омрачается,
не заслуживает сам по себе нашей радости. Ибо за этим светом и за этим
миром стоит иной, духовный, свет, изливающийся от Бога, создателя и
устроителя этого мира, а свет солнца и свет всей земной красоты, взятый
сам по себе, только «приправляет своей соблазнительной и опасной
прелестью мирскую жизнь слепым ее любителям». (X, 34, 52). Что же
касается произведений рук человеческих, то и они лишь постольку
прекрасны, поскольку в них присутствуют следы идеальной красоты,
заключенной в Боге, так как «искусные руки узнают о красивом у души, а его
источник — та Красота, которая превыше души... Мастера и любители
красивых вещей от нее взяли мерило для оценки вещей, но не взяли
мерила для пользования ими» (X, 34, 53).
Здесь Августин воспроизводит хорошо знакомую ему эстетическую
концепцию неоплатоников, но он добавляет к ней и нечто христианское,
когда говорит, что увлечение искусственной красотой «ушло далеко за
пределы умеренных потребностей и в домашнем быту и в церковном
обиходе» (Там же). Отношение к миру, которое он проповедует, еще более
аскетическое, чем у неоплатоников: ничто не должно привлекать нас в
этом мире настолько, чтобы хоть на миг отвлечь наше внимание от нашей
души и Бога. В таком случае искушения зрения действительно опасны,
ведь надо быть совершенно бесчувственным, чтобы остаться
равнодушным к красоте окружающей человека природы. Августин таким, к
счастью, не был, как бы он к этому ни стремился. Свидетельством тому его
собственное признание: «Стою перед этой красотой, словно ноги у меня
спутаны» (Там же). Трудно воспитать в себе презрение к миру — а такую
именно задачу ставило перед собой средневековое сознание от Августина
до Петрарки, — когда этот мир непрерывно соблазняет своими усладами
все пять человеческих чувств, которые и служат как раз для того, чтобы
связать и согласовать человека с миром, чтобы через разнообразные
восприятия мира человек получал удовлетворение и от своего действия, и от
познавания.
Однако сама способность познавать с помощью чувств, согласно
Августину, становится для человека источником уже другого рода
искушения, во много раз, как он считает, более опасного, чем все плотские
вожделения: это искушение суетным знанием, «пустое и жадное любопытст-
Моральное сознание античного христианства 257
во», которое «рядится в одежду знания и науки», страсть к исследованию
окружающего мира, символизируемая словосочетанием «похоть очей». В
отличие от «похоти плоти», которая приманивает ожидаемыми
чувственными удовольствиями, любопытство искушает и тогда, когда предмет его
не сулит никаких радостей, лишь бы он стал известен и тем самым
прекратился зуд беспокойства от его незнания. Человек плохо переносит
состояние неизвестности и постоянно жаждет новизны. «Эта же болезнь
любопытства, — пишет Августин, — заставляет показывать на зрелищах
разные диковины. Отсюда и желание рыться в тайнах природы, нам
недоступных; знание их не принесет никакой пользы, но люди хотят узнать
их только, чтобы узнать. Отсюда, в целях той же извращенной науки,
ищут знания с помощью магии. Отсюда даже в религии желание испытать
Бога: от Него требуют знамений и чудес не в целях спасения, а только
чтобы узнать их» (X, 35, 55).
Но почему же Августин считает искушение знанием намного более
опасным, чем «похоть плоти», которая отняла у него столько сил и
времени и все-таки так и осталась до конца не побежденной? Не потому ли, что
он был по своей природе философом и аналитиком и любовь к знанию
всегда превышала в нем любовь к чувственным наслаждениям, как бы
сильно они его ни увлекали? Об этом свидетельствует вся «Исповедь».
Девятнадцатилетним юношей он испытал первое глубокое преображение
своей души от чтения цицероновского «Гортензия», книги, которая
прославляла философию и побуждала искать истину как высшую ценность
человеческой жизни. Эта книга, признается Августин, зажгла в нем не
угасавшую больше никогда страсть к мудрости, вдохновила его «любить
ее, искать, добиваться, овладевать ею и крепко прильнуть к ней» (III, 4, 8).
С того момента и вплоть до обращения в христианство Августин не
переставал искать истину и мудрость в мире окружающих вещей, а потом под
влиянием неоплатоников и в самом себе, осваивая на этом пути
практически все существовавшие в его время светские науки и философские
теории, а также все то, от чего он потом отрекся и осудил как псевдонауку и
ложную религию: астрологию, естественную магию и учение манихеев. И
можно без преувеличения сказать, что Августин стал крупнейшим
ученым и философом своего времени. Он причастился к учености всеми
сторонами своей личности, и оторваться от нее ему было нелегко. Но его
идеалом была все-таки не наука, а мудрость, понимаемая нравственно-
религиозно, как знание высшего блага и пути спасения. Поэтому его
ученые изыскания почти всегда были подчинены другой задаче — поискам
истинной религии, каковую он и нашел в конце концов в христианстве.
Однако победить в себе «грех ученой любознательности» Августину так и
не удалось. В «Исповеди» он бичует себя за самоцельное увлечение
науками в юности, говорит о том, что «проповедовать мирское знание даже
хорошо тебе известное, дело суетное» (V, 5, 8), и что сами по себе
научные исследования, если они не направляются высокой нравственной
идеей, не ведут человечество к счастью (и здесь он, конечно, прав); и в то же
время он признает, что научное знание есть некоторое благо, которым
только нужно уметь правильно пользоваться (IV, 14, 30), находит в нем
258 Моральное сознание античного христианства
«много истинного» и явно предпочитает научно-рациональное объяснение
мира его мифологическим изображениям (V, 3, 5). Сколько раз до своего
обращения Августин хотел и не мог принять христианское учение только
потому, что оно, особенно в космогонии, не удовлетворяло его
рациональным и научным критериям! И принял он его только тогда, когда
научился библейскую космогонию толковать иносказательно, изыскивая в
каждом ее слове и образе непротиворечащий разуму, хотя и очень
далекий от буквального понимания, смысл. И конечно, не случайно последние
три книги «Исповеди» содержат такой иносказательный комментарий к
Библии: Августин хочет доказать здесь себе и другим, что царящий в его
душе разлад между требованиями разума и волей к вере (самая сильная и
раздирающая антиномия его личности!) может быть преодолен.
Рационализации христианского учения посвятил он едва ли не большую часть
своих произведений. Так, во многом благодаря именно Августину
возникла своеобразная «рациональная теология», на которую и опиралась
потом средневековая схоластика.
И тем не менее Августин не одобрял увлечение наукой, если оно не
служит религиозным целям и не сочетается с верой в Бога. Он говорил,
обращаясь к Богу: «Несчастен человек, который, зная все, не знает Тебя;
блажен, кто знает Тебя, даже если не знает ничего другого» (V, 4, 7). В
августиновской системе ценностей наука занимала весьма высокое место,
но не более высокое, чем религия. В ранних сочинениях, хотя и
написанных уже после обращения, аподиктическое, т. е. основанное на
логической необходимости, научное знание (например, истины математики)
даже отождествляется Августином со «светом божественного разума».
Позднее, в фундаментальном богословском трактате «О Троице» он для
рационального истолкования проблемы божественного триединства будет
виртуозно использовать диалектику, психологию, антропологию,
биологию и другие науки. Но он будет использовать их только как средство —
так, как он учит пользоваться наукой в своем программном сочинении «О
христианской учености», где и математика, и астрономия, и биология, и
история, и языкознание, и остальные науки признаются делом нужным и
достойным, поскольку они помогают уяснению смысла Священного
писания и христианской проповеди. Выше науки как «мирского знания» он
ставит мудрость как знание божественного, соединенное с благочестием.
Мудрость понимается им в Духе античности и Средневековья как
категория прежде всего нравственная, означающая знание, ведущее к спасению
и счастью. Поэтому у него мудрость — цель, наука — только средство.
Однако ни сам Августин, ни кто-либо другой из крупных средневековых
христианских философов не выдерживают последовательно этого
соотношения, и научные проблемы часто увлекают их сами по себе, становясь
самоцелью. Тогда они, как Августин, нередко каются и обвиняют себя в
грехе суетной любознательности, «похоти очей».
Третий и самый коварный род искушений из тех, которые
испытывает человек в земной жизни, — это, по Августину, искушения себялюбия,
«гордость житейская». Они подстерегают и подстрекают человека
повсюду и всегда, ибо нет ему ничего ближе и дороже, чем собственное «я».
Моральное сознание античного христианства
259
Проявления гордости или «гордыни» многообразны. Августин относит
сюда; «страсть оправдывать себя»; радость от того, что тебя любят и
боятся другие, и связанная с ней любовь к похвалам и суетной славе, т. е.
тщеславие; самовлюбленность, т. е. когда человек нравится самому себе,
даже если никому другому не нравится. Всего этого Августин касается
лишь слегка, задерживаясь только на грехе тщеславия. Интересна его
мысль о психологической и нравственной силе «языка человеческого», а
также следующее рассуждение о любви к похвале: «Она искушает меня,
когда я изобличаю ее в себе, тем самым, что я ее изобличаю: часто
презрением к пустой славе прикрывается еще более пустая похвальба; нечего
хвалиться презрением к славе: ее не презирают, если презрением к ней
хвалятся» (X, 38,63).
Таким образом, презрение к плотским (чувственным)
удовольствиям, презрение к суетному (мирскому) знанию и презрение к людской
славе должны, согласно Августину, вместе взятые, составить отповедь
праведной души соблазнам этого мира. Заметим, что такой могущественный
соблазн, как материальное богатство, он не относит к числу кардинальных
искушений, полагая, что к обогащению люди стремятся не ради него
самого, а ради удовлетворения трех основных похотей: похоти плоти,
похоти очей и гордости житейской (X, 37, 60).
У читателей древнехристианской и всей средневековой этической
литературы невольно возникает вопрос: как в рамках религиозного сознания
можно было оправдать эту аскетическую и в каком-то смысле
противоестественную идеологическую установку на презрение к миру, если мир в
рамках той же идеологии мыслился как творение благого, совершеннейшего
Бога? Ответ на этот вопрос мы находим в «Исповеди» Августина.
По убеждению нашего философа, нормальный порядок устремлений
человека, названный им порядком любви (ordo amoris), должен
соответствовать порядку этических ценностей (объективной иерархии благ), а тот, в
свою очередь, — порядку ценностей онтологических, бытийных. Бытие
обладает собственной ценностью: быть хорошо, не быть плохо; вечное
бытие лучше временного, долгое лучше краткого, неизменное лучше
изменчивого, полное лучше частичного, самовоспроизводящееся и активное
лучше пассивного и инертного (в активном больше энергии быть, чем в
пассивном), самосознающее активное бытие лучше лишенного сознания.
Активное и самовоспроизводящееся бытие есть жизнь, самосознающая
жизнь есть разум. Отсюда следует, что бытие наивысшей ценности имеет
существо, обладающее вечной и совершенно разумной жизнью, т. е. Бог,
который поэтому есть высшее благо и достоин любви прежде всех
остальных вещей (VII, 11, 17). Ниже его стоят существа живые, разумные,
но не вечные; это люди, их надо любить меньше Бога, но больше других
существ. Причем душу (жизнь) человека нужно любить больше тела, а в
душе — разум больше, чем чувства. И далее, все остальные живые
существа следует любить больше, чем неживые, а из неживого целое (полное)
следует предпочитать частичному. Особенно же важно то, что в этой
системе ценностей более долгая и более разумная жизнь предпочтительней
жизни более краткой и неразумной.
260
Моральное сознание античного христианства
Обещанное религией посмертное нескончаемое блаженство и есть,
по Августину, тот предел, до которого может простираться представи-
мая для человека длительность его разумной жизни. По сравнению с той
любовью, которую человек должен питать к вечному Богу и к
ожидающей его посмертной бесконечной жизни, эта земная, временная,
изменчивая, во всем неполная, не вполне разумная и бедственная его жизнь
заслуживает только презрения, хотя сама по себе она как творение Бога
есть благо, не лишена своих прелестей и достойна своей меры любви.
Одним словом, по Августину, как и вообще в Средневековье, презрение
и любовь помещены на одной шкале ценностей; презрение понимается
не как нечто чисто отрицательное, а как пренебрежение чем-то ради
чего-то, как меньшая мера любви. Человек должен презирать смертные
блага ради бессмертных, но помнить, что и они суть блага, данные
Богом. Также и с жизнью: временную жизнь надо презирать ради вечной,
но ненавидеть ее — грех, ибо она дана Богом. Грешно ненавидеть этот
мир, ибо он лучшее из всего, что могло быть сотворено Богом, но еще
худший грех любить это творение больше его Творца (VII, 14, 20).
Такова, по Августину, нормативная нравственно-религиозная диалектика
любви.
В других его работах это учение о любви развивается как диалектика
средств и целей, пользования и наслаждения (uti-frui). Счастье — это,
согласно Августину, удовлетворение желаний, но не всяких, а только тех,
которые направлены на цель, достойную человека (honestum). Душа,
нацеленная на самое достойное — а это и есть онтологическое и моральное
высшее благо, — все остальное должна расценивать только как средство к
его достижению (utile). Тогда она получит искомое счастье, плод (fructus)
своей возвышенной любви. Стремление же наслаждаться (ftui) благами
меньшими и относительными, которыми следует только пользоваться
(uti), всегда оборачивается несчастьем. То же самое случается и тогда,
когда тем, чем следует наслаждаться (безусловным благом), люди хотят
только пользоваться. В обоих случаях порядок любви вступает в
противоречие с естественным порядком ценностей, а за этим следует кара —
страдание. Извращенный порядок любви и стремлений как раз и есть то,
что называется порочностью и грехом. Вот что пишет об этом Августин:
«Вся человеческая испорченность, которую мы называем также грехом,
состоит в желании пользоваться (uti) предметами, которые предназначены
для наслаждения, и наслаждаться (frui) предметами, предназначенными
для пользования, а вся порядочность, которую мы называем также
добродетелью, заключается в стремлении наслаждаться тем, чем должно
наслаждаться, и пользоваться тем, чем должно пользоваться. То, что достойно,
должно быть объектом наслаждения, то, что полезно, — объектом
пользования» («О разных вопросах», 30). Наслаждаться — значит любить
нечто ради него самого, пользоваться — значит любить его ради чего-то
другого («О христианской учености», 1,4).
Что отсюда следует? Человек может и должен любить свое тело, но
не ради него самого, а ради здоровья; но и заботиться о своем здоровье он
должен не ради самого здоровья, а ради того, чтобы телесные недуги не
Моральное сознание античного христианства 261
мешали ему совершенствовать свою душу и делать добрые дела; и душу
свою он должен любить не ради нее самой, а ради блага, в ней
заключенного, которое, по Августину, есть Бог. То же относится и к миру в целом.
Мир следует любить, но не ради него самого, а ради создавшего его Бога;
нельзя наслаждаться его красотой, забывая, что все в ней от Бога. Красота
мира может быть только полезным средством возведения души к ее
источнику — Богу. Эстетическое здесь полностью подчинено этическому, а
этическое — религиозному. Показательно, что даже высшая этическая
ценность — любовь к ближнему — выступает у Августина не как
самоцель, а как средство любви к Богу: людей надо любить не ради
наслаждения этой любовью, но ради божественной любви.
Итак, Августин называет правильный порядок любви добродетелью,
«порядочностью» (ordinatio), неправильный — грехом и порочностью. Но
в чем же причина извращенного порядка любви? Отвечая на этот вопрос,
философ углубляется в феноменологию любви. Во-первых, он уподобляет
любовь тяжести, которая влечет тела к их природным местам, и они
находятся в беспокойном движении, пока не достигнут своих мест: легкие
несутся вверх, тяжелые вниз. Эту концепцию Августин заимствовал у
Аристотеля. Человек — существо двойственной природы: он состоит из души
и тела. Поэтому телесная природа влечет его ко всему телесному, природа
души — к духовному и в конце концов к Богу. Отсюда две формы любви:
любовь чувственная (cupiditas — похоть) и любовь духовная (caritas —
милость). Когда в человеке первая перевешивает вторую, он удаляется от
своего предназначения и от Бога; когда вторая перевешивает первую, он
устремляется к своему истинному благу, т. е. к Богу. Данное
представление восходит уже не к Аристотелю, а к Платону и неоплатоникам.
Во-вторых, Августин считает, что человеческая любовь
рефлексивна, т. е. человек может любить или ненавидеть саму испытываемую им
любовь: может любить и поощрять возникшее в нем влечение к
возвышенному и ненавидеть и пресекать свою любовь к низменному. Эта
любовь «второго порядка», управляющая нашими влечениями, чувствами и
страстями, есть не что иное, как воля. Именно она, «судящая любовь», а
не чувства и страсти сами по себе, подлежит моральной оценке, именно в
этой «вторичной» любви человек выражает себя как добрый или злой,
добродетельный или порочный. Любовь-воля принимает решения (судит),
за которые человек несет ответственность.
Искомый исток греховности, неверного порядка любви —
извращенная воля («Исповедь», VII, 16, 22). Однако и это нельзя считать
ответом на вопрос. Ведь остается неясным, откуда происходит извращенность
самой воли. Августин много мучается над этой проблемой в «Исповеди» и
в попытках ее разрешить приходит к выводу: «Великая бездна сам
человек», и «волосы его легче счесть, чем его чувства и движения его сердца»
(IV, 13,22).
Прежде всего он обращает внимание на вопиющую
противоречивость природы воли. «Откуда, — спрашивает он, — это чудовищное
явление и почему оно? Душа приказывает телу, и оно тотчас же повинуется;
душа приказывает себе — и встречает отпор... Душа приказывает душе
262
Моральное сознание античного христианства
пожелать: она ведь едина и, однако, она не делает по приказу. Откуда это
чудовищное явление? И почему оно? Приказывает, говорю, пожелать та,
которая не отдала бы приказа, не будь у нее желания, и не делает по
приказу. Но она не вкладывает себя целиком в это желание, а следовательно,
и в приказ. Приказ действен в меру силы желания, и он не выполняется,
если нет сильного желания. Воля ведь приказывает желать: она одна и
себе тождественна. А значит, приказывает она не от всей полноты:
поэтому приказ и не исполняется. Если бы она была целостной, не надо было
бы и приказывать: все уже было бы исполнено. А следовательно,
одновременно желать и не желать — это не чудовищное явление, а болезнь
души; душа не может совсем встать: ее поднимает истина, ее отягощает
привычка. И потому в человеке два желания, но ни одно из них не
обладает целостностью: в одном есть то, чего недостает другому» (VIII, 9,21).
Описания динамики любви и воли Августин дает исключительно на
основании самонаблюдения. Он поистине может считаться
родоначальником интроспективной психологии и феноменологической этики. Ведь
анализируя, и очень основательно, состояния и метаморфозы собственной
души, внимательно изучая многосложную ее структуру и очень
непростые и неявные механизмы ее деятельности, Августин не столько желает
изобразить себя самого в тот или иной момент жизни, сколько стремится
по результатам интроспекции построить общезначимую этико-
психологическую теорию; заглядывая в темные закоулки своей души, он
хочет заглянуть в глубины общечеловеческой природы. При этом для
концептуальных обобщений ему служит почти каждый факт его личного
психологического опыта.
Восьмая книга «Исповеди», психологически самая насыщенная
(именно в ней описывается душевный перелом Августина в момент
религиозного обращения), содержит особенно много тонких, но весьма
противоречивых рассуждений о воле, основанных на самонаблюдении.
Августин то, как в приведенном выше отрывке, признает у человека только
одну волю, хотя в обычном состоянии и не целостную, а раздвоенную,
составленную взаимоисключающими желаниями; то говорит о наличии в
одной душе двух воль — злой и доброй, старой и новой, плотской и
духовной: «И две мои воли, одна старая, другая новая; одна плотская, другая
духовная, боролись во мне, и в этом раздоре разрывалась моя душа» (VIII,
5, 10). Злая воля влечет человека к греху, привязывает его к иллюзорным
благам, подчиняет «внутреннего человека» (духовного) «внешнему
человеку» (телесному), делает его рабом необходимости и лишает духовной
свободы: «От злой же воли возникает похоть; ты рабствуешь похоти — и
она обращается в привычку; ты не противишься привычке — и она
обращается в необходимость» (VIII, 5, 10). Если злая воля укоренилась, она
становится трудно преодолимым препятствием не только для совершения
добрых поступков, но даже и для желания их, т. е. для доброй воли.
Именно в этом Августин видит причину того, что он, уже избрав для себя
путь праведника, так долго и мучительно отрывался от привычных
щекочущих удовольствий чувственного мира и в своих молитвах к Богу
говорил: «Дай мне целомудрие и воздержание, только не сейчас!» (VIII, 7,17).
Моральное сознание античного христианства
263
Привычка мешает пробуждению доброй воли, но еще больше она
мешает ей, когда она уже пробудилась, когда человек хочет чего-то
доброго, но, связанный дурными привычками, не может это осуществить.
Тогда он ужасно страдает и в этом страдании несет свое наказание за
прошлые грехи. В этом, как считает Августин, есть своя справедливость:
«Чтобы всякая неупорядоченная душа сама в себе несла свое наказание»
(I, 12, 19). Грех утверждается по своим законам, один из них — «это
власть и сила привычки, которая влечет и удерживает душу даже против
ее воли, но заслуженно, ибо в эту привычку соскользнула она
добровольно» (VIII, 5,12).
В другой своей работе, «О свободном изволении», Августин
разъясняет эту мысль так: «Справедливейшее наказание за грех состоит в том,
что человек утрачивает то, чем он не хотел хорошо пользоваться... тот,
кто не захотел поступать правильно, когда мог, лишается этой
возможности, когда он захочет поступать правильно» (III, 18, 52).
И все-таки из всех этих рассуждений Августина пока не вытекает
никакого ответа на постоянно возобновляемые им на страницах
«Исповеди» вопросы: откуда происходит эта почти непреодолимая извращенность
воли? Почему человек склонен считать для себя большие блага
меньшими, а низшие блага высшими? Почему он так быстро привыкает грешить и
так нелегко обретает праведность? Откуда происходит нравственное зло,
зловолие? Откуда вообще берется зло в этом мире, созданном благим
Богом? Откуда оно в человеке, если он любимое создание Бога, его образ и
подобие? Почему человек так привязан к этой «смертной жизни», которая
больше похожа на «жизненную смерть»? (I, 6, 7). Ведь «несчастна всякая
душа, скованная любовью к тому, что смертно» (IV, 6, 1). Человек ищет
счастливой жизни. Но почему же он ищет ее в «стране смерти»? «Как
может быть счастливая жизнь там, где нет самой жизни?» (IV, 11,18).
В конечном счете все эти вопросы сводятся к одному,
кардинальному не только для этики «Исповеди», но и для всей философии
Августина — к вопросу о происхождении зла. В духовном развитии
Августина интерес к этому вопросу всегда играл самую существенную роль.
Сначала под влиянием манихеев он пытался решить его с позиций
мировоззренческого дуализма: добро и зло — две изначальные мировые
субстанции, борющиеся друг с другом; в человеке — две природы,
происходящие от этих субстанций: добрая и злая, победа доброй природы
над злой обеспечивает человеку счастье, победа злой над доброй ведет к
несчастью.
Отказавшись позднее от манихейства и приняв христианское
представление о Боге как абсолютном благе и творце всего сущего.
Августин встал перед дилеммой: если Бог — абсолютное благо, он не
может творить зла; тогда либо не все существующее сотворено Богом и
надо признать вместе с манихеями другое независимое творящее
начало, либо не существует никакого зла. Первое решение противоречило
бы христианскому понятию Бога как творца всего. Второе слишком
трудно было бы увязать с очевидными проявлениями зла в мире. Но
Августин после мучительных колебаний избрал все-таки второй вари-
264 Моральное сознание античного христианства
ант. Выход из затруднения он нашел у неоплатоников, которые учили,
что зло не имеет самостоятельного (субстанциального) бытия и что оно
есть только недостаток добра или его отсутствие, лишенность. Так как
зло — это чистая отрицательность, небытие, не-сущее, то Бог как
творец сущего не ответствен за его происхождение. А все сущее в той
мере, в какой оно существует, есть поэтому только благо, хотя в
зависимости от полноты своего бытия оно может быть благом большим или
меньшим. Зло, таким образом, предстает как относительное
несовершенство, неполнота, нехватка бытия. Познакомившись с этой теорией,
Августин пришел в восхищение и увидел в ней ключ ко многим ранее
не разрешимым для него проблемам. Он стал убеждать себя, что и
нравственное зло — это только чистая отрицательность, тень
недостаточного добра, следствие человеческого несовершенства, наконец,
некий фон, на котором относительное человеческое добро только и
способно себя выразить, как относительное бытие выражает себя на фоне
небытия. Грех же или нравственный порок — это результат
несовершенства воли, ее недостаточной свободы (абсолютная свобода воли
свойственна только Богу), следствие ее сотворенности из ничто, из
небытия.
Однако Августин все же не вполне удовлетворился этой богооправ-
дательной теорией пассивного зла. Уж очень зримой была для него
активная сила зла и греха. Слишком много труда положил он, как видно из
«Исповеди», на борьбу со своей собственной греховностью и
порочностью. И тогда он обратился за помощью к библейско-христианской
истории о грехопадении Адама и Евы. Акценты были смещены.
Происхождение морального зла, равно как и «физического» (зла смерти и страдания),
объяснялось теперь им в основном как следствие первородного греха,
передаваемого всем людям по наследству от их согрешивших однажды
прародителей.
С этой идеей этика Августина приобрела наконец достаточно
завершенный и удовлетворивший его христианский характер. Но она
предстала теперь в значительно более пессимистическом и
фаталистическом виде. В согласии с ней в Адамовом грехопадении пало все
человечество, человеческая природа безнадежно испортилась, воля
извратилась, разум помутился, низменные страсти взяли верх над высокими
побуждениями, любовь к смертным благам вытеснила любовь к
бессмертным. Поэтому, по словам Августина, «никто не чист от греха, даже
младенец, жизни которого на земле один день» (I, 7, 11), ибо младенцы
«невинны по своей телесной слабости, а не по душе своей» (Там же).
Даже не имея еще сознательной воли, младенец во всех своих
инстинктивных действиях не проявляет ничего другого, кроме греховного
своеволия. И в детстве, как показывает Августин на собственном примере,
люди больше всего удовольствия находят в непослушании, в шалостях,
которые только на первый взгляд кажутся невинными, а на самом деле
происходят от укорененной в человеке любви к греху. В юности и
следующем за ней зрелом возрасте человеческая греховность распускается
во всей своей полноте, позволяя испорченной воле насытиться вдоволь
Моральное сознание античного христианства
265
той сладостно-ядовитой пищей, вкус к которой она испытывает от
природы. На этом этапе наследуемая человеческой природой греховность не
только раскрывается и обнажается, но и приумножается собственными
усилиями личности, подталкиваемой ко все новым и новым грехам
обманчивой надеждой ожидаемых от них удовольствий. Так, согласно
Августину, и живет человек до самой своей смерти, если он живет только
по законам своей природы, «по себе»: от греха к греху через грех и в
силу греха. Подлинной свободы, которая есть способность избирать и
делать лучшее, он начисто лишен. Он раб греха и похотей, и, хотя он
часто ощущает свое рабство как добровольное и даже кичится им как
свободой, тяжелые его (рабства) цепи постоянно напоминают ему о
себе, греховность и порочность оборачиваются страданием и бессилием,
превращая всю жизнь человека в сплошное несчастье.
Самое главное, считает Августин, — никакие собственные усилия
человека не могут вывести его из этого греховного состояния. Ведь стать
лучше — значит научиться воздерживаться от греха. Но «никто не может
быть воздержанным, если не даст ему Бог» (X, 29, 40). От воли человека
зависит многое, но сам поворот воли от зла к добру от него не зависит.
Следовательно, судьба каждого человека определяется, с одной стороны,
необходимостью его греховной природы — тем, что он от рождения несет
на себе неизгладимую печать первородного греха; с другой стороны, —
если он предызбран Богом — божественной благодатью, которая своей
скрытой, но неотвратимой силой освобождает человека от греха, научает
любить и творить добро и тем самым спасает его. Эти два начала, оба
имеющие для человеческой воли силу необходимости (ведь человек ни от
природы своей сам уйти не может, ни тем более от предопределенной ему
Богом благодати), по существу полностью исключают для человека какую
бы то ни было реальную свободу, если под этим словом понимать
способность самоопределения. Не сам себя определяет человек в этой жизни, его
определяют внешние по отношению к его индивидуальному «я» силы:
кем-то когда-то испорченная родовая природа и Божья благодать, а воля
человека — только орудие этих сил. Августин настолько хорошо
понимает неизбежность такого вывода из своей этической теории, что и не
пытается его избежать; он даже усиливает этот вывод в направлении
откровенного и почти чудовищного фатализма и пессимизма, когда
неоднократно говорит, что ни он сам, ни кто-либо иной из людей не имеют
никакой заслуги за совершённые добрые, честные, праведные дела и такие же
намерения — вся заслуга здесь принадлежит Богу, устроителю этих дел и
намерений. На долю собственно человеческую выпадает не заслуга, а
только вина, ибо единственное, что человек совершает от себя самого, а
точнее, по наитию своей испорченной природы, это грехи и преступления.
Поэтому, полагает Августин, чувство вины должно быть
фундаментальным нравственным чувством человека в этой жизни, и еще более
фундаментальным должно быть чувство благодарности Богу. В этом, по его
мнению, будет заключаться истинное благочестие и праведность.
Чувствуя свою вину, праведник будет неустанно исповедоваться и каяться в
своих грехах Богу, со страхом и надеждой моля его о прощении и мило-
266
Моральное сознание античного христианства
сердии; чувствуя благодарность, он будет радоваться каждому своему
доброму намерению и действию как дару Божьей благодати и будет
славить за это Бога в своих молитвах, смиренно отдавая ему всю свою веру и
всю любовь.
Таков итог исповедальной этики Августина, а вместе с тем и
последнее предписание христианской этики вообще; ее требование
самоуглубления и самоочищения логикой религиозной мысли преобразуется в
требование самоотречения. В Средние века подобное преобразование стало
фактом не только этической теории, но и повседневной моральной
практики. Впрочем, если быть точным, влияние вышеуказанных идей
Августина имело место главным образом на Западе и преимущественно в
Средние века. На православном Востоке не было принято столь сильное
акцентирование испорченности человеческой природы первородным
грехом. Более сильный акцент здесь делался на искупительной миссии
Христа, снявшего с человечества первородный грех своей крестной жертвой.
В православии склонность к греху скорее связывается не с
наследственной порочностью человека, а с его тварностью, сотворенностью из праха
земного, с исконным несовершенством его природы вообще, и, в
частности — его воли. При этом поворот воли человеческой от неправедности к
праведности Православие связывает с христианским просвещением, с
углублением веры в Христа-Спасителя, с обожением человека.
В ПОИСКАХ
НРАВСТВЕННОГО АБСОЛЮТА
Античность и Боэций
Глава первая
От разума к вере
Вступление
Человек хочет жить. К этому его предопределяет универсальный
биологический инстинкт — инстинкт самосохранения, укорененный,
возможно, в еще более общих и фундаментальных законах сохранения,
действующих во всей природе. Ведь всякая вещь хранит свое бытие. Это
видно уже из того, что любое направленное на нее действие немедленно
вызывает в ней равное противодействие. А живое существо, кроме того,
обладает еще и способностью сопротивляться небытию (смерти) как бы
заблаговременно, ибо биохимический обмен веществ и адаптация к среде,
межвидовая борьба и внутривидовая солидарность, механизм
размножения суть не что иное, как естественные способы заранее обеспечить,
защитить и продолжить жизнь данной особи или рода.
Чудо жизни! Раз начавшись, она вполне автоматически,
бессознательно и в то же время целесообразно утилизует и перестраивает
окружающий мир «ради» продления и распространения самой же жизни. Эта
поразительная способность растений и животных к бессознательной
автоматической целесообразности, к целесообразности без цели (как сказал
бы Кант) наследуется и человеком: на самой ранней стадии своего
родового и индивидуального развития человек (дикарь или младенец) живет в
основном благодаря инстинкту, «ради» простого продолжения жизни.
Впрочем, предлог «ради» может быть употреблен в данном случае только
в переносном значении, поскольку в обычном употреблении «ради»
подразумевает сознательную цель. И не тогда ли только человек
превращается из ânthrôpos-dzoon в homo sapiens — человека в собственном смысле,
когда он впервые научается осознавать свои цели и когда он начинает
сознательно ставить перед собой вопрос: чего ради я живу? Разумеется,
этот вопрос, выводящий вопрошающего из животного царства в царство
человека, предполагает многое и, в частности, умение взирать на себя со
стороны, что вряд ли свойственно кому-либо еще, кроме человека.
268
В поисках нравственного Абсолюта
Итак, человек мыслящий не просто хочет жить, он хочет жить
обязательно ради какой-то цели. Для него жизнь бесцельная есть жизнь
бессмысленная, абсурдная, невыносимая, и человек, в вопиющем
противоречии с биологическим законом, способен добровольно расстаться с ней.
Возможность самоубийства, как это ни странно звучит, — одна из
главнейших прерогатив человека1. Ведь ни растения, ни бессловесные
животные не могут сами участвовать в решении вопроса: быть им дальше или
не быть? Вопрос этот вполне однозначно решается за них законами
биологической природы и внешними обстоятельствами (условно говоря —
судьбой). Человек же, хотя и вступает в жизнь не по своей воле, способен
по крайней мере по своей воле выйти из нее. Он может выбирать. В этом
его свобода, которая коренится в его мышлении, в силе мысли. Иными
словами — чем разумнее человек, тем он свободнее. Ведь мышление и
разум — это прежде всего способность выявлять, понимать в
сопоставлять идеальные возможности, из которых делается выбор. Где нет
многообразия осмысляемых возможностей, где все происходит по
необходимости природы, однозначно и автоматически, там не может быть и
выбора, там нет свободы.
Следовательно, в жизненном процессе необходимость
представлена инстинктом, а свобода — мышлением, влечения инстинкта
однозначны в биологически принудительны, движения мысли избирательны и —
в нормальном случае — ненавязчивы. Пока человек живет
преимущественно по законам инстинкта, он не выходит из царства необходимости и
мало чем отличается от животных и растений. Но, научившись мыслить,
он начинает влечения свои и действия все больше подчинять разуму,
преобразуя их из автоматических в свободные, из бессознательных — в
осмысленные. Вместе со свободой мышление привносит в мир и в
человеческую жизнь смысл. Смысл становится потребностью, и тем
большей, чем дальше человек продвигается в своем умственном и духовном
развитии. Действия и влечения, лишенные смысла, уже не
удовлетворяют его, само естественное и фундаментальное стремление жить навсегда
соединяются в нем с потребностью смысла жизни. Этот смысл, как мы
уже заметили, коренится в разуме и свободе, и человек, даже если он в
какой-то момент избирает для себя жизнь ради простого продолжения
жизни, все-таки и тогда отличается от животного — именно тем, что
этот образ жизни он избирает свободно и осознанно из других
возможных, тогда как для животного никакой возможности и никакой
потребности жить иначе, чем оно живет, попросту нет, ибо животное (да
простят меня наши сотоварищи по жизни!) — это только изумительный
автомат инстинктов.
Старинный человеческий вопрос о смысле жизни фактически
равнозначен столь же старому вопросу о добре и зле — основному вопросу
морали, а значит, и моральной философии.
Об этой «прерогативе» человека подробно рассказывается в книге Альбера Камю
«Миф о Сизифе».
В поисках нравственного Абсолюта
269
Благо в пределах природы
Философским ответом на ультимативно поставленный вопрос о
высшем смысле жизни или о наивысшем добре как раз и является идея
нравственного Абсолюта, служащая предметом нашего исследования.
Эта идея — не изобретение отдельных философов, озабоченных в силу
каких-то причин проблемами морали и религии; она ядро и суть
всякого подлинного философствования, так как истинная философия всегда
есть любовь и влечение к мудрости, а мудрость (софия) — есть
интегральный опыт добра. Не удивительно поэтому, что, начиная с
Сократа, все самое значительное в греческой и римской философии — в ее
этике, метафизике и даже учении о знании — вращается вокруг идеи
«совершенства», т. е. совершенного блага, каковое по очень верному
наблюдению Платона в «Филебе» (65а) не поддается никакому
рассудочному (всегда одностороннему) определению в силу своей
неограниченной полноты (абсолютности), но все-таки может быть угадано в
гармоническом сочетании трех производных от него идей: истины,
меры и красоты. Впрочем, следы такого подхода обнаруживаются и у
досократиков, особенно в школе Пифагора, где по преданию
философия впервые получила свое адекватное органическое наименование
(любомудрие), а сама мудрость, понятая как законченное и
безусловное знание (тождественное обладанию) животворящего добра, была
оставлена в удел одному только Богу. Напрасно некоторые греки
упрекали пифагорейцев в излишнем самомнении — любовный культ
мудрости-добра, который они провозгласили как главную цель открытой
ими философии, следовало бы скорее оценить как акт великого
религиозного смирения. По этому пути пошел и Сократ, благочестиво
отделивший «человеческое» от «божеского» и сведший тем самым
философию с неба на землю. У него философия превращается в
перманентный очистительный процесс «философствования», имеющий своим
исключительным содержанием нравственные искания, цель которых —
горнее Благо. Сократ прекрасно понимает недостижимость этой
«конечной» — или, лучше сказать, бесконечной — цели, но он убежден,
что только на эту цель ориентированная человеческая жизнь
оказывается осмысленной и нравственной.
Так называемые сократические школы, унаследовавшие
этический пафос учения Сократа, различались между собой в первую
очередь в том, как они трактовали смысложизненное высшее благо: одни
из них находили его в онтологически истолкованном наслаждении (ки-
ренаики), другие — в естественности и простоте (киники), третьи — в
мыслимом Едином (мегарики и элидяне). Все прочие их воззрения так
или иначе проистекали из этого первоначального выбора. После
Платона, озарившего идеей Блага все необъятное пространство греческой
философской мысли, изыскания нравственного первоначала были
продолжены его учеником Аристотелем. И хотя в отличие от Платона
Аристотель по своему темпераменту менее всего был склонен к
идеалистическому монизму, все же и он volens-nolens подчинил свою ме-
270
В поисках нравственного Абсолюта
тафизику верховной этической сущности, которая приняла у него вид
«конечной» (целевой) причины всего сущего, совпадающей с перво-
двигателем, совершенным мышлением и абсолютным нравственным
началом — высшим стимулом любви, Богом. Теоретические,
практические и творческие устремления человека, согласно Аристотелю,
находят в этой первопричине окончательное удовлетворение.
Хорошо известно также, что главные усилия философов эллинизма
были сосредоточены на этике и были направлены на поиски путей,
ведущих .человека к счастью, т. е. «благополучию», «благоденствию»,
«благодушию», «блаженству» — eydaimonia, что при всех тогдашних вкусовых
расхождениях обязательно мыслилось как приобщение к предельному
благу и как обладание им2. Итоги этих поисков для раннего периода
эллинизма были подведены Цицероном в его знаменитом диалоге «О пределах
добра и зла», где мы находим самое обстоятельное (из всего, что дошло от
античности) изложение воззрений эпикурейцев, стоиков, перипатетиков и
«академиков» на проблему безусловного основания нравственности. Судя
по этому изложению и по другим античным источникам, последним
основанием всех нравственных ценностей эпикурейцы считали hëdoné —
«наслаждение», естественную радость жизни: душа, освобожденная
посредством правильного познания от страхов и страданий, находит высшее
удовлетворение в самом краткотечном жизненном процессе, в тихой
радости человеческого бытия (именуемой у греков словом ataraxia —
безмятежность), не претендуя на бессмертие, не ожидая никакой помощи от
богов, не надеясь каким-либо искусством превзойти природу. Казалось
бы, у эпикурейцев нет никакого Абсолюта. Но он все-таки есть и у них:
это — природа, естественный процесс жизни; по нему человек должен
сверять все свои стремления и действия.
Жизнь по природе — высшая этическая норма также и у стоиков.
Однако стоическая «природа» имеет два аспекта: материально-чувственный и
духовно-логический, или божественный. Нравственной абсолютностью
обладает только последний. Поэтому в отличие от материалистов-эпикурейцев
стоики отвергали идеал чувственных радостей и противопоставляли ему как
единственно достойный человека идеал добродетельную жизнь, в которой
все подчинено требованиям разума и долга и не зависит от чувственных
влечений и страстей, — идеал «бесстрастия» (apâtheia). Абсолютизируя
добродетель (aretê), считая ее высшим смыслом человеческой жизни, стоики
фактически возвращались к Платону, к его самодовлеющему Благу, ибо если
стоическая «добродетель» самоцельна и не может быть определена и понята
через что-то еще более высокое, то она (во имя которой должно делаться все
остальное) ничем уже не отличается от платоновского Блага. Вопрос:
почему добродетель должна быть предметом всеобщего стремления, может
иметь в стоицизме только один ответ: потому что добродетель — это
осуществление добра, а добро (благо) и есть естественная цель стремлений.
Например, справедливость — это добродетель, и для стоика спрашивать, что
Ср. дефиницию блаженства — евдемонии, данную в псевдоплатоновских
«Определениях»: Платон. Диалоги. М., 1986. С. 429.
В поисках нравственного Абсолюта
271
хорошего в справедливости или почему к ней надо стремиться, равносильно
тому, что спрашивать, что хорошего в хорошем и зачем хотеть, чтобы было
хорошо. Исходный тезис «справедливость — это добродетель» допускает
обращение «добродетель — это справедливость», потому что не бывает
никакой добродетели (мужества, благоразумия, мудрости и т. п.) без
справедливости. Таким образом, стоическая «добродетель» целостна и едина и в
этом тоже совпадает с платоновским Абсолютом.
Надо сказать, что стоики в этической теории были едва ли не ближе
к Платону, чем более прямые его наследники — представители Средней и
Новой Академии, применявшие диалектику для опровержения любых
догматических теорий и через агностицизм шедшие к автономии морали и
веры.
Платоновская Академия времен Аркесилая и Карнеада выдвинула
против философского догматизма аргументы, использованные отчасти
уже софистами, однако в отличие от софистов академики не
удовольствовались таким сомнительным результатом, как ни к чему не
обязывающий и всеразрушающий релятивизм; дойдя путями строгой логики
до предела релятивизма, они пошли дальше и поняли неизбежность
познавательного релятивизма и субъективизма как указание на то, что
действительность в своей полноте остается принципиально непостижимой
для человека («акаталепсия») и, будучи в себе тем, что она есть, будучи
«гегемоном» всей нашей практической жизни и финальной причиной
жизни теоретической, она в то же время дается нам не в акте знания, а
только в акте веры.
На деле в подобных рассуждениях академиков присутствовала
скрытая потребность нового понимания Абсолюта, черты которого
окончательно прояснились лишь в неоплатонизме и христианстве. Ведь по
правилам той же академической бинарной диалектики за пределами
«относительного» не может быть ничего другого, кроме «абсолютного», а
поскольку знание и теория исчерпываются областью относительного, то
ясно, что на долю Абсолюта остаются вера и практика, понимаемая
прежде всего как сфера морального действия («праксис»). Таким образом,
благодаря академической критике античное понятие об Абсолюте было в
какой-то степени уточнено и переосмыслено.
Аналогичный результат имела и критическая работа другой
влиятельной античной школы — школы Пиррона. Пирронизм, о котором мы знаем в
основном по его позднему представителю Сексту Эмпирику (П-Ш вв. н. э.),
ex jure conditoris был назван именем скептицизма («школой скептиков») за
то большое значение, которое придавали здесь методу критического (фас-
смотрения и исследования» (греч. «скепсис»), ставшему в этой школе, по
существу, самоцелью.
Правда, скептики вместе со стоиками и эпикурейцами главной
задачей философии в духе времени считали достижение «блаженства», но
так как в конце концов они и его ставили в полную зависимость от
метода, то получалось, что абсолютизировали они один лишь метод:
скепсис, т. е. строго критическое рассмотрение изучаемых предметов,
убеждает в равносильности всех возможных о них мнений, даже взаимоот-
272
В поисках нравственного Абсолюта
рицающих (греч. «исостения»); это убеждение ведет наш ум к
воздержанию (греч. «эпохе») от любых категорических мнений о подлинной
природе вещей, а такое воздержание имеет своим результатом
душевную невозмутимость, безмятежность (ту же «атараксию»), каковая и
есть искомое блаженство. То, что скептики-пирронисты в отличие от
агностиков-академиков лишали вопрос о самом сущем не только
теоретической, но и всякой моральной значимости, роднит их с софистами.
Вместе с тем скептическое окончательное и бескомпромиссное
замыкание в феноменально-субъективной сфере, как ничто другое, должно
было возбуждать жажду объективного — такую сильную, что, когда ее
испытываешь, уже нет дела до постижимости или непостижимости
самого сущего, его рациональности или иррациональности, а есть только
выстраданная онтологическая потребность, вера в то, что оно, сущее,
просто есть и что человек поэтому не одинок, что мир в своей
онтологической подлинности не зависит от капризов сознания и что за
обусловленным феноменом всегда стоит безусловный ноумен,
гарантирующий серьезность происходящего перед человеческим взором.
Таким образом, последним результатом античного скептицизма
должен был стать новый, обогащенный, ценностный абсолютизм. Новой
абсолютной ценностью, подготовленной в качестве таковой всем ходом
духовного развития античного мира в эллинистическо-римский период,
явилась идея единого личного Бога. Она пришла в этот мир вместе с
христианством, но и сам античный мир двигался к ней вместе со своей
философией. Наиболее близко к идее единого Бога-Личности подошел
платонизм и особенно так называемый неоплатонизм.
Абсолют и судьба
Чем отличается Бог-Личность от безличного бога? И возможно ли
вообще понятие безличных богов? Ведь и в языческих религиях боги, как
правило, представляются персонифицированными, имеющими свойства
человеческой личности: они мыслят, действуют, желают, любят,
наслаждаются, даже страдают, гневаются, разочаровываются и раскаиваются.
Таковы, например, олимпийские боги Гомера. Они во всем похожи на
людей, даже телом. Их отличие состоит главным образом в том, что они
бессмертны, хотя, как и люди, рождены. Но как раз в этой-то их рожден-
ности и суть дела. В своем роковом происхождении, а следовательно, и в
своей судьбе языческие боги не свободны, а личность — это свобода3.
Абсолютная же личность, каковой является Личность-Бог, есть ex de-
finitione — абсолютная свобода. Античные боги — это не боги-личности, а
всего лишь антропоморфные боги природы — ее экстраординарные
порождения, подчиненные ее глубинным непостижимым ни для них самих, ни
для человека силам, которые скрыто присутствуют в каждом их действии и
волении, составляя собой то неотвратимое для людей и для богов, что
называется загадочным словом heimarménë — судьба. У Гомера судьба
Раб определяется в своей жизни волей другого, личность во всем самоопределяется.
В поисках нравственного Абсолюта
273
управляет и «жребием» Зевса, и не в его, Зевса, власти изменить этот
жребий4. Таким образом, быть Богом-Личностью, Богом-Свободой Зевсу
мешает его зависимость от бездны Природы, от Судьбы. Кроме того, этому
мешает и сообщество других богов, ибо в переполненном до тесноты
языческом Пантеоне ни один из богов не обладает абсолютной независимостью
от других и никто не обладает действительной полнотой власти над
другими. Иначе говоря, полноценное понятие Бога-Личности возможно только в
рамках последовательного монотеизма.
Отсюда понятно, почему постепенное движение античной
философско-религиозной мысли к монотеизму сопровождалось наполнением
этого становящегося монотеизма личностным содержанием.
Натуралистические компоненты идеи Бога все более вытеснялись этическими,
среди которых особое значение со временем приобрели благость и
свобода. Вместе с тем на пути к личному нравственному Абсолюту
античная мысль должна была пройти через идею божественной иерархии,
позволившую ей на переходном этапе увязать предвосхищаемый
принцип единобожия с привычными нормами политеизма, увязать и
примирить так, чтобы высшее в иерархии божественное начало не несло
никакой ответственности за существующее в мире зло и было источником
одного только блага, а подчиненные ему божества, сохраняя
традиционные священные свои функции, взяли бы на себя все заботы о
грешном мире. Так в философию была введена лестница божеств, верхней
ступенью которой считался Зевс, ниже располагались другие
олимпийские боги, затем — полубоги, демоны, герои и остальные низшие духи.
Верховный бог наделялся абсолютной властью и независимостью от
низших духовных градаций, а значит, и полной свободой; все другие
божества ставились в необходимую зависимость от первого и — по
мере нисхождения — от всех вышестоящих. Чем больше становилась
зависимость всего от первого бога, чем сильнее ставился акцент на его
свободе и благости, тем более унитарным виделся мир, тем ближе
философская система подходила к монотеизму. Зевс вырывался из пут
судьбы и сам становился творцом судеб.
Идея блага у Платона
Указанную модель философского развития с наибольшей
последовательностью реализовал античный платонизм. Высказывания самого
Платона о богах, как правило, метафоричны и загадочны, однако
нравственная интерпретация божественного в них явно преобладает. Очевидна и
монистическая (монотеистическая) тенденция. В «Федре» нравственная
жизнь философа характеризуется как уподобление богу (мотив,
восходящий к известному пифагорейскому предписанию — «следуй богу!»);
говорится, что в душе каждого человека от рождения скрыто присутствует
образ какого-либо из богов и что человек поэтому всю жизнь
бессознательно стремится иметь в себе черты своего бога: кто несет в душе образ
4 См.: Илиада, ХХП, 209-214; Одиссея, III, 236-238.
274
В поисках нравственного Абсолюта
Зевса, стремится к величию, кто — Аполлона — влечется к гармонии и
музам и т. п.
Особое место в «Федре», равно как и в «Пире», Платон уделяет
богу любви — Эроту. Этот всесильный неистовый бог изображается
как главный посредник между человеческой душой и высшим Благом,
Истиной и Красотой. Он просветитель, очиститель и вдохновитель
души, и — что важно заметить — Эрот действует на душу не столько
извне, сколько изнутри (Бог — в душе). Любовная экзальтация
охватывает и весь телесный космос, увлекая его к совершенству и одухотворяя.
В общем, нет сомнений, что «богословие» «Федра» и «Пира» имеет
вполне выраженный этико-психологический характер. А в
«Государстве» Платон критикует поэтическую мифологию за слишком вольное и
нечестивое обращение с идеей Бога. По убеждению Платона, богам
следует приписывать только благое, а все благое, как явствует из
дальнейшего содержания диалога, становится таковым от Блага —
источника всего реального, истинного и прекрасного, света всех светов и,
можно сказать, бога богов. По сути дела, в идее Блага, столь возвышенно
описанной в VII книге «Государства», сконцентрировано все
божественное, как его понимает сам Платон, и поэтому иногда хочется думать,
что в глубине души Платон был истый монотеист и верил в живого
единого личного Бога, вечного и неисследимого, подателя благодати,
Отца всего сущего; других же «богов» он оставлял под их именами из
уважения к традиции, переосмысливая их в то же время как благие
энергии, исходящие от Бога истинного.
К таким же размышлениям приводит и платоновский диалог «Тимей»,
где создатель этого мира прямо называется «Отцом» всех вещей, которого
«трудно отыскать», так как Он неисследим, и «трудно назвать», ибо всякое
человеческое слово не способно, да и не достойно выразить его сущность.
Похоже, что Платон намекает здесь на то самое ослепительное
непостижимое Благо, которое он воспевает в «Государстве» и в «Филебе». По-
видимому, именно от Него в «Тимее» получает свою благость
гипотетический Бог-Строитель, Демиург (греч. «мастер»), создающий из первобытной
материи этот наипрекраснейший космос. В отличие от «Отца» Демиург
может быть выражен и в мыслимом понятии, и в слове, поскольку сам он,
согласно Платону, есть надмировой «Ум», мыслящий свои вечные формы-
идеи, и вместе с тем благая воля, творящая по их образцу все сущее во
времени, включая бессмертных богов, которые тоже входят в природный
космос как вторичные производящие силы. Говоря точнее, демиургический
«Ум», будучи сам вечным, непосредственно творит только бессмертное:
«Мировую душу», «Мировое тело», богов и души людей; остальное
(смертное) он производит через «Мировую душу» и сотворенных богов.
Таким образом, в «Тимее» мы впервые в греческой философии
встречаемся с учением о едином Боге-Творце с типичной для этого
понятия атрибутикой: Демиург по отношению к своему творению всемогущ,
всезнающ и всеблаг; кроме того, он вечен и поэтому свободен от судьбы
всего рожденного.
В поисках нравственного Абсолюта
275
Тем не менее «Богом-Личностью», «Богом-Абсолютом» его,
пожалуй, не назовешь, так как «Ум» ограничен: сверху — самим Благом, ибо
он благ, но все же не само Благо; снизу — совечной ему материей; в
самом себе — царством идей.
Не имея абсолютной свободы, Ум-Демиург не является и
абсолютной личностью. Из чего следует, что свойствами Абсолюта у Платона
обладает только Благо. Оно выше «Ума», а значит, оно иррационально,
«сверхразумно»; оно беспредельно и неисчерпаемо, будучи источником
всего возможного бытия; и оно, конечно, свободно, так как ничем не
ограничено и самодостаточно; наконец, оно едино, ибо не содержит внутри
себя ничего от него отличного, и оно единственно, поскольку не имеет
себе ничего подобного.
Все эти характеристики платоновского Абсолюта дополняются в
диалогах «Софист» и «Парменид» еще одной: Первоединое (Благо) выше
бытия, оно сверхсущностно. Однако по своей природе оно таково, что, будучи
«одним», требует «иного», будучи «не-бытием», «сверхбытием», требует
бытия, будучи высшим, требует низшего, откуда и происходят все градации
сущего, нисходящие вплоть до чистой материи, где уже нет ни единства, ни
благости, ни бытия, а есть только чистая отрицательность, «инаковость»,
небытие как «до-бытие» (mê on). Но, по правде говоря, это учение о
градации (деградации, эманации) Единого скорее уже не Платоново учение, а его
интерпретация, развитая неоплатониками во главе с родоначальником их
школы, философом III в. н. э. Плотином. К собственным воззрениям
неоплатоников на Абсолют мы еще вернемся во второй главе. Пока же отметим,
что их поиски безусловного основания нравственной жизни,
сопровождавшиеся ценнейшими интуициями и наблюдениями, все-таки не выходили
далеко за рамки характерного античного миропонимания, и как мне
представляется, в большинстве своих рассуждений неоплатоники ближе к
Платону, чем может показаться на первый взгляд. Главный долг неоплатоников
Платону — «идеализм» или, лучше сказать, «идеизм», стремление все
видеть если не чувственным, то, во всяком случае, умственным взором
(«идея» по гречески — «зрак», «зримое»). Идеизму, на котором держится
общеизвестная «созерцательность» греческой философии, противостоит
«фидеизм», внесенный в античный мир восточными религиями и
укорененный в нем благодаря христианству. Фидеизм (от лат. fides — вера) отражает
не созерцательную, «теоретическую» (theôria — созерцание) потребность, а
скорее практическую — потребность действовать, даже когда ситуация не
ясна, не очевидна. Фидеизм — это культ веры, а не знания, и в этом
качестве он враждебен античному духу.
Абсолют веры
Проникновение фидеизма в античное сознание было
спровоцировано глубокой скептической депрессией, которая охватила эллинизм в
последние века старой эры. Когда все сомнительно и относительно, хочется
несомненного и абсолютного, пусть даже не очевидного, но при этом
вероятного — вызывающего доверие, веру.
276
В поисках нравственного Абсолюта
Механизм происхождения веры достаточно темен. Ясно только то,
что вера восполняет отсутствие знания и тем самым спасает нас от
гибельного бездействия, которое было бы неизбежным, если бы мы делали
лишь то, что знаем с очевидностью. Как психологическое состояние вера
сообщает человеческим действиям решительность, определенность и
последовательность (позволяет нам «действовать уверенно»). Как элемент
жизни вера служит ей опорой и вместе с разумом сообщает ей смысл —
жизнь того, кто ни во что не верит, столь же бессмысленна, как и того, кто
ничего не разумеет. Вера необходима. Но фидеизм — это не простое
признание роли веры в человеческой жизни. Фидеизм — это отвержение
знания в пользу веры. Его точной формулой могло бы стать знаменитое
изречение христианского апологета Квинта Тертуллиана: «достойно веры,
ибо нелепо» (credibile, quia ineptum). И как вера возмещает бессилие
знания, так фидеизм возмещает бессилие философии.
Правда, фидеизм как общая установка сознания (не только
религиозного) не обязательно означает фанатизм. Можно ведь весьма
скептически относиться к возможностям познания и глубоко верить в какие-то
идеалы, уважая в то же время идеалы других. Фанатизм рождается
только тогда, когда вера развивается в отрыве от любви. Поэтому в подлинно
духовной религиозности, неотделимой от любви, не может быть
фанатизма, а мягкий фидеизм в форме убеждения в превосходстве веры над
знанием даже необходим. Ибо религия без глубокой, самодовлеющей
веры — это уже не религия, а либо философия, либо досужая
мифология, либо колдовская игра.
Если бы меня спросили, какое настроение, какое чувство быстрее
всего приводит к духовной религии, я бы ответил — чувство
нестабильности, ненадежности бытия, сознание бессилия разума, предчувствие
бездны, ощущение близкой смерти, острая потребность в твердой опоре,
в безусловно надежной гавани, где можно укрыться от штормящего
моря жизни, потребность в сверхъестественном, всемогущем и в то же
время бесконечно добром Спасителе, способном в один миг чудесно
остановить падение мира в пропасть. Именно в таком
«эсхатологическом» настроении, в ожидании неожиданного чуда находилось в
значительной своей части античное человечество, когда рождалось и
оформлялось христианство. Новая религия провозгласила принцип спасения
через веру. Крепость веры — вот залог избавления человека от всех
страданий, гарантия победы в его поединке со смертью, путь
возрождения его духовной красоты и творческих сил. Имейте веру хотя бы с
горчичное зерно — и вы сможете и горы переставлять — учит Евангелие
(Матф. XVII 20). Вера сообщает нам свойства того, во что мы верим.
Вера в людей делает нас человечными, вера в добро — добрыми, вера в
чудо — способными творить чудеса. Вера в Бога делает нас
богоподобными, а следовательно, мудрыми, сильными и кроткими. Вера в
Спасителя спасает нас. Вера не живет в одиночестве и всегда сочетается с
надеждой и любовью, составляя вместе с ними три главные христианские
(«богословские») добродетели.
В поисках нравственного Абсолюта
277
Таков, условно говоря, «субъективный» аспект христианской веры,
насколько он может быть выражен в немногих словах. Ее «объективный»
аспект, т. е. само содержание христианского вероисповедания, не может
быть сколько-нибудь полно освещен в данной работе. Самое емкое
выражение этого исповедания дает христианский символ веры.
В соответствии с христианским учением все, что выражено в
символе веры не предполагает никакого рационального обоснования. О нем
следует думать как о готовой абсолютной истине, данной человеку не в
конце пути его смысложизненных исканий, а в начале этого пути. Прими
и делай отсюда выводы! Истина открыта — теперь следуй ей! Она не
результат доказательств, а Божий Дар. В этом все дело. Здесь пролегает
водораздел между античной философией и христианской религией, ясно
осознанный еще первыми идеологами христианства и их тогдашними
оппонентами — языческими философами.
И те, и другие хорошо понимали противоположность двух
мировоззренческих установок: первой, философской, направляющей мысль от
мира к истине, и второй, христианской, ведущей ее от данной в
Откровении истины к миру. Первая установка полагается на разум, вторая — на
веру; первая опирается на исследование, вторая — на Слово Божие.
Философы (типа Корнелия Цельса и Порфирия) высмеивали христиан,
принимавших за истину то, что не выдерживает никакого рационально-
критического исследования, христианские апологеты устами Тертуллиана
осуждали философов за то, что они продолжают искать и исследовать
истину, когда она уже открылась всему человечеству «Мы не нуждаемся в
любознательности после Христа, не имеем нужды в исследовании после
Евангелия» (De praescriptione haereticonim, 7). Примирить эти две
позиции, как казалось вначале, было невозможно. Мысль об их
непримиримости высказал когда-то и апостол Павел: «Не обратил ли Бог мудрость
мира сего в безумие?» (I Кор., I 20), «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы
посрамить мудрых» (I Кор., 125).
Однако начатому тогда великому спору между верой и разумом со
временем был найден и вариант компромиссного решения. Эта был
своеобразный двойной вариант. С одной стороны, было допущено, что
хорошо понятая философия ни в чем не противоречит новой религии и —
больше того — вся предшествующая история греческой и римской
философской мысли в ее лучших образцах явилась предусмотренной
Провидением «логической» подготовкой евангельского учения. Так рассуждали
христианские апологеты Юстин, Климент Александрийский, Ориген, Ев-
севий Кесарийский и множество их последователей, учившие об
изначальной причастности мирового порядка — «логоса» Логосу-Христу. С
другой стороны, было признано, что в самом христианском учении
содержится немало философского (Минуций Феликс) или даже, что
истинная философия как раз и есть христианская религия (Лактанций) и что во
всяком случае в христианских догматах заключена и из них может быть
выведена высочайшая теория сущего, а евангельская нравственная
проповедь — это глубокая и совершенная моральная философия (Григорий
Нисский, Августин и др.).
278
В поисках нравственного Абсолюта
Указанный компромисс привел к некоторому смягчению
противоборства веры и разума и способствовал рождению собственно
христианской философии, которая уже в силу своего происхождения оказалась
слитой с богословием, что предопределило ее особые задачи. Первая
задача: дедукция из догматов веры проистекающих, из них следствий для
мира и человека, выражение в понятиях рассудка той картины космоса и
нравственной жизни, которая предстает человеку в прямых лучах света
божественной Истины. Сюда же относится и проблема рассудочного,
логико-онтологического истолкования самой идеи Бога. Вторая имеет вид
обратной задачи, это — задача индукции: исходя из того, что мир и
человек таковы, какими мы их наблюдаем, когда пристально и методично
всматриваемся, показать, что они таковы не случайно, а по какой-то
необходимой причине, суть которой проясняется по мере все большего
обобщения опытных данных, так что на последнем этапе мысленного
восхождения обнаруживается, что эта причина есть единый Бог, силой, разумом
и благостью своей сотворивший все сущее и управляющий им своим
Промыслом, Провидением. Решавшие эту задачу разрабатывали
известные еще классической античности «индуктивные» доказательства
существования Бога, большинство из которых относится к разряду так
называемых космологических.
Первая задача сгруппировала вокруг себя тех, кто, будучи
христианами по вере, в философии шли за Платоном, вторая привлекала внимание
верующих последователей Аристотеля и стоиков. Признаки такого
разделения нетрудно найти и в сочинениях отцов церкви, но особенно явственно
они выступают в трудах средневековых философов. К мыслителям-
«дедуктивистам» принадлежали почти все восточные «отцы», за
исключением, может быть, Иоанна Златоуста и некоторых отцов-пустынников, —
тех, кто исходили больше из жизненного и личного мистического опыта,
чем из догмы. Если называть только крупнейшие имена — Ориген,
Афанасий Александрийский, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий
Нисский, Дионисий Ареопагит, Максим Исповедник и Иоанн Дамаскин, —
все были платоники-онтологи и логики-диалектики. Из западных отцов к
ним примыкает Августин, а в Средние века — Эриугена, Ансельм Кентер-
берийский, Гийом Коншский, во многом школы Шартра и Сен-Виктора,
отчасти Роберт Гроссетест, Бонавентура и Дуне Скот. В целом же для
Запада более характерен опытно-индуктивный подход, представителями
которого в христианской древности были Тертуллиан, Лактанций, Иероним,
папа Григорий Великий, а в Средние века, несмотря на существенные
между собой различия, — Бернар Клервосский, Фома Аквинский, Оккам и
многие другие.
Впрочем, четкой демаркации между дедуктивизмом и индуктивиз-
мом в христианской философии никогда не было, так что у всех
перечисленных мыслителей в разной пропорции присутствовали элементы того и
другого подхода. Самым ярким примером равновесия обоих подходов
можно считать философско-теологический метод Боэция, в котором за
исходный пункт берется вера, затем отыскивается ее философское обос-
В поисках нравственного Абсолюта
279
нование, однако при этом индуктивные приемы используются никак не
меньше, чем дедуктивные5.
Но прежде чем перейти к Боэцию, подведем итоги переосмысления
темы нравственного Абсолюта в эпоху христианской античности. Принцип
верховенства веры над разумом способствовал укоренению нового, не
свойственного античному интеллектуализму обычая принимать Абсолют
как исходное для мышления данное, полученное из религиозного опыта.
Вследствие этого философские поиски Абсолюта превратились в
христианстве в его оправдание — в теодицею, а разнообразные доказательства
бытия Бога — в логические иллюстрации уже присутствующей в душе
веры в Его бытие. Что, разумеется, не мешало при случае углубляться в
проблемы мироустройства и познавательной деятельности, в чем мы
можем убедиться, читая труды Августина или Иоанна Филопона. А логика и
мораль даже потребовали дополнительных усилий, особой тонкости
интуиции и анализа, ибо рациональное оправдание по сути иррациональных
христианских догматов заставляло искать новые способы рассуждения и
новые средства мысленного выражения. Что же касается морали, то она,
несомненно, составляла самое ядро христианского учения, и мораль эта
была слишком возвышенной и сугубо непривычной. Важно и то, что в
христианской традиции идея Абсолюта окончательно обретает смысл
начала нравственного — высшего субъекта любви и милосердия. Бог,
приносящий себя в искупительную жертву за тех, кто его казнит, — что может
быть выше в нравственном смысле? Что может быть человечнее любви... к
врагам? Что милосерднее этих евангельских слов: «...любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и
молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Матф., V 44). Все это действует
как шок, как ослепительная молния, озаряющая своим нежданным светом
грязные трущобы нашей души, пробуждающая нас от глубокого
мертвенного сна и поднимающая нас к действительной нравственной жизни.
Философия, связавшая свою судьбу с евангельской религией, не
могла пройти мимо этого. Вот почему лучшая и никогда не стареющая
часть христианской философии эпохи поздней античности и Средних
веков принадлежит нравственной идее.
Глава вторая
От веры к разуму
Кем был Боэций
Мы обращаемся наконец к Боэцию — к тому, кто примером своей
жизни, содержанием своего творчества, своим служением философии и
силой своего воздействия на потомков продемонстрировал непобедимость
5 См.: De Trinitate, 6. Подробнее об этом см.: Майоров Г. Г. Формирование
средневековой философии. Латинская патристика. М.: Мысль, 1979.
280
В поисках нравственного Абсолюта
нравственной идеи. В его эпоху, казалось, весь мир ополчился против нее.
Рушилась тысячелетняя античная цивилизация, культура попиралась
ногами варваров, христианская церковь, только что победившая античное
язычество, сама впала в состояние внутренней вражды и раскола;
торжествовали насилие и грубость, хитрость и лицемерие, трусость и предательство,
злоба, фанатизм и отчаяние. Не могло быть и никакой надежды — впереди
были века дальнейшего упадка, мрака и запустения. И в этот трагический
момент европейской истории из тюремной темницы прозвучал уверенный
голос философа Боэция: нет, злу никогда не одолеть добра, ибо зло по своей
сути бессильно; да, фортуна превратна и обманчива, но она не имеет
никакого отношения к подлинному человеческому счастью; да, судьба
непоправима и неумолима, но ведь мы сами свободно творим свою судьбу; нет,
порочные и злые люди никогда не достигнут своей цели, ибо они, как и все,
стремятся к блаженству, к собственному благу, но благо (добро)
достигается только на пути добродетели; да, путь добра труден, он проходит через
страдания и муки, с него сбивают сирены соблазнов, его преграждают
слабости нашей природы и встречные ветры людских мнений, и все-таки, это
единственный путь, ведущий к счастью, — путь, предначертанный Тем,
Кто в безраздельной вечности знает все, что было, есть и будет в этом мире,
Им же и созданном, Им и управляемом — по законам истины, красоты и
добра, ибо Он, Единый Бог, сам есть не что иное, как абсолютное Добро.
Вот что прозвучало тогда из уст Боэция. Его голос был слышен в
продолжение всего Средневековья, а отзвуки этого голоса влились в общую
мелодию всей последующей европейской культуры. За эти столетия многие
нашли у Боэция желанное утешение, многие были вдохновлены им на
благородные поступки, многие через него обратились к учительнице жизни —
Философии. Прислушаемся же и мы повнимательнее к голосу Боэция,
присмотримся к опыту его нравственных исканий. Но сначала, пожалуй,
напомним кое-что из его биографии, которую по условиям жанра,
требующего краткости описаний, мы сведем только к немногим фактам.
Аниций Манлий Торкват Северин Боэций родился около 480 года в
Италии, возможно, в Риме, в сенаторской семье, имевшей славную
родословную. Рано потеряв родителей, он был отдан на воспитание главе
римского сената Квинту Аврелию Симмаху, человеку большой культуры,
крупному политическому и религиозному деятелю той поры. Благодаря
Симмаху, который позднее стал также и тестем Боэция, он получил
исключительное по тем временам образование, избрав для себя жизненный
путь ученого и искателя мудрости. Его труды в области логики,
математики, астрономии и музыки очень скоро составили ему славу, о чем
свидетельствуют его современники, такие, как Кассиодор и Эннодий6. Из тех
же источников известно, что в этот ранний период своей жизни Боэций
прославился и как поэт, и как знаток греческой словесности, и как
прекрасный стилист, и даже как изобретатель-механик.
6 О вкладе Боэция в науки см.: Майоров Г. Г. Судьба и дело Боэция // Боэций.
Утешение Философией и другие трактаты. М.: Наука, 1996. Π изд. С. 256-335.
В поисках нравственного Абсолюта
281
В общем, перед нами яркий и универсальный талант. Не
удивительно, что и задачи Боэций перед собой ставил большого масштаба.
Одна из них — передать своим соотечественникам, римлянам, на их
родном, латинском языке (греческий язык, язык античной
образованности, в это время на Западе начинает забываться) всю совокупность
главных достижений эллинского гения в области «свободных наук» и
философии. Другая задача: примирить двух корифеев античной мысли —
Платона и Аристотеля и тем самым разрешить многовековой спор
между их последователями, доказав на основе тщательного анализа их
текстов, что в платоновской и аристотелевской философии нет ничего
несовместимого и что противопоставление этих учений есть следствие их
недостаточного понимания.
Решить указанные задачи до конца Боэцию так и не удалось. Но и
сделано было немало. Он создал первые латинские учебники по уже
упомянутым наукам «квадривиума»7, перевел с греческого ряд логических
трактатов Аристотеля, написал к ним свои комментарии. Для Средних
веков особое значение имели комментарии Боэция к «Введению»
неоплатоника Порфирия в «Категории» Аристотеля — в продолжение
нескольких столетий эти комментарии вместе с самими «Категориями» и
«Введением» в его же, Боэция, переводе служили главным источником знаний по
логике на латинском Западе.
Однако перевести на латынь и прокомментировать Платона Боэций,
по-видимому, не успел, как не успел он написать и задуманное ранее
сочинение о согласии взглядов Платона и Аристотеля. Этому
воспрепятствовали обстоятельства, в которые он, помимо своей воли, был втянут как
государственный муж, — обстоятельства, приведшие его к скорой
трагической гибели.
Само происхождение Боэция (сын экс-консула и воспитанник главы
сената) вынуждало его участвовать в большой политике — для римлян,
представителей высшего сословия, служба на государственных
должностях была традиционной гражданской обязанностью. Так что еще в
ранних летах Боэций был введен в сенат, а в 510 г. стал одним из консулов,
оказавшись на какое-то время на самой вершине римского чиноначалия.
Правда, к этому моменту консулы и сенаторы давно утратили свои былые
властные функции, но почетные — за ними все еще сохранялись.
Реальная же власть в государстве, начиная с эпохи Августа, принадлежала
императорам и имперским чиновникам, а с 476 г., когда в Западной Римской
империи был низложен последний император, власть перешла сначала к
германскому военному наемнику Одоакру (при нем, кстати, отец Боэция
служил консулом), а затем, после завоевания Италии остготским
конунгом Теодорихом (493), она надолго оказалась в руках этого чужеземного
правителя, провозгласившего себя королем готов и римлян.
7 «Квадривиум» (Quadrivium), букв, «четырехпутье». Так называлась четверка
дисциплин: арифметика, геометрия, астрономия и музыка, которые вместе с «тривиумом»
(«трехпутье» — грамматика, риторика и диалектика) составляли «семь свободных наук»—
Septem artes liberales, предварявших собственно философию (метафизику, физику, этику) и
теологию.
282
В поисках нравственного Абсолюта
Почти вся жизнь Боэция прошла при Теодорихе, который, несмотря на
свое варварское происхождение и необразованность, покровительствовал
наукам и искусствам, стремился жить в мире с покоренными римлянами и
немало содействовал временному возрождению Италии, пришедшей в
полное хозяйственное и политическое расстройство в предыдущем V в. Этот
удивительный король, приближавший к своему двору в Равенне8 самых
одаренных римлян, обратил внимание на Боэция, когда тот был еще
мальчиком. Сохранились письма, направленные Боэцию от имени Теодориха его
секретарем Кассиодором, в которых король в почтительнейшей форме
обращается к юному ученому с дипломатическими и техническими
поручениями. В одном из этих писем Боэций оценивается как крупнейший
латинский эрудит, писатель и философ, стоящий в одном ряду с Архимедом и
Птолемеем, Платоном и Аристотелем. Тот факт, что Боэций с согласия или
даже по инициативе Теодориха был в свои тридцать лет назначен консулом,
также говорит об устойчивой симпатии к нему короля. Однако высшей
монаршей милости Боэций удостоился позднее, когда в 522 году он был
назначен на пост первого министра королевского двора (magister officiorum) и
когда чуть позднее «при всеобщем ликовании народа» оба его сына, Сим-
мах и Боэций, которым едва исполнилось по шестнадцать лет,
одновременно получили звание консулов. Сам философ воспринял тогда эти события
как предел отпущенного человеку счастья. Однако впереди его ожидало
стремительное падение.
Люди удачливые, особенно если они талантливы, всегда имеют
завистников и недоброжелателей. Их участь постигла и Боэция. Завистники
воспользовались напряженностью отношений между Равенной и
Константинополем (столицей Восточно-Римской, Византийской империи) и
состряпали политический донос сначала на друга Боэция, сенатора Альбина,
а затем — после того, как Боэций встал на защиту Альбина — и на него
самого, обвинив их в тайной деятельности в пользу византийского двора,
в желании восстановить утраченное единство Римской державы и
освободить ее от готов. Среди обвинений в адрес Боэция были и другие, в
основном клеветнические и явно надуманные. Его обвиняли, в частности, в том,
что он занимается философией, что это, мол, подозрительное занятие как
раз и привело Боэция к государственной измене.
Что ж, завистливая чернь, когда она чувствует свое бессилие и
ничтожество перед высотою мудролюбивого духа, нередко прибегает к клевете
на саму мудрость. Достаточно вспомнить подобные же обвинения против
Сократа, Сенеки, Апулея, да и многих других, которых толпа осудила или
осуждала только за то, что они проповедовали ей недоступное. Но Боэцию
бороться с наветами его врагов было особенно трудно. Ведь кто мог
усомниться в тайном желании римского аристократа и «человека культуры»,
каким все знали Боэция, вернуть Риму величие всемирной державы, в
желании вывести отечество из-под варварской опеки, граничащей с гнетом, и
Этот город в болотистой местности Северо-Восточной Италии он сделал своей
столицей, предпочтя его Риму. Другой резиденцией Теодориха была Верона, от имени которой
он получил прозвание в германском эпосе — Дитрих Бернский, что в латинском звучании
соответствует Теодориху Веронскому.
В поисках нравственного Абсолюта
283
для этого искать помощи у своих недавних
соотечественников-византийцев? Кто мог усомниться, что человек, большую часть жизни посвятивший
изучению греческой мудрости, будет больше расположен к просвещенным
грекам, чем к грубым солдатам-готам? Да и у кого было Боэцию искать
подцержки в обстановке всеобщего страха и растерянности, вызванной уже
и вправду начавшимся распадением недолговечного готско-римского союза
и гневом заподозрившего измену самовластного короля? Дело, возможно,
осложнялось еще и тем, что незадолго до описываемых событий Боэций
сочинил несколько богословских трактатов, в которых отстаивал и
диалектически обосновывал православно-кафолическую версию христианской
веры, принятую папским Римом, а с приходом к власти императора Юстина
(519) — и Константинополем. Трактаты были прямо направлены против
арианства — другой, «еретической», версии христианства, которой
придерживались готы и сам Теодорих. Как ко всему этому мог отнестись
король — легко догадаться. Скажем к слову, что упомянутые трактаты имели
громадное влияние в Средние века, служа, с одной стороны, примером
антиеретической полемики, с другой — образцом применения рационально-
философских и вообще логических методов к богословской проблематике,
иными словами, образцом средневековой схоластики. За эти трактаты, за
введение в Средневековье корпуса наук «квадривиума», за перевод и
комментирование логических трудов Аристотеля и Порфирия, за первое
прояснение найденной им у Порфирия «проблемы универсалий», ставшей
камнем преткновения для едва ли не всех средневековых схоластиков, за само
узаконение применимости рациональной философии для решения проблем
теологии Боэций был по справедливости назван отцом схоластики или
первым схоластиком. Но его называют и последним римлянином, а иногда —
последним античным философом. Строго говоря, это не совсем точно.
Боэция пережили философствующий римлянин Кассиодор и некоторые
греческие неоплатоники, например Дамаский и Олимпиодор. Однако уже
упоминавшийся нами ранее Кассиодор, хотя и владел античной философской
теорией, был все же в своих трудах больше мыслителем церковным, а
Боэций, как мы увидим ниже, почти во всем еще сохранял верность идеалам
римской свободы и античной мудрости. В этом смысле он действительно
«последний римлянин».
Возвращаясь теперь к жизнеописанию Боэция, отметим, что, как
явствует из его собственных слов9, пострадал он фактически именно за свою
любовь к римской свободе. Его оправдания не были услышаны. По
приказу Теодориха он был брошен в тюрьму. Потом состоялся суд, на котором
присутствовал весь сенат и король. Сам он на суд допущен не был. В ходе
процесса за Боэция ходатайствовал один только римлянин — его тесть
сенатор Симмах; другие сенаторы в страхе и бесстыдстве поддержали
решение короля и осудили Боэция на казнь. За свою благородную
дерзость Симмах вскоре поплатился жизнью.
9 Утешение Философией, I, пр. 4. Далее цитирование по изданию Н. Stewart и Е. Rand:
Boethius Л. M. S. The Theological Tractates and Consolation of Philosophy. Cambridge (Mass.),
1953; и русскому переводу: Боэций. Утешение Философией и другие трактаты. Π изд. М.:
Наука, 1996. Римская цифра означает номер книги, пр. — прозаическая часть, ст. — стихотворная.
284
В поисках нравственного Абсолюта
Несколько месяцев между судом и казнью (524) Боэций провел в
заточении в крепости Кальвенцано недалеко от города Павии. Здесь он
создал последнее и самое прекрасное свое произведение «Утешение
Философией» (De consolatione Philosophiae), стяжавшее ему великую славу на
все времена. В Средние века это была самая популярная книга на Западе,
о чем говорит рекордное число ее сохранившихся рукописей,
датированных IX-XIV вв. Ее читали, цитировали, комментировали в монастырских
и кафедральных школах, а позднее — в университетах, ею вдохновлялись
крупнейшие схоластики и мистики, ее перелагали на формирующиеся
национальные литературные языки: немецкий, английский,
провансальский, французский. В эпоху Ренессанса интерес к этой книге не угас, и
она оказалась в числе первых книг, изданных типографским способом
(1479). Ее изучают, переводят, переиздают и в Новое время, вплоть до
наших дней. Среди переводчиков значатся два достославных английских
монарха — король Альфред Великий и королева Елизавета Тюдор, среди
подражателей — два великих поэта: Данте и Чосер, а в какой-то мере и
Петрарка, Боккаччо, Шекспир; вдохновленных и утешенных этой книгой
не перечесть, среди них теолог Жан Жерсон, философ-утопист Томас
Мор, а в более близкие к нам времена — писатель Анатоль Франс. Не
напрасно, видно, известный английский историк Эдвард Гиббон назвал
когда-то это сочинение «золотой книгой».
Общий смысл «Утешения философией»
Чем же объяснить невообразимую популярность творения Боэция?
Что привлекает в этой книге людей столь непохожих, людей разных
эпох, сословий, взглядов и вкусов: монахов, трубадуров и королей,
утописта шестнадцатого века и скептика века двадцатого? Что побуждает и
нас завершить именно этой книгой наше исследование об Абсолюте?
Ответить можно словами одного человека, который в 1609 г. сделал
блестящий (до сих пор признаваемый лучшим) перевод «Утешения
Философией» на английский язык и почему-то пожелал остаться
неизвестным. В посвящении к изданию своего перевода он писал: «Эта
изумительная книга доказывает, хотя и кратко, но убедительно, суетность всех
прочих человеческих благ, кроме одного-единственного, которое
истинно, и оно состоит в том, чтобы душа человека твердо держалась Господа
Бога, ибо Он и есть само Благо» °. Иными словами, в этой книге Боэция
мы имеем дело с идеей нравственного Абсолюта, причем, добавим, —
идеей, не просто принятой на веру или логически выведенной, а глубоко
психологически пережитой, до конца осознанной и продуманной перед
лицом неотвратимой смерти, когда уже нет никакого смысла лукавить и
обманывать самого себя. «Утешение Философией» — это адресованное
всему человечеству духовное завещание того, кого природа одарила
едва ли не всеми прекрасными дарованиями, а фортуна щедро добавила
все остальное; кто не понаслышке, а на своем опыте узнал цену житей-
10 The Consolation of Philosophy by A. M. S. Boeihius, ed. by W. Anderson. — Carbondale,
1963. P. 19.
В поисках нравственного Абсолюта
285
ским благам, когда поворотом судьбы был неожиданно, в один миг от
них отлучен; кто испытал высокий взлет и стремительное падение и
понял в конце пути, что: «Если идущий упал — поступь была нетверда» (I,
ст. 1) В благородном порыве души, познавшей непрочность того, за чем
люди всю жизнь гоняются как за счастьем, Боэций уже не для себя, а для
них ищет более надежной, абсолютно надежной опоры в жизни, встав на
которую человек полностью освободился бы от тиранической власти
фортуны, возвысился над суетой и обрел наконец подлинное
блаженство. Хотя Боэций, судя по его биографии и теологическим трудам, был
верующим христианином, он адресует свою книгу всем заблудшим и
страждущим, обращаясь скорее к их разуму и здравому смыслу, чем к их
вероисповеданию. Поэтому «Утешение Философией» не содержит
никаких явных ссылок на Священное писание или церковное Предание и не
упоминает даже имени Христа. Воспитанный в духе античного доверия
к Разуму, Боэций, по-видимому, надеялся на то, что сама сила
аргументации способна привести читателя к нравственному преображению, а
следовательно, и к искомому счастью. Вместе с тем он понимает, что
убедительность аргументов только усиливается, если они воздействуют
не только на ум, но и на чувства, особенно — на эстетическое чувство.
Поэтому, хотя в начале сочинения пришедшая утешать Боэция
величественная дама Философия изгоняет из его узнической обители
«сладкоречивых муз» и устанавливает там свой единодержавный строгий
порядок, в дальнейшем сама же эта утешительница постоянно прибегает и к
сладостной поэзии, и к патетической риторике, и даже к драматическим
приемам. Литературный жанр «Утешения» — сатура. Здесь проза
чередуется со стихами и допускается определенная вольность в подборе и
компоновке материала, в сатуре нет нормативной композиции и
стилевого однообразия. Для последнего произведения Боэция форма сатуры
как нельзя более подходила, она позволяла решать поставленные задачи,
используя весь накопленный им литературный опыт, свободно выражая
с его помощью сложный мир теснящихся в сознании итоговых идей.
«Утешение Философией» состоит из пяти книг, каждая из которых
включает по нескольку прозаических и поэтических глав. Первая книга,
изображающая узника Боэция, который скорбит о своей злой доле в
окружении плачущих поэтических муз и затем вступает в диалог с
явившейся к нему на помощь Философией, имеет во многом автобиографический
характер. Вспоминая свою жизнь, Боэций ставит перед Философией
серию наболевших, прямо относящихся к ее компетенции, т. е.
философских, вопросов, суть которых может быть сведена к следующему:
1. Если существует Бог, как могло случиться, что, всегда живя
праведно и честно, неизменно служа добру и противодействуя злу,
выполняя во всем предписания самой Философии, отдавая все свои силы
на благо народа и государства, он, Боэций, оказался не только не
вознагражденным за все это, но даже наказанным и осужденным на
смерть? Чем объяснить такое поведение Фортуны?
2. Если Бог существует, то откуда зло? Если Он существует, то как зло
может не только допускаться, но и торжествовать над добром? Поче-
286
В поисках нравственного Абсолюта
му злодеи чаще преуспевают в этом мире, чем добродетельные, и
почему преступники могут надеяться на безнаказанность, а праведники
«не только не находятся в безопасности, но и лишены всякой
защиты»? Почему позволительно платить злом за добро и почему клевета
на добродетель вызывает большее доверие, чем разоблачение зла?
3. Если Бог — создатель всего, то почему небесный космос предстает
перед нами таким благоустроенным и гармоничным, а мир земной,
человеческий — полным неустройства и несправедливости? Разве
может существовать такая, пусть ничтожнейшая; часть Вселенной, о
которой бы Бог не заботился?
В последующих книгах «Утешения» Философия, т. е. усвоенная
Боэцием философская мысль, дает ответ на поставленные здесь вопросы;
причем по мере продвижения в анализ вовлекаются и другие темы, но все
они сводятся фактически к одной: существуют ли достаточные
онтологические гарантии человеческого счастья. Во второй книге в форме
античной моральной диатрибы обсуждается природа фортуны и показывается,
что удача и подлинное счастье (блаженство) — вещи совершенно разные
и в основном даже противоположные.
В третьей книге понятие «блаженство» получает определение как
«обладание всеми благами», в связи с чем рассматривается вопрос о
мнимых и подлинных благах, который после блестящей демонстрации
суетности привычных человеческих стремлений разрешается в учении о
Едином и высшем Благе, каковое есть Бог, дающий единство, бытие и жизнь
каждой отдельной вещи и миру в целом.
Четвертая книга посвящена опровержению ходячего мнения о том,
что зло в этом мире торжествует над добром, а злые и порочные якобы
бывают счастливы. Доказывается, что в божественном плане мира
(Провидении) нет места несправедливости, что судьбы людей,
предначертанные от века в благом Промысле Божием, если их рассматривать все
вместе, полностью вписываются в прекраснейшее зрелище самого
совершенного из возможных миров, а если брать каждую в отдельности,
свидетельствуют в конце концов о точном соответствии меры счастья мере
человеческих достоинств и заслуг. (Такой тип рассуждения имеет
название «теодицея» — богооправдание.) В последней, пятой, книге решается
вопрос, как предначертанность судьбы человека в декретах
божественного Провидения, а значит, и «предопределение» его участи могут быть
увязаны с человеческой свободой и с возможностью влиять на свою
судьбу.
Размышляя над этой темой, Философия вскрывает логику
отношений между такими понятиями, как «Провидение» и «судьба», «вечность»
и «время», «необходимость» и «случайность», — генетическую логику,
которая ведет к признанию не только реальности свободы, но и
возможности окончательной победы над судьбой; путь освобождения проходит
через осознание человеком своей укорененности в Боге, через
преодоление своей зависимости от всего случайного и временного и завершается
актом радостного смирения перед божественным Абсолютом.
В поисках нравственного Абсолюта
287
Такова вкратце проблематика «Утешения». Заметим, что во всех
частях сочинения спор идет фактически между «Философией» и
«Фортуной», причем первая воплощает именно античную, основанную на
доверии к разуму, философию, а вторая выступает как аллегория неразумной
веры, веры толпы в случайное счастье. Напротив, божественный Абсолют
понимается как сверхразумный источник самого разума, а вера в Единого
Бога оценивается как разумная, просвещенная вера.
То, что такая вера служит в «Утешении» не только результатом, но
и предпосылкой оправдания нравственного строя жизни, явствует уже
из первой книги, где Философия, выступая в роли целительницы души
Боэция11, прежде чем начать «лечение», ставит диагноз его «болезни» и
решает вопрос: может ли он быть излечим (спасен) вообще?
Оказывается, единственная надежная гарантия возможности исцеления души,
впавшей в полное отчаяние, — это сохранение в ней твердого
убеждения (веры) в том, что мир управляется разумным началом, и это начало
есть Бог (I, пр. 6).
Мы раньше видели, что вера в Бога как предпосылка истинного
познания не типична для классической греческой философии, да и для
философии языческого эллинизма. Предпосылание веры
философствующему разуму — обычай, введенный в античный мир иудейской (Филон
Александрийский) и христианской апологетикой. Похоже, что Боэций,
устанавливая решением самой же Философии методический приоритет
веры, отдает дань этому относительно новому, но все-таки уже
привычному способу философствования. И вот признание бытия Бога он
сознательно делает предпосылкой и началом своего исследования, что,
пожалуй, дает основания не считать «Утешение Философией» произведением
«чисто античным». Однако его нельзя назвать и типично христианским:
ни требуемая исходная вера, ни разъясняемое далее в тексте понятие Бога
не имеют в себе ничего специфически христианского и выражаются в
терминах вполне античных. Да и сам термин «вера» (fides) Боэций
предпочитает не употреблять, тогда как слово «разум» (ratio, intellectus, intelli-
gentia) применяется им повсюду, и как раз там, где речь идет о Боге.
Короче говоря, фидеизм Боэция ограничен и имеет интеллектуальный
характер, а его основная установка — это античный идеизм.
Мы уже знаем, что сущность идеизма — в безотчетном доверии
зрению — чувственному, умственному или «за-умному». Идеизм — это
своего рода «духовная оптика». Конечно, желание все раскрыть перед
человеческим взором — не очень скромное и совсем нецеломудренное
желание, в нем просвечивает античная гордыня. В случае же чистого фидеизма
мы имеем делом с верой на слово, с доверием слуху, с тем, что можно
назвать духовной акустикой, которая зиждется либо на неразвитости ума,
либо на целомудренной душевной доверчивости, либо на осознании
непредставимости и в то же время великой значимости сообщаемого в
слове. Смиренное вслушивание в священное Слово и послушание заключен-
11 Идея философии как медицины души знакома была и Цицерону. — См.: Тускулан«
ские беседы, V, I.
288
В поисках нравственного Абсолюта
ной в нем воле — норма и обряд всех религий, стоящих на Писании. Но
Боэций идет явно не по этому пути. Он выученик языческой античности.
Он хотел бы все видеть, «идеировать», и если Бог, которого он ищет
своим умственным взором, все-таки оказывается недосягаемым для разума,
умозрение от этого не останавливается и не уступает место авторитету
Слова, но, обретая новые силы, поднимается все выше на подступы к
искомому Абсолюту путем аналогий и интуиции.
Да, Бог в «Утешении Философией» — это начало и конец
исследования. Следовательно, философская позиция автора есть не что иное, как
теизм. Однако теизм Боэция не религиозного, а именно философского
типа — того типа, который был вообще характерен для интеллектуалов
поздней античности, в особенности для последователей Платона.
Впрочем, и сам Платон, допускающий благодаря поразительной
многомерности его учения самые разные оценки, тоже может быть по праву назван
теистом. Достаточно ведь вспомнить знаменитую фразу из его диалога
«Законы» (716А), где говорится о том, что Бог «держит начало, конец и
середину всего сущего».
Боэций в «Утешении» (III книга) чуть ли не цитирует это
высказывание Платона. Широко использует он и платоновский диалог «Ти-
мей» — именно из него извлекает он большую часть своей космологии
и теологии. Чувствуется воздействие и других идей платоновской
философии. Однако бесспорно, Боэций читает Платона уже глазами
неоплатоников. Интерпретация учения великого грека, предложенная за три
столетия до Боэция школой Плотина, давно стала общепринятой; по
существу это была даже не интерпретация, а новая философия,
выросшая из переосмысления учения Платона, хотя и не только Платона, но
также Аристотеля, стоиков, пифагорейцев, восточной мистики и
теургии. Боэций застал неоплатонизм на стадии его второго расцвета и
начинающегося заката (афинская и поздняя александрийская школы). В
это время все, кто имел намерение приобщиться к философии, будь то
язычники или христиане, еретики или ортодоксы, шли на выучку к
неоплатоникам, так как одному неоплатонизму суждено было оказаться
последней философской школой античности. Естественно, что и Боэций
принял философию от неоплатоников. Когда-то даже считали, что свое
образование он получил или в Афинах, или в Александрии. Сейчас,
правда, так не считают, но с тем, что в «Утешении» Боэций —
неоплатоник, соглашаются все. Влияние на него сочинений Плотина, Ямвлиха
и Прокла ныне уже не подвергается сомнению. Наиболее заметно это
влияние в боэциевском учении об Абсолюте.
Абсолют неоплатоников
Что же нового внесли неоплатоники в платоновскую концепцию
Абсолюта? Если пренебречь различиями (иногда довольно
значительными) во взглядах отдельных представителей этой школы,
неоплатонизм можно кратко охарактеризовать следующими чертами. Здесь
больше, чем у Платона, подчеркнуты единство и динамическая связ-
В поисках нравственного Абсолюта
289
ность сущего, глубже пережита бренность всего временного и
материального (злокачественность материи), яснее выражена причастность
человеческой души к Абсолюту.
В неоплатонизме Абсолютом, безусловным основанием всего
сущего, является «Единое». От него проистекает (эманирует) субстанция
«Ума», посредством которой «Единое» принимает форму всего
мыслимого и мыслящего бытия. Из «Ума» эманирует субстанция «Души»,
производящей изменчивый чувственный мир как свое воление и
представление. Отдельные человеческие души — моменты этой единой
мировой Души, отдельные умы, их мысли и идеи суть моменты единого
надмирового Ума.
Ум — это деградация Единого, так как, хотя он и един в истине
своего бытия, он все-таки есть единство многого, а не абсолютное единство.
В свою очередь, Душа — это деградация Ума, ибо, будучи, как и Ум,
единством многого, она вместе с тем имеет дело не с истинным бытием
(всегда тем, что оно есть), а только с изменчивым становлением, с
обманчивой чувственной природой. Концом эманации служит чистая материя,
которая не имеет ни бытия, ни становления. Единое понимается как Благо
в платоновском смысле. Поэтому деградация Единого, уменьшение
степени единства в сущем означают в то же время утрату добра и благодати.
Чем больше Ум уклоняется к множественности, а Душа — к
изменчивости и материальности, тем больше они погружаются во зло. Отсюда
следует, что привязанность человеческой души к материальным вещам
отдаляет ее от Абсолюта и собственного блага. Душа, отвернувшаяся от
Единого, — исчадие порока и зла, погибшая, мертвая душа. Но существует и
способ спасения души. Это — обращение и возвращение к Единому.
Чтобы вернуться к своему истинному благу, душа должна сначала
очиститься от чувственно-материальной скверны (катарсис),
сосредоточиться и встать на путь ума (созерцание), а затем, упражняя свой ум в
осмыслении оснований истинного бытия, прийти к пониманию того, что ни
ум, ни истина, ни бытие, вместе взятые, не являются самодостаточными и
что они указуют на нечто несравненно более высокое, от чего сами
полностью зависят и обретают свою реальность; это наивысшее и есть
сверхразумное, трансцендентное Единое — Благо. Таким образом, путь наверх,
к спасению и Благу — тот же, что и путь вниз, путь эманации, отпадения
от Единого. Поэтому, чтобы человеку вернуться к утраченному
блаженству, он должен уразуметь, что привело его в падшее состояние. Поскольку
же эманация (деградация) происходит с необходимостью, в
неоплатонизме познание этой необходимости выступает как обязательное условие
освобождения. Ибо полная свобода заключена в том, что, будучи
причиной всего остального, само не имеет над собой никакой причины, и
человек тем свободнее, чем выше поднимает себя к этой причине причин, т. е.
к Единому, а для такого восхождения он должен хорошо знать всю
реальную причинную цепь.
Но как же можно приблизиться к Абсолюту, если он заведомо
превышает сам разум, служащий человеку единственным средством постижения
причин? Неоплатонизм учит, что в том случае, если разум уже исчерпал все
290
В поисках нравственного Абсолюта
свои возможности на пути к Абсолюту, нужно не останавливаться, а
продолжать восхождение, выйдя за пределы разума и предоставив себя
целиком тому настроению, которое вызывается в душе близким присутствием
наивысшего предмета любви и желания, ибо ничто мы так не любим и
ничего так не желаем, как безусловного Блага. Святое возбуждение и
потрясение души, вырвавшейся из цепей рациональной необходимости к свету
свободы, именуемой Абсолютом, называется неоплатониками экстазом. В
сверхразумном (за-умном) экстазе душа человека сливается с
первопричиной и становится поэтому абсолютно свободной, становится богом.
Так в общих чертах выглядит концепция Абсолюта неоплатоников.
Если добавить сюда их учение о бессмертии души и ее странствиях во
времени с перевоплощениями (метемпсюхоз) вплоть до момента
возвращения в лоно Единого, если присовокупить к этому их концепцию
нравственной жизни как очистительной жертвы на алтаре человеческого
счастья, не зависящего от капризов судьбы, и учение их о Провидении,
которое в вечности предопределяет все случающееся во времени, то получится
достаточно полная картина того, что Боэций перенес из неоплатонизма в
свою книгу. Его собственные теоретические добавления к этому (мы
говорим о теории Абсолюта) минимальны. Поэтому вряд ли будет
преувеличением сказать, что в трактовке нравственного Абсолюта Боэций —
чистейший неоплатоник. Теперь, когда мы уже узнали, в чем суть
неоплатонической трактовки, нам нетрудно будет убедиться в правоте этого
тезиса, стоит лишь перелистать страницы «Утешения Философией». В
последующих разделах нашего исследования мы этим и займемся.
Подступы к Абсолюту
Если вы хотите вступить на путь прочного счастья, не пытайтесь
сделать этого прежде, чем очиститесь от ложных мнений, дурных
привычек и порочных страстей. Если вы этого не сделаете, учит Философия в
первой книге «Утешения», черные тучи будут застилать от вас свет
истины и вы из-за этого мрака не сможете даже узнать, куда надо идти. Как же
развеять этот мрак? Как вам, заблудившимся, выйти на верную дорогу?
Ответ Философии очень прост: не надо лезть напролом, надо сначала
оглядеться и признать мрак мраком, а свет светом. Но ведь свет скрыт за
тучами, как же можно без него что-то различить и увидеть? Неправда,
некий свет есть, он светит каждому человеку сквозь тучи его
заблуждений, стоит только обратить внимание. Это свет вашего разума. Он-то и
высветит пространство лжи и озарит путь истины, ведущий к более
великому свету, от которого получает свое сияние и сам разум, к источнику
всякого света и всякого блаженства — к ослепительному и поэтому
непостижимому Благу.
Опровержение в свете разума наиболее типичных ложных мнений,
пагубных для людей, — задача, решаемая во второй книге «Утешения».
Пожалуй, самым распространенным людским заблуждением,
касающимся искомого счастья, оказывается надежда на Фортуну, на
случайную удачу. Люди охотно отдают себя во власть случая, надеясь на «ве-
В поисках нравственного Абсолюта
291
зение», а когда наступает полоса невезения, когда Фортуна
отворачивается от них, они клянут свою судьбу и нередко впадают в отчаяние. Но ведь
все случайное переменчиво по своей природе, и если вы делаете ставку на
случайную удачу, вы должны быть готовы к тому, что за ней обязательно
последует неудача. Если вас это устраивает, не жалуйтесь, если — нет, не
полагайтесь на Фортуну ни в чем, отвернитесь от нее сами, не дожидаясь,
пока она отвернется от вас. От ее предательства не может быть никакой
защиты, она безразлична к мольбам, и, главное, будучи случайностью,
непредсказуема. Впрочем, исходя из ее природы можно все-таки
предсказать с полной уверенностью, что неожиданная удача — предвестие
будущих невзгод. Поэтому желать такой удачи столь же неразумно, как и
страшиться сопутствующей ей неудачи. Кто пошел под ярмо Фортуны,
тот должен запастись терпением и принять ее закон. Правда, этот закон,
или, лучше сказать, характер, нрав Фортуны не поддается рациональному
познанию, но это даже хорошо. Если бы мы заранее знали, когда именно
наступит перемена Фортуны в худшую сторону, мы, все равно будучи не
в состоянии предотвратить это, заранее терзались бы в ожидании
предстоящей беды. К тому же, имея закономерный, предсказуемый характер,
Фортуна перестала бы быть Фортуной, ибо и само слово fortuna
происходит от латинских лексем forte, fortuito — случайно, нечаянно,
непредвиденно. Лучший совет искателям случайного счастья, рыцарям удачи — не
надеяться на долгую благосклонность Фортуны. Ее образ —
вращающееся колесо, где за подъемом непременно следует падение. Так завершается
у Боэция первое наставление о Фортуне, имеющее целью подготовить нас
к более глубокому исследованию.
Далее, как бы предвосхищая свою последующую мысль о том, что
Фортуна сама по себе не так уж случайна и скорее кажется нам таковой,
Боэций приступает к оправданию той, которая только что была названа
им предательницей.
Какое право есть у нас предъявлять богине удачи претензии, если
она отнимает у нас то, что прежде дала даром. Она ведь не обещала нам,
что дает навеки и в неотчуждаемую собственность. Ее дары даются не по
нашим заслугам, а по ее милости и не в пожизненное владение, а взаймы:
что дала, то и забирает назад — ведь все исходящее от нее принадлежит
по праву не нам, а только ей одной. То, что действительно принадлежит
нам самим, отнять нельзя.
Жалуются, что Фортуна непостоянна. А что в этом мире постоянно?
Говорят, что она бросается из крайности в крайность. Но ведь переход
противоположностей друг в друга — всеобщий закон природы. Сетуют,
что Судьба играет человеком; да, но ведь он сам включается в ее игру,
привязываясь к ее колесу, а потом заявляя, что правила игры его не
устраивают. Говорят, что они не ожидали такой перемены Фортуны. Но разве
весь исторический опыт ничему людей не учит? Разве они не помнят, как
кичившийся своим богатством и счастьем лидийский царь Крез был
потом возведен на костер и сгорел бы на нем, если бы Фортуна не послала
тогда нежданный дождь? А сколько подобных примеров из римской
истории? Все они подтверждают один и тот же закон, но для себя мы почему-
292
В поисках нравственного Абсолюта
то требуем исключения, требуем, чтобы именно нам везло всегда. Кто
сочтет количество удач и неудач в своей жизни и поручится, что неудач
было больше? В переменчивости Фортуны есть, во всяком случае,
основание для надежды, что за неудачей последует удача. Однако все дело в
нашей ненасытности и жадности: сколько бы ни посылала нам Фортуна
своих даров, нам всегда мало, а стоит ей забрать назад хотя бы один, мы
устраиваем ей целый скандал. Связав себя с Фортуной, мы всегда
нуждаемся в ее подачках, а тот, кто всегда нуждается, не может считать себя ни
богатым, ни счастливым.
Человек! Чего ты просишь у Фортуны? Богатства, власти, почестей,
славы, наслаждений. Почему не мудрости, скромности, честности, ума,
стойкости духа? Ведь они добываются своим собственным трудом и
являются твоим законным достоянием до конца дней. А те приходят извне и
столь же легко уходят, потому что они не твои; да и сверкают они лишь
поддельным блеском, ибо не подлинная их ценность, а наша поспешная
оценка делает их для нас привлекательными. Если бы дары Фортуны
были настоящими благами, благами по самой своей природе, то их
получение делало бы нас лучше, а утрата — хуже. Но возьмем для примера
богатство. Накопление богатства не делает алчного лучше, как и не делает
щедрого хуже его раздача. С помощью богатства люди хотят избежать
нужды, однако результат получается противоположный: кто многим
владеет, тот во многом и нуждается, ибо для сокровищ нужны «сосуды» и
охрана. К тому же «богатства достаются одним только через разорение
других», а тех, кому они достаются, они лишают спокойной жизни, так
как владеющий богатством живет в вечном страхе его потерять. По этому
поводу Боэций замечает: «Если бы ты вступил на дорогу жизни нищим
путником, ты мог бы петь при встрече с разбойником», и далее
иронически восклицает: «О, славное богатство смертных, обретение которого
лишает их безопасности!»
Ничего подобного не происходило бы, если бы богатство, т. е.
владение внешними для нас вещами, было действительным нашим благом —
благом по природе, а не тем, что по праву принадлежит только Фортуне.
Эту мысль Боэций выразил в прекрасном афоризме, который стоит
передать в его оригинальном звучании: Nunquam tua faciet esse fortuna quae a te
natura rerum fecit aliéna — «Никогда Фортуна не сделает твоим того, что
природа сделала тебе чуждым» (I, пр. 5, 39-40). Так что присвоить себе
так называемые внешние блага никогда и никому не удастся. Наше
богатство не вовне, а внутри нас, в нашей душе. Там все сокровища, все блага,
потенциально соединенные с нашей природой в акте творения, и среди
них разум, который делает человека подобным Богу.
Когда же, забыв о своем высоком статусе, человек, разумная живая
душа, стремится к низшему, к неживым, материальным предметам типа
золота, денег, драгоценностей и т. п., он ставит себя ниже животного, ибо
предмет стремления всегда выше стремящегося к нему. Тот, кто
стремится к материальным благам ради них самих, становится их рабом. Чтобы
выйти из этого рабства, познай самого себя и стань тем, кто ты есть по
природе! Обойтись вовсе без материальных благ человек не может, пока
В поисках нравственного Абсолюта
293
он живет в материальном мире, но пусть они будут для него только
средством, а целью пусть всегда будет душа. Для здоровой естественной
жизни не так уж много нужно, всякий излишек вреден и для души и для тела.
Пока в пору первобытного «золотого века» человек жил просто и
естественно, он был чист, его испортило богатство, а роскошь погубила.
Так рассуждает Боэций о богатстве. В латинской традиции подобные
же рассуждения до него встречаются у Катона, Цицерона, Лукреция,
Вергилия, Горация, Сенеки и многих других римских моралистов. Учение об
ориентации души вверх или вниз и ее богоподобии навеяно, скорее всего,
неоплатонизмом. Из тех же источников черпает Боэций и свои мысли о
власти и почете.
Боже мой! Что только люди ни вытворяют, чтобы получить власть
и почетные должности! Они жертвуют ради этого даже богатством; не
говоря уже о чистой совести. И что же они в результате приобретают?
Жалкую иллюзию власти и место, с которого особенно хорошо видны их
пороки. Ибо действительная власть только у Бога, а человек, как бы
высоко он ни вознесся, бессилен и перед Богом, и перед судьбой, и перед
самим собой (какой властитель умел полностью властвовать над своей
душой и телом?). Да и власть над другими людьми тоже иллюзорна:
можно в какой-то мере распоряжаться телами людей, но нельзя
властвовать над их свободным духом. Лучшим подтверждением этого может
служить рассказ об элейском философе Зеноне, который, когда его
пытали, чтобы он выдал имена сообщников по заговору против тирании,
откусил свой язык и выплюнул его в лицо тирану. Обладание властью не
дает ее обладателю никаких существенных преимуществ, так как он не
может сделать с другими ничего такого, что бы в иных обстоятельствах
не могли сделать и с ним самим. Легендарный Бусирис убивал своих
гостей, его гость Геракл убил его самого. Добавим, что приобретение
власти и ее поддержание отнимают у человека все силы,
сопровождаются страхом ее потерять, окружают завистью в лестью, лишают
возможности жить спокойно и естественно.
Никакая власть сама по себе не является благом. Но если у власти
находится добродетельный человек, он облагораживает и саму власть, а
если злодей — власть становится ненавистной. То же самое можно
сказать и о почетных должностях: не место красит человека, а человек —
место. На высоком месте с наибольшей силой проявляются скрытые
пороки людей, на низком — достоинства. И вот еще что важно: если бы
власть и чины заключали благо в самих себе, то они не доставались бы,
как обычно бывает, людям недостойным, ибо подобное проявляет себя
через подобное, а не через противоположное. Нерон по человеческим
представлениям обладал неограниченной властью, но ведь известно, что,
как пишет Боэций,
«Руины зверь оставил за собой»
(II, ст. 6,1).
294
В поисках нравственного Абсолюта
Вообще по какой-то непонятной причине (она станет понятной чуть
позднее) Фортуна, как правило, осыпает своими дарами — богатством,
почетом, знатностью, чинами, властью — именно недостойных. При этом
добрым она никогда не благоволит, а тех, кому благоволит, не делает
добрыми. Отсюда все тот же вывод: порядочному человеку с Фортуной
связываться негоже.
Есть, правда, одна вещь, зависящая от Фортуны, от которой Боэций,
как истинный римлянин, полностью отречься не может. Это — слава,
добытая гражданским подвигом. Стремление к ней он традиционно считает
делом, достойным благородного человека, однако такого, который еще не
достиг совершенства в добродетели.
Еще Цицерон показал, что в основе нашего стремления к славе
лежит потребность в бессмертии и бесконечности. Осознавая свою
смертность и конечность, человек тем не менее инстинктивно хочет
увековечить себя и распространить свое присутствие. Но он при этом твердо
знает, что своими силами продлить свою жизнь за назначенный ему предел
он не способен. Поэтому он вынужден согласиться хотя бы на то, чтобы
всегда жить в людской памяти. Вообще говоря, воля к славе — это
проявление человеческой тоски по Абсолюту. Наверное, Боэций понимал это,
раз он именно размышлением о славе завершает разбор иллюзорных благ,
чтобы приступить к поискам блага истинного.
Что же заставляет считать суетной даже добрую, даже великую
мирскую славу? Во-первых, ее ограниченность в пространстве. Земля, говорит
Боэций, лишь точка в просторах Вселенной, а слава человеческая, сколь бы
громкой она ни была, даже не на всей земле будет услышана и не везде
оценена по достоинству. Что толку от мировой известности, если «мир»
такой ограниченный и никому, по существу, до тебя нет дела? Ведь
искатели славы хотели бы видеть ее безграничной, а известность всеобщей. Во-
вторых, славу уносит время. И что такое слава сегодня, если завтра она
забудется? Но пусть она будет долгой, все равно в ходе веков и тысячелетий
она угаснет и исчезнет из памяти. А любое конечное время, даже тысячи и
миллионы лет, есть не более чем мгновение по сравнению с бесконечной
вечностью; если же говорить точнее, даже и не мгновение, ибо время и
вечность, конечное и бесконечное несоизмеримы. Суетна слава — она не
выводит имя человеческое из тесного круга конечности и не утоляет тоски по
вечности. Кроме того, у благородного стремления к доброй славе есть
недостойный двойник — тщеславие. Оно-то и будоражит души большинства
людей. Ради того, чтобы хорошо выглядеть в глазах толпы, ради пустейшей
молвы люди жертвуют всеми добродетелями, идут на сделки с совестью, а
подчас и на преступления. Даже философами они не столько желают быть,
сколько прослыть. Люди не хотят понять, что если у души есть только
земная жизнь, то посмертная слава для них, перешедших в небытие,
бессмысленна, а если смерть есть на самом деле высвобождение из земной темницы
для жизни вечной (что, как считает Боэций, не должно вызывать сомнений),
то слава в мире сем поистине ничтожна. Перед роковой неотвратимостью
смерти, чем бы ни была она для нас — концом или началом, — всякая слава
есть пустой звук.
В поисках нравственного Абсолюта 295
Вот чего стоят хваленые дары Фортуны! Но о самом желанном из
них — наслаждении — Боэций здесь пока не говорит, да и вообще
говорит мало, соглашаясь с Эпикуром и всем античным гедонизмом в том,
что стремление человека к богатству, власти, почету и славе связано с
ожидаемым от них удовольствием; так что оно-то и служит подлинным
основанием этого стремления, хотя само удовольствие или наслаждение
(hêdonë, voluptas), согласно Боэцию, влечет нас не как таковое, а как
видимость искомого счастья. Но как бы там ни было, лицедейка Фортуна
завлекает вас только видимостями и тешит только иллюзиями. Поэтому
больше пользы она приносит нам не тогда, когда нас ласкает, а когда
отворачивается. Когда Фортуна долго бывает милостивой (что случается
крайне редко), она усыпляет нашу бдительность и накрепко привязывает
нас к своим иллюзорным, сомнамбулическим благам, уводя от блага
истинного. Когда же Фортуна вдруг отвращается от нас, мы
пробуждаемся и узнаем правду и о ней самой, и о ее «благах», а узнав, хотим
вырваться из ее плена на свободу. Как хорошо говорит Боэций, злая судьба
крюком тащит нас к добру. Исходя из чего, как это ни парадоксально,
можно заявить: радуйтесь, если вам не везет, трепещите, если вам везет!
К примеру, что может быть прекраснее дружбы? Но правильно говорят,
что друзья познаются в беде. Значит, только при неблагоприятной
Фортуне мы можем узнать, кто истинные наши друзья, кто — нет. Римляне
давно заметили, что donee dives eris multis amicis numerabis — «пока
будешь богат, многих насчитаешь в числе друзей». А сколько от них
останется, когда разоришься? Зато останутся друзья настоящие, а не
мнимые. Так поблагодарим же Фортуну, которая, «удаляясь от нас, уводит
за собой своих, а нам оставляет наших»! Немалая услуга с ее стороны.
Ведь дружба (amicitia), явленная нам с ее помощью, — самое большое
богатство, какое только может приобрести человек в этом неустойчивом
и ненадежном мире, ибо дружеская любовь (amor) — это как раз то, что
удерживает в единстве разнородные элементы мира, и то, что правит
небесами (II, ст. 8). Но истинная любовь — это, конечно же, и
блаженство, а что такое блаженство, мы узнаем уже из третьей книги
«Утешения», основной для уяснения боэциевской концепции Абсолюта.
Абсолют у Боэция
Во второй книге, как наш читатель, наверное, заметил, Боэций
движется к своей цели преимущественно посредством «ars rhetorica»12 путем
убеждения и примеров. Ведь его цель здесь пока еще чисто
психологическая — подготовить душу к восприятию истинного блага, освобождая ее
от укорененных ложных мнений и меняя ее ценностные установки. Для
этого искусство риторики — самое подходящее средство. В третьей книге
«Утешения» очистительная пропедевтика сменяется созиданием теории, и
мы вступаем в сферу действия «ars dialectica»13, в область логики и
чистого мышления. Названные разделы труда Боэция отличаются не только по
12 Лат. «риторическое искусство».
13 Лат. «диалектическое искусство».
296
В поисках нравственного Абсолюта
применяемому в них методу, но и по предмету, каковым во второй книге
служит «мнение», а в третьей — «истина».
Еще Платон в диалоге «Федр» (260а - 278) показал, что различие
риторики и диалектики состоит в несходстве их задач: первая предназначена
для того, чтобы всеми средствами убеждения внушить нужное мнение
(истинное или заведомо ложное), вторая — чтобы с помощью логического
доказательства найти истину. Более подробно соотношение диалектики и
риторики рассмотрел потом Аристотель. В «Утешении Философией»
Боэций не только продемонстрировал прекрасную осведомленность в
трактовке обоих «искусств» своими античными предшественниками, но и дал
блестящий пример их взаимосвязанного поэтапного применения для
установления высшего принципа морали. Целевая специфика каждого из
этапов определила круг избранных источников и спектр влияний:
риторическая вторая книга написана в духе популярной античной моралистики
под воздействием сочинений раннего Аристотеля, Цицерона, стоиков и,
возможно, эпикурейцев; диалектическая третья книга, равно как четвертая
и пятая, имеет высокотеоретический профессионально-философский
характер и главный, если не единственный, источник влияния здесь —
неоплатонизм, особенно тот, который представляла афинская школа Прокла.
Поскольку мы уже немного знакомы с воззрениями неоплатоников на
Абсолют, нам остается только последовать за ходом мысли Боэция,
В начале третьей книги Боэций постепенно подводит нас к
определению блаженства (счастья), о котором непрестанно грезит наша душа, но
уяснить себе, что оно такое, никак не может. Блаженство определяется
как то, к чему направлены все усилия и помыслы людей. Это такое благо,
обладание которым не оставляет желать ничего лучшего, ибо если бы его
обладатель мог пожелать чего-то еще, то оно не было бы благом
наивысшим и не давало бы полного блаженства. Поэтому наиболее точным
определением искомого понятия Боэций считает следующее: beatitudo status
bonorum omnium congregatione perfectus est — «Блаженство есть
совершенное состояние, достигаемое сведением воедино всех благ» (III, пр. 2).
Люди как раз этого и хотят — того, что удовлетворило бы сразу
все их желания. Они хотят своего полного, завершенного, абсолютного
блага — счастья. Такова их природа. Но каждый человек видит свое
высшее благо по-своему. Одни считают, что все их желания
исполнятся, если они станут богатыми. Другие думают, что они исполнились
бы, если бы у них была власть. Третьи надеются достичь того же через
почет. Четвертые уповают на славу. Но большинство людей полагают,
что целью всех человеческих стремлений должна быть жизнь всегда
приятная и наполненная удовольствиями. Вместе с тем люди часто
путают цель и средства. Им кажется, что они стремятся к богатству, а в
действительности им хочется стать богатыми, чтобы иметь власть ндд
другими или получать чувственные удовольствия. Иные, стремясь к
славе, хотят богатства и власти, иные, желая богатства и власти, хотят
на самом деле славы. Даже телесные достоинства некоторые относят к
категории высшего блага, думая про себя, что рост и физическая сила
В поисках нравственного Абсолюта
297
дадут могущество, красота и ловкость — славу, а здоровье —
чувственные удовольствия.
Впрочем, у всего этого есть свои скрытые резоны. Ведь за
стремлением к богатству, достатку стоит желание ни в чем не нуждаться, быть
самодостаточным, имея все, а это, согласно определению, и есть основной
признак блаженства. А власть или могущество? Разве наилучшее
состояние духа, называемое блаженством, может быть бессильным? И разве
наилучшее не достойно почета и славы? А что это за блаженство, если в
нем нет никакой радости и никакого удовольствия? Из этого видно, что
природный инстинкт безошибочно указывает человеку на его благо, и не
его вина, что человек, опьяненный иллюзиями, сбивается с пути и
противоестественно поворачивает на стезю зла.
Но почему же то, в чем природный инстинкт угадывает подлинные
блага, не только не приносит людям счастья, но даже ввергает их в
бедствия? Дело в том, что инстинкт извращается мнениями людей и на место
истинного блаженства, к которому он зовет нас, водворяется блаженство
мнимое, «фальшивый образ блаженства» (III, пр. 3). То, что люди именуют
богатством, достатком, мало общего имеет с подлинной
самодостаточностью (sufficientia), к которой влечет инстинкт. Ведь даже величайшая
роскошь и сказочное богатство не устраняют нужду. Чего мы желаем, в том и
нуждаемся, но никакое богатство не способно утолить всех наших желаний,
в особенности — духовных. Больше того, у богатства есть свойство
умножать желания, что ведет к нарастающей неудовлетворенности,
противоположной самодостаточности. Мы уже говорили раньше, что материальные
богатства легко ускользают и порождают новую нужду — в охране и опеке.
Кто осмелится назвать блаженным богатея, трясущегося над своими
сокровищами? Этакого Скупого Рыцаря или Гобсека? Или лучше сказать
словами самого Боэция: naturae minimum... avaritiae nihil satis est — «природе
достаточно самого малого, жадности ничего не достаточно» (III, пр. 3).
А что сказать о высоких чинах, от которых мы ждем почета и
уважения? Ведь они ни на йоту не прибавляют нам уважения людей, которого
мы заслуживаем сами по себе, потому что «добродетели присуще
собственное достоинство» (III, пр. 4). Наоборот, если на высокий пост
выдвигается человек порочный, его пороки становятся заметны, уважение к нему
падает и сам этот пост опорочивается им, а если его занимает
добродетельный и мудрый человек, то, ничего не приобретая сам, он увеличивает
почтение к посту. Что же касается чисто внешнего почета, то он
настолько же условен, насколько далек от внутреннего непринужденного
уважения. Как и все, что зависит не от природы, а от человеческого
установления, чинопочитание есть явление временное, местное и зависящее от
мнений толпы. Таким образом, высокие должности не заключают в себе
никакого собственного достоинства, а на практике чаще служат
недостойным. Верно говорит Боэций:
«Разве стоят почести чего-то,
Коль бесчестным людям достаются?»
(III, ст. 4).
298
В поисках нравственного Абсолюта
От власти мы ожидаем ощущения собственной силы и могущества,
неотделимых от блаженства. А что имеем? Чем больше власть, тем
больше страха ее потерять, тем больше забот и тревог, с ней связанных. Даже
царская власть не бывает долгой и не распространяется далеко, ибо за
пределами царств есть другие царства и у престолов всегда стоят алчные
наследники. Цари всегда находятся в руках царедворцев и живут как под
дамокловым мечом. Что же это за могущество, которого страшатся его
обладатели и которое не может защитить самого себя?! Власть
порабощает и часто делает невозможным отказаться от нее. Властители одиноки и
редко имеют настоящих друзей, зато вероломных искателей их дружбы
всегда предостаточно. «А ведь и чума нанесет меньший вред, чем враг,
прикинувшийся другом» (III, пр. 5). Получается, что земная власть не
прибавляет могущества, а обнажает бессилие.
О земной славе уже достаточно было сказано раньше. Ее суетность,
эфемерность и зависимость от настроений толпы вряд ли могут служить
основой подлинного блаженства. Не больше надежды следует возлагать
на знатность происхождения. Ведь, ссылаясь на свою знатность, мы
хвалимся не своей, а чужой славой. Все мы происходим от единого Бога,
поэтому не бывает низкого происхождения, а бывают низкие люди.
Наконец, имеют ли родство с блаженством телесные наслаждения?
Ничего общего. Стремление к ним равняет человека с животными, а что
можно сказать о животном блаженстве?! К тому же в блаженстве нет
избытка — чем его больше, тем его больше. А избыток удовольствия ведет к
уничтожающему его страданию. Да и сама жажда наслаждений есть
изнуряющая мука.
Существует еще вид удовольствий, происходящих от брака. Этот
вид вполне благороден, но разве радость, которую несут нам наши дети,
не омрачается тысячью тревог за них и волнений от них. Недаром
говорят, что наши дети — наши мучители. Не ведет к блаженству и внешняя
красота, ибо «она преходяща и более быстротечна, чем весеннее
цветение» (III, пр. 8).
Итак, ни один из предметов человеческих вожделений не несет нам
радости без боли, добра — без зла. И ни один из них не дает нам того, что
обещает: «Невозможно обрести ни достатка через богатство, ни
могущества через царскую власть, ни уважения через чины и почести, ни
знаменитости через молву, ни радости через наслаждение» (III, пр. 9). И все это
потому, что подлинное человеческое благо едино и неделимо, а люди
необдуманно дробят его на кажущиеся части, принимая какую-либо из них
за целое и устремляя на нее все свои усилия. Естественно, что эти усилия
оказываются бесплодными. Ибо, целиком отдаваясь накоплению
богатства, люди не радеют о власти, избегают известности, отказываются от
удовольствий, теряют здоровье, а в конце концов и уважение ближних.
Подобно пушкинскому Кащею, они чахнут над златом. А те, кто всеми
силами стремятся только к власти, растрачивают ради нее все свои
богатства, жертвуют честью и славой, пренебрегают наслаждениями. Точно так
же обо всем остальном забывают, отдаваясь своей мечте, честолюбцы,
любители славы и сладострастники. Но ведь блаженство состоит в стяжа-
В поисках нравственного Абсолюта
299
нии всех благ. Потому-то никто из них и не вкушает блаженства. Однако
еще важнее то, что в истинном нашем благе нет внутренних сущностных
различий, а есть только различия в его проявлениях. Поэтому все, что
служит добру, в своем существе совпадает. Истинное богатство,
приобретенное во благо, не может быть бессильным или бесчестным, или
бесславным, или безрадостным. Также и могущество, если оно благое,
подразумевает изобилие, уважение, славу и удовольствие.
Добрая слава немыслима без удовольствия, почета, уважения,
полноты жизни и силы. В свою очередь, подлинное уважение и
действительное наслаждение невозможны без всего остального из перечисленного.
Так что, если ты хочешь приобрести что-нибудь из этого с благой целью,
у тебя нет другого способа, чем приобрести все сразу. И не пытайся,
например, добыть себе славу ценой своего богатства, чести, власти и
удовольствия. Это будет мнимая слава, если не бесславие. Речь, конечно,
идет не об иллюзорном материальном богатстве, а о том, что является
твоим богатством подлинным — богатством души, не о власти над
людьми, а о власти над собой. И честь здесь означает не внешний почет, а
честность с твоей стороны и внутреннее уважение со стороны людей. Что
же касается удовольствия, то говорится здесь о радостном состоянии
духа, сопровождающем любое благое твоё деяние. Так вот, без всего этого
не добыть тебе доброй славы.
Теперь ясно, что высшее благо, к которому обращены все наши
стремления, есть одновременно и богатство, и власть, и почет, и слава, и
удовольствие, если они истинные. Но тогда высшее благо и высшее
блаженство — одно и то же, ибо в этом благе — средоточие всех благ, что по
определению и есть блаженство. Где же обитает такое благо, где искать нам
нашего блаженства? Ведь мы уже устали блуждать в сумраке смертного
мира, соблазняемые привидениями, которые под личинами наших благ
скрывают злобные гримасы наших несчастий. Где же выход? Он есть, но,
чтобы вступить в обитель Блага, надо прежде решительно изменить
направление пути, перевести взор с дольнего к горнему. Это сделать
непросто, и Боэций предлагает нам для успеха дела последовать примеру
Платона, который в «Тимее» (27 Ь), прежде чем взяться за объяснение
происхождения и устройства космоса, обратился с молитвой к Богу. И вот перед нами
произнесенная в стихотворной форме молитва Боэция — лучший
поэтический текст во всем его сочинении, компактно и красочно выражающий
основные идеи платоновского «Тимея» в неоплатоническом прочтении. Бог
мыслится здесь как начало и конец всего сущего, как зодчий, создавший
мир в силу своей благости и по благому замыслу, вечно пребывающему в
божественном уме, как заботливый Отец человеческих душ, как вышний
свет, озаряющий путь, который ведет человека к счастью. В следующей за
молитвой прозаической части Боэций, как бы озаренный этим светом, сразу
же открывает природу высшего Блага. Оно есть сам Бог.
То, что высшее, совершенное, абсолютное Благо существует,
доказывается из существования благ несовершенных и относительных, ибо
понятия несовершенного и относительного не являются
самостоятельными и имеют смысл только при наличии совершенного и абсолютного.
300
В поисках нравственного Абсолюта
Ведь «недостаточно белое», «не очень чистое», «не очень доброе», «не
совсем красивое» могут иметь смысл, только когда уже известно, что
такое «белое», «чистое», «доброе» и т. п. Так и в несовершенном нашем
мире: любой дефект вещей предполагает первоначальную целостность; о
болезни мы судим по здоровью. Согласно Боэцию, «природа вещей берет
начало не от чего-то ущербного и неполноценного, но, наоборот, —
происходя от целостного и абсолютного, она, вырождаясь, распадается до
крайних пределов своего бессилия» (III, пр. 10). Здесь чувствуется явное
влияние идеи эманации.
Итак, если в мире мы встречаемся с несовершенными благами, то
обязательно есть и благо совершенное, его-то мы и называем Богом. А то, что
Бог — это единственное совершенное благо, а, следовательно, и
единственное наше блаженство, вытекает из его понятия. Ведь все мы в понятие Бога
вкладываем один и тот же основной смысл: Бог есть тот, выше которого и
совершеннее которого ничего быть не может. Значит, нельзя допустить, что
верховное благо превышает Бога. В понятие Бога включается также и то,
что Он есть начало и причина всего сущего, но ничто не превосходит
своего начала. А двух богов (или более) не может существовать потому, что
тогда ни один из них не был бы совершенным благом. Ибо у совершенного
блага, как мы уже видели, нет ничего такого, чего бы ему недоставало, а в
случае двух различных богов каждому из них будет не хватать того, что
есть в другом. Поэтому существует только единый Бог — совершеннейшее
Благо и высшее Блаженство. Отсюда следующий вывод: поскольку в Боге
благость и блаженство совпадают с Его божественностью, то путь человека
к блаженству проходит через богоуподобление, обожение, и «всякий
блаженный — это бог». «Хотя по природе Бог, конечно, один, но ничто не
мешает многим быть богами по причастности» (III, пр. 10).
Дальше Боэций решает вопрос о том, как единство Бога, который
есть высшее благо, совместить с многоликостью тех благ, к которым
стремится человек. Все, к чему мы стремимся, является или благом, или
подобием блага, но и подобия получают свою привлекательность только
благодаря причастности благу. Поэтому иллюзия, что высшее благо, или
блаженство, складывается как сумма частных благ, легко преодолима.
Благо едино, а не составно, ибо един сам Бог, и человек может достичь
блаженства только с Богом.
Но благо не просто едино, оно источник всякого единства, более
того, оно и есть само Единое. Вторя неоплатоникам, Боэций полностью
отождествляет Благо и Единое, поднимая их (точнее — Его) над любым
бытием. Все существующее начинает существовать, только обретая
единство, и продолжает свое бытие пока едино, гибель же любой вещи — это
разъединение, утрата единства, распад. Точно так же и блаженство: его
нет, покуда оно представляется раздробленным на иллюзорные части, оно
есть, когда все эти части возводятся к единому целому — высшему благу.
Эта Единое-Благо и есть искомый нравственный Абсолют, который в
силу своей благости наделяет единством все сущее, чтобы оно было, и
который в силу своего единства создает мир максимально упорядоченный и
гармоничный, чтобы он был наилучшим из возможных. Этот благой Абсо-
В поисках нравственного Абсолюта
301
лют есть единый Бог, обладающий безграничным могуществом и
бесконечной добротой, поэтому в мире нет ничего, что могло бы или пожелало бы
(по здравом размышлении) противиться Его воле, ибо каждый должен
признать, что такой правитель мира заранее все предусмотрел и устроил как
нельзя лучше. Проникнуть в его замысел для человека невозможно, так как
Бог выше бытия и само бытие получает от него законы. Наш разум
способен рассуждать только о том, что может «быть» и не дальше. О том же,
почему оно именно так должно «быть», знает один Бог. Человек, знающий,
что Бог — высшее благо, обязан верить, что под Божиим управлением все
происходящее в мире идет наилучшим образом и все служит добру.
Но вот вопрос: если Бог всемогущ, разве есть для него что-нибудь
невозможное? Разумеется, нет. Значит, Бог мог бы сотворить и зло? И опять —
нет, ведь Он — абсолютное Благо. Значит, зло не есть что-то такое, что
вообще можно сотворить, и оно может быть только ничем. Зло — ничто.
Поэтому, каким бы мрачным и несправедливым ни представлялся нам мир, что
бы ни вытворяла перед нашими глазами лицедейка Фортуна, мы должны
помнить, что все это только мираж, а на самом деле мы находимся под
надежнейшей защитой всесильного и всеблагого Абсолюта, который свято
хранит наше подлинное добро. Чтобы быть счастливым, никогда нельзя
отступать от этой мысли, вновь впадая в беспамятство. Пусть лицо наше
всегда будет обращено к изливаемому Абсолютом свету, ибо только в этом
горнем свете открываются нам заложенные в нас от рождения семена
правды, из которых произрастает наше счастье. Если же мы своевольно
отвернемся от этого света хоть на мгновение, мы снова и, может быть, навсегда
погрузимся в смертный мрак и, объятые иллюзорным злом, сделаем себя
несчастными. Так не будем же уподобляться Орфею, который сначала
вымолил у смерти свою любимую Эвридику, а потом в один миг потерял ее,
обратив в забывчивости свой взор в сторону ада.
Гимном об Орфее Боэций и заканчивает третью книгу «Утешения»,
посвященную описанию идеи Абсолюта. В последних двух книгах своего
сочинения философ сосредоточивается главным образом на двух темах:
1) как существование нравственного Абсолюта совмещается с
благоденствием порочных людей и страданиями праведников; 2) как
божественный абсолютный Промысл сочетается с человеческой свободой. Наше
знакомство с тем, каким способом Боэций разрабатывает эти вопросы,
будет по необходимости предельно кратким.
Зло и свобода. Теодицея
Пожалуй, немногие согласились бы принять без веских доказательств
упомянутый тезис о том, что зло есть ничто. Слишком уж очевидно
присутствие в мире зла, слишком много в нем страданий и несправедливости,
а самая вопиющая несправедливость, приводящая в недоумение всех
честных и не лишенных чувствительности людей состоит в том, что в мире,
управляемом всемогущим и всеблагим Абсолютом, злым и порочным
людям, как правило, живется хорошо, а добрым — плохо. Получается, что зло
не наказывается, а добро не вознаграждается. Но «как может вообще суще-
302
В поисках нравственного Абсолюта
ствовать или избегать наказания зло, если повелитель всего сущего —
Благо?» (IV, пр. 1). Отвечая на этот вопрос Боэция, его наставница Философия
целым каскадом блестяще построенных аргументов доказывает обратное: в
мире, созданном благим творцом, зло не реально, а иллюзорно, реально же
только благо и оно вознаграждается самим собой, тогда как зло всегда
терпит наказание от своей же иллюзорности. В соответствии с таким
распорядком бытия «добрые всегда могучи, а злые всегда отвержены и
бессильны» (Там же), «добрые всегда счастливы, а злые — несчастны» (Там же).
Дело в том, что всякое человеческое действие предполагает две вещи:
желание совершить это действие и способность, или силу, его совершить.
Кроме того, условием любого действия должна быть цель, на которую
направлено желание, или воля. Так вот, целью всех человеческих стремле
ний — как добрых, так и злых, — как уже было показано, является
собственное благо. Но добрые имеют силу достичь этой цели, а злые —
бессильны. Почему? Потому что добрые идут к благу естественным для него путем
добра, а злые — противоестественным путем зла, не приближаясь тем
самым к благу, а удаляясь от него. Что побуждает злых людей предаваться
порокам и отворачиваться от добродетели, которая есть единственный
способ стать счастливым? Если они не знают своего блага, то они бессильны в
своем невежестве; если знают, но их сбивают с пути страсти — они
бессильны как рабы порока; если же знают и могут, но все же не хотят, то они не
просто бессильны, но и перестают существовать как люди, ибо утрачивают
все человеческое. Таким образом, порочные люди либо бессильны, либо,
если они сознательно порочны, перестают быть людьми.
Раньше было показано, что подлинное могущество есть свойство
Абсолюта, а Абсолют есть Благо; значит, чем более кто-то добродетелен,
тем более он и могуч. Отсюда следует, что порочный тем бессильнее, чем
порочнее, чем глубже погружается во зло. Поэтому, желая себе добра и в
то же время удаляясь от него, злой человек не может не чувствовать
своего бессилия и не быть несчастным. Если же он все-таки устремится к
своему благу, то перестанет быть самим собой, т. е. порочным, и
превратится в другого — в добродетельного. Получается, что чем добрее
человек становится, тем могущественнее он в достижении своей природной
цели (т. е. того, чтобы ему было хорошо), и чем порочнее — тем
бессильнее. Если представить предел этого падения, то легко будет понять, что
зло — это ничто и путь порока — это путь самоуничтожения. Из этих
метафизических соображений следует, что достаточной наградой добрым
людям служит сама их доброта, отвечающая наилучшим образом их
человеческому предназначению, а наказанием злым служит их злоба, закрыт
вающая им путь к счастью. Так что, «награда никогда не минует добрых
дел, а наказание — злых» (IV, пр. 3). И нечего нам бояться, что
порочность дурных людей помешает нам вкусить плод нашей добродетели: ее
плодов не надо ждать и не надо искать, они в обретаемой в добром
делании душевной доброте, в самой нашей душе. Отнять этого нельзя, а
потерять свое благо можно, только лишившись этой доброты. Если же
вспомнить, что блаженство есть обладание истинным благом, то станет
совершенно ясно, что добрый человек не может не быть счастливым. Больше
В поисках нравственного Абсолюта
303
того, приобщаясь к добру, он живет жизнью Бога. Человек же порочный,
допуская зло в свою душу, уничтожает лучшую часть своего существа,
опускаясь на уровень животного, зверя. Недаром говорят, что разбойник
подобен волку, трусливый — зайцу, коварный — лисе и т. п.
Таким образом, порочный человек наказывает себя своим собственным
злом, а доброму он повредить не может. При этом злые более несчастны
тогда, когда их дурные желания исполняются, чем когда они остаются
неисполненными, ибо беда для человека — желать зла, еще большая — мочь его
исполнить, и еще большая — совершить зло (TV, пр. 4). Ведь если кто-то
хочет совершить преступление, но по каким-то причинам не может, он все-таки
дальше от злодейства, чем если может. Если же он не только хочет и может,
но и совершает преступление, он уже полный злодей, погубивший свою
душу. Поэтому, получая от судьбы возможность совершить злодеяние,
преступник тем самым наказывается за свое желание совершить зло.
Подобным же образом доказывается, что порочные тем несчастнее,
чем дольше длятся их злые дела (их душа тогда коснеет во зле), и что они
счастливее тогда, когда их наказывают, чем когда они избегают
наказания. Ведь правосудное наказание, как и всякая справедливость, — это
добро, а приобщение к любому добру всегда благотворно для души и
приближает к счастью. Безнаказанность вредит больше всего самому
преступнику; несчастны избежавшие наказания, ибо они подобны больным,
оставленным без лечения.
По этой же логике несчастнее тот, кто совершил зло, чем тот, кто от
него пострадал; обидчик всегда несчастнее обиженного. Поэтому, говорит
Боэций, в судах большей жалости заслуживают преступники, чем
потерпевшие. Ведь потерпевшему нанесли ущерб извне и сам он злу не причас-
тен, а виновный принял зло в себя, значит, принял и несчастье.
Наказывать преступников нужно не из мести, а из сострадания. «У
мудрых нет места ненависти» (Там же). Только порочные платят злом за
зло, добрые зла не держат.
Однако остается вопрос: если даже злодеи в конечном счете
оказываются несчастными, а добродетельные счастливыми, почему все-таки
дары Фортуны распределяются между ними так, что на долю честных, как
правило, достаются одни тревоги и испытания, а на долю порочных —
чуть ли не все, что они пожелают? Похоже на то, что судьбы людей
определяются чистой случайностью или даже каким-то злым умыслом, а не
благим божественным Промыслом. В ответ на эти сомнения Философия
развивает теорию отношения судьбы и Провидения.
Случайность бывает двоякой. Во-первых, этим именем называют то,
для чего не могут найти разумных причин. Такая случайность —
кажущаяся, так как для более сильного ума она может оказаться
необходимостью. Незнание причин явления не может быть основанием для отрицания
его закономерности:
«Если из мрака невежества выйдем
Все прояснится, что мнилось нам странным»
(IV, ст. 5).
304
В поисках нравственного Абсолюта
Во-вторых, под случайностью подразумевают то, что понимал под
ней Аристотель, — непредвиденное совпадение (пересечение) причинных
рядов явлений, которое дает неожиданный результат. Такая случайность
имеет объективную основу и на ней держится человеческая свобода.
Боэций начинает с опровержения понятия случайности как
беспричинности. Он, точнее его Философия, констатирует, что только глубокое
невежество могло привести людей к представлению о беспричинной
слепой случайности их судеб и безразличии Бога к происходящему в
человеческом мире. Считая уже ранее доказанным, что мир и весь его порядок
производятся, поддерживаются и направляются благим Богом, Боэций
разъясняет механизм божественного управления миром. Это управление
осуществляется через Провидение и судьбу. Провидение есть
содержащийся в божественном разуме образ мира, включающий в себя все детали
мирового процесса, взятого сразу во всей его истории, во всех его
причинах и следствиях, формах и связях. Провидение — это то, каким мир
видит Бог в полноте и чистоте своего абсолютного знания и видения.
Провидение, будучи разумом Бога, не подлежит времени и пребывает в
вечности, поэтому оно неизменно, а следовательно, то, что предначертано
Провидением, не может не произойти именно так, как предначертано.
Судьба же — орудие Провидения, с помощью которого оно воплощает
свой целостный план мира применительно к месту и времени. Провидение
одно, судеб много, у каждой вещи — своя. Однако все судьбы
взаимосвязаны, так как изначально входят в единый план Провидения, в котором
каждое событие и каждая вещь занимают самое подходящее для них и для
всего целого место. Иначе говоря, в судьбах вещей и людей нет ничего
такого, что не было бы предусмотрено божественным благим
Провидением. «Все, подчиненное судьбе, подвластно и Провидению, которому
подчиняется сама судьба, но некоторые вещи, подвластные Провидению,
находятся за пределами власти судьбы» (IV, пр. 6). Ведь судьбы
располагаются вокруг Провидения подобно колесам вокруг их оси: чем больше
радиус колеса и, значит, чем дальше обод отстоит от центра оси, тем с
большей скоростью будут вращаться точки обода в то время как центр
будет оставаться неподвижным. Наоборот, чем ближе точки вращения к
центру, тем меньше они зависят от времени и тем меньше отличаются от
самого центра.
«Так и отстоящее дальше от своего начала — божественного
разума — подвержено превратностям судьбы в большей степени, ибо
подвластность судьбе зависит от степени удаленности от средоточия
всего сущего» (Там же). Если же кто-то достигает достаточно полного
единства с Богом, он избавляется от суетного кругового движения,
обретает душевный покой и освобождается от роковой необходимости.
Он становится свободным подобно Богу. Итак, судьба каждого
человека соотносится с Провидением Бога, как вращающийся круг со своим
центром, как время с вечностью, как рассуждение с пониманием.
Судьба — это цепь причин, связывающая действия и помыслы людей так,
что в своей совокупности они составляют наилучший порядок,
предусмотренный от века Провидением. Поэтому в любом повороте челове-
В поисках нравственного Абсолюта
305
ческой судьбы нет никакой случайности и нет ничего такого, что,
будучи рассмотренным под углом зрения вечности, не оказалось бы благом.
Кажущиеся беспорядок и зло — только следствие нашего незнания, а
оно связано с тем, что мы слишком крепко привязаны к колесу судьбы
и видим мир только со стремительно вращающейся точки. Мы рабы
места и времени, рабы суеты.
Мы сетуем на то, что порочные процветают, а добродетельные
незаслуженно страдают. Но откуда мы знаем, что скрывается за этим
процветанием или страданием? Кто вычислил глубину человеческих душ, чтобы
знать, чего они по праву заслуживают? Кто проник в тайные замыслы
Провидения? Кто сумел точно установить справедливую меру воздаяний
за дела человеческие?
Но Провидение устраивает так, что даже дурные намерения
порочных обращаются против их воли во благо. Добрым оно посылает иногда
испытания, чтобы укрепить их в добре. Злым оно нередко показывает
образцы проявленного к ним великодушия, чтобы или погасить их злобу,
или не дать ей разрастись. Святых оно бережет, праведных закаляет,
порочных лечит всеми средствами и гордых и робких учит горестями. А
если кто-то из порочных удачлив, Провидение показывает этим, чего
стоит Фортуна. Если бедность сделала бы человека много хуже, Провидение
посылает ему богатство. Оно лишает счастливцев счастья, если те не
умеют им пользоваться. Ставит у власти жестоких, чтобы наказать
порочных и укрепить праведных. Ведь тем самым порочные могут порочных же
сделать добродетельными. Однако человеку не дано постичь все те
механизмы, которыми пользуется для благих целей Провидение. Ему
достаточно знать, что все создано Благом и к этому же Благу возвращается, что
зла реального нет нигде, а кажущееся зло ничтожно, что единственная
сила, ведущая к настоящему блаженству, — это любовь. А отсюда
следует, что любая Фортуна есть благо, ибо всякое кажущееся несчастье, если
не закаляет и не исправляет, то, значит, наказывает. Помня об этом,
человек должен, подобно Гераклу, бесстрашно проходить все назначенные ему
в этой жизни испытания, чтобы потом устремиться к звездам.
Нам осталось коснуться последней и самой сложной проблемы бо-
эциевской этики, на решение которой он направил самое ценное в своем
таланте — всю силу логического мышления. В данной работе мы, к
сожалению, не имеем возможности продемонстрировать тонкость и блеск его
аргументации, показать Боэция там, где он чувствует себя мудрым царем
в своем царстве. Это потребовало бы от нас просто переписать весь текст
пятой книги «Утешения» — выпустить что-либо из его доказательств
значило бы их ослабить или же сделать непонятными. Поэтому ограничимся
кратким резюме.
В предыдущей книге доказано, что случайности как слепого случая
не существует. Но тогда остается выбирать одну из двух возможностей:
либо случайности нет вообще и все происходит в силу необходимости, не
оставляя места никакой свободе; либо свобода есть и не все подчиняется
необходимости, а следовательно, есть и какая-то случайность.
306
В поисках нравственного Абсолюта
Но если признаем мы, что миром и всеми заключенными в нем
вещами правит божественное Провидение, без ведома которого и волос не
падает с нашей головы, мы вынуждены признать и то, что все с
необходимостью подчиняется Провидению и что не только все человеческие
действия, но даже желания и мысли изначально предустановленны Богом и не
могут своевольно отклониться от Его замысла ни на шаг.
Спасая человеческую свободу, Боэций, как и его предшественники
(Аристотель, стоики, Цицерон), избирает вторую сторону дилеммы.
Прежде всего он возвращает в мир случайность, но не как слепой
беспричинный случай, а как coincidentia — совпадение, пересечение причинных
рядов. Он вводит и различение двух видов необходимости, одна —
«простая», которую Лейбниц впоследствии назовет метафизической или
геометрической. Эта необходимость столь же неотменима, как и законы
геометрии или логики. Она проистекает из природы подчиненных ей
объектов: например, то, что человек умрет, «просто» необходимо потому, что
человеческая природа смертна. Вторая необходимость называется
«условной», ибо она выполняется только при каких-то условиях. Например,
если я сижу, то необходимо, что я сижу, хотя сам по себе факт сидения
здесь и сейчас не вытекает ни из моей природы, ни из природы сидения.
Все, что условно необходимо, при отсутствии условия случайно.
Из всего этого Боэций выводит возможность свободы. Бог вечен, и
он от вечности знает все, что с миром и каждой вещью произойдет во
времени. Однако способ видения временного в вечности отличается от
того, которым оно видится во времени, ибо вечность и время отличаются
не длительностью, а формой существования. «Вечность — это
совершенное обладание сразу всей полнотой бесконечной жизни» (V, пр. 3).
Значит, для вечного нет ни прошлого, ни будущего, для него — все в
настоящем. Время, пусть даже не имеющее ни начала, ни конца,
несоизмеримо с вечностью, ибо в нем никогда нет полноты и завершенности; в нем
одно мгновение уже ушло, а другое еще не пришло. Видя все вещи в
вечности, Бог видит и знает абсолютным образом не только необходимое, но
и случайное. Хотя они не могут быть иными, чем Бог их предузнает в
вечности, это не лишает причины необходимые и случайные их различия,
ибо предвидение само по себе не налагает необходимости. Также и то, что
по своей воле делает человек, известно Богу заранее, но оно известно Ему
именно как свободное.
Таким образом, человек, управляемый Богом, сохраняет свободу воли,
и, следовательно, отвечает за свои поступки. И эта идея венчает собой всю
теорию оправдания Бога-Абсолюта, источника всякой нравственности, за
существующее в мире неуловимое, но впечатляющее зло. Теория эта,
называемая теодицеей, провозглашает, что никакого реального зла в мире,
созданном благим Творцом, просто нет, а за иллюзорное зло всю
ответственность несет человек. Так завершается учение Боэция об Абсолюте.
СЕВЕРИН БОЭЦИЙ
И ЕГО РОЛЬ В ИСТОРИИ
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
(К 1500-летнему юбилею)
В наше время имя Боэция не часто включают в перечень имен
виднейших деятелей европейской культуры. В самом деле, как ученый
Боэций не был ни новатором в теории, ни крупным изобретателем; как
философ он не создал никакой собственной системы; в поэзии и прозе он
уступал своим предшественникам — римским классикам; в искусстве он
был только общепризнанным экспертом, но не творцом. И все же след,
оставленный Боэцием в европейской культуре, неизгладим. В
продолжение целого тысячелетия, вплоть до XVII века, идеи, образы, аллегории,
принципы и формулы, почерпнутые из сочинений Боэция, служили одним
из главных источников философских раздумий, ученых изысканий и
художественного вдохновения для бесчисленных его поклонников,
подражателей, комментаторов и переводчиков, среди которых были и такие, как
Роджер Бэкон, Фома Аквинский, Данте, Чосер, Лоренцо Валла и Томас
Мор. «Найдется ли еще хоть один такой автор, — писал исследователь
литературного влияния Боэция Говард Пэтч, — воздействие которого в
столь многих областях мысли, среди стольких несходных сочинителей и в
продолжение столь большого периода было таким же широким, как
воздействие Боэция?»1.
В чем же секрет такой популярности Боэция в Средние века? Что
обусловило сохранение этой популярности и в эпоху Возрождения — в
эпоху, когда почти все средневековые авторитеты были поколеблены?
Что у Боэция остается значимым и сегодня, когда мы отмечаем его полу-
торатысячелетие? Чтобы ответить на эти вопросы, следует напомнить: (1)
об основных результатах научно-философского творчества Боэция и
некоторых идейных особенностях его главного труда — «Утешение
Философией», (2) об отношении Боэция к религии и философским партиям его
времени, (3) об исторических судьбах его литературного наследия.
* * *
Аниций Манлий Торкват Северин Боэций (ок. 480 - ок. 524 гг.) жил в
один из самых трудных и критических периодов европейской истории — в
период крушения античной цивилизации и вступления Западной Европы в
1 Patch IL R. The Tradition of Boethius. Ν. Y., 1935. P. 45.
21*
308 Северин Боэций и его роль в истории культуры
эпоху раннесредневекового варварства. В свете перспективы дальнейшего
развития культуры первоочередной задачей данного периода было спасение
духовных ценностей античного мира путем включения их в
формирующийся универсум средневековой мысли. Решению этой задачи и посвятил
Боэций все свое научно-философское творчество.
Первым крупным результатом его научной деятельности была
передача латинскому Средневековью древнегреческих наук
«математического» цикла, т. е. наук «квадривиума». По свидетельству его современника
Флавия Кассиодора2, Боэций уже в юности перевел с греческого на
латинский сочинения Архимеда, Евклида, Птолемея и Никомаха, никогда ранее
не переводившиеся, так как греческий язык всегда оставался
общеевропейским языком античной науки. Когда в последующий период раннего
Средневековья греческий язык был почти полностью забыт на Западе,
переводы Боэция, а точнее, составленные на их основе учебные
руководства (Institutiones), оказались на долгие столетия едва ли не
единственной возможностью знакомства латинян с элементами античного
математического знания. Во всяком случае, боэциевские трактаты по арифметике
(Institutio arithmetica) и музыке (Institutio musica) входили в обязательный
образовательный минимум западноевропейского ученого вплоть до XV
века, а в университетах Англии изучались еще и в XVIII веке.
Не менее значителен вклад Боэция в средневековую логику (т. е.
«диалектику» — третью часть «тривиума»), которая и самим своим
возникновением и почти всем своим содержанием до середины XII века была
обязана его латинским переводам и комментариям. На данном этапе
основу этой логики составляли боэциевские переводы «Категорий» и «Об
истолковании» Аристотеля и «Isagoge» Порфирия, всегда
воспринимавшиеся вкупе с его же комментариями на эти работы. Известно, что в двух
комментариях Боэция на «Isagoge» была впервые четко сформулирована
поставленная ранее Порфирием проблема универсалий — проблема,
которой суждено было стать одной из центральных во всей схоластической
философии. Более того, Боэций указал здесь и на возможные способы ее
решения (способ Платона и способ Аристотеля), утвердившиеся потом в
средневековом реализме и номинализме. Таким образом, в своих
логических работах Боэций выступил как зачинатель схоластики.
То же самое можно сказать и о его «теологических трактатах»,
принадлежность которых Боэцию долго оспаривалась и была убедительно
доказана только в конце девятнадцатого века Германом Узенером3.
Историческое значение этих трактатов чрезвычайно велико. Мартин Грабманн,
известный томист и историк философии, не без оснований считал, что из
всего наследия Боэция именно они оказали наибольшее влияние на
формирование схоластического метода4. Хотя предметом этих трактатов
служат вопросы богословской догматики, их метод остается чисто философ-
2 См.: Patrologiac cursus completus. Scries Latina. Ed. Migne. T. 63, col. 536 В (далее —
P.L.).
Usener tf. Anecdoton Holdcri. Ein Beitrag zur Geschichte Roms in Ostgotischcr Zeit.
Bonn, 1877.
4 Grabmann M. Die Geschichte der scholastischen Methode. Berlin, 1957. Bd. 1. S. 149.
Северин Боэций и его роль в истории культуры 309
ским, аристотелевским и логистическим по духу. Они напоминают
виртуозные упражнения музыканта на произвольно заданную тему.
Происхождение и значение темы мало интересует Боэция, все его внимание
сосредоточивается на красоте и убедительности доказательств, на взаимных
переходах и переливах понятий. Так, в трактате «De Trinitate» вопрос о
божественном триединстве разбирается путем тончайшего анализа
платоновской понятийной пары «тождество-различие» и десяти
аристотелевских категорий. В трактате против Евтихия и Нестория теологически и
«политически» острая в то время проблема единства двух природ Христа
обсуждается на уровне логического анализа терминов «бытие»,
«субстанция», «природа», «сущность», «личность» и т. п.5. В духе философских
упражнений, а не религиозного сочинительства написаны и два других
теологических трактата Боэция6. Рассудочная западная схоластика
переймет потом эту манеру у Боэция, ее теологические сочинения часто будут
напоминать хрестоматии по логике.
Последним и самым знаменитым произведением Боэция является его
философско-поэтический шедевр «Утешение Философией» — самая
популярная книга в Средние века, названная позднее «золотой книгой»
(Эдвард Гиббон). Она была создана философом при весьма драматических
обстоятельствах: в ожидании казни, в тюрьме, куда он был брошен по
указанию тогдашнего правителя Италии, остготского короля Теодориха,
незадолго до этого возвысившего Боэция до положения своего первого
министра.
Как и большинство других книг, написанных в тюремных застенках
или в изгнании, «Утешение Философией»7 — книга автобиографическая.
Однако это автобиография философа, философская исповедь, где
последнему анализу подвергаются не столько факты личной жизни, сколько
собственное мировоззрение и руководящие моральные принципы, где все
мучившие в прошлом философские вопросы вновь встают с небывалой
остротой и получают наконец решение в соответствии со всем опытом прожитой
жизни. Судьба сделала Боэция полигистором и эклектиком. Он остается
таким и в «Утешении». Для выражения своих сокровенных мыслей и
переживаний он пользуется всем арсеналом когда-то освоенных литературных
средств и приемов — поэтических, прозаических и даже драматических,
совмещая в одном произведении многоразличные жанры: «протрептик» —
по примеру Аристотеля, Цицерона и Ямвлиха; сатуру — в подражание
Варрону и Марциану Капелле; сократический диалог — в подражание
Платону; моральную диатрибу — по примеру стоиков; исповедь — следуя,
5 Для греческих оригиналов ряда философских терминов Боэций впервые
устанавливает здесь твердые латинские эквиваленты. Здесь же он даст несколько важных для
будущего определений и среди них — классическое для схоластики определение «личности»,
«лица» (persona): «лицо есть неделимая субстанция разумной природы» (persona est naturae га-
tionalis individua substantia) (P. L., 64 col. 1343 CD).
6 Подробнее о теологических трактатах см.: Майоров Г. Г. Формирование
средневековой философии. М., 1979. С. 373-379. См. также: Barret Н. Bocthius. Some Aspects of his Time
and Work. Cambridge, 1940. P. 142-152.
7 Boethius. De consolatione philosophiae libri V. Ed. R. Peiper, Lipsiac, 1871. (Далее:
Cons.; сноски на это сочинение даны в тексте.)
310 Северин Боэций и его роль в истории культуры
возможно, Августину; спекулятивно-философский трактат — в духе Пор-
фирия. То же можно сказать и об идейном содержании «Утешения». Боэций
затрагивает здесь в той или иной мере почти весь круг известных
античности фундаментальных философских проблем, но в их решении он проявляет
больше понимания и осведомленности, чем творческой оригинальности. В
вопросах онтологии и космологии он в основном следует Платону и
неоплатоникам, широко используя платоновский «Тимей», а также их
предшественникам — орфикам и пифагорейцам. Кроме того, в двух кардинальных
пунктах своих рассуждений; а именно, при определении понятия
«случайность» (Cons. V, рг. I (313)) и понятия временной безначальности и
бесконечности мира (Cons. V, рг. 6 (349)), он опирается на авторитет Аристотеля,
ссылаясь на соответствующие места «Физики» и «О небе». Не забывает он
и своих наставников в естествознании. Его глубокие размышления о
несоизмеримости конечных и бесконечных величин (Cons. II, рг. 7 (158))
вдохновлены занятиями греческой математикой и восходят, возможно, к идеям
Архита, Архимеда или Диофанта, а его сравнение земного шара с точкой
внутри небесной сферы он сам возводит к Птолемею (Cons. II, рг. 7 (156)).
Что же касается антропологии и теории познания, то здесь Боэций почти
чистый платоник. Тело он называет темницей души, хотя идею бессмертия
души оценивает лишь как вероятную, а не достоверную (Cons. II, рг. 7
(159)). Он говорит, что истина обитает «в глубинах человеческого духа», а
ее познание состоит в припоминании (Cons. Ill, m. 11 (242-244)). Не
отрицая полностью роль чувств в познании и утверждая даже, что в
познавательном акте генетически первичен чувственный объект, Боэций вместе с
платониками выступает против стоического и эпикурейского сенсуализма,
против идеи души — «tabula rasa» (Cons. V, m. 4 (339)). В пятой книге
«Утешения», где теория знания рассматривается довольно подробно, он
анализирует четыре восходящие ступени познания (чувство, воображение,
рассудок, разум) в духе гносеологии Плотина, подчеркивая формальную
независимость высших ступеней от низших и настаивая на решающей роли
активности ума (а не внешнего воздействия) в познавательном процессе
(Cons. V, рг. 4). Наконец, этика «Утешения» обнаруживает целый спектр
влияний и заимствований. Художественный характер первой половины
работы располагал к широкому использованию идей, образов и примеров
популярной греческой и римской моралистики. Моделью для этой части,
по-видимому, послужил аристотелевский «Протрептак» и, возможно,
цицероновский «Гортензий» или его же, Цицерона, «Утешение» (все эти
произведения ныне утрачены). Влияние стоиков, из которых в книге уважительно
упоминаются римляне Каний, Соран и Сенека, ощущается в
пренебрежительном отношении Боэция к «внешним благам», а также в учении о
природном равенстве всех людей (Cons. Ill, m. 6).
Во второй половине работы, по характеру более академической,
господствуют идеи платоников. Особенно показательно отождествление
Боэцием «Блага» и «Единого» и толкование всякого частичного блага, как
блага по причастию к Единому, а самого «единства» — как начала
всякого бытия (Cons. Ill, рг. 11). Здесь Боэций почти повторяет Плотина.
Северин Боэций и его роль в истории культуры 311
Итак, оспаривать эклектический характер главного труда Боэция не
представляется возможным. Вместе с тем вряд ли прав был Г. Узенер,
считавший «Утешение Философией» в основной части простым
переложением аристотелевского «Протрептика» и компиляцией из нескольких
сочинений неоплатоников, оставляя авторству Боэция только
автобиографическое введение и стихи, качество которых он расценивал весьма
низко8. Против подобной гиперкритики говорит хотя бы то, что
«Утешение» — произведение вполне цельное, проникнутое одним настроением
и подчиненное во всех своих частях одной задаче: определению того, что
такое человеческое счастье и каковы пути его достижения. Как видно из
содержания работы, для решения этой задачи на помощь узнику Боэцию
приходит Философия, образом которой Боэций символизирует не одну
какую-либо философскую школу или систему, а всю книжную и
житейскую мудрость, приобретенную им в прошедшие годы. Ясно, что весь
последующий диалог Боэция с Философией — это диалог с памятью, где
идеи, внушенные когда-то книгами Платона, Аристотеля, Сенеки и их
последователей, соседствуют друг с другом и служат только средствами
для решения главного вопроса о счастье. Отсюда эклектизм.
Однако интересно, что именно в центральном вопросе о счастье
Боэций проявляет известную самостоятельность, хотя это скорее
самостоятельность логика, а не философа (если, конечно, различать то и другое).
Стараясь установить, что же есть подлинное и прочное счастье
(«блаженство» — beatitudo), он дает прекрасный пример апагогического
индуктивного рассуждения, которое начинается с доказательства того, что счастье
не есть простая удача, и завершается в конце книги фактически
утверждением, что счастье есть свобода, соединенная с познанием необходимости.
В ходе этого рассуждения Боэций дает несколько промежуточных
определений «блаженства», пользовавшихся в Средние века всеобщим
признанием. В своих определениях он исходит из того, что блаженство есть
некоторое благо для человека, но такое, что «если кто-нибудь им
обладает, тот ничего большего (nihil ulterius) не может и желать» (Cons. Ill, рг. 2
(176)). Отсюда он выводит следующие знаменитые формулы:
«Блаженство — это состояние изобилия всех благ, не имеющее нужды ни в чем
чужом (alienum), т. е. самодостаточное» (Cons. Ill, рг. 2 (179)); «Блаженство
есть совершенное состояние, достигаемое стяжанием всех благ» (Cons. Ill,
рг. 2 (176)). Последнее определение было потом использовано, в
частности, Фомой Аквинским. К теме «счастья» в «Утешении» относятся не
только классические определения, но и яркие боэциевские афоризмы.
Например: «Ничто рожденное не бывает постоянным» (Cons. II, рг. 4), или:
«Никогда фортуна не сделает твоим того, что природа сделала тебе чуж-
дым»(Соп8. II, рг. 5 (133).
Но мы представили бы Боэция слишком светским мыслителем и
утаили бы, может быть, характернейшую черту философии «Утешения»,
если бы забыли о теизме этого произведения. Дело в том, что единое и
8 См.: UsenerH. Anecdoton Holden. Ein Beitrag zur Geschichte Roms in ostgotischer Zeit.
Bonn, 1877.S. 51.
312 Северин Боэций и его роль в истории культуры
всеохватывающее Благо, обладание которым делает человека подлинно
счастливым, — это, по учению Боэция, Бог. Боэций — сын своего века.
Как и все его современники, свидетели устрашающих и непостижимых
для них исторических катаклизмов, лишенные веры в возможность
устроения дел человеческих здесь, на земле, он находит в мысли о Боге свое
последнее утешение, последнюю гавань, укрывающую, по его словам,
«всех несчастных от бурь страстей и жизненных невзгод» (Cons. Ill, m. 10
(234)). Его вера в Бога — это и реакция на плохой мир.
И все же Боэций не изменяет себе, даже переходя на позиции
теистической этики. Его главный интерес и здесь остается связанным с
логикой, с точными формулировками, определениями и способами
доказательств. За пять веков до Ансельма Кентерберийского он формулирует
несколько доказательств бытия Бога (Cons. Ill, pr. 10), известных
Средневековью по ансельмовским работам «Monologium» и «Proslogium». В
последней книге «Утешения» он вводит использованное потом Спинозой и
Лейбницем различение двух видов необходимости: «простой», или
абсолютной, и «условной», или гипотетической (Cons. V, pr. 6 (351)), а также
различение «вечности» (aeternitas) и «временной непрерывности», т. е.
временной безначальности и бесконечности (perpetualitas). В связи с этим
Боэций дает свою прославленную формулу определения «вечности»:
Aeternitas igitur est interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio —
«Вечность... есть целокупное обладание сразу всей полнотой бесконечной
жизни» (Cons. V, pr. 6 (348)).
В своей основе мировоззрение Боэция остается теистическим. Но
можно ли назвать его «теологическим» или религиозно-христианским? Или
же теизм Боэция чисто философского плана? Скорее последнее. Например,
будучи теистом, Боэций вряд ли может быть назван креационистом, если
под «креационизмом» понимать концепцию творения Богом мира «из
ничего», свойственную ортодоксальному христианству. Термин «creator»
(«творец») Боэций вообще никогда не употребляет, предпочитая обычные у
латинских платоников (Халцидия, Макробия) термины «auctor» («создатель»,
«мастер») и «conditor» («учредитель», «основатель»). Если же учесть еща и
то, что во многих совершенно сходных космологических контекстах
«Утешения» он с одинаковой готовностью употребляет то слово «Бог» (Deus), то
слово «природа» (Natura), и при этом слово «природа» чаще, чем слово
«Бог», станет ясно, что теизм Боэция имеет еще много общего с античным
пантеизмом. В то же время в этическом плане он ближе к теизму
христианскому. Бог «Утешения» — это Бог-личность, Бог, любящий свой мир,
пожелавший создать человека по своему подобию и внемлющий его
молитвам. Но, оценивая теизм Боэция, мы не должны забывать и того, что в
«Утешении» нет ни одной ссылки на Священное писание и отцов церкви,
нет вообще ни одного упоминания о христианстве. И как бы там ни было,
одно можно сказать с полной определенностью: «Утешение» — книга не
богословская, а философская.
«Утешение Философией» — последняя книга Боэция, а может
быть, и последнее чисто философское произведение античного мира. В
524 году Боэций был казнен, а через 5 лет декретом Юстиниана были
Северин Боэций и его роль в истории культуры 313
навсегда закрыты афинские философские школы, включая Академию,
которой столь многим был обязан Боэций. С Философией-госпожой,
каковой она выступала перед Боэцием в «Утешении», было покончено;
ее почетное место на долгие столетия заняла теология, оставив бывшей
госпоже только права служанки. Мы знаем, что уже сам Боэций в своих
«теологических трактатах» готовил философию к этой ее новой роли. Но
мы знаем также, что, хорошо понимая неизбежность такой перемены,
Боэций своими трудами по философии, математике, музыке и своим
«Утешением», как никто другой, постарался не дать философии
потерять собственное лицо даже в условиях деспотической власти теологии,
а трудами по логике научил ее во взаимоотношениях с теологией
сохранять относительную независимость и, оставаясь служанкой, подчас даже
выговаривать своей капризной госпоже.
* * *
Боэций был платоником, но он относился к тому редкому типу
мыслителей, которые (как раньше Цицерон, а позднее Лейбниц) искали в
философии прошлого не столько ошибки и заблуждения, сколько крупицы
истины, элементы «Philosophia perennis», извлекая их из всех систем и не
обращая внимания на противоборство школ. Так что выбирать между
Платоном и Аристотелем не входило в задачу Боэция. Это отразилось и на
его трактовке проблемы универсалий. Указав фактически на все три
основные возможности ее решения (номинализм, реализм и концептуализм),
он воздержался от явного предпочтения какой-либо из них, оставляя
вопрос открытым. В XII веке один поэт из Сен-Виктора так охарактеризовал
отношение Боэция к Платону и Аристотелю в споре об универсалиях:
А Боэций все сидит, спором изумленный,
Внемля каждого из них речи умудренной,
Одинаково двоих судит благосклонно,
Не стараясь разрешить спор определенно9.
Слава и влияние Боэция начались еще при жизни. В VI веке его
деятельность высоко оценивается почти всеми известными нам учеными
людьми той эпохи: поэтом Эннодием, философом Кассиодором, При-
сцианом-Грамматиком; историком Прокопием Кесарийским. В
следующем столетии научно-философские и «теологические» трактаты Боэция
становятся предметом специального изучения, комментирования и
подражания. Оба значительных представителя литературной культуры этого
варварского времени, Исидор Севильский и Беда Достопочтенный,
широко пользуются идеями Боэция. Наряду с сочинениями Варрона, Плиния
9 Латинский текст этого четверостишия взят из работы: Barret H. Op. cit., p. 43; перс-
вод в размере оригинала наш. Текст оригинала таков:
Assidet Boethius, stupens de hac lite,
Audiens quid hic et hic asserat pente,
Et quid cui faveat non discernit rite,
Non praesumit solvere litem definite..
314 Северин Боэций и его роль в истории культуры
Старшего, Марциана Капеллы «математические» трактаты Боэция служат
одним из основных источников Исидоровых «Этимологии». Кроме того,
Исидор — автор первого из многих средневековых подражаний
«Утешению Философией», т. е. диалога «De lamentatione peccatricis», где в роли
утешителя выступает философский «Разум»10. А Беда Достопочтенный,
если он действительно написал комментарий на сочинение Боэция «De
Trinitate», начинает собой длинный ряд толкователей его теологических
трактатов11.
В восьмом-девятом веках сочинения Боэция по арифметике, музыке,
геометрии, а также «Утешение» изучаются во всех главных монастырских
школах и в дворцовой школе каролингов. Алкуин и Рабан Мавр цитируют
Боэция почти наравне с Августином. Появляются комментарии на
«Утешение». В одном из них, принадлежащем монаху Ремигию, Боэций
предстает как христианский платоник и теист — модель для большинства
будущих истолкований. Тот же Ремигий, Алкуин, Хинкмар и Эриугена
составляют комментарии на теологические трактаты, в частности на «De
Trinitate». Личность и учение Боэция все более окружаются ореолом
святости, что в условиях зарождения национальных литературных языков
стимулирует переводческую деятельность.
Первым переводом или, вернее, вольным переложением
произведения Боэция на европейский национальный язык был перевод «Утешения»
на староанглийский, сделанный королем Альфредом. «Утешение»
Альфреда сильно отличается от боэциевского оригинала прежде всего меньшей
теоретичностью: философские понятия чаще всего заменяются здесь
образами и моралистическими примерами, иногда взятыми из практики
тогдашней жизни англосаксов. Проблема блага решается им в духе августи-
новской диалектики «средств и цели», проблема свободы — в духе учения
Григория Великого об исполнении «ролей»12. Неоплатонические и
натуралистические черты боэциевского «Утешения» сглаживаются,
обостряются эсхатологизм и спиритуализм.
К десятому веку относится деятельность Герберта епископа Реймса —
разностороннего ученого, «восстановителя изучения древних
философов»13, видевшего в Боэции «божественный интеллект» и назвавшего его в
эпитафии, написанной по поручению Отгона III, «отцом и светом
отечества». Будучи прежде всего математиком, Герберт пользуется, конечно,
«математическими» трактатами Боэция, но он знает и его логические работы:
переводы с комментариями на «Isagoge», на «Топику» Цицерона и «Об
истолковании». В этот же период пишет свой комментарий на «Утешение»
проницательный Бруно из Корви, обративший, может быть, впервые
внимание на то, что в книге Боэция имеются места, противоречащие
христианскому учению.
Одиннадцатый и двенадцатый века — время дальнейшего
расширения влияния и признания Боэция во всех сферах культуры: от аллегориче-
10 Patch H.R. Op. cit., р. 93.
11 См.: P. L., 63, col. 567 В-С.
12 Otten К. König Alfreds Boethius. Tübingen, 1966. S. 21,45, 67, 110.
13 Patch H. R. Op. cit., p. 34.
Северин Боэций и его роль в истории культуры 315
ской поэзии Энрико да Сеттимелло и назидательной сатуры Аделярда
Батского до схоластического комментария на «Тимей» Гийома Коншского
и «Поликратика» Иоанна Солсберийского; от орнаментации Шартрского
собора и наивной символики провансальских трубадуров, до бесстрастной
«Хроники» Гонория Августодунского и утонченных трактатов по
«диалектике» Абеляра и Гильберта Порретанского. Интересно, что
комментарий Гильберта на боэциевский трактат «De Trinitate», выполненный в духе
«еретических» идей Эриугены, вызвал в двенадцатом веке бурные дебаты,
в которых в качестве главного оппонента Гильберта выступил
непримиримый Бернар Клервосский, а в качестве защитника — либеральный
Иоанн Солсберийский. Арбитрами в этом драматическом споре были такие
известные теологи, как Петр Ломбардский, Роберт Мелан и Томас Бекет.
Вслед за Бруно из Корви Иоанн Солсберийский не считал «Утешение»
Боэция произведением христианской мысли, однако он очень высоко
оценивал его автора, говоря, что «в своих суждениях он глубок без лишней
сложности, в словах изящен без легковесности, его речь покоряет,
доказательства убеждают»14.
Проблема доказательности рассуждений стала особенно занимать
схоластиков после открытия так называемой «новой логики» — корпуса
аристотелевских сочинений, посвященных теории вывода, латинские
переводы которых были сразу же приписаны авторству Боэция.
Обнаружение этих переводов дало мощный толчок развитию «рационалистической»
или — точнее — логистической схоластики. Влияние аристотелевско-
боэциевской логики стало теперь настолько велико, что один осторожный
теолог XII века жаловался: диалектики (т. е. схоластики) верят Боэцию
больше, чем Священному писанию15.
Оценить хотя бы приблизительно всю широту влияния Боэция в
эпоху зрелой схоластики (XIII- начала XIV в.) не представляется
возможным. Назовем лишь несколько имен. Роджер Бэкон верил Боэцию как
надежному эксперту по греческим наукам, знал все аутентичные и
приписанные ему сочинения, полагая, правда, что «даже сейчас (т. е. после
открытия «новой логики», — Г. М.) мы не обладаем и половиной их или, во
всяком случае, обладаем не лучшей частью» (Opus Majus)16.
«Средневековый Декарт», глава Оксфордской школы Роберт Гроссетест, сыгравший
«самую значительную роль в развитии и распространении
естественнонаучного знания»17, считал Боэция своим учителем в математической
«космологии», используя его идеи наряду с идеями Августина и арабов в
своем трактате «О свете, или о происхождении форм».1
Из крупных логиков, зависящих от Боэция, нужно упомянуть Петра
Испанского и Николая Парижского. Последний комментировал большую
часть логических работ Боэция. Глубоко и всесторонне воздействие
Боэция на мысль Альберта Великого и Фомы Аквинского. Альберт находил
14 P. U 199, col. 672 С.
15 Patch H. R. Op. cit., pp. 31, 140.
16 Цит. по: Patch И. R. Op. cit., p. 32.
17 Соколов В. В. Средневековая философия. M., 1979. С. 321-322.2-е изд. М.: УРСС, 2001.
18 ThorndikeL. A History of Magic and Experimental Science. N. Y., 1929. Vol. 11, p. 450.
316 Северин Боэций и его роль в истории культуры
у автора «Утешения» даже зачатки теории естественного права19, а его
комментарий на боэциевскую версию трактата «Об истолковании» вместе
с подобными же комментариями Абеляра и Фомы «составили основу
средневековой философии языка»20. Громадной популярностью
пользовался комментарий Фомы на «De Trinitate», а его использование в «Сумме
теологии» знакомых нам определений «вечности» и «личности»21 сделала
эти боэциевские определения неоспоримыми для нескольких
последующих столетий.
Уже сказанного достаточно, чтобы заключить о неослабевающем
влиянии трудов Боэция в Средние века. Однако мы должны помнить
еще и о том, что все, кто бы ни касался общезначимой в ту эпоху
проблемы универсалий, от Эриугены и Росцелина до Дунса Скота и Оккама,
прямо или косвенно были обязаны именно ему, Боэцию. Мы должны
знать, что художественный образ утешающей в горе Философии и образ
«колеса Фортуны», прошедшие через все средневековое и ренессансное
искусство, — это образы боэциевского «Утешения». Нельзя забывать и
того, что в рамках религиозного миросозерцания его, Боэция,
«постоянное воспевание звезд и небес вело к рассмотрению науки о звездах как
следующей в порядке ценностей сразу же за богопочитанием, и эта его
позиция сделалась обычной в наступившем Средневековье»22. Наконец,
нельзя упустить из виду, что сама система средневекового «школьного»
и университетского образования была многими нитями связана с
научным наследием Боэция и в определенном смысле строилась по
указанной им модели.
В эпоху Возрождения влияние Боэция продолжало оставаться
значительным. Правда, интерес к его логическим работам, привлекавшим
основное внимание Средних веков, резко упал. И это вполне естественно:
чисто формальные изыскания выходили из моды. Но все, что роднило
Боэция с античной натурфилософией и античным гуманизмом, получало
даже большее, чем прежде, признание. Это относится прежде всего к
«Утешению Философией», хотя и пифагорейский по существу трактат о
музыке, который «должен быть отнесен исключительно к античности»23,
сохранял свою популярность.
Начало гуманистическому использованию «Утешения» положил еще
Данте, любивший Боэция и всегда подражавший ему и как художнику, и
как философу. Дантевская «Новая жизнь» копирует «Утешение» по
форме. Образ Донны Любви, выведенный в этом сочинении, как и образ
Беатриче в «Божественной комедии», во многом напоминает образ Госпожи
Философии, тем более, что Любовь и Мудрость у Данте — понятия
тождественные. В собственном «боэциевском» облике Госпожа Философия
появляется в «Пире». Данте вторит Боэцию в своих размышлениях о
превратностях фортуны и непрочности земного счастья.
19 Grabmann M. Mittelalterliches Geistesleben, München, 1926. S. 92.
20 Ibid., s. 108.
21 P. L., 63, col. 569 D.
22 Thorndike L. Op. cit., vol. 1 ; p. 622.
23 Potiron H. Boecc. Théoricien de la musique grecque. Paris, 1961. P. 171.
Северин Боэций и его роль в истории культуры 317
В эпизоде с Франческой да Римини («Ад» V, 121-123) совпадение с
текстом «Утешения» почти дословное (см.: Cons. II, рг. 4 (117-118)).
Великого итальянца роднит с Боэцием неотступное влечение к
космологическим и астральным темам (особенно «Рай», финал). Поместив Боэция в
число избранников рая, рядом с Альбертом, Фомой и Сигером, — Данте
пишет о нем:
Узрев всё благо, радуется там
Безгрешный дух, который лживость мира
Являет внявшему его словам («Рай» X, 124-126)
(Пер. М. Лозинского).
За Данте последовал Петрарка, подражавший «Утешению» в
одноименном произведении, написанном для злополучного французского
короля, и в сочинении «О средствах от любой Фортуны»; а за ним Боккаччо,
равно обязанный Боэцию темой «фортуны», но также и своими
аллегориями в «Филострато» и «Амето», писавший об истории его жизни и его
«бессмертной славе среди философов»24. Благодаря произведениям Данте
и Жана де Меня к «Утешению» приобщился и Чосер, сделавший перевод
этой книги на английский язык. Впечатление было столь глубоко, что
почти все его сочинения, написанные после этого, оказались
проникнутыми духом Боэция (особенно «Троил и Хрисеида»).
Современником Чосера был парижский мистик Иоганн Герсон,
сочинивший в годы изгнания «Утешение Теологией», где то, что мы
называли у Боэция философским теизмом и теистической этикой,
превратилось окончательно в теизм фидеистический и в этику теологическую.
Совсем другие качества боэциевского «Утешения» привлекли к нему
внимание итальянского гуманиста Лоренцо Валлу, видевшего в его авторе
прежде всего римского платоника и «последнего эрудита»25. Из гуманистов
круга Медичи Пико делла Мирандола опирался на Боэция в космологии, а
Полициано, по-видимому, почитал его гением универсальным, когда
спрашивал: «Кто же такой Боэций? Не тот ли, кто столь опытен в
диалектике и столь тонок в математике? Или же тот, кто столь убедителен в
философии и столь возвышен в теологии?»26.
Наконец, к числу самых известных почитателей Боэция
шестнадцатого века относятся Джироламо Кардано, Томас Мор и королева
Елизавета. Склонный к самоанализу Кардано подражал «Исповеди» Августина и
«Утешению» Боэция в своих автобиографических работах. Королева
Елизавета по примеру короля Альфреда и Чосера выполнила
самостоятельный перевод «Утешения» на английский. Автор «Утопии», будучи
обвинен в измене Генрихом VIII и заключен в Тауэр, т. е. при обстоятельствах,
сходных с теми, в которых оказался когда-то Боэций, нашел утешение в
боэциевской книге. Он рекомендовал ее в воспитательных целях своим
детям, а сам под ее влиянием написал «Диалог об утешении» — труд ре-
24 Цит. по: Patch Я. R. Op. cit., р. 116.
25 P. L., 63, col. 570 В.
26 P. L., 63, col. 571 CD.
318 Северин Боэций и его роль в истории культуры
лигиозный, но имевший острое политическое звучание. Из более поздних
представителей ренессансной культуры Боэция высоко ценили и
использовали Юлий Скалигер и Франциско Суарес.
Итак, эпоха Возрождения не только не забыла Боэция, как она
забыла многих средневековых схоластиков, но даже оживила интерес к его
главному философскому произведению, что, в свою очередь,
способствовало сохранению авторитета «Утешения» и в Новое время. После
изобретения книгопечатания это сочинение выдержало десятки изданий на всех
основных европейских языках. В конце восемнадцатого века был издан и
ее первый перевод на русский язык. Наряду с этим издавались, хотя
значительно реже, другие сочинения Боэция. Позднее к изучению его
литературного наследия приступила историко-научная и историко-философская
критика, возбудившая уже в наше время новую волну интереса к автору
«Утешения».
В чем же секрет беспрецедентной популярности Боэция в Средние
века? Ответ прост: в том, что он был «первым схоластиком», первым и
образцовым представителем герменевтической культуры
западноевропейского Средневековья с характерными для нее формами
интеллектуальной деятельности: экзегетикой, имитацией, эклектикой, схематикой и
дидактикой. Боэция охотно комментировали, так как сам он был образцом
комментатора; ему подражали, ибо сам он стал учителем подражания; его
идеи ассоциировали и смешивали с идеями других, но ведь он сам и являл
собой пример классического эклектизма; его учение расписывали на
диаграммах, а ведь он сам и дал образец этого в трактате о музыке; его книги
стали либо учебниками, либо пособиями в практической жизни, но ведь
это и было главной его целью. Задолго до Фомы он учил применению
логики Аристотеля к теологическим проблемам, а ведь в этом едва ли не
заключалась сама суть «логистической» схоластики. Почему Боэций имел
успех и в эпоху Возрождения? Дело в том, что он был не только «первым
схоластиком», но и «последним римлянином», последним на Западе
ярким представителем античного мира, ценности которого как раз и
«возрождались» гуманистами Ренессанса. «Отец схоластики» был еще, как мы
видели, преданным сыном античной натурфилософии. Боэций для всех
времен будет служить примером гармонического мыслителя,
сочетающего гуманитарный и естественнонаучный интерес. Он навсегда останется
символом мужества и нравственной стойкости, способной преодолевать
любые невзгоды и сопротивляться пороку. Его принцип: только честный
может достигнуть прочного счастья — никогда не потеряет своего
значения. Человечество всегда будет благодарно Боэцию за блестящее
исполнение главного дела его жизни — сохранения для потомков высоких
духовных ценностей античного мира.
БЫЛ ЛИ БОЭЦИЙ
МЫСЛИТЕЛЕМ ХРИСТИАНСКИМ?
1. Вопрос об отношении Боэция к христианству имеет
принципиальное значение для определения пропорции антично-языческих и средневе-
ково-христианских элементов в западноевропейской духовной культуре
VI века н. э., а следовательно, и для уточнения верхней границы
античности на Западе и нижней границы латинского Средневековья. От того или
иного ответа на этот вопрос зависит, кроме того, наше понимание
собственных взглядов Боэция — философа, ставшего по выражению
М. Грабманна «посредником» (Der Vermittler) между античностью и
Средневековьем, а по мнению Э. Рэнда — «основоположником» (The
Founder) Средних веков.
2. Вопрос имеет два аспекта: первый — был ли Боэций
христианином по вере?, второй — был ли он христианским мыслителем?
Относительно принадлежности Боэция к христианской церкви сегодня уже вряд
ли могут быть какие-то сомнения: на этот счет мы имеем вполне
надежные свидетельства его современников, — прямые (Аноним Валуа) и
косвенные (Кассиодор, Эннодий), а также авторитетные подтверждения
ближайших потомков (Марий Аванш, Григорий Великий). Сам факт
принадлежности Боэция к давно крещеному роду Анициев (IV в.) и воспитания
его в семье благочестивого христианина Симмаха говорит в пользу этого.
Что же касается второго аспекта вопроса — мыслил ли Боэций по-
христиански, — то здесь для историков никогда не было ясности; причем
поводом для сомнений всегда служили сами сочинения Боэция и особенно
главное из них — «Утешение философией» (De consolatione Philosophiae).
Дело в том, что в этом итоговом произведении Боэция, посвященном
установлению Высшего Блага и богооправданию (теодицее), как ни странно,
нет ни одного упоминания ни о Христе, ни о христианстве, что на первый
взгляд никак не вяжется ни с христианской верой автора в обычном
смысле, ни, тем более, с тем, что автор был не только философом, но и
теологом — творцом «богословских трактатов» (opuscula sacra).
3. Впервые мысль о нехристианской инспирации «Утешения» была
высказана еще в IX в. саксонским монахом Бово, который вместе с тем
вынужден был признать, что стилистика этого произведения и
«теологических трактатов» указывает на одного и того же автора. В X в. Адаль-
болд из Утрехта предпринял попытку прочтения чисто платонических
пассажей «Утешения» в ключе христианского мировоззрения. Подобный
подход преобладал и в последующие столетия (особенно — Гильберт
Порретанский, Данте), хотя недоумения, вызванные характером текста
Боэция, периодически возобновлялись. При этом никто не оспаривал Бо-
эциева авторства «теологических трактатов». Только в начале XVIII в.
320 Был ли Боэций мыслителем христианским?
Ж. Арно предложил радикальное переосмысление «боэциевской
проблемы», признав на основании компаративистских соображений
теологические трактаты апокрифическими. В 1860 г. Ф. Ницш выдвинул в пользу
этого дополнительные доводы. Теперь вопрос решался просто: если
теологические трактаты принадлежат не Боэцию, то все остальные его
сочинения вполне однородны по применяемому в них методу и не дают
никаких поводов считать Боэция мыслителем христианским. Однако вскоре, в
1877 г., Г. Узенер опубликовал фрагмент хроники Кассиодора (Anecdoton
Holden), в которой окончательно удостоверялась аутентичность по
крайней мере некоторых из этих трактатов. Теперь снова обратились к загадке
«Утешения», но разгадку искали уже на путях скрупулезного историко-
философского анализа и филологической критики. В XX в. была
проделана большая работа по изучению источников Боэция и обоснованию
единства корпуса его сочинений, были выдвинуты разные гипотезы его
отношения к христианству.
4. Гипотеза Э. Рэнда: Боэций — мыслитель христианский, таков он и
в «Утешении», но это сочинение было задумано им в двух частях, в
первой из которых задача должна была решаться чисто философскими
средствами, а во второй — богословскими с помощью Откровения; казнь
помешала ему написать вторую часть. В пользу этой гипотезы говорит тот
факт, что и в своем теологическом трактате «О двух природах» (De duabus
naturis) Боэций сначала помещает философский, а затем уже богословский
материал. Против — отсутствие каких-либо подтверждений
предполагаемых намерений Боэция в существующем тексте «Утешения». Гипотеза А.
Момильяно: религиозность Боэция была неглубокой, и он в момент
написания книги под влиянием переживаний и обстоятельств отрекся от
христианства. Слабость этой гипотезы — в том, что ее нельзя ни доказать, ни
опровергнуть. Гипотеза Э. Жильсона, Р. Картона, Э. Силка и др.:
«Утешение» написано в духе христианского платонизма августиновского типа и
содержит в себе скрытые цитаты из Библии, хотя христианский теизм
автора выражается в терминах привычной для него античной философии.
Гипотеза не достаточно учитывает зависимость книги Боэция от
современного ему языческого неоплатонизма, особенно — от школы Прокла.
Противоположный недостаток — недооценка возможного влияния
Августина — свойствен гипотезе П. Курселя, которая, тем не менее,
представляется наиболее близкой к истине: в вопросах религии Боэций мыслил
вполне по-христиански, но главной задачей своей жизни он всегда считал
легализацию античного интеллектуализма в рамках нового
складывающегося средневекового порядка; поэтому и в последнем своем произведении
он обращается за помощью к античной философии, а не к теологии.
Таковы наиболее известные в настоящее время ответы ученых на загадку
«Утешения». Чтобы сформулировать наш собственный ответ, мы должны
все-таки еще раз убедиться в единстве всего корпуса сочинений Боэция
(ибо вовсе не невозможно, чтобы «Утешение» было написано не самим
Боэцием) и выявить в этом корпусе элементы, созвучные и
противоречащие христианству. Кроме того, необходимо учесть своеобразие интересов
и стиля мышления Боэция.
Был ли Боэций мыслителем христианским? 321
5. В «Corpus boetianum» входят «логические», «математические»,
«теологические» трактаты и «Утешение философией». Стилометриче-
ский анализ корпуса (который, правда, все еще далек от полноты)
подтверждает грамматическое, лексикографическое и стилистическое
родство всех этих сочинений. Повсюду отмечаются типичные для Боэция
четкость фразы, лаконизм выражения, стремление к однозначности, к
определению основных терминов, к полноте перечислений, к тонким
дистинкциям, делениям и классификациям. Даже там, где Боэций
предпочитает платоновскую диалектику, он выражает ее в аристотелевской
логической форме. Все сочинения полностью соответствуют по своему
содержанию тем задачам, которые поставил перед собой Боэций в своем
втором комментарии на аристотелевское «De interpretatione». В
теологическом цикле используются те же характерно боэциевские термины, что
и в логическом («субсистенция», «субстанция», «персона» и др.).
Логическое деление понятия «природа» (natura) в трактате против Нестория
соответствует теории деления, разработанной Боэцием в работах
логического цикла: «De divisione», втором комментарии на Порфирия.
Учение о принципе единства, изложенное в III книге «Утешения»,
согласуется с аналогичным учением «Арифметики» (De institutione arithmetica)
и «Музыки» (De institutione musica). Классификация наук,
представленная в трактате «О Троице», по существу совпадает с подобной же
классификацией в логических работах. Для всего корпуса используется один
и тот же круг источников. Это прежде всего Аристотель и его
комментаторы — неоплатоники (Порфирий, Сириан, Прокл, Аммоний сын Гер-
мия). П. Курсель убедительно доказал зависимость пятой книги
«Утешения» и комментариев на «Об истолковании» от поздне-
александрийского неоплатонизма (от комментариев Аммония на
аристотелевские «О душе» и «Об истолковании»). Клингнер и Таил ер нашли в
третьей книге «Утешения» влияние прокловского комментария на «Ти-
мей», а Курсель — в четвертой книге — влияние прокловской работы
«О десяти сомнениях» (De decern dubitationibus). Однако общепризнано,
что одним из важнейших источников для «Утешения» (II кн., части
III кн. и части IV кн., а Г. Узенер считал, что и для всего сочинения) был
все-таки аристотелевский «Протрептик» (через посредство Цицеронова
«Гортензия», «Consolatio ad Apollonium», через Ямвлиха и, возможно,
Макробия), а значит, тот же источник (Аристотель), что и для
логического цикла. Таким образом, единое авторство всего корпуса можно
считать доказанным. Это, правда, не означает, что интересы и взгляды
Боэция всегда были одинаковы и их источники одни и те же. Ясно, что в
математических работах он прежде всего опирался на математиков
(Евклид, Птолемей, Никомах). Но ведь и в «Утешении», особенно в
поэтических частях, он постоянно оперирует числовой и астрономической
символикой, а во второй книге, как считал Курсель, даже ссылается
неявно на свой труд по Птолемею. Эволюция творчества Боэция была
такова: вначале — чисто учебные трактаты по свободным наукам, затем
под воздействием обстоятельств обращение к актуальным и смысложиз-
ненным богословским проблемам, наконец, — окончательный поворот к
322 Был ли Боэций мыслителем христианским?
этическим и метафизическим проблемам в ситуации высшего душевного
кризиса. Такой ход развития многое объясняет в характере и стиле
сочинений Боэция.
6. Если корпус един, имеются ли в нем достаточные признаки
христианской мысли? О теологических трактатах можно не говорить: ясно,
что это — мастерское приложение аристотелевской логики к темам
христианского богословия. Но замечательно то, что даже в логическом цикле
есть место, где Боэций упоминает о своей вере (письмо к Симмаху,
служащее вступлением к первому комментарию на Порфирия). В
«Утешении», хотя и нет подобных упоминаний, но, как правильно заметил Жиль-
сон, понятие Бога местами явно выходит за рамки чисто платоновской
трактовки и сближается с идеями раннего Августина. Рассуждение в IV
книге о вечности и времени, которое Тайлер, Курсель и др. приписывают
безоговорочно влиянию школы Прокла, могло с таким же успехом быть
выведено из Августина, тем более, что в трактате о Троице Боэций сам
называет Августина своим источником. Подтверждением христианских
убеждений Боэция могут служить и два характерных места из большого
комментария к Порфирию. В третьей и четвертой книгах этой работы,
выстраивая «древо Порфирия», Боэций вводит в него для иллюстрации
понятие живого бессмертного телесного бога, но тут же поясняет, что
истинный Бог (в которого верит он сам) не может быть телесным. В общем,
ни в одном произведении Боэция, кроме «Утешения», нет ничего
противоречащего христианству, хотя религиозность автора, в силу
технического их характера, и не демонстрируется слишком часто (ср. «Varia» Кас-
сиодора). В «Утешении» же по сознательно выбранному Боэцием плану
его увещевает не сам Бог и даже не богиня, а всего лишь «смертная
величественная женщина» (ср. «Пастырь» Ерма) — та самая античная
философия, изучению которой он отдал большую часть своей жизни. Поэтому
и ответы здесь даются не богословские, а чисто философские.
7. Места, противоречащие христианству, в «Утешении» не так уж
многочисленны, не очень существенны и подчас двусмысленны. Главные
из них — это третья книга, ст. 9 (гимн Богу, где, следуя «Тимею», Боэций
вводит идею мировой души) и несколько намеков на платоновскую
теорию анамнесиса, оцениваемую им как бы одобрительно. Однако и это
могло быть простой данью наставляющей его в «Consolatio» античной
философии. Больше смущает другое: как Боэций, осужденный на смерть,
мог рассуждать таким спокойным тоном и предаваться довольно
отвлеченному философствованию, забыв о своей вере и упованиях на жизнь
будущую (вопрос о посмертной судьбе души им и вовсе здесь опущен)?
Но ведь содержанием «Утешения» отнюдь не является переживание
близкой смерти, более того, о смерти здесь почти ничего не говорится, а
действительным его содержанием служит оправдание Добра и праведной
жизни. Проще всего поэтому предположить, что Боэций тогда еще не знал
своего исхода. Во всяком случае, можно согласиться с Курселем, что в
своем узилище он пользовался книгами и относительно комфортным
досугом, и вряд ли это узилище было похоже на карцер.
Был ли Боэций мыслителем христианским?
323
8. Общий вывод. Боэций был мыслителем переходной формации. В
его мировоззрении сочетались античные и христианские мотивы. Будучи
христианином по вере, он получил фундаментальное образование в
традиционной манере — в светских риторических и философских школах, а
также в богатой домашней библиотеке, составленной из лучших античных
авторов, среди которых были и труды современных ему неоплатоников, и
труды Августина, и — возможно — Библия. Он был не столько
оригинальным мыслителем, сколько эрудитом, и главной задачей своей жизни
он считал обогащение латинского мира греческой мудростью и наукой,
чем он и занимался во всех своих трудах, включая «Утешение», и чем он
заслуженно прославился в веках. Последнее произведение он писал, не
ведая о своей трагической развязке. Поэтому, не желая осложнять своего
положения, он воздержался от богословских тем, и это было вполне
резонно, так как одним из вероятных поводов для его ареста послужило его
участие в антиарианской, а значит, и антиготской полемике. В одном
важном аспекте Боэций безо всяких скидок может рассматриваться как
мыслитель христианский: он был первым, кто сознательно применил им
же самим созданный схоластический метод к теологической
проблематике и тем самым надолго определил пути развития христианской
философии средневекового Запада.
К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ
АРИСТОТЕЛИЗМА В СРЕДНИЕ ВЕКА
К тысячелетию Авиценны
Изучение философского и научного наследия Абу-али ибн Сины
(Авиценны) позволяет уточнить роль и место аристотелевской традиции в
Средние века. В раннем Средневековье, до конца XII в., влияние
философских и научных идей Аристотеля в Западной Европе было весьма
ограниченным и осуществлялось в основном косвенно — через посредство
христианских авторитетов эпохи патристики, таких, как Климент
Александрийский, Василий Великий, Августин и особенно Боэций. Логика
Аристотеля имела влияние в той части, в какой она была охвачена
переводами и комментариями Боэция, и в тех аспектах, в которых она его
больше интересовала, т. е. главным образом в аспекте учения о
категориях и учения об истолковании. Эта логика и стала теоретической базой
ранней схоластики.
Такие сочинения Аристотеля, как «Метафизика», «Физика», «О
душе», все три «Этики», «Политика», все его трактаты о животных, как и
некоторые другие трактаты, и тем более естественнонаучные идеи
Аристотеля в своем цельном, аутентичном виде были почти полностью
забыты, и если отдельные аристотелевские идеи все же проникали в этот
период в Западную Европу, то только благодаря тому, что они еще раньше
были усвоены учителями церкви, и эти идеи воспринимались нередко, как
собственные их идеи. Например, восходящий к Аристотелю «гилемор-
физм» воспринимался как гилеморфизм Августина, аристотелевская
диалектика «пользования и наслаждения», развитая в «Никомаховой этике»,
единодушно считалась также открытием Августина. Таким образом, если
раннее западноевропейское Средневековье и имело какое-то
представление об Аристотеле, то это представление было сильно деформированным.
Иначе дело обстояло в странах Ближнего и Среднего Востока, т. е. в
странах ирано- и арабоязычной культуры. В силу особенностей
социально-исторического и культурного развития этого региона аристотелизм не
только не затерялся здесь в потоке других (прежде всего теологических)
влияний, но даже стал едва ли не основным фактором философского и
научного просвещения, во многом определившим самый характер и
направление развития теоретической мысли в мусульманском мире на
многие века. Причем в сравнении с западноевропейским «аристотелизмом»
того же периода, аристотелизм ирано-арабский был значительно более
аутентичным, многосторонним и систематическим. Хотя он определенно
отличался от первозданного античного аристотелизма, его можно было бы
К вопросу об эволюции аристотелизма в Средние века 325
скорее назвать не «деформированным», а «трансформированным» аристо-
телизмом. Таким он предстает уже у родоначальника средневековой
арабской философии, у «Первого Учителя» аль-Кинди, дополнившего
античный аристотелизм важнейшей идеей о фундаментальной роли
математических наук в познании мира. «Второй Учитель», аль-Фараби, обогащает
аристотелизм целым комплексом новых идей, почерпнутых из
конкретных наук, а также из моральной и политической практики его времени. Но
особенно важную роль в средневековой трансляции и обогащении
аристотелизма сыграл Авиценна. И хотя знаменитый Аверроэс получил за свою
детальную и радикальную интерпретацию почти всего учения Аристотеля
характерное прозвище «Комментатор», тем не менее ни он, ни кто-либо
другой на Востоке или на Западе не мог соперничать с Авиценной в
конгениальности Аристотелю, в глубине и тонкости понимания духа его
сочинений, в широте использования его идей, и вместе с тем в способности
органично соединять эти идеи с идеями неоплатонизма и с данными
конкретных наук, а также с результатами собственных научных изысканий.
Аль-Фараби, ставивший одной из своих задач объединить учение Платона
и Аристотеля, дал классическую модель аристотелизма неоплатонизи-
рующего. И Авиценна испытал сильное влияние неоплатонизма, но в
отличие от аль-Фараби он остался в основном верен реалистически-
конкретному и логико-систематическому духу философии Аристотеля.
Авиценну с полным правом можно даже назвать средневековым
Аристотелем. В самом деле, он не только считал Аристотеля своим
учителем, не только формировался как философ под воздействием идей Стаги-
рита, но и во многих отношениях был подобен великому греку и
осуществлял сходную историческую миссию. Как и Аристотель, Ибн Сина был
мыслителем универсальным и энциклопедически образованным,
обобщавшим всю совокупность накопленного современной ему наукой опыта.
Как и Аристотель, он был систематиком, придававшим большое значение
классификациям, определениям, дедукции и вообще логике познания.
Вкус к конкретным наукам сочетался у него, как и у Аристотеля, с
интересом к отвлеченному умозрению и метафизике (например, в «Книге
исцеления» отвлеченные рассуждения почти всегда подкрепляются фактами
из медицины, антропологии, астрономии и других наук, и логика обычно
соседствует здесь с эмпирикой).
Влияние Ибн Сины на арабо-язычную, а затем и на европейскую
мысль можно сопоставить с влиянием Аристотеля на позднеантичную
философию и науку. Между Авиценной и Стагиритом было сходство и в
том, что оба эти мыслителя были расположены к гармонии и мере: для
того и другого характерно стремление смягчить противоречия,
объединить крайности, найти самый надежный, пусть даже и самый трудный,
золотой «средний путь» в этике, в политике, в самой теоретической
философии. Однако в противоположность Стагириту Авиценна был не только
систематизатором, но и творцом конкретно-научного знания. Он не
только обобщал опыт других, но и сам ставил опыты. Вообще, аристотелизм
Авиценны основан на более широкой фактологической и конкретно-
научной базе, чем античный аристотелизм. И, конечно, научная деятель-
326 К вопросу об эволюции аристотелизма в Средние века
ность Аристотеля (в соответствии с его этическим идеалом) есть по
своему методу философское «созерцание», в то время как деятельность
Авиценны — это еще и научная практика, в частности практика врача,
астронома и т. п.
Впрочем, уже в античную эпоху, начиная с Теофраста и особенно
Стратона, аристотелизм в рамках перипатетической школы непрерывно
эволюционировал, все больше в нём начинал проявляться интерес к
конкретно-научным и эмпирическим исследованиям, так что через 500 лет
после основания школы, т. е. во И-Ш в. н. э., перипатетиков стали
называть не иначе как «эмпириками» и «врачами».
Правда, аристотелизм развивался не только в рамках
перипатетической школы, многие идеи и методы Аристотеля были развиты стоиками, а
позднее — неоплатониками, которые, в противоположность
перипатетикам, заимствовали у Аристотеля наиболее абстрактную и спекулятивную
часть его учения, т. е. главным образом метафизику и «ноологию» (учение
о разуме).
Авиценна ближе других средневековых аристотеликов стоит к позд-
неантичному перипатетизму, но одновременно зависит и от
умозрительного аристотелизма, перешедшего к нему от неоплатоников (возможно,
через посредство аль-Фараби). Этот универсальный гений мог совмещать
неослабевающий интерес к эмпирике с интересом к абстрактнейшему
умозрению. Отметим, что и в науке умозрения, не говоря уже об
эмпирике, Авиценна пошел в некотором отношении значительно дальше
Аристотеля.
Одной из главных задач Аристотеля было построение системы
теоретического знания, т. е. (согласно его подразделению «теории»)
систематическое построение метафизики («первой философии), математики,
физики, а также логики как «органона» всех наук, и объединение их с
помощью логики некоей органической связью. Аристотелю, как известно, не
удалось решить эту задачу. Систематически построенной метафизики, как
доказал впоследствии Франциско Суарес, у Аристотеля тоже не было.
Следовательно, только в отношении физики (самой слабой части его
учения) и логики (самой сильной части) Аристотель был близок к цели. В
рамках возможностей своего времени аристотелевскую задачу впервые
полностью решил именно Авиценна. В «Книге исцеления» представлена
дедуктивно построенная система теоретического знания, какой
представлял ее себе Аристотель, т. е. система, включающая логику, метафизику ,
математику и физику.
В понимании задач, предмета, методов и состава каждой из этих
наук Авиценна в основном следует Аристотелю, однако в трактовке
соответствующих проблем Ибн Сина проявляет самостоятельность. Во-
первых, он расширил (по сравнению с Аристотелем) круг исследуемых
вопросов; во-вторых, более детально и всесторонне рассмотрел каждый из
них, включая вопросы логики; в-третьих, установил более четкую, как
правило, — дедуктивную, связь между отдельными частями «теории»; в-
четвертых, привлек для подтверждения теоретического анализа большое
число новых, неизвестных Аристотелю, конкретных данных и почти пол-
К вопросу об эволюции аристотелизма в Средние века 327
ностью обновил и адаптировал систему экземплификации. Таким
образом, «Книга исцеления», как и «Книга спасения» и «Книга знания», это —
не простое переложение сочинений Аристотеля, аристотелизм Авиценны
есть не что иное, как творчески развитый и обогащенный аристотелизм,
но такой, какой мог возникнуть только в условиях средневекового
мусульманского Востока.
В связи с этим хотелось бы затронуть один общий вопрос культурно-
исторического характера. Почему в период раннего Средневековья из всех
возникших в античной философии направлений именно аристотелизм
оказался наиболее влиятельным в странах мусульманского Востока, в то
время как на европейском Западе в ту же эпоху преобладающим влиянием
пользовался скорее деформированный платонизм? Чтобы ответить на этот
вопрос, необходимо прежде всего учесть географию распространения
аристотелизма в период поздней античности.
Уже в первые века нашей эры центр распространения аристотелизма
переместился из Греции в Сирию (Эдесса), а затем, после сасанидского
завоевания Сирии, даже в Персию, в то время как платонизм, включая
неоплатонизм, оставался на протяжении всей поздней античности
господствующим философским течением в Европе и Александрии. Когда же
началась исламизация Ближнего и Среднего Востока, арабские
завоеватели нашли здесь аристотелизм уже сложившимся и укоренившимся.
Поэтому в ближайший период культурного расцвета халифата зарождение
арабоязычной философии и науки происходило на базе аристотелизма.
С другой стороны, эмпирико-практический и конкретно-научный
дух перипатетической школы как нельзя более соответствовал жизненным
интересам и мировосприятию жителей больших торгово-ремесленных
городов, типичных для средневекового мусульманского мира и совсем
нетипичных для раннесредневековой Европы. При интенсивной
городской жизни необходимы были врачи, фармацевты, грамматики,
математики, механики и вообще специалисты в области конкретных наук, а
таковыми были чаще всего перипатетики. Но поскольку выбор падал на
перипатетиков, он падал и на их Учителя, Аристотеля, а, следовательно, и на
все его учение, включая далекую от практики умозрительную его часть —
логику и метафизику.
Наконец, еще одна причина ассимиляции аристотелизма на
мусульманском Востоке заключается, как ни странно, в особенностях
метафизики Стагирита и его античных последователей.
Теология ислама в своей основе есть последовательный
теологический монизм, т. е. монотеизм, почти свободный от рудиментов
языческого антропоморфизма, от которых не свободен даже сугубо
монотеистический иудаизм. Из всех античных философских представлений о
Боге к мусульманскому монотеизму ближе других подходит
аристотелевское, как оно выражено в шестой и двенадцатой книгах
«Метафизики». Именно здесь «бог» определяется как единое, высшее бытие, чистая
форма без материи, чистая мысль, неподвижный двигатель, начало всех
начал и высшая цель, влекущая к себе все сущее. Все эти свойства
перипатетического «бога» разделяет и Бог ислама, хотя он наделен еще и
328 К вопросу об эволюции аристотелизма в Средние века
другими атрибутами, а то, что у Аристотеля представляется как чистая
форма (форма всех форм) и чистая мысль (мысль, мыслящая самое
себя), в исламе эквивалентно бесплотности, нематериальности и
абсолютной духовности Бога.
А самое главное, что логика и архитектоника аристотелевского
учения о сущем (и в особенности учения о необходимо-сущем)
настоятельно требовали монистической завершенности: форма всех форм
может быть только одна, и в понятии «перводвигателя» уже содержится
утверждение его единственности. Другое дело, что Аристотель не всегда
был последователен. Но это и не важно. Важно то, что в
архитектоническом отношении метафизика Аристотеля более всякой другой (особенно
если учесть ее телеологизм) была расположена к монотеистической
интерпретации, а его «теология» была начисто лишена всякого
антропоморфизма и пантеизма, чего не скажешь ни о «теологии» стоиков, ни
даже о «теологии» неоплатоников.
Как чистая мысль аристотелевский «бог», кроме того, совершенно
недоступен зрительному и вообще чувственно-художественному
изображению. Все это и было, конечно, одной из причин того, что аристотелизм
получил в раннее Средневековье наибольшую распространенность
именно в том регионе, где получил распространенность наиболее жесткий
монотеизм и где представление Бога в любых зрительных образах
повсеместно считалось преступным кощунством.
Наше мнение подтверждается и тем, что тринитарная теология
ортодоксального христианства была больше расположена не к аристотелизму,
а к неоплатонизму, в том числе и потому, что в основе метафизики
последнего лежит учение о троице «первоначальных ипостасей» (Единое,
Ум, Душа), связанных, правда, отношением субординации. В пользу
нашего мнения говорит и то, что антитринитарное арианство и близкое по
духу к исламу несторианство, — т. е. христианские ереси, имевшие явное
тяготение к теологическому монизму, еще задолго до появления ислама
возникли и процветали как раз в той же самой Сирии и в той же самой
среде (Антиохийская школа), где процветал аристотелизм. Кстати, именно
ученым несторианам мы обязаны тем, что произведения Аристотеля,
переведенные на сирийский, а потом с сирийского на арабский язык, дошли
до народов Ближнего и Среднего Востока, а затем и Западной Европы.
Итак, преобладающее влияние аристотелизма в ирано-арабской
средневековой культуре имеет достаточное историческое основание.
Понятно и то, почему восточный аристотелизм оказался несравнимо более
аутентичным и менее деформированным, чем западноевропейский в XI-
XII вв. Но означает ли это отсутствие глубоких деформаций (мы имеем в
виду сохранение в систематической целости всех основных разделов
философии и важнейших идей античного аристотелизма), означает ли это
также и отсутствие существенной трансформации? Можно ли представить
себе, что эволюция аристотелизма на Востоке происходила вне
зависимости от влияния господствующей религиозной идеологии — идеологии
ислама?
К вопросу об эволюции аристотелизма в Средние века 329
Конечно, нет. Не следует забывать, что рассуждения о боге имели в
философии Аристотеля весьма формальный и абстрактный характер, под
«теологией» понималась «первая философия», т. е. наука о «сущем как
таковом», о потустороннем мире в ней не было и речи, а о бессмертии
человеческой души говорилось очень невнятно и противоречиво. Ясно,
что в условиях духовного единовластия ислама подобная философия не
смогла бы выжить и тем более развиваться, если бы она предварительно
не подверглась определенному преобразованию и адаптации.
На примере Авиценны мы как раз и видим, в каком направлении
происходила эта вынужденная адаптация. Чтобы сделать свою
философскую деятельность легальной и включить ее в общий ритм развития
господствующей культуры, адепту аристотелизма требовалось представить
Аристотеля в таком виде, в каком он не противоречил бы идеологии
ислама, а, следовательно, видоизменить и дополнить аристотелевскую
«теологию», развить учение о бестелесности и бессмертии души, ввести
некоторые представления о загробной жизни, наконец, согласовать ряд
важных утверждений с высказываниями Корана.
Возьмем «Книгу знания» и трактат «О душе» из «Книги исцеления».
«Книга знания» открывается молитвой, что, конечно, не характерно для
сочинений Аристотеля. Часть, посвященная метафизике, начинается в
духе Аристотеля с анализа понятия «сущего» и его видов, но дальше
почти все внимание сосредоточивается на проблеме «необходимо-сущего»,
т. е. Бога и его атрибутов. К атрибутам первоначальности,
единственности, единства, вечности, неизменности и т. п., известным уже
доисламскому аристотелизму, присоединяются атрибуты творца, воли,
могущества, мудрости, милосердия и другие, являющиеся данью мусульманской
теологии (Ибн-Сина. Избранные философские произведения. М.: 1980,
с. 149-161). В разделе «Физика» наряду с традиционными для
аристотелизма вопросами о движении и составе телесной материи вводятся,
например, вопросы «о связи души с тайным миром», «об основе чудес», «о
состоянии святой души» (Там же, с. 225-229). В трактате «О душе»,
повторяющем по форме одноименный трактат Аристотеля, Авиценна уже
совершенно недвусмысленно решает знаменитую аристотелевскую
проблему «отделимого разума» в пользу бестелесности и бессмертия
человеческой души (Там же, с. 472-507).
Носили такого рода изменения и дополнения чисто
конъюнктурный характер или же они были следствием убеждения, решить сейчас
трудно. Да это и не существенно. Важно то, что в этом случае аристоте-
лизм претерпел определенную трансформацию. Интересно, что именно
в этом, трансформированном, а в некотором отношении и обогащенном
виде аристотелизм перешел потом от арабов к европейцам, перенося с
собой и соответствующие проблемы. Когда, благодаря арабскому
влиянию, в Западной Европе в XIII в. начался «ренессанс» аристотелизма, в
центре внимания европейской схоластики оказались вдруг
несвойственные ей раньше проблемы «отделимого разума», «сущности и
существования», «модусов бытия» и т. п. Современные историки философии
настолько привыкли к неотделимости этой проблематики от европейской
330 К вопросу об эволюции аристотелизма в Средние века
схоластики XIII в., что обычно и не задаются вопросом, откуда взялись
эти проблемы, считая, по-видимому, их имманентными аристотелизму
как таковому. На самом же деле, например, проблема отделимого,
активного и пассивного разума, выдвинулась на первый план в
европейской схоластке отнюдь не вследствие появления переводов с арабского,
а потом и с греческого соответствующих работ Аристотеля, а вследствие
знакомства европейцев с восточным аристотелизмом и прежде всего с
аристотелизмом Авиценны и Аверроэса.
Можно даже сказать, что, если без учета влияния «обостренного» и
радикального аристотелизма Аверроэса, невозможно ничего понять в
идейной ситуации в Парижском университете в середине XIII века, то без
учета влияния «умеренного» и гармонического аристотелизма Авиценны
вряд ли можно до конца понять метафизику Альберта Великого и Фомы
Аквинского.
ДУНС СКОТ КАК МЕТАФИЗИК
Иоанн Дуне Скот несомненно может считаться крупнейшим
метафизиком Средних веков]\ если под метафизикой понимать то, что в своих
сочинениях, объединенных впоследствии под общим названием
«Метафизика», Аристотель понимал под «первой философией», а именно науку о
первых причинах и последних основаниях всего сущего, построенную в
соответствии с принципами формальной логики. Из признанных столпов
схоластики по широте охвата и систематичности разработки
метафизических проблем с Дунсом Скотом может соперничать, пожалуй, один только
Фома Аквинский, а по глубине и тонкости этой разработки — никто.
Виртуозное владение логикой и способность улавливать тончайшие различия
(дистинкции) в метафизических понятиях, свойственные Дунсу Скоту,
восхищали уже его современников. Однажды папа Климент V, услышав
от своих легатов, посетивших лекции Дунса в Парижском университете, о
его необыкновенной способности неординарно и вместе с тем в духе
католического учения решать самые трудные и запутанные вопросы
богословия и метафизики, назвал его «Тонким Доктором» (Doctor Subtilis).
Под этим символическим именем он и вошел в историю схоластики.
Впрочем, по свидетельству К. Балича, одного из инициаторов ныне
осуществляемого первого критического издания полного собрания сочинений
Дунса Скота, современники называли Шотландца также и Doctor Subtilis-
simus, т. е. «Утонченнейший Доктор» (Цит. лит., 6, p. 378)1, что могло
выражать не только восхищение виртуозностью его логического мышления
и проникновенностью его философских интуиции, но и признание труд-
нодоступности его сочинений для понимания даже подготовленного
читателя. В наши дни, отделенные от эпохи Дунса семью веками, восприятие
его сочинений не стало более легким. Даже такой опытный философ-
медиевист, как Этьен Жильсон, в своей большой монографии,
посвященной великому шотландцу, признавался: «Дуне Скот — автор трудный»
(Цит. лит., 14, р. 8). Трудность заключается в особенностях языка его
произведений — языка, о котором, по свидетельству того же Жильсона, один
схоластический комментатор сказал: Profecto dum scribebat in mente tinge-
bat («Наверно, когда он писал, перо в уме обмакивал») (Там же, 14, р. 9).
Язык Дунса отличается необыкновенной концентрацией мысли и обилием
непривычных для современного читателя искусственных схоластических
терминов,включая образованные самим автором неологизмы. Кроме того,
склонность Дунса Скота к исчерпывающей полноте и чрезвычайной
детализации доказательств часто затрудняет слежение за ходом его мысли и,
во всяком случае, требует особого напряжения внимания. Однако,
несмотря на все эти трудности, читатель Дунса Скота будет несомненно
1 См. список цитируемой литературы в конце работы. Здесь и далее первые цифры до
запятой указывают название сочинения, последующие — страницу.
332
Дуне Скот как метафизик
вознагражден за свои усилия. Ведь сочинения Тонкого Доктора — это
отнюдь не только прекрасный музей средневековых образцов
теоретического мышления; читатель найдет в них и много такого, что остается
актуальным и сегодня, будь то вдохновенное учение Дунса о свободе воли и
неповторимости личности или его теория интенционального
существования, родственная теории Гуссерля, или его концепция неотчуждаемости
народного суверенитета, предвосхитившая Руссо и столь созвучная
современности, или, наконец, лежащее в основании его метафизики учение
о бытии, знакомство с которым, по всей вероятности, подтолкнуло Хай-
деггера к созданию «фундаментальной онтологии»2*; полное раскрытие
глубинного смысла этого учения Дунса Скота еще только предстоит.
Факторы влияния и эрудиция
Иоанн Дуне Скот, хотя нередко опережал свою эпоху в сфере идей,
был сыном своего века. В его судьбе и в его мышлении с поразительным
изоморфизмом отобразились три главные духовно-культурные новации в
Западной Европе XIII в.: 1) основание нищенствующих орденов —
Францисканского и Доминиканского; 2) открытие университетов, а при них
«общеобразовательных школ» (studia generalia), как правило —
орденских; 3) существенное увеличение объема философских и научных знаний
благодаря переводу на латинский язык большого корпуса сочинений
греческих и арабоязычных авторов и прежде всего — основных сочинений
Аристотеля {Метафизика, Физика, Никомахова этика, Политика и др.),
Авиценны, Аверроэса, Авицеброна (Ибн Гебироля), Моисея Маймонида,
которые оказали существенное влияние на ход развития и тематику
схоластического философствования в XIII в. К этому следует также добавить
псевдоэпиграфическую Теологию Аристотеля и Книгу о причинах,
переведенные с арабского еще в XII в. и содержащие в себе эксцерпты из Эн-
пеад Плотина и Первооснов теологии Прокла, соответственно. Через эти
трактаты, а со второй половины XIII в. уже и через латинский перевод
самих Первооснов теологии Прокла, латинский Запад знакомился с
неоплатонизмом в его первоначальной языческой форме, тогда как через
Источник жизни Ибн Гебироля, через труды аль-Фараби и Авиценны — с
неоплатонизмом иудейским и исламским, а через Ареопагитики, которые
в XIII в., спустя четыре столетия после Эриугены, снова вошли в круг
чтения схоластиков, — с христианским неоплатонизмом греков,
дополнившим латинский христианский неоплатонизм Августина и Боэция.
Таким образом, основной смысл данной, третьей по нашему счету, новации
состоит в том, что в XIII в. западная схоластика испытала невиданный
ранее наплыв аристотелистских (перипатетических) и неоплатонических
идей, а главное — впервые познакомилась с систематической философией
в собственном смысле.
Первая из трех вышеуказанных новаций повлияла на судьбу Дунса
Скота в том смысле, что уже в пятнадцатилетнем возрасте он вступил во
Францисканский орден и стал монахом, затем — в двадцать пять лет —
Дуне Скот как метафизик
333
священником, и в результате вся последующая жизнь Дунса стала
служением — служением католической Церкви. На этом поприще Иоанн достиг
столь многого, что за свои проповеднические, апологетические и
пастырские заслуги, а особенно за отстаивание учения о Непорочном Зачатии
Девы Марии, получил почетный титул Doctor Marianus, а позднее (в
1993 г.) был причислен к лику блаженных.
Вторая из упомянутых новаций XIII в., взятая в единстве с первой,
предопределила основной род занятий монаха Иоанна. Наделенный от
природы могучим аналитическим умом, силой интуиции, способностью к
широким обобщениям и систематизации, а вместе с тем — необычайной
любознательностью и трудолюбием, он и не мог бы найти лучшего
применения всем этим дарованиям, кроме как посвятив себя научной
деятельности. А поскольку центрами научной деятельности в XIII веке стали
университеты, Дуне Скот с ранней юности связал с ними свою судьбу, и
большая часть его жизни прошла в аудиториях, библиотеках и за
письменным столом.
Разумеется, не только им самим решалась его судьба: как монах, он
должен был подчинять свою волю воле ордена. Но, к счастью, в данном
случае обе воли совпадали: францисканцы (как и доминиканцы) не только
поощряли образование, но можно сказать, даже опекали университеты и,
например, в Англии составляли в некоторые периоды основную часть
преподавательского корпуса3).
Знакомясь с сочинениями Дунса Скота, читатель убедится, что
шотландский мыслитель вобрал в себя едва ли не все философско-бого-
словское знание, доступное его веку. Основу его философской эрудиции
составляли произведения Аристотеля и Августина. Кроме того, его
источниками были труды Порфирия и Боэция, Ансельма Кентерберийско-
го и Ричарда Сен-Викторского, Авиценны и Аверроэса, Ибн Гебироля и
Маймонида, если говорить только о тех, кого он чаще цитирует. Что же
касается богословия, то здесь, разумеется, главный его источник —
Священное Писание, которое он знал досконально, а кроме Библии, —
тот же Августин и другие Отцы Церкви, особенно Григорий Великий и
Иоанн Дамаскин. Знаком был Дуне Скот и с произведениями Дионисия
Ареопагита. Главным же предметом его исследований был труд Петра
Ломбардского Сентенции, в котором, помимо всего прочего, были
собраны воедино мнения всех известных католических богословов до XII в.
включительно, что обязывало Дунса как толкователя быть знакомым и с
их учениями.
Из авторитетов своего века он достаточно большое внимание уделил
Бонавентуре и Фоме Аквинскому, но еще большее — своим
современникам, богословам Парижского университета Генриху Гентскому и Готфри-
ду из Фонтэна, из которых первый был августинианцем, а второй —
скорее аристотеликом4). Полемика с ними, особенно с Генрихом, составляет
существенный элемент содержания главного труда Дунса Скота Ordination
при этом Генриха Дуне критикует с позиций аристотелистского
интеллектуализма, а Готфрида — с позиций августинистского волюнтаризма . В
связи с этой полемикой сам собой встает вопрос: какова же была действи-
334
Дуне Скот как метафизик
тельная позиция Дунса Скота? Чтобы ответить на него, необходимо
коснуться более общей темы — соотношения августинизма и аристотелизма
в схоластике тринадцатого столетия.
В силу указанных выше причин аристотелизм несомненно оказывает
в этом веке особенно большое влияние. Однако при этом мы должны
помнить, что и вся предшествующая история схоластики, начиная с
Боэция, связана с именем Аристотеля. Правда, в ранний период
Средневековья Аристотеля знали и использовали почти исключительно как логика,
или, как тогда говорили, «диалектика». Но, с другой стороны, почти вся
философия этого периода и сводилась к диалектике, а аристотелевский
«Органон» вместе с комментариями к нему Порфирия и Боэция служил
основой схоластического образования. В XIII в. авторитет Аристотеля в
логике продолжает оставаться незыблемым. Но теперь становятся
доступными и другие его работы, такие как Метафизика, О душе, Физика, Ни-
комахова этика, Политика и т. п., а вместе с ними в схоластический
универсум мысли вливается мощный поток натурализма и античного
интеллектуализма. При этом, как пишет Фредерик Коплстон, вновь открытая
философия Аристотеля «далеко превосходила те образцы
философствования, которые предшествовали ей в христианском средневековом мире.
Поэтому не надо ломать голову, чтобы понять, какой интерес и энтузиазм
был вызван приумножением знаний об аристотелизме, которое стало
возможным благодаря переводам» (Цит. лит., 4, с. 187).
Как мы уже отмечали, распространение сочинений Аристотеля
сопровождалось проникновением в Европу и трудов его арабских
комментаторов. Начиная с 30-х годов XIII в. в Париже уже читают сочинения
главного комментатора Аристотеля — Аверроэса, а позднее, в 60-х годах,
в обстановке университетской вольности на «факультете искусств»
утверждается аверроистская разновидность аристотелизма, представленная
прежде всего Боэцием Дакийским и Сигером Брабантским. Вскоре,
правда, распространение аверроизма было приостановлено, и этому
способствовали не только церковные осуждения 1270 и 1277 гг., но и решительная
критика со стороны самых влиятельных богословов того времени, в числе
которых Альберт Великий и Фома Аквинский, Бонавентура, Иоанн Пек-
кам, Матфей из Акваспарты и Эгидий Римский. Все они, несмотря на
существенные расхождения во взглядах, были противниками аверроизма, но
не все — противниками аристотелизма. Более того, никто из них не был
свободен от аристотелизма полностью, ибо философские идеи и
терминология Аристотеля уже успели к этому времени слишком глубоко
укорениться в европейской культуре. Тем не менее Эгидий Римский и Иоанн
Пеккам осуждали аристотелизм в целом, а Матфей из Акваспарты даже
называл языческих философов «инфернальными». Бонавентура был к
аристотелизму более или менее равнодушен (хотя и взял у него некоторые
идеи), но зато и Альберт, и Фома были, несомненно, почитателями
Аристотеля — теми, кто признав аверроистскую форму аристотелизма
несовместимой с христианскими представлениями о Боге, мире и
человеческой душе, в то же время считали, следуя в этом по стопам Северина
Боэция, что философия Аристотеля не только может, но и должна быть ис-
Дуне Скот как метафизик
335
пользована для целей христианского богословия, и что христианский ари-
стотелизм имеет полное право на существование. Поскольку же Альберт и
Фома принадлежали к Доминиканскому ордену, а среди францисканцев
преобладали почитатели не Аристотеля, но Августина (среди них такие,
как Александр Гэльский, Бонавентура, Иоанн Пеккам, Матфей из Аквас-
парты, Роджер Марстон и др.), может создаться впечатление, что в
теоретическом плане эти два ордена стояли на взаимоисключающих позициях,
но это только иллюзия: на самом деле доминиканцы не менее, чем
францисканцы, почитали Августина, а такие францисканцы, как Ричард из
Мидлтауна и Роджер Бэкон, испытывали не меньший интерес к
Аристотелю, чем доминиканцы: Роджер Бэкон даже называл себя последователем
Аристотеля. Речь скорее может идти об определенных тенденциях,
особенно проявившихся во второй половине века в ходе борьбы с аверроиз-
мом: одни делали акцент в этой борьбе на обращении к истыпанной
временем традиции августинизма, другие — на христианском прочтении
философии Аристотеля6).
Августинизм был для всей эпохи схоластики столь же привычным
явлением, как аристотелизм; и не только в богословии, но и в философии.
Августинианцами в философии были ранний Эриугена, Ансельм Кентер-
берийский, Гуго и Ричард Сен-Викторские, да и все другие схоластики, не
знавшие Метафизики Аристотеля, хотя и воспитавшиеся на
аристотелевской логике. Ведь именно из христианского неоплатонизма Августина, а
также из неоплатонизма Боэция черпали свои философские идеи ранние
схоластики. Поэтому нельзя согласиться с Ван Стеенбергеном, что до
второй половины XIII в. философского августинианства в рамках
схоластики не существовало вовсе (Цит. лит., 17, р. 70, 187). Свое мнение лу-
венский профессор обосновывает тем, что до указанного времени
августинизм проявлял себя якобы исключительно в рамках богословия, а
поскольку философия, как он считает, должна пониматься как
самостоятельная «научная дисциплина», то как таковая она начинает проявлять
себя только начиная с Фомы. На это можно возразить, что понимание
философии как науки свойственно как раз аристотелизму, а значит, и
томизму, но отнюдь не свойственно августиновской традиции, сохраняющей
платоновское понимание философии как «любомудрия». А при таком
понимании, на наш взгляд более аутентичном, различия между
философским августинизмом Ансельма и августинизмом Бонавентуры не так уж
существенны. Но еще правильнее было бы сказать, что вся философия
схоластики есть в той или иной мере смешение аристотелизма и
августинизма (или вообще христианского платонизма). Ведь даже такой
классический августинианец, как Бонавентура, со всей серьезностью обсуждает
тему гилеморфизма — центральную в метафизике Аристотеля; с другой
стороны, Фома Аквинский подкрепляет свои суждения цитатами из
Августина едва ли не чаще, чем цитатами из Аристотеля. Наконец, напомним,
что в продолжение всего Средневековья образование любого схоластика
начиналось с изучения трудов Боэция, с его комментариев к Аристотелю
и Порфирию, что, разумется, имело своим последствием глубокую
укорененность аристотелевского стиля мышления во всей духовной культуре
336
Дуне Скот как метафизик
этой эпохи. Вместе с тем, как бы ни расходились взгляды отдельных
схоластиков, никто из них никогда открыто не критиковал философского
учения Августина, а в богословии его авторитет всегда и для всех был
непререкаем. В этом смысле вся западная схоластика может быть
охарактеризована как аристотелевско-августинианская, дифференциация внутри
которой определялась преобладающей склонностью ее творцов или к ав-
густинизму, или к аристотелизму. Если же говорить конкретно о XIII в.,
то доминиканцы, имевшие в числе своих главных целей проповедь (их
официальное название — «орден проповедников»), укрепление церковной
дисциплины и систематизацию богословия, естественно, чаще склонялись
к рациональным методам, а следовательно, и к аристотелизму; напротив,
францисканцы, с их пафосом углубления личной веры и личного
служения Христу, больше были склонны к ориентированному на самоанализ и
мистическую любовь августинизму.
После всего сказанного читателю будет легче понять, какую
позицию по отношению к аристотелизму и августинизму занимал Иоанн Дуне
Скот. По внешним признакам, таким как стиль его сочинений,
используемая терминология, метод рассуждения, система референций,
организация и широта охвата материала и т. п., Дуне Скот — классический ари-
стотелик, мало чем отличающийся от Фомы Аквинского, разве что
непревзойденной полнотой и строгостью доказательств. Далее, как и Фома,
Иоанн признаёт Аристотеля высшим авторитетом в философских
вопросах, непрерывно его цитирует и часто использует мнение Аристотеля как
аргумент в доказательствах наряду с логическим выводом. Но помимо
всего этого Дуне Скот — аристотелик и по своей сущности, ибо он
великий метафизик, а метафизика — изобретение Аристотеля. И вряд ли кто-
либо после Аристотеля, не исключая и Фому Аквинского, достигал такой
глубины и такой полноты в понимании смысла этого изобретения Стаги-
рита. При раскрытии содержания метафизики Дуне концентрирует
внимание на тех же темах, на которых было сосредоточено внимание
Аристотеля: бытие и сущее, сущность и единичный предмет, возможность и
действительность, форма и материя, необходимость и контингентность,
причина и следствие, природа и свобода, Бог и мир. Как и у Аристотеля,
метафизика у Дунса теснейшим образом связана с логикой и теорией
познания, в которых он также в основном аристотелик. И в учении о
природе («физике») он идет по стопам Стагирита, за вычетом, конечно, его
христианского креационизма и тех новых знаний, которые передал ему
его век. Однако, как только речь заходит о смысле жизни и
предназначении человека, о судьбе души, о сущности Бога и происхождении мира,
Дуне Скот покидает Аристотеля и переходит в стан последователей
Августина. Можно ли оправдать такой переход? Совместим ли Августин с
Аристотелем? Ответить нетрудно: сам Августин немало позаимствовал у
Аристотеля и не только в тех областях, в которых аристотеликом был и
Дуне, но даже и в философии морали. Достаточно вспомнить
восходящий к Аристотелю центральный в этике Августина принцип uti — frui.
Но Августин не изменял своим христианским убеждениям, когда
пользовался языческой мудростью Платона, Аристотеля и Плотина. Ведь поль-
Дуне Скот как метафизик
337
зоваться (uti) — это значит применять как средство, а не делать той
целью, к которой надо стремиться ради нее самой (frui). Таким образом,
сам столь важный у Августина и заимствованный им у Аристотеля
принцип uti — frui оправдывает это заимствование. Поэтому и объединение
аристотелизма с августинизмом в философско-богословском учении
Дунса Скота было вполне возможно при строгом разделении предметов
ведения, и оно стало реальностью, так как Дуне Скот благоразумно
отделил метафизику от богооткровенного богословия (theologia revelata),
естественное от сверхъестественного, конечное от бесконечного,
относительное от абсолютного, сохранив при этом их ценностную
субординацию и связь. И все, что было связано с человеческим спасением,
божественным всемогуществом, с тайной свободы, уникальностью личности,
Дуне Скот доверил уже не Аристотелю, а Августину и своей
христианской интуиции. И похоже, что Иоанн понял и Аристотеля, и Августина
лучше, чем кто бы то ни было из схоластиков. Но, что еще более важно,
многое он добавил к их философии и от себя.
Богословие и метафизика
Дискуссия о границах применения диалектики (формальной логики)
в вопросах веры, характерная для схоластики XI-XII вв., в XIII столетии в
связи с возрождением и утверждением аристотелизма в Европе
дополнилась дискуссией о соотношении богословия и метафизики.
Широко обсуждаемая в этом веке идея «естественного света
разума» (lumen rationis naturale), столь популярная, как известно, и в
философии более поздних времен, вошла в схоластику по двум каналам и в
двух разных формах, имевших тенденцию слиться в одну. Во-первых,
она вошла через все разновидности неоплатонизма и особенно через
христианский неоплатонизм Августина, в своих ранних работах
утверждавшего, что Бог есть сама Истина, и что эту Истину нужно искать не в
глубине небес, а в глубинах человеческой души, а именно, в разуме и
совести человека. Из этого следовало, что человеческий разум по самой
своей природе может быть источником света истины7). Это
соответствовало также христианскому учению о том, что человек есть образ Божий
и этот образ заключается в человеческой свободе и разумности. Отсюда
иногда делался вывод: человек может познавать истину бытия
естественно, без дополнительной сверхъестественной помощи. Поэтому общая
теория сущего, т. е. метафизика, может быть построена и без помощи
«богооткровенного богословия».
Вторым каналом, по которому идея lumen naturale пришла в XIII в.,
явился трактат Аристотеля О душе в интерпретации Авиценны. В третьей
книге этого трактата (глава 5) Аристотель утверждает: «...существует, с
одной стороны, такой ум, который становится всем, с другой — ум, все
производящий, как некое свойство, подобное свету. Ведь некоторым
образом свет делает действительными цвета, существующие в
возможности» (De an., 5, 430а 10-15)8). Здесь «деятельный ум» или — в другом
338
Дуне Скот как метафизик
переводе — «активный разум» Аристотель уподобляет свету,
озаряющему «ум потенциальный» (или «пассивный разум»), высвечивая в нем
истины, которые содержатся в нем в возможности, а в возможности (в
потенции) наш пассивный ум якобы содержит все истины. Хотя статус
«активного разума» у самого Аристотеля не вполне ясен, Авиценна
истолковал его как особую субстанцию, «отделенную интеллигенцию», общую
для всех человеческих душ и обеспечивающую транссубъективность
истинного познания. Хотя эта субстанция, как и все другие, по учению
Авиценны эманирует из божественного Первоначала, она есть часть
природы, а поэтому познание с ее помощью рассматривается Авиценной
вслед за Аристотелем как познание естественное, а не
сверхъестественное, т. е. как познание через lumen naturale. Отсюда следовало, что
метафизика как общая теория сущего может быть построена силами
естественного разума.
Однако Аристотель, по стопам которого следовал Авиценна,
определял предмет метафизики (на языке Аристотеля — «теоретической
мудрости» (софии) или «первой философии») на первый взгляд неоднозначно:
то он называет ее наукой о сущем как таковом {Nfetaph., IV, 1 (1003 а 22-
32)), то — наукой о первых причинах и началах (Ibid., I, 1, 981b 25-30; I,
2, 982b 8-10), то — наукой о высшем роде сущего, наукой о
божественном, или «богословием» (Ibid., VI, 1 (1026а 10—20)). Однако позднеантич-
ные и средневековые толкователи Метафизики не видели здесь
противоречия. Они понимали, что во всех трех аристотелевских определениях
предмета метафизики речь идет об одном и том же — о «сущем как
сущем», но только во втором случае — о его (сущего) определяющих
причинах и началах (принципах), а в третьем случае — о наивысшем
выражении этого сущего и его последней формальной, действующей и целевой
причине. Реальная трудность заключалась в том, что наивысшее сущее
Аристотеля (т. е. Бог) радикально отличалось от всего другого сущего,
разделяя со всем остальным только само свойство существования: будучи
чистой формой и перводвигателем, оно было не причастно материи,
движению и любому изменению; будучи целью для всего остального, оно над
собой не имело никакой цели. Кроме того, это Первосущее, Бог
Аристотеля, есть чистое мышление — мышление, мыслящее самое собя.
Казалось бы, аристотелевское наивысшее сущее можно было посчитать
«сверхъестественным», сверхприродным, тем более что «природу» Стаги-
рит понимает как «начало движения и изменения» и как нечто
материальное (Phys., Ill, 200b 10-15; см. также: И, 1, 193а 30), а Бог Аристотеля
свободен от всего этого. Но Аристотель не знает термина
«сверхъестественное», а природу он противопоставляет искусству, а не сверхприродному.
Дело в том, что, несмотря на свои уникальные свойства, Бог Аристотеля
как перводвигатель и источник форм не трансцендентен, а имманентен
природе, он не таинственный творец ее, а вполне рационально выводимое
ее начало и завершение, ее логическое основание. Так же как и все сущее,
он подчиняется требованиям логической возможности. Средневековое же
понятие «сверхъестественного» содержит в себе имплицитно идею
«сверхразумного» — чего-то превышающего возможности естественного
Дуне Скот как метафизик
339
разума. С учетом всех этих нюансов терминологии философию
Аристотеля правомерно называть натуралистической, а его богословие —
«естественным» или «рациональным» богословием. А поскольку это богословие
есть, по Аристотелю, рациональная наука о сущем как таковом, пусть
даже взятом в своем предельном самовыражении, то оно в то же время есть
и метафизика.
Этот экскурс в философию Аристотеля совершенно необходим для
понимания соотношения богословия и метафизики у Дунса Скота. Дело
в том, что многое, что мы сказали здесь об Аристотеле, в определенном
смысле относится и к Дунсу Скоту. Прежде всего, это — истолкование
метафизики как науки наиболее общей, собственным (proprium)
предметом которой является сущее как таковое, независимо от того, какого оно
рода: конечное или бесконечное, абсолютное или относительное,
возможное или действительное, реальное или мыслимое (интенциональ-
ное), субстанциальное или акцидентальное, единичное или
универсальное. Во всех этих случаях понятие «сущего», хотя и модифицируется,
но, тем не менее, согласно Дунсу, употребляется в одном и том же
коренном значении. Такое употребление он называет, как и некоторые
другие схоластики его времени, univocum, что на наш взгляд, лучше
всего передается словом «единозначное», т. е. предполагающее во всех
случаях употребления данного слова единое значение. «Унивокация»
(univocatio), или «единозначность» термина, как пишет Дуне,
удостоверяется логически следующим образом: «...единозначное понятие есть
то, которое до такой степени едино, что для его единства достаточно
противоречия, когда оно (это понятие) утверждается и отрицается о том
же самом. Этого единства достаточно также для среднего [термина]
силлогизма, чтобы о крайних [терминах], объединенных в среднем, до
такой степени едином, можно было бы заключить, что они
объединяются между собой» (Ord., I, d. 3, p. 1, q. 2, п. 252)9). Иными словами, когда
мы говорим, что нечто существует, то мы можем с полной гарантией
подставлять термин «существует» в любое рассуждение, не боясь, что
возникнет противоречие или учетверение терминов из-за
двусмысленности (aequivocatio) этого термина.
Особенно важно подчеркнуть, что единозначность сущего
распространяется Дунсом как на объекты реальные, так и на объекты мысли. В
одной из ранних работ он писал: «Сущее двояко, а именно — оно и
сущее природы, и сущее разума (ens rationis). Ибо сущее природы — это
такое сущее, бытие которого не зависит от души»10). Фактически это
означало рождение онтологии интенциональных объектов, получившей
развитие только в XX в., в частности, у Гуссерля. Ведь Дуне Скот,
говоря о «сущем» разума, отнюдь не имеет в виду некие психологические
состояния мыслящего субъекта, когда тот мыслит; речь идет именно о
бытии «смысла», которое «зависит от души» ровно настолько,
насколько смысл обнаруживается и понимается индивидуальным мышлением,
хотя им и не производится.
2 О расшифровке этих обозначений см. в конце работы: «Сочинения Дунса Скота».
340
Дуне Скот как метафизик
Итак, метафизика имеет своим предметом все без исключения виды
бытия, а значит, и бытие Бога, так как Бог, согласно Дунсу, есть также
некое сущее, а именно, сущее бесконечное и абсолютное. Следовательно,
в определенном аспекте, а именно, в аспекте своего бытия, Бог может
рассматриваться как объект или предмет метафизики, а это значит, что по
крайней мере в какой-то своей части метафизика совпадает с
богословием, что, на первый взгляд, соответствует и позиции Аристотеля. С другой
стороны, Дуне Скот не расходится с Аристотелем и в том, что Бог есть
высшая действующая11* и целевая причина мира, хотя для Дунса Скота эта
причина трансцендентна, а для Аристотеля — имманентна миру. Но, коль
скоро метафизика имеет своим объектом первые причины и начала, то и в
этом она совпадает с богословием, впрочем, равно как и в том, что ее
высший объект, Бог, неизменяем и нематериален. Из всего этого можно,
казалось бы, сделать вывод о едва ли не полном совпадении взглядов
Дунса Скота и Аристотеля на соотношение метафизики и богословия.
Однако такому выводу противоречат другие высказывания Дунса.
В «Прологе» к своему главному труду, Ordination Дуне Скот,
подробно рассуждая о предмете, целях и сущности богословия, говорит о
различии «богословия в себе» (theologia in se) и «нашего богословия»
(theologia nostra). Различие между ними он определяет так: 1) «Первый
объект богословия в себе не может быть иным, кроме Бога»; «к этому
богословию относится то, что по своей природе известно только
божественному разуму» (Ord., Prol., p. 3, q. 1-3, η. 151-152); 2) «...наше богословие
фактически есть не что иное, как [наука] об истинах, содержащихся в
Писании, и тех истинах, которые мы можем извлечь из него [посредством
дедукции]» (Ibid., п. 204); «...наше богословие есть богословие такого
характера (habitus), что не обладает очевидностью в отношении объекта»
(Ibid., п. 168).
Приведенные цитаты не оставляют сомнений в том, что ни
«богословие в себе», ни «наше богословие» не могут быть тождественны
метафизике ни в полном своем объеме, ни даже частично. Но как же тогда
согласовать это с тем, что Бог есть «Сущий» (Ис 3, 14) и что сущее как
таковое, во всех его модусах — это предмет метафизики?
Ответ на этот вопрос Дуне Скот дает, ссылаясь на восходящий к
Аристотелю принцип: «Nulla scientia probat suum subiectum esse» —
«Никакая наука не доказывает существование своего предмета» (Ord., Prol.,
p. 3, q. 1-3, η. 136); Дуне Скот ссылается при этом на полемику по
данному вопросу Аверроэса с Авиценной. А если так, то какая же наука должна
доказывать бытие Бога? Разумеется, та, предметом которой как раз и
является «бытие», т. е. именно метафизика, а точнее, та ее часть, которую у
схоластиков принято называть «рациональным богословием». Что же
касается богословия в собственном смысле, то его предметом, как мы уже
видели, служит не существование, а сама сущность (essentia) Бога,
которая в своей полноте и очевидности известна только самому Богу. Это и
есть theologia in se. С определенной степенью очевидности сущность Бо-
жию или — скорее — quiditas, «чтойность» («что есть Бог») знают ангелы
и будут знать блаженные души после Воскресения12). Этот род знания
Дуне Скот как метафизик
341
Дуне относит к особой theologia beatorum. А человек в его нынешнем,
земном состоянии, «человек-странник» (homo viator), — как его называет
Дуне Скот, — может знать о чтойности Бога только то, что ему открыто
самим Богом в Священном Писании, и то, что можно вывести из него с
помощью разума. Это и есть theologia nostra. Впрочем, кое-что человек-
странник может узнать о некоторых общих свойствах Бога и с помощью
метафизики в рамках «рационального богословия». Однако это будет
знание не о «собственных» (propria) свойствах Бога, но только о Его
свойствах как Наивысшего сущего, т. е. о свойствах, выводимых только из
одного факта Его существования, а не из Его индивидуальной чтойности.
Вполне понятно, что указанное толкование соотношения
богословия и метафизики предполагало определенное решение традиционного
для христианской философии вопроса о соотношении веры и разума. Не
слишком вдаваясь в детали, отметим, что в решении этого вопроса Дуне
Скот следует по пути Августина и Ансельма, которые «веруя, искали
уразуметь то, во что верили» (Ord. II, d. 1, q. 3, η. 138). По мнению Дунса
Скота, доводы разума в защиту положений веры, если эти доводы
истинны, не могут угрожать истинной вере, ибо истина не может
противоречить истине. Поэтому для верующего они неопасны, но и для
неверующего полезны, так как могут путем убеждения с помощью логики
приблизить его к истинной вере. Однако Дуне не разделяет энтузиазма
Фомы Аквинского относительно гармонии веры и разума, богословия и
философии, ибо, как мы уже говорили, считает все истины богословия в
собственном смысле недоступными разуму человека в его нынешнем
состоянии. Правда, сам по себе человеческий разум (как образ Божий)
он оценивает очень высоко, полагая, что по своей природе разум
способен в возможности познавать все (Ord., Prol., p.l, q.un., η. 60); но Дуне
Скот в то же время убежден, что в нынешнем своем земном состоянии
наш естественный разум нуждается в сверхъестественной помощи — в
помощи Божественного Откровения. «Естественный свет разума» (lumen
naturale intellectus) (Ibid., η. 1) Тонкий Доктор использует для
опровержения тех философов (он называет Аристотеля и Авиценну, но имеет в
виду, конечно, и Аверроэса и аверроистов), которые, по его мнению, как
раз и считали этот «естественный свет» достаточным для познания
всего, что необходимо узнать человеку в этой жизни. Ведь он понимает, что
аргументы, исходящие от истин веры, для философа неприемлемы (Ibid.,
п. 12). Среди аргументов от естественного разума в пользу
необходимости сверхъестественного знания Дуне Скот приводит первым такой:
«Всякому действующему посредством познания необходимо отчетливое
знание своей цели... Но человек не может отчетливо познать свою цель,
исходя из природных вещей; значит, ему требуется об этом какое-то
сверхприродное знание (Ibid., п. 13). Второй аргумент касается путей и
средств достижения этой жизненной цели, которые также не могут быть
установлены естественным разумом (Ibid., п. 17). Третий аргумент
сводится к тому, что высший род необходимого человеку знания есть
знание высшего сущего, но это высшее сущее (т. е. Бог) не может быть
познано в своей чтойности естественным способом и познается только че-
342
Дуне Скот как метафизик
рез Откровение, сообщаемое человеку Богом не по необходимости Его
природы, а по Его свободной воле (Ibid., n.n. 18-21).
Дуне Скот готов согласиться с Аристотелем, что высшей целью
человеческой жизни является счастье, блаженство, и даже с тем, что прямое
созерцание высшей бестелесной сущности может быть отнесено к
блаженству. Однако он не видит возможности достичь такого
созерцательного познания, а следовательно, и блаженства, естественными средствами и,
кроме того, считает, что высшее блаженство, ожидающее праведников,
состоит не столько в созерцании, сколько в любви, имеющей отношение
уже не к сфере знания, а к сфере воли.
Доказав таким образом необходимость сверхъестественного
Откровения, Дуне переходит к обоснованию его достоверности, т. е.
достоверности всего того, что содержится в Священном Писании. Здесь он
выдвигает целую серию аргументов, имеющих в основном чисто богословский
характер13), рассмотрение которых не входит в задачу данной работы, ибо
нас интересует прежде всего его метафизика. Что же касается богословия
как такового, его место в системе наук Дуне Скот определяет очень
своеобразно.
В «Прологе» к Ordinatio он заявляет, что богословие есть наука,
«которая не подчиняется никакой другой, ибо, пусть даже предмет его был
бы каким-то образом подчинен предмету метафизики (в том смысле, что
Бог есть сущее, а всякое сущее входит в предмет метафизики. — Г. А/.),
тем не менее никакие принципы не получает оно от метафизики,
поскольку ни одно богословское положение (passio) не является в ней
(метафизике) доказуемым с помощью принципов сущего или с помощью
рассуждения, полученного из [анализа] смысла сущего» (Ord., Prol., p. 4, q. 1-2,
η. 214). И далее он пишет: «Также и само оно (богословие) не подчиняет
себе никакой другой [науки], так как никакая другая [наука] не получает
[своих] принципов от него, ибо любая другая, входящая в класс наук
естественного познания, имеет свое разрешение в конечном счете в
сводимости [ее положений] к принципам, известным непосредственно
естественным образом» (Ibid.).
Из этих слов видно, как далеко ушел Дуне Скот от своего
предшественника и собрата по ордену Бонавентуры, который в известном
сочинении «О возвращении наук к богословию» фактически рассматривал
богословие как царицу наук, и от Фомы Аквинского, который в соответствии
со своей теорией гармонии веры и разума, хотя и допускал в theologia
revelata сверхразумное, все же считал, что остальные науки не должны
противоречить богословию как науке верховной. И Бонавентура и Фома
выступали решительными противниками теории двух истин. Можно ли
считать, что Дуне Скот в каком-то смысле принял эту теорию? На наш
взгляд, для этого нет никаких оснований. Напротив, отделив «богооткро-
венное богословие» от всех других наук (и в частности, от метафизики),
он одному только ему передал все то, что связано с верой в Бога и
спасением души, так что никакая иная наука не могла теперь войти с ним в
противоречие, хотя в абсолютной системе ценностей theologia revelata
продолжала оставаться, как это и должно было быть, высшим родом зна-
Дуне Скот как метафизик
343
ния. Несомненно, смешение богословия с философией было одним из
источников аверроизма и многих средневековых ересей, и у Фрэнсиса
Бэкона, спустя три столетия после Дунса Скота, были основания сказать:
«...из безрассудного смешения божественного и человеческого выводится
не только фантастическая философия, но и еретическая религия»14).
Возможно, именно еще не забытая в его время борьба с аверроизмом и
побудила Дунса Скота к столь радикальному обособлению богословия от
других наук. Однако мало того, что Дуне предоставил богословию полную
независимость, он еще и присвоил ему статус чисто практической науки.
«Поскольку, — пишет он, — первый объект богословия (т. е. Бог. —
Г. М) является конечной целью, а принципы, взятые в сотворенном
разуме от конечной цели, суть принципы практические, постольку,
следовательно, принципы богословия являются практическими; следовательно, и
выводы из них — практические» (Ord., Prol., p. 4, q. 1-2, η. 314).
Обособление богословия и придание ему статуса практической
науки означало передачу всей теоретической проблематики богопознания
метафизике. Как мы уже знаем, к компетенции метафизики Дуне Скот
относил и доказательства существования Бога. Кроме того, в рамках
метафизики с помощью логики выводились такие свойства Высшего
Существа, как истинность, единство и благость — так называемые «трансцен-
денталии», и другие Его атрибуты.
Предложенные Дунсом Скотом доказательства бытия Божия, на
первый взгляд, похожи на доказательства Фомы Аквинского15). Например,
Иоанн, как и Фома, считает, что a priori или, если выражаться на его
языке, доказательством propter quid («из-за чего»), реальное существование
Бога человеку в его нынешнем состоянии («человеку-страннику»)
доказать невозможно. Для этого необходимо было бы предварительно знать
божественную сущность. Поэтому оба они считают онтологический
аргумент Ансельма не достигающим цели, хотя Дуне Скот все же пытается
его усовершенствовать в том плане, в каком его позднее усовершенствует
Лейбниц, а именно, предваряя доказательство актуального существования
всесовершенного существа доказательством его возможности. Дуне
утверждает вслед за Аристотелем, что возможность предмета
обеспечивается его логической непротиворечивостью. Отсюда он заключает, придавая
новую «окраску» (coloratio) аргументу Ансельма, что Бог, мыслимый без
противоречия как существо величайшее, столь велик, что помыслить без
противоречия нечто еще более великое невозможно (Ord., I, d. 2, p. 1, q. 2,
η. 137). И Дуне Скот приходит к выводу, что такому требованию
удовлетворяет понятие существа актуально бесконечного. Разумеется,
бесконечность и «великость» он понимает здесь не пространственно, как
бесконечную величину, но как бесконечное совершенство и бесконечное
величие, как максимальную полноту всех положительных свойств, включая
свойство существования. Поскольку же положительные свойства,
совершенства, не противоречат друг другу, то их соединение в одном субъекте,
в актуальном бесконечном существе, оказывается возможным.
Следовательно, актуально бесконечное существо возможно, и его существование
не противоречит разуму. Более того, у разума больше логических основа-
344
Дуне Скот как метафизик
ний считать Величайшее Существо существующим в действительности,
чем только возможным. Однако Дуне Скот, как и Фома Аквинский,
считал, что одной только логической оправданности существования Бога для
земного человека, не имеющего естественной возможности
непосредственного интеллектуального созерцания Бога, недостаточно; человек-
странник нуждается в доказательстве на основе понятий, полученных из
опыта, из чувственных данных, ибо «сейчас мы естественным путем не
постигаем Бога иначе, как в понятии, общем для Него и для чувственных
вещей» (Ord., Prol., p. 1, q. un., η. 48) }.
Таким образом, неудовлетворенный аргументом Ансельма, Дуне
Скот разрабатывает новые способы доказательства бытия Бога, которые
отличаются необычайной полнотой аргументации и трудностью для
восприятия. Не будет преувеличением сказать, что эти доказательства
представляют собой предел утонченности схоластической мысли17).
В отличие от Фомы Аквинского, который начинает свои
доказательства с созерцания порядка существования (exsistentia) вещей чувственного
мира и восходит затем к первопричине этого порядка, Дуне Скот сначала
устанавливает возможность понятия того предмета, существование
которого он собирается доказывать, а затем уже ведет само доказательство18).
Этим исходным понятием у Дунса, как и у Ансельма, служит понятие
«Существа актуально бесконечного», а вопрос, который он предполагает
решить, звучит так: «Utrum in entibus sit aliquid exsistens actu infinitum», —
«Есть ли среди сущего нечто, существующее как актуально
бесконечное?» (Ord., Ϊ, d. 2, p. 1, q. 1, η. 1).
Чтобы понять, почему именно «бесконечность» Дуне Скот избирает
в качестве определяющей характеристики божественного существа,
необходимо коснуться схоластического учения о passiones entis («свойствах
сущего»), или учения о «трансценденталиях» 9). Еще Боэций в трактате
О благости субстанций, известном в Средние века как Гебдомады, учил о
том, что всякое сущее, насколько оно сущее, обладает свойствами
единства, блага и истины20). Позднее схоластики называли эти свойства passiones
convertibles («обратимые свойства») из-за их присущности любому
бытию и добавили к ним passiones disiunctae («разделенные свойства»),
такие как «конечность» и «бесконечность», «необходимость» и «контин-
гентность», которые своими парами также охватывают все сущее, но
разделяют его между собой: т. е. любое сущее или конечно, или бесконечно;
или случайно, или необходимо. Учение о трансценденталиях
анализируется Дунсом Скотом в одном из его комментариев к аристотелевской
Метафизике (Quaest. Subtilis. In Metaph. Aristot., Prologus).
Обратимые трансцендентальные свойства автоматически
переносились на Бога как наивысшее сущее: следовательно, Бог должен был
пониматься настолько же сущим, насколько и благим, и истинным, и
единым. В свою очередь, passiones disiunctae разделялись между Богом и
творением: Богу атрибутировались бесконечность и необходимость, а
творениям — конечность и контингентное™ (иногда, как это только что
сделали и мы, прилагательное contingens переводят как «случайное», но
«случайность» в русском языке часто ассоциируется с непредвиденно-
Дуне Скот как метафизик
345
стью и самопроизвольностью, которых нет в латинском contingens). Оба
рода свойств, «обратимые» и «разделенные», соединяясь в Боге,
создавали понятие о Нем как о «бесконечно благом», «необходимо едином» и
«необходимо истинном», что наилучшим образом фиксировало Его
главные метафизические характеристики, проистекающие из самого Его
понимания как Сущего.
Именно по этой причине Дуне Скот избирает для доказательства
бытия Бога понятие о Нем как Существе актуальном бесконечном. При
этом бесконечность он толкует даже не как атрибут Бога, но как Его
собственный (proprius), только Ему принадлежащий «внутренний
модус» (modus intrinsecus), так как бесконечность ничего не добавляет к
понятию сущего, кроме интенсивности, в отличие, скажем, от
«благости» или «истинности».
Обретя искомое понятие, Дуне Скот приступает к доказательству
существования его предмета — Бога как актуально бесконечного
существа. Доказательство разбивается на три этапа. На первом этапе
доказывается, что в сфере сущего имеют место: 1) «Безусловно первое по
действенности» (simpliciter primum secundum efïïcientiam); 2) «Безусловно первое в
смысле цели» (simpliciter primum secundum rationem finis); 3) «Безусловно
первое по превосходству» (simpliciter primum secundum eminentiam). В
дальнейшем они именуются: «первое производящее» (primum effectivum),
«первое целевое» (primum finitivum) и «первое превосходящее» (primum
eminens). Здесь же доказывается, что все эти три первоначала
тождественны одному и тому же субъекту.
На этом этапе главным аргументом служит доказательство
невозможности существования бесконечного восходящего ряда производящих
и целевых причин, равно как и степеней превосходства (совершенства).
Заметим также, что, опираясь на мнение Аристотеля (Phys. II, 8), Дуне
Скот связывает между собой производящую (действенную) причину с
причиной целевой на основе положения: всякая производящая
деятельность имеет цель. Однако остается неясным, распространяет ли он
«целенаправленность» действий на всю природу (как Аристотель) или же имеет
в виду только деятельность разумных существ. Так или иначе, в
рассуждении Дунса порядок причин производящих совпадает с порядком
целевых причин и с иерархией совершенств. Основой доказательств служит у
него понятие сущностно упорядоченного причинного ряда, в котором
вышестоящие причины продолжают свое единовременное действие во
всех нижестоящих, с ними связанных, что и позволяет Тонкому Доктору
представить всю совокупность порождаемых следствий как произведение
первой причины.
На втором этапе доказывается бесконечность Первого Сущего, т. е.
главное и абсолютное свойство Бога. Доказательство начинается с
утверждения, что первая причина не может зависеть в своих действиях ни от
чего, кроме самой себя, а следовательно, является свободной. Но
свободный деятель действует ради цели, которую хочет и любит, а это
предполагает знание этой цели и стремление к ней, что в свою очередь означает
наличие у Первого Сущего разума и воли. Поскольку же для свободного
346
Дуне Скот как метафизик
деятеля целью может быть любой предмет, который он захочет
произвести, Первое Сущее от вечности имеет актуальное знание всего
умопостигаемого и это знание предшествует самому существованию вещей.
Далее Дуне Скот доказывает бесконечность Первого Сущего, исходя
1) из производящей причинности; 2) из Его познания; 3) из целевой
причинности; 4) из превосходства. Первое доказательство основано на том,
что Первое Производящее, будучи самоопределяющимся и ни от чего не
зависящим, не имеет никаких ограничений в своей продуктивности и
поэтому является бесконечным производящим. Однако эта бесконечная
производящая потенция Бога — не то же самое, что «всемогущество»,
понимаемое как способность совершать все, даже то, что противоречит
установленному Самим же Богом распорядку. Правда, во власти Бога в
какой-то момент изменить распорядок, и тогда Его действия могут
противоречить прежнему ходу вещей, но никогда — санкционированному Им
распорядку вообще.
Второе доказательство касается особенностей божественного
познания, которое представляет собой отчетливое актуальное знание всех
возможных вещей, которых, в силу бесконечной производительной потенции
Бога, бесконечное множество. Следовательно, для такого рода познания
познающий должен быть бесконечным. Третье доказательство построено
на том, что наша воля никогда не удовлетворяется никаким конечным
благом (о чем писал когда-то и Августин в начале Исповеди), а поскольку
Бог создал нас не для того, чтобы мы мучились ложным стремлением к
тому, чего нет, существует и бесконечное благо, и оно есть Сам Бог.
Четвертое доказательство основано на анализе понятия совершеннейшего
существа. Поскольку такое существо по определению не может быть
ничем мыслимым превзойдено в своем совершенстве, а всякое конечное
может быть превзойдено, значит, совершеннейшее существо бесконечно.
Наконец, на третьем этапе Дуне Скот доказывает, что актуально
бесконечное Существо может быть только одно. Из семи предложенных
Дунсом аргументов упомянем один, наиболее убедительный: два (и более)
бесконечных существа невозможны, поскольку одно или совпадало бы с
другим и тогда бесконечное было бы одно, или превосходило бы другое,
но бесконечное нельзя превзойти.
Этим мы закончим изложение той части метафизики Дунса Скота,
которая именуется «рациональным богословием» по своему методу и
«естественным богословием» по своему происхождению, ибо оно рождается
из анализа явлений природы. Из других метафизических проблем,
привлекавших внимание Тонкого Доктора, выделим те, в решении которых
Дуне проявил наибольшую самостоятельность. Среди них — проблема
соотношения материи и формы, или проблема гилеморфизма. Как и его
предшественник Фома Аквинский, Дуне Скот считал, что все вещи
чувственно воспринимаемого мира состоят из материи и формы. Впрочем, это
было общее мнение всей схоластики, идущее от Аристотеля \
Оригинальность Дунса в том, что в отличие от Фомы, который, следуя
Аристотелю, представлял «первую материю» (т. е. материю как таковую,
свободную от формы) чистой возможностью, лишенной какой бы то ни было
Дуне Скот как метафизик
347
действительности и определенности, Дуне утверждал, что, поскольку
материя отличается от формы, она тем самым есть нечто определенное, и эту
определенность уже нельзя считать чем-то чисто потенциальным, но
следует признать в некотором отношении актуальной. Однако Дуне Скот не
думал при этом, что первая материя может существовать сама по себе вне
формы; он только полагал, что в композицию «материя + форма»,
которую являет собой любая материальная вещь, материя привносит от себя
нечто определенное, материальное. При этом он не отрицал, что ведущим
началом в определении сущности гилеморфической композиции, т. е.
самой вещи, служит форма. Более того, Дуне, как и Бонавентура,
поддерживал выдвинутую Ибн Гебиролем идею «формы телесности», выступив
против томистского учения о «единстве» (или, лучше сказать,
«единственности») субстанциальной формы живого существа. Фома, следуя
Аристотелю, считал, что в гилеморфической композиции живого, т. е.
одушевленного, существа, душа, будучи активным началом, выполняет роль
формы, благодаря которой указанная композиция «оформляется»
(informatur) в единую живую субстанцию. С этим был согласен и Дуне
Скот. Однако Фома при этом утверждал, что одной «субстанциальной
формы» достаточно и для оформления самого тела, его общей структуры
и всех его органов22). А это учение плохо согласовывалось с фактами:
например, с тем фактом, что после смерти животного, а значит, после
потери им души, тело его какое-то время все еще сохраняет свою форму.
Кроме того, единство субстанциальной формы человеческого существа было
трудно совместимо с догматом о человеческой смерти Христа на Кресте.
Ведь временное разлучение Души Христа с Его Телом означало бы в
таком случае, что в отсутствие Души это было бы уже не Его Тело23).
Учитывая все это, Дуне Скот вслед за Бонавентурой принял идею Ибн Геби-
роля о форме телесности, поставив ее при этом в положение, подчиненное
субстанциальной форме живого существа, т. е. души.
Что касается субстанциальной формы человека, то согласно Дунсу
ею служит разумная душа (anima intellectiva). Очень ясно и лапидарно он
выразил это в формуле: «Homo intelligit formaliter et proprie; ergo amina
intellectiva est propria forma hominis» (Ord., IV, d. 43, q. 2, n. 6), что можно
перевести так: «Человек разумеет (т. е. разумен) и в формальном24), и в
собственном смысле; следовательно, разумная душа есть собственная
форма человека». Эта форма не исключает наличие и других форм в
человеческом существе: «вегетативной», «животной» и «формы телесности».
Однако единство человеческого существа обеспечивается единством
души человека, а это единство, в свою очередь, — главенством
субстанциальной формы, т. е. разумной души, над всеми остальными формами, ей
сущностно подчиненными, хотя «форма телесности» сохраняет у Дунса и
свой статус, связанный уже с субстанциальным различием души и тела
(Ord., IV, d. ll,q.3,n.54).
Тема разумной души как субстанциальной формы человека была
тесно связана с метафизической и в то же время религиозной (т. е.
относящейся к классу credibilia, а не intelligibilià) проблемой бессмертия души.
Дуне Скот не считает возможным доказать бессмертие души в рамках
348
Дуне Скот как метафизик
метафизики25). При этом он опровергает доказательства ее бессмертия,
предложенные Аристотелем, у которого доказывалось бессмертие не
столько души, сколько отделимой от неё разумной части. Не принимает
он и доказательств Фомы; не использует доказательства от вечных истин
Августина; вовсе не знает доказательств, предложенных Платоном в Фе-
доне и Федре. Рассмотренные им здесь доказательства схоластиков26) в
основном строятся на базе аристотелистского гилеморфизма. Поэтому
опровержения Дунса Скота во многом связаны как раз с особенностями
его истолкования гилеморфизма — этого общего принципа всей
схоластики XIII-XIV вв.
Как и у Фомы, гилеморфизм Дунса Скота является асимметричным:
все действительно сущее обладает формой, ибо форма и есть «акт»,
«осуществление», «действительность», но не все актуально существующее
имеет материю — Бог и ангелы нематериальны, правда, в разных
смыслах: ангелы нематериальны в смысле своей бестелесности; Бог
нематериален и в смысле бестелесности, и как чистая актуальность, в которой
нет никаких неосуществленных возможностей.
Поскольку именно форма отвечает за определенность предмета,
Дуне Скот широко использует производные от «формы» термины для
фиксации разного рода «определенностей» как в логике, так и в
метафизике: например, просто formaliter обычно означает «согласно
определению», probatio formaliter означает «доказательство по форме», т. е.
доказательство по строго определенным логическим правилам; formalitates —
особенности сущего, определяющие его сущность или «чтойность», и т. п.
В этом же контексте можно рассматривать и его знаменитую идею
«формального различия».
Дуне подразделял все различия, устанавливаемые разумом в
предметах, на три класса: distinetio realis — реально существующее различие
между предметами или внутри предмета; distinetio rationis — чисто
мысленное различие того, что в своем бытии неразличимо; distinetio formalis а
parte rei — различие определенных самих по себе свойств и качеств
предмета, которые существуют в полном единстве между собой и с самим
предметом (suppositum). Примером «формального различия» могут
служить трансцендентальные свойства сущего (единство, благость,
истинность), которые неотделимы от сущего как такового и друг от друга, хотя
и представляют собой отличные друг от друга определенности
(«формальности»). Другой пример — человеческая душа и неотделимые от нее
воля и разум, ибо не может быть человеческой души без воли и разума,
равно как не может в такой душе воля существовать без разума, а разум
без воли, и в то же время «формально» душа, разум и воля различны, ибо
имеют собственную определенность27*.
Разумеется, концепция формального различия должна была
подчеркнуть единство субстанций, но в первую очередь она была
предназначена для доказательства божественного единства и божественной
простоты. В бесконечном существе Божием все его атрибуты, включая разум и
волю, равным образом выражают Его сущность, и в этом они не
отличаются друг от друга, а следовательно, и не препятствуют божественной
Дуне Скот как метафизик
349
простоте, но они выражают Его сущность каждый сообразно своей
определенности (formalitas) и тем самым вместе выявляют бесконечную
содержательность божественной простоты. Таким образом, distinctio
formalis a parte rei не есть чисто умственное различение, производимое
мыслящим свой предмет субъектом, как если бы для удобства
рассмотрения мы разделили сам по себе целостный предмет на несколько
произвольных частей; но формальное различие не есть и «реальное», ибо
distinctio realis означало бы разделенность предмета на самостоятельные
части или же разобщенность его свойств, что несовместимо с его
единством, если таковое имеется.
Изложенная концепция формального различия касается прежде
всего сущности или «чтойности» (quiditas) предмета28). Из двух главнейших
вопросов, на которые, согласно Дунсу Скоту, должна ответить
метафизика, первый — si est («существует ли?»), второй — quid quod est («что есть
то, которое существует?»). Ответом на первый вопрос явилась уже
известная нам теория единозначности сущего. На второй вопрос Дуне
ответил своим учением о «чтойности»29) и «индивидуальности» \
Следуя Аристотелю, Дуне Скот считал, что полноценным бытием
обладает только единичное (singulare), т. е. индивидуальные субстанции.
Однако у единичных субстанций имеются общие им признаки и свойства,
которые служат основанием объединения их в роды и виды. Более того,
именно эти общие свойства являются необходимыми для самого бытия
единичных субстанций и, следовательно, составляют их сущность
(essentia). Таким образом, сущность единичных вещей есть универсалия,
хотя она реально и существует только в единичном. Впрочем, познающий
разум может отвлекать родо-видовую сущность от единичных вещей, и
тогда она существует как бы отдельно от вещей в «умопостигаемом виде»
(species intelligibilis). Но Дуне Скот, опираясь на Авиценну, склонялся и к
тому, что сама по себе сущность вещей, или их «метафизическая идея», не
является ни общей, ни единичной, а становится той или другой в
зависимости от того, к чему она относится: если к виду или роду вещей — она
будет универсальной; если к отдельной вещи — будет индивидуальной. В
вопросе о происхождении сущности Дуне Скот — августинианец. Он
связывает ее происхождение с актом творения: сущность вещи творится по
идеальному образцу (exemplar), присутствующему в божественном уме, и
в этом акте творения определяются роды и виды сущностей, а вместе с
ними и сущности всех индивидов31\
Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что решение Дунсом
Скотом традиционного для схоластики вопроса о статусе универсалий
неоднозначно. С одной стороны, он в духе аристотелизма утверждает, что
общее существует в единичных вещах как то, что объединяет их в виды и
роды: это — их общая сущность. С другой стороны, он заявляет, что
сущность сама по себе не является ни общей, ни единичной. Наконец, общее в
вещах он возводит к их вечному прообразу в божественном разуме, а это
похоже уже на платонический «реализм». Такая неоднозначность связана,
конечно, с одновременным влиянием на него и Аристотеля, и Августина,
и Авиценны.
350
Дуне Скот как метафизик
Однако, как бы там ни было, сущность вещей одного и того же
вида — общая, и она совпадает с их общей определенностью, т. е. с
формой (здесь Дуне снова следует Аристотелю). Что же тогда определяет
индивидуальность вещи внутри одного и того же вида, что делает ее
неповторимой единичностью? Аристотель считал «принципом индиви-
дуации» материю. Именно материя разделяет вид на индивиды и
производит из единого многое. Такая точка зрения была характерна не только
для Аристотеля и его средневековых последователей, но, между прочим,
и для Платона и неоплатоников. Понятно, что ее сторонником был и
неоплатонизирующий аристотелик Авиценна. Этой же позиции
придерживался и Фома Аквинский. Генрих Гентский, с которым главным
образом и полемизирует Дуне Скот по данному вопросу, полагал, что инди-
видуация субстанции осуществляется «двойным отрицанием»:
«удалением изнутри ее всякой умножаемости (plurificabilitas) и разнообразия
(diversitas), а извне — всякой тождественности [с ней]» (Ord., II, d. 3,
pars I, q. 3, η. 47).
Однако Дунса, который хорошо помнил и цитировал слова
Августина о том, что «Богу более всего по сердцу индивиды» (De civ. Dei, XIX,
13. См. также: Ord., И, d. 3, pars I, q. 7, η. 251), не могло устроить ни
выведение индивидуальности субстанций из чисто количественных вариаций
бескачественной материи, ни чисто негативное определение индивидуа-
ции. По его убеждению, индивидуальность представляет собой прежде
всего качественное своеобразие, некое неповторимое единство материи и
формы, сущности и существования. Это неотчуждаемое качественное
своеобразие всякой индивидуальности он называет haecceitas, что в
буквальном переводе означает «этовость». Как со своей противоположностью
haecceitas соотносится с natura communis, т. е. «общей природой», которая
как раз и индивидуализируется «этовостью». Модифицируя общую
природу данного вида, haecceitas преобразует ее именно в «эту» и только в
«эту» единичную, неделимую (individua) субстанцию, неповторимую в
своем существовании и в своей деятельности. При этом модифицируется
как материя, так и форма данного вида, а вместе с этим — и данная
композиция из формы и материи. Сама же «этовость» понимается, в свою
очередь, как некая особая «форма», придающая определенность
индивидуальной субстанции как именно вот этой32).
Эта «окончательная» форма, связывая все другие внутренние формы
индивидуальной субстанции (форму видовую, форму телесную и т. п.),
сообщает ей законченную определенность и полноту конкретного бытия.
Поэтому индивидуальность есть последняя действительность (ultimus
actus) в распорядке творения33*. Однако это не означает, что индивидов не
может быть множество. Напротив, поскольку в любом индивиде помимо
этовости присутствует и «общая природа», именно они, индивиды, и
составляют виды и роды. Но есть одна единственная индивидуальность,
которая является не только неповторимой, но и неумножаемой в силу
своей бесконечности, и это — Бог.
В связи с понятием индивидуальности Дуне Скот формулирует и
свое понимание личности (persona). Как и у Боэция, впервые детально
Дуне Скот как метафизик
351
разработавшего эту тему в западной традиции, понятие личности
рассматривается у Дунса в богословском контексте, при рассмотрении три-
нитарной проблемы. Сравнивая определение «личности», данное
Боэцием, с тем, которое спустя шесть веков предложил Ричард Сен-Виктор-
ский, Тонкий Доктор выбирает второе из них. Согласно Боэцию,
личность есть «неделимая (individua) субстанция разумной природы»
(Боэций. Против Евтихия и Нестория, 4, Он же. Утешение Философией и
другие трактаты, см.: Цит. лит., 3, с. 141); согласно же Ричарду, она
есть «несообщаемое существование (existentia incommunicabilis)
разумной природы» (Richardus de St. Victore. De Trin., IV, 21). Дуне, по-
видимому, считал, что одного только признака неделимости
(индивидуальности) субстанции недостаточно для понятия личности. «Для персо-
нальности, — говорит он, — требуется предельное одиночество (ultima
solitudo)» (Ord., Ill, d. 1, q. 1, η. 17). Кроме того, для выражения
личности лучше подходит не «чтойное» понятие субстанции, а понятие
экзистенции — «существования». Следовательно, по его мнению, личность
выражается в особенностях ее неповторимого существования, которое
она не может разделить ни с кем другим, ибо экзистенция «несообщае-
ма», «непередаваема» и неотчуждаема, а поэтому и характеризуется
«предельным одиночеством». В этих словах слышится голос Паскаля
или Кьеркегора, голос печальный и вместе с тем полный достоинства.
Рассуждая дальше, Шотландец доказывает, что эта «несообщаемость»
личности не есть нечто отрицательное, а, напротив, есть нечто
позитивное, а именно то, что выражает полную автономию и внутреннюю
свободу личности. «Предельное одиночество» и экзистенциальная свобода —
по сути одно и то же. Однако «предельное одиночество» возлагает на
личность и всю ответственность за тот или иной выбор способа своего
существования, а поскольку экзистенция личности есть экзистенция
разумной природы, то она управляется разумом, и личность, будучи
метафизически одинокой, только перед Богом и перед своим разумом несет
ответственность за свои поступки. Столь необычное для эпохи
схоластики акцентирование на свободе личности и внутренней
ответственности личности перед разумом находит свое объяснение в общей теории
разума и воли, к рассмотрению которой мы теперь и переходим.
Метафизика воли и разума
Применение естественного разума и метафизики не ограничивается
у Дунса Скота вышеприведенными доказательствами бытия Бога и
анализом наиболее общих свойств сущего как сущего. Метафизическому
разуму он позволяет заглянуть и в таинственные глубины божественной
природы — в область, которая традиционно относилась почти исключительно
к компетенции theologia revelata. При этом Дуне Скот был убежден, что в
своем нынешнем состоянии человек не способен познать сущность Бога
«лицом к лицу», «как она есть в себе и для себя» (in se et per se), и все же
он считал, что некоторые существенные свойства божественной природы
352
Дуне Скот как метафизик
могут быть выведены дискурсивно из того понятия Бога, которое
устанавливается метафизикой при анализе идеи онтологического первоначала,
т. е. из триединого понятия «Первого производящего», «Первой цели» и
«Первого по совершенству». Уже сами доказательства бытия Бога
сопровождаются у Дунса выявлением существенных свойств Его природы в
соответствии с принципом, по которому познание бытия предмета (si est)
невозможно без одновременного познания его чтойности (quid est)3}. Мы
уже видели, что Дуне именно таким образом доказывает бесконечность
Первого Сущего и его единственность. Вслед за тем он доказывает
абсолютную простоту божественного Существа, неизменность и вечность Его
природы и, наконец, Его безусловное совершенство во всех отношениях
(Ord., I, d. 8, p. 1, q. 1, η. 5-17, p. 2; q. un., η. 198-199, 272)35). Но главное
внимание Дунса Скота в этом аналитическом исследовании
сосредоточено на двух важнейших атрибутах Первого Сущего — воле и разуме.
Наличие этих атрибутов у Бога, как мы видели, выявляется уже при
доказательстве актуальной бесконечности Бога. В дальнейшем тема воли и
разума разрабатывается Дунсом более детально.
Бог обладает волей, поскольку в Своей производящей деятельности
Он не детерминируется никакой другой причиной, кроме Самого Себя, а
самодерминация означает свободу, свобода же есть свойство воли. Бог
производит то, что хочет, а хочет то, что любит.
Бог обладает разумом, поскольку Он не может не знать того, что Он
хочет и любит, а познание — дело разума. Будучи Существом абсолютно
бесконечным, Бог обладает бесконечным разумом и бесконечной волей, а
следовательно, всеведением и всемогуществом. Говоря словами самого
Дунса, «Первое производящее направляет свое действие к цели;
следовательно, или направляет по природе, или познавая и желая эту цель.
Однако Оно это делает не по природе (т. е. не по необходимости. — Г. М),
поскольку непознающее не направляет ничего, кроме как силою
познающего: ибо первое упорядочение есть дело мудрого..., но Первое
производящее не направляет [к цели] силой чего-то другого, как и не причиняет
силою чего-то другого, ибо в противном случае оно не было бы первым...»
(Ord., I, d. 2, p. 1, q. 2, η. 78). Из этих слов явствует, что Дуне Скот
разделяет восходящее к Аристотелю противопоставление природных и
произвольных действий, природы и свободы. Природа действует по законам
строгой необходимости, по принципу однозначной связи причин и
следствий. Воля же сама избирает, причиной каких следствий она станет. Но
Первое производящее, не имея над собой никакой причины, выпадает из
распорядка детерминаций, присущих остальной природе, и производит
свои следствия самопроизвольно, т. е. свободно, без принуждения
необходимостью, или — как обычно выражается Дуне Скот — производит их
контингентно.
Понятие контингентное™, столь важное в метафизике Дунса Скота,
эквивалентно понятию «не-необходимости». Иначе говоря,
«контингентное» есть то, что происходит или существует не по необходимости своей
природы (как существует, например, Бог), а по чьей-то свободной воле, и
что поэтому может как быть, так и не быть. Следовательно, «контингент-
Дуне Скот как метафизик
353
ное» близко по смыслу к понятию «возможного», как его употреблял
Авиценна, противопоставляющий это понятие «необходимому»
(возможно то, что может быть или не быть). Однако, как ни странно, свою
концепцию контингентного сущего Дуне Скот обращал во многом как раз
против авиценнизма. Дело в том, что Авиценна, следуя неоплатонической
теории эманации, слишком тесно связал через посредство
«интеллигенции» бытие «возможного» с необходимым бытием Первосущего, что
неизбежно вело к нецесситаризму — к идее необходимости всего
существующего. Отстаивание Дунсом Скотом контингентное™ всего тварного
как раз и стало его ответом на вызов нецесситаристски мыслящих
восточных перипатетиков и следовавших за ними латинских авеценнистов и
аверроистов.
Дуне Скот справедливо полагал, что к понятию контингентного
сущего нельзя прийти a priori (путем доказательства propter quid), ибо
необходимое и контингентное, т. е. не-необходимое, не являются
«обратимыми» (convertibiles) свойствами сущего, а являются свойствами
«разделенными» (passiones disiunctaeV Другими словами, сущее — либо
необходимое, либо контингентное3 \ При этом, если из факта существования
контингентного можно вывести бытие необходимого, то из понятия
необходимого бытия контингентное бытие невыводимо. Однако
существование контингентных вещей и событий, по мнению Тонкого Доктора, —
факт очевидный, и он подтверждается прежде всего нашим собственным
существованием и событиями, вокруг нас происходящими. Для того, кто
будет оспаривать и этот факт, заявляет Дуне Скот, следуя Аристотелю и
Авиценне, нет другого способа убеждения, кроме порки (Ord., I, d. 39,
q. un., η. 13).
Из факта существования контингентного Дуне выводит его
первопричину: «...нечто причиняется контингентно; следовательно, первая
причина причиняет контингентно, следовательно, причиняет как воля-
щая» (Ord., I, d. 2, p. 1, q. 2, η. 79). Вывод обосновывается тем, что любая
вторичная причина производит действие, лишь поскольку движима
первичной, и если первичная действует по необходимости, то и все
нижестоящие действует по необходимости, а если действует контингентно, то
и те — контингентно; поэтому из контингентности причинения в мире
чувственных вещей можно сделать вывод о контингентной форме
причинения в Первопричине. А так как «не существует иного начала
контингентного действования, кроме воли или чего-то сопутствующего воле,
поскольку все остальное действует по природной необходимости» (Ibid.,
п. 34), то первопричиной всего контингентного является свободная воля
Божия. Таким образом, корень контингентности — в свободе, а наличие в
мире контингентного доказывает, что воля является необходимым
атрибутом божественной природы: «...Его [Бога] разумение и воление
являются тем же самым, что и Его сущность...» (Ibid., п. 39). Но поскольку
природа, или сущность, Бога, как было ранее доказано, характеризуется
безусловной простотой, неизменностью и вечностью, а все, что относится
к этой сущности, происходит и существует с необходимостью, то встает
вопрос: как все это совместить с неограниченной свободой божественной
354
Дуне Скот как метафизик
воли и с тем, что разум и воля суть все-таки вещи разные? Вторая часть
вопроса получает ответ в уже знакомой нам теории формального
различия, согласно которой «сущность», «воля» и «разум» Бога реально
неразличимы и неотъемлемы друг от друга, хотя формально, т. е. по форме
выражения того же самого, они различаются. Иными словами, воля в той же
мере, как и разум, вьфажает одну и ту же божественную сущность, но в
каждом из этих атрибутов она выражается по-своему. Кроме того,
божественная воля находится в полном единстве с божественным разумом, и
такая воля ничего не совершает в противоречии с ним и с божественной
сущностью.
Что же касается первой части вопроса, то здесь кажущееся
противоречие между необходимостью всего относящегося к божественной
сущности и свободой божественной воли Дуне Скот устраняет весьма просто:
свобода воли сама по себе есть необходимое свойство сущности Бога, и
Бог немыслим без абсолютной свободы воли. Будучи тождественной с
сущностью Бога, Первой причины, божественная воля не имеет над собой
никакой внешней причины для своего акта воления (volitio), и «воление не
принадлежит ничему, кроме воли», а поэтому «та воля, воление которой
беспричинно, также является беспричинной» (Ibid., п. 41). Это следует
понимать так, что воля Бога есть единственная причина своих действий,
causa sui, и в этом смысле она обладает абсолютной свободой. Однако
понятие свободы не исчерпывается таким ее существенным признаком,
как самоопределение, автодетерминация. Ведь если воля может волйть
только нечто определенное и не может волйть другого, то это вряд ли
можно назвать свободой, ибо помимо самоопределения свобода
предполагает выбор. Речь идет о выборе объектов воления, и возможность такого
выбора воле предоставляет божественный разум, который, будучи
абсолютным разумом, заключает в себе истинное и совершенное знание всех
возможных вещей: и тех, которые существуют реально, и тех, которые
существовали или будут существовать, и тех, которые навсегда останутся
только возможными. Все эти вещи, представленные в разуме Бога в
форме его идей, познаются им не дискурсивно, а интуитивно, путем прямого
интеллектуального созерцания. А учитывая, насколько часто и
настойчиво Дуне Скот убеждает нас в том, что божественный разум является не
только познавательной, но и производящей потенцией, эту
интеллектуальную интуицию можно истолковать не только как созерцание
идеальных объектов, но и как их своеобразное вечное творение в сущности Бо-
жией, правда, осуществляемое не по законам свободы (как в случае воли),
а по законам логической необходимости. Заметим также, что детально
разработанное учение Дунса о заключенных в разуме Бога идеях всего
возможного, не только отсылает нас ретроспективно к аналогичному
учению Августина, но и позволяет нам в перспективе лучше понять
происхождение знаменитого учения Лейбница о возможных мирах. Различие
этих учений только в том, что у Лейбница Бог выбирает к существованию
данный мир как наилучший из возможных, а у Дунса наш мир наилучший
потому, что его выбрал Бог.
Дуне Скот как метафизик
355
Итак, вся совокупность идеально возможного содержится в разуме
Бога, а следовательно, содержится и в божественной сущности.
Поскольку же эта сущность неизменна, данная совокупность идеального не может
ни прирастать, ни убывать, ни как-либо изменяться. Все, что Бог познает,
даже если это внешние ему вещи, Он познает в Себе, в идеях Своего
разума, познает в едином акте и в вечности: «...разум Первого [сущего]
разумеет всегда и в отчетливом акте, и с необходимостью любое
умопостигаемое естественным образом прежде, нежели это умопостигаемое
существует в себе» (Ibid., п. 47). И далее: «Первым объектом разума и воли
Бога является только божественная сущность, а все прочее есть лишь
вторичный объект и произведено каким-то образом в таком бытии
посредством божественного разума; следовательно, первая по природе по
сравнению с чем бы то ни было иным — это божественная сущность,
предстающая перед Его разумом как первый объект. Но божественный разум, имея
присутствующий перед ним объект, не только является деятельной
потенцией по отношению к этому объекту, но также является производящей
потенцией знания, адекватного этому разуму как производящему началу»
(Ibid., п. 59)37).
Вернемся, однако, к воле Бога. Ее главное формальное отличие от
божественного разума состоит в том, что она свободна в своих действиях,
а разум действует по необходимости своей природы; разум познает
возможное и действительное, воля творит только существующее. Однако
познание разумом возможных для творения вещей логически
предшествует волевому акту творения. Будучи в сущности единой с разумом,
божественная воля выбирает для творения из всего представленного ей
разумом возможного ту комбинацию вещей и событий, которая ей
представляется наилучшей, хотя ей как абсолютно свободной ничто не
препятствует выбрать любую другую. Следовательно, выбор божественной
воли контингентен, а значит, и творимый ею мир и все вещи в нем кон-
тингентны, т. е. они могли бы быть, но могли бы и не быть. Вместе с тем,
уже принятое волей Бога решение имеет необходимый характер и не
подлежит изменению, поскольку происходит от божественной сущности.
Более того, акт воления божественной воли — акт единственный и
совершается он вне времени, в мгновение вечности, хотя творимое этой волей
получает существование (exsistentia) каждое в свое время. В этом
единственном акте божественной воли предопределяется вся совокупность
вещей и событий на всем протяжении истории мира, предопределяются и
судьбы людей, правда, с учетом того, что люди также наделены разумом и
свободной волей. Предопределяются и сроки мировой истории и
посмертные награды праведникам и наказания грешникам. Но главное, что
предопределяется божественной волей в это неповторимое мгновенье
единственного ее выбора, — спасительная миссии Христа, ради Которого
по убеждению Тонкого Доктора творится и сам мир и вся история. Тема
любви Бога-Отца к Христу-Спасителю красной нитью проходит через все
главные произведения Дунса Скота. Однако эта тема нуждается в
специальном освещении, выходящем за рамки данного исследования.
356
Дуне Скот как метафизик
В рамках учения Дунса Скота о разуме и воле Бога в их отношении к
творению неизбежно вставал вопрос, который сам философ формулировал
так: «Каким образом знание Бога является определенным и
безошибочным, когда имеет место контингентность вещей? (Lectura, I, d. 39, q. 1-5,
η. 62)38). Суть проблемы заключалась в том, что акт познания в
божественном разуме логически предшествует акту божественной воли, которым она
из познанных Богом в вечности бесчисленных возможных вещей и
событий свободно избирает комбинацию, получающую реальное
существование. Ведь в таком случае получается, что Бог либо в вечности знает
предметы и события сотворенного им мира только как возможные, а не как
реально существующие, либо в этом вечном познании Бога в момент
обретения сотворенными вещами существования происходят изменения, что
абсурдно, ибо разум Бога и воля Бога, будучи тождественными с Его
сущностью, неизменны по природе, да и вообще в вечности никакие изменения
невозможны. Эта проблема доставляла много хлопот схоластикам и
последующим мыслителям, таким как Лейбниц. В истории рационального
богословия она получила название проблемы познания Богом «будущих
контингентных» (fiitura contingenta).
Дуне Скот, приступая к решению этой проблемы, как обычно,
критически оценивает варианты ее решения, предложенные другими
схоластиками. Он отвергает способы решения ее, предложенные Бонавентурой
и Фомой Аквинским, не удовлетворен он и классической для всей
схоластики трактовкой этой проблемы в пятой книге «Утешения Философией»
Боэция. Бонавентура считал, что достоверное познание Богом «будущих
контингентных» гарантируется тем, что Бог в идеях своего разума познает
вещи не только в их возможности, но и в их реальном существовании, ибо
Его разум имеет в вечности идеи всего того, что произойдет в любой
момент мирового времени39). Возражая Бонавентуре, Тонкий Доктор
выдвигает следующие контраргументы: 1) если бы в идеях божественного
разума были представлены реально существующие предметы наравне с только
возможными, то между бытием возможным и бытием экзистенциальным
не было бы никакого различия; 2) не было бы также осуществимо
различение вещей просто возможных и тех из возможных, которые будут
существовать, так как идеи тех и других совпадали бы; 3) идеи божественного
разума составляют основу cognitio naturalis, а такое познание подчиняется
законам необходимости, тогда как акт воли Божией, переводящей
предметы из состояния идеальной возможности в реальное существование, есть
акт свободный; 4) по этой причине идеи не могут фиксировать точный
момент времени перехода возможных вещей к существованию (Ord., I,
d. 39, q. un., η. 7-9).
Трактовка данного вопроса Фомой Аквинским, представленная в
Summa theologiae (I, q. 14, a. 13c), немногим отличается от трактовки
Боэция \ Фома исходит из того, что в божественной вечности все
существующее во времени представлено одновременно, в едином мгновении,
подобно тому как расходящиеся в бесконечность концентрические
окружности определены в одной и той же центральной точке (аналогия,
предложенная Боэцием, а до него — Проклом). Дуне Скот отвечает на это
Дуне Скот как метафизик
357
вопросом: как могут будущие контингентные события и вещи быть
представлены божественному разуму, когда они еще не реализовались? Разум,
конечно, будет осведомлен о том, какие из них могут реализоваться, но до
решения воли Божией он не будет знать, какие из них реализуются в
действительности. Кроме того, трактовка Фомы не учитывает роли свободной
воли человека в мировом процессе, ведь свободная воля человека может
непредсказуемо воздействовать на ход вещей. Аргумент Боэция,
основанный на различении причин «первичных» (порождающих свои следствия с
необходимостью) и ближайших (proximae), которые производят свои
следствия контингентно, Дуне не приемлет потому, что не допускает того,
чтобы любого рода вторичные причины, к каковым относятся и так
называемые «ближайшие», могли быть контингентными, если первичная
причина, их породившая, действует с необходимостью4 .
Собственное решение Тонким Доктором обсуждаемого вопроса
состоит в следующем. В отношении контингентного «божественный разум
вначале не действует как практический и не воспринимает вначале нечто
как должное быть сделанным, но являет это своей воле как нейтральное;
воля же определяет себя в одну из сторон, полагая [нечто] в бытие или в
небытие, и тогда же [божественный] разум воспринимает истину этого»
(Lectura, I, d. 39, q. 1-5, η. 63). И далее: «... когда воля определила себя в
одну из сторон, тогда это имеет смысл соделываемого и производимого, и
тогда разум не благодаря тому, что видит определение воли, видит это
сочетание, но благодаря тому, что сама Его сущность является для Него
непосредственным основанием представления этого сочетания» (Ibid., п. 65).
Дуне Скот поясняет это на таком примере. Разум Бога может предоставить
воле идею «человека» и идею «белого», которые, будучи объединены,
могут составить идею «белого человека», и в соответствии с решением воли
белый человек может получить существование. Однако не от разума
зависит объединение этих идей, а от воли. От нее зависит, получит реальное
существование «белый человек» или «не белый». Единственно, в чем здесь
воля зависит от разума, так это в том, что она не может объединить
противоречивое. Во всем остальном она свободна. Но раз воля приняла решение,
объект осуществления становится истинным и в это же мгновенье
познается божественным разумом. А поскольку выбор воли происходит вне
времени, познание разумом Бога получившего существование объекта
происходит в вечности. И хотя данный объект сохраняет свою контингентность,
последним основанием для постижения его истинности остается
божественная сущность (Ord., I, d. 39, q. un., η. 23). Поэтому Дуне Скот считает,
что говорить о познании Богом «будущих контингентных» с
необходимостью не вполне корректно, ибо истинность такого познания зависит в
определенном смысле от свободной воли Бога (Ibid., п. 25).
Итак, Иоанн Дуне Скот в трактовке сущности воли и разума Бога,
по-видимому, сумел сохранить равновесие между интеллектуализмом и
волюнтаризмом: он защитил божественную свободу, сохранив в
неприкосновенности необходимую истинность божественного познания и
абсолютную неизменность божественной сущности. Однако в понимании
человеческой сущности и отношения человека к Богу Тонкий Доктор реши-
358
Дуне Скот как метафизик
тельно отстаивал приоритет воли по отношению к разуму, хотя при этом
создал беспрецедентно разработанную и эффективную теорию
человеческого познания.
Учитывая, что человек создан по образу и подобию Божию,
неудивительно, что в концепции Дунса Скота и у человека главными
составляющими его сущности являются воля и разум: разум познает свои
объекты, воля избирает из них те, которые хочет и которые любит. Но
человеческий разум в отличие от божественного ограничен в его нынешнем
земном состоянии, тогда как воля человека в любом состоянии обладает
данной ей от Бога полнотой свободы. Правда, человеческая воля ограничена
в своей производящей деятельности, т. е. в своей силе, или могуществе,
тогда как воля Божия характеризуется всемогуществом42*. По большому
счету можем мы не так уж много, но хотеть мы можем всего, а ведь
«хотение», «воление» (volitio), как раз и составляет главное свойство воли
(voluntas).
В метафизике Дунса Скота человеческая воля заключает в себе два
формально различных, но неотделимых друг от друга влечения. Одно из
них чисто природное, а поэтому и необходимое (appetitus naturalis), другое
же — свободное. Первое из них выражается в том, что «воля необходимо
и неизменно всеми силами стремится к блаженству, и что касается
необходимости, это ясно, ибо если устранить эту наклонность [воли],
устранится и [сама ее] природа» (Ord., IV, d. 49, q. 10, η. 3). Это естественное
влечение воли к своему высшему благу, поскольку оно предшествует акту
разумения, является бессознательным и как бы инстинктивным, а поэтому
оно не нацелено на некую общую идею блага, которую воле может
предоставить только разум, но нацелено на единичные блага и в первую
очередь — на благо бесконечное: «Воля по природе ничего не хочет
первично и ради самой себя, кроме последней цели (finis ultimus), а
следовательно, все другое она хочет не в первую очередь, но в порядке отношения к
этой цели... Это становится понятным, если учесть правильность
природной наклонности, которая была бы неправильной, если бы она
направлялась максимально и в первую очередь на меньшее благо, а не на высшее»
(Ibid., III, d. 15, q. un., η. 22).
Однако этот бессознательный и естественно-необходимый аспект
человеческой воли, который спустя века привлечет к себе внимание таких
мыслителей, как Шопенгауэр, Ницше и Фрейд, не так уж интересовал
Тонкого Доктора. Все его внимание было сосредоточено на другом
аспекте, который он в одном месте охарактеризовал как appetitus сит ratione
liber (Ibid., Ill, d. 17, q. un., η. 2), что можно перевести словами «разумное
и свободное стремление», и именно этот аспект, по его мнениею,
позволяет оценить по достоинству роль воли в жизни и предназначении человека.
В этом аспекте воля «свободна по своей сущности» (idid., I, d. 17, q. 3,
η. 5); она (воля) есть «нечто такое активное, которое само себя
детерминирует в действии» (Quaest., quodlib., q. 16, η. 15). А поскольку воля, как и
разум, формально тождественна с человеческой сущностью, то отсюда
следует, что только сам человек направляет действия своей воли, а
поэтому и несет за них всю ответственность. Утверждать, что я пожелал этого
Дуне Скот как метафизик
359
или того не по своей воле, значить утверждать абсурд. Это хорошо понял
уже Августин, сказавший: «...nihil est tarn in potestate nostra, quam ipsa
voluntas» («Ничто так не находится в нашей власти, как сама воля»
(Retract., I, 22). Цитируя это место, Дуне Скот поясняет: «... из этого
можно заключить, что ни одно действие у нас не проистекает в такой мере
от нас самих, как воление воли» (Ord., II, d. 23, q. un., η. 9). В выражении,
что «voluntatem simpliciter cogi ad actum volendi» — «воля просто
вынуждается к акту воления» содержится противоречие (Ibid., IV, d. 29, q. un.,
η. 6). Он солидарен и с характеристиками воли, данными Ансельмом Кен-
терберийским: «Воля движет нами как своими орудиями», и: «Воля есть
орудие, движущее само себя» (Ord., Ill, d. 17, q. un., η. 4). Впрочем, сам
Дуне скорее сказал бы, что мы не орудия нашей воли, а сама эта воля, ибо
воля, по его мнению, — главная составляющая нашей природы, по своему
значению превышающая даже разум (Ord., IV, d. 14, q. 2, η. 5):
«Властвовать не свойственно ничему, кроме стремления и воли; и никакая
чувственная сила не может властвовать над разумом и волей и присоединять их
в своих действиях, равно как и разум не может властвовать над собой и
волей, но лишь воля может властвовать над собой и разумом...». И далее:
«Воля властвует над разумом; следовательно, акт воли есть равнозначная
(aequivoca) производящая причина в отношении разумения... Воление по
происхождению позднее [разумения]... но оно имеет смысл цели по
отношению к разумению...» (Ibid., 60).
Отношение воли и разума к своим объектам принципиально разное.
Разум в своей главной функции — в познании объекта — связан законами
необходимости: во-первых, он сам не выбирает свой объект, так как
объект познания избирает для него воля, ибо мы познаем только то, что
желаем знать; во-вторых, истинность познания с необходимостью
обеспечивается только тождеством понятия разума с познаваемым предметом; в-
третьих, законы, применяемые разумом в познании, необходимы и
неизменны; в-четвертых, инициатива познавательного акта также
принадлежит не разуму, а воле; в-пятых, то, что воля представляет разуму для
познания, он познает с неизбежностью по одной только необходимости
своей познающей природы. «Не во власти разума полагать меру своего
согласия с истиной, которую он постигает, ибо, как только явлена
истинность принципов из их терминов или истинность заключений из их
исходных посылок, тотчас же подобает соглашаться при причине отсутствия
свободы» (Ibid., 9).
Таким образом, деятельность разума зависит от воли не только как
от целеполагающей, но отчасти и как от производящей причины. Правда,
и действия воли зависят от разума, но они зависят от него как от причины
только вспомогательной: «Разум же, если и является причиной воления,
есть причина, обслуживающая волю, как обладающий первым действием
в порядке порождения...» (Ibid., 7). Не может воля хотеть того, чего не
знает, а поэтому в определенном смысле разумное познание объектов
воли предшествует их волению; находясь в сущностном единстве с разумом,
воля обращается к нему за получением знания о тех объектах, которые
она могла бы хотеть и любить, и, только когда разум раскрывает перед
360
Дуне Скот как метафизик
ней свои понятия об этих объектах, воля начинает их хотеть или не
хотеть, так что разумение, в этом смысле, раньше воления. Следует, однако,
заметить, что по мнению Тонкого Доктора воля обращает свое хотение не
к понятиям разума о вещах, которые у человека-странника могут быть
только абстракциями, а прямо к самим вне разума находящимся реальным
вещам, и этот прямой контакт с действительными вещами составляет еще
одно преимущество воли перед разумом.
Особенностью воли можно считать и то, что в противоположность
разуму она безразлична к контрадикторному и может в тот же момент
«хотеть» или «не хотеть» тот же самый объект. «Во власти воли не только
хотеть так или этак, но также — хотеть и не хотеть, ибо свобода ее
распространяется на делание и неделание» (Ord., I, d. 1, q. un., п. 149)43).
Однако она не может, разумеется, хотеть и не хотеть, действовать и не
действовать в одно и то же время. Но даже воздержание от «хотения»
возможно для воли только как ее собственной волевой акт» (Ord., И, d. 7,
q. un., η. 24). Что невозможно для воли, так это хотеть зла как такового и
ненавидеть благо как таковое, ибо, как мы уже знаем, она по самой своей
природе стремится к благу (Ibid., IV, d. 49, q. 10, η. 9). Правда, воля может
в конкретном случае желать чего-то такого, что является злом, но только
принимая его по неведению за благо. Что же касается своего высшего
блага, т. е. бесконечного блаженства, которое, как мы знаем, служит для
всякой воли естественным и необходимым предметом бессознательного
влечения, то выбор этого предмета, т. е. того, что воля посчитает для себя
бесконечным блаженством, также является для воли свободным выбором.
Как и Бонавентура, Дуне Скот исходил из определения свободы,
данного Ансельмом Кентерберийским, который, в свою очередь, выводил
его из учения Августина. Определение Ансельма таково: свобода есть
способность сохранения праведности (справедливости) воли ради самой
праведности — «potestas servandi rectitudinem voluntatis propter ipsam
rectitudinem» (De lib arb., 3). В этом определении свобода понимается как
разумная самодетерминация, ориентированная на праведность, и в нем
нет даже упоминания о выборе. И это не случайно. Одобряя это
определение, Дуне Скот исходит из того, что наличие выбора не является
обязательным признаком свободы. «Необходимость действия, — пишет он, —
совместима со свободой воли» (Rep. Par., I, d. 10, q. 3, η. 3). И в другом
месте: «Является возможным, чтобы нечто свободное, оставаясь
свободным, действовало необходимо» (Quaest. Quodlib., q. 16, η. 9). Сама по себе
свобода, согласно Дунсу, есть чистое совершенство (Ord., И, d. 44, q. un.,
2), но Тонкий Доктор считает, что libertas oppositionist т. е. свобода
выбирать между противоположными решениями, «имеет неизбежно какое-то
связанное с ней несовершенство, ибо обладает пассивной
потенциальностью воли и ее изменчивостью» (Ibid., d. 39, Appendix А). Речь идет,
конечно, именно о человеческой воле, поскольку воля Бога свой выбор
среди бесчисленных возможностей, представленных ей божественным
разумом, делает вне времени, как бы одномоментно, а поэтому остается в этом
выборе неизменной и активной, действуя хотя и с необходимостью, но
совершенно свободно: «Воля Божия не является безразличной к разли-
Дуне Скот как метафизик
361
чающимся актам воления и неволения, так что и в нашей воле было бы
так же, если бы у нее не было несовершенства» (Ibid.). Чтобы
проиллюстрировать возможность совпадения свободы и необходимости в действиях
воли, Дуне Скот приводит пример человека, прыгнувшего вниз с
возвышения: человек падает вниз по своей воле и, значит, свободно, но при
этом падает с необходимостью, поскольку тяжелое по природе стремится
вниз — к центру земли (Quaest. Quodlib., q, 16, η. 18).
В своем понимании свободы человека Дуне Скот был антиподом
Фомы Аквинского и разделявшего в этом вопросе взгляды Фомы
Генриха Гентского. Фома утверждал, что свобода по своей сущности есть
свобода выбора решения: «Voluntas et liberum arbitrium non sunt duae
potentiae, sed una» — «Воля и свободное решение суть не две потенции,
но одна» (5. theol., I, q. 83, art. 4с). «Свойство свободного решения есть
выбор: ведь это благодаря существованию свободного решения (liberum
arbitrum) мы говорим о себе, что мы можем одно принять, а другое
отвергнуть, а это и значит выбирать» (Ibid., art. Зс). Но в акте принятия
решения Фома особое значение придавал разуму.
Фома в схоластике представлял партию интеллектуалистов, тех, кто
ставил разум выше воли. Против интеллектуалистов Дуне Скот как раз и
обращает свою метафизику воли и разума. Опровержению
интеллектуализма и противопоставлению ему своеобразного «рационализированного»
волюнтаризма Тонкий Доктор посвящает множество страниц своих
произведений. Некоторые из его аргументов в пользу приоритета воли мы
уже знаем. Приведем и некоторые другие.
Фома утверждал, что преимущество разума заключается в том, что
только он знает истину. Дуне Скот отвечал, что «истина» есть только одно
из первых «благ», но воля имеет дело с благом как таковым, и
следовательно, приоритет — за ней (Ord., IV, d. 49, q. ex lat., η. 10-12).
Фома доказывал, что разум стремится к мудрости, а мудрость,
согласно авторитету Аристотеля, есть наиболее достойная цель стремлений.
Дуне Скот, ссылаясь на авторитет ап. Павла и бл. Августина, объявлял
высшим предметом стремлений не мудрость, а любовь, которая и есть
главное свойство воли (Ibid., п. 13-15).
Фома считал, что разум выше воли, ибо он не оскверняется своим
объектом: ведь, познавая зло и порок, он сам от этого не становится
порочным, тогда как воля, желая чего-то злого и порочного, сама становится
таковой. Тонкий Доктор опровергал этот аргумент так: чем более нечто
совершенно и достойно, тем хуже и нежелательнее его порча. А для воли
сам акт желания зла есть уже зло, при том, что познание зла разумом не
причиняет ему никакого вреда (Ibid., п. 19-20).
Подводя итог данной «полемике», отметим, что эти и ранее
приведенные нами аргументы Дунса Скота в пользу приоритета воли звучат
более убедительно, чем аргументы Фомы. Но нельзя забывать, что мы не
знаем, что бы ответил на них Фома. Однако, как бы там ни было, в своей
оценке возможностей человеческого разума эти два мыслителя не так уж
и расходились. Ведь Тонкий Доктор не меньше, чем Doctor Angelicus,
ценил человеческий разум как потенцию истинного познания, а в разработке
362
Дуне Скот как метафизик
конкретных проблем познания намного превзошел своего знаменитого
предшественника.
Дуне Скот был убежден, что наш разум по своей природе способен
познавать все умопостигаемое, т. е. все возможное сущее. Разум узнает
сущее, в каком бы виде оно перед ним не являлось, и узнает бытие
сущего (si est) тогда же, когда узнает, что именно существует (quid est),
ибо вопрос о бытии и вопрос о сущности решаются только вместе, и
наш разум, решающий оба эти вопроса, имеет «бытие» и «сущее» в
качестве первого (первичного) и адекватного своей природе собственного
объекта (primum, adaequatum, proprium obiectum) (Ord., I, d. 3, p. 1, q. 3,
n. 137, 138, 139, 150, 185).
Вот как Дуне Скот об этом пишет: «К первому объекту потенции
относится то, что адекватно потенции как таковой, а не то, что адекватно
потенции в каком-либо ее состоянии, так же как первым объектом зрения
считается не то, что соответствует зрению, которое имеет место в
пространстве, освещенном свечой, но то, что по своей природе соответствует
зрению как таковому, — тому, что вытекает из природы зрения» (Ibid.,
186). Как природе зрения самого по себе (in se) соответствует узревать все
зримое само по себе, так и природе нашего разума свойственно постигать
всякое умопостигаемое, т. е. любое сущее. А поскольку «сущее», как мы
уже знаем, единозначно (univociter) сказывается о всем существующем,
включая даже существование Бога, то с точки зрения гносеологической
первичности наше понятие сущего оказывается предшествующим нашему
понятию Бога. Исходя из этого, Дуне Скот критикует позицию Генриха
Гентского, считавшего именно Бога первым и адекватным объектом
человеческого разума и ссылавшегося при этом на Августина. Одновременно
Скот отвергает и позицию Готфрида из Фонтэна, утверждавшего вслед за
Фомой Аквинским и большинством других аристотеликов, что
собственным первичным и адекватным объектом нашего разума является «чтой-
ность» (quiditas) или «сущность» (essentia) чувственно воспринимаемых
вещей, отвлекаемая от них путем абстракции \ В своей критике Иоанн в
обоих случаях ставит своим оппонентам в упрек необоснованное сужение
предметной области интеллектуального познания. Ведь даже если
приоритетным объектом разума считать Бога как Сущее бесконечное, то и
тогда останется возможным еще более общий объект, а именно — тот,
который будет включать в себя помимо «Сущего бесконечного» еще и
сущее конечное.
Но когда Дуне переходит к рассмотрению познавательных
возможностей разума человека in statu isto, он соглашается с Готфридом из
Фонтэна и Фомой, что «в этом состоянии» естественным первым и
адекватным объектом нашего разума является «чтойность» чувственных вещей,
но по-прежнему отвергает позицию Генриха Гентского, считая, что наш
разум в данном состоянии тем более не может иметь Бога своим
первичным естественным объектом, ибо это означало бы, что понятие о Боге как
существе бесконечном дано нашему разуму изначально и наш разум
способен вывести существование Бога с помощью доказательства propter
quid, т. е. априори, исходя из самого Его понятия, что и пытался сделать
Дуне Скот как метафизик
363
Ансельм Кентерберийский. Однако, как мы уже знаем, Дуне Скот не был
удовлетворен аргументом Ансельма и считал, что человеку в его данном
состоянии доступны только способы доказательства бытия Бога
апостериорного типа, т. е. доказательства quia, исходящие из рационального
обобщения данных чувственного опыта. Так или иначе, Шотландец
строит свою теорию познания в большей мере как аристотелик, чем как
платоник, хотя и вносит в нее нечто от августинианского активизма.
Главной особенностью гносеологии Дунса Скота является
подчеркивание активной роли субъекта в познании, что не было характерно для
европейского схоластического аристотелизма. Чувства и разум
(intellectus) — это, по его убеждению, не пассивные, а деятельные
потенции души, и познание есть не простое испытывание и запечатление
воздействия внешнего объекта в душе человека, где действующей
причиной должен считаться сам объект, но активный процесс, в котором
инициатива и роль главной действующей (производящей) причины
принадлежит самой душе, а объект есть только «частичная» (partialis) и
«соучаствующая» (concurrens) причина познания (Ord., I, d. 3, p. 3, q. 3,
η. 563). Иными словами, познание есть по преимуществу дело души. Вот
почему непрерывное воздействие на нас бесчисленных внешних
объектов отнюдь не приводит к нашему познанию их всех, но — только тех,
которые избирает для познания сама душа. Интересно отметить, что
даже чувственный образ (species sensibilis) воспринимаемой вещи не есть,
по Дунсу Скоту, простое отражение ее в органе чувства, а есть
следствие активности души, формирующей этот образ силой воображения в
соответствии с воспринимаемым предметом. Такая интерпретация в
каком-то смысле предвосхищает, если угодно, теорию чувственного
созерцания Канта, хотя она и свободна от кантовского агностицизма.
Впрочем, подобная трактовка чувственного восприятия была
свойственна и Августину45), и неоплатоникам. Что же касается интеллектуального
познания, то здесь, по мнению Дунса, реализуется как бы удвоенная
активность души, или, точнее говоря, ее разума: во-первых, разум на
основе чувственного образа сам формирует «умопостигаемый вид» (species
intelligibilis), т. е. нашу идею предмета, благодаря чему объект
становится «присутствующим в разуме» как объект, умопостигаемый актуально;
во-вторых, разум реализует сам процесс постижения этого объекта. Ведь
если бы интеллектуальное познание было не активным освоением
(постижением), но пассивным принятием умопостигаемого вида,
произведенного от чувственных образов, то и способность рассуждения, и
рефлексия, и логические действия, и принятие ложного за истинное были
бы необъяснимы (Ord., I, d. 3, p. 3, q. 2, η. 465).
Понятие species intelligibilis совпадает по содержанию с понятием
«чтоиности» (quiditas) познаваемого предмета, хотя формально «чтой-
ность» принадлежит самому предмету, а «умопостигаемый вид»
принадлежит разуму. Можно сказать, что species intelligibilis — это истинное
понятие чтоиности, истинная идея о том, что в своей сущности представляет
собой предмет, или, иначе говоря, к какому виду предметов он относится.
Следовательно, «умопостигаемый вид» — понятие общее, «универсалия»,
364
Дуне Скот как метафизик
и разум производит его путем абстракции, отвлечения от всего
неповторимого, единичного в чувственных образах (species sensibiles) и
концентрации на их общей сущности. Исходя из этого, большинство
схоластиков, включая Фому Акви некого, считало, что разум способен познавать
только общее, а единичное именно как единичное интеллектуальному
познанию недоступно и может восприниматься только чувством.
Дуне Скот исследует вопрос о познаваемости единичного в одной из
своих ранних работ, а именно в комментарии на трактат Аристотеля
О душе46*. В этом сочинении шотландский философ преодолевает
господствующий в схоластике взгляд на species sensibilis и species intelligibilis
как на некие посредники (media) в познании конкретных вещей, согласно
которому мы познаем непосредственно не сами вещи, а их чувственные
образы (phantasmata) или же их идеи. В противоположность этому Дуне
Скот считает, что оба рода species имеют прямое познавательное
отношение к самому предмету: «чувственный образ» — результат активного
взаимодействия души с предметом с помощью органов чувств при
ведущем участии «общего чувства» (sensus communis), т. е. результат прямого
контактного восприятия душой этого предмета; «умопостигаемый вид» —
это усмотренная разумом в самом предмете с помощью чувственного
образа чтойность (quiditas), или сущность (entitas, essentia), этого предмета,
полученная путем абстракции.
Контакт души с материальными предметами осуществляется,
согласно Дупсу, с помощью нервной системы, связующей все органы чувств
(зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания) с их центром, находящемся в
мозге, материальной основе «общего чувства». Далее все происходит по
схеме Августина: нематериальная душа созерцает, «чувствует»
происходящее в материальных органах чувств и создает на этой основе свой
«психический» образ предмета. Однако само наличие чувственного
образа предмета еще не означает познания, ибо познание есть понимание,
разумение (intellectio), и поэтому познание в собственном смысле
принадлежит только разуму (intellectus), и оно состоит, как уже было сказано, в
двух актах разума: в формировании умопостигаемого вида (идеи
предмета) и в постижении его. Если мы говорим о познании единичного
предмета, это означает установление «чтойности» этого предмета и познание
смысла этой «чтойности» в контексте остального сущего.
Но ведь единичное, по мнению схоластиков, как раз потому и
единичное, что оно не общее, а чтойность есть нечто общее. Как же тогда
возможно познать, что это такое — данное единичное? На этот вопрос
Дуне Скот отвечает весьма остроумно, опираясь на аргументацию своих
же оппонентов и прежде всего Фомы, самого значительного метафизика
предшествующего периода.
Из доводов Дунса Скота приведем наиболее, на наш взгляд, сильные.
Фома Аквинский и Фемистий, которому здесь следует Фома, считали, что
принципом индивидуации является материя, а разум в своем познании
отвлекается именно от материи, удерживая только форму, т. е.
универсальное; поэтому, думали они, индивидуальное само по себе
непостижимо. «Они говорят, тем не менее, что единичное можно постигать через
Дуне Скот как метафизик
365
рефлексию» (Quaest. Sup. Libr. De anima, q. 22, η. 3). (Ниже Дуне Скот
доказывает невозможность через рефлексию постигать внешние
единичные предметы.)
Ответ Дунса Скота: «... невозможно абстрагировать универсалии от
единичного, не познав единичное, ведь в таком случае [человек]
абстрагировал бы, не ведая, от чего абстрагирует» (Ibid.). Кроме того, они
считали, что «наш разум не может познавать иначе, как обращаясь к
чувственным образам». Но ведь, «обращаясь к ним, он познает единичное;
следовательно, он не может познавать универсальное, если одновременно не
постигает единичное...» (Ibid.).
Доводы Дунса Скота, независимые от данной полемики, таковы.
Первый: всякое сущее умопостигаемо, значит, постигаемо и
единичное сущее.
Второй: то, что само по себе не является умопостигаемым, то
непостижимо ни для какого разума, а значит, и для разума Бога, что абсурдно,
ибо в таком случае Бог не знал бы сотворенных им же единичных вещей.
Третий (со ссылкой на Аристотеля): в познании принципов мы
пользуемся индукцией, а индукция есть продвижение от единичных предметов
к универсалиям, «но такое продвижение характерно только для разума;
следовательно, он познает единичное...» (Ibid., п. 4).
Однако за всем этим следует очень важное уточнение, которое,
будучи неправильно понятым, может обесценивать все приведенные
доводы: «...никакая наша потенция, ни чувственная, ни мыслительная, не
может познавать единичное в собственном смысле единичного...»; и далее:
«...оставляя только собственный смысл единичности при удалении
других, мы не смогли бы различать между собой два единичных [предмета]
ни чувством, ни разумом...» (Ibid., п. 5).
На самом же деле в этих словах нет ничего противоречащего
сказанному ранее; более того, в них заключена вся суть положительного учения
Дунса Скота о познании единичного. Ведь под единичным он понимает не
какую-то абстрактную нумерическую единичность, которая совершенно
безразлична к тому, к чему ее относят. Напротив, речь идет о единичности
в смысле единственности и неповторимой индивидуальности каждой
конкретной вещи, отличающей и как бы отграничивающей ее от всех других.
Хотя у конкретных вещей одного вида есть и общие свойства, и к таким
общим их свойствам относятся едва ли не все, кроме haeeeeitas — «этово-
сти», однако в каждом единичном предмете композиция этих свойств
всегда уникальна, и именно она, эта композиция, определяет собой «это-
вость» данной вещи. Поэтому единичное познаваемо, ибо оно составлено
из общего (видового), но для нас оно познаваемо лишь частично и
относительно, ибо индивидуальное бесконечно содержательно и
неисчерпаемо, а все это его содержание еще и представляет собой неповторимую
композицию. Значит, одному только Богу дано знать единичное целиком
и полностью. Это относится и к познанию человеческой личности.
Человек для другого человека, да и для самого себя — «бездна», как
выражался Августин. И один только Бог знает нас совершенным образом.
Збб
Дуне Скот как метафизик
Что касается вопроса об активности разума при естественном и
сверхъестественном познании, то, с точки зрения Дунса Скота,
естественный человеческий разум имеет приоритет активности только по
отношению к естественному же объекту. Если же речь идет о
сверхъестественных объектах, то здесь определяющим активным началом в
познании служит уже не разум, а сам объект; разум же лишь воспринимает
свет божественного откровения, когда Всемогущий Бог посылает ему по
Своей воле спасительные истины47). Вместе с тем Дуне не приемлет
позицию Генриха Гентского, согласно которой божественное озарение
необходимо нашему разуму также и для достоверного познания
естественных объектов.
В пользу невозможности получения достоверного знания о вещах
без помощи божественного озарения (illuminatio, illustratio) Генрих
приводит и цитаты из Августина, и следующие аргументы: 1) все наши
понятия имеют чувственно-эмпирическое происхождение, но объекты чувств
непрерывно меняются, поэтому достоверное знание при помощи
абстрагированных от них понятий невозможно; 2) оно невозможно и потому, что
также и сама душа непрерывно меняется и способна ошибаться; 3) душа
не содержит в себе никакого критерия отличения истинного как от
ложного, так и от только правдоподобного (Ord., I, d. 3, p. 1, q. 4, η. 211-213).
Детально и всесторонне анализируя данную концепцию Генриха
Гентского, Дуне Скот отвергает как неверную предложенную Генрихом
интерпретацию соответствующих взглядов Августина и защищает тезис о
достоверности познания, достижимого усилиями самого естественного
разума. Доказательство этого тезиса ведется Дунсом относительно трех
предметов познания: 1) принципов, известных через самих себя; 2) того,
что познается на основе чувственного опыта; 3) наших действий.
Что касается достоверности принципов, то она, согласно Дунсу,
обеспечивается тем, что «термины принципов... обладают таким
тождеством, что один [термин] с очевидной необходимостью включает в себя
другой, а поэтому разум, сочетая эти термины (а таким способом он их и
постигает), имеет у себя необходимую причину сообразности этого акта
сочетания самим терминам, из которых составляется композиция, а
также — что очевидно — причину такой композиции...» (Ibid., п. 230). Эти
слова Дунса Скота будут через четыреста лет почти буквально
повторены Лейбницем при объяснении им самоочевидности первых принципов
логики и метафизики.
Такой же степенью достоверности обладают, согласно Дунсу, и
умозаключения, выводимые из этих принципов, «поскольку достоверность
вывода будет зависеть только от достоверности принципов и от
очевидности выведения» (Ibid., п. 233). И неважно, что разум может иметь знание
простых терминов не иначе, как воспринимая его от чувств, ибо, «когда
они уже получены, разум своей силой может одновременно сополагать
простое, и, если из соотнесения таких простых [терминов] будет
получаться заключение с очевидностью истинное, разум одобрит это
заключение собственной силой и в силу терминов, а не благодаря чувству, от
которого термины принимаются им извне» (Ibid., п. 234). Таким образом,
Дуне Скот как метафизик
367
принципы и выводимые из них заключения обладают аподиктической
достоверностью.
Другое дело — второй род познаваемого, т. е. то, что познается
посредством опыта. Однако и здесь достаточная степень достоверности
обеспечивается одним замечательным основоположением разума: «Все,
что происходит так, как во множестве случаев происходит под действием
некоторой несвободной причины (т. е. без участия свободной воли. —
Г. Л/.), есть природное следствие этой причины» (Ibid., п. 235). Ведь
несвободная причина не может произвести следствие, к которому она не
предназначена по своей природе. Таким образом оправдывается
достоверность выводов по индукции.
Что касается наших внутренних действий, то, как считает Дуне Скот,
предвосхищая в данном случае Декарта, здесь «имеет место такая же
достоверность, как и в отношении первых [принципов], известных через
себя» (Ibid., п. 238). Такого рода достоверностью обладают, например,
констатации: «я мыслю», «я понимаю», «я слышу», «я вижу», «я бодрствую»
и т. п., если это, конечно, только констатации наших собственных
действий безотносительно к тому, что я мыслю, понимаю и т. п.
Итак, заключает Дуне Скот, «для познания истинности первых
принципов не требуется какого-либо специального света, но они могут
познаваться с достоверностью и без какого-либо сомнения в свете
естественном» (Lectura, I, d. 3, p. 1, q. 3, η. 165). Если забыть, кто это
говорит, можно подумать, что это слова философа-рационалиста
семнадцатого века. В этом же духе звучит и другое заявление Дунса Скота:
«Простой разум все то, что он мыслит спутанно, может познавать
определенно, отыскивая определение познаваемому объекту методом
[логического] деления (т. е. анализа. — Г. М). Такое определенное познание
представляется наиболее совершенным из того, что относится к чистому
разуму. Исходя из такого совершеннейшего познания терминов, разум
может совершеннейшим образом постигать принцип, а исходя из
принципа — заключение. И на этом, [по-видимому,] и завершается
необходимое для истины, если не говорить об истинах пророческих» (Ord., I,
d.3,p. l,q.4,n.259).
И все же перед нами не Декарт и не Лейбниц, а великий схоластик
Дуне Скот. Поэтому следом за процитированным он говорит:
«...учитывая слова Августина, нужно согласиться, что истины
непогрешимые видятся в [свете] вечных норм» (Ord., I, d. 3, p. 1, q. 4, η. 261).
Однако это не означает отказа от сказанного раньше, ибо участие
божественного света и «озарения» в человеческом познании Дуне понимает
иначе, чем Генрих Гентский, взгляды которого он как раз в этом месте
особенно обстоятельно критикует.
Объединяя учение Аристотеля о «возможном разуме» как пассивной
потенции знания и «действующем разуме», переводящем потенциальное
знание в актуальное (подобно свету, который делает действительными
цвета, существующие в возможности) (De an., Ill, 5, 430а 10-15), с
учением Августина об озарении (illuminatio) нашего ума светом божественной
истины, Генрих Гентский утверждал, что действующий разум человека в
368
Дуне Скот как метафизик
его нынешнем состоянии слишком слаб, чтобы своим собственным
светом, без помощи сверхъестественного озарения, высветить в возможном
разуме истинность фундаментальных и неизменных («вечных»)
принципов метафизики, логики, математики и морали. Как мы только что
показали, Дуне Скот придерживался иной позиции. Вместе с тем он считает, что
в определенном смысле «мы познаем в несотворенном свете, который
содействует действующему разуму, ибо, поскольку он содействует
нашему акту познания, он имеет смысл света как действующий разум; и о нас
правильнее говорить, что мы познаем в несотворенном свете, чем
[говорить, что мы познаем] в свете действующего разума, так как причина
первая и высшая сильнее влияет, чем причина ближайшая. И таким образом,
мы видим подлинную истину в истине несотворенной, которая есть Свет»
(Lectura, I, d. 3, p. 1, q. 3, η. 189).
Из этих слов видно, что Дуне Скот толкует «иллюминацию» в духе
своей теории «упорядоченных причин» (causae ordinatae), которую он уже
использовал, как мы знаем, в своих доказательствах бытия Бога: свет
нашего действующего разума находится в упорядоченной причинной
зависимости от источника происхождения нашего разума как такового, т. е. от
Бога, от Его творящей и поддерживающей силы; поэтому с точки зрения
«действующей причины» этот свет и нужно рассматривать как следствие
непрекращающегося воздействия на нас его первопричины — вечного,
неизменного, несотворенного Света, истекающего из действующего
разума Бога.
Кроме того, согласно Дунсу, мы познаем истину в несотворенном
Свете и с точки зрения объекта, ибо наш разум познает сущности вещей, а
эти сущности изначально и извечно пребывают в божественном уме, как
его «вторичный объект». «А поскольку эти вторичные объекты, как они
являются божественному разуму (первичным объектом разума Бога Дуне
считает саму божественную сущность. — Г. М), суть некий свет или же
"светы", и неизменные, и вечные, и поскольку те же самые объекты
являются разуму человека-странника, постольку можно утверждать, что
человек-странник видит истину в вечном свете, ибо он видит сущность
камня или другой вещи, а сущность, как и всякое бытие умопостигаемое,
была всегда и потому обладает вечностью...» (Lectura, I, d. 3, p. 1, q. 3,
η. 192).
Таким образом, Дуне Скот, стараясь согласовать свое истолкование
процесса познания с учением Августина, принимает теорию озарения не
столько в гносеологическом, сколько в онтологическом ее содержании, не
нанося никакого ущерба своим убеждениям, касающимся активности
человеческого познания и его способности самостоятельно достигать
достоверности.
Чтобы еще полнее представить понимание Дунсом возможностей
человеческого познания, необходимо оценить его учение об интуиции.
Поскольку в Средние века с этим термином чаще связывалась идея прямого
сверхъестественного созерцания Бога, трактовка интуиции шотландским
мыслителем выглядит необычной и при этом почти современной. Дуне
Скот противопоставляет интуитивное познание, с одной стороны, дискур-
Дуне Скот как метафизик
369
сивному, а с другой — отвлеченному, т. е. абстрактному. Отвлеченным он
называет «такое познание объекта, при котором объект отвлекается от
всякого актуального существования»; интуитивным познанием — то, при
котором объект познается «как нечто существующее и присутствующее»
(Ord., И, d. 3, р. 2, q. 2, п. 318). В обоих случаях речь идет о познании
чтойности познаваемого предмета, но при интуитивном познании чтойность
(сущность) вещи рассматривается не абстрактно, но в единстве с ее
существованием, с ее присутствием в актуальном бытии, иначе говоря, — «как она
есть в себе» (Ord., II, d. 3, p. 2, q. 2, η. 321). Вопрос только в том, способен
ли разум, ориентированный на абстрактные чтойности, на универсалии,
познавать также неповторимость присутственного существования,
экзистенции, познавать вещи «лицом к лицу». Отвечая на этот вопрос, Дуне
Скот опирается на часто применяемый им принцип: «Любое совершенство
низшей способности имеется и у высшей, если они относятся к тому же
роду». Но чувство, будучи низшей познавательной способностью,
воспринимает вещь в ее присутствии, «перед лицом» вещи. Значит, и разум как
более высокая познавательная способность может знать вещи в их
присутственном существовании. Понятно, что такое объяснение вряд ли
удовлетворило бы современного философа, но оно вполне соответствовало духу
схоластики. В дополнении к нему Дуне ссылается на то, что человек
никогда не удовлетворяется абстрактными способами познания Бога, но верит в
возможность и ожидает Его «присутственного» познания «лицом к лицу»
(Ord., И, d. 3, р. 2, q. 2, п. 322).
Однако познание Бога лицом к лицу, т. е. «лицезрение» Бога,
недоступно человеку в его нынешнем состоянии; следовательно, все, что
мы знаем о Боге, основывается либо на вере, либо на отвлеченных
понятиях — на тех «единозначных» понятиях, которые мы отвлекаем от
творения и переносим на Бога. Такими понятиями являются прежде всего
«трансценденталии», или passiones entis — «собственные» (propriae)
свойства сущего, такие как «благость», «единство», «истинность». Мы
уже видели, как Дуне Скот доказывает, что Бог есть «Сущий», что Он
существует. Более того, уже доказано, что Его бытие абсолютно
бесконечно и едино. А так как passiones entis с необходимостью принадлежат
всякому сущему, а Бог есть сущее бесконечное, то отсюда следует, что
Бог есть и бесконечная благость и абсолютная истина. Познание других
божественных атрибутов также осуществляется через «единозначные»
понятия, общие для Бога и творения. Вот как об этом пишет сам Дуне
Скот: «Всякое метафизическое исследование о Боге происходит
следующим образом: сначала выясняется формальный смысл48) какого-либо
[атрибута], а затем, удалением из этого формального смысла
несовершенства, которое он обретает в творениях, и сохранением этого [ранее
установленного] формального смысла, ему придается наивысшая
степень совершенства, и таким образом это приписывается Богу. Например,
речь идет о формальном смысле мудрости (или разума) или воли: этот
формальный смысл, конечно же, рассматривается в себе и сам по себе; а
в силу того, что этот смысл не заключает в себе формально никакого
несовершенства и никакого ограничения, из него удаляются несовер-
370
Дуне Скот как метафизик
шенства, которые примешиваются к нему в творениях, и, при
сохранении того же [формально установленного] смысла мудрости и воли,
мудрость и воля в совершеннейшем виде приписываются Богу в качестве
атрибутов. Следовательно, всякое исследование о Боге предполагает,
что разум имеет [о Нем] то же самое единозначное понятие, которое он
получает от творений» (Ord., I, d. 3, p. 1, q. 2, η. 39).
Итак, в рамках естественного богословия (theologia naturalis),
которое в то же время есть часть метафизики, мы знаем о Боге только то, что
у Него есть общего с творениями, а именного о Его бытии. Но Бог «не
познается человеком-странником естественным образом в частном и
собственном смысле, т. е. под углом зрения его сущности, как «это» и «в
себе» (Ord., I, d. 3, p. 1, q. 1-2, η. 56). Причиной тому Дуне Скот считает
даже не столько ограниченность познавательных потенций человека,
сколько свободу воли Бога, в силу которой Бог есть в отношении нашего
познания «объект произвольный (obiectum voluntarium), а не
естественный, если только речь не идет о его разуме» (Ord., I, d. 3, p. 1, q. 1-2,
η. 57). Вместе с тем Дуне утверждает, что мы все-таки способны
понимать многие божественные совершенства как «собственные» и только
Богу принадлежащие, если рассматриваем их безусловно (simpliciter) и
без ограничений, в наивысшем их выражении; а это означает
рассмотрение их под углом зрения божественной актуальной бесконечности. И
хотя эта бесконечность, как мы уже говорили ранее, не является каким-
то особым атрибутом и состоянием (passio) божественного существа, но
есть то, что выражает «внутреннюю меру» этого существа, всякий
атрибут, соединенный с божественной бесконечностью (например,
«бесконечная мудрость», «бесконечная благость», «бесконечное могущество»),
становится с необходимостью собственным свойством одного только
Бога. Но здесь встает вопрос: может ли человек вообще понимать своим
ограниченным разумом актуальную бесконечность? На этот вопрос
Дуне Скот без колебаний отвечает утвердительно, исходя из того, что
«понимание чего-либо бесконечного не заключает в себе бесконечности,
ибо нет необходимости, чтобы акт [понимания] имел такой же реальный
модус, какой имеет объект» (Ord., I, d. 3, p. 1, q. 1-2, η. 65). Что,
впрочем, не означает, что через «собственное» для Бога понятие актуальной
бесконечности мы естественным образом можем продвинуться до
постижения глубин божественной сущности и тайн внутренней
божественной жизни. Никакое «естественное богословие», никакая метафизика
не в силах рационально объяснить ни тайны божественного
триединства, ни тайны воплощения Христа, ни вероучительное ядро
христианского понимания Бога. В признании этого факта Дуне Скот был един со
всеми великими учителями Церкви как Запада, так и Востока, с самыми
авторитетными богословами своего времени, такими, как Бонавентура и
Фома Аквинат. В то же время в своем учении о богопознании Дуне
Скот, в отличие от Фомы, Генриха Гентского и некоторых своих
собратьев по ордену, не испытывал никакого энтузиазма по отношению к
византийскому «апофатическому богословию», особенно тщательно
разработанному в Ареопагитиках, где оно представлено как высшая
Дуне Скот как метафизик
371
ступень автономного восхождения человеческого разума к
божественной «сверхсущности», — ступень, на которой Бог познается путем
отрицания всех приписываемых Ему тварных свойств, а в конце концов —
и всех вообще мыслимых человеком свойств, так что в результате разум
человека становится очищенным от всего небожественного и
оказывается перед лицом «сверхсущностного» Бога. Дуне Скот считал, что апофа-
тический метод не может рассматриваться как самостоятельный метод
богопознания, ибо он предполагает наличие положительного
богословия: «Ясно... что никакие отрицания мы не познаем о Боге иначе как
через утверждения, с помощью которых мы удаляем все другое,
несовместимое с этими утверждениями» (Ord., I, d. 3, p. 1, q. 2, η. 10).
Развивая эту мысль, Дуне пишет: «И сколько бы мы не продвигались в
отрицаниях, или Бог будет подразумеваться не более, чем ничто, или же мы
остановимся на каком-то утвердительном понятии, которое является
первым» (Ibid.).
Как же следует расценивать такое отношение Шотландца к апофати-
ке? Ясно, что оно во всяком случае не вполне адекватно. Это отношение,
как подтверждает сам Дуне Скот (Ord., I, d. 3, p. 1, q. 2, η. 10), базируется
только на логике Аристотеля и не учитывает тот факт, что логика
Аристотеля — это логика статических абстрактных понятий, тогда как
мистическая диалектика «Ареопагитик» есть диалектика живой мысли,
движущейся к познанию Абсолюта в непрерывном процессе самоотрицания,
каковое как раз и служит главным условием трансцендирования этой
мыслью ее посюсторонности, условием преодоления ее фатальной
привязанности к «стихиям мира сего» и ее восхождения к Горнему. Иными
словами, в данном случае, как, впрочем, и в других случаях, Дуне Скот явно
недооценил великую силу христианского платонизма в деле богопознания
и предпочел остаться на позициях христиански истолкованной
логистической метафизики. Заметим справедливости ради, что Фома Аквинский
проявил в этом вопросе больше проницательности: оставаясь в основном
аристотеликом, он тем не менее без колебаний принял все принципы апо-
фатической теологии, несмотря на то, что его метафизика в целом
представляется менее динамичной, чем метафизика Тонкого Доктора.
Неприятие апофатики сопровождалось у Дунса Скота усиленным
вниманием к тому, что у греков именовалось богословием «катафатиче-
ским», т. е. утвердительным, в рамках которого, как мы могли убедиться,
им и разрабатывалось то положительное учение о сущности, силах
(потенциях) и энергиях (действиях) Бога, которое вместе с его учением об
активности человеческого разума и свободе воли доставило ему славу
крупнейшего метафизика Средних веков.
Примечания
1) Чарльз Пирс однажды назвал его «одним из самых великих умов
Средневековья» и «одним из самых глубоких метафизиков, которые когда-
либо были» Щит. лит., 16, р. 10). А известный английский историк филосо-
372
Дуне Скот как метафизик
фии Фредерик Коплстон сказал о нем, что «Дуне Скот был одним из самых
способных и проницательных мыслителей, рожденных Британией» (Цит. лит.,
4, с. 253).
2) Двадцатисемилетний Мартин Хайдеггер посвятил Дунсу Скоту свою
диссертацию Die Kategorien und Bedeutungslehre des Duns Scotus, в которой,
помимо других вопросов, затрагивает ряд вопросов онтологии. (Подробнее
см.: Цит. лит., 15, р. 61-65, 71 etc.).
3) Нужно заметить, что самые знаменитые философы и богословы этого
времени были, как правило, или францисканцами, или доминиканцами. К
первым относятся близкий к ним Роберт Гроссетест, Роджер Бэкон, Бонавен-
тура и, конечно, Дуне Скот; ко вторым — Альберт Великий и Фома Аквин-
ский. Все они были в то же время и профессорами университетов.
4) Генрих Гентский (род. 1-я пол. XIII в., ум. 1293), автор Summa the-
ologica и пятнадцати Quodlibeta. В ряде вопросов предвосхитил или даже
повлиял на Дунса Скота: например, в учении о трех состояниях первой материи
(неопределенное, определенное потенциально и определенное актуально) и
отчасти, возможно, в учении об активной и пассивной потенциях души.
Однако по многим другим вопросам был критикуем Дунсом, особенно за слишком
широкую трактовку августиновской теории божественного озарения (divina
illustratio), которое Генрих отождествлял с функцией аристотелистского intel-
lectus agens. В трактовке принципа индивидуации Генрих занимал
оригинальную позицию, как бы промежуточную между позицией Фомы Аквинского и
той, которую займет Дуне. Готфрид из Фонтэна (ум. 1305), ученик Генриха
Гентского и преемник его на кафедре богословия Парижского университета,
написал комментарий на Сентенции и Quodlibeta. Готфрид, возможно,
оппонировал Дунсу в Париже.
5) Термин «волюнтаризм» впервые был употреблен в 1883 г.
Фердинандом Теннисом в статье, посвященной Спинозе (19, s. 169). «Волюнтаризм» с
тех пор понимается как философская позиция, в соответствии с которой воля
и любовь имеют первенство перед разумом и познанием.
6) Орландо Тодиско, оценивая теоретическую ситуацию, которая
сложилась в схоластике XIII в., пишет: «Это был век, пересекаемый двумя фило-
софско-богословскими траекториями, достаточно определенными в их
сущностных чертах, — августинианско-бонавснтурианской и аристотелико-
томистской, каждая из которых получала полемическую стимуляцию от
одной и той же матрицы — от аверроистского аристотелизма магистров
искусств» (Цит. лит., 18, р. 5), — сказано, может быть, слишком замысловато,
но в общем правильно, правда, если сказанное относится только ко второй
половине века.
7) Позднее, особенно в одном из последних своих сочинений Retractatio-
nés, Августин пересмотрел эту свою позицию и стал трактовать познание
вечных истин уже не как проявление естественной активности человеческого
разума, а как сверхъествественное озарение (illuminatio, illustratio)
человеческого ума божественным светом. Подробнее об этом см. в нашей книге (Цит.
лит., 5, с. 264-283).
8) Русский перевод здесь и далее дается (если не оговорено другое) по
изданию: Аристотель. Сочинения в 4 т. М., 1975-1984 (см.: Цит. лит., 1).
Дуне Скот как метафизик
373
' О происхождении понятия «унивокация» см. подробнее: (Цит. лит., 14,
р. 87-89). Жильсон подробно разбирает также отношение принципа «едино-
значности» Дунса и принципа аналогии Фомы Аквината: (Там же, р. 101-116).
10) «Ens est duplex, scilicet naturae et rationis. Ens autem naturae inquantum
tale, cuius esse non dependet ab anima» (Quaest. Super libros Elench., q. 1 (II, lb).
П) Для них обоих Бог есть чистая актуальность (actus punis), но
Аристотель понимает Бога как мышление, мыслящее самое себя, и как «перводвига-
тель», а Дуне Скот — в первую очередь как деятельность воли и высшее
(первое) производящее начало, хотя одновременно и как мышление.
12) В языке Дунса Скота понятия essentia и quiditas почти неотличимы. Но
все же essentia скорее означает совокупность того, что в логике называют
«существенными признаками», a quiditas добавляет к этому совокупность
«собственных признаков». Широко используется Дунсом и термин entitas,
производный от ens — «сущее». Его можно переводить скорее как «существо», но
помня, что речь идет не только о живом существе, но о любом субъекте
существования.
,3) Эти аргументы содержатся в: Ord., Prologus, p. 1, q. un., η. 95-114.
14)Цит. лит., 2, с. 31.
15) Из пяти viae (путей доказательств) Фомы «второй путь» внешне
напоминает первый способ доказательство Скота, «пятый путь» — его второй
способ доказательства, а «четвертый путь» напоминает его третий способ.
16) Аналогичная мысль в другом месте: «...наш разум в этом состоянии
может познавать лишь те объекты, чьи формы отражаются в чувственных
образах...» (Ord., I, d. 3, p. 1, q. 3, η. 115). Этьен Жильсон, исходя из
пессимистической оценки Дунсом Скотом познавательных возможностей «человека-
странника» в области богословия, считал даже, что человеческий разум,
согласно Дунсу Скоту, без помощи божественного Откровения не может
доказать само существование Бога как Первосущего, и более того, не может
познать сущее как сущее. Эта позиция Жильсона была выражена в его ранних
статьях (Цит. лит., 12; 13). Жильсон в противоречии с содержанием главных
работ Дунса Скота и особенно Ordination приписывал ему некий особый «тео-
логизм», т. е. убеждение, что без theologia revelata человек-странник не может
построить никакой метафизики или theologia rationales. Такие странные
заключения Э.Жильсон делал на основании анализа сочинения Theoremata,
включенного в изданиях Уоддинга-Вивеса в число работ Дунса Скота. Считая
это сочинение действительно принадлежащим перу Скота и учитывая, что в
нем (теоремы XV и XVI) утверждается невозможность строгого
доказательства существования первой причины сущностно упорядоченного причинного
ряда, Жильсон и приходит к выводу о сознательном использовании Дунсом
разума для отстаивания верховенства богословия над метафизикой, что, как
легко видеть, на самом деле противоречит и учению Дунса о «естественном
богословии», и его учению о независимости метафизики от theologia revelata.
Позднее точка зрения Жильсона была отвергнута из известных
исследователей Эфремом Беттони (Цит. лит., 7, р. 104-121) и Алленом Уолтером (Цит.
лит., 20, р. 131).
374
Дуне Скот как метафизик
17) Бернардино Бонасеа, представивший в своей книге о Дунсе Скоте
едва ли не самый детальный из существующих анализ его доказательств бытия
Бога, оценил эти доказательства как «одно из величайших завоеваний
человеческого разума» (Цит. лит., 8, р. 121).
18) На этом основании Фредерик Коплстон назвал иронично Фому
«настоящим экзистенциалистом», а Дунса — «предшественником Гегеля» (Цит.
лит., 4, с. 259). Дуне Скот объясняет свой подход весьма убедительно: «Ибо я
никогда не знаю, что нечто есть, если не имею заранее понятия о том, чье
бытие я познаю» (Ord., I, d. 3, p. 1, q. 2, η. 26).
19) Название «трансценденталии» (от лат. transcendens —
превосходящий) эти свойства бытия получили за то, что они «выходят за рамки»
аристотелевских «категорий».
20) См.: Цит. лит., 3, с. 129-133.
2!) Вообще аристотелистекая трактовка материи как возможности
(потенции) доставляла схоластикам, включая Дунса Скота, немало хлопот.
Христианская концепция творения Богом мира «из ничего» означала, что до акта
творения ничего, кроме Бога, не существовало. Но допустимо ли это
понимать так, что мир был «возможен» и до акта творения? Ведь иначе Бог
произвел бы действительное из невозможного. Аристотель считал мир вечным и
поэтому все нереализованные возможности находятся в нем самом, в его
материи-потенции, и указанная проблема здесь не возникает. Дуне Скот
различал логическую возможность и реальную возможность: то, что обретает
существование, с точки зрения логики может быть, ибо то, что невозможно, не
может быть. Но «логическая возможность» не имеет отношения ко времени и
вообще является абстрактной возможностью, для которой требуется одна
только непротиворечивость понятия. Другое дело — «реальная возможность»,
которая у Аристотеля и Дунса Скота собственно и обозначает материю.
Разумеется, если мир существует, то он логически был всегда возможен. Однако
реально он стал возможен только благодаря акту творения. Следуя Августину,
Дуне считал, что в первом же акте творения Богом мира были созданы все его
реальные потенции (возможности), которые потом, вплоть до конца света,
будут переходить в действительность. Но все эти потенции силой Божией
чудесным образом произведены из «ничто» (ex nihilo), в котором (по самому
смыслу этого слова) ничего нет и не было. Значит, как и у Аристотеля, все
возможное так или иначе присутствует в действительности. Однако в свое
понятие «первой материи» (как свидетельствуют комментарии Скота к
«Метафизике») он вкладывал разный смысл: 1) материя как чистая потенция
(реальная возможность); 2) материя как нечто противоположное форме, но
имеющее свою действительность; 3) материя как материал для оформления.
Кроме того, как и все схоластики, Дуне признает и «вторую материю» (materia
secunda), которая представляет собой все многообразие материальных вещей,
из которых складывается физический мир.
Аргументы Аквината в пользу единства формы субстанции
содержатся в Сумме богословия: S. theol. I, q. 76, а. 4 (sed contra). См. также: S.
contra gent. Ill, 58.
Дуне Скот как метафизик
375
Одним из наиболее сильных аргументов против томистского учения о
единстве формы Дуне считал трудность согласовывания с ним таинства
Евхаристии. Возражения Дунса содержатся в Ordinatio, IV, d. 11, q. 3, η. 28-47.
24)0 том, как Дуне Скот понимает термины formaliter и formalitas, см.:
c. 348-349 данного исследования о Дунсе Скоте.
25) Анализ и критика аргументов в пользу бессмертия души содержатся в
четвертой книге Оксфордского труда. См.: Ord., IV, d. 43, q. 2, η. 16-32.
26) Сам Дуне Скот не считает их доказательствами в собственном
смысле. Он говорит: «Potest dici quod licet ad illam seeundam propositionem proban-
dam sunt rationes probabiles, non tarnen demonstrativae, imo nee necessariae»
(Ord., loc. cit, n. 16). Смысл этих слов в том, что нельзя привести ни одного
доказательства в пользу бессмертия души, не только имеющего силу
необходимости, но даже «демонстративного», и можно рассчитывать в этом вопросе
только на «доводы вероятные». В конце концов вопрос о бессмертии души
Дуне оставляет в сфере credihilia.
27) О формальном различии см.: Ord., I, d. 2, p. 2, q. 1-4; Ord., II, d. 16-19.
28) Ведь «чтойность» (quiditas) складывается из «существенных» и
«собственных» свойств. Поэтому она, как и сущность, определяется своими
атрибутами, формально различными, но реально от нее не отделимыми.
29) См.: Ord., I, d. 3, p. 1, η. 114-125.
30) См.: Ord., II, d. 3, p. l,q.2-6.
31 ) В своем комментарии на Метафизику Аристотеля (VII, q. 10) Дуне,
рассуждая в духе учения Августина о rationes séminales (семенных причинах),
доказывает, что виды живых существ во всяком случае образуются
индивидами не логически, а реально, путем передачи общих признаков от родителей
к детям через семя, и, следовательно, вид он понимает здесь как
закодированный в изначальном семенном прообразе (exemplar), т. е. в ratio seminalis
Божьего творения.
32) «Указанная этовость (haecceitas) есть форма, благодаря которой
целостный композит оказывается этим вот сущим; она же есть окончательное
добавление ко всем предшествующим [формам]» (Ord., IV, d. 11, q. 3, η. 46).
33) В связи со своей трактовкой принципа индивидуации Дуне Скот
отверг учение Фомы об ангелах как о «видовых существах». Считая, что ангелы
свободны от материи и признавая в то же время материю причиной
индивидуации, Фома вынужден был утверждать, что каждый ангел есть не индивид,
а вид, и, следовательно, сколько ангелов, столько же и их видов {In Sent, I,
d. 3, q. 1, a. 4, n. 3). Дунсу Скоту показалось это невероятным. «Вывод, —
писал он, — должен быть прямо противоположным, а именно: безусловно
возможно, чтобы в одном и том же виде существовало множество ангелов» (Ord.,
II, d. 3, pars I, q. 7, η. 228). Понятно, что этот вывод Дунсу сделать было
нетрудно. Ведь его толкование принципа индивидуации связано, как мы видели,
не с понятием материи, а с понятием особой формы, которую представляет
собой haecceitas. Эта «форма индивидуации» придает уникальность и
неповторимость не только материальным, но и нематериальным субстанциям,
таким как ангелы.
376
Дуне Скот как метафизик
34) «Ведь я никогда не познаю в отношении чего-либо, «есть ли» оно,
иначе как если имею какое-то понятие этого последнего, относительно
которого я познаю бытие...» (Ord., I, d. 3, p. 1, q. 2, η. 11).
35) К числу божественных совершенств относятся и трансцендентальные
свойства сущего, т. е. «истинность», «благость» и «единство», о которых уже
было сказано.
36)Мы намеренно не переводим термин contingens как «случайное» по
причине связанных с русским словом «случайное» неприемлемых коннотаций.
Достаточно привести в пример выражение, типичное для Дунса Скота: «Бог
творит мир контингентно», т. е. творит его не по необходимости. При
подстановке вместо «контингентно» слова «случайно» получится нелепость: «Бог
творит мир случайно».
37) Божественная воля, согласно Дунсу Скоту, «всегда необходимо
находится в актуальном состоянии в отношении своего первичного объекта, ибо
она находится в актуальном волении вторичного объекта лишь постольку,
поскольку находится в актуальном волении объекта первичного» {Rep. Par., I,
d. 10, q. 2, η. 4).
38) Подробнее о познании контингентного см.: Ord., I, d. 38, q. un., η. 9;
Ord., II, d. 25, q. un., n. 22. Здесь, в частности, дается точное определение
контингентного: «... я называю контингентно происходящим то, что происходит
так, что его можно избежать».
39) См.: Bonaventura S. Opera omnia, Quaracchi, 1882, v. I, p. 600-602, 695-
696 {In Sent, I, d. 35, art. un., q. 1).
щ Ср.: Цит. лит., 3, с. 225-236.
41 ) Там же. Подробнее о полемике Дунса Скота по данному вопросу см.:
Цит. лит., 8, р. 224-229.
42) Дуне Скот различает всемогущество в метафизическом смысле — как
способность совершать «все возможное во всяком возможном
опосредствованно или неопосредствованно», и всемогущество в богословском смысле —
как способность производить любой результат и любое возможное прямым
действием без посредствующих причин. Всемогущество Бога, понимаемое в
метафизическом смысле, можно доказать естественным разумом, а
всемогущество Бога в богословском смысле — предмет веры (см.: Ord., I, d. 42).
43) Способность воли действовать или не действовать по своему
усмотрению схоластики называли libertas contradictions; способность выбирать
между двумя противоположными объектами — libertas oppositionist
способность выбирать среди многих своих действий и объектов — libertas specifica-
tionis. См. подробнее: Цит. лит., 8, р. 64-65.
и) Относительно позиции Генриха Гентского см.: Ord., I, d. 3, p. 1, q. 3,
η. 125-130. Критика позиции Готфрида из Фонтэна и, косвенно, Фомы Аквин-
ского: Ord., d. 3, p. 1, q. 3, η. 110-120.
45) См., например: Augustinus, De Gen. ad lit., Ill, 5, 7: «Sentire non est
corporis, sed animae per corpus». Подробнее см.: Цит. лит., 5, с. 251-264.
46) Quaest. super libros Aristot. De an. //Vives: III, 472-642.
Дуне Скот как метафизик
377
«...Я утверждаю, что в тех познавательных актах, которые относятся
к предметам низшим и материальным, душа является причиной более
совершенной, чем объект» (Ord., I, d. 3, p. 3, q. 3, η. 559). Однако «в отношении
познания, которое выходит за пределы естественной активности души, как в
случае блаженного видения... объект является в большей мере причиной, чем
душа» (Ibid., п. 561).
48) Напомним, что «формально» у Дунса Скота означает «по
определению», т. е. в соотвествии с определением данного понятия.
Цитируемая литература
Аристотель. Сочинения в четырех томах. М.: Мысль, 1975-1984.
Бэкон Ф. Сочинения в двух томах. Т. 2. М.: Мысль, 1972.
Боэций. «Утешение Философией» и другие трактаты. М., «Наука», 1996.
Коплстон Ф. Ч. История средневековой философии. М., «Энигма», 1997.
Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии. Латинская
патристика. М.: Мысль, 1979.
Balic С. The Life and Works of John Duns Scotus. — In: John Duns Scotus, 1265-
1965, ed. by John K. Ryan and B. Bonasea. Washington, 1965.
Bettoni Ε. L'ascesa a Dio in Duns Scoto. Milano, 1943.
Bonasea B. L'uomo e Dio nel pensiero di Duns Scoto. Milano, 1991.
Bonaventura S. Opera omnia, Quaracchi, 1882, v. I.
Gilson E. History of Christian Philosophy in the Middle Ages. N. Y., 1955.
Gilson E. Jean Duns Scot. Introduction à ses positions fondamentales. Paris, 1952.
Gilson E. Les seize premiers Theoremata et la pensée de Duns Scot. In: Archives
d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age, 12-13 (1937-1939), p. 5-86.
Gilson E. Metaphysik und Theologie nach Scotus. In: Franziskanische Studien, 22
(1935), s. 209-231.
Gilson E. La philosophie au Moyen Age, 1976, t. 2.
Heidegger M. Die Kategorien und Bedeutugslehre des Duns Scotus. Tübingen,
1916.
Peires Ch. S. Collected Papers. Harvard Univers. Press, 1931, vol. I, p. 10.
Steenbergen F. van. La philosophie aux XIII siecle. Louvain — Paris, 1966.
Todisco O. Giovanni Duns Scoto: Filosofo délia liberté. Padova, 1996.
Tönnies F. Studien zur Entwicklungsgeschichte des Spinosa. In: Vierteljarschrift
fur wissenschaftliche Philosophie, 7 (1883), s. 169.
Wolter A. B. The «Theologism» of Duns Scotus. In: Franciscan Studies, VII (1947),
p. 257-273; 367-398.
378
Дуне Скот как метафизик
Форма цитирования источников
Библия, а также сочинения Аристотеля, Августина, Фомы Аквинского,
Бонавентуры и др., за редким исключением, цитируются в самом тексте
данной работы в круглых скобках в соответствии с принятой в науке системой
цитирования. Например, (S. theol, I, q. 83, art. 4с) означает: Фома Аквинский,
Сумма теологии, Часть первая, Вопрос 83, Раздел 4с. Аналогично (De an. Ill,
5, 430а 10-15) означает: Аристотель, О душе, Книга третья, глава 5, место в
корпусе сочинений Аристотеля — 430а 10—15.
Сочинения Дунса Скота цитируются в основном по изданиям: Opera
omnia. Studio et cura Commisionis Scotisticae ad fidem codicum édita. Civitas
Vaticana, 1950 — ; Opera omnia. Editio nova iuxta editionem Waddingi Vives ed.,
Paris, 1891-1895 (сокращенно — Vives).
Цитирование трудов Дунса Скота также производится в сокращенной
форме. Например, (Ord., II, d. 3, p. 1, q. 7, η. 251) означает: Ordinatio, Liber II,
distinctio 3, pars I, quaestio 7, numerus 251, т. е. «Упорядоченный комментарий ко
второй книге «Сентенций» Петра Ломбардского в третьем его разделе, в первой
части этого раздела, где рассматривается вопрос седьмой в относящемся к нему
параграфе № 251 ».
ЛЕЙБНИЦ КАК ФИЛОСОФ НАУКИ
Опыты восхождения
к абсолютному знанию
путём усовершенствования наук
Вопросам теории познания, методологии, логики и общей теории
науки Лейбниц уделял самое большое внимание в продолжение всей
своей жизни, начиная с юных лет. Он любил вспоминать о том, что еще в
детстве самостоятельно пришел к мысли о необходимости установить в
человеческом познании строгий порядок, чтобы исключить из науки все
ложное и сомнительное, а то, что в ней есть истинного, направить на
улучшение человеческой жизни. Тогда он сделал для себя правилом в
словах и других знаках «всегда искать ясности, а в делах пользы»1 и не
верить никаким авторитетам, пока не представлены доказательства, в
доказательствах же не останавливаться до тех пор, пока не дойдешь до
самоочевидных принципов. Руководствуясь такими правилами, Лейбниц
неизбежно должен был обратиться к логике, а когда обратился, то сразу
же увидел в ней ключ к преобразованию всего человеческого знания, и
мысль о неисчерпаемых возможностях логики больше уже никогда его не
оставляла.
В двадцать лет Лейбниц выпустил в свет первый плод своих
логических штудий — диссертацию «О комбинаторном искусстве», в которой
выдвигалась идея новой логики — логики символической и
математической, способной стать универсальной теорией научного мышления и
общей теорией открытия. Около трехсот лет спустя Норберт Винер скажет
об этой диссертации, что она начинает собой эру кибернетики.
Но как бы высоко Лейбниц ни ставил логику, она все же никогда не
была для него самоцелью: он видел в ней только прекрасное и, можно
сказать, универсальное средство науки — «органон» познания и
открытия. Конечной же целью всех его трудов, как он сам говорил, служил
триединый идеал «мудрости, добродетели и счастья», осуществление
которого на практике он считал делом реальным, ибо глубоко верил в
человеческий прогресс, в победу культуры над варварством.
Лейбниц был гуманистом в самом высоком смысле этого слова. Он
по-настоящему любил человека и созданную им культуру. Но он любил
их не как вдохновенный романтик, а как трезвый логик — не закрывая
глаза на человеческие пороки и теневые аспекты культуры. Более того,
Лейбница, знаменитый оптимизм которого столь язвительно и несправед-
1 Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах. Т. 3. М.: Мысль, 1984. С. 410.
380
Лейбниц как философ науки
ливо высмеял не вполне понимавший его Вольтер, можно считать одним
из самых основательных и тонких критиков современной ему культуры.
Критике негативных сторон интеллектуальной культуры своего
времени, и прежде всего развенчанию еще имевшего в XVII в. значительное
влияние схоластического догматизма, Лейбниц посвятил работу о Низо-
лии — одно из его ранних сочинений (1670). Оно представляет собой
предисловие к изданному Лейбницем, по просьбе его тогдашнего покровителя
мецената Бойнебурга, произведению гуманиста XVI столетия Мария Ни-
золия, имевшему название «Об истинных принципах и истинном методе
философствования против псевдофилософов». Вступительный текст
Лейбница и по содержанию, и по форме выходит далеко за рамки жанра
обычного предисловия. В целом это вполне самостоятельный трактат,
хотя в его композиции все же имеются некоторые странности,
объяснимые его специальным назначением.
Читателю может, например, показаться странным, почему Лейбниц
начинает свой трактат с длиннейшего и скучнейшего перечня разных
изданий и имен, большинство из которых не только совершенно забыто в
наше время, но и во времена Лейбница было мало известно. Зачем же
понадобились ему эти утомительные перечисления? Зачем в последующем
изложении он вновь и вновь применяет этот прием, то и дело обрушивая
на читателя шквал своей эрудиции — длинные перечни известных и
неизвестных имен философов, историков, юристов, математиков,
естествоиспытателей, филологов и прочих подвижников царства науки и
словесности? Не затем ли только, чтобы выставить свою образованность и
выразить свою причастность к общему делу ученых? Кто читал Лейбница, тот
знает, что он никогда не упускал случая блеснуть эрудицией и вспомнить
о своих заслугах. Но что касается предисловия к Низолию, дело здесь все-
таки в другом. Дело в том, что издание Низолия служит Лейбницу
поводом для того, чтобы впервые обстоятельно и публично высказать свое
отношение к культурному наследию прошлого и к тем спорам вокруг
него, которые будоражили умы его современников и ближайших
предшественников. Для новой западноевропейской культуры, сформировавшейся в
эпоху Возрождения и достигшей высокого расцвета в XVII в., в качестве
собственного прошлого, с которым надо было свести счеты, в качестве
«прошлого в настоящем», выступала схоластика. В большей и,
несомненно, лучшей своей части эта культура была антисхоластической. Однако
если на первых порах ренессансный гуманизм утверждал себя почти
исключительно в противовес средневековой культурной традиции,
полностью отрекаясь от своего недавнего прошлого и брезгливо отстраняясь от
схоластики, а заодно и от ее крупнейшего авторитета — Аристотеля, то
позднее, с началом контрреформации, а особенно в XVII в., наряду с этим
радикально негативным подходом к Средневековью, продолжавшим
сохранять свое значение, складывается и другой, более трезвый, менее
амбициозный, а потому и более историчный подход. В соответствии с этим
новым подходом эпоха схоластики оценивалась хотя и критично, но более
объективно и дифференцированно: она представлялась эпохой варварства,
но варварства поневоле, сочетавшегося с искренним и нередко продук-
Лейбниц как философ науки
381
тивным стремлением к истине; в схоластике выявлялись различные
направления, среди которых одно — номинализм — рассматривалось как
важный источник философии Нового времени. Основой этого подхода
были доброжелательность и уважение к традиции. Виднейшим его
выразителем в XVII в. и был Лейбниц. Наоборот, издаваемый Лейбницем
Низолий был одним из представителей прежнего, негативно-критического
подхода. Будучи типичным ренессансным гуманистом, Низолий не видит
в схоластической философии ничего, кроме варварских заблуждений и
беспорядочной игры в слова, к тому же в слова, чаще всего
бессмысленные или неправильно образованные. Схоластики (в число которых он
включает и многих «школьных» философов своего времени) именуются
им псевдофилософами, схоластическая логика (логика универсалий) —
псевдонаукой, а язык — «философский слог» схоластики — оценивается
как неграмотный, совершенно искусственный и оторванный от жизни.
Всему этому Низолий противопоставляет «истинный метод
философствования» (vera ratio philosophandi), основанный на чувственном опыте и
пользующийся «естественным» человеческим языком, каковым
пользовались когда-то Цицерон и другие римские классики.
С первых же страниц предисловия к трактату Низолия Лейбниц
недвусмысленно выражает свою солидарность с духом ренессансного
гуманизма вообще и с идеей гуманистической, жизнелюбивой философии в
частности. Именно в духе гуманизма он отстаивает великое значение
критических изданий ученых трудов прошлого и высоко оценивает
благородную миссию издателей. Однако в упомянутом перечне предпринятых до
него публикаций Лейбниц, приветствуя не прекращающееся издание
античных авторов, особую заботу проявляет в отношении изданий авторов
средневековых и новых. Он считает, например, большим достижением
издание сочинений отцов церкви, сводов трудов средневековых юристов и
историков, равно как и публикации сочинений всех сколько-нибудь
выдающихся ученых Нового времени независимо от их национальности и
даже вероисповедания. В общем для Лейбница культурное наследие
прошлого является чем-то целостным и неделимым: для него нет пустых в
культурном отношении пространств и времен, и в этом он историчнее и
гуманистичнее своих предшественников — гуманистов Ренессанса. В
данной работе Лейбниц выдвигает требование строгой объективности и
конкретности исторических оценок. Разделяя мнение гуманистов о том,
что засилье авторитета Аристотеля долгое время служило тормозом
развития философии, с удовлетворением и не без иронии констатируя, что
благодаря прогрессу просвещения сейчас «признано хотя бы уж то, что
Аристотель может ошибаться»2, Лейбниц совсем не склонен
недооценивать Аристотеля и ставить его в один ряд со схоластиками. Он видит
главную ошибку Низолия как раз в том, что тот в своем трактате приписал
Аристотелю грехи схоластиков. На самом деле Аристотель «не виновен
во всех тех нелепостях, которыми запятнали себя с ног до головы
схоластики. Каковы бы ни были его ошибки, они вес же таковы, что легко от-
2 Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах. Т. 3. С. 63.
382
Лейбниц как философ науки
личить случайное заблуждение великого человека, живущего в светлом
мире реальности, от умопомрачительного вранья какого-нибудь
невежественного затворника»3. Этот серьезный, исторический взгляд на
Аристотеля выгодно отличает Лейбница, например, от Бэкона, не говоря уже о
более ранних гуманистах. Но Лейбниц заступается и за схоластиков,
указывая на то, что в большинстве их ошибок повинны не они сами, а их
трудная, варварская эпоха. Ведь тогдашние исторические обстоятельства
были таковы, что «нужно скорее считать чудом, что хоть что-то было
сделано в науке и в истинной философии»4.
Интересно отметить, что Лейбниц остается верным историзму в
оценке не только прошлого, но и настоящего. Средневековая схоластика
была для своего времени явлением закономерным, а отдельные
схоластики были даже выдающимися мыслителями. Но, по мнению
Лейбница, совершенно бесперспективно и анахронично сохранение и
культивирование схоластических методов в эпоху новой науки, когда
возможности, средства и цели научных исследований стали совсем иными.
Отнюдь не старинная схоластика сама по себе служит главным
препятствием для прогресса знаний — в качестве такого препятствия выступают
те, «кто и теперь, когда существует хлеб, предпочитает питаться
желудями»5, — современные эпигоны схоластики, заполонившие
европейские университеты. Оставаясь слепыми к свету новейших открытий и во
всем уступая своим средневековым учителям, они тащат науку назад, на
путь отвлеченных умозрений и терминологических споров. Кого имеет
здесь в виду Лейбниц? Скорее всего, адептов «второй схоластики» —
последователей Франциска Суареса, кроме того, томистов, скотистов,
рамистов и всех тех — как бы они ни относились к средневековым
авторитетам, — кто продолжал и в XVII в. отдаваться в основном словесной
и отвлеченной мудрости. Многочисленность и влиятельность этих
«ретроградов», объясняющие на первый взгляд странную заостренность и
злободневность критики схоластики всеми великими философами
XVII в. — от Бэкона до Лейбница (ведь эпоха средневековой схоластики
все-таки была удалена от XVII в. уже на три столетия), и послужили
основной причиной лейбницевского издания Низолия.
Главный вопрос «Предисловия» — каким должен быть истинный
метод и стиль философствования, т. е. тот вопрос, которому и была
посвящена работа Низолия. Подходя к этому вопросу как аналитик, Лейбниц
сначала устанавливает основные достоинства речи как таковой.
Признаками всякой хорошей речи он считает «ясность», «истинность» и
«изящество». Ясность, которая у Лейбница совпадает с интеллигибельностью,
понятностью значения, в сочетании с истинностью, т. е. «чувственной
воспринимаемостью» того, о чем говорится, составляет «достоверность»
речи. Эта последняя и является критерием правильной речи, особенно же
речи философской — «философского слога».
3 Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах. Т. 3. С. 86.
4 Там же. С. 88.
5 Там же.
Лейбниц как философ науки
383
Далее Лейбниц углубляется в чрезвычайно тонкие рассуждения о том,
чем же создается искомая достоверность речи, и здесь он обнаруживает
такую осведомленность в вопросах структурной лингвистики, какая сделала
бы честь даже языковедам XX в. Между прочим, он дает здесь вполне
точные и эффективные определения таким лингвистическим понятиям, как
«значение», «вокабула», «первоначальное значение», «узус» и «деривация»,
«тропологическое значение», «формальное значение», «дефиниция» и т. п.
Но самое интересное в этой части — выделение Лейбницем проблемы
естественного и искусственного языка, или, как он сам говорит, проблемы
общеупотребительных и «технических» терминов (termini technici).
Предостерегая против неумеренного увлечения «техническими» терминами, т. е.
такими, которые предназначаются только для «экспертов», Лейбниц имеет
в виду прежде всего, конечно, печально известное словотворчество
схоластиков — все эти «чтойности», «этовости» и тому подобное, о чем он не
может говорить без сарказма. Вместе с тем в этом увлечении специальной
терминологией он видит неискоренимое свойство касты ученых вообще (и
здесь он безусловно прав), а поэтому предлагает при образовании
искусственных, «технических» слов, без которых, к сожалению, не может обойтись
ни одна наука, хотя бы соблюдать естественные правила деривации и
всегда давать определения специальных терминов и неологизмов в словах
обычного естественного языка. В ходе этого рассуждения Лейбниц делает
одно существенное и в то же время очень нужное обобщение: «не
существует вещей, которые не могут быть выражены в общеупотребительных
терминах»6. И в первую очередь он относит это к философии: «все, что не
может быть выражено в общеупотребительных терминах... не существует и
должно быть торжественно отлучено от философии»7. Прекрасная мысль!
Ведь если термины никаким способом не могут быть сведены к
общепринятым, то они не могут быть и разъяснены другим (равно как и самому
себе), ибо всякое разъяснение есть сведение непонятного к понятному, а те
термины, которые нельзя разъяснить, не означают ничего определенного и
чаще всего вообще ничего не означают. Эта мысль хорошо иллюстрируется
опытом: когда изощреннейшим диалектикам-схоластикам «по новому
остроумному обычаю» предлагают четко объяснить употребляемые ими
латинские термины, они, как правило, приходят в полное замешательство и
ничего не могут сказать, а если говорят, то становятся всеобщим
посмешищем. В связи с этим Лейбниц справедливо отмечает, что использование
мертвого латинского языка для выражения живой, практически
ориентированной современной философии вообще неоправданно, и предлагает
перейти на живые национальные языки, подчеркивая при этом большие
потенциальные возможности языков германских. Заключая этот раздел, Лейбниц
формулирует основное, с его точки зрения, правило философского и
всякого научного стиля: «максимальная краткость общеупотребительного или
максимальная употребительность краткого термина»8. Другими словами,
6 Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах. Т. 3. С. 73.
7 Там же. С. 71.
8 Там же. С. 78.
384
Лейбниц как философ науки
важнейшим требованием научного стиля должны быть максимальная
компактность и точность выражения в сочетании с максимальной ясностью,
т. е. понятностью. Таким образом, уже в этой юношеской работе Лейбница
легко обнаружить свойственную ему установку на оптимальность, на
принцип наилучшего, который в дальнейшем станет основным конструктивным
принципом всей его философской системы.
Говоря далее о двух возможных методах изложения философии —
«экзотерическом», или популярном, и «акроаматическом», или строго
научном, Лейбниц опять-таки концентрирует внимание на проблеме их
оптимального применения. В менее строгом и более многословном
экзотерическом методе «не следует слишком роскошествовать», дабы не
повредить ясности; в точном акроаматическом методе нельзя ничего
оставлять недоказанным, нельзя ни одного слова употреблять без
определения, хотя и здесь допустимы в разумных пределах и без ущерба для
точности метафоры, отступления, шутки, дабы не сделать стиль
научного трактата слишком сухим. Необычно и даже на первый взгляд
парадоксально звучит заявление Лейбница о том, что в строгом
(акроаматическом) философствовании следует пользоваться только конкретными
терминами, а в популярном (экзотерическом) допустимы и желательны
термины абстрактные. В этом утверждении особенно сказывается
зависимость молодого Лейбница от номиналистической методологии Гоб-
бса, от которой потом у него не останется и следа. Впрочем, выраженное
здесь Лейбницем отношение к схоластическим абстракциям, нередко
бессмысленным и бесполезным, останется в силе и в поздний период.
Навсегда сохранит Лейбниц и верность принципу не вводить
абстрактного там, где можно обойтись конкретным. То же самое можно сказать и
об отношении его к тропам, в злоупотреблении которыми он упрекает
здесь схоластиков: в своих позднейших сочинениях Лейбниц всегда,
когда это возможно, высказывается в прямом смысле и избегает
переносных выражений и фигур, что делает язык этих сочинений особенно
ясным, прозрачным и убедительным. Ясность языка должна быть первой
заботой философа. Поэтому одним из главных дефектов схоластической
литературы Лейбниц считает нарочитую затемненность, интригующую
загадочность языка. Ведь темная речь, пишет он в «Предисловии»,
«быть может, и подобает какому-нибудь пророку, или Дельфийскому
оракулу, или даже теологу-мистику, или поэту «энигматического»
стиля, но для философа ничто не может быть более чуждым...»9.
Пространно рассуждая о подобающем философу стиле речи,
Лейбниц, как всегда, затрагивает и проблемы более общего характера, в
частности проблему соотношения «грамматики» и логики, языка и мышления.
Его трактовка этой проблемы лишний раз свидетельствует о том, что в
лице двадцатичетырехлетнего Лейбница мы уже имеем мыслителя вполне
зрелого и весьма проницательного. Понимая, что язык и мышление
находятся в нерасторжимом единстве и что «всякий мыслительный и волевой
акт так тесно сплетен со словами, что вообще едва ли возможен без слов,
9 Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах. Т. 3. С. 79.
Лейбниц как философ науки
385
хотя бы и употребленных молча» , Лейбниц (следуя в этом за Петром
Рамусом) считает, что у науки логики двуединая задача — исследование
«и правил мышления, и стиля речи, пригодного для передачи мысли»11.
Жаль, конечно, что эта идея Лейбница о создании логики естественного
философского стиля до сих пор остается нереализованной.
Закончив свой экскурс в область стилистики, Лейбниц воздает хвалу
Низолию — первому, кто не на словах, а на деле попытался «вырвать с
корнем весь этот словесный чертополох с поля философии»12 и указать
путь к естественному и истинно философскому стилю речи. Правда,
уточняет Лейбниц, работа Низолия по очищению философии коснулась не
всех ее разделов, а только логики. В подобной же чистке все еще
нуждаются метафизика, физика, политическая и правовая философия. Но,
оценивая то, что уже было сделано и делалось в этом направлении, оценивая
те многочисленные труды по усовершенствованию стиля и самой
философии, о которых говорится на последующих страницах «Предисловия»,
Лейбниц выражает надежду на скорый успех всего дела. В довершение он
обещает когда-нибудь, если ему позволит время, внести в дело
реформирования философии и свою лепту. В какой мере Лейбниц выполнил свое
обещание? Никто в XVII в. не писал о труднейших метафизических,
логических, математических, физических, этических предметах яснее и
убедительнее, чем он. Никто не мог соперничать с ним в искусстве
обнаруживать слабые и сильные стороны своих идейных предшественников и
противников; в особенности это относится к качеству определений и
доказательств. Вспомним хотя бы его критику Декарта, Мальбранша, Локка.
Никто не сравнялся с ним по универсальности и глубине реформаторских
идей, во многом преобразовавших логику и математику, динамику и
психологию, языкознание, историографию и юриспруденцию. Лейбниц не
сделал всего, чего хотел, но он сделал даже больше, чем обещал.
Последний раздел «Предисловия» посвящен разбору ошибок и
заблуждений Низолия. Об одной из главных ошибок мы уже упоминали.
Она состоит в неправильном, слишком негативном и неуважительном
отношении к философской традиции вообще и к Аристотелю и
схоластикам в частности. Что касается Аристотеля, Лейбниц снимает с него
большинство обвинений «новаторов», доказывая ссылками на новейшие
критические исследования его философии, что эти обвинения относятся не
столько к подлинному Аристотелю, сколько к Аристотелю, каким его
представляли схоластики. Подлинный Аристотель не только тоньше и
глубже Аристотеля схоластического, но и в большинстве случаев не
противоречит духу новой, «научной» философии, а некоторыми своими
идеями даже предвосхищает ее. Это свое мнение, весьма экстравагантное
для конца XVII в., Лейбниц специально обосновывает в прилагаемом к
«Предисловию» письме к Якову Томазию, написанном в 1669 г. Заметим,
что примирить современных философов с Аристотелем было сознатель-
10 Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах. Т. 3. С. 80.
11 Там же. С. 81.
12 Там же.
386
Лейбниц как философ науки
ным намерением Лейбница в продолжение всей его жизни. Скажем
больше: целью Лейбница было примирить всех великих людей прошлого и
настоящего, примирить культуры, религии и народы, и вообще одной из
его главнейших руководящих идей была идея мира и союза, или же —
еще точнее — мира во имя союза людей и единения всех элементов
рассеянной во времени и пространстве человеческой духовности.
Выражая свое несогласие с неразборчивым осуждением
средневековой схоластики, Лейбниц напоминает Низолию о школе номиналистов,
которая, по словам автора «Предисловия», есть «самая глубокая из всех
схоластических школ и по своему методу ближе всех стоящая к
современной реформированной философии»13. Номиналисты раньше всех
начали борьбу за очищение философии от терминологического сора и
произвольных измышлений, и в этом сам Низолий должен был бы считать
себя их прямым наследником. Особенно значительным было правило
номиналистов «не умножать сущности без необходимости» («бритва Окка-
ма»). Лейбниц в своем духе преобразует его в принцип оптимальности:
«Гипотеза тем лучше, чем проще» 4, и тут же дает ему обычное для его
позднейших работ теологическое обоснование: Богу и природе не
свойственно бессмысленное излишество. Интересно, что в качестве примера
предпочтительной, т. е. наиболее простой, гипотезы Лейбниц приводит
астрономическую модель, исходящую из простых, «несмешанных»
движений планет, вероятно имея в виду (хотя и не говоря об этом открыто)
модель Коперника.
Высоко оценивая номинализм, Лейбниц, однако, видит и его
ограниченность. Абсолютизированный номинализм, или, как его называет
Лейбниц, «сверхноминализм», в Новое время привел Томаса Гоббса к
субъективистской и конвенционалистской трактовке истины, в соответствии с
которой истина зависит от имен и от произвола устанавливающих имена
людей. На самом деле, считает Лейбниц, истина не зависит от
обозначений настолько же, насколько результат правильного счета не зависит от
избранной системы счисления. Низолия неправильно понятый принцип
номинализма и неприятие схоластики вообще привели к отказу от всякой
метафизики и диалектики, хотя, как подчеркивает Лейбниц,
средневековые номиналисты от них отнюдь не отказывались. Низолий полагал, что
раз общее, универсальное, не имеет реального существования и сводится
только к именам (принцип номинализма), то не имеют смысла ни
метафизика, учившая о наиболее общих законах бытия, ни диалектика,
толковавшая об универсальных законах мышления и доказательства. В связи с
этим аристотелевскую силлогистику Низолий считал совершенно
бесполезной для науки.
Лейбниц указывает на вопиющую противоречивость Низолия,
упраздняющего теорию доказательства и одновременно постоянно
пользующегося ею. Он высоко оценивает аристотелевскую логику и обещает в
будущем издать свою собственную версию теории доказательства. В то
13 Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах. Т. 3. С. 89.
14 Там же. С. 90.
Лейбниц как философ науки
387
же время он отстаивает значение всеобщих предписаний метафизики,
физики и этики. Что же касается самой проблемы универсалий, Лейбниц
усматривает в ее трактовке Низолием одно из серьезнейших заблуждений,
чреватых крушением всякой демонстративной науки. В этом
кардинальном пункте Лейбниц отмежевывается и от номинализма вообще.
Согласно Низолию, то, что обычно называется всеобщим,
универсальным, есть не что иное, как совокупность всех единичных предметов
данного класса. Например, понятие «человек» есть то же самое, что и
понятие «все конкретные люди, вместе взятые». Другими словами, он
совершает здесь довольно часто встречающуюся ошибку: путает общее и
«коллективное», подменяет дистрибутивное целое собирательным целым.
Лейбниц на нескольких блестящих примерах показывает, к какому
абсурду ведет подобная путаница. Его собственная позиция совершенно ясна:
универсалии — это дистрибутивные целые и они распространяются на все
предметы данной совокупности, не будучи исключительной
собственностью ни одного из них. Ведь если бы общее сводилось к собирательному,
было бы невозможно никакое дедуктивное доказательство и все знание
сводилось бы к индуктивному. Но что бы это означало? В общем случае
индукция всегда неполна и ее выводы не имеют силы необходимости, они
могут создавать лишь большую или меньшую уверенность в том, что и
впредь всегда будет так, как было, т. е. могут обладать только «моральной
достоверностью»; этого недостаточно для теоретических, аподиктических
наук. Кроме того, сам принцип индукции и «моральная достоверность» не
могут быть выведены индуктивно. Они дедуктивно следуют из более
общих принципов, имеющих аксиоматический характер. Положение «Целое
больше части» не может быть выведено индуктивно, ибо, даже чтобы
начать сравнивать по величине целое и часть, мы должны уже априори
уметь различать большее и меньшее. Все эти мысли обобщаются
Лейбницем в следующем основополагающем суждении: «...ясно, что индукция
сама по себе ничего не производит, даже моральной достоверности, если к
ней на помощь не приходят предложения, зависящие не от индукции, а от
общего принципа, потому что, если бы и эти вспомогательные принципы
зависели от индукции, они нуждались бы в новых вспомогательных
принципах и моральная достоверность была бы бесконечно недостижима»15.
По сравнению с тем пониманием индукции, которое было свойственно
его современникам начиная с Бэкона, Лейбницева трактовка была
большим шагом вперед — шагом в направлении аксиоматической и гипотети-
ко-дедуктивной теории формирования научного знания. Возможно, свою
трактовку индукции Лейбниц считал главным научным результатом,
полученным в полемике с Низолием, которая этим и заканчивается.
Значение того, что высказано Лейбницем в «Предисловии» (на
котором мы намеренно задержались слишком долго), выходит за рамки
обычной для XVII столетия критики схоластики как отживающей свой век,
исторически преходящей формы философской культуры. К сожалению,
схоластика — это не только продукт средневекового умонастроения; в
15 Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах. Т. 3. С. 95.
388
Лейбниц как философ науки
более широком смысле, который всегда подразумевается Лейбницем, она
есть побочный продукт и негативная возможность любой культурной
эпохи, своеобразная тень науки и философии. Возможность отрыва и без
того отвлеченной философской мысли от жизненной практики
сохраняется всегда, а поэтому сохраняется и возможность схоластики. Несомненно,
Лейбницева критика схоластического теоретизирования, фетишизации
абстрактных и «технических» терминов и искусственных языков не
потеряла своей актуальности и сегодня. Но не менее актуально звучит и
осуждение Лейбницем противоположной крайности — крайности пошлого
эмпиризма и индуктивизма, исключающих правильную оценку значения
общего и теоретического в человеческом знании. Слепое преклонение
перед «фактом» и слепая ненависть к «метафизике», превращающаяся
подчас в своего рода odium religiosum, — обычная, хотя далеко не
безобидная реакция на всякую схоластику. Такая слепота хорошо известна и
нашему веку. Если же говорить о значении «Предисловия» для изучения
философского наследия Лейбница, то здесь необходимо отметить, что это
единственное его произведение, специально посвященное критике
схоластики и проблемам нормативного философского стиля. Когда в
последующих сочинениях Лейбниц будет вновь обращаться к проблемам
философской терминологии и оптимального способа выражения идей, он будет
толковать об этом уже больше в другом ключе — в духе своей теории
универсального языка и универсального знания.
Хотя, как известно, главный труд Лейбница по гносеологии —
«Новые опыты о человеческом разумении», его теория познания отнюдь
не исчерпывается этим трудом, а если быть точнее, даже представляется
в нем несколько односторонне из-за полемического характера
сочинения. Другие, небольшие по объему, гносеологические эссе Лейбница
помогут составить о его теории познания всестороннее и более точное
представление.
Указанные эссе весьма различны по характеру и времени написания.
Первое из них — «О мудрости», по-видимому, самое раннее и несет на
себе следы очевидной зависимости молодого Лейбница от методологии
Декарта и Гоббса. Последнее — «Опыт анагогического исследования» —
плод сугубо самостоятельных размышлений зрелого философа и
крупнейшего ученого. Однако все девять работ, о которых мы будем здесь
говорить, объединены одной общей идеей — идеей достоверного,
упорядоченного и эффективного познания.
Эссе «О мудрости», как и многие другие дошедшие до нас Лейбни-
цевы эссе, имеет характер предварительного, сделанного для самого
себя и не предназначенного для публикации наброска. Лейбниц просто
пытается здесь привести в порядок свои представления о том, что такое
подлинная мудрость и что означает обладание ею. «Мудрость, — пишет
он, — это совершенное знание принципов всех наук и искусство их
применения»16. Обладание мудростью состоит, таким образом, в умении
применять установленные принципы наук к жизни, а это в свою очередь
16 Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах. Т. 3. С. 97.
Лейбниц как философ науки
389
означает умение, или искусство, хорошо рассуждать, искусство
открывать новые истины, а также искусство оперативно пользоваться уже
добытыми знаниями. В трактовке этих трех искусств Лейбниц не очень
оригинален: он, в частности, почти без изменений воспроизводит здесь
четыре знаменитых правила метода Декарта, разделяя с картезианцами и
их взгляд на очистительную функцию методического сомнения; он
следует за Гоббсом в понимании взаимодействия анализа и синтеза. Вместе
с тем в эссе есть ряд характерно лейбницеанских идей. Прежде всего это
идея каталогизации человеческих мыслей и синтеза нового знания на
основе комбинаторики простых элементов мышления — идея, впервые
высказанная Лейбницем еще в работе «О комбинаторном искусстве»
(1666). Кроме того, укажем на замечание Лейбница о необходимости
учитывать степени вероятности и совершенно правильную мысль о том,
что вероятность вывода уменьшается пропорционально числу
вероятностных посылок, предвосхитившую один из основных законов
современного исчисления вероятностей. Наконец, в Лейбницевой трактовке
анализа содержится еще одна заслуживающая внимания идея — это идея
совершенного аналитического знания как прямого видения умом сразу
всей совокупности простых признаков (реквизитов) предмета,
составляющих его полное и целостное понятие и далее неразложимых. Такой
вид знания получит потом у Лейбница наименование знания
«адекватного и интуитивного» и всегда будет рассматриваться им как идеал
теоретической науки.
Вопросу о видах знания и разновидностях идей посвящено эссе
«Размышления о познании, истине и идеях» — первая философская
публикация Лейбница (1684) в научном журнале (Лейпцигские «Ученые
записки» — «Acta Eruditorum»). Эта публикация сделала его европейски
известным философом, так же как опубликованная незадолго до этого в
том же журнале статья о дифференциальном исчислении принесла ему
славу выдающегося математика.
Поводом для эссе послужил спор между картезианцами и их
противниками по вопросу об истинности и ложности идей. Между прочим, этот
спор был также одним из поводов создания Джоном Локком «Опыта о
человеческом разумении». В первых же словах своего очерка Лейбниц
заявляет, что решение данного вопроса, предложенное Декартом, не
всегда удовлетворительно. Как видно из последующего изложения, главной
ошибкой Декарта он считает непонимание различия между
действительными «идеями», которые всегда истинны, и «понятиями», которые могут
быть и ложными. Все наши понятия — результат познания и поэтому
зависят от его качества и глубины. Познание же бывает ясным или темным,
отчетливым или смутным, адекватным или неадекватным, символическим
(«слепым») или интуитивным. И вот только интуитивное познание, при
котором все признаки («реквизиты») предмета совместно познаны до
конца, ясно и отчетливо, дает понятие, эквивалентное действительной
идее предмета, ибо часто бывает, что мы понимаем, о чем говорится, и не
имеем идеи этого предмета. В качестве примера Лейбниц приводит
понятие «наибыстрейшего движения», идея которого, как он показывает, явля-
390
Лейбниц как философ науки
ется невозможной. Общий вывод Лейбница — истинность идей состоит в
их возможности, т. е. логической непротиворечивости, а эта возможность
выступает с очевидностью только в интуитивном познании, когда
непосредственно открывается или неразложимая простота понятия, или
совместимость всех его до конца проанализированных реквизитов. Поэтому
нашими понятиями можно безопасно пользоваться, только если доказана
их возможность, а значит, если они имеют не только номинальное, но и
реальное определение, в котором установлена непротиворечивость,
логическая или фактическая реальность их объекта. И здесь Лейбниц упрекает
Декарта, а заодно и схоластиков в том, что они упускали из виду это
различие между номинальными и реальными определениями и часто
выдавали за действительные идеи свои произвольно определенные понятия и
просто выдумки. В связи с этим он считает недостаточным и известное
онтологическое доказательство бытия Бога, введенное Ансельмом Кен-
терберийским и возобновленное в Новое время Декартом. Недостатком
этого доказательства, по Лейбницу, является то, что в нем не определена
предварительно сама возможность понятия всесовершенного существа и
вывод о необходимом существовании Бога делается на основании только
номинального его определения. В духе рационализма и деизма XVII в.
Лейбниц требует строгого соблюдения всех правил логики даже в
вопросах религии и теологии, т. е. там, где в действительности все самое
существенное покоится не на логике, а на вере.
В этой же работе Лейбниц дает свою критику декартовского
критерия истинности. Как известно, критерием истинности Декарт считал
ясность и отчетливость идеи. Однако он не указал, каковы признаки ясности
и отчетливости, и поэтому декартовский критерий сам нуждался в
критерии. Согласно Лейбницу, ясность и отчетливость идеи относятся не к
истинности, а к способу восприятия предмета и в лучшем случае
характеризуют степень определенности этого восприятия. Что же касается
истинности, то ее критерием может служить либо непротиворечивость идеи, либо
соответствие идеи опыту, либо ее выводимость посредством строжайшей
логической дедукции из идей, истинность которых уже установлена.
В заключение Лейбниц высказывает свое отношение к августинист-
ской концепции знания как «видения в Боге», которую в то время
возрождал Николай Мальбранш. Не отвергая ее полностью, Лейбниц в то же
время настаивает на необходимости учитывать собственную
познавательную активность субъекта и в связи с этим едва ли не впервые вводит свою
известную аналогию между человеческим умом и куском мрамора, в
котором имеются скрытые прожилки, подобные прирожденным
способностям ума, раскрываемым под воздействием опыта. Таким образом, в
данном сочинении уже содержится основная мысль Лейбницевых «Новых
опытов». Вообще все без исключения изложенные выше взгляды
Лейбница перейдут в его последующие сочинения, где они получат дальнейшее
развитие, но нередко и просто будут повторяться слово в слово, утомляя
читателя, как навязчивый рефрен. Однако следует простить Лейбницу его
нескончаемые повторы: не надо забывать, что большинство его
сочинений — только черновые наброски, варианты и пробы одних и тех же за-
Лейбниц как философ науки
391
думанных и чаще всего так и не созданных произведений. Лишь немногие
из этих этюдов могут рассматриваться как самоцельные и завершенные.
По этой причине в дальнейшем изложении мы будем концентрировать
внимание главным образом на тех мыслях и оттенках мыслей Лейбница, с
которыми мы прежде не встречались, даже если уже знакомые нам идеи
занимают большую часть содержания того или иного сочинения.
В ином, чем прежде, аспекте предстает тема идей в маленьком эссе
«Что такое идея». Здесь Лейбниц задается целью найти определение
одного из самых расхожих и в то же время самых неопределенных понятий
философии XVII в. Он начинает с того, что отмежевывается от вульгарно-
материалистического понимания идей как «следов в мозгу». Такое
понимание было в его время довольно распространенным, особенно среди
картезианцев «физиологического» направления. Лейбниц сразу заявляет, что ум не
то же самое, что мозг, и идеи существуют в уме, а не в мозгу. После этого
он поочередно отбрасывает другие необоснованные отождествления: он
показывает, что идея не есть акт мысли, восприятие, аффект. Ведь идея —
это скорее некая способность (facultas), чем акт. Однако идея не есть просто
способность мыслить о предмете или мысленно приближаться к нему. Идея
не столько то, что приводит к предмету, сколько то, что его выражает. В
результате, пользуясь своим излюбленным апагогическим методом, в
основе которого лежит доказательство от противного, Лейбниц приходит к
окончательному выводу: идея есть способность мысленно выражать,
репрезентировать предмет; она есть «представитель» предмета в уме.
Заслуживает внимания дальнейшее рассуждение Лейбница о
разнообразных способах выражения (expressiones), где он вплотную подходит к
современному понятию изоморфизма. Отношение идеи и ее предмета он
понимает как такой тип взаимно-однозначного соответствия, когда
выражающее и выражаемое имеют совершенно различную природу. На вопрос
о том, откуда происходит способность идей выражать вещи, совершенно
чуждые им по природе, Лейбниц отвечает в духе своей теории
предустановленной гармонии: соответствие между истинными идеями и вещами,
благодаря которому субъект способен выражать вещи посредством идей,
изначально установлено Богом.
В эссе «О способе отличения явлений реальных от воображаемых»
Лейбниц развивает уже знакомую нам тему критериев истинного в
познании. Однако в данном случае его интересуют не идеи разума, а феномены
чувств — явления чувственного мира. Работа написана тогда, когда
философская система Лейбница уже полностью сложилась. Очень интересно
наблюдать, как на немногих страницах этого эссе эффективно «работают»
почти все основные принципы Лейбницевой системы.
В основу рассуждения Лейбниц кладет свой принцип различения
сущности и существования. Сущность, или возможность, постигается в
отчетливых понятиях разума, существование, или действительность, — в
отчетливых чувственных восприятиях. При этом доказательство
существования предметов оказывается делом намного более сложным, чем постижение
их сущности, в силу того, что познающему субъекту непосредственно
представлены не вещи сами по себе, а их явления (phaenomena), т. е. вещи в
392
Лейбниц как философ науки
субъективной форме восприятия. Как узнать, что в этих феноменах
соответствует реальности, а что чисто субъективно и иллюзорно? Ответ
Лейбница таков: строго метафизического критерия отличения феноменов
реальных от воображаемых не существует, ибо «никаким аргументом не может
быть доказана данность тел»17 и даже данность других субъектов не
доказывается с абсолютной достоверностью, но критерии менее абсолютные и
вместе с тем вполне достаточные для практической жизни все же
существуют. Эти последние Лейбниц и выясняет, сначала исходя из рассмотрения
качеств любого явления, взятого в отдельности (в этом случае признаками
реальности оказываются «яркость», «многогранность», внутренняя
«согласованность» феномена), а затем исходя из того, соответствует или не
соответствует данное явление другим явлениям, и тогда в качестве признаков
реального выступают согласованность феномена с предшествующими и
последующими восприятиями субъекта, согласованность его со всем ходом
жизни этого субъекта и с феноменами других людей. Но лучшим критерием
реальности явления Лейбниц считает его предсказуемость. Однако и этот
критерий, не говоря уже об остальных, не обладает абсолютной
достоверностью и не позволяет с логической строгостью заключить, что
являющийся мне предметный мир существует таким, каким он мне является, и не есть
только иллюзия, подобная упорядоченному сновидению. Одним словом,
Лейбниц убежден, что феноменализм с метафизической точки зрения —
позиция, не преодолимая полностью. И все же переход — и вполне
обоснованный — от явлений к существованиям, или, как сказал бы Кант, к «вещам
в себе», Лейбниц считал возможным.
Прежде всего к заключению о существовании нас приводит первая
простая интуиция, или восприятие собственного мышления, —
декартовское «Cogito ergo sum». Но Декарт не прав, утверждая, что из «cogito» (я
мыслю) следует вывод только о существовании мыслящего (sum). С
такой же очевидностью и первоначальностью из «cogito» следует, что я
мыслю «разнообразное» (varia), т. е. что мое мышление предметно и
направлено на множество различных феноменов, имеющих существование
в моем уме.
Эта поправка к Декарту, уравнивающая достоверность
существования мыслящего субъекта и достоверность существования интенциональ-
ного содержания мысли, весьма показательна. Здесь Лейбниц
высказывает фактически то же, что двести с лишним лет спустя выскажет другой
гносеолог-идеалист, Эдмунд Гуссерль, в своих «Картезианских
размышлениях». Гуссерль выставит против Декарта подобный же
«реалистический» аргумент. Лейбниц предвосхищает и некоторые другие положения
феноменологии Гуссерля, в частности положение о том, что
существование других субъектов мышления более достоверно, чем существование
материальных внешних вещей. Правда, обоснование своей
«феноменологии» он делает совсем другим способом, чем Гуссерль. Как видно из
данного эссе, фундаментом учения Лейбница о феноменах сознания является
17 Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах. Т. 3. С. 112.
Лейбниц как философ науки
393
его спиритуалистическая метафизика — монадология, хотя сам термин
«монада» он здесь не употребляет.
Вопросы «феноменологии» получают дополнительное освещение в
работе «Об универсальном синтезе и анализе», которая может служить
одним из лучших введений в Лейбницеву общую теорию знания. Это
великолепное эссе начинается с рассуждения о синтезе нового знания с
помощью комбинаторики первичных понятий, где Лейбниц выдвигает, в
частности, идею «исчисления предикатов» («обратимых» и
«необратимых»). Новые сложные понятия науки должны получаться из первичных
простых посредством строгих определений, среди которых всегда
предпочтительнее реальные определения, показывающие возможность
(совместимость) комбинации первичных понятий; среди реальных же очень
полезны генетические определения, когда возможность композиции
предикатов доказывается самим построением (порождением) объекта. К
этому последнему типу определений Лейбниц относит определение понятия
«круг», данное Евклидом. Далее следует обычная у Лейбница в таких
случаях критика слишком беззаботного отношения Декарта к
определениям и, наоборот, слишком широкого толкования их значения Гоббсом.
От определений Лейбниц переходит к анализу как методу
прояснения уже полученного синтетического знания и установления его
истинности. Анализ понимается им как процесс, обратный синтезу, — процесс
разложения сложных понятий (идей) и истин на составляющие их
простейшие, далее неразложимые (предикаменты). Всякая истина, по
Лейбницу, выражается в суждении, или предложении (propositio), субъектно-
предикатной формы либо может быть приведена к этой форме.
Необходимым основанием истинности любого предложения является тождество
субъекта и предиката. Поэтому цель анализа — сведение всех научных
предложений к тождественным положениям, каковые только и могут
называться подлинными аксиомами. А все иные так называемые аксиомы
суть на самом деле теоремы и в принципе могут быть аналитически
доказаны. В этом смысле все истинные предложения аналитичны, т. е.
сводимы к тождествам. Аналитичность и есть абсолютный критерий
истинности, относящейся к адекватному познанию. Однако на практике этот
критерий не всегда применим, ибо в большинстве случаев, особенно когда
речь идет не о возможности, а о действительности, анализ не может быть
доведен до конца из-за бесконечной сложности анализируемого предмета.
Тогда, т. е. в случае экзистенциальных или эмпирических предложений,
вступают в силу друше критерии, среди которых такие, как подтверждае-
мость суждения собственным опытом и подтверждаемость опытом других
людей. Отсюда громадное значение искусства «производить,
упорядочивать и связывать опыты». Без этого искусства наши знания о
действительности будут напоминать, заключает Лейбниц, торговую лавку,
переполненную неучтенными товарами.
Такова в общих чертах Лейбницева теория анализа. В разбираемой
работе она представлена хотя и эскизно, но все же достаточно полно.
Кардинальными принципами этой теории являются, во-первых, положение о
субъектно-предикатной форме всякого суждения; во-вторых, принцип ана-
394
Лейбниц как философ науки
литичности всех истин; в-третьих, положение о неприменимости критерия
аналитичности (конечной) для оценки экзистенциальных истин (позднее
Лейбниц назовет их «истинами факта»). Как известно, все указанные
положения легли в основу не только теории познания Лейбница, но и его
монадологии: первому принципу соответствовало учение о монаде как
замкнутом субъекте всех своих свойств; второму принципу — учение об
изначальной запрограммированности всей жизни монады; третьему — учение о
бесконечной сложности отношений монад и их всеобщей связи.
Большой интерес представляют содержащиеся в данной работе
размышления Лейбница о соотношении анализа и синтеза. Предвосхищая
Канта, Лейбниц говорит здесь о более высокой ценности синтеза по
сравнению с анализом для научного прогресса: ведь синтез дает приращение
знания, тогда как анализ только проясняет его. Вместе с тем Лейбниц
тонко замечает, что анализ и синтез — две стороны единого познавательного
процесса и что, во всяком случае, не существует чистого анализа без
синтеза. В этом отношении диалектическая мысль Лейбница идет даже
дальше кантовской. Впрочем, под анализом Лейбниц часто понимает вообще
метод точного и обоснованного научного исследования и рассуждения.
Следующие четыре эссе вносят ряд уточнений в вышеизложенную
концепцию анализа. В наброске «Абсолютно первые истины» Лейбниц уже
пользуется введенной им дихотомией — делением всех научных
высказываний на «истины разума» и «истины факта», или же на «истины
необходимые» и «истины случайные». Сочинение может служить логической
преамбулой к учению о «возможных мирах» и действительном мире как
наилучшем из всех возможных. Лейбниц различает абсолютно первые истины и
истины, «первые для нас». Абсолютно первыми истинами разума (или
«вечными истинами») являются тождественные положения. К ним сводятся все
логико-математические предложения. Однако Лейбниц идет дальше: он
заявляет о существовании абсолютно первых истин факта, т. е. таких, «из
которых априори могли бы быть доказаны все опыты»18. Этой идеей философ
особенно дорожил. Суть ее в том, что фактические, экзистенциальные,
высказывания оказываются истинными только в том случае, если они
удовлетворяют порядку вещей действительного мира, а этот мир, как показывает
Лейбниц, является априори наилучшим из всех логически возможных, что в
понимании философа означает существование в нем максимального
количества вещей при минимальном числе управляющих им законов. Иначе,
говорит Лейбниц, нельзя было бы объяснить, почему не все логически
возможное существует, в то время как все возможное — это «возможно
существующее» и, следовательно, требует существования. Рассуждая подобным
образом, Лейбниц и приходит к выводу, что у всех истин факта имеется
априорное основание, состоящее в принципе наилучшего, «принципе
совершенства», или — как его можно было бы назвать — принципе «минимакс».
Другими словами, из нескольких различных высказываний об одном и том
же факте действительного мира априори истинным будет то, в котором
дается наиболее «экономичное» и целесообразное объяснение этого факта.
18 Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах. Т. 3. С. 123.
Лейбниц как философ науки
395
Если, например, в одном высказывании утверждается, что луч света будет
распространяться по наиболее простому пути, а в других — что он пойдет
какими-то иными путями, то до всякого опыта, априори, можно сказать, что
истинно первое высказывание. Чем объяснить эту поразительную
«рациональность» действий природы, даже когда речь идет о неорганическом
мире? Чем объяснить ее не сравнимую ни с каким человеческим искусством
«изобретательность» в мире органическом? Философ-материалист, не
допускающий никаких сверхъестественных причин, ответит, что искать
объяснение законосообразности и «изобретательности» природы следует только в
ней самой: если принцип наименьшего времени, открытый Ферма, истинен,
то из этого просто следует, что не тратить времени впустую — изначальный
(и в этом смысле «априорный») закон самой природы. Лейбниц же, как
философ-идеалист и метафизик, всюду искал абсолютного, безусловного и не
мог удовлетвориться положением: «Это так потому, что таковы законы
природы». Он всегда спрашивал: а почему они именно таковы? Почему они не
другие? Ясно, что на подобные «последние» или, лучше сказать,
«запредельные» (трансцендентные) вопросы могут быть и столь же
«запредельные», трансцендентные ответы. Последнее «почему?», требование
ультимативной, конечной причины, как показал уже Аристотель, в то же время
означает «для чего?», требование целевой причины. И понятно, что Лейбниц,
считавший действительный мир одним из возможных, а поэтому искавший
для его существования особое основание (почему существует именно этот
мир, а не какой-нибудь другой из возможных), неизбежно приходит в своих
обоснованиях к телеологии, а следовательно, и к лежащей в ее фундаменте
теологии. Однако, будучи гениальным ученым, он сумел и свои
телеологические принципы заставить «работать» на науку, освободив их, разумеется,
незаметно для самого себя, от всякого мистического содержания, предельно
их рационализировав, а фактически сведя свой телеологизм к идее
имманентной рациональности и «компактности» природных законов. Поэтому,
читая Лейбница, следует помнить, что очень часто за напыщенными
словами метафизика и теолога у него скрываются мысли опытного и
проницательного ученого-естествоиспытателя. Вот почему исходя из принципа
совершенства, т. е. из положения о том, что природа действует всегда наиболее
экономными и оптимальными путями, Лейбницу удалось не только
установить закон непрерывности, позволивший ему совершить ряд великих
открытий в математике, и в первую очередь открытие дифференциального и
интегрального исчисления, но и убедительно обосновать ряд физических
законов, например закон сохранения и превращения энергии, а также законы
отражения и преломления света в любой среде. Каким образом принцип
совершенства прилагается Лейбницем к законам оптики, читатель увидит в
следующем эссе, имеющем характерное название «Апагогический опыт
исследования причин».
На первый взгляд в этой работе речь идет о реабилитации
осужденных механистической философией Нового времени конечных, целевых,
причин. Как еще расценить сделанное здесь Лейбницем программное
заявление о том, что «понять основание законов природы возможно, только
396
Лейбниц как философ науки
предполагая существование некоей разумной причины» ? Но отвлечемся
от Лейбницевой теологии и телеологии, переведем внимание на сам факт
описываемого в этом эссе физического открытия — открытия законов
преломления света. И тогда мы поймем, что из всего, что говорит
Лейбниц в этом «анагогическом», возводящем ввысь, опыте, одно, по крайней
мере, имеет определенный смысл: а именно то, что конкретные законы
физики не только не изолированы от принципов метафизики, но даже
всецело им подчиняются и что если все физические явления могут и должны
быть объясняемы посредством фундаментальных физических законов, то
сами эти законы все же не могут быть строго теоретически объяснены
средствами физики и нуждаются в философском обосновании. Поэтому
прав Лейбниц и в том, что принципы философии при их
целенаправленном и разумном употреблении могут подчас становиться эвристическими
принципами в конкретных науках: они могут и должны косвенно, а
иногда и непосредственно определять стратегию научного поиска. Это не
значит, конечно, что философы должны непрерывно вмешиваться в ход
конкретных научных изысканий и диктовать ученым-специалистам
правила работы. Мы говорим здесь, напротив, только о том, что
существенное приращение специального знания вряд ли возможно без объединения
его с общефилософскими методологическими принципами.
Подтверждением этому служит пример самого Лейбница, крупнейшего ученого,
сделавшего все свои большие открытия в науках под непосредственным
влиянием принципов разработанной им философской методологии, в
числе которых (как бы мы к нему ни относились) был и принцип
«архитектонической детерминации в природе», т. е. принцип целесообразного,
наилучшего из возможных мирового порядка.
Вопросу об априорных принципах, регулирующих процесс
мышления и познания, Лейбниц посвятил множество «опытов». Один из них —
эссе «Об основных аксиомах познания» — отличается особой ясностью и
лапидарностью формулировок. Лейбниц предлагает здесь установить в
качестве начал познания не какие-нибудь гипотетические или
конвенциональные принципы, а те аксиомы, на которых зиждется естественный
процесс познающего мышления. Таких аксиом две: принцип
противоречия и принцип достаточного основания. Эти принципы являются
аксиомами потому, что, будучи сами исходными и поэтому недоказуемыми,
они обеспечивают доказательство и обоснование всего остального. Закон
исключенного третьего Лейбниц, как видно из текста, считает другой
записью принципа противоречия, а закон тождества — фундаментом
формальной истинности и обоснованности мышления, ибо все тождественные
предложения, говорит Лейбниц, сами по себе истинны и не требуют
доказательства, а все другие предложения, требующие доказательства,
истинны постольку, поскольку сводимы к тождественным, т. е. аналитичны,
или же поскольку их предикат содержится в субъекте. Таким образом,
согласно Лейбницу, любое истинное предложение оказывается или
абсолютно, или «виртуально» тождественным, откуда следует, что истинность
19 Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах. Т. 3. С. 127.
Лейбниц как философ науки
397
любого предложения, и необходимого, и случайного, может быть
доказана априори путем разложения терминов. А это и означает, что у всякой
истины обязательно есть разумное основание, хотя в истинах факта это
основание не исключает случайности («контингентности») и
противоположное тому, что в них высказывается, всегда остается возможным.
Принцип достаточного основания Лейбниц справедливо считает «одной
из самых важных и плодотворных аксиом во всем человеческом
познании»20. Так через идею анализа Лейбниц связывает в один узел все
основные законы формальной логики.
Однако можно ли считать, что установленные Лейбницем в данном
очерке «основные аксиомы» и законы формальной логики исчерпывают
(как он сам думал) принципы реального процесса человеческого
мышления? Конечно нет. Ведь реальное мышление управляется не только и не
столько формальнологическими законами, сколько законами
диалектическими, выражающими тот факт, что ни в природе, ни в реальном
мышлении вовсе не существует никаких абсолютных тождеств и никакой
абсолютной непротиворечивости и что, наоборот, все полно различий и
противоречий. Лейбниц ошибается, когда отождествляет формальное и
реальное, абстрактное и конкретное мышление. Мы, конечно, не можем
требовать от Лейбница того, к чему более чем столетие спустя только
подойдет вплотную Гегель. Но его все же можно упрекнуть в том, что
свободно и очень эффективно оперируя идеей бесконечности, идеей развития
и идеей всеобщей связи в математике, физике, психологии и в самой
метафизике, он в то же время не заметил значения этих диалектических идей
для понимания процесса мышления и остался в этом позади даже таких
своих отдаленных предшественников, как Платон и Николай Кузанский.
По достоинству оценить диалектику мышления Лейбницу, пожалуй,
помешала слишком большая приверженность логике Аристотеля.
Последняя работа этого цикла — «Среднее знание» — ставит
интереснейший и широко обсуждавшийся в XVII в. вопрос о том, имеется ли
априорное основание будущих случайных, обусловленных свободным
выбором, событий. Проблема была выдвинута в связи со спором,
разгоревшимся между янсенистами и молинистами по поводу возможности
согласовать божественное предопределение и свободу человеческой воли.
Теолог-иезуит Л. де Молина предложил компромиссную теорию
«среднего знания» (Scientia media): Бог заранее знает, что выберет человек,
однако он не предопределяет выбора, и основанием выбора всегда остается
свободная человеческая воля. Божественное априорное знание случайных
будущих событий, обусловленных выбором человеческой воли, и есть
«среднее знание», ибо оно является промежуточным между априорным
знанием необходимости и апостериорным знанием случайности.
Лейбниц опровергает концепцию «среднего знания» молинистов,
опираясь на свой закон достаточного основания и принцип аналитичности
всех истин. С его точки зрения, Бог имеет априорное знание не только
того, что произойдет в будущем, но и того, почему это произойдет. Иначе
20 Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах. Т. 3. С. 141.
398
Лейбниц как философ науки
говоря, ни одно случайное событие, ни одно решение человеческой воли
не может состояться без достаточного априорного основания, которое в
конечном счете заключается в божественном предопределении всего к
наилучшему. Выбор человеком данной, а не иной возможности в будущем
изначально содержится в том абсолютном понятии, которое Бог имеет о
творимом им мире, поскольку это понятие, охватывающее прошлое,
настоящее и будущее мира, для Бога полностью аналитично. А что Богу
известно как имеющее быть, то им и предопределено.
На первый взгляд во всем этом споре Лейбница с янсенистами и мо-
линистами нет ничего, кроме изощрённой схоластики вроде той, что
выразилась когда-то в безнадежных попытках выяснить, может ли
Всемогущий Бог создать камень, который сам не сможет поднять. Напомним,
однако, еще раз, что читать Лейбница нужно, нередко переводя его слова с
языка схоластической теологии на язык рациональной философии. В
конце концов теологизированный язык его сочинений — это во многом дань
эпохе; вспомним, что даже материалист Фрэнсис Бэкон сплошь и рядом
пользовался теологическим языком и включил «естественную теологию»
в число рациональных наук. Дело в том, что в XVII в. просто еще не
существовало философского языка, независимого от языка теологии, а
богословская проблематика, хотя и в сильно рационализированной форме, еще
включалась в проблематику философии. Но и в теологии Лейбниц
руководствовался своими философскими принципами. Причём применение
этих принципов к теологическим вопросам давало подчас неожиданные
результаты для самой философии.
Итак, отвлекаясь в приведенном рассуждении Лейбница от
теологического контекста, получим следующую логико-метафизическую
проблему: если уже сейчас истинно, что события, которые произойдут в
будущем, произойдут именно так, а не иначе, то можно ли считать их
«случайными», т. е. такими, которые могли бы случиться и иначе? Ведь если
события действительно произойдут именно так, то в любое время истинно
утверждение, что они произойдут именно так. Но если всегда истинно,
что они произойдут именно так, то как же они смогут произойти иначе?
Нелегкая проблема! Ключ к ее разрешению, по-видимому, в этом
«могут», в корректном употреблении термина «возможность». Но, во всяком
случае, неразрешенность данной проблемы легко может привести на
позиции однозначного детерминизма, граничащего с унылым,
парализующим фатализмом. К таким именно выводам вела Лейбницева теория
аналитичности истин факта. Поэтому-то в других произведениях Лейбницу
пришлось немало поработать, чтобы исключить возможность подобных
выводов. Нитью Ариадны, позволяющей выйти из лабиринта фатализма,
стала для него идея бесконечности, точнее — идея бесконечной
аналитичности случайных истин. Рассмотрение ее в этическом контексте
выходит за рамки нашего очерка. Скажем только, что и эта идея не дала
Лейбницу желаемого результата.
Гносеологические исследования отнюдь не были для Лейбница
делом чистой теории. Как и многим его современникам, они понадобились
ему в первую очередь для всестороннего обновления и усовершенствова-
Лейбниц как философ науки
399
ния наук, таких, как логика, математика, механика, космология, динамика,
оптика, биология, этика, политическая теория и т. п. Во времена Лейбница
во всех этих областях знания тон задавали картезианцы (исключая
Англию), пользовавшиеся славой новаторов и реформаторов. Авторитет
Декарта, несмотря на критику его учения со стороны Гоббса, Гассенди,
Спинозы и других известных мыслителей, был в XVII в. самым высоким
среди ученых и философов. Но в конце столетия он был существенно
поколеблен. Виновниками этого были в основном Ньютон, Локк и Лейбниц.
Из них наиболее основательную и всестороннюю критику учения Декарта
и картезианцев дал Лейбниц. В ходе критики он проявил себя как
подлинный философ науки в современном смысле этого слова. Поэтому мы
посчитали необходимым включить некоторые антикартезианские сочинения
Лейбница в наш обзор.
Лейбниц не написал против Декарта такой фундаментальной
книги, какую он написал против Локка («Новые опыты о человеческом
разумении»). И все же не Локк, а именно Декарт был главным объектом
Лейбницевой критики в продолжении всей жизни ганноверского
философа. Одной из причин этого была нескрываемая неприязнь Лейбница к
декартовской школе, которая к концу XVII столетия все более
вырождалась в догматическую секту. Отношение Лейбница к картезианцам
аналогично его отношению к новым схоластикам. Ничто так не чуждо ему,
как слепое преклонение перед авторитетами, а картезианцы, отвергнув
по примеру учителя все схоластические авторитеты, на деле просто
заместили их авторитетом Декарта и превратились в его послушных
эпигонов. Догматизм же, в какой бы форме он ни выступал, всегда
приносит огромный вред науке. «Ничто, — пишет Лейбниц, — не
препятствует столь сильно научному прогрессу, как рабское, не знающее меры
усердие эпигонов в философии»2.
Но чтобы избавиться от этих эпигонов (а их много было тогда в
Германии), необходимо было развенчать созданный ими миф о
непогрешимости Декарта. Поэтому, как мы уже не раз видели, Лейбниц при
каждом удобном случае указывает на изъяны декартовского учения. Следует
признать, что чаще всего эта критика верна, глубока и всегда очень
остроумна, хотя подчас она довольно пристрастна, а иногда может показаться
какой-то навязчивой идеей вроде «Карфаген должен быть разрушен!». О
чем бы ни рассуждал Лейбниц, стоит ему вспомнить о Декарте, как ход
его рассуждений сразу же поворачивается в критическое русло. К Локку
Лейбниц относится значительно спокойнее.
Разрушению декартовского «Карфагена» Лейбниц посвящает и ряд
специальных работ: «Заметки о жизни и учении Декарта», критическое
эссе «О природе тела и движущих сил», а также самое большое
антикартезианское произведение Лейбница — «Замечания к общей части
Декартовых «Начал». Мы не имеем возможности дать читателю разъяснение
всех многообразных аспектов представленной в этих сочинениях критики
декартовской системы. Так что упомянем только о некоторых из них.
21 Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах. Т. 3. С. 162.
400
Лейбниц как философ науки
Лейбниц интересовался философией Декарта еще до своего
пребывания в Париже (1672-1676) и, как видно из его юношеских работ, уже
тогда не во всем с ней соглашался. В Париже он познакомился с ней более
близко, получив даже доступ к декартовскому рукописному наследию.
После возвращения из Франции он приступает к систематической критике
всего учения Декарта. Из сочинений Лейбница, написанных в период от
1677 до 1702 г., видно, насколько эта критика углубляется и расширяется
по мере обогащения мысли Лейбница конкретно-научными знаниями и
прояснения его собственного мировоззрения.
Наибольший интерес представляет Лейбницева критика
декартовской методологии. Прежде всего Лейбница не удовлетворяет принцип
«сомнения» и принцип «cogito». Методическое сомнение Декарта, как он
считает, всего лишь эффектный прием, рассчитанный на публику, и
Декарт напрасно уверяет, что он подвергает предварительному сомнению
все наше знание, ибо он вряд ли сомневается хотя бы в самих законах
мышления, без доверия к которым он не смог бы даже и рассуждать о
сомнении. Нет у него и достаточных оснований сомневаться в
достоверности чувственных данных, ибо сами по себе чувства никогда не
обманывают, ошибаемся же мы, когда неправильно их истолковываем. Вообще же в
пресловутом сомнении Лейбниц скорее видит декартовское
«самомнение», нескромное желание отбросить все то, что было установлено
раньше другими, и построить все здание науки, начиная с фундамента,
самому. Такое высокомерие, замечает Лейбниц, не слишком хорошо
характеризует Декарта как личность. А главное — его абсурдные автаркические
претензии так и остались не осуществленными. Как заявляет Лейбниц, в
большинстве своих идей — ив области конкретных наук, и в области
философии — Декарт оказался не оригинальным. Он «великолепно
использовал для своих целей чужие мысли, хотя... было бы лучше, если бы он не
скрывал этого»22. Скрытыми источниками философии Декарта Лейбниц
считает Платона, Демокрита, Аристотеля, Ансельма, Фому Аквинского,
Бруно; в конкретных науках — Кеплера и Снеллиуса (в физике), Гэрриота
и Феррари (в математическом анализе) и др. Лейбниц не забывает, правда,
и о действительных заслугах великого французского мыслителя: о его
достижениях в геометрии и механике, в алгебре и теории магнетизма, в
некоторых разделах философии. Но все же критика явно превалирует.
О критике Лейбницем декартовского «cogito» мы уже говорили. В
работах данного цикла она уточняется, и здесь прямо утверждается, что
первым самоочевидным следует признать существование не только
мыслящего субъекта, но и мыслимого объекта, ибо существование
объективного вытекает из наличия в мысли разнообразия. Знаменитые четыре
правила метода Декарта Лейбниц считает слишком общими и тривиальными,
подобными тому правилу, которое часто иронически приписывается
алхимикам: возьми чего надо сколько надо, смешай как надо и получишь
что надо! Ибо ни одно из своих правил Декарт не конкретизировал и не
показал, как им надо пользоваться. Он не дал признаков ясного и отчетли-
Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах. Т. 3. С. 159.
Лейбниц как философ науки
401
вого, не уточнил, в чем должно состоять сведение сложных проблем к
простым, не дал способа восхождения от простого к сложному, не
показал, почему надо делать только полные перечни, а не избирать из всего
только нужное, отделяя его от ненужного. Таким образом, метод Декарта
страдает, по Лейбницу, явной незавершенностью, недостаточной
конкретностью и малой эффективностью. Он больше похож на свод благих
пожеланий, чем на строго научный метод.
В вопросах метафизики Декарт тоже чаще всего
неудовлетворителен. Особенно возражает Лейбниц против излишне частого, на его взгляд,
обращения Декарта в философии к понятию Бога. Лейбниц считает
недостойным философа полагать, что истинность необходимых, логико-
математических, предложений зависит от воли Бога. Столь же нелепо
думать, как Декарт, что человеческий разум нуждается в особой
божественной помощи, чтобы отличать истинное от ложного, реальное от
кажущегося. В связи с этим Лейбниц отвергает идею Декарта о необходимости
обратиться к понятию «правдивости Бога» для доказательства реальности
внешнего мира: аргумент «Бог — не обманщик» — это уловка тех, кто не
хочет собственным разумом разобраться в содержании явлений и найти
порождающие их причины, а к тому же эта уловка сама по себе не спасает
от феноменализма и «иллюзионизма».
Анализируя в своих «Замечаниях» пункт за пунктом содержание
главного философского труда Декарта — «Начала философии», Лейбниц
не пропускает ни одной ошибки, ни одной слабости, ни одного
закамуфлированного софизма — а всего этого в «Началах» довольно много.
Дуализм Декарта плохо обоснован и не выдерживает критики. Заключать о
существовании двух независимых и противоположных по природе
субстанций на том лишь основании, что свойства души (мышления) не те же
самые, что свойства тела (протяжения), неправильно, ибо прежде надо
доказать, что мыслящая субстанция лишена протяженности или
протяженная — мышления и что мышление и протяжение не являются только
свойствами одного и того же субъекта, нуждающимися друг в друге.
Такого доказательства ни сам Декарт, ни картезианцы не дают. Кроме того,
они необдуманно объявляют субстанциями то, что на самом деле может
быть только свойствами, так как мышление есть свойство мыслящего, а
протяжение — свойство протяженного. Из других пороков этой
метафизики Лейбниц отмечает необоснованное отождествление протяженности с
материей при полном игнорировании динамических свойств материи;
сведение всех причин заблуждения к одной, и очень сомнительной, —
свободе воли (он показывает, что возможность заблуждения кроется и в
несовершенстве человеческого разума).
Но еще больше, чем метафизика, возражения Лейбница вызывает
декартовская физика, как общая, так и специальная. Нетрудно заметить, что
главным ее дефектом, из которого проистекают почти все другие, более
частные ошибки, Лейбниц справедливо считает абсолютизацию принципов
механики и геометрии (механицизм, редукционизм). Положив в основание
физики понятие материи как чистой протяженности, т. е. сведя свойства
материи к геометрическим, Декарт, разумеется, закрыл себе путь к научно-
402
Лейбниц как философ науки
му объяснению всех ее негеометрических свойств и вынужден был даже
для объяснения законов ее движения (которые на самом деле легко
выводимы из полноценного понятия материи) прибегнуть к идее божественного
перводвигателя, что Лейбниц считает совершенно недопустимым:
«...картезианцы, не признавая в теле никакого активного... начала,
вынуждены всякое действие приписывать не самому телу, а только Богу, к
которому они в данном случае прибегают, а это не философское решение»23.
Геометрическая физика Декарта, исключившая из природы
внутреннюю силу, оказалась мало способной к открытию истинных законов
движения и совершенно «бессильной» в анализе законов взаимодействия тел,
т. е. законов толчка, давления, светового преломления и т. п. Критикуя
физику Декарта, Лейбниц одновременно противопоставляет ей свою
динамическую физику (особенно в последнем сочинении этого цикла), вводя
такие характерные для него понятия, как «первичная сила» и
«производная сила», «энтелехия» (взятое у Аристотеля), «мертвая сила», «энергия»,
«активная потенция» и другие, которые играют большую роль и в Лейб-
ницевой монадологии. Одним из самых интересных моментов полемики с
картезианцами является демонстрация Лейбницем эвристической силы
открытого им «закона непрерывности» (Lex continuitatis); применение
этого принципа к декартовской теории толчка сразу же обнаруживает ее
вопиющую несостоятельность. Чтобы избавить читателя от
недоразумений, напомним: замечательный Лейбницев закон непрерывности,
гласящий, что при непрерывном уменьшении различия в данных должно
уменьшаться различие и в искомых, и служащий фундаментом всей
точной науки, ничего общего не имеет с плоским эволюционизмом, и не
следует путать качественную скачкообразность с разрывностью.
Таковы некоторые идеи антикартезианских сочинений Лейбница.
Главное внимание уделено в них проблемам научной и философской
методологии. В более популярной форме эти проблемы трактуются в
работе «Пацидий — Филалету». Многое из того, что относится к
философии науки, проясняет переписка Лейбница. Хотя она не содержит
каких-либо новых важных идей Лейбница, которые уже не были бы
знакомы нам по предыдущим сочинениям, все же эта переписка помогает
более полно воссоздать сложный образ великого философа и мыслителя,
а также прояснить происхождение некоторых из его идей и отношение к
ним современников. Среди корреспондентов Лейбница, как известно,
были почти все крупнейшие ученые тогдашней Европы, были и
меценаты и даже коронованные особы. Большой интерес представляет
переписка с Мальбраншем и Бейлем, письма Лейбница к платонику Фуше и
королеве Пруссии Софии-Шарлотте. Письма к последним двум
адресатам имеют отношение к теории познания Лейбница и проясняют его
решение вопроса о соотношении чувственного и рационального.
Переписка с Мальбраншем представляет двойную ценность — как ключ к
пониманию соотношения двух различных, но кое в чем и общих,
философских концепций и как редкий пример длительного общения двух знаме-
23 Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах. Т. 3. С. 224.
Лейбниц как философ науки
403
нитых мыслителей. В процессе чтения этой охватывающей три
десятилетия переписки неизбежно возникает впечатление о явном
превосходстве научного гения Лейбница, что в последних письмах признает и сам
Мальбранш. Примерно то же можно сказать и о переписке с Бейлем,
которая помимо всего прочего интересна тонкими рассуждениями о
принципе непрерывности.
Наконец, обратимся к тем произведениям Лейбница, в которых
наиболее четко выражена главная мечта всей его жизни — мечта о создании
универсальной, или всеобщей, науки (Scientia generalis). В цикл этих
произведений входит более десятка работ, включая письма. Мы не будем
характеризовать каждую из этих работ в отдельности, а воспроизведем
общую схему рассуждений, детализируя только отдельные места.
Лейбниц не был первым, кто задумался над оптимальным способом
построения и организации науки. Он на это и не претендует. Проект
«великого восстановления наук» Бэкона с юных лет был для Лейбница
источником вдохновения. Но Бэкон предполагал построить все здание новой
науки на одном лишь эмпирическом и индуктивном основании,
недооценив значение дедукции и математики. Декарт, Уилкинс, Дальгарно, Вал-
лис отстаивали идею математизации всех знаний и создания на этой
основе «всеобщей науки» (Mathesis universalis), однако они не показали, как
она может быть создана. В числе своих предшественников Лейбниц
называет также Полициано, Альштеда, Юнга, Глэнвилля и некоторых других,
видевших необходимость универсальных научных энциклопедий. Но все
это были лишь благие пожелания. Первым, кто указал путь
осуществления этих проектов, был все-таки Лейбниц. Правда, если судить по его
сочинениям, соответствующие идеи Лейбница тоже шли ненамного дальше
проектов и программ, но эти программы были уже достаточно конкретны,
а кроме того, подкреплены важными примерами.
«Под всеобщей наукой, — пишет Лейбниц, — я понимаю то, что
научает способу открытия и доказательства всех других знаний на
основе достаточных данных»24. Следовательно, в основу универсальной
науки должен быть положен правильный метод, который, по Лейбницу,
включает в себя теорию открытия — комбинаторику — и теорию
доказательства — аналитику. Кроме того, применение всеобщей науки
предполагает наличие «достаточных данных», т. е. принципов, «которые уже
очевидны и из которых без других допущений может быть выведено то,
о чем идет речь»25.
Всеобщая наука априорна и может быть выведена из одного только
разума, хотя ее применение имеет непреходящее практическое значение и
должно, как ничто другое, послужить человеческому счастью. Чтобы
доказать это, Лейбниц строит такую дедукцию. К счастью приходят те, кто
достигает совершенного, оптимального состояния. Поэтому необходимо
знать, в чем оно состоит. А оно состоит в том, чтобы совершать свои
действия с наибольшей легкостью. Для этого же нужно достоверно знать
24 Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах. Т. 3. С. 439.
23 Там же.
404
Лейбниц как философ науки
свою собственную природу и природу вещей. Но такое достоверное
знание, всегда готовое к применению, и есть всеобщая наука.
Таким образом, идея всеобщей науки тесно связана у Лейбница с его
принципом совершенства, оптимальности. В свою очередь оптимальность
самой науки означает для него ее универсальность, максимальную
упорядоченность, оперативность и практичность. Соответственно требование
совершенства переносится и на все то, что составляет науку как целое:
оптимальными должны быть язык науки, ее метод, способ обучения,
организация ее институтов, ее связь с жизнью общества и государства.
Чтобы создать такую науку, необходимо преобразовать
существующую. Для этого нужно произвести критический анализ всех
накопленных человечеством знаний, отделяя в них истинное от ложного,
полезное от бесполезного. Затем следует составить энциклопедию всех
полезных (ценных для теории и практики) истин, которая содержала
бы, с одной стороны, историю открытий, тщательно описанных, дабы
каждый раз был виден не только результат, но и способ открытия, а с
другой стороны, предметный и алфавитный указатели всех доказанных
истин и решенных задач, чтобы не повторять уже сделанного и легко
находить открытое другими. Необходим «точный учет того, что мы
приобрели», ибо, как метафорически выражается Лейбниц, «география
земель известных указует пути для дальнейших завоеваний новых
земель»26. Таким образом, прежде всего требуется навести порядок в уже
достигнутом.
Для дальнейшего продвижения следует путем анализа разложить
отобранные научные данные на их составляющие, вплоть до простейших
элементов — принципов и идей, истинность которых представала бы
перед нами со всей очевидностью. Это был бы своего рода каталог
человеческих мыслей, расположенных в таком порядке, который соответствовал
бы порядку человеческих ценностей, чтобы на первых местах
располагались принципы наиболее значимые для жизни людей, после чего можно
приступить к формированию оптимального научного языка. И здесь мы
подошли к той идее, которую Лейбниц считал главным открытием своей
жизни, — к идее «универсальной характеристики».
Лейбницевы термины characteristica и character трудны для перевода.
В общем «характер» — это «знак», но не всякий знак, а такой, который
выражает обозначаемую вещь зрительно, наглядно. Как говорит сам
философ, это «характеристический», «наглядный» или «изобразительный»
(speciosum) знак. Другими словами, это знак, в какой-то мере передающий
характер предмета, т. е. символ. Искусство создавать такие
«оптимальные» знаки, или символы, и пользоваться ими как раз и есть
«характеристика». Если же этими знаками-символами будут обозначены все
элементы человеческого знания, все предикаменты понятий и истин, то получим
«всеобщую», или «универсальную», характеристику, хотя нередко
Лейбниц под этой «характеристикой» понимает и сам способ исчисления зна-
26 Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах. Т. 3. С. 462-463.
Лейбниц как философ науки
405
ков. Он определяет ее, например, как «самое экономичное употребление
человеческого разума с помощью символов и знаков»27.
Рассматривая различные типы знаков, которые когда-либо
применялись для обозначения и передачи человеческих мыслей, Лейбниц
приходит к выводу, что оптимальные «характеры» пока еще не придуманы, но
нечто похожее на них представляют собой иероглифы, цифры,
алгебраические знаки, хотя никакие из них не могут быть признаны
универсальными и адекватными своим предметам. Унификация математических
знаков, связанная с перенесением алгебраической символики в геометрию
(аналитическая геометрия Декарта), была большим прогрессом. Однако
оптимальная «геометрическая характеристика» все же должна отличаться
от алгебраической, и Лейбниц ссылается на свой опыт разработки нового
геометрического символизма. Вообще же, пока не найден оптимальный
способ символического выражения мыслей, лучшим средством их
обозначения можно считать буквы и «характеристические числа», особенно
простые числа, комбинацией которых, как хочет показать Лейбниц,
можно выразить все элементарные и даже сложные суждения, пользуясь
законами формальной логики. Ведь «нет ничего такого, что не допускало бы
выражения через число»28.
Когда же каждое элементарное понятие и суждение будет выражено
«характеристически», т. е. символически, и каталог, или алфавит
мышления, приобретет самый компактный и операциональный вид, можно будет
приступить к открытию новых истин и даже новых методов и наук. Ибо,
говорит Лейбниц, почти повторяя слова Бэкона, «частные открытия я не
считаю для себя главным, моя высшая цель — усовершенствовать
искусство открытия в целом»29, и еще: «один метод заключает в себе
бесконечное множество решений» °.
Искусство открытия состоит в комбинаторике, но и аналитика играет
здесь большую роль, так как она ведет к открытию самих принципов наук.
Комбинаторика создает новые сложные понятия на основе известных
простых. Имея все простые, можно получить и все сложные. Иначе
говоря, все возможное теоретическое знание может быть получено путем
методического исчисления предикатов — идея, которую в начале нашего
века возродит Бертран Рассел применительно к математике и
несостоятельность которой будет потом косвенно доказана Куртом Гёделем. Но
Лейбниц верил, что его «универсальная характеристика» вместе с
искусством комбинаторики и аналитики позволит свести все научные
рассуждения и теоретические открытия к математическим расчетам и тогда все
споры ученых будут разрешаться очень легко: чтобы узнать, кто прав, они
просто возьмут перья в руки и скажут: «Давайте посчитаем!» Тогда
научная литература, возможность непомерного роста которой Лейбниц
предвидел как великое бедствие, станет ясной и компактной и больше не будет
нужды в огромных фолиантах ученых трудов, где крупицы реального
21 Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах. Т. 3. С. 497.
28 Там же. С. 412.
29 Там же. С. 491.
30 Там же.
406
Лейбниц как философ науки
знания тонут в пучине бесполезного рассуждательства, ибо, «чем
совершеннее наука, тем менее она нуждается в толстых книгах»31.
Лейбниц, конечно, понимал, что один он такую науку не построит.
Поэтому он то и дело говорит о необходимости объединения для этой
цели сил ученых всего мира, взывает к «республике ученых», убеждая
своих коллег оставить сектантские распри и взаимные нападки и
посвятить себя общему делу по примеру геометров, которые не считают себя
ни евклидовцами, ни архимедовцами, а имеют только одного учителя —
истину. Он взывает к политикам, чтобы они наконец поняли, какую
огромную пользу несет хорошо организованная наука народам и
государствам. Как и другие современные ему философы, такие, как Декарт и Гоббс,
он возлагает большие надежды на просвещенных монархов, составляет
для них проекты академий и систем образования. Он наивно верит, что
наука и просвещение сами по себе, безо всяких социальных переворотов
способны преобразовать человеческое общество и направить его на путь
непрерывного прогресса. Лейбниц и в этом остается идеалистом. Вера во
всемогущество науки по существу перерастает у него в одну из первых в
истории сциентистских утопий. Расписывая в деталях, как можно с
помощью науки быстрейшим образом достигнуть общественного
благоденствия и как для этого следует организовать саму науку, Лейбниц даже
устанавливает некоторые конкретные сроки: пять лет на составление алфавита
мышления, два года для того, чтобы упорядочить важнейшие для
человека области знания — метафизику и этику. Нужен только мир и союз
ученых, да еще единство ученых и политиков. Ведь сколько уже сделано!
Сколько великих открытий за последние столетия! Книгопечатание,
компас, микроскоп; открытия в математике, механике, оптике, столь много
обещающие успехи в химии, историографии, словесности. А сколько
может быть еще открыто нового, когда всеобщая наука сделает способным
открывать каждого!
И все же оптимизм Лейбница не безграничен. Он с горечью
констатирует и то, что в ученом мире царствуют тщеславие и раздор и «все
помыслы направлены на то, чтобы сломать, а не построить». Он видит, что
род человеческий по-прежнему бредет в потемках без всякой путеводной
нити, во всем полагаясь на фортуну, что власть имущие равнодушны к
истине и меньше всего думают, как облегчить участь подданных.
Наконец, Лейбниц видит, как благодаря той же науке совершенствуются силы
разрушения — силы войны, которые, как он мудро замечает, при
достаточном развитии могут когда-нибудь стать неуправляемыми и повернуть
человечество назад, от науки к варварству. Это замечание Лейбница и
сегодня звучит очень актуально. Любовь к миру, как и любовь к истине,
по-видимому, вообще есть свойство настоящего ученого и подлинного
адепта Мудрости, каковым несомненно и был Лейбниц.
31 Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах. Т. 3. С. 487.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
А
Абеляр Петр, 72,315, 316
Аванш Марий, 319
Августин Аврелий, 8, 24, 66, 107,
109, 131, 134, 141-144, 148, 163,
164, 166, 173, 185, 194, 209, 214,
233, 247-266, 277-279, 310, 314,
315, 317, 320, 322-324, 332, 333,
335-337, 341, 346, 348-350, 354,
359-368,378
Аверроэс, 325, 330, 332-334, 340,
341
Авицеброн, 332, 333, 347
Авиценна, 324-327, 329, 330, 332,
333, 337, 338, 340, 341, 349, 350,
353
Адальболд из Утрехта, 319
Аделярд Батский, 315
Адеодат, 141
Акусилай, 12
Акций, 121
Александр Афродисийский, 71,192
Алкмеон из Кротона, 19,99
Алкуин, 314
Альберт Великий, 315, 317, 330, 334,
335,372
Альбин, 282
Аль-Кинди, 325
Аль-Фараби, 325,326,332
Альфред, король, 284,314,317
Альштед, 403
Амвросий Медиоланский, 142, 148,
249
Амелий, 139
Аммоний Саккас, 123, 138,139
Аммоний сын Гермия, 54,141,321
Анаксагор, 100, 101,123,198,199
Анаксарх, 222
Анаксимен, 99,101
Анахарсис, 12
Андроник Родосский, 45
Анникерид, 135
Ансельм Кентербсрийский, 66, 72,
109, 110,278, 312,333,335,341,
343, 344,359, 360, 363, 390,400
Антиох из Аскалона, 152, 154, 155,
184
Антипатр, 170
Антоний, 175
Аппий Клавдий, 126
Апулей, 103, 282
Арат, 165,205
Аристид-философ, 63
Аристоксен, 155
Аристотель, 7, 8, 11-14, 21, 24, 39,
43-46, 51, 53, 54, 62, 67, 69, 70,
71, 76, 82, 84, 87, 90-98, 101-103,
107, ПО, ИЗ, 123, 124, 134, 136,
139, 149, 155, 162, 183, 184, 189,
191, 192, 195, 199, 220, 222, 223,
261, 269, 270, 278, 281-283, 288,
296, 304, 306, 308-311, 313, 318,
321, 324-353, 361, 364, 365, 367,
371,378,397,400,402
Аристофан, 42, 136
Аркесилай, 142,271
Арно Ж., 320
Арнобий, 63
Архилох, 12, 121
Архимед, 282, 308, 310
Архит, 310
Аттик, 148,152,159,161,229
Афанасий Александрийский, 64, 278
Афинагор-философ, 63
408
Указатель имен
Б
Бакунин Η. Α., 35
БаличК., 331
Бальб, 160, 163-165, 168, 169, 205,
209
Беда Достопочтенный, 313,314
Бейль, 402,403
Бекет Томас, 315
Бёме Яков, 61, 67,131
БердяевН., 61,70
Беренгарий Турский, 72
Беркли, 7
Бернар Клервосский, 66,278, 315
Беттони Э., 373
Биант, 12
Бово,319
Боккаччо, 131,284,317
Бонавентура, 66, 67, 278, 333-335,
342, 347, 356, 360, 370, 378
Бонасеа Б., 374
Боэций Дакийский, 334
Боэций Северин, 7, 66, 71, 81, 107,
174, 182, 233, 267, 278-324, 332-
335,344,350,351,356,357
Бруно Джордано, 42,67, 68, 76,400
Бруно из Корви, 314, 315
Брут, 148,186
Буасье Г., 149
Булгаков С, 61,70, 71,147
Бэкон Роджер, 72,307, 315,335,372
Бэкон Фрэнсис, 7, 72, 148, 166, 177,
202, 343, 382,387, 398,403,405
В
Вакхилид, 12, 15
Валентин, 57-61
Валла Лоренцо, 148, 307, 317
Валлис, 403
Валуа,319
Ван Стееберген, 335
Варрон, 157, 158, 187, 209, 249, 309,
313
Вебер Макс, 36
Веллей, 160, 161, 162, 168, 192, 197,
213
Вергилий, 30, 121, 126, 128, 158,
208,227,231,293
Верекунд, 249
Викторин, 107,142
Витрувий, 121
Вольтер, 157,158,217,222,380
Вольф, 70
Г
Гален, 99
Галилей Галилео, 68, 76
Галлиен, 139
Ганнибал, 216
Гассенди, 399
Гегель, 7, 8, 42, 61, 69, 70, 73, 108,
114,144,236,374,397
Гегесий, 48
Гедель К., 405
Геллий Авл, 173
Генрих VIII, 317
Генрих Гентский, 333, 350, 361, 362,
366,367,370,372,376
Гераклид Понтийский, 10, 20, 37,
170
Гераклит из Эфеса, 10-12, 14, 15, 20,
38, 43, 55, 62, 100, 101, 136, 199,
223
Герберт епископ Реймса, 314
Гермий, 53
Геродот, 15
Герсон Иоганн, 317
Гесиод, 12, 13, 17, 30, 120, 121, 190,
199,200
Гёдель К., 405
Гиббон Э., 284, 309
Гиерокл, 53
Указатель имен
409
Гийом Коншский, 278, 315
Гильберт Порретанский, 72, 315,319
Гиппократ, 99
Гирций, 174,175
Глэнвилль, 403
Гоббс Томас, 384,386, 388,389,393,
399,406
Гольбах, 157,158
Гомер, 75, 77, 78, 81, 100, 120, 121,
190,199,227,272
Гонорий Августодунский, 315
Гораций, 121,158,231,293
Горгий, 48
ГордианШ, 139
Готфрид из Фонтана, 333, 362, 372,
376
ГрабманнМ.,308,319
Григорий Великий, 278, 314, 319,
333
Григорий Назианзин, 64,278
Григорий Нисский, 64,277,278
Гроссетест Роберт, 72,278,315, 372
Гуго Сен-Викторский, 335
Гуссерль Эдмунд, 33, 74, 114, 332,
339,392
Гэрриот, 400
д
Да Сеттимелло Энрико, 315
Давид Александрийский, 54
Дальгарно, 403
Дамаский, 53,101,141,283
Данте, 31, 284, 307,316, 317,319
Декарт Рене, 72-74, 109, 144, 149,
315, 367, 385-390, 392, 393, 399-
403,405,406
Демокрит, 99,106,149,400
Демосфен, 149,180,216
Деций, 227
Джоберти, 25,68
Диагор, 212
Дидро, 157, 158
Дикеарх, 155
Диоген Вавилонский, 161,170
Диоген Лаэрций, 10, 12, 20, 37, 88,
100,162
Диоген-киник, 88
Диодор Кронос, 182
Диодор Перипатетик, 154
Диодор Сицилийский, 10
Диодот, 153
Дион Сиракузский, 135
Дионисий Ареопагит, 19,65,67,145,
147,278,333
Дионисий Младший, 135
Дионисий Старший, 135,222
Диофант, 310
Достоевский Ф. М., 35
Друз, 222
Б
Евбулид, 48
Евгемер Сицилийский, 189, 207,
208,212
Евклид, 308, 321
Евномий, 64
Еврипид, 14, 15, 82-87, 100, 101,
120,136,199,223,227,233
Евсевий Кесарийский, 63,277
Евтихий, 309
Елизавета Тюдор, 284
Ерм, 322
Ж
Жерсон Жан, 284
Жильсон Э., 320,322, 331,373
3
Зелинский Ф., 149
Зенон из Китиона, 155
Зенон Сидонский, 152,161
410
Указатель имен
Зенон Элейский, 43, 44, 123, 222,
293
ЗюссВ., 150,151,228
И
Ивер Петр, 145
Иероним, 148,166,278
Иоанн Дамаскин, 65,278,333
Иоанн Златоуст, 278
Иоанн Солсберийский, 315
Ипатия, 53
Исидор Севильский, 313, 314
Исократ, 10
к
Калликл, 48,136
Каллимах, 121
Каллисфен, 170
Камилл, 227
Калий, 310
Кант Иммануил, 7, 8, 23-25, 27, 33,
42,46, 52, 68,69, 72-76,110,1
ΠΙ 14, 118, 144, 150, 151,201, 202,
267,363
Кардано Джироламо, 317
Карнеад,48, 142, 151, 152, 162, 167,
170, 176, 180, 184, 186, 187, 194,
201,202,218,271
Картон Р., 320
Кассиодор, 174, 280, 282, 283, 308,
313,319,320,322
Катон Старший, 155, 158, 181, 182,
208,227-232,293
Катон Утический, 175,186
Катулл, 121,233
Квинтилиан, 159,174
Кеплер Иоганн, 76,400
Кир Младший, 231
Кирилл Александрийский, 64
Клавдий, 227
Клеанф, 155
Клеобул, 12
Климент V, 331
Климент Александрийский, 10, 60,
63,277, 324
Клингнер, 321
Клитомах, 151, 152, 162, 167, 170,
176,194,201,209
Конт Огюст, 73
Коплстон Ф., 334,372,374
Котта Аврелий, 160, 162-164, 166-
169,201,204,209,214,219
Кох Г., 145
Красе, 160
Кратет, 48
Кратил, 136
Кратипп, 154
Критолай, 154
Ксениад, 48
Ксенократ, 103, 191
Ксенофан, 13,100,189,194,199,200
Курсель П., 320-322
Кьеркегор Серен, 73, 351
Λ
Лактанций, 63, 148, 164, 174, 212,
214,277,278
Левкипп, 106
Лейбниц Готфрид, 6-8, 24, 68, 70,
72,74,76, 109, ПО, 117, 144, 149,
306, 312, 313, 343, 354, 356, 366,
367,379-406
ЛеклеркМ., 169
Лелий, 154,166,204,208,228
Ленин В. И., 35
Лесбия, 233
Лисий, 229
Локк Джон, 72,385, 389,399
Лосев А. Ф., 112,151,207,227
Лососий В., 147
Лукреций, 123, 127, 128, 157, 158,
172,188,210-212,224,293
Указатель имен
411
Луллий Раймунд, 72
Луцилий Гай, 208,209
M
Маймонид Моисей, 332,333
Макиавелли Никколо, 130,148
Макробий, 173,312,321
Максим Исповедник, 65,147,278
Малевич Казимир, 32, 33
Мальбранш Николай, 67, 144, 385,
390,402,403
Марий Аванш, 319
Марий Гай, 222
Маркс Карл, 35,144
Марстон Роджер, 335
Марцелл, 222
Марциан Капелла, 309,314
Матфей из Акваспарты, 334,335
Мелан Роберт, 315
Микеланджело Буонарроти, 75
Минуций Феликс, 164,277
Мисон, 12
Момильяно Α., 320
Моммзен Т., 149
Моника, 142,248,249
Мор Томас, 284,307,317
Η
Несторий, 309
Низолий Марий, 380-382,385-387
Николай Кузанский, 19, 42, 50, 67,
68,69,76,147,397
Никомах,308,321
Ницш Ф., 320
Ницше Фридрих, 13,73,74,358
Нума, 204
Нуцубидзе Ш. И., 145
Ньютон Исаак, 76,399
О
Овидий, 121
Оккам Уильям, 72,144,278, 316
Олимпиодор, 17, 54,283
Ориген, 60,63,277,278
Орлов Е., 149
Отгон III, 314
Π
Пакувий, 121
Палама Григорий, 147
Панетий, 154
Парменид, 43, 44, 106-108, 112, 123,
191,192
Паскаль Блез, 46,67,68, 351
Патриций, 142
Пеккам Иоанн, 334,335
Пера П., 145
Периандр, 12
Петр Ломбардский, 315,333,378
Петрарка, 144,148,256,284,317
Петроний, 129
Пико делла Мирандола, 317
Пиндар, 12-15,37
Пиррон,24,271
Пирс Чарльз, 371
Писистрат, 12
Питтак, 12
Пифагор, 10-21, 27, 37-40, 55, 68,
71,76,203,269
Плавт, 207
Платон, 7-10, 12-14, 17, 19-21, 23,
34, 35, 37, 38, 4<М2, 44, 48, 50-
55, 61, 62, 67-71, 75, 76, 84-91,
94-96, 98, 101-103, 106-115, 123,
124, 127, 134-136, 138-140, 149,
152, 155, 161, 184, 189, 192, 199,
200, 220, 223, 227, 237, 261, 269-
271, 273-275, 278, 281, 282, 288,
296, 299, 308-311, 313, 325, 336,
348, 350,397,400
412
Указатель имен
Плиний Старший, 314
Плотин, 8, 36, 42, 50-55, 58, 59, 68,
75, 76, 101, 123, 125, 134, 136,
138-144, 146, 275, 288, 310, 332,
336
Плутарх Афинский, 53
Плутарх Херонейский, 102, 103,136,
158,172
Покровский М, 149
Полибий, 208,209
Поликлет, 75
Полициано, 148,317,403
Порфирий, 20, 50, 53, 54, 138, 139,
141, 142, 277, 281, 283, 308, 310,
321,322,333-335
Посидоний, 55, 103, 128, 153, 154,
162, 163, 165, 170, 171, 176, 177,
196,206
Присциан, 313
Продик, 189,194,212
Прокл, 16, 19, 53, 54, 76, 136, 141,
145, 146, 288, 296, 320, 321, 322,
332,356
Прокопий Кесарийский, 313
Проперций, 121
Протагор, 48, 82, 90, 189, 198, 212,
216
Прусий, царь, 216
Птолемей Клавдий, 282, 308, 310,
321
Пэтч Г., 307
Ρ
Рамус Петр, 385
Рассел Б., 405
Регул, 222,227
Ремигий, 314
Ричард из Мидлтауна, 335
Ричард Сен-Викторский, 335
Ромул, 204
Росцелин Иоанн, 316
Рутилий Руф, 222
РэндЭ.,319,320
Рюйсбрук, 67
С
Саллюстий, 53,188,224
Сафо, 12,13
Секст Эмпирик, 199,207,271
Сенека, 123, 124, 126-128, 233, 282,
293,310,311
Сигер Брабантский, 317,330, 334
Силк Э., 320
Симмах, 249,280,282,283,319,322
Симонид Кеосский, 15
Симпликий, 54,141
Синезий, 53
Сириан, 53,141,321
Скалигер Юлий, 318
Скот Иоанн Дуне, 7, 67, 68, 71, 72,
110, ИЗ, 130, 144,278,316,331-
334,336,337,339-371,378
Снеллиус, 400
Сократ, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 38-41,
47, 48, 50, 51, 61, 67, 68, 69, 71,
76, 87, 112, 135, 136, 157, 178-
182, 189, 198, 199, 222, 223, 228,
233,269,282
Соловьев В., 8,61, 70,71,147
Солон, 12,37,98
Соран,310
Софокл, 13, 15, 80, 81, 82, 87, 120,
223,227
Спиноза Бенедикт, 68, 72, 312, 372,
399
Стасей, 154
Стефан Александрийский, 54
Стиглмайр И., 145
Стильпон,48,180
Стратон, 155,326
Суарес Франциско, 72,318,326,382
Сузо,67,131
Сулла, 160
Указатель имен
413
Сцевола Авгур, 154, 166,204, 222
Сцевола Понтифик, 160, 187, 198,
209,221,222,227
Сципион Старший, 222,227
Сципион Эмилиан, 154, 155, 166,
181,204,208,221,222,227
Τ
Тайлер,321,322
Тассо Торквато, 36
Татиан, 63
Таулер,67,131
Теннис Ф., 372
Теодорих Король, 281-283, 309
Теофраст, 155,326
Тертуллиан, 58, 63, 166, 204, 214,
276-278
Тибулл, 121
Тит Ливии, 227
Тодиско О., 372
Толстой Л. Н., 35,223
Томазий Яков, 385
Торопов В. Н., 35
У
УзенерГ.,308,311,320,321
Уилкинс, 403
УтченкоС.Л., 150,228
Φ
Фабий Максим, 222
ФабийПиктор, 170
Фабриций, 227
Фалес из Милета, 12, 13, 37, 55, 123,
161,192
Фанний, 154
Федр, 152,153,159,161
Фемистий, 71
Феогнид, 13,15,37
Феодор Азинский, 53
Феодор Атеос, 212
Феокрит, 121
Ферекид Сиросский, 101
Феррари, 400
Филипп Македонский, 216
Филист, 170
Филодем, 161
Филон Александрийский, 55, 56, 62,
63,196,287
Филон из Лариссы, 151, 152, 155,
162,176,184,201
Филопон Иоанн, 54,279
Фихте, 42,69,70
Флобер, 223
Флоренский П., 8, 70,147
Фома Аквинский, 67, 71, 72, ПО,
144, 147,278, 307, 311, 315-318,
330, 331, 333-336, 341-344, 346-
348, 350, 356, 357, 361, 362, 364,
370-372,376,378,400
Фразимах, 48
Франс Анатоль, 284
X
Хайдеггер Мартин, 33, 82, 114, 332,
372
Халцидий, 312
ХантГ., 150,151
Хилон, 12
Хинкмар, 314
Хонигман Э., 145
Хрисипп, 124, 128, 155, 170, 176-
186, 196
ц
Цезарь Юлий, 159, 169, 174, 175,
186,216
Целий, 170
Целлер, 150
Цельс, 277
Цицерон Квинт, 170,171
414
Указатель имен
Цицерон Марк Туллий, 7, 37, 39,
107, 123, 127, 128, 142, 143, 148-
177, 180-190, 192, 194, 195, 196,
198, 200-209, 212-233, 253, 270,
287, 293, 294, 296, 306, 309, 310,
313,314,321,381
Ч
ЧачсриЭ., 150
Чосер,284,307,317
ш
Шекспир, 284
Шеллинг, 42,69,70, 73, 76,114
Шестов Л., 39
Шлейермахер, 114
Шопенгауэр Артур, 73,358
э
Эгидий Римский, 334
Экхарг, 61,67,131,147
Элий, 54
Эмилий Павел, 222
Энний, 121, 165, 205, 207-209, 226,
227,230
Эннодий,280,313,319
Эпикур, 127, 153, 162, 163, 171, 177,
185-187, 192, 196, 197,210,211,
213,214,219,295
Эпименид, 12
Эпихарм, 12,15,136
Эразм Роттердамский, 145,148
Эриугена Иоанн Скот, 147, 278,
314-316,332,335
Эсхил, 12, 15, 47, 78-80, 82, 87, 101,
120,223
ю
Юлиан, 53,141
Юм Дэвид, 46,68,72,73,201
Юнг, 403
Юстин, император, 283
Юстиниан, 135,145,312
Юстин-философ, 63,277
Я
Ямвлих,53,141,288,309,321
Список замеченных опечаток
Страница
3
14
15
15
72
72
126
134
134
223
Строка
Название
главы
12 снизу
2 сверху
4 сверху
2-й абзац
4-й абзац
2 сверху
Название
главы
Конец 1-го
абзаца
Середина
Было напечатано
Великая тетракида
платонизма
(fyai sofos)
В трагедии Еврипида
«Антигона» эта мысль...
Впрочем, в другой своей
трагедии Евриттид...
Последователь Фомы
Аквинского Раймунд Луллий
дополнит этот оккамистскии
проект идеей исчисляющего
термины механического
устройства — проект...
Лейбниц сам считал себя
обязанным как школе Ок-
кама, так и последователям
Фомы Аквинского — Лул-
лию и Суаресу.
У Вергилия...
ВЕЛИКАЯ ТЕТРАКИДА
ПЛАТОНИЗМА
...с великой тетракидой
(«четверицей») платонизма.
...эсхиловских Прометея,
Ореста и Антигоны.
Следует читать
Великая тетрактида
платонизма
(fyai sophos)
В трагедии Софокла
«Антигона» эта же мысль...
Впрочем, Еврипид в одной
из своих трагедий...
Младший современник
Фомы Аквинского
францисканец Раймунд
Луллий еще до Оккама
дополнит аналогичный
проект идеей исчисляющего
термины механического
устройства — проект...
Лейбниц сам считал себя
обязанным как школе
Оккама, так и последователям
Фомы Аквинского, а также
Луллию и Суаресу.
У Энния...
ВЕЛИКАЯ ТЕТРАКТИДА
ПЛАТОНИЗМА
...с великой тетрактидой
(«четверицей») платонизма.
...эсхиловских Прометея,
Ореста и Антигоны Софокла.