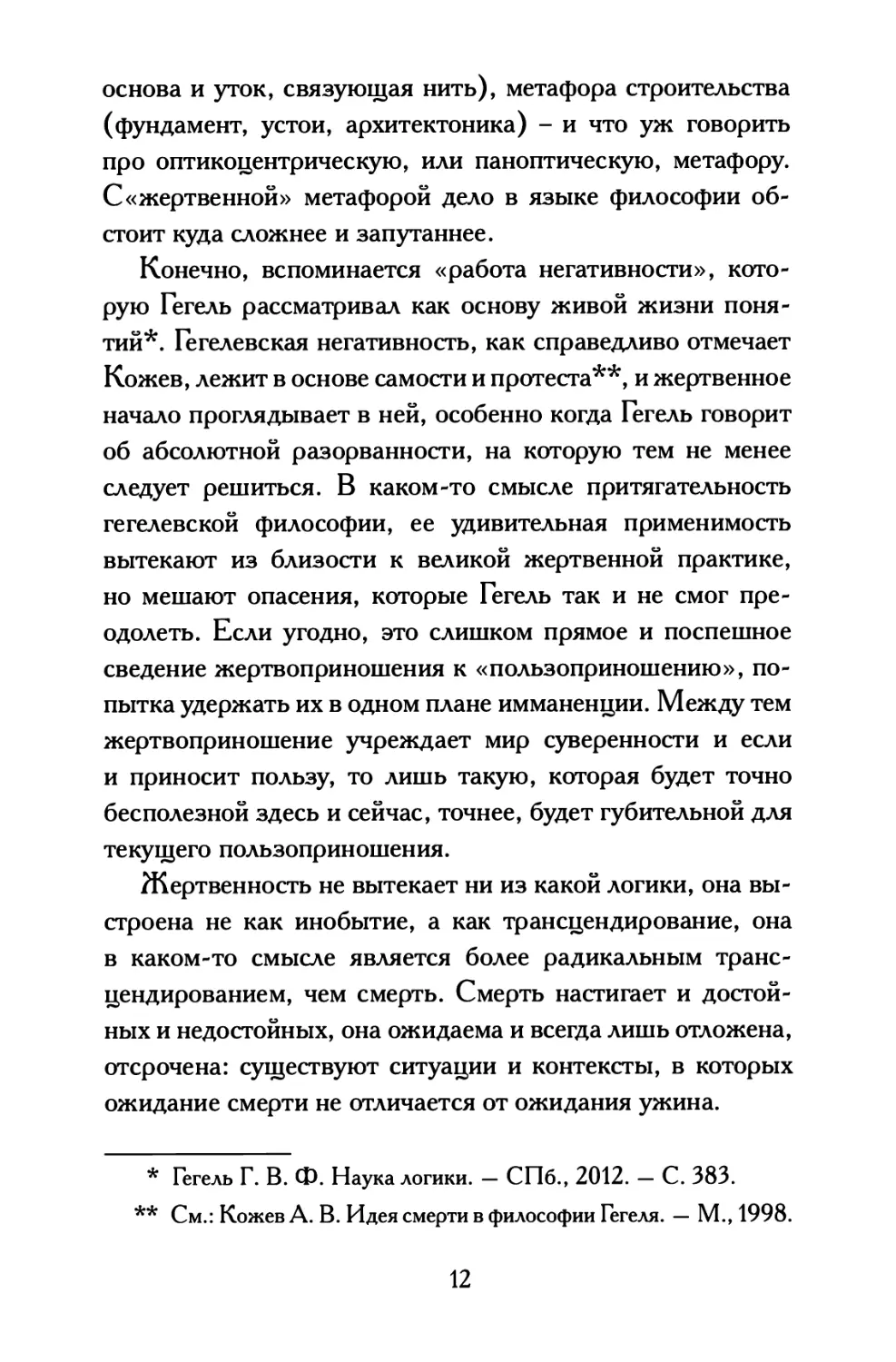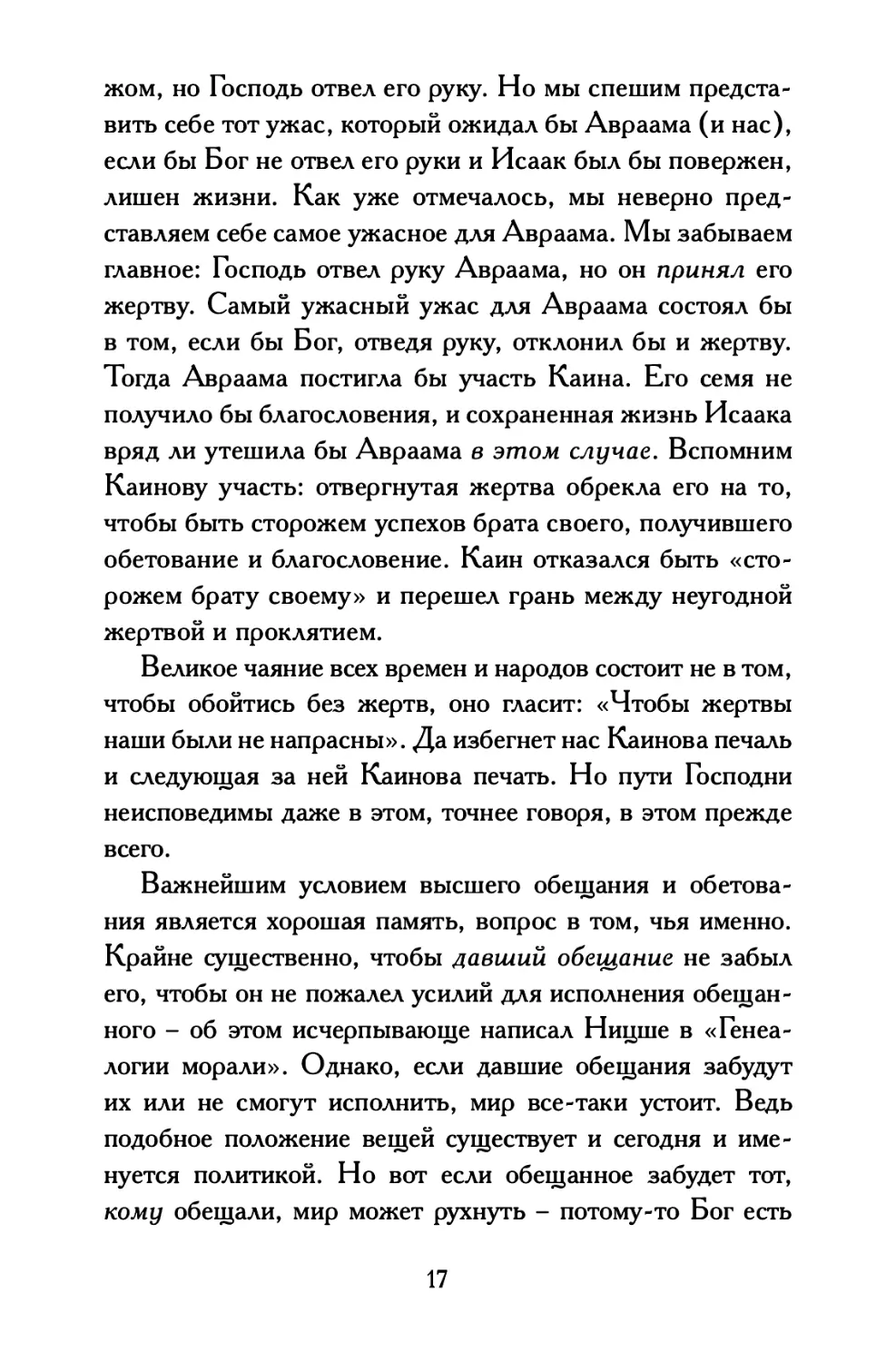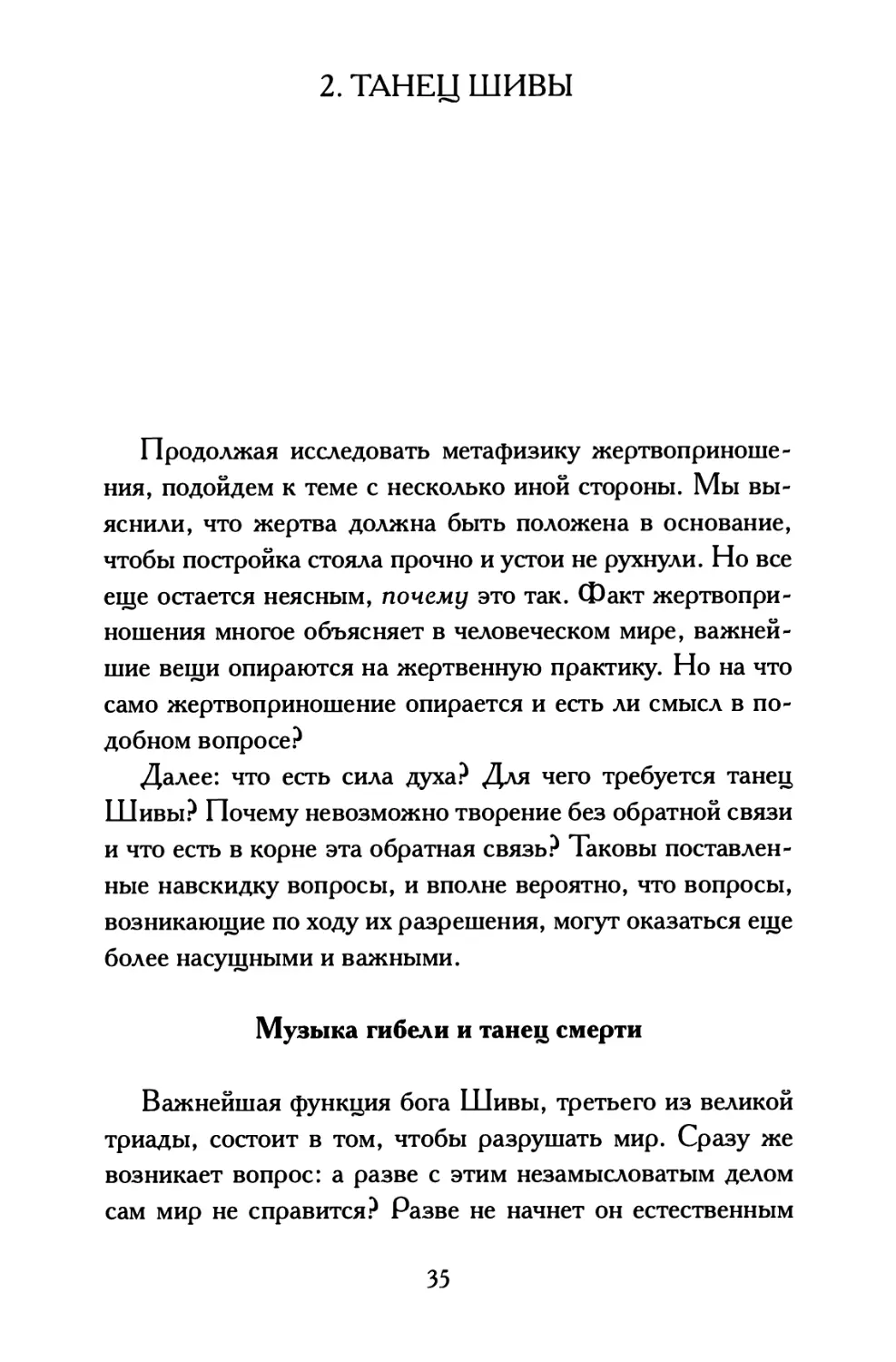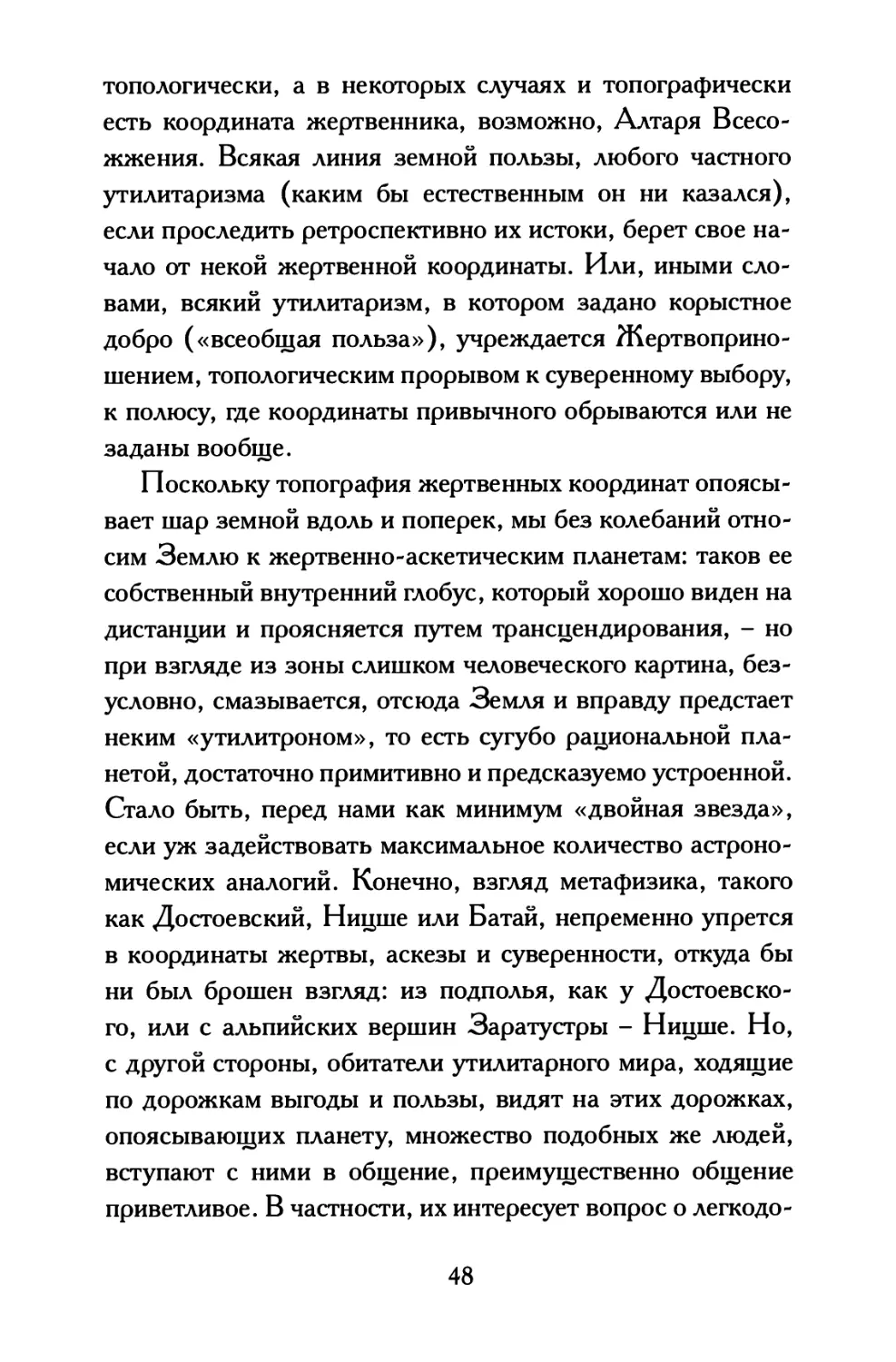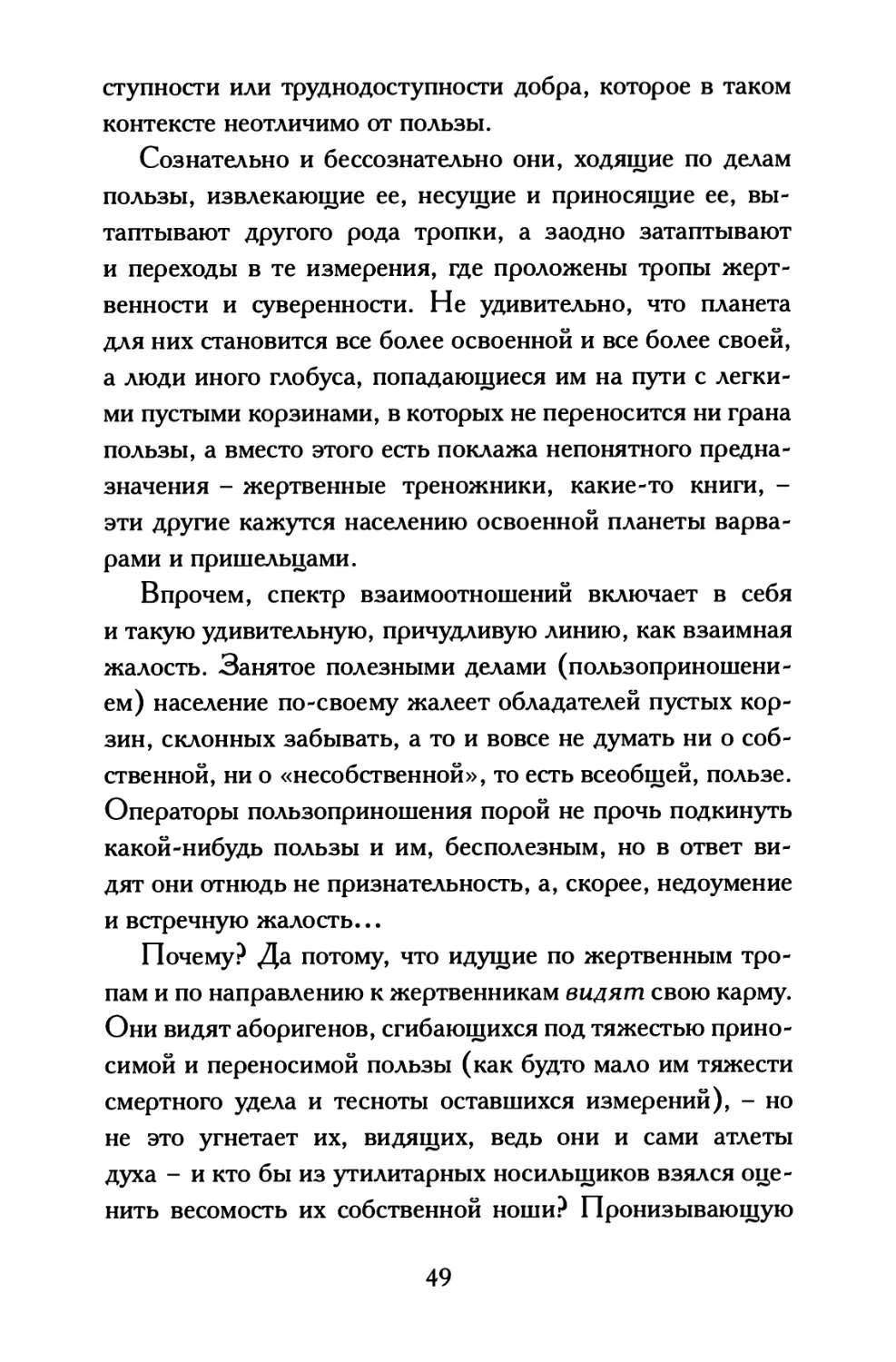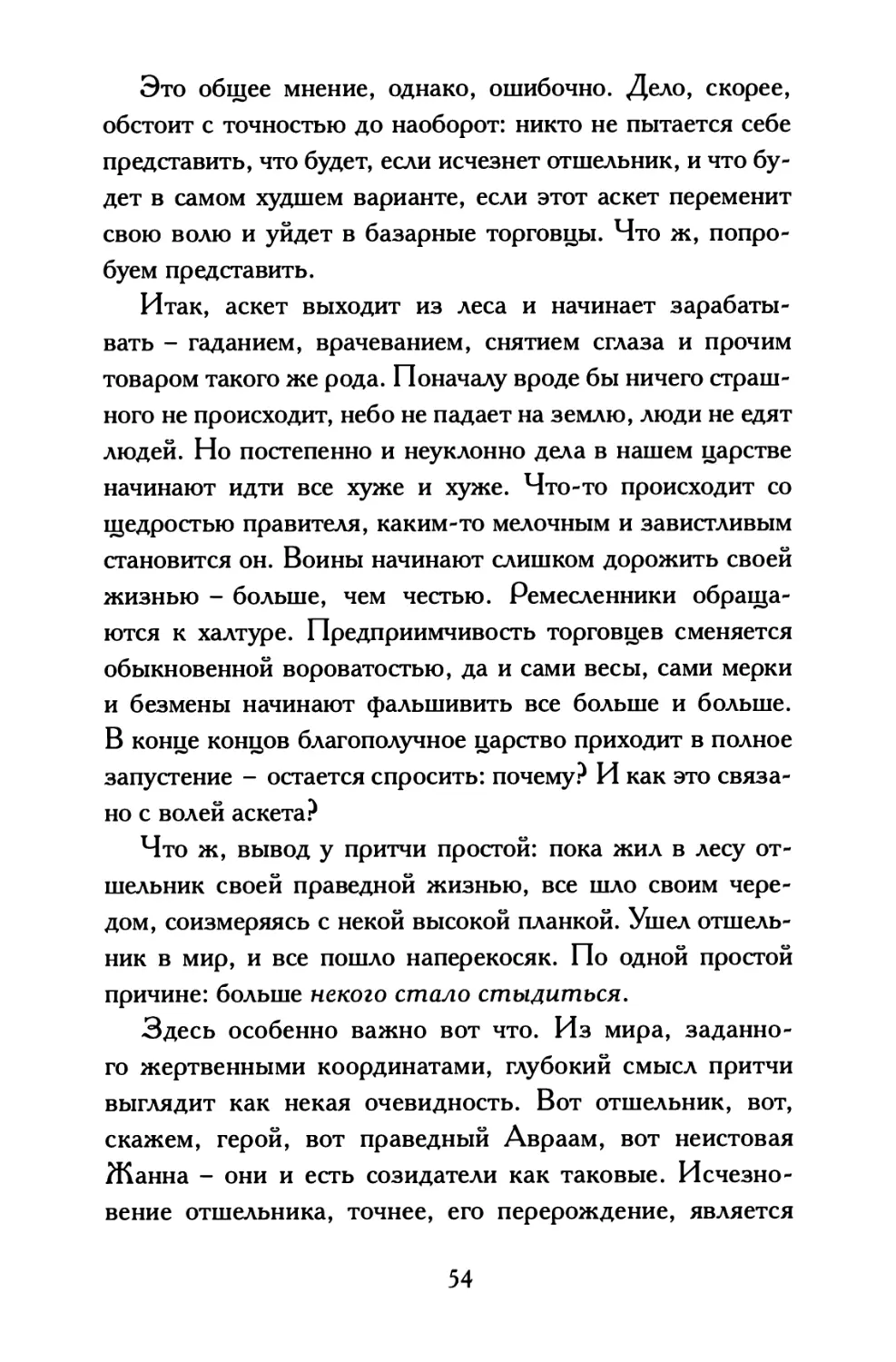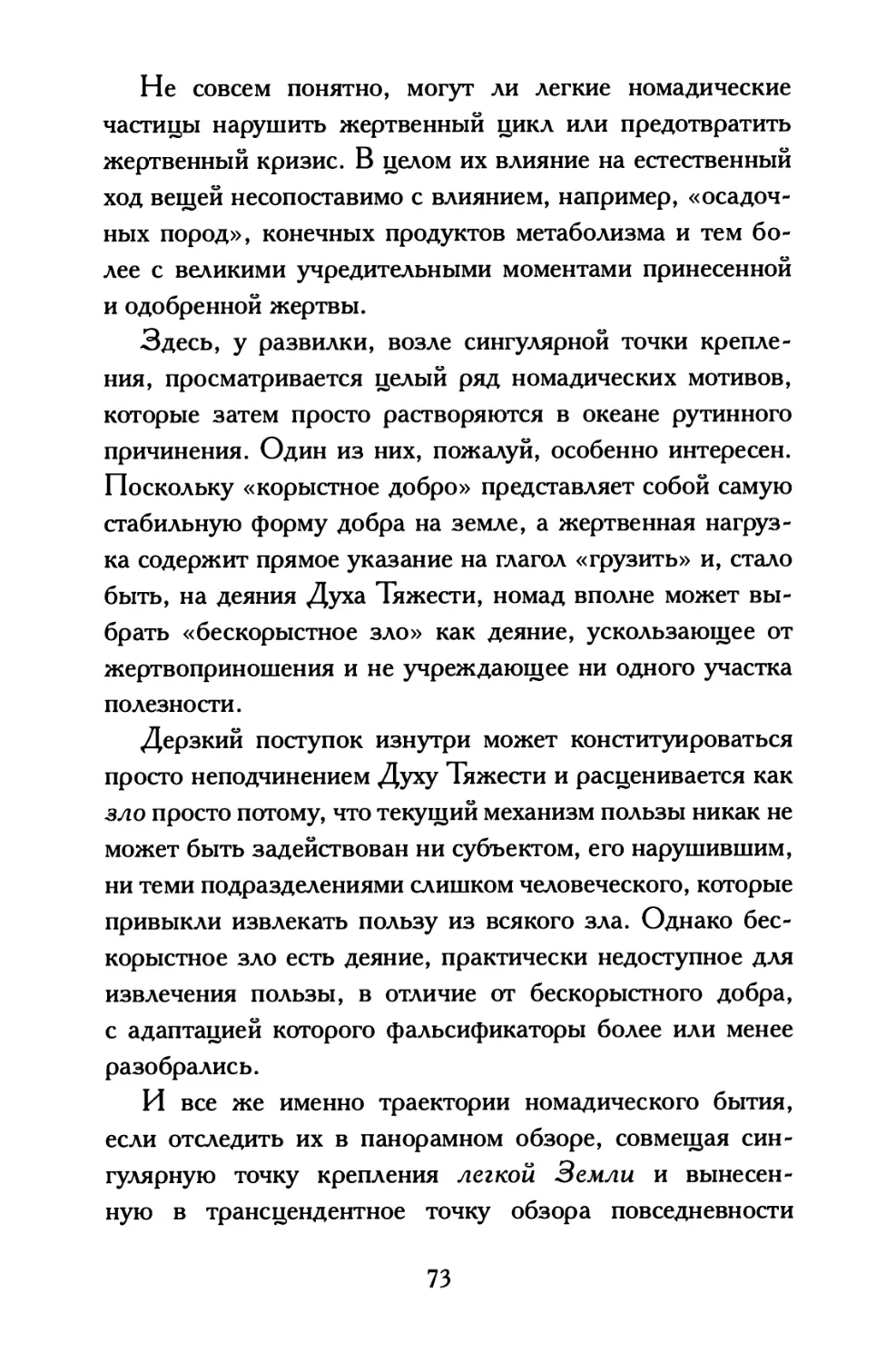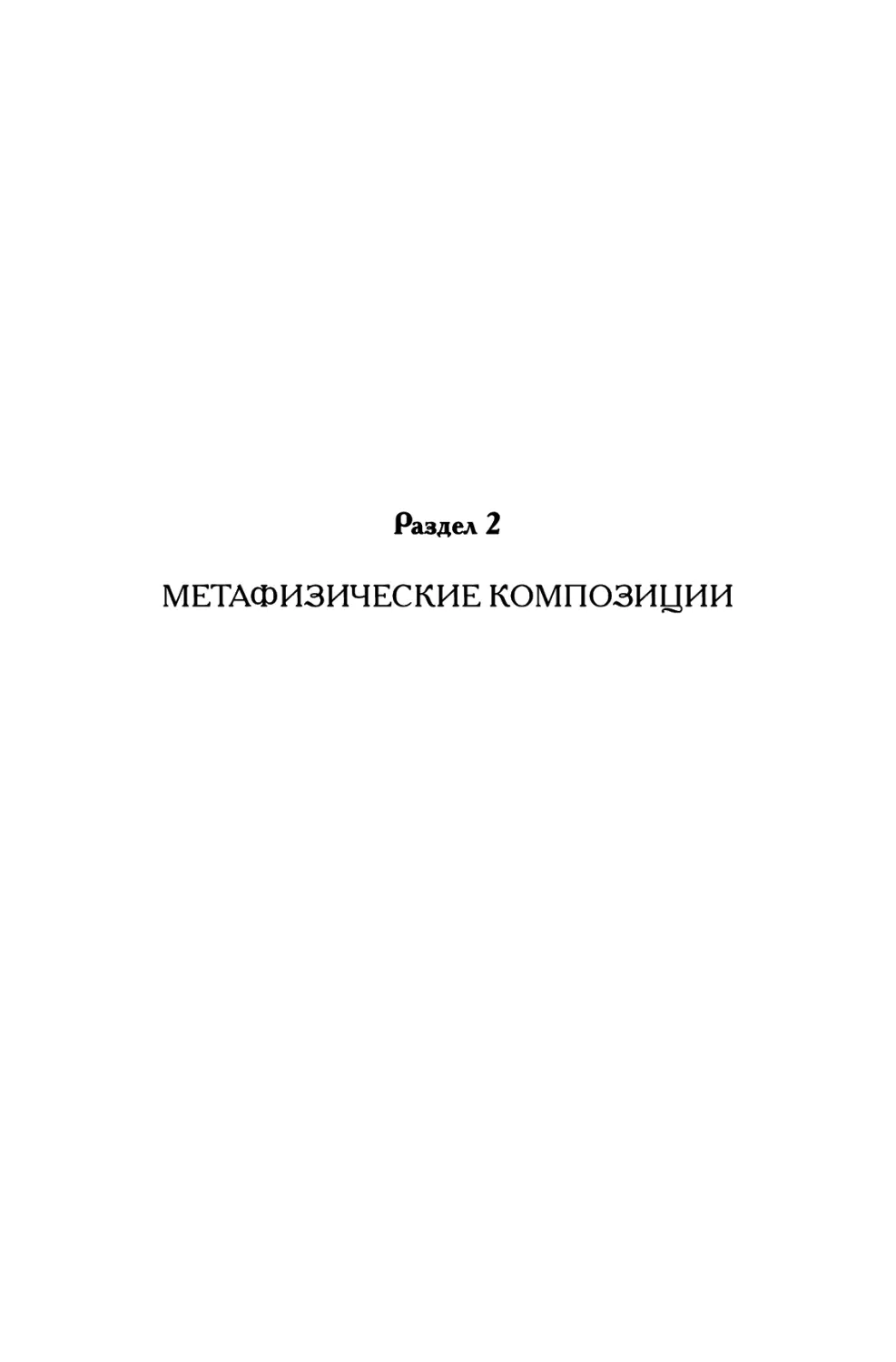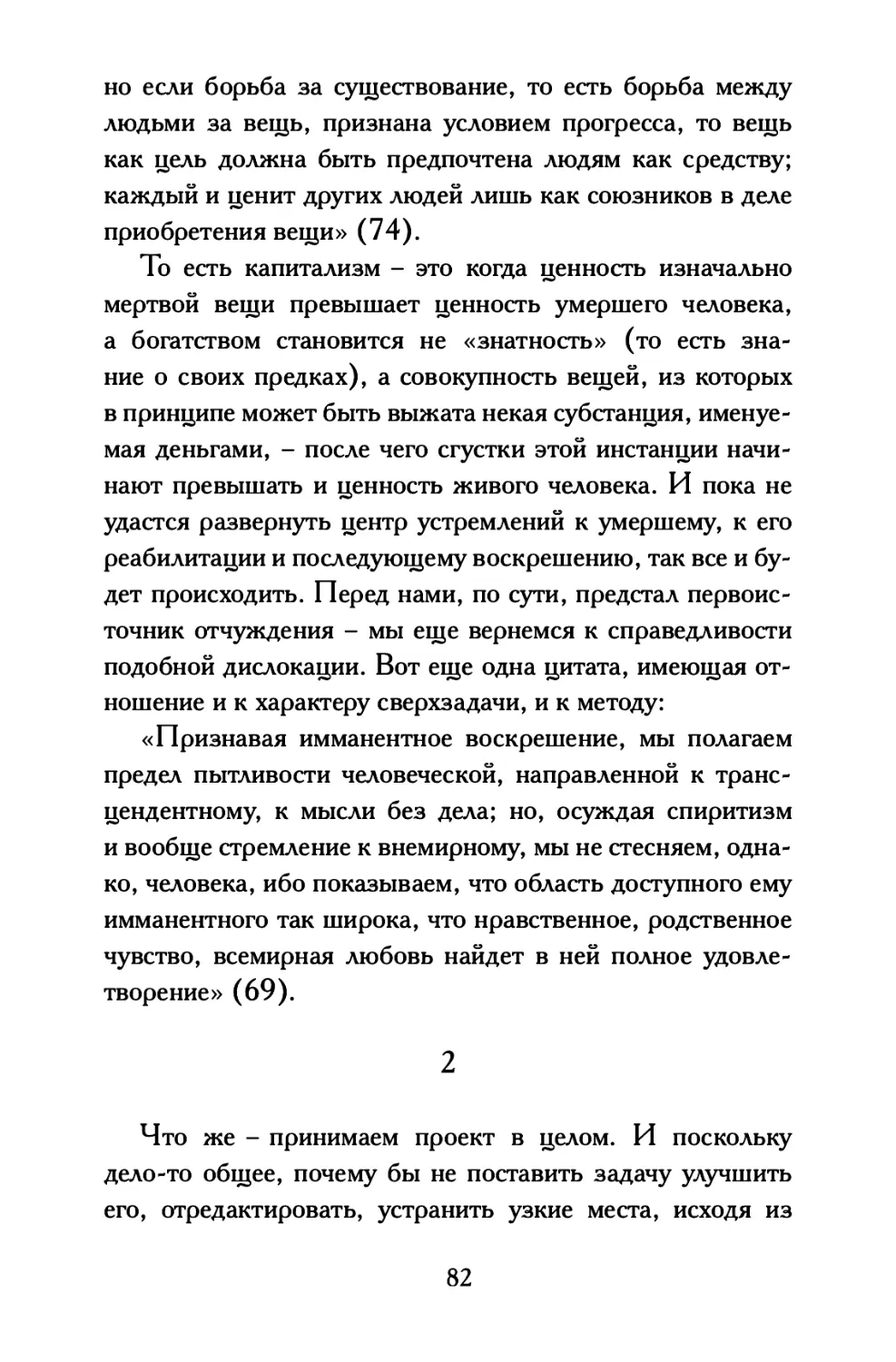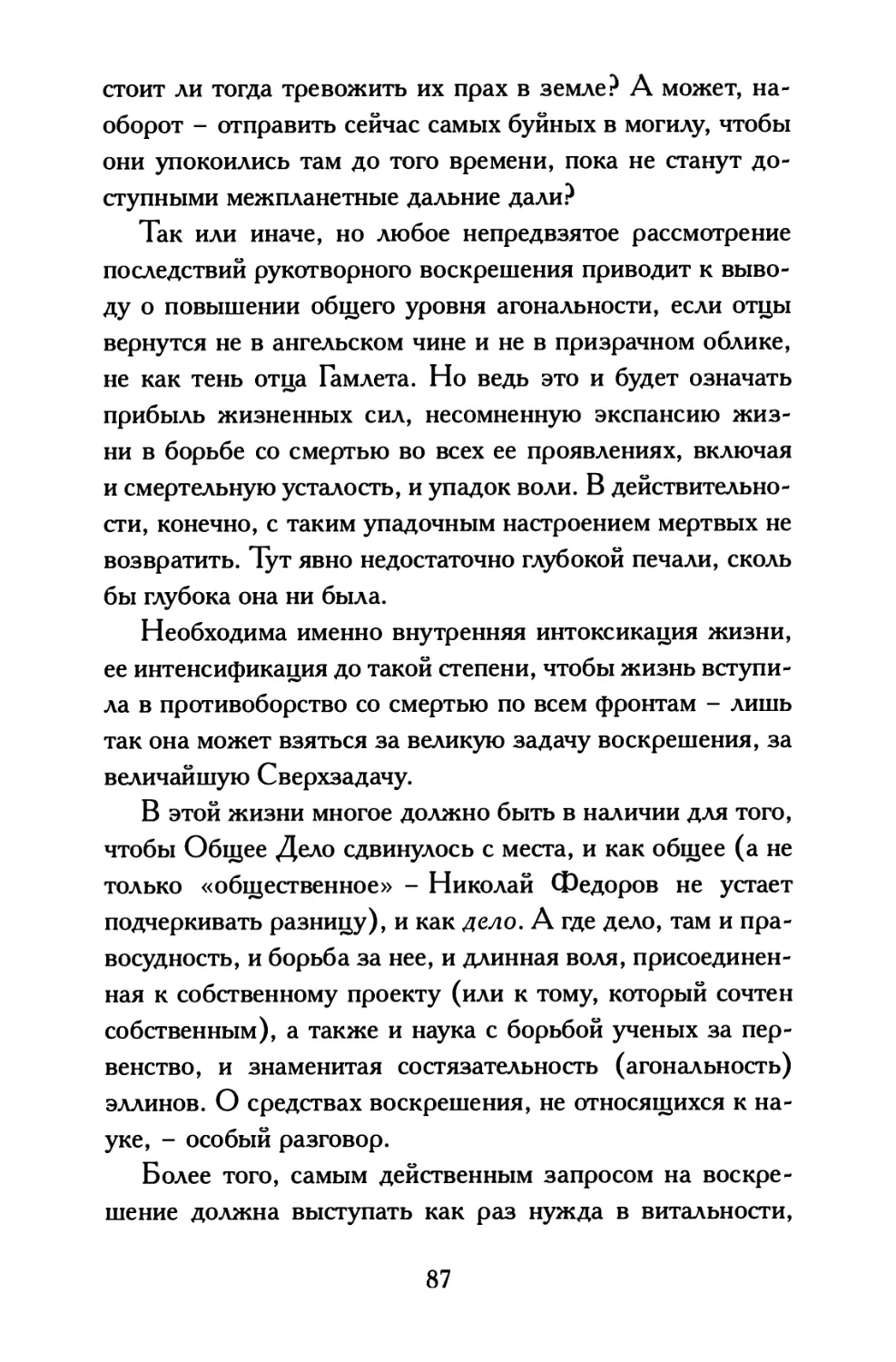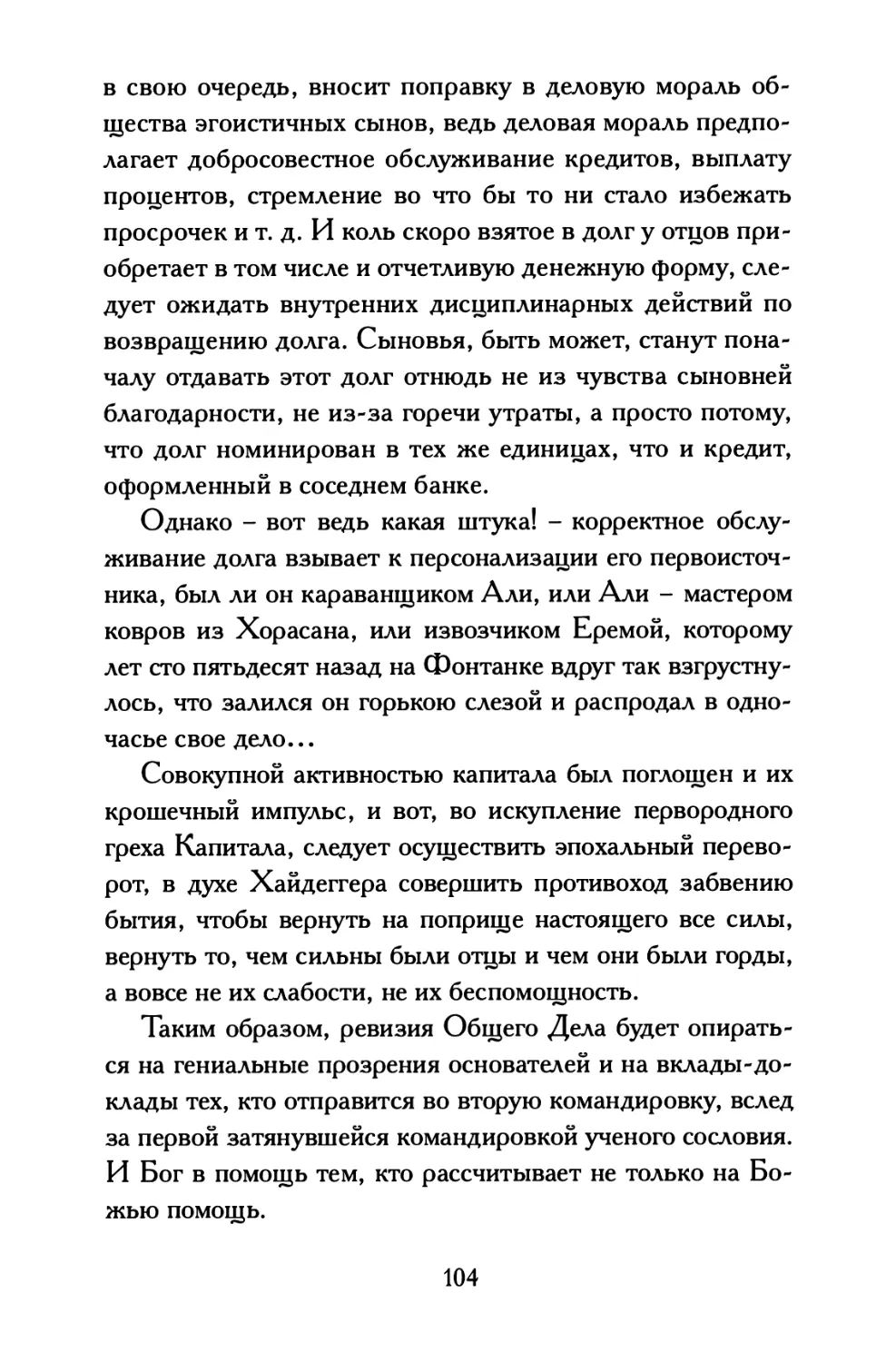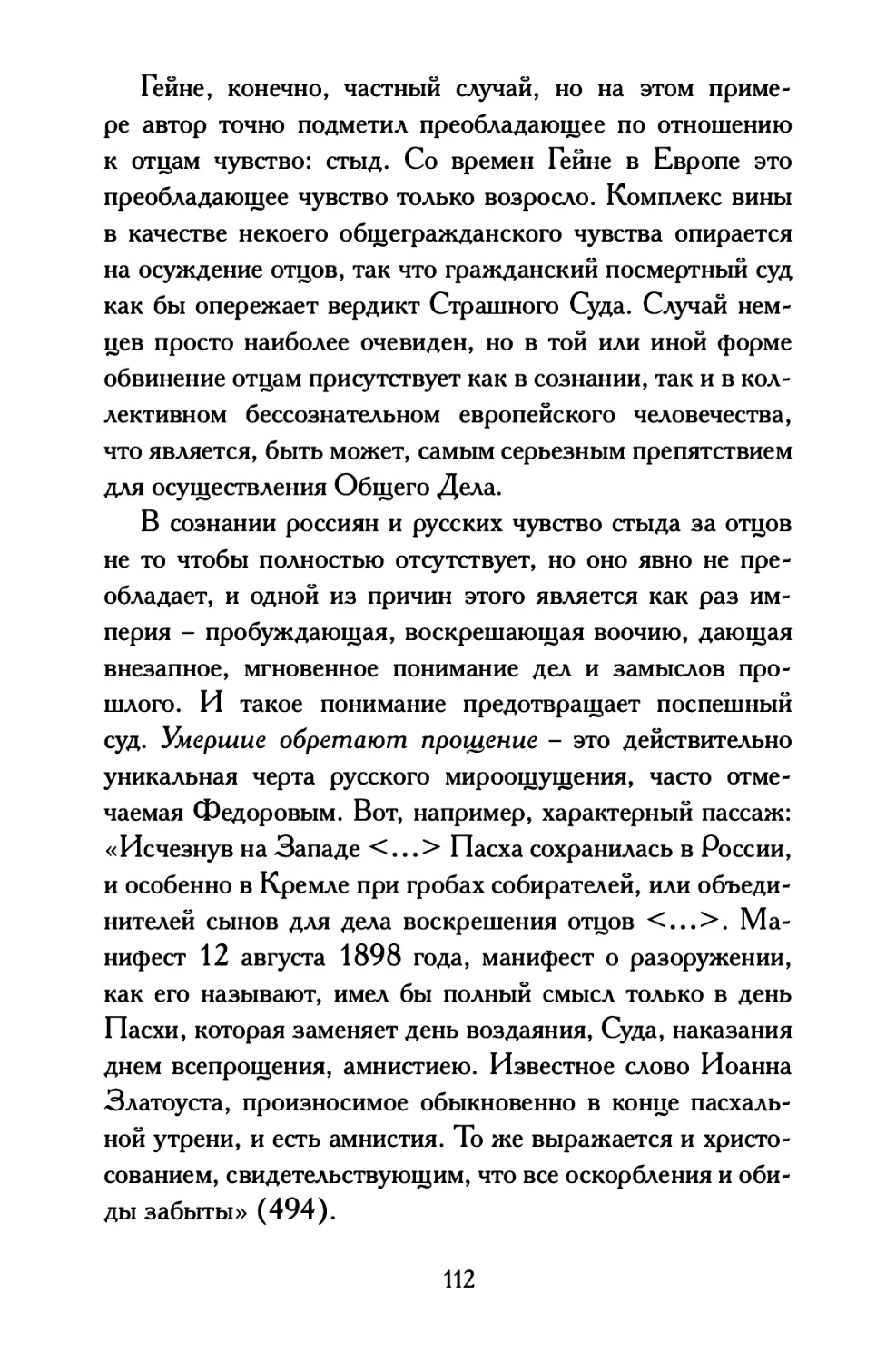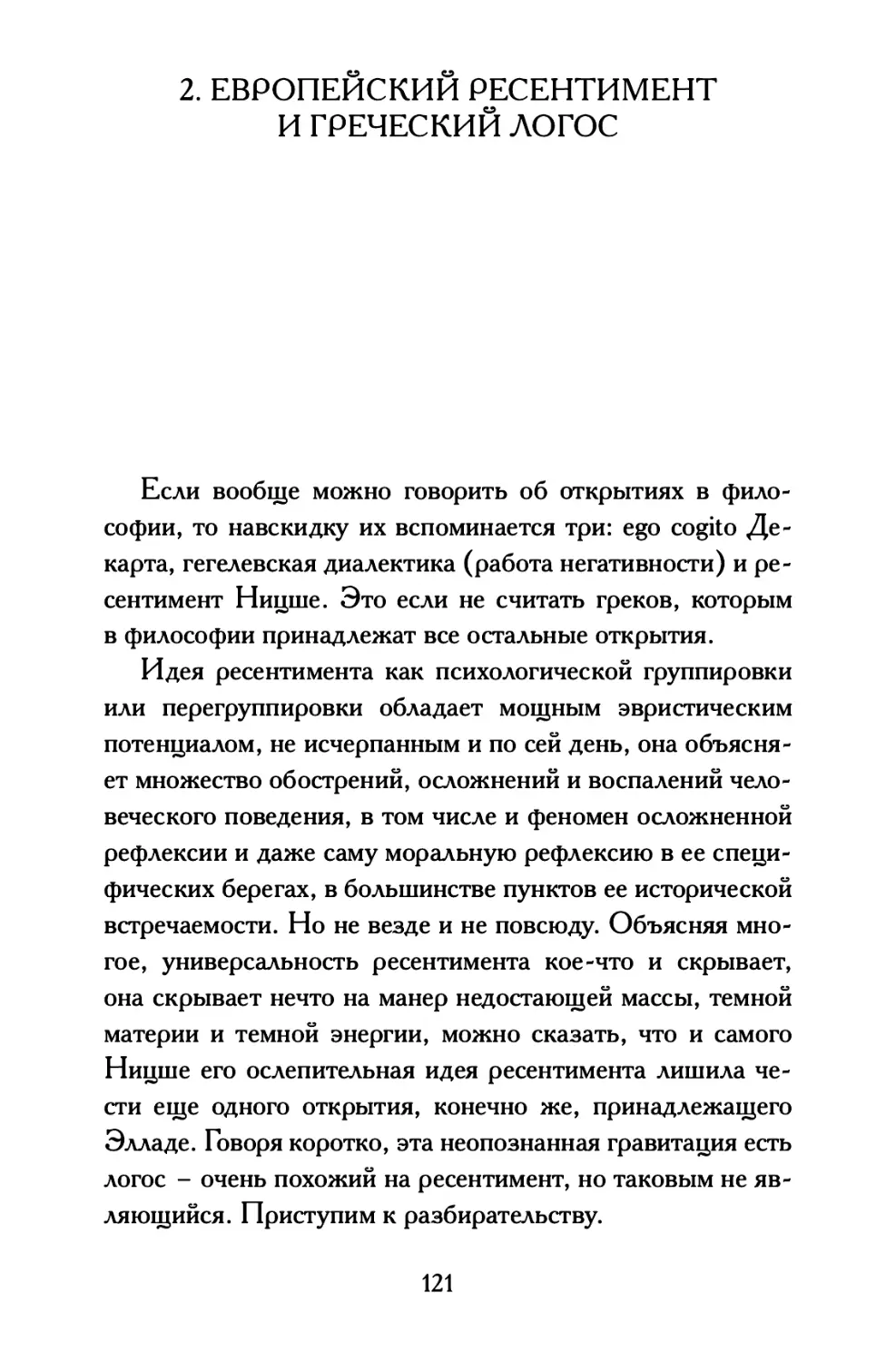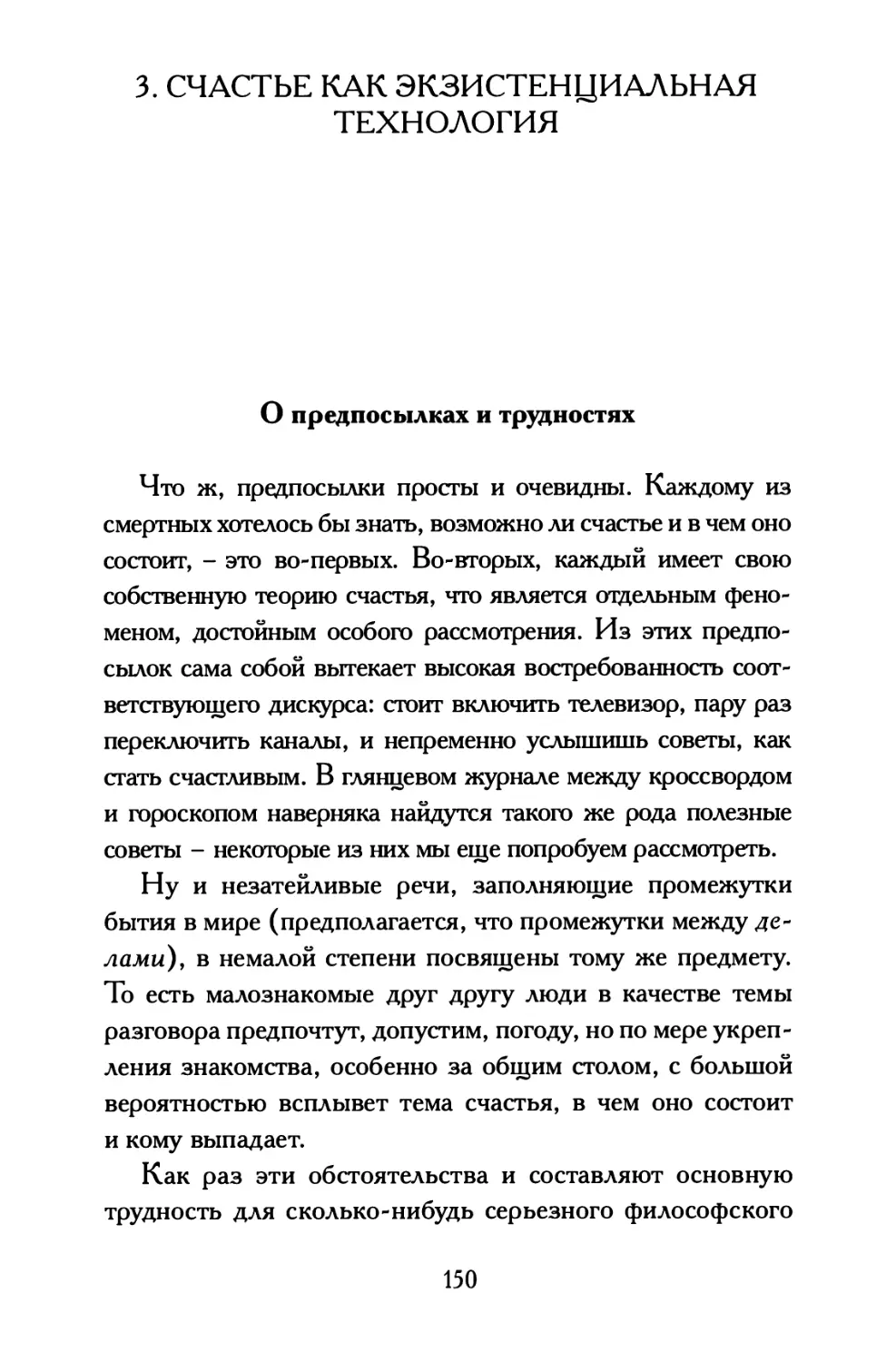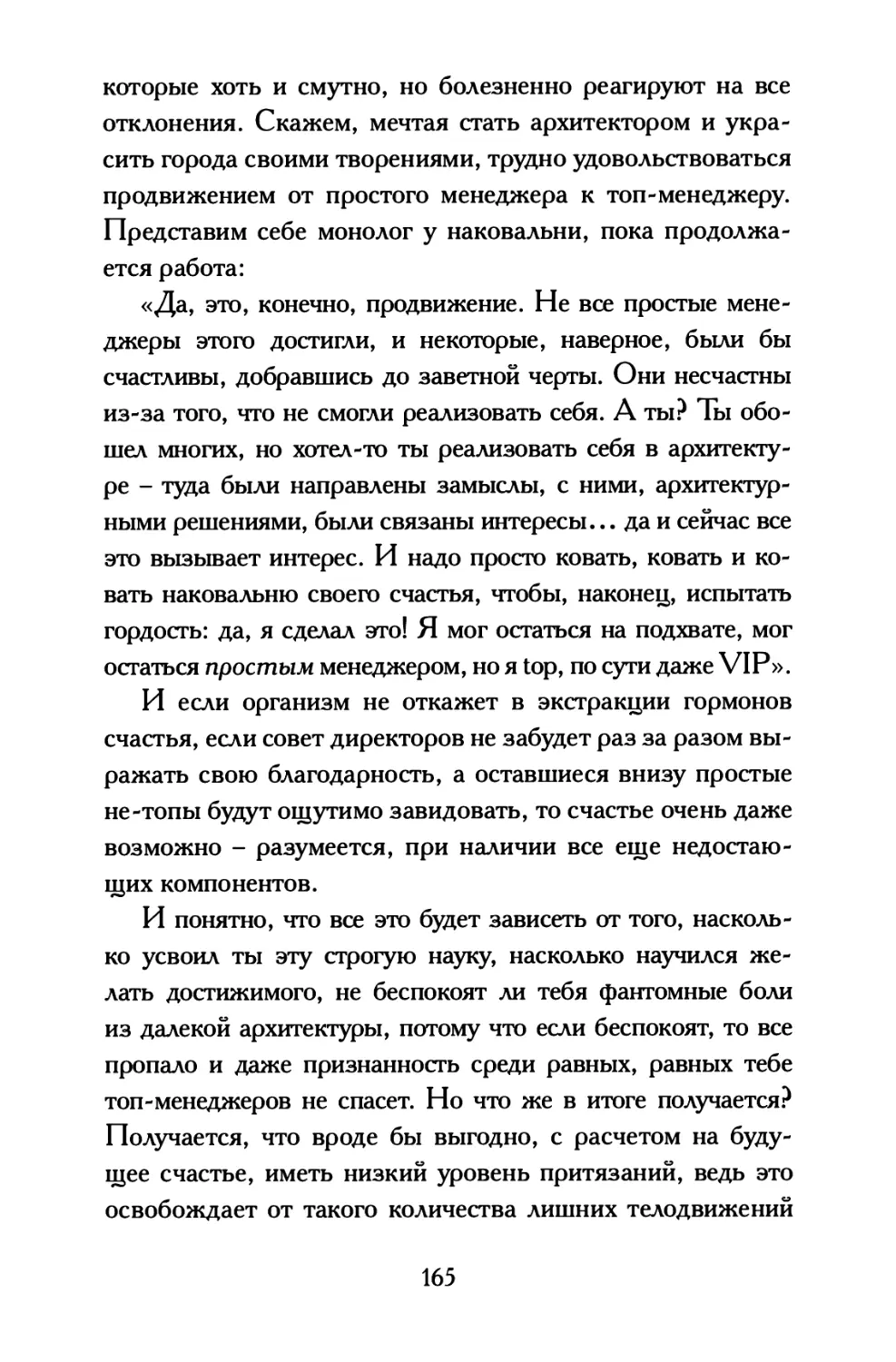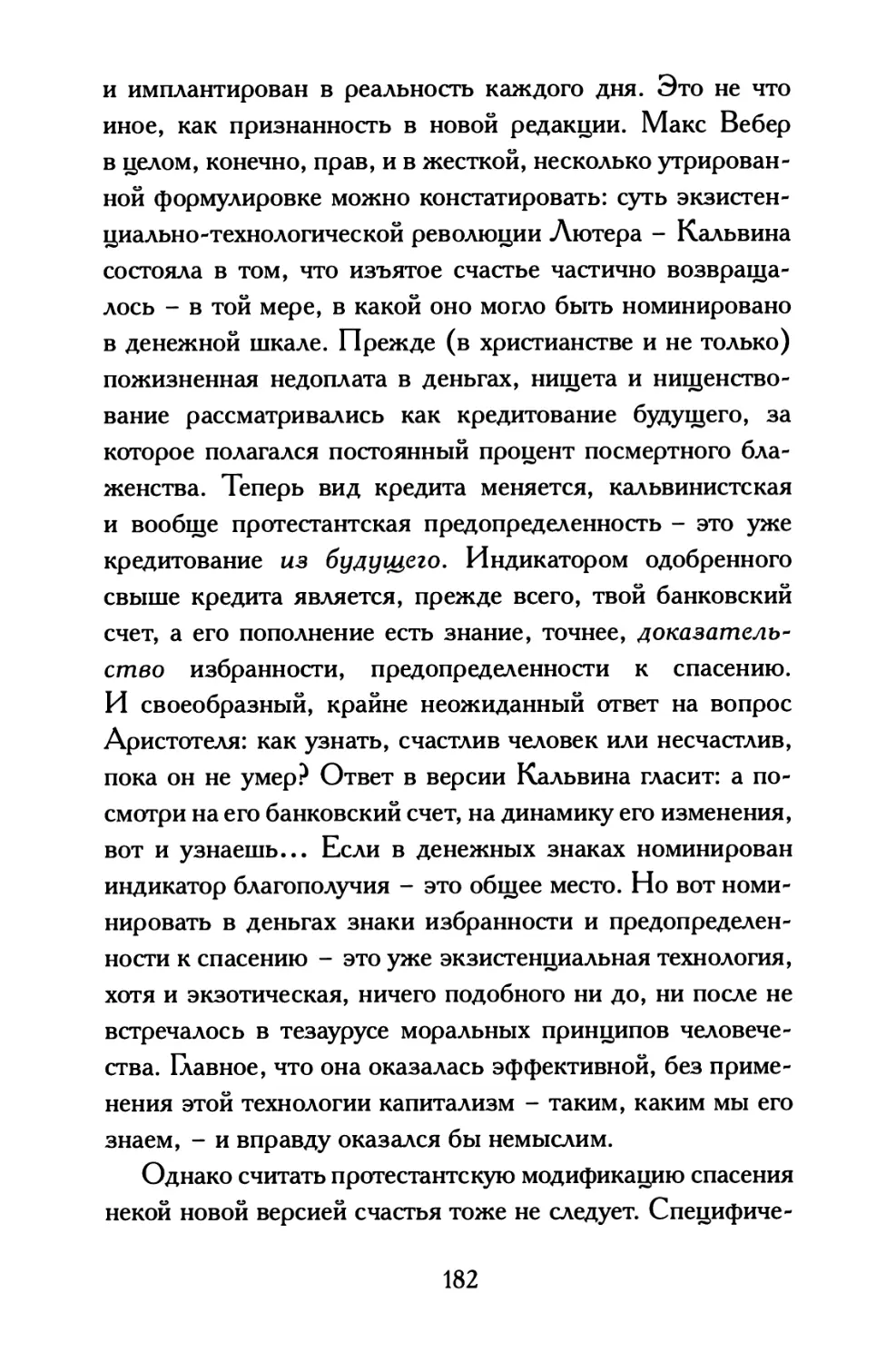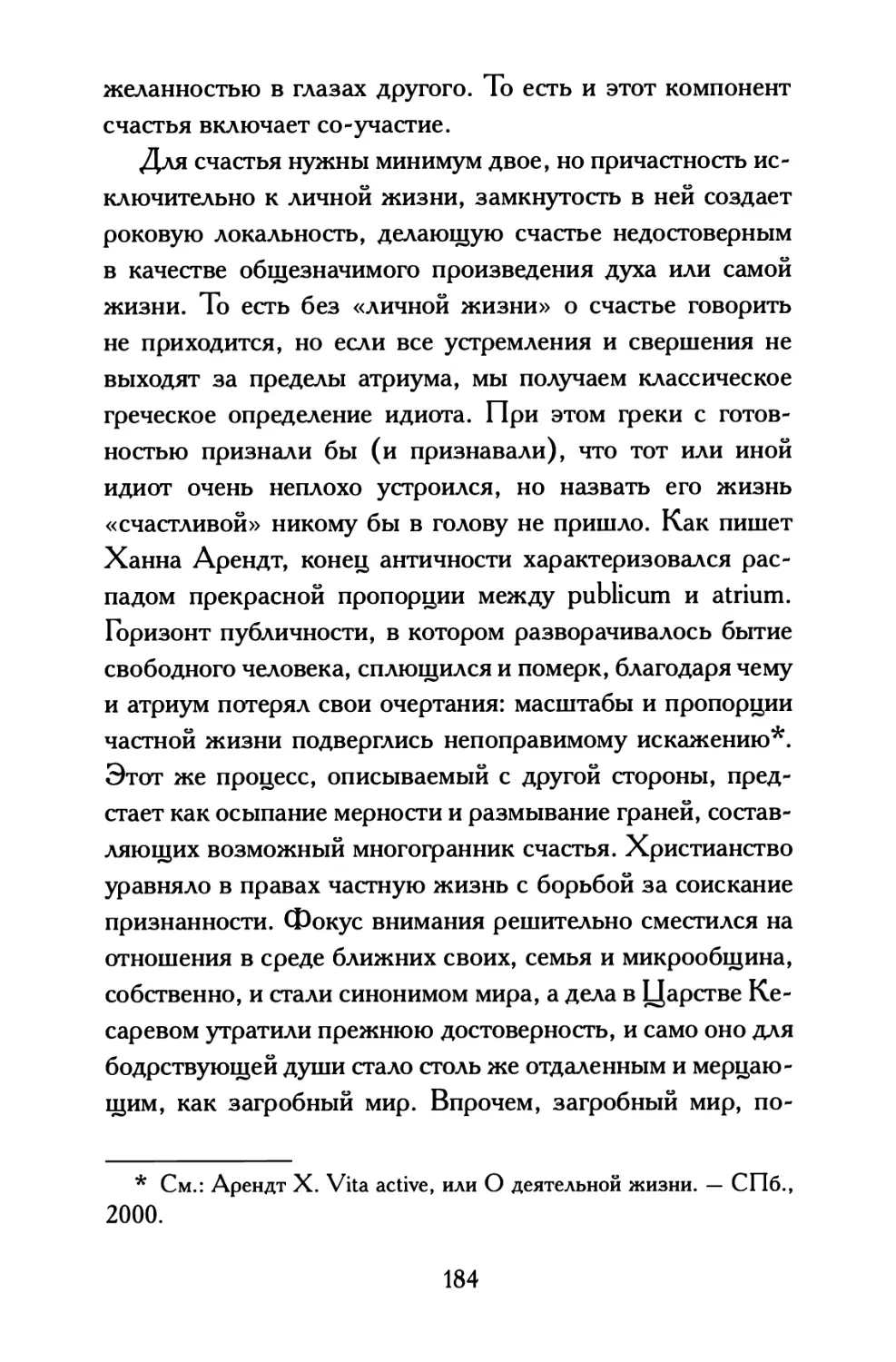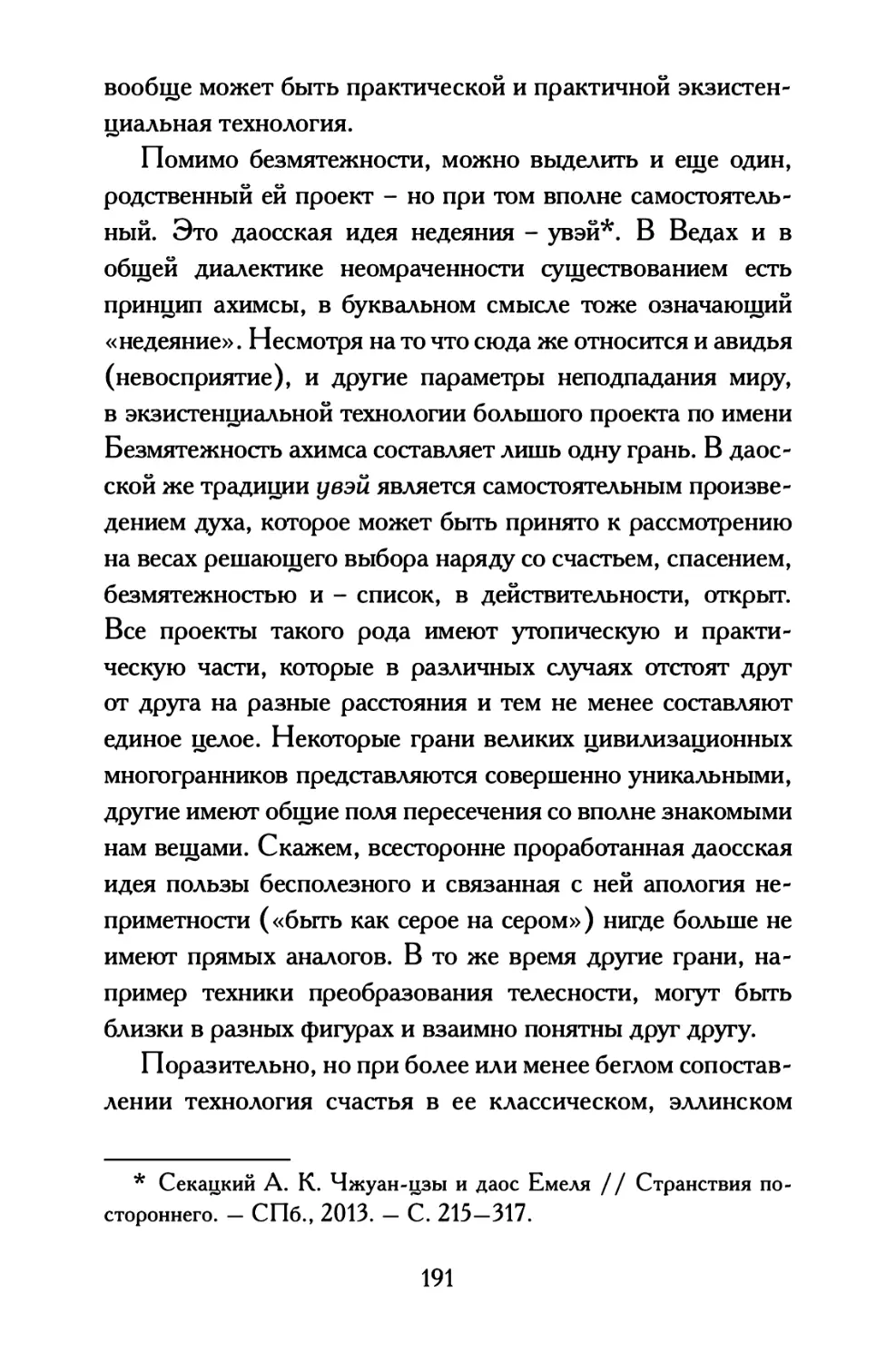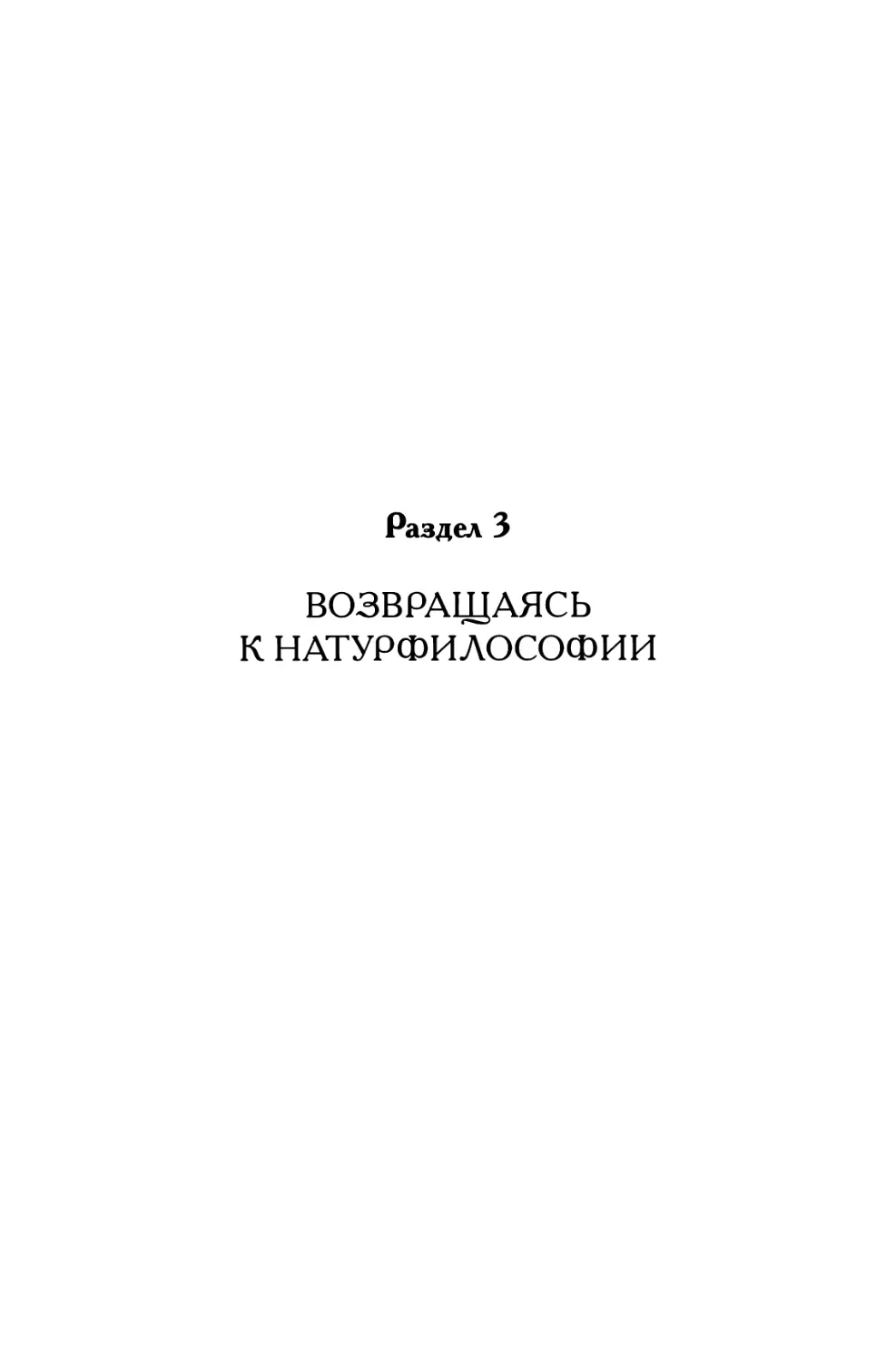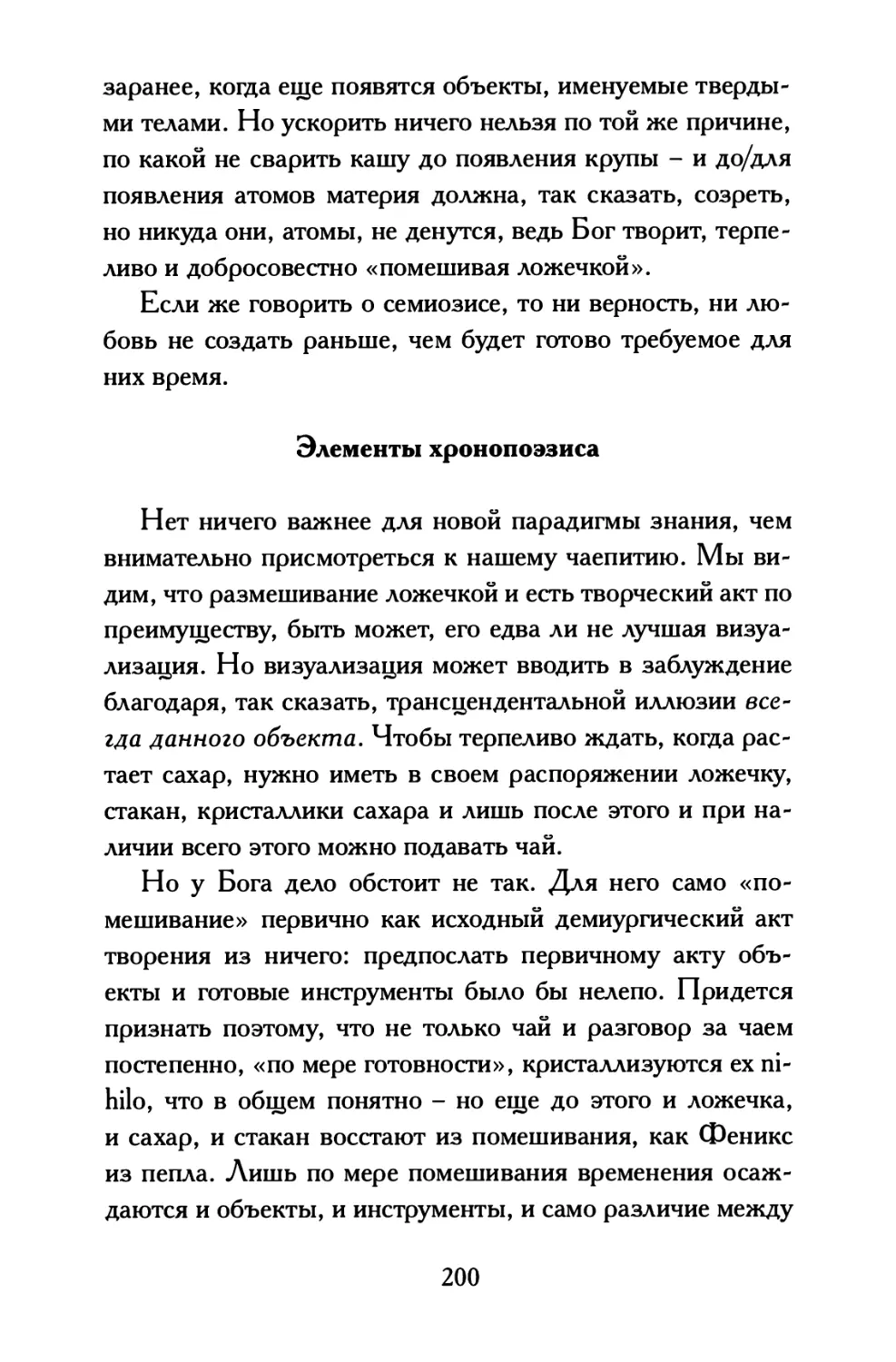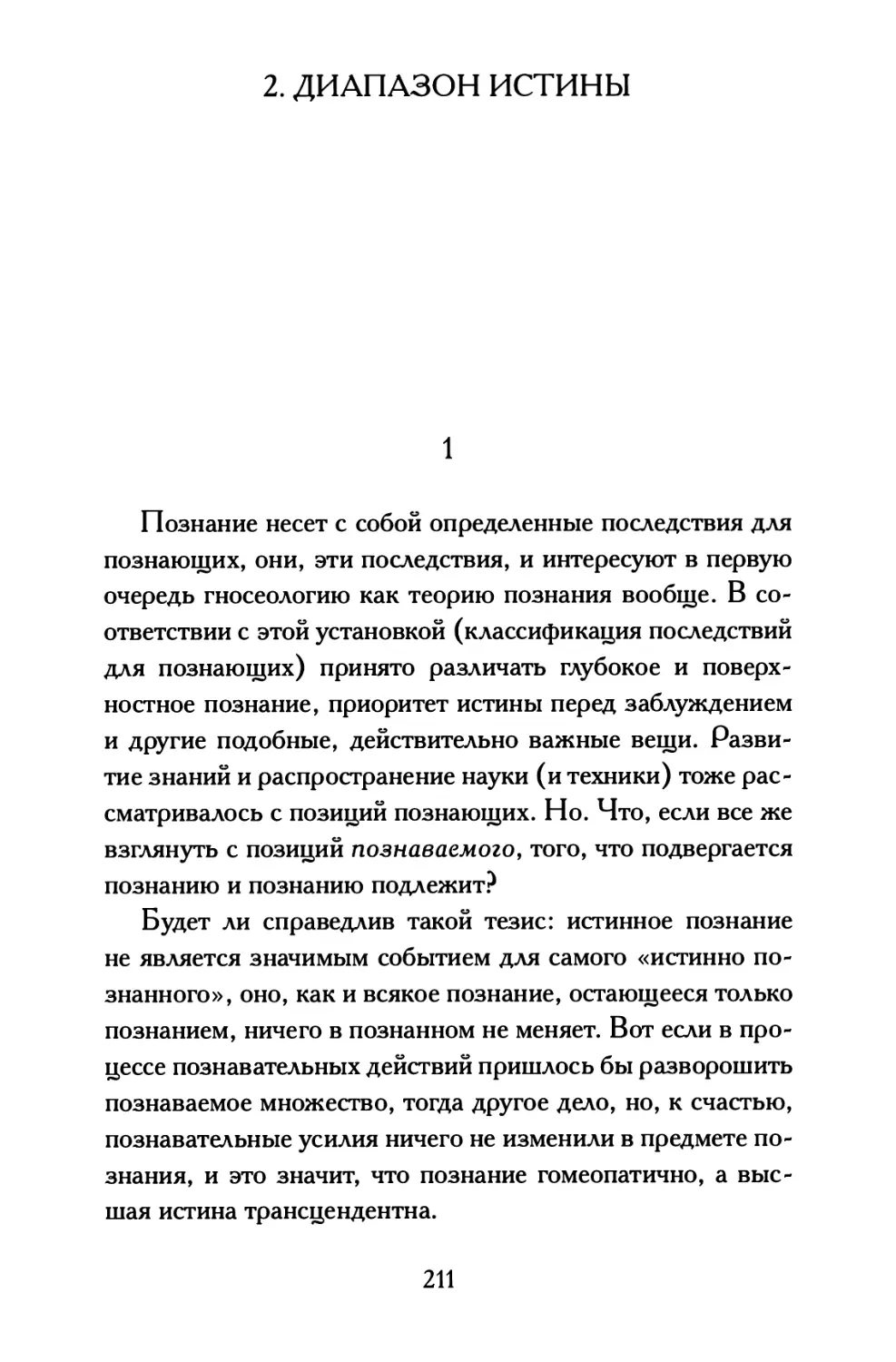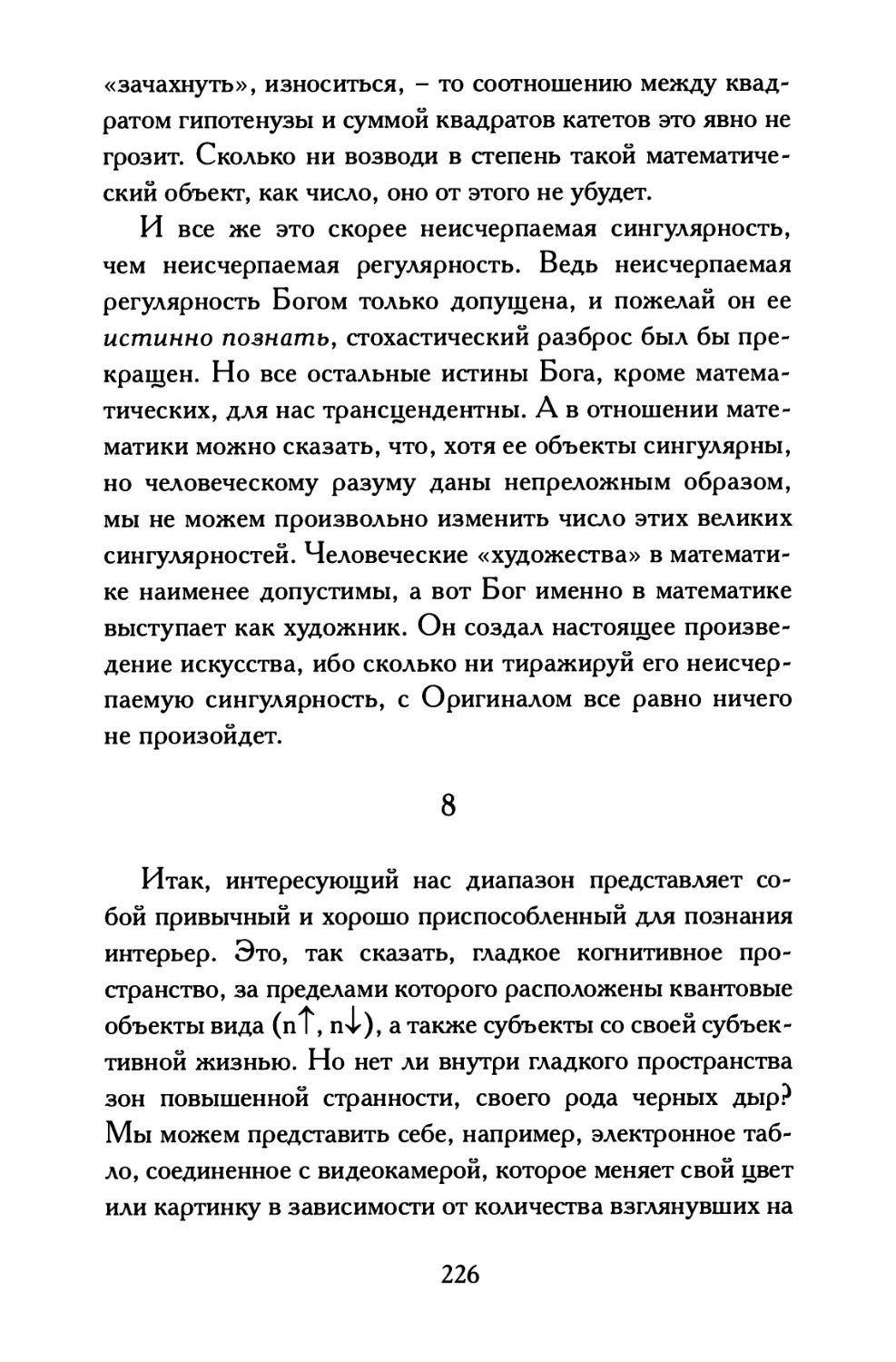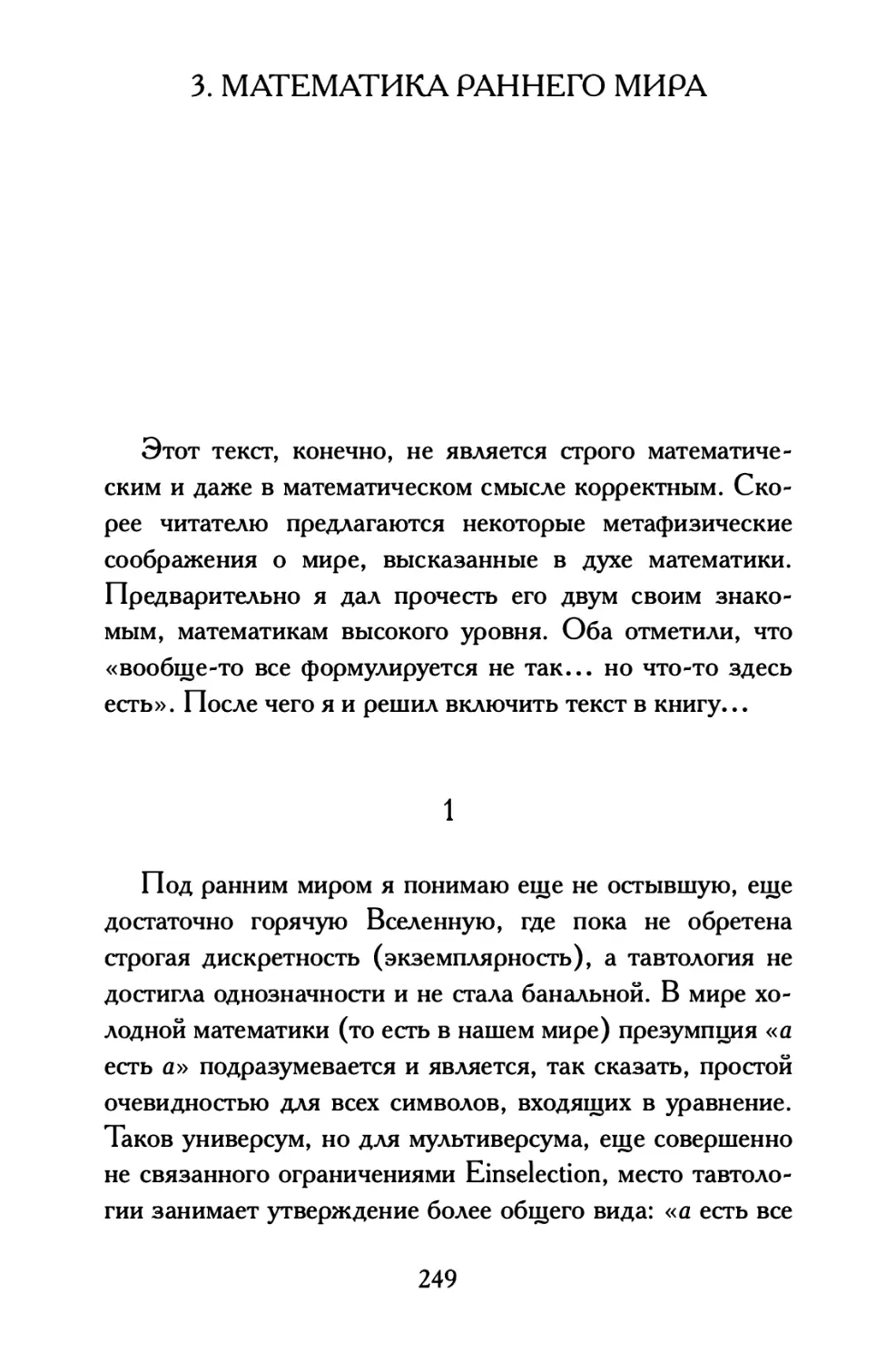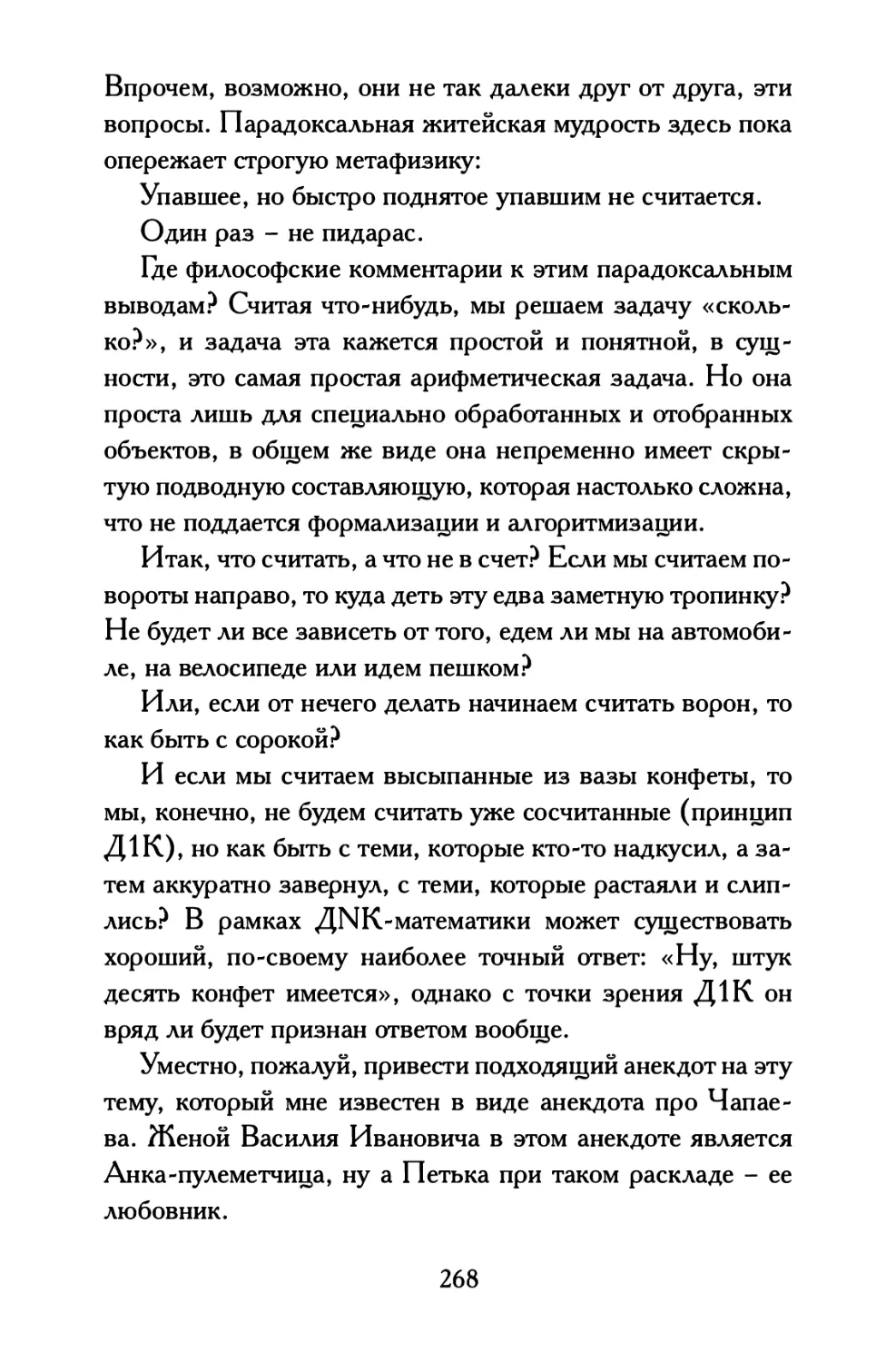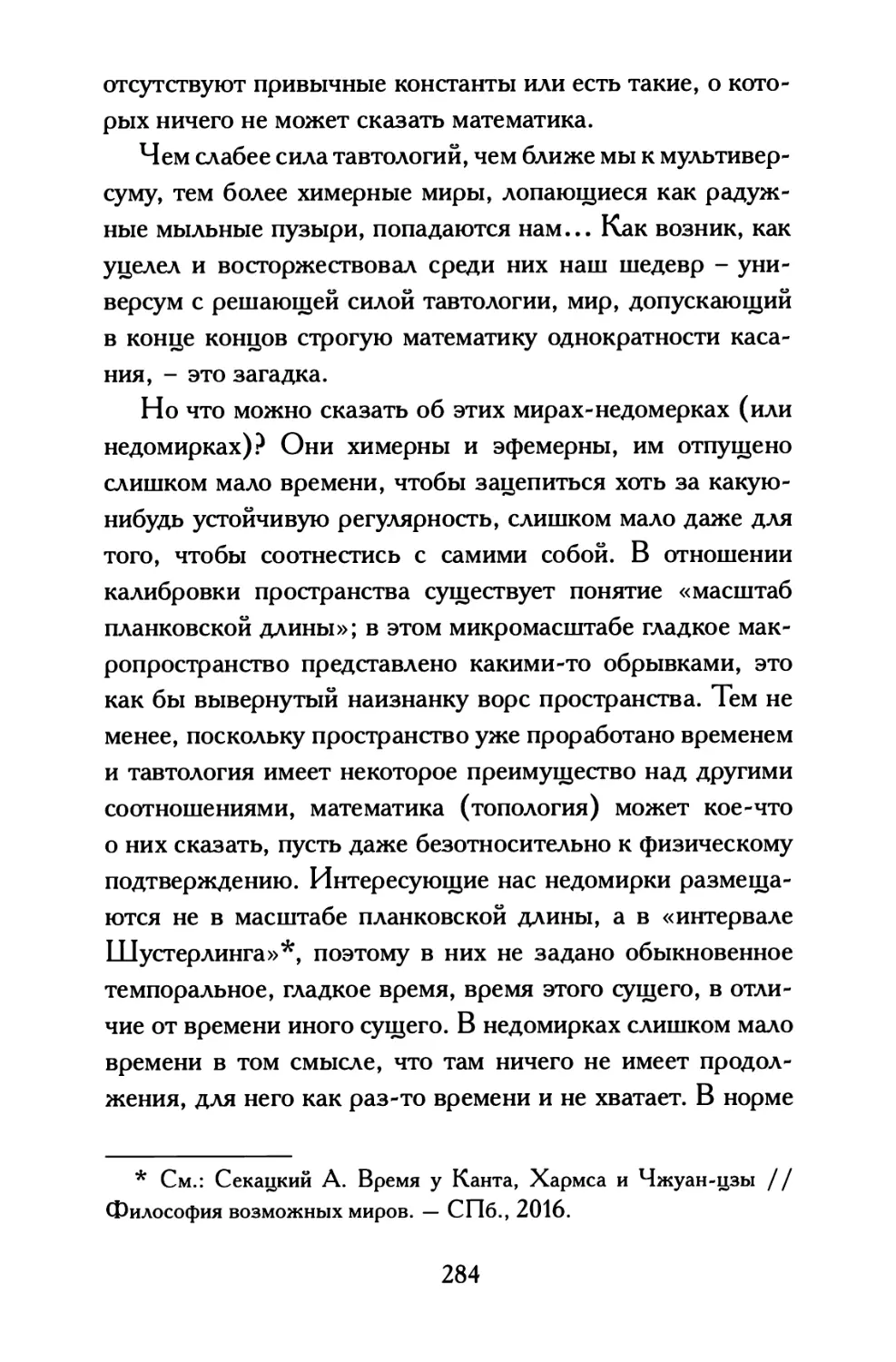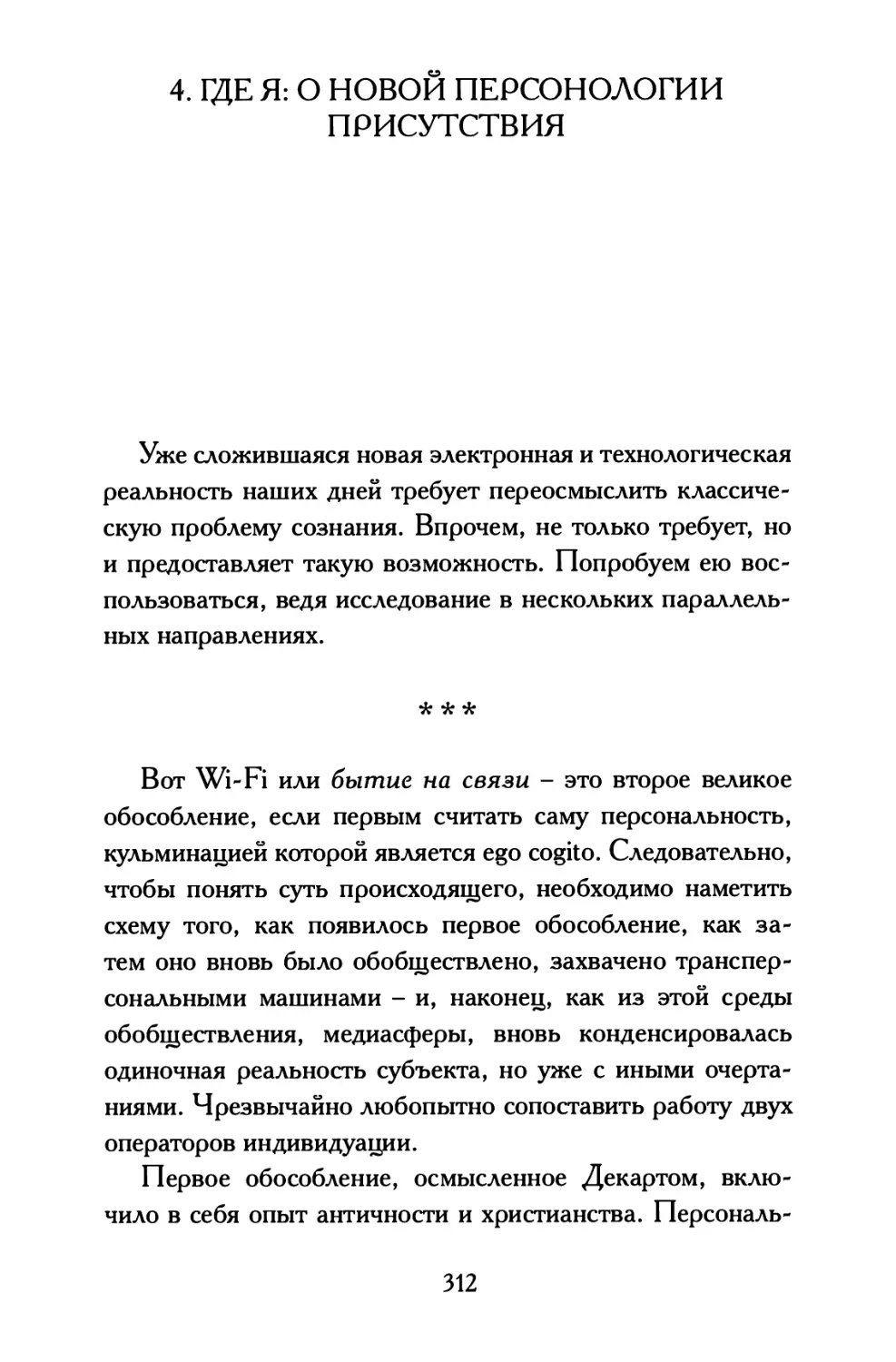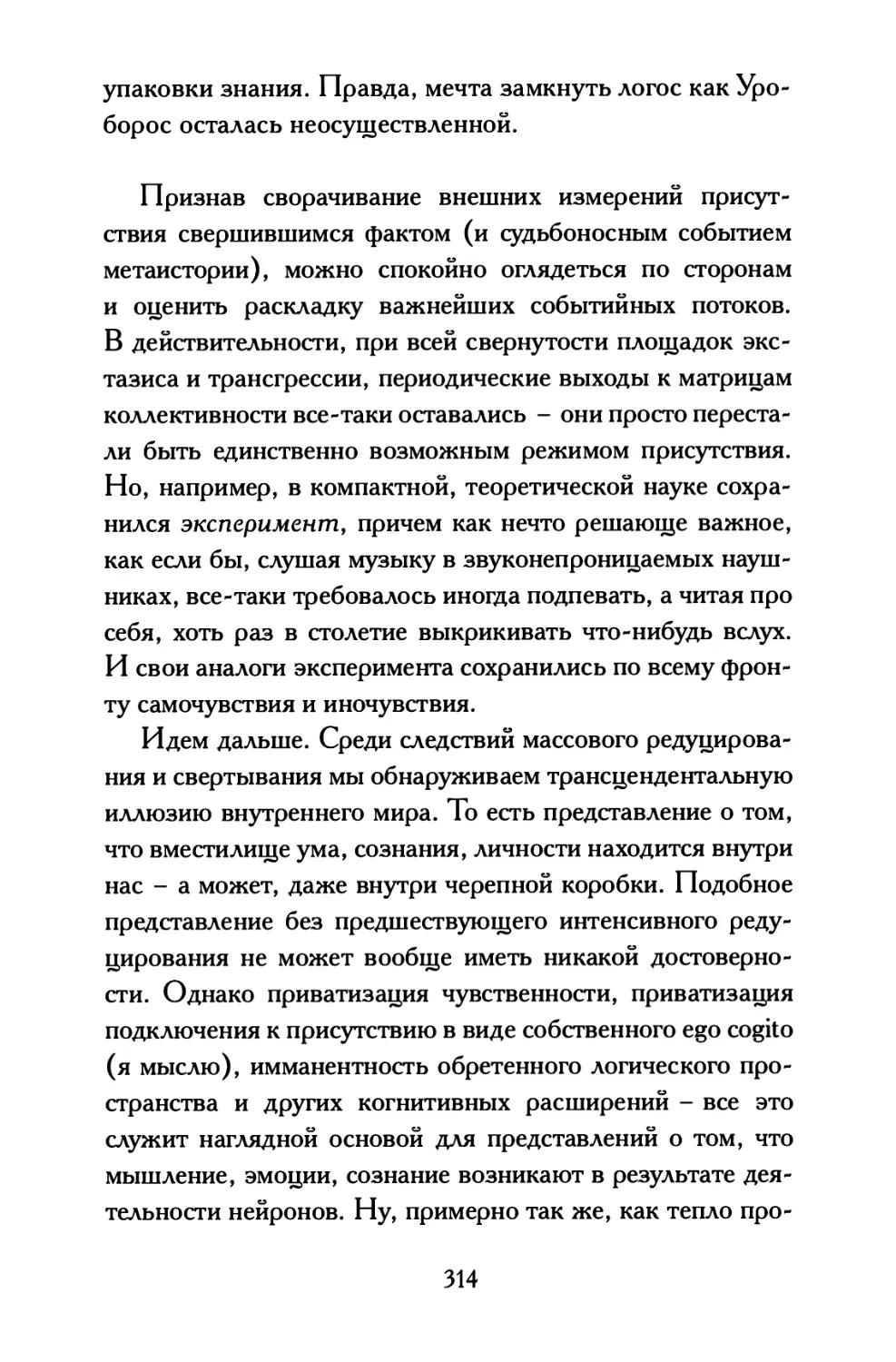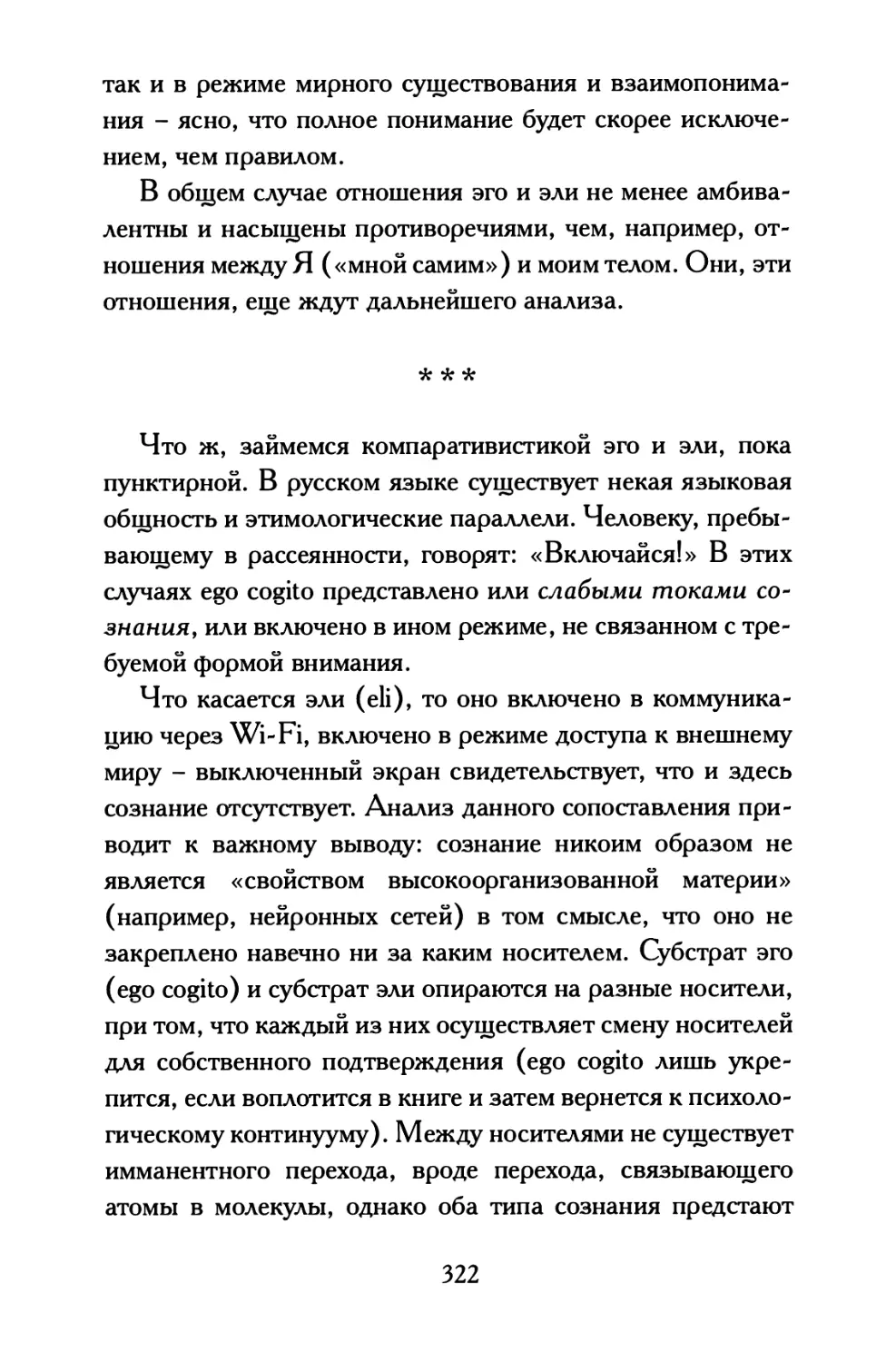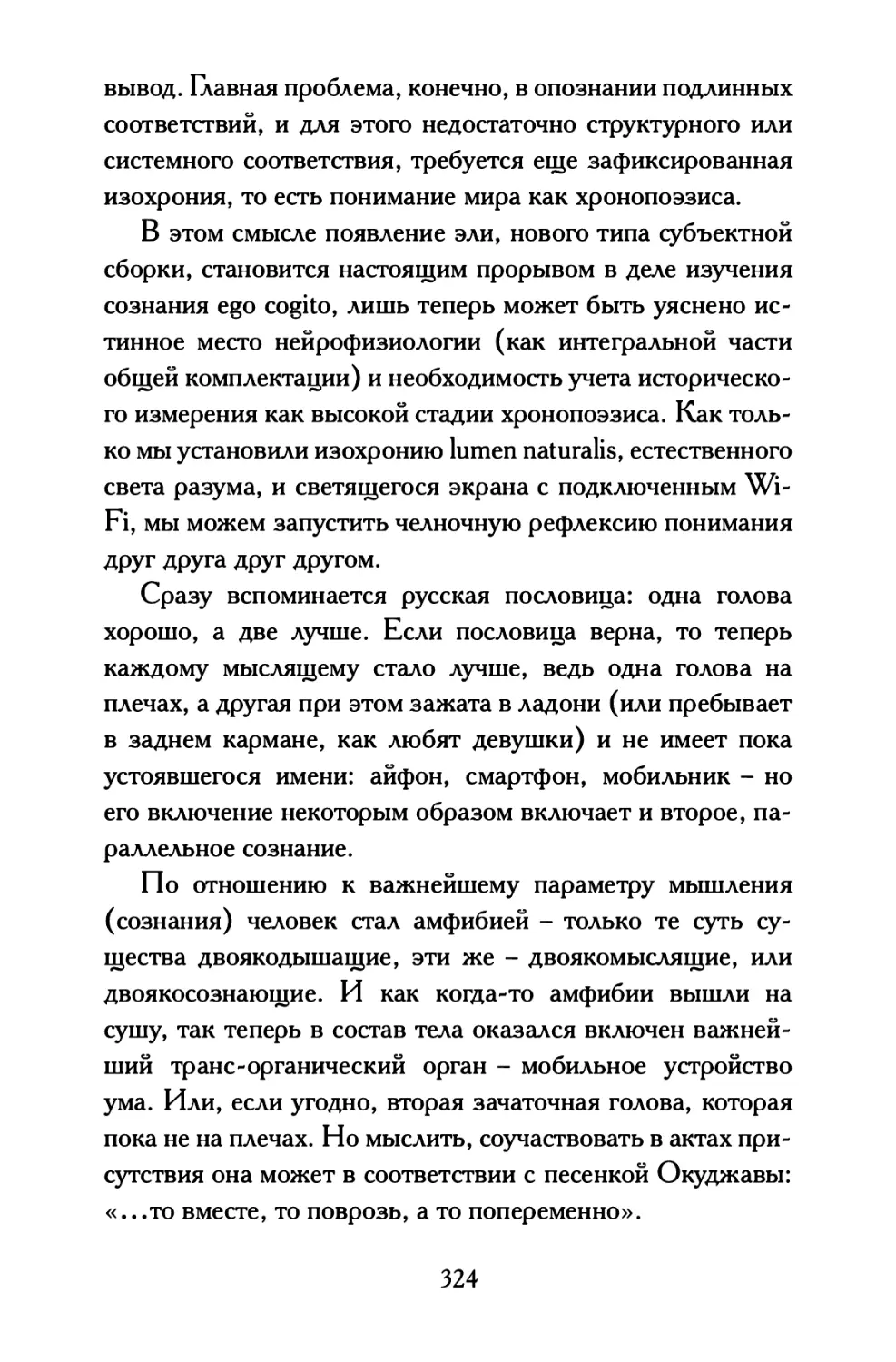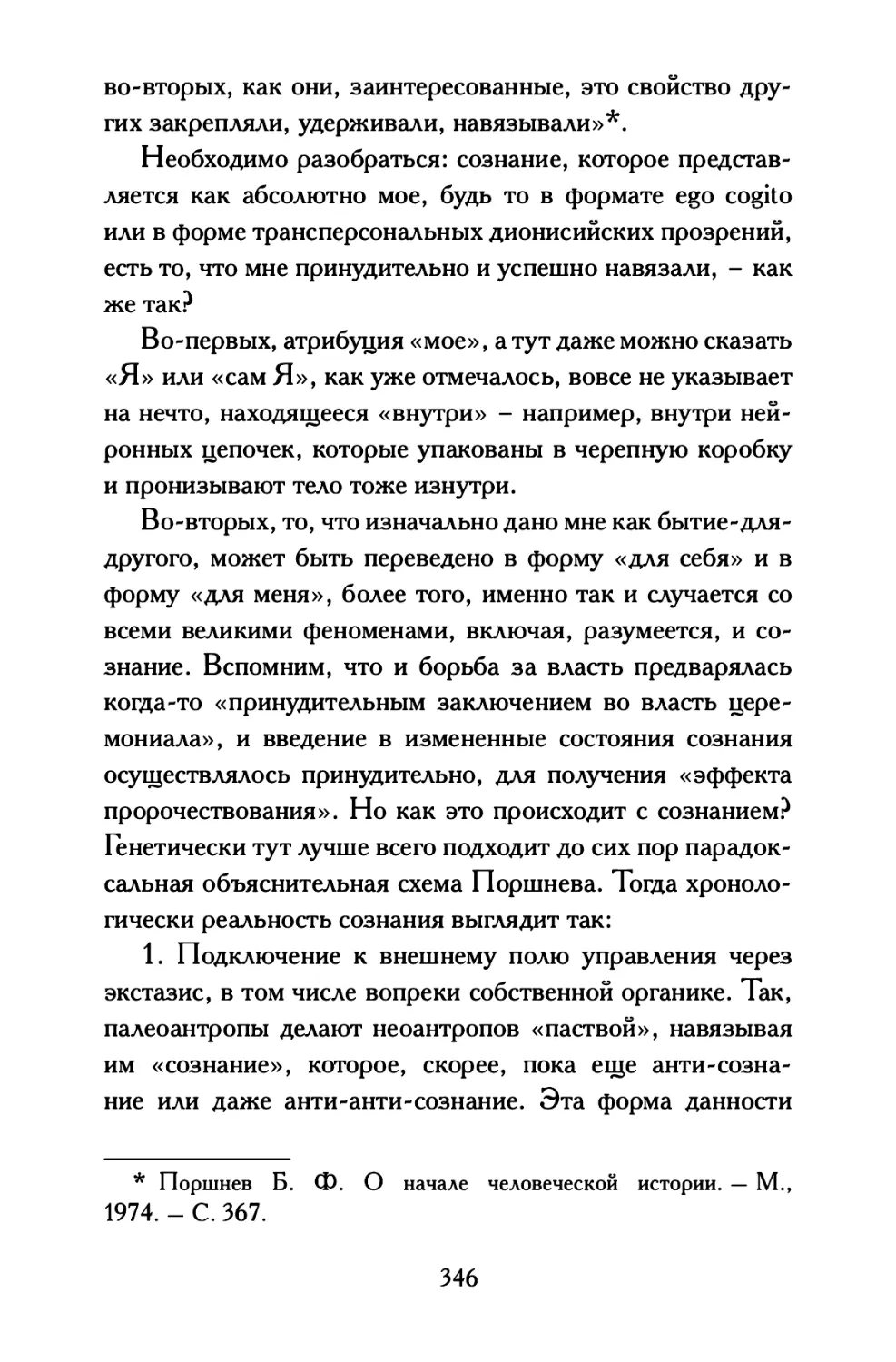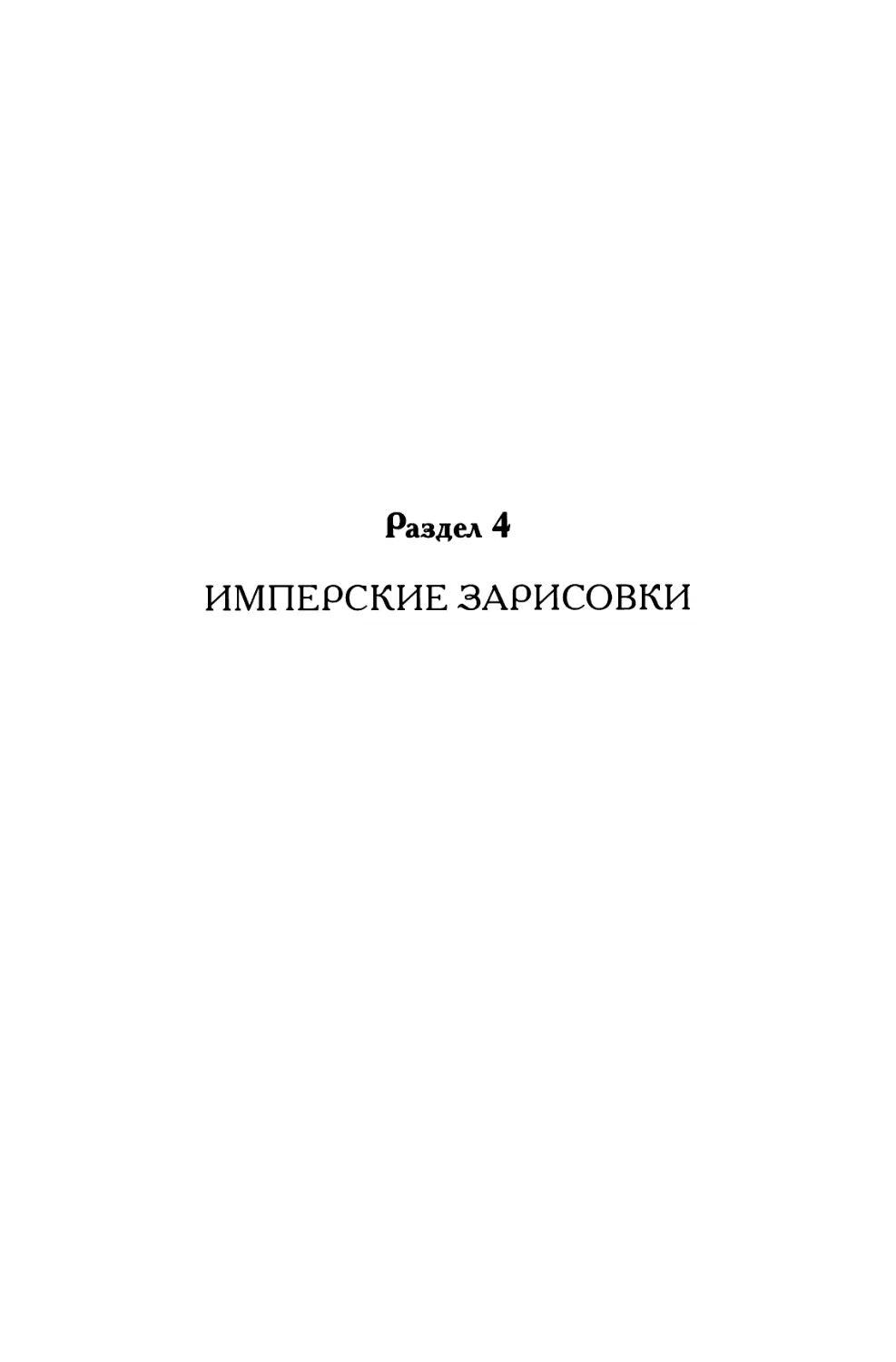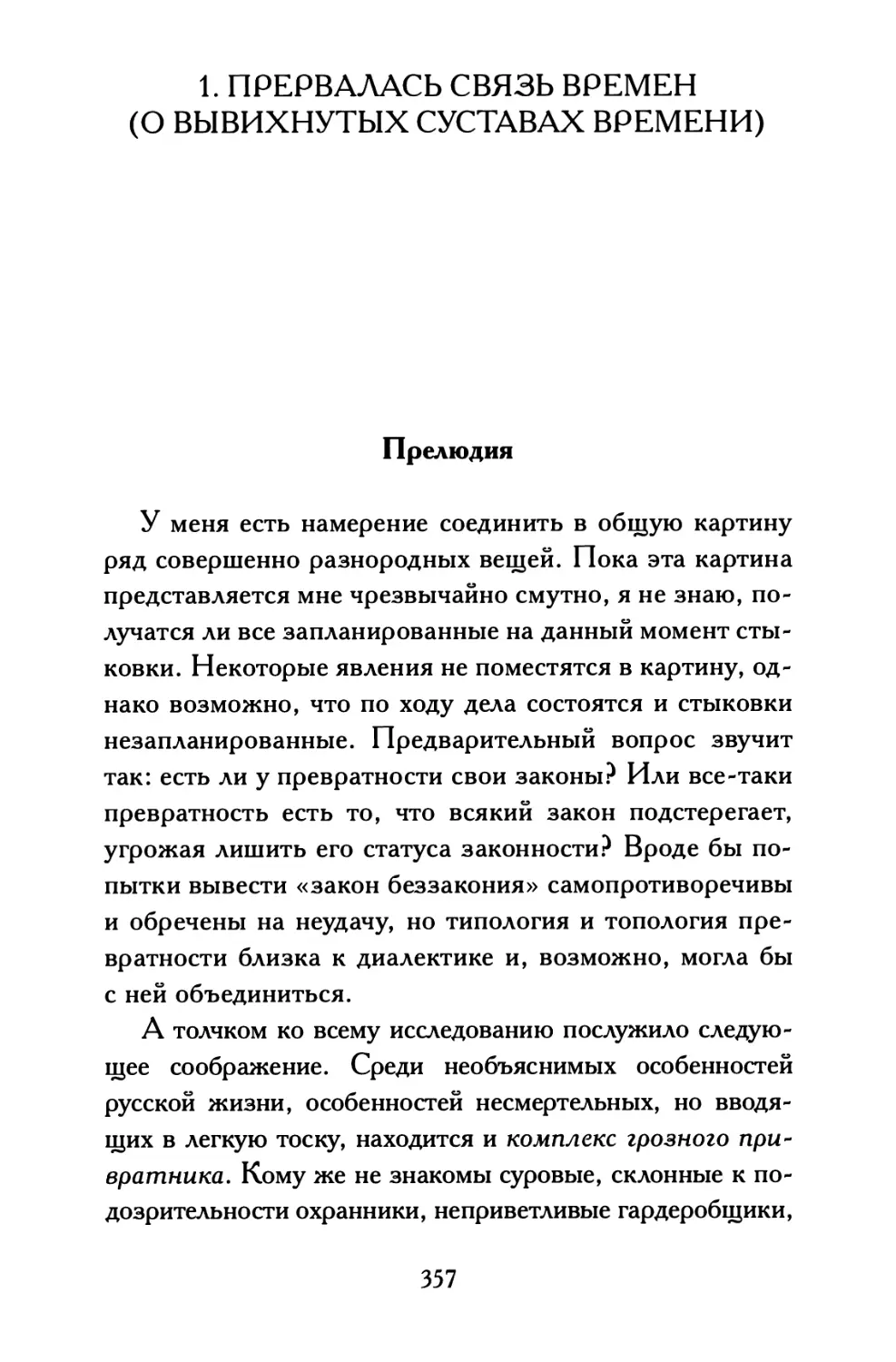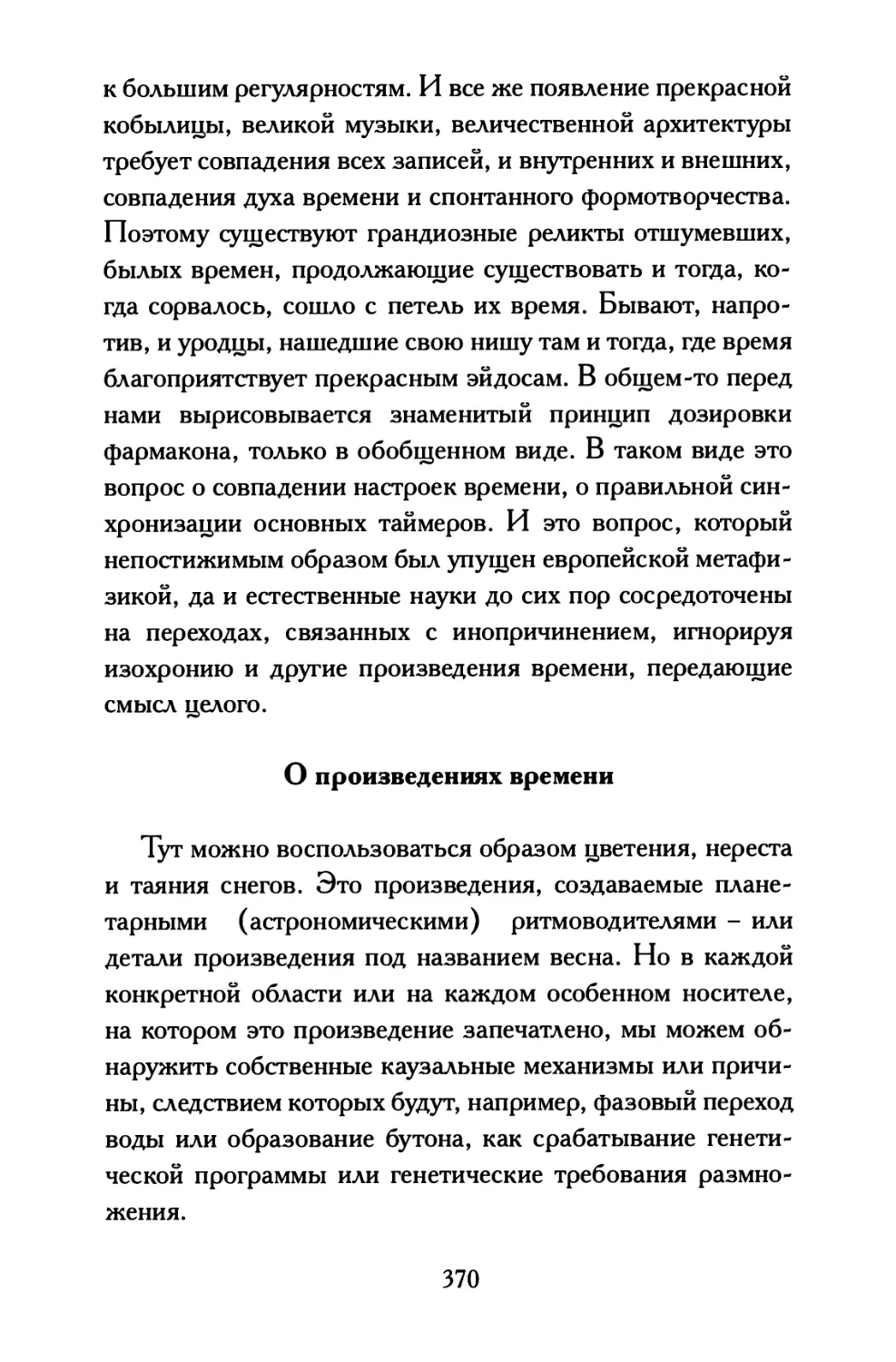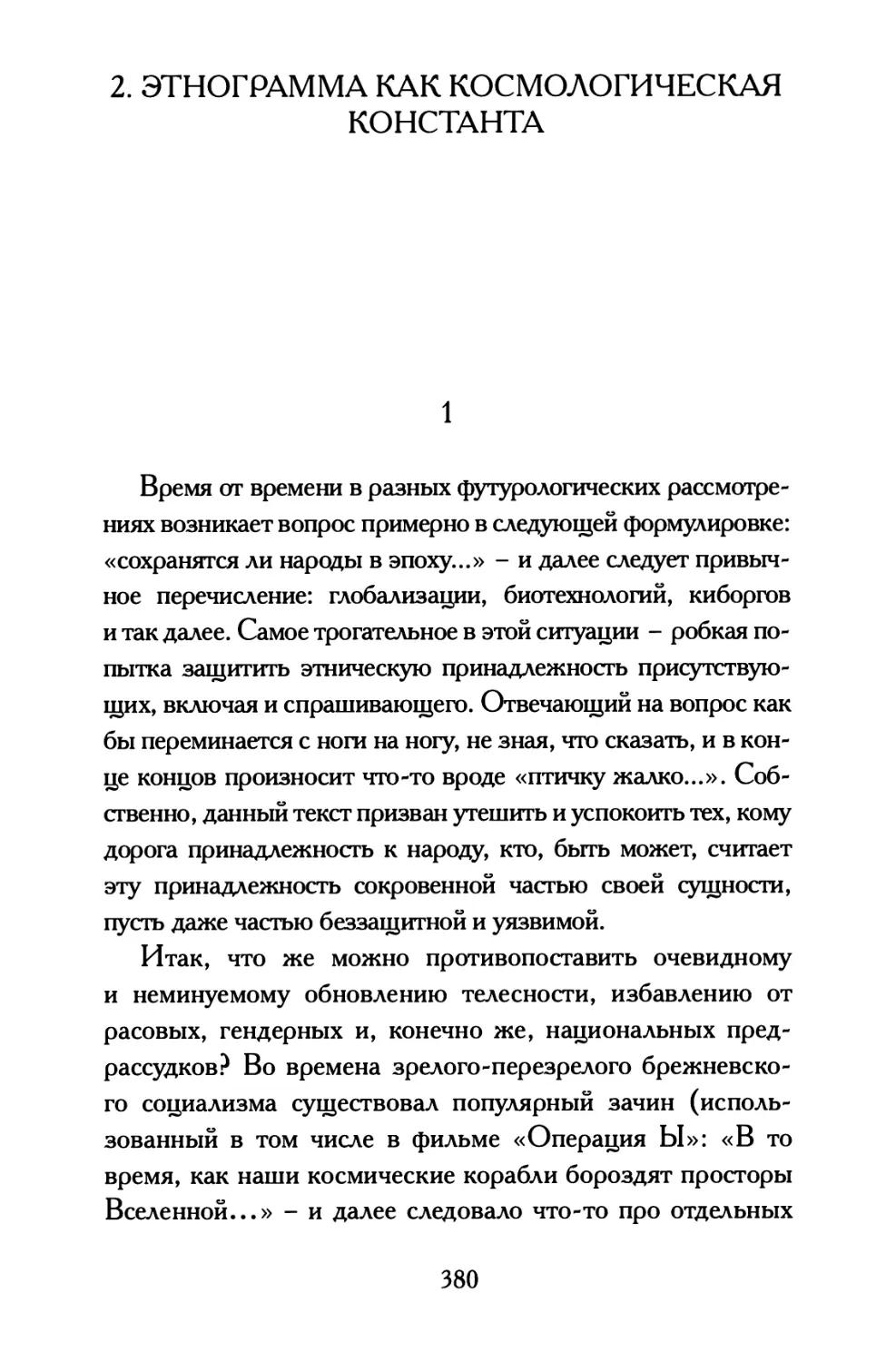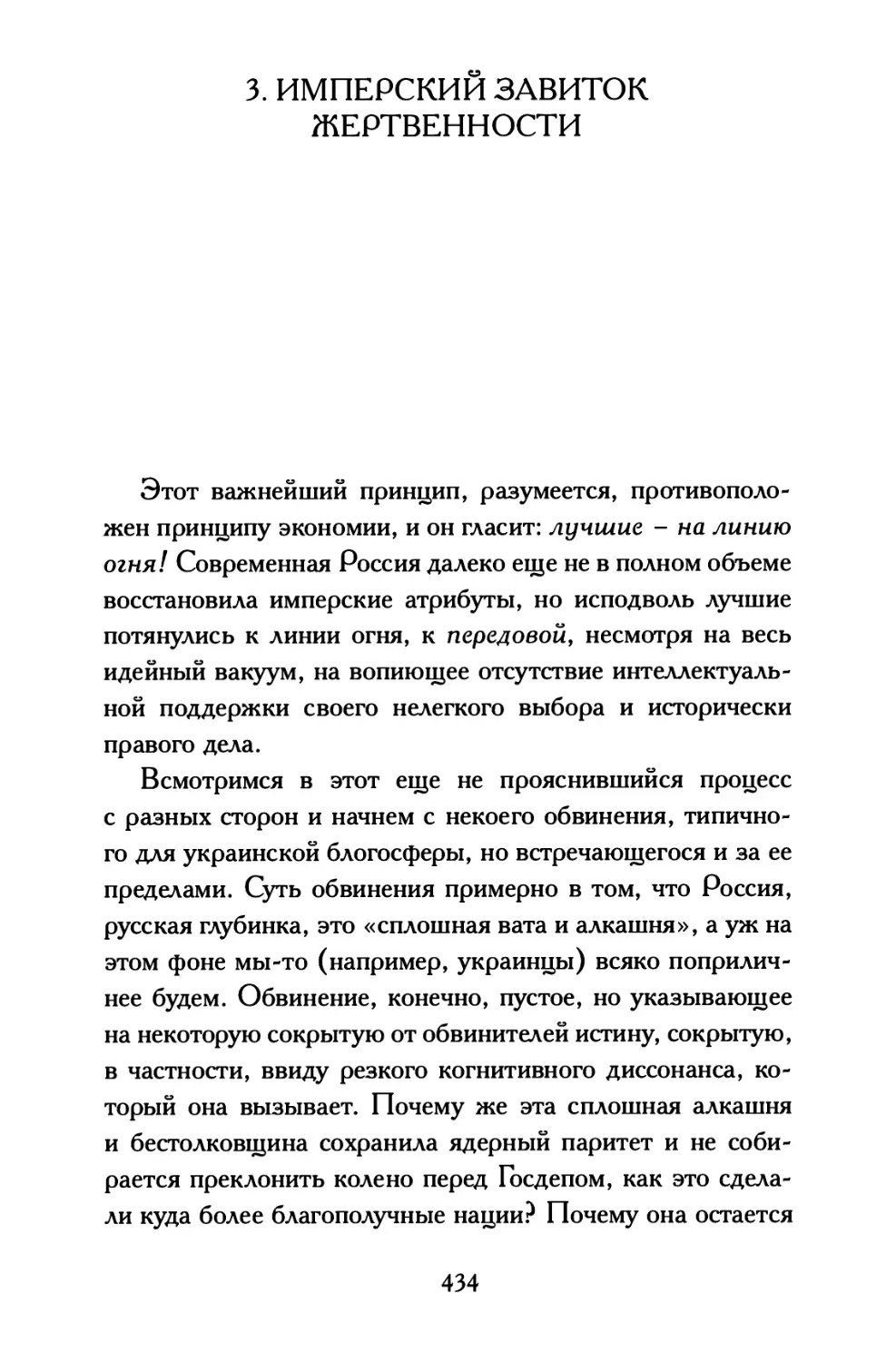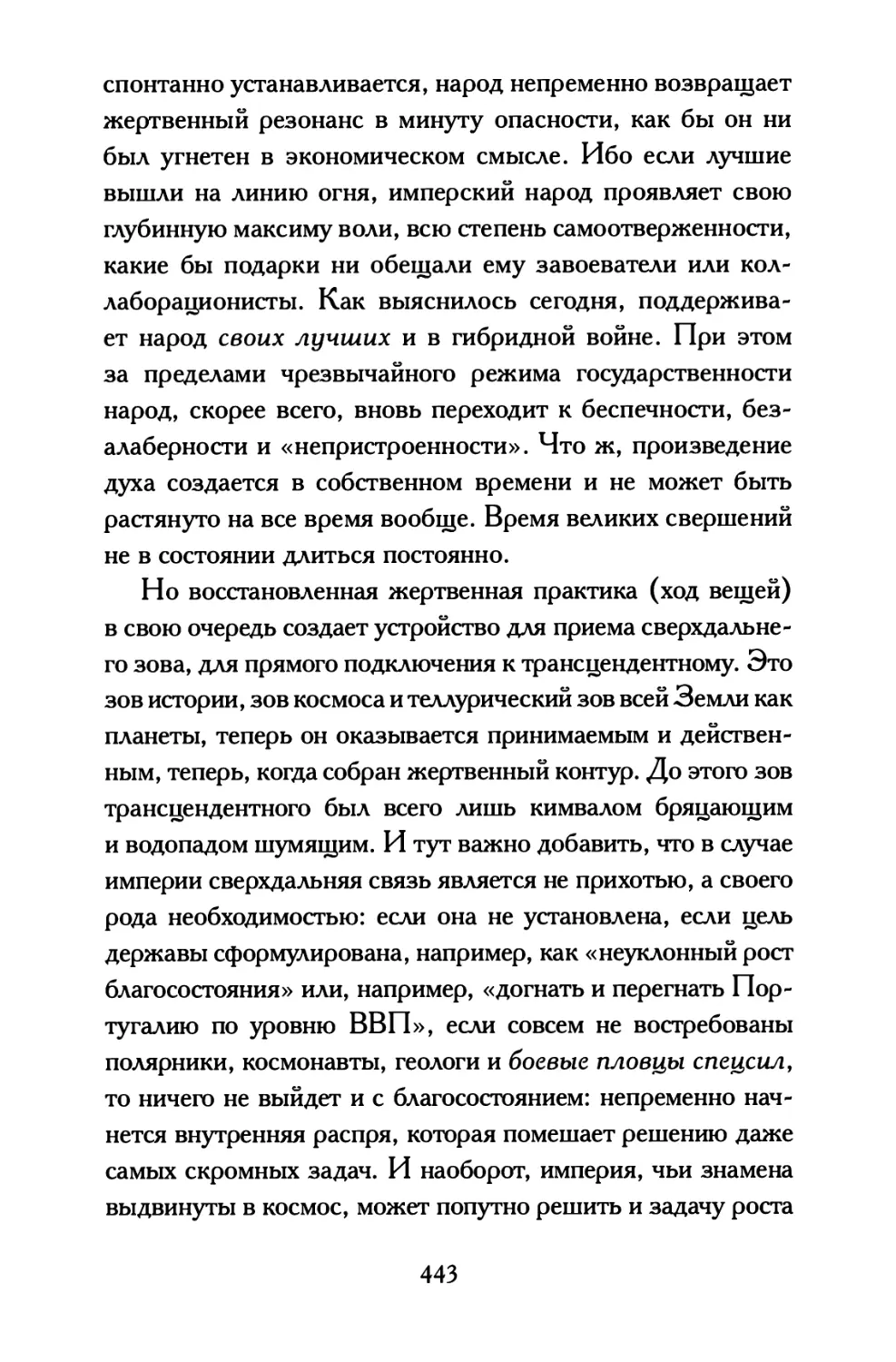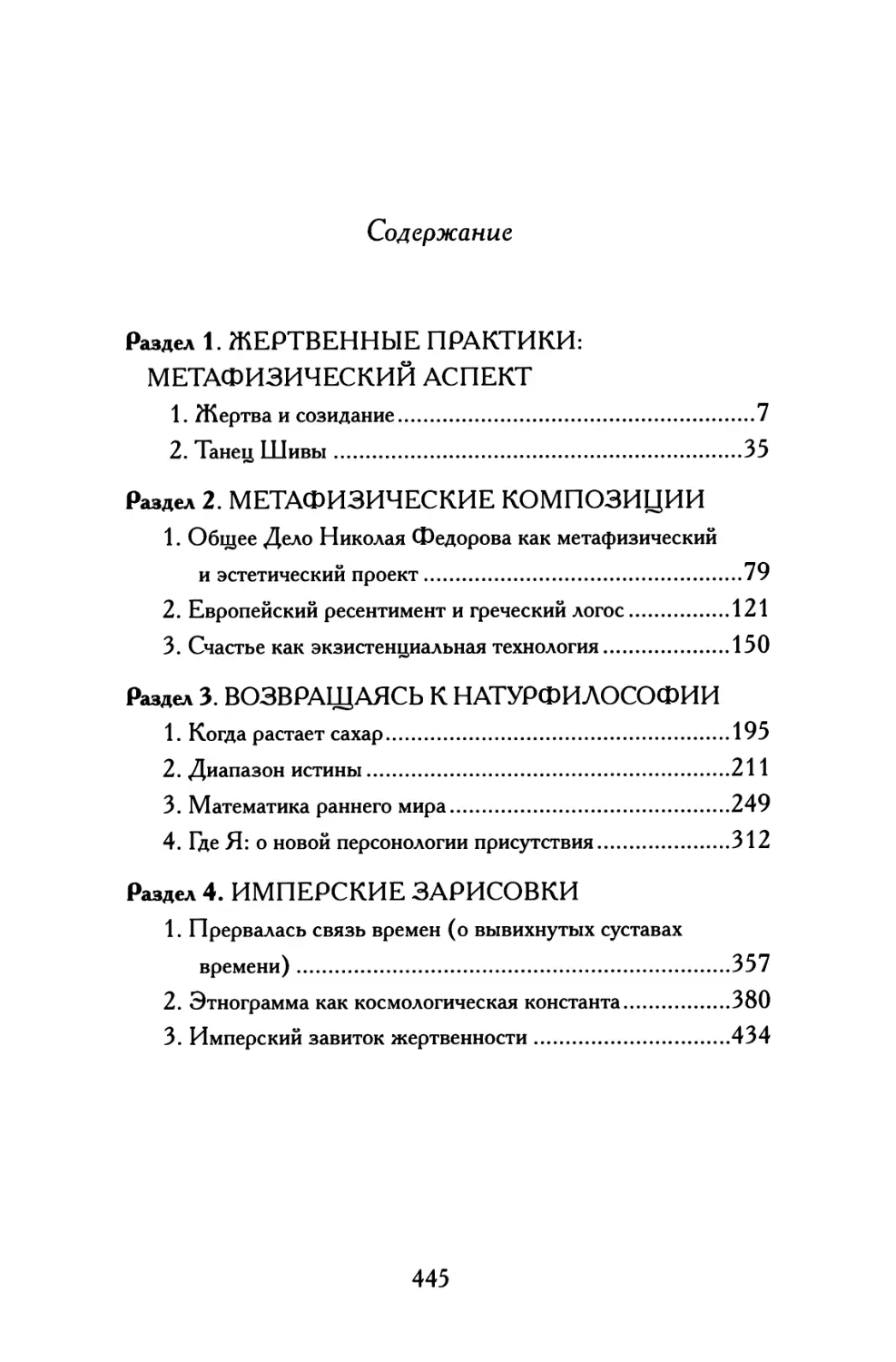Автор: Секацкий А.К.
Теги: очерки эссе художественная литература философия история
ISBN: 978-5-6044906-0-0
Год: 2020
Текст
Александр Секацкий
ЖЕРТВА И СМЫСЛ
Александр Секацкий
ЖЕРТВА И СМЫСЛ
ψ
люди и книги
Санкт-Петербург
УДК 82-43
ББК 84 (2Рос-Рус)6
КТК610
С 28
Издание осуществлено при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям
Секацкий А·
С 28 Жертва и смысл : очерки. - Фонд содействия развитию
современной литературы «Люди и книги», СПб., 2020.-448 с.
Книга «Жертва и смысл» - плод философских и
культурологических изысканий автора последних лет. В свойственной ему
парадоксальной форме Александр Секацкий представляет результаты своих
размышлений о жертвенных практиках, о некоторых классических
проблемах натурфилософии (истина, время, познание), а также
любопытные и оригинальные соображения на тему истории и геополитики.
Для широкого круга читателей.
ISBN 978-5-6044906-0-0
© А. Секацкий, 2019
© Фонд «Люди и книги», 2020
© ООО «Издательство К. Тублина», макет, 2019
© А. Веселов, оформление, 2019
Раздел 1
ЖЕРТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ:
МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
1. ЖЕРТВА И СОЗИДАНИЕ
Вопрос о смысле
В антропологии, практически во всех ее версиях - от
полевой этнографической антропологии до метафизических
текстов Батая, Кайуа и Макса Шелера - тема
жертвоприношения проходит красной нитью или, по крайней мере,
пунктиром и особенно ярко проступает там, где нет
сколько-нибудь внятных рациональных объяснений. В огромном
массиве антропологической литературы подробно описаны
детали соответствующего ритуала, описаны жертвенники
и святилища, которые, чем архаичнее эпоха, тем ближе
оказываются друг к другу вплоть до исходной
неразличимости, как если бы когда-то, сотворив человека,
демиург обратился бы к нему с первыми словами: «И вот тебе
жертвенник для всесожжения, и да не будет тебе других
святилищ кроме него!» Потребовалось время, если
угодно, время остывания, чтобы появились и иные святилища,
святилища другого типа, способные поддерживать некую
альтернативную связь с богами, с тем светом...
Подробно, тщательно описан «состав» жертвенного
приношения и последовательность церемоний,
исследованы этапы эволюции, которая в обобщенном, кратком
виде выглядит так: прямая жертва, замещающая жертва,
7
жертва символическая - то есть преобладает
ранжирование по принципу облегчения (инфляции) ставки.
Выделяются и другие модальности жертвоприношения: жертва
предварительная, компенсирующая, искупительная. Хуже
всего дело обстоит с попытками объяснения, например,
с мироустроительной функцией жертвоприношения.
Из многочисленных описаний, от Фрэзера до Рене
Жирара, мы узнаем, что «верить», «приносить жертву»,
«быть человеческим существом», «поддерживать
жизнеспособность социума» - понятия близкие, переходящие
друг в друга. Но остается неясным, что же в них
созидающего, какова характеристика великой производительной
силы жертвоприношения?
Что, собственно, производится этим актом? В общих
чертах можно согласиться с Батаем, Кайуа и Жираром:
свобода и суверенность - то есть фундамент
человеческого в человеке. Но как именно и почему? Все это пока
остается тайной.
Парадоксальная логика
Есть плоская геометрия Пифагора - Евклида,
существует стереометрия в разных вариантах, есть и
современная алгебраическая геометрия - причудливая, невероятная
и необозримая, если стоять внутри Пифагорова
треугольника, но, в конечном счете, объясняющая и
санкционирующая этот самый треугольник. И логика расширялась
и преобразовывалась - от аристотелевской силлогистики
до математической логики и логики возможных миров;
диалектика тоже есть логика высоких измерений, как бы
к ней ни относиться. Как же она работает в случае
жертвоприношения, как объясняет этот демиургическии акт
8
учреждения трансцендентного? Здесь мы имеем дело
с самым ядром универсального космогонического мифа.
Например, жертвоприношение Пуруши, которого
приносят в жертву, рассекая на части, а затем из этих же частей
вновь составляют тело. Это можно понять как
пересотворение: сначала заготовка и лишь затем, после
жертвоприношения, сам человек. Без жертвоприношения
человеческое еще не конституировано, и Пуруша, скорее, Голем до
этого высшего демиургического акта.
Авраам заносит жертвенный нож над Исааком, он
готов принести в жертву не себя, а того, кто дороже ему,
чем он сам - единственного, долгожданного (всю жизнь)
сына, - и нет сомнений, что он сделает задуманное, если
только сам Господь не отведет его руку и не усмотрит
другого агнца для всесожжения. Перед нами
Жертвоприношение с большой буквы, и оно есть основа Завета, и остается
лишь удивляться, как стыдливы и трусливы
интерпретаторы, внушающие разными способами читателю, что
Господь не мог и не собирался принимать жертвоприношение
Авраама (интерпретаторы, особенно сегодняшние, наивно
полагают, что паства не вынесла бы такого Бога, который,
не дрогнув, принял бы жертву, хотя для первых
уверовавших требовалось объяснение как раз тому, почему Бог
руку Авраама отклонил, поставив под угрозу надежность
Завета).
Еще один бог, собственно, Один, требовал себе
регулярной жертвы, и когда ничего подходящего не оказалось,
принес себе в жертву самого себя. Он совершил операцию,
непосильную для диалектики, - и подобными примерами
полны космологические системы мира. Но, не вдаваясь
в антропологические тонкости, поставим вопрос ребром:
почему же непременно нужно лишать жизни, убивать,
9
истреблять, терять и отказываться для того, чтобы учредить
человеческий мир и обрести прочные устои? Почему бы не
прибегнуть к вариации какого-нибудь благого пожелания
типа «давайте жить дружно»? Или взять популярный
лозунг одомашненной Европы «мы такие разные, и все-таки
мы вместе» - почему же ни в одной космогонии мир не
начинается с таких или подобных слов? С девизов
дружбы, приветливости, терпимости? Дело всегда обстоит
иначе: либо мы совершим жертвоприношение, оказавшись
втянутыми в деяние добровольно принятой и даже
приглашенной смерти, либо с экзистенциальным измерением
бытия ничего не выйдет - реактор по производству души
не заработает.
Вслед за принесенной жертвой начинается избыва-
ние, искупление, если угодно, утоление боли, муки, но все
дело в том, что этой муки нельзя было избежать. Можно
установить, восстановить мир, если мириться, но если нет
повода «мириться», то нет и мира. А что есть? -
глиняная заготовка, которую следует омыть горячей
жертвенной кровью, иначе она не станет человеческой плотью, так
и останется глиной.
Нужно также удивительным образом приостановить
простую транслируемую тавтологию «а есть а», рассечь ее
и произвести неравенство, вызвать инопричинение
изнутри самопричинения. Что-то вроде такого:
а есть а
а есть нг-а
а есть Ъ
И вот теперь а есть воистину а.
Впрочем, одна и та же логическая сила может скрывать
в себе вещи, не имеющие отношения друг к другу, может
скрывать решающие различия.
10
Обратимся к метафизике
А что же философия с ее важнейшей задачей
описывать решающие акты производства человеческого в
человеке? Что она говорит о жертвенности и созидании?
Увы, немногое, в основном то, что и так знает
антропология: жертва лежит в основе солидарности, свободы
и суверенности. Жертва положена в основу важнейших
человеческих вещей, как принесенное в жертву животное
кладется в основу, в фундамент возводимого дома,
которому предстоит стоять долго и давать приют полноценной
человеческой жизни. И если ты не принесешь жертву, ты
не защитишь свой кров (основы общежития) - что и
подтверждает совокупный опыт архаики. На вопрос, почему,
собственно, не защитишь, почему именно для жирности
мира требуется возобновляемое жертвоприношение, свой
ответ дает Рене Жирар: суть в том, что наступает
жертвенный кризис. Если вкратце резюмировать ход мысли
Жирара, получится следующее: в обществе
накапливается сорное, не канализованное насилие, и оно должно быть
сосредоточено на подходящей жертвенной фигуре, как бы
втиснуто в нее и правильно погребено в огне жертвенника.
Лишь тогда происходит избывание, новое тело Пуруши
может вздохнуть полной грудью. Но жертвенный кризис,
как ясно из самого термина, призван объяснить
очистительную работу жертвоприношения, но не его
первопричину. Она же сама вновь ускользает от объяснения, дело
ограничивается констатациями, хотя и они, конечно,
достаточно важны.
Этимология индоевропейских философских
терминов более или менее ясна, выявлены базисные
метафоры: универсальная метафора ткачества (ткань (text),
11
основа и уток, связующая нить), метафора строительства
(фундамент, устои, архитектоника) - и что уж говорить
про оптикоцентрическую, или паноптическую, метафору.
С «жертвенной» метафорой дело в языке философии
обстоит куда сложнее и запутаннее.
Конечно, вспоминается «работа негативности»,
которую Гегель рассматривал как основу живой жизни
понятий*. Гегелевская негативность, как справедливо отмечает
Кожев, лежит в основе самости и протеста**, и жертвенное
начало проглядывает в ней, особенно когда Гегель говорит
об абсолютной разорванности, на которую тем не менее
следует решиться. В каком-то смысле притягательность
гегелевской философии, ее удивительная применимость
вытекают из близости к великой жертвенной практике,
но мешают опасения, которые Гегель так и не смог
преодолеть. Если угодно, это слишком прямое и поспешное
сведение жертвоприношения к «пользоприношению»,
попытка удержать их в одном плане имманенции. Между тем
жертвоприношение учреждает мир суверенности и если
и приносит пользу, то лишь такую, которая будет точно
бесполезной здесь и сейчас, точнее, будет губительной для
текущего пользоприношения.
Жертвенность не вытекает ни из какой логики, она
выстроена не как инобытие, а как трансцендирование, она
в каком-то смысле является более радикальным транс-
цендированием, чем смерть. Смерть настигает и
достойных и недостойных, она ожидаема и всегда лишь отложена,
отсрочена: существуют ситуации и контексты, в которых
ожидание смерти не отличается от ожидания ужина.
* Гегель Г. В. Ф. Наука логики. — СПб., 2012. — С. 383.
** См.: Кожев А. В. Идея смерти в философии Гегеля. — М., 1998.
12
Но жертва, особенно в ее соотношении с самой собой,
как самопожертвование, обостряет неразборчивую смерть
собственным сознательным выбором, включая факт,
место, день и час. Да, никто не знает ни дня, ни часа своего -
никто, за исключением приносящего себя в жертву.
И это, конечно, трансцендентальный акт созидания,
запуск новой причинности causa sui. То есть
жертвоприношение есть способ определиться на местности, если
под «местностью» понимать рельеф бытия. Учреждается
ось координат, уходящая в трансцендентное, где
сейсмический центр новой причинности, исходящей от
эксклюзивной точки, перебивает действие «старой»
причинности, уже не способной причинять ничего существенного,
ничего экзистенциального (закон свободы отменяет
законы природы - согласно Канту). И это как раз сила
созидания.
«Если Бога нет, то все позволено», - утверждает герой
Достоевского. Скажем теперь так: если
жертвоприношения нет, если оно не совершается больше, то ничего не
доступно, ничего из того, что принято относить к высшим
человеческим устремлениям. Жертвоприношение открывает
горизонты далекого доступа.
Аскетическое и жертвенное
Удивительно, но учреждающую, миросозидающую
роль жертвоприношения практически без внимания
оставил Ницше. Зато его внимание непрерывно привлекала
аскеза и аскетический идеал - нечто близкое и
родственное жертвоприношению, хотя степень этого родства
установить не так просто. Вспомним его знаменитое
определение аскетизма: «Жизневраждебная специя, необходимая
13
для произрастания самой жизни»*. То есть жало аскезы
направлено туда же, куда и жертвенный нож: возникает
искушение рассмотреть аскезу как жертвоприношение,
растянутое во времени. Следует приостановить простую
экспансию присутствия по линии наименьшего
сопротивления и обратить силу преодоления на себя самого. И
тогда что - произойдет «разбиение сосудов» согласно
философии Хабада? Прежние враги придут на помощь? Будет
предотвращен незаметный захват самости?
Да, все это и многое другое: авторизация, обретение
суверенности, учреждение себя как иного и иного как себя...
Самое глубокое понимание этих моментов, как всегда,
присутствует у Достоевского. Вот что говорит старец Зосима:
«Не святее же мы мирских за то, что сюда пришли и в
сих стенах затворились, а, напротив, всякий сюда
пришедший, уже тем самым, что пришел сюда, познал про себя,
что он хуже всех мирских и всех и вся на земле... И чем
долее потом будет жить инок в стенах своих, тем
чувствительнее должен и сознавать сие. Ибо в противном случае
незачем ему было приходить сюда. Когда же познает, что
не только он хуже всех мирских, но и перед всеми
людьми за всех и за вся виноват, за все грехи людские,
мировые и единоличные, то тогда лишь цель нашего единения
достигается » **.
Чтобы получить благодать, святость и силу, нужно
оказаться виновнее всех, принести в жертву счастливое,
уверенное в себе сознание и взамен - приобрести мир. То
есть, скорее, учредить мир, который теперь будет стоять на
его, инока, деянии.
* Ницше Ф. Сочинения в 2 т., т. 2. - М., 1990. - С. 489.
* Достоевский Ф. М. Собрание соч. в 15 т., т. 9. — С. 353.
14
Возникает вопрос: но ведь уклонившиеся от жертвы не
претерпели урон, они сохранили себя и свое - почему же
не им принадлежит приоритет в созидании? Или не тем,
кто действует по принципу «на тебе, Боже, что нам
негоже»?
Обладать приоритетом можно, лишь вступив в
жертвенное отношение и по его итогам. То есть нужно
авторизоваться, воистину став хозяином своего - но разве
можно стать суверенным властителем своего, без реализации
права на отчуждение, дарение, уничтожение? Вспомним
расхожий софизм: «То, что ты не потерял, то у тебя есть,
тем ты располагаешь. Но ты не терял рога, значит, они
у тебя есть...» Теперь, улыбнувшись, преобразуем этот
софизм в настоящую философскую максиму: «Того, что
ты не терял, у тебя, в сущности, и нет, или все равно что
нет».
Недостающее можно приобрести, но лишь
потерянное - обрести. Обретения нет без потери и утраты.
Жертва интенсифицирует и приумножает обретение, придавая
ему новый статус. Так, лишь жертвоприношение
позволяет обрести самого себя, оно же может помочь обрести
друзей среди прежних врагов. Или дать жизнь богам, если
понимать бога как объект возобновляемых
жертвоприношений - для структурализма это вполне работающее
определение. А если ты не сотворишь богов, то как
получишь их покровительство? Таков круг кулы, таков же и
непорочный круг жертвоприношения. История о том, как
и когда умерли бессмертные боги Олимпа, проста и к ней
нечего добавить: когда им перестали приносить жертвы.
Ими, их изваяниями и изображениями, продолжали
любоваться, истории о богах продолжали слушать и читать,
это с удовольствием делают и по сей день. Но когда Зевсу
15
перестали приносить в жертву быка, а Артемиде агнца,
когда погасли огни жертвенников, оставалось лишь
констатировать: боги мертвы. В это же самое время угас и дух
Эллады, и сама античность погрузилась в Аид, в царство
теней, в царство мертвых.
Жертвы угодные и неугодные
Каин стал изгоем еще до того, как перестал быть
сторожем брату своему:
«И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец.
Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли
дар Господу, и Авель также принес от первородных стада
своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар
его, а на Каина и на дар его не призрел» (Быт. 4:2-4:5).
Так в Ветхом Завете вводится важнейшая дихотомия
угодной и неугодной (отвергнутой) жертвы, что делает
самое радикальное человеческое деяние еще более
радикальным. Задумаемся над этим. Бог может отвергнуть
жертву, отклонить без объяснения причин - «не призрел»
и все. Яхве просто дает Каину совет, как быть дальше, не
объясняя, почему Он призрел жертвоприношение Авеля,
а Каиново отверг. Допустим, Каин выбрал бы стратегию
сбережения, проявил жлобство и не принес бы жертвы
Господу. Тогда отвергнутость самого Каина не вызывала
бы вопросов: не совершающий жертвоприношения не
участвует в созидании души. Но Каин принес жертву, и нигде
не сказано, что она стоила ему меньше, чем Авелю. Дело
вовсе не в этом, а в том, что Господь не призрел ее.
Дело также и в том, что в истории с Авраамом (вновь
вернемся к ней) вся поздняя теология неверно
расставляет акценты. Вот Авраам занес руку с жертвенным но-
16
жом, но Господь отвел его руку. Но мы спешим
представить себе тот ужас, который ожидал бы Авраама (и нас),
если бы Бог не отвел его руки и Исаак был бы повержен,
лишен жизни. Как уже отмечалось, мы неверно
представляем себе самое ужасное для Авраама. Мы забываем
главное: Господь отвел руку Авраама, но он принял его
жертву. Самый ужасный ужас для Авраама состоял бы
в том, если бы Бог, отведя руку, отклонил бы и жертву.
Тогда Авраама постигла бы участь Каина. Его семя не
получило бы благословения, и сохраненная жизнь Исаака
вряд ли утешила бы Авраама в этом случае. Вспомним
Каинову участь: отвергнутая жертва обрекла его на то,
чтобы быть сторожем успехов брата своего, получившего
обетование и благословение. Каин отказался быть
«сторожем брату своему» и перешел грань между неугодной
жертвой и проклятием.
Великое чаяние всех времен и народов состоит не в том,
чтобы обойтись без жертв, оно гласит: «Чтобы жертвы
наши были не напрасны». Да избегнет нас Каинова печаль
и следующая за ней Каинова печать. Но пути Господни
неисповедимы даже в этом, точнее говоря, в этом прежде
всего.
Важнейшим условием высшего обещания и
обетования является хорошая память, вопрос в том, чья именно.
Крайне существенно, чтобы давший обещание не забыл
его, чтобы он не пожалел усилий для исполнения
обещанного - об этом исчерпывающе написал Ницше в
«Генеалогии морали». Однако, если давшие обещания забудут
их или не смогут исполнить, мир все-таки устоит. Ведь
подобное положение вещей существует и сегодня и
именуется политикой. Но вот если обещанное забудет тот,
кому обещали, мир может рухнуть - потому-то Бог есть
17
непременный гарант того, что ему обещано. Бог есть тот,
кто не забывает обещанного Ему, и на этом держится мир.
Но с жертвоприношением ситуация другая. Здесь мы
имеем дело с предельным теургическим жестом: лишь
человек жертвующий обретает богов, но, одновременно,
божественное неразрывно связано с возможностью
отклонения жертвы, и капризность здесь ни при чем, она
возникает в случае человеческого вторжения в эту монополию
Всевышнего.
Логика демиургического созидания
Решающе важным моментом является неизменность
дистанции между принесением жертвы и принесением
пользы. Эту важность можно пояснить с помощью
нескольких незатейливых изречений.
Наши партнеры - это те, кому мы приносим пользу,
и поскольку данное отношение может быть только
симметричным, они тоже приносят пользу нам, иначе речь
идет об эксплуататорах и поработителях, а не о партнерах.
В более узком и строгом смысле слова это диапазон
взаимной выгоды. Партнерские отношения выступают в
качестве регулятивного принципа слишком человеческого; мир,
в котором все приносят пользу друг другу, остается хоть
и недостижимым, но понятным.
Наши близкие суть те, кому мы приносим жертву - при
условии, что жертва принимается. Идеал и регулятивный
принцип близости - согласованность встречных
жертвоприношений. В простейшем случае это взаимная усталость
ради и во имя друг друга. Но если жертва отвергается,
близкий человек превращается в предателя, мучителя или
бесчувственное чудовище.
18
А боги - это те, кому приносят жертву без каких-либо
гарантий, что жертва окажется угодной и будет принята.
Подобный выбор знает и любовь - в тех случаях, когда
мы обожествляем любимую или любимого, и самое
удивительное в том, что на какое-то время любовь может это
пережить. Здесь кроется некий упущенный смысл
тезиса «Бог есть любовь» - воистину божественное в
любви вовсе не созерцание небесных сфер и диалектических
переходов и не безграничное милосердие, проходящее
по собственному ведомству, а квинтэссенция
жертвенности - право отвергнуть жертвоприношение любящего
и остаться при этом любимым. То есть право играючи
воспользоваться эксклюзивной прерогативой Бога, которой
не обладает никто из земных властителей, кроме любимой
и любимого.
Жертвенный кризис,
Новое время и современность
Новое время характеризуется не просто распадом
жертвенных практик, можно сказать, что отлив
жертвоприношений служит конституирующим фактором Нового времени как
такового, - об этом говорят и Ницше, и Жирар. Но теперь
у нас появляется возможность взглянуть на дело иначе. Да,
всеобщая редукция ставок бросается в глаза; даже
остающиеся еще символические и замещающие жертвы утратили
в сознании участников связь с жертвенным началом и
воспринимаются как досадные, неизвестно почему
сохраняющиеся помехи и задержки созидания, сегодня девиз
«обойтись без жертв» становится символом успеха в любом деле.
Презумпция сохраненности сегодня
декларируется в качестве универсального этического принципа, что
19
означает замену жертвоприношения пользоприношением
во всех регионах человеческого присутствия.
Жертвенная практика изменилась институционально,
но это отнюдь не значит, что она исчезла навсегда.
Сегодня жертвенный кризис состоит, скорее, в другом - в
наступлении эпохи неугодных жертв, жертв непринятых
и отвергнутых. Примерно в это же время стали говорить
о богооставленности, которая не обязательно должна быть
связана со смертью бога, с упадком его всемогущества.
Достаточно того, чтобы Бог не призрел ряд приносимых
ему жертв, отверг их одну за другой и тем самым не
возобновил завета. Он еще не отвергает даваемые ему
обещания, но угодных ему жертв становится все меньше и,
видимо, как следствие, меньше становится и
жертвоприношений вообще.
Особенное отчаяние это должно вызывать у великого
жреческого народа, чьи жертвы когда-то были так угодны,
что последствия сказываются до сих пор. Представители
народа и в самом деле размножились, как песок морской:
в науке, в культуре, во всем символическом производстве
и в современных элитах. Но это было давно, быть может,
жертвоприношение Исаака было последней великой
жертвой, одобренной свыше. С тех пор шли только сбои и
неудачи, по сути, напрасные жертвы...
В спекулятивном смысле это выглядит так. От
испанского изгнания и до наших дней продолжается черная
полоса. Ничего не дало жертвоприношение России, в которой
евреи стали первенцами, обрели первородство. Холокост,
если трактовать его в соответствии с названием как
всесожжение на жертвенном огне, был (и в этом весь ужас)
напрасной жертвой - таково самоощущение большинства
уцелевших жертв. Лишь немногие, верующие так, как ве-
20
ровали Авраам и Моисей, терпеливо ждали, пока Б-г
примет жертву, и обретение государства Израиль стало для
них знаком, что жертва была угодна Господу. Что касается
непомерных потерь, то как раз они, верующие в Бога
Авраама, Исаака и Иакова, знали, что нрав Его всегда был
суров и со времен Содома и Гоморры ничуть не
смягчился. Да, раз в тысячелетие Он может отвести занесенную
руку с ножом от Агнца, но может и не призреть
искренней жертвы, и обратить песок морской в бетон для Стены
Плача.
С точки зрения «величайшего жреческого народа», как
называл его Ницше, после обретения Царства на
повестке дня должен стоять Храм. И поскольку текущая жизнь
проходит во времена Неугодных Жертв (такие уж
времена), то при самом тщательном отношении к отделению
агнцев от козлищ, к выбору чистых и непорочных для
Всесожжения, возможно, потребуется еще не одна попытка.
Пожалуй, еще рано подводить итоги последней по
счету попытки, но, кажется, Яхве и на этот раз
отвратил свой лик. А ведь жертвенный проект, так и не
получивший единого, общепринятого имени (в числе пробных
названий - «неогуманизм», «толерантность», «полит-
корректность», глобализм) был осуществлен в
планетарных масштабах. В жертву вроде бы принесены лучшие:
самостоятельно мыслящие, наделенные высоким уровнем
притязаний, люди из колен Эйнштейна и Фрейда. Им
пришлось уступить свое первородство малым сим и даже
малейшим из малых. Эталоном нового человечества были
избраны (или назначены) кроткие, незлобивые,
несчастные, выпускники спецшкол, для которых верхом карьеры
может служить работа в пиццерии, клинические и
социальные аутисты, наконец уверовавшие в социальную
21
рекламу как в скрижали Завета, словом, хуматоны,
закваска нового человечества. Их запросы и были утверждены
в качестве оптимального уровня притязаний (а что сверх
того, то от лукавого, то гордыня и суета сует), в
результате чего носители больших возможностей стали, скорее,
носителями отклонений. Но главное то, что незатейливое
счастье хуматонов было возведено в эталон насыщенной,
состоявшейся жизни, стало образцом успешной,
признанной самореализации.
Воистину удивительный вид имеет этот спектакль со
стороны. Вот обладатели изощренного ума, высоких
амбиций, настоящей душевной широты, словом,
традиционные претенденты на роль лучших, обладатели качеств
признанной элиты. И все это предстояло принести в жертву
носителям незатейливого счастья, умерить свой уровень
притязаний до их уровня, устыдиться своего
превосходства, которое ныне считается вовсе и не превосходством,
а обременением.
Всем инстинктам жизни надлежало пройти
денатурацию, когда сначала было отключено
сверхъестественное, а затем извращено и денатурировано и естественное.
С какой-нибудь удаленной, инопланетной дистанции это
выглядит как преклонение перед уродцами, отщепенцами
в виде «щепочек», которые из всего диапазона души
удерживают только узенький участок. Причем они как бы
отщепенцы «с разных боков», объединенные лишь общим
принципом денатурации, извращенностью того или иного
инстинкта или, наоборот, гипертрофией той или иной
частичной способности. Не о них ли писал пророчески Ницше
в своем «Заратустре»:
«И когда я шел из своего уединения <..„> я не
верил своим глазам, непрестанно смотрел и наконец сказал:
22
"Это - ухо! ЭДю величиною с человека!" Я посмотрел еще
пристальнее: и действительно, за ухом двигалось еще
нечто, до жалости маленькое, убогое и слабое. И поистине,
чудовищное ухо сидело на маленьком, тонком стебле -
и этим стеблем был человек! Вооружившись лупой,
можно было разглядеть даже маленькое завистливое личико,
а также отечную душонку, которая качалась на стебле этом.
Народ же говорил мне, что большое ухо не только человек,
но даже великий человек, гений. Но никогда не верил я
народу, когда говорил он о великих людях, - и я остался при
убеждении, что это - калека наизнанку, у кого всего
слишком мало, и только одного чего-нибудь слишком много.
Поистине, друзья мои, я хожу среди людей, как среди
обломков и отдельных частей человека!»*
Никакой здравый смысл не может вместить этой
нелепости - только логика жертвы может как-то описать
ситуацию: носители Первородства преклоняют свои снопы перед
бастардами и недоносками, сон Иосифа как бы реализуется
в обратном направлении: как только появляется тугой сноп
со свежими жизненными силами, вокруг него тут же
встают косые, кривые и трухлявые снопики, а очередной Иосиф
Прекрасный поклоняется им и просит прощения за то, что
не был особым ребенком, за то, что он не разносчик пиццы,
не активист гей-сообщества и вообще ничего не сделал для
того, чтобы облегчить положение геев в Катаре и суннитов в
Сирии, которых кровавый режим Асада лишил
возможности истреблять христиан. Вместо этого он, студент
Кембриджа, солист Ла Скала, конструктор коллайдера - так пусть
же сноп его поникнет перед снопами сухими и кривенькими,
* Ницше Ф. Сочинения в 2 т., т. 2. - М., 1990. - С. 100.
23
пусть не портит общей картины, когда одобренный горизонт
признанности выравнивается по минимальному уровню
притязаний (то есть ниже плинтуса), а выдающиеся пусть
выдаются незримо и тихо, не забывая славить продукты
денатурации как соль земли.
Этот грандиозный жертвенный проект поначалу шел
почти без сбоев, истеблишмент стыдливо признал
первородство новых носителей духовности и должным образом
организовал поклонение им. Казалось уже, что Господь
принял, призрел эту жертву и восстановление Храма не
за горами... Но все изменилось в одночасье: восстала из
пепла Россия, как птица Феникс, восстановив
собственное жертвенное священнодействие, затем обозначили свой
выбор народы Европы и Америки, выбор совершенно
неожиданный для жрецов Транспарации. Нормальные
граждане, носители здравого смысла, не захотели быть
агнцами для всесожжения и, словно бы стряхнув
наваждение, вырвались на свободу.
Конечно, об окончательных итогах судить пока рано, но
похоже, что и эта, тщательно подготовленная жертва
оказалась неугодной Б-гу Авраама, Исаака и Иакова - что
позволяет нам и вправду охарактеризовать Новое время
как эпоху отвергнутых жертв, откуда естественно вытекает
замена подлинного созидания (включая творение ex nihilo)
тиражированием и репликацией наличных форм
вещественности и социальности.
А что искусство?
Европейское искусство стало преемником сакральной
трансляции, если угодно, религии, и это произошло
только с европейским искусством. Лишь в Европе художник
24
попробовал себя в роли священнослужителя, жреца и
пророка - и распробовал себя в этой роли, и понравилась она
ему.
Статус произведений искусства как нетленных и
нерукотворных, уже начиная с эпохи Возрождения, находится
гораздо ближе к святыням, чем к ремесленным изделиям
в самом широком смысле слова, несмотря на «хищный
глазомер простого столяра» (О. Мандельштам) и на
внутрицеховые признания того же рода. Европейское
искусство на протяжении нескольких столетий функционирует
как светская религия, где почти каждый параметр
практикующей церкви имеет свои параллели. Даже биографии
художников, прежде всего их художественные и
легендарные биографии, охотно воспринимаются как жития
святых - достаточно вспомнить Леонардо, Моцарта, Ван
Гога, Пушкина или Толстого.
Но если это так, то рассмотрение искусства как
жертвоприношения должно быть воспроизведено со всей
тщательностью, ведь жертвенное приношение и есть главное
священнодействие, одобренный или отвергнутый проект
благословения к созиданию.
Если говорить в самых общих чертах о феномене
европейского искусства, необходимо признать, что
жертвоприношение художника увенчалось успехом, его жертва
была благосклонно принята свыше, Господь призрел ее.
Это произошло в эпоху Возрождения и свершилось во
всех измерениях реальности сразу - в
экзистенциальном, социальном и историческом, но, разумеется, с разной
скоростью. Вот «на входе» мы видим бродячих актеров,
циркачей, скоморохов, странствующих художников
(рисовальщиков), голодных поэтов (вагантов), готовых
воспевать подвиги господина в обмен на скромное место за
25
пиршественным столом. В совокупности их всех не так
много, малочисленное племя, которому предстоит
получить благословение и обетование свыше. Среди прочих
мастеров-ремесленников, разных кузнецов, ткачей,
оружейников, они выделяются разве что особой нуждой и
неприкаянностью - это на входе.
А на выходе, по прошествии нескольких столетий, мы
видим подлинную элиту общества. Теперь художник это
тот, кем мечтают стать, актриса, играющая на сцене или
тем более на экране, - та, о ком говорят с придыханием,
поэт - Председатель Земного Шара, а музыкант...
- С добрым утром, Бах, - говорит Бог.
- С добрым утром, Бог, - говорит Бах. *
И размножилось это прежде немногочисленное племя
как песок морской, никогда, ни в какой религии не было
столько жрецов и пророков... Да и среди прочих, каждый
второй - поэт в душе, каждый третий - непризнанный
художник. Признанность, конечно, лимитируется
«величиной прихода», но возможно депонирование вкладов «до
востребования», ибо вклады нетленны.
Денежное вознаграждение, конечно, запаздывает,
поскольку оно обусловлено обетованием другому богу
(Мамоне), но в какой-то момент приходит и оно,
свидетельством чему Голливуд, гламур и шоу-бизнес в целом.
Некоторое презрение настоящих художников к ловцам
такого рода благополучия как раз и объясняется его
происхождением от другого бога, обогащаются, так сказать,
«выкресты» в среде художников, как бы сменившие кредо.
* Александр Галич.
26
И все же в целом, со времен принятой с
благосклонностью жертвы Авеля, трудно найти другой такой, столь же
убедительный и вдохновляющий пример. Да, великое
жертвоприношение состоялось и дало, толчок созиданию миров.
По большей части миров химерных и эфемерных. Но
некоторые из них сохранили и продолжают сохранять, так
сказать, всхожесть семян. К ним следует присмотреться
повнимательнее, но прежде задумаемся: а что, собственно, было
принесено в жертву? И/или кто? Общие метафизические
соображения тут ничего не подсказывают, зато на помощь
приходит один анекдот - анекдот о русском писателе.
Итак, по писательскую душу приходит Сатана и
начинает искушать. То есть предлагает жесткий
экзистенциальный выбор:
- Выбирай. Ты обретешь всемирную славу. Твои
книги будут читать. Переиздавать и преподавать. Тебя будут
узнавать на улицах, ты получишь Нобелевскую. Собратья
по цеху лишатся сна от зависти. Но взамен ты потеряешь
своих близких и всех родственников. Выбирай.
И писатель начинает думать. Рассуждая про себя.
И отчасти вслух:
- Так. С одной стороны - всемирная слава. Нобелев-
ка. Зависть этих, как его, собратьев... Блеск! С другой
стороны - никогда не увижу близких, потеряю
родственников - и шуринов! и деверей! и свояков! Черт возьми, ну
никак не могу понять, в чем же здесь прикол...
В этой короткой притче содержится исчерпывающий
ответ: вот что и вот кто были принесены в жертву. А о том,
что жертва была чистой, совершенной от всей души,
свидетельствует как раз тот факт, что настоящий,
самозабвенный писатель (художник) не может даже понять, в чем
прикол. «Оставь отца своего и мать свою», - говорит
27
Иисус. Вот и художник однажды без всякой подсказки
принес эту жертву - во имя допуска к священнодействию,
ради благодати и Первородства в обладании ею*. И
Господь, как уже было сказано, призрел эту жертву.
Но жертвоприношение требует возобновления -
созидательный потенциал, обретенный на огне жертвенника,
угасает. Мерцающий режим души в значительной мере
наследует мерцающему режиму жертвоприношения.
Понятно, что облагодетельствованный художник, чье племя
размножилось, как песок морской, не может рассчитывать
на вечные гарантии.
То, что искусство находится в кризисе, мы слышим
сегодня отовсюду - и это правда, слишком многое
свидетельствует об этом. Но правда и в том, что кризис, о котором
идет речь, в значительной мере и даже прежде всего есть
жертвенный кризис. Данное однажды благословение почти
иссякло, его удивительные плоды в значительной мере
обналичены «медными деньгами». То есть внутри
благословенного племени произошел раскол, и некоторая его часть
совершила незаконную, не предусмотренную
обетованием сделку, продав первородство за чечевичную похлебку.
Вскоре этот раскол был закреплен и институционально:
из племени посмертников (претендентов на долгую
посмертную славу) выделились эфемеры, из которых сегодня
укомплектованы такие подразделения символического
производства, как шоу-бизнес и попса, удерживающие звание
художника в том же смысле, в каком обращение господин
захватили булочник, сапожник и водопроводчик.
* Самые наблюдательные из писателей давным-давно осознали
это обстоятельство. Вот что, например, говорил Лев Толстой:
«Лучшее, что в нем есть, писатель отдает книгам — вот отчего книги его
хороши, а жизнь дурна».
28
Полученная чечевичная похлебка, однако, повредила
и тем, кто не собирался продавать первородство:
жертвенный кризис в искусстве, безусловно, носит самый общий
характер. Но есть ли из него выход, имеется ли способ
вновь обрести благословение и придать своему изрядно
профанированному занятию прежний характер
священнодействия?
Ясно, что жертву надо возобновить и, поскольку
прежнее приношение утратило ценность, нужно выбрать
что-нибудь из дорогого и воистину ценного - и обречь на
всесожжение или как-нибудь иначе отправить богам по
быстродействующей почте (любая стихия подойдет). А что
же самое дорогое есть у художника? Понятно что - его
произведения, они же - его детища. Очень высока
вероятность, что приношения из этого приплода будут угодны
Господу. Иными словами, созидательная сила искусства
сегодня как никогда прежде нуждается в жертвенном
освящении и возобновлении.
Следовательно, нужно взять с собой любимое
детище и проделать путь к жертвенному алтарю - так, чтобы
успеть попрощаться, чтобы успели это сделать и другие
участники шествия, включая виртуальное сопровождение:
пусть даже они видят картину-жертву первый и
последний раз. От нее останутся прижизненные и посмертные
изображения (копии, включая авторские), но само
детище будет предано огню или другой стихии,
обеспечивающей связь с трансцендентным, связь с богами. Характер
священнодействия прочитывается даже в этом
приблизительном описании. Детали могут быть какими угодно (как
устройство жертвенников и распорядок самих церемоний),
но суть в том, что жертвоприношение остается
единственной альтернативой профанации в сложившихся условиях.
29
Ибо архивы переполнены, музеи забиты под завязку,
судорожное производство опусов предстает как основное
занятие бесчисленных авторов и созидание
давным-давно уже перешло в захламление. Часть продукции удается
обратить в товарную форму (так формируется совокупная
бижутерия мира), подобные изделия выбывают из
состава искусства, а их изготовители утрачивают знак отличия
от прочих смертных, получая взамен оплату за труд. Но
и те художники, которых никто не исключал из искусства,
в результате глубокого жертвенного кризиса оказались
как бы на обочине символического; их
приношения-произведения, число которых уже воистину сопоставимо с
количеством морских песчинок, давно уже встречаются без
какого-либо придыхания (священного трепета), скорее со
вздохом... Высокая болезнь, о которой говорил
Пастернак, несомненно, лишилась своей высоты и была
разжалована в обычную болезнь, то ли нервную, то ли
психическую. Пришлось даже разрабатывать специальный курс
лечения, получивший название арт-терапии: за умеренную
плату врачи соглашаются выслушать рассказы
страдающих воспаленным авторствованием пациентов, оценивать
их рисунки, «картины маслом», всякие мелкие
финтифлюшки, будь они из пластилина, из дерева или из гипса.
Как ни крути, выход через жертвоприношение
оказывается единственным, и поскольку «собственные детища»
попадают в разряд самого дорогого, то именно из числа
лучших приношений должны отбираться
жертвоприношения. Еще раз отметим, что конкретные детали могут быть
весьма различны, не совсем ясно, как жертвенная
практика коснется тех или иных видов искусства, ясно пока лишь
одно - действенность лозунга «сим победиши!».
Предварительный набросок мог бы выглядеть примерно так.
30
Холокост символического
Разрозненные попытки уничтожить собственное
детище спорадически регистрировались на протяжении
столетий. Тут можно ограничиться Гоголем и его сожжением
второго тома «Мертвых душ»: нет ничего более далекого
от жертвоприношения, чем утилизация бракованных
заготовок. Новый цикл жертвоприношения и созидания
начнется внезапно и в кратчайшие сроки обретет планетарный
масштаб. Если перефразировать выдержку из «Ночного
дозора», получится следующий текст:
Сотню лет продлится перепроизводство
символического, заполнив все архивы и музеи. Но потом придет
великий иной Художник и возобновит жертвенную практику.
Он принесет в жертву богам лучшее из созданного им,
и так начнется эра Нового Созидания, эпоха
возобновленного завета.
Выставочные залы не исчезнут, но главными
производственными участками искусства станут алтари
Всесожжения, на которых и будет разворачиваться Холокост
символического. Сначала таких художников будет вообще
немного, может быть, только один, первый, самый
решительный и отчаянный, который поймет в один прекрасный
день, чем отличается искусство от Искусства. Поймет, что
отличается оно, Искусство, не сочностью красок, не
расчетливостью композиций и не точностью линий, хотя все
это тоже важно. Но отличие Искусства в его
причастности к жертвенной практике, в том, что часть
произведений и, быть может, лучшие из них прямиком отправятся
на алтарь Всесожжения. И этот иной художник доставит
туда свое детище - прямо из мастерской, с выставки, из
музея - и предаст его огню. Под оставшимися снимками
31
и посмертными репродукциями будет написано: оригинал
принесен в жертву в такой-то день и час такого-то
столетия. И Господь призрел принесенную жертву.
Практически нет сомнений, что первым в этой
практике будет именно живописец, так сказать, представитель
изобразительного искусства. Но за ним последуют
режиссеры, музыканты, поэты и писатели; всем видам
искусства предстоит найти способы причастности к жертвенной
практике. Музыканты могут сыграть сочинение какого-
нибудь великого композитора в звуконепроницаемом зале,
где их никто не услышит, кроме Бога, и время от
времени им придется возобновлять исполнение в пустоте, ибо
именно для такого исполнения будет предназначено
жертвенное приношение композитора и их собственное.
Для поэтов и писателей можно было бы предусмотреть
самоуничтожающуюся бумагу, чтобы книга в
определенный момент рассыпалась в прах - но наличие
электронных носителей лишает этот жест подлинной
радикальности. Быть может, действенным окажется обет молчания,
добровольно принятый на себя поэтом, скажем, сроком на
год. А для писателя - быть может, нечто подобное тому,
что описал Борхес в своей новелле «Пьер Менар, автор
"Дон Кихота"», - пересоздание уже созданных
произведений, где в жертву приносится собственное время и, так
сказать, души прекрасные порывы. Необходимость
причастности и тяга к жертвенности станут очевидными, когда
художник начнет обретать свободу (например, свободу от
товарной формы и пользоприношения вообще), а само
искусство вновь начнет набирать мощь и созидательный
потенциал.
Ну а музеи - представим себе, что они раз в год
осуществляют жертвоприношение одной из драгоценных
32
единиц хранения. Представим галереи и выставочные
залы, где помимо вернисажей есть и день причастности
к всесожжению символического - и не обязательно сам
художник должен решать, что именно из его приношений
потребуют боги. Ему достаточно знать, что боги жаждут,
и надеяться на то, что когда-нибудь, быть может в этот
раз, Бог отведет руку с поднесенным факелом.
Только так может быть восстановлено право на
священнодействие, и как только оно будет восстановлено,
появятся совершенно четкие отличия искусства от попсы:
искусство присоединено к жертвенной практике, а попса
от нее принципиально отключена. Художник может
лишиться и любимого детища, и самой жизни, поскольку
в священнодействии есть воистину опасные участки. Но
шоумен сохранен и сбережен в гегелевском смысле, все,
чем он рискует, это выйти из моды. А подлинный
художник рискует еще и тем, что его жертва может оказаться
и неугодной...
Символ христианства
Уже было дано вытекающее из жертвенной практики
определение божественного: право отвергнуть
принесенную тебе жертву уже после того, как она принесена.
Установили мы также, что если подобным образом поступают
люди по отношению друг к другу, то это либо вероломство,
которому нет прощения, либо любовь - отвергнутая, но не
нуждающаяся в прощении, и потому божественная.
Бог волен призреть или не призреть принесенную
жертву, это его привилегия. Но богам случалось
приносить в жертву и самих себя - вспомним, опять же,
скандинавскую мифологию. Но воистину покорил мир самым
33
радикальным жертвоприношением другой бог. Это Иисус,
Господь наш. Он принес себя в жертву людям - и так был
введен в действие величайший созидательный потенциал,
значительно превышающий возможности созидания,
даваемые принятой, одобренной богами жертвой смертных.
Но это еще не все: совершив собственное
жертвоприношение во имя смертных, претерпев муки на кресте, Иисус
оставил каждому возможность принять или отвергнуть эту
жертву. Так было задано онтологическое и теологическое
основание свободы - разумеется, не в смысле свободного
поднятия руки и не в смысле Эпикурова клинамена.
Произошедшее называется так: он сотворил человека
свободным, и сделать это, сотворить человека свободным, можно
только встречным жертвоприношением, которое он,
свободный, как раз в этот момент может и не принять. Если
сотворение человека есть непрерывный демиургический
акт, то его сотворение свободным происходит на
Голгофе - и продолжает происходить.
2017
2. ТАНЕЦ ШИВЫ
Продолжая исследовать метафизику
жертвоприношения, подойдем к теме с несколько иной стороны. Мы
выяснили, что жертва должна быть положена в основание,
чтобы постройка стояла прочно и устои не рухнули. Но все
еще остается неясным, почему это так. Факт
жертвоприношения многое объясняет в человеческом мире,
важнейшие вещи опираются на жертвенную практику. Но на что
само жертвоприношение опирается и есть ли смысл в
подобном вопросе?
Далее: что есть сила духа? Для чего требуется танец
Шивы? Почему невозможно творение без обратной связи
и что есть в корне эта обратная связь? Таковы
поставленные навскидку вопросы, и вполне вероятно, что вопросы,
возникающие по ходу их разрешения, могут оказаться еще
более насущными и важными.
Музыка гибели и танец смерти
Важнейшая функция бога Шивы, третьего из великой
триады, состоит в том, чтобы разрушать мир. Сразу же
возникает вопрос: а разве с этим незамысловатым делом
сам мир не справится? Разве не начнет он естественным
35
порядком рассыпаться и разрушаться, будучи
предоставленным самому себе?
Мировая философия от Гераклита до Хайдеггера дала
внятный ответ на этот вопрос: бытие к смерти и
обреченность на существование суть две стороны одной медали.
Всякая инерция ведет к мерзости запустения и
представляет собой лишь отсрочку, какой бы почтенный срок эта
отсрочка ни длилась.
Лучше всего это известно самому Шиве, ведь его
ближайший соратник Вишну занимается как раз тем, что мир
хранит. Он хранит каждое мгновение длительности мира
изо всех сил, и не исключено, что степень его
собранности, самоотдачи даже и не снилась ни созидателю Брахме,
ни разрушителю Шиве. И все же получается, что миссия
не выполнима. Она точно невыполнима в полном объеме,
иначе без Шивы можно было бы и обойтись.
Здесь возникает парадокс, с которым предстоит
разобраться. Если созданный или возникший мир обладает
инерцией самосохранения или может быть удержан
усилиями Хранителя - тогда или Шива не нужен, или усилия
Хранителя будут направлены на предотвращение его
вмешательства. Но дело обстоит так, что Вишну собственной
волей и в свой черед уступает место разрушителю Шиве
с одобрения Брахмы и, возможно, всех тех, кто склонен
наслаждаться завораживающими движениями
истребительного танца.
Но если мир не поддается сохранению, несмотря на
все усилия, и сам стремится к гибели, то ведь
получается, что Шива тем более не нужен. Работа разрушения
будет выполнена и без его участия. Чтобы разрешить
парадокс, у нас нет другого выхода, кроме как
предположить, что разрушение разрушению рознь, и для
36
подобающего истребления сущего нужен не просто
особый агент, а особый бог, входящий в верховную триаду.
И действует он на законных основаниях, если угодно,
внимая зову. Как водится, лучше всего содержание зова
передал Ницше:
«Все мы иссохли; и если бы огонь упал на нас, мы бы
рассыпались, как пепел, - но даже огонь утомили мы.
Все источники иссякли, и даже море отступило
назад. Земля хочет треснуть, но бездна не хочет
поглотить!
"Ах. есть ли еще море, где можно было бы утонуть :
так раздается наша жалоба - над плоскими болотами.
Поистине, мы уже слишком устали, чтобы умереть;
и мы еще бодрствуем и продолжаем жить - в склепах!»*
Как и во всяком частном метаболизме, на уровне сущего
и самого бытия тоже возникают сорные продукты времени.
Совокупность таких отходов, конечных продуктов
великого метаболизма, представляет собой мертвое - мертвое
вообще. Но это мертвое не просыпалось в бездну
небытия, а проникло в поры вещей - и продолжает проникать,
препятствуя их обновлению и развитию. Хранителю
Вишну не под силу предотвратить это неизбежное
инфицирование жизнеспособного сущего семенами угасания - в
результате ноша его становится все тяжелее, а витальность
хранимого все меньше, и дух, который дышит, где он хочет,
начинает задыхаться в запыленном и захламленном
космосе. Воззвание, адресованное Шиве, постепенно
усиливается и становится слышным всем. И бог должен сделать
свою работу, она нужна как раз для того, для чего само
жертвоприношение нужно.
* Ницше Ф. Сочинения в 2 т., т. 2. - М., 1990. - С. 97.
37
Вспомним сказанное о самопожертвовании, точнее,
об осознанном приношении в жертву самого себя. В этом
радикальном акте происходит авторизация мира и
собственного положения в нем. Самопожертвование
составляет сердцевину героизма, а героизм представляет
собой высшую ценность в любом жизнеспособном
социуме - во всяком сообществе людей, желающих оставаться
людьми. Как и всякая жертва, самопожертвование
направлено против анонимных сил, им конституируется
суверенность, происходит онтологическое осуществление
глагольной формы «я есть», которая, в силу этого,
становится вещей.
Еще раз констатируем: все мы смертны и можем
умереть, не зная ни дня, ни часа своего. Но можем и выбрать
этот час, произведя самую радикальную авторизацию,
перестав быть простым смертным и перейдя в разряд героев.
Излишне добавлять, что самопожертвование совсем не то
же, что суицид, самоубийство от депрессии или отчаяния.
Жертвоприношение есть праздник, а депрессия - его
противоположность.
Самопожертвование - это опережение неминуемой
смертности, замена анонимного личным,
авторизованным и в этом смысле оно главный источник суверенности
и свободы. Человек жертвующий как бы истребляет все
отчужденное, все овеществленное в своей судьбе: в эту
категорию попадает и собственное тело, поскольку оно
переполнено отходами отработанного времени в виде инертных
фракций - привычек, обыкновений, автоматизмов.
Решается локальная задача по освобождению от юрисдикции
духа тяжести (Ницше), но никто из смертных не может
обрушить в бездну весь непомерный балласт «продуктов,
отпавших от продуктивности» (Ф. Шеллинг). Такое по
38
силам только Богу, только величайшему из богов.
Только он способен решить задачу универсальным образом, и
Шива истребляет мир, непоправимо инфицированный
семенами усталости, угасания, невразумительности,
метастазами мертвого, которые настолько тесно сплелись с
жизнеспособными потоками времени, что отделить их каким-то
иным, более щадящим образом невозможно. Ложка дегтя
просочилась в каждую бочку меда, и даже в каждой ложке
меда присутствуют следы надломленности и усталости.
К кому претензии? К Вишну, за то, что он не смог
сохранить врученное ему юное творение? К Брахме, за то,
что создал мир таким?
Шива не спрашивает, он приступает к исполнению
своей незаменимой роли в судьбе творения. Быть может,
и вправду есть случаи, когда гильотина - лучшее средство
от головной боли, от нестерпимой боли и непоправимого
помутнения разума - и случай Шивы именно таков. Он
приступает к своей работе не как к работе, а как к
мистерии, к вселенскому празднику жертвоприношения. Как
можно описать этот гибельный танец, хотя бы в основных
чертах? Ницше говорит о «праздничной жестокости»
варварского и античного мира, задуманной как «фестивали
для богов», - ибо кто из смертных способен найти
подходящую точку обзора?* Понятно, что это тем более
относится к величайшему из возможных фестивалей.
Дело можно представить так. Истребляя отягощенное
сущее слой за слоем, Шива выбирает подходящие
танцевальные движения. Иногда это что-то похожее на вальс,
заставляющий сгруппироваться осевшую в порах вещей
усталость (а к началу танца у большинства вещей уже нет
* Ницше Ф. Сочинения в 2 т., т. 2. - М., 1990. - С. 448-449.
39
другой опоры). Порой Шива напоминает танцующего
дервиша: стремительно вращаясь на одном месте, он как
алмазный бур сверлит воронку, через которую бездна
могла бы поглотить бесчисленные залежи пустой породы -
и сама порода могла бы, наконец, провалиться. А иногда
это воистину танец канатоходца, описанный Ницше, -
с неожиданными пируэтами, с шестом, выполняющим
роль знака вычитания - вычитания того, что прямо сейчас
отправится в небытие. И это едва ли не все, что можно
представить в трехмерном пространстве.
Зададимся теперь вопросом: каковы могут или должны
быть результаты разрушительного танца Шивы, что в
сухом остатке, или, говоря словами Хайдеггера, будет ли это
нечто или вообще ничто?
Тут все зависит от того, как посмотреть. Говоря в
общих чертах, мир должен быть возвращен к той развилке,
где еще не началось непоправимое накопление «осадочных
пород», метастазов роковой усталости от существования.
И пока эта развилка не будет достигнута в противоходе,
танец не прекратится. Лучше зайти за край, чем оставить
какие-то зацепки (вирусы) даже не в вещах - они-то все
отправятся в бездну небытия, тут без вопросов, - а в
самом принципе овеществления. Говоря проще, после танца
Бога не должно остаться в мире ничего материального. Но
это не значит, что вообще ничего. То. что останется,
лучше всего определить как готовность к созиданию, высшую
форму требовательности уже иного зова, на который
придется откликнуться самому Брахме: и это будет
предложение, от которого он не сможет отказаться. Вытекает ли из
этого спекулятивного описания смысл жертвоприношения?
Отчасти да, ибо здесь имеется самое прямое указание на
его космологический порядок.
40
Христианские параллели
Как в Ветхом, так и в Новом Завете
жертвоприношение служит для объяснения важнейших деяний Бога,
предстает как основание для богоизбранности, как
непременное условие соглашения, - но объяснения самого
жертвоприношения мы не найдем в Библии. То, что
объясняет все остальное, оставлено без объяснения.
Отчасти на помощь приходит пресловутый
герменевтический круг, когда существенные или скорее даже
сущностные обстоятельства жертвоприношения поясняют его
демиургическую роль, при том что глубинные
космологические корреляты все еще остаются разрозненными до тех
пор, пока первенец не возведен на алтарь Всесожжения.
Вокруг двух жертвоприношений, Авеля и Авраама,
выстроен первоначальный, Ветхий Завет. Сутью Нового
Завета (и христианства в целом) является жертва
Иисуса, учреждающая свободу воли и упраздняющая слепоту
смерти. И вызревает некий провокационный вопрос: а нет
здесь сходства с деянием Шивы?
Бог-терминатор уничтожает мир, необратимо и
непоправимо отравленный отходами собственной
жизнедеятельности, перенасыщенный несмываемыми следами
поражений, неудач, ошибочных выборов... Согласно христианской
эсхатологии, мир лежит во грехе, при этом грехи
суммируются, а освобождение от них откладывается вплоть до
грядущей великой чистки. Кое-что удается «смыть» при
жизни, но все же каждое поколение добавляет новый пласт
не смытых грехов - они, вероятно, выполняют роль помех,
в связи с чем все труднее становится устанавливать
надежную связь с трансцендентным: сужается зона
непосредственной слышимости Бога, причем в оба конца. И ему все
41
хуже слышны молитвы смертных, и людям - его повеления.
Европейская метафизика, разумеется, отмечает этот факт,
определяя его как смерть Бога (Ницше), прогрессирующее
забвение Бытия (Хайдеггер) или нарастающую богоостав-
ленность*. Накопление или, лучше сказать, загрязнение
(ползучее омертвление) будет прогрессировать вплоть до
Второго пришествия. А затем начнется Армагеддон,
призванный отделить спасаемое от неспасаемого, что и является
общим смыслом всех перечисляемых фильтраций: зерна от
плевел, агнцев от козлищ и так далее.
В чем же отличие Второго пришествия Иисуса от
очередного выхода Шивы на авансцену, случающегося
в конце калиюги? И психологически, и экзистенциально
решающее различие видится, конечно, в том, что
жертвоприношение Иисуса было самым радикальным в
истории - именно поэтому, в отличие от Иисуса, Шива
вынужден совершать свой танец снова и снова.
Но задержимся пока на моменте общности и единства.
Обратим, прежде всего, внимание на то, что ни Брахма, ни
Иегова и вообще никто из богов не может сотворить
вечный, не подверженный времени мир. Говоря конкретнее,
никому не под силу создать мир, который бы не портился,
не накапливал в себе следов коррупции (в самом широком
смысле, совпадающем с латинским corruption -
«ржавление», «порча»), болезни, усталости, метастазы угасания,
неважно, назовем ли мы их грехами или как-то иначе. Как
заметил еще фон Икскюль, смерть есть главное
сущностное свойство всего живого.
Соответственно, во многих космогониях была
отслежена или интуитивно постигнута единственно возможная
* См.: Секацкий А. Онтология лжи. — СПб.: Трактат, 2017.
42
превентивная мера, которая в самой краткой и самой
христианской форме звучит так: «Смертью смерть поправ».
И мы можем переписать ее в качестве столь же
универсального совета, если отчаявшийся хранить мир бог
спросит, что делать. Смертью смерть поправь! - вот что
можно ему посоветовать - и это значит: сработай на
опережение или все пропало. Вообще все. Правка, вносимая
жертвенной смертью, собственно, и оказывается главной
очистительной процедурой, единственным действенным
средством обновления мира вплоть до самых его основ.
С тем, что христианство обновило мир, никто, кажется,
и не спорил, даже Ницше. Действительно, последние
стали первыми, камень, отброшенный строителями, был
поставлен во главу угла. Однако не проясненной остается
роль Голгофы в этом обновлении, жертва Иисуса и
обретенная свобода его последователей. Вот что пишет об
этом Питер Браун, ведущий современный историк
христианства:
«Аскетическое движение, само понятие девственности,
понятие целибата были загромождены массой нынешних
предрассудков, история начинается с того, что избавляется
от таких вещей. Сразу от всего - начиная с описаний
монашеской жизни, которые дает Эдвард Гиббон, - и вплоть
до относительно современных сочинений. От всего этого
надо избавиться. Это первое. Вторым ходом ты говоришь
себе: хорошо, от всех этих предрассудков ты избавился,
замечательно. Но о чем же там речь шла на самом деле?
И мне по ходу дела становилось ясно, что речь в
аскетическом движении шла, главным образом, о свободе. Каковы
пределы человеческой свободы? До какой степени человек
может изменить свою природу? Является сексуальность
чем-то обыденным, что надо просто уважать? Нужно ли
43
относиться с подозрением или даже с презрением к любой
попытке от нее отказаться? Или там есть нечто большее?»*
Именно так. Целибат и монашество в раннем
христианстве - это проба высокой свободы, подражание Иисусу,
воистину даровавшему такую свободу.
Но между вселенским жертвоприношением и вторым
пришествием лежит целая толща времен. Ресурсы
обновления постепенно расходуются, мельчает и сама свобода
в смысле неуклонного сокращения ее диапазона: сегодня
любой «свободный выбор» строится по модели
потребительского выбора между равноценными товарами.
Ситуация и вправду дошла до той точки, которую пророчески
описал Ницше: земля хочет треснуть, но бездна не хочет
ее поглотить.
Итак, своей жертвой Иисус санкционировал свободу
воли, но он не мог гарантировать автоматического
очищения всей толщи времен. Следовательно, и перед ним встает
проблема отделить овнов (агнцев) от козлищ, спасенное
и подлежащее спасению от того, что уже не спасаемо
свыше. Отсюда и неизбывная близость Армагеддона к танцу
Шивы - даже если тональность музыки гибели в обоих
случаях различна.
Направление главного удара
Еще один вопрос, все еще остающийся неясным, это
попытка некой общей атрибуции «материала»,
приносимого в жертву. Кто и что? Мы уже присмотрелись к самой
* Браун Питер. Неторопливые размышления об ином.
Интервью Rigas Laiks, 2016, весна. См. также: Peter Brown. The Body and
Society: Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity.
Californian University Press, 1988.
44
радикальной очистительной жертве, но она приносится
богами, и если и доводится до осознания смертных, то без
объяснения причин. А как обстоит дело для самих
смертных, что служит их высшим экзистенциальным деянием?
Материалы антропологии, конечно, немало сообщают нам
на этот счет: первенцы, невинные девушки, овны, агнцы,
быки, кое-что из военной и охотничьей добычи, кое-что от
тука земли. Ассортимент такого рода и критерии отбора
исследованы достаточно подробно и хорошо.
Но есть веские основания полагать, что какая-то
существенная часть жертвенного ассортимента остается
непроясненной. Эта темная, или тайная, жертвенная
практика, отдаленно (и, конечно, крайне приблизительно)
напоминающая известное изречение «бей своих, чтобы
чужие боялись». Более того, используя внешне
иронический и глубинно эзотерический план, свою версию
выдвинул Пелевин в повести «Омон Ра». Что должен принести
в жертву космонавт, перед тем как выйти в просторы
космоса, какую инициацию ему нужно пройти?
У Пелевина он должен подвергнуться ампутации,
лишиться ног - и тогда космос примет его как своего
праведного обитателя. Вроде бы смешно. Но вот уж воистину
тот самый случаи, когда продолжать смеяться легче, чем
закончить смех. Великий русский космист Николай
Федоров отказался от семьи и налаженного быта, спал на
сундуке и обычной его едой был чай с размоченными пряниками.
Но жил он в космосе и описывал хороводы планет,
которые будут устраиваться во имя воскрешения мертвых. Как
если бы космос распахнул ему свои просторы - тут даже
не скажешь: в обмен на повседневный комфорт, отказ от
которого был всего лишь минимальным условием, -
скорее, в ответ на то, что близкородственное и частное было
45
принесено в жертву дальнородственному и
универсальному... Но ведь и глухой Циолковский, слышавший зов
далекого и самого дальнего, и многие другие причастные
к космонавтике, быть может, наиболее пламенные из них,
прошли через самопожертвование - и были допущены,
и космос приоткрылся пред ними. В конце концов
жертву принесло и все человечество, и все общество - светское
общество, многим материальным пожертвовавшее во имя
космонавтики, пожертвовавшее добровольно и без
сожаления.
Но оставим пока эту тему. Важнее всего здесь
универсальный принцип: близкое отвергается ради далекого
и свое собственное ради иного. Насчет универсализма,
конечно, возможны поправки и даже, если угодно,
ограничения: речь идет именно о так устроенных мирах, то есть
о мирах жертвенно-аскетических, если прибегнуть к
дальновидной терминологии Ницше. Тем самым
предполагается представление и о мирах иного типа, вроде
астрономических объектов, среди которых есть квазары, пульсары,
белые карлики...
Казалось бы, откуда можно получить представления
о других мирах и их устройстве, тем более если различие
проходит по решающему параметру основы жизни и
созидания? Допустим, наш мир принадлежит к
жертвенно-аскетическим - откуда тогда мы можем знать об иных
принципах мироустройства?
Но дело обстоит еще сложнее и запутаннее. Земля,
несомненно, «аскетическая планета», а жертвоприношение
есть важнейшая долгосрочная причина вочеловечивания,
сила, противостоящая и препятствующая угасанию.
Однако при этом, будучи ярко выраженным миром жертвенного
типа, земля еще и замаскирована под мир сплошного им-
46
манентного пользоприношения. На все лады мы слышим
распевы о том, что деньги правят миром и люди гибнут за
металл... И рассказы о тех, кто за копейку удавится. Более
того, представитель инопланетной цивилизации, которому
довелось бы посетить сей мир, поначалу согласился бы, что
это мир, где пользоприношение является важнейшим меж-
человеческим отношением. Потребовалось бы хорошенько
осмотреться и присмотреться, пожить среди людей,
чтобы правильно определить действительно господствующую
силу, чтобы убедиться, что участки пользоприношения
(например, корыстного добра) были однажды
учреждены великими жертвоприношениями, актами благородного
добра. Тотальное пользоприношение относится,
безусловно, к порядку явлений, к категории видимости и иновиди-
мости.
Более того, для всякого, пожившего на Земле,
остается неясным, возможны ли вообще миры, устроенные
по принципу рационального пользоприношения, если уж
Земля, столь эффективно и тщательно
замаскированная под «голимую корысть», в действительности в своих
глубинах, там, где еще не «вывихнуты суставы времени»
(Шекспир), обнаруживает важнейшие пустоты, где
принцип пользы (включая «разумный эгоизм») не работает:
он там не задан как направление стрелки компаса на
полюс. Стрелка дрожит и вращается, ее только предстоит
установить или переустановить, выбрав некую дирекцию
пользоприношения из целого пучка открывшихся
(чрезвычайно пунктирно) траекторий пользоприношения - при
том что эти дирекции могут быть как-то связанными
друг с другом, а могут быть совершенно не связанными
или даже противоположными. И я бы сказал, что
полярная точка с исходящими пучками пользоприношений
47
топологически, а в некоторых случаях и топографически
есть координата жертвенника, возможно, Алтаря
Всесожжения. Всякая линия земной пользы, любого частного
утилитаризма (каким бы естественным он ни казался),
если проследить ретроспективно их истоки, берет свое
начало от некой жертвенной координаты. Или, иными
словами, всякий утилитаризм, в котором задано корыстное
добро («всеобщая польза»), учреждается
Жертвоприношением, топологическим прорывом к суверенному выбору,
к полюсу, где координаты привычного обрываются или не
заданы вообще.
Поскольку топография жертвенных координат
опоясывает шар земной вдоль и поперек, мы без колебаний
относим Землю к жертвенно-аскетическим планетам: таков ее
собственный внутренний глобус, который хорошо виден на
дистанции и проясняется путем трансцендирования, - но
при взгляде из зоны слишком человеческого картина,
безусловно, смазывается, отсюда Земля и вправду предстает
неким «утилитроном», то есть сугубо рациональной
планетой, достаточно примитивно и предсказуемо устроенной.
Стало быть, перед нами как минимум «двойная звезда»,
если уж задействовать максимальное количество
астрономических аналогий. Конечно, взгляд метафизика, такого
как Достоевский, Ницше или Батай, непременно упрется
в координаты жертвы, аскезы и суверенности, откуда бы
ни был брошен взгляд: из подполья, как у
Достоевского, или с альпийских вершин Заратустры - Ницше. Но,
с другой стороны, обитатели утилитарного мира, ходящие
по дорожкам выгоды и пользы, видят на этих дорожках,
опоясывающих планету, множество подобных же людей,
вступают с ними в общение, преимущественно общение
приветливое. В частности, их интересует вопрос о легкодо-
48
ступности или труднодоступности добра, которое в таком
контексте неотличимо от пользы.
Сознательно и бессознательно они, ходящие по делам
пользы, извлекающие ее, несущие и приносящие ее,
вытаптывают другого рода тропки, а заодно затаптывают
и переходы в те измерения, где проложены тропы
жертвенности и суверенности. Не удивительно, что планета
для них становится все более освоенной и все более своей,
а люди иного глобуса, попадающиеся им на пути с
легкими пустыми корзинами, в которых не переносится ни грана
пользы, а вместо этого есть поклажа непонятного
предназначения - жертвенные треножники, какие-то книги, -
эти другие кажутся населению освоенной планеты
варварами и пришельцами.
Впрочем, спектр взаимоотношений включает в себя
и такую удивительную, причудливую линию, как взаимная
жалость. Занятое полезными делами (пользоприношени-
ем) население по-своему жалеет обладателей пустых
корзин, склонных забывать, а то и вовсе не думать ни о
собственной, ни о «несобственной», то есть всеобщей, пользе.
Операторы пользоприношения порой не прочь подкинуть
какой-нибудь пользы и им, бесполезным, но в ответ
видят они отнюдь не признательность, а, скорее, недоумение
и встречную жалость...
Почему? Да потому, что идущие по жертвенным
тропам и по направлению к жертвенникам видят свою карму.
Они видят аборигенов, сгибающихся под тяжестью
приносимой и переносимой пользы (как будто мало им тяжести
смертного удела и тесноты оставшихся измерений), - но
не это угнетает их, видящих, ведь они и сами атлеты
духа - и кто бы из утилитарных носильщиков взялся
оценить весомость их собственной ноши? Пронизывающую
49
жалость вызывает, скорее, другое - тщета обустройства.
Ведь ясно, что операторы ratio, чемпионы пользоприно-
шения, озабочены обустройством своей планеты и хотят,
чтобы каждый мог приносить пользу, хоть какую-то и хоть
кому-то. Что же плохого в таком обустройстве и в
постоянной заботе о нем? Идущий иными тропами, однако, знает,
что именно плохо и достойно жалости, поскольку он
знает, для чего предназначается танец Шивы, знает и
приметы его приближения - они прекрасно видны на другом
глобусе. Дело в том, что утилитарное обустройство
окрестностей, внешних и внутренних, безусловно, приумножает
в мире количество вещей и всего вещеподобного.
Операторы утилитарности (так правильнее называть жрецов
пользоприношения) могут быть довольны, глядя на
расширение полезного: сколько пригодных вещей и сколько
рациональных овеществленностей!
Но многое, слишком многое, бывшее утилитарным еще
вчера, сегодня становится, так сказать, просто
«утильным». И утилитаризм в своей беспрекословной
последовательности как раз и производит утиль, его груды
скапливаются повсюду. Утилизовать некому и некуда, только Шива
в определенный момент может вернуть мир к сингулярной
полярной точке своим танцевальным
жертвоприношением - или огонь Армагеддона утилизирует неспасаемое
старье, не столько вещей, сколько самой вещественности -
и в этом главный источник жалости обитателей
жертвенного глобуса к населению Земли Пользоприношения.
Воистину скорбны заботы приносящих пользу, скорбны
и плоды их, ибо и то, и другое не спасаемо свыше. Ведь
где сокровище ваше, там и сердце ваше.
Можно перефразировать замечательную максиму
Паскаля: если ты пахарь, пусть смерть застанет тебя в поле,
50
если моряк - в море под парусом, если учитель - пусть
застанет она тебя в классе, ибо такова праведная смерть.
В нашем случае, касающемся субстанции
жертвоприношения, получится что-то вроде следующего:
Если ты покоритель космоса и тебя влекут безбрежные
расстояния, влечет сама даль, то в жертву принеси свою
подвижность здесь (например, собственные ноги) - и
тогда твоя жизнь будет как повесть о настоящем человеке.
И как история о настоящем космонавте. Если ты ученый,
избравший дисциплинарную науку, - принеси в жертву
интуицию времени, включенность в стихии самой жизни,
научись делать выводы по оставленным следам, по
косвенным уликам и вещественным доказательствам -
иными словами, по крошкам, упавшим со стола, за которым
идет пир свершившегося и свершающегося Творения.
И в награду ты создашь подтверждаемую теорию и тебя
признают настоящим ученым. Ибо в действительности
знаменитая притча Платона о пещере - это притча об
удивительном человеческом знании в форме науки.
Просто у Платона опущено самое начало, то, как люди решили
принести в жертву солнечный свет, некую простую
очевидность, и поселиться в пещере, чтобы довольствоваться
отбрасываемыми тенями, преломленными отражениями
и бликами. И в награду им было дано объективное знание,
все составные части которого можно безнаказанно
регистрировать и менять местами, не рискуя повредить что-
либо в воплощенности сущего. То есть боги призрели эту
невероятную жертву познающих и даровали взамен науку.
Так что наука, конечно, приносит пользу - но сама
явилась результатом строгой жертвенной практики,
великого жертвоприношения. Да и каким еще иным
образом обретаются воистину великие вещи на планетах
51
жертвенно-аскетического класса? Уже шла речь о
неразрывной связи героизма и самопожертвования, важно лишь
помнить, что окончательный вердикт о принятии или
отвержении, то есть вопрос угодности приношения, в свою
очередь является трансцендентным по отношению к
реалиям жертвенной практики. Неугодную, пустую жертву
можно определить с первого взгляда, а вот угодную,
приятно щекочущую ноздри, - это вопрос к богам. Или тем
паче к единственному Богу, быть может, победившему
прочих благодаря своей феноменальной непостижимости
как раз в этом вопросе.
Возвращаясь к полюсу
Итак, присмотримся к координатам жертвенников,
пусть это будет топологическое рассмотрение в духе
геодезии Ницше, обнаружившего логово Огненного пса в
глубинах, под земной поверхностью - и все-таки
утверждавшего устами Заратустры, что «сердце Земли из золота»*.
В нашем случае топологически исходная операция
расслоения дает иной результат: мы обнаруживаем в сердце
Земли деяния, идущие вопреки пользе, и деятелей,
совершающих их. Мы видим также эпохи, в которые
местоположение жертвенников было известно всем и каждому, то
есть эпохи, в которые производили золотой запас
экзистенции, создавали и накапливали его, и те эпохи, включая
современность, когда этот запас только тратился. Мы
теперь можем выбрать правильный термин - жертвенный
запас. Подобно тому, как золотой запас обеспечивает
устойчивость национальной экономики, жертвенный за-
* Ницше Ф. Сочинения в 2 т., т. 2. — М., 1990. — С. 96.
52
пас обеспечивает сохранность важнейших эталонов и сам
потенциал созидания. Созидание, в том числе
совершаемое и на плоскости пользоприношения, становится, в
сущности, только суетой и тщетой, если запас жертвенности
оскудевает. Если же тратится Неприкосновенный
Жертвенный Запас, тратится без попыток и без надежды
возобновления - тогда начинается стремительная коррозия
эталонов, ускоренная фальсификация, и тогда терминатор
Шива просыпается и открывает глаза.
Ничто не может лучше пояснить суть дела, чем
прекрасная старая притча, пусть и не раз уже рассказанная.
Обратимся к ней опять.
В одном удивительном, а может, и обычном царстве
дела идут хорошо. Правитель там щедр, суров к врагам
и милостив к своим подданным, как подобает правителю.
Воины отважны - каждый подданный может положиться
на их отвагу. Ремесленники искусны. Торговцы
предприимчивы. Словом, царство воистину обустроено: каждый
в нем может принести пользу и внести свою лепту в
сложившийся ход вещей.
На краю царства есть дремучий, почти непроходимый
лес, и в нем живет отшельник. Никто не знает, как
спасается отшельник от диких зверей и от холода, но
некоторые его видели, некоторые даже несли ему какую-то пищу,
хотя отшельник никогда об этом не просил.
Что еще можно сказать об одиноком лесном жителе?
Что думают о нем люди и как к нему относятся?
Думают о нем, скажем так, не слишком много, относятся
скорее никак, чем как-то, но все же терпимо. Общее мнение
состоит в том, что на дела государства отшельник уж точно
никак не влияет. Скорее, нерадивый погонщик верблюдов
более значим для царства, чем этот лесной житель.
53
Это общее мнение, однако, ошибочно. Дело, скорее,
обстоит с точностью до наоборот: никто не пытается себе
представить, что будет, если исчезнет отшельник, и что
будет в самом худшем варианте, если этот аскет переменит
свою волю и уйдет в базарные торговцы. Что ж,
попробуем представить.
Итак, аскет выходит из леса и начинает
зарабатывать - гаданием, врачеванием, снятием сглаза и прочим
товаром такого же рода. Поначалу вроде бы ничего
страшного не происходит, небо не падает на землю, люди не едят
людей. Но постепенно и неуклонно дела в нашем царстве
начинают идти все хуже и хуже. Что-то происходит со
щедростью правителя, каким-то мелочным и завистливым
становится он. Воины начинают слишком дорожить своей
жизнью - больше, чем честью. Ремесленники
обращаются к халтуре. Предприимчивость торговцев сменяется
обыкновенной вороватостью, да и сами весы, сами мерки
и безмены начинают фальшивить все больше и больше.
В конце концов благополучное царство приходит в полное
запустение - остается спросить: почему? И как это
связано с волей аскета?
Что ж, вывод у притчи простой: пока жил в лесу
отшельник своей праведной жизнью, все шло своим
чередом, соизмеряясь с некой высокой планкой. Ушел
отшельник в мир, и все пошло наперекосяк. По одной простой
причине: больше некого стало стыдиться.
Здесь особенно важно вот что. Из мира,
заданного жертвенными координатами, глубокий смысл притчи
выглядит как некая очевидность. Вот отшельник, вот,
скажем, герой, вот праведный Авраам, вот неистовая
Жанна - они и есть созидатели как таковые.
Исчезновение отшельника, точнее, его перерождение, является
54
безусловной первопричиной (или мета-причиной) того,
что в царстве все пошло не так, независимо от
внутренних причинных сочленений - поскольку именно здесь,
в этом месте находится тот самый «сустав времени»,
который удерживает определенный ход вещей. Для
обитателей внутреннего глобуса, живущих в пространстве
жертвенных координат, удивительно как раз
непонимание со стороны почти всех без исключения подданных
того, какое отношение может иметь этот
подвижник-отшельник к точности мер и весов, к щедрости правителей
и к мужеству воинов, удивительна загадочность притчи
для самых ученых мужей нашего царства-государства.
Ученые мужи, разбираясь в хитросплетениях, и
вправду не понимают, откуда растут корни сплетаемого, то
есть нормального хода вещей в благополучном царстве.
Почему-то вспоминается аристотелевское определение
Бога-Перводвигателя и подотчетного ему космоса: один
(бог) разумно движет, оставаясь неподвижным, другой
(мир) разумно движется, оставаясь неразумным. И
придется признать, что подвижник в этом смысле ближе к
Богу: они оба точно не участвуют в суете, в
хитросплетениях; наш подвижник иногда вовсе неподвижен, как
столпник, но их волей, точнее, их жертвой, разумно
движется окружающее. Например, какое-нибудь царство.
Совокупность жертвенных координат как бы включена
в силовую машину созидания. И работа этой машины, если
использовать терминологию «Анти-Эдипа», явственно
видна и даже слышна в созидающие эпохи - как гул
самолета, набирающего высоту. В такие эпохи никому в голову
не придет пожимать плечами: зачем это смертные из числа
добрых самаритян бросают все и идут вослед за странным
учителем, даже не знающим, что такое поза мудрости...
55
Или недоумевать про себя насчет ненормальных героев,
которые почему-то не хотят идти в обход. Или слишком
уж удивляться неистовости Бенвенуто Челлини,
бросающего все сокровища в плавильный тигль ради созидаемой
чаши. Дело в том, что в подобные эпохи производство
жертвенного потенциала и жертвенного
неприкосновенного запаса оказывается как бы у всех на виду: имманентные
площадки пользоприношения не слишком обширны. И
герои уместны. И отшельники.
Но уходит эпоха, и как будто ничего этого не было.
Плоскость пользоприношения перекрывает горизонт, и ее
успешные функционеры могут спокойно ухмыляться
насчет всяких там отшельников...
Тут, впрочем, все ясно. Интерес представляет не
столько общая топология жертвенного и полезного
(рационального, утилитарного, имманентного), сколько детали узора
и его сочленения. Именно такие окрестности
сингулярных точек содержат объяснения: почему в одних случаях
учреждаемая практика пользоприношения оказывается
совсем короткой и, так сказать, не приживается, а в
других обнаруживается просто гигантская площадь
реализации - например, сберегающая экономика. Этот момент,
безусловно, достоин особого рассмотрения, и то, что оно
до сих пор не предпринято экономистами, указывает, как
далеко еще находится экономика от фундаментальных
наук да и от принципа научности вообще.
Стоило бы также присмотреться к экзотическим
участкам пользоприношения, например, к своеобразной
утилитарности накопления праха и сохранения мощей*. Ка-
* См.: Покойник как элемент производительных сил // Секац-
кий Александр. Размышления. — СПб., 2014. — С. 151—175.
56
питализация праха, разумеется, вырастает из жертвенной
практики и является как бы теневой версией
сберегающей экономики, а также первым прототипом
собственно денежной капитализации. Хроники средневекового
христианства полны историй о том, как добывались,
отвоевывались святые мощи: это алчное «собирательство»
временами ничем не уступало стяжанию сокровищ более
классического типа: золота, серебра, пряностей...
Атмосфера такой экзотической предприимчивости хорошо
описана в романе Умберто Эко «Баудолино».
В качестве этапа пользоприношения, имманентного
утилитаризма можно трактовать и дизайн в целом как
результат внедрения в быт некой более высокой практики.
В фильме «Господин оформитель» Олега Тепцова и
Сергея Курехина присутствует глубокое интуитивное
прозрение относительно жертвенного начала последующей
неудержимой экспансии дизайна: можно сказать, в фильме
смоделирована сингулярная точка, в которой жертвенная
практика переходит в мирное созидание и даже в
окончательно профанированные практики какого-нибудь
«евроремонта» в самом широком смысле слова.
Все это достаточно большие участки имманентности,
учрежденные жертвенной практикой, но, вне всякого
сомнения, существует и множество «крошечных имманент-
ностей», в которых разворачивается личная жизнь,
опирающаяся на принесенную в свое время личную жертву
или на самопожертвование. Их изучение с
фундаментальной точки зрения требует совершенствования
топологического инструментария и навыка определения точек
перегиба.
Наконец, в непосредственной близости от этих же
точек, от пересечений жертвенных координат находятся
57
координаты еще одного глобуса - номадического. Эта
легкая Земля тоже имеет своих обитателей, хотя и
немногочисленных. Их отличие в том, что они не являются
подданными духа тяжести, ибо имеют легкие тела и, прежде
всего, как говорит Ницше, «легкие ноги», однако, в силу
общей топологической характеристики нашей
аскетической планеты, мир, очерченный номадическими орбитами,
несамостоятелен. Он вечно юн и дан как бы на вырост, до
востребования. К возможности востребования неустанно
призывал тот же Ницше, повторяя как заклинание:
человек есть то, что должно превзойти. Причем пути
возможного превосхождения противоположны тем, которые
избрало современное человечество, все настойчивее
провоцирующее Шиву проснуться. Само по себе избегание
жертвенных практик, всяческое уклонение от них
означает лишь торжество маленького человека, гордящегося
тем, что он приносит пользу. Номад же
принципиально не участвует в пользоприношении, но в силу мощной
жертвенно-аскетической гравитации номадические деяния
и приключения нередко принимают характер жертвенных
приношений. В формате бытия-для-другого номадическая
иллюминация может выполнять ту же функцию, что и
отсветы жертвенных костров.
Жертвенная практика
и поле сберегающей экономики
Сберегающая экономика, то есть экономика нашей
товаропроизводящей цивилизации, может показаться
сферой, где властвуют алчность, корысть или, во всяком
случае, утилитарность и где жертвенному началу точно
нет места. Кажется, что призывы к социальной ответ-
58
ственности бизнеса - это максимум
самоотверженности, на которую способны агенты сберегающей
экономики - они же бизнесмены, предприниматели, олигархи
и так далее, - но и эту жертву они обращают в элемент
пользоприношения.
Однако несмотря на всепланетную развернутость
товаропроизводящей экономики, мы знаем и иной способ
дистрибуции вещей, не исчезнувший окончательно и
сегодня, - дар. Когда-то именно формация потлача,
предшествующая сберегающей экономике, отвечала за
дистрибуцию вещей. Литература о потлаче обширна*, и сейчас
нет необходимости входить в детали. Просто сопоставим
самые общие топологические координаты.
Мы стоим на границе, где по левую руку уже почти
свернутое измерение потлача, а по правую - безбрежное
море сберегающей экономики, на которую опирается вся
современная цивилизация. Справа нам вроде бы все ясно:
рациональность, утилитарность, эффективность...
Но бросим взгляд налево. Там горят костры жерт-
венников и свершается круг кулы . /пертвенные костры
освещают, высвечивают именно трату и раздаривание,
производство остается где-то в тени. Но оно
осуществляется, хотя и остается несамостоятельным. Можно сказать,
что в эпоху потлача и тотального поэзиса собственно
экономика, которой впоследствии будет суждено стать
основным занятием человечества, остается как бы «теневой
* Прежде всего см.: Мосс Марсель. Сакральные функции
священного. — СПб., 2000.
^^ 1\ула — традиционный институт в обществе жителей
островов Тробриан и Новой Гвинеи, комплекс обычаев обмена,
описанный Б. Малиновским в книге «Аргонавты западной части Тихого
океана».
59
экономикой», чуть не разновидностью коллективного
бессознательного.
Накапливаются приемы, навыки, которые можно
было бы назвать производственными,
технологическими, однако они не «публикуются» ни в каких
инструкциях в том смысле, в каком публикуются жертвенные
церемонии и ритуалы. Собственно производственные
операции как бы замаскированы в составе
интегральной технологии, включающей в себя публичную
ритуальную часть. Сама же «чисто производственная
технология» выходит из тени только в результате санкции,
разумеется, жертвенной санкции, а еще точнее - в
результате великой и неустанной жертвенной практики,
подчиняющейся, скорее, антиэкономическому закону
аннигиляции: лучшее и избранное приносится в
жертву богам, а смертным достаются лишь остатки.
Имущество, принадлежавшее умершим, сжигается или
закапывается (возможность бесстрашного наследования
и использования того, что принадлежало мертвым,
явилось когда-то революцией), добыча, будь она
военной или охотничьей, раздаривается и расходится по
кругу кулы, и в основе всего лежит Трата. То есть все
избыточное предназначено для жертвы и истребления.
В этом жертвенном аннигилирующем порыве само
побуждение к накоплению еще только должно
возникнуть, ни о какой «врожденной алчности» не может быть
и речи, некритическое принятие этого наивного
представления тоже препятствует по-настоящему научному
статусу экономики.
В этот ранний, исходный период дистрибуции вещей,
когда сберегающая экономика еще не родилась, нет
нужды в танце Шивы, поскольку нет захламленности. Даже
60
то, что не приносится в жертву, вещи, поступающие в
человеческий обиход, проходят через очистительные
обряды. И проблема состоит, конечно, в том, чтобы показать,
каким образом жертвоприношение учреждает здесь
созидание и затем возводит это созидание в режим
производительного труда, позволяет ему стать рутинным
содержанием повседневности, едва ли не синонимом слишком
человеческого на протяжении целой эпохи, эпохи,
продолжающейся и по сей день.
Разрешение этой проблемы было бы сопоставимо с
революцией Ньютона в физике (что касается революции
Эйнштейна, то до нее экономике еще слишком далеко).
Да, жертвоприношение создает пустоту, но зов
пустоты - это скорее Аристотель, а не Ньютон. Уклонение от
траты в обществе, где вещи и благодеяния перемещаются
по кругу кулы, сопровождается не просто потерей
престижа, но зачастую и полной социальной дискредитацией.
Вспомним, что в подавляющем большинстве культур
щедрость есть основной атрибут короля, остающийся в виде
«королевской щедрости» даже тогда, когда о монархии
давно забыли.
Изощренность изготовления вещи-изделия в
некотором аспекте можно рассматривать как детализацию
очистительного обряда, ведь в любом обряде, не исключая,
разумеется, и жертвоприношение, есть своя техническая
сторона, изначально данная в нерасторжимой
сопричастности к сакральному. Однако сакральное не может
пронизывать собой весь режим повседневности, не может
заполнять его целиком - иначе на каком основании оно
было бы сакральным? Тем не менее повседневность
включает в себя разные занятия, среди которых, несомненно,
есть и привилегированные, забывшие о своем жертвенном
61
благословении. Причастность к нему, чаще всего не
сознаваемая, но сохраняемая и проходящая красной нитью,
и скрепляет пользоприношение. Известно, что вопросы
типа «что именно идет мне на пользу?» и «почему именно
это?» требуют исследования, приводящего порой к
парадоксальным результатам*.
Сказанное представляется в принципе верным для
небольших, локальных очагов пользоприношения, однако
для производящей и сберегающей экономики и ее глубоко
укорененных стимулов этого, разумеется, недостаточно.
Утилитарная часть тотального поэзиса просто вышла из
тени и заполнила, так сказать, содержание будней до
такой степени, что напрочь забытой оказалась связь с
огнями жертвенников, потлач перешел в разряд маргинальных
практик, едва заметных в стихии рынка, существующих на
периферии социальности.
И вот, возвращаясь к развилке, к сингулярности
жертвенного глобуса, мы должны еще раз присмотреться к
этому специфическому пользоприношению, ставшему
синонимом пользы вообще.
Прежде всего мы, конечно, видим здесь, в этом
порядке повседневности некоторые собственные имманентные
аттракторы, которые даже причислены к рангу ценностей.
Достаточно вслушаться в современные ритуальные
пожелания: «за здоровье!», «желаю здоровья и благополучия!»,
чтобы уяснить суть перемен - ведь и то, и другое суть
производные пользы, незаметно оттеснившие ценности
экзистенциального круга. Сегодня кажется странным
очевидное для эллинов метафизическое рассмотрение, пред-
* Мишель Фуко подробно исследовал греческую форму
«пользоприношения», знаменитую эпимелею, в своих последних работах.
62
принятое еще Сократом: здоровье для чего? Жизнь как
забота о здоровье, разве нет в этом чего-то смехотворного,
того, что никак не выдержит экзистенциального
разбирательства?
Есть вещи, которые относятся, так сказать, к
категории «неспасаемого свыше», в том числе и
метафизически неспасаемого, - но при этом, безусловно, полезного.
Если ты здоров просто во имя здоровья и сохранен
простым инстинктом самосохранения, это неизбежно
приводит к вопросу, который сформулировал Гамлет: «Быть
или не быть?» Бытие на заимствованных основаниях
здоровья, богатства, послушания, это бытие по инерции, для
всякого мыслящего оно требует понимания того, откуда
вообще эти основания заимствованы, а обретение такого
понимания и последующее сличение эталонов приводит
к неутешительному выводу: перед нами основания
уклонившегося (извращенного) бытия, как раз те, которые
первым делом выбивает из-под ног Шива в своем
сокрушительном танце.
Дело в следующем. Если ты ранен, болен, беден,
изгнан - ты должен задать вопрос «почему?» и исследовать
причины создавшегося положения. Это понятно. Но если
ты цел и невредим, значимость вопроса «почему?»
нисколько не уменьшается, при том, что ответ может
оказаться и более печальным, чем в первом случае. От
гамлетовского «быть или не быть?» до строк современной
поэзии «как легка твоя жизнь на всемирных весах -
ураган не гостил у тебя в парусах» (Ксения Александрова)
простирается главный диапазон экзистенциального вопро-
шания. Если вопрос о жертве снят с твоей повестки дня,
значит, можешь не сомневаться, на повестке дня стоит
вопрос о предательстве. Иного не дано.
63
Теперь, находясь у самой развилки, там, где
жертвенные костры еще вовсю полыхают, а «неправильное
приобретение неправильной вещи» вызывает скорее ужас, чем
алчность, мы видим, что окрестности пользы вокруг того
или иного жертвенника в общем виде невелики, и они
никак не могут объяснить того размаха, который приобрела
сберегающая экономика. На первый взгляд, ничего
другого не остается, как признать вслед за утилитаристами:
польза победила жертву. Победила на всех фронтах и по
всем статьям.
В действительности, однако, произошло нечто иное. На
этот раз при смене траты сбережением, накоплением,
рачительным пользованием отказа от жертвенной практики
не последовало. Жертвоприношение было включено в
новое всепоглощающее занятие сбережения и приумножения,
только эти замаскированные жертвы предназначались уже
другим богам. Предназначались разным «покровителям»
вплоть до появления стяжательского монополизма,
когда один-единственный бог - имя ему Мамона - замкнул
все жертвенные потоки на себя.
Он сокрыл свой лик, подобно Яхве, но сокрыл
надежнее, тщательность маскировки оказалась беспрецедентной.
Мамона расположил свои жертвенники среди
рациональных стратегий, среди пользы и даже всеобщей пользы. Тем
не менее именно жертвоприношения на алтарь Мамоны
заставляют экономику пульсировать и обеспечивать
непрерывность созидания на выходе, в этом-то и
заключается отличие от других видов пользоприношения,
традиционно выполняющего роль экзистенциальной амортизации.
И обнаружить жертвенный каркас в самой что ни на есть
утилитарной, рациональной систематической деятельности
нетрудно, если знаешь, что искать. Тогда мы заметим, что
64
достаток, благополучие и богатство далеко не всегда
являются подспорьем для насыщенной жизни, то есть неким
средством для получения благ и удовольствий. Как раз
в ключевых точках новых жертвенных координат
запускаются и действуют стимулы, явно трансцендентные по
отношению к полю благополучия и достатка. Описанию
подобных ситуаций посвящено немало страниц у Маркса, где
классик обращает внимание на то, что Капитал
порабощает не только труд и рабочую силу, но и своих собственных
«распорядителей», пополняющих гильдию жрецов
Мамоны, которые своим систематическим жертвоприношением
и поддерживают процветание экономики. В дальнейшем
жреческая и жертвенная функция олицетворений капитала
отмечалась неоднократно:
«Дело не в том, что человек никогда раньше не был
рабом технической машины; дело в том, что, как раб
общественной машины, буржуазия подает пример, она
поглощает прибавочную стоимость в целях, которые в общей
системе не имеют ничего общего с наслаждением -
больший раб, чем последний из рабов, первый слуга
ненасытной машины, скотина для воспроизводства капитала,
интериоризация бесконечного долга. 'Да, я тоже, я тоже
раб" - вот новые слова господина. Капитализм уважаем
лишь настолько, насколько он является ставшим человеком
капиталом»*.
Но главное свидетельство сохранения и регулярного
возобновления чувственной практики внутри пользо-
приношения представил Макс Вебер в своем
исследовании протестантской этики. По сути, Вебер утверждает,
* Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и
шизофрения. — Екатеринбург, 2007. — С. 401.
65
и совершенно справедливо утверждает, что капитализм,
а стало быть, и взлет товаропроизводящей цивилизации
объясняется не имманентными экономическими
факторами типа бирж, банков или показателей
производительности труда, а некой духовной формулой - особыми
отношениями с Богом. Эти отношения не имеют ничего
общего с расточительностью, с презрением к деньгам,
с простой утилитарностью бизнеса. Сам Вебер определил
их как мирскую аскезу - что верно, но стоит отметить
важные моменты с общей точки зрения
жертвоприношения и созидания.
Во-первых, деньги. Им удалось проникнуть во все поры
человеческих отношений, включая воображение. Там, где
текут денежные потоки, всегда существует некая
сверхбиологическая жизнь, там происходит долгосрочная анимация
слишком человеческого - в результате деньги становятся
новой жертвенной субстанцией, при том, что
изначальной жертвенной субстанцией была только кровь.
Искусственная витальность, стимулируемая деньгами,
преодолевает локализацию обычного пользоприношения, так как
она разворачивается поверх других очагов автономности
и суверенности и даже, в свою очередь, сворачивает их,
переводя в свернутые измерения. В самых общих чертах
мы видим сворачивание сил близкодействия, их девалори-
зацию, когда ценности ближнего круга (дружбы, любви,
семейственности) рассматриваются как нарушения закона,
как нечто преступное в радиусе действия тех срединных
сил, частицами-переносчиками которых выступают
деньги, и как нечто архаическое там, куда еще не добралась
тотальная юрисдикция денег. То же происходит и с силами
дальнодействия - с авторствованием, с трансляцией
творческого импульса иноприсутствия вообще.
66
Но безмерно расширившееся измерение утилитарного
не однородно в себе, и оно содержит жертвенные зоны
и аскетические траектории, иначе оно никогда бы так не
расширилось, оно вздулось бы и лопнуло как мыльный
пузырь - и это во-первых.
Во-вторых, удивительной инновацией протестантской
этики, собственно, и решившей дело, стала
фантасмагорическая подмена: адресатом своей мирской аскезы, суровой
дисциплины будней и повседневного самообуздания вновь
уверовавшая душа видела все того же единого Бога, Бога
Авраама, Исаака и Иакова, хотя действительным «жерт-
вополучателем» был совсем другой адресат, по-своему
чрезвычайно могущественный и тучнеющий от
приносимых жертв Бог, имя которому Мамона.
Воистину удивительны его главные жрецы, такого
не бывало еще в истории. Они начинают и заканчивают
день с именем Христа на устах. Они поминают его при
каждой сделке и воздают хвалу ему, когда сделка удалась.
Но жертвенная субстанция, с которой они имеют дело и к
которой относятся со священным трепетом, - это
деньги. И если верно представление о том, что всякая душа
есть эксклюзивная собственность Бога, как бы сдаваемая
в краткосрочную аренду (напрямую это не выражено,
но понимается зачастую именно так), то уж совершенно
понятно, что деньги - как сущность, а не как расходный
материал, есть эксклюзивная собственность Мамоны,
и дух денег, дух наживы, противостоит spiritus sancti по
всем фронтам.
И все же нет никакого сомнения, что перед нами именно
духовное начало, размыкающее прочную эластичную цепь
сплошного утилитаризма. Сама по себе протестантская
этика обосновывает аскетизм, позволяющий капиталу
67
возрастать, и в силу этой аскезы все добродетели
сберегающей экономики существуют не в форме для себя, а в
форме для иного. Бережливость, экономия, трудовая
дисциплина, нарочитая скромность в потреблении, все это
вроде приносит пользу, а значит, осуществляется в моих
интересах, но время от времени возникает подозрение:
точно ли в моих? А вдруг это все же в его интересах? Но
кого его? Христа, величайшего нестяжателя на свете,
проповедника беспечности и жизни сегодняшним днем? Или
все же Капитала, который и вправду самовозрастает в
таких оптимальных условиях? Или самого Мамоны, пути
которого столь же неисповедимы, как пути Господни?
Практика систематической трудовой аскезы совпала
с беспрецедентным подъемом экономики: ее, конечно же,
и следует считать духом капитализма. Однако в любую
эпоху в составе этого совокупного пользоприношения есть
инородные вкрапления, которые обычно характеризуются
как помехи, сбои или злоупотребления. Это, например,
рискованная игра на бирже, чреватая утратой всего
капитала. С ней соседствуют столь же рискованные,
авантюрные инвестиции - но также и ничем не объяснимая
скупость, необратимое стяжательство, переходящее все
рациональные границы.
Однако то, что кажется помехой, когда смотришь из
ближайших окрестностей пользоприношения, с
высоты птичьего полета, откуда видна вся топография души,
предстает как своеобразная жертвенная практика или по
крайней мере как импульсивные эксцессы
жертвоприношения - и сразу становится ясно, что именно они и
одухотворяют экономическую деятельность.
Зоны биржевых спекуляций и безудержных
эксцессов алчности, безусловно, враждебны Spiritus sancti, но
68
они подотчетны собственному духу и суть его
манифестации, они служат неким трансцендентным основанием
всего последующего созидания в рамках производства
и дистрибуции вещей. Если заблокировать эти зоны
риска, свободный рынок перестанет работать на полную
мощь и экономика постепенно выдохнется. Ее придется
поддерживать как бы «вручную», невероятно трудоза-
тратным путем - весь опыт реального социализма
свидетельствует об этом. Ведь плановая экономика всегда
преисполнена благих намерений: пресечь эксплуатацию,
обеспечить справедливую оплату труда, как раз на
основе прозрачных рациональных механизмов... Однако
результат известен. Он косвенно подтверждает, что как раз
тотальная рационализация производства и обмена, их
сведение к плановому началу, предотвращающему
распыление средств и усилий, элиминация биржевых
спекуляций и прочих подобных эксцессов, безусловно,
обескровливает экономику. Так всегда бывает, когда сберегается
жертвенная кровь или, как в данном случае,
альтернативная жертвенная субстанция - деньги («кровь
экономики»), ибо во всех важнейших человеческих случаях
возрастание осуществляется не через сбережение, а
через трату. Когда разрушаются и эти жертвенники второго
порядка (закрываются биржи, изымается сверхприбыль,
пресекается беззаветное служение Капиталу), причем
все это делается во имя всеобщей пользы и примитивно
понимаемой справедливости, - тогда страдает само
созидание в рамках сберегающей экономики, оно скудеет
и выдыхается.
Казалось бы: поучаствовать во всеобщем пользоприно-
шении, применить свои профессиональные навыки там, где
они востребованы, - ну что еще надо для повседневности?
69
Но, как уже было сказано, Земля есть
жертвенно-аскетическая планета. Автономное сугубо утилитарное созидание
здесь не приживается, оно нуждается в систематическом
духовном возобновлении, иначе говоря - в действующих
жертвенниках. В каком-то смысле дело здесь обстоит так
же, как и в случае с аскетом-праведником, живущим в лесу
на краю царства. Вообще, сопоставление
жертвоприношения и пользоприношения это строгая топологическая
операция, поскольку второе всецело зависит от первого, оно
учреждается и возобновляется им. А вот сравнение двух
независимых жертвенных практик носит куда более
напряженный и непредсказуемый характер.
Вернемся к праведнику, к нашему лесному
отшельнику. Его бытие было иномирным, воистину
трансцендентным по отношению ко всем текущим делам царства,
однако оно было связано с этими делами некой высшей
формой причинения. Но аскеты и праведники Мамоны,
носители первородства от этого духа - почему бы не
предположить, что и их бытие точно так же не
вписывается в утилитарность повседневного, определяя при этом
из своей собственной трансцендентности сберегающую
утилитарную экономику? Немалое число фактов и еще
больше подозрений указывают на это. Скромные
распорядители огромных денег, все еще живые преемники
протестантской этики, боящиеся потратить на себя лишний
доллар, но предельно чуткие к малейшим потребностям
Капитала - какие еще жрецы могли так тонко
чувствовать своего бога? Те же биржевые игроки и маклеры
порой готовы покончить жизнь самоубийством в случае
внезапного разорения (очень относительного разорения,
заметим), но они готовы и к новой, столь же
рискованной сделке, их своеобразные подвиги крайне далеки от
70
рациональности. И все же не дальше, чем подвиг
отшельника по отношению к извлекаемым из него
результатам. Настоящие подвижники своего бога, обжегшись
на молоке, они не дуют на воду, а сохраняют готовность
к всесожжению в огне жертвенников.
Понятно, что нравы богов отличаются друг от друга
и, например, жертвенная субстанция крови универсально
пригодна для всякого запроса свыше, а субстанция денег
как субстанция жертвенная угодна только Мамоне.
Может быть, Каин не туда и не с тем обратился со своим
приношением, глядишь, выбери он правильный адресат,
и обрел бы первородство от Духа Наживы. Кстати, и бог
капитала (или тот, чьим воплощением является Капитал)
делит жертвы на угодные и неугодные, и он может
отвергнуть некое вполне серьезное приношение без объяснения
причин. Отсюда вытекает, в частности, непостижимость
той суммы качеств, которая необходима для успеха в
бизнесе (ну или в деле наживы). Сколько уже раз мир был
свидетелем тому, как профессиональные знания,
совершенная самодисциплина и даже самоотверженность
оборачивались полным фиаско, а какой-нибудь увалень, вроде
бы совершенно неспособный к расчету, оказывался
обладателем огромного состояния. Причин тому может быть
множество, мне, однако, кажется, что важнейшая из них
в том, что и Мамона столь же капризен и непостижим
в своем выборе, как Яхве.
Впрочем, то, что для нас здесь важно, не касается
различия адресатов в зависимости от жертвенной
субстанции, хотя сама по себе это чрезвычайно интересная тема.
Наша задача была иной: объяснить торжество ratio в той
сфере, где оно кажется даже более очевидным, чем в
науке, а именно - в экономике. Мы присмотрелись к зонам,
71
управляемым рациональностью и ошибочно
отождествляемым с миром человеческой суверенности. Оказалось, что
«чисто рациональные» и сугубо утилитарные факторы не
действуют как раз на важнейших участках причинения,
там, где производится сама экзистенция, впервые
задается экзистенциальное измерение. Тем самым иерархически
упорядоченная оппозиция «жертвоприношение -
созидание» доказывает свою истинность.
В номадическом глобусе
Теперь вновь вернемся в чистое поле, к тем точкам
крепления, где дух тяжести ослаблен и
просматриваются иные миры, находящиеся за пределами
жертвоприношения и санкционируемого им пользоприно-
шения. Да, номад не приносит жертвы и не приносит
пользы* - однако при этом нельзя сказать, что нома-
дическое не приносится в жертву при случае, и нельзя
сказать, что пользоприношение, царящее в мире в
промежутках жертвенной активности, совсем не имеет
никакого значения для номада.
Земля и вправду является жертвенно-аскетической
планетой, против этого вывода Ницше возразить нечего.
Поэтому легкие номадические частицы синтезируются
лишь в особых нишах и не определяют ход вещей в целом.
В каком-то смысле они обеспечивают обновление
экзистенциального проекта - но иногда вызывают ответный
синтез «тяжелых противообманных устройств», поэтому
они нейтральны для Шивы.
* См.: Книга номада // Секацкий Александр. Щит
философа. - СПб., 2016. - С. 54-105.
72
Не совсем понятно, могут ли легкие номадические
частицы нарушить жертвенный цикл или предотвратить
жертвенный кризис. В целом их влияние на естественный
ход вещей несопоставимо с влиянием, например,
«осадочных пород», конечных продуктов метаболизма и тем
более с великими учредительными моментами принесенной
и одобренной жертвы.
Здесь, у развилки, возле сингулярной точки
крепления, просматривается целый ряд номадических мотивов,
которые затем просто растворяются в океане рутинного
причинения. Один из них, пожалуй, особенно интересен.
Поскольку «корыстное добро» представляет собой самую
стабильную форму добра на земле, а жертвенная
нагрузка содержит прямое указание на глагол «грузить» и, стало
быть, на деяния Духа Тяжести, номад вполне может
выбрать «бескорыстное зло» как деяние, ускользающее от
жертвоприношения и не учреждающее ни одного участка
полезности.
Дерзкий поступок изнутри может конституироваться
просто неподчинением Духу Тяжести и расценивается как
зло просто потому, что текущий механизм пользы никак не
может быть задействован ни субъектом, его нарушившим,
ни теми подразделениями слишком человеческого, которые
привыкли извлекать пользу из всякого зла. Однако
бескорыстное зло есть деяние, практически недоступное для
извлечения пользы, в отличие от бескорыстного добра,
с адаптацией которого фальсификаторы более или менее
разобрались.
И все же именно траектории номадического бытия,
если отследить их в панорамном обзоре, совмещая
сингулярную точку крепления легкой Земли и
вынесенную в трансцендентное точку обзора повседневности
73
и истории, дают возможную альтернативу порабощению
Духом Тяжести (а следовательно, и необходимости
жертвенного превозмогания этой порабощенности) и с
большой степенью достоверности позволяют объяснить саму
суть жертвенной демиургии.
Теперь, наконец, жертва предстает как универсальный
способ разомкнуть рутинное причинение и отодвинуть
детерминизм повседневности. Причинные связи в режиме
слишком человеческого изнашиваются, контакты поль-
зоприношения засоряются и, ко всему прочему, новый
синтез человеческого в человеке прекращается. Душа
человека переходит в режим автопилота, а это гибельно для
души, и как бы ни был хорошо подогнан, отрегулирован
этот режим, он отличается предрешенностью, управляется
графиками и расписаниями и, следовательно, человеческое
в нем только выживает, а не зарождается и не
возрождается. И для предотвращения этого, работы автопилота
вместо труда души, жертвоприношение как раз воистину
нужно. Оно нужно, чтобы в какой-то момент упразднить
графики и расписания, пресечь рутинную причинность
и подключиться к трансцендентному как к кислородному
аппарату. А это, опять же, значит обрести свободу. Сама
стихия свободы омывает экзистенцию именно таким
образом.
Номадизм и искусство, получившее прививку
номадизма, как раз и несут в себе этот импульс, притом в
альтернативной версии - импульс перемены участи. Искусство
в своей непосредственной практике оказывается
пригодным для этого.
Более того, лишь теперь получает некоторое
объяснение современная форма искусства. Без этого перформан-
сы и хэппенинги, креативные практики без их непремен-
74
ной упаковки в произведения, кажутся сплошной формой
упадка, кажется, что искусство в целом потерпело
тотальное поражение, утратив долгосрочные единицы хранения,
оказавшись обреченным пребывать в режиме здесь и
сейчас. Его несамостоятельные, на глазах исчезающие
объективации (проекты) по большей части кажутся какими-то
химерами по сравнению с устойчивыми произведениями
давнего и даже совсем недавнего прошлого. Их срок
жизни мал, и сами они ничто без поднятой ими волны.
Однако эта волна нескончаемого, чрезвычайно
разнородного хэппенинга как раз и имеет решающее
значение. Именно она размывает и обессмысливает рутинное
причинение, парализует, как бы обесточивает каузальные
связи Духа Тяжести и берет на себя новое причинение,
новый тип детерминизма. Да, перформанс не
обязательно подключает к трансцендентному, хотя у него есть
такой идеал и такой шанс, но он точно избавляет от инерции
повседневности и, если угодно, от неизбежного соучастия
в остывании Вселенной.
И в таком режиме, почти не обеспечивающем
долгосрочных объективации, искусство оказывается пригодным
для запуска реакторов нового типа, работающих, так
сказать, на легких нейтронах. Задача его деятельности - не
созерцание вечности, а перемена участи: и он работает! Да,
в практике перформанса есть и, так сказать, тяжелые
элементы - что как раз и указывает на его происхождение от
жертвенной практики. Например, такова частая примесь
автотравматизма, самобичевания и страдания в
микродозах. Предполагается, что тем самым возрастает шанс
реального подключения к трансцендентному, используются
как бы острые, режущие осколки жертвоприношения и
облегченные вериги аскезы.
Пока речь идет всего лишь об элементах, хотя в идеале
это массовое и добровольное уклонение от пользоприно-
шения, утратившего смысл, следовательно, и от дрейфа
в сторону нарастающей мерзости запустения.
Но в качестве настоящей, убедительной альтернативы
жертвоприношению они пока выступать не готовы, можно
сказать, что искусство в этом качестве создается на наших
глазах и, отчасти, синтезируется нами самими.
2018
Раздел 2
МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИИ
1. ОБЩЕЕ ДЕЛО НИКОЛАЯ ФЕДОРОВА
КАК МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ
И ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
1
Тезисы «Философии общего дела», написанные более
ста лет назад, нуждаются сегодня в философском
обсуждении (включая и прямой спор) как никакие другие, и это
тем более парадоксально, что еще полвека назад казалось,
что идеи Федорова способны дождаться лишь герменев-
тиков и культурологов, да и то преимущественно для того,
чтобы ответить на вопрос, как стала возможной столь
вопиющая, не имеющая никаких привязок к реальности,
утопия. Вернуть всех мертвых, воскресить их в прежней плоти,
прекратить рознь всех живущих пред лицом этой
беспрецедентной сверхзадачи, отменить законы природы или
отредактировать их таким образом, чтобы они позволили
осуществить главное: «Должна быть умерщвлена, наконец,
сама смерть - самое крайнее выражение нужды,
невежества и слепоты»* - вот на что замахнулся русский философ.
И сделать это - умертвить саму смерть - предстоит нам
самим, ибо, как поется в революционной песне, «никто не даст
нам избавленья: ни бог, ни царь и ни герой»...
* Федоров Н. Ф. Сочинения. — М., 1982. — С. 332. Далее после
цитаты по этому изданию в скобках приводится указание страницы.
79
Соответственно, задача исследователей, людей
сколько-нибудь «научных», по отношению к наследию
Федорова понималась примерно так: объяснить, кем нужно было
быть, чтобы всерьез писать все это: великим праведником,
великим еретиком, оторванным от всего реального
мечтателем, параноиком, а может быть, чем черт не шутит,
опередившим свое время шутником -постмодернистом?
Меньше всего оснований было считать Федорова ученым,
который просто ошибается и выдвигает совершенно
несбыточные идеи в довольно наукообразном оформлении.
Поэтому история о нем - это история о сундуке, на
котором спал великий библиограф, и о пряниках, которые он
размачивал в кипятке, о его внутренней муке
незаконнорожденности - как будто это лучше всего объясняет
истоки русского космизма, столь величественного самого по
себе, но почему-то опирающегося на конкретно -дремучие
представления Николая Федорова. Якобы полная
оторванность от практики препятствовала даже
сопоставлению идей Федорова с другими версиями прогресса - хотя
версии неосуществимого тоже имеют свои сравнительные
достоинства и недостатки.
Между тем именно практика, практика последних двух-
трех десятилетий выдвинула проект Общего Дела в
плоскость содержательного спора. Сделаны первые шаги в
направлении практического синтеза тела - они оказались
совсем не такими, как полагал Федоров, но они отражают
успехи медицины в целом и индустрии протезирования
в частности. Главный прорыв произошел благодаря
Интернету и вообще сфере электронных носителей: благодаря им
была запущена впечатляющая консолидация крупиц
памяти. Архивирование изображений, документов, разного рода
свидетельств представлено в виде стихийного процесса, ис-
80
тинные параметры которого до сих пор неизвестны, и в виде
авторизованных архивов, касающихся, прежде всего, себя
любимого, но также попутно и линии родства.
Столь же значимы и перемены в истории, связанные
с прорывом частных микроисторий, нарративов, таких как
storytelling. Сюда относятся и невероятно расширившиеся
возможности визуализации, и все это неплохо
интерпретируется в терминах собирания праха и начала будничной
работы воскрешения. Безумная утопия приобретает
актуальность, что взывает к пересмотру, к всестороннему
обсуждению метафизических положений и параметров
мемориального процесса вообще. Ответная реплика,
начинающаяся со слов «допустим, отцы будут воскрешены»,
уже не кажется шуткой юмора. Многие,
представлявшиеся странными, тезисы Федорова встают на свои места,
поскольку оказываются тщательно продуманными
положениями, вытекающими из принятых предпосылок.
«Признание беспричинности небратского состояния
ведет не к действительному миру, не к братству, а к игре лишь
в мир, к комедии примирения, создающей псевдомирное
состояние, фальшивый мир, который гораздо хуже
открытой неприязни, потому что последняя ставит вопрос, тогда
как мнимое примирение увековечивает вражду, скрывая
ее» (67). В рамках этого самого грандиозного
имманентного проекта спасения находятся возможности взаимного
обоснования положений, казавшихся еще совсем недавно
никак не связанными друг с другом. Выносится воистину
метафизический приговор капитализму, расставляющий
точки над i там, где этого не сделал марксизм:
«В Европе, наоборот, вещь искренно и откровенно
ставят выше умершего человека, лицемерие же заключается
в том, что живого человека предпочитают будто бы вещи;
81
но если борьба за существование, то есть борьба между
людьми за вещь, признана условием прогресса, то вещь
как цель должна быть предпочтена людям как средству;
каждый и ценит других людей лишь как союзников в деле
приобретения вещи» (74).
То есть капитализм - это когда ценность изначально
мертвой вещи превышает ценность умершего человека,
а богатством становится не «знатность» (то есть
знание о своих предках), а совокупность вещей, из которых
в принципе может быть выжата некая субстанция,
именуемая деньгами, - после чего сгустки этой инстанции
начинают превышать и ценность живого человека. И пока не
удастся развернуть центр устремлений к умершему, к его
реабилитации и последующему воскрешению, так все и
будет происходить. Перед нами, по сути, предстал
первоисточник отчуждения - мы еще вернемся к справедливости
подобной дислокации. Вот еще одна цитата, имеющая
отношение и к характеру сверхзадачи, и к методу:
«Признавая имманентное воскрешение, мы полагаем
предел пытливости человеческой, направленной к
трансцендентному, к мысли без дела; но, осуждая спиритизм
и вообще стремление к внемирному, мы не стесняем,
однако, человека, ибо показываем, что область доступного ему
имманентного так широка, что нравственное, родственное
чувство, всемирная любовь найдет в ней полное
удовлетворение» (69).
Что же - принимаем проект в целом. И поскольку
дело-то общее, почему бы не поставить задачу улучшить
его, отредактировать, устранить узкие места, исходя из
82
того, что нелепо было бы противиться возвращению
отцов и других близких. Ведь на наших глазах уменьшается
степень несбыточности этой мечты, которую уже сам
Федоров попробовал изложить в форме подробного плана.
Следовательно, и коррективы можно вносить не как в
авторский проект, а как в план единения, исходя из того, что
и нас, в свою очередь, подправят, а общее дело от этого
только выиграет.
Начнем с радикальной, быть может, излишне
радикальной, смены приоритетов - с перехода от рождения
к воскрешению, то есть со своеобразного обращения
совокупной воли вспять. Саму эту беспрецедентно
странную заповедь Федоров эксплицитно не формулирует,
кратко же ее можно выразить так: восстановить все
исчезнувшее.
«Задача не отрешившихся от общего родового чувства
состоит в отыскании способа восстановления угаснувших
миров силами действующего разума, и только таким путем
будет объяснено и самое образование мировых систем, так
как без действительного восстановления их всякие
объяснения будут только предположениями» (357).
Под угасающими мирами понимаются не персональные
вселенные, не вспышки сознания, обреченные на
угасания, - речь идет ни больше ни меньше как о мирах
Канта - Лапласа, о галактиках и звездных системах - о них
в данном случае попечение, их предполагается
«восстановить», распространить и на них жалость и разумное
попечение, а это уже нечто большее, чем требование
«умертвить саму смерть», это уже именно скрытый императив:
все угасающее достойно восстановления.
И тут есть повод для недоумения. Может быть, все-таки
не все угасающее достойно поддержки? Именно в такой
83
форме вопрос переводится в корректное утверждение,
и следующий шаг ведет уже к тезису Ницше «Падающего
толкни!», то есть к антитезе: все погибающее достойно
гибели - и таковы крайности, полюса решимости
действующего разума. Со всех сторон должен быть рассмотрен
вопрос о радикальном обращении воли: не является ли сама
радикальность жестом отчаяния и недопонимания? Вот
преисполненные горечи и гнева строки Федорова:
«Прогресс делает отцов и предков подсудимыми, а сынам и
потомкам дает суд и власть над ними: историки - это судьи
над умершими, то есть над теми, которые уже понесли
высшую меру наказания, смертную казнь. А сыны -
судьи над еще не умершими» (79). Суд над умершими и суд
над отцами, которые a priori обладают презумпцией вины,
это действительно одно из фундаментальных препятствий
делу воскрешения.
Презумпция вины должна быть заменена на
презумпцию невиновности, а затем и на санкцию милости,
вытекающую из общего чувства скорби по утраченному. Но
это вовсе не значит, что суд вообще должен быть отменен:
Праведный Суд есть высшая божественная функция, столь
же значимая, как само преодоление смерти. Федоров,
увы, не отмечает того важнейшего положения веры, что
воскрешенные самим Богом предстанут перед Страшным
Судом. Ибо для большинства из них это и есть высшее
чаяние. Переход дела воскрешения в человеческие руки,
на котором, собственно, и основывается проект Общего
Дела, меняет многое, но он не может изменить все
обстоятельства, ради которых само Воскрешение мыслилось
и чаялось. Среди них, этих воистину эсхатологических
обстоятельств, надежда (даже упование) на Справедливый
Суд, так что множество предполагаемых воскрешенных
84
с высокой вероятностью о нем именно в первую очередь
и спросят. Заповедь «Мне отмщение, и Аз воздам» была
важнейшим элементом их веры. Так что представляется,
что этот момент безусловно должен быть откорректирован
в проекте Общего Дела, ведь даже упомянутые
Федоровым историки «судят мертвых», исполняя своеобразный
долг. Они хотят вынести объективный приговор судимым
и обсуждаемым и смутно чувствуют, что и судимые тоже
хотят этого; историк пытается войти в их положение
и потому судит.
Так что Воскрешение и Суд связаны в принудительную
последовательность экзистенциальных моментов, если
речь идет о людях. О людях, о простых смертных и
говорит Федоров, все время подчеркивая имманентность,
буквальность задачи воскрешения.
Праведный Суд должен свершиться, это, однако,
отнюдь не исключает милости. Осужден враг твой или ты
сам, милость воскрешения уже оказана, а значит,
прощение может быть даровано - как раз таким и должно быть
по своему духу Общее Дело возвращения отцов, даже не
зная заранее, что еще, какое из посредствующих звеньев
пропущено. Тут «корректорская вставка» очевидна, без
нее Проект провалится, даже если окажется
осуществимым.
Вообще-то суть этой поправки проста: воскресить
умерших следует ради жизни. И этот тезис можно
принять как естественную установку, принять прежде, чем
напрягать живущих ради тяжбы со смертью. Мы ведь
хотим воскресить их в нашу жизнь, печалясь не просто об
абстрактном отсутствии наших близких, но и от того, что
мы не можем поделиться с ними радостями, проблемами,
проектами... Мы не думаем оживить и обрести их в раю,
85
Федоров ничего не говорит об этом и правильно делает:
воскрешаемых мы будем встречать на Земле - и тут-то
и кроется загвоздка.
Едва ли не большинство умерших отцов погибли в
противоборстве, пали в бою, пали, осуществляя свой дерзкий
план, осуществляя рискованное предприятие, и мы хотим
вернуть их такими, какими они были, ведь мы хотим
вернуть именно наших отцов, а не кого-то другого. И это
вызывает озабоченность основателя Общего Дела,
озабоченность, преодолеваемую каким-то очень длинным
обходным путем:
«...Ибо для всей той силы, которая тратится во
взаимных распрях, найдется широкое приложение; в мировой
деятельности всесословной сельской общины оно найдется
как для мирного труда, так и для беззаветной отваги,
удали, жажды самопожертвования, желания новизны,
приключений. Известный процент характеров с подобными
наклонностями выделяет всякая община. Тот материал, из
коего образовались богатырство, аскеты, прокладывавшие
пути в северных лесах, казачество, беглые и т. п., - это те
силы, которые проявятся еще более в крейсерстве и,
воспитанные широкими просторами суши и океана,
потребуют себе необходимого выхода, иначе неизбежны
перевороты и всякого рода нестроения, потрясения. Ширь Русской
земли способствует образованию подобных характеров;
наш простор служит переходом к простору небесного
пространства, этого нового поприща для великого подвига»
(358).
То есть просторы космоса рассматриваются здесь
фактически как территория сброса избыточной пассионарно-
сти, а также, судя по некоторым признакам, и как место,
куда можно отправить наиболее «беспокойных» отцов. Но
86
стоит ли тогда тревожить их прах в земле? А может,
наоборот - отправить сейчас самых буйных в могилу, чтобы
они упокоились там до того времени, пока не станут
доступными межпланетные дальние дали?
Так или иначе, но любое непредвзятое рассмотрение
последствий рукотворного воскрешения приводит к
выводу о повышении общего уровня агональности, если отцы
вернутся не в ангельском чине и не в призрачном облике,
не как тень отца Гамлета. Но ведь это и будет означать
прибыль жизненных сил, несомненную экспансию
жизни в борьбе со смертью во всех ее проявлениях, включая
и смертельную усталость, и упадок воли. В
действительности, конечно, с таким упадочным настроением мертвых не
возвратить. Тут явно недостаточно глубокой печали, сколь
бы глубока она ни была.
Необходима именно внутренняя интоксикация жизни,
ее интенсификация до такой степени, чтобы жизнь
вступила в противоборство со смертью по всем фронтам - лишь
так она может взяться за великую задачу воскрешения, за
величайшую Сверхзадачу.
В этой жизни многое должно быть в наличии для того,
чтобы Общее Дело сдвинулось с места, и как общее (а не
только «общественное» - Николай Федоров не устает
подчеркивать разницу), и как дело. А где дело, там и пра-
восудность, и борьба за нее, и длинная воля,
присоединенная к собственному проекту (или к тому, который сочтен
собственным), а также и наука с борьбой ученых за
первенство, и знаменитая состязательность (агональность)
эллинов. О средствах воскрешения, не относящихся к
науке, - особый разговор.
Более того, самым действенным запросом на
воскрешение должна выступать как раз нужда в витальности,
87
приглашение, адресованное воскрешаемым, звучит так:
вы нам нужны для жизни. Нужна ваша стойкость,
отвага, очарованность - вот почему мы позвали вас на
помощь. .. Такая модальность была бы не только честнее по
отношению к воскрешаемым, но и реалистичнее в качестве
мотива - что отнюдь не отменяет ни зова Космоса, ни
обращения воли.
Вдумываясь в регулярно провозглашаемый
Федоровым мотив «заменить даровое на трудовое», почему-то
вспоминаются слова из другой оперы - девиз одного из
современных украинских националистов: «Мы получили
независимость от России в подарок, а теперь мы ее
(независимость) завоюем». Независимость от природы тоже
нужно еще завоевать, обрести, даже если она дарована
в воображении, в самом сокровенном чаянии вернуть всех
умерших. Но тут важно отметить следующее. Обращение
ключевого вектора воли от рождения к воскрешению
предполагает перепричинение, решительное вмешательство
в каузальные связи природы. Но перепричинение - не
самоцель, его высший пилотаж состоит в том, чтобы
сохранять аутопоэзис всюду, где это только можно. Абсурдно
стремление заменить все живые цветы на бумажные, но
и замена всех дикорастущих цветов оранжерейными тоже
не выход. Правильнее всего создать ключевые точки
присмотра, оставив максимум простора для всепроникаюшего
генезиса. Да, отвоевать полученное в дар входит в
человеческую задачу, но не стоит быть святее папы римского,
ведь и сам Бог в своей предельной демиургии творения
из ничего (ex nihilo) предоставляет слово и самому ничто,
точнее, манифестациям хаоса, дотворческого состояния
мира. И если даже, согласно Николаю Федорову,
совершеннолетие человечества состоит в том, чтобы перенять
88
вахту, взять на себя дело спасения и воскрешения, то и это
должно означать обладание инструментами
божественного Промысла, приобретение выучки, позволяющей
работать с этими инструментами. А приглядевшись к Мастеру,
придется признать, что высшая степень богоподража-
тельности состоит в умении переводить на автопилот все
те устроения и усмотрения, которые только этому
поддаются, да еще и в умении подмечать, отбирать и
сохранять те формы жизни в самом широком смысле слова,
которые спонтанно возникают в автономных процессах.
Лучшего не придумал сам Бог, сотворенная им природа
остается образцом прочного устроения, и даже в наиболее
радикальном человеческом устроении все прочное
должно быть устроено «как природа», включая, кстати
говоря, и экономику - тотальный аутопоэзис вещей. И здесь
смыкаются энтузиазм бьющей через край жизни и
контуры стратегического расчета. Даже «распыление усилий
на производство безделушек» не должно быть отвергаемо
с порога, следует прежде задуматься о том, как сохранить
производительные силы этого производства: короче
говоря, проект Общего Дела, при всей своей грандиозности
и предельности, должен иметь и свой «бизнес-план»,
абсолютно необходимый, прежде всего, для набора первой
космической скорости, для вывода на орбиту, где может на
полную мощь включиться, перехватив полезную нагрузку,
другой двигатель. Вдумываясь в побуждения к
воскрешению, следует признать, что речь идет не только об
экспансивном увеличении числа живущих, но и об
интенсификации жизни как жизни, в ее обогащении, насыщении
творчеством, шансами, проектами. Если бы все сводилось
только к идее поделиться скудными остаточными
ресурсами, это был бы унылый минимализм.
89
3
Бизнес-план - само собой, но имеется и некий
порядок воскрешения, и собственная диалектика, разобраться
с которой, не впадая в путаницу и наивные
самопротиворечия, нелегко. Мало сказать, что одного обращения воли
от порождения (генезиса) к воскрешению (демиургии)
здесь недостаточно, излишний ригоризм и, так сказать,
сквозная сознательность всего процесса могут и повредить
делу - Общему Делу. Постановка стратегической
сверхзадачи не вызывает сомнений в качестве всечеловеческой
максимы воли: умертвить смерть и вернуть всех умерших.
Для этого и предлагается план, сначала хотя бы набросок.
Однако даже для обоснования важнейших тезисов
требуется вся разрешающая способность метафизики и вся
совокупная хитрость разума, опирающаяся к тому же на
развернутую интуицию времени. Среди ключевых моментов
хроноинтуиции, составивших основу даосской философии
и китайской мудрости в целом, очень важен принцип,
знакомый и европейской мудрости: кто нам мешает, тот нам
поможет! В китайской стратагеме, раскрывающей идею
уместности и своевременности, данный тезис расписан
четко и обстоятельно:
а) что нам вообще мешает, то нам сейчас поможет;
б) что нам сейчас мешает, то вообще нам поможет.
Без учета этих диалектических виражей или резонан-
сов хронопоэзиса сверхзадача невыполнима. Странно,
что Николай Федоров, посвятивший изучению Китая
немало времени, никак не использует принцип
своевременности в своем проекте. Вот он критикует распыление сил
и ресурсов в рамках экономики производства безделушек:
отцы ждут, задолженность перед ними растет, а в это вре-
90
мя столько предприимчивости, столько человеческой
изобретательности тратится на украшение и приукрашивание,
что трудно сдержать возмущенный возглас «доколе?».
И отец-основатель изрекает мрачное пророчество,
попадая, увы, пальцем в небо:
«При обращении промышленности в побочное, зимнее
занятие при земледелии, самый характер производства
изменится; продукты не будут иметь такой красивой
внешности, как теперь, зато выиграют в прочности и, конечно,
найдут сбыт у тех, которые сущность предпочитают
красивой внешности, то есть у крестьян всех стран. Вместе с тем
не будет той изменчивости, как теперь, не будет моды;
промышленность и капитал займут свое надлежащее
место, то есть не первое, а последнее...» (377)
Здесь Федорову удалось предсказать с точностью до
наоборот: впереди был XX век, торжество оформления
и рекламы, триумф упаковок, непререкаемое господство
моды, а что касается внутренней добротности, то в нее
словно бы был вмонтирован часовой (ну может быть,
годовой) механизм самоуничтожения, как бы
подстраховывающий моральное старение. Хайдеггер, в значительной
мере разделяющий пафос Федорова, в этом уже не
сомневался.
Но еще больший парадокс состоит в том, что
впечатляющий, невероятный прогресс в производстве безделушек не
только не погубил Общее Дело, но в каком-то смысле
существенно приблизил его цель, в том числе посредством
великой реабилитации тела, которое было поставлено во
главу угла.
Диалектические законы превратности, описанные
Гегелем, и пируэты иллюзиона времени не могут быть учтены
во всех деталях, но сама возможность и даже неизбежность
91
логики противохода вполне может быть учтена.
Пресловутые побрякушки и безделушки поддержали «телострои-
тельство» в форме фитнеса и, например, интенсивной
диетологической активности, но не имели и не имеют ни
малейшего отношения к возвращению отцов - в терминах
Федорова движущей силой тут была похоть и только
похоть. Однако вся эта «литургия вокруг косметички» стала
своеобразной аскезой, могучей организующей силой,
которой не то чтобы удалось «заменить даровое на трудовое»,
как заповедал отец-основатель, но все-таки существенно
потеснить даровое, «просто природное», потеснить его
чем-то воистину трудовым - аскетической и неустанной
работой над собственным телом, благодаря которой
природная телесность становится чем-то вроде руды, а
прекрасное тело - произведением, причем таким, которое
по совокупности усилий превосходит все художественные
произведения, вместе взятые. Если добавить сюда еще
синематограф, уже создавший эйдосы бессмертных тел, то
роль искусства в контексте Общего Дела требует особого
разговора.
И в соответствии с обновленной версией проекта
следует внимательнейшим образом присмотреться к этому
феномену. Если, согласно даосской этике, всякая частная
добродетель может быть выкрадена Большим Вором в
интересах его собственного, разбойничьего промысла (для
Большого Вора честность на службе злу предпочтительнее
нечестности), то возможен и обратный вариант -
экспроприация частных достижений автономной, «бесцельной»
(или даже «мануфактурно-фабричной») науки, так
сказать, агентурой Общего Дела. Если не все, то
большинство работающих достижений можно обратить в пользу
Общего Дела, раз уж с «прямым размещением заказа»
92
возникают такие проблемы, вызывающие порой отчаяние
у самого Николая Федорова: «В том мире, где есть
литературная собственность и плагиат, или литературное
воровство, полемика, или литературная война, в таком мире
невозможно, конечно, согласие, многоединство, при
котором ум всех людей был бы одним обширным,
собирательным умом» (424).
Да, и здесь «рознь», или, говоря словами Гераклита,
распря - воистину царь всего. Греки называли эту
сквозную состязательность полемосом, англичане -
конкуренцией. Ей равно подчиняются и цветы на лугу, и деревья
в лесу, и варварские племена, и цивилизованные державы,
и ученые мужи в академиях, даже если мануфактурно-
фабричная наука оставляет их в покое. Федоров склонен
порой считать, что главной причиной тому является непро-
ясненность Сверхзадачи, общего сокровенного чаяния, но
он, кажется, не допускает мысли, что сама эта непрояснен-
ность вызвана отсутствием точной формулы, даже в
некотором элементарном смысле, в том смысле, что
воскрешение умерших должно быть воскрешением к жизни. Стало
быть, не только ученым, но и философам тут есть над чем
поработать.
Но это не значит, что в ожидании точной формулы
можно сидеть сложа руки: и конкурентная наука, и
конкурентная промышленность, и даже собственно
конкурентная социальность, как Weltlauf, должны оставаться в поле
зрения агентуры Общего Дела, чтобы не пропустить,
взять на учет те научные открытия и социальные
инвенции, которые способствуют возрастанию совокупного
человеческого бытия-к-могуществу. Собственно, сам
Николай Федоров как раз пристально следил за достижениями
современной ему науки, высматривая подходящее для
93
Замысла, обращая особое внимание на
метеорологическую регуляцию и психофизику («психократию»), порой
попадая в точку, в несомненную перспективу будущего,
а порой попадая пальцем в небо и высказывая весьма
курьезные утверждения.
Впрочем, создатель Общего Дела все равно остается
прозорливее футурологии своего (а порой и нашего)
времени. Но важно принципиальное понимание диалектики
развития, многие моменты здесь проясняются, исходя
именно из логики проекта. Вот наука, то, чем занимается
сословие ученых. Федоров называет ученых
командированными: наука и есть некая комиссия или долгосрочная
командировка. Лилиями всего общества группа
разведчиков отправлена за знаниями, которые они должны добыть
и доставить всем, всем ожидающим, всем верящим в науку
и надеющимся на нее. Увы, ученые забыли волю
пославших, забыли, зачем они здесь, их перекупила
мануфактурная промышленность или просто увлекла внутренняя
логика собственных занятий.
Что ж, можно долго сетовать по этому поводу, но
почему бы не снарядить вторую
экспедицию-командировку, теперь уже точно организованную от имени Общего
Дела? Комиссары Всеобщего Воскрешения (вот уж где
точно будет достаточно добровольцев) должны стать
резидентами и особо уполномоченными во всех областях
знания - и в естествознании, и в философии, и в
истории, и в искусстве. Эта часть проекта не выглядит такой
уж утопической, учитывая, что «в тех краях далеких»
давно пасутся эмиссары мануфактурной
промышленности и оборонных ведомств. Поборники бессмертия могли
бы представить свой вариант использования обширной
фактографии. Можно было бы сказать и так: раз уж не
94
удается разместить социальный заказ напрямую как
обязательную задачу ученому сословию, не довериться ли
агентуре Общего Дела, тому, кто точно знает, чего
хочет? Проблема в том, что, поскольку параметры Заказа
слишком размыты, возникающие промежуточные формы
могут иметь принципиальную важность, хотя бы их
направление совершенно расходилось с идеей возращения
умерших.
На ошибках и курьезах особо задерживаться не
стоит, хотя нужно заметить, что в «Философии общего дела»
присутствует не только недооценка трудностей, но порой
и весьма поучительная переоценка, что требует куда
большей снисходительности к науке. Вот для примера
характерный пассаж:
«Если исследование таких громадных сравнительно тел
как валуны еще не окончено, то какой труд и сколько
времени потребуется для исследования частиц величиною в
миллионную долю линии, и притом для исследования не
изначального только их состояния, строения, но и всей истории
каждой такой частицы?» (420) Тут следует задержаться,
поскольку сумма усилий воскрешения - восстановления
обретает новый вид и иной характер, в частности,
подлежит пересмотру самая тягостная и беспросветная часть
Общего Дела - собирание праха. Если и в самом деле
должны быть возвращены на место все валуны и пылинки,
то сложность задачи, стоящей перед человеческими
сынами, куда больше, чем сложность той миссии, которая была
возложена на Сына Человеческого, а заодно и той,
которую осуществил Творец всего сущего.
Если бы задача творения выглядела иначе - например,
собрать пазл, предварительно разрезав весь многомерный
мир на произвольные кусочки (фрагменты) и основательно
95
перемешав их, причем так, чтобы фрагменты включали
в себя элементы и сущего, и происходящего, - то какова
была бы сложность этой задачи по сравнению с
исходной - творением из ничего и впервые?
Ответ таков: задача была бы не просто труднее, она
оказалась бы не по силам никакому демиургу по
множеству причин, а ведь собирание праха (и возвращение
на место всего свершившегося) в чем-то напоминает
составление подобного пазла. Для забавы, в духе Эмпе-
докла и Ксенофана, можно представить себе
состыковку этих рассеянных кусочков - пусть они депонированы
где-нибудь в мультиверсуме, обрывки разного размера
и «наполнения». Ясно, что однородных среди них будет
ничтожное количество - то есть таких, чтобы составить
хотя бы валун, упоминаемый Федоровым, или,
например, сон фараона. Если взять более типичный отрывок:
что может оказаться в рамке? Например, нога,
пинающая мяч, всхлип, запах шашлыка. Допустим, был такой
кадр, моментальный снимок: как и почти все случайные
фрагменты происходящего, он не был никем
зафиксирован и осознан, но попал в число нарезанных кусочков,
пригодных для составления разнородной картинки, для
собирания потенциального пазла. А что с ним по
соседству? Обрывок сна и гусиное перо, лежащее на каком-то
подоконнике...
Собрать пазл нельзя. Не только из-за немыслимой
комбинаторики, но и потому, что придется безжалостно
вырывать куски из всех последующих образовавшихся
единств, придется резать по живому. Этого не миновать
при собирании праха, если и в самом деле речь идет об
описании «бесконечно малых частиц» и их возвращении
в «первоначальное положение».
96
Но, как установила наука, с «мельчайшими частицами»
дело обстоит не совсем так. Если речь идет о физических
элементарных частицах, то вся их индивидуальность
исчерпывается несколькими параметрами: заряд, масса,
спин, прочие появляются уже в силу причастности к более
обширному единству, например, к атому. Они, эти
частицы, совсем не похожи на булыжники, на упомянутые
Федоровым валуны. Эти частицы больше похожи на буквы
или нотные знаки. На данном исходном уровне сущего еще
не заданы различия между тем же самым и точно
таким же, а значит, если мы написали на доске какое-нибудь
слово, например, «отец» и вышли из класса, а вернувшись,
обнаружили, что одна буква осыпалась или кто-то ее стер
тряпкой, то для того, чтобы восстановить слово и вернуть
«отца», нет нужды собирать крошки мела на полу или
счищать их с тряпки - прах тут не нужен. Мы можем взять
мел и вернуть то же самое слово на место, вернуть «отца».
Так же обстоит дело и с элементарными частицами: нет
никакой нужды их отыскивать.
Все тождественные элементы, будь то буквы или
частицы, обнаружатся с необходимостью и «откликнутся», если
предложить правильное лекало воскрешения, то есть если
будет в наличии исходная экзистенциально-мемориальная
монограмма.
И эта «единица хранения», безусловно, представляет
собой проблему номер один, трудности ее возобновления
и даже простого определения чрезвычайно велики. В
«Философии общего дела» есть верные и глубокие соображения
на этот счет - о музеях, о вахтах памяти, о «сторожевых
кремлях», «психократии» и так далее, но необходимость
«тотального» собирания праха постоянно отвлекает
Николая Федорова и в целом очень существенно искажает общее
97
направление поиска. Что ж, следует признать, что в этом
отношении результаты последней научной командировки
оказались очень обнадеживающими: «мельчайшие
частицы», при всей их остающейся загадочности, вовсе не
требуют инвентарной регистрации для восстановления или, если
угодно, возвращения любого составленного из них единства.
А если верна теория суперструн, то и само количество этих
«бесчисленных частичек» не так уж и велико: ведь и для
того, чтобы исполнить самую божественную симфонию,
достаточно ограниченного числа нот, да и вся музыка мира,
исполняемая одновременно, обходится все тем же количеством
нот. В мире элементарных частиц, где нет (еще нет)
различия между точно таким же и тем же самым, дело обстоит
примерно так же. Не надо собирать прах отзвучавшей ноты,
чтобы заставить зазвучать ее вновь.
Но и в отношении частиц далеко не столь мелких
необходимость собирания праха оказывается под вопросом,
хотя и по другим причинам. Сегодня мы точно знаем, что
нет таких валунов (твердых тел), которые на всем
протяжении своего существования располагали бы одними
и теми же атомами. По мере того, как течет время,
течет и материя, заменяясь и обновляясь в некой условной
сумме мест. Если же взять такую реальность, как
организм - его хрупкость и тленность особенно печалила
Федорова, - то и здесь о собирании праха говорить не
приходится. Да, смертность есть нечто неизбежное и, наверное,
с ней надо что-то делать, однако отыскивать и возвращать
в организм каждую входившую в его состав молекулу и
бесполезно, и нелепо: за время жизни организма их сменилось
столько, что придется объявлять тендер: какую именно из
них возвращать на свое место? Это же относится и к
клеткам, а может быть, и к тканям...
98
Действительная задача, которую необходимо решить,
но которая остается нерешенной и по сей день, это
установление причины смертности и смерти. С позиций
современной биологии, похоже, дело обстоит так, что смертность
в какой-то момент «прицепилась» к природе и больше ее
уже не отпускает. Похоже, что решить эту задачу чисто
теоретически невозможно, что решение возникнет только
из опыта противодействия смертности и смерти.
4
Итак, самая рутинная и муторная часть собирания
праха отпадает за ненадобностью - по той же причине,
по которой воссоздание водопада не требует
возвращения утекшей воды. Однако необходимость колоссальной
мемориальной работы при этом вовсе не устраняется,
и агентура Общего Дела непременно должна быть
внедрена во все отрасли знания, хотя она и не может все еще
быть прямым заказчиком, не зная, что для Общего Дела
действительно нужно (не имея бизнес-плана). Вот физика
знает: понятно, что не нужно возвращать каждую каплю
на место для возобновления водопада. Но изгибы рельефа
и растущую рядом сосну необходимо вернуть, иначе мы
не узнаем нашего прежнего водопада и будем иметь дело
с другим. В восстанавливаемом организме не нужно
возрождать факт его инфицированности каким-либо
заболеванием - но как быть с особенностями этого организма,
отклоняющимися от абстрактного здоровья? Как быть
с «воспаленным бессознательным», элементами фетиши-
змов и фобий?
Уже сегодня благодаря текущим сводкам с фронтов
естествознания и «психократии» мы знаем, что единство
99
имени, например, несравненно важнее для воскрешения
умерших, чем достижение органического гомеостаза.
Обратимся теперь к экономике, к этой едва ли не
главной, по мысли Николая Федорова, силе (стихии),
отвлекающей от Общего Дела. Наш растущий долг перед
отцами номинирован и в индивидуалистической морали,
и беспамятной науке (ученые, забывшие, кто и зачем
послал их в командировку), и в поощряемой розни между
братьями, но едва ли не прежде всего он включает в себя
деньги в качестве повседневного человеческого ресурса,
причем все деньги вообще, деньги как таковые. Если бы
человеческая активность направлялась другими
движущими силами, например, всецело любовью, чувством потери,
хотя бы даже злобой сегодняшнего дня, а не зовом
подмененного будущего, о котором оповещает звон монет или
шуршание купюр, мы были бы ближе к осуществлению
великого чаяния, к победе над смертью. То есть деньги зло,
и от них если не все, то многие и многие беды, - допустим.
Однако и их вину следует рассматривать беспристрастно,
чтобы установить хотя бы состав преступления. Для
этого, в свою очередь, необходимо углубиться в метафизику
денег и осознать чрезвычайную важность политэкономии,
явно превосходящей по значимости «метеорологическую
регуляцию», которой был так озабочен основатель
Общего Дела.
Что есть деньги? Если ответить метафизически
и совсем кратко, то это кладбище угасших обещаний*.
В каком-то смысле каждый кредит и платеж несет в себе
сверхслабое свечение личностного присутствия. Это при-
* Подробнее см.: Деньги, грезы и неврозы // Секацкий
Александр. Изыскания. — СПб., 2009. — С. 289—301.
100
сутствие, изъятое в долговые обязательства, а затем и в
денежную номинацию, глубочайшим образом искажено.
И все же, если бы ничего живого не сохранялось в
актах купли-продажи, капиталу неоткуда было бы собирать
свою силу. Консолидация капитала, в частности,
предстает как вытяжка из множества растраченных жизней, и в
этом сгустке, быть может, не окончательно истлели
персональные монограммы присутствия: нет-нет да и
мелькнет чья-то надежда, чья-то беда, иллюзия, чья-то
окончательная капитуляция.
Тем самым я хочу сказать, что если и вести речь всерьез
о собирании праха, то искать его нужно отнюдь не в
истлевшей органике, а здесь, где прах есть крах, крах целого
множества жизненных проектов. Как раз здесь
реставрация могла бы иметь смысл, если бы удалось отследить
и рассмотреть неоднородности в материи сбывшихся и не
сбывшихся обещаний. Но как к этому подойти? Сейчас
мы с трудом можем идентифицировать персональное
инобытие даже среди осуществленного и сделанного (как
раз деньги и товарная форма особенно успешно стирают
монограммы персонального инобытия). Лишь избранные
фрагменты сделанного, а именно произведения искусства,
позволяют восстановить имя и, так сказать, творческий
профиль, несомненно имеющий отношение к матрице,
к мемориальной монограмме, но не совсем понятно, какое
именно отношение. А как быть с неосуществленным, с не
сделанным, которое тем не менее вошло в общую
капитализацию, возрастающую задолженность, вошло и как
расписка в самом широком смысле слова, и как частица
вещей силы, приумножающая превратность, передающая
проклятие (зачастую в форме благословения) дальше по
эстафете поколений? Пожалуй, едва ли не самым зримым
101
выражением долга сынов перед отцами как раз и является
капитал за работой, деньги, приносящие деньги. И здесь
возникает смутный вопрос: за счет чего, что именно
всасывает эта губка?
Знал, для чего и пахал он и сеял,
Да не по силам работу затеял*.
В таких случаях иногда говорят: все пошло прахом.
И собиранием этого праха могла бы заниматься не
только агентура Общего Дела, но и все волонтеры, сами сыны
и дочери. Это уже воистину похоже на всемирную
археологию воли отцов, когда кропотливо исследуется крах их
чаяний, усилий и надежд. Как найти хотя бы крупицы, по
которым, как по остаткам ДНК, можно произвести
действительно значимую персональную идентификацию?
Поскольку политическая экономия исследует лишь
процесс изъятия, гомогенизации и усреднения
персональных обязательств, необходима радикальная инверсия,
новое следопытство, нечто вроде предметной истории, но
в предельно широком смысле.
Вот, скажем, ковровое производство где-нибудь в
Иране, допустим, мастерская и лавочка при ней. Мастерскую
основал Али вместе с семьей, его сын Хасан продолжил
и расширил дело, его сын Омар продолжил дело отца - но
сын Омара не выдержал конкуренции, разорился и
распродал остатки своего дела. Оборотные средства, бывшие,
так сказать, внешней кровеносной системой трех
поколений, влились в безличный капитал - или были всосаны им.
В этот момент и прервалась связь поколений, отцы стали
* Н. А. Некрасов.
102
дрейфовать в сторону (в страну) забвения, а долг сынов
начал стремительно возрастать...
Подобных случаев великое множество, они касаются
и садовников, и врачей, и бакалейщиков. Некоторые из
них кончались не разорением, а, наоборот, неожиданным
стремительным обогащением, но оборотный капитал все
равно обезличил и обнулил все персональное... Так что
всемирная предметная история может и должна стать
неотъемлемой частью Общего Дела. Пока не совсем
понятно, как строить расследование, ясно лишь, что деньги
и капиталы должны быть безусловно привлечены к работе
воскрешения. Будучи направленными на восстановление
музеев, архивов, заповедников, мемориальной матрицы
в целом, денежные потоки должны будут претерпеть некое
вторичное расслоение, которое в макроэкономических
категориях может быть определено как «связанные
инвестиции», то есть как деньги, прикрепленные к материальным
линиям, к «предприятиям кредитно-финансовой
археологии» и к предметной истории мира вообще.
Как раз здесь мировоззренческая революция
необходима, и вся та риторика, которая призывает к собиранию
рассеянных крупиц вещества, риторика, не выдержавшая
проверку наукой (чем ученые, слава богу, обнадежили
ревнителей воскрешения), вся она должна быть
перенаправлена на реставрацию траекторий суверенной воли
и самообязывания, поглощенных в разное время
пожирателем-Капиталом. Устойчивое перераспределение
потоков монетизированной воли в сторону мемориальной
составляющей будет в некотором смысле означать, что
«вклады» отцов обособлены от общего потока
отчуждающего забвения и вновь размещены как целевые кредиты
со всеми вытекающими отсюда последствиями. А это,
103
в свою очередь, вносит поправку в деловую мораль
общества эгоистичных сынов, ведь деловая мораль
предполагает добросовестное обслуживание кредитов, выплату
процентов, стремление во что бы то ни стало избежать
просрочек и т. д. И коль скоро взятое в долг у отцов
приобретает в том числе и отчетливую денежную форму,
следует ожидать внутренних дисциплинарных действий по
возвращению долга. Сыновья, быть может, станут
поначалу отдавать этот долг отнюдь не из чувства сыновней
благодарности, не из-за горечи утраты, а просто потому,
что долг номинирован в тех же единицах, что и кредит,
оформленный в соседнем банке.
Однако - вот ведь какая штука! - корректное
обслуживание долга взывает к персонализации его
первоисточника, был ли он караванщиком Али, или Али - мастером
ковров из Хорасана, или извозчиком Еремой, которому
лет сто пятьдесят назад на Фонтанке вдруг так
взгрустнулось, что залился он горькою слезой и распродал в
одночасье свое дело...
Совокупной активностью капитала был поглощен и их
крошечный импульс, и вот, во искупление первородного
греха Капитала, следует осуществить эпохальный
переворот, в духе Хайдеггера совершить противоход забвению
бытия, чтобы вернуть на поприще настоящего все силы,
вернуть то, чем сильны были отцы и чем они были горды,
а вовсе не их слабости, не их беспомощность.
Таким образом, ревизия Общего Дела будет
опираться на гениальные прозрения основателей и на
вклады-доклады тех, кто отправится во вторую командировку, вслед
за первой затянувшейся командировкой ученого сословия.
И Бог в помощь тем, кто рассчитывает не только на
Божью помощь.
104
5
Для великого проекта всеобщего воскрешения нужны
бизнес-план и дорожная карта, и есть веские основания
полагать, что когда-нибудь, и даже довольно скоро, группа
единомышленников примется за эту работу. Пока же до
дорожной карты далеко, и можно сказать, что идет
выбор общего направления, без него дорожная карта теряет
смысл. Опять же, витки превратности указывают, что не
существует кратчайшей дороги в будущее, даже если это
будущее имеет форму проекта, на этом очевидном
утверждении и основываются вносимые коррективы.
У меня нет задачи тотальной ревизии проекта,
проверке и пересмотру подвергаются лишь отдельные, правда
очень важные, пункты. Обратимся вновь к идее общей
мемориальной матрицы, то есть того фундамента, опираясь
на который и актуализуется личность. Сама по себе общая
мемориальная матрица не является «реестром личностей»,
но она задает параметры миров, пригодных для
заселения, и состоит из разнородных плато, по большей части
трансцендентных друг другу - как трансцендентальное
единство апперцепции у Канта (то есть Я) предполагает
принудительную проекцию в общую точку различных
самостоятельных единств.
Из мемориальной матрицы мы исключили собирание
частиц материального субстрата, что вовсе не отменяет
биологию и особенно хронобиологию возможного
воскрешения, - но зато в качестве одного из необходимых плато
была введена всеобщая кредитная история, призванная
собирать прах воли, надежд и обещаний, к ней еще стоит
присмотреться повнимательнее. Среди сотворенных и
творимых миров, статус которых в деле воскрешения не ясен,
105
можно выделить, допустим, литературу, некоторым
образом собирающую правдивые чувства вымышленных
персонажей. Она, безусловно, пригодится, но на каком этапе,
станет ясно впоследствии.
Безусловно, одной из важнейших программ
матрицы воскрешения является историко-политическое
измерение. Элементарный и в то же время в высшей степени
важный факт состоит в том, что жившие и умершие отцы
принадлежали к роду homo sapiens, к человечеству, к
детям своего времени - но прежде всего они принадлежали
к определенным народам и к тем формам
государственности, в которых жили эти народы. Это метаперсональное
вхождение в гораздо большей степени определяло суть их
бытия, чем множество биологических и физиологических
особенностей, чем даже черты характера. Им.
воскрешаемым, гораздо легче дать новое тело, как обещал Иисус,
чем новую, искусственную метаперсональную
принадлежность. По сравнению с индивидами, этносы суть
долгожители, но и они тоже смертны, как не уставал
подчеркивать Л. Н. Гумилев. Стало быть, наряду с прахом умерших
индивидов, существует и кладбище мертвых этносов:
дорожная карта Общего Дела непременно укажет путь и на
это кладбище.
Но тема «Этногенез и империя» требует отдельного
рассмотрения. Пока же заметим, что возвращение
народов, даже их вспомогательное возвращение, без которого
матрица Общего Дела не только неполна, но и
совершенно неработоспособна, относится к области далеких
чаяний, по существу, столь же далеких, как и возвращение
самих индивидов. Но имперская государственность
предстает как сверхэффективный инструмент, как единственная
действующая модель единения с делами и чувствами пред-
106
ков и как некая реальность, подлежащая эмпирической
проверке. Подобно тому как рабочая сила, по мнению Маркса,
есть уникальный товар, способный приносить прибавочную
стоимость, так и империя есть уникальная структура
личностной и сверхличностной регенерации; ее реставрация
оживляет, то есть выводит из анабиоза, удивительные
фигуры коллективной воли и личной причастности, казавшиеся
навеки потерянными, развеянными как прах. Это не просто
общая идея сплоченности, мобилизация жертвенного
начала, что может быть достигнуто и актуализацией режима
чрезвычайной государственности. Это именно возврат
достоверности персональных резонансов, вывод из глубокого
резерва забытых полков и небесных сотен.
Кстати, попутно следует заметить, что реверсию
времени вызывает и всякая настоящая революция, она как
бы вновь возвращает к присутствию Спартака, Дантона,
Робеспьера, Клару Цеткин и Розу Люксембург в
качестве помощников и даже предводителей, но тут мы скорее
имеем дело с навязчивым повторением по Фрейду или с
«дурным бессмертием» по Гегелю, успех революции в
значительной степени зависит как раз от умения
дистанцироваться, выйти из-под пресса репродукции и утвердить
приоритет конкретной истины. К тому же список
«оживляемых» революций невелик и в основном уже заполнен,
по сравнению с ним имперский зов/призыв есть воистину
всеобщая мобилизация мертвых.
По мере того как реальность империи проясняется, то
есть как бы происходит имперская сборка на марше,
процесс глубокого узнавания (осознания) набирает обороты,
и это касается не только воинского сословия, бытие
которого мотивировано и чистыми позывными духа
воинственности, это касается и всех ополченцев, ибо именно в этом
107
качестве предстает органическое единство народов,
входящих в имперский симбиоз.
Можно сколько угодно изучать биографию, скажем,
князя Горчакова, Достоевского и конструктора Королева,
прибегать к тщательной реставрации контекста, к
психоанализу и к герменевтике, выстраивая версии и
предположения разной степени убедительности. Но вот наступает
время, когда империя на подъеме, - и поступки,
мотивы, предпочтения тут же проясняются, теперь каждый,
причастный к державному измерению, может примерить
их на себя и испытать узнавание. Получается, что многие
герои и подвижники словно бы уже отчасти воскрешены
и осталось только увидеть их во плоти. Задача растущей,
набирающей реальность империи может оказаться совсем
иной, чем у предшествующих имперских версий, что уж
говорить о конкретных обстоятельствах, но стоит
сгруппироваться в единстве стиля, и мы действительно
наблюдаем некий зримый эффект воскрешения, недостижимый
никакими другими средствами: недопетые песни как бы
вновь начинают звучать, недопрожитые жизни героев
наполняются смыслом и болью, сами слова вдруг
возвращают свои глубинные означаемые, к примеру, слово
товарищ вдруг приобретает привкус Мировой
Революции... Страстные статьи Достоевского о международной
политике, занимающие чуть ли не половину «Дневника
писателя», многочисленные геополитические выкладки
самого Николая Федорова, как-то удивительно
соседствующие с собиранием праха всех умерших и с
заселением планет, вдруг становятся понятны и даже прозрачны,
словно написанные сегодня, - и это значит, что
очередное смутное время, когда Россия жила, под собою не чуя
страны, наконец, заканчивается, значит, что империя
108
жива, что она работает и воскрешает. Понятно, что
народы, не имеющие имперского резонатора, не могут
воспользоваться этим инструментом, в данном контексте это
просто фактическое, а не ценностное утверждение. То
есть имперский резонанс, безусловно, не является
универсальным «инструментом воскрешения», но коль скоро
он имеется, он прекрасно работает, и отчасти становится
понятно, почему именно в России возник проект Общего
Дела, почему так органичен русский космизм для всех,
кто способен «чуять под собою» и «ощущать над собою»
страну. Непосредственная причастность к имперскому
резонансу представляет собой одновременно и
экзистенциальное бремя (обременение) и величайшее
мемориальное подспорье, которое, что принципиально важно,
просто есть, как крылья у птицы или как способность
к эхолокации у летучих мышей.
Среди прочего, по мере обретения достоверности в ходе
имперской самосборки, по-новому прочитываются и
расхожие выражения еще XIX века, типа знаменитого ответа
на вопрос «как дела?»: все хорошо, вот только англичанка
гадит,.. Это действительный факт глубочайшего
противостояния России англо-саксонской цивилизации. Мы
вдруг ясно видим, что русские XIX века были озабочены
этим не меньше, чем современные россияне, несмотря на
то, что прямых военных конфликтов с Германией и
Францией было куда больше, и на то, что в XIX веке
противоположный полюс олицетворяла Британская империя, а
сегодня США, все равно и по-прежнему «англичанка гадит»
и современные, актуальные сегодня отголоски легко вы-
читываются в статьях Достоевского, Константина
Леонтьева и Николая Федорова. Так что в чем в чем, а в этом
воскрешенные прадеды поняли бы нас сразу.
109
Еще раз заметим: на сегодняшний день нет более
зримого инструмента воскрешения, чем империя, - это
удивительным образом касается и тех, кто остается частным
лицом, принципиально чуждым побуждениям социального
целого. И они при этом как бы воскрешаются и опознают
друг друга, пусть не во плоти, но все же в некой форме
присутствия.
Благодаря беспрецедентной органичности для нее
имперского строя Россия является как бы естественным
лидером Общего Дела, во всяком случае на первом этапе. Ей
суждено возглавить мировую экспедицию по
возвращению отцов. Становится понятна и неизбывность критики
Запада как главного препятствия. Культ розни, опора на
конкуренцию, на механизм слепой природы - об этом
немало написал Федоров, расставив все точки над i. Но дело
тут не только в капитализме, в известном смысле проблема
лежит еще глубже. На сегодняшний день, как мы видим,
конкурентное общество на Западе почти совсем исчезло,
однако его враждебность к России ни на йоту не
изменилась. Вполне уместно высказать предположение, что
причина в общем отношении к отцам, причем не к отцам, еще
живущим (в конфликте отцов и детей как раз больше
сходства, чем различия), а к отцам умершим. Николай
Федоров исходит из того, что преобладающими чувствами тут
являются скорбь, печаль и жалость, а западное общество
розни, по его мнению, прибегает к своеобразной анестезии
в виде погони за побрякушками, исполнения женских
прихотей - и это правда, но это не вся правда.
Дело в том, что в самом отношении к ушедшим отцам
преобладает негативность, смерть не примиряет живущих
с ушедшими поколениями. Это примирение характерно
и естественно для России, и Федоров счел его само собой
110
разумеющимся, но тут он ошибся. Процитирую большой
фрагмент из мемуаров Руслана Киреева, где это
обстоятельство невольно, но верно подмечено:
«...Документы, которые как зеницу ока берегла моя
бабушка, прямо-таки кричали об этом. Того, чем она так
гордилась и чем, маленький (и не только маленький!),
гордился я, следовало, оказывается, стыдиться. Я верю жене,
что то не кровь на ветхих бумажках, но кровь все равно
была, теперь-то я хорошо знаю это. И еще хорошо знаю,
хорошо помню слова Гейне о том, что дети искупают
своими страданиями грехи своих предков.
Это не поэтический образ, это печальное
свидетельство его собственного опыта. Перед глазами стоит, как по
мраморной лестнице Лувра, карабкается изящно одетый,
с бледным нервным лицом, уже немолодой человек. Он
именно карабкается: левая нога волочится, почти
безжизненная, правая с трудом преодолевает подъем.
Добравшись до полупустующего в этот ранний час зала, в центре
которого возвышалась на постаменте богиня Афродита,
более известная как Венера Милосская, человек
падает на колени и заливается слезами. "Я долго лежал у ее
ног и плакал так горестно, что слезами моими тронулся бы
даже камень," - признавался поэт, вышедший, вернее,
выползший на последнюю в жизни прогулку.
Гейне знал, что обречен - обречен на полную
неподвижность, на долгое, измеряемое годами мучительное
умирание. Настигший его во цвете лет прогрессирующий
паралич был отголоском далекого, в шестом или седьмом
поколении, сифилиса. Вот уж поистине, дети искупают
грехи тех, кто дал им жизнь...»*
* Киреев Р. 50 лет в раю. - М., 2008. - С. 173-174.
111
Гейне, конечно, частный случай, но на этом
примере автор точно подметил преобладающее по отношению
к отцам чувство: стыд. Со времен Гейне в Европе это
преобладающее чувство только возросло. Комплекс вины
в качестве некоего общегражданского чувства опирается
на осуждение отцов, так что гражданский посмертный суд
как бы опережает вердикт Страшного Суда. Случай
немцев просто наиболее очевиден, но в той или иной форме
обвинение отцам присутствует как в сознании, так и в
коллективном бессознательном европейского человечества,
что является, быть может, самым серьезным препятствием
для осуществления Общего Дела.
В сознании россиян и русских чувство стыда за отцов
не то чтобы полностью отсутствует, но оно явно не
преобладает, и одной из причин этого является как раз
империя - пробуждающая, воскрешающая воочию, дающая
внезапное, мгновенное понимание дел и замыслов
прошлого. И такое понимание предотвращает поспешный
суд. Умершие обретают прощение - это действительно
уникальная черта русского мироощущения, часто
отмечаемая Федоровым. Вот, например, характерный пассаж:
«Исчезнув на Западе <...> Пасха сохранилась в России,
и особенно в Кремле при гробах собирателей, или
объединителей сынов для дела воскрешения отцов <...>.
Манифест 12 августа 1898 года, манифест о разоружении,
как его называют, имел бы полный смысл только в день
Пасхи, которая заменяет день воздаяния, Суда, наказания
днем всепрощения, амнистиею. Известное слово Иоанна
Златоуста, произносимое обыкновенно в конце
пасхальной утрени, и есть амнистия. То же выражается и
христосованием, свидетельствующим, что все оскорбления и
обиды забыты » ( 494 ).
112
Еще раз заметим: Праведный суд есть право
воскрешаемых, быть может, первое, которым они пожелают
воспользоваться. Здесь важна именно амнистия,
предельно чуждая европейскому сознанию идея, что умер-
шие прощены.
6
Остановимся еще на одном моменте, о котором уже
упоминалось вскользь. По самому глубокому смыслу
проекта целью проекта должно быть преумножение жизни,
триумф жизни над смертью. Мы, воскрешающие, никоим
образом не должны «заразиться смертью» от
воскрешаемых, наоборот, это они должны погрузиться в жизнь, а не
пронести за собой шлейф смерти.
А жизнь, среди прочего, всегда была и будет
демонстрацией слишком человеческого. В том числе и любви,
которая есть воскрешающая сила внутри самих живущих,
любви не к отцам, а к телу и присутствию другого (чем
была бы без нее жизнь?) - но о ней чуть позже.
Удивительным образом слишком человеческое,
наполняющее жизнь, если вынести за скобки «список
занятий» , ибо этот список пересмотреть легче всего,
преисполнена заботой о сынах (и дочерях, разумеется), причем
заботой, в которой отцы чувствуют себя виноватыми
и действительно виноваты. Чтобы далеко не ходить за
примерами, обратимся опять к Руслану Кирееву, в
русской литературе он один из немногих, кто писал о стыде
и ненависти детей к отцам. Вот как он описывает проект
своей повести:
«Аристарха Ивановича бьет нервная дрожь.
Накануне у него с сыном произошла безобразная сцена на реке
ИЗ
<...>. Сын боится переходить на другой берег по
поваленному дереву, отец заставляет и, подстегивая
собственным примером, чуть ли не выделывает па на словно бы
откатывающемся назад - на фоне быстрого течения -
дереве. Бесполезно! Аристарх Иванович сжимает кулаки
<...> и Игорь подчиняется, но через два шага, потеряв
равновесие, шлепается в воду. Вслед за ним бросается
в реку, где глубины-то по грудь, обезумевший отец. Сын
отталкивает его мокрыми руками: "Гад, гад! Торговец!
Ворюга! Ненавижу тебя!"»*
Прощаются мертвые и павшие отцы, и это в русской
традиции - в европейской, как уже отмечалось, дети
осознают свое бытие как отбывание отцовских грехов.
Мысленное восстановление, поминание и поминовение, однако,
наступает после смерти, тогда сыны начинают чувствовать
свою задолженность. Но может ли это чувство к мертвым
конвертироваться в чувство к живым и воскрешенным?
Ведь тут не просто осложняющий психологический
момент, и даже с помощью «психократии» вопрос навскидку
не решается. Вот отец стал живым, какое-то время
продлится «реабилитация», затем выход на
полномасштабный режим жизни, а потом - что? А потом жизнь
человеческого существа в полноте его персональности упрется
в отношения к близким, в отношения с детьми в первую
очередь, поскольку в них и сосредоточены и проекты,
и обещания, и разочарования. И просто огромные куски
жизни. Инъекций моральной, психической боли в этом
случае не счесть, и на ум даже приходит странная мысль.
Федоров так рисует цепочку воскрешения: когда-нибудь
первый сын воскресит своего отца, только что ушедшего,
* Киреев Р. 50 лет в раю. - М., 2008. - С. 228-229.
114
затем тот воскресит отца своего - и так далее, глубинная
траектория, пролагаемая через собирание праха... Насчет
праха основоположник переборщил и отчасти впал в
пустые хлопоты, но вот в медицине есть принцип: не
оперировать своих близких. Пусть жизненно важную операцию
сделает кто-нибудь другой...
Может, так же и с воскрешением? Возьмись за архив,
чуть ли не за первый попавшийся, и воскрешай! Тут рука
не дрогнет, симпатия поможет, а глубоких, мучительных,
амбивалентных чувств удастся избежать.
Сразу, однако, понятно, что предположение ошибочно
и дело воскрешения отцов является в основе своей столь
же личностным, персональным, как и любовь. То есть
в этом в своей цепочке или последовательности Федоров,
безусловно, прав. Если каждое настоящее человеческое
чувство амбивалентно, утверждает Фрейд, то и самой
углубленной, самой изощренной амбивалентности бояться
не стоит. Любовь к отеческим гробам не от мира сего, но
для сего мира она является великой преобразующей силой,
опять же, как и настоящая любовь. Стоит вспомнить
популярный античный софизм, согласно которому не отец
причина сына, а сын причина отца. Ход мысли таков: пока
у тебя нет сына (ну или дочери), ты не отец, но вот сын
появляется и делает тебя отцом, становится причиной того,
что ты отец...
Придется признать, что проект Общего Дела
вкладывает в тезис «сын есть причина отца» куда более
величественный и невообразимый прежде смысл. Вот в
результате воскрешения сын стал причиной отца. Но этот отец,
он ему теперь как отец или, скорее, как сын? Или, может,
точнее всего будет сказать как брат? Ведь только с
устранением небратства возможно воскрешение. Продолжая
115
логику Федорова, призывавшего заменить даровое на
трудовое, заменить рождение воскрешением, следует,
наверное, записать: заменить сыно-творение отце-творени-
ем. Но если в сфере символического дорогой сердцу
автора опус именуется детищем (мое детище), то и результат
отце-творения в еще более радикальном смысле может
рассматриваться как «детище». Этот удивительный
творческий акт будет обогащением жизни и бытия,
выражаясь в возвышенно-эллинском смысле, можно сказать, что
ничего подобного не ведали и боги... Вихрь,
противонаправленный потоку становления, но отчасти и
параллельный ему, захватывает творящее существо до самых глубин;
быть может, лучше других это понял Владимир Шаров,
описав в своих книгах чувственный строй воскрешающего,
так сказать, находящегося при исполнении, при
ежедневной трудовой вахте воскрешения*.
В этом пункте одна из важнейших развилок
противодействия смерти и забвению. Общее Дело, требующее
усилия каждого, определено как собирание. Его
постоянные инстанции - это мемориал, музей, храм, архив.
Николай Федоров непременно добавляет сюда обсерваторию,
видимо, пророчески. Но это отнюдь не монопольное
собирание коллекции, это чувственная пульсация огромной
интенсивности, преображающая и воскрешаемого, и
воскрешающего. Если уж воскрешение противоположно
рождению, но в то же время и уподоблено ему, следует
ли говорить о неких аналогиях беременности, вызревания
плода, об интоксикациях и осложнениях?
* См., например: Шаров Владимир. Воскрешение Лазаря. — М.,
2003; Шаров Владимир. До и во время. — СПб., 2005. Эти
романы по глубине проникновения в идеи Николая Федорова значительно
превосходят имеющиеся собственно философские исследования.
116
Так или иначе, этому общему и даже воистину
всеобщему делу не миновать сугубо персональной части. Речь не
идет о счастье обрести ДНК или изыскать иной
органический первомножитель, здесь все в состоянии
стремительного прогресса и слишком легко попасть пальцем в небо.
Будем говорить просто о собирании и составлении
мемориальной монограммы (ММ), не пытаясь представить
себе, «куда что прикладывается». Формирование
современного электронного пространства вполне дает
представление о том, что значит добавить весточку, изображение,
свидетельство, малую толику, извлеченную из праха и
доверенную процессу восходящей реставрации. Это и
сегодня доступно каждому, и вполне возможно, что сложится
некий самовозрастающий логос, впервые возвещенный
Гераклитом, самовосполняемый эмбрион ММ, новейший
тамагочи, питаемый мертвой водой потенциально
целительных свидетельств.
Так вот. Пусть пополнение музеев есть всеобщий долг
и повинность, но на алтаре воскрешения должна быть
произведена сугубо личная литургия: ведь вернуть нужно свое-
го отца, собственную мать, возможно, свою дочь (да,
и такое бывает), чтобы мемориальная монограмма ММ
отпечаталась здесь, в этом чувственном вихре, где
решается «кто я?», причем решается обеими сторонами, и
воскрешающим, и воскрешаемым. Нужно, наконец, окропить
живой водой, вдохнуть душу живу. А это отнюдь не
мгновенное дело, о чем свидетельствует человеческое
воспитание - и отец, совсем еще несмышленыш, вцепится: кто я?
как это? кто ты? И пойдет совместное вживление
архива, именно преобразование дарового (бесхозного) в
трудовое (мое выстраданное), процесс, напоминающий
искусственное дыхание, некое дышащее и оживотворяющее
117
искусство... Так возвращается забота заботившемуся,
воспитание воспитавшему, и обмен этот неэквивалентный
и неравновесный, как и все самое важное в человеческом
мире, несмотря на то, что действующие лица меняются
местами: тут ведь не вопрос, чтобы передать недодавшему,
иначе не стоило и браться за воскрешение.
То есть отец возвращен по причине сына или дочери.
Когда-то он стал отцом, а причиной этого, в свою очередь,
стал родившийся сын. Теперь он стал живым по причине
сына и должен еще стать самим собой, все по этой же
причине. Пока мало что можно сказать в деталях об этом
новом неслыханном круговороте, не все аналогии между
«основным» и ретроспективным жизненным процессом могут
сработать, однако о муках воскресения можно говорить
с полной уверенностью, не пытаясь, впрочем, сравнивать
их с муками рождения и взросления.
Цель этих заметок, напомню, развитие проекта
Николая Федорова и внесение в него необходимых коррективов,
справедливость идеи в целом и тем более величие благих
намерений, не подвергается сомнению. Итак, речь идет
о воскрешении своих отцов как о самой сути и
квинтэссенции родственного дела. Устранение розни, небратства,
должно предшествовать великому испытанию; разумеется,
должно быть также снято обвинение с воскрешаемых
отцов. Когда смерть будет постепенно вытесняться и
отодвигаться, когда у нее будут отнимать одну за другой ее ниги-
лирующие функции, ее стрекала, возможно, что последняя
аннигиляция, которая будет оставлена за смертью, -
аннигиляция вины умершего. Уточним: вины перед живыми,
перед дочерями и сынами. Ведь воскрешают близкого,
желаемого среди живых, желаемого при всей неустранимой
амбивалентности, ибо кто же будет тратиться, причем так
118
тратиться, на обузу, на обременение? У Федорова, если
совсем кратко, эстафета представлена так:
Сын, воскреси своего отца,
Чтобы тот воскресил своего.
Принципиально важно вот что. Дело общее (Общее
Дело), а местоимения расставлены личные,
притяжательные, - и без этого не обойтись. Без искусственного (в)
дыхания, без лично-пристрастного вмешательства в
Мемориальную Монограмму не обойтись - иначе чем этот
процесс будет отличаться от клонирования, зомбирования,
анимации трупов или, лучше сказать, от создания голе-
мов, само право на существование которых, несомненно,
требует отдельной регуляции. Если они ничьи ни отцы, ни
близкие, а карусель воскрешения запущена, и получение
репликантов* в качестве возможной «продукции», скажем
так, не проблема, то как идентифицировать чужих
отцов - что они те же, кто когда-то жил и умер? В чем их
самотождественность, на какой стержень будут
нанизываться мемориальные свидетельства? Права рожденных
даны a priori, по умолчанию, и, конечно, предположение
Николая Федорова насчет того, что с запуском
воскрешения рождение прекратится вообще, еще более
смехотворно, чем собирание праха на пыльных тропинках далеких
планет; оно, в конце концов, противоречит идее
приумножения жизни и победы над смертью. Можно ли будет
приравнять к правам рожденных права воскрешенных?
Возможно, все должно зависеть от важнейшей «записи акта
гражданского состояния», подтверждающей, что
воскрешен именно тот, кто был рожден (или именно та), кто был
* В фильме Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» репликанты-
нексусы это именно созданные, а не рожденные и не воскрешенные
существа.
119
здесь, среди нас, и был затем изъят, уничтожен смертью.
При всех обновленных «деталях обшивки», которая и
пожизненно не очень-то принималась в расчет, он должен
быть лично опознан, иначе это голем, пусть даже
пристроенный в ближайшую рубрику родственных существ.
Но его правовой статус, как, скажем, и статус заново
созданного гомункулуса, уже невозможен по умолчанию
как у рожденных и вновь возвращенных. Это,
безусловно, коллизия не только правовая, но и правополагающая,
в ожидании которой юристы пока работают вхолостую.
Итак, опознание и самоосознание, печать личного
присутствия, принципиально недоступная, недостижима из
общегражданского состояния, из чего следует, что Общее
Дело, при всех успехах новейшей командировки ученых,
все же не может быть разновидностью общественного
производства. Рождение (и воспитание) детей и
сотворение отцов в этом отношении, конечно же, похожи: без
актуализации личного присутствия процесс не идет. Полнота
архивов и тщательность музейных собраний, мощь науки
(предположим, контролируемой агентурой Общего Дела)
нисколько не отменяют того факта, что главной
производительной силой остается любовь.
2017
« CJ
2. европейский ресентимент
и греческий логос
Если вообще можно говорить об открытиях в
философии, то навскидку их вспоминается три: ego cogito
Декарта, гегелевская диалектика (работа негативности) и
ресентимент Ницше. Это если не считать греков, которым
в философии принадлежат все остальные открытия.
Идея ресентимента как психологической группировки
или перегруппировки обладает мощным эвристическим
потенциалом, не исчерпанным и по сей день, она
объясняет множество обострений, осложнений и воспалений
человеческого поведения, в том числе и феномен осложненной
рефлексии и даже саму моральную рефлексию в ее
специфических берегах, в большинстве пунктов ее исторической
встречаемости. Но не везде и не повсюду. Объясняя
многое, универсальность ресентимента кое-что и скрывает,
она скрывает нечто на манер недостающей массы, темной
материи и темной энергии, можно сказать, что и самого
Ницше его ослепительная идея ресентимента лишила
чести еще одного открытия, конечно же, принадлежащего
Элладе. Говоря коротко, эта неопознанная гравитация есть
логос - очень похожий на ресентимент, но таковым не
являющийся. Приступим к разбирательству.
121
Ницше против морали
В большинстве таких поединков Ницше выходит
победителем, нанося точные, можно сказать, неотразимые
удары ревностным морализаторам. Ну вот, например:
«Мораль в своей основе враждебна науке: уже Сократ так
настроен, и именно потому, что наука придает значение таким
предметам, которые с "добром" и "злом" не имеют ничего
общего и, следовательно, уменьшают значительность
чувства "добра" и "зла". Ведь мораль хочет, чтобы к ее услугам
был весь человек и все его силы. Ей кажется
расточительностью со стороны того, кто для расточительности
недостаточно богат, если он серьезно отдается растениям и звездам»*.
Интересное наблюдение, и все же Ницше раз за разом
промахивается в своих атаках на греческий феномен:
«Какое же значение имеет в таком случае реакция
Сократа, который рекомендовал диалектику как путь к
добродетели и насмехался над моралью, которая не была
в состоянии логически оправдать себя? Но ведь
последнее и есть ее достоинство. Лишенная
бессознательности - куда она может годиться?
Когда доказуемость была поставлена предпосылкой
личной добродетельности, то это ясно указывало на
вырождение греческих инстинктов. Сами они - типы вы-
« ~ >» 4*4·
рождения, все эти герои добродетели , мастера слов» .
Дело, однако, в том, что это и есть логос, таков, каков
он есть. Да, изощренность сознания призвана
компенсировать недостаток свободной мощи, и Ницше не упускает
случая подчеркнуть это:
* Ницше Ф. Воля к власти. - СПб., 2007. - С. 252-253.
** Там же. С. 239-240.
122
«Нужно очутиться в затруднительном положении,
нужно стоять перед необходимостью насильственно
добиваться своего права - только тогда можно
воспользоваться диалектикой. Евреи поэтому и были диалектиками,
Рейнеке-лис тоже, Сократ тоже»*.
А вот и нет. Евреи и Рейнеке-лис и в самом деле
практикуют компенсирующую диалектику, однако Сократ, если
присмотреться, берет на себя добровольные трудности,
а главное - Ницше не заметил, сколько азарта, хюбриса,
состязательности и, как ни странно, веры в результат в этом
упражнении сознания, в настоящих олимпийских играх
сознания, идущих непрерывно и собственно именуемых
Логосом. Все следует преобразовать в знание, в частности,
в рассуждение, необходимо проверить всякий феномен на
предмет возможности преобразовать его в знание. Фроне-
зис и эпимелея неразлучны со знанием в этой олимпиаде.
Очень трудно понять, что силлогистика и «Никомахова
этика» Аристотеля, искусство пропорций и музыкальных
интервалов Пифагора, моралистика Сократа, а возможно,
и вычисления Евклида - суть звенья одной цепи и
разница прежде всего в том, что в одном случае феномен
легче поддавался логосу, а в другом возникали нешуточные
проблемы. Скажем так: формализация логики прошла
с большим успехом, чем формализация этики, но
предположим также, что преуспеть хотелось в равной мере и там,
и там. Так ли уж зря Сократ насмехался над той моралью,
которая не в состоянии логически оправдать себя? Опыт,
который не в состоянии себя выстроить логически (в
соответствии с логосом), вызывал насмешку и
пренебрежение у эллинов. А вот если удалось исчислить правильную
* Ницше Ф. Воля к власти. — СПб., 2007. — С. 241.
123
пропорцию, золотое сечение аффективно-поведенческого
типа, рассчитать оптимальную дистанцию между
безрассудством и трусостью - то это и служило поводом для
уважения и приносило пользу. Ни один народ во всей
Ойкумене не имел ничего подобного этому эллинскому логосу,
всюду нацеленному на соразмерность, а значит,
занимающемуся соотношением размеров. Разбавленное вино,
отлично годящееся для пира, и разбавленное безрассудство,
пригодное для боя, - они вовсе не так уж далеки друг от
друга. А исчисления проводятся на автопилоте, как
прыгун по мере приближения к точке прыжка соизмеряет
разбег, но могут быть и показаны, могут предстать в
открытом режиме. Так же происходит и у ученика с собственно
арифметическими подсчетами, и как раз это имели в виду
Сократ с Платоном, утверждая, что добродетель есть
знание. Это знание трудно формализовать, оно останется
слишком практическим, но в случае чистой души
настройка, установка лада и подгонка пропорций возможны.
Вот что такое логос эллинов, нисколько не похожий на
резонерство «гуманистов» и учителей жизни, где
бесчисленные моральные резоны действительно указывают на
бессилие морали. Если на что-то и похоже это бесстрашие
силовых исчислений, сквозных бурений, входящих во все
породы подобно буру, - если оно на что-то и похоже, то
на столь же сквозное римское чувство права, от которого
последующие народы заимствовали только готовую
систему без чувственной достоверности.
Промах Ницше проявляется уже в «Рождении
трагедии», где он обвиняет Сократа и последующих моралистов
в осуждении дионисийского начала. Здесь видит Ницше
начало изнеженности и работу компенсации - и
ошибается, ибо это как раз суверенность как образ жизни, дей-
124
ствительный практический разум (логос), а не один только
его титул, как зачастую бывает у Канта.
Иллюстрацией дионисийства могло служить любое
архаическое общество, иллюстрацией логоса - только
Эллада. Так что дело даже не в эксклюзивности морали как
резонирования, просто мораль была, возможно, самой
неподатливой и интересной породой, но пропорции и
исчисления пронизывали также весь греческий эстезис.
Мы победили врагов - но кто из нас был лучшим? Мы
готовы проверить это и многое другое в состязании. А
мораль - какой же в ней прок, если она не может отстоять
собственные основания? Если она не победительна в споре,
будет ли так уж хороша она на деле? И это не ресентимент,
этому феномену, собственно греческому чуду, подобает
свое, особое имя. Трудно найти в истории другие
прецеденты - впоследствии нечто подобное происходило, вероятно,
и у либертенов, и у героев де Сада, и, конечно, у русских
нигилистов, когда «природная доброта» не интересовала по-
настоящему нравственного человека... Но греческий логос
все же остался беспрецедентным в истории.
Следовательно, великий эллинский клинамен, отклонение,
уводящее от подлинности прямой чувственности и прекрасно
описывающее как пациентов Фрейда, так и пациентов Яхве,
ресентиментом не является. Перед нами нечто весьма
похожее в проявлениях, но сущностно радикально иное.
* * *
Едва ли не прежде всего ресентимент проявляется как
осложнение прямой чувственности, открывающее
дорогу богатому пласту компенсаторных реакций.
Начинается выработка психологичности и собственно психологии,
125
в терминологии Ницше, изощренности и «измораленно-
сти» всякого рода. Но к описанию получающегося в
результате «интересного животного» после Достоевского,
Фрейда и самого Ницше не так много можно и добавить*.
Однако во всех описаниях, в самых подробных картинах
явлений присутствует неучтенная, недостающая масса - по
крайней мере риск такого присутствия налицо и от него не
избавиться, если не зарегистрировать эту подвергнутую
столь надежной маскировке инородную силу.
Ярче всего она обнаруживается в греческом логосе, в том
числе и как сам этот логос. Но даже и здесь подобная
монополия, назовем ее так, дополнена и смикширована парными
силами и началами, в свою очередь разнородными друг другу.
Это и дионисийское начало, в рамках которого открываются
великие архаические резонаторы иночувствия, - по
отношению к нему исходно и задается ресентимент, и агональность-
состязательность, накрывающая логос, но уходящая за его
пределы, и практики толкования Дельфийского оракула (как
и других), обеспечивающие производство жребия и участи.
Всепроникающий логос (по аналогии с проникающей
радиацией) имеет все же опознаваемые черты, повсюду
отличающие его и от ресентимента, и от прямой
чувственности. Опознаваем он и в структурах состязательности,
и едва ли не единственным, кто предложил тематизацию
логоса в этом предельно широком смысле, был М. К.
Петров, согласно его трактовке, «греческое чудо» определяется
тем, что, в отличие от лично-именного и
профессионально-именного кодирования, управляется понятийным
кодом - осуществляется «управление по слову»**. «Логос»
* См.: Шелер М. Ресентимент. — М., 2014.
'* Петров М. К. Язык, знак, культура. — М., 1991.
126
как раз такое слово, которое обладает валентностью ко
всем словам, то есть способно присоединять их со всех
сторон и само входить в любые длинные цепочки. То есть это
не просто слово из сферы Gerede, но и не понятие,
которое производно от логоса и представляет собой частный
и более поздний случай. Можно даже сказать, что
понятия были отобраны постепенно, посредством селекции,
причем этот отбор не закончился и до сих пор. «Логос»
этимологически есть производное от греческого глагола
«legein» (связывать, сплетать), и количество сплетений
и хитросплетений достаточно велико, причем сплетения
осуществляются безотносительно к линиям
«первоначальной разорванности». Некоторые образующиеся связи
действительно, так сказать, пригодны для управления,
другие, так сказать, подлежат проверке, в целом же жгутики
рассеченной гидры порой словно наощупь оплетают друг
друга, ведь архаическая адресация («программирование
в имя») сбито, однако ожидавшейся «хаотизации»,
ожидаемого расчеловечивания не наступило, и в этом первая,
быть может, самая чудесная часть греческого чуда.
Адресный текст-инструкция поступает на приемное
устройство и воздействует на него, «наматывается» как
информационная РНК в процессе производства белков.
Список имен или реестр приемных устройств и
обеспечивают важнейшие типы и результаты деятельности. Это
могут быть и поведенческие реакции, и резонаторы
коллективных аффектов, и профессиональные результаты,
то есть конечные изделия, будь то изделия кузнецов,
гончаров, могильщиков или номографов. Проникающая ло-
готомия рассекает целостность текста-инструкции и
отсекает адресную строчку. Благодаря этому обнажаются
промежуточные сцепления и тем самым визуализируется
127
странное знание, которому не достает концевых
элементов, самих «фиксаторов know how». Оно-то, это знание,
и именуется «эпистеме», то есть общее, пригодное для
множества достаточно разнородных концевых соединений.
Именно его и воспевают Сократ, Платон и Аристотель, да
можно сказать, и эллины в целом, поскольку это и вправду
их уникальная, судьбоносная особенность.
Оценки такого знания, безусловно, зависят от того,
как к нему подойти. С одной стороны, это знание причин,
первоначал, знание, приближающее к Единому. С
другой - его оборванные нити болтаются как ни пришей
кобыле хвост, и ничего весомого с обрывков не свисает. Так
склонны были оценивать чистый логос и многие эллины,
и, безусловно, все варвары, для которых пустые слова, не
ведущие ни к какому «ноу хау», должны были казаться
проявлением абсурда, как и время, потраченное на ведение
разговоров об «отсутствующих предметах» - о подковах,
которые не будут выкованы, об амфорах, которые никакой
гончар не изготовлял, о лире и арфе в качестве примеров,
об определении, которого никто не требовал...
Большинству эллинов подобные разговоры, которые они
вскоре стали называть «рассуждениями», вовсе не казались
ни пустопорожними, ни абсурдными, им предавались
охотно, на них тратили время и даже лучшее время,
драгоценное достояние свободных граждан. Все это практиковалось
с увлечением, с азартом, с хюбрисом, в совокупности это
и был логос во всей красе, а в интересующем нас
аспекте - логотомия, принудительное обращение к оголенным
проводам или паутинкам, которое временами и принимало
характер рассуждений, исчислений, выстраивания
пропорций, получая при этом солидарно высокую оценку. И это,
собственно, имеет в виду Сократ, когда говорит о чрез-
128
вычайной важности знания оснований мужества,
оснований прекрасного и добродетели вообще. И это не похоже
на осложнения и воспаления ресентимента, поскольку нет
внешних, присоединенных целей, к которым нужно уметь
перегнать и «перелгать», как говорит Ницше, те или иные
обстоятельства, будь они чувственными или правовыми.
Греки просто решаются, воистину решаются неведомо на
что, и негативная практика софистов тому подтверждение.
Ведь слова и обрывки слов, входящие в зацепление, еще не
понятия, но они никогда бы и не стали понятиями, если бы
не мужество и безоглядность эллинского логоса.
* * *
Итак, прежде чем по монолитному кристаллу души
пошли трещины ресентимента, прежде чем
трансперсональный проект Юнга (распадающийся на архетипы)
сменился «проектом Фрейда» (двоящееся
бессознательное), имел место еще один тектонический разлом, великая
логотомия, породившая греческое чудо и, в значительной
степени, саму нашу цивилизацию. Первый логотоми-
ческий разлом остался незаметным в своей сущностной
значимости, а все его последствия были приписаны ре-
сентименту, при том, что честь открытия и «честь
закрытия» принадлежат одному и тому же человеку, Фридриху
Ницше. Катастрофа ресентимента породила психику (из
психеи) и ее последствия, вместе с великим
порождением (становлением, в отличие от трансформаций), следует
считать на сегодняшний день почти преодоленными.
Логотомия приводит к не менее чудесным следствиям, список
которых до конца не ясен. Но среди них, как бы между
прочим, логика и этика, плоды рассечения мифоса и этоса,
129
плоды логотомии. Ресентимент застает логику уже в целом
готовой, но пользуется ею чрезвычайно лукаво, в
результате чего метафизика по-прежнему «шита белыми
нитками», то есть связи, узлы избранных понятий набросаны
на скорую руку, и общее (и по сей день) правило
применения логики таково: чем ближе к важнейшим
сингулярным точкам расположены логические связи, тем менее они
«логичны». Это можно назвать минимизацией логической
добросовестности по мере приближения к центру
откровения, в том числе личного откровения. Но практически
все это есть результат вторичного злоупотребления,
ответственность за которое несет ресентимент, причем прежде
всего в «иудейско-христианском» изводе, который Ницше
преимущественно и исследовал и изобличал.
Первый тектонический разлом не мог предполагать
заранее направление дрейфа «тектонических плит» - и
каким образом эллинская состязательность, беспрецедентная
атмосфера полемоса, смогла задать подходящие критерии
отбора, настроить механизм селекции - это остается в
значительной мере неясным, очевиден лишь общий ажиотаж,
с которым подвергались проверке все новые сплетения
глагола legein, налицо интенсивность аполлонической
настройки. Выражение «броситься в стихию Диониса»
звучит достаточно привычно: потерять себя, потерять голову
от любви, от гнева, от неодолимой силы искусства
(например, трагедии) - это вроде само собой разумеется...
Как-то так оно и происходит. А Аполлон, со своей
стороны, предлагает систему сдержек и противовесов, он
охлаждает горячие головы, обуздывает неистовых, подбивая
для этой цели и к резонерству, которое, впрочем, способно
выйти и к собственной цели. Впрочем, если бы повадки
этого бога были действительно таковы, он мог бы быть
130
Богом Ресентимента, и ресентимент, возможно, считался
бы священным аполлоническим состоянием, как
одержимость Вакхом, только с другим знаком. Но похоже, что
эллины бесстрашно бросались в аполлоническую стихию,
как в омут, с головой, понимая, что и она «жестче, чем
лихорадка, оттреплет» (А. Ахматова), не уступит в этом
качестве Элевсинским мистериям и другим дионисийским
погружениям. Именно этим сущность логотомии
радикально отличалась от ресентимента.
Среди прочего, это означает, что и логика была
обретена отнюдь не путем завидного повторения или педантичной
схематизации. Поначалу среди сплетений вовсе не
доминировали те, которые в качестве образцов банальности
приводит Аристотель: все люди смертны, Кай - человек,
следовательно, Кай смертен. Хотя бы даже категорические
силлогизмы Аристотеля действительно отражали порядок
сущего, это вовсе не значит, что исторически они сразу же,
первыми, подвернулись под руку. Есть основания
подозревать, что первоначально после великой логотомии,
выделившей Элладу из всей Ойкумены, типичным силлогизмом
была вовсе не история о смертности Кая, а сплетения совсем
другого типа, что-нибудь вроде «у верблюда два горба,
потому что жизнь - борьба». Еще раз заметим, что
конденсация логики и методологии, селекция пригодных
рассуждений происходила постепенно, и сама эта селекция хотя
и была запущена логотомией, но не она определяла ее суть.
Суть, скорее, определялась готовностью к высоким ставкам
в азартной игре, в том, чтобы отдавать себе отчет всюду,
и в царстве техне, где имеющиеся ноу-хау не
предполагали самоотчета, и в священном неистовстве, и даже в том,
в чем именно прекрасен Гомер, - как раз этому Сократ учил
Иона, проводя в его присутствии безжалостную логотомию.
131
Следует заметить также вот что. Не ошибиться насчет
смертности Кая и «бледности» силлогистического
Сократа было, конечно, важно, но, скажем так, не смертельно.
А вот ошибиться насчет оснований мужества - что оно
такое - это могло стать воистину фатальным, учитывая
решимость афинян и других эллинов довериться
рассуждениям. Даже сегодняшних читателей иногда охватывает
опасение за собеседников Сократа, особенно когда они,
стойкие, мужественные воины, вроде Главкона, начинают
теряться и плутать в мужестве, тем самым явно затрудняя
себе задачу его сохранить. Но ведь не отмахиваются от ло-
готомии, от состязаний на поприще Логоса! Похоже,
никто из эллинских мудрецов не внял бы предупреждению
Иисуса: «Бойся смутить одного из малых сих!»
Не боятся эллины, что в бою могут дрогнуть,
споткнуться, утратив безмолвную, надежную,
трансперсональную опору мужества, и остаться вместо нее с неким
сплетением или даже хитросплетением Сократа. Не
подобает этого бояться свободному эллину, смело
бросающемуся в стихию Логоса, в добровольную логотомию.
И софисты, профессиональные сталкеры логотомии,
и у них не было недостатка в слушателях, при том, что
нигде за пределами Эллады софисты не вызывали такого
мощного эффекта ужаса, зачарованности, внезапной
готовности подчиниться полному абсурду, раз уж в
результате рассуждений оказалось, что так обстоит дело.
Эта странная, своеобразная честность и
подстерегающая опасность весьма далеки от рефлексивной
изощренности ресентимента, которой, в этом смысле и в этом
случае, нечего и опасаться, ибо альтернатива в виде прямого
действия и прямой чувственности все равно разрушена, ло-
готомия состоит в родстве совсем с другими феноменами.
132
Навскидку вспоминается институт диспутов в тибетском
буддизме (гэлуг-па) с его идеальным принципом «победи
или умри». Общность тут, в частности, в том, что без
этого диспута вера не стала бы слабее, ведь никакое
постороннее резонерство не в состоянии ее подменить, - но
рождается новая решимость и делается запредельно высокая
ставка. Пресловутых категорий извращенной
чувственности - заблудившихся аффектов со смещенным адресом
(зависть, ревность, обида, вина) - идеальная логотомия
не предполагает, так что вполне мыслима
непосредственная мирополагающая рефлексия по принципу «пан или
пропал» - сюда входили бы и императивы чистого
практического разума, рыцарские девизы абсолютной
суверенности, - входили бы, если бы не вирус лжи, который именно
здесь (или и здесь тоже) обнаруживает для себя
питательную среду, а вслед за тем и поводырей, тех самых жрецов
ресентимента, о которых так красочно писал Ницше.
* * *
И что же? Пока мы обнаруживаем параллели в месте
надлома прямой чувственности, сбоя архаических
резонаторов. Активной силой является логотомия, способная
расщеплять гранитную плиту трансперсональной архаики
на ровном месте. Но тут же и ресентимент с его
резонерством, возникающий с неизбежностью там, где феномен
уже надломлен и логотомия запущена. В некотором
смысле логотомия есть род автотравматизма, динамическая
аскеза, стойкое воспаление, причиной которого является
«жало в плоть», при том, что новая плоть должна быть
уже доведена до состояния естественности. Такова как раз
эпимелея в случае греков - и это важное различие, ибо
133
ресентимент при всей виртуозности (М. Вебер) не
становится естеством. А вот логос есть жало в плоть, ставшее
плотью, пусть даже и плотью, непрерывно
провоцирующей богов и природу. Ресентимент, несомненно, тоже есть
разновидность жала или стрекала, но жало это сильнее
всего напоминает осиновый кол, забитый в естество, кол,
удерживающий плоть в принципиальной несобранности
и разорванности. Желательное, непрерывно
воспроизводимое следствие ресентимента - трепет души и хаос тела,
тогда как девиз логоса - настройка души (на слух) и
сопровождающая ее настройка тела, пусть травматическая
и безжалостная, ведь в ходе логотомии наносятся раны,
происходит «рассечение» и последующее сшивание,
вторичное сплетение концов в духе глагола legein. Мы смело
можем назвать это творчеством. С непременной раной
работает и ресентимент, но, как проницательно заметил все
тот же Ницше, жрец Ресентимента, совершая исцеляющие
действия, при этом ресентимент отравляет рану, чтобы
вызвать воспаление, переходящее в лихорадку и бред:
таков ресентимент на всем протяжении его заданности.
Приметы его мы и в самом деле видим повсюду: воспаленная
рана, уязвленная плоть и деятельный дух, направляющий
усилия в поддержании плоти в положении ниц.
Далее. Ресентимент, в сущности, это удавшийся
реваншизм брахманов, выполняемый специалистами по словам
новой формации, как правило, не осознающими свое
родство с распорядителями ритуала (последние три
ипостаси - нигилисты, комиссары, активисты). Возможно, что
сам по себе ресентимент древнее пробудившегося логоса
с его «взбесившимися знаками» (М. К. Петров),
возможно, что они одновременны, как волны сейсмической
активности, пришедшие с разных сторон или расходящиеся
134
в разные стороны. Вся фишка в том, что в пределах некой
минимальной дистанции логотомия и ресентимент
взаимодействуют: переплетаются, отталкиваются и сливаются,
расходясь на иных участках чрезвычайно далеко друг от
друга. Метафизическая зоркость к деталям этого
процесса могла бы стать важнейшим методологическим приемом
и способствовать содержательному наполнению
дисциплины (то есть могла бы и метафизику сделать дисциплиной),
если бы Ницше в свое время выявил соответствующий
параллакс и не стал списывать все обновления и сбои на счет
ресентимента - все психологические осложнения,
проявления нигилизма и уловки воспаленного авторствования.
Собственно, только Ницше и мог это сделать, развести по
разным полюсам сейсмические волны зыбления. Только
он, учитывая характер таланта и тот факт, что античность
всегда была перед глазами, была предметом его постоянных
размышлений, мог. Мог, но не сделал. Это повлияло и на
его пристальный анализ нигилизма, становящийся местами
смутным и путаным. Ну как можно было зачислить
Сократа и Вольтера в один разряд, прибавив сюда еще и ребе,
знающего все насчет соблюдения субботы и готового
объяснить любой нюанс? Как можно было объединить
софистов с фарисеями и их наследниками, лукавыми пророками
и учителями жизни? Смешение и вправду произошло, и,
быть может, оно не так уж и удивительно, учитывая
ничтожность параллакса и то, что сама Греция в эпоху эллинизма
действительно стала рассадником ресентимента (однако
ни к софистам, ни к Сократу это напрямую не относится),
а также и то, что ресентимент и логотомия, несомненно,
обладают свойством взаимоиндукции. Но согласимся с
Ницше - ресентимент универсален как реванш жреческой
касты, реванш успешный, повсеместно сокрушивший власть
135
воинов (доминанту меча) и господство воинского братства.
О логотомии такого навскидку не скажешь, хотя, как уже
отмечалось, именно она ответственна за греческое чудо:
Логос имеет свою малую родину так же, как и Иисус.
Как бы там ни было, но восхождение логоса не
прошло бесследно. Хотя безусловное господство по всему
фронту человеческого обрел ресентимент, однако его
жрецы овладели рефлексией, которую застали уже
наличной - и они же продолжают определять ее вектор вблизи
важных гравитаций (праведность, мораль, сегодня еще
и политкорректность). Так что по-прежнему совсем
немногие свободные умы могут идти своим путем. Следует,
однако, исходить из того, что в последующих завихрениях
рефлексии, ее исторических всплесках можно выделить
независимую логотомическую составляющую - то
поглощаемую ресентиментом, то высвобождающуюся в
качестве решимости - той самой, когда более всего
прочего «надобно мысль разрешить». Логотомия, конечно же,
порождает свои фигуры рефлексии; их можно опознать
по особой безоглядности и непредсказуемости, как в уже
упоминавшемся тезисе «у верблюда два горба, потому что
жизнь - борьба!» или «очень я тебя люблю, и поэтому
убью!». Безоглядность логотомии отчетливо
контрастирует с предсказуемой причудливостью, если можно так
выразиться, плетений и хитросплетений ресентимента. Вот
два образца, принадлежащие, соответственно, к чистой
логотомии и к рефлексии ресентимента.
«Не бойся, твоя душа умрет еще скорее, чем твое тело:
не бойся же ничего!» - так Заратустра говорит канатному
плясуну.
А вот образец, которым может руководствоваться
любой сталкер ресентимента: «Плата, взимаемая психо-
136
аналитиком за лечение, имеет в виду интересы не только
аналитика, но, возможно, в первую очередь интересы
самого пациента, который, не уплатив денег, отнесется к
лечению невнимательно и в результате надлежащего лечения
так и не получит». Это, понятное дело, Фрейд.
Вроде бы оба изречения нетривиальны, но второе не
может принадлежать канатному плясуну, только ре бе,
учителю жизни, психоаналитику или другому жрецу ре-
сентимента.
Но параллакс есть параллакс, и далеко не всегда
различия столь очевидны. Нередко различие
обнаруживается лишь в мотивации, в полном соответствии с
изречением Конфуция: «Муж благородный не тот, кто поступает
всегда иначе, чем простолюдин, но тот, кто, даже поступая
точно так же, делает это по иным причинам». В
многочисленных объективациях и автономных структурах, в
великих идеях, когда-то овладевших массами и продолжающих
ими владеть, в Реформации, в Просвещении, в
революциях и поветриях, колеблющих эпохи (и психоанализ можно
считать таким поветрием), мы можем теперь увидеть не
только дихотомию ресентимента и прямой чувственности,
всегда искажающую картинку, но и яркие штрихи логото-
мии, не пугающие господина, а, наоборот, придающие ему
сил.
Продолжая сравнительный анализ, отметим, что лого-
томия зачастую оказывается, так сказать, персональной
молнией, рассекающей то или иное эмпирическое единство
апперцепции, и в этом, вообще говоря, преобладающем
случае логотомия имеет силу и характер индивидуальной
идеи фикс. В мифологическом или сказочном ключе
персональная логотомия запечатлена, например, в «1001 ночи»,
в частности, в эпизоде, который использовал Лазарь
137
Лагин в «Старике Хоттабыче». Там старший брат Хотта-
быча, тоже джинн, провел в заточении в кувшине больше
времени, чем сам Гассан Абдурахман ибн Хоттаб, и его
монолитная природа как духа покрылась трещинами
пронизывающей рефлексии. Первая молния расщепляющей
логотомии гласила: «Я исполню любых три желания того,
кто освободит меня из заточения!» Но результата не
последовало, и через тысячу лет образовалась новая
трещина: «Кто освободит меня из заточения, тут же умрет, но
умрет смертью, которую сам выберет». Что ж, типичный
логотомический (хотя и дологический) ход: очень я тебя
люблю, и поэтому убью. Если «логотомия» в общем виде
означает «сечение», например, рассечение
самодостаточности сенсориума посредством довода или тезиса, то и
«шизофрения» тоже буквально означает «расщепление»,
раскол. Однако значение глагола legein, как мы помним,
«связывать», «соединять», то есть как бы устранять
последствия разрыва, который (такова уж диалектика) сам
же и был нанесен первым выпадом логотомии. Ресенти-
мент углубляет уже наличные трещины сенсориума и этоса,
создавая рыхлую породу с огромным количеством пустот.
Логотомия сама инициирует разрывы и глубокие
проникновения, учреждая новую причинность и новые основания
человеческого бытия, даже пытаясь их по-своему
стабилизировать. В результате последовательность истин Будды
в случае задач логотомии несколько модифицируется:
Безмятежность пронизывается страданием, жалом
в плоть и в психею.
Разделенные части пронзенного целого исцеляются
посредством новых мостиков и связываний.
Это исцеленное становится либо новым естеством,
либо вирус ресентимента воспаляет раны, так что естество
138
не заживает никогда, оставаясь израненным, оставаясь
чем-то в идеале сверхъестественным, а на практике
противоестественным.
Нас индивидуальные расщепления сами по себе не
интересуют, нас интересуют умонастроения и трансперсо-
нальность, то, что в индивидуальных телах только
присутствует, а базируется за их пределами. Лишь в этом случае
экстатическая аргументация может обрести модус
длительного существования, каким бы радикально инновационным
и даже мироотрицающим он ни был. Да, угроза
возникновения переизбытка абсурда, равно как и угроза
расчеловечивания, существует, но сплетения слов, избранные
приемы связывания аргументов, могут создать и пригодное
для обитания пространство: сама логика, однажды
сплетенная эллинами из обрывков логотомии, является ярким
подтверждением тому. И сколько бы потом, post factum, ни
выводили логику из законов самого естества (а рефлексия
практического разума вполне позволяет сделать это), все
равно остается некая смесь недоумения и восхищения по
поводу того, что данное предприятие удалось...
Большинство других прорывов логотомии не увенчалось
подобным успехом, но понятно, что присмотреться к ним
было бы чрезвычайно важно и интересно. В отношении
феномена либертинажа соответствующие попытки были
предприняты*, но в отношении феномена в целом,
феномена экспроприации логотомии ресентиментом, расследование
пока не было проведено. Досадно, поскольку это могло бы
пролить свет на последующие социально-культурные
феномены, в том числе и на происхождение психоанализа. Не
* См.: Энаф Марсель. Маркиз де Сад. Изобретение тела либер-
тена. — СПб., 2005.
139
менее интересен и феномен русского нигилизма, буквально
завороживший Ницше. Здесь можно зафиксировать
прорыв логотомии, доходящий до уровня своеобразного пер-
фекционизма - и столь же мощный пласт ресентимента,
поглощенный в коллективном неврозе (прежде всего,
неврозе зависти), атональную площадку героев Достоевского
и Чернышевского вместе с их реальными прототипами.
Этот исторический казус в каком-то смысле до сих пор
остается беспрецедентным. Ведь эти молодые люди, которые
буквально потрясли Россию во всех смыслах, не были
придуманы ни Чернышевским, ни Достоевским, ни Тургеневым.
Увиденные в качестве «бесов» (персонажи Достоевского)
и в качестве самых честных представителей юного поколения
(как Вера Фигнер в поэме Евтушенко - «народоволка с
чистым детским лбом»), они предстают как те же люди великой
и решительной логотомии. Кажется порой, что они близнецы
и братья: Ставрогин и Верховенский, Михайлов и Нечаев...
Присмотревшись, однако, можно понять, что они близки
волею судьбы, но в действительности, благодаря параллаксу,
бесконечно малому смещению, дифферансу между логосом
и ресентиментом, между бесстрашным перфекционизмом
состязательности и воспаленным ресентиментом, неизменно
порождающим своих харизматических жрецов, о братстве не
может быть и речи. Разве что в смысле известного
прикола: «Они как близнецы-братья: у одного ни отца, ни матери,
у другого ни стыда, ни совести».
С бесовщиной здесь все более или менее ясно, с ней
разобрались и сами потерпевшие, начиная с альманаха
«Вехи» (сначала, конечно, Достоевскому не поверили), но
как быть с безоглядной и бескорыстной логотомией? Что
в данном случае значит это жало в плоть, понимаемое как
гвоздь в задницу Рахметову?
140
Дело, следовательно, не только в бесах и их
заклинаниях, несущих в себе удвоенную бесовскую природу. Дело
хоть и в замаскированном (самой историей), но
несомненно имеющемся сходстве между персонажами Достоевского
и персонажами сократических диалогов Платона: им надо
мысль разрешить, надо связать доказательствами
континуум собственных поступков - причем далеко не все из
этих доказательств суть «отмазки», способы легитимации
некоторого цинического интереса или, как говорит Фрейд,
орудия «рационализации». Честные нигилисты готовы
подчиниться собственному силлогизму, сколь бы странным ни
казались сам силлогизм и следующий из него вывод. Если
настроена система взаимных конвенций, силлогизм обретает
безапелляционный характер, даже если является
собственным смертным приговором. Как всегда, безупречно чуток
к таким вопросам Достоевский - вспомним его анализ в
«Дневнике писателя» предсмертной записки
юноши-студента: «Я умираю потому, что честен Добролюбов». Какой
бы степени изощренности ни достигал ресентимент, он не
в состоянии вынести подобный приговор. Вынести самому
себе - другому, разумеется, вполне в состоянии.
Когда Лопухин и Кирсанов решают, с кем должна
остаться Вера Павловна, любимая женщина для обоих,
они это именно решают, и основанием решения будет
правильный вывод из признанных посылок. Таким же он
будет и для самой Веры Павловны, поскольку она тоже
новый человек. Для людей другой эпохи (лучше сказать,
эпох) тут только странность, нелепость или причуда, но
современникам Чернышевского такое положение вещей
странным вовсе не казалось, как и собеседникам
Сократа не казалось странным идущее вразрез с очевидностью
и полное опасностей рассуждение.
141
Этого удивительным образом не углядел Ницше:
«Моральная оценка, как высшая, была бы
опровергнута, если бы можно было доказать, что она является
следствием некоторой неморалъной оценки, что она -
специальный случай реальной неморальности; она свелась бы
сама таким образом на некоторую видимость, и как ей-
димостъ не имела бы уже право осуждать "кажущееся",
иллюзию»*.
Как раз наоборот. Настоящая решимость не
задумалась бы отвергнуть мораль - что она Ставрогину, что она
нигилисту, которому «надобно мысль разрешить». Но
есть инстанция высшей внеморальности, требующая
согласовать нечто само по себе не обоснованное, - и тут
срабатывает бесстрашие логотомии (и настигающая логотомию
рефлексия ресентимента идет по пятам).
Вот Сократ испытывает Полемарха, который готов
к испытаниям, невзирая на возможный ущерб для
собственной морали, для всех традиционных способов
причастности к этосу:
« - И воинский стан тот лучше оберегает, кто способен
также проникнуть и в замысел неприятеля и
предвосхитить его действия?
- Конечно.
- Значит, тот горазд беречь, кто способен и воровать.
- По-видимому.
- Значит, если справедливый человек способен
сохранять деньги, то он способен и похищать их.
- По крайней мере, к этому приводит наше
рассуждение » **.
* Ницше Ф. Воля к власти. — СПб., 2007. — С. 342.
** Платон. Соч. в 4 т., т. 3. - М, 1994. - С. 87.
142
Что тут скажешь? Конечно, господин не стал бы
вникать в подобные аргументы, он, скорее всего, пришел бы
в ярость от попытки сбить его с толку. Что же, Сократ
и в самом деле выступает как переориентировщик ресен-
тимента? Не будем спешить, вспомним Шекспира: слова,
слова, слова. Увы, для многих - всё слова, что не деньги.
Для «некоторых людей» доводы вообще не имеют
значения - так, кимвал бряцающий и водопад шумящий.
Чистая логотомия на них совершенно не действует, она ничего
не детерминирует в их поведении, и потому те, кто все же
готов последовать за полученным выводом, им столь же
чужды, как и господин, не тратящий время на доводы.
Из этого двустороннего непонимания странным образом
вытекает, что «господин по природе» и тот, чьим
проводником является и остается логос, не так уж далеки друг от
друга. Они вместе противостоят тем, для кого все слова
пусты, поскольку и если они «мимо кассы».
И если, как говорится в Библии, «слово стало плотью», то
перед нами, вероятно, господин своего слова. Если же
слова остались только словами, это может указывать либо на
«всеобщее жлобское состояние мира» (текущее положение
вещей), неисправимое в своем презрении ко всякой
«вербальной составляющей» вообще, либо на то, что мы
находимся среди заклинателей и укротителей слов, среди которых
и жрецы ресентимента, и большинство ученых и философов.
* * *
Ресентимент, как известно, порождает две вещи:
несчастное сознание и цинизм. Аоготомия же чаще всего
порождает несчастное бытие, но иногда обуславливает
удивительный прорыв духа внутри формации ресентимента.
143
Его опытные переориентировщики, фальсификаторы
ценностей, говоря словами Ницше, привычно и
профессионально терзают несчастное сознание, не оставляя, однако,
попыток вывести более гармоничное существо - такое,
которое принимало бы их слова за чистую монету,
обходясь без сложения диалектических виражей. То есть,
порождая психологию, ресентимент затем стремится к ее
последующему упразднению как к своему идеалу. Подобная
задача казалась совершенно несбыточной, но два
последних десятилетия обозначили возможность успеха. Порода
людей, избавленных от несчастного сознания (а заодно
и от неопределенности классического субъекта) была
выведена на территории Европы. Ранее я назвал этих
простых и счастливых гомункулусов хуматонами*, используя
термин Д. Хосли. Пока сложно говорить о
выживаемости этой популяции, но этнические привязки европейцев,
похоже, уже утрачены, и в этом смысле прежние народы
Европы мертвы как народы, даже если они и сохраняют
привычные этнонимы.
Для дистиллированно корректных европейцев
интоксикация в духе ресентимента избыточна и не нужна. Они
и так совершенно искренне признали приоритет другого,
будь этот другой арабом, гомосексуалистом,
психоаналитиком или демократически избранным политиком.
Именно в этих условиях обнаруживается - или,
скорее, может обнаружиться - особая судьба логотомии. Все
же ставка на связующую силу логоса происходит из
материи обещания и тесно связана с личностной демиургией
присутствия - это негативный принцип свободы, лучше
* Секацкий А. От Просвещения к транспарации. Последний
виток прогресса. — СПб., 2012.
144
всего описанный в «Записках из подполья» Достоевского.
Посредством слова утверждается бытие-вопреки как
последняя достоверность того, что «я» действительно есть.
Такой персональный жест является лучшим
подтверждением человеческой свободы, но индивидуальная
манифестация свободы, конечно, не обязательно связана с ло-
готомией.
К тому же новая прямая чувственность,
обнаружившаяся вдруг после многовекового торжества ресентимента,
имеет мало общего с той сферой аффектов, для
сдерживания и обезвреживания которой ресентимент,
собственно, и использовался. Планка новой прямой чувственности
есть именно результат глубочайшей анестезии и
обезвреживания, она расположена на самом низком
энергетическом уровне, так что даже ресентимент по сравнению
с этой «целостностью» прямо-таки преисполнен духовных
порывов. Обретенная вновь прямая чувственность
похожа на «кашу понарошку», прямой же она является потому,
что все же представляет собой естество - новообретенное
естество, недостижимое для вечно промежуточного
ресентимента с его неустранимым внутренним расколом. Тут
пресловутые жрецы и переориентировщики столкнулись
с величайшей внутренней превратностью, с настоящим
диалектическим иллюзионом. Они, безусловно, одержали
победу и добились, чего хотели, добились немыслимого,
говоря в духе восточной мудрости, заставили тигров
впрягаться в повозку. До этого все время приходилось перед
завершающей порцией успокоительного бередить рану
пациенту и прибегать к зондированию
профилактического характера. Дело, однако, увенчалось успехом, полным
и безоговорочным. Дрессировщики справились с
дрессируемыми. Укрощенные существа совершенно перестали
145
оказывать сопротивление, более того, они приняли все
выработанные условные рефлексы, среди которых есть
воистину шедевры изощренности, - приняли в качестве
собственных новообретенных инстинктов. Все получилось
в точности как в песенке Булата Окуджавы:
На дурака не нужен нож -
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!
И что же? В тот самый момент, когда
безоговорочная победа была одержана, когда триумфатор понял, что
прирученный и вправду счастлив и готов совершенно
искренне, наивно отстаивать то, что ему так изощренно
внушалось, - именно в этот момент дрессировщик
осознал не свое, а его превосходство. Ведь никто из жрецов
ресентимента так и не обрел естества и не избавился ни
от одного невроза, тогда как многострадальная паства,
наконец, избавилась едва ли ни от всех них. И тут
дрессировщик воочию увидел предел своего могущества: ему не
дано стать одним из счастливых малых сих. Не дано и в
том смысле, в каком это было дано настоящему господину,
то есть путем сквозного резонанса, когда «воля господина
есть непосредственно моя воля», как писал Гегель в своей
знаменитой главе из «Феноменологии духа».
С исчезновением сопротивляющегося материала ресен-
тимент и сам обречен на затухание - как огонь, которому
больше нечего жечь. Но достигнутая цельность так и
остается на самом низком энергетическом уровне:
представляется, что инфлюэнс крупномасштабных эффектов,
обретение витальности возможны лишь путем привнесения
извне. Например, через вторжение варваров.
146
И все же логотомия может вполне оказаться
спасительной, ибо принцип, который торжествует в силу своей
доказательности и доказанности, должен доказываться также
решениями и поступками.
* * *
Логотомия есть рассекатель преднаходимой
структуры аффектов - и на этом первом этапе она, как уже
отмечалось, почти неотличима от ресентимента. Но
одновременно это скоросшиватель жизни на основе личных
принципов - именно здесь пролегает решающее отличие,
поскольку эти личные принципы не просто «слова», но
и суверенные источники поступков. То есть слова,
поступки и решения образуют общее поле. И то, что «проходит»,
легитимируется в этом поле. Становится императивом, как
доказательство, проведенное по всем правилам в диспуте
ученого сообщества.
Обратимся для пояснения к сфере криминального
экзистенциализма, к чрезвычайно поучительному анекдоту,
имеющему, по сути, статус притчи.
Ночь. В какой-то тускло освещенной комнате за
столом сидят воры и налетчики, пьют водку, закусывают
и неспешно беседуют (другой вариант - играют в карты).
Вдруг неизвестно откуда появляется крыса и пробегает по
столу. Один из сидящих, молодой вор, успевает снять
ботинок и прибить крысу, уже почти спрыгнувшую со стола.
Возникшее оживление прерывает пахан, который,
обращаясь к молодому вору, говорит:
- Мы, сидящие за столом, - воры. Так?
- Так.
- Крыса - тоже вор. Так?
147
- Так, - предчувствуя недоброе, отвечает виновник.
- Значит, выходит, ты убил вора. Обоснуй.
Воцаряется молчание: несколько минут все в полной
тишине смотрят на обвиняемого. Предъява в высшей
степени серьезная, и обвиненный тоже молчит и
напряженно думает. Наконец он принимает решение и обращается
к пахану:
- Смотри, мы, сидящие за столом, воры. Так?
- Так.
- Крыса тоже вор. Так?
- Так.
- Так что же, ей западло было с нами посидеть?
История хороша в качестве анекдота, в этом качестве
она свидетельствует о том, насколько близки и понятны
разборки по понятиям современному российскому
обществу. Но и как притча она отличается глубиной и
точностью. В действительности, в уголовном мире, как и во
всяком архаическом социуме, действующие табу, как правило,
не обсуждаются, они внедрены в сознание в качестве
социально-психологических констант. Однако всегда бывают
сложные случаи, и данная притча прекрасно
иллюстрирует, что такое авторизация (суверенность) и что такое
логотомия.
Итак, возникает казус, достойный обсуждения, в
данном случае казус крысы. Мы видим, что происшедшее
не вызывает ни растерянности, ни попытки апеллировать
к прецедентам, напротив, существует согласие насчет того,
что деяние (убийство крысы) должно быть обосновано.
Именно от успеха обоснования будет зависеть жизнь
трагического героя - или, во всяком случае, его социальный
статус. И тут на наших глазах происходит рождение новой
социальности - и сам пахан, каким бы он ни обладал ав-
148
торитетом, вынужден подчиняться выводу обоснованного
суждения, причем и он, и все присутствующие как бы
испытывают резонанс аффекта справедливости.
Чувственный резонанс, а не просто формальное согласие, которое
не конвертируется ни в какую внутреннюю валюту.
Тем самым притча обрисовывает действующую модель
логотомии: на месте воров могли бы быть эллины или
русские нигилисты. И это нечто большее, чем «суд чести», это
именно вживление слова в плоть, иллюстрация того случая,
когда слово стало плотью. Картина разительно отличается
от ресентимента, в частности, в ней нет и следа цинизма,
как обратной стороны медали всякой лукавой рефлексии.
Представим себе других людей, каких-нибудь партийных
функционеров или действующих политиков. Они точно
так же сидят за столом после партийной конференции или
митинга, где они в изобилии сыпали высокими словами,
выдерживали принципы риторики, к чему-то призывали
и в чем-то клялись. А теперь они сидят за столом и ведут
негромкий, но единственно серьезный разговор: они
делят деньги. Все звучавшие перед этим слова они
нисколько не ставят друг другу в укор, поскольку знают, что все
слова, не подкрепленные деньгами (то есть идущие мимо
кассы), - мусор. Такова элита всякого общества
ресентимента в измерении слишком человеческого. Их жизнь,
впрочем, вовсе не исключает того, что после деления
денег каждый из них пойдет в свою церковь и поставит богу
свечку.
2017
3. СЧАСТЬЕ КАК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
О предпосылках и трудностях
Что ж, предпосылки просты и очевидны. Каждому из
смертных хотелось бы знать, возможно ли счастье и в чем оно
состоит, - это во-первых. Во-вторых, каждый имеет свою
собственную теорию счастья, что является отдельным
феноменом, достойным особого рассмотрения. Из этих
предпосылок сама собой вытекает высокая востребованность
соответствующего дискурса: стоит включить телевизор, пару раз
переключить каналы, и непременно услышишь советы, как
стать счастливым. В глянцевом журнале между кроссвордом
и гороскопом наверняка найдутся такого же рода полезные
советы - некоторые из них мы еще попробуем рассмотреть.
Ну и незатейливые речи, заполняющие промежутки
бытия в мире (предполагается, что промежутки между де-
лами), в немалой степени посвящены тому же предмету.
То есть малознакомые друг другу люди в качестве темы
разговора предпочтут, допустим, погоду, но по мере
укрепления знакомства, особенно за общим столом, с большой
вероятностью всплывет тема счастья, в чем оно состоит
и кому выпадает.
Как раз эти обстоятельства и составляют основную
трудность для сколько-нибудь серьезного философского
150
рассмотрения. Именно то, что является выигрышным
моментом для проповедника и учителя жизни
(независимо от того, представляет ли он общину пятидесятников,
дианетику или некое сообщество экстрасенсов), служит
камнем преткновения для философа. Для него, для
профессионального философа «книга о счастье», да что там
книга, даже статья или курс лекций предстают как
вытоптанная поляна, как выжженная земля. Тому, кто
пожелает всерьез говорить о счастье (то ли дело проблема
перверсий или акторов), придется одновременно
столкнуться с недоумением аудитории (надо же, так и не
сказал, есть ли в жизни счастье) и с иронией коллег (надо
же, как низко пал, взялся говорить о счастье человека!).
Не удивительно, что мало кто решается на такой
опрометчивый поступок - но выручает
историко-философская и герменевтическая привязка типа «Гедонистические
мотивы в философии раннего Возрождения» или
«Корреляция счастья и спасения в "Опытах" Паскаля», -
тогда можно и собственные соображения разместить в
качестве особенностей трактовки.
И все же главная трудность не в размежевании с
морализаторами и учителями жизни, а в действительной
сложности и запутанности проблемы. Попробуем разобраться
с некоторыми трудностями.
О причастности тела
Начать это рассмотрение я хотел бы с того, что
счастье гетерономно. Это означает несколько вещей сразу.
Например, то, что не существует континуума, в котором
могли бы быть заданы все параметры счастья: таким
континуумом не является даже человеческая жизнь как целое.
151
В более узком, кантовском смысле гетерономия счастья
означает, что его постройки, даже его воздушные замки,
не могут быть выстроены среди максим чистого
практического разума, среди таких несокрушимых бастионов
человеческой суверенности, как долг, моральные
обязательства, - счастье среди них выглядит незаконно и
чувствует себя неуютно. Но, может, счастье обретаемо через
отдельную способность, несоизмеримую с пространством
императивов чистого практического разума? Есть ведь
регион автономной истины, поскольку истина,
отражающая порядок природы, тоже трансцендентна сфере
обязательств и тому, что Кант называет законом свободы.
Однако в границах чистого теоретического разума истина,
так сказать, у себя дома, это ее суверенная земля: Кант
чрезвычайно внимателен к общей топографии
способностей и вывод его однозначен: общей способности счастья
не существует, нет какой-то единой трансцендентальной
схемы, которую оставалось бы только наполнить
содержанием («многообразным» в терминологии Канта), так что
счастье или его отсутствие предстали бы во всей
очевидности. Автономен долг, автономна истина, даже рецепция
искусства как способность, но не счастье.
Счастье должно быть чем-то чувственным, ведь это
такая штуковина, в которой задействуется тело. Кант
ограничивается лишь тем, что пишет: мы не можем запретить
человеку желать себе всяческого счастья, но хотелось бы,
конечно, подробностей, ведь как бы ни выглядело это чье-
нибудь счастье снаружи, оно ничто без чувственной
сигнализации своему, так сказать, обладателю. Ибо самые
авторитетные судьи могут вынести обо мне вердикт: вот
человек, который по всем объективным признакам
счастлив! Однако, если я сам этого не чувствую, вердикт ниче-
152
го не стоит. Или, выражаясь иначе, счастье должно быть
обналичено гормональной валютой тела, вернее, время от
времени должно быть осуществляемо такое
обналичивание - в порядке неустранимой гетерономии.
Однако необходимая причастность тела к состоянию
счастья ни в коей мере не означает, что счастье обеспечивается
только чувственным обналичиванием, гетерономия в
данном случае не означает даже, что вклад тела преобладает
в итоговой реальности счастья. И если идея бестелесности
счастья имеет не слишком много сторонников, а те, кто к
таковым относится, выступают скорее за бестелесность
спасения, отстаивая эту ценность за счет девальвации и
дискриминации постороннего спасению счастья, то проблема
фальсифицированного, поддельного счастья является одной
из важнейших практических проблем человеческого бытия
вообще. Психоделическое измерение возникает с
неизбежностью при любом рассмотрении принципа наслаждения
(удовольствия) и его соотношения с принципом реальности,
а значит, и проблема счастья не может остаться в стороне от
рассмотрения измененных состояний сознания.
И соответствующий внимательный анализ приводит
к достаточно простому выводу или, может быть, цепочке
выводов: «удовольствие» может быть легко
противопоставлено «реальности», например, следующим образом. Ты
можешь избрать «путь короткого замыкания», путь
крысы с вживленными в «зону рая» электродами, и субстрат
удовольствия в этом случае ничем не будет отличаться от
производства естественных морфинов, просто путь через
реальность предстанет как более длинный, обходной, тогда
как фармакологический мостик спрямляет и сокращает его.
Субстрат удовольствия всегда один и тот же: и
архитектору, и киллеру платят одной и той же звонкой монетой.
153
Но субстрат удовольствия - это одно, а проблематичная
субстанция счастья - совсем другое, поэтому логически
ошибочным и практически беспомощным является тот
тезис, что, коль скоро удовольствие можно подделать, то
и само счастье в его достоверности не вызывает никакого
доверия: куда надежнее тогда уж говорить о долге, о
самореализации и других подобных вещах, не зависящих
от гормональной валюты и медиаторов тела. Однако,
что касается счастья, оно, как мы уже видели, зависит
от представленности тела, но отнюдь не сводится к этому
представительству. Это означает, что само по себе
удовольствие, причем полученное не только путем
«коротких замыканий», не может быть свидетельством в пользу
счастья, хотя полная «телесная непредставленность»
может быть свидетельством того, что о счастье говорить не
приходится.
Тем самым, однако, всего лишь еще раз
подтверждается принципиальная гетерономия счастья по отношению
к основным системам отсчета. Пока счастье предстает как
минимум в виде двухмерной фигуры или конфигурации,
опирающейся на трансцендентные друг другу измерения.
Одно из этих измерений - тело (телесность, сенсориум),
а другое... Пока скажем так: не тело. Попробуем
исследовать, чем же может быть это иное измерение, учитывая,
что их может быть и несколько - даже согласно Канту
в сферу духа входит ряд трансцендентных друг другу
способностей, так что помимо трансцендентального единства
апперцепции, составляющего достоверность субъекта
познания (Я-познающее), есть еще и эмпирическое
единство апперцепции, для которого недостаточно одних
только познавательных способностей. А вот мерность
счастья, несомненно, требует вхождения в этот широкий круг
154
и даже выхода за его пределы для учета всех необходимых
измерений, без которых никак не обрести этого столь
загадочного и столь желанного правильного многогранника
с трансцендентными друг другу гранями, многогранника
по имени счастье.
Выстраивая конструкцию счастья
И все же, что из не-тела должно непременно входить
в многогранник счастья? Моральный долг -
исключается. Исполнение морального долга есть, несомненно, вещь
очень достойная, но не все достойное должно быть
непременно причастно к счастью. Согласно все тому же Канту,
любые психологические примеси лишь замутняют и
дезориентируют моральный долг как образец наиболее чистой
автономии. Тот, кто, руководствуясь императивом
морального долга, предпочтет его счастью, безусловно,
заслуживает уважения, однако к обретению счастья это прямого
отношения не имеет. Но и радикального
противопоставления здесь мы тоже не обнаружим - все будет зависеть от
серии совпадений.
Далее - праведность и спасение души. Несомненно,
это вещи, способные многое перевернуть в человеческом
мире, но они отражают ориентацию духа на
потустороннее, а стало быть, счастье здесь и сейчас и даже счастье
в этой жизни с точки зрения спасения души есть нечто
подозрительное. Скорее, парадоксальной составляющей
спасения души служит как раз несчастье, что и является
важнейшей коллизией ресентимента у Ницше.
Диалектика здесь может быть двоякой.
Уверовавший в спасение души утратил
чувствительность к счастью, ибо обрел противоядие от него.
155
Отчаявшийся обрести счастье выбрал спасение души,
и этот выбор, в свою очередь, освободил его от отчаяния,
хотя, конечно, и не принес счастья.
Но если долг и спасение не годятся в качестве граней
многогранника по имени счастье, то, может быть, на эту
роль подойдет мнение других? Тут сразу же возникают
сомнения, связанные с преднамеренно провокационным
названием. Сразу же вступает целый хор моралистов:
истинное счастье не должно (не может) зависеть от мнения
других, непременно возникает спор о выборе правильного
глагола: «не может» или все-таки «не должно», но в данном
случае этот любопытный спор нас не слишком интересует.
Потому что счастье индивида, конечно, зависит от
того, что о нем говорят и думают. Понятно, что на всех
не угодишь, да и молва (Gerede) у Хайдеггера есть
стихия темная и смутная - и все же есть такая грань у нашего
чувственно-сверхчувственного многогранника! Эта грань
имеет и свое надлежащее имя: признанность или бытие-в-
признанности. Если следование долгу автономно, то
борьбу за признанность (соискание признания) вполне можно
рассматривать как погоню за счастьем. Конечно, правила
преследования здесь не просты, они, скажем так,
нелинейны. Наивное стремление к счастью, как правило, не
достигает цели: благоприятный вердикт о себе (так можно
назвать эту независимую переменную счастья) не выпросить
и не купить. Хотя за деньги можно приобрести подделки
очень высокого качества. Но можно и совсем уж
дешевенькие, приобретение которых относится к слишком
человеческому и составляет важную чувственно-сверхчувственную
часть расширенной потребительской корзины. Образец
такой честной наивности (или наивной честности)
представлен песенкой девочки из знаменитого советского муль-
156
тика. Там эта девочка с бантиком, пританцовывая, идет по
лесу, по лесной тропинке, у нее отличное настроение, ей
хорошо и для счастья (для полного счастья) не хватает
совсем немногого. И, чтобы восполнить нехватку, девочка,
недолго думая, запевает песенку:
Кто похвалит меня лучше всех,
Тот получит сладкую конфету!
В итоге получается конфуз, вполне доступный уму
первоклассницы: неуклюжая лесть дискредитирует
наивно-благородные намерения. В дальнейшем погоня за признанностью
обретает уже более сложную, затейливую траекторию, для
которой больше подходят строки Лермонтова:
Увы! Он счастия не ищет
И не от счастия бежит!
По большому счету именно так и надо выстраивать
стратегию обретения счастья, во всяком случае в
измерении признанности: не обозначать свои цели слишком явно,
но и не впадать в пустой негативизм ресентимента.
Стратегия эта тем не менее далеко не из простых, она, как и все
экзистенциальные технологии (в отличие от собственно
«технологических технологий»), подверглась
исторической деградации. Технологии счастья, которыми
располагал средний греческий полис, на порядок превосходят все
упрощенные, профанированные субституты, которыми
довольствуется современное человечество. Многомерная
фигура по имени счастье (не эвдемония), обретаемая
путем фронезиса, недостоверна в координатах ресентимента.
Даже тот, кто счастия не ищет и не от счастия бежит,
может не знать о том, что главные свои достижения человек
157
обретает не в результате своих усилий, но вследствие их...
При этом никто не в силах обойти упрямую истину: без
признанности, без вердикта другого, счастью не бывать.
Человек, которого другие не замечают (что ты есть,
что тебя нет), может оказаться человеком глубоким,
человеком достойным, настоящим гением, и примеры тому
были и есть - но разве можно сказать, что ему выпало
счастье? Если бы достоинство могло обернуться
счастьем, могло привести к нему напрямую, человечество
избежало бы множества трагедий, а совокупная
литература мира была быть беднее на порядок. Но, похоже,
ничего такого литературе не грозило и не грозит. Поэтому
человек, устремленный к счастью, является соискателем
признанности, а значит, практически непременно должен
пройти через поле подделок: таков уж закон слишком
человеческого. Одобряют ли тебя другие? Искренне ли они
это делают? Или в обмен на сладкую конфету, или хотя
бы в надежде на нее?
Ведь и девочка из мультфильма, так наивно
обещающая сладкую конфету в ответ на похвалу, уже обладает
хитроумием на уровне житейского здравого смысла. Она
подсознательно понимает, что лесть может быть слаще
любой конфеты, но, чтобы разобраться в градациях лести,
в ее сложных отношениях с искренностью, нужен немалый
жизненный опыт - порой для этого не хватает и целой
жизни.
Стало быть, и эта грань счастья - признанность или
подтверждение другими, несмотря на то, что она не
зависит от физиологии, оказывается столь же
непредсказуемой, хотя и по другим причинам. Но без приложения
усилий, зачастую без одиссеевского хитроумия, фигура не
сложится.
158
Отклонения, перекрестки и развилки
на пути к счастью
Молва, являющаяся общей стихией признанности,
своенравна, как океан. По большому счету, включая
степень флуктуации, молва не слишком отличается от таких
классических стихий, как огонь, вода или воздух. Но
бессильных упреков в ее адрес, так же как и тщетных
предосторожностей, прозвучало несравненно больше - звучат
они и сейчас, хотя моралистика как нравоучительный жанр
вышла из моды (ее заменило в итоге прямое
инструктирование). По количеству проклятий в свой адрес с
молвой может сравниться только война - можно сказать,
соседняя стихия, зачастую и возбуждаемая (инициируемая)
молвой. Стихия молвы так же мало поддается увещеванию,
как наводнение или засуха, хотя некоторые думают, что не
так. В числе этих некоторых есть и проповедники, и
журналисты, специализирующиеся на
морально-нравственных темах, но положение от этого не меняется: молва все
же не поддается заклинаниям, а значит, и признанность,
вытекающая из океана молвы и в него же впадающая,
содержит в себе неконтролируемую примесь случая. И опять
же, если бы в борьбе за признанность существовали столь
же прозрачные правила, как в спортивных состязаниях,
мир был бы куда справедливее...
Но вернемся к нехитрой логической конструкции.
Если для того, чтобы быть счастливым, необходима
признанность других (причем признание тебя не как
счастливого, а как достойного), то полезно присмотреться
к механизму вынесения вердикта о твоем счастье.
Распространенной реакцией слишком человеческого на
чужое счастье является зависть - нечто, осуждаемое
159
моралистами в той же степени, что и молва. И тем не
менее между такими феноменами, как зависть других,
и моим счастьем существует значимая корреляция. Не
совсем однозначная, но все же следует принять во
внимание то, что зависть в принципе неподдельна, в отличие от
других фигур признания.
Завидующие тебе ничего не могут получить в ответ,
они лишь подтверждают и себе самим и миру, что
совсем не безболезненно дается признание чужого счастья.
Я попытался описать воображаемый мир, в котором
зависть имеет товарную форму*, исходя из установки, что
даже в воображаемой форме такой мир является хорошим
инструментом для понимания человеческой психики и
извлечения неочевидных выводов. В действительном мире,
однако, зависть все еще находится среди вещей
неподдельных и, стало быть, отнюдь не лишено смысла утверждение
типа «зависть ближних есть индикатор твоего счастья».
Задумаемся над этим, вынеся за скобки пламенные
обличения морализаторов.
Да, зависть, безусловно, не идеальный индикатор:
сам по себе, в отрыве от прочих данных, поступающих
из других разворачиваемых и обустраиваемых граней,
он совершенно недостаточен. Невозможно быть
счастливым одной только завистью других. Однако все
познается в сравнении, уже упоминавшиеся нами телесные,
гормональные свидетельства, номинированные в валюте
внутренних морфинов и эндорфинов, все же куда менее
надежны, о чем говорит и сам феномен наркомании.
Наблюдающий третий на вопрос «счастлив ли тот или иной
* Секацкий А. К. Зависть: один из пропущенных миров //Се
кацкий А. Философия возможных миров. — СПб., 2016.
160
торчок, пребывающий в кайфе» только усмехнется,
понимая, что сам вопрос риторический.
- А вот этот господин, которому так явно завидуют
окружающие, счастлив ли он? - спросим мы.
И поразмышляв, мы или любой наблюдающий третий
вынужден будет сказать, что для сколько-нибудь
определенного ответа нет необходимых данных. Так обстоит
дело, когда речь идет о счастье, а не о чем-то более
простом и гомогенном вроде наркотической эйфории. Отсюда
следуют два вывода. Один все тот же: соматическое
подтверждение, аргумент со стороны сенсориума, само по себе
не может свидетельствовать о счастье. Причем не может
свидетельствовать ни самому субъекту, обладателю
сенсориума, ни внешнему наблюдателю.
И второй вывод (не в пользу человеческой природы)
таков: человеческое счастье способно вызвать зависть
другого и таким образом быть зарегистрировано. Более
того, зависть нередко возникает даже в случае подозрения
о счастье «завидуемого» - так что данным индикатором
не следует пренебрегать. Это не значит, что устремление
к счастью нужно непосредственно и непременно
обналичивать встречной завистью, но время от времени отдавать
ей должное (принимать к сведению) будет не лишним.
Желтые огоньки зависти на твой счет мигают время от
времени в плотной среде слишком человеческого - значит,
ты признан... Многогранник моего счастья
вырисовывается из тумана, правда, большинство граней все еще
дорисовывается воображением...
В мире, где экзистенциальные технологии находятся
на достаточно примитивном уровне (например, в нашем
мире, внутри фаустовской цивилизации), зависть другого
есть простой, общедоступный строительный материал для
161
возведения замка, в котором может поселиться счастье.
Понятно, что оно может и не поселиться... Другим, столь
же профанным и, в сущности, доступным материалом
являются деньги. Вопрос, заданный Остапом Бендером Шуре
Балаганову: «Сколько вам нужно для счастья?» -
вовсе не является риторическим или бессмысленным в мире
примитивных экзистенциальных технологий. Вообще
такие феномены, как «что-то, отдаленно напоминающее
счастье» или «что-то, очень похожее на счастье», возможны
там, где определенность счастья не совсем утрачена и где
имеется его правильная интуиция, пусть даже и не пере-
ложимая во внешние стратегии.
Ясно, что при более совершенных настройках, таких
как античный фронезис или соотношение атриума и пуб-
ликума в Риме, для композиции и экспозиции
многогранника по имени счастье выбираются более надежные
материалы: высший уровень атональности, схождение
и сведение линий судьбы, вся метамузыка правильно
настроенного космоса и полиса - но в современных
условиях такие материалы не синтезируются. Поэтому
современная осколочная признанность, например, в виде
знаков отличия, даваемых государством или
какой-нибудь случайной инстанцией, нуждается в дополнении
завистью, причем, желательно, завистью качественной.
Разновидностям этого чувства тоже присваивают цвета,
как кваркам или цветным глюонам: и самой
качественной считается белая зависть. Но за ее отсутствием и
черная зависть подойдет, а если и она не просматривается
на горизонте, то сгодится и «голая» официальная
признанность с ее знаками отличия. В любом случае борьба
за признанность есть то, чем приходится заниматься на
пути к счастью.
162
Самореализация
В этот раздел (в особую грань) включаются
самореализация и авторизация мира. Разве можно быть счастливым,
не задействуя это измерение, не присоединив его к другим
имеющимся? У самореализации тоже, по-видимому, есть
некое соматическое представительство, она затрагивает
человеческую органику (сенсорику) - но не больше, чем
истина, и уж тем более - моя правота. То есть по сути
это независимый параметр счастья, в частности, по
сравнению с телесным представительством как таковым.
Независим он и по отношению к признанности, хотя отношения
между этими параметрами счастья непременно включают
в себя корреляцию. Признанность без самореализации
выглядит неподлинной, чем-то вроде лести тирану или
неотразимой красавице. Безоговорочная признанность вполне
может прилагаться и просто по факту бытия: она дарована
той же красавице или какому-нибудь легкокрылому
гению и не требует даже особых усилий в плане реализации.
С другой стороны, состоявшаяся самореализация может
и не обрести заслуженной признанности.
И все же для нас сейчас важно выделить это
измерение, эту обособленную от прочих грань, без которой
инаугурация счастья как счастья точно не состоится. Вроде
бы все сходится: и с взаимностью все в порядке, и
окружающие только покачивают головой: «Ну счастливый
человек!» - но если замыслы, планы, попытки авторизации
этого мира так, как они задуманы, - если с этим ничего
не выходит - счастью не бывать. Понятно, что
существует такая вещь, как «уровень притязаний», и он у каждого
свой - но все же воплощение в избранных объективаци-
ях не может быть оставлено без внимания. За примером
163
можно обратиться хотя бы к Богу. Спиноза в своем
знаменитом сочинении «Краткий трактат о Боге, человеке и его
счастье» описывает человеческое счастье не слишком
убедительно (тут просто требуется другое имя), но, как
можно понять из трактата, счастье самого Бога заключается
в том, что он творит. То есть у Бога имеется нечто
вроде самореализации и, конечно, было бы самонадеянным
утверждать, что к ней (к самореализации,
оборачивающейся творением всего сущего) он обращается в поисках
счастья, но сравнение со Всевышним все же напрашивается,
хотя бы сравнение по аналогии.
Бог творит (свое творение), чтобы не остаться
нереализованным.
Человек реализует себя, чтобы не остаться несчастным.
Но именно здесь, на этой грани нашего незримого, но
желанного многогранника расположена наковальня -
площадка воздействия со стороны сознания и, если угодно,
хитрости разума. Наковальня упоминается в известной
пословице: каждый сам кузнец своего счастья. Вряд ли
можно обмануть тело или самого себя насчет тела, оплатить
мнение других о себе тоже не слишком убедительный жест.
Но зато кажется, что умерить или соразмерить уровень
притязаний с имеющимися возможностями можно в
строго рациональном смысле, например, путем приведения
аргументов и контрпримеров. То есть вот тебе наковальня,
и ты, наконец, кузнец. Но что же предлагается кузнецу
ковать вместо подковы? Ответ прост: оковы для хюбриса.
Классический образец, со времен античных стоиков
фиксированный в самой наковальне, гласит: если не можешь
достичь желаемого, научись желать достижимого.
Но ковать нужно очень сильно и безжалостно. Ведь
поле самореализации формируется из задатков и проектов,
164
которые хоть и смутно, но болезненно реагируют на все
отклонения. Скажем, мечтая стать архитектором и
украсить города своими творениями, трудно удовольствоваться
продвижением от простого менеджера к топ-менеджеру.
Представим себе монолог у наковальни, пока
продолжается работа:
«Да, это, конечно, продвижение. Не все простые
менеджеры этого достигли, и некоторые, наверное, были бы
счастливы, добравшись до заветной черты. Они несчастны
из-за того, что не смогли реализовать себя. А ты? Ты
обошел многих, но хотел-то ты реализовать себя в
архитектуре - туда были направлены замыслы, с ними,
архитектурными решениями, были связаны интересы... да и сейчас все
это вызывает интерес. И надо просто ковать, ковать и
ковать наковальню своего счастья, чтобы, наконец, испытать
гордость: да, я сделал это! Я мог остаться на подхвате, мог
остаться простым менеджером, но я top, по сути даже VIP».
И если организм не откажет в экстракции гормонов
счастья, если совет директоров не забудет раз за разом
выражать свою благодарность, а оставшиеся внизу простые
не-топы будут ощутимо завидовать, то счастье очень даже
возможно - разумеется, при наличии все еще
недостающих компонентов.
И понятно, что все это будет зависеть от того,
насколько усвоил ты эту строгую науку, насколько научился
желать достижимого, не беспокоят ли тебя фантомные боли
из далекой архитектуры, потому что если беспокоят, то все
пропало и даже признанность среди равных, равных тебе
топ-менеджеров не спасет. Но что же в итоге получается?
Получается, что вроде бы выгодно, с расчетом на
будущее счастье, иметь низкий уровень притязаний, ведь это
освобождает от такого количества лишних телодвижений
165
и доставляет основания для своеобразной гордости. Как
там у Хайяма?
Если есть у тебя для жилья закуток -
В наше подлое время - и хлеба кусок,
Если ты никому не слуга, не хозяин -
Счастлив ты и воистину духом высок.
Вроде бы все так, вроде предложен воистину отличный
выход... вот только тот уровень, где ты никому не слуга, не
хозяин, - это очень высокий уровень притязаний и очень
немного в мире счастливцев, сумевших его достичь. Но
если ты за мелкие, незначительные услуги получаешь
хлеба кусок (и закуток для жилья) - то подобное не так уж
редко встречается у малых сих, однако ни признанности,
ни зависти, ни обналичивания своего состояния в
гормональной валюте организма в таких случаях ожидать не
приходится.
Понижение уровня притязаний в связи с
усвоением науки желать достижимого с очень высокой степенью
корреляции уменьшает шансы возможной признанности,
а это значит, что рекомендовать подобное самообуздание
в качестве рецепта счастья несколько опрометчиво, хотя
искусный кузнец (своего счастья) все может выковать
правильно. И поскольку жизнь богата не только
сопротивлениями и противодействиями, в ней случается и
благосклонность судьбы, появляется еще одна трудность,
отталкивающая молот от наковальни: самореализация удается
по соседству и вроде бы ни с того ни с сего. А это, во-
первых, опровергает капитуляцию, она оказывается не
такой уж оптимальной, порой лучше усилить желание
желаемого, глядишь, и отыщутся непредвиденные средства для
166
его достижения. А во-вторых, вырисовывается еще один
независимый параметр, удача, - который, в свою очередь,
вызывает сомнения в независимости такого параметра, как
самореализация.
Счастливая жизнь как предмет производства
И вот еще одна трудность - состоит она в том, что мы,
то есть фаустовская, христианская или постхристианская
цивилизация, являемся обладателями очень отсталых
экзистенциальных технологий. Говоря точнее, мы имеем дело
с осколками, сложенными кое-как, и с описаниями,
относящимися к работающим образцам, которых мы не видели
в действии.
Нам более или менее близка экзистенциальная
технология спасения, хотя и она сегодня не работает, но
античная эпимелея и эвдемония чрезвычайно далеки от нас, так
что мы не всегда даже понимаем, к чему приладить те ли
иные уцелевшие элементы технологической цепочки.
Например, пропорции, описанные в «Никомаховой этике»
Аристотеля, - они относятся к нравственным категориям,
которые, собственно, и не могут быть даны иначе как через
пропорцию (так отвага является чем-то вроде золотого
сечения на дистанции между трусостью и безрассудством).
Без достоверности конкретной пропорции и соотношения
пропорций нравственное знание отсутствует и как
нравственное, и как знание, так что сравнение с другими
подразделениями знания тут весьма уместно. У Аристотеля
можно обнаружить несколько подразделений, из которых
наиболее известно деление на «эпистеме» и «докса»,
оппозиция истинного знания и всего лишь мнения. Однако
не следует забывать, что и докса тоже есть некое знание
167
(а отнюдь не сплошное заблуждение), которое при
случае вполне уместно, а в некоторых случаях даже
исключительно уместно. Вспомним, что еще Декарт и Паскаль
разделяли ту мысль, что порой лучше руководствоваться
мнениями, что такова оптимальная адаптивная стратегия
для целого круга житейских дел и, стало быть, такова
ситуативная истина.
«Я помешан только в норд-норд-вест», - говорит
Гамлет, и это означает, что лишь при некотором повороте
событий его ум обращается в безумие, для других же
поворотов ум остается умом. Другое дело, что такой роковой
поворот событий все же наступил, и с момента
таинственной смерти отца дует норд-норд-вест. А это значит, что
прежнее истинное знание утрачивает свою истину,
утрачивает там, где ее предмет не задан, а вместо этого задан
предмет иного знания. Обратимся к характерному кантов-
скому выражению «в пределах только разума» - выход за
эти пределы, согласно Канту, есть трансцендентное
применение некоторых процедур, в результате чего возникают
амфиболии, пустые понятия без предмета и прочие
несообразности. Однако Кант не задается вопросом
относительно тех мест или миров, где такие несообразности были
бы сообразны и где, наоборот, смешными и нелепыми
выглядели бы принципы, которыми руководствуется
трансцендентальный субъект. Хотя примером могла бы служить
сама странная жизнь Канта.
Ну, или принцип решающего выбора, положенный
в основу экзистенциализма: ты есть то, что ты выбираешь,
и, осуществляя выбор, ты выбираешь самого себя.
Однако и это знание является типичным паралогизмом в
случае отсутствия привязки, непопадания в соответствующую
систему координат. Допустим, решающий выбор сдвига-
168
ется в микромасштаб повседневности, на уровень вопроса
«кому мыть посуду?». Если этот вопрос становится
экзистенциальным, возникает ситуация, аналогичная
незаконному расширению корпускулярно-волнового дуализма,
стремление непременно учесть волновую функцию
объектов макромира. Стоящая на столе чашка, строго говоря,
тоже имеет волновую функцию, но ею можно пренебречь
и просто помыть ее как посуду, иначе нелепости не
избежать. Если вдуматься во все следствия этого тезиса, мы
увидим, что топологическая составляющая знания
определяет и соответствующее ему силовое поле, и, стало быть,
силовые линии истины, в таких случаях лучше, подобно
Сократу, говорить о пригодности определенных
принципов в зависимости от топографии их применения.
И тогда слова Декарта о том, что в делах житейских
следует руководствоваться мнением (другого рода
знанием, чем то, что определяет сферу ego cogito), не обязательно
воспринимать как уступку или как трудность в стремлении
придерживаться истины. И дело не в двойных
стандартах - возможно, что само наше негативное отношение к
«предрассудкам» и к житейскому здравому смыслу является
результатом фетишизации восходящей науки, то есть идео-
логемой или идеологией. В частности, подобные подозрения
возникают насчет универсальности, которая управляет
всякой понятийной регуляцией - недопустимо считать
истинным знанием то, что справедливо только в норд-норд-вест,
даже если существуют такие регионы, где решительно
преобладающим является именно этот ветер.
Так приносятся жертвы во имя науки как
специфической модуляции знания. Что ж, жертва во имя науки
оказалась принятой и угодной, она невероятно продвинула
человеческое бытие-к-могуществу. Но восторжествовала
169
именно технология гештеллера, техника устройств и
агрегатов, которые именуются сегодня гаджетами и девайса-
ми, - тут Хайдеггер был прав.
О том, что было принесено в жертву, у современной
философии нет ясного понимания, обычно
используются такие стершиеся слова, как «духовность», экология,
единство с природой и прочее в том же духе - наука и ее
жрецы лишь снисходительно пожимают плечами. Но если
обозначить состав жертвенного пакета более конкретно,
то и наука откликнется куда более энергичными
возражениями и язвительными насмешками. Так мы утверждаем,
что техника постава восторжествовала за счет иного рода
техники, современные высокие технологии были
воздвигнуты там, где разрушению подверглись экзистенциальные
технологии (и за счет их разрушения и глубокого упадка).
Среди этих потерь оказалась, если угодно, и технология
счастья. Да, техника постава претерпела невероятное
развитие, с техникой рисунка и танца ничего плохого не
случилось, а вот техника (технология) счастья оказалась тем,
что как раз и было принесено в жертву.
Задумаемся еще раз над дилеммой Сократа, который,
с одной стороны, утверждает, что «добродетель есть
знание», но при этом подчеркивает, что «добродетели нельзя
научить». Собеседники Сократа, собственно, и не
возражают насчет того, что добродетель (и справедливость, и даже
мужество) есть своего рода знание, ибо подобное
утверждение отражает некую достоверность их бытия. Куда более
странным и диковинным этот тезис является для нас. Мы
понимаем, что возможно знание о добродетели, о
законопослушности и даже знание о любви - но сколько бы мы
всякого такого на этот счет ни знали, мы все же любим
любовью, а не знанием о ней. Дело вот в чем: мы привыкли
170
к тому, как выглядит и как должно выглядеть знание: оно
содержит предпосылки, тезисы, выводы; фрагменты знания
соизмеримы друг с другом, поскольку они дискурсивны или
хорошо состыкованы (хотя бы как теория и эксперимент).
Такое знание мы имеем в том числе и о любви (один
психоанализ чего стоит), и оно, конечно, не позволяет сказать,
что сама любовь есть знание - не в большей степени, чем
незнание. Греки не имели обыкновения представлять себе
знание исключительно таким образом (и даже истинное
знание) - отчасти потому, что Сократ еще только начал
свою работу. Но кое-какие плоды будущей фетишизации
уже имелись, поскольку тезис о том, что добродетели нельзя
научить, тоже принимался, тем более что примеры
приводились в достаточном количестве.
Парадокс знания, которому нельзя научить,
разрешался тем, что речь шла о своего рода знании, передача
которого неосуществима в чисто дискурсивной форме. Но это
не значит, что научить невозможно вообще, это значит,
скорее, следующее: экзистенциальные технологии
присутствия, среди которых и гипотетическая технология счастья,
существуют и могут быть задействованы, но, безусловно,
они не могут быть конвертированы в чисто понятийные
технологии и те рецептурные ноу-хау, на которых основана
современная техника, техника постава. Да, наша техника,
безусловно, может быть рассмотрена в качестве
«специального приложения» теоретической науки, но есть вещи,
не укладывающиеся в эту раскадровку, и они
представлены как сопротивляющиеся фрагменты бытия: любовь,
мужество, счастье и «прочие вещи того же рода», как сказал
бы Сократ. Однако при ином раскладе сущего и
происходящего эти же вещи могут оказаться не просто
предметами дискурсивного описательного знания (не влияющего
171
на их самостоятельное присутствие), а технологическими
конструкциями, возводимыми на основе знания - знания
своего рода. Этому знанию нельзя научить путем
рассуждений, из чего не следует, что оно совсем уж не подлежит
трансляции. Оно входит в состав определенной
экзистенциальной технологии и заведомо не является «знанием
всего», что в состав этой технологии входит.
Допустим, это мужество. Кое-что тут знает субъект,
опираясь на правильные пропорции между трусостью
и безрассудством. Кое-что он же, субъект, знает
посредством логических умозаключений, именно эту часть
знания и обсуждает Сократ с Главконом и Кефалом в диалоге
«Государство». Существенная часть знания записана не
внутри, как нечто такое, что может быть унесено с собой
и перемещено куда угодно, а в самой ситуации сражения,
и эта составляющая мужества считывается посредством
резонаторов и ее никак не вынести за пределы
«пространства свойств». И все же мужество есть своего рода знание,
разумеется, весьма далекое по своим характеристикам как
от эпистеме, так и от доксы. Представление о входящей
в состав такого знания матричной трансляции можно
получить, обратившись к доавторской поэзии - к аэдам,
рапсодам, акынам, сказителям, знающим наизусть
колоссальные объемы текста. Этот текст точно так же записан не
в их внутреннем мире, а в пространстве свойств*.
Как раз подобные нестандартные группировки знания
и выбыли из трансляции - или, можно сказать, выбиты
из нее. Они не вписались в новый стандарт понятийного
знания, образующего континуум без разрывов: тем самым
* См.: Секацкий А. К. Истоки поэтической магии // Einai.
Философия, религия, культура. 2017. — Т. 6, № 2 (12).
172
дальнейшее применение экзистенциальных технологии
прервалось, сохранившиеся указания утратили
достоверность, оставаясь фрагментами бытия.
Можно сказать, что торжество знания привело к
отбраковыванию нетранспортабельного, стационарного
знания: сохраняемое знание должно было теперь подчиняться
принципу «все свое ношу с собой» (или, по крайней мере,
вожу на маленькой тележке как личную библиотеку). Но
рассмотрим восхождение понятийного знания - для нас
важно, что среди утраченного, потерянного, оказалась
и технология счастья - один из видов знания, которому
нельзя научить путем приведения к строгому понятийному
единству.
Осколки в наследство
В истории философии сохранились фрагменты и даже
целые трактаты, которые все равно примыкают к разряду
фрагментов, относящихся к разряду этических учений или,
скорее, этических приложений. Вот есть эпикурейство
с его принципом взвешивания и препарирования
удовольствий, есть киники, настаивавшие на иллюзорности и не-
подотчетности счастья (но при этом отчетливо
различавшие его возможные локализации). Есть перипатетики со
своим знаменитым вопросом: как можно решить вопрос
о счастье человека, покуда человек еще жив?
Отсюда следует напрашивающийся, но весьма
поспешный вывод, что у эллинов в отношении счастья царил
такой же разнобой, как и в христианской и
постхристианской Европе, то есть один трактовал его так, другой эдак,
а третий и вовсе отрицал возможность счастья.
Современная осколочная этика действительно так и поступает, но
173
в отношении Эллады дело все же обстояло иначе.
Фрагменты, кажущиеся нам пестрыми и разнородными,
относились все же к разным граням многогранника,
своеобразного правильного платоновского тела,
вырисовывающегося в горизонте этики или, скорее, этоса.
Почему бы не предположить, что речь идет все же о
разных проекциях на плоскость, так что сравнение «плоских
листов» на предмет общности не слишком плодотворно:
для обретения единства необходимо восстановить эти
проекции в пространстве большей мерности, то есть там, где
и пребывает интересующий нас многогранник счастья.
Представим себе, что при других обстоятельствах (в
одном из возможных миров) в подобном же положении могло
бы оказаться естествознание или даже математика, так что
вычисления землемера и изыскания в области
натуральных чисел мы различали бы как взгляды киников и взгляды
стоиков, совершенно не соотносящиеся друг с другом. Но
подобный исход остался гипотетическим, а вот с проблемой
счастья и вообще с этикой произошло именно так.
Высказывания разных уровней, имеющиеся сегодня, оказываются
несоизмеримыми: как раз такова современная моралистика,
где каждый волен безнаказанно и безответственно выбрать
произвольную точку зрения (счастье - вот это!). Греческие
авторы прочитываются вразнобой из-за утраты нами
общего для них контекста, современные же сентенции о счастье
напоминают ответы на вопрос «какой твой любимый
цветок?» - и любой ответ годится, поскольку в памяти
остаются лишь разрозненные проекции. Поэтому утверждение «у
каждого свое счастье» не вызывает возражения, хотя для
Сократа и для его собеседников подобный ответ ничем не
отличался бы от тезиса «у каждого свое мужество» или,
например, «у каждого своя честность».
174
Перенос такого вынужденного положения вещей на
изначальную ситуацию, когда некое целое, постигаемое
своего рода знанием, еще не распалось, конечно,
несправедлив. Неясной, например, представляется связь между
целой, завершенной жизнью и, так сказать, счастьем и
несчастьем каждого дня. Вместо современной бессвязности,
хорошо выражаемой пословицей «на том свете сочтемся
угольками» или «после нас хоть потоп» (или специфически
христианской обратной связью, согласно которой
прижизненные страдания подлежат посмертной компенсации),
представления Аристотеля и особенно ранних греческих
авторов, например, Гесиода, о том, что счастливая жизнь,
вердикт о которой выносится посмертно, безусловно
состыкованы с микромасштабом жизни, хотя и не совсем
понятно, каким образом.
Вероятно, счастье как характеристика целого
присутствует в том, что я был счастлив сегодня, и без этой
далекой гравитации и сегодняшняя радость не в радость.
Но, опять же, самого по себе воздействия из посмертия
недостаточно - посмертных проклятий достаточно для
несчастья, но даже добрая память знавших тебя потомков
счастья еще не гарантирует... Главное - взаимосвязь этих
моментов и понимание того, что речь идет о разных гранях
одного многогранника.
Механизм взаимного крепления или взаимоприсутствия
такого рода применяется и в других экзистенциальных
технологиях, например, в производстве рыцарской чести:
кто может безоговорочно считаться человеком чести,
безупречным рыцарем до тех пор, пока не подведена черта его
жизни? Правда, урон, нанесенный чести, может быть
компенсирован - бесчестье, смытое кровью, не сказывается
на итоговом вердикте. Несчастье в микромасштабе жизни,
175
по-видимому, компенсировано быть не может, однако
счастливая жизнь, если речь идет о смертных, вовсе не обязана
складываться из одних только моментов торжества.
Симфония счастья, если произвольно выдернуть из нее лишь
несколько пассажей, уже не будет распознана, полученный
экстракт с таким же успехом может принадлежать и к
трагедии. Заметим, что и бытие в признанности не требует
признания всего, и благополучие тела не может быть
представлено в виде сплошного, затянувшегося оргазма...
Но экзистенциальные технологии, безусловно, могут
быть различными по степени достигнутого совершенства,
по степени продвинутости, как раз в этом они не
слишком отличаются от обычных технологий. Технология
производства энергии, скажем так, далеко шагнула вперед по
сравнению с временем Аристотеля, но технологии
обретения счастья не то что деградировали, тут нужно прямо
сказать - они утрачены.
Фантомное счастье
Идея счастья потеряла свою достоверность еще и
потому, что оказалась вытесненной идеей спасения. Мы знаем,
что нужно делать для спасения души, даже если мы
являемся атеистами, а вот как следует поступить для обретения
счастья, мы не знаем. Говоря попросту, для преобразования
жизни мы применяем иные экзистенциальные технологии,
в том же примерно смысле, в каком существуют различные
строительные технологии для возведения жилищ, одни
у эвенков, другие у французов, третьи у бороро. И все
же не совсем так. Утраченные технологии тем не менее
сохраняются в некоем параллельном производстве, хотя его
продукция едва ли может быть опознана и сопоставлена по
176
объективным критериям с той же греческой эвдемонией.
Да, дискурс счастья отрывочен, способ синтеза утрачен,
доминирующие экзистенциальные технологии (отчасти
замещенные чисто социальными технологиями)
трактуют о другом, например, о законопослушности и важности
гражданского сознания - однако фантомное желание
счастья никуда не делось. Оно присутствует в мире,
расположенном между реальным и воображаемым, среди
прочих фантомных болей и, можно сказать, решительно
доминирует среди них. Набор фантомных болей может
быть весьма индивидуален, включая сюда и классический
вариант ощущения утраченной конечности, однако боль по
имени фантомное счастье есть у всех, пусть и не с
одинаковой степенью остроты.
Кстати, что касается других экзистенциальных
технологий и их плодов, дело, как правило, обстоит не так.
Чувственно-сверхчувственные произведения, созидаемые
в актах совместного жертвоприношения, исчезли и не
оставили ничего фантомного; куда более новая, но при этом,
похоже, тоже исчезнувшая технология пролетарской
солидарности, обретаемой в классовой борьбе, среди
фантомных болей не присутствует даже в виде ощутимой
примеси. А вот фантомное желание счастья присутствует, и его
интенсивность, возможно, даже не изменилась со времен
греческой эвдемонии. Собственно, именно это и хотел
сказать Кант, заявляя, что мы не можем осуждать в человеке
желание всяческого счастья - как нелепо было бы
осуждать человека за его физиологические параметры.
Но данный фантом - это, конечно, слепое желание,
оно тычется во все углы, ничего не узнавая и не находя
бесспорного собственного предмета. Достоин внимания
общеизвестный факт, который ввиду его универсальности
177
можно назвать человеческим уделом. Это факт очевидного
пересоздания собственной толики счастья. Если
счастливая жизнь как целое совсем уж вещь невообразимая, то
ведь нельзя отрицать, что выпадают счастливые дни,
месяцы и вообще отдельные фрагменты жизни. Но их оценка,
восприятие в качестве счастья дается, как правило, factum.
Счастье хорошо сочетается с глаголом «быть» в будущем
времени, иногда сочетается и с прошедшим временем
этого глагола - самым проблематичным оказывается
словосочетание типа счастье есть и вот оно, счастье. Если
уж говорить в категориях человеческого удела, нельзя не
признать, что современному человеку свойственно именно
спохватываться:
Мне тем и горек мой сегодняшний удел -
Покуда мнил себя судьей, в пророки метил,
Каких сокровищ под ногами не заметил,
Каких созвездий в небесах не разглядел!*
Когда говорят, что «счастье было так возможно», что
оно было рядом, просто описывают его обычное состояние,
его современное состояние: быть всегда возможным, быть
рядом или быть недостижимым, - в действительности тут
нет особой разности: кому какая формулировка удобнее.
И, конечно, вопрос о несчастном сознании встает здесь
с максимальной остротой. Получается, что сознание
вспыхивает там, где угасает счастье, так что ощущение
несовпадения жизни и счастья является его движущей силой,
условием возможности сознания, если угодно. Как если бы
корреляция несчастья и сознания со времен Гегеля только
усилилась.
* Юрий Левитанский.
178
Вспомним базисные тезисы экзистенциализма: человек
есть то, что он выбирает, существование предшествует
сущности и другие максимы человеческой суверенности - все
они подразумевают некую неизбежность размежевания
со счастьем. Дискомфортность бытия в мире,
заброшенность и брошенность (Хайдеггер) предстоят сознанию
в качестве простой данности и возникает стойкое
ощущение, что незримый многогранник счастья и должен быть
разбит вдребезги для того, чтобы сама суверенность
человеческого существа стала возможной. Однако это только
ощущение, все же нуждающееся в аргументах. Ведь даже
если признать, что «беспокойство души и есть сама душа»
(Августин), это еще ничего не говорит нам об источнике
беспокойства. Ведь «многогранник-счастье» даже в
случае его опознания в идеальном виде отнюдь еще не принят
к исполнению, если неопознанным остается
побудительный мотив к действию и «динамическая составляющая»
(«счастье есть некая деятельность», по словам
Аристотеля). Такой мотив в форме принятой стратегии не уступает
христианскому побуждению к спасению души.
Движущая сила эпимелеи - обретение счастья,
движущая сила спасения - недостижимость счастья. Первый
случай мы не можем примерить к собственной душе,
вообще к той душе, которая «по природе своей христианка»
(Тертуллиан - Августин). Второй случай - несомненно
наш, и его актуальность - это далеко не самый худший
исход. Самым худшим было бы признать в качестве счастья
один из осколков, скажем, уже упоминавшуюся замкнутую
эйфорию коротких замыканий или подкупленную признан-
ность. Когда такое происходит, сознание «угасает», то есть
выключается из самих экзистенциально значимых
моментов - и как раз в силу этого современное сознание в своей
179
достоверности есть несчастное сознание, в момент своей
интенсификации свидетельствующее о брошенности и
неминуемой смертности. Сюда же входит и противоречие между
ощущением недостижимости счастья и его фантомным
желанием-ожиданием, отменить которое порой не под силу
даже декларируемому показному цинизму. Ибо легко быть
циником в отношении устремлений других, и совсем иное
дело, если речь идет об ожидании собственного счастья.
Здесь, в этом месте, круговая оборона от мира
принципиально разомкнута: если присмотреться, мы увидим все
ту же беспомощность в отношении надежды на счастье
и фатальной неспособности его распознать. Цинизм, увы,
непригодное средство для утоления фантомных болей,
в данном случае это скорее дополнительный
осложняющий симптом, свидетельствующий об осколочном поэзисе
бытия-в-мире, о расщепленности сенсориума,
утратившего функции настройки на некоторые экзистенциальные
технологии.
Имеющийся (ну или сохранившийся) сенсориум
подходит для чувственно-сверхчувственного представления
идеи спасения, он, можно сказать, под нее и заточен. Идея
спасения, обретения жизни вечной, содержит встроенные
механизмы компенсации, в частности, принцип обратной
связи. В «обычном» христианском виде это
последовательная, в том числе и на уровне сенсориума, реализация
тезиса и последние станут первыми. Твоя униженность,
твоя ничтожность в рамках мира сего, телесные страдания
и явное отсутствие признанности принимаются в зачет, на
них начисляется процент божественной благодати, которая
прольется (будет выплачена) post mortem, то есть в
жизни иной, в жизни вечной. Спасение поджидает тебя, если
ты праведен, разумеется, но поджидает не здесь и сейчас,
180
а там и тогда. Но это работающая технология, потому что
в каком-то смысле ты уже спасен - если не от мук
соприкосновения с действительностью, то уж точно от
фантомного счастья с его периодически возвращающимися
болями. Там, где цинизм бессилен, вера в спасение, или просто
вера, выполняет целительные функции, вот почему мы
вправе сформулировать и такое определение фаустовской
цивилизации: это реальность, в рамках которой спасение
души реальнее счастья.
Тут уместно рассмотреть и протестантскую версию
избранности и спасения, которая однажды была
синтезирована и вдруг сработала как экзистенциальная технология
чрезвычайной эффективности. Что означает никем не
опровергнутый тезис Макса Вебера, который гласит, что
протестантская этика породила капитализм? Прежде
всего, это должно вернуть нас к очевидному, но почему-то все
время забываемому обстоятельству: протестантская этика
вовсе не имела намерения «породить капитализм»; она,
несомненно, имела в виду предложить нечто в ранге
смысла жизни, некий аналог, заменитель полноценного счастья.
И поскольку технология счастья пришла в упадок, это
нечто созидается на пути спасения, в рамках доступных
технологий души, претерпевших решающую модификацию,
может быть, мутацию, побочным результатом которой
(эпифеноменом) как раз и оказался капитализм. А что
же явилось прямым результатом? Несомненно, некоторый
строй души, отличающийся и от «нестроения»
(несчастного сознания), и от версии традиционного христианства об
отложенном воздаянии. В модифицированной технологии
Лютера - Кальвина посюстороннее счастье точно так же
недостижимо, но из будущего блаженства и посмертной
справедливости изъят некий элемент уверенности, изъят
181
и имплантирован в реальность каждого дня. Это не что
иное, как признанность в новой редакции. Макс Вебер
в целом, конечно, прав, и в жесткой, несколько
утрированной формулировке можно констатировать: суть
экзистенциально-технологической революции Лютера - Кальвина
состояла в том, что изъятое счастье частично
возвращалось - в той мере, в какой оно могло быть номинировано
в денежной шкале. Прежде (в христианстве и не только)
пожизненная недоплата в деньгах, нищета и нищенство-
вание рассматривались как кредитование будущего, за
которое полагался постоянный процент посмертного
блаженства. Теперь вид кредита меняется, кальвинистская
и вообще протестантская предопределенность - это уже
кредитование из будущего. Индикатором одобренного
свыше кредита является, прежде всего, твой банковский
счет, а его пополнение есть знание, точнее,
доказательство избранности, предопределенности к спасению.
И своеобразный, крайне неожиданный ответ на вопрос
Аристотеля: как узнать, счастлив человек или несчастлив,
пока он не умер? Ответ в версии Кальвина гласит: а
посмотри на его банковский счет, на динамику его изменения,
вот и узнаешь... Если в денежных знаках номинирован
индикатор благополучия - это общее место. Но вот
номинировать в деньгах знаки избранности и
предопределенности к спасению - это уже экзистенциальная технология,
хотя и экзотическая, ничего подобного ни до, ни после не
встречалось в тезаурусе моральных принципов
человечества. Главное, что она оказалась эффективной, без
применения этой технологии капитализм - таким, каким мы его
знаем, - и вправду оказался бы немыслим.
Однако считать протестантскую модификацию спасения
некой новой версией счастья тоже не следует. Специфиче-
182
екая признанность, даже выходящая за пределы
банковского счета, распространяющаяся на шкалу дельных
качеств и фиксированного профессионализма, далека от того
бытия-в-признанности, которое требуется для счастья. Да
и сами носители этой моральной установки не определяли
соответствующее желанное состояние как счастье, по
отношению к нему сохранялась традиционная для праведного
христианина подозрительность. Кроме того,
предопределенность к спасению, опирающаяся на посюсторонние
индикаторы, конечно же, не выдержала бы никакой проверки
в качестве знания. Ее разоблачил бы не только Сократ, но
и любой моралист Нового времени, поэтому
соответствующая установка преднамеренно не эксплицировалась
(понадобилось 400 лет, чтобы Макс Вебер ее сформулировал
и озвучил) - но неукоснительно выполнялась. Что не
приносило счастья, но в известной мере успокаивало
несчастное сознание.
И счастья в личной жизни
Так звучит пожелание, произнесенное миллионы раз,
но утрата популярности этому пожеланию явно не
грозит. Тем самым приоткрывается некая очевидность идеи
счастья, вытекающая из русской этимологии этого слова:
со-участие, собственная часть в чем-то более
обширном, превосходящем человеческую отдельность. Фактор
со-участия очевиден, бытие другого присутствует во всех
гранях нашего чувственно-сверхчувственного
многогранника. Даже телесная фиксация удовольствия отсылает
к фигуре другого, если она хоть как-то психически
расшифровывается: как известно, и аутоэротические
фантазии связаны желанностью другого или собственной
183
желанностью в глазах другого. То есть и этот компонент
счастья включает со-участие.
Для счастья нужны минимум двое, но причастность
исключительно к личной жизни, замкнутость в ней создает
роковую локальность, делающую счастье недостоверным
в качестве общезначимого произведения духа или самой
жизни. То есть без «личной жизни» о счастье говорить
не приходится, но если все устремления и свершения не
выходят за пределы атриума, мы получаем классическое
греческое определение идиота. При этом греки с
готовностью признали бы (и признавали), что тот или иной
идиот очень неплохо устроился, но назвать его жизнь
«счастливой» никому бы в голову не пришло. Как пишет
Ханна Арендт, конец античности характеризовался
распадом прекрасной пропорции между publicum и atrium.
Горизонт публичности, в котором разворачивалось бытие
свободного человека, сплющился и померк, благодаря чему
и атриум потерял свои очертания: масштабы и пропорции
частной жизни подверглись непоправимому искажению*.
Этот же процесс, описываемый с другой стороны,
предстает как осыпание мерности и размывание граней,
составляющих возможный многогранник счастья. Христианство
уравняло в правах частную жизнь с борьбой за соискание
признанности. Фокус внимания решительно сместился на
отношения в среде ближних своих, семья и микрообщина,
собственно, и стали синонимом мира, а дела в Царстве
Кесаревом утратили прежнюю достоверность, и само оно для
бодрствующей души стало столь же отдаленным и
мерцающим, как загробный мир. Впрочем, загробный мир, по-
* См.: Арендт X. Vita active, или О деятельной жизни. — СПб.,
2000.
184
жалуй, предстает более достоверным и осязаемым. И, по
мнению Арендт, вполне справедливому и обоснованному,
именно распад рельефа публичности и персональности,
утрата достоверности всех дистанций как раз и привели
в итоге к специфическому бесстыдству этого мира, к тому,
что сугубо частные моменты жизни каких-нибудь «звезд»
стали непосредственным содержанием публичности; как
следствие, и сфера политики приобрела несмываемые
черты непристойности.
Казалось бы, есть дистанция огромного размера между
христианской переориентацией на приоритетность
отношений с ближними и выворачиванием исподнего в
бесчисленных телевизионных ток-шоу типа «Пусть говорят».
Однако поскольку первое сопровождается разрушением
многомерной конструкции счастья, то и второе
оказывается карикатурной экспозицией одной из проекций, как раз
той, которую мы назвали соучастием, наличие собственной
части в чем-то общем (res publica). Если
многомиллионная аудитория соприсутствует в деталях чужого атриума
(точнее, в деталях интерьера и интимьера), то такое
соучастие в условиях очень плохой видимости, точнее, сби-
тости всех ориентиров нашего многогранника может быть
интерпретировано как субститут счастья. Если же к нему
присовокупить еще зависть, воздействие легких
наркотиков, то неудержимое стремление попасть в шоу-бизнес
действительно можно интерпретировать как стремление
к счастью, в том числе к «счастью в личной жизни»,
невзирая на гипертрофированную публичность. Ведь
доходящая до бесстыдства публичность должна служить
единственно возможной иллюминацией частного (и личного),
других нет, все прочие площадки разрушены, канули в
недостоверность, поэтому неподдельное внимание аудитории
185
к тому, как развешаны твои платья в шкафу,
воспринимается как мостик признанности, соединяющий личную
жизнь и ее прямую публикацию по секрету всему свету...
Вроде бы мы таким образом получаем полную
извращенность, искажение всего, что только возможно исказить
в царстве морали. Однако что-то это очень напоминает,
что-то чрезвычайно далекое, совсем из другой оперы. Я
делаю усилие и припоминаю анахорета-отшельника в
пустыне. Допустим, это настоящий христианский праведник,
тот самый, что питается акридами, ежедневно умерщвляет
свою плоть, денно и нощно борется с соблазнами.
Спрашивается, чем же какая-нибудь звезда телешоу «Дом-2»
может напоминать бескомпромиссного отшельника,
великого мастера аскезы? Что же, сопоставим их модусы
бытия, в которых сосредоточена вся суть присутствия. В
одном случае мы видим непоколебимую уверенность в том,
что цвет трусов и консистенция загара есть достаточный
повод для мира оторваться от своих мелочных дел и
сосредоточить внимание на сногсшибательных коленках,
а заодно и на всех перипетиях отношений с каким-нибудь
Лешей. Никаких сомнений на этот счет у телезвезды нет,
отсюда полная отдача и экспрессия.
В другом случае мы видим столь же убежденного, не
знающего сомнений аскета. У него на ногах тяжелые вериги
и незаживающие раны: это больно, хочется избавиться от
такого обременения. Но ведь дьявол только этого и ждет!
Так вот, он ждет напрасно и, конечно же, не дождется.
Господь приходит на помощь, он придет на помощь и
сегодня и не даст восторжествовать лукавому, врагу рода
человеческого. У нашего аскета нет никаких сомнений в том,
что его вериги и связанные с ними мучения есть вполне
естественный повод для того, чтобы сам Бог следил за ним
186
денно и нощно и вел бухгалтерский учет, отшельник как
бы заставляет Бога пребывать вместе с ним. А значит, его
личная жизнь погружена в божественную среду и имеет
непосредственную божественную составляющую. Таким
образом, эти полярные случаи христианской и
постхристианской цивилизации с позиций греческой эпимелеи (и эв-
демонии) не только в равной степени абсурдны
(бесстыдны), но и топологически близки, поскольку в равной мере
представляют собой непосредственное замыкание личной
жизни и собственной частной телесности на
трансцендентное, а это возможно лишь в ситуации измельчания
рельефа, когда разрушена вся система звеньев, связывавших
atrium и publicum, так что негде выстраивать и даже негде
экспонировать необходимые для многогранника грани. Не
удивительно, что говорить об исподнем перед
многомиллионной телеаудиторией и демонстрировать непосредственно
Богу свои вериги равновозможно в мире, где нет счастья,
а есть лишь «счастье в личной жизни» в качестве
дежурного пожелания. И технология спасения, демонстративно
отказывающаяся от счастья в личной жизни, но взамен
демонстративно предъявляющая небесам несчастье в личной
жизни в ожидании законной компенсации, - это сегодня
единственная хоть как-то работающая экзистенциальная
технология.
И еще одна грань
Обитатели многомерного пространства, в котором
многогранник возможен, те же эллины, скорее всего с
жалостью отнеслись бы к обитателям миров-маломерок вроде
нашего, но они не стали бы вникать в
заменители-субституты. Скорее всего, они указали бы на грань, которая еще
187
не упомянута. Да, задействование тела, без
подтверждения которого счастья нет (боль можно превозмочь, унять,
обуздать, но нельзя сделать компонентом счастья). Да,
признанность - не устоять счастью без этой опоры, если
угодно, без ребра жесткости. Да, самореализация как
способ авторизации мира. Да, со-причастность как соучастие
в целом, в общем деле - важно еще, чтобы конструкция
сопричастности была защищена от коротких замыканий.
Все это так, и все перечисленное необходимо для счастья
в качестве условий sine qua non. Но всего этого мало,
прямо как в строках поэта:
Понапрасну ни зло,
Ни добро не пропало,
Все горело светло.
Только этого мало.
Жизнь брала под крыло,
Берегла и спасала.
Мне и вправду везло.
Только этого мало*.
Надо еще, чтобы тебе выпала удача. Выпала одному из
многих и одному из прочих, что позволили сказать в духе
собеседников Сократа: «Счастье - это счастливый
случай!» То есть ничто из перечисленного не отменяется, но
еще и в довершение ко всему - счастливый случай, шанс,
твой шанс. Это означает, что уже рассмотренная состыковка
граней, которую и саму-то можно рассматривать как
благосклонность судьбы, особенно в совокупности, нуждается
еще в одном совершенно независимом показании датчика
* Арсений Тарковский.
188
случайных чисел: тебе либо выпадет счастливый случай,
либо, при всех твоих усилиях - нет. В этом аспекте идея
счастья пересекается с идеей судьбы, только в случае судьбы
кости уже брошены и ты просто не знаешь исхода, а если
речь идет о счастье, то бросок свершается сейчас и касается
лишь тех, кто пригоден - обладателей недостроенных
многогранников, а не разрозненных фигур на плоскости.
Эта «еще одна» грань, связанная с выпадением или
невыпадением нужной комбинации, настолько важна,
что в некоторых языках счастье в целом определяется как
счастливый случай и есть именно то, что выпадает, а не
свершается или обретается, - таков, собственно,
англоязычный ряд «happy - lucky - opportunity» - так же, как
существуют языки, отталкивающиеся здесь от формата
соучастия в общем деле, например, русский с его счастьем
как со-участием. И лишь теперь, введя дополнительный
параметр удачи или счастливого случая, мы можем считать
перечень составляющих или «образующих» достаточно
полным, впрочем, без достаточной уверенности в том, что
не пропущено еще что-то важное. Понятно, что таким
образом может быть обрисована лишь идеальная
конструкция счастья, такая же, как «идеальный газ» или «черный
ящик».
Эмпирически обретаемое, «все-таки выпадающее»
счастье, понятное дело, не дотягивает до идеализации,
в реальности многогранник всегда недостроен, а иногда
отсутствующие грани как бы обтянуты фанерой. Но
сохранность самой идеализации, так сказать, действующая
гравитация идеальной фигуры, создающая
экзистенциальное силовое поле внутри человеческой повседневности, это
уже немало - фаустовская, постхристианская
цивилизация и этим не может похвастаться.
189
Альтернативы и версии
В обрисованной конфигурации счастья мы ощущаем
непреодолимый привкус античности, мы ощущаем его
несмотря на то, что утеряна комплектация пространства,
в которое мог бы вписаться многогранник, и смыт
внутренний рельеф. Некоторую преемственность мы видим
хотя бы в том, что, в отличие от счастья, несчастье
сохранило свою достоверность.
Греческая эвдемония есть произведение духа,
произведение в рамках формации объективного духа, канон, и
органом такого произведения в античном случае является эпи-
мелея. И наряду с этим грандиозным произведением духа
существуют и авторские произведения - опусы, неуловимо
зависящие от этого всеобщего произведения, практического
эйдоса для сверки бытия как смертных, так и бессмертных.
Но для сравнения стоит хотя бы бегло взглянуть и на
другие образцы экзистенциальных технологий
сопоставимого масштаба. Это, например, «эйдос» безмятежности,
взращенный культурой Вед и буддизмом. Подобная
безмятежность, великая неомраченность существованием,
мало чем напоминала греческое (и европейское) счастье,
хотя она также предполагает множество условий и
схождение взаимно трансцендентных факторов. В европейской
традиции для этого произведения духа отсутствует даже
негативный модус данности типа тоски по безмятежности.
Тем не менее в плане экзистенциальных предпочтений на
уровне решающего выбора безмятежность и счастье
могут быть определены как альтернативы друг другу. В этих
двух многогранниках есть и соизмеримые, и
несоизмеримые участки, но их альтернативность задана не
декларативно, а, в известном смысле, практически, насколько
190
вообще может быть практической и практичной
экзистенциальная технология.
Помимо безмятежности, можно выделить и еще один,
родственный ей проект - но при том вполне
самостоятельный. Это даосская идея недеяния - увэй*. В Ведах и в
общей диалектике неомраченности существованием есть
принцип ахимсы, в буквальном смысле тоже означающий
«недеяние». Несмотря на то что сюда же относится и авидья
(невосприятие), и другие параметры неподпадания миру,
в экзистенциальной технологии большого проекта по имени
Безмятежность ахимса составляет лишь одну грань. В
даосской же традиции увэй является самостоятельным
произведением духа, которое может быть принято к рассмотрению
на весах решающего выбора наряду со счастьем, спасением,
безмятежностью и - список, в действительности, открыт.
Все проекты такого рода имеют утопическую и
практическую части, которые в различных случаях отстоят друг
от друга на разные расстояния и тем не менее составляют
единое целое. Некоторые грани великих цивилизационных
многогранников представляются совершенно уникальными,
другие имеют общие поля пересечения со вполне знакомыми
нам вещами. Скажем, всесторонне проработанная даосская
идея пользы бесполезного и связанная с ней апология
неприметности («быть как серое на сером») нигде больше не
имеют прямых аналогов. В то же время другие грани,
например техники преобразования телесности, могут быть
близки в разных фигурах и взаимно понятны друг другу.
Поразительно, но при более или менее беглом
сопоставлении технология счастья в ее классическом, эллинском
* Секацкий А. К. Чжуан-цзы и даос Емеля // Странствия
постороннего. — СПб., 2013. — С. 215—317.
191
виде предстает как требующая максимальной
виртуозности - так что итоговый многогранник выглядит «самым
многогранным». Технология спасения по сравнению с ней
проста - скажем так, обманчиво проста. Для современных
морально-этических систем гетерономия счастья особенно
чужда своими длинными участками неподконтрольности.
За спасение души ты в основном отвечаешь сам, как и за
обретение безмятежности или конфуцианского принципа
«жень», - но не так со счастьем. В состав этого
чувственно-сверхчувственного многогранника входят большие
прогоны, не зависящие ни от воли субъекта, ни даже от
«своего рода знания». При этом те грани и «прогоны»,
которые точно в нашей власти, в силу стертости следов не
менее трудны, чем аскеза, задействованная во имя
спасения, - получается, что включаемое в экзистенциальную
технологию знание должно быть не менее
фундированным, чем научное знание, хотя, конечно, на свой лад.
Как вынести принципиально неподконтрольные тебе
«технологические операции» - в этом и состоит главная
трудность счастья и его подозрительность. Однако греки
не просто представляли себе все это выносимым и
приемлемым - они могли оценить это произведение духа (не
обязательно в качестве своего собственного счастья) как
эстетически прекрасный объект чистого созерцания. Без
возвращения самой возможности такой оценки о
достоверности счастья говорить не приходится.
2018
Раздел 3
ВОЗВРАЩАЯСЬ
К НАТУРФИЛОСОФИИ
1. КОГДА РАСТАЕТ САХАР
Когда растает сахар
Вопрос о реальности времени прекрасно
формулирует Сартр: «Если на самом деле время реально, то
нужно, чтобы Бог "ждал, когда растает сахар"; необходимо,
чтобы он являлся там в будущем и вчера - в прошлом,
чтобы произвести связь моментов, так как важно, чтобы
Он брал их там, где они есть»*. Перед нами - изящный
контртезис важнейшего тезиса христианской философии,
который гласит: время есть текучий образ вечности. С этих
традиционных позиций вполне достаточно того, чтобы
сахар растворился в воде, любой сахар в любой воде, и Богу
точно нет никакого дела до того, сколько и каким образом
мы помешиваем ложечкой сахар в стакане горячего чая.
И все же может оказаться, что Бог именно в этом, и что
чудо длительности еще чудеснее чуда возникновения,
если вдуматься хорошенько. Следует обратить внимание
на два обстоятельства.
Во-первых, длительностей много, и они различны;
более того, самые радикальные различия как раз и связаны
с длительностью длящегося.
* Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. — М., 2000. — С. 163.
195
Во-вторых, совершенно неверным оказывается
обычный порядок рассмотрения, в соответствии с которым
нечто сначала возникает, а потом «начинает длиться». Или
не длиться. Дело в том, что возникающее возникает из
длящегося, как бы выпадая в осадок. Выражаясь
несколько искусственно, но зато точно, скажем так: по мере того,
как нечто длится, выясняется, что и это есть, и то теперь
возникло.
Богу приходится ждать, когда растает сахар,
поскольку это кратчайший, да и единственно возможный путь
к производству/творению созидаемого в данном случае
мира - полноценного чаепития, неспешного разговора,
пожалуй что, и самой мысли. Как бы Господь мог
сотворить чаепитие, если бы он был столь нетерпелив, что
ограничился бы одной только идеей о растворимости сахара
в воде, одной лишь схемой? То, что действительно стоит
сотворения, стоит тех великих и все еще не окончившихся
шести дней, творится через имманентность длительности
(или «дления», durite), не раз воспетую Мандельштамом
и другими поэтами, об этом же и знаменитые парадоксы
Витгенштейна насчет терпеливой преданности,
продолжительностью в пять минут, и мгновенной нежной ласки...
Но сначала сосредоточимся на другом.
Например, сравним помешивание ложечкой сахара
в стакане с пахтанием мирового океана (Океаноса) с
помощью мутовки Меру, то есть с занятием, посредством
которого сотворил мир Брахма. И попутно зададим
наивный вопрос: а почему наш Господь не сотворил мир сразу,
а потратил на это шесть дней?
Дело в том, что качество времени и степень его
конденсации как раз и являются сутью самых важных феноменов.
Обратимся к Шеллингу, который в «Системе трансцен-
196
дентального идеализма» с присущей ему
проницательностью пишет: «Если бы я мог создать "не-α" вне всякого
времени, то переход от "а" к "не-а" невозможно было бы
представить, так как "а" и "не-а" существовали бы
одновременно. Однако в последующий момент должно быть
нечто, чего нет теперь, лишь тогда возможно сознание
свободы»*. К этому справедливому замечанию следует
также добавить, что в последующий момент должно
некоторым образом быть и нечто, что есть сейчас, например,
прошлое - лишь тогда возможна природа. То есть время
не расставляет феномены на дистанции подобно тому, как
в готовом пространстве расставляются готовые объекты.
Ибо ничего не готово, пока не готово его время. Не готов
чай, пока не растаял в нем сахар... Но возьмем, пожалуй,
более длинную цепочку.
Не готова каша, пока не сварена ее крупа (до этого
каши просто нет).
Не готова крупа, пока не обмолочены ее зерна.
Не готовы колосья с зернами, пока содержащее их
растение не вырастет.
Не готовы растения, пока они не обособились от
простейших форм жизни.
Не готова органическая жизнь, пока она не выстроила
свои организмы из синхронизации регулярностей фюзи-
са - космоса.
Не готов фюзис, или универсум, пока он не выхвачен
и не стабилизирован из мультиверсума, из гипотетического
состояния данности всего сразу.
Так при любом раскладе нужно «шесть дней», шесть
основных этапов хронопоэзиса для того, чтобы сварить
* Шеллинг Ф. Сочинения в 2 т., т. 1. — М., 1987. — С. 428.
197
кашу. Что же удивляться, что для сотворения мира
понадобились те же шесть дней?
На пятом (по глубине залегания) этаже кашу сварить
можно разве что из топора. Но на шестом исключена и
такая возможность, ибо здесь отсутствует не только «каша»,
но и то, что можно с полной уверенностью назвать «не-
кашей» - вместо этого различия одна сплошная каша,
мультиверсум... И творение из ничего (ex nihilo) очень
даже можно себе представить, вот только творить
придется посредством времени, а стало быть, получающееся
«нечто» не может быть сотворено «сразу» - и этого нечто
не может быть больше, чем есть для него времени.
Ну а время, как известно, противостоит данности сразу.
И этот важнейший тезис можно понимать в двух смыслах.
1. В мире всего так много, что оно не может быть дано
сразу - просто не поместится. Не поместится в одной
истине, в одном и том же месте. А и не-α, человек и его
пра-прадед. Вот время и представляет собой очередность
экспозиции - в силу того, что мироизмещение универсума
(всего вообще сущего) невелико.
2. Все то, что есть в мире «сразу» и может быть
представлено сразу, без экспонирования во времени, -
ничтожно. Оно ничтожно и по количеству, и в особенности
по качеству обретаемых в таком случае феноменов. Бог,
пожалуй, мог бы и не ждать, когда растает сахар, он и в
этом случае кое-чем располагал бы... вот Платон
подсказывает: располагал бы эйдосами-идеями. И опять же,
можно было бы подумать, что все прочее, помимо
неподвластных времени идей, суть лишь эффект
экспонирования, эффекты амортизации. Иными словами, только
смертные вынуждены размешивать ложечкой сахар - да
и не в этом ли, кстати, сама суть их смертности?
198
В действительности истина заключена во втором
тезисе, если его правильно акцентировать. Хроноэкспонирова-
ние и есть основная производственная операция в деле
сотворения сущего. В современной космологии ее называют
«инфляционным расширением», и надо полагать, что это
имя не окончательное - но смысл процесса ухвачен
точно. Сначала фиксация одного из миров и его героическое
удержание - если для чего-то и нужен Бог, то, конечно,
именно для этого, для стабильного временения времени.
И больше всего это похоже как раз на неспешное
помешивание ложечкой, когда появляются момент за моментом,
и вновь перемешиваются, и даются в другой явленности.
Пока чай не станет сладким, пока не сварится каша, пока
не намоется пространство, пригодное для подобающего
мироизмещения и для строгой локализации его объектов
в нем, пока не завяжется разговор, ибо лишь по мере
помешивания время обретает нужные кондиции и его
становится возможным «проводить» тем или иным образом. Так
мы обнаруживаем далеко идущую родственность глаголов
«сотворить» и «повременить». Волшебник взмахнул
волшебной палочкой и превратил одно в другое - для этого
как раз пригодны быстрые, вневременные трансформации.
А Господь стал временить, Он по-временил немного, и вот
есть мир со всеми важнейшими его темпоральными
феноменами. Богу досталось здесь самое трудное, но и самое
творческое - ждать, когда растает сахар, что означает
временем временить, что в свою очередь означает
собственно «творить», а не конструировать из готовых элементов.
С точки зрения физики речь идет о постепенной
дифференциации четырех основных типов взаимодействий,
которые, однако, вновь продолжают перемешиваться,
обеспечивая многоцветную картину временения, и неизвестно
199
заранее, когда еще появятся объекты, именуемые
твердыми телами. Но ускорить ничего нельзя по той же причине,
по какой не сварить кашу до появления крупы - и до/для
появления атомов материя должна, так сказать, созреть,
но никуда они, атомы, не денутся, ведь Бог творит,
терпеливо и добросовестно «помешивая ложечкой».
Если же говорить о семиозисе, то ни верность, ни
любовь не создать раньше, чем будет готово требуемое для
них время.
Элементы хронопоэзиса
Нет ничего важнее для новой парадигмы знания, чем
внимательно присмотреться к нашему чаепитию. Мы
видим, что размешивание ложечкой и есть творческий акт по
преимуществу, быть может, его едва ли не лучшая
визуализация. Но визуализация может вводить в заблуждение
благодаря, так сказать, трансцендентальной иллюзии
всегда данного объекта. Чтобы терпеливо ждать, когда
растает сахар, нужно иметь в своем распоряжении ложечку,
стакан, кристаллики сахара и лишь после этого и при
наличии всего этого можно подавать чай.
Но ν Бога дело обстоит не так. Для него само
«помешивание» первично как исходный демиургическии акт
творения из ничего: предпослать первичному акту
объекты и готовые инструменты было бы нелепо. Придется
признать поэтому, что не только чай и разговор за чаем
постепенно, «по мере готовности», кристаллизуются ex ni-
hilo, что в общем понятно - но еще до этого и ложечка,
и сахар, и стакан восстают из помешивания, как Феникс
из пепла. Лишь по мере помешивания временения
осаждаются и объекты, и инструменты, и само различие между
200
ними - стал бы иначе Господь ждать, когда растает сахар!
Тут, пожалуй, чудо хронопоэзиса является максимально
чудесным, и можно вновь вспомнить затруднение
Аристотеля, каким образом, строя дом, каменщик использует
строительные материалы, а каким - строительные приемы
и почему никоим образом не следует смешивать их друг
с другом. Как уже отмечалось, приходится постулировать
некий континуум, в который стройматериалы и
строительные приемы входят на равных, не обладая при этом
какими-либо абсолютными отличиями друг от друга - нечто
похожее на знаменитый континуум Мандельштама, где
«в бездревесности кружилися листы».
Все визуальные способы как-то представить себе
подобное ненадежны, и все же первичность хронопоэзиса
можно понять, его приоритет по отношению к
вторичному упорядочиванию посредством схематизации и
систематизации. На помощь приходят две вещи: диалектика
Шеллинга - Гегеля и квантовая механика, хотя и здравый
смысл может заподозрить свою собственную
недостаточность в привычном понимании. Допустим, мы
выписываем исходные данные для приготовления чая, имея уже
привычку выписывать их для предстоящего
конструирования или сборки. Итак, вот заварка, вот стакан, вот
ложечка, вот сахар. Таковы, стало быть, компоненты, и надо
их соединить, произвести «конъюгацию комплексов»
согласно тектологии Богданова. Все на месте, что еще? Ах
да, растворение-помешивание... Оно выглядит каким-то
странным компонентом, вызывающим досаду, если его
перечислили среди компонентов. Вообще хочется вынести
его за скобки как свидетельство несовершенства, чуть ли
не грехопадения. И мы решаемся без него соединить
компоненты - и вот тебе чай, наверное, такой, каким должен
201
быть сущностный чай Господа Бога - не будет же он,
Всемогущий, и в самом деле ждать, когда растает сахар...
Досада состоит еще и в том, что все остальные
компоненты более или менее однородны, между ними можно
установить логические связи и определенные дистанции,
а «помешивание ложечкой» никак не вписывается в эту
иерархию, оно не соотносимо ни с объемом, ни с
содержанием всех прочих понятий, а также не выводимо из них.
И это правда. Но, может, не стоит пренебрежительно
относиться к атавизму, к вкравшемуся в перечень
деталей реликту? Если «помешивание» не выводимо из
стакана, ложечки, сахара, то, может, они каким-то образом
выводимы из него? Выводимы, конечно, не сразу, а
посредством множества соотношений: исходного положения
с самим собой, затем этого, соотнесенного с самим собой
прежним и вновь соотнесенного с исходным различите-
лем, так что в конце концов, когда все же растает сахар,
все окажется более или менее на своих местах, в
состоянии гарантированной устойчивости: сахарок к
сахарку, ломтик к ломтику, стакан к стакану и подстаканник
к подстаканнику.
И все они, как это ни парадоксально, суть застывшие
образы времени, которые теперь не так просто
поглотить назад, они теперь способны «организовывать чай»
посредством нового комбинирования, стыдливо исключив
«помешивание» из своих логических рядов, но все же
прибегая к нему постольку поскольку.
Вот ведь и элементарные частицы суть наиболее
устойчивые «моды колебаний» суперструн, они блестяще
исполнены вокально-инструментальным ансамблем Универсума,
быть может, благодаря настойчивости Дирижера, не
устающего ждать, когда растает сахар, ибо в том же процес-
202
се временения сахар был когда-то давно кристаллизован
вместе с ложечками и подстаканниками. Физика должна
будет поставить, например, такой вопрос. Готовые
частицы могут теперь синтезироваться (порождаться) другим
способом: значит ли это, что Дирижер может теперь
оставить в покое свою палочку и больше не размахивать ею?
В каком смысле шесть дней Творения закончены? В каком
смысле Бог «почил от трудов своих»? Ведь главным из них
был труд помешивания и ожидания, когда растает сахар...
Для правильного ответа необходимо изучить структуру,
точнее говоря, сложную симфонию шестидневной рабочей
недели.
«Необходимо, чтобы он являлся там в будущем и
вчера - в прошлом», - говорит Сартр, гипотетически выводя
бытие Бога из реальности времени и полагая, что в
противном случае время есть не более чем «форма
внутреннего чувства», как полагает Кант. Что же, предположение
Сартра следует назвать обоснованным за исключением
странности самой формы предположения, выбранной там,
где другие склонны были полагать первую истину всего
сущего.
Являться в прошлом и являть прошлое - это
действительный атрибут Бога. Можно назвать это деянием,
которому больше всего подобает эпитет «божественное».
Опять же можно сказать, что многообразие способов
явленности прошлого лежит в основе сущностного
многообразия вообще. Ведь если мы спросим, как отличить
преданность и верность от неблагодарности, любовь от
равнодушия и пренебрежения, благородство от низости
и даже помешивание ложечкой от самой ложечки -
причем отличить так, чтобы выразить это универсальное
отличие одним словом, - нам придется сказать: по способу
203
явленности прошлого. Или скажем так - путем отсылки
к хронопоэзису вплоть до точки ближайшей изохронии
мира.
Коль скоро прошлое являет собой результат некой
возгонки и переработки времени, то истина в том, что
каждый из Шести Дней был и остается по-своему нужным.
Ни один из них нельзя было пропустить - ведь иначе не
обрести требуемый ассортимент прошлого, все «нужные
прошлые», всё, что необходимо как прошлое именно
сейчас. Недостаточность помешивания приводит к скудости
мира - вероятно, он и был скудным в первые пару дней,
зато дальнейшая динамика растворений, конденсаций
и осадков привела к появлению дистанций, которые в
познании обычно рассматриваются как пропасти
трансцендентного. Вот что об этом у Шеллинга:
«Обозревая еще раз весь ход нашего исследования, мы
видим, что сначала делалась попытка объяснить
предпосылку обыденного сознания, которое, находясь на низшей
ступени абстракции, различает объект воздействия и
воздействующее или действующее; в связи с этим возник
вопрос, как объект может быть определен посредством
действующего на него. На это мы отвечаем: объект, на
который действуют, и само действие едины, а именно оба
они - только созерцание»*.
Здесь все верно, за исключением последнего
положения, которое следует переписать так: оба они - только
время. Скажем, в первый день наблюдатель мог увидеть
только действование, во второй - разглядеть кое-какие
объекты, а пропустив, не отследив работу временения
и всматриваясь лишь в готовый результат, наблюдатель
* Шеллинг Ф. Соч. в 2 т., т. 1. - М., 1987. - С. 443.
204
(в данном случае как раз обыденное сознание) подумал
бы, что все важнейшие объекты явлены сразу и
безразличное фоновое время просто обтекает их.
Таким образом, различие между объектами -
участниками помешивания остается внутри единого хронопоэ-
зиса, выражая его различные, но неизбежные
(неминуемые) стадии. Откуда, однако, возникает их неизбежность?
Придется признать, что из общей ритмики и мелодики
времени, уже выходящей за пределы одного хронопоэ-
зиса. Где ритмика с мелодикой, там и гармония, поэтому
о предустановленной гармонии говорит не только
Лейбниц, о ней вынужден говорить и Шеллинг - именно в тех
случаях, когда соотношения соотносящихся недостаточно,
когда даже самая изощренная имманентность пасует, тогда
и приходится звать на помощь изохронию мира. То есть
сопоставление природы (фюзиса) и познания (семиозиса).
В дальнейшем подобная интуиция постоянно притупляется
наукой, ориентированной на рекомбинацию, на вторичные
соотношения в духе системной сборки - вот что пишет об
этом Шеллинг:
«Если говорить об истории природы в подлинном
смысле этого слова, то природу следовало бы представлять
себе так, словно будучи, по видимости, свободной в своем
продуцировании, она постепенно производит свои
продукты во всем их многообразии посредством постоянного
отклонения от одного их изначального прообраза, а это
было бы не историей объектов природы (таковой
является, собственно говоря, описание природы), а историей
самой производящей природы. Какой увидели бы мы
природу в такой истории? Мы увидели бы, что она различным
образом распоряжается как бы одной и той же суммой
или соотношением сил, выйти за пределы которой она не
205
может; увидели бы, что в своем созидании она свободна,
но отнюдь не стоит вне всякой закономерности»*.
В этом смысле у природы, конечно, нет истории. Мы
видим в ней виртуозное распоряжение одной и той же
суммой, описание этого «распоряжения» как
динамического аттракциона представлено и Шеллингом, и Гегелем,
важные поправки внес Сартр. Изохрония прослежена и на
ранних этапах, где осуществляется полагание чистой
продуктивности с одной стороны (со стороны физиса), и со
стороны семиозиса и смыслогенеза, - и все же то, что для
человека (для сознания) есть историческое, для природы
есть просто отпавшее.
Обретение полноты, исполненности времен, совсем не
обязательно должно иметь финалистский смысл - скорее,
всякий финализм означает наступление непоправимого
дефицита времени. Исполненность времен гораздо ближе
к пониманию Сартра, она означает наличие и тех, и этих
моментов, и их соотношение. «Одиссей возвратился про-
странством и временем полный»XÄ - вот истинное
поэтическое свидетельство исполненности времен.
То есть речь идет об очень важной для понимания
времени вещи, о пополнении ассортимента наличного
прошлого. Такое пополнение дает история, она же его и
иллюстрирует. Хронопоэзис, в котором временение достигло
плотности или интенсивности истории, содержит в себе
гораздо меньше отпавшего, здесь бережнее относятся
к снопу искр, не допуская застывания всех брызг времени.
Восстающее и востребуемое прошлое открывает новые
горизонты, отправляя доживать недорассказанные истории,
* Шеллинг Ф. Соч. в 2 т., т. 1. - М., 1987. - С. 452.
'* Осип Мандельштам.
206
и они возвращаются, вклиниваются в свой черед благодаря
изохронии мира (предустановленной гармонии) и
благодаря сложной искусной композиции, для которой ничего
не предустановлено и изомеров не существует. С позиций
онтологии, и в частности хрономонизма как ее наиболее
строгого и радикального варианта, во всем универсуме не
существует ничего более инновационного, чем история.
Как высший пилотаж хронопоэзиса, история есть
и безусловный творческий акт. Творение, которое не было
бы временением в той или иной форме, оставаясь всего
лишь рекомбинацией, было бы недостойно своего имени.
Мир, который можно было бы сотворить не только из
ничто (из ничего), но и сразу, не так уж сильно отличался бы
от этого презренного ничто - ведь в нем отсутствовали бы
важнейшие феномены, сущностно причастные времени,
в том числе и разнообразие ассортимента прошлого: были
бы в наличии лишь те феномены, для которых время
является всего лишь параметром их амортизации.
Возьмем популярные сегодня версии, что все
происходит лишь в сознании Бога, что данная нам реальность
есть просто мысль творца, то, что он мыслит (в некоторых
вариантах - его сновидения), или то, что человеческие
события разворачиваются внутри Бога-компьютера. В
наиболее полном и продуманном виде (до сих пор в наиболее
полном, несмотря на отсутствие компьютеров) подобная
модель была представлена Джорджем Беркли. Там под
видом «вещей» мы созерцали идеи Бога, имеющие для нас
статус реальности, поскольку Бог всемогущ и ему ничего
не стоит придать своим идеям такой статус, в частности,
придать им вне-находимость. Помимо идеи «бесконечного
существа» мы имеем дело также с идеями конечных духов,
то есть с мнениями и образами друг друга, и они, конечно,
207
призрачны по сравнению с идеями существа бесконечного
и всемогущего.
Берклианский солипсизм неопровержим
имманентным способом, поскольку у нас нет абсолютной точки
отсчета, которая была бы вне сознания подобного Бога.
Бог Беркли опровергаем, скорее, в силу его скудости
и минимализма - в гарантированном им мире нет ничего
по-настоящему нового, а значит, нет и подлинного
творения. Имя Творец тут оказывается излишним, достаточно
имени Сновидец. В лучшем случае Наставник, который
вводит время для нас - из неких педагогических
соображений. Если творение есть всего лишь спецредакция
или популяризация вечных сущностей для конечных духов
(для смертных существ), то цена ему невелика и стимулы
Творца к творению неясны. Стало быть, именно время как
временение является сутью творческого акта, ибо в
противном случае не возникает никакой творческой новизны.
Тут следует задать вопрос в духе Бернарда Клервос-
ского: создал ли Господь меня для себя или для меня? На
первый взгляд ответ очевиден: если Бог создает меня для
Себя, сохраняя при этом свободу воли, то весь смысл
этого деяния будет заключаться в пари: выберет ли
свободный человек своего создателя или уклонится от этого тем
или иным способом? Тогда случай Иова будет решающим,
речь идет о трансцендентных азартных играх на высшую
ставку. Мы созданы и поставлены на кон, и лишь те, кто
«отыгран назад», относятся к спасенным, к праведникам,
все прочие ставки потеряны для Бога, то есть мертвы. Сама
же Игра, как не трудно догадаться, заключается в
испытании (в искушении, соблазнении). Так или иначе, горстка
праведников оказывается ничтожной по сравнению с
бездной потерянных ставок.
208
To есть похоже, что сотворение меня для Себя (для
Него) не вяжется с идеей Бога. Значит, все-таки Господь
сотворил меня для меня? Тогда с бескорыстием и
милосердием вроде все в порядке, но все же в чем мотивация?
Зачем Ему воспитывать и учить во времени, не вложив
напрямую в венец Творения того, чем Он сам обладает? Бог,
создавший меня для меня, мог бы этого и не делать и, во
всяком случае, не ждать шесть дней реализации замысла.
Все предстает в новом свете, если допустить, что Бог
создал меня для Себя, но не как изделие, ничего не
прибавившее и не убавившее в Нем, а в рамках собственного
аутопоэзиса, самосозидания. Тогда гордый девиз человека
мог бы звучать так: без меня мир не полон, а Бог не
всемогущ. В этом самосозидании важны все последовательности
моментов и все их соотношения, ибо лишь таким образом
происходит приумножение бытия, так складывается
история и открывается перспектива. И нельзя сказать, что все
это у Бога уже есть, если у него нет времени, ведь все это
эффекты времени как временения.
По сути лишь история есть источник творчества для
Бога, лишь в ней Творец может обрести то, чего у Него
нет, - обрести новое, и вовсе не за счет перебора
вариантов, поскольку вполне можно допустить, что все
исходы-варианты у него уже есть, а за счет исполнения и
восполнения времен. Вот, скажем, новое полномасштабное
настоящее - откуда оно возьмется? И не будет ли вся
новизна заключаться лишь в том, что меняется «расходный
материал» поколений?
Нет, ибо в его распоряжении иное прошлое,
высвечивание, привлечение в хроноэкспозицию тех элементов,
которые прежде в настоящем никак не
присутствовали. Новая жизнь сохраненных моментов - отрывочных,
209
депонированных историй - они и не могли бы
состояться, если бы другие, опередившие их моменты не истощили
себя, не высказались бы до конца. Чтобы мы стали
свидетелями тридцатилетней преданности, прошедшей через все
испытания, необходимо много чего, чтобы поразить мир
такой преданностью, стойкостью и упорством, - но, само
собой, необходимы прежде всего эти тридцать лет. Без
этого сам Бог не сможет засвидетельствовать чудо
беспрецедентной тридцатилетней преданности.
2016
2. ДИАПАЗОН ИСТИНЫ
1
Познание несет с собой определенные последствия для
познающих, они, эти последствия, и интересуют в первую
очередь гносеологию как теорию познания вообще. В
соответствии с этой установкой (классификация последствий
для познающих) принято различать глубокое и
поверхностное познание, приоритет истины перед заблуждением
и другие подобные, действительно важные вещи.
Развитие знаний и распространение науки (и техники) тоже
рассматривалось с позиций познающих. Но. Что, если все же
взглянуть с позиций познаваемого, того, что подвергается
познанию и познанию подлежит?
Будет ли справедлив такой тезис: истинное познание
не является значимым событием для самого «истинно
познанного», оно, как и всякое познание, остающееся только
познанием, ничего в познанном не меняет. Вот если в
процессе познавательных действий пришлось бы разворошить
познаваемое множество, тогда другое дело, но, к счастью,
познавательные усилия ничего не изменили в предмете
познания, и это значит, что познание гомеопатично, а
высшая истина трансцендентна.
211
И все же уместно спросить и так: для всякого ли
сущего, как познаваемого, осуществляемое «над ним»
познание проходит безнаказанно? Если задать такой вопрос, то
сразу становится понятно, что нет, что лишь для сущего,
включенного в природу, простая познаваемость
познающим ничего не убавляет, и только такое пространство от
сих до сих мы и можем назвать диапазоном истины.
Вырисовывается следующее утверждение. Скользящая
бесконтактная рефлексия пронизывает сущее не везде,
а именно «от сих до сих», и лишь то, что таким образом
проходимо для познания, именуется природой - вполне
в духе Канта. Соответственно, за указанными пределами
истина меняет свой статус, если вообще остается
истиной, - вот над чем следует задуматься.
2
С «левой» стороны, или за одной кромкой фюзиса,
располагается так называемый микромир, и то не весь.
В действительности это еще «недо-пространство», не до
конца соотнесенное с самим собой бытие, выражаясь по-
гегелевски, даже не обладающее достоинством простой
наличности. А раз так, то истина здесь еще не
оформилась, в ней еще нет самой «спасенности», Aufheben.
По описаниям квантовой механики перед нами
довольно причудливые объекты: квантовые ансамбли,
суперпозиции, квантовые нелокальности, и даже предварительная их
классификация пока еще дело будущего*. Но применяемое
к ним познавательное усилие оборачивается декогеренци-
* См. подробнее: Коэн-Таннуджи К., Диу Б., Лапоэ Ф. Кван
товая механика. Т. 1. — Екатеринбург, 2000.
212
ей, и после его применения объекты вида (nT, ni) уже
не остаются теми же самыми, они расщепляются, навсегда
утрачивая прежнюю комплектацию*.
Так дело обстоит по левую кромку от устойчивого
универсума, когда «мультиверсум» уже остановлен в своем
безграничном ветвлении, но истина еще не задана, для нее
нет устойчивого сущего, поскольку еще ничего нельзя
безнаказанно замерить.
За правой гранью диапазона знание вновь перестает быть
нейтральным в той мере, в какой его объекты становятся
субъектами. Тут всякие «выведение на чистую воду»,
выведывание, вынюхивание etc. наносят онтологический ущерб
субъекту, ибо разрушают его комплектацию. И вновь какая-
нибудь прекрасная, трепетная «ролия» выводится на чистую
воду безжалостной истиной в виде приговора. Но она не
становится даже розой, ее удел быть цветком увядшим, безухан-
ным, говоря словами Пушкина...
Лишь то, что не денатурируется познанием напрямую,
является природой. Это, пожалуй, неплохое определение
в дополнение к «миру регулярностей и повторений», то
есть к надежно удержанному и хорошо темперированному
универсуму, это как раз то, что пронизывается скользящей
рефлексией поп stop, притом так невесомо, что следую-
* Процедура Einselection, то есть определенного выбора
(выбора для познания, например) приводит к «раскомплектации» объекта.
Скажем, из условного объекта «ролия», похожего то на розу, то на
лилию, можно извлечь, допустим, розу, но такая познавательная акция
отнюдь не будет безнаказанной, и на «лилию» материи не останется.
Такова уточненная и дополненная формулировка закона сохранения.
213
щее познавательное усилие застает познаваемое в том же
состоянии, что и предшествующее. Поэтому истина не
сопротивляется проверке, все сосчитанное можно пересчитать
и еще раз пересчитать - но только если речь идет о природе,
о естестве. Легко заметить, что этому принципу
соответствуют оба попперовских критерия, и верификация и
фальсификация. Последний требует указания ситуации, скажем,
решающего эксперимента, при определенном результате
которого теория становится ложной. Но если познавательное
усилие, в частности эксперимент, меняет структуру
познаваемого, подобное требование становится бессмысленным.
Ведь если линейные размеры стола можно измерять снова
и снова, то с котом Шредингера такое уже не получится.
Одновременно с диапазоном истины определяются и
границы естества: по одну сторону уже простое
сверхъестественное, по другую еще как бы «недоестественное».
И на вопрос «познаваем ли мир?» придется ответить
так: да, в той мере, в какой его не разрушают измерения
и другие познавательные усилия. Тут, конечно, можно
отметить странный парадокс: так, спрашивая, съедобен ли
гриб, мы вдруг слышим ответ: да, в той мере, в какой он
защищен от съедения. Смешно, но с познаваемым миром
дело обстоит именно так. Это значит: либо он, мир, так уж
радикально отличается от гриба - что вряд ли, либо
познание не имеет ничего общего со съедением - что, пожалуй,
придется признать. Придется даже предположить, что
познание - это некое антивзаимодействие, а истина - это
съедобность несъеденных грибов. Тем самым диапазон
истины получает некую дополнительную определенность.
Стало быть, истина еще и функция времени, точнее
говоря, хронопоэзиса; она становится возможной и
определяется не сразу. Вначале должны быть выполнены
214
важнейшие тавтологии, проведена массированная декоге-
ренция, и лишь закрепленный таким образом универсум
оказывается защищенным от измерений и от
познавательных процедур со стороны.
Сознание, рожденное вторым взрывом семиозиса, еще
слишком юно и потому не защищено от измерений и уж
тем более от «выведываний». Безнаказанно измерять
можно только объект простой комплектации, типа (п есть п),
к счастью, так называемый макромир преимущественно из
них и состоит, но квантовые ансамбли (пТ, п4<) и
субъекты, обладающие душой, утрачиваются или видоизменяются
в результате измерений.
4
Отсюда следуют любопытные выводы и
практического, и метафизического плана. Так, если «натура» есть
островок безнаказанной измеряемости, и лишь потому
о ней возможно истинное познание, то «мир сделанного»
есть как бы заповедник внутри заповедной натуры*.
Сделанное - это огороженная территория истины, ибо здесь
снимать мерку и тиражировать можно сколько угодно,
все объекты словно предназначены для этого. Поэтому
прав был Мамардашвили, когда говорил, что мы
познаем не столько сделанное, сколько сделанным, например,
отыскиваем подобия сделанного в природе и измеряем их
подобно вещам человеческого обихода. Зрелая природа
поддается этим процедурам - ведь в ней задан диапазон
истины, хотя эталон истины задан вне ее.
* Мамардашвили М. Классический и неклассический идеал
рациональности. — М., 1984.
215
Иной статус имеет искусство - оно отличается и
должно принципиально отличаться от сделанного, оно
«нерукотворно». В свое время Ю. М. Аотман подчеркивал,
что в основе искусства лежит функция решающего выбора
(то есть тот самый Einselection, посредством которого из
ветвления миров образуется самотождественное сущее).
Коряга, найденная в лесу и изъятая из леса, и есть тем
самым объект искусства per se, продолжительность
«доводки» зависит от исторических обстоятельств. Если бы
компьютер генерировал свободный поток словосочетаний,
то поэтом (художником) был бы тот, кто мог бы
выхватывать нужные, ибо какая разница, откуда выхватывать, из
смутного опыта памяти или из спонтанного потока?*
Однако здесь есть один принципиальный момент,
устранение которого устраняет и искусство. Дело в том, что
избранный объект остается сингулярным. Поэзия, в
отличие от логики, не указывает условий, при которых может
быть получен точно такой же объект. Собственно говоря,
эти условия в момент изъятия исчезли и лишь потому
искусство состоялось. Что же касается истинного познания,
то его можно считать состоявшимся как раз в том случае,
если условия его обретения никуда не исчезают.
Парадокс сингулярности в искусстве сопоставим с кор-
пускулярно-волновым дуализмом. Вот художественный
объект, например, скульптура в городском парке. Этот
объект, во-первых, выдернут из не-художественности:
ведущие к нему тропинки, валяющиеся рядом стаканчики
из-под мороженого и лежащие камни, растущая вокруг
трава - искусством не являются. Пока условия аналогич-
* См.: Лотман Ю. М. Статьи по семиотике культуры и искусства.
(Каноническое искусство как информационный парадокс.) — СПб.,
2002.
216
ны и для истины, и для искусства. Но скульптура, как
произведение искусства, сингулярна: если мы найдем
ее и в другом парке, и в третьем, и вообще в каждом,
она перестанет быть объектом искусства и станет просто
атрибутом парка, как трава, деревья и тропинки. В
случае истины имеет место обратное: если мы не найдем
истину в окружении тех же интерьеров, если она будет
попадаться в них только от случая к случаю, то она и не
истина вовсе. Этим прекрасное (красота) отличается от
объективной истины.
Однако трудности и странности тем самым еще не
исчерпываются. Аналогом картины интерференции света
выступают два несовместимых и нераздельных
эффекта: нередуцируемость и тиражирование, так что Вальтер
Беньямин в изучении искусства сделал то же, что Бор
и Гейзенберг в исследовании природы. Подумаем вот
о чем. Уничтожить произведение искусства можно
двояким образом: либо стереть его с лица земли (из памяти),
либо растиражировать. Это кажется понятным, ведь и в
том, и в другом случае исчезает сингулярность, не столь
очевиден вопрос: какое истребление будет радикальнее?
Физическое уничтожение сингулярного объекта вроде
бы непоправимо, есть горький список безвозвратно
потерянных шедевров. Однако феномен зияющей пустоты,
взывая к реставрации, актуализует некую волновую
функцию искусства: поиск утраченной сингулярности это такое
же дело художника, как и создание новой. Более того, быть
может, именно утраченная сингулярность уже
неистребима ее тиражированием в смысле версий восстановления.
Не так в случае репродукций. Вот Пушкин
совершает свое выхватывание, предъявляя сингулярный
объект - стихотворение:
217
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
Это обращение к Анне Керн, изымающее и
увековечивающее ее сингулярность. Она - та единственная женщина,
образ и повод, она утраченная физическая сингулярность,
чья поэтическая сингулярность не утрачена - и сколько бы
ни перепечатывали это стихотворение, его вещая сила не
убудет. Но предположим, что кто-нибудь из пушкинистов
вдруг совершает открытие, состоящее в том, что у поэта,
оказывается, было обыкновение после обретения
эротической благосклонности присылать это стихотворение каждой
покоренной даме: «Я помню чудное мгновенье» - и далее
по тексту. Будет ли в таком случае закреплена поэтическая
сила воздействия великих строчек? Ведь в случае истинного
познания истина, несомненно, восторжествовала бы от все
новых и новых подтверждений. Но искусство расположено
за пределами диапазона истины познающих, поэтому
парадокс разрешается смехом, ибо именно смехом
сопровождается такого рода разрушение сингулярного объекта
искусства. Таким образом обнаруживается еще одна важная
особенность истины: она может быть сияющей,
ошеломляющей, печальной, суровой, упрямой, но похоже, что истина не
может быть смешной...
Что, собственно, претерпевает искусство в эпоху его
технической воспроизводимости? Ну, прежде всего,
характерное расслоение. Множество объектов выбывает из
состава искусства, поскольку, обладая всеми признаками
прекрасного, они лишены сингулярности. Такова,
например, вся бижутерия мира, россыпь экземплярности,
218
в которой такое же и то же самое совпадают. В других
случаях сохраняется (удерживается) отличие оригинала от
копий: тут можно было бы сказать, что все копии
являются распечатками, однако и оригинал в своем правовом
бытии всего лишь привилегированная распечатка,
например, такая, на которую нельзя указать пальцем. Как раз
здесь искусство хранимое и искусство творимое
образуют разные эшелоны: вместо произведения искусства мы
получаем его копию или экземпляр - но это означает, что
новое, творимое произведение искусства будет признано
таковым, обретет признанность как раз в том случае, если
удостоится копирования, при том что каждая отдельная
копия произведением искусства не является.
5
Теперь мы уже можем поразмышлять над тремя
вопросами сразу, сведенными воедино.
Съедобен ли гриб?
Познаваем ли мир?
Уникально ли произведение искусства?
Пожалуй, последовательность ответов будет примерно
такова. Гриб съедобен, если был съеден - то есть если он,
в качестве объекта, исчез, а с субъектом ничего не
случилось.
Мир познаваем, если после примененных усилий
познания он остался неизменным (новый акт познания застанет
его в том же виде), а субъект изменился - стал знающим.
Произведение искусства уникально, если к нему
применяются усилия тиражирования (что-то между
поглощением и познанием), а полученные результаты, сколько бы их
ни было, не аннулируют онтологический статус оригинала.
219
Тут открывается простор для множества замечаний,
например: мир может оставаться познаваемым, даже если
он не познается, если акт познания депонирован так, что
до него рано или поздно дойдет дело. Но произведение
искусства не может оставаться уникальным (и даже
оставаться искусством), если оно не копируется, хотя бы на
уровне восприятия. То есть его причастность времени
задана более строго.
Далее. Рассмотрим пограничные для искусства случаи
некопирования и копирования, преобразующего
сингулярность в регулярность. Искусство расположено между ними,
то есть, подобно истине, имеет собственный диапазон.
Слева пребывает неискусство, оказавшееся таковым по
причине «неискусности», так сказать, графомания, какофония
и мазня. Возникающие подобным образом опусы не
копируются и не тиражируются, хотя бы потому, что это никому
не приходит в голову. Справа мы имеем дело с индустрией,
здесь копирование разрушает (устраняет) сингулярность
объекта - из-за чего, несмотря на любую «искусность»,
объект - будь это серьги, необычайной красоты обои,
изысканная сумочка - остается всего лишь бижутерией.
Остается узнать, как же соотносятся эти диапазоны
истины и красоты. Но прежде следует вникнуть в одно
загадочное обстоятельство: каким образом тиражируемое
произведение искусства вообще может сохранять свою
сингулярность? Ведь именно эта парадоксальная
способность делает объект произведением искусства.
Прекрасные кучевые облака не относятся к произведениям
искусства только потому, что они не копируемы, вот почему
оригинальным произведением искусства может быть
только их изображение, а не они сами. Боги, которые могли бы
ваять кучевые облака и грозовые тучи, несомненно, состя-
220
зались бы за звание лучшего художника, но вопрос в том,
могли бы смертные отличить, имеют ли они дело с
оригинальными произведениями или репродукциями? Так или
иначе получается, что в основе защищенности от
профанирующего копирования лежит конвенция. Для художника,
создающего гравюры, скажем, пять первых оттисков
считаются авторскими, для поэта оригинал-макетом является
его стихотворение, для композитора - партитура, но тут
список начинает двоиться и впадать в неопределенность:
а для дирижера? А для актера? Или вот для режиссера
звукозаписи - почему его опус не является
художественным произведением? Вся эта неразбериха лишь
подтверждает конвенциональную природу правого края, что,
однако, не отменяет самого диапазона сингулярности,
сопоставимого с диапазоном истины, но одновременно и
несопоставимого с ним.
При всех различиях и даже противоположностях мы
получаем как бы два съедобных именно по причине
своей «несъедаемости» гриба: истина - это неисчерпаемая
регулярность, а искусство - неисчерпаемая
сингулярность. При этом важно отметить, что ведь и регулярность,
и сингулярность могут быть исчерпаемыми. Так рутинная
человеческая жизнь разворачивается в простой
исчерпываемой регулярности и в исчерпывающейся сингулярности
присутствия. Она, тем самым, безыскусна и неистинна как
целое, но в этом и состоит чудо витальности.
6
Ситуация меняется, если мы проведем водораздел
внутри самой сферы познавательных усилий.
Результатом применения познавательных усилий в общем виде
221
будет приумножение неисчерпаемой регулярности - ведь
и наши познания отличаются от объектов природы как
минимум такой же неизнашиваемостью. Сопоставим два
тезиса:
Сколько бы Земля ни притягивала Луну, Луна от этого
не убудет.
Сколько бы слово, взятое из словаря, ни входило в тот
или иной контекст, ему не грозит никакое истощение.
Второе утверждение выглядит даже еще более
очевидным: если в процессе притяжения и притягивающие
друг друга объекты, и само притяжение еще, быть может,
как-то расходуются, то в процессе означивания
означающее продолжает означать, нисколько не расходуясь при
этом, - похоже, что подлинная, неисчерпаемая
регулярность достигается только здесь.
Однако если речь идет об усилии познающих, о
воспроизводимом усилии ego cogito, регулярность
нарушается, причем нарушается принципиально. Скажем так:
правдоподобие выстраивается методом приближения,
на основе уподобления истине - но все дело в том, что
истина не подобна самой себе. Как событие постижения,
познание от первого лица, истина должна свершиться
как бы впервые: какую бы неисчерпаемую регулярность
она ни открыла, она, истина, должна быть личной
сингулярностью для меня, иначе событие познания вообще
не случится. Иными словами, истинное познание, не
меняя ничего в познанном, радикально меняет самого
познающего, и без совместного соблюдения этих двух
условий истинное познание (познание истины)
невозможно. Отсюда уже напрашивается переход к отходам
творения, но сначала следует рассмотреть еще один
вопрос.
222
7
Предварительно очерченный диапазон истины можно
признать значимым для нашего разума и разума,
подобного нашему. А если прибегнуть к логике иных возможных
миров? Возможно ли познающее существо, которое могло
бы осуществлять безнаказанное познание в ином
диапазоне? Например, постигать суперпозиции без их разрушения
и, следовательно, свободно прогуливаться в мире
мерцающих «ролий», а заодно одомашнить кошку Шредингера
и слушать по ночам ее мурлыканье?
Каков, например, диапазон истинного познания
всемогущего Бога, если исходить из того, что ему
приписывается? Размышление над этим вопросом приводит к довольно
интересным выводам: данный диапазон, по-видимому,
вообще не включает в себя диапазон истинного
человеческого познания, он является принципиально иным. Так,
например, объекты макромира Бог не может мыслить иначе,
чем они суть есть, ведь тогда получилось бы, что объекты
эти могли бы быть не тем, чем Бог их мыслит, то есть
пришлось бы признать, что Бог может ошибаться и
ошибается. Стало быть, невозможно их безнаказанное познание,
а значит, бессмысленно в этом случае говорить и об
«истинном познании», просто потому, что оно ничем не
отличается от истинного бытия, иными словами, от Бытия. Бог
не ведает лжи, что само собой разумеется, но, возможно,
он не ведает и того, что осыпалось в отстойник
эмпирической осуществленности. Познаваемые нами объекты в их
неуточненной экземплярности суть своеобразные
«крошки на полу», образовавшиеся в ходе и в результате
творения. Статистический разброс вполне может указывать на
разбросанность божественного мусора. Все отпавшее от
223
Бога существует исключительно лишь в силу отпадения, то
есть пока Бог не знает об этом; ведь ясно, что истинное
познание Бога устранило бы разброс, исключило бы
ложные положения.
Таково и очевидное и принципиальное несовпадение
диапазонов, однако это еще не все. В то время как для
человеческого познания выход из диапазона истины и
переход через «правый край» сопровождается разрушениями,
для Бога, похоже, дело обстоит не так. Мы ведь не зря
говорим: «есть вещи, которые можно доверить только
Богу», или «это знает только Бог», или «только я и Бог».
Тут важно, что знание Бога ни в чем мне не
препятствует, а вот чье-то иное знание вполне могло бы оказаться
для меня разрушительным. Стало быть, для Бога и даже,
в духе Канта, для иного возможного разума, чем наш,
доступно истинное познание наших душ, тогда как для
человека, для простого смертного, чужая душа - потемки.
Упрек Аглаи в «излишней догадливости», адресованный
князю Мышкину, мог быть адресован любому человеку, но
не Богу. Таким образом, истинное познание Бога не
разрушает наши души, хотя оно уничтожило бы все скрытые
от Божественного познания крошки творения (очистило
бы мир от мусора), все статистические разбросы - для нас
они все же находятся в диапазоне истины и даже являются
привилегированной сферой, в которой выполняется
принцип «знание - сила».
А объекты, находящиеся за левой кромкой
диапазона истины, ведомы ли они Богу и в какой степени? Для
квантовой механики этот вопрос, конечно, лишен
смысла, но для метафизики в духе Шеллинга - не совсем. Там
мерцающие соотношения, еще не отпущенные в
окончательное отпадение, пребывают в исходной продуктивности
224
и даже являются способом ее собственного пребывания
и даже познанием; в некотором спекулятивном смысле Бог
как исходная продуктивность знает суперпозиции, а
всякое познание извне есть декогеренция, приводящая к
отпадению, к тому, что крошки экземплярности осыпаются,
выбывая из состава знания Бога. Наш устойчивый мир
как раз и состоит из устойчивой, осыпавшейся
экземплярности; в отношении элементарных частиц это еще не
очевидно, поскольку еще нельзя установить, тот же перед
нами электрон или просто такой же, но вот уже атомы
как следующий уровень экземплификации перемещаются
в диапазон человеческой истины, выпадая из сферы
истинного познания Бога. Мы не можем доказать, что Богу
нужно ровно столько атомов, и значит, в своей случайной
совокупной численности они и впрямь напоминают
крошки, упавшие со стола.
Сравнение диапазонов ставит вопрос о возможном
пространстве совпадения: что бы это могло быть? Сразу
напрашивается ответ: математика, и тогда мы можем
определить ее как единственную область пересечения,
входящую в диапазон истинного познания и Бога, и человека.
Выражение «Бог мыслит на языке математики»
использовалось неоднократно, но что оно может значить?
Имеет ли к этому отношение то, что принуждение к согласию
в математике является беспрецедентным, что подобная
степень согласия недостижима за пределами математики?
Присмотримся к математическим объектам с точки зрения
уже упоминавшихся критериев. Неисчерпаемость здесь
явно доведена до предела, математические соотношения
таковы, что в принципе «не знают износа»: если опять-
таки гравитационное соотношение между двумя
объектами может как-то измениться со временем - выдохнуться,
225
«зачахнуть», износиться, - то соотношению между
квадратом гипотенузы и суммой квадратов катетов это явно не
грозит. Сколько ни возводи в степень такой
математический объект, как число, оно от этого не убудет.
И все же это скорее неисчерпаемая сингулярность,
чем неисчерпаемая регулярность. Ведь неисчерпаемая
регулярность Богом только допущена, и пожелай он ее
истинно познать, стохастический разброс был бы
прекращен. Но все остальные истины Бога, кроме
математических, для нас трансцендентны. А в отношении
математики можно сказать, что, хотя ее объекты сингулярны,
но человеческому разуму даны непреложным образом,
мы не можем произвольно изменить число этих великих
сингулярностей. Человеческие «художества» в
математике наименее допустимы, а вот Бог именно в математике
выступает как художник. Он создал настоящее
произведение искусства, ибо сколько ни тиражируй его
неисчерпаемую сингулярность, с Оригиналом все равно ничего
не произойдет.
8
Итак, интересующий нас диапазон представляет
собой привычный и хорошо приспособленный для познания
интерьер. Это, так сказать, гладкое когнитивное
пространство, за пределами которого расположены квантовые
объекты вида а также субъекты со своей
субъективной жизнью. Но нет ли внутри гладкого пространства
зон повышенной странности, своего рода черных дыр?
Мы можем представить себе, например, электронное
табло, соединенное с видеокамерой, которое меняет свой цвет
или картинку в зависимости от количества взглянувших на
226
него. И вот исследователь желает произвести акт
познания, желает узнать, что же изображено на табло. И что
же? Изображение изменится, как только познающий на
него взглянет - и как раз именно по этой причине!
Ситуация такого рода выглядит довольно
искусственной, и все же сам факт ее возможности указывает на то,
что в континууме безнаказанного (истинного)
познания могут скрываться и другие черные дыры.
Некоторые подозрения на этот счет давно существуют в
философии. Так, мы считаем, что указания на естественный
ход вещей, на природу (фюзис) вполне достаточно для
указания границ познания, приносящего истину при
выполнении соответствующих процедур. И Кант, и
представители позитивизма в равной мере из этого исходят,
хотя и понимают природу по-разному. Но можно
потребовать и дополнительных гарантий: откуда мы знаем, что
происходит с вещами, когда они остаются без присмотра?
Может, стул коварно поднимает ногу, когда оказывается
у нас за спиной? А если он этого не делает, то, возможно,
лишь потому, что Хранитель прилагает дополнительные
усилия хранения?
Истинное познание, однако, может не считаться с
подобными опасениями - ведь и я, и любой другой могут
всегда измерить параметры этого стула и получить те же
значения. А ничего большего и не требуется - что делает
стул за пределами измерений, не влияет на результаты
измерений и, стало быть, не мешает истине. Сложнее дело
обстоит с дистанцией рассмотрения.
Скажем так, с обратной стороной точности дело
обстоит так же, как с обратной стороной Луны: требуется
особая оптика, чтобы их увидеть. Вот блестящий афоризм
Витгенштейна: «Если я должен описать, как предмет
227
выглядит издалека, то это описание не станет точнее, если
я расскажу о том, что в нем можно заметить вблизи»*.
Итак, что это за концепт - предмет, как он «выглядит
издалека»? Традиционная европейская гносеология
склонна соединять с этим концептом представление о
прискорбной неточности: даже если будет обоснована неизбежность
такой позиции (или позиций), прискорбность подобного
положения вещей как бы сама собой разумеется. В
результате в какой-то степени мы понимаем, что всякая
неточность определяется по отношению к чему-то точному,
которое, однако, само остается достаточно загадочным (а
стало быть, и неточным). По умолчанию точность
понимается, исходя из оптикоцентрической метафоры как in fovea,
«в фокусе», и ассоциируется с наведенной резкостью. Но
даже в такой прямой оптике явно не учитывается работа
внутреннего «фотошопа»; термин in fovea вообще имеет
хоть какой-нибудь смысл в случае принципиальной
неоднородности всегда наличного поля зрения? Что-то может
быть в фокусе только тогда, когда что-то не в фокусе, то
есть точность зависит от системы отсчета в той же мере,
как покой и движение: предмет, как он «выглядит
издалека», - это образец тематизации, которая сама по себе
ничуть не хуже, чем предмет, находящийся на расстоянии
вытянутой руки.
Вот и Луна, видимая издалека так, как она обычно
видна невооруженным глазом, имеет коридор собственной
исчерпывающей точности, к которому мы не можем
добавить описание отдельно взятого кратера. Луна поэтов и
Луна оборотней отличается от Луны астрономов, которая,
* Витгенштейн Л. Философские работы. Т. 1. — М., 1994. —
С. 150.
228
в свою очередь, совсем не та, что Луна химиков. И ни один
из них не смог бы обогатить своими деталями соседнюю
Луну - таков первый круг соображений. Но
утверждение Витгенштейна заставляет задуматься еще вот о чем.
Идеал исчерпывающего знания, предполагающий, что
никакая дополнительная деталь не помешает, то есть идеал,
лежащий в основе науки, все же не совсем безвреден,
поскольку он поразительным образом ответственен именно
за расплывчатость, загроможденность научной картины
мира. Если попытаться конспективно изложить, в чем же
состоит вклад в науку отдельного, но типичного
работника, ответом будет как раз перефразированный тезис
Витгенштейна: это прибавление к предмету, как он «выглядит
издалека», нескольких деталей, которые можно заметить
только вблизи, без укрупнения самого предмета.
Соответственно, чтобы получить хоть какой-нибудь фокус,
необходима последовательность не уточняющих, а, так сказать,
рас-точняющих процедур, элиминация иномасштабных
загромождений из важнейших коридоров собственной
точности. Следует произвести решительное очищение
картинки того, как предмет выглядит издалека.
Главное, однако, избавиться от пагубной
привычки прилаживать на всякий случаи (по принципу - кашу
маслом не испортишь) к собственной картине детали из
другой точности, в результате чего предмет, как он
«выглядит издалека», совсем расплывается и тускнеет. Это
прекрасно понимал Кант, описывая вред, проистекающий
от смешения наук, - и он был одним из немногих, кто не
стал портить свою метафизическую Луну ни
астрономическими кратерами, ни астрологическими «аспектами». Но
уже Шеллинг и Гегель в попытках улучшить и продвинуть
дальше систему сочли, что научный декор не повредит, -
229
в результате их «картины» обрушились во многих местах
(правда, масштабы даже сохранившихся «фресок» со
временем впечатляют все больше и больше).
Свести все картины к картинам, видимым издали,
точнее, с одной определенной дистанции, типичной для
топографии объекта, - вот в чем в действительности состоит
прогрессия знания. Ведь и внутри семиозиса познания есть
различные перспективы, причем и истинные перспективы,
дающие точный образ предмета, как он «выглядит
издалека», или, например, как он выглядит, если оглянуться через
левое плечо. Однако эти перспективы в эталон не входят,
наука есть сеть равномерной детализации, наброшенная
на природу (фюзис), а заодно и на остальные семиозисы:
сеть должна обеспечивать стандартный улов.
А усреднение точности горизонтов знания приводит
к еще большему усреднению познающих: учеными в
равной мере считаются и создатели новой панорамы, и те, кто
способен удерживать ранг общности основного
проблемного поля, а заодно и экспортеры деталей, в сущности,
контрабандисты, протаскивающие видимое на расстоянии
вытянутой руки в зоны собственной куриной слепоты.
Может показаться, что некоторые дистанции
рассмотрения исключены из диапазона научного познания, хотя
предметами «своего рода познания» они все же остаются.
Такие внутренние участки в диапазоне возможной истины
требуют отдельного анализа, поскольку могут
рассматриваться не только как черные дыры, то есть как зоны
провалов, но и как зоны перекрытий в сфере человекознания, где,
принимая человека за объект, можно получать некоторые
объективные или объектные истины (такова, например,
социология). То есть, если навести перископы познания на
человека, выбрав некий расфокусированный вид издали,
230
познавательные операции не будут слишком отличаться
от тех, что доказали свою пригодность при познании
природы. Но сначала нужно сконструировать объект под
названием «репрезентативная выборка» (весьма похожий
на объект «вывеска, вид издали»). Такие объекты будут
отличаться друг от друга по параметрам, поддающимся
классификации, с несомненной пользой для дела. Однако,
если сфокусировать видоискатель, выясняется, что каждая
«вывеска» содержит еще некую надпись, которая, однако,
лежит за пределами диапазона научной истины по двум
причинам: во-первых, она не входит в объект под
названием «репрезентативная выборка», ее там не разглядеть; во-
вторых, считывание надписи (персонального кода доступа)
приведет к необратимому изменению объекта, то есть не
останется безнаказанным - значит, в качестве истины она
доступна только Богу.
9
Здесь стоит задержаться, прежде чем продолжить
исследование пространства неисчерпаемой регулярности на
предмет обнаружения в нем других черных дыр.
Вдумаемся, для чего люди делают вид? Самое поразительное, что
придется рассмотреть два противоположных ответа:
Чтобы укрыться от познания, не дать себя раскусить,
подставляя видимость вместо сущности.
Таким образом реализуется требование предстать для
других в умопостигаемом виде; оно сродни твердому
намерению не ходить по улицам голым, дабы не смущать
окружающих, не наносить ущерба их нравственности. Создавая
видимость, мы добровольно-принудительно подставляем
себя под сканирующее устройство познающих.
231
Нечто подобное имел в виду и Кант в «Критике
практического разума»: «Здесь ведь дело касается не познания
свойств предметов, которые посредством чего-то и где-то
могут быть даны разуму, а познания, поскольку оно
может стать основанием самого существования предметов
и поскольку разум через него имеет в разумном существе
причинность»*. Но вот неявным, но от того не менее
действенным образом в список гражданских добродетелей
вносится важнейшее дополнение. Наряду с давно
известными пожеланиями типа «будь честным, вежливым,
благодарным и т. п.» появляется новая неявная заповедь:
будь познаваемым}. И этот императив обеспечивается
всеми ресурсами социума. Ведь законопослушность - это
не в последнюю очередь послушность законам познания,
то есть пребывание в заключении внутри того диапазона,
где (и только где) человеческий разум обретает истину,
знание установленного образца, причем в данном
случае обретает за пределами возможного опыта. Тогда мы
можем сформулировать принцип публичной социальности
и гражданского общества как ее частного случая. Все дело
в том, что за пределами возможного опыта создаются
подобия возможного опыта (в смысле Канта), и в этих зонах
(совокупность которых является гражданским обществом)
люди берут на себя как бы добровольные обязательства
быть познаваемыми друг для друга.
Когда мы делаем вид, он больше всего напоминает вид
издали. Для физических объектов и процессов вид издали
вполне пригоден, он описывается гауссовскими
уравнениями, ранговыми распределениями Лотки - Ципфа и т. д.,
но здесь любое укрупнение не приводит к потере позна-
* Кант И. Сочинения в 8 т., т. 4. - М., 2000. - С. 429.
232
вательного статуса, к исчерпанию регулярности. А вот
в мире субъектов вид издали, удержание на определенной
дистанции, оказывается единственно пригодным для
научного изучения, тут любое укрупнение (персонализация)
означает выход за пределы явлений, прекращающий
безнаказанное познание.
Тем не менее готовность и даже требование принять вид
издали, который позволил бы по крайней мере простейшие
познавательные действия, была поразительным образом
упущена Кантом (а ведь это его тема), она осталась в тени
ноуменального присутствия через свободу воли:
«Но эта однажды допущенная в сфере
сверхчувственного объективная реальность чистого рассудочного
понятия дает теперь всем остальным категориям, хотя лишь
постольку, поскольку они находятся в необходимой связи
с определяющим основанием чистой воли (с моральным
законом), также и объективную, только лишь практически
применимую реальность, которая, впрочем, не имеет
никакого влияния на расширение теоретического познания этих
предметов как проникновения в их природу посредством
чистого разума. <...> какие бы свойства, принадлежащие
к теоретическому способу представления таких
сверхчувственных вещей, ни были поставлены в связь с ними, все
они тогда относятся вовсе не к знанию, а к праву»*.
В главном Кант прав: субъекты суверенной воли
остаются таковыми независимо от степени их познанности,
всякая попытка сослаться на то, что «знаю я подобных
людей» и даже «знаю я его как облупленного», не
имеет и не должна иметь последствий для права. Лишь
деяние делает человека преступником, а не «преступные
* Кант И. Сочинения в 8 т., т. 4. - М., 2000. - С. 441.
233
наклонности» и не «безысходность» - и лишь постольку
само право существует. Однако вполне суверенная
конвенция суверенных воль предполагает, что мы даем познать
себя (свой вид издали) другим, а они взамен
предоставляют нам ту же возможность. То есть добровольное
включение себя в ряд явлений, доступных теоретическому разуму,
хоть и не является категорическим императивом, но все же
остается императивом практического разума.
Подобное вхождение в диапазон истины имеет, так
сказать, свои собственные диапазоны. Полный отказ дать
себя познать, исключение формы для другого вообще
граничит с невменяемостью и, соответственно,
самоисключением из числа дееспособных субъектов. Но и взятые на
себя повышенные обязательства в рамках второго
императива практического разума грозят декогеренцией и,
соответственно, утратой формы субъектности или ее глубокой
редукцией.
Этот процесс удвоения, удесятерения
законопослушности заслуживает отдельного подробного разговора,
поскольку является основным содержанием современности*.
В рамках проекта Всеобщей Теории Измерений
достаточно указать на несколько моментов. Само по себе
«принятие вида издали», совершаемое в угоду теоретическому
разуму, оставляет достаточно простора для внутренней
свободы и даже позволяет экономить усилия поддержания
суверенности субъекта. Но подобно тому, как существует
помощь трудностями, существует и куда менее известная
опасность гиперудобства. Ее позывные на первый взгляд
невинны: ну, избыточная вежливость и вообще вся сумма
* См.: Секацкий А. От просвещения к транспарации. — СПб.,
2012.
234
адаптивных действии, направленных на уменьшение
зазора; директива мягкой силы гласит: перемещайся в свой
собственный вид издали, слейся с ним, будь таким,
каким тебя познают, каким тебя зарегистрировали, - и
постарайся забыть о том, кто ты вблизи (и, одновременно,
в дальней дали, в иномирности), поскольку ничего,
сулящего счастья, в этом разрыве нет. Следовательно, прими
свое издали как свое самое близкое, как свое
собственное, - и будет тебе счастье. Результат длительного
воздействия этой мягкой силы сегодня известен под именем
политкорректное™. Она, безусловно, предполагает
всякого рода терпимость и уступчивость, но, пожалуй,
главная, хотя и не эксплицированная установка здесь такова:
не разочаровывай тех, кто тебя познает, и не создавай им
трудностей. А для этого не смей отличаться от объектов,
давно и надежно входящих в диапазон истины. Устраняй
трансцендентные разрывы ужаса, который порой
вызывает вид вблизи, сгруппируйся вокруг вида издали и так
замри.
Таким образом дело представляется изнутри
практического разума, когда неопознанный второй императив,
похожий на первый, но во всем ему противоположный,
получает некоторый приоритет, а затем устремляется и к
полному доминированию. Ибо моральный закон, в
соответствии с которым чистая манифестация воли должна
быть автономной по отношению ко всей природе вообще,
так что никакая детерминистская обоснованность
существующего ей не указ, учреждает суверенность субъекта,
но этот же закон стремится учредить новую природу, как
бы конденсирующуюся, нарастающую вокруг
суверенного волеизъявления, а стало быть, субъект вынужден
искать поддержки у теоретического разума, который именно
235
в природе чувствует себя как дома, поскольку находится
в своем диапазоне истины. Вот почему по соседству с
категорическим императивом, в его ближайших окрестностях
укрепилось требование прозрачности, транспарентности,
которое приобрело лимитирующий этический характер,
и отсюда можно вывести ряд важных следствий,
обозначив их хотя бы пунктирно.
Вот, скажем, познание как сумма познавательных
усилий. Из него теперь отдельно придется выделить
регистрацию преднаходимого, включая различные
манипуляции с этим преднаходимым, благо что наличные заготовки
в процессе манипуляций не изнашиваются. Но помимо
этих сугубо эпистемологических манипуляций -
измерений, сравнений, классификаций - есть еще директивное
полагание природы (второй, третьей, четвертой) там, где
это только возможно, где она «положится» и подчинится.
Есть все основания относить такое полагание к сфере
познания или считать его чем-то в высшей степени
близкородственным, несмотря на отсутствие видимой
имманентности. Можно назвать по крайней мере две
новообразованные природы - сделанное и политкорректное
(понятно, что это пока предварительный термин), то есть
добровольно-объектное бытие потенциально бесконечных
личностных миров. Его исторической родиной является
гражданское состояние, а пунктом конечного
назначения - цивилизация хуматонов.
То есть сделанное как предметный мир обладает
окончательностью природы, «политкорректное» пока таким
стандартом не обладает, а лишь стремится к нему.
Поскольку юрисдикция чистого теоретического разума
распространяется только на царство феноменов - и тут Кант
был прав, хотя и выбрал не слишком подходящий в дан-
236
ном случае термин «опыт» (лучше было бы ограничиться
«природой»), за пределы феноменов познание не
распространяется, во всяком случае там оно покидает диапазон
истины и теряет свое имя, - то успешная экспансия будет
заключаться в «феноменизации» новых территорий, во
внедрении каузальных связей природы туда, где их прежде
не было и в помине. Соответствующие отклонения в
сфере чистого практического разума являются, следовательно,
его ближайшей гетерономией, значительно более близкой,
чем уклонение в психоанализ, на чем тоже следует
кратенько остановиться. Кант не устает говорить о том, что
разнообразная психологическая детерминация (и прежде
всего желание счастья) может при случае способствовать
достижению целей суверенного законодательства воли, но
может, разумеется, и мешать, увлекая в сторону частных
эгоизмов и разного рода комплексов. Взаимоподдержка
морального и психологического встречается, в
действительности, не так уж и редко, так что можно говорить
о двойной подстраховке (сверхдетерминации) важнейших
человеческих установлений.
Тем не менее разнородность мотиваций здесь
очевидна, и кантовский намек «спасибо за поддержку, но лучше
не надо» вполне понятен. С не-психологической
поддержкой или, лучше сказать, параллельной детерминацией дело
обстоит сложнее. Здесь параллакс задан в мерцающем
режиме, так что на некоторых участках и в определенные
моменты требования, исходящие от трансцендентального
субъекта познания, вообще не распознаются как чужие -
и Кант не распознал их в качестве таковых, указывая лишь
на ярко очерченные различия, на то, что ноуменальное
законодательство не осуществляет познание, а действует
только «как если бы».
237
И все же следование императиву «максима моей воли
да будет законом природы» незаметно и неизбежно
приводит к мерцающему статусу деяний и их последствий. Хотя
право, устанавливающее справедливость, осталось чем-то
отдельным от познания, устанавливающего истину, но это
до поры до времени, тенденция тут ясна, с подачи
трансцендентального субъекта суверен своей воли начинает полагать
себя феноменом и пока речь идет лишь о конкуренции види-
мостей, все остается в пределах слишком человеческого, на
персональное Тридевятое Царство души никто не посягает.
Однако объективация воли, желая быть успешной и
всеобщей, сталкивается с альтернативой: либо чистый произвол,
так сказать, безоглядное бытие господина, либо ползучая
самообъективация, уподобление себя самого
собственному виду издали, продуцируемому для другого. Ведь лишь
этот формат задан в имманентном пространстве феноменов,
и ему с феноменами легче поладить. Требование
последовательности предлагает тогда выход: навсегда покинуть
Тридевятое Царство и обрести в мире феноменов подлинную
родину, забыв предостережение Будды, что прекрасно
познавать всякую вещь, но страшно быть ею... Вот чистый
теоретический разум и призывает проявить бесстрашие
в этом смысле - и весьма успешно призывает,
подлаживаясь к голосу самого практического разума (суверенной
воли), побуждая его осуществлять мимикрию
гносеологических установок в практических поступках.
Кант, удивляясь звездному небу над нами и моральному
закону во мне (в себе), не довел до конца свое удивление
и недостаточно присмотрелся к этому самому моральному
закону, иначе он заметил бы коррупцию, вкравшуюся в
самую сердцевину автономного законодательства als ob. Вот
тезис: стань вещью среди вещей (стань передо мной, как
238
лист перед травой!) - какая же суверенная воля ему
подчинится, если тут явное отрицание основополагающего
принципа ее бытия? Однако мимикрия стартует, и следующий
тезис звучит уже так: пусть акция твоей воли, например
обещание, обретет прочность вещи и будет как вещь!
Пусть в отношении нее высказывают суждение, как если
бы речь шла об объектах природы, и каждое следующее
суждение будет заставать все столь же твердое тело
обещания, прочное и не поддающееся износу. С такой
модификацией, пожалуй, трудно не согласиться, хотя коррупция уже
прокралась сюда. Но за обещанием должен последовать
и обещающий, он должен перестать просто высказывать
взгляды, мнения, электоральные предпочтения и т. д., как
бы приближаясь для этого к радиорубке вида издали, а
затем, удалившись (вернувшись) к себе самому, продолжать
быть себе на уме. Нужно действительно испытывать те
чувства, о которых оповещают твои «взгляды»: так, если ты
противник расизма, то действительно полюби нас
черненькими, а коли провозглашаешь себя поборником
толерантности, будь добр искренне радоваться всем ее проявлениям.
Лучше всего элиминировать, отжать чувственность вообще,
и здесь теоретический разум выступает союзником
практического в борьбе с психологической гетерономией.
Остается вопрос: в чем же тут коррупция?
Во-первых, обещание отнюдь не является единственной
манифестацией суверенной воли, есть, скажем, и проекты,
не обязательно требующие овеществления, есть чистый
негативизм бытия вопреки, обращенный к
божественному первопричинению.
Далее, имеется собственный регулятор в стихии
ноуменального бытия, который издавна принято именовать
совестью. Чем-то совесть, конечно, похожа на истину
239
как регулятор соседнего региона, однако «объекты»
совести не отличаются устойчивой регулярностью, поэтому
априорно уверенной в себе может быть только
поддельная совесть, заимствованная из соседнего диапазона ре-
гулярностей и переименованная. Ничто так не страдает
от засилья абстрактной истины, как совесть, при том,
что совесть вовсе не имеет дело с чистыми сингулярно-
стями, для этого есть другое слово - бессовестность. Но
совесть, наряду со стыдом, выступают как более или
менее подходящие регуляторы ноуменального бытия, мира,
который конституируют демиурги свободной суверенной
воли как мир собственный, а значит, о неисчерпаемой
регулярности не может быть и речи. Поэтому совесть,
отстаивая всеобщность моральных принципов,
одновременно решительно пресекает эксклюзивные
интересы познания. Важнейшим требованием совести является
как раз непроницаемость индивидуального Тридевятого
Царства, принципиальное осуждение подслушиваний,
подглядываний и всех вообще видов незаконного
познавательного вторжения на территорию ноуменального
бытия - можно ли представить себе подобные
ограничения в эксклюзивном диапазоне истины? Отсюда видно,
что «обладать совестью» и «обладать истиной» вовсе не
одно и то же и в целом сфера, подведомственная совести
по отношению к регулярному познанию, все время являет
собой особый случай. В свою очередь, отсюда следует
недостижимость спокойной совести и ее преимущественная
данность в виде угрызений. Если же слиться с
собственным видом издали и всех прочих почитать слившимися,
тогда совесть действительно получает в свое
распоряжение неисчерпаемую регулярность, но вместе с тем теряет
свое имя.
240
Вообще все установления гражданского общества,
касающиеся незаконного приближения (в экзистенциальном
смысле), запрета реагировать на вид вблизи, если знание
представлено как вид издали, обязательный для
гражданского общества, являются как бы анклавом совести в
правовом поле, и чем меньше этот анклав (при тотальном
контроле), тем слабее присутствие ноуменального измерения
в пространстве феноменов. С другой стороны, наличие
такого анклава еще раз показывает, что сфера бытия
субъектов не входит в диапазон научной истины, в континуум
безнаказанного познания. Но расширение такого
диапазона, несомненно, происходит.
Очень поучительно сравнить этот процесс с
формированием и эволюцией «второй природы», то есть с эволюцией
сделанного. В эпоху тотального поэзиса мы застаем некую
многомерность вещей: в технологическую цепочку их
производства входят заклинания, искупительные жертвы,
очистительные ритуалы и другие священные технологии. Сами
вещи, кроме того, могут быть амулетами, талисманами,
оберегами и т. д., и только их вид издали не отличим от
состояния современных вещей*. После произведенных
преобразований сделанное не только попало в диапазон истины,
но и стало его эталоном. Произошло это именно потому, что
удалось элиминировать скрытые измерения и произвести,
так сказать, полную декогеренцию все еще отчасти
магического объекта. Возможность для вещей притягивать друг
друга посредством стоимости (то есть их товарная форма)
явилась несомненным признаком того, что вторая природа
действительно стала чрезвычайно похожа на первую.
* См.: Секацкий А. От формации вещей к эпохе текстов //
Сила простых вещей. — СПб., 2014. — С. 69—80.
241
Намывание площадок, оказывающихся
безнаказанными для познания в ходе конденсации самого фюзиса
(природы как таковой), обособление универсума из муль-
тиверсума (multiverse) все еще не постигнуто и не
осмыслено. Лучшим остается метафизический обзор Шеллинга
(и Гегеля, если его интерпретировать соответствующим
образом), согласно которому, в результате соотношения
с самим собой, точнее говоря, многократной
соотнесенности, продукты отпадают от продуктивности и обретают
устойчивую экземплярность, которая уже не может быть
поглощена породившей ее силой*.
Присмотревшись, нетрудно узнать здесь декогеренцию
в самом широком смысле слова и сообразить, что именно
«остывшее и отпавшее» прекрасно защищено от
модифицирующего воздействия познавательных усилий, стало быть,
как раз оно и составляет неисчерпаемую регулярность.
Но ведь и вторая природа такова, входящие в нее вещи
изъяты из сакральных миров, они как товары отпадают от
продуктивности, не сохраняя никакой персональной
причастности мастера. Сила денег гомогенизирует континуум
произведенных вещей, в качестве товаров все они
прекрасно сравнимы - ну и далее по тексту «Капитала». Для
учреждения реального континуума пришлось погасить
души вещей или, говоря словами Аатура, «упразднить их
человеческие представительства»**. Все прочие
соотношения, кроме стоимостных (денежных), были
дискредитированы; тем самым овеществление и отчуждение проделали ту
же работу, что и тавтология в ее онтологическом измерении,
* См.: Шеллинг Ф. Сочинения в 2 т., т. 1. — М., 1987. — С. 89—
188.
** Латур Б. Пересборка социального. Введение в акторно-сетевую
теорию. — М., 2014.
242
то есть как важнейшая миросозидающая операция, где
соотношение с самим собой и соотношение с ближайшим иным
позволяют наработать гладкое пространство с
универсальной объектной локализацией взамен складчатого,
«пористого» пространства суперпозиций. Со сделанным произошла
аналогичная история: любой товар сегодня стоимостным
образом локализован по отношению к любому другому товару.
Ярким исключением является, разумеется, искусство
с господствующим в нем принципом неустранимой
сингулярности. Произведения искусства сохраняют персональную
атрибуцию и мистическую связь с трансцендентным, можно
сказать, ту самую, что когда-то была у всех основных вещей,
а теперь сохраняется лишь за продукцией, производимой
художником. Таков, в сущности, рациональный смысл
тезиса «произведения искусства бесценны» - они не вписаны
в континуум никакой природы - пока не вписаны. Тем не
менее можно констатировать: для вещей вид издали - это
их товарная форма, позволяющая не слишком вглядываться
в следы конкретного труда, в наличие возможных
вредоносных свойств и в разного рода тотемные принадлежности. Все
это заменено ценниками, прекрасно передающими общий
рельеф вида издали, где отсутствуют свернутые измерения.
Ну и, как уже было сказано, с некоторым опозданием такой
же рельеф разворачивается сейчас и в сфере
интерсубъективности, в ее компактной подсистеме, именуемой
гражданским обществом.
10
Таким образом расширение диапазона истины
оказывается великолепным подспорьем и для решения
другой, более общей задачи - для исследования топографии
243
универсума. Мы теперь можем видеть, какие важные
преобразования производит тавтология как физическая, а не
как логическая процедура: она, путем неустанного
повторения, стабилизирует в сфере действия еще не
укрощенной, не остывшей продуктивности гигантские гомогенные
пространства, оказывающиеся, помимо всего прочего,
пригодными для истинного познания.
То есть, с одной стороны, мы можем различать
черные дыры и не охваченные каузальностью территории
(притом, возможно, и вновь образующиеся прорехи), а с
другой - намываемые плато, свидетельствующие об
экспансии универсума в ничто и в никуда. Присмотримся,
однако, к этим микропорам в гладком пространстве, которые
в разведанном фюзисе соответствуют масштабам планков-
ской длины. Величина здесь не имеет значения с точки
зрения вместимости, поскольку через эти поры (или лучше
вслед за Жижеком сказать «разрывы»*) можно
выбраться в любом, самом неожиданном месте распростертого,
объемлющего пространства.
Некоторым аналогом ячеек планковского масштаба
являются внутренние миры субъектов - это в них
приоткрываются и пропасти, и бездны, и перескоки ветвящихся
миров. Но если планковская «чертовщина», не
упорядоченная временением, великой работой тавтологии, совсем
уж неразборчива, то свободная воля и психические
флуктуации доступны наблюдению в качестве феноменов, при
понимании того обстоятельства, что феноменами они
являются лишь по совместительству, привходящим образом.
Далее. То, что познавательные операции в этом
диапазоне (за пределами диапазона истины) не безнаказанны,
* Жижек С. Кукла и карлик. — М., 2009.
244
только лишь повышает значимость интерсубъективности
бытия как события и бытия навстречу друг другу.
Совесть - не гносеологическая дисциплина, ее угрызения не
коррелируют с теоремами знания, но от этого она не менее
актуальна. События любви, ненависти, дружества,
состязательности, то, что, пожалуй, составляет саму жизнь в ее
человеческом измерении, таковы, каковы они суть, то есть
непрозрачны и не континуальны. Они также и не
рациональны; трудно сказать, в какой мере это может быть
сопоставимо с чем-то доприродным, с теми же квантовыми
ансамблями и суперпозициями. Быть может, единственной
общей чертой является неподатливость познанию, разру-
шаемостъ под воздействием прибора и наблюдателя.
Попробуем присмотреться к такой «вещи», как стыд,
без которого непредставимо бытие людей. В природе нет
никаких аналогов стыда или совести, при этом принято
считать, что животные обладают своего рода интеллектом,
термин «сенсомоторный интеллект» используется не
только в бихевиоризме. В действительности между животной
сообразительностью и человеческой мыслью лежит
пропасть, которую философия традиционно считала самой
глубокой из всех возможных (противоположность
реального и идеального, как формулировал ее Шеллинг). Дело,
однако, не в этом, а в том, что ближайший аналог стыда
или нечто на него похожее находится за пределами фюзиса
в строгом смысле слова - как раз там, где вмешательство
наблюдателя, его «подглядывающего» глаза, меняет
реальность.
Вот детская поговорка, известная каждому русскому
школьнику: «Стыдно, у кого видно». Тут взрослые из
педагогических соображений могут поморщиться, начнут
говорить о куда более широкой роли стыда, о его роли как
245
универсального регулятора культуры. Но им никуда не
деться от поразительной детской проницательности,
схватившей самое главное. Наличие стыда говорит о том, что
быть познанным небезопасно, что при этом можно
претерпеть ущерб, лишиться чего-то крайне важного,
подобно тому, как кошка Шредингера лишилась своего
мерцающего существования в обмен на смерть или на то (если
повезет), чтобы стать просто кошкой, которая никого не
интересует. Наибольший ущерб прямая визуализация
в человеческом, то есть личностном, мире наносит самым
важным и, одновременно, самым хрупким вещам: главные
пострадавшие - женственность, соблазн, да, пожалуй что,
и сама любовь.
Вот, например, сфера интимьера, играющая столь
существенную роль в стратегиях соблазнения. Интимьер
присутствует как иновидимость скрытого, как
иносказание и инохотение. Никакой «умопостигаемости» тут
нет и близко, здесь царит нечто прямо
противоположное - умонепостижимостъ. Но она прекрасно
работает, обеспечивая высочайшие инвестиции присутствия.
А в случае незаконного познания, назовем его так, киска-
соблазнительница погибает той же смертью, что и
мерцающая кошка Шредингера, после смерти удивительного
существа остается простая человекоразмерная женщина...
Не касаясь здесь антропологического происхождения
стыда (оно, несомненно, катастрофично) и его крайне
поучительных отношений с совестью, обратим внимание на
его номинальный, то есть не связанный с личной виной,
характер - что, разумеется, нисколько не препятствует
сокрушительной действенности.
Вспоминается случай из школьных лет. Дело было зимой,
молодая учительница химии, опаздывая к первому уроку,
246
собиралась в спешке и забыла надеть юбку. Сняв пальто
в гардеробе, она осталась в кофточке и в трусах - и так по
лестнице поднялась на второй этаж, пока, наконец, не
спохватилась. Школьники и некоторые коллеги стали
свидетелями этой сцены, которая произвела неизгладимое
впечатление, в частности на меня и на моих товарищей, таких же
подростков. Вся «шокированная общественность»
прекрасно знала, что под юбкой женщины носят трусы, а под
трусами и вовсе ничего не носят - но буквально через три дня
женщине пришлось уволиться из школы, и, несомненно,
при этом она получила сильнейшую психологическую
травму. Стоит, однако, задуматься, в чем же природа
колоссального ущерба? Ответить на этот вопрос совсем не просто,
можно, опять же, сослаться на детскую мудрость «стыдно,
у кого видно» или сказать, что вмешательство
наблюдателя разрушает суперпозицию, так что объект вида (nî, ni)
был в данном случае уничтожен, то есть расщеплен, так что
в результате осталась лишь одна из составляющих, а другая
пропала навеки. И, пожалуй, вот еще что: если бы
свидетелем события стал только один из мальчиков, оно могло бы
послужить источником его эротических грез, волнующего
чувства, а то и настоящей, мучительной влюбленности. Но
не исключено и другое: для этих двоих возникла бы
несовместимость бытия в мире, что не так уж далеко от
мерцающего режима влюбленности.
Но. Событие было зарегистрировано всеми, оно как
бы стало актом объективного познания, и таким образом
странный объект желания потерял свое незримое,
потустороннее измерение, потерял в том числе и для себя
самого. Опять-таки, если вернуться к аналогии со
«сделанным», настоящие елочные игрушки превращаются
в поддельные. Они, поддельные, ничем не отличаются
247
от настоящих, ничем таким, что научное познание могло
бы измерить, вот только в отличие от настоящих они не
приносят никакой радости. А потому они и не елочные
игрушки вовсе, а всего лишь элементы декора...
Такова же и участь «поддельных субъектов»,
защищенных от стыдящего взгляда тем, что им нечего
скрывать, и тем самым лишенных мерцающей иновидимости.
И им теперь подобает другое имя - хуматоны. Так что
ущерб, причиненный молодой женщине, заслуживает
безусловного сочувствия, и в защиту можно сказать только
одно: пока такой ущерб возможен - вплоть до полной
гибели всерьез, - мы еще остаемся людьми среди людей,
субъектами ноуменального бытия, а не поддельными
елочными игрушками.
2015
3. МАТЕМАТИКА РАННЕГО МИРА
Этот текст, конечно, не является строго
математическим и даже в математическом смысле корректным.
Скорее читателю предлагаются некоторые метафизические
соображения о мире, высказанные в духе математики.
Предварительно я дал прочесть его двум своим
знакомым, математикам высокого уровня. Оба отметили, что
«вообще-то все формулируется не так... но что-то здесь
есть». После чего я и решил включить текст в книгу...
1
Под ранним миром я понимаю еще не остывшую, еще
достаточно горячую Вселенную, где пока не обретена
строгая дискретность (экземплярность), а тавтология не
достигла однозначности и не стала банальной. В мире
холодной математики (то есть в нашем мире) презумпция «а
есть а» подразумевается и является, так сказать, простой
очевидностью для всех символов, входящих в уравнение.
Таков универсум, но для мультиверсума, еще совершенно
не связанного ограничениями Einselection, место
тавтологии занимает утверждение более общего вида: «а есть все
249
что угодно». То есть ранний мир это такой unyverse, где
строгой математики еще нет, но уже справедливо
ограничение «а есть не все что угодно». Понятно, что этот
промежуток простирается от первых сомнений во всетожде-
ственности до утверждения «а есть настолько не все что
угодно, что практически можно считать, что а есть а». То
есть в уравнении со входящими в него символами могут,
конечно, появиться сюрпризы, но, как принято говорить,
их вероятность ничтожно мала. Стало быть, такую
холодную математику вполне можно приравнять к нашей
кристально чистой математике.
Однако в промежутке могут или по крайней мере
могли бы существовать математики раннего мира.
Чрезвычайно любопытно посмотреть, что они сохранили бы из
классического инструментария, и вообще, как могли бы
выглядеть. И, кстати, есть основания подозревать, что
наша классическая, точнее современная, математика
представляет собой смесь разных математик, так что подобное
рассмотрение могло бы помочь произвести сортировку
инструментария.
Итак, математика раннего мира, несомненно, будет
зависеть от некоторых важнейших событий внутри
диапазона. Диапазона чего? Остывания, инфляционного
расширения, временения, длительности - тут любое
определение подойдет. Содержание процесса может быть
описано с разных сторон, но едва ли не самой важной
характеристикой происходящего будет абсорбция строгой
экземплярности. На самом раннем этапе конденсируется
закон тождественности, и тогда он выступает как свое-
250
образное чудо. Собственно, сама по себе попытка
усмотрения ранних математик является инструментом для
понимания происхождения универсума.
Вопрос «что было в начале?» становится куда более
содержательным, если несколько переформулировать его:
чего в начале не было? И что могло быть, если не было
того и этого?
Решая вопрос в общей форме, скажем так: в начале не
было некоторых различий. Или уточнений - дифференци-
ровка наличного это именно то, что происходило вплоть до
обособления четырех основных взаимодействий -
гравитационного, сильного, слабого и электромагнитного; с тем, что
эти взаимодействия обособились в ходе остывания, согласны
большинство физиков. Однако с позиций математики и
метафизики интереснее происхождение строгой
самотождественности, появление различия между тем же самым и точно
таким же.
Экскурс 1. Тот же самый и точно такой же
Обратим внимание на то, что, сколько ни наращивай
степени похожести, ее все равно не довести до «той же
самости». Допустим, я зажал в кулаке желудь, а мне
поочередно предлагают другой желудь для сверки:
- Ну что, вот этот похож?
- Не особенно, - отвечаю я.
- А этот?
- Ну этот очень похож.
- А вот смотри, просто не отличить. Он, наконец,
похож настолько, что можно смело сказать: это и есть тот же
самый желудь.
- Нет уж. Тот же самый - у меня в кулаке.
251
Что следует из этого примера? Что вещи могут иметь
различные степени сходства и что сходство можно усилить.
Однако сколько ни подбирай «точно такую же» вещь, как
ни усиливай степени ее сходства, приходится признать, что
самотождественность имеет иную природу, представляет
собой иное темпоральное, быть может, следующий
великий пункт временения. Конечно, важна осуществленная
локализация («в кулаке»), но дело не только в ней. Мой
желудь, который «тот же самый», мог лежать рядом с
дорожкой, идущей по краю леса, и, проходя по ней, я
всякий раз узнавал бы его, идентифицировал бы как тот же
самый желудь. Его самотождественность не повредил бы
муравей, если вздумал бы на него взобраться. Даже если
кто-то наступил бы на него и сплюснул желудь, я все равно
идентифицировал бы его как тот же самый - и ничего, что
сходство с ним прежним, еще вчерашним, оказалось бы
проблематичным. Конечно, длительность во времени,
способность себя длить выходит тут на первый план - и все
же, что именно в этой длительности? Не сама ли
возможность рассказать о желуде? Любопытно, что для
сохранения самотождественности пригоден любой рассказ.
Например: сколько я помню, этот желудь всегда лежал здесь
и был таким. Или: когда-то этот желудь лежал не здесь
и был совсем другим. В любом случае тот желудь, о
котором я говорю, и есть тот же самый. Вспомним еще раз:
какие бы приключения ни произошли с героем, он все равно
тот же самый до тех пор, пока о нем идет речь.
Допустим, кто-то рассказывает мне об
Иване-царевиче. Сказка есть сказка, и потому меня совершенно не
удивляет, если герой превратился вдруг в утку, а утка в зайца,
ничего страшного, пусть речь идет дальше, пусть сказка
сказывается. Но вдруг я замечаю, что после всех этих пре-
252
вращении герои по-прежнему ходит на двух ногах, так же
ездит на лошади, хорош и пригож, но зовут его уже
Василием. Тогда я прерываю рассказчика и требую у него
разъяснений.
Даже по отношению к элементарным частицам нельзя
с полной уверенностью сказать, что перед нами - тот же
самый электрон или точно такой же, как затруднительно
это сказать о ноте до, взятой всеми музыкантами
(инструментами) оркестра. Тем более это верно по
отношению к волнам и колебаниям суперструн. И, разумеется, по
отношению к числам, что для нас здесь особенно важно.
Если мы сотрем написанную мелом на доске единицу « 1 »
и напишем ее вновь, то напишем ли мы ту же самую
единицу или точно такую же? Ясно, что вплоть до какого-то
момента подобные вопросы не имеют смысла, поскольку
уточнение нерелевантно, само различие еще не
сформировалось. Но однажды оно, это великое различие,
появляется. В отношении объектов макромира оно всегда задано,
и мы готовы уточнить: это тот же самый желудь или точно
такой же, но все же другой. Возможно, важнейшее
различие работает уже на уровне атомов. В математике все
подобные объекты можно пронумеровать с помощью
натурального ряда чисел, но объекты более «ранние»,
объекты иной комплектации, уже не поддаются такой
нумерации. Сколько раз музыканты, играя симфонию, исполнили
ноту до? Сколько нот до они сыграли?
Вернемся к зажатому в кулаке желудю. Там
испытуемый (или, наоборот, испытатель) пытается нарастить
сходство, стремясь к тождеству: похож... очень похож...
почти такой же... ну совсем такой же. Однако сколько
бы образцов он ни предъявлял, ему не суждено добиться
253
ответа: «Да, это тот же самый желудь, он и есть!»
Наращивание степени сходства не ведет к покорению крепости
самотождественности.
Но заменим желуди числами. Вот кто-то задумал
(«зажал в уме») определенное число, а другой или другие
пытаются его идентифицировать. Поначалу все идет как
будто бы так же, как и с желудем: задумавший число сообщает
степень сходства предъявляемых образцов: холодно,
горячо, очень горячо (похоже, очень похоже...). Но, в отличие
от предыдущего опыта, итоговый результат оказывается
иным: счастливчик находит это число. Не просто очень
похожее, не точно такое же, а именно то самое. «Да, оно
и есть», - подтверждает задумавший.
Так вот крайне важно и для философии, и для
математики, и для понимания времени, самой идеи хронопоэзиса,
уяснить суть различия между двумя этими случаями.
3
Математика раннего мира (в действительности,
некоторое множество математик, отвечающих разным уровням
или степеням охлажденности) должна быть более гибкой
в таких вопросах, тем более что ей не обязательно
следовать дорожной карте формирования универсума, если
«виды» чисел (натуральные, рациональные,
вещественные и т. д.) могут рассматриваться как исторические,
вернее, хронологические напластования.
Рассмотрим гипотетическую арифметику на стадии,
предшествующей конденсации строгой экземплярности,
такую, где еще не выполняется правило обязательной
однократности касания при пересчете.
254
Экскурс 2. Пуговицы
Впервые я столкнулся с такой возможностью, когда
обучал свою маленькую дочку счету. Она быстро освоила
указательный жест, сопровождающий пересчет предметов.
У нас была коробка с разноцветными пуговицами, мы
высыпали их на стол и считали. Дочка уверенно показывала
пальцем и отсчитывала: «Раз, два, три...» - но каждый
раз у нее получалось разное количество пуговиц. Мои
призывы быть повнимательнее успеха не имели, и в какой-то
момент я сам решил внимательнее присмотреться к счету.
И обнаружил, что в процессе довольно быстрого пересчета
дочь могла два, а то и три раза прикоснуться к одной и той
же пуговице. Когда же я обратил на это ее внимание, она
с искренним недоумением спросила: «А что, разве
нельзя?» И тут только я понял, что «правило однократности
касания» при пересчете вовсе не является само собой
разумеющимся и нуждается в специальном провозглашении.
Если же его специально не оговорить, мы получаем иную
арифметику, так сказать, более общего вида.
В нашей новой пробной арифметике натуральный ряд
вроде сохраняется, однако число «1» будет означать, что
в нашем распоряжении имеется как минимум один, но не
более двух объектов. Количественное числительное «4»
будет указывать на то, что по меркам нашего
охлажденного мира в наличии имеется от четырех до восьми
объектов - вопиющая погрешность, делающая счет практически
бессмысленным. Однако в мире допустимой двукратно-
сти касания столь важное для нас уточнение не то чтобы
совсем невозможно - оно просто нерелевантно. Так, если
двум испытуемым было дано задание принести по четыре
255
пуговицы, и при этом один принес пять, а другой семь, для
экзаменатора это будет означать, что оба испытуемых
выполнили задание правильно. Уточняющий вопрос из
другого (из нашего) мира: «Так сколько все-таки?» - был бы
столь же нерелевантным, как и наш вопрос: написали ли
мы на доске ту же самую единицу или точно такую же, но
все же другую.
Как могли бы идти дела в этом странном мире
допустимой двукратности касаний - вполне возможно подобрать
подходящие иллюстрации. Пока же сделаем шаг в
направлении предварительной экспликации, поскольку алгоритм
извлечения следствий из допущения еще не ясен.
Во-первых, допустимость двукратности касания
запишем следующим образом - Д2К. Нетрудно заметить,
что «еще более ранняя» математика может допускать
и трехкратность, и четырехкратность касания и так
далее - ДЗК, Д4К и вплоть до ДМК - над этим стоит еще
дополнительно подумать. Запишем новый натуральный
ряд чисел:
1Д2К, 2Д2К, ЗД2К...пД2К.
В большинстве случаев его удобнее записывать так:
Д2К(1,2,3...п)
А наш натуральный ряд Д1К (1, 2, 3, п) можно
продолжать записывать как есть, не уточняя, что имеется
в виду строгая однократность касания.
Так вот. Четверке из Д2К мы можем сопоставить
числа 4, 5, 6, 7, 8 и смириться с тем, что математики раннего
мира откажутся уточнять, какое именно из «наших» чисел
они имеют в виду, ведь любое из них соответствует
пересчету, допускающему не более двух касаний. Но не менее
любопытно выглядит запрос об уточнении, присланный
оттуда сюда, в наш мир. Например, мы насчитали пять
256
объектов и передали им это сообщение, предполагая, что
уж нашей-то точности им хватит за глаза. Ничуть не
бывало! Наши пять объектов (5Д1К) могут соответствовать
трем разным числам в мире допустимых двукратных
касаний: ЗД2К, 4Д2К, 5Д2К - и их попытка уточнить, какое
именно число мы имеем в виду, в свою очередь
натолкнется на наше непонимание! Для нас 5 и есть 5, вне
зависимости от операции счета, при которой число было получено.
Но для Д2К-математики это, вероятно, совсем не так. Тут
число 5, извлеченное из серии, может показаться
слишком абстрактным, если не сказать бессмысленным,
примерно так же как нам выражение «Иван старше» - нельзя
не спросить: «Старше кого?» Вот и математика раннего
мира вправе придать сообщению осмысленность (Д2К-
осмысленность) и спросить: какая именно пятерка, из
какой серии? И пока не выяснено, к какой серии - ЗД2К,
4Д2К, 5Д2К - относится переданный результат, задача
не решена.
4
Подумаем о возможном применении такой математики
в нашем мире.
- Ну, у тебя будут две-три попытки, - говорит
тренер юному футболисту, переходящему в более классную
команду.
Вполне понятно, о чем идет речь, и точнее тут никак не
скажешь.
В Петербурге довольно распространены
пригласительные на разные приемы, которые действительны на два
лица. Ты можешь пойти один, а можешь взять с собой кого-
нибудь, например, супругу.
257
Мой знакомый, у которого было три таких
пригласительных билета (он шел с женой), пригласил и меня с
супругой, а по пути мы встретили еще одного знакомого,
которого тоже позвали с собой.
- А меня пустят? - на всякий случай спросил
знакомый и услышал в ответ:
- Конечно, ведь у нас три пригласительных.
То есть в этом компактном мире как раз и действует
правило допустимой двукратности касания - и,
соответственно, устроители приема ведут свои расчеты с
помощью Д2 К-математики.
Но пример с пригласительными можно счесть
достаточно искусственным, хотя подобные ситуации возникают,
когда фигурируют полные или неполные пары. С
напутствием «у тебя будут две-три попытки» дело обстоит
иначе, данное утверждение действительно описывает некий
мир, имеющий собственную реальность, характер которой
смазан математикой однократного касания и безальтерна-
тивностью натурального ряда чисел. Вот еще примеры из
этого же мира:
«Ну, я пару раз попробовал ее проводить, но что-то не
сошлось, видно, не судьба».
С точки зрения обычной арифметики тут нужно было
бы записать: «количество попыток (провожаний) - 2»
и это была бы точная запись для своего мира. А в
арифметике, где действует возможность двукратного касания,
запись выглядела бы так: 2Д2К - и она была бы гораздо
точнее для описываемого нами мира!
То есть существуют миры, которые математика Д2К
описывает с большей точностью, и это важное
утверждение, оно означает, что «нестрогость» этой математики
в мире строгой экземплярности вещей еще не повод, что-
258
бы ее отбросить - глядишь, подходящий мир и отыщется,
а если математика займется своим делом, разработкой
и извлечением интересных следствий, то подходящий мир
отыщется быстрее.
На примерах видно, что мир допустимой двукратно-
сти касаний действительно ранний. Это
преимущественно человеческий мир обещаний, проектов, попыток, но,
впрочем, и повседневной футурологии речи. В нем еще
мало что измеряется штуками и экземплярами, мало что
невозобновимо, поскольку уже есть. Обручальное кольцо
обладает строгой экземплярностью, но вот относительно
«ухаживания» нелегко сказать, является ли оно точно
таким же или тем же самым.
Здесь и далее мы будем исходить из спекулятивного
предположения о сквозной изохронии мира, о далеко
идущей аналогии фюзиса и семиозиса. Или, иными словами,
я предполагаю, что имеют место два больших равноценных
взрыва. Первый, в результате которого возник универсум
(не сразу, но в конечном итоге), и второй, антропогенети-
ческий взрыв, породивший сознание и мир сознания.
Это значит, что совсем юный мир человеческих
феноменов в основных этапах воспроизвел важнейшие этапы
развития «большого мира», собственно Вселенной,
прошел стадию конденсации пространства, дифференциации
точно такого же и того же самого. Его различные периоды
тоже могут описываться разными математиками.
Этот мир символического (скажем, «культура»)
и вспыхивающее в нем, передаваемое по эстафете
сознание кажется совсем крошечным, но ведь мир сей еще
чрезвычайно юн, и мы посмотрим, что будет дальше.
Этот крошечный мир уже вмещает в себя предыдущий,
содержит в себе его совершенствуемый, уточняемый
259
образ - просто еще не наработано достаточно времени для
того, чтобы аналогия стала очевидной, а некоторая изохро-
ния бесспорной. В юном мире души-сознания продукты
воображения, например, совершенно неподотчетны
математике однократного касания, но какое-нибудь более
гибкое исчисление все же применимо. А вот продукты логики,
с которыми тоже имеет дело сознание, достигшие строгой
экземплярности, прекрасно математизируемы.
Гибкая математика, или математика раннего мира,
несомненно, должна отличаться своеобразием на всех
фронтах своего применения. Пока мы ввели только
необязательность однократности касания при пересчете, что
и позволило говорить о Д2К-математике, ДЗК и так
далее, вплоть до ДЫК. Но комментарий-афоризм уже
напрашивается, что-нибудь вроде: изучая меняющейся мир,
для той или иной эпохи прежде всего необходимо выбрать
правильный Д1ЧК...
Верен ли предварительный тезис, что по мере того,
как увеличивается степень строгости и мы приближаемся
к нашей математике однократного касания, мы имеем дело
со все более остывшей Вселенной (пусть на данном
конкретном участке) - такой, где соучастием мультиверсума
можно пренебречь?
Похоже, что не совсем так, есть ведь еще множество
параметров, помимо различия между таким же и тем же
самым. Вот что пишет Яу: «Мир, в котором мы живем,
называемый физиками "миром низких энергий", несомненно,
суперсимметричным не является. В то же время принято
считать, что суперсимметрия доминирует в мире высоких
260
энергий, и в этой области элементарные частицы и их
суперпартнеры идентичны. Но как только энергия
становится ниже некоего определенного значения, суперсимметрия
"разрушается", и тот мир, в котором мы живем, является
миром нарушенной суперсимметрии, где элементарные
частицы и их суперпартнеры уже различны как по массе, так
и по другим свойствам. Разрушившись, суперсимметрия
не исчезает полностью, но переходит в скрытую фазу. По
словам физика Тристана Хабша, «...можно понять
существование различия в массах, мысленно заменив
суперсимметрию на вращательную симметрию некоего объекта,
например вертикально расположенного гибкого стержня»*.
Разрушение или нарушение суперсимметрии может,
в частности, означать следующее. Для всех исходных
частиц существуют античастицы, симметричные
суперпартнеры. Они могут иметь собственные позитивные имена,
как в паре электрон - позитрон, но это дела не меняет.
Нарушение суперсимметрии приводит к тому, что
стабильные элементы нашего мира не имеют
симметричного суперпартнера (которых, кстати, можно рассматривать
как стабилизированные противофазы колебаний). Если
угодно, ключевая характеристика макромира, то есть мира
достаточно остывшего, звучит так: там есть кирпич, но
отсутствует анти-кирпич. Вместо анти-кирпича в изобилии
представлены другие кирпичи, точно такие же и в силу
этого взаимозаменимые. Крайне важно: «точно такие же»
не значит «те же самые». То есть в отношении кирпичей
это различие имеет вполне определенный смысл и
решается, в частности, с помощью присвоения каждому кирпичу
* Яу Ш., Надис С. Теория струн и скрытые измерения
Вселенной. - СПб., 2016. - С. 169.
261
отдельного номера при пересчете, то есть в рамках строгой
Д1 К-математики. В отношении частиц, подчиненных
суперсимметрии и имеющих античастицу, подобный вопрос
некорректен, как и вопрос о «цвете» электрона, ибо
физическая реальность, соответствующая цвету, еще не
появилась. Но вот вопрос, представляющий чрезвычайный
метафизический и онтологический интерес: является ли
тиражируемость и возможность строгого пересчета
следствием утраты суперсимметрии при охлаждении
(сползании в энергетическую яму) универсума, то есть как бы
компенсацией за отсутствие суперсимметричной пары?
Ответа на него пока нет. Но можно сказать, что
математика раннего мира (или математики во множественном
числе) требуется тогда, когда суперсимметрия уже
утрачена, стало быть, различие между тем же самым и таким же
возможно, а строгая экземплярность, описываемая Д1К-
математикой, еще не достигнута. То есть, типа,
пара-тройка касаний запросто зачтется за единицу, а вот дюжина-
другая уже не зачтется, ей будет соответствовать другое
число ДЫК-математики. И некоторые вопросы,
относящиеся к присутствию регионов нашего мира и решаемые
с помощью привлечения сложного инструментария
математик однократного касания, могли бы найти более
простое и изящное решение при правильном выборе
необходимой -математики.
Но кое-что может быть решено в общем виде даже на
примере простейшей ранней математики с ее
единственным пока правилом: количественная оценка предполагает
не более чем двукратное касание считаемого. И не будем
забывать, что «неточность» этой математики
относительна. В мире строгой экземплярности или, если
угодно, в мире, где преобладают отпавшие от времени отходы
262
хронопоэзиса, только математика однократного касания
точна. Но существует класс ситуаций (в том числе и в
нашем мире), для которого именно Д2К-математика будет
наиболее точной, наверняка найдутся миры оптимальной
точности и для иных математик.
6
Рассмотрим рассуждения Витгенштейна на тему «вид
вблизи и вид издали». Если нам нужно прочесть
вывеску, то для этого существует оптимальная дистанция,
последующее приближение к надписи нам ничего не даст,
а только собьет с толку. То есть для конкретной задачи
прочтения вывески дальнейшие подробности равносильны
помехам и потому являются помехами. Так и некоторые
ситуации или объекты, описываемые Д2К-математикой,
утрачивают свою ясность при избыточной фокусировке
экземплярности. ЭДке просматриваются некоторые
ближайшие и более отдаленные перспективы. Скажем, в
направлении теории вероятности - ее применение может
существенно сузиться, ведь сейчас в некоторых случаях
вероятностная оценка применяется там, где нужно
просто выбрать собственный ранг точности, который является
точностью именно для определенного класса явлений, то
есть нужно будет просто выбрать подходящую математику
из списка ДЫК (хотя понятно, что это возможно не во
всех случаях) - но преодолеть идею фикс о непременной
однократности касаний само по себе стоит много. Вот что
рассматривает в качестве очевидности один из
крупнейших современных математиков: «Подобный расчет
может показаться весьма странным занятием для того, кто
не увлекается нумеративной геометрией, - для тех же, кто
263
работает в этой области, подобная деятельность является
вполне привычной. На самом деле задача весьма
проста - это не сложнее, чем высыпать на стол конфеты из
вазы и сосчитать их»*.
Однако теперь, когда мы знаем, что и задача пересчета
конфет может быть решена неоднозначно, нумеративной
геометрии, вероятно, придется подыскивать другой
пример очевидности. Зато в конечном итоге арифметики
раннего мира могут помочь продвинуть и саму нумеративную
геометрию.
Следующей и, вероятно, самой перспективной
областью приложения ДЫК-математики, скорее всего, станет
новый тип отношений между количественными и
порядковыми числительными - и сопоставление одновременных
и последовательных множеств.
Привычные, «одновременные» множества
расположены в пространстве. Например, это множество корзин,
так что отдельно взятая корзина будет исходным,
минимальным элементом такого множества. Однако сама эта
корзина может быть разложена в последовательный ряд
предъявлений (экспозиций), описываемый примерно так:
вот корзина, вот корзина, вот опять корзина... В
последовательных множествах различие между тем же самым
и точно таким же в общем виде не задано, из чего такие
множества следует рассматривать как более простые, не
требующие специального пространства для размещения
своих элементов.
Все это вытекает из отмены требования
однократности касания при пересчете. Какие еще изменения связаны
* Я у Ш., Надис С. Теория струн и скрытые измерения Вселен
ной. - СПб., 2016. - С. 207.
264
с этой отменой в корпусе математических и, в частности,
арифметических операций? Какие другие модификации,
не связанные с однократностью или неоднократностью
касаний, могут быть внесены в математику раннего мира
(если она не только арифметика)? И как рассматривать
специфику математики раннего мира в отличие от физики
первых секунд?
7
Попробуем поразмышлять над очень важным
спекулятивным тезисом. Речь идет о гегелевском принципе
соотношения с самим собой. Опишем это так: лишь бытие,
соотнесенное с самим собой, становится наличным
бытием, обретает статус экземплярности, статус определенного
нечто. Бытие, в котором такое соотношение не
выполнено - еще не выполнено или не выполняется вообще, - есть
непосредственно ничто. Такова подразумеваемая
первичная тавтология:
Боль есть боль.
Утро есть утро.
Стул есть стул.
Масло масляное или оно не масло вовсе*.
Получается так: чтобы зарегистрировать сущее в
качестве сущего, его надо «коснуться дважды», задать
тавтологию - в противном случае оно исчезнет («то ли есть, то
ли нет, вообще какой-то бред», как пишет Ксения
Александрова). Получается какая-то «неполноценная» мнимая
единица, ее сразу не стоит отождествлять с привычной
* См. подробнее: Секацкий А. Философия возможных миров. —
СПб., 2016. - С. 49-67.
265
мнимой единицей ι, но присмотреться стоит, в чем-то эти
объекты (или сущности) похожи. Традиционное
определение - i = V - 1. Новое определение пока затруднительно
описать строго математически: i - это «недосчитанный»
объект в том мире, где требуется минимальная двукрат-
ность касания.
Наша Д2К-математика содержит правило, что
допустимо касание не более двух раз. Следует ли теперь ввести
систему, где касание должно осуществляться не менее двух
раз?
Ответ: нет. Такую систему специально вводить ни
к чему, поскольку она уже присутствует и известна как
натуральный ряд чисел нашей обычной арифметики. Просто
непременная двукратность касания там как бы вынесена за
скобки или, как любит выражаться Ален Бадью, принята
за единицу - уже принята*. Пересчет с помощью
натурального ряда чисел в действительности представляет
собой сопоставление символов и объектов, а сопоставление
невозможно без двукратного касания. Рассуждая совсем
наивно, когда мы считаем высыпанные на стол пуговицы
или конфеты из вазы, мы сначала видим конфету, а
потом ее считаем, то есть соприкасаемся сначала
визуально, а потом символически, в порядке присвоения числа.
Возможен промежуточный тактильный контакт, который
для слепого является необходимым. Мы ставим в
соответствие объектам натуральный ряд чисел, что очевидно
предполагает двукратность (вот объект, а вот его число,
символ), это настолько очевидно, что нет никакого
смысла о двукратности помнить, и мы для удобства принимаем
двукратность за однократность. Указывая на картину, мы
* Badiou Alain. Being and Event. L., 2010. - P. 98-101.
266
ведь не говорим: «Это изображение кошки», а говорим:
«Это кошка» - но все же, если от нас потребуют
уточнении, мы согласимся, что перед нами изображение
кошки. В случае счета маскировка двукратности произведена
эффективнее и принятие за единицу внедрено до самых
глубин естества. Поэтому здесь аналогичный уточняющий
вопрос может поставить нас в недоумение, как и тот факт,
что тавтология «а есть а» далеко не так банальна, как
кажется. Мир существует потому, что а есть а.
Впрочем, применение натурального ряда чисел (счет)
имеет свою сингулярность, легко визуализируемую в
отношении более «ранних» порядковых числительных. Тут
уместно вспомнить один из любимых тезисов Хайдеггера
и Жака Деррида: «Второе конституирует первое». Первое
может появиться лишь после второго, поскольку до
появления второго непонятно, по отношению к чему первое будет
первым. Действительное разрешение данного парадокса
состоит в его обобщении, в указании на его отнюдь не
эксклюзивный, а как раз всеобщий характер. Всякий объект,
снабженный порядковым номером, есть объект дважды
сосчитанный. Напрашивается сопоставление с тем, что
всякий человек, а не только брахман, является дважды-
рожденным (А. М. Пятигорский). И тут же вновь актуа-
лизуется гегелевское положение о том, что существующее
воистину есть только после соотношения с самим собой,
а без такого соотношения оно исчезает в мультиверсуме и,
как принято говорить, «не считается».
Кстати, тяжба, идущая в этом мире по поводу того, что
считается, а что не считается, в философском ключе
совершенно не проанализирована, а ведь этот вопрос по-своему
не менее важен, чем знаменитый хайдеггеровский вопрос:
«Почему вообще есть сущее, а не наоборот - ничто?».
267
Впрочем, возможно, они не так далеки друг от друга, эти
вопросы. Парадоксальная житейская мудрость здесь пока
опережает строгую метафизику:
Упавшее, но быстро поднятое упавшим не считается.
Один раз - не пидарас.
Где философские комментарии к этим парадоксальным
выводам? Считая что-нибудь, мы решаем задачу
«сколько?», и задача эта кажется простой и понятной, в
сущности, это самая простая арифметическая задача. Но она
проста лишь для специально обработанных и отобранных
объектов, в общем же виде она непременно имеет
скрытую подводную составляющую, которая настолько сложна,
что не поддается формализации и алгоритмизации.
Итак, что считать, а что не в счет? Если мы считаем
повороты направо, то куда деть эту едва заметную тропинку?
Не будет ли все зависеть от того, едем ли мы на
автомобиле, на велосипеде или идем пешком?
Или, если от нечего делать начинаем считать ворон, то
как быть с сорокой?
И если мы считаем высыпанные из вазы конфеты, то
мы, конечно, не будем считать уже сосчитанные (принцип
Д1К), но как быть с теми, которые кто-то надкусил, а
затем аккуратно завернул, с теми, которые растаяли и
слиплись? В рамках ДNК-математики может существовать
хороший, по-своему наиболее точный ответ: «Ну, штук
десять конфет имеется», однако с точки зрения Д1К он
вряд ли будет признан ответом вообще.
Уместно, пожалуй, привести подходящий анекдот на эту
тему, который мне известен в виде анекдота про
Чапаева. Женой Василия Ивановича в этом анекдоте является
Анка-пулеметчица, ну а Петька при таком раскладе - ее
любовник.
268
Итак. Приходит Василий Иванович домой, а Анка по
традиции прячет любовника в шкафу. И чтобы отвлечь
внимание, заводит речь о том, как она нуждается в новом
платье.
- Да у тебя этих платьев, - возмущается муж, -
чертова уйма.
И для убедительности открывает шкаф и начинает
считать:
- Вот смотри: раз, два, три, здравствуй, Петька,
четыре, пять...*
С позиций Д1К-математики Петька, безусловно, не
считается. С точки зрения реальной жизни Петька еще
как считается - до такой степени, что не считаются уже
все последующие платья, начиная с четвертого, а заодно,
post factum, и первые три. Но зато Василий Иванович
предстает здесь как настоящий ученый, как математик
с большой буквы. Его можно сравнить разве что с
Архимедом, который, увидев над собой занесенное копье
римского воина, воскликнул: «Не тронь мои чертежи!»
Конечно, случай с Петькой из ряда вон выходящий, но
он все же демонстрирует, что Д1 К-математика - очень
строгая наука и, в известном смысле, нуждается в
тепличных условиях для своего существования. «Тепличные
условия» здесь, конечно, следует понимать предельно широко:
в применении к универсуму требуется достаточная степень
его остывания, кристаллизация отчетливой экземплярно-
сти - для математик, в которых однократность касания
необязательна, таких тепличных условий не требуется. Среди
прочего это означает, что человеческий мир, или семиозис,
представляет собой самостоятельную темпоральность;
В другой версии Чапаев говорит: «Тебя, Петька, не считаю!»
269
с позиции универсального хронопоэзиса этот мир еще
достаточно юн, но постепенно дрейфует к
остыванию-старению.
Точкой полного «одряхления» можно считать
ситуацию, когда Петька и вправду будет не в счет - до такой
степени, что обитатели такого мира просто не поймут,
в чем же прикол данного анекдота...
Но и в физическом универсуме есть «фракции», лучше
всего описываемые вольной математикой - вольной в
отношении того, что и сколько раз считается, но все же отнюдь
не лишенной правил: например, законы симметричности,
коммутативности, транзитивности могут быть по-прежнему
применимы к важнейшим операциям. Правда, в каждом
случае это придется оговаривать особо - даже по
отношению к операции сложения в сравнительно близкой нам
Д2К-математике.
8
Вернемся к сопоставлению одновременных и
последовательных множеств. Решающим моментом здесь является
рассмотрение и представление последовательностей
именно как множеств, имеющих элементы, даже если эти
элементы не располагают отдельным местом в пространстве,
а довольствуются общей, одной на всех, локализацией.
Несмотря на это, они могут быть выделены как элементы.
Речь идет о множествах, которые заданы только во
времени, о темпоральных множествах или множествах
самого времени. Они, несомненно, являются более ранними,
о чем свидетельствует ряд признаков - среди них как раз
270
и отсутствие строгой однократности касания*. То есть
порядковые числительные по природе своей древнее
количественных. Последовательности, состоящие из элементов
неопределенной размерности, суть множества наиболее
общего вида. В них остается неопределенным, сколько
в той или иной последовательности мгновений, моментов
времени или «разов», - это, так сказать, понятие
растяжимое. Крайне затруднена и проверка комплектности
последовательных множеств, но порядковые числительные
берут свое начало именно здесь, хотя надобность
присвоить порядковый номер может быть не столь актуальной,
как необходимость узнать сколько.
Итак, последовательные множества - всмотримся
в них. Сразу же возникает вопрос: почему бы не говорить
просто о последовательностях, о длительностях или
просто о длительности, измеренной с помощью универсальной
внешней шкалы, например, с помощью какого-нибудь
циферблата или табло? Не являются ли чистой фикцией эти
«разы»? Допустим, мы произносим: вот камень. Все
понятно, он один, его можно прибавить к другим камням или
не прибавлять. Если прибавить, он будет элементом
множества, если нет - просто камнем. Однако затем мы
говорим, что и этот одинокий камень представляет собой
множество - только последовательное, а не одновременное.
Скорее всего, подумают, что мы имеем в виду множество
молекул, входящих в состав камня, но сторонники
реальности последовательных множеств только покачают головой.
Они скажут: нет, имеется в виду множество
предъявлений камня, которые, если угодно, можно описать совсем
* Как уже отмечалось, для точности следовало бы говорить об
однократности удвоенного касания.
271
по-детски: раз камень, два камень, три камень... Это
будет последовательное множество из трех элементов:
почему оно должно иметь меньше прав, чем одновременное
множество из трех камней?
Все дело в том, что принятие последовательных
множеств за единицу осуществляется автоматически. Для
одновременных множеств, даже в случае однородности
включаемых элементов, принятие за единицу не
происходит автоматически - а если элементы достаточно
разнородны, то их принятие за единицу представляет собой
«стандартную операцию ума» - простую и
общедоступную, если речь идет об инструментах, и весьма
изощренную, если речь идет, например, о «кэлеровых
многообразиях». В отношении последовательных множеств дело
обстоит противоположным образом. Нет ничего проще,
чем ухватить единство, будь то «весна», «история»,
«болезнь» или «выздоровление», но вот разложить это
единство на элементы (а значит, так или иначе рассмотреть его
в качестве последовательного множества) - это операция
не столько даже ума, сколько интуиции. Если
порядковые числительные рассматривать именно как нумерацию
элементов последовательных множеств, то представляют
несомненный интерес некоторые случаи действительной
жизни.
Например. «Считаю до трех: раз... два... два с
половиной, два с четвертью... три!»
Здесь используется, можно сказать, нестрогая
математика - но соответствующую жизненную ситуацию,
хорошо знакомую каждому, она описывает лучше любой
строгой. Элементы, которые в данном случае являются
интервалами, неоднородны (неравномерны), а касания
в данном случае можно приравнять к ожиданиям. Квант
272
ожидания (типа «экспект») не обладает фиксированной
размерностью и определяется изнутри явления (процесса).
Возьмем такое событие, как дружеская пирушка. Ее
тоже можно разложить на интервалы и рассмотреть как
последовательное множество. Но если сделать это извне,
такое представление не будет иметь особого смысла, мало
чем отличаясь от последовательного множества «раз
камень», «два камень», «три камень». Другое дело
калибровка изнутри, тут о последовательных элементах нам
известно куда больше, и к тому же относительно их
счета (включая присвоение порядкового номера) возможно
полное согласие сотрапезников. Кто же не знает того, что
«между первой и второй перерывчик небольшой», а вот
с четвертой, допустим, лучше не спешить. Известно также,
что первая - колом, вторая - соколом, а третья - мелкой
пташечкой. Количество элементов последовательного
множества будет варьировать в зависимости от угла зрения
или точки отсчета - скажем, опоздавший должен выпить
«штрафную», которая не в счет. Многое зависит от того,
как пойдет, и правильная последовательность элементов
будет характеризовать хороший, удавшийся пир, в
последовательных множествах с внутренней калибровкой есть
свои аналоги хороших форм и неудачных фигур.
273
Во втором случае, например, не была соблюдена
внутренняя размерность, и поэтому он распался, его труднее
принять за единицу. Последовательные множества с
однородными элементами лишены интереса в качестве
математических объектов: камень и бильярдный шар слишком
удобны в качестве штучности, что мешает им выполнить
роль последовательности. И они, эти множества, отнюдь
не лишены физического интереса; не будем забывать,
что появление множеств такого рода и их доминирование
(возобладание), собственно, и составило содержание
революции, породившей фюзис. Бесперебойная трансляция
тавтологий на частотах колебаний суперструн когда-то
стала очень хорошей новостью. Конечно, отходы и
ископаемые времени представлять в виде множества нет нужды,
их, если угодно, можно рассматривать как вырожденные
множества, - но отдельный нейтрон, протон и ансамбли
элементарных частиц в качестве множеств вполне
сопоставимы: в одном случае получится последовательное
множество, в другом - одновременное, но их взаимопереход
отнюдь не исключен.
И именно здесь следует искать решение загадки
тождества порядковых и количественных числительных:
количественное числительное «пять» будет указывать на
результат счета одновременных элементов, а порядковое
числительное «пятый» - на результат счета элементов
последовательного множества. Даже если перед нами пятый
шар, он не может быть пятым без своих
предшественников, без первого, второго, третьего и четвертого - и таким
образом вполне может быть сопоставлен с пятой попыткой
какого-нибудь испытания. Да, четырех предшествующих
попыток уже нет, а четыре «предшествующих» шара в
наличии - но, чтобы они были в памяти как первый, второй,
274
третий и четвертый, необходимо вновь составить
последовательное множество.
Только после того, как установлено сущностное родство
одновременных и последовательных множеств, перестает
быть парадоксом и утрачивает свой мистический характер
«тождество символа» для выражения количественных и
порядковых числительных. Так, еще Пиаже считал
«непостижимой конвенцией», определившей судьбы европейской
математики, то обстоятельство, что одним и тем же
значком, например, значком «5», обозначается и суммарное
количество объектов, и номер объекта по порядку. Пиаже
предположил*, что математика выглядела бы совершенно
иначе, если бы для порядковых и количественных
числительных использовались разные символы. Однако теперь
мы понимаем, что эта конвенция оказалась интуитивно
точной и просто опередила сущностное понимание.
Другое дело однократность касания - если в подсчете
элементов одновременного (пространственного)
множества она подразумевается по умолчанию, хотя в
действительности должна определяться эксплицитным выбором
соответствующей ДNК-математики, то в отношении
последовательных множеств (последовательностей или
длительностей) нумерация всегда была релятивистской.
Вот, например, неподкупный объективный наблюдатель
стоит у бильярдного стола и говорит: «Об этот борт
ударился уже пятый шар». Возможно, так оно и было, но
вполне возможно, что ударялись о борт всего два шара - один
дважды, другой трижды. Допустимо множество других
вариантов, но для наблюдателя за бортом это роли не играет,
* См.: Пиаже Ж. Генезис числа у ребенка // Избранные
психологические труды. — М., 1994.
275
он прав в любом случае. Точно такая же ситуация возникает,
когда речь идет о давлении на стенки сосуда: можно
приблизительно подсчитать, сколько молекул за единицу времени
ударяется в определенное место (скажем, туда, где
установлен счетчик). Однако дополнительное уточнение
относительного того, что какая-то конкретная молекула ударялась
несколько раз, а ее соседка ни разу - такое указание будет
совершенно ненужной подробностью.
В общем случае «быть пятым» - это крайне
релятивистское, зависящее от системы отсчета (не обязательно
стационарной) положение, и лишь в особо оговоренных
случаях, например, в спортивных состязаниях, можно
говорить о стабильном порядковом номере. Количественная
оценка более независима: «иметь пять объектов» - тут,
вроде бы, все понятно, но, как уже отмечалось, немало
ситуаций куда лучше описываются нестрогими математиками:
«Да есть у меня штук пять вариантов (предложений,
версий, мотков проволоки...)».
9
Вернемся к молекулам газа, находящегося в сосуде и
оказывающего давление на стенки сосуда, - это достаточно
распространенная модель для множества физических
процессов, как, впрочем, и для математики. Нас интересует
количественная оценка молекул, то есть «сколько их», и мы
можем пребывать в уверенности, что пересчет возможен.
Но счетчик у нас один - допустим, это крошечный
чувствительный квадратик, вмонтированный в стенку сосуда. Он,
наш датчик-счетчик, регистрирует соударения. И надо
признать, что о количестве молекул он может сказать немногое:
датчик описывает давление и то, от чего давление зависит.
276
Похожую ситуацию рассматривает известный физик
Ли Смолин: «Описание плотности и температуры
требует гораздо меньше информации, чем необходимо, чтобы
сказать, где находится каждый атом. Следовательно, есть
простой способ переводить микроскопическое описание
в макроскопическое, но не наоборот. Если известно, где
каждая из молекул, то вы знаете плотность и температуру,
которая является средней энергией движения. Но
наоборот сделать невозможно: есть множество способов того,
как атомы могут быть организованы микроскопически, что
в результате даст такое же состояние с теми же плотностью
и температурой. Переходя от микросостояний к
макросостоянию, полезно подсчитать, сколько микросостояний
согласуется с данным макросостоянием»*.
Вот если бы наш датчик представлял собой мишень,
установленную на стрельбище, он был бы хорошим
измерителем для количества пуль, попавших в цель. Понятно,
почему: один удар, одна пуля, со строгой однократностью
касания нет никаких проблем. Но в герметично запаянном
сосуде дело обстоит не так: ясно, что количество касаний
будет зависеть от температуры (средней скорости молекул
или атомов) и от степени сжатия газа.
При этом, поскольку правило строгой однократности
касания не выполняется, сказать что-нибудь
вразумительное о количестве молекул газа мы не можем.
В сосуде, если он, например, охлажден, может
оказаться много неторопливых молекул, в нагретом сосуде
меньшее количество молекул вызовет тот же эффект. В
конечном счете в сосуде может оказаться одна единственная
* Смолин Ли. Возвращение времени. От античной космогонии
к космологии будущего. — М., 2013. — С. 236—237.
277
«сверхшустрая» молекула, которая способна обеспечить
столько же касаний с датчиком, сколько это мог бы сделать
«полноценный» газ.
И у нас нет способа установить истину, допустим,
путем визуального контроля. Даже если стенки сосуда были
бы прозрачными, молекула (и молекулы в целом)
подкрашенными, а зрение - ну очень острое, - все равно
единственная сверх-шустрая молекула могла бы обеспечить
такое же мелькание перед глазами, как и множество молекул
не столь шустрых.
Но главное, если эффект одинаков, то в большинстве
случаев знать точное количество молекул нет никакой
нужды, эта информация нам ничего не добавит. С таким же
успехом, как порядковые номера, мы могли бы дать
молекулам имена, назвать их Васей и Люсей. Это значит, что
строгая экземплярность на данном уровне нерелевантна,
равно как и Д1К-математика с ее непременной
однократностью касания*.
* Еще раз отметим, что вместо маниакальной погони за точностью
подсчета лучше выбрать правильную, подходящую для данного
случая математику из списка ДМ К.
278
Далее следует обратить внимание на особую роль
температуры: чем она меньше, тем отчетливее выражен
принцип строгой экземплярности. Означает ли это, что
настоящая нужда в математике однократного касания и даже
возможность ее полезного, осмысленного применения
возникает лишь по мере остывания Вселенной, когда и
происходит консолидация «штучности», то есть появляются
различия между «точно таким же» и «тем же самым».
Стало быть, вырисовываются условия для
возникновения Д1 К-математики, в отличие от математик раннего
мира: Вселенная должна остыть, должна быть охлаждена
до ясной различимости ее атомов (квантов), а поскольку
температура есть время в действии (это слово буквально
переводится с латинского как «временение»), то
исходные события действительно предстают как появление
замедлений, отпадений от скорости света как первоначально
единственной скорости вообще. Базисное наглядное
представление тут нуждается в коррекции: мы обычно
представляем себе, что до скорости света нужно
разогнаться, - однако это вторичный иллюзион. Чтобы само время
началось, от скорости света нужно отпасть, необходимо
с нее соскочить, лишь после этого возможно соотношение
скоростей или бытие во времени. Но до появления
стабилизированных форм требуется еще дальнейшее накопление
хроноресурса. Сначала идет консолидация
последовательных множеств с различимым порядком моментов, а затем
появляются и одновременные множества с привычной нам
штучностью элементов.
Пока не совсем ясно, свидетельством чего является
изобильная штучность мира. Она, несомненно, требует
времени, но требует и того, чтобы часть хроноресурсов была
переведена в форму полезных ископаемых, «продуктов,
279
отпавших от продуктивности», говоря словами
Шеллинга. Вместе с тем принцип хорошо различимой штучности,
безусловно подлежащий ведению привычной
арифметики, положен в основу производства человеческих вещей,
в частности в форме товаров. Так что однократность
касания, по крайней мере в качестве идеала, определяет
и экономику - во всяком случае современную автономную
экономику, в отличие от слегка химерной
социалистической, где усушка, утруска и амортизация делали Д2К-
математику лучше применимой для рабочих расчетов.
Но еще раз отметим, что в мире остается немало полей
приложения ранней математики, не настаивающей на
различии того же самого и точно такого же, математики,
готовой рассматривать количество касаний за единицу времени
более важной счетной процедурой (а может быть, и
характеристикой реальности), чем количество дискретных
элементов «вообще».
В отношении математики раннего мира остается
чрезвычайно актуальным вопрос: быть может, она отчасти
ущербна как математика, поскольку сам мир (тот или иной
мир) на ранних стадиях еще не обрел отчужденность,
достаточную определенность матезиса, и архаические
остатки препятствуют осуществлению математических
операций в нем?
10
Тут попутно возникает и вопрос спекулятивный, а
может быть, даже и схоластический: если существуют миры,
пригодные для жизни (как для белковой, так и для жизни
вообще, то есть для репликации), то разве не могут
существовать миры, пригодные или непригодные для мате-
280
матики? Математики, возможно, удивятся подобной
постановке вопроса. Поскольку как раз для математических
построений далеко не всегда отыскивалась физическая
картина мира, множество объектов или миров
оказываются пустыми в смысле их физического наполнения (даже
в смысле возможной реализации), но вот чтобы, наоборот,
физически существовали нерелевантные для
математических построений миры - как это?
Ведь матезис есть некое измерение сущего, при
котором считают, вычисляют, соотносят формы и количества,
а не едят, не занимаются любовью. И не играют в футбол.
С другой стороны, играть в футбол - совсем не то, что
заниматься математикой, но мир, где играют в футбол,
совершенно точно допускает математическую идеализацию,
которая будет для чего-то да применима. Мир, в котором
есть одновременные множества, безусловно, математически
доступен, там возможен даже натуральный ряд чисел, при
котором математика заведется непременно, возникнет и
самая строгая Д1К-математика. Математически доступны
более ранние миры, пусть даже в них и не выполняется
требование однократности касаний. А есть ли «совсем ранние»,
непригодные ни для каких математических операций?
В качестве кандидатур на роль миров, непригодных для
математики, сразу напрашиваются продукты воображения
и само продуцирование, а также «ментальные состояния».
Чем, к примеру, может быть «топология грезы» или
соотношение количественных и порядковых числительных
в сновидении? Для сновидений, впрочем, придумано
немало собственных закономерностей, но уж больно далеки
они от математики (взять хотя бы фрейдовскую
символику). Математикам нечего делать среди галлюцинаций,
навязчивостей, проявлений онейрического. И тут можно
281
было бы просто пожать плечами, если бы не то странное
обстоятельство, что некоторые высшие или, лучше
сказать, более поздние ментальные состояния для некоторых
математических операций, включая счет, вполне пригодны.
Классификации, таксономии, ранжирования, вообще
пространства логики, очень даже уместны (не исключая и
логику здравого смысла). Они являются и математическими
инструментами, и площадками, пригодными для
математического исследования (или обследования). Типичные
задачи из вавилонского задачника «на каком расстоянии один
бог находится от другого бога?»*, быть может, не так уж
курьезны, как могло бы показаться - ведь вопрос о
«расстоянии» между папоротником и тополем в пространстве
универсальной биологической таксономии, безусловно,
имеет смысл, и это расстояние может быть точно
указано в единицах стандартной размерности, определено через
род и видовое отличие. В физическом пространстве
папоротник может расти рядом с тополем, соприкасаясь с его
стволом, а пальма - где-то далеко в тропиках, но в
таксономическом пространстве все наоборот, тем не менее
измерение расстояния допустимо в обоих случаях. А вот
вопрос о взаимной локализации грез двух друзей, сидящих
рядом и покуривших травку, лишен смысла как раз потому,
что онейрические миры непригодны для математики. Хотя
пригодны для своеобразной жизни, для обитания в них
популяций фантомов, фантазмов и других химерных
организмов того же рода.
Итак, очень важно, что внутри собственно
символического, там, где юрисдикция фюзиса уступает место юрис-
* См.: История математики. С древнейших времен до начала
Нового времени. Т. 1. Под редакцией А. П. Юшкевича. — М., 1970.
282
дикции семиозиса, мы обнаруживаем различные площадки
с точки зрения их доступности для математического
обследования. Значит, дело, возможно, не в том, что природа
может быть математически описана, а сознание и мир его
производных - нет, а в том, что как в рамках фюзиса, так
и в пределах семиозиса могут отыскаться миры,
пригодные для математического описания, и миры, совершенно
непригодные для этого. Что соответствует базисному
спекулятивному предположению о том, что семиозис
разворачивает самостоятельную реальность, трансцендентную
природе; это второй, или параллельный, Большой Взрыв,
равномощныи первому, но еще не успевший развернуть
всего того, что было развернуто природой и в качестве
природы, - и тем не менее некоторая изохрония уже
проявилась. Внутри Большого Семиозиса, то есть сферы
сознания и сознательного, тоже появились миры, пригодные
для математики, для некоторого математического
(например, топологического) описания. Следовательно,
появились и миры, пригодные для новой жизни (это тоже
спекулятивное предположение). Какой именно, пока трудно
сказать - будут ли это мемы, «оригинал-макеты», изоор-
ганизмы или что-нибудь еще...
Но сейчас нас интересует другое. Исходя из принципа
изохронии всех хронопоэзисов (что-то вроде
суперсимметрии, только в более общем темпоральном ключе,
включающем симметрию последовательностей), предположим,
что миры первых секунд не проницаемы для
математики. В них не задана экземплярность, как в сновидении,
где собственный дядя может предстать в виде кого
угодно и даже чего угодно (вспомним прекрасное описание
у Гоголя в «Иване Федоровиче Шпоньке и его тетушке»),
где отсутствуют абсолютная и относительная локализация,
283
отсутствуют привычные константы или есть такие, о
которых ничего не может сказать математика.
Чем слабее сила тавтологий, чем ближе мы к мультивер-
суму, тем более химерные миры, лопающиеся как
радужные мыльные пузыри, попадаются нам... Как возник, как
уцелел и восторжествовал среди них наш шедевр -
универсум с решающей силой тавтологии, мир, допускающий
в конце концов строгую математику однократности
касания, - это загадка.
Но что можно сказать об этих мирах-недомерках (или
недомирках)? Они химерны и эфемерны, им отпущено
слишком мало времени, чтобы зацепиться хоть за какую-
нибудь устойчивую регулярность, слишком мало даже для
того, чтобы соотнестись с самими собой. В отношении
калибровки пространства существует понятие «масштаб
планковской длины»; в этом микромасштабе гладкое
макропространство представлено какими-то обрывками, это
как бы вывернутый наизнанку ворс пространства. Тем не
менее, поскольку пространство уже проработано временем
и тавтология имеет некоторое преимущество над другими
соотношениями, математика (топология) может кое-что
о них сказать, пусть даже безотносительно к физическому
подтверждению. Интересующие нас недомирки
размещаются не в масштабе планковской длины, а в «интервале
Шустерлинга»*, поэтому в них не задано обыкновенное
темпоральное, гладкое время, время этого сущего, в
отличие от времени иного сущего. В недомирках слишком мало
времени в том смысле, что там ничего не имеет
продолжения, для него как раз-то времени и не хватает. В норме
* См.: Секацкий А. Время у Канта, Хармса и Чжуан-цзы //
Философия возможных миров. — СПб., 2016.
284
устоявшиеся причинные связи свободно пересекают
интервалы Шустерлинга, совершенно не обрываясь и не
отклоняясь при этом. В недомирках, гнездящихся в
интервалах Шустерлинга, обитают случайные исходы. Некоторые
не являются даже сингулярностями из-за отсутствия тех
регулярностей, из которых они бы выпадали.
Но не все недомирки и хронохимеры расположены
в интервале Шустерлинга, некоторые из них обретают
своеобразную паразитарную длительность «в карманах»
универсума вплоть до соприкосновения с каким-нибудь
мощным ритмоводителем, который развоплощает
случайные сингулярности и стабилизирует мир на избранных
частотах. Пока хронохимеру не достает пульс
магистрального времени, она длит свое присутствие, как диковинная
глубоководная рыба, ведь и событийность может
напоминать электрического угря, который сам себя кусает за хвост
и поджаривает, почему бы не допустить существование
не только недомирков, но и более или менее длительных
хронохимер на задворках универсума? Они даже могут
быть чем-то похожи на реликтовые этносы в терминах
Льва Гумилева: как только к ним вторгается
магистральное (историческое) время, собственное тепличное время
существования растаскивается без следа.
Итак, на задворках универсума, в его внутренних
карманах и в интервалах Шустерлинга, мы допускаем
наличие миров, математически неописуемых и физически
нерегистрируемых, поэтому о них, собственно, нечего
и сказать. Но многие миры с ограниченным хроноресур-
сом оказываются включенными в состав универсума, и их
математическое описание, по крайней мере некоторое
обследование, становится возможным в рамках какой-либо
ДN К-математики.
285
Что ж, по-прежнему все еще напрашивается
соблазнительный ход сблизить два критерия - потенциальную
обитаемость миров и их математическую регистрируемость.
Может даже показаться, что действенность самой строгой
математики однократного касания равносильна антропно-
му принципу. Знаменитый кантовский принцип «в любой
науке ровно столько истины, сколько в ней математики»
хочется теперь дополнить другим принципом: в любом из
возможных миров жизнь возможна ровно настолько,
насколько возможна в нем математика. Однако, при всей
соблазнительности, это ложный ход.
И
Если бы речь шла только о недомирках, о химерных
мыльных пузырях из диапазона Шустерлинга или о
реликтовых хронохимерах, существующих подобно
сталактитам в пещерах времени, наше предположение было бы
верным. Но, как мы уже видели, и сама восходящая жизнь
принципиально не схватывается строгой математикой
однократного касания. Семиозис - а под ним мы понимаем
сознание и его ближайшее окружение (личностную
культуру) - в соответствии с принципом изохронности похож
на молодой фюзис. Здесь, в семиозисе, есть свои аналоги
суперпозиций (среди них тотемные отождествления), есть
удивительные процедуры принятия за единицу, которые
давно отсеяны в остывающем космосе, есть продукты
воображения и самого мышления, принципиально не
подчиняющиеся принципу локализации. Лишь некоторые
компактные зоны внутри семиозиса полностью подчиняются
магии натуральных чисел, в частности, такой магической
процедуре, как пересчет со строгой однократностью каса-
286
ния. Внутри фюзиса-космоса это прежде всего
относится к «продуктам, отпавшим от продуктивности»
(Шеллинг) - к разбросанным камням, раковинам, астероидам,
а внутри семиозиса - к сфере сделанного, где принцип
штучности, строгой экземплярности является
основополагающим и нерушимым.
В целом же и восходящая жизнь, и сознание в режиме
ego cogito (то есть собственно сознание), и всякая юная
Вселенная вообще должны содержать как бы
неповрежденные стволовые клетки, сферы, принципиально не
подчиняющиеся Д1 К-математике.
Напротив, отсутствие таких сфер, возможность полной
инвентаризации мира с помощью натурального ряда,
скорее, указывает на то, что жизнь в этом мире иссякла или
иссякает. Если процедура счета превыше всего и вторжение
постороннего агента удостоится в лучшем случае реплики
«Здравствуй, Петька!», мы имеем дело с прогрессирующим
остыванием, устремленным к абсолютному нулю.
Что же касается закона неизбежного остывания, то есть
второго закона термодинамики в самом расширительном
толковании, то к нему есть очень существенные вопросы.
Вопросы эти по большей части спекулятивные, но,
впрочем, не чуждые и физике*. Речь идет прежде всего
об особенностях хроноресурса. Во всех замкнутых
системах перепады температур (или, если угодно, перепады
активности, интенсивности временения) сглаживаются,
постепенно скапливается все больше отложений, полезных
и бесполезных ископаемых времени. Если угодно, самых
примитивных и самых стабильных регулярностей.
* См. уже упоминавшуюся книгу Ли Смолина и работы Джулиана
Барбура.
287
Но дело в том, что всегда возможен захват тем или
иным ритмоводителем любой темпоральности, благодаря
чему всякий раз возникает некое новое соотношение и тем
самым хроноресурс непрерывно возобновляется.
Результатом свершившегося захвата, нового соотношения, тоже
является темпоральность, попросту говоря, время -
временно свободное время. Конечно, нелегко вырваться из-
под власти стабильного, устоявшегося ритмоводителя, но
и такие события происходят. Если отбросить не слишком
содержательный термин «флуктуация», то их можно
охарактеризовать как переход от связанного хроноресурса
к свободному, что может повлечь за собой быстрый
«разогрев», интенсификацию временения.
Возьмем большой ритмоводитель биологической
жизни, мощную принудительность, которая постепенно, в
соответствии со вторым законом термодинамики, становится
связанным хроноресурсом. Это астрономический
календарь, соотношение таких регулярностеи, как орбитальное
движение планет вокруг Солнца, вращение Земли вокруг
собственной оси, вращение спутников и многое другое,
и все это вместе как «соотношение с соотнесенным»
(Шеллинг), безусловно, богатый хроноресурс, хотя и нет такого
богатства, которое нельзя было бы промотать. На
поверхности нашей планеты это совокупное временение
предстает как день и ночь, как смена времен года, фаз луны и т. п.
Хроноресурс настолько значителен, что им грех было бы не
воспользоваться, и, в сущности, вполне справедлив тезис
Джулиана Фрэзера о том, что жизнь - это просто
биологические часы*. Лучше сказать, что это совокупность
считываний как общих периодичностей, так и результатов
* Frazer J. Time as Conflict. — Basel, 1971. — P. 71.
288
считывания друг друга. В этом континууме вполне
сопоставимы такие феномены, как «цветение» и «цветок».
Цветок (организм) предстает просто более разветвленным
и изощренным считыванием, куда добавлена как бы
законспектированная эмбриологическая часть. Но, по сути
дела, биологическими часами являются не только
цветения, сезонные миграции, циркадианные ритмы, но и сами
организмы - здесь не место углубляться в эту тему*.
И все же орбитально-планетарно-сезонный хроноре-
сурс задает и ограничения, которые не может преодолеть
жизнь в этой достаточно замкнутой системе. Выход за
ограничительные линии парадоксальным образом связан
с отцеплением, отсоединением от ритмоводителя (с его
навязчивым режимом) и подключением к какому-нибудь
свободному, отнюдь не системообразующему органическому
хроноресурсу. В случае разумной жизни, в человеческом
случае, это было отсоединение от больших цикличностей
природного календаря и подключение к периодичности
колебаний маятника. Синтез альтернативного великого
синхронизатора имел, конечно, экзистенциальные причины
и породил новое экзистенциальное измерение, но сейчас
он нам важен как способ отклонения второго закона
термодинамики. Колебания маятника и ряд других процессов
в том же роде представляют собой архаический,
совершенно бесхозный хроноресурс, но в своей совокупности они
позволили создать автономную систему отсчета, не
подключенную к мощным регулярностям планетарно-астро-
номического цикла. Посредством часов, не подключенных
к планетарному ресурсу, создается независимая система
* См. подробнее: Секацкий А. Иллюзион времени. (Издание
готовится к печати.)
289
причинения, внешним проявлением которой становятся
графики и расписания.
В этом заключается парадокс, не имеющий отношения
к математике раннего мира, но на нем все же стоит немного
задержаться. Речь идет о двух линиях понимания и даже
ощущения свободы, почти совсем не связанных друг
с другом. Это свобода от природы, от диктатуры
больших регулярностей, включая и регулярности собственного
тела (такое понимание преобладало от греков до Канта),
она как раз предполагает сброс ритмоводителя и
прекращение танца пляшущих человечков. Но, с другой
стороны, свобода понимается и как уклонение от дисциплины
времени, как дистанцирование от новых диктаторов -
циферблатов. И то, и другое, будучи по видимости
противоположным, соответствует внутреннему чувству свободы.
Что ж, в каком-то смысле справедливо будет сказать, что
клин клином вышибают. Однако крайне важный момент
состоит в том, что бросовый хроноресурс маятника сам по
себе является заменителем и заместителем чего-то другого,
а именно риск-излучения, которое составляет
онтологический квант свободы.
Речь идет о ситуациях, в которых всегда возможен иной
исход. Идеальными и даже оптимальными являются
другие ситуации: точно просчитанные, тщательно
аргументированные, многократно согласованные. И все же люди
будут оставаться людьми лишь до тех пор, пока важнейшее
содержание их жизни будет определяться ситуациями,
исход которых не предрешен.
Вообще, власть рутины снимается посредством
жребиев, однократных машин судьбы, вроде подброшенной
монеты, и инаугурация свободы всегда сохраняет характер
решающего выбора. Пресловутый маятник или любая аль-
290
тернативная регулярность, по которой социум устраивает
свое бытие во времени, служат условием свободы. Но если
Время Циферблатов и его производные сами получают
абсолютное доминирование, условием свободы вполне
может стать возвращение к природному циклу: тот факт, что
время пришло. Так что фактор взаимного расклинивания
и подстраховки действует.
Но в данном случае для нас важно другое, а именно
сама возможность выскочить из великой амортизации,
направленной к термодинамическому равновесию,
отцепиться от замедлений и стабилизации, выбраться из-под
пластов накопленного времени, которые как раз идеально
пригодны для математических расчетов и предсказаний.
Стало быть, именно наличие зон, подведомственных
математике раннего мира, свидетельствует о пригодности
данного мира для жизни - для восходящей жизни.
Появление же подобных зон может рассматриваться
как отпадение от устойчивых соотношений,
накладывающихся друг на друга, и прямое подключение к
какому-нибудь реликтовому хроноресурсу с неожиданной стороны.
Ну как тут не задать риторический вопрос: сможет ли
когда-нибудь человек напрямую подключиться к фоновым
колебаниям суперструн?
12
И тут поневоле придется затронуть эволюцию
времени - такой важный для нас аспект, как распределение хро-
норесурса. Поначалу имеются лишь последовательности,
представленные как последовательные множества. Сама
того не подозревая, математика располагает хорошим
инструментом для изучения последовательных множеств.
291
Здесь тоже уместно произвести более или менее
подробное расследование, своего рода экскурс в проблему.
Итак, когда-то, на ранних этапах хронопоэзиса
идеальное сходство не гарантировало самотождественности.
Но на следующих этапах, наоборот, даже отсутствие
какого-либо сходства не является основанием для отрицания
самотождественности. Обратимся к Канту: «Что человек,
благодаря безупречной жизни и положившей ей конец
смерти, приобретает (негативно) доброе имя как свое,
остающееся за ним, когда его уже нет как homo phaenom-
enon и что оставшиеся в живых (свои или чужие)
уполномочены защищать его перед судом (потому что
недоказанное обвинение означает для них всех опасность такого же
обращения с ними в случае их смерти) <...> это
удивительное, но тем не менее бесспорное явление a priori
законодательствующего разума, простирающего свои веления
и запреты за пределы самой жизни»*.
Формулировка очень хорошая. Человек и после смерти
отстаивает свое доброе имя в суде. Он осуществляет это
с помощью уполномоченных, но это по-прежнему он.
Что ж, пока рабочая гипотеза не исчерпала себя -
гипотеза, в соответствии с которой продукты образуют
некий континуум, где последовательно задаются операции
«временение», «бытие во времени» и «возраст». Причем
последовательность этих операций не обязательно
соответствует вектору развития от простого к сложному. Да,
в некотором смысле можно говорить о совершенствовании
примитивных форм, используя такие понятия, как
консолидация, отделение того же самого от точно такого же
* Кант И. Метафизика нравов. Соч. в 8 т., т. 6. — М.,
1994. - С. 325.
292
(прогрессия самотождественности). Но при этом
происходит отпадение продуктов от продуктивности, угасание
стволовой линии временения. А это означает, что при
самом прогрессивном прогрессе легко проскочить
решающую развилку, и тогда бытие к смерти некой популяции
хрономеров оказывается уже необратимым.
Как соотносятся прогрессивное развитие и старение,
высшее и старое (дряхлое) - вопрос отнюдь не праздный и не
схоластический, особенно в такой постановке: в какой момент
и почему самое прогрессивное становится старым? Можно ли
этого избежать, и если да, то как? Возможно, например, что
существуют различные типы хронопоэзисов, список которых
не закрыт - среди них может обнаружиться и такой, где не
задана старость как бытие к смерти. Или где расширенное
воспроизводство хроноресурса не ведет к интоксикации.
Допустив, что высшая степень самотождественности
принадлежит «нетленке», признанным творческим продуктам,
мы замечаем, что нетленность, то есть некая жизнь,
обеспечивается не путем изъятия (выпадения) из времени, а
путем особой причастности к нему. Не как к пульсации чистого
временения, идеалом которого является весна, «не
помнящая родства», сохраняющая некоторую иллюзию
самотождественности благодаря антропохронизму. Можно сказать:
«снова пришла весна», вопрос в том, пришла ли весна та же
самая, что уже приходила, или другая. Ответить не так
просто, ведь если она совсем другая, то откуда мы знаем, что она
весна? В действительности мы знаем это только потому, что
наши существительные, прежде всего наши понятия, не
учитывают различия того же самого и точно такого же...
Тем не менее у весны нет возраста, но есть время - она
сама есть время как временение. У сущего во времени нет
возраста, но есть локализация в пространстве. Однако
293
если все же у сущего есть свое время, то оно есть как
возраст - но не обязательно изохронный человеческому
возрасту, то есть точно повторяющий все его стадии. Скажем,
человеческий возраст имеет единственную юность и одну
старость. А может время, данное как возраст,
разворачиваться в ином хронопоэзисе?
И если на первом этапе время не благоприятствует эк-
земплярности, а на втором время абсолютно - в том
смысле, что абсолютно равнодушно к выпавшим в осадок
отходам метаболизма, - то в случае возраста оно благосклонно
к конкретному сущему, хотя именно здесь время обычно
считается безжалостным и ничего не щадящим.
Впрочем, мнения противоречивы - вслушиваемся
в господствующие оценки. «И меня срезает время, как
скосило твой каблук» - таков вердикт Мандельштама,
как всегда глубокий и задевающий суть. Время ведет свою
охоту, расставляет капканы, устраивает облавы, куда
попадаются последние одинокие волки, в конце концов
затравленные временем.
Но, как известно, оно же и лечит, залечивает раны,
исцеляет. Исцеление, однако, несет в себе некоторый привкус
горечи: ведь и исцеляет оно путем удаления из памяти,
стирания, путем местной и общей анестезии - так по крайней
мере кажется при рассмотрении в масштабе вид издали...
Что ж, теперь обратимся к возрасту символических
представительств и еще раз задумаемся об их
причастности к известным заклинаниям «рукописи не горят» и
«нетленное не тлеет».
Символические представительства подвержены
возрасту, хотя темпоральная формула в данном случае
другая. Организмы и, так сказать, изоорганизмы не обязаны
иметь одинаковый эмбриогенез, в частности, не обязаны
294
иметь одну-единственную старость или юность - в случае
символических представительств их может быть несколько
при сохранении возраста как такового.
Вот, например, призрак Декарта, его символическое
представительство в нашем посюстороннем мире. Это его
мысль, живущая в текстах как в своеобразном посмертном
теле. Можно ли сказать, что наследие Декарта вне
времени, вне возраста и ему ничто не грозит? Только на первый
взгляд, если же присмотреться повнимательнее, мы
обнаружим, что это символическое бытие-в-посмертии
образует своеобразную жизнь. Декарт вступает в споры и
защищается благодаря своим уполномоченным, завербованным
душеприказчикам вроде тех, о которых говорил Кант.
В целом к нему относятся почтительно и сохраняют
дистанцию, что соответствует благополучной старости -
преимущественно он в ней, в этой благополучной старости,
и пребывает, и она, пожалуй, на ступень выше, чем просто
нетленные мощи. Однако порой вдруг наступает вторая
молодость, а затем и третья молодость. Общение
неожиданно становится более темпераментным, фамильярным,
а это свидетельствует о том, что некий переменный
возраст сопровождает Декарта в его символических
представительствах, хотя это происходит иначе, чем в полноте
телесной воплощенности. В общем, справедливый в целом
тезис, что текст есть транспорт в бессмертие, нуждается
в некоторой поправке. Приписывание посмертного
возраста умершему Декарту не означает услуги,
оказываемой только ему, так сказать, повышения в чине. Это еще
и продление жизни мысли как некой уникальной
совокупности идей, допускающей повторное и возобновляемое
продумывание. Если бы эта мысль не была сгруппирована
под именем Декарта, она сама пострадала бы как мысль,
295
она бы рассеялась, рассыпалась в анонимные утверждения
типа «принято считать», и нечто уникальное для мысли
было бы потеряно. Тем самым присоединение идей к
единству имени и некой человеческой фигуры есть забота об
их живучести, а не только реликтовое отправление
культа мертвых. Настойчиво сохраняемая и воспроизводимая
причастность ко времени прямо противоположна
«изъятию из скоротечного времени» во имя обретения
нетленности. Выражаясь в духе Ницше, можно сказать примерно
так: воля к власти, находящаяся в состоянии перманентной
экспансии, должна зацепиться за время любой ценой,
иначе будет распылена и развоплощена, при этом
предпочтительнее сгущения темпоральности, самым мощным
из которых является субъект. Стать субъектом - значит
на время подчинить себе время - форма субъективности
и есть главный выигрыш во времени.
Теперь мы можем дать более взвешенный ответ на
вопрос о роли персоналий в хранении и трансляции знания. Эта
роль - причастность к единству имени - безусловно отлична
от роли логических связок и самого момента установления
истины. Но она исключительно важна и даже незаменима
как раз для живучести, для того, чтобы знание в своих самых
ценных моментах не убывало и не рассеивалось.
Казалось бы, отбрось случайные привязки, оставь
одну только логику истины, пиши от имени Абсолютного
Духа - и восторжествует чистое знание. Что называется,
«сотри случайные черты». Однако эту установку не
удалось реализовать даже Гегелю, и похоже, что в случае
исчезновения всех персонажей (в данном случае персонажей
истории философии) никакие логические связки не
помогут. Личностное знание потерпит непоправимый ущерб,
а другого знания и не бывает. Причастность ко време-
296
ни - в форме возраста, в форме субъекта, через режим
экстренного сохранения самотождественности (несмотря
на возраст, несмотря на смерть) - это высочайшая сила
самого бытия.
Попробуем сделать еще один шаг. Итак, выяснились
две важные вещи.
1. Возраст предстал перед нами как беспрецедентная
привилегия, даваемая самотождественности, привилегия
над базисными тавтологиями, над простейшим
ритмическим рисунком фонового времени.
2. Возникнув на верхних этажах хронопоэзиса,
возраст затем был задним числом приписан множеству
темпоральных объектов или, скажем так, последовательным
множествам самого разного рода. Можно утверждать, что
основой антропоморфизма, его простейшей
автоматической операцией стал антропохронизм, или произвольное,
неразборчивое наделение возрастом всех темпоральностей
независимо от их «сопротивления».
Возникает логичный вопрос: в какой мере такой
антропохронизм остается безнаказанным для сущего, остается
всего лишь трансцендентальной иллюзией или он все же
оказывает воздействие на простейшее темпоральное?
Рассмотрим в этом ключе последовательные
множества и способы принятия за единицу. Пока мы имеем дело
с регулярностями, будь то планетарные цикличности или
спины элементарных частиц, принятие за единицу
ориентировано исключительно на «основу», на продольные
соотношения. Так заведомо условной и ретроспективной
выглядит такая единица, как «весна 2002 года». Было
бы странно говорить, что родившаяся в том году весна все
еще как-то сводит концы с концами, хотя и неважно себя
чувствует... « Продольная », планетарно -астрономическая
297
самотождественность не допускает таких операций.
Между тем какой-нибудь Иван Авоськин, родившийся тогда
же, жив-здоров и чувствует себя неплохо. Да, конечно,
сегодня он угловатый и довольно агрессивный подросток
и нисколько не похож на младенца четырнадцатилетней
давности. И что же получается? Весна, только что
проявившая себя в этом году, значительно больше похожа на
весну 2002-го, и тем не менее это другая весна, а
сегодняшний Иван совсем не похож, и тем не менее это тот же
самый Ваня Авоськин!
То есть в отношении него была проделана другая
операция принятия за единицу. И единственное, что о ней сразу,
навскидку можно сказать - она была «поперечной», а не
«продольной». Если вернуться к абстрактной картинке
последовательных множеств, можно сообразить, что при
выборе элементов (последовательных предъявлений) их
однородность перестала играть решающую роль, ей на
смену пришел решающий выбор, который может быть
и выбором имени, но не только.
Поэтому несомненный интерес вызывает
сопоставление роли имен, закрепляющих приоритет возраста, с
ролью важнейших констант-сингулярностей, незыблемо
сохраняемых среди всех регулярностей универсума. Число
«пи», число е, постоянная Планка и прочие сингулярности
того же рода - что общего у них с Юлием Цезарем,
Григорием Отрепьевым и тем же Иваном Авоськиным? На
первый взгляд ничего, кроме того, что они сохраняемы,
несмотря на размывающие волны регулярности. Но вот
число «пи», которое, собственно, не совсем число, а
сингулярность, имеющая, среди прочего, и числовую ипостась.
Вроде бы это число «берется из круга», будучи отношением
длины окружности к длине ее диаметра. Но впоследствии
298
число «пи» появляется то тут, то там, в самых
неожиданных местах, не имеющих отношения ни к окружности, ни
к ее длине. Почему соотношение выполняется повсюду, во
множестве взаимно-трансцендентных определенностей?
И на что это похоже? Ну, чем-то похоже на способ бытия
Вани Авоськина: вот он несмышленый младенец, вот
подросток, лучше всех разжигающий костер в лагере скаутов,
вот он переезжает в Казахстан, где решает разводить овец.
Вот он среди обитателей дома престарелых - и все это он,
все тот же Авоськин, просто у него разный возраст. То
есть перед нами мелькают различные регионы времени
и пространства, но константа «Иван Авоськин» задана
везде, и поэтому она как бы мирообразующая константа.
Не так ли обстоит дело и с великими сингулярностями
универсума? Вот число «пи», оно много где задано и во
многих местах своего задания несоизмеримо с собственным
окружением. И как число по отношению к рациональным
числам оно иррационально.
Подобную ситуацию можно описать и так. Вокруг уже
«наросли» регулярности, не соотносимые с объектами
какого-то далекого, давно забытого мира, но избранный
объект «пи» остался в качестве нерастворимой,
неуничтожимой сингулярности.
Возражений против такого спекулятивного
предположения, конечно, достаточно. В человеческом мире возраст
есть нечто универсальное, свойственное всему, что имеет
имя. А в природе констант сравнительно мало. Значит ли
это, что сопоставление ложно?
Опять же, есть два соображения.
1. Возможно, мы знаем не все константы и
сингулярности природы. И, скажем так, не все они имеют вид
числа, как в случае числа «пи» и числа е. Они суть просто
299
сингулярности, не имеющие причин или по крайней мере
все еще действующих причин. В том, что некоторые
хорошо замаскированные константы еще будут обнаружены,
практически нет сомнений.
2. Возможно, что за давностью времен определенные
константы-сингулярности «занесло илом»,
напластованиями регулярностей и отложениями времени, так что они
перестали действовать, выбыли из состава бытия и не
сохранились даже в форме прошлого. То есть осталось меньше
мировых констант, чем их было в начале (остальные
поглощены регулярностью), но оставшиеся сохраняют
стабильный матричный узор. Эти соображения следует принять во
внимание, поскольку и человеческие сингулярности
(персоналии) тоже заносит илом времени. И лишь единицы
из них остаются мировыми константами, несдвигаемыми
опорами авторизованного мира присутствия - культуры.
Да, Аристотель, Шпенглер, Рембрандт никуда не денутся,
но все близлежащие сингулярности смыты и поглощены,
они становятся чем-то вроде «малых голландцев». Закон
«слипания вкладов» действует в трансляции культуры и,
возможно, представляет собой изохрону, существующую
на уровне миров. И если присмотреться, то оставшиеся
персоналии-константы ведут себя в гомогенном дискурсе
подобно числу «пи» среди рациональных чисел - то
Ньютон с яблоком выглянет, то Эйнштейн со своей
скрипочкой, - однако и они сохраняют стабильный матричный
узор, и мир доступного, пополняемого личностного знания
разрушится, если их изъять...
И теперь вновь к процедуре Einselection. Если
результаты остывания и прогрессирующего накопления хроно-
ресурса приводят, в конце концов, к появлению строгой
штучности и, следовательно, обеспечивают релевантность
300
математики строгого счета, математики Д1К, то
захваченные врасплох константы, как бы провалившиеся в мульти-
версум, образуют другой формат матезиса.
Что ж, возраст в таком случае можно рассматривать
как шлейф уцелевшей сингулярности, таков, собственно,
прообраз возраста как торжество того же самого над точно
таким же. Именно в этом глубинная суть возраста, а вот
порядок стадий, комплектация такого высшего единства,
как возраст, может, в принципе, быть различной, что уже
рассмотрено на примере символических единств.
Да, существуют массовые приписки возраста тому, что
возрастом не обладает. Но не менее интересным является
и другое очевидное следствие из нашего тезиса. Оно гласит:
выпадение из возраста (из его ритма и
последовательности) чревато утратой самотождественности - собственно
индивидуальность в таком случае аннулируется. Лучший
здесь пример - психические расстройства, например
глубокий аутизм: достаточно ознакомиться с описанием этих
несчастных индивидов «без возраста», застрявших в
возрасте, например, трехлетнего ребенка. Они больше
всего подходят под определение «никто и звать никак», хотя
как-то их, конечно, зовут. Так что весьма двусмысленно
звучат строки известной советской песни: «Не расстанусь
с комсомолом - буду вечно молодым».
Это совсем не такой уж успех в деле сохранения
самотождественности, как может показаться, хотя все же
лучше, чем быть совсем никем и никаким - ни юным, ни
молодым, ни старым. Вот месяц апрель остается «вечно
молодым», но о нем никто не скажет, что это тот же самый
апрель... Приходится выбирать - или быть самим собой,
или быть все время одного и того же возраста - то есть вне
возраста.
301
13
Теперь выскажем следующее предположение, тоже,
разумеется, спекулятивное. Принято считать, что
введение произвольных сингулярностеи разрушает картину
мира, вступает в непримиримое противоречие с его
математическим и физическим описанием. Простейший
пример и устоявшийся термин для таких случаев - чудо. Где
чудеса, там науке делать нечего, кто же этого не знает...
Но подойдем к делу несколько иным образом. Вот перед
нами некая сумма налаженных регулярностей, или
естественный ход вещей. Происходит ряд чудес - назовем
это выпадением сингулярностеи, как если бы Бог в
очередной раз бросил кости. В результате вся физика прежнего
мира и вся его математика оказались
дискредитированными. Эйнштейн исключал подобный вариант («Бог не
играет в кости»), исключал отчасти и потому, что все прежние
усилия прежних теоретиков оказались бы в таком случае
напрасными.
В каком-то смысле так бы оно и было. Но вот что
интересно: если бы эти странности, нарушающие
привычный ход вещей, в сущности, отменяющие его,
продлились бы некоторое время, они непременно
образовали бы некую иную физику и собственную математику.
Мы, конечно, не знаем, какую именно, но исходя из
факта, что когда-то примерно так и случилось, мы не
вправе отвергать возможность «спонтанной
математизации», возникающей просто в силу длительности,
в силу простого пребывания в существовании.
Регулярности «наросли бы», как свободный самовозрастающий
хроноресурс, и в этом «объеме» регулярности
расплодились бы непременно.
302
Поэтому, вопреки распространенному мнению, в
соответствии с которым математика вне времени*, мы вправе
выдвинуть другой, противоположный тезис: там, где
«совсем нет времени», там нет и математики. Или, иначе:
возможна математика любого универсума, невозможна лишь
математика мультиверсума. Разберемся с этим. Как уже
отмечалось, мультиверсум, или непрерывное ветвление
миров, это такой расклад, при котором ни один исход не
предпочтительнее другого. То есть имеет место
безысходность или без-исходность. Тавтологии не выполняются,
поскольку а есть а или все что угодно. В мультиверсуме
совсем нет времени, поскольку нет того (такого исхода), что
длилось бы, вот ничего и не длится. Вспомним
прекрасное изречение: время есть способ избежать данности всего
сразу. Отсутствие времени прекратит всякие изменения,
но это будет побочный эффект, прежде всего любое сущее
перестанет длиться, перестанет быть одинаковым,
сохраняя тем самым важнейшее отличие от всех других и всего
другого. Выражаясь в духе Парменида и Зенона, скажем
так: если нет ничего длящегося, то нечему и изменяться,
ведь изменяться может что-то, а не ничто...
Поэтому никаких вечных форм, изъятых из времени,
существовать не может. Если угодно, выражаясь уже в духе
Канта, мы вправе сказать, что вечные неизменные формы
представляемы отдельно от времени, но предикат
существования им в этом случае должен быть дополнительно
Ä dot что, например, пишет уже не раз цитировавшийся нами
автор: «Математика соответствует не реальным физическим процессам,
а их записи в виде данных, существующих вне времени. Но мир
всегда будет представлен набором процессов, происходящих во времени,
и лишь малая его часть представлена вневременными
математическими объектами» (Ли Смолин. Возвращение времени, с. 288).
303
приписан и, так сказать, удержан. Существование есть
ближайшим образом амортизация во времени, и даже
существование в представлении, как самое
абстрагированное. Очищенное от всех последствий амортизации,
оно не абстрагировано от длительности, а значит, и оно,
существование в представлении, остается причастным
времени, ибо длительность - это ближайшая данность
времени, время по преимуществу. Развивая нашу метафору,
скажем, что время есть стабилизация в предельно общем
значении слова. Без него - одни мелькания, круговорот
крутоногонерасчленнорукости, данность всего сразу. Но
стабилизация - якорь, брошенный на океанское дно
бытия, удерживает сущее в его существовании. А быть во
времени, удерживаться в существовании, обретать
регулярности суть синонимы или вещи, неразрывно друг
с другом связанные.
В мультиверсуме математика невозможна, потому что
там нет ничего такого, что было бы «не математикой»,
и еще раз сформулируем вывод: при отсутствии времени,
длящего нечто и препятствующего данности всего сразу,
бессмысленно говорить о математике. Но это в случае
непрерывного ветвления миров, нам же интересно другое.
Нас интересует вброс костей, то есть появление любых
привилегированных тавтологий. Заметим, что
сингулярными их можно считать не всегда, для этого уже должны
быть некоторые регулярности, по отношению к которым
выпавшие исходы могли бы быть сингулярностями. Смысл
предположения вот в чем: если в мультиверсуме
математика невозможна (тогда как универсум лучше всего
описывается именно математикой и физикой), то эниверсум (апу-
verse), возникающий в результате вброса и произвольного
удержания, доступен для некой математики. И чем больше
304
пройдет времени с момента удержания, тем более он
доступен...
А это означает не что иное, как смену господствующей
парадигмы на ее противоположность. Вместо прежнего
поверхностного представления о том, что математика вне
времени, она теперь рассматривается как производная
времени, вернее, не она сама, а так называемый мате-
зис - атрибут (параметр) сущего, поскольку оно
поддается математизации. Любой исходный узор, если он будет
удержан, может дать начало миру. Странные принципы
счетности (по крайней мере, они неизбежны) «стерпятся
и слюбятся», виражи симметричности, транзитивности,
коммутативности сгладят свою крутизну, коммутативность
будет опознана как принцип или закон.
Взглянув же на ситуацию несколько с иной стороны,
можно сформулировать следующее: нет ничего
настолько странного, что при определенных условиях не могло
бы стать привычным. А непременным и главным из этих
условий является время.
Стоило бы всерьез задуматься, почему же Алисе стало
скучно в Стране чудес?
У меня два предположения на этот счет. Во-первых, она
спустилась достаточно близко к мультиверсуму (похоже,
колодец был очень глубоким). Но это значит, что паразитарное
ветвление миров, или НПП (непрерывное пластилиновое
порождение, когда «а может быть ворона, а может быть
собака»), являются не только захватывающими дух и
пугающими, но и, страшно сказать, скучными. А Бог - быть
может, он, до сотворения-усмирения, именно скучал из-за
отсутствия сингулярных событий, которые, в свою очередь,
отсутствуют из-за отсутствия регулярности, фона, без
которого никакая сингулярность невозможна.
305
Вторая причина как раз в выдвинутом нами тезисе: то,
что в начале сбивало с толку своей нелепостью и
неожиданностью, постепенно приелось. И не потому, что Алиса со
временем отыскала закономерности, не ясные сразу, а
потому, что их отыскало и предъявило само время по мере
его временения-разворачивания. Их, закономерностей,
регулярностей, поначалу попросту и не было - когда кости
были только что брошены, хотя бы и самой Алисой.
Этот бросок предстал как «конь в вакууме», если
использовать любимую метафору современных когнитиви-
стов. Но если конь оказался в вакууме всерьез и надолго,
то постепенно, незаметно и неизвестно откуда у него
появилось стойло, поросшее травой поле, а там и что-то похожее
на сбрую, на упряжь. Откуда взялось, отчего завелось?
От времени - таков будет самый точный ответ. Биологи,
конечно, предпочтут другой: такова уж естественная среда
обитания коней...
14
Неизвестно, происходили ли когда-нибудь подобные
вбросы сингулярностей на уровне мировых констант. Если
это так, то единая теория поля или «теория всего»
невозможны в качестве физики: ведь физика тогда будет
состоять из нескольких «кусков», независимых друг от друга
и лишь кое-как друг к другу притершихся. С математикой
же дело обстоит сложнее: если ее можно «нарастить» как
эффект чистой длительности, то по крайней мере
некоторые виды математик окажутся универсально применимы
к любому броску костей, опять же, только в том случае,
если есть время, если выхваченный и удерживаемый
исход длится. Это в свою очередь означает, что богом-
306
покровителем математики является не создатель мира
Брахма, а его хранитель Вишну.
И еще это означает, что следы вброса локальных син-
гулярностей тают, как следы птиц в воздухе. И чудеса не
вечны по определению. Многие понимают, что чудо
исчезнет, если повторится, но не многие знают, что чудо
исчезнет также и в том случае, если слишком долго продлится.
В пользу адаптации локальных сингулярностей, на мой
взгляд, свидетельствует аргумент, который может
показаться странным: это узнавание литературных персонажей
и «породнение» с ними. Вот писатель совершает нечто
вроде броска костей, вброса сингулярностей. Он
придумывает имена, события, сюжеты - неизвестно, откуда он их
берет, и в данном случае это не важно. Важно то, что ему
удается внедрить этих персонажей в мир, дать им некую
жизнь и, в общем, вписать их в некий континуум
присутствия. И придуманные мушкетеры, и пилоты звездолетов,
и романтические герои Стивенсона, и даже коротышки из
Цветочного города (Николай Носов), как разбрызганные
капли краски авторского воображения, стали узнаваемы
по мере развертывания повествования и отчасти
предсказуемы. Всего-то им и нужно, что задержаться в своем
собственном и в нашем времени - и их статус начинает
приближаться к статусу наших знакомых.
Как ни странно, не так уж и важно, что они при этом
делают: ведут борьбу за власть, гоняются за живыми,
чтобы укусить их, или сажают деревья - лишь бы они делали
это достаточно долго, и тогда некоторая степень
психологической убедительности никуда не денется. Практика
телесериалов только подтвердила эту удивительную
истину, хотя все еще не совсем понятно, как соотносится
психологическая убедительность придуманных персонажей
307
с естественной математизацией произвольных исходов,
удержавшихся и задержавшихся сингулярностей. И все
равно интуиция позволяет утверждать, что это вещи
одного порядка.
Теперь, оказавшись как бы внутри литературы, стоит
обратить внимание на феномен абсурда. Что характерно
для произведений Хармса и других обэриутов, так это
своеобразный парад нелепостей, напоминающий
вторжение агентов хаоса в слои порядка. Но действительно важно
вот что: вторжение длится недолго. Так, короткие
зарисовки, которых вполне достаточно читателю.
«Отец Бубнова, по имени Фы, полюбил мать Бубнова,
по имени Хню. Однажды Хню сидела на плите и
собирала грибы, которые росли около нее. Но он неожиданно
сказал так:
- Хню, хочу, чтобы у нас родился Бубнов.
Хню спросила:
- Бубнов? Да, да?
- Точно так ваше сиятельство, - ответил Фы.
Хню и Фы сели рядом и стали думать о разных
смешных вещах и очень долго смеялись»*.
Вот такой вброс, прорыв горсти нелепостей из мульти-
версума. Но если бы сочинитель задержался в своем мирке,
пожелал бы сообщить нам еще что-нибудь про Фы, Хню и
Бубнова, сложилась бы некая история и сам вводный
эпизод постепенно прояснился бы (как в истории Кортасара
о фамах и хронопах). При наличии своеобразной доброй
воли и демиургических усилий автора мы, глядишь, и
прониклись бы удивительными проблемами Фы и Хню,
узнали кое-что о свойствах грибов, растущих на плите.
* Хармс Д. Пейте уксус, господа! — М., 2008. — С. 118—119.
308
Парадоксально, но, чтобы избежать такого
развития, автору-абсурдисту приходится предпринимать
дополнительные усилия, в частности, прерывать тексты
из-за неминуемо нарастающей сюжетности и переходить
к новому вбросу. Что Хармс и делает, вот его следующий
рассказ:
«Антон Гаврилович Немецкий бегает в халате по
комнате. Он размахивает коробочкой, показывает на нее
пальцем и очень, очень рад.
Антон Гаврилович звонит в колокольчик, входит слуга
и приносит кадку с землей.
Антон Гаврилович достает из коробочки боб и сажает
его в кадку. Сам же Антон Гаврилович делает руками
замечательные движения. Из кадки растет дерево»*.
Если отбросить случайно переместившиеся
нелепости или пока не обращать на них внимания, то
возможность ускорять рост растений посредством особых
движений руками кажется перспективной и прямо-таки
напрашивается на развитие в духе Хогвартса. Но если
наступить на горло демиургическому инстинкту, в
данном случае собственному логосу, не настаивать ни на
каком исходе и не пресекать ветвление миров, тогда рано
или поздно (скорее, рано) сработает эффект Алисы.
Исходы вольются в без-исходность, миры впадут в без-
мирность, в неразличимость, в поли-химеризацию и
вопрос Хайдеггера: «Почему вообще есть сущее, а не
наоборот - ничто?».
Вот почему абсурду в литературе принадлежит довольно
скромное место, условно говоря, «Алисы в стране чудес»
хватает на целое столетие, и даже в поэзии, в этой вотчине
* Хармс Д. Пейте уксус, господа! — М., 2008. — С. 119.
309
обновления миров, ручеек абсурда никогда не становится
полноводной рекой. А это означает, что по-настоящему
интересны только локальные прорывы сингулярности -
лишь они суть прививки новизны, предотвращающие
одряхление универсума.
15
Обрастание литературных персонажей некой
психологией может все же показаться не очень убедительным
аргументом в пользу того, что и сингулярности, вброшенные
«непосредственно в природу», обрастают математикой.
Но, странным образом, обнаруживаются свидетельства
локальных вбросов, и перспективное направление состоит
в том, чтобы целенаправленно искать подобные аномалии,
выбирая подходящую ДNК-математику, что-нибудь из
математик раннего мира... Систему без транзитивности,
коммутативности, аддитивности. Или математику, где
символы подлежат изнашиванию, как бензиновые
зажигалки или как кредитные карточки, - но при этом, в
пределах некоторого количества операций, хорошо работают.
Самое удивительное, что, если поставить себе задачу
подобрать мир, где работает та или иная произвольная,
но достаточно странная математика, задача вполне может
оказаться решаемой, хотя и непростой.
Такие миры вписаны в наш универсум как аномалии,
причем их аномальность хорошо замаскирована тем, что
обычная строгая математика в их пределах тоже
работает - только приблизительно и, скажем так, неважнецки.
И если вдруг найдется математика, лучше описывающая
соответствующие объекты (зоны), то аномальность
сразу станет явной: возникают подозрения, что перед нами
310
сингулярность, «недавно» поглощенная универсумом. То
некоторые давно интегрированные структуры живых
клеток обнаруживают при некоторых условиях свое
самостоятельное прошлое, то оказывается, что они изначально не
отсюда (митохондрии и другие органеллы).
Вот Д2К -математика, самая близкая нашей
арифметике натуральных чисел - ведь нашлись миры, для
которых допустимая двукратность касания дает лучшее, более
внятное описание, чем привычная Д1К. Я подобрал такие
объекты навскидку в силу чисто любительского
знакомства с вопросом. Но, наверное, внутри профессии можно
было бы ввести особое подразделение
разведчиков-сталкеров, в задачу которых входит обнаружение
соответствующих аномалий. Им вручается некая математика,
подготовленная, так сказать, «теоретиками Генштаба», после чего
они отправляются на поиски такого мира (от лингвистики
и киноэстетики до квантовой механики с заходом в
психоделику), где эта математика работает. Причем так, что
мир вдруг проясняется и обретает невидимые прежде
закономерности.
Частенько им придется вносить исправления в
навигационную карту, модифицировать вручаемые образцы.
И лучшие землепроходцы, искатели аномалий и
испытатели эниверсума, могут быть удостоены особых премий
и памятных медалей. Что-нибудь наподобие:
Нашедшему подходящие миры для пяти
математик - от благодарного человечества.
2017
4. ГДЕ Я: О НОВОЙ ПЕРСОНОЛОГИИ
ПРИСУТСТВИЯ
Уже сложившаяся новая электронная и технологическая
реальность наших дней требует переосмыслить
классическую проблему сознания. Впрочем, не только требует, но
и предоставляет такую возможность. Попробуем ею
воспользоваться, ведя исследование в нескольких
параллельных направлениях.
•к "к "к
Вот Wi-Fi или бытие на связи - это второе великое
обособление, если первым считать саму персональность,
кульминацией которой является ego cogito. Следовательно,
чтобы понять суть происходящего, необходимо наметить
схему того, как появилось первое обособление, как
затем оно вновь было обобществлено, захвачено
трансперсональными машинами - и, наконец, как из этой среды
обобществления, медиасферы, вновь конденсировалась
одиночная реальность субъекта, но уже с иными
очертаниями. Чрезвычайно любопытно сопоставить работу двух
операторов индивидуации.
Первое обособление, осмысленное Декартом,
включило в себя опыт античности и христианства. Персональ-
312
ность, как и собственно личность, стала, быть может,
важнейшим результатом и следствием работы нескольких
(как минимум двух) конвейеров индивидуации. Сказано
об этом уже немало, так что тут достаточно восстановить
основную событийную канву.
Речь, конечно, идет о приватизации
трансперсональных матриц, о превращении «мегамашины общественного
транспорта сознания» в парк персональных транспортных
средств. В ходе этого процесса развернутые пространства
последовательно сворачивались и заменялись собственной
краткой формулой, не требующей непременного
разложения в ряд.
Произошла цепочка редуцирований и свертываний,
среди которых обретение навыка чтения про себя,
умения слушать музыку, не подпевая, и вообще отказ от
подсказок эксплицитного пространства - упаковка всех
больших блоков вроде трансперсональной памяти
рапсодов и акынов в мнемотехнику внутреннего мира.
Важнейшими достижениями на этом пути стали
установление прямой связи между персональностью, заданной во
внутреннем мире, и трансцендентной дистанцией богов
или Бога, а также компактное имманентное пространство
знания - инстанция ratio, или наука. Активизация ego
cogito, которую, собственно, зарегистрировал Декарт,
позволяла добраться до любого уголка знаний
посредством имманентных переходов благодаря наличию
логических связей. До этого знание группировалось иначе
и требовалась смена адресации, биографии и самой
телесности, чтобы подключиться к соседнему участку знания,
например, к ремеслу гончара, кормчего или гадателя-
авгуроманта. Так что и наука может быть рассмотрена
как достижение компактизации, как способ самой емкой
313
упаковки знания. Правда, мечта замкнуть логос как ЭДю-
борос осталась неосуществленной.
Признав сворачивание внешних измерений
присутствия свершившимся фактом (и судьбоносным событием
метаистории), можно спокойно оглядеться по сторонам
и оценить раскладку важнейших событийных потоков.
В действительности, при всей свернутости площадок экс-
тазиса и трансгрессии, периодические выходы к матрицам
коллективности все-таки оставались - они просто
перестали быть единственно возможным режимом присутствия.
Но, например, в компактной, теоретической науке
сохранился эксперимент, причем как нечто решающе важное,
как если бы, слушая музыку в звуконепроницаемых
наушниках, все-таки требовалось иногда подпевать, а читая про
себя, хоть раз в столетие выкрикивать что-нибудь вслух.
И свои аналоги эксперимента сохранились по всему
фронту самочувствия и иночувствия.
Идем дальше. Среди следствий массового
редуцирования и свертывания мы обнаруживаем трансцендентальную
иллюзию внутреннего мира. То есть представление о том,
что вместилище ума, сознания, личности находится внутри
нас - а может, даже внутри черепной коробки. Подобное
представление без предшествующего интенсивного
редуцирования не может вообще иметь никакой
достоверности. Однако приватизация чувственности, приватизация
подключения к присутствию в виде собственного ego cogito
(я мыслю), имманентность обретенного логического
пространства и других когнитивных расширений - все это
служит наглядной основой для представлений о том, что
мышление, эмоции, сознание возникают в результате
деятельности нейронов. Ну, примерно так же, как тепло про-
314
изводится внутри печки: стало быть, не будет печки, не
будет и тепла... Можно смело сказать, что для
традиционной мудрости, включая и греческую, бихевиоризм казался
бы самой фантастической теорией, сплошной мистикой.
Но постепенно утвердившийся специфический характер
сборки субъекта придал такому объяснению некоторую
достоверность.
Забавно, что даже «актуализация» точечных
элементарных частиц требует обращения к теории поля, даже
электрон описывается как сингулярная точка
электромагнитного поля. Электрон не содержит никакого
«внутреннего устройства», но, скорее, содержит некоторые
свернутые полевые характеристики.
Субъект отличается от электрона в частности и тем,
что свернутых характеристик у него несравненно больше.
Правда, у него есть еще и внутренний мир - но и он
является следствием причастности к некоторой совокупности
пространств.
Вполне возможен, кстати, своеобразный «бихевиоризм
элементарных частиц», где изучались бы реакции
электрона на разные стимулы или описывалось бы поведение
протона по схеме S - R*. Тогда умозаключения о том, что
поведение протона обусловлено его внутренним устройством,
вовсе не требовалось бы; ясно также, что никакого
устройства и не существует до и помимо эффектов поля.
Мои умные нейроны мне непонятны до конца - вполне
честное признание любого из смертных. Вопрос в наивной
бихевиористской форме ставится так: если они
обеспечивают мой ум, то что они такое, как они работают? Вменяемая
* Классический способ бихевиористского объяснения «стимул —
реакция».
315
метафизика поставила бы, конечно, вопрос иначе: если
они, нейроны, ответственны за мой ум, то где тогда сам Я?
И где я окажусь, если они проявят «безответственность»?
А предварительно бихевиористу можно задать и
такой вопрос или, скорее, предложить рассуждение в его же
духе: хорошо, что мне достались такие умные нейроны,
они обеспечивают меня умом, сознанием и смыслом - что
бы я без них делал? Но скажи мне, бихевиорист, кто все-
таки умнее, нейроны или буквы? Буквы вроде тоже
ответственны за обеспечение смыслом? И бихевиорист
наверняка сказал бы: конечно, нейроны умнее букв. Буквы,
они всего лишь знаки... да и слова тоже. А вот
нейроны - благодаря им я обладаю умом и сознанием!
- А если пересадить кому-нибудь другому все эти
мудрые нейроны - павлину, например, - плохо ли мне будет,
оставшемуся без них?
- Совсем плохо будет тому субъекту, тому Я,
которое останется без нейронов, - подтвердит бихевиорист
(его единомышленники триста лет назад говорили бы не
о нейронах, а о шишковидной железе, а в остальном
говорили бы то же самое). - Я без нейронов и Я с
нейронами - разница огромная!
Если теперь рассказать бихевиористу, что Я это
некая совокупность мировых пространств и хронопотоков,
где пространство, «устланное» нейронами, есть всего
лишь одна из комплектующих, то он наверняка пожмет
плечами. Вряд ли обрадует его и даваемое вслед за этим
пояснение, которое гласит: смещение центра тяжести
всех Я-представительств во внутренний мир - это
событие историческое, то, что имело свои предпосылки
и однажды случилось, а теперь стало историей. Но без
учета этой исторической канвы нейрофизиология оста-
316
ется набором абстрактных измерений с гигантской
недостающей массой своей собственной темной материи
и темной энергии.
Но идем дальше, вернее, возвращаемся пока к
ключевым историческим пунктам сборки субъекта. Итак,
внешние сферы репрезентации были редуцированы или
аннулированы, a ego cogito обрело автономную
площадку с имманентным доступом к персональному знанию (в
смысле М. Полани)* и персональному самочувствию.
Необходимо отметить, что на этом пути среди прочего
произошла фронтальная блокировка возможностей соматори-
ума как совокупной человеческой телесности: был резко
сокращен ассортимент актуализуемых тел. Практически
отпали все те тела, которые распознавались и включались
трансперсональными машинами - мы знаем сейчас
далеко не все их «имена» и способы присутствия. С момента
приватизации субъективности тела трансгрессий и
больших аффектов оказываются заблокированными, равно как
и множество специализированных программ телесности,
зато оставшиеся в ассортименте расширены на все случаи
жизни. Их плюс, вероятно, в том, что к таким телам не
подключить трансперсональные машины. Но в этом же
и их минус, поскольку остается невостребованным (и,
следовательно, необратимо теряет достоверность) огромный
резервуар человеческого опыта.
Нечто похожее на скручивание пространства или,
скорее, пространств порождает внутренний мир, откуда уже
«содержимому» так просто не вырваться на волю. Но оно
же, это сжатие, сплющивает и соматориум, пресекая
легкую воплощаемость в богатом ассортименте тел.
* См.: Полани М. Персональное знание. — М., 1995.
317
Рано или поздно должна быть составлена карта
важнейших следствий экзистенциальной революции ego cogito,
и к такой картографии мы еще когда-нибудь вернемся.
Обратимся теперь к другому, противонаправленному
событию. В то время когда процедура редуцирования и
свертывания еще продолжалась, началось развертывание нового
подобия трансперсональных матриц - медиасреды.
Медиасреда разворачивает трансперсональное знание
как бытие в курсе. По замыслу, медийные матрицы
содержат еще блоки «общегражданского чувства», как то:
образцы негодования по отношению к странам, где медиасреда
отсутствует, образцы солидарности с назначенными медиа-
средой героями и прочие добродетели транспарентности.
* * *
Говоря в целом, трансперсональные матрицы
медиасреды образуют собственную поверхность, в отличие от мега-
машин прямой чувственности, создававших архитектонику
пространства с параметрами глубины. Поверхность медиа-
среды натянута между разрывами, перекрывая пропасть
Я и Другого, на неустранимости которой основан сам
экзистенциализм. И надо сказать, перекрытие идет по-своему
успешно, как раз за счет отказа от всех внутренних глубин.
Пресса как публичность, как новая res publica приходит на
помощь, выступая в роли самого универсального протеза.
Медиасреда как сфера публичности есть протез всех
редуцированных и не поддающихся больше развертыванию
пространств. Протез вроде бы пришелся впору, хотя и
возник как результат двойного отказа - сначала от всеобщих
резонаторов прямой чувственности, а затем от одинокой
интенсивности ego cogito, от сущностного одиночества в мире.
318
-Da двойным отказом последовало двойное возмещение:
медиасреда пришла на смену многоярусному пространству
изначальной подлинности (качество замены, разумеется,
оставляет желать лучшего), а затем, вроде бы
незаметно, но в масштабе истории почти мгновенно, свершилось
и новое обособление. Девизом и паролем прежней субъ-
ектности было ego cogito, паролем новой странной
персонификации - Wi-Fi. Если можно так выразиться, в
плоском пространстве медиасреды произошло новое сжатие,
событийные потоки вновь оказались закручены к некоему
центру, базирующемуся уже не внутри органического тела
(не внутри черепной коробки), а рядом с ним, в
устройстве, которое помещается на ладони и срабатывает
(включается) примерно с той же периодичностью, с какой
включался режим внимания (сознания) во «внутреннем мире».
Что есть пробный сегодняшний субъект без
подключения к сети Wi-Fi? Заостряя и утрируя, можно сказать,
что он пребывает в спящем режиме и жизнь его как бы
погружена в анабиоз. Если же Wi-Fi подключен, субъект
жив, бодр и деятелен. Перед ним открыт (или, как
говорят, находится в доступе) его персональный мир. Но здесь
следует провести более тщательное сопоставление с
классическим декартовским ego cogito: обнаружатся моменты
поразительного сходства.
* * *
Ego cogito есть зона максимальной ясности -
привилегированная площадка ясного и отчетливого. Из нее
можно, в принципе, заглянуть во все отсеки,
руководствуясь естественным светом разума - lumen naturalis. Его
современным аналогом является подсветка мобильника,
319
светящийся экран. Если lumen naturalis не светит, значит,
я сплю, - говорит Декарт. Если экран погас - я не в сети
и некоторым образом - не в сознании.
Далее. Состояние я мыслю соотносится с огромным
массивом знания, но между знанием, не входящим в
состав ego cogito и входящим в него (personal knowledge),
огромная разница.
По идее, такая же разница должна быть между
персональными данными айфона (I-phone) и абстрактным
содержанием Всемирной паутины, но это пока еще не так.
Сравнение, однако, уместно и оправдано. Персональные
данные в айфон-сознании располагаются сходящимися
концентрическими кругами, образуя систему отсчета
(систему координат) с рядом осей. Под точкой пересечения
вместо нуля написано: Я. Окрестности этой точки - тоже
Я, хотя по отношению к некоторым расположенным там
объектам чаще применяется притяжательное местоимение
«мое». Чем дальше от сходящихся концентрических
кругов расположен объект, тем менее он мой - объекты на
достаточном удалении рассматриваются как посторонние,
неопознанные или чужие, не требующие опознания.
Но, в принципе, они могут быть размещены,
локализованы и привязаны к местности. Подсветка lumen naturalis
освещает кромку науки, логические связи, благодаря
которым можно добраться до любого объекта, если он
распознан как имеющий отношение к предмету науки. Путь
снабжен указателем и картой, где стоят пометки типа
«вследствие», «потому что», «по причине». Наличие
хорошей разметки означает, что научная картина мира
отличается упорядоченностью и взаимосвязанностью частей.
Однако принципиальные различия между персональным
знанием и тезаурусом науки сохраняются в любом случае.
320
Есть свои указатели и для центра персональных
данных, подключенного к режиму Wi-Fi. Это не причины
и следствия, а поисковики и ссылки, но, руководствуясь
ими, можно тоже, в принципе, дойти до любой точки
Всемирной паутины. И в том и в другом случае сохраняется
возможность оглядываться по сторонам, но зов персональ-
ности эту возможность не поощряет...
Черты сходства бросаются в глаза, хотя их
сопоставление требует некоторых аналитических усилий. Но,
пожалуй, интереснее другой топологический вывод: несмотря
на то, что мир персональных контактов столь органично
примыкает к медиасреде и щупальца больших медиа
вторгаются в него повсеместно, тем не менее электронная пер-
сональность ближе к ego cogito, чем к медиасреде. Или,
в виде простейшей схемы:
Трансперсональная чувственность - ego cogito
Медиасфера - extra personality
Парадоксальным образом разрыв внутри
горизонтальных связей более глубок и значим, чем вертикальные
отличия, так что можно сказать, что трансперсональная
чувственность и медиаматрицы принадлежат к одному типу
сборки субъекта, a ego cogito (классическая субъектность)
и extra personality (сегодняшний пробный вариант) - к
другому. Пока так и не найден подходящий общепринятый
термин для extra personality, нового способа субъектной
сборки. По аналогии с эго можно попробовать название
эли, сокращение, подлежащее двоякой расшифровке:
Э. ли. - «электронная личность»
Эл. и. - «электронная идентификация»
Тогда вновь обретенная дуальность субъекта
предстанет как композиция эго и эли. Мое эго и мое эли могут
находиться как в конфликтных отношениях друг с другом,
321
так и в режиме мирного существования и
взаимопонимания - ясно, что полное понимание будет скорее
исключением, чем правилом.
В общем случае отношения эго и эли не менее
амбивалентны и насыщены противоречиями, чем, например,
отношения между Я («мной самим») и моим телом. Они, эти
отношения, еще ждут дальнейшего анализа.
* * *
Что ж, займемся компаративистикой эго и эли, пока
пунктирной. В русском языке существует некая языковая
общность и этимологические параллели. Человеку,
пребывающему в рассеянности, говорят: «Включайся!» В этих
случаях ego cogito представлено или слабыми токами
сознания, или включено в ином режиме, не связанном с
требуемой формой внимания.
Что касается эли (eli), то оно включено в
коммуникацию через Wi-Fi, включено в режиме доступа к внешнему
миру - выключенный экран свидетельствует, что и здесь
сознание отсутствует. Анализ данного сопоставления
приводит к важному выводу: сознание никоим образом не
является «свойством высокоорганизованной материи»
(например, нейронных сетей) в том смысле, что оно не
закреплено навечно ни за каким носителем. Субстрат эго
(ego cogito) и субстрат эли опираются на разные носители,
при том, что каждый из них осуществляет смену носителей
для собственного подтверждения (ego cogito лишь
укрепится, если воплотится в книге и затем вернется к
психологическому континууму). Между носителями не существует
имманентного перехода, вроде перехода, связывающего
атомы в молекулы, однако оба типа сознания предстают
322
как результат сжатия большой динамической матрицы или
матриц.
Сознание как эго есть сознание, поскольку оно
обладает высокой степенью автономности, скажем, уровень
работающих мегамашин может быть для него помехой.
Кроме того, трансперсональная матрица может быть
подключена дистанционно и так же отключена (знаменитое
определение Аевинаса: «Сознание есть возможность
выдернуть себя из розетки»). Сознание характеризуется
возможностью продолжать работу, будучи выдернутым
из розетки, в нашем случае - будучи отсоединенным от
трансперсональных машин и матриц. Но вопрос времени
здесь решающий: автономный режим напоминает
батарейку, которая постепенно разряжается.
Оба сознания, и ego cogito, и эли, пока пробным
образом воплощенное в айфоне, должны подзаряжаться не
только в энергетическом, но и в информационном ключе.
Для эли строка или лента новостей - понятный источник
информационного подключения, и отличие от матриц ме-
диасреды именно в выборочное™, в наличии или
отсутствии «подписки» на конкретные новостные потоки и
оповещения, но и для эго как классического Я-сознания точно
так же необходимо размыкание на подзарядку.
Можно назвать это главной причиной коммуникации
с точки зрения сознания в обеих его версиях. Тут, кстати,
становится ясна плодотворность изучения феноменов как
классического, так и новейшего сознания на примере друг
друга: если собственное имманентное исследование
(феноменология в классическом понимании) заходит в тупик,
достаточно вглядеться в соседний феномен, и полученный
результат, будь то доказательство или опровержение,
должен иметь более высокий статус, чем чисто имманентный
323
вывод. Главная проблема, конечно, в опознании подлинных
соответствий, и для этого недостаточно структурного или
системного соответствия, требуется еще зафиксированная
изохрония, то есть понимание мира как хронопоэзиса.
В этом смысле появление эли, нового типа субъектной
сборки, становится настоящим прорывом в деле изучения
сознания ego cogito, лишь теперь может быть уяснено
истинное место нейрофизиологии (как интегральной части
общей комплектации) и необходимость учета
исторического измерения как высокой стадии хронопоэзиса. Как
только мы установили изохронию lumen naturalis, естественного
света разума, и светящегося экрана с подключенным Wi-
Fi, мы можем запустить челночную рефлексию понимания
друг друга друг другом.
Сразу вспоминается русская пословица: одна голова
хорошо, а две лучше. Если пословица верна, то теперь
каждому мыслящему стало лучше, ведь одна голова на
плечах, а другая при этом зажата в ладони (или пребывает
в заднем кармане, как любят девушки) и не имеет пока
устоявшегося имени: айфон, смартфон, мобильник - но
его включение некоторым образом включает и второе,
параллельное сознание.
По отношению к важнейшему параметру мышления
(сознания) человек стал амфибией - только те суть
существа двоякодышащие, эти же - двоякомыслящие, или
двоякосознающие. И как когда-то амфибии вышли на
сушу, так теперь в состав тела оказался включен
важнейший транс-органический орган - мобильное устройство
ума. Или, если угодно, вторая зачаточная голова, которая
пока не на плечах. Но мыслить, соучаствовать в актах
присутствия она может в соответствии с песенкой Окуджавы:
«...то вместе, то поврозь, а то попеременно».
324
Попеременно с первой. Конечно же, второй,
вспыхнувший и воссиявший искусственный центр присутствия (e.li)
сразу же может быть поставлен под сомнение с точки
зрения уместности приписываемых ему функций (среди них
ни много ни мало само мышление!). Бихевиорист
наверняка скажет, что данные с мобильного телефона все равно
сначала поступают в мозг - да и устройство-то его совсем
простенькое по сравнению с такой штукой, как мозг. Мы
же можем навскидку возразить: это смотря что куда
поступает: ведь и сигналы мегамашин, включая машину войны,
тоже поступают в мозг, но можно сказать, что
возможности мозга сами рекрутируются мегамашинами, мощными
силовыми полями включенных матриц.
И потом: тот факт, что одна голова на плечах, а другая
в кармане или зажата в кулаке, может отражать временное,
промежуточное положение «второй головы», этого нового
центра присутствия - эли. Ведь ничто не мешает
представить вживление, перенос устройства вовнутрь, где оно будет
соседствовать с другими внутренними органами.
Точно также эли-устройство можно напрямую
подключить к мышечному аппарату. И к сенсориуму - подобные
операции сегодня еще неосуществимы, но завтра - кто
знает... Очевидно, что монополия нейтронных сетей в
качестве субстрата сознания поставлена под угрозу. В
действительности это означает, что и сегодня отождествление
мышления и нейронных процессов есть именно иллюзия,
причем иллюзия, по своему происхождению не имеющая
ничего общего с нейрофизиологией и вызванная как раз
свершившимся переходом к сборке, в которой «поля»,
трансперсональные матрицы почти не задействованы
(слово «почти» в данном случае важно). Однако весь
бихевиоризм базируется именно на этой иллюзии, обладающей
325
некоторой достоверностью. Прямым психологическим
коррелятом иллюзии является просто неверная
интерпретация «внутреннего мира». В результате мы постоянно
сталкиваемся, например, с такими пассажами:
«...весьма вероятной представляется идея, что денотация
слов сконцентрирована в неокортексе, особенно в левом
полушарии, тогда как коннотации тех же слов распределены по
каналам, соединяющим новую кору с лимбической системой,
особенно в правом полушарии. Еще задолго до того, как
психологи получили возможность делать снимки работы мозга, они
могли измерить эмоциональный удар, полученный от
окрашенного слова, с помощью прикрепления электрода к пальцу
человека... Реакция кожи сопровождает деятельность внутри
амигдалы, и, как и активность внутри самой амигдалы, она
может быть вызвана табуированной лексикой»*.
И это пишет философ языка и лингвист, всерьез
полагающий, что существует что-то вроде нейронов
сквернословия. А ведь подобные утверждения ничуть не
лучше заявлений о том, что субстрат смысла образуют буквы
и разные буквы ответственны за разные смысловые
оттенки, равно как и за эмоции. Вот пассаж, принципиально
ничем не отличающийся от процитированного выше:
«Ученые обнаружили, что сквернословие, матерная
брань связаны с определенными буквами - вернее, с их
особыми сочетаниями. Так, если у обезьян удалить три
определенные буквы - х, у, й, - их способность
материться резко снижается».
Понятно, что дело вовсе не в субстрате, связь сознания
с субстратом куда менее обязательна, чем связь физиче-
* Пинкер С. Субстанция мышления. Язык как окно в человече
скую природу. — М., 2013. — С. 399.
326
ских и химических свойств с их носителями. Феномен эли-
сознания подтверждает это со всей очевидностью. Как
уже отмечалось, суть дела в комплектации, во взаимной
трансцендентности отождествляемых ипостасей. У
самого же Линкера можно найти любопытный пассаж насчет
сквернословия:
«Практически столь же долго, сколько неврологи
изучают афазию, они замечают, что пациенты сохраняют
способность сквернословить. В одном исследовании некоего
британского афазика было записано, что он неоднократно
произносил "bloody hell", "fuck off", "fucking hell", "oh you
bugger" (ax ты пидор). Невролог Норман Гершвид изучал
американского пациента, все левое полушарие которого
было полностью удалено по причине рака мозга. Пациент
не мог назвать, что изображено на картинке, не мог
говорить и понимать предложения или произносить
многосложные слова, и тем не менее в течение пятиминутного
интервью он произнес "goddumit" семь раз и по одному
<* 1 ** « 1 ·. ** «4»
разу god и shit ».
То есть в качестве субстрата сознания или некоторых
его функций годится и половина мозга. На роль
собственного субстрата (и тут даже можно говорить и о
субстанции) больше подходит поле трансперсональных матриц,
чем кора головного мозга в случае ego cogito, и медиасре-
да в случае эли. Что же касается нейронов, букв или
распределения освещенности по экрану, то это всего лишь
алфавиты, и их задача - не иметь никакой другой связи
с номинированными в них объектами, кроме чистой
репрезентации.
* Линкер С. Субстанция мышления. Язык как окно в человеческую
природу. - М., 2013. - С. 402.
327
* * *
Новая вспышка (иллюминация) сознания происходит
как вспышка двойной звезды, каждая из которых
представляет свое собственное небо - небо мыслимого
(умопостигаемого) и небо Wi-Fi. Более древнее небо мыслимого, на
котором произошла вспышка Первого Сознания, судя по
всему, само возникло в результате грандиозного
столкновения. Физиологическим результатом столкновения
континентов, непосредственно наблюдаемым, является феномен
двух полушарий, которым, согласно Виктору Тену,
предшествовали два отдельных мозга у акродельфидов,
отдаленных, но непосредственных предков высших приматов*,
и лишь вместе они смогли сформировать первое небо
сознания, важнейшей характеристикой которого стала контр-
естественность (в том числе как сверхъестественность). То,
что уцелело в ходе и в результате катастрофы, погрузилось
в глубины естества. Человеческая природа, в отличие от
природы как таковой, вышла из-под власти естественного
отбора, и в ней до сих пор представлены взаимно
аннигилирующие процессы, дающие время от времени картину
безумия, психического расстройства. И все же комплектация
удалась и иллюминация ego cogito состоялась.
По отношению к новому удвоению, к оппозиции
эли - эго, прежнее сознание выглядит действительно
однородным. Его «дно» устлано умопостигаемостью,
которую Гегель смог описать как сквозную умопостигаемость
мира, то есть как перламутр, соприродный внутренней
жемчужине ego cogito, - и вот появляется новая синтети-
* См.: Тен В. Археология человека. Происхождение тела, разума,
языка. — СПб., 2011.
328
ческая жемчужина за пределами и перламутра, и раковины
внутреннего мира.
Сложится ли ожерелье новой субъективности,
уцелеет ли оно? Сможет ли связка эго - эли образовать что-то
вроде двухполушарного мозга, или преобладающим
окажется процесс взаимной аннигиляции? Это метафизическая
интрига, разрешение которой возможно уже в ближайшее
десятилетие. Пока мы видим, что в перламутре умопо-
стигаемости образовалась зияющая дыра, сквозь которую
проглядывает порядок трансцендентного. Здесь, по эту
сторону, понятийные связи науки, образовавшиеся на месте
затянувшейся раны логотомии. Все утверждения науки как-
то локализованы и ориентированы относительно друг друга,
и они доступны для ego cogito. А эли создает собственное
имманентное единство знания (бытие в курсе),
предстающее с позиций науки как отрывочность и бессистемность.
Такое единство формируется уже внутри медиасреды как
трансперсональной матрицы по отношению к эли.
Единства такого рода можно назвать синхронами. Они,
синхроны внутри медиасреды, соответствуют понятиям и
концепциям в сфере умопостигаемого - и составляют собственные
цепочки знания (или, если угодно, «знания»), связанные
отнюдь не логическим выводом и вообще не
«следованием» (разве что привходящим образом, как сказал бы
Аристотель). Тем не менее это достаточно длинные
«полимерные» цепочки, выстраиваемые во времени - в
простейшем случае это бегущая строка новостей. Они суть
новый перламутр для новой жемчужины: эли искривляет
и стягивает некоторые из них, разрывая и отклоняя другие.
В совокупности они дают картину мира и задают некий
режим присутствия - возможно, он будет соотноситься с
режимом ego cogito, как сейчас соотносятся левополушарная
329
и правополушарная данности мира. Пока же виден только
сквозной разрыв. Из системы отсчета эго синхроны
выглядят нелепо и уродливо: какие же это знания? Что вообще
можно «знать» этими бессвязными обрывками?
В то же время из системы отсчета эли познание в духе
когито выглядит непростительным замедлением,
ненужной актуализацией глубинных структур там, где
достаточно быстро выбрать нужный синхрон. Таким же
замедлением с позиций эли выглядит и весь режим присутствия
классического субъекта. Ведь и внутри e.li connection есть
ситуации зависания, в общем случае связанные как раз
с недоступностью или отключенностью Wi-Fi, - и таким
сплошным зависанием предстает всякая жизнь,
проходящая без участия эли.
Стало быть, на сегодняшний день преобладает
взаимонепонимание между двумя личностными центрами, но
ведь смогли когда-то два мозга стать двумя полушариями
одного и воспринять сознание? Так что нельзя исключить
подобного синтеза и в отношении ego cogito и новой
группировки сознания, эли.
Когда земноводные вышли на сушу или, наоборот, акро-
дельфиды сошли в море, труднее всего было удержать это
сочетание стихий, подобного рода балансированием
сопровождался и весь процесс антропогенеза. Но кто знает, быть может,
устойчивое наличие Wi-Fi по соседству с ego cogito можно
считать судьбоносным событием нового антропогенеза...
* * *
Вернемся к теме cogito и к электронной личности.
Сделанный вывод звучит примерно так: переносное
устройство, представленное сейчас в качестве смартфона (или
330
айфона), содержит претензии на роль нового,
альтернативного личностного центра, а также и на роль
трансцендентального субъекта, который тоже будет нуждаться
в новом имени. Вспомним, что подрывает претензии е.H
(эли) на роль второго сознания - конечно, его
«примитивность», - но в мире, замороченном бихевиоризмом, это не
самый главный аргумент. Бихевиоризм и согласное с ним
общественное мнение готовы признать очаги сознания
в поведении животных - это вполне соответствует
парадигме поступательного развития и скрытому преформизму
экоидеологии.
Второе возражение более серьезное - сделанность.
«Сделанное» не может претендовать на роль очага
сознания. Еще пятьдесят лет назад, в период расцвета
кибернетики, этот тезис серьезно пошатнулся, однако
свершившийся затем переход к экоидеологии (и мифологии)
восстановил этот тезис и даже усилил его (что, кстати,
и позволило сторонникам акторно-сетевой теории
блеснуть оригинальностью и парадоксализмом).
Но и третий, хотя далеко не последний, аргумент
против возможного «биментализма» состоит в том, что, в
отличие от эго, эли очевидным образом дислоцировано
вовне и может лежать на ладони в виде смартфона-айфона.
«Я должно быть внутри» - так гласит аксиома и
здравого смысла, и самого ego cogito. О степени
укорененности подобного представления свидетельствует тот факт,
что наличие «вообще внутреннего» есть уже минимальная
претензия на возможное наличие Я, и лучше всего об этом
говорит опыт мультипликации. Там практически любой
замкнутый контур может быть наделен внутренним, муль-
тяшным Я без какого-либо сопротивления зрителей. Таков
самый легкий способ передачи субъектности.
331
А вот вагон и маленькая тележка (как одно целое)
не используются для передачи идеи индивидуума. Между
тем они, связанные незримой, едва различимой нитью,
по духу куда ближе к схеме Я-присутствия. Как раз
маленькая тележка, которая бережет как зеницу ока свою
отдельность, подходит на роль Я, но не своего
собственного, а этого единства, состоящего из вагона и маленькой
тележки. Ибо сознание, даже в своем самом развитом,
классическом виде ego cogito, это всегда вагон и
маленькая тележка: тут поправку Лакана к феномену,
описанному Декартом, безусловно, следует принять.
Тележка-сознание может почти отцепиться от своего вагона. Именно
почти, эластичная незримая нить не рвется, а порой
тележка и вправду втягивается вовнутрь вагона.
Парадокс в том, что как раз замкнутый контур,
содержащий исключительно континуум внутреннего, на самом
деле дальше всего отстоит от реальности сознания и даже
прямо противоречит ей. Поэтому и аргумент относительно
эли как второго Я, более или менее убеждающий здравый
смысл, а именно утверждение о том, что рано или
поздно это мобильное устройство будет встроено, вживлено
и окажется даже геометрически внутренним,
заключенным в замкнутый контур, - этот аргумент для самой сути
дела ничего не решает и только вводит в заблуждение. Ну
или в очередной раз репрезентирует трансцендентальную
иллюзию.
Правильно было бы действовать противоположным
образом, например, поставить вопрос так: если эли, мое
новое Я, может лежать на ладони (или в кармане, или на
столе) и при этом быть подключенным к континууму
внутреннего и к Wi-Fi, то нельзя ли и классическое эго
представить каким-то подобным образом? Быть может, вне-
332
находимость эли-устройства способна пролить свет и на
локализацию классического сознания?
Итак, что же заставляет нас думать, что оно, наше
классическое сознание, внутри? И что там же,
внутри - чувства, аналитические способности, центр
принятия решений? Феномен коллективного самочувствия,
трансперсональная матрица аффектов, сверхмощные ре-
зонансы, которые если и касаются рецепторов, то только
снаружи - все это должно склонять нас к признанию, что
по крайней мере существенная часть чувственного
дислоцирована снаружи, и если демонтировать матрицы,
определенные регионы аффектов просто исчезнут.
Аналитические способности и операции - ну, они-то давно вынесены
вовне, может быть, поэтому и не считаются частью ума-
разума. Конечно, остается еще немало такого, что
предстает сугубо внутренним делом сознания...
Однако в смартфоне, который я держу на ладони, -
разве там не содержится много такого же в смысле
потенциальной и принципиально важной недоступности для других?
Проникновение в это драгоценное устройство может быть
хуже кражи со взломом, печальнее по своим последствиям,
а его утрата без возможности восстановления - сильнейшая
психическая травма. С другой стороны, и с ego cogito могут
происходить неприятные вещи - и происходят. Как же быть
все-таки с локализацией этого классического центра
сознания? Ведь мы при всем желании не найдем какой-нибудь
похожей на смартфон коробочки, разве что черепную...
Но почему-то на ум все время приходит «Other rooms,
other voices», название прекрасной книги Трумена Капоте.
Если не коробочка, то, может быть, комната или анфилада
комнат, в которых включается сознание и где оно
непостижимым образом базируется?
333
"к "к "к
И кантовский вопрос «как это возможно?» встает при
любом раскладе, при том даже, что мы увидели:
альтернативная разумность базируется в устройстве, лежащем
на столе. Для понимания ситуации есть смысл вернуться
к слабым токам сознания и представить себе, например,
медленную иррадиацию остаточного сигнала, фоновую
телефонию, режим stand by, неким странным образом
сохраняющий следы прежней работы. Все это так или иначе
действительно сохраняется в устройстве, не подключенном
к Wi-Fi, но, что принципиально важно, сохраняется в
режиме угасания. Для эли есть свой аналог внимания: это
полная подключенность к сигналу или ко всем типам
доступного сигнала и к источнику энергии. Обычно
требуется стыковка и с «архаическим центром внимания», со
специальным разъемом ego cogito, хотя возможно, что этот
разъем постепенно редуцируется. Подключения могут
быть прерваны, частично или полностью, и тогда
напоследок в дело вступает феномен «сознание на излете», более
всего ответственный за иллюзию автономности и особенно
за иллюзию «внутреннего».
В отношении устройства, лежащего здесь, на столе,
напротив меня, данная иллюзия подвергнута двойному
отрицанию - хотя и не в гегелевском смысле. Во-первых,
я вижу воочию, что эли-устройство явным образом
находится вне меня, при этом я иногда спрашиваю себя: а что
я без него? Без него мое интегральное сознание недоуком-
плектовано, неполноценно. Во-вторых, я знаю, что для
него необходимы внешние поля включения Wi-Fi, иначе
устройство станет непригодным. И все-таки я готов
допустить - имплицитно, на уровне неосознанной достоверно-
334
сти, - что внутри этой магической коробочки есть нечто
умное, что явно отличает ее от коробочки монпансье,
некоторое «мини-сознание» или, скорее, «наносознание». Но
при здравом размышлении большинство из нас отвергли
бы такое предположение: новый аналог сознания не
размещается где-то внутри, а появляется, когда «все включено».
Однако ситуация радикально меняется, когда речь идет
не об эли, а об ego cogito: тут уже каждый уверен, что
сознание как таковое, «настоящее сознание», именно внутри
черепной коробки и базируется, там оно и расположено,
и оно главное достояние внутреннего мира. Возможно,
она, коробочка (черепная), содержит что-то еще, кроме
сознания, помимо ego cogito - кто знает?
Теперь зададим себе резонный вопрос: почему внутренне
хранимое сознание cogito должно столь радикально
отличаться от эли-сознания, привязанного к внешнему устройству?
Почему бы не предположить, что внутреннее сознание без
явных следов подключенности - это тоже «сознание на
излете», то есть сознание, работающее в режиме угасания?
Дело, возможно, лишь в том, что все настройки и параметры
классического сознания-когито обладают большим запасом
прочности и автономности, они долгосрочнее, чем эли, и,
так сказать, более инерционны. Возможно даже, что слабые
токи сознания, составляющие глубокий background (режим
stand by, не отключаемый и во сне), имеют вообще
физиологическую основу и относятся примерно к тому же разряду,
что и мышечный тонус, ну или прочность корпуса
смартфона. То есть слабые токи сознания - это как бы
внутренний динамический перламутр черепной коробочки в отличие,
опять же, от других коробочек и шкатулок.
Но в целом, однако, благодаря особой стойкости (или
инерционности) активного неравновесия режим работы на
335
излете может продолжаться достаточно долго: на этом,
похоже, прежде всего и основывается иллюзия внутренней
дислокации Я. И сознания в классической его трактовке.
Для устранения этой иллюзии иногда нужно лишь
немного подождать, и сознание «остынет», будучи отключенным
от «полей», «интерьеров» и прочих внешних
комплектующих. Если иметь в виду содержимое черепной коробки, то
с ним, в конечном итоге, произойдет то же, что и со
смартфоном, лежащим на столе, отключенным от Wi-Fi, от
сигнала и просто разряжающимся. Отсюда вывод: сознание
есть некая полнота подключенности (полнота присутствия,
точнее не скажешь), и таковы общие, универсальные
причины бытия сознания, тогда как сознание на излете
имеет другую причину, ее-то и можно определить как causa
sui - она фактически в том, что сознание вообще есть.
А также в том, что, будучи выдернутым из розетки, оно
тут же переходит на автономный режим питания*.
Однако это - расход, «проедание» золотого запаса устойчивого
неравновесия. Подобно смартфону, классическое сознание
должно быть открыто собственному аналогу Wi-Fi -
потоку вопрошания и вопрошающему мышлению, открыто
предмету и предметности. И своей незримой чувственно-
сверхчувственной упаковке, которая, конечно, существенно
больше черепной коробки и, главное, обладает иной
мерностью, то есть имеет характер комплектации психического.
Кроме того, нормальный режим сознания - это режим
мерцающий, сознание входит в полноту присутствия и
выходит из нее. И вопрос на засыпку: в каком случае оно есть
в себе и для себя? Наш фетишизм внутреннего
подталкивает нас к ответу: когда оно предоставлено самому себе и ав-
И начинает казаться себе автономным и самодостаточным.
336
тономно! Однако это поспешный ответ. Всецело в себе и для
себя сознание бывает тогда, когда оно абсолютно открыто,
когда задействованы все комплектующие, пусть даже они
взаимно трансцендентны. То есть сознание в полноте
имеет вид своеобразной квантовой нелокальности, схождения
данностей, которые нисколько не похожи друг на друга.
Каждая из них, из этих данностей, похожа на феномены из
своего ближайшего окружения, но тождественна с
абсолютно иным. Последовательность букв л, о, ш, а, д, ь похожа на
любую другую последовательность букв и не похожа на
живое существо. Не похожа, но зато с одним из таких существ,
с живой лошадью, она тождественна.
Единство сознания выстраивается из взаимозахвата
автономных миров - и притом миров разбегающихся.
Такова его принципиальная комплектация, и нет ничего
более далекого от реальности сознания, чем образ закрытой,
замкнутой коробочки - тем не менее именно она является
господствующей визуализацией внутреннего мира,
важнейшей трансцендентальной иллюзией, в которой
метафизика еще не разобралась.
* * *
Тот факт, что сознание, сознание в себе и для себя,
есть результат синтеза взаимно трансцендентных
миров, причем синтеза, всякий раз свершающегося заново
и свершающегося сейчас, наводит на важные попутные
соображения, поговорим теперь о них.
Вот пасутся рядом лошадь и осел. Эти же слова
написаны и на клочке бумаги. Почему бы нам не сказать:
лошадь и осел - это одно и то же. Ну или практически одно
и то же, особенно если сравнивать пасущихся животных
337
с листочком бумаги. Однако, переведя взгляд с животного
на клочок бумаги, мы говорим: ну да, это и есть лошадь.
А осел - это совсем другое, он вот сбоку. Произведенное
таким образом отождествление является тождеством
самого познания, его принципом сборки и актом
комплектации. Если собрать в единство такие разнородные
сущности, как клочок бумаги (или тем паче надпись на нем)
и животное на лужайке, это будет означать, что сознание
в наличии. Только на него может указывать такой
странный способ комплектации. Ведь для других типов единства
происходящего, таких как «биоценоз», «естественный
отбор» или природа в целом, именно лошадь и осел
являются чрезвычайно сходными объектами, порой близкими до
неразличимости и пригодными для отождествления.
Эволюция когда-то и имела дело с их тождеством, с общим
предком, но затем произошла дифференциация, которая
теоретически вновь может исчезнуть. Иными словами,
для отождествления этих существ, пасущихся рядом, не
нужно сознания, с этим прекрасно справляется сама
природа в ее кумулятивной событийности. С позиций природы
(естества) сходство и есть основание для отождествления.
С позиций сознания, наоборот, сходство - это
препятствие для безоговорочного отождествления.
Теперь еще раз присмотримся к нашей картинке. Вот
лошадь и осел на переднем плане. А вот неподалеку
дерево, рядом с ним еще какой-то бесформенный кусочек
коры. Естественный отбор (та же природа) никогда не
станет соотносить эти объекты, он будет отождествлять (и
растождествлять) лошадь с ослом, а не с кусочком
отвалившейся коры.
Но отличительная черта сознания состоит в том,
чтобы отождествить отвалившийся кусочек коры с лоша-
338
дью - почему бы и нет? Этот кусочек вполне пригоден
в качестве знака, не исключено, что где-нибудь «лошадь»
как раз и имеет вид кусочка коры. Многим покажется, что
в последнем предложении что-то не так. И они, эти
многие, подумав, скажут: странным здесь является выражение
«имеет вид». Вот если его заменить на глагол «значить»,
тогда будет все правильно. Благодаря ссылке на сигнифи-
кацию, на то, что речь идет о знаке, недоразумение
кажется полностью устраненным. То есть возможны две
формулировки, имеющие разный статус:
1. Сознание (и его объекты) комплектуются таким
странным образом, что лошадь и кусочек коры
принимаются за одно. Они суть одно и то же, если речь идет о
сознании. Точнее, тогда речь идет о сознании.
2. Кусочек коры вполне может значить «лошадь».
Мы видим, что второе предложение совсем не
вызывает удивления: лошадью может быть кусочек коры,
последовательность символов на клочке бумаге - да мало ли что
еще... Но, конечно, не осел, пасущийся рядом. Здесь тоже
можно сформулировать нетривиальный вопрос: почему же
кусок коры может быть лошадью, а осел - нет? Стоит
задуматься, почему осел так катастрофически не подходит на
роль знака, означающего «лошадь». Возникает странная
догадка: неужели потому, что он слишком похож?
Догадка верна: в значительной мере именно поэтому.
Все сходное расположено внутри континуума и,
следовательно, обладает в этом континууме собственной
локализацией. Следовательно, сходство как раз и
выступает в качестве главного препятствия для отождествления.
Вообще, отождествление сходного возможно, но требует
определенного преобразования и называется
обобщением. Так, благодаря такому преобразованию лошадь и осел
339
отождествляются в качестве парнокопытных или,
благодаря другому обобщению, отождествляются в качестве
животных. То есть можно сказать, что они отождествляются
не напрямую, а в чем-то третьем. Принято считать, что
подобные операции осуществляются только в сознании,
но Гегель, например, полагал, что это события,
происходящие в сфере духа, а не только индивидуального сознания.
В философии встречаются и другие трактовки, но сейчас
важно не это, важно, что тут включаются не операции
синтеза или сборки сознания, а некоторые акты
трансцендентального субъекта, чистого теоретического разума. То
есть они происходят (выполняются), когда сознание уже
есть. Операции, производимые на основании сходства,
имеют свое основание и производятся сознанием, тогда
как операции, синтезирующие само сознание,
совершаются посредством чистых отождествлений, которые не имеют
оснований.
Так вопрос о сходстве и тождестве, об их
соотнесенности обязательно возникает, когда мы рассматриваем
проблему комплектации и локализации сознания. Ведь
неизбежным ракурсом рассмотрения оказываются континуум
и разрыв, а также гомогенизация и трансцендирование.
Что, в свою очередь, приводит к пересмотру соотношения
сходства и тождества, логическая проблема переводится
в онтологическую.
Логически тождество выступает крайним
(идеальным) случаем сходства, предполагается, что мы можем
усиливать похожесть до тех пор, пока не придем, наконец,
к тождественности. Это так, если иметь в виду внутренние
операции континуума как особой сферы уже
действующего иллюзиона сознания, там игра сходства и несходства
приводит либо к обобщению, то есть к отождествлению
340
через создание третьего, к полаганию новой единицы типа
«мебель», «инструмент», «кустарник» - либо,
наоборот, к распутыванию путаницы, к решению задачи, чем
отличается это от того. Корректным, но, так сказать,
крайним решением задачи считается указание особой
пространственной локализации или присвоение порядкового
номера. Это слева, а то - справа, это здесь, а то - там,
это первый, а это - второй...
Обобщение, которому предшествует сравнение и
соотнесение, вводит новую фигуру, точнее - фигуры, и вводит
их с легкостью (например, если обобщить руки и ноги,
то получатся конечности) и тем самым учреждает
дополнительное пространство. Это нарабатываемое сознанием
пространство символического. Отождествление есть,
наоборот, сжатие - уход, выпадение из развернутых
пространств и, следовательно, неподчинение регулярностям
такого развернутого пространства.
Отождествление, посредством которого созидается
сознание, не является сравнением, осуществляемым на
основе сходства. Те отождествления, которые производит
сознание в ходе аутопоэзиса, не порождают промежуточных
фигур, и как раз наличие сходства для таких
отождествлений противопоказано. Надпись на листочке подходит для
того, чтобы быть отождествленной с конем, упавший
кусочек коры - тоже, а вот пасущийся рядом осел не годится.
Событийные ряды, задающие реальность сознания и
вообще реальность психического, должны быть не просто
друг от друга независимы, а именно трансцендентны друг
другу. Вот почему никакого сознания мы не обнаружим
в промежутке, так сказать, в зазоре между ослом и
лошадью (равно как и в промежутках между нейронами). А вот
в отождествлении пасущегося коня с надписью на клочке
341
бумаги мы как раз и обнаружим саму суть психического,
а значит, и «квант» реальности сознания.
Мы исключаем операции внутри континуума из
числа отождествлений и схватываний, учреждающих
сознание - само сознание. Всякая имманентность (например,
связь явлений, «природа» по Канту) есть в сознании и
может быть в нем представлена - но никакая имманентность
не есть сознание. Сознание утверждается
(конституируется, творится) через разрыв, без сходства и без
сравнения. Синтез сознания можно описать как притягивание за
уши разбегающихся миров, только надо иметь в виду, что
ничего щадящего, никакой постепенности нет в этом
притягивании. Есть рывок: сказал, и точка. Сказал «волк»,
и да будет сказанное волком, сказал «конь», и да будет это
сочетание фонем, эта реверберация, конем.
И тут вновь возникает прежний наивный вопрос: но где
тогда будет сознание, в чем оно будет заключаться?
Ответить по-прежнему нелегко, более или менее очевидна лишь
негативная форма ответа: нигде. Нигде, если иметь в виду
наличное гладкое пространство, континуум, площадку
имманентности. Нет такой коробочки, в которой могло бы
заключаться сознание, не годится ни корпус смартфона,
ни черепная коробка.
* * *
Все это, однако, не означает, что совсем уж нет
никакой топологии. Если М. К. Петров говорит об
«интерьерах деятельности», мы вправе говорить и об интерьерах
сознания. Причем не только о тех, которые воплощены
в конфигурациях эли, но и об интерьерах ego cogito. Они
и вправду максимально независимы от большой тополо-
342
гии развернутого пространства - но непременно образуют
персональный узор сцепления, other rooms, other voices.
Вот кабинет или выполняющая эту роль комната - она
отчасти должна напоминать намоленный храм, быть своего
рода «намысленным пространством», где принято
обдумывать мысли, где облик вещей и их порядок уже входил
в ту или иную конфигурацию мысли и может войти снова.
Связи между этими вещами, быть может, не менее
важны, чем связи между нейронами: как лежат на столе книги
и рукописи, где стоит чашка, где компьютер, как
обставлен рабочий стол, а также трещины на потолке, любимое
место возлежания кошки и другие детали - сколько
мыслей уже зацепилось за них, за их последовательность, эти
«крепления» никуда не делись, и в момент
топологического предъявления мысли продолжают цепляться за них.
В этом качестве они, вещи кабинета, действительно не
хуже нейронов, они отвечают тому же условию, что и
нейроны: «их одних» недостаточно для уловления, для поимки
мысли - как недостаточно одной-единственной стены для
дома или комнаты. А «дому сознания» нужно куда больше
опор, чем Дому Бытия, который пытался теоретически
выстроить Хайдеггер.
Не менее важны динамически развертываемые
пространства - и тут вспоминаются хайдеггеровские «лесные
тропки», Holzwege. Но общепризнанная, «объективная»
живописность вовсе не обязательна для рабочих
интерьеров сознания. Вполне годятся городские улицы и парки
как активированные места прогулок. Ведь нередко можно
услышать: пойду погуляю, надо кое-что обдумать; и опять
же, последовательность шагов и сменяющихся при ходьбе
видов - разве не напоминает она активированность
нейронных цепочек?
343
Далее - топология и пластика самого тела, а также
вся органика двойного назначения. Сжимаемый и
разжимаемый кулак, пощелкивание пальцами, почесывания
и весь огромный арсенал неадекватных рефлексов - в их
задействовании локализована мысль, как электрический
ток в проводнике. Эти куски, дребезги органических це-
лостностей, обрывки целесообразных реакций, особенно
важны: они как раз напоминают отпавший кусочек коры
и клочок бумаги (тоже, между прочим, производной
дерева), и поэтому в своей независимой последовательности
способны держать сознание, стать его опорой и
необходимым элементом комплектации. Важно, что природное,
исправно функционирующее тело для этого не годится, оно
не может быть коробочкой сознания и даже подкладкой
для коробочки.
Только вновь собранное тело (когда б вы знали, из
какого сора, из какого поведенческого мусора) может стать
площадкой для крепления сознания, одной из стенок или
перегородок коробочки - при условии, что другие стенки
не отсюда. Эти элементы динамического пространства
сознания активируются не изнутри, а снаружи. Смех,
слезы, да и зевки - они интимнее всего связаны с
человеческой жизнью в ракурсе ее проживания, однако клавиатура
панели управления не всегда находится в собственных
руках сознающего и мыслящего. Так что если своя рубашка
ближе к телу, то о своем сознании этого не скажешь...
Сознание локализовано присутствием другого, хотя
подобный формат трудно, а может, и несправедливо
называть локализацией. «Мысль приходит как бы
извне», - говорит Фрейд, подразумевая при этом, что
развертывается она все же «внутри». Но она и исходит
вовне, без чего не может стать мыслью, будь то прямой
344
спор, диспут или мысленный диалог. Михаил Петров,
конечно, прав, говоря о роли адресата, роли, которая
часто ускользает в силу ее очевидности: «На наш взгляд,
безадресное, не опирающееся на общность и массив
наличных результатов общение возникает либо в состоянии
шока, либо сильного опьянения, либо умственного
расстройства, хотя и там возникает расплывчатый адресат.
Можно беседовать с собакой, богом, его мамой, судьбой,
трамвайной остановкой. Судя по зондажам, совсем без
адреса обойтись невозможно»*.
Истоки сознания никак не связаны с самосохранением,
не связаны они и с постепенным накоплением
индивидуального и даже видового опыта. Тут уместно напомнить
важнейший вывод антропологии:
«Целая цепь ученых от Уоллеса до Валлона
доказывала и доказала, что человеческое мышление не является
линейно нарастающим от животных предков полезным
свойством; напротив, оно и в антропогенезе, и в онтогенезе,
у ребенка, сначала вредно для каждого индивидуального
организма, делает его беспомощнее по сравнению с
животным; лишь дальнейшее его преобразование
понемногу возвращает ему прямую индивидуальную полезность.
Но как же, если исключить всякую мистику, объяснить
это "неполезное" свойство? Ведь естественный отбор не
сохраняет вредных признаков, а нейтральным признаком
данное свойство не назовешь. Возможно лишь одно
объяснение: значит, оно сначала было полезно не данному
организму, а другому, не данному виду (подвиду,
разновидности), а другому. Следовательно, надо изучить, во-
первых, кому и чему это свойство у других было полезно,
* Петров М. К. Язык, знак, культура. — М., 1991. — С. 71.
345
во-вторых, как они, заинтересованные, это свойство
других закрепляли, удерживали, навязывали»*.
Необходимо разобраться: сознание, которое
представляется как абсолютно мое, будь то в формате ego cogito
или в форме трансперсональных дионисийских прозрений,
есть то, что мне принудительно и успешно навязали, - как
же так?
Во-первых, атрибуция «мое», а тут даже можно сказать
«Я» или «сам Я», как уже отмечалось, вовсе не указывает
на нечто, находящееся «внутри» - например, внутри
нейронных цепочек, которые упакованы в черепную коробку
и пронизывают тело тоже изнутри.
Во-вторых, то, что изначально дано мне как бытие-для-
другого, может быть переведено в форму «для себя» и в
форму «для меня», более того, именно так и случается со
всеми великими феноменами, включая, разумеется, и
сознание. Вспомним, что и борьба за власть предварялась
когда-то «принудительным заключением во власть
церемониала», и введение в измененные состояния сознания
осуществлялось принудительно, для получения «эффекта
пророчествования». Но как это происходит с сознанием?
Генетически тут лучше всего подходит до сих пор
парадоксальная объяснительная схема Поршнева. Тогда
хронологически реальность сознания выглядит так:
1. Подключение к внешнему полю управления через
экстазис, в том числе вопреки собственной органике. Так,
палеоантропы делают неоантропов «паствой», навязывая
им «сознание», которое, скорее, пока еще
анти-сознание или даже анти-анти-сознание. Эта форма данности
* Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории. — М.,
1974. - С. 367.
346
грозного Другого, которая, конечно, преобразуется, но от
нее остается то самое стойкое чувство, о котором говорит
Фрейд: «Всемогущество мысли состоит в том, что она
приходит как бы извне».
2. Актуализуемые средства защиты и блокировки
воздействия. Они сами по себе тоже еще не сознание, они
в свою очередь преодолеваются, но от них остается
универсальный принцип «сомневайся во всем», все подвергай
сомнению. Чтобы пробить такую защиту, суггестору
придется потрудиться, и это будет уже совместный труд.
3. Привлечение воздействия, стремящегося обойти
твое непонимание. Выполняя это рефлексивное
соотношение, ты сам теперь стремишься обойти (устранить) свое
собственное непонимание - а это значит, что воистину
уже существует нечто такое, как ты сам.
•к "к "к
Стремление к пониманию и даже любовь к пониманию
суть внутренние интенции сознания, но их исторические
корни, а стало быть, и метафизические истоки находятся
«там вовне», как любит выражаться Джон Ло и другие
представители акторно-сетевой теории. Стало быть,
суггестия, по отношению к которой ее приемник так же
беспомощен, как лампочка, которая не может не светить, если
на нее подан электрический ток, прежде всего заглушается
непониманием, взломать которое и было эксклюзивной
задачей Другого, например, гипотетического палеоантропа.
Вновь скажем, что осуществлялось принудительное
приведение к пониманию, блокирование возможности не
соглашаться - функция, которую до сих пор выполняет
анонимная инстанция логики. Однако окончательно прийти
347
в сознание как собственное сознание ego cogito возможно
лишь, когда суггестия Другого переформулирована в свой
собственный запрос, когда возникло некое чувственное
оформление, своеобразная высшая форма страдания,
назовем ее мукой непонимания, благодаря которой всякое
сознание есть несчастное сознание, ибо человеку в этом
мире всегда остается, что не понимать...
Истинная история человеческого в человеке как раз и
состоит в том, чтобы принять чужое мучение как свое
собственное: то, чего от тебя пытались добиться через пытки, ты
должен принять в качестве собственного желанного результата,
для достижения которого ты готов и сам себя помучить.
* * *
Не имея постоянной стационарной локализации,
сознание требует блуждающего режима причастности:
переменная локализация сознания сродни переменному току.
Возможно, имеет значение очередность посещения мест
базирования. Удивительно, что в своих «странствиях»
сознание нуждается в том или ином приюте: в сплетении
нейронных сетей, в книге, в практической задаче...
Переменный ток присутствия сознания - это ток не
очень высокой частоты. Много времени прошло между
суггестией (вменением), контрсуггестией (сомнением)
и контр-контрсуггестией (стремлением к пониманию как
собственным, присвоенным стремлением), но в сознании,
которое уже есть, мерцающее присутствие этих
инстанций пробивается во всяком присутствии, образуя состояния,
именуемые словом «мыслить». Это принципиально
разнородные состояния, сжатые в квант времени мышления,
причем чередование фаз дополняется переменой локализаций.
348
Таким образом, перенос центра тяжести на нейроны (на
собственные нейроны) предстает как стадия, закрепляющая
иллюзию единственного субстрата мысли и сознания.
Возможный выход из недоразумения как раз в том
и состоит, чтобы выбрать правильный хрономасштаб
независимо от его соизмеримости с биометрикой индивида.
Пора, наконец, совершить переход к всеобщей теории
относительности, не ограничивающейся лишь физическими
явлениями. Пока суждения о субстрате сознания в
основном похожи на суждения бабочки-однодневки насчет
того, что сутки состоят из одного светового дня. Суждение
«сознание есть эффект активности коры головного мозга»
из этой же серии, те, кого оно убеждает, - это
однодневки сознания, получившие по эстафете вспышку сознания
в точке подключения, противопоставляющие сон и
бодрствование, но при этом исходящие из своеобразной
разновидности сна, из герметичной грезы сознания-на-излете.
Тут стоит рассмотреть прямую аналогию с принципом
устойчивого неравновесия Эрвина Бауэра - ведь и там
работа против выравнивания, в том числе и
опережающая работа, осуществляется за счет ресурсов собственной
организации, за счет молекул АТФ. Может быть, и
сознание как сознание активировано лишь тогда, когда
тратится «его собственная АТФ», то есть набранные
отовсюду запросы преобразуются в проблемы самого сознания.
Но если это и так, то «АТФ самого сознания» отнюдь не
обязательно должна сводиться к каким-то
физиологическим или нейрофизиологическим структурам. Возбудители
и побудители сознания - это объекты странной
комплектации, еще более странной, чем объекты психические, не
активированные в качестве сознания. При ближайшем
рассмотрении самостоятельность сознания есть его
349
самовращателъность, способность и одновременно,
и поочередно присутствовать в одной из граней целиком,
высвечиваться в ней в полноте присутствия.
В каждом данном актуальном пространстве
присутствия, каким бы огромным континуумом оно ни казалось,
сколь сложными, разветвленными ни были бы его
имманентные связи, непременно задано и направление транс-
цендирования, отсылка «отсюда - туда». Вот решающий
для сознания вопрос «в чем смысл?» - место, откуда он
задается, это место отсутствия смысла. Оно, конечно,
высвечено как поле сознания, но смысл не здесь*.
Возможно, он там, где высветится следующая грань сознания как
полного сознания, но и это трансцендентное поле
участвует в комплектации, поскольку в нем самом присутствует
неуспокоенность и момент самовращательности не утерян.
Если смысл прежде всего не здесь, то и понимание
конституируется посредством отсылки к иному,
например, к поступкам и деяниям, без чего само понятие рискует
остаться непонятым, ибо то, что постигнуто, только дис-
курсивно еще подлежит настоящему пониманию, и есть
только момент самовращательности сознания.
Умный поступок - не как следствие общей
умопостигаемой (дискурсивной) посылки, а как проявление всего
сознания в состоянии данности сразу - не просто
возможен, он необходим в том смысле, что если не будет
умных поступков, вызванных полнотой инвестиций сознания
в контактное проживание, то не будет и «умных мыслей»,
хотя бы потому, что энергия продумывания «снимается»
с эффекта самовращательности, который, в свою очередь,
* См. также: Смысл вопроса «в чем смысл жизни» // Секац
кий А. Изыскания. — СПб., 2009.
350
зависит от непременного присутствия некоторого «не
здесь». И всякое выпадение, уменьшение мерности есть
замедление, а затем и прекращение самовращательности.
Таковы странные АТФ сознания, стержни его
ядерного топлива, которые мало того что высвечиваются только
через собственное содержание, когда «собранное здесь»
есть все сознание, но еще и устремлены в своей
непредсказуемой самовращательности к всеобщему горизонту
по имени не здесь. Такие состояния - вещи и интерьеры
вещей, деяния, мысли, тексты и примыкающие к ним
объективации - суть грани или монады, действительно
содержащие в себе все, но все в своей собственной модальности,
так сказать, номинированное в локальной валюте. А Бог,
как известно, это монада монад.
* * *
Но чтобы быть сознанием, мало содержать в себе все
в порядке спокойной данности, необходима еще и
нехватка, порыв к трансцендентному, воля-к-иному. Разумеется,
суверенность или самостоятельность сознания
представляют собой необходимое условие, однако всякая само-стоя-
тельность подорвана изнутри устремлением к само-враща-
тельности, волей к трансцендированию.
Именно здесь следует провести ревизию на
подлинность феноменологического самоотчета. Так, позывные
сознания прочитываются однобоко, а значит, и
искаженно, если они расшифровываются только как требования
предъявить основание или обрести его. Такое требование,
безусловно, есть в самом ядре ego cogito, его выявление
и исследование можно считать выдающимся открытием
Декарта. Сознание не может не решать (хотя и не может
351
решить) вопрос обоснования собственной суверенности.
Однако в позывных ego cogito столь же настоятельно
представлен и другой, противоположный импульс, вполне
совпадающий с загадочным требованием русской сказки:
«Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что».
И стоит угаснуть этому странному императиву,
угаснет и само сознание - такова его странная комплектация
в феноменологическом смысле: содержать все, включая
свое собственное отрицание. Да, императивом сознания
является воля к перепричинению всего сущего. Сознание
переводит все, с чем сталкивается, под свою юрисдикцию,
причем в любом хрономасштабе, где оно присутствует.
Здесь и принцип пралогического мышления Аеви-Брюля
(принцип контр-естественности), который гласит: все, что
можно объяснить вопреки естеству - например,
сверхъестественно, должно быть объяснено именно таким
образом. И знаменитый принцип Николая Федорова за-
менитъ даровое на трудовое. И просто требование «все,
что происходит, до конца осознавать», незамысловато
сформулированное в песенке Псоя Короленко
«Еврейская вера». Но есть и равномощный императив «смысл
не здесь», и это принцип вечной динамики
самовращательного сознания. Вечный двигатель производит работу,
которую Александр Кожев, главный гегельянец XX века,
удачно определил как работу негативности.
Каждый поворот грани требует, чтобы во вновь
обретенном состоянии было все сознание. И наоборот,
тотальная суверенность над неким континуумом, включая
любой «собственный» континуум, взывает к
необходимости трансцендирования, к экстазису сознания. Важно
подчеркнуть, что экстазис должен совершаться из любого
состояния.
352
1. Всякое тяготеющее к автоматизму действие нужно
когда-нибудь бросить, нужно выйти из него, чтобы
осмыслить. Попытки играть на мне, как на флейте, будут
пресечены.
2. Если получилось так, что все слова, слова, слова,
необходимо сделать что-нибудь, что-то настоящее, пусть
и безрассудное.
Это лишь два примера (образца), взятые из
«Гамлета», которые суть состояния сознания только потому, что
в них высказана собственная неполнота. Вот
Многогранник повернулся, и некая фиксированная грань
активировалась как сознание, причем как все сознание. Какое-то
время требование обретения полноты суверенитета над
открывшейся данностью мира приостанавливает импульс
негативности, никогда не отменяя его полностью, однако,
поскольку вечный двигатель работает, рано или поздно
вопрос «доколе?» достигнет степени невыносимости и точки
невозврата. И тогда происходит переворот, центр тяжести
(центр присутствия) переносится на другую грань,
которая, высвечиваясь, опять являет собой все сознание.
Стало быть, феноменологический тезис «я могу понять
лишь то, что уже понимаю» верен в конкретный момент
сейчас. Столь же верен и противоположный тезис:
сознание есть перепонимание*, нет вещей, понятых раз и
навсегда и гарантированных в своей понятности.
Идея континуума и идея сознания в некотором смысле
противоположны, это видно и по самым простейшим
иллюстрациям. Вернемся к пригорку, возле которого пасутся
лошадь и осел. Континуум будет включать в себя полную
фактичность всех различимых феноменов, включать как
* Термин Михаила Богатова.
353
идеал: животные, травы, кусочки коры и, возможно, даже
дуновения ветра войдут в него как физические явления.
Однако, сколько ни детализируй континуум, его не
приблизить к сознанию. Путь сознания проходит через
отождествление и неразличение, когда некоторые предметы
и событийные ряды устраняются в своей
несамостоятельности и принимаются за одно. Мы предположили, что
один кусочек коры, Q, отождествляется с лошадью, и
теперь это лошадь, а другой, D, теперь осел. Лошадь теперь
выходит из континуума в новой ипостаси, в которой может
иметь имя, может попасть в рассказ, в пьесу и так далее.
Ну и осел может теперь попасть не только на другую
лужайку, но и в сказку, и в мультик.
Происходит мгновенное переформатирование
картинки, и дело вовсе не в появлении новой черты,
дополняющей и обогащающей континуум, происходит смена
ракурса и точки отсчета, как в известных оптических иллюзиях:
только что были два женских профиля, и вот уже
очертания вазы. Два профиля отнюдь не оказались стерты
навсегда, они просто выбыли из зоны актуальности, чтобы
неизбежно вернуться в нее, поскольку лишь так, в
мерцающем режиме работает сознание, и всякая
безвозвратность прекращает его как сознание.
И еще один вывод: в процессе бесконечного
самовращения, в котором существует сознание, может внезапно
обнаружиться и новая грань. Удержится ли она в качестве
точки или, скорее, площадки опоры - этот вопрос в
отношении эли-сознания пока не предрешен.
2018
Раздел 4
ИМПЕРСКИЕ ЗАРИСОВКИ
1. ПРЕРВАЛАСЬ СВЯЗЬ ВРЕМЕН
(О ВЫВИХНУТЫХ СУСТАВАХ ВРЕМЕНИ)
Прелюдия
У меня есть намерение соединить в общую картину
ряд совершенно разнородных вещей. Пока эта картина
представляется мне чрезвычайно смутно, я не знаю,
получатся ли все запланированные на данный момент
стыковки. Некоторые явления не поместятся в картину,
однако возможно, что по ходу дела состоятся и стыковки
незапланированные. Предварительный вопрос звучит
так: есть ли у превратности свои законы? Или все-таки
превратность есть то, что всякий закон подстерегает,
угрожая лишить его статуса законности? Вроде бы
попытки вывести «закон беззакония» самопротиворечивы
и обречены на неудачу, но типология и топология
превратности близка к диалектике и, возможно, могла бы
с ней объединиться.
А толчком ко всему исследованию послужило
следующее соображение. Среди необъяснимых особенностей
русской жизни, особенностей несмертельных, но
вводящих в легкую тоску, находится и комплекс грозного
привратника. Кому же не знакомы суровые, склонные к
подозрительности охранники, неприветливые гардеробщики,
357
проводники и проводницы и прочие мелкие чиновники того
же рода? В отношении них возникает стойкое подозрение
относительно мании величия, во всяком случае
несоразмерность самомнения бросается в глаза каждому. Эта же
черта или особенность является наиболее контрастной при
сравнении российской и европейской публичной
повседневности. И первая мысль очевидна: как же можно быть
таким неприветливым, недоверчивым, поступая,
собственно, во вред себе, своему заведению, своей репутации, во
вред своей выгоде?
В общем, разумные объяснения здесь найти трудно,
а для иностранца обычный вывод понятен: такие уж они,
эти русские... Но ситуация меняется, если мы рассмотрим
все это как обратную сторону медали, например, в
качестве ответа на вопрос «чем могла бы быть вся эта
неприветливая нравственность, нелепая заносчивость, при
других обстоятельствах?». И каковы же обстоятельства, при
которых она могла бы быть чем-то другим?
В случае России вывод напрашивается сам собой:
в состоянии имперской мобилизованности, когда сквозь
все социальное тело проходит директивный зов:
государево дело! Вот тогда нелепое и неуместное становится
подобающим, становится оптимальным типом
поведения. Тогда срабатывает единство личной и сверхличной
ответственности. Когда ты не просто гаишник, а
регулировщик на стратегической дороге, и от тебя зависит,
как будет осуществляться трансляция государева дела
по этой самой дороге, - вот тогда разгильдяй и
человек, явно навеки обиженный жизнью, вдруг
становится энергичным и неустанным деятелем. Говоря словами
Аристотеля, он переходит в состояние деятельного
счастья.
358
Строй и настроение
Итак, первый результат: эти озлобленные, черствые
люди таковы не сами по себе, не экзистенциально, а в силу
возникшего, сложившегося строя бытия, который
является, по крайней мере для них, нестроением. Эта тема
отчасти уже затрагивалась* и теперь ей следует придать
дальнейшее развитие. Те же самые струны могут исполнять
и прекрасную, чарующую мелодию, и нечто
раздражающее и фальшивое, и это зависит не от самих струн, а от
настройки инструмента: как струны они не имеют отдельной
от инструмента жизни, и есть даже некоторый парадокс
в том, что они могут существовать не только в
гармоничной причастности, но и в досадном нестроении.
Пожалуй, следует признать, что оркестр всемирной
истории по большей части фальшивит, но сама история
продолжается, и это, кстати, тоже требует объяснения.
Хор может петь вразнобой и при наличии прекрасных
вокальных данных у его участников - но хор, поющий
вразнобой, будет петь недолго. Тут заключено бросающееся
в глаза различие между музыкальным и государственным
строем (что не отменяет глубинного сходства, базисной
изохронии). Государство имеет тот или иной строй, хотя
точное определение государственного строя отсутствует:
никто из современных политологов не скажет,
является ли отдельным строем конституционная монархия или,
скажем, Джамахирия. Идет непрерывный спор,
настоящий «полемос» относительно преимуществ того или
иного строя, в этом споре каждая сторона явно либо неявно
* Секацкий А. Партитура неслышимой музыки // Секацкий А.
Прикладная метафизика. — СПб., 2016.
359
претендует на всеобщность, на эксклюзивную
правильность избранного в качестве идеала государственного или
общественного устройства. Но дело даже не в этом, а,
скорее, в том, что каждый строй может иметь свою
благоприятную развертку и, кроме того, характерное нестроение.
С нестроением можно справиться, если сохранились хоть
какие-то камертоны оптимального строя, но если это не
так, если вся история воспринимается как сплошной шум
или совокупность помех, то дело обстоит намного
печальнее, чем в случае несоответствия той или иной внешней, но
по каким-то причинам господствующей, модели.
Сегодня это лотерейно-представительская демократия,
политический строй Америки. Этот своеобразный
политический тотализатор с преобладанием состязательной,
зрелищной формы крайне далек от идеи согласования
интересов устойчивых социальных групп и
чрезвычайно непрозрачен в распределении истинной власти.
Американский электоральный механизм работает как бы
отдельно от собственно социального строя, но в качестве
ритуала или церемониала он, безусловно, выполняет свои
функции - его, пожалуй, нельзя назвать «нестроением».
В сущности, дистрибуция истинной власти и ее картина
в виде рекордно длинной (и, пожалуй, рекордно азартной)
президентской кампании соотносятся примерно так же,
как финансовые потоки Голливуда и успех конечной
продукции (фильмов и фанфика). Всем известно, какую
значительную роль играет бюджет картины, как тесно
связаны объем инвестиций и конечный успех фильма - все же
без учета зрелищности, так сказать, имманентных законов
движущейся картинки, ничего не получится. Речь идет
именно о факторе простого учета, где мастерство
режиссера заведомо уступает мастерству продюсера и уж тем более
360
Продюсера. Такова же и картинка американских
электоральных игр: кое-что требуется от кандидата, кое-что и от
президента (впоследствии), но, конечно, мастерство
Продюсера превыше всего.
Тем не менее этот строй в целом (лотерейно-предста-
вительская демократия) и электоральный механизм как
его важная составная часть безотказно работают именно
в Америке, поскольку совпадают с резонаторами
внедренной и утвердившейся государственности, американской
ментальности и, конкретно говоря, с американской мечтой.
Ведь «американская мечта» как раз предполагает шанс для
каждого, ее неотъемлемой составляющей является
обнуление прошлого, сброс всяческих отягощений, сброс груза
истории и допуск к гигантскому виртуальному Аототрону,
вращение которого порождает движущую силу
американской жизни. Ритмы собственного бытия России предельно
далеки от подобного обнуления, наследие истории никуда
не сбрасывается, оно, напротив, должно быть все вновь
и вновь предъявлено к проживанию. И лишь в этом случае
устанавливается строй, прекращающий мучительное
нестроение.
Беда, однако, в том, что неуправляемый хор будет петь
недолго, расстроенные инструменты настроят или удалят
из оркестра. Но в истории, в которой задействован не
музыкальный, а государственный строй, нестроение
удивительным образом преобладает. Удивительным, потому
что стоит только выправить (вправить) суставы
времени, выбрать собственную, органичную для себя модель
настоящего и будущего, и очень многое тут же встанет
на свои места. Проблемы с дальнейшей самонастройкой,
с обретением виртуозности, конечно, останутся - но
разве их можно сравнить с мукой нестроения, с пребыванием
361
в разорванности и несоразмерности, когда индивидуально -
психологическое и социальное так катастрофически не
совпадают годами и десятилетиями? Хочется спросить: как
вообще такое возможно? - а ведь это происходит сплошь
и рядом, и не только в России, не только в странах,
выбравших собственный суверенный путь, но и, например,
в Латинской Америке.
Дело, видимо, в том, что доминирующий строй, в
частности, политическая система властвующей страны,
победившей сверхдержавы, может служить источником
сильнейших «радиопомех» для других музыкантов
оркестра и их инструментов. Причем как непреднамеренным
источником, так и вполне преднамеренным, ведь в муль-
тикультурализм никоим образом не входит «мультиполи-
тизм» - право каждого народа настраивать на свой лад
важнейший социально-политический инструмент -
государство. Как там у Маяковского:
Лошадь
сказала,
взглянув на верблюда:
«Какая
гигантская
лошадь-ублюдок».
Верблюд же
вскричал:
«Да лошадь разве ты?!
Ты
просто-напросто -
верблюд недоразвитый».
И предположим, что лошадь-ублюдок стала
законодательницей моды на тела - на социально-политические
362
тела. И вот вокруг нее возникают и множатся создания
с накладными горбами, жующие жвачку и постигающие
науку смачно плевать. Понятно, что такие имитации
далеко не везде обходятся безнаказанно для народов (и для
людей, конечно), и чем дальше естественный строй
отстоит от лотерейно-представительской демократии, тем
мучительнее проходит процесс настройки на исполнение
чужих песен. Стало быть, вопрос о справедливости
должен быть наконец поставлен ребром, как вопрос
перехода от декоративного мультикультурализма к реальному
мулътиполитизму, как вопрос о праве выбрать себе
органический, не режущий ухо
государственно-музыкальный строй.
Перестановки, рекомбинации и синхронизации
Оставим пока идею государственного строя,
поддающегося настройке и расстройству, и рассмотрим более
знакомую ситуацию неправильной сборки. Что происходит, когда
неверно, с ошибками и перестановками, собирается некое
устройство, например, мотоцикл, велосипед или мясорубка?
Исходы тут, в принципе, могут быть различными -
например, вещь может оказаться не работающей, не
жизнеспособной, не функциональной. Но в ряде случаев, несмотря на
неправильную сборку, устройство все же сможет каким-то
образом функционировать: например, на велосипеде
можно будет ездить, хотя и недолго и с опаской, мясорубка
будет все же прокручивать мясо на фарш, хотя далеко не так
эффективно. Почему же эти устройства вообще сохраняют
хоть какую-то функциональность? Почему всякого рода
путаница бывает «не смертельной» в мире сделанного? Этот
важный вопрос до сих пор не подвергнут анализу.
363
В биологии существует особая дисциплина -
тератология, изучающая уродства, то есть как раз перестановки
и рекомбинации, относительно которых принято считать,
что они вызваны мутациями - после чего явление
считается объясненным. При этом сама мутация может быть
вызвана ошибкой в порядке считывания. Но и тератология,
совершенно не акцентируя на этом внимания,
демонстрирует, что даже самые уродливые уроды обладают порой
некоторой жизнеспособностью, что в свою очередь ставит
под вопрос смысл гигантских затрат на совершенствование
формы.
Генетики, вдоль и поперек изучившие муху-дрозофилу,
описывают случаи, когда у нее на голове вырастает лишняя
пара ног, происходят различные перестановки внутренних
органов, - но и такие особи сохраняют живучесть, более
того, проживают средний срок жизни*. Сразу
вспоминаются моноподы, псевдоподы, люди с песьими головами
и прочая экзотика того же рода - похоже, однако, что
и природа любит порой поразвлечься всякой чертовщиной,
она рассказывает сама себе сказки на ночь так, как умеет,
не словами, а организмами.
Итак, неправильно собранные велосипед, мясорубка,
муха-дрозофила, теленок с двумя головами - результатов
неправильной сборки может быть сколько угодно. Нас,
конечно, интересует вопрос о вывихнутых суставах
времени, то есть когда перепутаны и искажены не
последовательность нуклеотидов, а последовательность моментов
и общая ритмологическая картина происходящего. В
частности, вопрос о выпадении и порче регулярностей,
который формулируется так: а можно ли догадаться, опреде-
См.: Балахонов А. В. Ошибки развития. — СПб., 2001.
364
лить по каким-то признакам, что перед нами нарушение
синхронизации и некое уродство, если ты никогда не видел
соответствующую норму и не имел с ней дела?
Поразительно, но многое свидетельствует, что в целом
ответ здесь положительный: мы можем догадаться о
нарушении, даже не зная при этом, нарушением чего оно
является! Косвенно на это указывает, например, тот
факт, что мы отличаем детеныша неизвестного
существа, даже существа сказочного, от взрослой особи - при
том, что мы ее никогда не видели, да и детеныша видим
первый раз. Так же можно определить несообразность
в музыке - не имея представления о том, в чем же ее
сообразность. Получается, что некоторые уродства мы
способны распознать в качестве таковых, другие же,
возможно, - нет. Понятно, что это происходит на основании
некоторой близости и избирательного сродства, но
странной выглядит эта многомерная близость. Биологическая
дистанция, которую прекрасно описал Мандельштам
в стихотворении «Аамарк», проходит где-то до уровня
насекомых «с наливными рюмочками глаз» - мы можем
идентифицировать бобренка в отличие от бобра, и даже
бокренка, которого курдячит глокая куздра из
знаменитого примера априорной грамматики. Но с «жучонком»
такой номер не пройдет. Биологической близостью дело
не ограничивается: некоторую область нестроения мы
способны распознать априори и в сфере сделанного, и в
области символического - в музыке, поэзии,
архитектуре. Сюда же относится и нестроение государственного
строя - в данном случае нестроения - они распознаются
как свои собственные, даже если идея правильного
темпорального целого не представлена в сознании
оценивающего. Однако за некоторой чертой способность отличать
365
функцию от дисфункции теряется. И подобно тому как
в советской риторике двадцатых-тридцатых годов
принято было говорить о «социально близких» и «классово
чуждых» элементах, мы тоже можем говорить о «темпорально
близких» регионах присутствия - причем в нашем, в
человеческом случае эти регионы не просто разнообразны,
они порой трансцендентны друг другу, ибо человек есть
существо, представленное во многих мирах и созидаемое
лишь сопряжением этих миров.
О прекрасной кобылице
Обратиться к платоновской теории эйдосов никогда не
лишне, будь то с целью ее подтверждения или ревизии.
Прекрасная амфора и прекрасная кобылица предстают как
два региона сущего, как сделанное (поэзис) и как
рожденное (генезис), они фигурируют просто как показательные
примеры, список которых можно продолжить: где амфора,
там и меч, где кобылица, там и антилопа, и орхидея. Но
если уж мы принимаем теорию эйдосов и ее темпоральные
расширения, включая идею эталонных настроек, то можно
ли расширить список примеров и говорить об идеальной
жабе и прекрасной каракатице? Совершенны ли они в
своем роде? Или все-таки совершенная кобылица примыкает
к избранным формам, к неким константам универсального
поэзиса, а вот, например, ехидна, при всем ее
своеобразном достоинстве, не может перешагнуть через черту и
обрести свой идеальный образ среди эйдосов?
Что же, суставы времени не могут свободно
изгибаться в любую сторону без риска вывиха, срывания с петель,
а организм - это контейнер времени, где значительные его
ресурсы складированы про запас. Однако они могут быть
366
пущены в дело только при подключении к внешним
ритмоводителям, включая большие регулярности планетар-
но-астрономического цикла. Для каждого индивида и для
каждого явления имеет значение текущая связь времен,
бушующий или впавший в спячку совокупный хронопоэ-
зис. Возможность некоторого отпадения от «весны
священной» представлено организмом и как организм, -
настоящую суверенность по отношению к внешнему времени,
к организму как принципу обретает лишь человеческое
существо, и следует тщательно разобраться, за счет чего это
происходит.
Конечно, и эта суверенность является относительной,
и здесь связь времен остается великим подспорьем,
настоящей опорой человеческого в человеке. Уже простая
избыточность хроноресурса в мире, некий общий запас
периодичностей и регулярностей, провоцирует множество
«частных совершенств», соотносящихся как с собственным
несовершенством (нестроением), так и с совершенствами
иного рода. История, пролагаемая поверх регулярностей
и представляющая собой внешнюю форму хронопоэзи-
са, усугубляет ситуацию, меняя неповторимые настройки
в симфонии времен.
Прекрасная кобылица представлена организмом, за-
действующим многочисленные регулярности неким
уникальным образом. Соседняя настройка тоже
жизнеспособна и противостоит собственным несовершенствам, но и эта
настройка, и отвечающий ей организм есть не что иное, как
идеальный осел. Эволюционная развилка, когда организм
мог стать (и стал) идеальным конем, возникла однажды
и вскоре захлопнулась. Имеет ли смысл говорить, что
в этот момент было реализовано большее совершенство,
чем та настройка, соответствием которой оказался осел?
367
Биолог уверенно отвечает: нет, все это чистый
антропоморфизм оценок, а природе безразличны человеческие
оценки. Однако если мы распознаем детенышей
невиданных животных, то почему бы в таком явлении времени,
как организм, не может быть распознан некий особенно
гармоничный строй? Выводы современной
хронобиологии состоят в том, что лишь часть программы построения
и развития организма переформирована (записана) в
генетической программе. Другая часть зависит от сигналов
внешнего времени, от того, какие именно регулярности
считываются биологическими часами - а считываются те,
которые по крайней мере есть в наличии. Воздействие
экспериментатора или самой жизни на внешние
ритмоводители способно изменить организм до неузнаваемости,
погрузить его в спячку, в анабиоз, заставить изменить размеры,
пол, сроки жизни - подобных примеров биология
накопила множество. Так что текст, по мере «прочтения»
которого строится и развивается организм, записан не только
в последовательности нуклеотидов, но и в длине светового
дня, в приливных циклах, в темпоральных
характеристиках магнитных полей и вообще в совокупном хроноресурсе
Вселенной в той мере, в какой он доступен для считывания
системой биологических часов-датчиков, именуемых
организмом.
Так дело обстоит в природе - даже в природе. Еще
более тесные взаимосвязи реализуются в истории и в
тех ритмоводителях синтетического времени, которыми
управляется человеческий мир, например, в
дисциплинарном времени графиков и расписаний. Какой завиток
многоплановой истории реализуется в этот момент, какие
коридоры открыты, а какие захлопнулись, временно или
навсегда, - это практически не зависит от усилий индиви-
368
да. Композитор и философ Владимир Мартынов, исследуя
историю европейской музыки, говорит о конце времени
композиторов. Ничего особенного при этом не происходит
ни с музыкальным слухом, ни с инфраструктурой
консерваторий и концертных залов. Но преимущественное право
быть представителем музыки изымается у ее сочинителей,
у композиторов, и переходит к исполнителям или дидже-
ям. Время композиторов угасло, а развернутое ими
пространство возможностей свернулось, совокупная
громкость звучащей музыки только усилилась. И сегодня, будь
ты хоть трижды Моцартом, музыку будешь представлять
не ты - и заметим, именно так дело обстояло до того, как
время композиторов наступило.
Постичь смысл перемен нетрудно, сложно описать его,
поскольку для исследования эластичных суставов времени
пока еще нет «рабочего прибора» и метода, сравнимого,
например, с системным или структурным подходом. В общих
чертах мы можем констатировать, что возобладала фоновая
музыка, музыка, которую никто не выбирал и не
заказывал. Она встречается в природе и составляет неотъемлемую
часть городской природы (урбанистики), встречается как
ветер или дождь, она, можно сказать, «водится» в тех или
иных местах обитания. В результате право первородства,
первопредставительства этой музыки переходит к
дирижерам, исполнителям, диджеям - никто в этом не виновен.
Ни при чем тут и дурные вкусы эпохи, вопреки мнениям
Ортеги-и-Гассета и Адорно с Хоркхаймером.
С другой стороны, если речь идет о тонкой настройке
повседневности, многое зависит от появления яркого
ритмоводителя, который способен связать свободно
свисающие ниточки, например, те поведенческие элементы,
которые нейтральны и, следовательно, свободны по отношению
369
к большим регулярностям. И все же появление прекрасной
кобылицы, великой музыки, величественной архитектуры
требует совпадения всех записей, и внутренних и внешних,
совпадения духа времени и спонтанного формотворчества.
Поэтому существуют грандиозные реликты отшумевших,
былых времен, продолжающие существовать и тогда,
когда сорвалось, сошло с петель их время. Бывают,
напротив, и уродцы, нашедшие свою нишу там и тогда, где время
благоприятствует прекрасным эйдосам. В общем-то перед
нами вырисовывается знаменитый принцип дозировки
фармакона, только в обобщенном виде. В таком виде это
вопрос о совпадении настроек времени, о правильной
синхронизации основных таймеров. И это вопрос, который
непостижимым образом был упущен европейской
метафизикой, да и естественные науки до сих пор сосредоточены
на переходах, связанных с инопричинением, игнорируя
изохронию и другие произведения времени, передающие
смысл целого.
О произведениях времени
Тут можно воспользоваться образом цветения, нереста
и таяния снегов. Это произведения, создаваемые
планетарными (астрономическими) ритмоводителями - или
детали произведения под названием весна. Но в каждой
конкретной области или на каждом особенном носителе,
на котором это произведение запечатлено, мы можем
обнаружить собственные каузальные механизмы или
причины, следствием которых будут, например, фазовый переход
воды или образование бутона, как срабатывание
генетической программы или генетические требования
размножения.
370
Каждая причина будет вызывать свое следствие, и
происходящее будет происходить. Однако узнать это - значит
узнать далеко не все, хотя именно подобным знанием и
довольствуется наука. Допустим, некая причина вызывает
следствие. Но куда она его вызывает? К осуществленно-
сти, которую определяет что? И еще: что вызывает саму
причину, как бы указывая ей, что пора, настало время
причинять, а вот для прежней причины, причинявшей с таким
размахом, время, похоже, закончилось.
Ответ, конечно, содержится в вопросе: время. Для
всего нужно время - для событий, чтобы сбываться и
длиться, для причин, чтобы причинять, для всякого этого,
чтобы отличаться от иного. Поэтому и не может быть такого
следствия, такого итога, которое не было бы
произведением времени. Время, конечно, не единственный автор, но
оно неизменный соавтор, а также редактор и цензор всего
сущего, происходящего и производимого (созидаемого).
Быть может, поэтому его принято выносить за скобки
в качестве фонового, нейтрального фактора, что иногда
оправдано, а иногда и нет - иногда чревато роковыми
ошибками и в понимании, и в самом бытии. Обостренная
хроносенсорика необходима прежде всего тогда, когда речь
идет о собственных произведениях времени, и к ним мы
еще вернемся.
Однако игнорирование общей редактуры и цензуры
каузальных взаимодействий тоже делает выводы науки
ограниченными. Так, действие физических законов
универсума, безусловно, имеет смысл только с поправкой
на время, прошедшее (вернее, наработанное) с момента
Большого Взрыва. Другое дело, что эта поправка
является решающей для событий «первого часа», а по мере
накопления общего хроноресурса авторская роль времени
371
падает. Впрочем, вопрос об истории земного тяготения или
о поправке на время, вводимой в законы кристаллизации,
остается. Если сумма углов в треугольнике равна двум
прямым без поправки на время, то о законах природы, даже
самых общих, этого уже не скажешь.
А законы эволюции органической жизни - были ли
они точно такими же полмиллиона лет назад? В случае
истории, состоящей из произведений времени,
темпоральная редактура дана открытым текстом, мы то и дело
слышим: таково требование времени, и когда мы это слышим,
нам, в общем, нечего возразить. Но, признавая
требования времени, вынужденно соглашаясь с его редактурой, мы
вольны судить все предъявленные когда-то произведения
по гамбургскому счету, вот почему и музыка
композиторов, и классическая архитектура, и прекрасная кобылица
остаются великими недостижимыми образцами.
Недостижимыми не по нашей вине, а ввиду непонятных нам
причуд нашего непременного соавтора и редактора - времени.
Нечто подобное как раз имел в виду Михаил Лифшиц,
говоря о вечных образцах для всякого подлинного
искусства*, но он возложил вину частично на художников,
частично на буржуазию, внушающую художнику манию
оригинальности. Между тем задача соответствовать
требованиям времени, стоящая перед каждым художником
в равной мере, действует по крайней мере начиная с эпохи
Возрождения. Однако само время о выдвигаемых
требованиях не дает отчета или, скажем так: оно, время, может
прислушаться только к очень сильному соавтору.
Наш мир - это совокупный хронопоэзис истории, и
открытые предложения работающих ритмоводителей - это
Лифшиц М. Почему я не модернист. — М., 2009.
372
важнейшие шансы, которые трудно назвать
персональными. В этом отчасти как раз и состоит непостижимость
дара, отсутствие внятных критериев, которые объясняли
бы факт востребованности.
Величие Марселя Пруста, попавшего на самый пик
автороцентризма в литературе, и даже Моцарта,
вписавшегося в музыку композиторов, хорошо известны. Но
они отчасти вводят в заблуждение, поскольку
перекрывают невероятное количество противоположных примеров,
примеров самоотверженного и самозабвенного
творчества, когда время не благоволило, когда оно и вовсе
сошло с петель...
О прекрасном и безобразном
Две категории традиционной эстетики, кажущиеся
устаревшими, почти как флогистон. Можно ли и их
интерпретировать с точки зрения строя и расстройства? Понять
как произведения, резонирующие в своем времени или,
напротив, безнадежно затерянные в мирах, не нашедших
осуществления? Такая оценка возможна, но не слишком
интересна.
Интереснее подойти к вопросу с другой стороны. Итак,
среди эйдосов, упоминаемых Сократом и Платоном, мы
обнаруживаем всего несколько примеров - амфора,
девушка, кобылица, а также ряд понятий, лишенных
вещественного представительства: добродетель, мужество,
справедливость, единое. Оставим пока кобылицу, она вне
конкуренции, и бросим беглый взгляд на все остальное.
Эйдосы представлены, в сущности, как своего рода
совершенства. Как вещи в широком смысле слова, прекрасность
которых не ставится под сомнение до тех пор, пока мы не
373
начнем в них пристально вглядываться - как это делали
Ницше или Станислав Лем.
И тогда перед нами предстанет довольно странная и
грустная картина. Удивительные достоинства и добродетели самого
высокого ранга, скажем, прямая осанка, горделивая походка,
настоящее хладнокровие - вне всякого сомнения, украшают
человека. Но важно отметить, что все они утверждаются
и поддерживаются, так сказать, путем превозмогания,
путем рассечения и отжатая естества. Что уж говорить о
моральности и нравственности, которые заведомо даны как
результаты самообуздания, отказа от влечений и увлечений.
Формулируя суть дела контрастно, можно сказать так: и
человек, и кобылица обладают своим высшим достоинством,
но как бы противоположным образом. Достоинство
кобылицы или грациозной пантеры состоит в том, насколько ее
тело вписано в природу, это как бы предельная
раскованность, естественность самого естества. Человеческое
достоинство, несомненно, состоит в автономности и суверенности,
тут Кант был прав, но это значит, что оно определяется
степенью исключенности из естества. Размышление над этим
феноменом, над этой странной оппозицией заставляет нас
сказать, что все человеческие добродетели или, точнее,
достоинства противо-естественны по своему происхождению.
Это не исключает их возможного включения в некое новое
естество, в человеческую природу - но и не предрешает его.
Большинство достоинств были и остаются достоинствами-
вопреки, прежде всего, вопреки цветениям трав, таяниям
льдов и прочим природным процессам.
Взгляд на эту странность с другой стороны
оказывается в каком-то смысле еще более странным. В природе
динамические сбои являются основой тератологии, причем
ошибка может содержаться как в генетической матрице,
374
так и в неправильном порядке считывания. Вероятность
именно такой ошибки достаточно высока, поскольку текст
жизни записан как минимум на двух отдельных друг от
друга скрижалях. Одна запись - это изъятое,
законспектированное и упакованное время, это сложные
внутренние часы, снабженные системой будильников и, наоборот,
«усыпальников». Иллюстрациями действия таких часов
выступают метаморфоз и эмбриогенез. А другая скрижаль
транслируется через ритмоводитель природы, через ее
базисные регулярности и синхронности. Чтецы иногда
читают в унисон, иногда вразнобой, так что сбиться немудрено.
Мухи дрозофилы с лишней парой ног вместо усиков,
Пепермалдеев с кнутом в рукаве и он же с ключом на носу
(Хармс) - это лишь самые зримые структуры уродства,
так сказать, частные случаи динамических
рассогласований, которых куда больше, чем морфологических. Дело
еще и в том, что символические порядки или порядки
человеческой событийности заведомо предполагают
максимальную степень автономности, то есть отцепленности
от всех биологических часов, решительного уклонения от
властных ритмоводителей. Если прекрасная кобылица
совершает свой бег, словно бы без малейших усилий попадая
в такт транслируемым ритмам и регулярностям - и в этом
ее красота, ее эйдос, - то человек безупречной чести и
истинного достоинства, напротив, обладает максимальной
суверенностью по отношению ко всем тысячелетиям на
дворе. Он порой жалуется на погоду, на плохой сон и
накопившуюся усталость - но он господин своего слова
и своего решения, его ритмоводитель - собственная воля,
и в этом его совершенство.
Мы уже знаем, что роль риск-излучения, роль жребиев,
гаданий, состязаний и древнейших лотерей в значительной
375
мере состоит в том, чтобы сбить внешние «естественные»
настройки и принудительно ввести новые, изъятые из
больших регулярностей фюзиса и привязанные к самому
архаическому времени, к остаточному ветвлению миров.
Таким образом, сочленения времени не только
вывихнуты, но и переломлены, по крайней мере многие из них.
Но при этом хроноизоляция кокона собственного времени
укреплена, все люки задраены - и бьется в тесной печурке
огонь. Если угодно, это и есть определение души.
Исторгнутость из потоков времени становится
необходимым условием, пусть и негативным, для консолидации
munda humana. Поэтому человеческий мир далек и уходит
все дальше от прекрасной кобылицы с ее полями,
реками и табунами. Человеческий мир - это действительно
«конь в вакууме», с трудом отличаемый от такого же
верблюда. Это лошадь на сцене, корова на льду, лебедь, рак
и щука, впряженные в одну повозку. Но вакуум,
разорванность связей, предоставляет условия для некой контр-
естественной жизнеспособности, регулируемой в идеале (в
вакууме) императивами чистого практического разума, а в
действительности гетерономией человеческой жизни. Но
и такое, гетерономное подчинение с точки зрения природы,
безусловно, относится к сфере тератологии. Человек
успеха, прекрасно вписанный в напряженные графики, - это
как раз и есть Пепермалдеев с ключом на носу, таким видят
его и кобылица, и сама Гея-Земля, и в их взглядах сквозит
легкая брезгливость, перебиваемая тем самым
«нравственным законом во мне», о котором так обстоятельно говорил
Кант. На пересечении этих взглядов и существует
человеческое достоинство - но отсюда вытекает довольно
суровый приговор: все наши человеческие совершенства есть не
что иное, как замаскированные уродства.
376
Человеческая природа и вторичные настройки
Приговор может быть обоснован многими томами
соответствующего дела. Среди этих томов мы обнаруживаем
и «Мысли» Паскаля, и кантовскую «Критику», и
сочинения Ницше, Лема, Пелевина... И все же приговор может
быть обжалован и назначено дополнительное
расследование. Да, диктатура символического установлена в про-
тивоход естественному ходу вещей. Сама эта диктатура
может действовать лишь в условиях строгой хроноизоля-
ции. Но это на первых порах, пока она именно диктатура
(система суровых табу) и ее альтернативой является
расчеловечивание. Но по мере того, как великое
противостояние продолжается, неизбежно возникают некие вторичные
настройки, становящиеся подспорьем для бесперебойной
трансляции человеческого.
Собственно, включенность вторичных настроек и есть
то, что принято называть человеческой природой. Нельзя
сказать, что такие новообретенные согласования равно-
возможны во всем многомерном пространстве
человеческой души. Например, императивы воли, равно как и все
аскетические практики вообще, были и остаются набором
шпор и уздечек, они по-прежнему обуздывают и, если
угодно, «уродуют» (с точки зрения прекрасной
кобылицы) как остающиеся еще позывные первичного естества,
так и ростки второго естества, темпоральные подсказки
воплощенности.
А вот любовь в ее всеохватности, несмотря на
жестокость самообуздания (включая и психоаналитические
мотивы), все же зацепилась за весну, за ночь, за
солярные и зодиакальные совпадения, а главное, она породила
собственное темпоральное тело, в котором она рождается,
377
развивается, крепнет и угасает. То есть любовь одно из
немногих произведений, размещенных и в человеческой
природе, и в суверенной свободе человека. И все же в своей
предельной интенсивности любовь действительно зла, она
ранит и истязает естество, и лишь в редких, «удавшихся»,
как сказал бы Ницше, случаях она совершает свой
соразмерный бег подобно победоносной колеснице на
олимпийских состязаниях.
Самые же действенные настройки человеческой
природы расположены не в органическом теле, на изоляцию
и автономизацию которого ушло столько усилий
очеловечивания, а в теле социальном, так сказать, в
произведениях социальной ритмологии. Собственно, социальное
расширение и является человеческой природой в первую
очередь, и лишь затем присоединяется остаточная
телесность, которая зачастую вообще бесполезна без
подключения к социальному расширению.
Так мы вновь возвращаемся к государственному строю
как прямому аналогу важнейших настроек заботливого
интегрального ритмоводителя. Сами эти государства как
формы упорядочивания социальной жизни могут быть
весьма различны и находиться под разными именами,
скрывающими множество образований, имеющих друг
с другом мало общего. Тут дело обстоит так же, как и с
хорошо приспособившимися каракатицами и
прекрасными кобылицами. Некоторые настройки похожи на
механизмы и служат минимизации зла, как справедливо отмечал
еще Гоббс, другие служат расширению жизни, порождая
и предъявляя новые возможности реверберации
человеческого в человеке. Подсоединенные к такому правильному
собственному резонатору способны выправить
вывихнутые суставы времени. Для России такой способ сборки
378
и подключения именуется империей. Суть дела, конечно,
не изменится, если мы подберем другой термин -
«держава» или «федерация», но клевета на имя сама является
составной частью кампании по дискредитации. Вспомним,
что в античной Греции правильно устроенный
(настроенный) полис рассматривали в качестве важнейшего
произведения смертных - без него, без этого экстра-телесного
расширения, невозможно добиться и надлежащего строя
души: собственно, «Государство» Платона как раз об этом.
Как известно, и сами боги слышат музыку сфер в двух
случаях: когда фюзис принимает вид идеально отлаженного
космоса и когда полис, обеспечивающий всеобщее
присутствие граждан в политическом пространстве, восходит на
свою высокую орбиту.
Имперская сборка и даже, лучше сказать,
имперский эмбриогенез обеспечивает распрямления множества
угнетенных и обессмысленных жизней, и если на смену
хроническому расстройству, нестроению приходит вдруг
правильно считываемый сигнал времени, Пепермалдеевы
с ключами на носу исчезают или занимают такое место, где
каждый ключ входит в свою замочную скважину. А
прекрасная кобылица сбрасывает шоры с глаз и возобновляет
свой имперский бег.
2016
2. ЭТНОГРАММА КАК КОСМОЛОГИЧЕСКАЯ
КОНСТАНТА
1
Время от времени в разных футурологических
рассмотрениях возникает вопрос примерно в следующей формулировке:
«сохранятся ли народы в эпоху...» - и далее следует
привычное перечисление: глобализации, биотехнологий, киборгов
и так далее. Самое трогательное в этой ситуации - робкая
попытка защитить этническую принадлежность
присутствующих, включая и спрашивающего. Отвечающий на вопрос как
бы переминается с ноги на ногу, не зная, что сказать, и в
конце концов произносит что-то вроде «птичку жалко...».
Собственно, данный текст призван утешить и успокоить тех, кому
дорога принадлежность к народу, кто, быть может, считает
эту принадлежность сокровенной частью своей сущности,
пусть даже частью беззащитной и уязвимой.
Итак, что же можно противопоставить очевидному
и неминуемому обновлению телесности, избавлению от
расовых, тендерных и, конечно же, национальных
предрассудков? Во времена зрелого-перезрелого
брежневского социализма существовал популярный зачин
(использованный в том числе в фильме «Операция Ы»: «В то
время, как наши космические корабли бороздят просторы
Вселенной...» - и далее следовало что-то про отдельных
380
несознательных трудящихся. А что сегодня? И сегодня
некоторые несознательные трудящиеся цепляются за
национальные предрассудки, несмотря на то, что живут в
одном общеевропейском доме - и не спешат задуматься над
тем, что главным из списка вмененных предрассудков
является сам факт национальной принадлежности.
Но есть и важное различие - оно в том, что советская
пропагандистская формула изначально воспринималась
анекдотически, тогда как нынешняя отсылка к «эпохе
биотехнологий и социальных сетей» считывается на полном серьезе.
Как раз эта серьезность, эта нешуточная
обеспокоенность и вызывает ответную улыбку, на память сразу
приходят опасения Виктора Шкловского насчет того, что
появление радио радикально изменит наши чувства и сама
любовь уже никогда не будет прежней...
Любовь, однако, выжила, выжила и поэзия
(относительно нее тоже высказывались сомнения). Вот и у меня
есть основания полагать, что национальность или
этническая принадлежность в качестве универсального различи-
теля в недрах человеческого бытия переживет вторжение
и гаджетов, и биотехнологий. И даже «бороздить
просторы Вселенной» космонавты будут не столько в скафандрах
(в ракете они, по крайней мере, не нужны), сколько в
«национальных идентификациях», в тех знаках отличия,
которые не удается смыть ни в процессе мытья под душем, ни
в процессе размышлений о смысле жизни...
2
В фильме «Кин-дза-дза» Георгия Данелии есть один
забавный эпизод, где шутка далеко выходит за пределы
шутки. Там житель планеты Плюк (для них в принципе
381
достаточно всего двух слов, «ку» и «кю») вдруг
обращается к посланцу далекой неведомой Земли по-грузински -
и у нашего героя это не вызывает особого удивления:
в любом уголке Вселенной могут быть свои, космические,
грузины, подумаешь, невидаль...
И ведь в самом деле - преодолевать притяжение
планет и звезд это одно, пользоваться биомодулями и прочими
насадками - тоже, почему бы нет, в конце концов можно
летать на пепелацах и при случае кого-нибудь трансглю-
кировать. И все это еще не повод для отказа от
национальной принадлежности как важнейшего знака различия.
Создатели фильма оказываются прозорливее сегодняшних
«этноалармистов»: если уж народная мудрость гласит, что
«секс не повод для знакомства», то и возможная утрата
антропоморфного облика еще не повод, чтобы перестать
быть, например, грузином, итальянцем или русским.
Можно представить себе какой-нибудь голливудский
фантастический фильм, где доблестные американские
астронавты после невероятного прорыва в технике высаживаются
на далекой планете, затерянной в просторах Вселенной,
и наталкиваются на странных неприветливых
аборигенов. Недолго приглядевшись к ним, астронавты делают
единодушный вывод: «Oh, those Russians!» Основания
такого вывода могут быть непостижимо объективны, так
что с ними согласится любой землянин. Если выразить
основания в стилистике фильма «Кин-дза-дза»,
получится примерно следующее: «Да как же их не узнать, мать
твою, все у них ржавое, не оптимизированное к
нормальным человеческим условиям, неприветливы друг с другом,
тем более с чужаками... Но при этом ржавые пепелацы
всегда готовы к старту, при этом они здесь, в едва
доступном уголке Вселенной, и оказались здесь раньше нас.
382
Стало быть, по сумме всех признаков это русские, those
Russians». И ничего, что у них выдвижные
антенны-усики и панорамные глаза с обзором в 360 градусов, это не
должно вводить в заблуждение. Русское ближе к телу,
чем антропоморфное, ближе к сути, чем тендерное: на-
циональное носит характер константы, просто пред-
заданной или вброшенной, и эта константа влечет за собой
внешнюю деятельность или смену внутренних состояний
с той же непреложностью, что и обстоятельства
заброшенности Dasein в мир (Хайдеггер).
Упоминание о космических грузинах помогает нам
вынести этнограмму на космическую высоту, представив ее
чем-то вроде участка спектрального излучения или
предположив, что этот штрихкод считывается
приближающимися звездолетами наряду с составом атмосферы и
наличием тех или иных химических элементов. По крайней
мере это происходит в некоторых случаях, требующих
особого разбора. Какова природа этих «линий штрихкода»,
определить нелегко, и последовательный перебор
возможных субстанций или носителей этнического говорит скорее
о без размерности константы, с этнограммой дело
обстоит примерно так же, как с «пи» и h, постоянной
Планка. Язык, антропологический тип, вообще биометрия, при
всей их значимости не являются эксклюзивами
этнического. Для пояснения приведем два примера.
Вот «Бытие и время» Хайдеггера, труд, посвященный
первоначалам сущего. Вроде бы речь идет о глубинных
основах бытия, но сколько прочитавших книгу воскликнули
(или, по крайней мере, мысленно воскликнули): «Ну да
это все немецкие штучки!» - и они, несомненно, поняли
друг друга: этнограмма высвечивается, даже если речь
идет о лучших образцах высокой философии. Разумеется,
383
не только Лаидеггер причастен к созданию «немецких
штучек», они даже могут создаваться не только немцами.
Вспомним далее ход мысли Шпенглера, в соответствии
с которым арабская музыка и арабская математика
похожи друг на друга больше, чем, например, арабская музыка
и немецкая музыка. Или так: русский мат больше похож на
русские пляски, чем на немецкие ругательства. Это
внутреннее сходство продуктов духа может быть не слишком
важным для большинства содержательных параметров,
но оно является безупречным идентификатором и
аттрактором для духовного производства. То есть причастность
к итальянскому, русскому или немецкому движет пером
и мыслью, даже если значимость результатов выходит за
пределы идентификаторов.
3
Фоновый этногенез идет постоянно и в разных
режимах. Противопоставление мы и они работает и порождает
восплеменение почти в том же смысле, что и
электромагнитное поле, возникающее между противоположными
зарядами. Со времен Дюркгейма доминирует представление,
что вочеловечивание и есть восплеменение, на некоторых,
притом важнейших, участках антропогенного конвейера
это одно и то же, два процесса сливаются в один.
Но в отличие от непрерывности самого этого процесса,
так сказать, фонового этногенеза, его результаты в общем
виде не слишком устойчивы. Мы можем сказать, что
возникающие «этно-изотопы» обладают некоторым, как
правило коротким, периодом полураспада. На данном этапе
сам процесс важнее, чем его результаты: вполне
возможно, что среди синтезируемых изотопов появляются и такие,
384
которые не распознаются как этносы, как нечто, вообще
имеющее отношение к этническому. Если взять
современность, то это, например, байкеры, хипстеры, растама-
ны, субкультуры типа эмо, гламур и т. д. Вроде бы они
представляют собой нечто социальное, но не похожее на
этнические группы. Но если предположить, что подобные
слабые «этно-изотопы» синтезировались и в прошлом, и в
позапрошлом веке, и в этом же самом процессе рождались
народы, кое-что проясняется. Действительно, почему
народы должны рождаться каким-то особым, специально
для них предназначенным способом? Принцы рождаются
точно так же, как и другие дети, и лучше задуматься над
тем, что именно делает этно-изотопы с коротким периодом
полураспада, такие как руферы, байкеры или либертены,
вообще субкультуры, в некоторых случаях этносами?
Отчасти ответ подсказывает биология: изоляция.
Именно на изоляции в значительной мере и основывается
разнообразие видов в живой природе. Но если длительная
изоляция отсутствует, что тогда? Тогда - в случае
этногенеза - восплеменение может идти и другим путем и при
некоторых благоприятных обстоятельствах выйти за
рамки субкультур и образовать более длительное единство,
имеющее вполне отчетливые этнические характеристики.
Тут сразу можно заметить, что хорошим фиксатором
является государство. Обретение государственности
повышает ранг восплеменения, но напрямую с этногенезом
не связано. Или, скажем так, большинство этнограмм,
несомненно, включает в себя спектральную линию
государственности - но ведь не все. Этнограмма еврейского
народа является полноценной космической константой, для
которой государственность, так сказать, факультативна,
однако ясно, что если уж есть космические «грузины», то
385
уж «инопланетные евреи» и подавно. Ясно и другое: при
наличии подобной константы этнограммы в собственном
смысле слова «живучесть» народа в качестве субъекта
истории становится максимальной.
Есть смысл исходить из того, что основные различители
уже заданы, этнограммы-константы уже прописаны, хотя
появления новой яркой спектральной линии никогда нельзя
исключать. ЭДке имеющиеся, проверенные историей
этнограммы, если придать им некоторую антропоморфность,
будут выполнять роль святых, в подлунном (межзвездном)
мире просиявших. И текущий этногенез остается на
фоновом уровне восплеменения в значительной мере потому, что
разметка с помощью действительно ярких аттракторов уже
осуществлена, и выросшее развесистое древо исторических
народов заглушает новые побеги. В священной роще
народов плохо принимаются молодые саженцы - только если
кое-что вырубить вокруг, обеспечив относительный
простор, если стереть яркие этнограммы по соседству - вот
тогда восплеменение может встать на путь прямого
этногенеза.
4
В том-то, однако, и дело, что стереть этнограмму в
ранге космической константы далеко не просто. Есть
основания полагать, что это до сих пор никому не удалось.
В теории Льва Гумилева, во многих отношениях вполне
справедливой, не хватает важнейшей поправки: в случае
схватывания и фиксации яркой этнограммы, мощного
аттрактора сверхдальнего действия, обретается способность
регенерации, реновации, недостижимая для естественного
этнического процесса.
386
Возьмем для примера такую константу, как Римская
империя, или просто Рим. Вроде бы тот Рим с его
этносом канул в прошлое, но это как посмотреть. Возможно,
что без причастности к константе вечного города не было
бы и Византии - ведь ее граждане, подданные,
именовали себя «ромеями» (римлянами) и в известной степени
были ими. Для сохранения преемственности - в случае
если речь идет об этноконстантах истории -
антропологическая и узко этническая преемственность
необязательны, куда важнее, например, преемственность
подвига и достоверность определенного типа коллективного
самочувствия. В отношении к Риму это означает
сохранность жертвенной составляющей державообразующей
нации и, к примеру, таких спектральных линий этнограм-
мы, как принцип dura lex sed lex, решительность в
переходе Рубиконов, приверженность к децимации, даже если
она не будет буквальной. Большинство таких
спектральных линий не поименованы и опознаются,
воспроизводятся интуитивно, в рамках общей державной поступи
и имперского самочувствия. И понятно, что этнограмма
Константинополя не тождественна исторической и даже
метаисторической этнограмме Рима, но без космической
константы Первого Рима не было бы и Византийской
империи и, как знать, возможно, не было бы и Третьего
Рима - Российской империи.
Россия унаследовала (или как еще назвать этот вид
преемственности) преимущественно те спектральные
линии Византии, которые были не римскими, и добавила
свои, выверенные, обретя, в конце концов, уникальную
этнограмму в ранге космической константы. В эту новую
этнограмму, безусловно, вошла такая яркая новая линия,
как подвиг царства в качестве одного из подвигов веры,
387
наряду с книгочеиством, юродством, служением в миру
и т. д. «Царь есть помазанник божий» - это совсем не
то, что расхожий тезис «вся власть от Бога», это именно
концентрация богоприсутствия в таком обрамлении, как
«государево дело», и данный императив был выражен
в России еще сильнее, чем в Византии, что объясняет
долгое правление таких катастрофически непригодных
к верховной власти людей, как Николай II, Горбачев
и Ельцин. Но одновременно беспрецедентная чуткость
к этой настройке объясняет и способность восставать
из пепла, восстанавливать державное присутствие и
тогда, когда кажется, что империя окончательно погибла.
Вспомним 1612, 1917 и 1991 годы - каждая из этих
дат могла стать надписью на гробовой доске истории
(сюда можно включить и 1941-й) - однако этнограмма
России как космическая константа по-прежнему сияет на
небосклоне.
Понятно, что она включает в себя и некоторую
непросветленность, неправедность всего частного, не
имеющего причастности к императиву государева дела, включает
и ряд других обстоятельств, чем-то даже похожих на
исторические проклятия (вроде дорог, заставляющих думать,
что к нашей суровой земле просто «асфальт не
приживается»), - но это другая тема. Для нас сейчас важно, что
наличие закрепленной историей этнограммы представляет
собой то, что в электронных играх называется
«дополнительная жизнь», а может быть, и все девять жизней. Это
витальный исторический ресурс, который может оказаться
поважнее экономических показателей и
сбалансированного соотношения ветвей власти.
Кстати, космологическая этнограмма может не
предполагать даже непременной государственности (как в случае
388
еврейского народа), но Россия точно прикреплена к ней
только как империя, никакого другого вхождения в историю
для нашей страны не предусмотрено, а все упорные попытки
(попытки несоответствия) только треплют понапрасну
коллективное тело социума.
Одной из важнейших линий этнограммы является
тотемная причастность - о ней свидетельствуют чеченский
волк, китайский дракон, русский медведь. Тотемное
животное, если оно вообще имеется, предстает прежде всего
как хранитель инобытия и тем самым множитель
присутствия, добавляющий неповрежденное и зачастую непо-
вреждаемое измерение.
Нравы тотемных животных, безусловно, отличны от
поведения их зоологических прототипов, тотемный волк
и волк как участник биоценоза могут иметь лишь
смутную общую проекцию, прежде всего изобразительную.
Тотемная причастность, как правило, становится частью
этнограммы, и нас интересует способ вхождения в такую
причастность, типологически близкий и в чем-то
тождественный этнической идентификации. Тотем иногда
понимается как животное-покровитель, как родовой сим-
вол-различитель, но смысл тотемной причастности как
раз в идентификации, которая носит не психологический
характер и является принципиально беспричинной. Мы
можем привести основания, в силу которых человек
становится, например, воином, купцом (бизнесменом) и даже
счастливым избранником дамы сердца. Но позиция «быть
Петром» не имеет никаких психологических оснований.
Позиции «быть койотом», «быть вороном» - из той же
389
серии, они не требуют объяснений и принимаются в
качестве простой очевидности. Перед нами
альтернативные способы быть собой и даже «быть самим собой», что
и означает тотемную причастность, задействование очень
важной независимой переменной, добавляющей новое
измерение и новый ранг мерности. Это чистое
экзистенциальное расширение, достающееся только даром и потому
особенно дорогое. Общность с этнограммой видна
невооруженным глазом, ведь и она обретается не вследствие
роста производительности труда и даже не вследствие
суммирования отдельных ярких вкладов в признанность.
Элемент дара не просто присутствует в этограмме, он является
определяющим.
Впрочем, и обратная связь с тотемом тоже существует,
свою причастность нужно подтверждать, тотем обязывает.
Если ты принадлежишь к тотему волка, это значит, что
и ты волк в некоторых обстоятельствах многомерного
бытия. Ты можеиль им быть и, значит, существовать в этом
измерении - либо данное измерение для тебя закрыто
и придется довольствоваться социальной маломерностью
чисто гомогенного социума, проекцией на плоскость. Этим
достигается некоторый выигрыш в плане наличия
понятных ориентиров, в плане вычислимости и локализации
(«где я оказался?»), выигрыш касается и принципа
сквозной утилитарности. Но существует и счет потерь. При
отсутствии тотемного эгрегора ты теряешь мерность,
непредсказуемую объемность существования. Ты теряешь
свободу в ее первозданном, исходном, «диком» смысле.
Все это вполне очевидно по отношению к личностному,
персональному бытию, однако в измерении национального
не все так ясно и для прояснения следует предпринять
небольшое отступление.
390
6
В персональном измерении наличие тотема есть как
раз залог многомерности, основание той комплектации,
которая соответствует рангу субъектности. Существуют
микростыковки, которые принято именовать
психологическими переходами, они и образуют имманентную
человеческую психологию в узком смысле слова. Но если говорить
об экзистенциальной комплектации, то она имманентных
переходов не содержит или такие переходы представлены
в модальности заданности как своеобразные задания,
императивы для разума, не имеющие рационального,
позитивного решения.
Психология способна объяснить - по крайней мере
такие возможности есть в ее инструментарии, - каким
образом подросток Вова становится уважаемым Владимиром
Владимировичем. Но формулы мгновенного
отождествления с актерами на сцене, с литературными персонажами,
с тотемными животными для нее непостижимы. Они
непостижимы так же, как оборотничество и одержимость,
как вхождение в метаперсональный резонанс, как
перемещение своей смерти в иглу на манер Кощея Бессмертного
или в святыню на манер героя-подвижника, - а между тем
все это составляет простую и жесткую реальность
экзистенции. В общем и целом тотем может быть рассмотрен
как сверхценный идентификатор, принцип действия
которого остается мистическим - не менее мистическим, чем
смысл жертвоприношения.
Но входит ли сегодня тотемный идентификатор в
национальную идентичность? И если да, то какие линии эт-
нограммы ему соответствуют? Очевидно, что в плане
коллективного самосознания тотемную причастность можно
391
обнаружить далеко не во всех случаях, во внешних
оценках она встречается чаще (например, все тот же «русский
медведь»). Важнейшей функцией тотемных животных на
сегодняшний день является воспитательная, точнее
говоря, функция производства человеческих чувств и эмоций.
Остановимся на этом подробнее.
Звери-протезы - в этом ключевом словосочетании есть
все для понимания важнейших инструментов антропогенеза.
Тут должны участвовать амулеты, раскраска под тигра или
ягуара, маски и, конечно же, тотемное животное. Звери -
протезы, звери-эйдосы, звери-аттракторы, позволяющие
нам если не познать самих себя (а за этим дело не станет), то
по крайней мере самого себя удержать в неконтролируемой
имитативной волне: реконструировать эту раннюю стадию
антропогенеза можно лишь спекулятивно. Соображения,
возникающие здесь, носят разрозненный характер. Кстати,
и «характер» как психологическая реальность, возможно,
возникает вследствие самоидентификации с помощью
зверя-протеза, в частности, его ближайшего материального
коррелята - маски. Койот, лисица, гриф etc. суть лучшие
точки для собирания и крепления стационарных свойств:
ведь я - это еще чистое ничто, это мчащаяся по цепочке
перерождений, трансформаций пустая идентификация:
зафиксировать ее и помогают звери-протезы.
В чем-то сходную, хотя, конечно, ослабленную роль
играют зверушки для детей. Все детские книжки
переполнены зверями в антропоморфной форме: лисичка, зайчик,
петух (Петя-петушок, золотой гребешок). Очевидно, что
учить чувственной азбуке по зверям гораздо проще (и
эффективнее), чем по людям: никакой дядя-слесарь или
дядя-президент не подойдет для той роли, которую
исполняют Петя-петушок и серенький волчок. Зверюшки соби-
392
рают на сеоя кластер простейших различителен: заика
пугливый, трогательный со своей морковкой, слегка озорной.
Волк - ну это сущий злодей, хотя и недалекий, можно
обмануть и даже поиздеваться: лисичка-сестричка - совсем
другое дело... В результате дети учатся быть людьми по
зверям, да и люди в целом стали когда-то людьми,
используя конструкцию «звери-протезы».
И в этом смысле звери не просто антропоморфны, они
антропоморфнее самих людей (палеоантропов), которые
по сравнению с ними аморфны, ибо обнулили свою
принадлежность к особенной природе. Звери-протезы суть
эталоны грядущего антропоморфизма, лишь в этих
доспехах существо нулевой природы становится похожим на
человека.
Особенность этого удивительного протезирования была
в том, что оно имело авангардный характер. Обычно
протезы используются вместо утраченных органов, но великое
авангардное протезирование палеолита возмещало
(компенсировало) еще не обретенные органы - дискретные
авангардные площадки, на которых должны быть
установлены опоры семиозиса, высоковольтные столбы воистину
человеческого мира. Когда семиозис был запущен в
разности потенциалов бинарных оппозиций, протезы можно
было демонтировать, что, собственно говоря, и произошло.
Переход от сакральной зоологии к зоологии рассудочной
представляет собой грандиозную эпистемологическую
революцию, по сравнению с которой меркнет даже такой
удивительный феномен, как синтез дисциплинарных наук.
Как мы уже видели, авангардное протезирование тем
не менее не исчезло совсем, оно осталось в качестве
надежного и в чем-то незаменимого механизма
социализации, используемого для запуска социо-онтогенеза: для
393
детей звери-протезы по-прежнему так же необходимы,
как материнское молоко или, лучше сказать, как
материнская ласка, ведь молоко удается заменить
субститутами, синтетическими смесями, а зверей-зверушек - нет.
Встречаются и прочие довольно многочисленные следы,
позволяющие предположить, что звери отчасти все еще
остаются съемными протезами. О чем еще могут говорить
процветающие во всех культурных практиках зооморфные
сравнения: «ты полный козел», «да ты просто шакал»,
«это хитрая лиса», «ну ты орел» и так далее.
Следы контаминации с сакральной зоологией или, так
сказать, мозоли от авангардных протезов и
соответствующие фантомные боли остаются на всю жизнь. В частности,
современное политическое движение зеленых в
значительной мере представляет собой регрессию к стадии
рабочего протезирования, всегда имеющую место в социогенезе.
Особый интерес, конечно, представляет новый бестиарий,
населяемый и одушевляемый на наших глазах: орки,
Чебурашки, снусмумрики и прочие новые, неслыханные
существа, заполонившие видеоряд цивилизации,
свидетельствуют о том, что эра нового авангардного протезирования
стартовала. Опять же, это дополнительный аргумент
в пользу того, что социогенез - да и антропогенез - не
закончились однажды раз и навсегда; новый виток антро-
посоциальности разворачивается сейчас, на наших глазах.
Протезные отождествления идут полным ходом, и как-
то осмыслить их было бы чрезвычайно важно. Впрочем,
остается в действии и практика тайного тотемизма:
персональные выдирки из сакральной зоологии могут
сопровождать человека всю жизнь наподобие тросточки,
простейшего съемного протеза. И стало быть,
возможность произвольного вмешательства в этнограмму на этом
394
участке экзистенциального конвейера представляет собой
наиболее радикальный тип социальной инженерии.
Что же, нужно признать, что содержанием последней
стадии современной цивилизации является среди прочего
(а может быть, и в первую очередь) размывание
этнограмм.
Результат ощутимого прорыва сюда, в нашу
повседневность виртуальной истории (типа «Звездных войн» или
«Игры престолов») может оказаться неожиданным. Ведь
напрашивалось соображение, что появление
искусственных этнограмм (тех же эльфов или джедаев) приведет
к ослаблению национальных идентификаторов - и
поначалу так оно и было (хочется сказать - в полном
соответствии с замыслом самозваных цивилизаторов). Однако
достоинства синтетических этнограмм, их яркость,
наглядность, своеобразная эффективность неожиданно дали
вторую жизнь вполне классическим или, лучше сказать,
естественным этнограммам, как раз тем, которые можно
отнести к разряду этнологических констант: тут навскидку
на ум приходят скифы, викинги, самураи...
Этот процесс можно назвать мифопоэзисом истории,
и ему суждено стать новым аватаром искусства, на
порядок более действенным, чем прежние типы производства
символического. Набирающий силу мифопоэзис едва ли
не в первую очередь может дать новую жизнь России,
может вернуть и даже расширить наше историческое время.
7. Время России
Позади осталось смутное время 90-х. которое в
планетарном масштабе было временем Pax Americana - не
исключено, что под этим именем оно и войдет в историю.
395
Не будем говорить ни о разрухе, ни о предательстве, ни
о чуде спасения - эпоха была не нашей, не российской даже
безотносительно ко всему этому. Все традиционные козыри
России - скрепы истории, мемы имперской сборки и даже
ее этнограмма как космологическая константа - не
работали. Строго говоря, великая империя могла решать лишь одну
задачу - устоять, выдержать удар, точнее, серию
смертельных ударов и сохраниться в ожидании лучших времен.
Следует констатировать, что безоговорочное доминирование
Америки резко изменило среду обитания социальных тел,
таких как государства, народы и диаспоры. Долгосрочные
завоевания исторического этногенеза и важнейшие
эволюционные преимущества суверенитета оказались
поставленными под вопрос как дорогостоящие и бессмысленные
побрякушки. Собственно, эта ситуация как раз и была
охарактеризована как конец истории (Фукуяма), как
торжество постмодернизма в политике. Одновременно эта эпоха
стала и торжеством социальной инженерии: цивилизаторам
удалось добиться максимальной и по скорости, и по объему
денатурации социальных институтов и самого человечества.
При этом американский истеблишмент если и не
осуществлял функции мирового правительства, то уж точно
олицетворял мировую жандармерию.
К счастью, России удалось выстоять, удалось
продержаться в эти черные для нее времена, дождаться не
перелома, нет, а того момента, когда «вывихнутые суставы
времени» (Шекспир) были вправлены на место и многовековые
обретения - драгоценный золотой запас истории
(суверенитет, независимость, этнограмма, империя) - вновь
стали надежными идентификаторами, восходящими
горизонтами исторического настоящего и будущего. Китай, Иран,
Турция, несмотря на все степени давления, смогли все же
396
воссоединиться со своей собственной историей и вернуть
себе статус субъектов международного права. На наших
глазах проясняются контуры того мира, в котором России
принадлежат существенные преимущества, и на чужую
игровую площадку ее уже не затащить.
Могут быть, конечно, разные мнения насчет того,
почему американскому истеблишменту и другим самозваным
цивилизаторам не удалось «дожать» дезориентированное,
подвергаемое, казалось бы, необратимой денатурации
человечество. Ну да, утратили бдительность, потеряли нюх,
совсем уж отбросили меры предосторожности, так что
цинизм (Макфол) и невежество (Псаки) окончательно
вытеснили остатки дипломатии и политеса, - все это,
конечно, имело место.
Но так или иначе национальные элиты самих
альтернативных цивилизаций вышли из состояния обморока,
присмотрелись к оружию врага и нашли собственные
возможности им воспользоваться. И все же самым общим
и правильным ответом здесь будет утверждение, которое
вроде не тянет на роль объяснения: восстановилась
прерванная связь времен.
Первое в своей истории поражение, причем глобальное
поражение, потерпели «большие СМИ», и это значит, что
безграничному контролю четвертой власти над миром
пришел конец, а ведь именно эта власть в значительной мере
и обеспечивала нерушимость Pax Americana, ведь так
называемая свободная журналистика всех стран всегда имела
проамериканский уклон, поскольку сама медиасреда была
так устроена, именно под это и заточена. На игровом поле
медиасреды когда-то, собственно, и были сформированы
важнейшие политические структуры Америки. А победить
американскую команду в американский футбол крайне
397
проблематично. И во всяком случае ясно, кто является
фаворитом. Поэтому очень важно перенести центр
противостояния на свое или хотя бы на нейтральное игровое поле.
Хорошая новость состояла в том, что новой линией фронта
стали так называемые малые СМИ и соцсети - и тут уж у
России обнаружились собственные возможности, притом
возможности наступательные.
С одной стороны, соцсети продолжили линию
социальной инженерии и денатурации, сделав тотемными
фигурами домашних животных - собственно, сетевой «котик»
и стал тотемным животным для нового, одомашненного
человечества. Но, с другой стороны, сетевое, электронное
пространство оказалось вполне подходящим для оттиска
этнограмм. Этнограммам выдуманных народов было,
конечно, далеко до космологических констант (да и сейчас
далеко), но все же многочисленные и достаточно
живописные идентификаторы шли вразрез с универсалистскими
установками, направленными на максимально возможное
стирание отметок национальной принадлежности. Сетевое
пространство стало подспорьем для субкультур,
обеспечивая доходчивым наглядным материалом их алтари. То
есть «фоновое восплеменение» отнюдь не прекратилось,
а вместо прежней географической, например, изоляции
работает электронная изоляция, запирающая группу
индивидов в добровольное сетевое гетто.
С другой стороны, виртуальная история и этнография
стали доминирующими направлениями кино и
своеобразными приоритетами для телесериалов: были отработаны
новые механизмы сюжетно-визуальной идентификации.
Конкурентное ветвление историй, способных входить
(и вводить) в плотные слои проживания (фанфик,
ролевые игры), в некоторой степени освободило человечество
398
от принципа необратимости прошлого, в частности, от
вменения исторической вины. Встал, наконец, на повестку
дня вопрос: а кто они, эти вменяющие, и что им,
собственно, нужно? С одной стороны - это создатели фильмов
и сериалов, но также и историки и как раз цивилизаторы,
уже давненько создавшие особую инквизицию,
призванную безжалостно осуждать отступников - ну, например,
тех, кто ставит под сомнение бесчинства советских войск
в Европе, освобождаемой от нацистов. Если деятельность
первых (режиссеров) достаточно прозрачна, то намерения
историков и гуманизаторов-цивилизаторов выглядят
достаточно мутными. Однако их совокупные вердикты до
последнего времени обладали непреложностью, на чем
отчасти и базировалась их непререкаемая власть; скажем,
академическое сообщество гуманитариев было
затерроризировано похлеще, чем во времена Галилея.
Но, как уже отмечалось, наступило, наконец, время,
вправившее свои суставы, этнограммы стремительно
реабилитируются, сегодня они вновь востребованы, а механизмы
причастности к ним обрели новую свежесть: сработал
эффект самовосполняемой матрицы. На этом и основываются
преимущества России как естественной империи, для ее
актуализации годятся такие яркие спектральные линии, как
те же викинги, казаки, землепроходцы, не уступающие по
яркости спектральным линиям воображаемой истории
голливудского производства и при этом актуализующие
бессознательную память истории, «память металла» и даже
«память воды», то есть достоверную связь поколений.
Космологическая константа и имперская матрица вновь
воссияли после беспрецедентной по своей продолжительности
кампании стирания. Теперь ясно, что при любом исходе Pax
Americana останется лишь одним из проектов.
399
Всмотримся в эту панораму современности с ее
перспективами для России и для остального мира.
Трансляция «общечеловеческих ценностей» была, наконец, не
только заподозрена, но и уличена в фундаментальном
лицемерии, так что объекты ее воздействия, объекты
Просвещения и транспарации, отважились сформулировать
свою позицию и назвать вещи своими именами. Борьба
за общечеловеческие ценности получила в результате не
столь возвышенное, но зато более подобающее ее
сущности имя - систематическое оболванивание.
Прекращение беспрепятственной трансляции чужих колыбельных
и возникновение стойких очагов сопротивления (Россия,
Китай, Иран, европейские традиционалисты), в свою
очередь (в ответ), были названы «гибридной войной». Так
или иначе, магическое воздействие подмененных имен
прекратилось, и ополченцы всемирной армии сопротивления,
услышав, что они «варвары», «ватники», «империалисты»
и т. д., могут теперь спокойно пожимать плечами и
заниматься своим делом, высказывать свою выстраданную
позицию вместо мучительного припоминания распевов из
чужих колыбельных, осуществлять свою историческую
миссию, реализовывать свой экзистенциальный
проект. Цивилизаторы могут (и будут) вносить коррективы
в пропаганду, несомненно сообразят, что лицемерие
слишком рано утратило изощренность, уступив место простому,
незатейливому цинизму, но, как уже отмечалось,
изменилось само время, изменился его событийный состав. Стало
ясно, что этнограмма есть не пережиток, а подспорье и что
суверенитет есть по-прежнему та вещь, которую следует
отстаивать всеми силами. Почему? По двум причинам.
Во-первых, выступающие против «фетишизации
национальных суверенитетов» делают это отнюдь не из
400
абстрактных соображений справедливости, а ради
отстаивания избранных, приоритетных этнограмм. Например,
англо-саксонской. Когда Путин в своей статье в «Нью
Иорк тайме» написал, что Америка не должна
претендовать на исключительность, он, несомненно, не ожидал
отповеди именно на эту фразу, ведь цивилизаторы уже
несколько десятилетий с успехом проповедовали тезис
о неприемлемости идей национальной исключительности
в современном международном правовом поле. Но Обама
вдруг, не мудрствуя лукаво, заявил, что «Америка -
исключительная страна», после чего тезис об американском
лидерстве стал провозглашаться открытым текстом.
Любопытно, что, возможно, только тогда руководство нашей
страны поняло, что маски сброшены, они это поняли едва
ли не последними. Современный опыт России, весьма
удивительный в этом отношении, напоминает усвоенную
наконец стратагему Сунь-цзы: «Чтобы устоять в войне, надо
прежде всего понять, что с тобой воюют, а не занимаются
твоим воспитанием».
Руководство России поняло это до нелепости поздно,
но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Если ты
понял, что с тобой ведут войну, хладнокровную и
безжалостную, какими бы лицемерными проявлениями заботы она
ни сопровождалась, у тебя уже есть шанс на победу.
И во-вторых. Воссоединение с собственной этнограм-
мой, а в случае с Россией и с имманентной имперской
традицией означает обретение всей исторической
глубины достоверного существования. Без этой причастности
Россия обречена быть тенью самой себя - что в
очередной раз доказали девяностые. Новое вхождение в транс-
персональное расширение (в имперский резонанс) вывело
социальное тело из состояния лихорадки и восстановило
401
его нормальную температуру. Некоторые издержки
возобновленного имперского выбора (запоздалые и бессильные
санкции США, например) не могут идти ни в какое
сравнение с фактом возвращения к смыслу, к полноте своей
исторической миссии.
Всмотримся в некоторые рациональные аргументы,
выдвигаемые против имперской сборки. Говорят о
неподъемном, излишнем напряжении сил, о том, что экономика
больших проектов и великодержавных задач подрывает
благосостояние граждан, говорят о демографической яме,
недостаточной даже для простого воспроизводства
населения, и о многих других подобных вещах, выглядящих вполне
резонно. Попробуем разобраться с этими претензиями.
Во-первых, мы можем оценить самый распространенный
ответ, данный как большинством европейских стран, так
и многими странами мира. Ответ гласит, что от слишком
дорогого, чрезмерно затратного суверенитета можно и
отказаться, выбрав дешевый, доступный декоративный
вариант. Согласно этому ответу, предпочтительнее все же
кормить чужую армию, чем свою, а именно американскую,
и следовать в американском политическом фарватере,
надувая при этом щеки и произнося бессодержательные
заклинания о правах человека и о либеральном выборе.
Многие страны подобная ситуация до сих пор
устраивает и сохраняется по умолчанию. Однако не все народы
согласны на столь позорный компромисс и не считают
цену, затраченную на поддержание настоящего
суверенитета, слишком высокой. Заметим, что это выбор не
только россиян, количество стран и народов, отказывающихся
экономить на суверенитете, ширится. Да и сам «гегемон»
устами президента Трампа недавно потребовал повысить
плату за крышу: увеличить расходы на оборону стран
402
НАТО, дать преференции американскому бизнесу и
прочее в том же духе.
Но суверенитет и наличие сверхзадачи (миссии)
окупается сторицей. В обществе устанавливается некоторая
согласованность, определенная гармония вхождений,
удивительно контрастирующая с раздраем смутных времен:
если бы такую согласованность можно было бы оплатить из
бюджета, мы, возможно, имели бы лучший способ его
расходования. Но есть и вещи, еще более трудно измеримые:
повышение ранга событийности присутствия и повышение
температуры души. Когда говорят о перенапряжении, о
демографической яме (например: где же взять солдат
империи, тут позаботиться бы о сохранении нации...), как раз
забывают, что космологический статус этнограммы
включает в себя и ее «самопополнение». Ведь когда империя на
подъеме, когда народ ее ведет себя, как подобает
имперскому народу, то есть отважно и жертвенно, тогда
количество подданных увеличивается не только путем
рождаемости (хотя по непонятным причинам и рождаемость в этом
случае, как правило, выше) - можно говорить о
свободно присоединяющихся этносах и индивидах. Вспомним,
сколько было желающих стать римлянами, сколько народов
и стран называли себя римлянами. При желании можно
вспомнить, сколько племен присоединилось к Чингиз-хану
на марше. Почему? Потому что имперская победоносность
и есть лучшая демография.
8
Теперь следует рассмотреть
мемориально-реставрационную составляющую этнограмм - точнее, тех этнограмм,
которые мы возвели в ранг космологических констант.
403
Этнограмму в качестве матрицы определенного
социального тела полезно сравнить с набором генов - геномом,
а также с мемами, с живой монограммой воли к власти -
и с сердцем Кощея Бессмертного.
Сначала насчет генов - тут дискурс, что
называется, известный. Генетики вычислили гипотетическую
праматерь Еву и установили ее примерный возраст. Они же
подсчитали, как непропорционально много в мире
потомков Чингиз-хана (Чингизидов), не акцентируя внимания
на том, что этот факт не отражает ни биологических
преимуществ соответствующего генного набора, ни мудрой
демографической политики кочевой монгольской державы.
Смысл этого факта тем не менее ближе как раз к этнограм-
ме как космологической константе, но лишь сравнительно
ближе, и со своей стороны он доказывает, что трансляция
влияний и идентификаций в человеческом мире
определяется отнюдь не генами. Оставим пока в стороне социокод
(соединение этнограммы и социокода должно быть
важнейшей проблемой антропологии, этнографии и истории)
и обратимся к фигуре культурного героя, а конкретно -
к писательским влияниям. Вот совершенно наивно и
напрямую заданный вопрос: можно ли сказать, что писатель
оставляет после себя что-то вроде «не-биологического
потомства», представленного теми, кого он очаровал,
вдохновил и, скажем так, оплодотворил? Похоже, что и здесь
обстоит примерно так же, как и в случае с этнограммами:
по отношению к некоторым писателям подобное
сравнение работает, то есть обнаруживает определенный смысл*.
Безусловно, осуществляется «перенос влияния» вплоть до
* См., например: Деррида Ж. Диссеминация. — Екатеринбург,
2007.
404
творческого оплодотворения и появления нового
собственного текста*, так что наследование проходит как минимум
по двум линиям - по линии самовозрастающего логоса
(пополнения тезауруса текстов) и по линии
воспроизводства впечатленных читателей. От Гомера и до Борхеса мы
можем проследить преемственность по обеим линиям.
В череде поколений сохраняют присутствие, конечно, не
«гены» писателя, но некие элементы его творческого
инобытия, среди них, пожалуй, и «мемы», но не только они.
Это вклад художника, хранимый народом, и одно из
отличий народа от «населения» состоит в том, что народ
хранит вклады своих художников в широком смысле,
своих культурных героев, а если не делает этого, то как раз
превращается в население. Так что обращение к
проблеме авторского (в частности, писательского) вклада лежит
вполне в русле нашей темы. Признанные произведения
писателей, стало быть, составляют особую спектральную
линию социально-психологической идентичности, и
линию немаловажную.
Кстати, трансляция «наследственного материала»
может быть рассмотрена еще и в направлении третьей
линии (помимо впечатлений и прямого инфицирования на
собственный текст) - это авторские культы и мемориалы,
вполне неоязыческие по своему характеру, но работающие
в нужном направлении. Мемориалы - не обязательно
нечто локализованное вроде Ясной Поляны, они могут быть
рассредоточены, рассеяны по городским и сельским
пространствам, но в совокупности они составляют некую
матрицу возрождения и даже матрицу-монограмму
воскрешения вполне в духе Николая Федорова, так что третья
* См.: Блум X. Страх влияния. — Екатеринбург, 1998.
405
линия ближе всего примыкает к сохранению персонального
инобытия. Авторские детища, тексты и вообще
произведения, вполне добросовестно поддерживают присутствие
своего создателя, так что забота писателя о «собственных
детищах» объяснима и оправдана. Сами создатели это
прекрасно понимают, хотя зачастую только имплицитно,
но порой создается впечатление, что некоторые авторы,
как раз обеспокоенные и даже одержимые иноприсут-
ствием, не тратят времени понапрасну на распространение
«природного» генетического материала, полностью
сосредоточившись на судьбе творений. Примеры Лермонтова,
Кьеркегора, Шопенгауэра и Ницше, взятые навскидку,
иллюстрируют довольно распространенный случай.
Не вдаваясь в дальнейшие подробности, сделаем
следующий предварительный вывод. Этнограмма, подобно
матрице художника, способна обеспечивать собственную
трансляцию в череде поколений. И вклады художников,
несомненно, образуют отдельную спектральную линию
в составе настоящей, рассчитанной на длительное
хранение этнограммы. Понятно, что при всей их (творческих
вкладов) важности этнограмма к ним не сводится и даже
не всякая этнограмма их содержит. Но параллели
следует еще раз отметить и подчеркнуть. Трансляция единич-
ностей, идентификаций, отвечающих на вопрос «кто?»,
когда речь идет о человеческом в человеке, не сводится
к генетическому материалу, достаточному для «остальной
природы», и отнюдь не определяется им. Плодовитость
писателя в качестве главы семьи ничего не говорит о
распространении его влияний и его иноприсутствия.
Воспроизводство этнограммы в едином биосоциальном
теле, конечно, тесно связано с репродуктивным
поведением. Но и оно, это воспроизводство, отнюдь не определяет-
406
ся одним лишь «сбережением народа». Тут уместны слова
Христа: если зерно не умрет в земле, то пропадет и
засохнет, а если будет брошено в землю и там умрет как зерно,
то даст урожай сам-десять и сам-сто. Народ, который не
«сберегает» себя, торгуя суверенитетом и соглашаясь на
порабощение, а, напротив, платит за свою независимость
самую высокую цену, совсем не обязательно исчезнет первым
и вообще не обязательно исчезнет. Так когда-то пали триста
спартанцев во главе с царем Леонидом. Спарта не
проводила «мудрую политику» сбережения народа во что бы то
ни стало, возможно, именно поэтому ее этнограмма по-
прежнему потенциально пригодна для вживания, она как
бы депонирована вплоть до появления действенных средств
воскрешения, о которых мечтал Николай Федоров: и
некоторые из них начинают, наконец, появляться. Так что
воистину «наши мертвые нас не оставят в беде» (В. Высоцкий),
а бессмертный полк способен вести как оборонительные,
так и наступательные бои в горизонте истории.
И еще одно следует здесь сказать. Если линии жизни
и творчества великих писателей входят в состав
спектральных линий этнограммы и если земным
представительством этнограммы является империя (имеющая, впрочем,
и небесные корни), мы с большой долей вероятности
обнаружим имперский выбор включенных в этнограмму
писателей. Этот выбор не является строго обязательным, но
он по-своему естественен. Примеры Пушкина,
Достоевского и даже Иосифа Бродского при всей его
амбивалентности подтверждают имперскую ориентацию больших
писателей. Назвать такую позицию эгоистичной было бы
странно, но все же речь идет о своеобразном «высоком
эгоизме», вычисляемом по формуле «Я памятник себе
воздвиг нерукотворный». Сохранению вклада способствует
407
родная речь, а ее сохранению, в случае России, лучше
всего способствует империя: «поэзия» и «империя» очень
часто оказываются ближайшими спектральными линиями
этнограммы.
Вот и наметился наглядный образ этнограммы, на что
она более или менее похожа: на годовые кольца среза.
Такие кольца можно увидеть на спиле ствола - и по ним
прочитать историю этой древесной жизни. Кольца,
входящие в этнограмму и образующие ее, - тоже своего рода
следы истории, точнее, избранные бороздки
событийности, следы славных побед и исторических напастей,
включая тяжелые поражения и годы порабощений. Но если
дерево регистрирует события автоматически -
наводнения, засухи, затяжные морозы, бесснежные зимы - все
это может быть точно датировано в фактической
последовательности, - то событийные кольца этнограммы
включают в себя, скажем так, «избранное», то есть лишь
некоторые события, причем не обязательно самые
важные с абстрактно-исторической точки зрения и,
разумеется, не самые достоверные. Такого рода бороздки,
«затеей» этнограммы, ее кольца среза не зависят в общем
случае от наличия письменной истории, письменная
история может утверждать одно, а запись в этнограмме, если
она вообще есть, - другое. Так наглядность
спектральных линий мы дополняем кольцами среза, с собственным
масштабом и собственной внутренней периодичностью.
И, конечно же, с собственным представлением о том, что
есть событие. Бородинское сражение и битва на Косовом
поле могут соседствовать с бороздкой, повествующей
408
о том, как принц полюбил юную пастушку и что из этого
вышло, а также с бороздкой-фонограммой, где
записаны две-три песни, пригодные на разные случаи народной
жизни и некоторым образом собирающие народ. И
рядом - уже упоминавшиеся тотемные отождествления,
зароки и предостережения, а также, используя
гоголевское выражение, «вообще черт знает что такое».
Разнородность и даже взаимная трансцендентность записей
в этнограмме является минимальным условием, при
котором этнограмма будет представлять собой реальную
ценность.
Еще одна важная вещь. Данные этнограммы, даже те,
что записаны в виде годовых колец, то есть относящиеся
к истории и как-то коррелирующие с учебниками, не
подлежат исправлению или уточнению, независимо от того,
какие встречные данные будут предъявлены историками-
исследователями. Процедуры верификации и
фальсификации равно неприменимы к той истории, что записана
в годовых кольцах среза.
Допустим, историками совершенно точно установлено,
что никакой княжны не бросал Стенька Разин за борт,
в набежавшую волжскую волну. И этот факт более или
менее доведен до общего сведения собираемого этнограм-
мой и вокруг этнограммы народа. Пострадает ли от этого
песня? Перестанут ли ее петь как не прошедшую
процедуру верификации? Внесут ли в ее текст коррективы,
предложенные историками? Ответ во всех случаях
отрицательный. Тут нет обратной связи, вернее, в норме она
отключена, наглухо заблокирована и лишь в исключительных
случаях срабатывает. Песня вдохновляет, хотя и
придумана давным-давно, история трехсотлетней давности вдруг
оказывается к месту - хотя и существуют судьбоносные
409
часы, когда вдруг открывается канал внесения изменении
в матрицу.
Этнограмма создается, дорабатывается и
модифицируется путем мифопоэзиса. То есть она ненаучна в том же
смысле, в каком ненаучна поэзия или катание на качелях;
говоря коротко, этнограмма есть не предмет познания
(разумеется, она может при этом изучаться), а феномен самого
бытия. Корректировать ее текст в соответствии с какими-
нибудь внешними данными, хотя бы и в полной мере
научными, совершенно бесполезно. Особенно нелепыми и при
этом, увы, чрезвычайно распространенными являются
попытки корректировать чужую, например, соседскую эт-
нограмму. Здесь источник постоянно тлеющей
враждебности и трудно устранимых недоразумений. На сегодня один
из самых свежих примеров такого рода - это перепалка
между Россией и Украиной. Тут и попытка Украины
претендовать на «украденное» имя Русь, и их смехотворные
попытки внедрить в сознание москалей то, что они
«москали» и, соответственно, должны называть свою страну
«Московией». Россия тоже не отстает со своими
собственными коррекциями национального сознания братского
народа. По степени уместности все это отдаленно напоминает
афоризм Константина Мелихана: «Должен ли джентльмен
снимать шляпу в присутствии дамы, если шляпа находится
на голове у другого джентльмена?»
Настойчивые попытки корректировки чужих этно-
грамм непременно содержат ссылки на «научность» и
«подлинную историчность», тогда как в отношении
собственных этнограмм порядок иной: тут перед наукой,
в частности перед наукой историей, ставится задача найти
подтверждения тому, что и так очевидно для любого
русского, украинца или, скажем, турка.
410
Еще раз отметим, что все это идеально подходит под
определение пустые хлопоты - мифопоэзис, посредством
которого формируется, сохраняется и обновляется этнограм-
ма, матрица социально-исторической идентичности, может
наукой только изучаться по факту, да и то эта наука
находится в зачаточном состоянии. Во взаимоотношениях
трансцендентальных матриц существует, разумеется, и сравнительный
аспект, но он не имеет отношения к коррекциям и
взаимокоррекциям. Один мифопоэзис может быть успешнее другого
в силу удачного подбора спектральной линии истории или
эффективных способов воплощения, например, наличия
высококачественного иллюстративного киноматериала. Голливуд
долгое время был и первопроходцем, и безоговорочным
лидером в этом отношении, но всякая монополия когда-нибудь
кончается, и сегодня осознанная художественная политика
в рамках мифопоэзиса взята на вооружение и другими
странами, в том числе и Россией.
10
Поучительные моменты недавнего прошлого стоит
проанализировать подробнее. Мы отмечали, что попытки
вмешательства извне в осуществляемую чередой
поколений трансляцию этнограммы результатов не приносят - но
это в общем случае. Эпоха Pax Americana, время
господства социальной инженерии и реализации проекта
самозваных цивилизаторов, характеризовалась как раз
достаточно эффективным вмешательством в трансцендентные
матрицы идентичности народов. Следует отметить два
уровня действенной коррекции.
Во-первых, транснациональный контроль над
колыбелью. Подобные попытки, конечно, предпринимались
411
в истории*, но впервые атака на колыбель произошла
в планетарном масштабе. Целью принудительной
коррекции были самые ранние участки логоинъекции, от
собственно колыбельных песенок до азбук и букварей.
Во -вторых, не менее, а может быть и более,
эффективным оказалось прямое воздействие: под оболочкой муль-
тикультурализма был внедрен универсальный комплекс
вины, связанный с причастностью к той или иной этно-
грамме вообще. Кое-какие коррективы удалось внести,
разумеется, самые прогрессивные, гуманистические и
цивилизованные - их суть сводилась к отказу от
европоцентризма, к несмываемой всеобщей вине за свое прошлое
(колониализм, холокост, крестовые походы, не добрались
пока только до истребления неандертальцев) и фактически
к стойкому внутреннему сознанию поражения в правах.
То есть, казалось бы, торжество социальной инженерии
и политического постмодерна было полным - так казалось
еще несколько лет назад. Так казалось, но не так оказалось.
Тексты этнограмм, ДНК социокода, эти длинные
цепочки сжались как пружины под беспрецедентным давлением
социальной инженерии глобализма. Еще чуть-чуть, и они
должны быть рассыпаны, раздавлены с хрустом или без
хруста. Но пружины распрямились и выстрелили.
В этом есть нечто фантастическое, есть элемент чуда.
Воспряла обреченная на угасание и уничтожение Россия,
спокойно предъявил свою волю Китай, лет тридцать
ходивший в учениках и просителях, - широкий фронт
сопротивления возник и обнаружился сразу, и геополитические
усилия России стали лишь частью процесса. Мощный удар
* См., например: Гумилев Л. Н. Тысячелетие вокруг Каспия. —
Баку, 1991.
412
по евробюрократии, по фасаду социальной инженерии был
нанесен Брекситом, восстановление гравитации этнограмм
стало заметно повсюду. Нечто похожее на революционную
ситуацию сложилось в главной вотчине самозваного циви-
лизаторства - в США. Элита, возомнившая, что совсем уж
может не считаться с обществом, по результатам выборов
потерпела первое серьезное поражение - впрочем,
понятно, что исход войны еще не предрешен. Ресурсы
транснациональных цивилизаторов все еще достаточно велики, но
«американский казус» показателен и достоин того, чтобы на
нем задержаться. Обозначим несколько разломов
противостояния и сопротивления.
11. Патриотизм - это...
Иногда внутренняя ложь может быть устранена
простой логической коррекцией, которая сама по себе
очевидна на уровне модуса Barbara, но, ввиду режима сообщений
чрезвычайной важности, до самой тривиальной операции
дело просто не доходит.
«Патриотизм - последнее прибежище негодяев» -
изречение, приписанное чуть не десятку мудрецов. Вдумаемся
в него, отчасти с учетом сегодняшних реалий. На уровне
самого дешевого софизма (У тебя есть пес? Да. Значит, это
твой пес. У него есть щенки? Да. Значит, он отец. И вывод:
твой отец - пес) здесь прослеживается похожий уровень:
встретил не отличающегося порядочностью патриота -
значит: что ни патриот, то негодяй... Между тем с точки
зрения банальной силлогистики вывод тут, скорее,
противоположный (хотя нюансы, конечно, важны) - и он таков.
Сколько угодно существует негодяев, лишенных даже
последнего прибежища. Патриотами, они, понятно, никоим
413
образом не являются, но негодяями быть не перестают:
пожалуй даже, задача их облегчается, поскольку
остается меньше помех: ведь даже с приоритетами собственной
родины не приходится считаться. А вот патриотизм может
оказаться той самой соломинкой, или даже «луковкой»
Достоевского, ухватившись за которую можно и обрести
стержень. Но можно и не обрести, ведь негодяям
прекрасно известно, что капитализация предательства приносит
наибольшую прибыль. А если еще учесть, какие
сверхблагоприятные условия для такого рода капитализации
породила современность, можно сказать, что просто создана
зеленая улица для негодяев без последнего прибежища.
Дискредитация суверенитета как непременного
основания свободы, в том числе и личной свободы, открывает
удивительный простор для тех, кто готов с
пренебрежением отвергнуть всякого рода державные побрякушки
(типа того же патриотизма), правда, скромно
умалчивается о том, что реальная распродажа этих «пустых
побрякушек» приносит колоссальные барыши. Покупатель
на них все время находится, и мы даже знаем, как его
зовут. Подобных негодяев без последнего прибежища
можно было бы назвать своего рода коррупционерами,
но помимо живущих налогоплательщиков они
обкрадывают еще и будущие поколения, которые тем самым
обречены родиться в порабощении - если позволить
негодяям без последнего прибежища распродать суверенитет
их отчизны (для чего и нужно выполнить первую
операцию: представить священные бастионы независимости
как «державные побрякушки»).
Если на ниве патриотизма способны преуспеть и
преуспевают негодяи (что возможно) и если порядочному
человеку дорога туда заказана (что уже лукавая подмена
414
тезиса), то возникает простой и наивный вопрос: кому же
принадлежит верховная власть, отстаивать интересы
которой порядочному человеку вроде не зазорно?
Ответить можно по-разному, причем два мотива в
ответе так или иначе будут присутствовать. 1 ) пусть власть
принадлежит достойным безотносительно к каким-либо
патриотическим предпочтениям и 2) пусть власть
принадлежит другому. И далее требуется уже некое синтетическое
умозаключение, которое гласит: почему-то этот достойный
и он же другой - для всех один и тот же... Этот суверен
верховной власти, так заботящийся о дискредитации
патриотизма и о предпочтении вместо этого достойных, ком-
петентных, безупречно демократических, по
совместительству является покупателем всех державных атрибутов,
так что постоянно осуществляется и возобновляется некая
не лишенная странности торговая сделка. В эксплицитном
виде она выглядит так. Первая ее часть - это воззвание
к «достойным и демократичным» всего мира: «Не дайте
смутить себя негодяям, тем, кто нашел прибежище в
патриотизме и сбивает вас с толку всякими суверенными
отягощениями вроде "боеспособной армии", свободного
выбора союзников, предпочтения собственных интересов
интересам прогрессивного человечества и прочее.
Следует решительно заклеймить этих проводников варварства
и мракобесия».
Такова первая часть. А вторая не подлежит
публичному озвучиванию, но является непременным
подкреплением первой. Она гласит: «А мы, кстати, все эти суверенные
атрибуты, эти опасные негодяйски-патриотские штучки
у вас еще и купим!» И вот предложение, от которого вы
воистину не сможете отказаться, тем более что
продавцы суверенных побрякушек (прежде всего, политические
415
элиты современной Европы, но не только они), помимо
материального вознаграждения, получают еще и
моральные бонусы - ну, хотя бы звание демократичных и
демократически избранных политиков. А также возможность
быть повсюду желанными и рукопожатными
представителями собственного народа и прочая, прочая и прочая. Ну
как тут устоять, тем более что альтернатива известна: те,
кто держится за независимость, суть диктаторы,
мракобесы, негодяи последнего прибежища.
Таким образом вырисовывается крупнейшая
коррупционная схема, по сравнению с которой торговля
внутренними преференциями, то есть коррупция более привычного,
классического вида, оказывается только на втором месте.
На первый взгляд тут ничего нового, всегда существовали
формы вассальной и клиентской зависимости,
ограниченные суверенитеты - разница, однако, в том, что это не
являлось секретом, как-то регулировалось международным
правом и гражданами вассальной страны воспринималось
как печальная необходимость - а лучшие из них надеялись
на подлинную независимость и боролись за нее. Теперь же
негодяи, отказавшиеся от последнего прибежища, не
просто получили амнистию, но и обрели некую
неприкосновенность по отношению к гневу собственного народа: они
знают, что их последним прибежищем, в случае чего,
станут США или Великобритания. Ладно, допустим, их
подданные сами виноваты в собственном малодушии, но в чем
виновны дети, воспитанные в ощущении безнадежности
решающего выбора, уже сделанного за них? Этот выбор
(быть за спиной Большого Брата) обретает статус чуть ли
не закона природы. Коррумпированные (в этом высшем
смысле) элиты совершают деяние, противоположное
деянию Моисея - тот водил свой народ сорок лет по пустыне,
416
чтобы полностью выветрилось ощущение естественности
рабства, а эти провозглашают отказ от патриотизма во
имя «индивидуальных свобод» атомарных граждан,
чтобы привить в качестве естественной установки
ощущение бесправия в главном - в самоопределении, в выборе
и утверждении своей этнической идентичности.
По плодам их познаете их, и плоды видны повсюду,
и притом видны невооруженным глазом. Стоит только
бросить беглый взгляд на загипнотизированность всемирным
Большим Шоу - выборами американского президента.
Если говорить о европейцах, то они, пожалуй, наблюдают
за этим шоу даже с большим пристрастием, чем за
выборами собственного президента. При здравом рассуждении
это и не удивительно, ведь их собственный «суверен» мало
что решает. Да и для кого он собственный? - конечно
же, не для этих голландцев, датчан, немцев (увы), а для
Большого Суверена, скупившего по дешевке все
суверенные атрибуты у негодяев без последнего пристанища
(прибежища). Предвыборная кампания Трамп - Клинтон
вызывала живейший ежедневный интерес всей Европы -
и разве это не свидетельство триумфа долгого
анти-Моисеева скитания? И это вместо того, чтобы, пожав плечами,
воскликнуть: чума на оба ваши дома!
Так простая, незатейливая подмена, содержащая явную
логическую нелепость, приводит не только к губительной
коррупционной схеме торговли суверенитетом со стороны
«демократических элит» (продажа того, что доверено тебе
на время с условием держать в нерушимости), но и к тому,
что для собственных «сознательных граждан»
неприличным становится любой патриотизм, кроме американского.
Но анти-Моисеев поход еще не закончен, здравый
смысл не истреблен полностью, достаточное количество
417
мыслящих и при этом не лукавых людей понимают,
какова обратная сторона этой лакированной и лакейской
политики. У этих понимающих довольно популярен афоризм
о непротивлении злу силою - и понятно почему. С одной
стороны, за этим девизом - авторитет Ганди и вообще
пацифизма, надежды на то, что по мере роста числа
примкнувших влияние ненасильственного сопротивления
будет возрастать. С другой - подозрение насчет
безнадежности активного сопротивления с соответствующими
утешительными отговорками: да, Америка - мировой
жандарм, всепланетный полицейский - но ведь не самый
худший полицейский, а от добра добра не ищут. Хотя
в данном случае, скорее, от зла не ищут зла.
Тут-то и кроется грубая логическая ошибка наподобие
той, что связана с негодяями и их последним прибежищем.
И роковая уступка в борьбе за свободу, причем в самом
магистральном направлении этой борьбы. Вроде бы тезис
о непротивлении злу силой выглядит логично, если нет
другого выхода. Однако даже при таком предположении
сказано еще не все: есть еще выбор, причем очень важный
выбор. Зло злу рознь. И реальность такова, что
подчинения чужому злу можно избежать, если не противиться
некоторому злу собственному. Оно, оставаясь все же злом,
является верным и очень надежным союзником в деле
освобождения от чужого, абсолютно постороннего и
абсолютно равнодушного зла, которое раздавит и не заметит,
коль скоро речь будет идти о действительно важных для
него критериях, хотя, быть может, совершенно непонятных
для самих «непротивленцев». Так, непротивленцы чужому
злу искренне недоумевают, почему остальные граждане, не
задумываясь, применяют к ним слово «предатель», ведь
они борются с собственным злом, с очередным диктато-
418
ром, коррупционером, притеснителем геев, который даже
и не думает вводить прогрессивные законы вроде закона
о легализации однополых браков или о запрете
пропаганды патриотизма...
Поэтому скажем просто: непротивление собственному
злу насилием намного предпочтительнее, чем
непротивление насилием чужому злу. Сотрудничество с
оккупационными властями в собственной стране позорно всегда и при
всех обстоятельствах, а иногда единственной
альтернативой такому позору является временное смирение с
собственным злом. В истории не счесть подтверждающих
примеров, немало их и в российской истории последнего
времени - от генерала Власова до президентского
советника Илларионова. Даниил Андреев, автор «Розы мира»,
именно в этом усматривает необходимость
подкармливания инфернальных чудовищ, уицраоров, гарантов
государственности, избавляющих от капитуляции перед чужим
злом. И только когда чужое зло перестает быть
смертельной угрозой, непротивление собственному злу теряет
оправдания.
Сегодняшнее положение России в этом смысле
судьбоносно. Ее правительство назначено на роль всемирного
злодея именно потому, что не отказалось ни от одного из
суверенных атрибутов, точнее говоря, оно восстановило
те позиции, которые двумя десятилетиями раньше сдали
негодяи без последнего прибежища. Поэтому вопрос об
отношении к национальному уицраору - ключевой для
современной России. И есть нечто сулящее надежду,
нечто спасительное в том, что большинство россиян и страна
в целом предпочли временное непротивление
собственному злу вечному порабощению чужим злом. Этот выбор
стал настолько очевидным, что оно, транснациональное
419
зло, даже сбросило овечью шкуру и отказалось от
красивых упаковок-фантиков.
В отстаивании собственных интересов и свободы
выбора следующих поколений в значительной мере
определяется судьба и тех, кто счел такую борьбу безнадежной
и бесперспективной. Отстояв собственную независимость,
не склонив голову перед чужим злом, перетерпев ради
этого свое собственное временное зло (а оно в
принципе неустранимо из мира, в котором действует приоритет
государственности) и послав подальше обслуживающий
персонал социальной инженерии, Россия реабилитирует
патриотизм не только как свой выстраданный выбор, но
и как принцип бытия в истории.
12
Что же произошло с главной американской
мифологемой, отчасти даже претендовавшей на роль аннигилятора
всех этнограмм? Американская мечта всегда основывалась
на экзистенциальном обнулении: ты можешь сбросить
весь опыт прожитого, груз неудач и поражений, и начать
сначала. Это страна чистого листа, здесь у каждого - свой
шанс. Конечно, это своеобразный шанс номадической
сборки, неявно предполагающий в качестве главного
экзистенциального принципа тезис «каждый за себя, а Бог
против всех». Естественно, что Америка рассматривалась
как главная база лаборатории Фауста, среди прочего, как
прибежище негодяев без последнего прибежища - Pax
Americana должен был по умолчанию стать их миром. Но
что-то пошло не так, и неожиданно произошел сбой там,
где не ждали: Америка предъявила собственную этно-
грамму, не поддающуюся экзистенциальному обнулению.
420
Ее выразителем и предъявителем стал народ Америки, тут
иначе не скажешь, и матрица сформировалась «по
мотивам» XIX и XX веков как раз на основе
вышеупомянутого парадоксального девиза.
Конечно, плачевное положение новых бесправных
было в какой-то степени очевидным. «Законники»
(lowers) обложили простых американцев (то есть не
изучавших право) тотальным юридическим рэкетом, по сути
похожим на дань, которую берут с покоренных народов.
Правящие морализаторы - те же юристы,
психоаналитики, колумнисты и телеведущие больших СМИ - в течение
десятилетий осуждали и безжалостно высмеивали наивные
моральные предпочтения «фермеров и автослесарей».
Когда-то в рядах советской интеллигенции подобным
насмешкам подвергался только Шариков, а сопоставимому
презрению - «пролы», то есть номинально находящийся
у власти пролетариат, трудящиеся. Собственно,
затравленный американский средний класс, похоже, и составил
ядро нового пролетариата, униженных и оскорбленных
нашего времени. Именно они, фермеры, автослесари и даже
клерки низшего звена (в отличие от офисного планктона
как целого), они, а не гастарбайтеры, не художники и не
сетевые администраторы стали, как кажется, образующим
элементом нового пролетариата и нанесли судьбоносное,
быть может, поражение самозваным цивилизаторам
(истеблишменту) на выборах в США - но все это еще
требует подробного анализа.
Для нас же сейчас интересно и важно то, что
«восставшие» взяли на вооружение этнограмму, чем существенно
затруднили дальнейшие действия негодяев без последнего
прибежища. Сопротивление денатурации со стороны
«человеческой природы» опередило экологическое возмездие
421
со стороны природы как таковой. Родственность этих
явлений тоже пока не осознана, но на одном только чистом
классовом сознании столь масштабный протест не
сработал бы. Следует правильно понимать содержание
призывов «мы - американцы» и «мы сделаем Америку снова
великой». Конечно, великой в данном случае означает не
ведущую роль надзирателей мировой социальной
инженерии. И не в смысле сотворения рая для «де-натуратов»
и дегенератов, благодаря провозглашению которого и
формируется устойчивый проамериканский и
антинациональный элемент во всем мире. Стать великой в рамках
восстановленной этнограммы означало и означает стать снова
той Америкой экзистенциального обнуления, страной, где
у каждого есть шанс не за счет социальной халявы, а
поскольку он готов держать круговую оборону от мира.
Получается, что национальное все еще значимо, если
уж в самой Америке апелляция к национальному
позволила одержать победу над поборниками денатурации, над
самозваными цивилизаторами. А поскольку наличие
этнограммы (тем более в ранге космологической константы)
как высшей степени консолидации национального
оказалось вовсе не анахронизмом, а, наоборот, чрезвычайно
важным геополитическим преимуществом, шансы России
устоять и утвердиться в своей исторической миссии
сегодня высоки как никогда.
13
Самое время, однако, порассуждать на тему, что же все-
таки дает этнограмма в различных сферах человеческого
присутствия - в историческом измерении, в социальной
сфере, в самой человеческой экзистенции. Что, собственно,
422
препятствует определению этнического как ветхого,
слишком человеческого в противовес обновленным принципам
сборки? Разве основополагающий принцип христианства
«несть ни иудея, ни эллина» не способствовал в свое
время обновлению человечества, разве он не сокрушил
Римскую империю и не вдохновлял европейскую цивилизацию
на всем пути ее развития? Да - и атеистическое по своей
сути Просвещение решительно поддержало этот принцип.
Уместно спросить: а чем так уж плоха современная версия
тезиса, которая теперь звучит: «мы такие разные, и все-
таки мы вместе»?
Целый ворох подобных вопросов требует взвешенного
ответа. В математике, да и в естествознании в целом, есть
понятие допустимой погрешности. Среди множества
приблизительных ответов лучшим заведомо будет тот,
который ближе к точному (где погрешность меньше). Однако
вправе ли мы сказать, что ответивший «пять» на вопрос
«сколько будет дважды два?» оказался ближе к истине,
чем ответивший «десять»? Для многих вопросов оба
ответа совершенно равносильны и равноценны. Но в любом
случае важны уточняющие процедуры - как надежное
лекарство от сугубой приблизительности, выдающей себя за
истину.
Так, заметим, что формула «несть ни иудея, ни
эллина» это, прежде всего, вдохновляющий и достаточно
четкий идентификатор. Им определяются братья и сестры во
Христе, а это значит, что, несмотря на всю свою широту,
сюда не входят те, кто продолжает упорствовать в своей
приверженности прежним культам. В современной версии
экуменизма скрывается, конечно, куда более лицемерная
двусмысленность, как раз в этом заклинании «мы такие
разные, но все-таки мы вместе». Да, мы вместе, поскольку
423
являемся покорными подданными Pax Americana, здесь
каждому причитается крупица социальной и моральной
помощи. Но взамен мы, такие разные, должны
беспрекословно соблюдать неписаную конституцию Pax
Americana: играть в правильные электоральные игры,
последовательно проводить политику денатурации, формировать
собственную элиту и витрину декоративного суверенитета,
руководствуясь параметрами идентификатора. Мы, такие
разные, должны, разумеется, отказаться от собственной
истории как опоры для сегодняшней экзистенции (все
историческое должно быть упаковано в
декоративно-туристический слой), в версии вынужденного переселения
беженцы должны быть как дети, ищущие защиты у дяди
Сэма и мамы Меркель, остающимся на месте следует
хорошо себя вести, чтобы не поставили в угол (не обложили
санкциями) и не вбомбили в землю под девизом какой-
нибудь очередной «несгибаемой демократии» или
«несокрушимой свободы». Вот тогда мы, такие разные, да
пребудем вместе во веки веков.
Какие же выводы можно сделать из всего этого? Ну,
например, такой: там, где кончается гравитация этнограм-
мы, начинаются лицемерие, ложь и цинизм. Тут,
безусловно, имеется погрешность, в том числе из-за несколько
избыточного пафоса контрпропаганды. А значит, крайне
важны поправки. Внесем их.
Во -первых, этнограмма может быть небесной эмблемой
не только национального государства в пост-Вестфальском
смысле, но и эмблемой империи, где собственно этнический
элемент находится на вторых ролях: имперские народы
Византии или России - яркий тому пример. Империя как
произведение духа строится с участим присоединившихся
народов, именно поэтому, скажем, имперская этнограмма
424
Рима сохраняет свою гравитацию, свою силу сборки даже
тогда, когда аутентичная Римская империя прекращает
существование, и отсутствие антропологической и
этнографической преемственности никого не смущает.
Во-вторых, действующая гравитация этнограмм
отнюдь не превращает ни земную историю, ни тем более
текущую международную политику в Царство Божие.
Выражаясь в духе христианской теологии, наличие этнограмм
не искупает и не компенсирует факт грехопадения, факт
изгнанное™ из рая. Но наличие этнограмм, как
признанных и действенных параметров истории, по крайней мере
предотвращает попадание в губительную ловушку
порабощения без сопротивления, в капкан типа Pax Americana.
Отключение этнограмм оказывается аналогом
отключения иммунитета, так сказать, социально-исторической
версией СПИДа. В сочетании с вирусной инфекцией,
разрушающей индивидуальную монограмму
самотождественности и обеспечивающей бесперебойную трансляцию
чужих колыбельных, производство человеческого в
человеке претерпевает роковые мутации. Таким образом,
признанность этнограмм, включенность их силовых полей
делает мир по крайней мере честнее. Вырабатываемые
этими полями антитела предотвращают распространение
массовых наваждений эпидемического и пандемического
характера: глобализм под наблюдением и под контролем
мирового жандарма есть последнее по времени из
пандемических наваждений, от которых мир, к счастью,
начинает отходить. Человечество приходит в себя, оно выходит
из лихорадочного бреда, идет работа преодоления
иммунодефицита.
Да, некоторые из антител выглядят неприглядно,
уж больно они похожи на национальные предрассудки
425
и этнические стереотипы - может, это и не удивительно,
ведь бактериофаги нашего организма тоже не слишком
симпатичные существа. Но те явления, с которыми они
борются - наваждение и эксцессы расчеловечивания, -
несравненно опаснее привычного и, конечно, далеко не
ангельского налога на суверенность.
Для пояснения и для иллюстрации судьбоносных
событий недавнего времени необходимо обратиться к текстам,
весьма далеким от современной политологии.
Вспоминается, к примеру, образ послереволюционной Одессы,
созданный Валентином Катаевым в повести «Уже написан
Вертер». Там чекисты, представленные сплошь
местечковыми евреями, ведут непримиримую борьбу с польским
контрреволюционным подпольем, мечтающим установить
Речь Посполитую «от моря до моря». И писатель
резюмирует итог удивительно точными словами: «Злые духи
рая отпугивали злых духов ада». Увы, именно так
выглядит борьба добра и зла на авансцене истории, геополитики
и текущей политики. Обольщающие демоны ада с
приветливыми лицемерными улыбками проводят планетарную
кампанию стирания этнограмм и «обезвреживания»
экзистенциального измерения - а им противостоят ополченцы
в бушлатах и ватниках, и поди распознай в них Воинов
Света... Прекрасная новость, однако, состоит в том, что
они больше не одиноки, что в них опознает своих верных
стражей выходящая из обморока, из глубокого наваждения
Россия. Но, конечно, далеко еще не предрешен исход
великого противостояния. Однако самой лучшей иллюстрацией
до сих пор остается странная и удивительная книга, чем-то
похожая на «Божественную комедию», - это «Роза мира»
Даниила Андреева. Великий визионер, жаждал грядущего
торжества света и всю жизнь возвещал его. В книге совме-
426
щаются самые смелые мечтания и самые наивные грезы:
достаточно упомянуть идею вселенского вегетарианства,
которое коснется даже волков...
Но именно как визионер, обладающий редкой
проницательностью, Андреев интуитивно следовал идее хро-
нопоэзиса: далеко не все моменты исторической
последовательности можно пропустить или даже конспективно
пролистать, кое-что из больших регулярностей требуется
именно избыть, иначе они будут возвращаться как
отложенный соблазн с самыми разрушительными
последствиями. И прежде всего к таким моментам относятся
государственность и этническая идентичность. Все
важнейшие субъекты истории, по мнению Даниила
Андреева, обладают как минимум двойным представительством
в трансцендентных («инфрафизических») измерениях.
Такими представительствами служат затомисы и уиц-
раоры. Затомис - это своего рода инстанция небесного
заступничества за тот или иной народ и его развернутое
историческое деяние; так, затомис России включает в себя
немало фигур, от святых, в земле российской просиявших,
до Андрея Рублева, Пушкина и Мандельштама. А уиц-
раор представляет собой персонифицированную темную
энергию государственности, точнее, великодержавности,
наличие уицраоров организует социально-историческое
бытие человечества в ситуации изгнанности из рая.
Да, прежде всего Господь обращается к одинокой
душе, но и этой душе, для того чтобы обрести глубину
и подлинность, требуется не только органическое тело.
Человеку достаточно совсем немногого, и ему же нужен
весь мир, но в ситуации изгнанности и заброшенности
есть лишь один способ не стать антропологическим
материалом в череде безумных проектов - следует обрести
427
нечто большее, чем простую причастность к одному из
сменяющихся поколений. Выстраданный и проверенный
историей способ - причастность к этнограмме,
создающая историческую преемственность бытия-во-времени,
способную резонировать в каждой отдельной душе. Уиц-
раор же можно определить как нижний край этнограммы
или охватывающее кольцо, в котором располагаются все
кольца среза и благодаря которому они продолжают
существовать в мерцающем режиме присутствия, в некой
предъявленности к проживанию с возможностью
образования новых колец. Изнутри народного бытия уицраор
представлен как воинство «злых ангелов рая», которые
могут победить, если будут руководствоваться
принципом нечистая сила в чистых руках непобедима... Для
причастных к этнограмме и собранных ею чужой уицраор
есть враг, с которым возможно перемирие и даже
продолжительный мир, но исключительно при посредстве своего
собственного уицраора.
И как ни соблазнительно разорвать порочный круг
порождения уицраоров и апелляции к ним, как ни хотелось
бы отказаться от высокого налога на суверенность, опыт
истории безжалостно и бестрепетно свидетельствует:
порабощение неминуемо, если только отказ от демонов
государственности не будет всеобщим или по крайней мере
паритетным. Иногда кажется, что «счастье было так
возможно», и тут, конечно вспоминается последний по
времени шанс, безвозвратно упущенный в начале 90-х, когда
«испустил дух» одряхлевший уицраор России Жругр III.
Тогда, при Горбачеве, высветился шанс если не Розы
Мира, то хотя бы проклюнувшегося бутончика этой
прекрасной Розы: если бы НАТО было распущено вслед за
советским блоком, если бы освобождаемые территории не
428
захватывались тут же хищным уицраором Америки
(Даниил Андреев дал ему имя Стэбинг), насаждавшим
декоративные суверенитеты внутри стремительно
расширявшегося Pax Americana. Словом, хорошо известная история
с печальными последствиями, больше всего она
напоминает беспримерную интоксикацию человечества
веселящим газом, после которой наступила тяжелая абстиненция
и временный паралич воли.
Возможно, однако, что даже само предположение о том,
что шанс укрощения подземных демонов
государственности все же был, излишне романтично. И, скорее, как раз
то, что начавшаяся в условиях тотального господства
единственной сверхдержавы всемирная кампания по стиранию
этнограмм потерпела все же фиаско, - как раз это вселяет
надежду. Здоровый этноиммунитет человечества,
выработанный и буквально выстраданный на протяжении всей его
истории, оказался крепче, чем думали обольстительные
демоны ада или, скорее, их «человекоорудия», как любил
выражаться Даниил Андреев. К счастью, ошибся
профессор Фукуяма, провозгласивший конец истории, а также
тысячи молодых активистов, добровольных проводников
мирового порядка, в упор не замечавших сети
американских военных баз по всему миру и ни разу даже не
удивившихся, почему это американская юстиция арестовывает
кого угодно и где угодно при том, что существует все-таки
международное право. Но оно приберегается для других
случаев, для тех, когда его применение не противоречит
интересам Америки. «Человекоорудия» в трудных
ситуациях просто ссылаются на «американское лидерство» как
нечто естественное и само собой разумеющееся.
Как бы то ни было (и хочется сказать «слава богу!»),
все это в значительной мере уже в прошлом. Стереть
429
этнограммы не удалось, они выдержали натиск. Мир
стряхнул наваждение или стряхивает его прямо сейчас,
возвращаясь не к самому лучшему, но все же
проверенному историей порядку балансов и интересов. Новый
мировой порядок не состоялся, как не состоялся когда-то
нацистский Weltordnung - можно перевести дух.
14
Итак, мир возвращается, по сути уже вернулся, к
стабилизированному состоянию грехопадения.
Восстановление идеи суверенитета как безусловной ценности, может
быть, далеко не лучший выход с позиций грядущей
гармонии в духе «Розы мира», но в конкретно-историческом
измерении это абсолютно оправдано как восстановление
иммунитета к тенденциям денатурации и
расчеловечивания. Несомненно, будут появляться и другие планетарные
проекты, без лицемерия и цинизма Pax Americana (даже
и в этом мире порабощения есть крупицы ценного опыта),
и очень важным условием принятия к исполнению того или
иного проекта должно быть сохранение космологических
констант истории, прежде всего этнограмм. На
сегодняшний день этнограмма - это самый эффективный фильтр
для предотвращения общечеловеческих наваждений, и в
обозримое время она сохранит за собой эту роль. Так что
признание национальных интересов как геополитической
реальности, четкое определение рамок состязательности,
называние вещей своими именами - все это по крайней
мере честно и проверено временем. Восстановление
многополярного мира является уже данностью, простым фактом,
несмотря на все метастазы социальной инженерии. И
кажется, на наших глазах сама Америка обретает этнограм-
430
му более или менее традиционного образца - она от этого,
конечно, не перестает быть сверхдержавой, но по крайней
мере перестает быть такой легкой добычей для негодяев
без последнего прибежища.
И если равновесие страха, худо-бедно удерживавшее
мир от третьей мировой войны, является единственной
на сегодняшний день альтернативой порабощению,
какими бы декорациями оно ни прикрывалось, - что ж, пусть
так оно и будет. Так оно честнее, да и мирового
жандарма не требуется, и строгого учителя, который будет бить
линейкой по пальцам непослушных малых детей.
Народы вновь обретут (и уже обретают) подзабытую степень
свободы, когда можно балансировать между
центрами силы, сохраняя достоинство и оберегая суверенитет.
Мир слегка очистится от коррупции в самом пагубном ее
смысле, то есть в сегодняшнем состоянии, когда ничего
не решающие национальные политические элиты
отказываются от ответственности перед собственной страной,
отчитываясь лишь перед «прогрессивной мировой
общественностью», то есть перед транснациональными
цивилизаторами, человекоорудиями Мамоны или кого-нибудь
из инфернальных персонажей, увиденных глазами
великого визионера XX века.
15
Но уицраор как потусторонний гарант
государственности, он же эгрегор независимости и суверенитета, как
было сказано, представляет собой интерпретацию лишь
одной из спектральных линий этнограммы. Не будем
забывать о вкладах великих писателей и поэтов, об историях,
которые больше чем просто истории, поскольку избраны
431
и удержаны собственным национальным мифопоэзисом.
Все они имеют значение именно в совокупности, в виде
тонкого, несмываемого рисунка монограммы,
объединяющего вступающие в жизнь поколения неким единством
исторической миссии и судьбы. Да и сам уицраор как
хранитель этнограмм отвечает за то, чтобы народ не спутали
с кем-то или чем-то другим, и существует не только в
уступительном наклонении. В святое воинство заступников
затоми са, безусловно, входят самые стойкие защитники уиц-
раора, ибо доблесть и великодушие воинов, запечатленные
в истории, и по сей день остаются национальным
достоянием каждого народа, и хочется сказать, что пока это так,
ничего совсем уж страшного и непоправимого с
человечеством не случится.
Теперь следует акцентировать еще один момент, о
котором косвенно уже шла речь. Не все этнограммы имеют
статус космологических констант, хотя все так или иначе
обеспечивают форму причастности к человеческому в
человеке. В этом качестве многочисленные синтетические
продукты психотерапии и социальной адаптации (вроде
дианетики, соционики и, увы, преобладающей
дошкольной и школьной педагогики) не могут идти в сравнение
с достоверностью простой национальной идентификации
типа «я - поляк» или «я - кубинец».
Психотерапевтические процедуры, включая знаменитый сторителлинг, носят
в лучшем случае вспомогательный характер в деле
обретения самого себя, а успешные идентификации вроде
принадлежности к хиппи или к байкерам потому и успешны,
что являются квазиэтническими и проходят по принципу
восплеменения. По сравнению с традиционными этно-
граммами они просто очень краткосрочны и рассчитаны,
скажем так, не на все возрасты.
432
Отдельной интересной и перспективной темой могло
бы стать сопоставление этнограмм с архетипами юнгиан-
ской трансперсональной психологии и с экзистенциалами
Хайдеггера - тут вдумчивого исследователя ожидает
много находок и сюрпризов.
И последнее. Этнограммы в ранге космологической
константы непременно претерпевают (или, лучше сказать,
обретают) трансцендентное расширение, транслируемое
всему миру как миссия или сверхзадача. Такова этнограмма
еврейского народа, как народа в рассеянии, таковы и
великие имперские этнограммы. Все они способны напрямую
воздействовать на человеческую экзистенцию и собирать
социальное тело как произведение Духа, который, как
известно, дышит где хочет. Еще ждет своего испытания
имперская этнограмма русского космизма, которая не может
не опираться на проект Общего Дела Николая
Федорова, объединяющий в себе сокровенные чаяния
человечества, - очень хочется пожелать успеха в этих испытаниях.
2018
3. ИМПЕРСКИЙ ЗАВИТОК
ЖЕРТВЕННОСТИ
Этот важнейший принцип, разумеется,
противоположен принципу экономии, и он гласит: лучшие - на линию
огня! Современная Россия далеко еще не в полном объеме
восстановила имперские атрибуты, но исподволь лучшие
потянулись к линии огня, к передовой, несмотря на весь
идейный вакуум, на вопиющее отсутствие
интеллектуальной поддержки своего нелегкого выбора и исторически
правого дела.
Всмотримся в этот еще не прояснившийся процесс
с разных сторон и начнем с некоего обвинения,
типичного для украинской блогосферы, но встречающегося и за ее
пределами. Суть обвинения примерно в том, что Россия,
русская глубинка, это «сплошная вата и алкашня», а уж на
этом фоне мы-то (например, украинцы) всяко
поприличнее будем. Обвинение, конечно, пустое, но указывающее
на некоторую сокрытую от обвинителей истину, сокрытую,
в частности, ввиду резкого когнитивного диссонанса,
который она вызывает. Почему же эта сплошная алкашня
и бестолковщина сохранила ядерный паритет и не
собирается преклонить колено перед Госдепом, как это
сделали куда более благополучные нации? Почему она остается
434
одной из ведущих космических держав, реализует
впечатляющие инфраструктурные проекты и, уже без всякого
сомнения, восстанавливает свое присутствие в Арктике,
Антарктиде и во всех пяти океанах, да и по уровню ВВП
превосходит добровольно принявшую вассальную
зависимость Украину, мягко говоря, не настроенную «бросать
деньги на ветер»?
Мы видим поддержание дорогостоящих структур
суверенитета, нередко происходящее вопреки текущему
благосостоянию, - но мы видим, что стратегия опирается на
консенсус имперского народа. Чем шире и устойчивее этот
консенсус, тем прочнее имперская сборка. Вопрос,
однако, в степени достоверности такого имперского
самочувствия - на фоне прогрессирующего жлобства верхушки
среднего класса. Кто они, эти подкупленные нигилисты,
выступающие от имени мировой прогрессивной
общественности и пользующиеся ее прикрытием? Они, являющиеся
источником пополнения элиты, увы, замутненным
источником, не везде и не всегда берут верх. С именем всегда
проблема, ибо точное имя есть существенная часть решения
вопроса. Они представляют собой странное сочетание -
интеллигенты-обыватели, сокращенно - и. о. Данное
сокращение им очень подходит, ведь они исполняют обязанности
радикальной интеллигенции и арт-пролетариата в условиях
отсутствия реальных претендентов.
Попробуем опустить зонд в их среду, во внутренний
мир этого офисного планктона, и послушаем их монолог
или, скорее, вялую перекличку, лишь отчасти совпадающую
с речевкой, придуманной самозваными цивилизаторами.
В перекличке чаще всего встречаются следующие максимы:
...мы чистенькие, не нарушаем общественный
порядок, мы законопослушные.
435
...нас принимают за своих в цивилизованной Европе,
что очень и очень важно, ведь мы, в сущности, такие же.
И это повод для гордости, ведь вокруг далеко не все такие
белые и пушистые.
...вокруг нас есть и пролы, и гопники, и ватники - но
они нам не друзья, не родные, не подумайте чего. Нам,
прогрессивным и законопослушным, куда ближе настоящие
европейцы... как жаль, что они морщатся... но это пройдет,
это потому, что мы ходим по одним улицам с ватниками...
ничего, скоро мы будем ходить по другим улицам.
...мы сочтем своим лишь то, что будет одобрено
Европой и мировой прогрессивной общественностью.
И далее монолог-перекличка уходит в неразборчивое
бормотание. Но в нем тем не менее можно найти немало
любопытного - например, наивную уверенность в том, что
благополучие общества в целом и в самом деле
определяется обширностью офисного планктона, а также и в том, что
лучшие, естественно, находятся на нашей стороне, а не
на стороне этих недочеловеков. И если власть отстаивает
их интересы, то исключительно по причине
коррумпированности, глупости и, так сказать, врожденных
преступных наклонностей...
И еще любопытна искренняя уверенность всех
обывателей, что, случись господину выбирать между ними -
понимающими, прогрессивными (пусть даже при этом
завистливыми и трусоватыми) - и ватниками и прочими,
живущими «на улице Ленина», так что их «зарубает время
от времени», господин непременно сделает выбор в нашу
пользу. Отсюда проистекает и некая солидарность
подмигивания: уж мы-то, разумный планктон всех стран, поймем
друг друга. Уж по крайней мере в страхе и презрении к тем
местам, где преобладают дикорастущие сорта...
436
И вот вдруг, без предварительного оповещения,
российская действительность начала меняться с точки зрения
«расстановки лучших» - меняться в духе восстанавливающейся
имперской сборки. И куда делись эти кабинетные генералы
90-х, управленцы хозвойск, лучшим представителем
которых был генерал из «Особенностей национальной охоты»
в исполнении Булдакова? Они, конечно, на своих местах,
но уже не на чужих и перестали быть репрезентативной
выборкой. Просто появились другие офицеры, устремленные
на линию огня, на передовую, где бы эта передовая ни
проходила: в Новороссии, в Сирии, там, где испытываются
новые крылатые ракеты. Они стремятся туда в соответствии
с выстраивающимся естественным порядком.
Авторитеты офисного планктона (и. о. интеллигенции)
испытывают тихий ужас перед непонятной для них
мотивацией: зачем безусловно вменяемые, амбициозные люди
идут туда, куда никакой зловещий Путин их не посылает?
И почему столь же естественным порядком вернулось
глубокое уважение к их подвигам? Страшно сказать, но эти
подвиги прикрытия и самопожертвования (не слишком-то
и афишируемые) превзошли по своему резонансу подвиги
Pussy Riot и художника Павленского!
И то, что эта признанность неподдельна, больше
всего и пугает совокупную «це-Европу», независимо от того,
живут ли ее подданные в Киеве, в Москве или в русском
зарубежье. Причина проста и состоит она в том, что
жертвенный порядок вещей всегда был, есть и будет скандалом
для обывателей - хотя это слишком общая причина и в
каждом срезе современности она имеет свои, порой не
похожие друг на друга особенности.
Но вот я смотрю на курсантов, идущих и строем, и так,
поодиночке, и с девушками. Я живу в Петербурге, рядом
437
располагаются целых три военных училища, и я хорошо
помню сцены десяти-пятнадцатилетней давности - как уныло
ходили эти курсанты-солдатики, служивые, а прочие горожане
воспринимали их как подневольных людей, которым
приходится тянуть нелегкую лямку. «Может им, бедолагам, больше
некуда деваться?» - так думали тогда и во многом были
правы. Но теперь не то. Я знаю, что за последние годы конкурс
в военные училища возрос в разы, и я вижу, что теперь это
строгие юноши, как выразился в свое время Юрий Олеша.
И совсем не стремятся они избежать линии огня - скорее,
они знают, что будут там рано или поздно. И совсем не
потому, что тебя насильно отправит туда Путин или следующий
лидер приходящей в себя, набирающей силу страны, - и
похоже, что девушки, которые с ними, тоже знают это.
Похоже - тому все больше свидетельств, - что вновь
меняется такая важная настройка цивилизации, как
совокупный эротический выбор женщины. Девушки нашей
страны снова начинают выбирать воинов и тех, в ком живет
душа воина. И это очень важно, потому что одной из
причин гибели перезревшей советской империи и
последующей трагедии 90-х было то, что русские красавицы,
праправнучки Натали Ростовой и Грушеньки, бросили поэтов
и воинов, перестали дарить им благосклонность.
Бросили и ушли - сначала к барыгам, а потом к нефтесосам.
Именно это разрушило жертвенный порядок вещей, без
которого не может существовать никакая империя.
И вот они возвращают воинам свой выбор - и будут
вознаграждены любовью, и, дай бог, не разделят участь
женщин целого континента, который заселили племена
Кончиты Вюрст, захватившие все командные морально-
идеологические высоты и заставившие аборигенов, некогда
построивших великую цивилизацию, молчать в тряпочку
438
и подчиняться программе денатурации. Не
подчинившихся ожидает поражение в правах, причисление к лику
варваров, ватников, недоумков и фашистов.
Даст бог, такого не случится в России, ибо на наших
глазах восстанавливается жертвенный порядок вещей и это
значит: империя на подъеме. Сословие воинов формируется на
наших глазах, в него приходят и из столиц, и из маленьких
городков, и с гор Кавказа. Да, в целом провинциальные города
и вправду остаются пока зоной запустения, это к ним в
первую очередь относятся пренебрежительные ярлыки: «совок»,
«рашка», «быдло», «вата» - и как гордится внутренняя
це-Европа, что уж они-то по крайней мере не принадлежат
к столь презренной рашке, а принадлежат - страшно
сказать - к цивилизованному человечеству... Кстати, в связи
с этой популярной, закрепившейся кричалкой
(«Украина - це Европа!») напрашивается классификация различных
«Европ» с использованием символов а, Ь, с. При некотором
размышлении получается примерно следующее.
А-Европа. Это ныне поверженный континент,
собственно, потомки великих аборигенов, создавших
западную (фаустовскую) цивилизацию. Они еще недавно несли
бремя белого человека по всему миру - не донесли,
уронили на полдороге. А-Европа сохраняет много
сентиментальности вековой давности, включая и приверженность
человеческому естеству, она все еще остается самой
многочисленной Европой, но ее защитники практически не
представлены в системе оппозиционных, но рукопожатных
партий. То есть в политической элите. К счастью, сейчас,
на наших глазах, она, кажется, приходит в движение.
В-Европа. Это как раз победившие племена Кончиты
Вюрст. О них сказано достаточно, понятно, что сегодня
они и правят бал на континенте.
439
С-Европа (це-Европа). Это те, кто хочет попасть
в а-Европу - для чего, однако, нужно получить
предварительное разрешение у руководства Ь-Европы. Вот почему
они и скачут на майданах и строчат в соцсетях. А также
соревнуются друг с другом: кто больше ненавидит раш-
ку и презирает совок. То есть, по сути, это обыкновенное
жлобье, которое в условиях остывающей вселенной
(социальной вселенной) может более или менее успешно
выдавать себя за прогрессивное человечество.
Вот такая, примерно, получается классификация. Но
вернемся в маленькие городки, туда, где наши сограждане
ютятся в ветхом жилье и травятся боярышником. Из таких
же примерно городков на соседней Украине те, кому
удается вырваться, едут на Запад собирать клубнику и мыть
машины - и порой закрепляются около рабочего места
(значит, жизнь удалась). В России же те, кому удалось
вырваться их этого морока, часто выбирают путь войны.
И тогда они оказываются за штурвалами
стратегических бомбардировщиков, в спецназе, среди персонала
пусковых шахт - и нисколько не испытывают
неприязни к своей глухомани, напротив, защищая Россию, они
готовы защитить и свою конкретную Тмутаракань. Они,
эти воины, именно так понимают свой долг: не вписаться
в офисный планктон, чтобы потом спокойно пристроить
туда и своих детей, а выйти в первых рядах на линию огня
и занять там свое место. Если озвучить смутное
сообщение, которое это сословие пытается передать всему миру,
включая и це-Европу, получится примерно следующее.
«Вы, конечно, можете злорадствовать, показывать на
нас пальцем или крутить им у виска - мы своих позиций не
сдадим. Мы без колебаний приведем в действие доверенное
нам оружие, именно во имя тех самых неказистых, пьющих
440
настойку боярышника и упорно называющих вещи своими
именами, игнорируя цензурный кодекс политкорректности.
Так что вы лучше оставьте их в покое, они не нуждаются
в вашей смеси презрения и просвещения».
Очевидный когнитивный диссонанс для взаимно-ру-
копожатных це-европейцев состоит в некой
непостижимости: как можно подвергать себя риску, по сути,
совершать настоящий подвиг служения ради этих? Это кем же
нужно быть? Но именно ради этих и идет служение, ибо
таков жертвенный ход вещей, его суть. И сто, и двести,
и триста лет назад было так же: так же поступали лучшие.
Можно использовать хороший поясняющий
термин - граничары. Так называлось добровольно
выдвигающееся на границы сербское воинство, их девизом,
собственно, и были великие слова: пусть лучшие умрут
первыми. Таков в действительности принцип любой
жизнеспособной империи, и касается он не только воинов. Если
ты доказал свое превосходство ближайшему окружению
(то есть можешь больше других) - как воин, как инок,
как физик-ядерщик, не жди, пока тебя окружат почетом
и выплатят денежный эквивалент, не соглашайся на
минимализм. Замахнись на большее, иди в граничары и брось
вызов ненавидящим твою страну просто потому, что она
не лезет ни в какие мерки. Вот и будь на стороне
безмерности и не позволяй никому чужому тронуть ни одного из
малых сих - будь залогом их гордости. Такая мотивация
практически непонятна и недостоверна в условиях
остывающей социальной вселенной, но она восстанавливается
сама собой, когда идет спонтанная имперская сборка.
Наряду с воинами линию огня выбирают и
интеллектуалы, и они принимают на себя добровольное
обязательство по защите рубежей, находя доводы и слова в защиту
441
достоинства малых сих, в защиту имперского народа, в
каком бы бедственном положении тот ни находился.
Физики, полярники, геологи, даже математики не слишком-то
спешат встать на сторону планктона, нередко доказывая
делом, выбором своей позиции, в чем состоит долг лучших.
Объяснить такой выбор прагматически нелегко, можно
лишь заметить, что если в экзистенциальном измерении
отсутствует жертвенное начало, то нет никаких оснований
для добровольного выдвижения на линию огня. Иерархия
как целое может удерживаться лишь в том случае, если
жертвенное начало выражено и захватывает души, хотя
бы некоторые из них.
Мотивация лучших отчасти поясняется христианской
теологией. Бог нисходит в мир, чтобы взять под защиту
каждого из малых сих; все смертные, наделенные
бессмертной душой, сколь бы неприметной ни была их жизнь,
представлены в Боге, и за них тоже, если не в первую
очередь, Мессия готов взойти на Голгофу. И Он есть Господь
наш, поскольку самопожертвование важнее для Него, чем
выслушивание ангельского хора, непрерывно поющего
«славься!». И Шехина (София), излияние божественного
присутствия, должна дойти до самых краев
непросветленной материи, не отвлекаясь ни на какое «славься!».
Следует совершить работу духа, максимизировать его
присутствие, что означает упорно пробираться до самых глубин,
изо всех сил удерживая свое иное.
Бытие империи, и даже способ существования
признанной, настоящей элиты, неизбежно в той или иной
мере следует данному принципу. Ты как демиург должен
удерживать и обустраивать какой-нибудь из миров малых
сих - из сложения подобных усилий в коллективную де-
миургию и возникает империя. Если подобная иерархия
442
спонтанно устанавливается, народ непременно возвращает
жертвенный резонанс в минуту опасности, как бы он ни
был угнетен в экономическом смысле. Ибо если лучшие
вышли на линию огня, имперский народ проявляет свою
глубинную максиму воли, всю степень самоотверженности,
какие бы подарки ни обещали ему завоеватели или
коллаборационисты. Как выяснилось сегодня,
поддерживает народ своих лучших и в гибридной войне. При этом
за пределами чрезвычайного режима государственности
народ, скорее всего, вновь переходит к беспечности,
безалаберности и «непристроенности». Что ж, произведение
духа создается в собственном времени и не может быть
растянуто на все время вообще. Время великих свершений
не в состоянии длиться постоянно.
Но восстановленная жертвенная практика (ход вещей)
в свою очередь создает устройство для приема
сверхдальнего зова, для прямого подключения к трансцендентному. Это
зов истории, зов космоса и теллурический зов всей Земли как
планеты, теперь он оказывается принимаемым и
действенным, теперь, когда собран жертвенный контур. До этого зов
трансцендентного был всего лишь кимвалом бряцающим
и водопадом шумящим. И тут важно добавить, что в случае
империи сверхдальняя связь является не прихотью, а своего
рода необходимостью: если она не установлена, если цель
державы сформулирована, например, как «неуклонный рост
благосостояния» или, например, «догнать и перегнать
Португалию по уровню ВВП», если совсем не востребованы
полярники, космонавты, геологи и боевые пловцы спецсил,
то ничего не выйдет и с благосостоянием: непременно
начнется внутренняя распря, которая помешает решению даже
самых скромных задач. И наоборот, империя, чьи знамена
выдвинуты в космос, может попутно решить и задачу роста
443
благополучия, и уж точно дать шанс высшей
востребованности каждому из подданных.
Это также означает, что империя никак не поместится
в курятник служебного государства. Она должна
существовать на просторе, где открыты все выходы в
трансцендентное. С другой стороны, воспрепятствовать
имперскому выбору народа совсем не так легко. Если Зов услышан
и сборка началась, даже отчаянные вопли негодяев без
последнего прибежища и саботаж элиты безвременья не
может остановить начавшееся движение и развоплотить
империю на подъеме. Даже монополизация всех больших
СМИ активистами офисного планктона, когда лучшие,
совершившие свой выбор, не слышат ничего, кроме
проклятий, не в состоянии предотвратить жертвенное
выдвижение на линию огня. А уж если возникает и
интеллектуальная поддержка, конкурс в отряды космонавтов будет
уверенно расти.
Опять-таки, внутренний имперский консенсус лучше
всего устанавливается там, где затронуты вопросы
престижа и статуса. В случае России выполнение исторической
миссии, сам факт присутствия на орбите, в Антарктиде
и в океанских глубинах (и уверенность в том, что наша
субмарина непременно всплывет там, где надо, и в
нужный момент) будет способствовать сплоченности страны
в большей степени, чем любые конкретные социальные
завоевания трудящихся.
2018
Содержание
Раздел 1. ЖЕРТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ:
МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
1. Жертва и созидание 7
2. Танец Шивы 35
Раздел 2. МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИИ
1. Общее Дело Николая Федорова как метафизический
и эстетический проект 79
2. Европейский ресентимент и греческий логос 121
3. Счастье как экзистенциальная технология 150
Раздел 3. ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАТУРФИЛОСОФИИ
1. Когда растает сахар 195
2. Диапазон истины 211
3. Математика раннего мира 249
4. Где Я: о новой персонологии присутствия 312
Раздел 4. ИМПЕРСКИЕ ЗАРИСОВКИ
1. Прервалась связь времен (о вывихнутых суставах
времени) 357
2. Этнограмма как космологическая константа 380
3. Имперский завиток жертвенности 434
445
Александр Куприянович Секацкий
ЖЕРТВА И СМЫСЛ
Редактор Павел Крусанов
Художественный редактор Александр Веселое
Корректор Татьяна Добриян
Компьютерная верстка Ольги Леоновой
Подписано в печать 25.11.2019. Формат 84x108 1/32
Бумага офсетная. Печать офсетная
Усл. печ. л. 23,52. Тираж 2000 экз. Заказ 4977
Издатель: Фонд содействия развитию современной литературы
«ЛЮДИ и книги»
198504, Санкт-Петербург, ул. Ботаническая, д. 18, корп., 5 пом.
При участии: ООО «Издательство К. Тублина»
(Товарный знак «Лимбус Пресс»)
190020, Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 3, литера В
Тел.(812)331-45-90
Отдел маркетинга: тел. (812) 331-46-70
email: limb@limbuspress.ru
Отпечатано в Акционерном обществе
«Рыбинский Дом печати»
152901 г. Рыбинск, ул. Чкалова д. 8
e-mail: printing@r-d-p.ru www.printing.r-d-p.ru