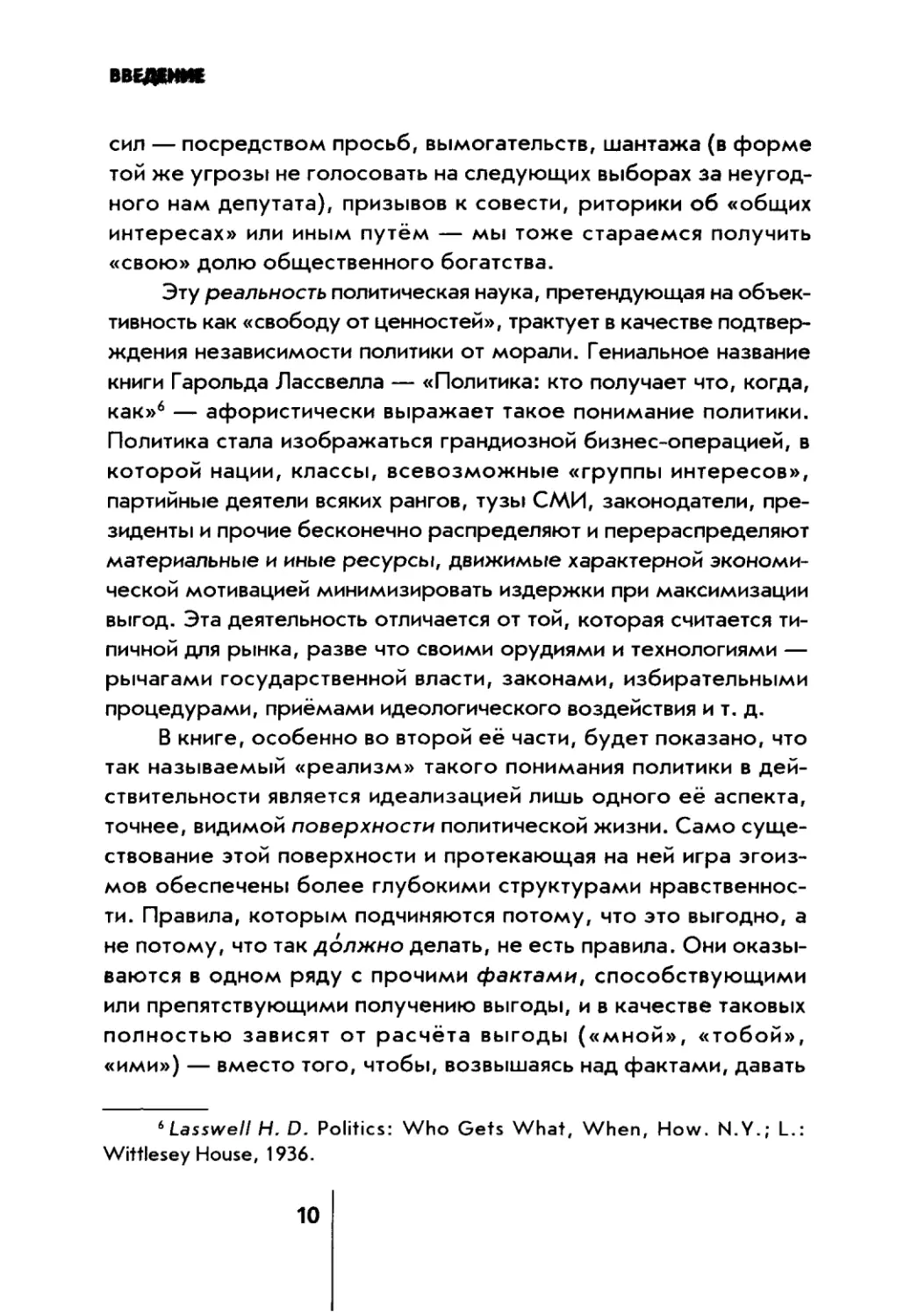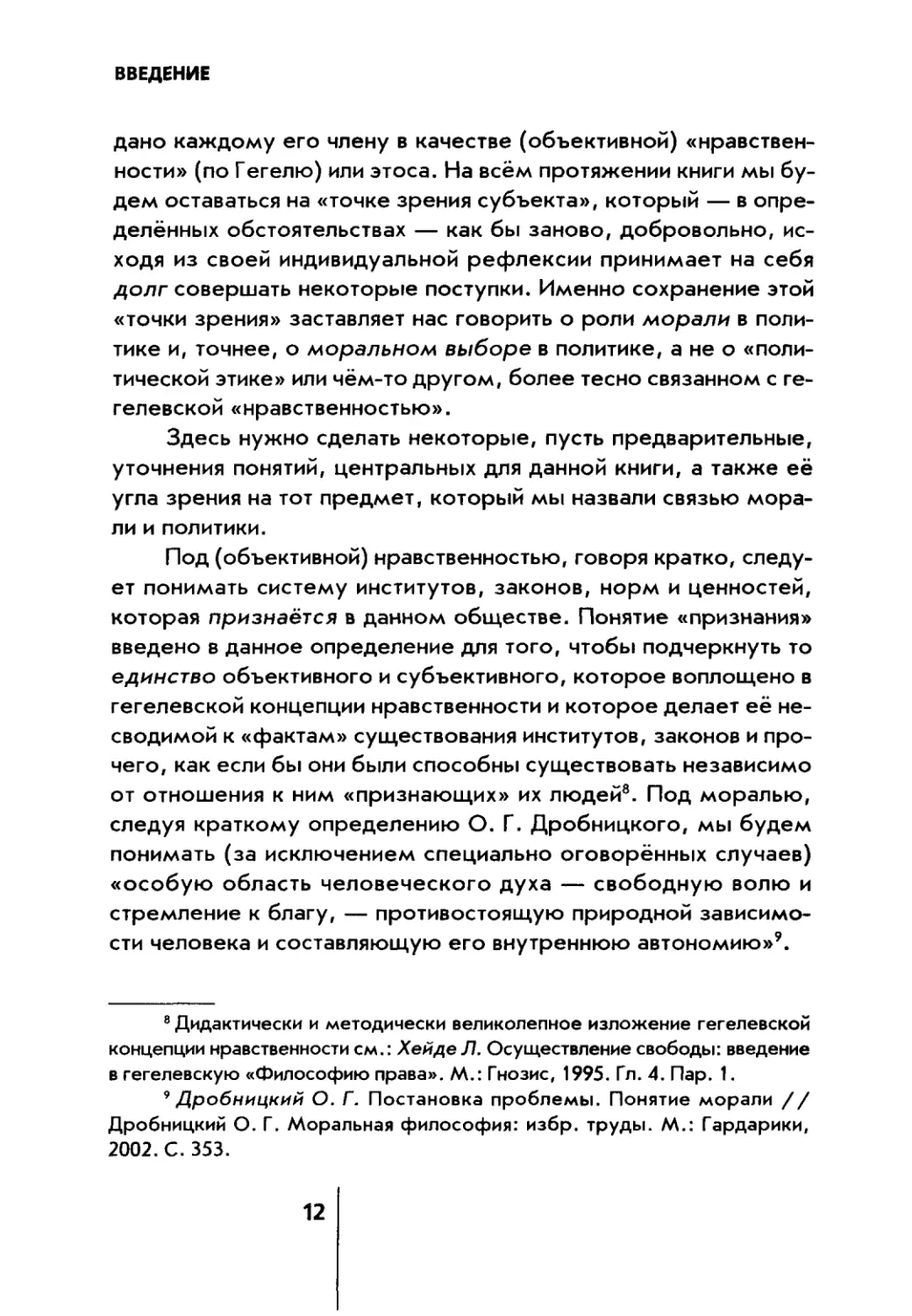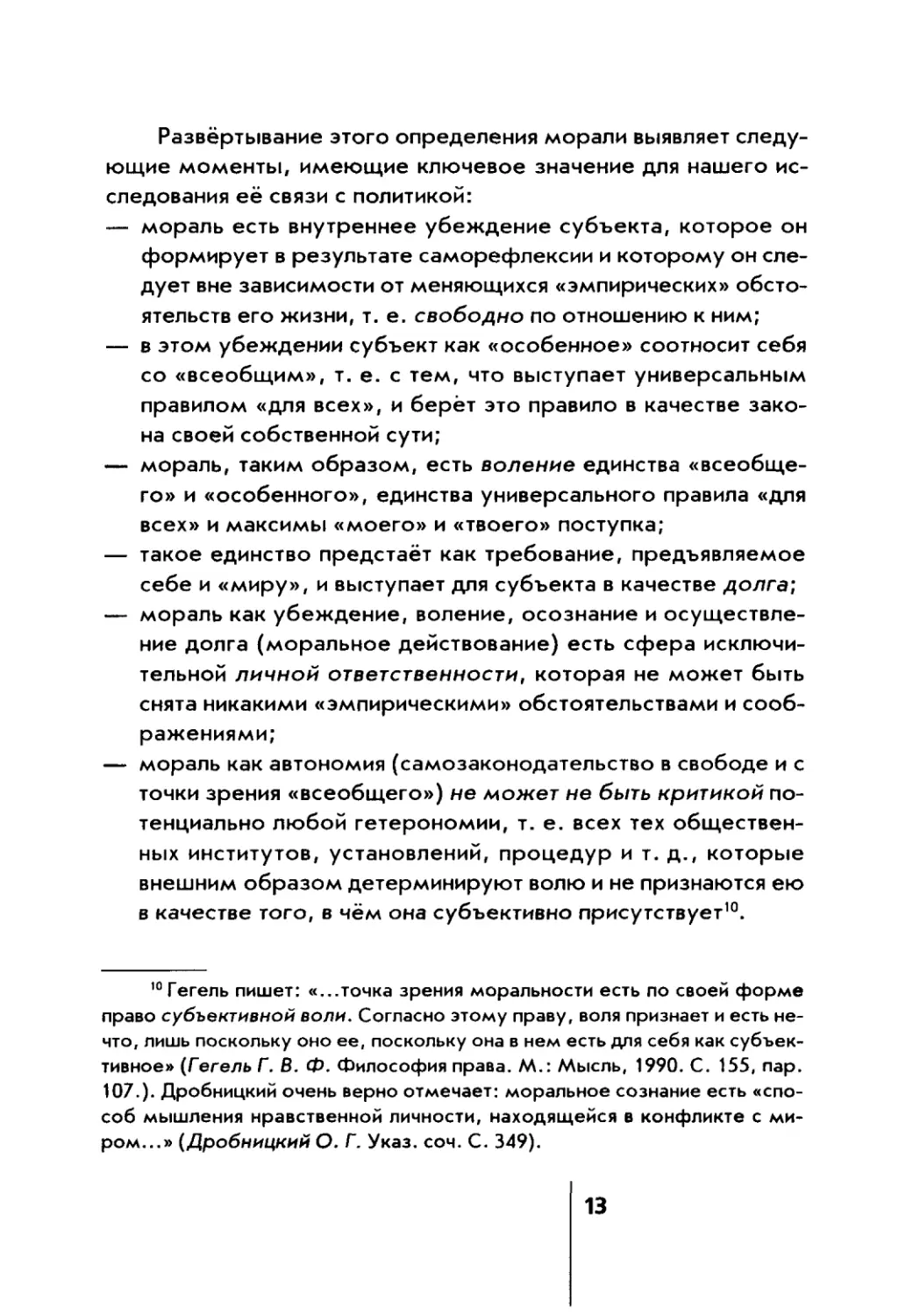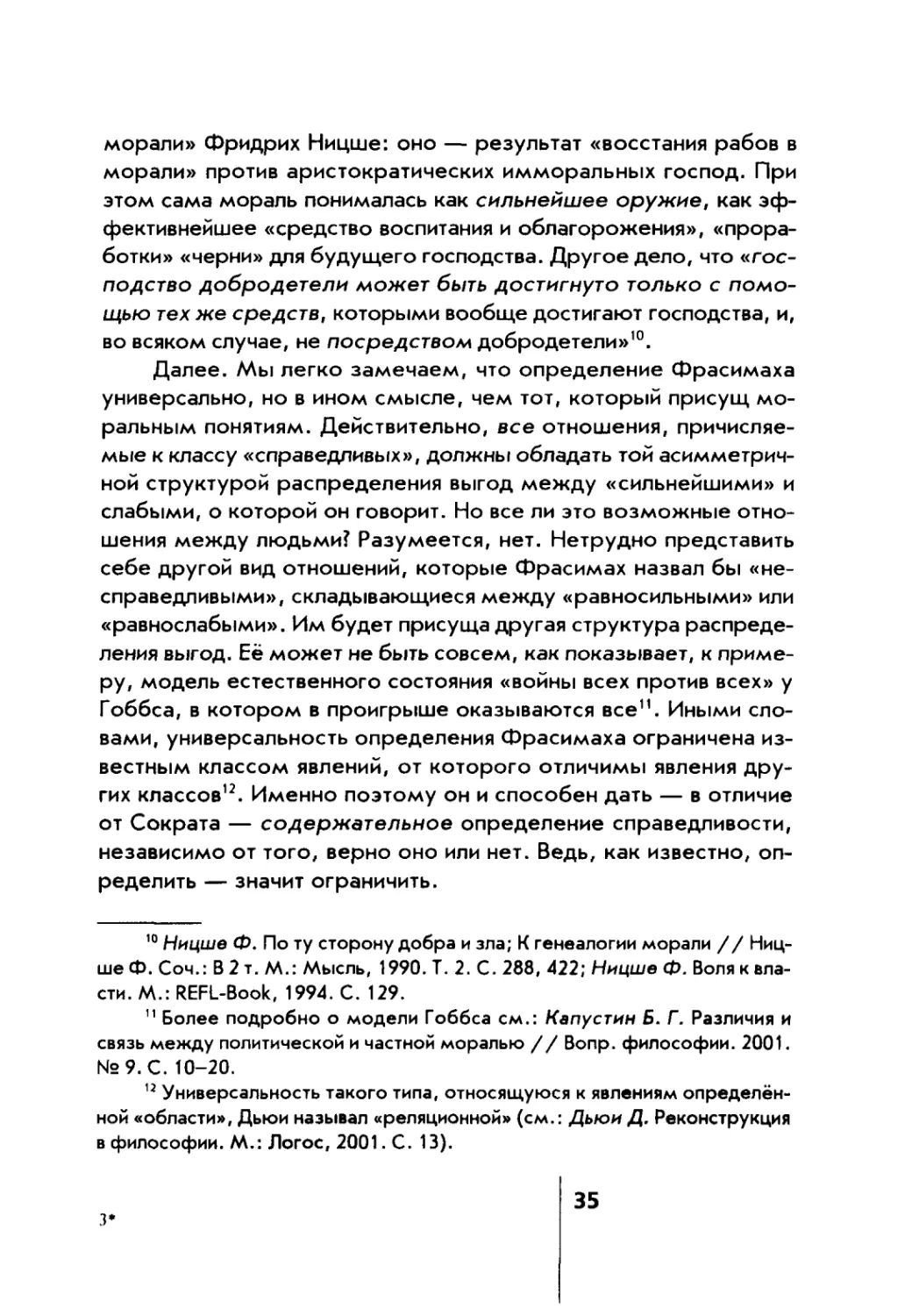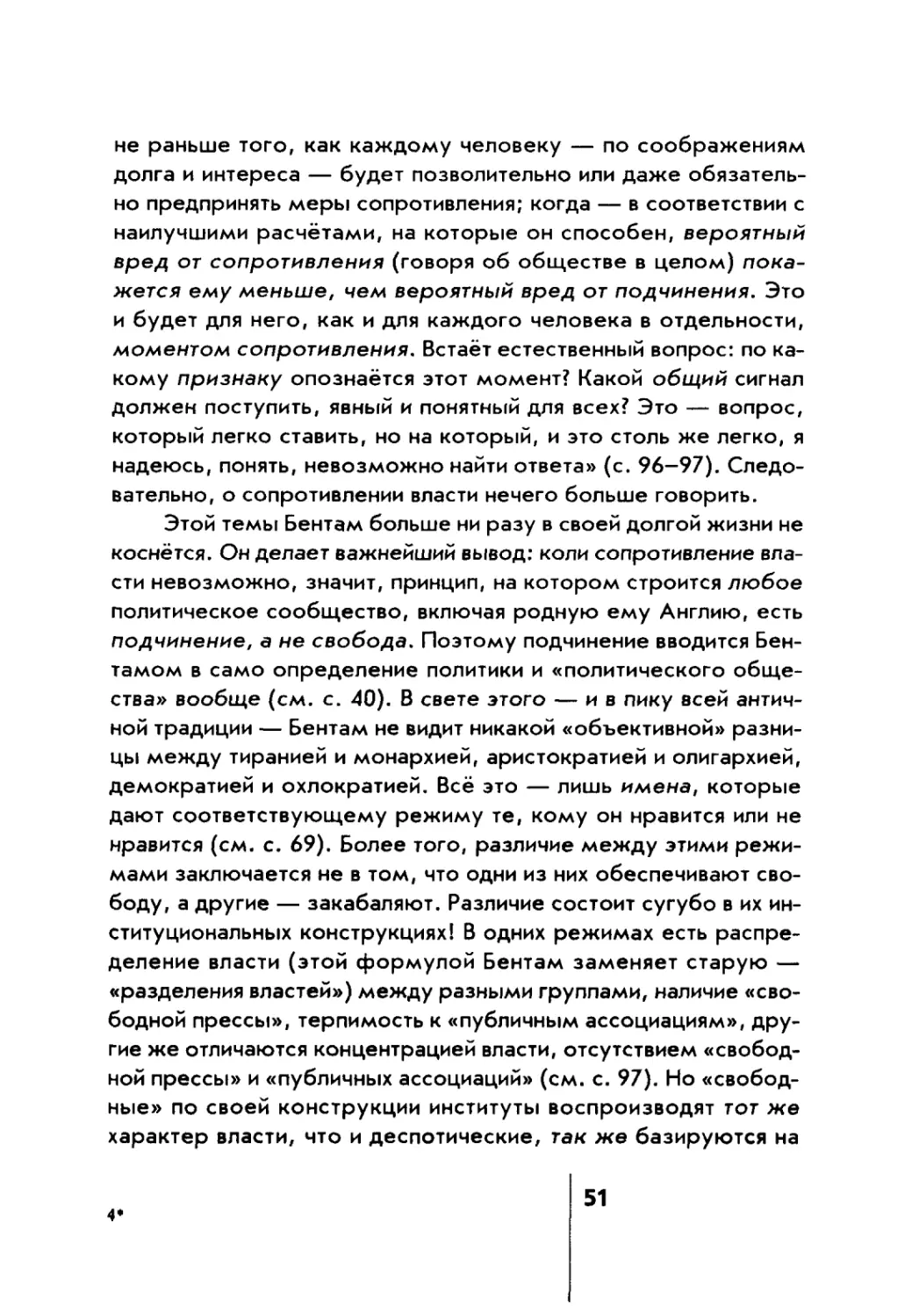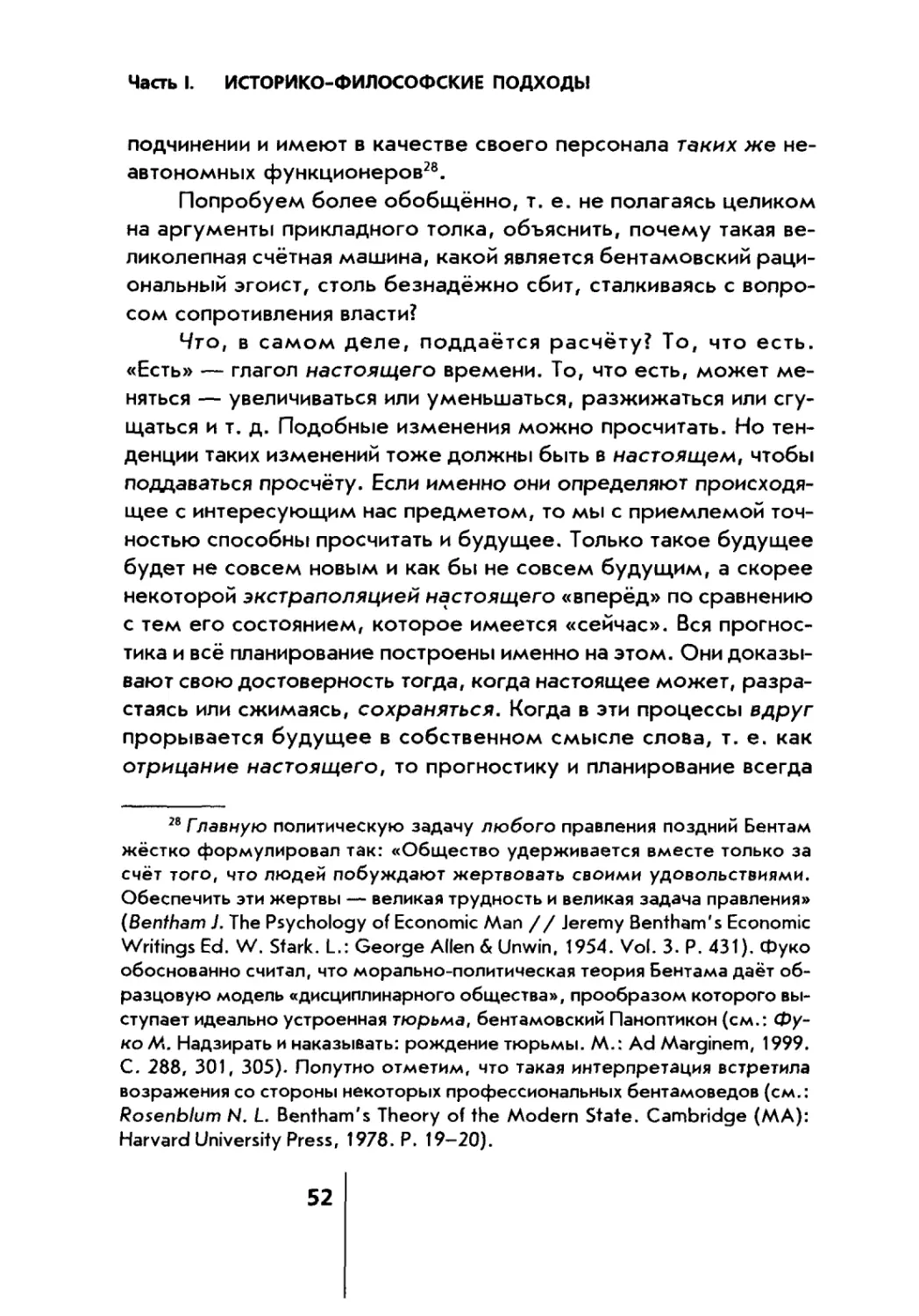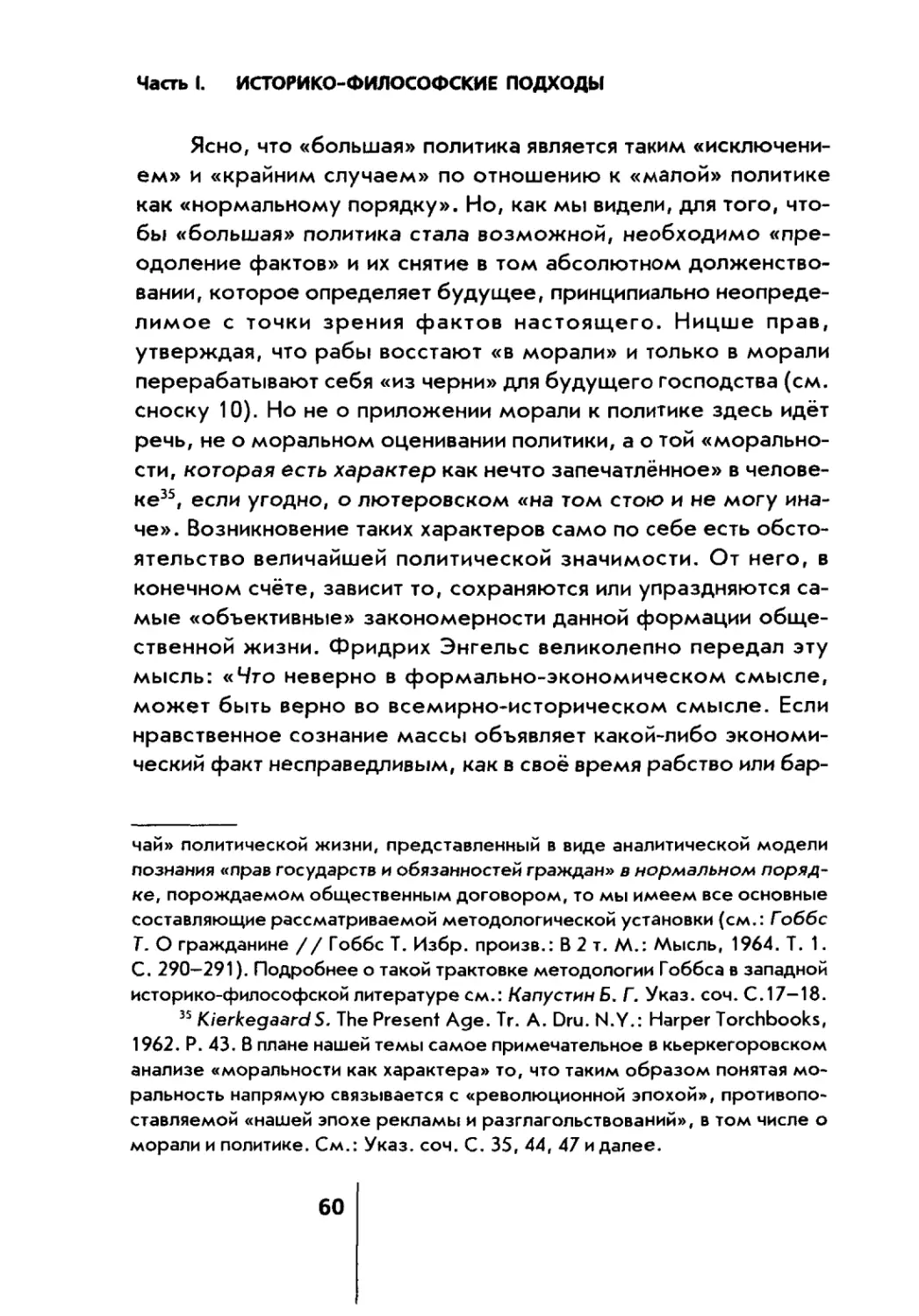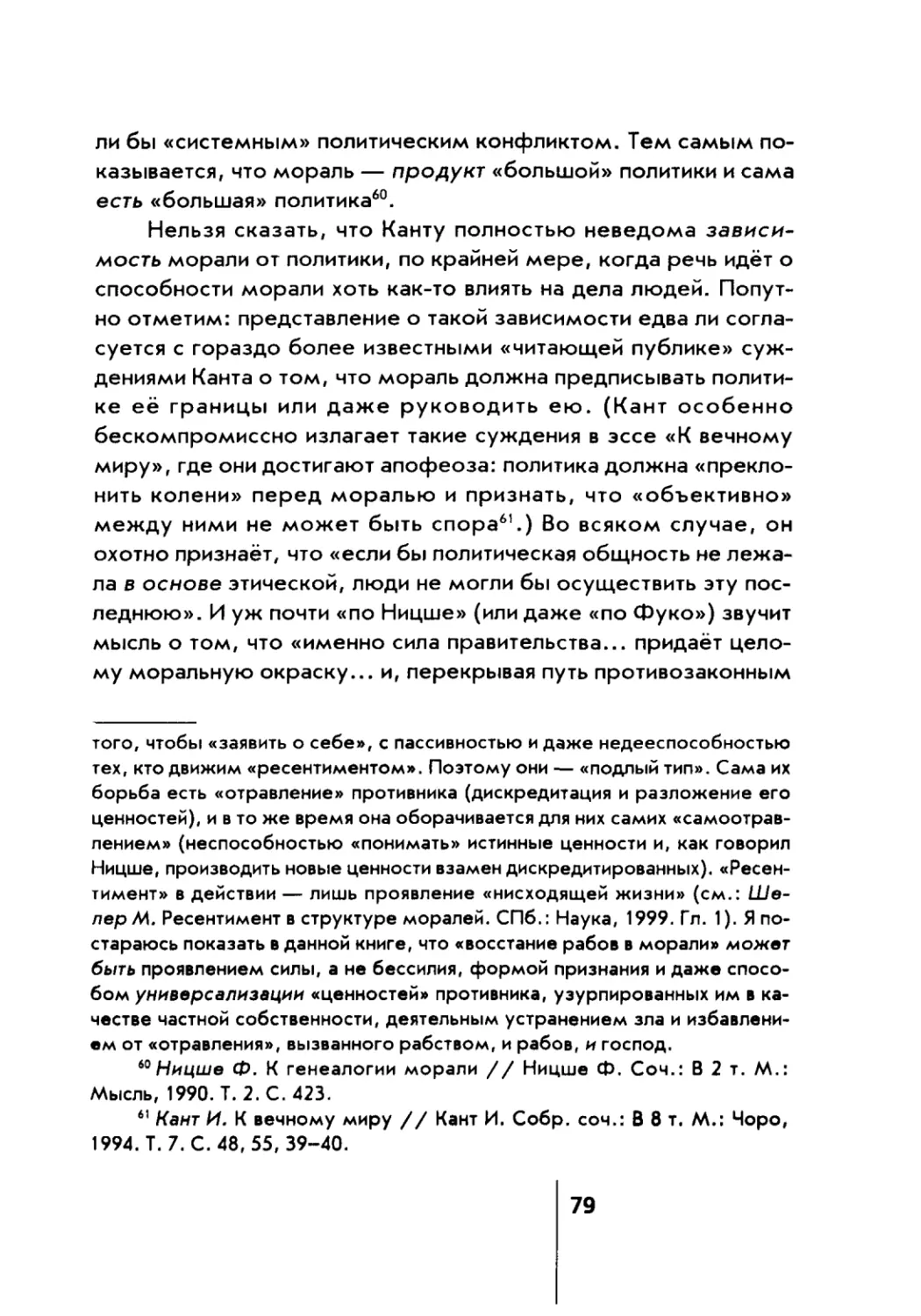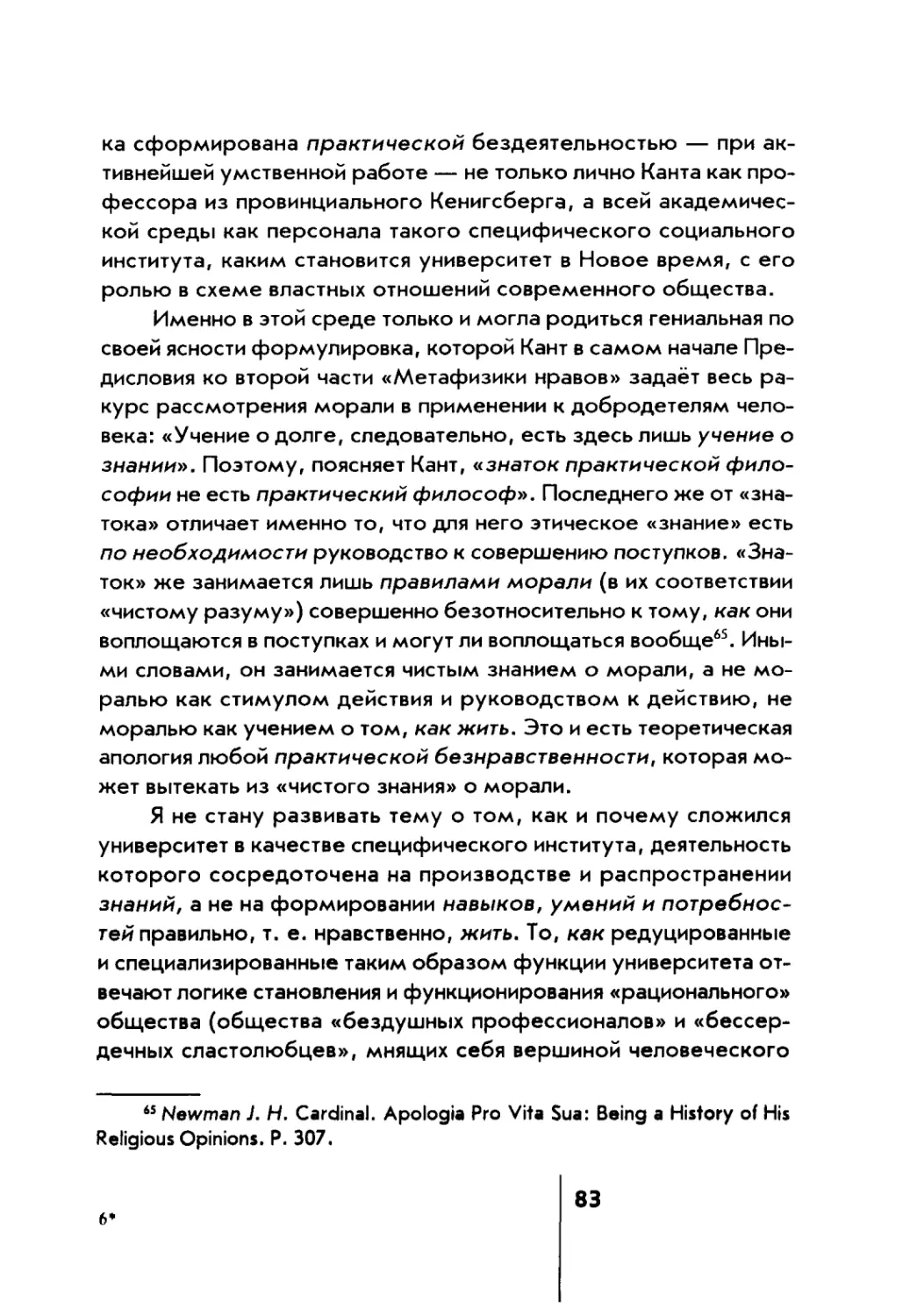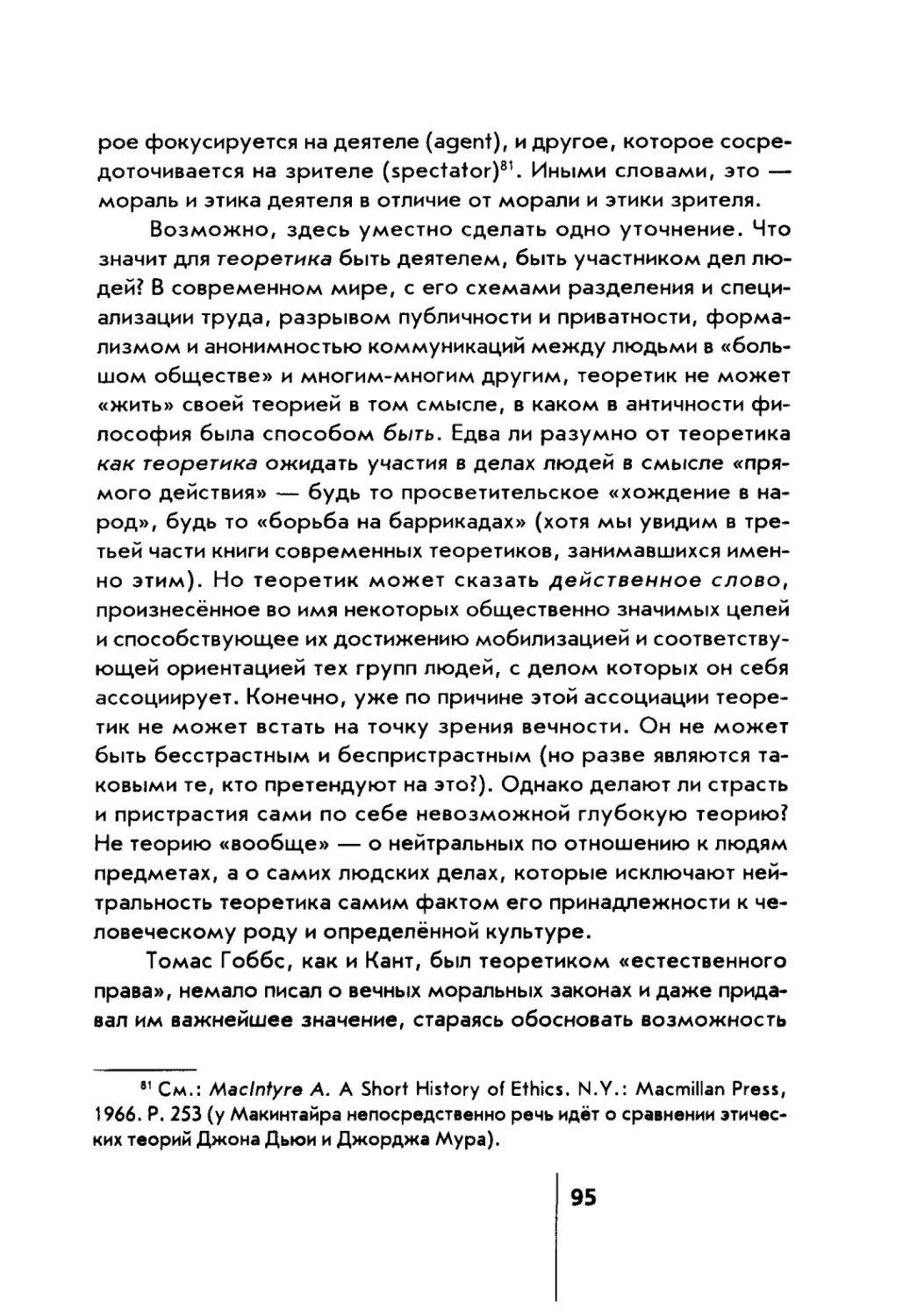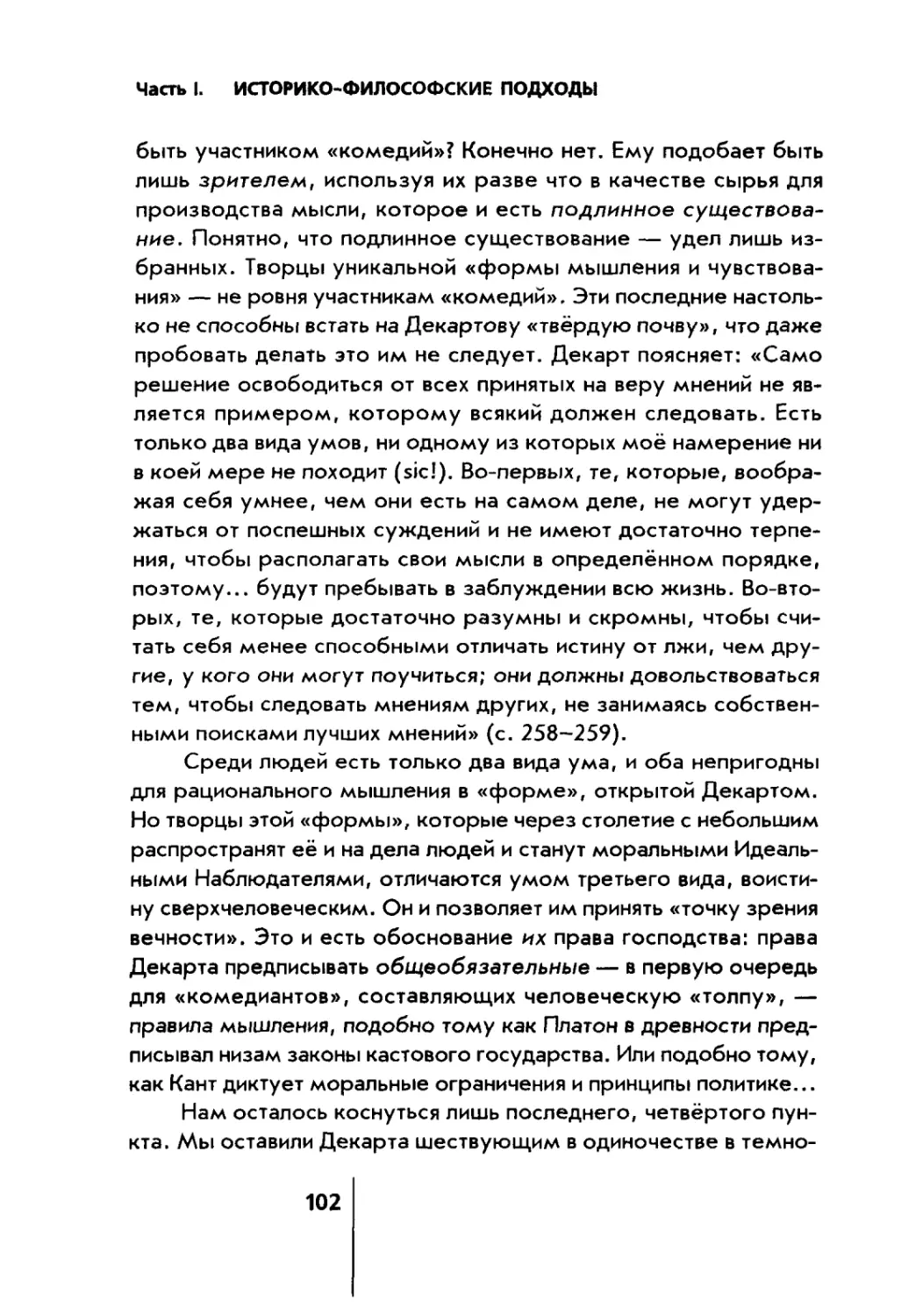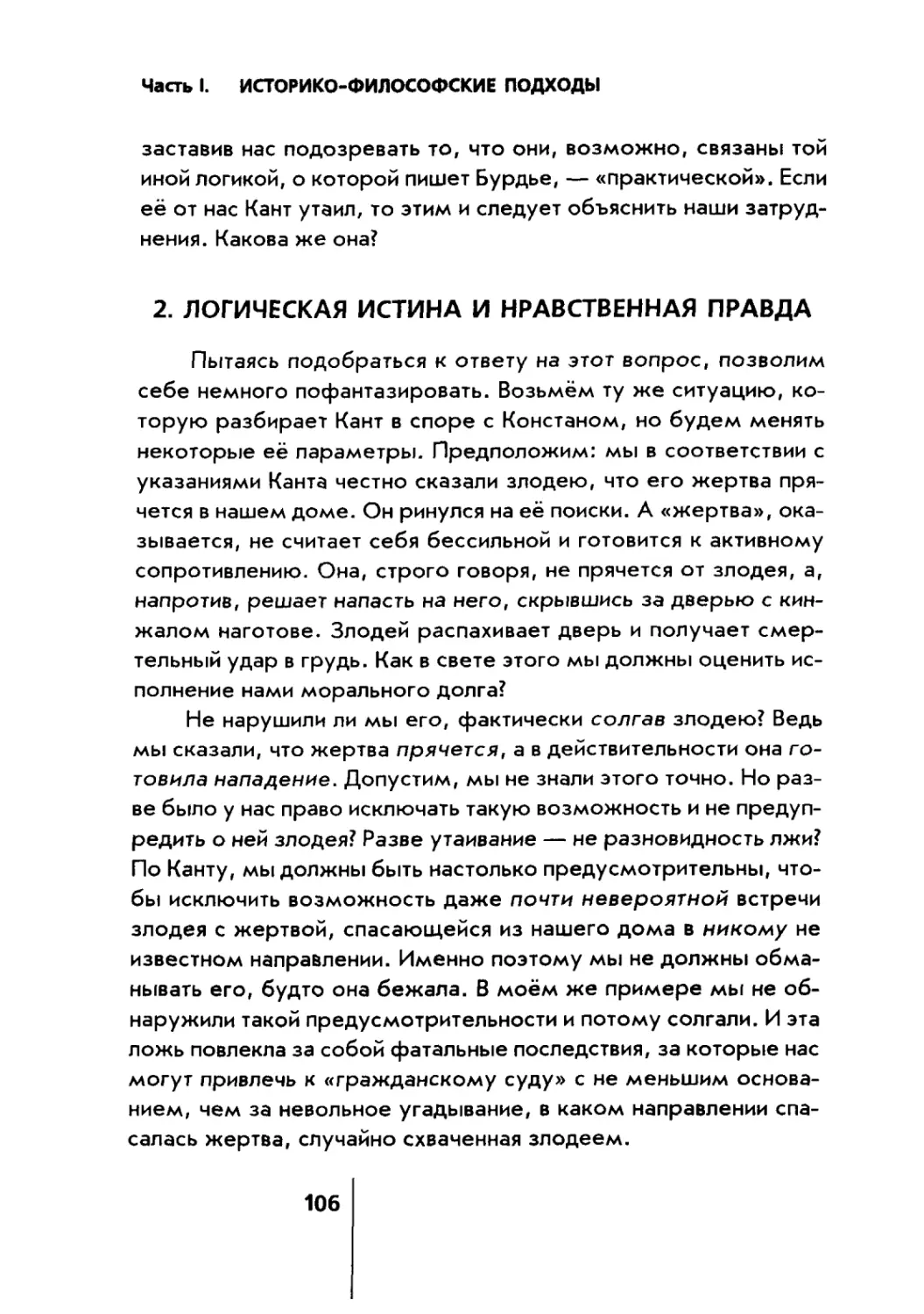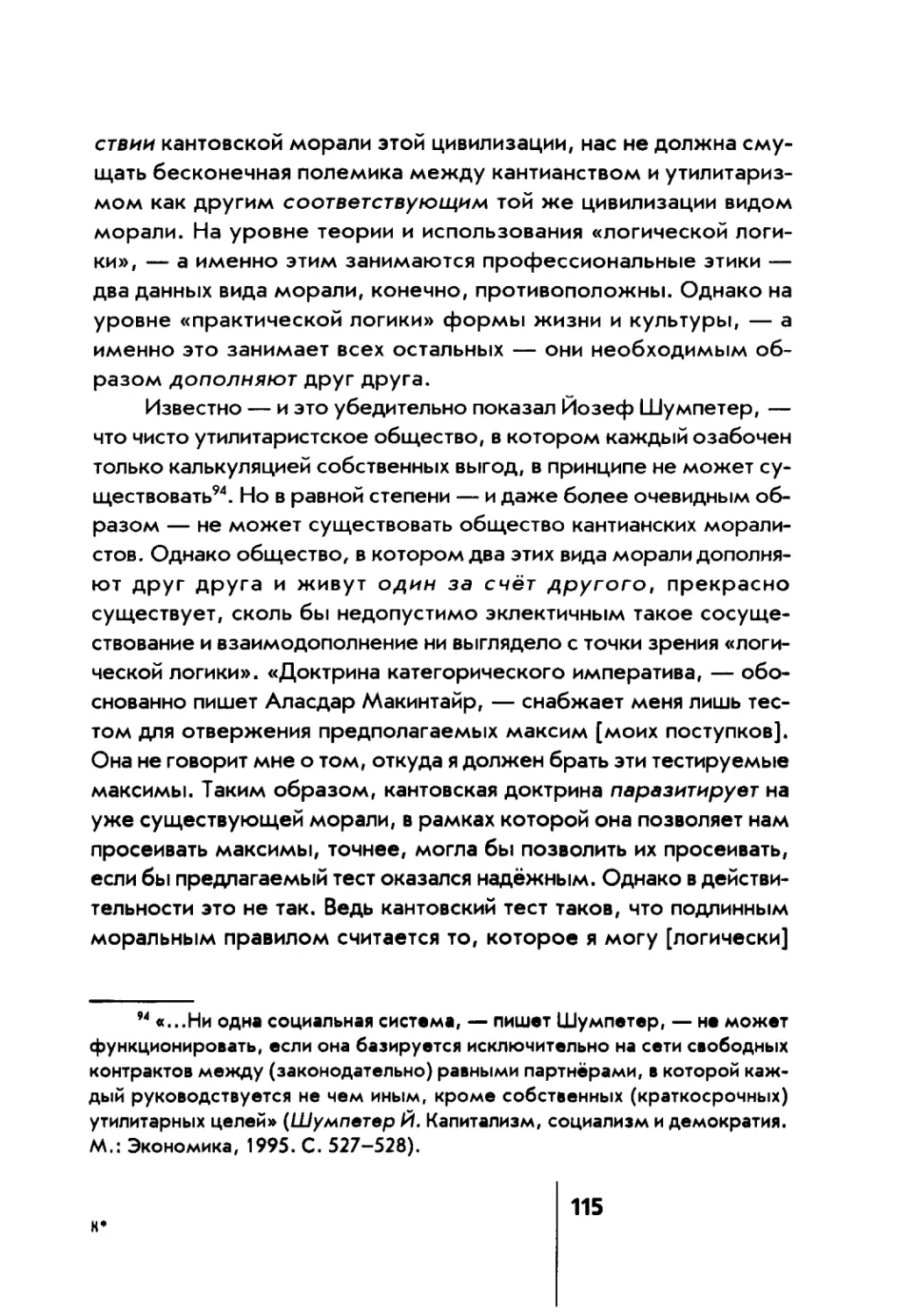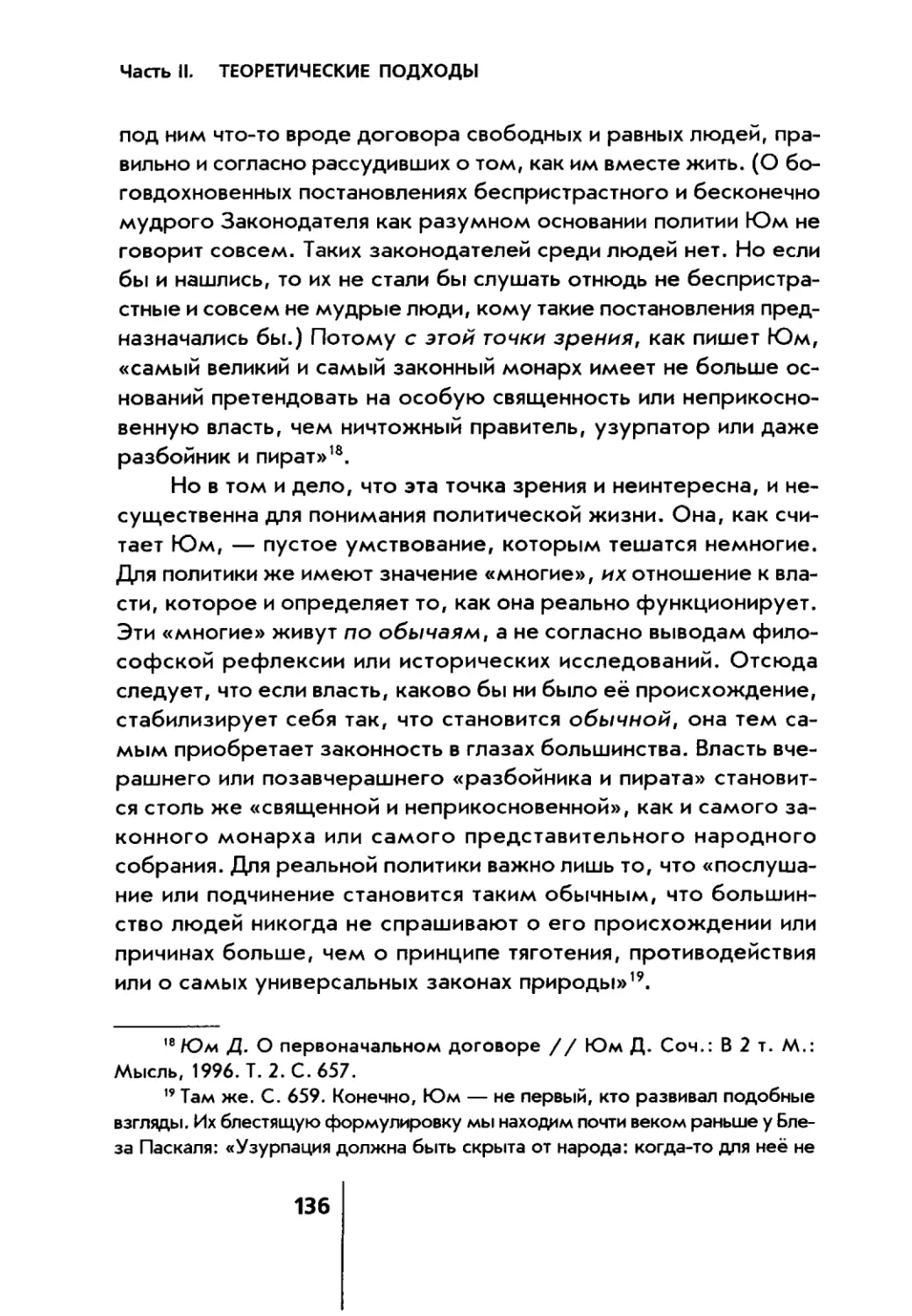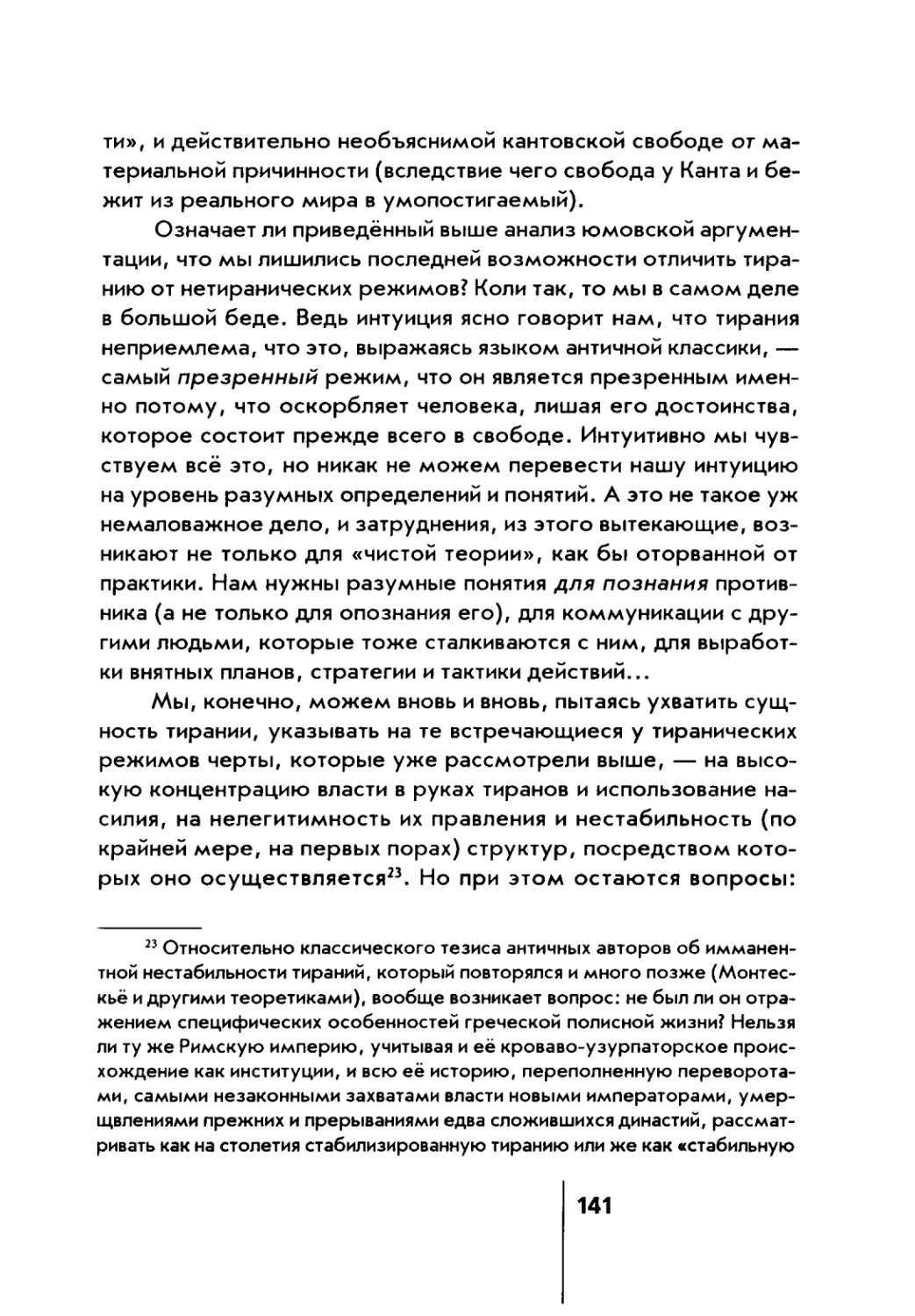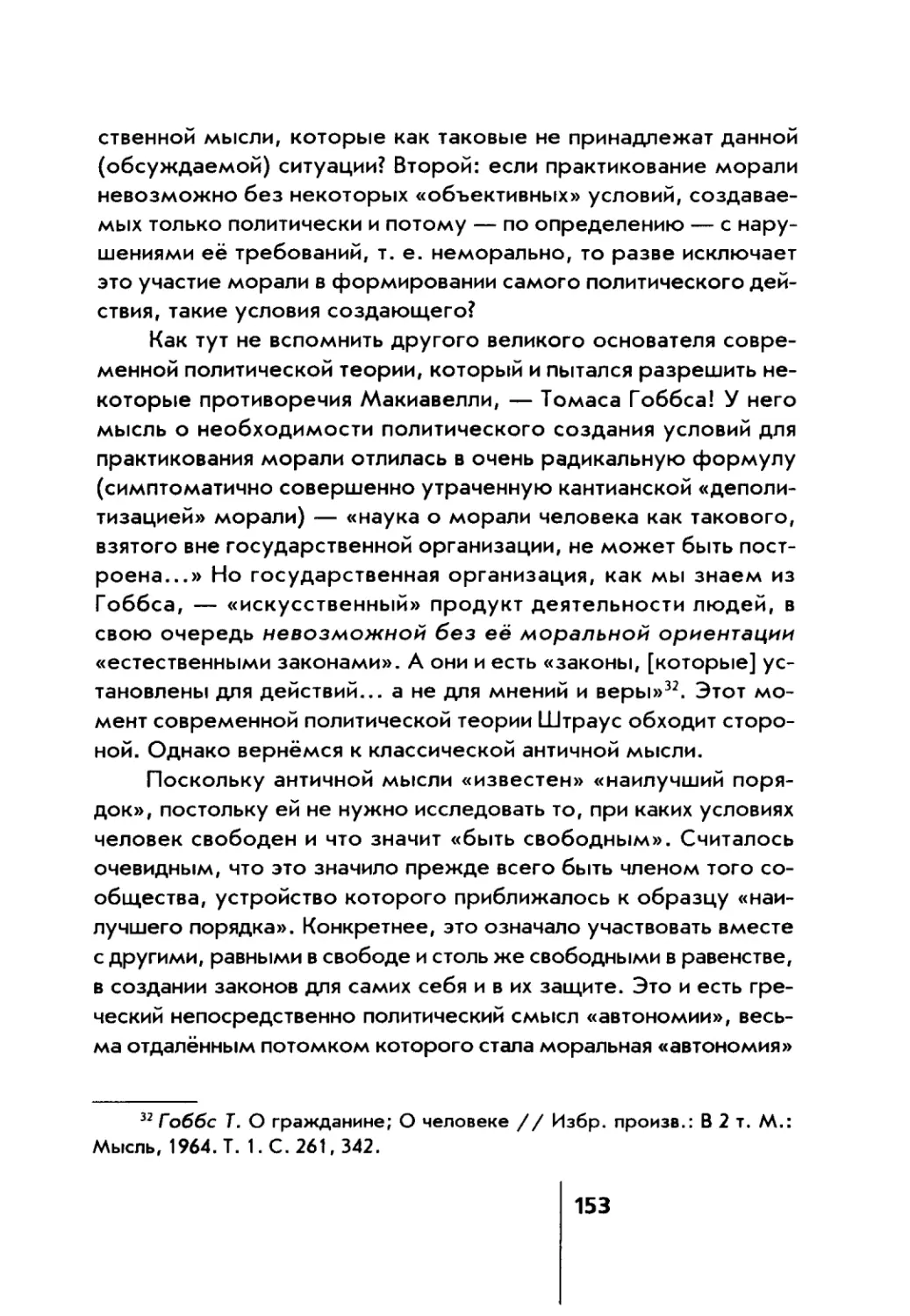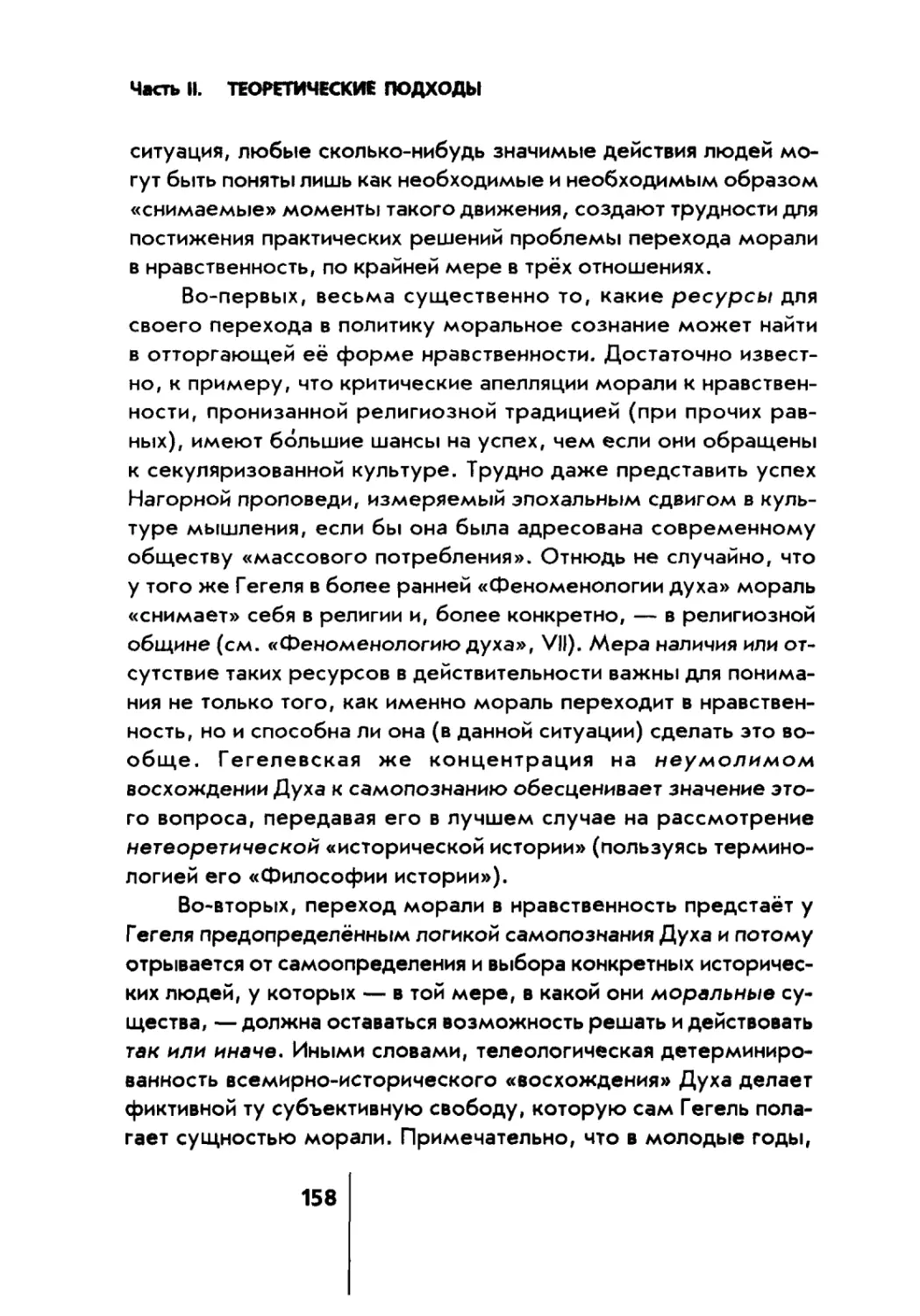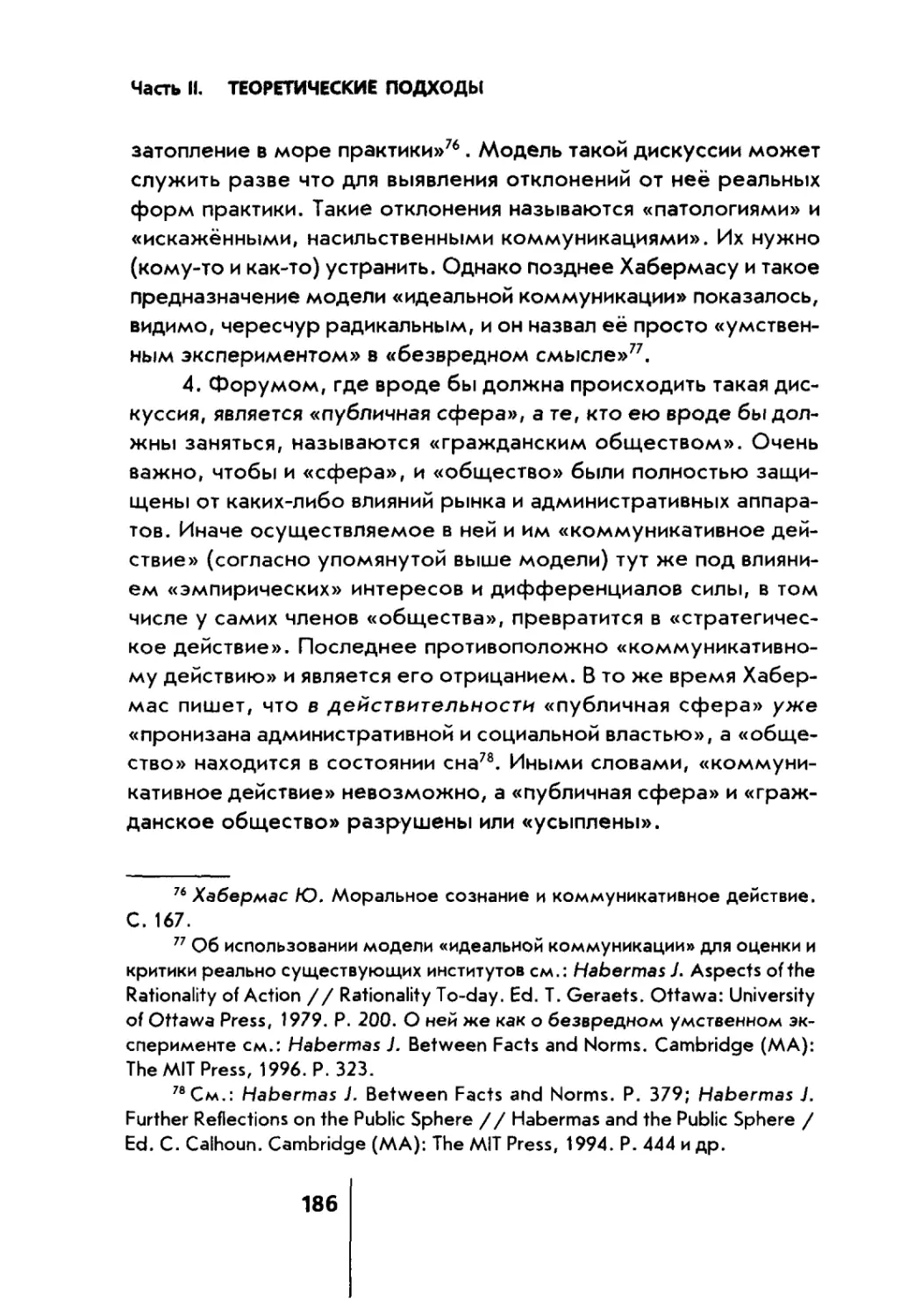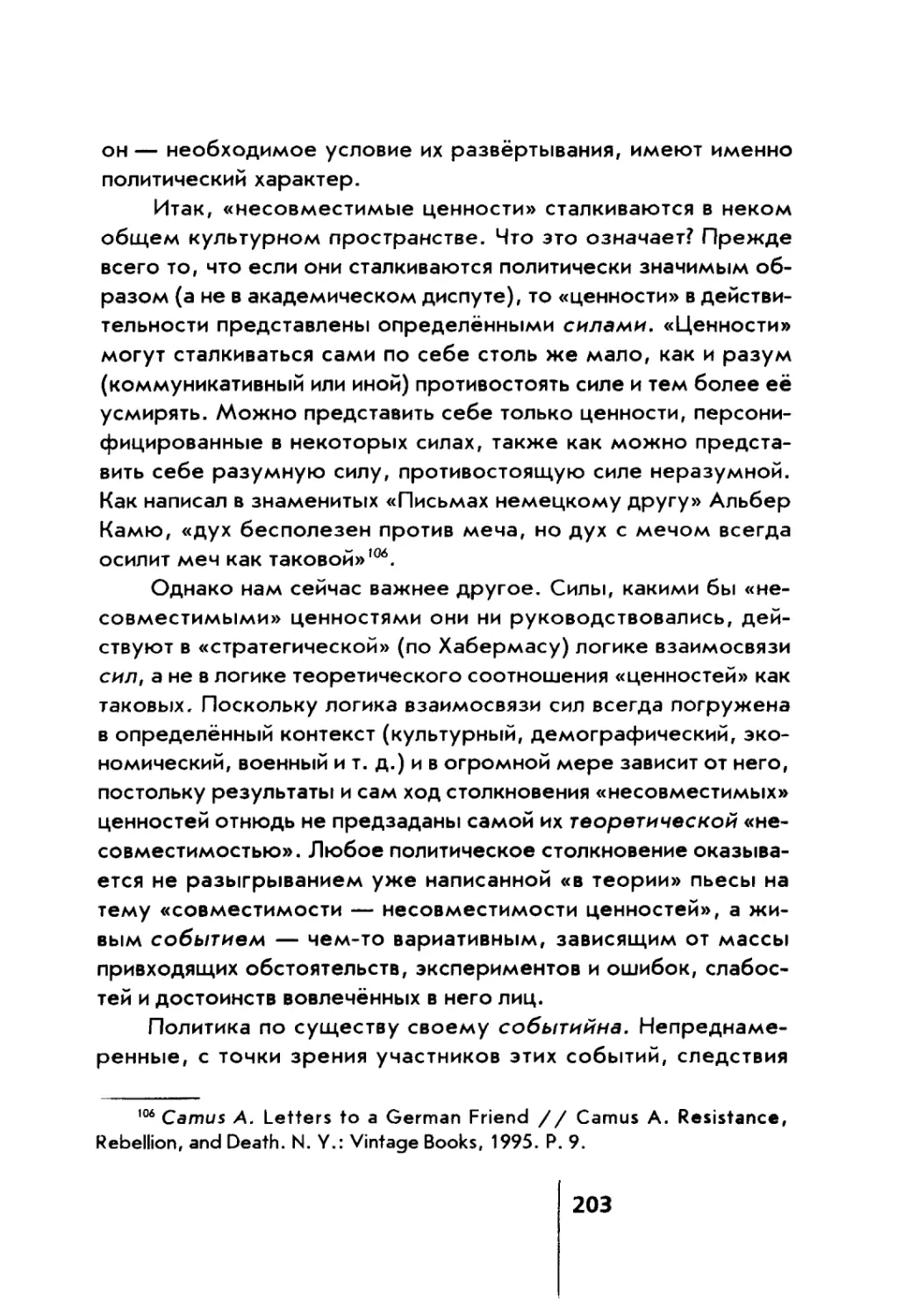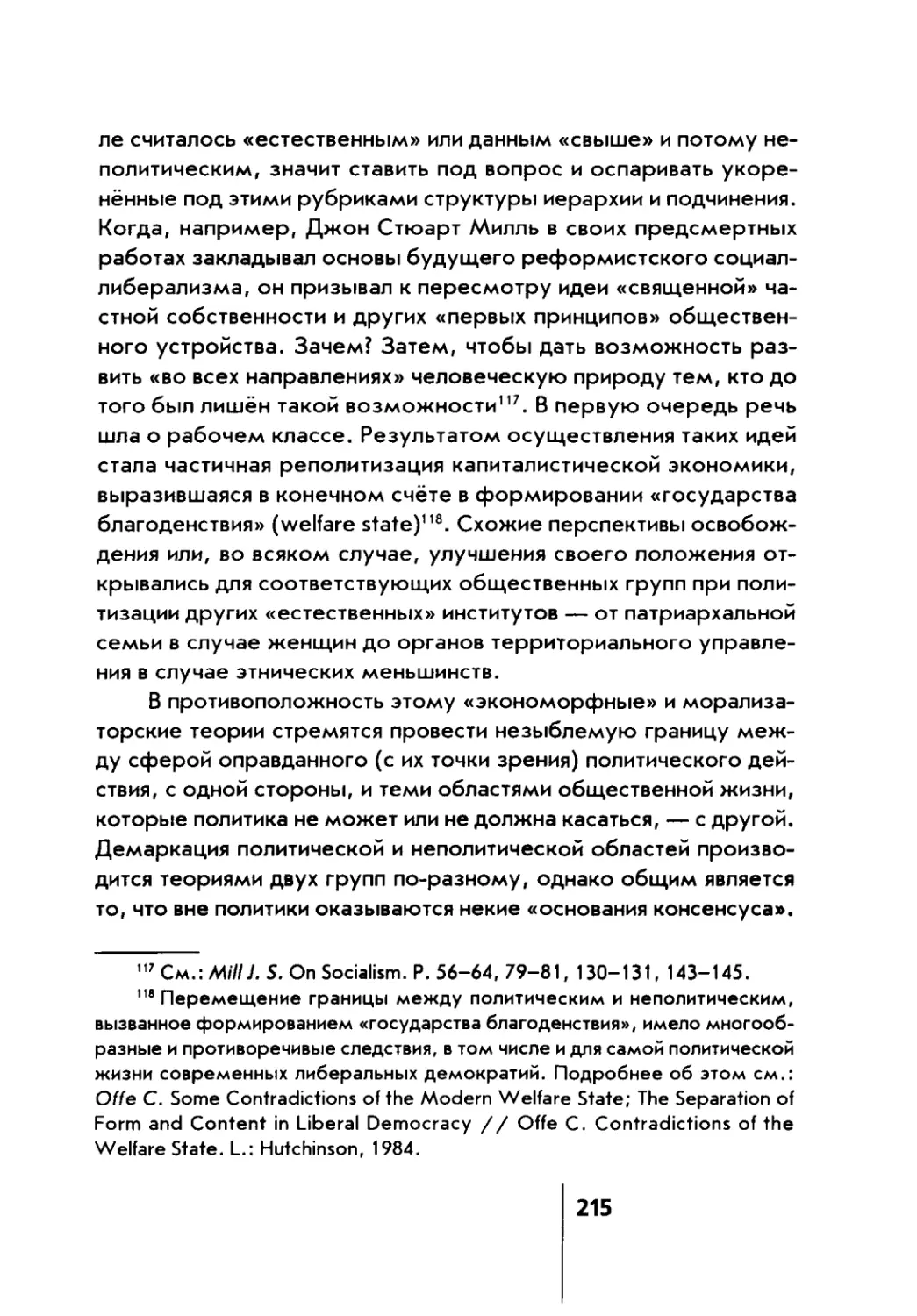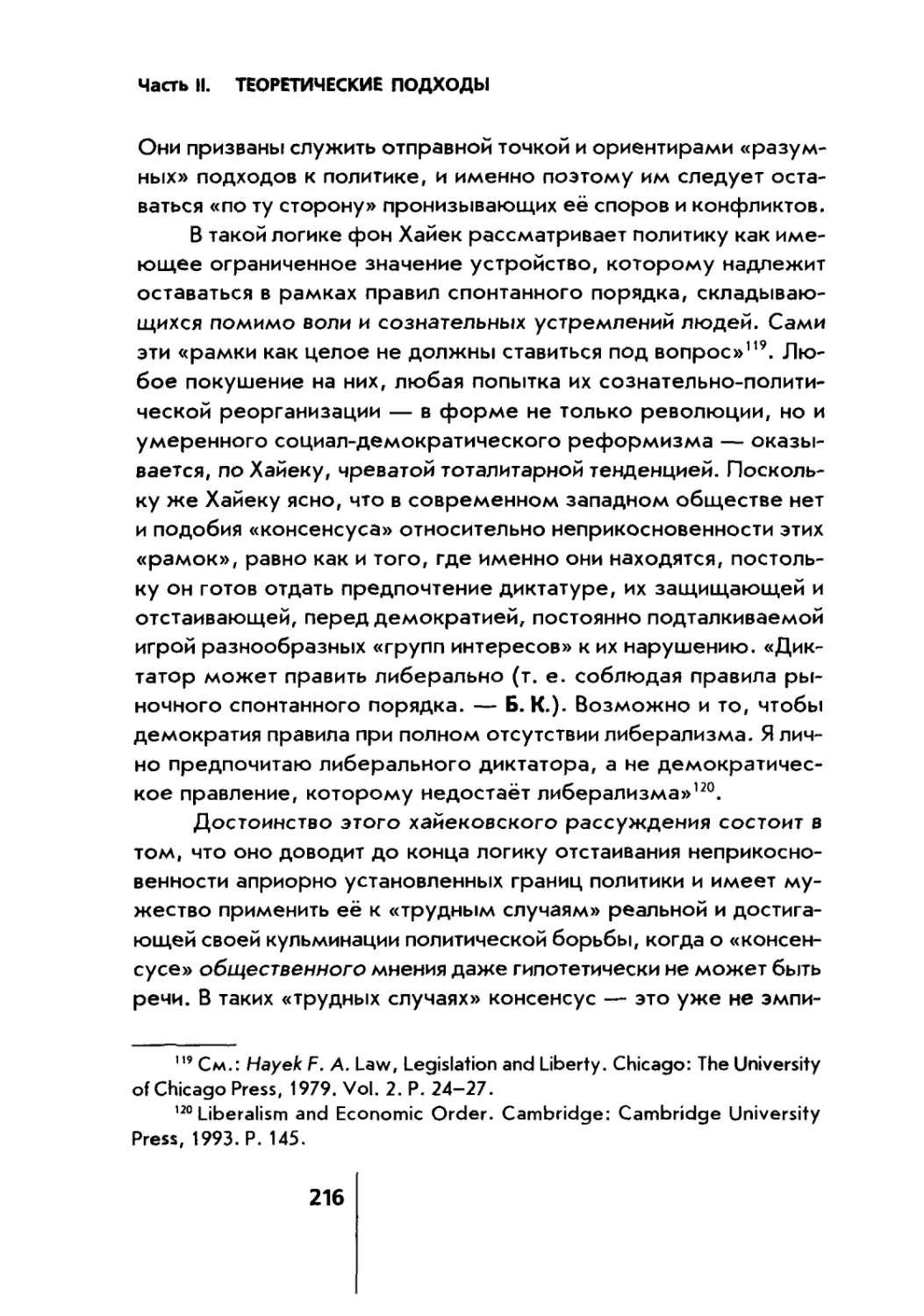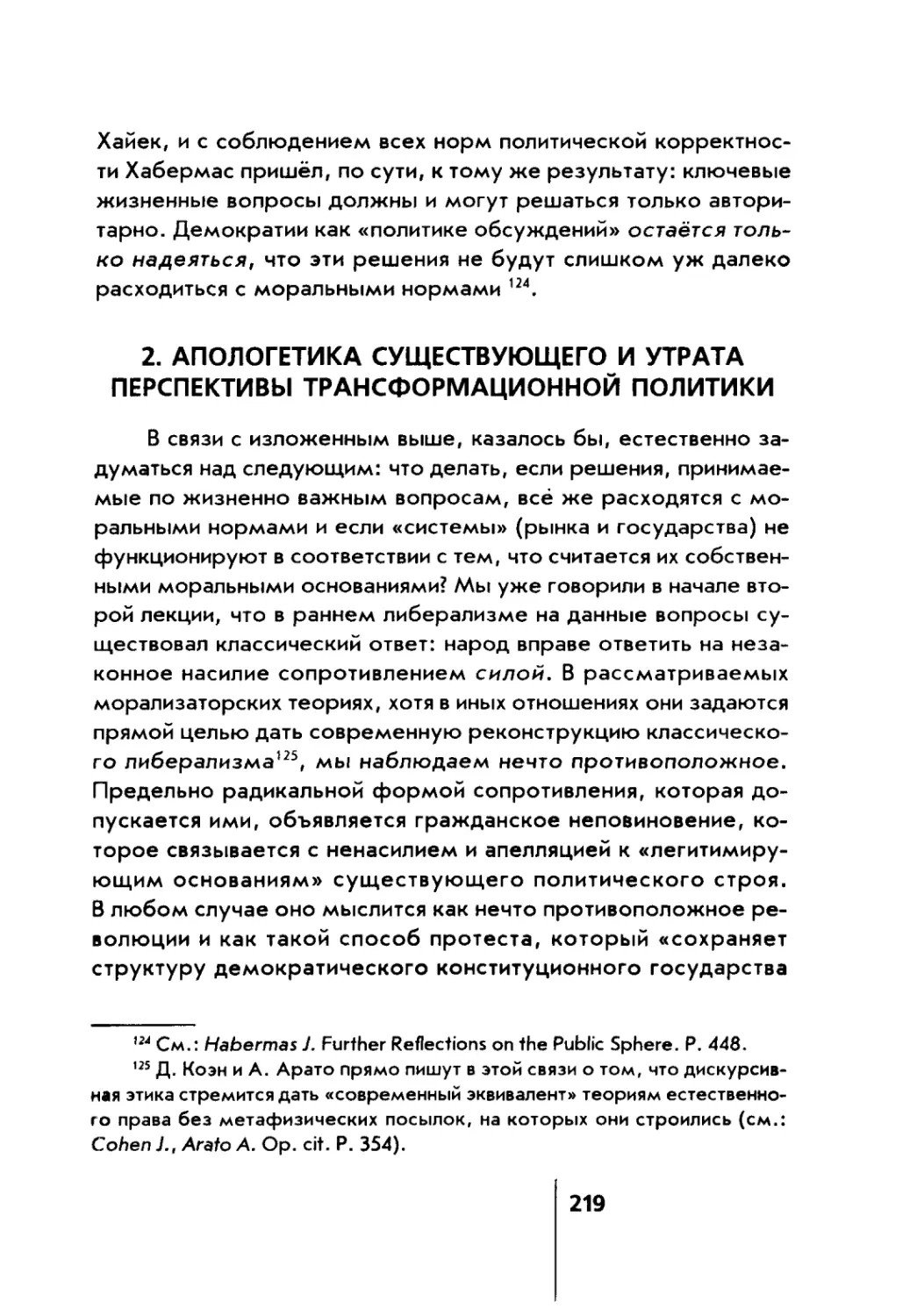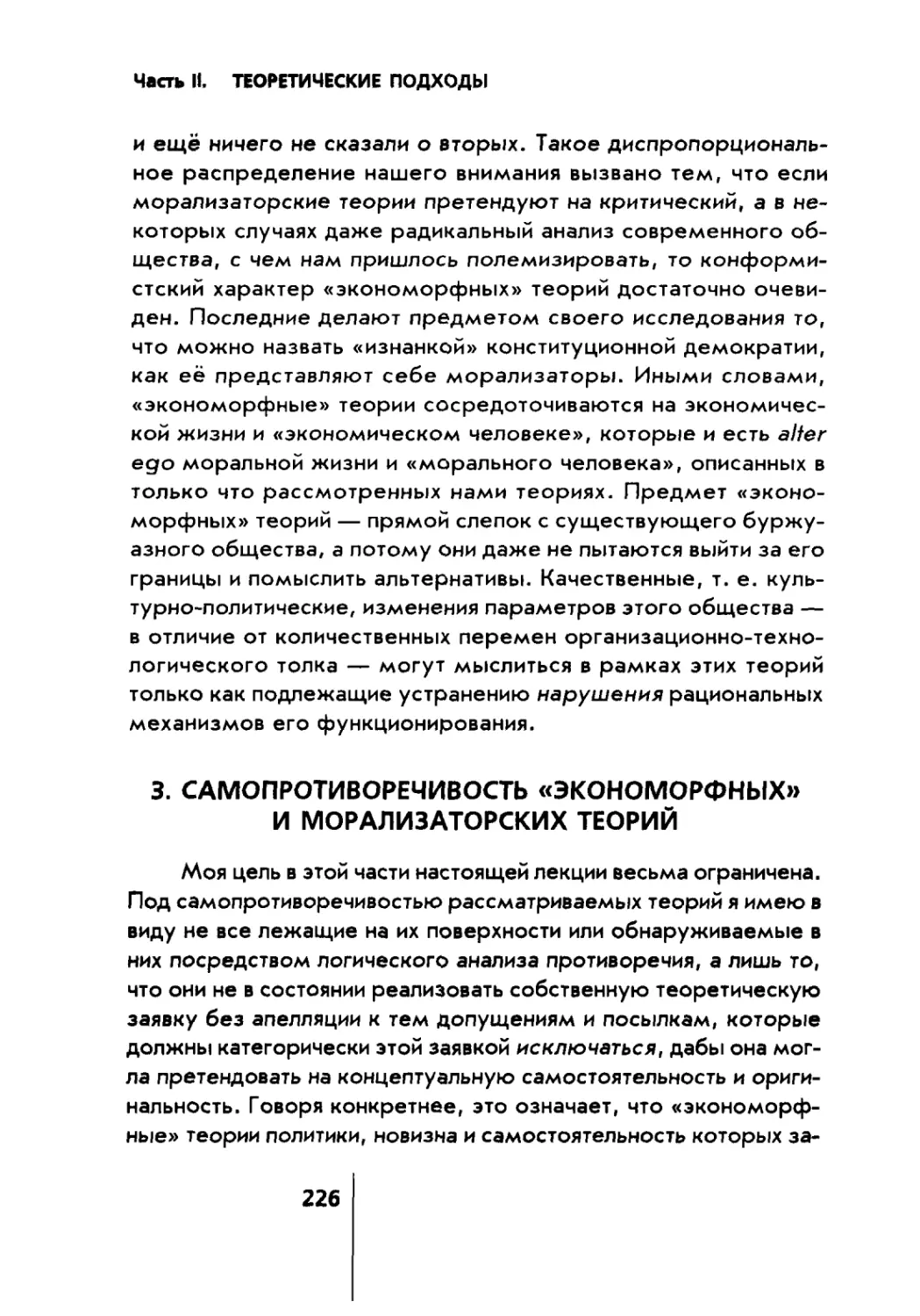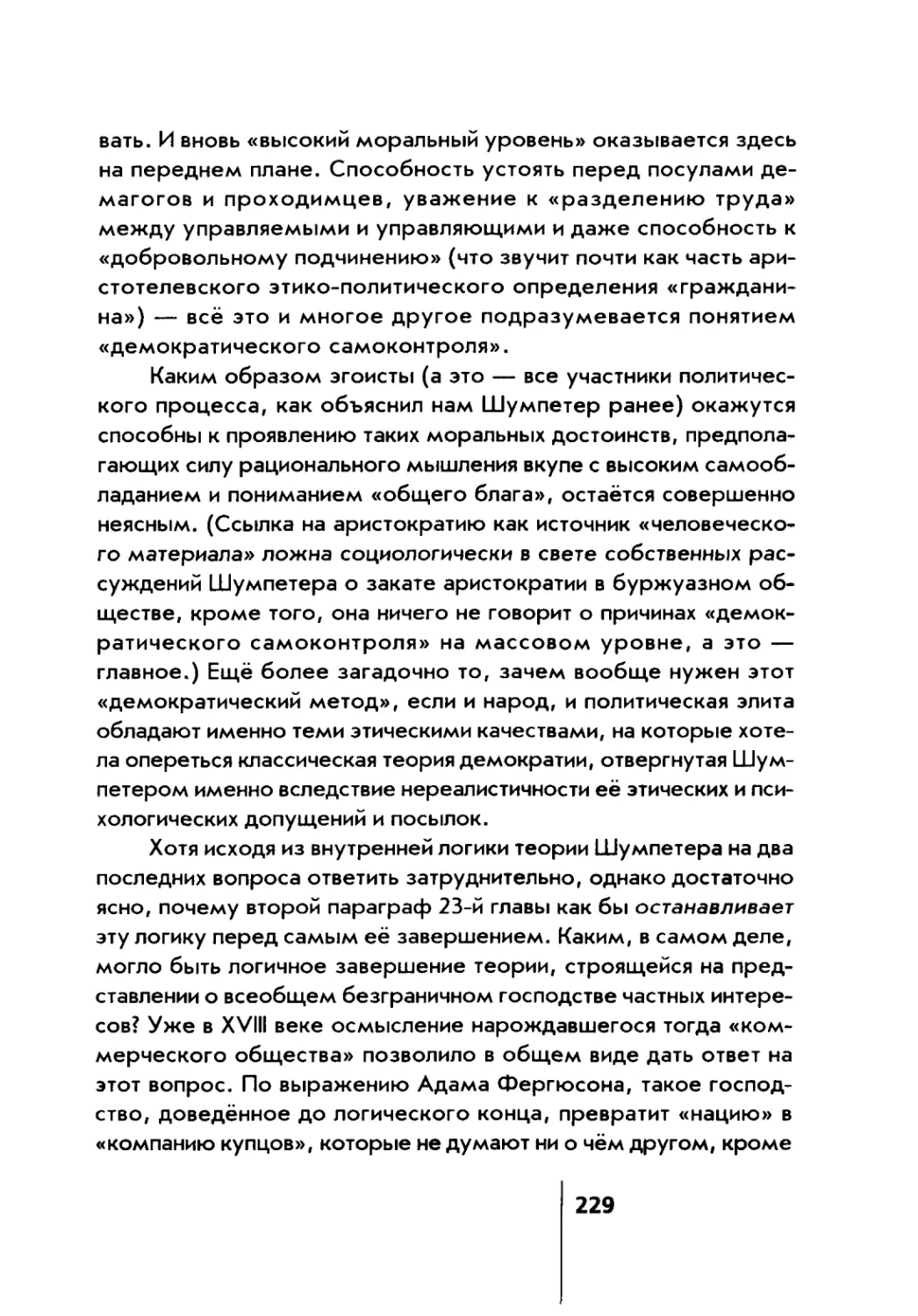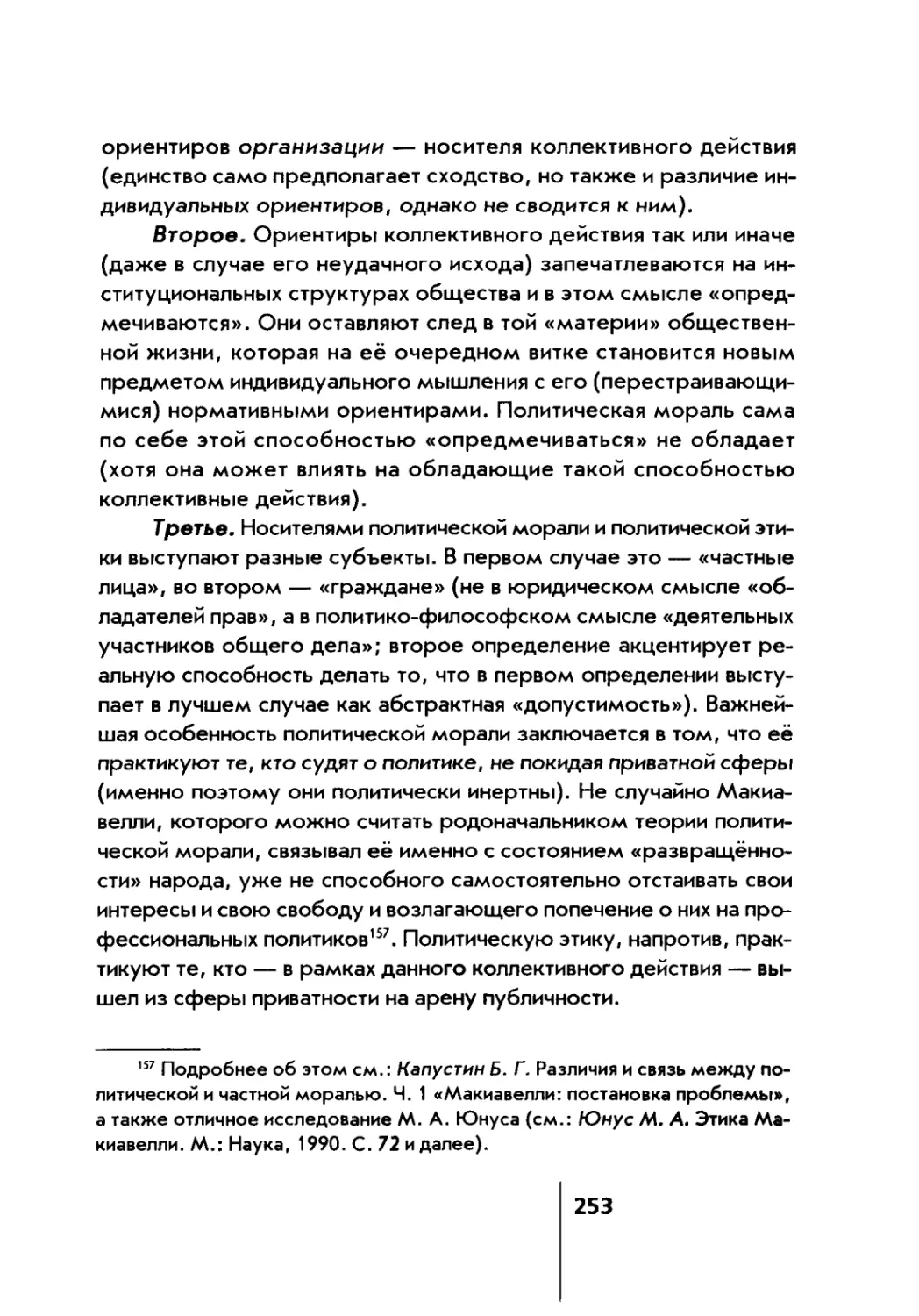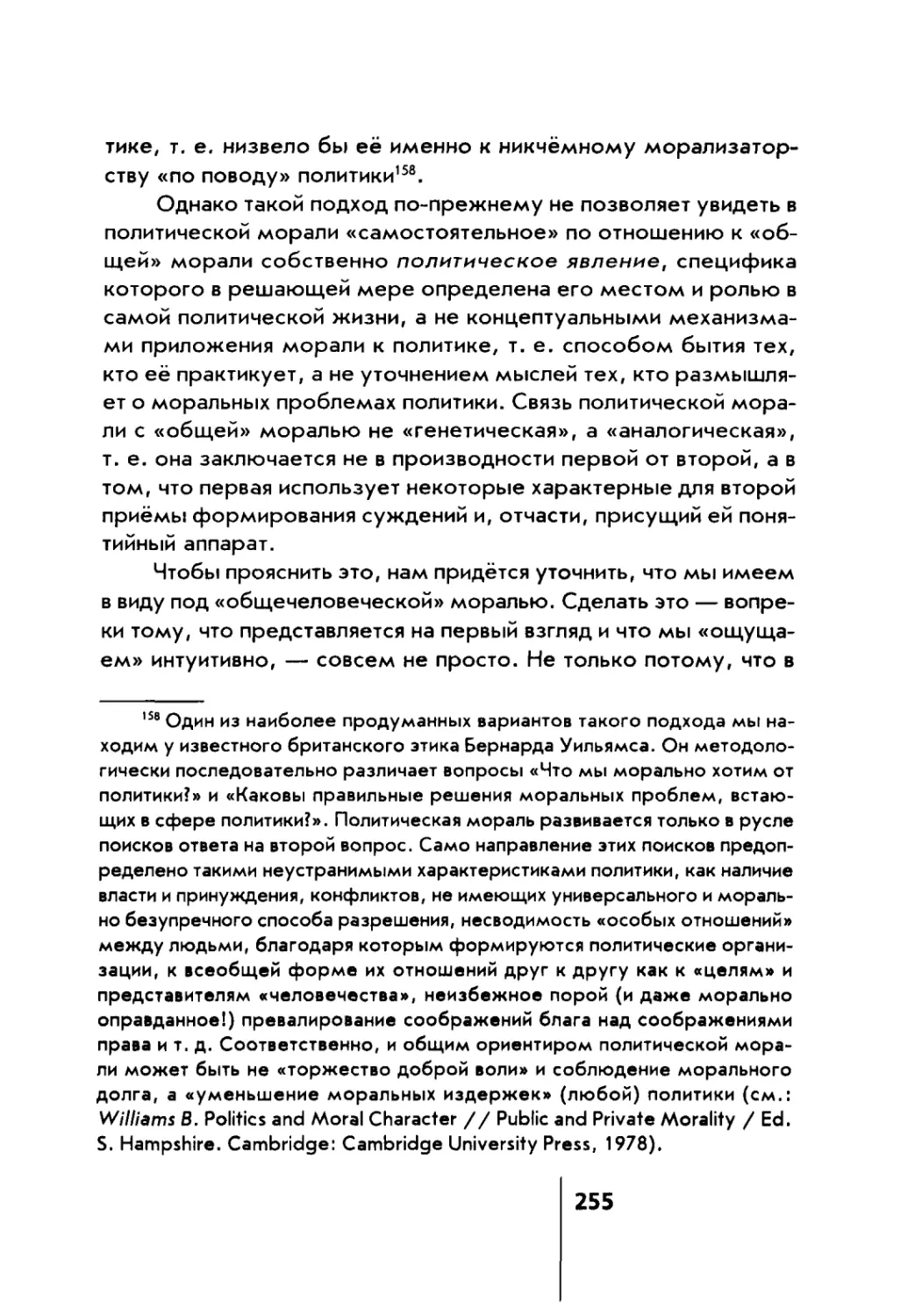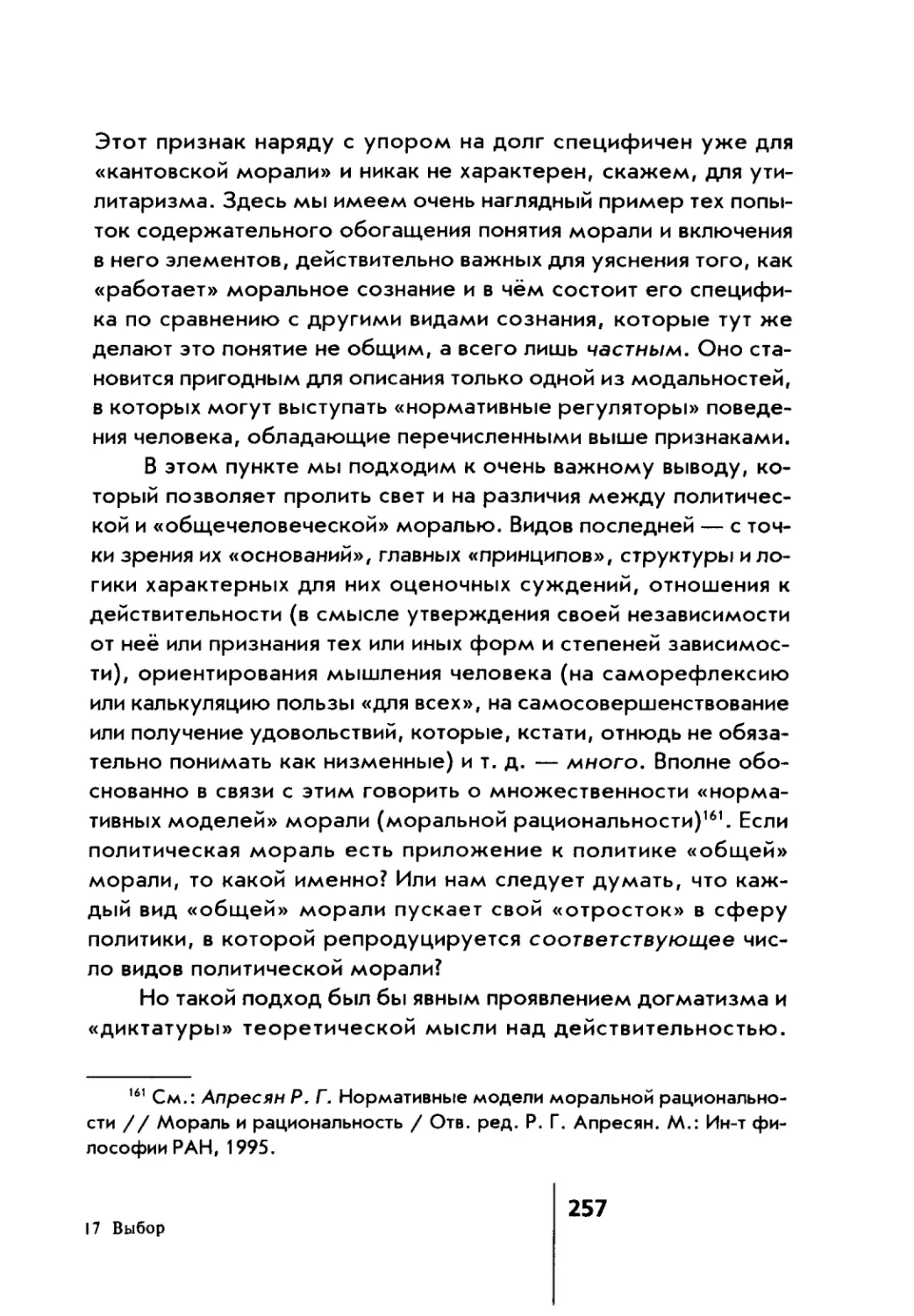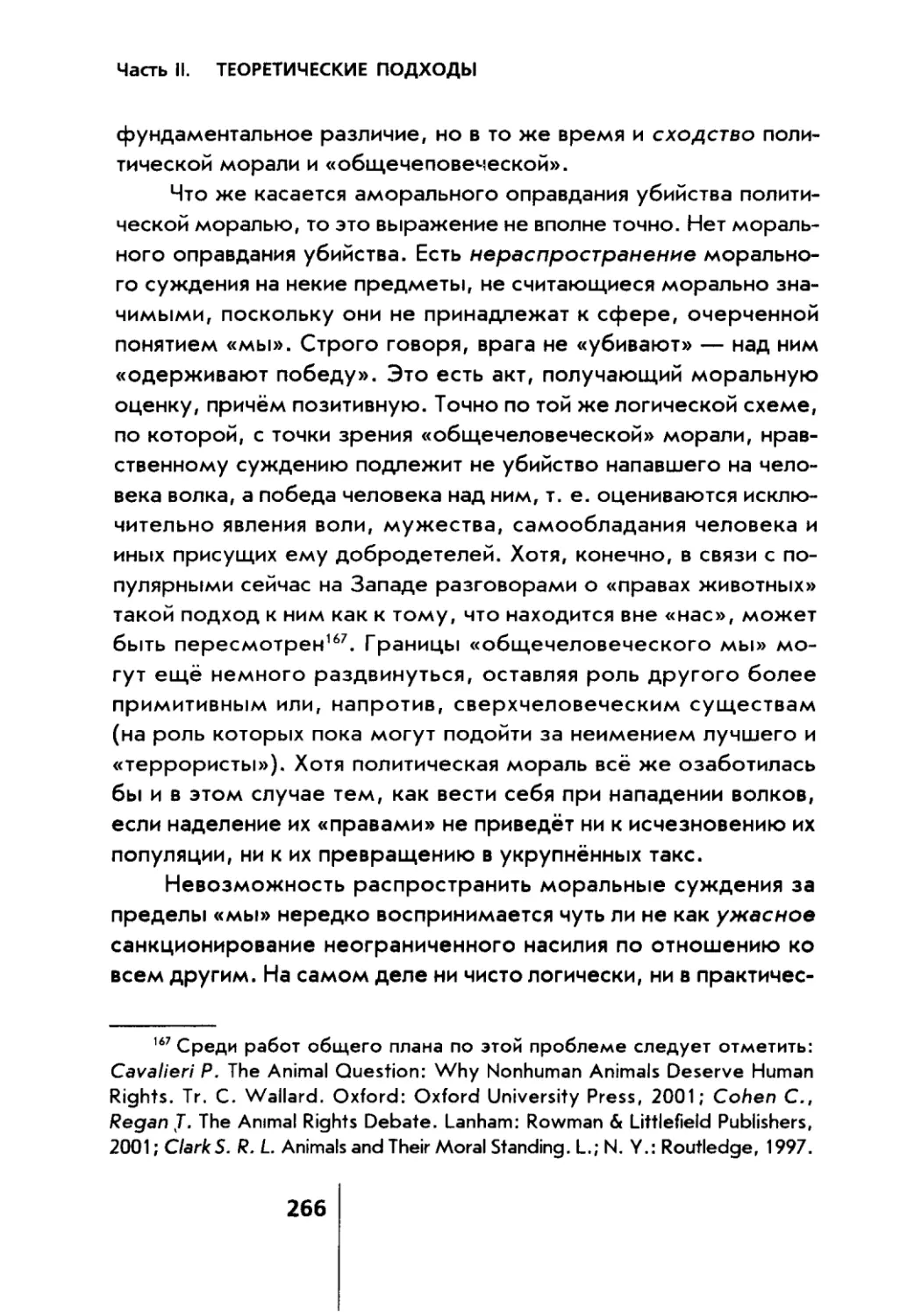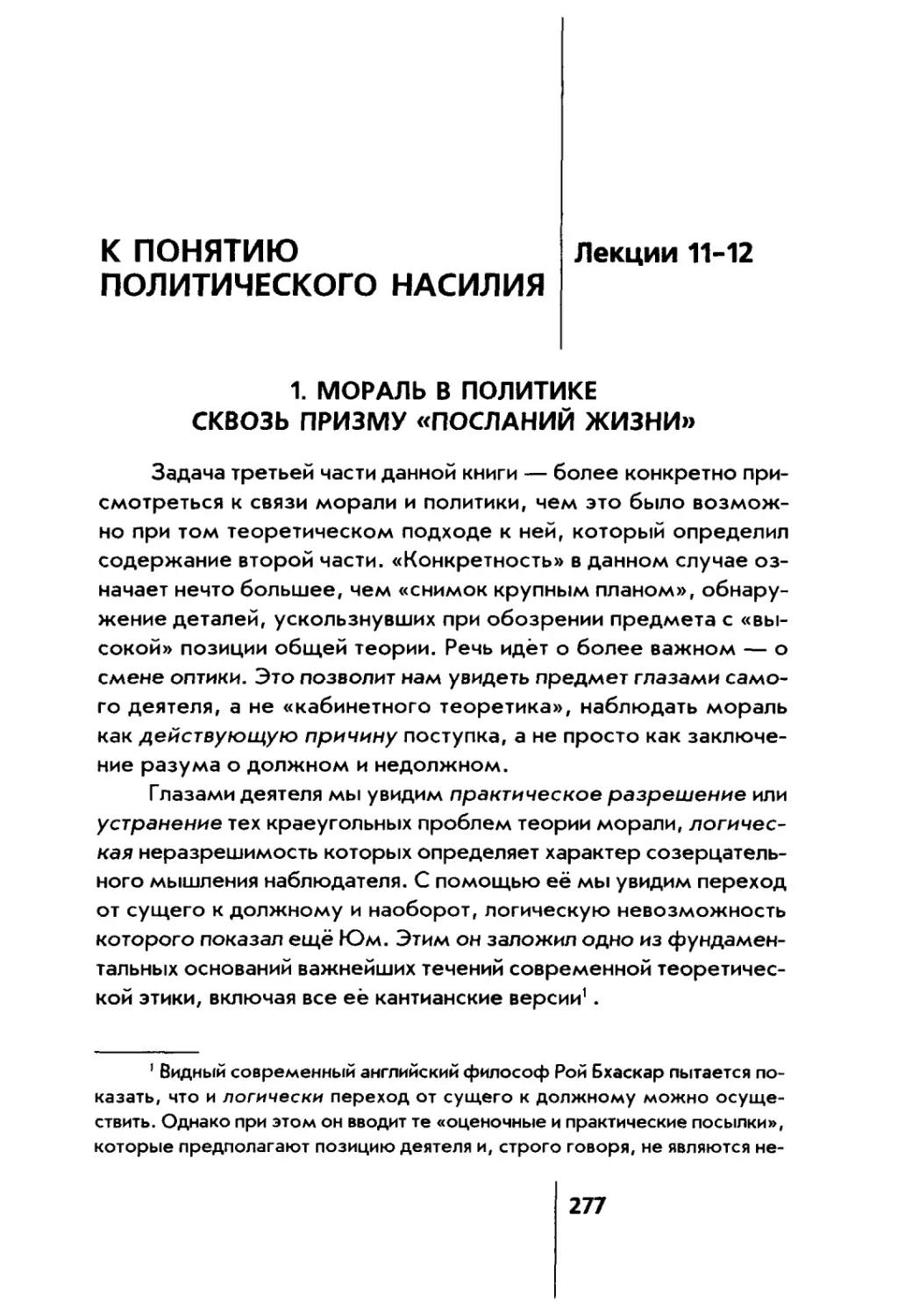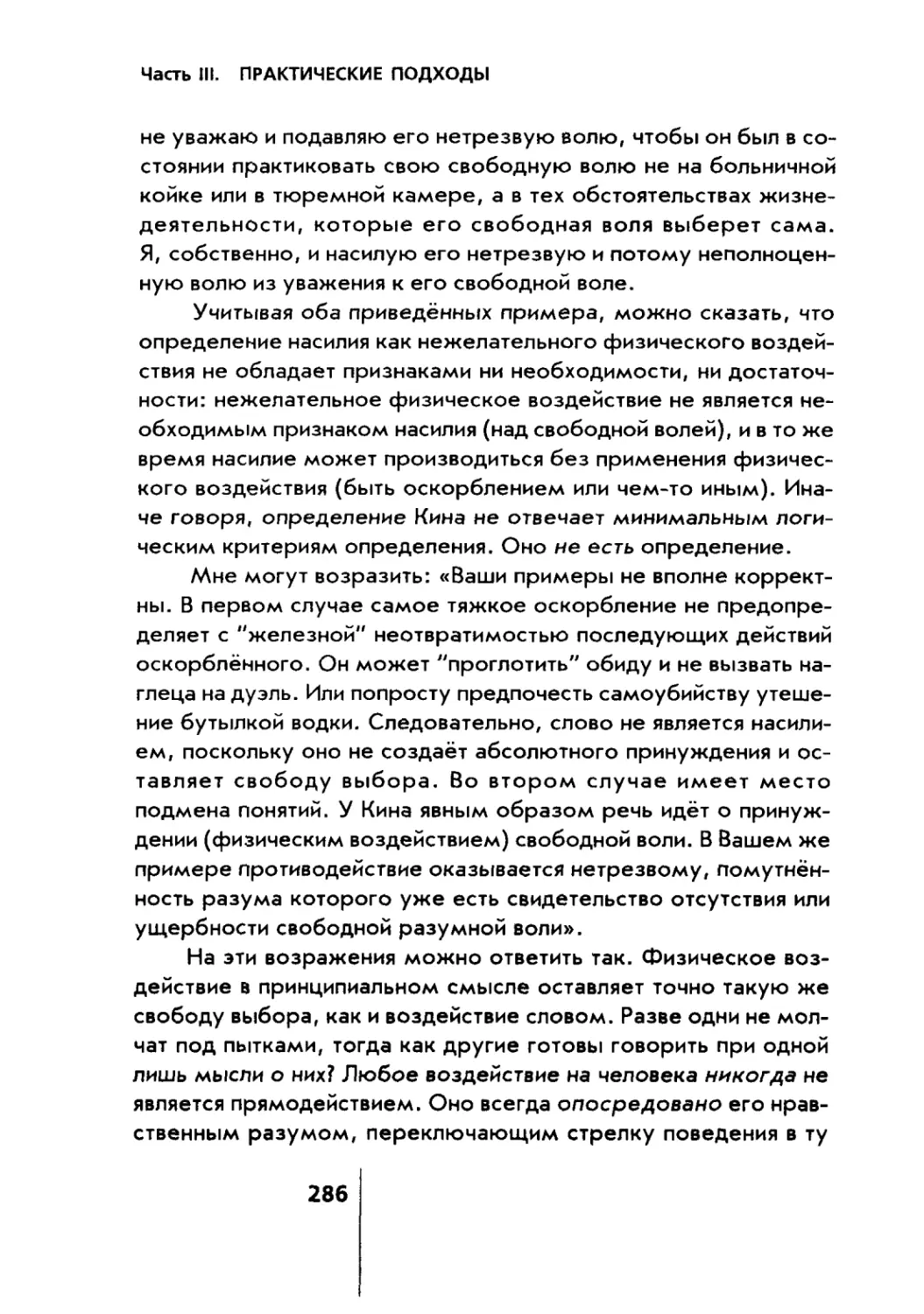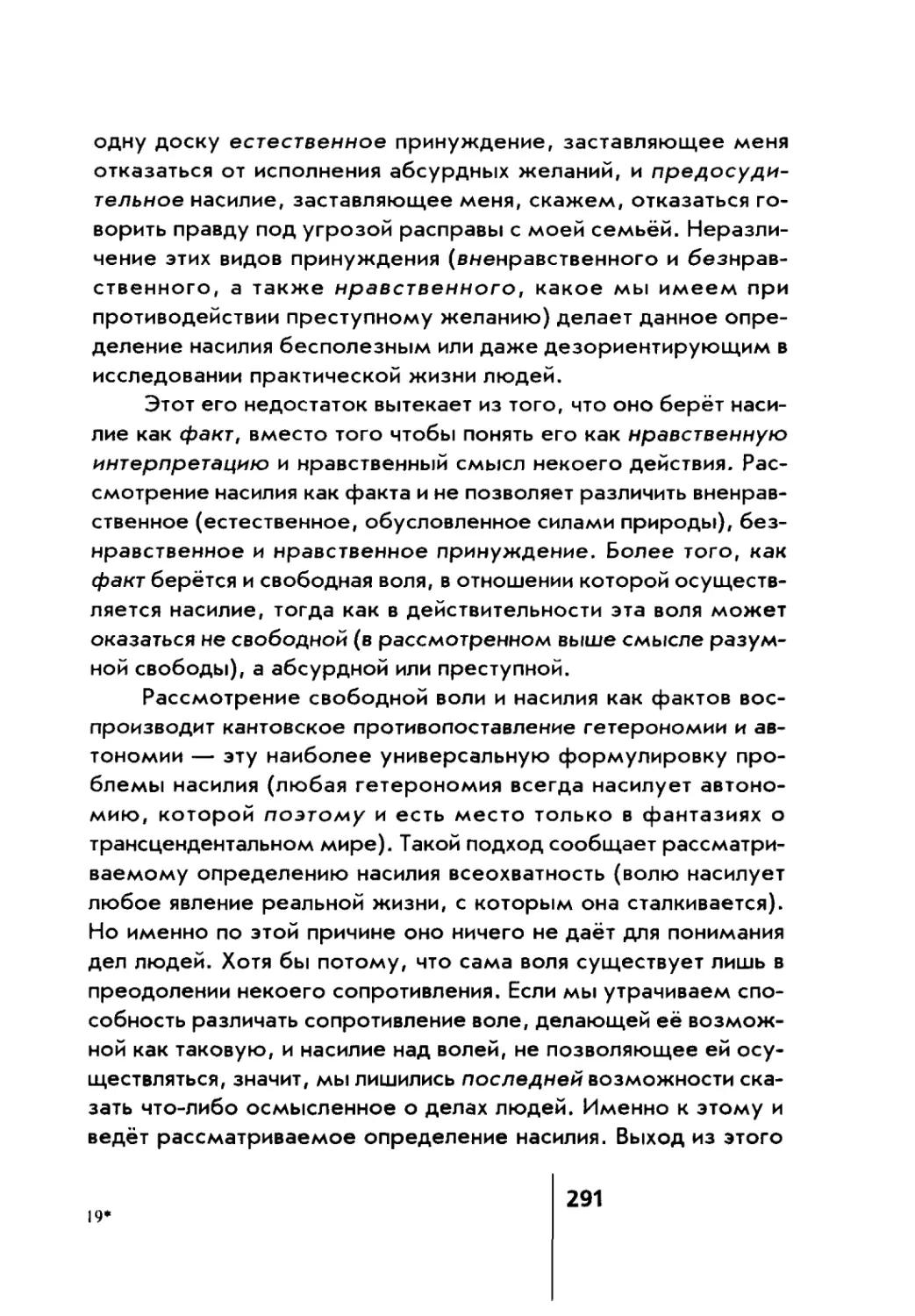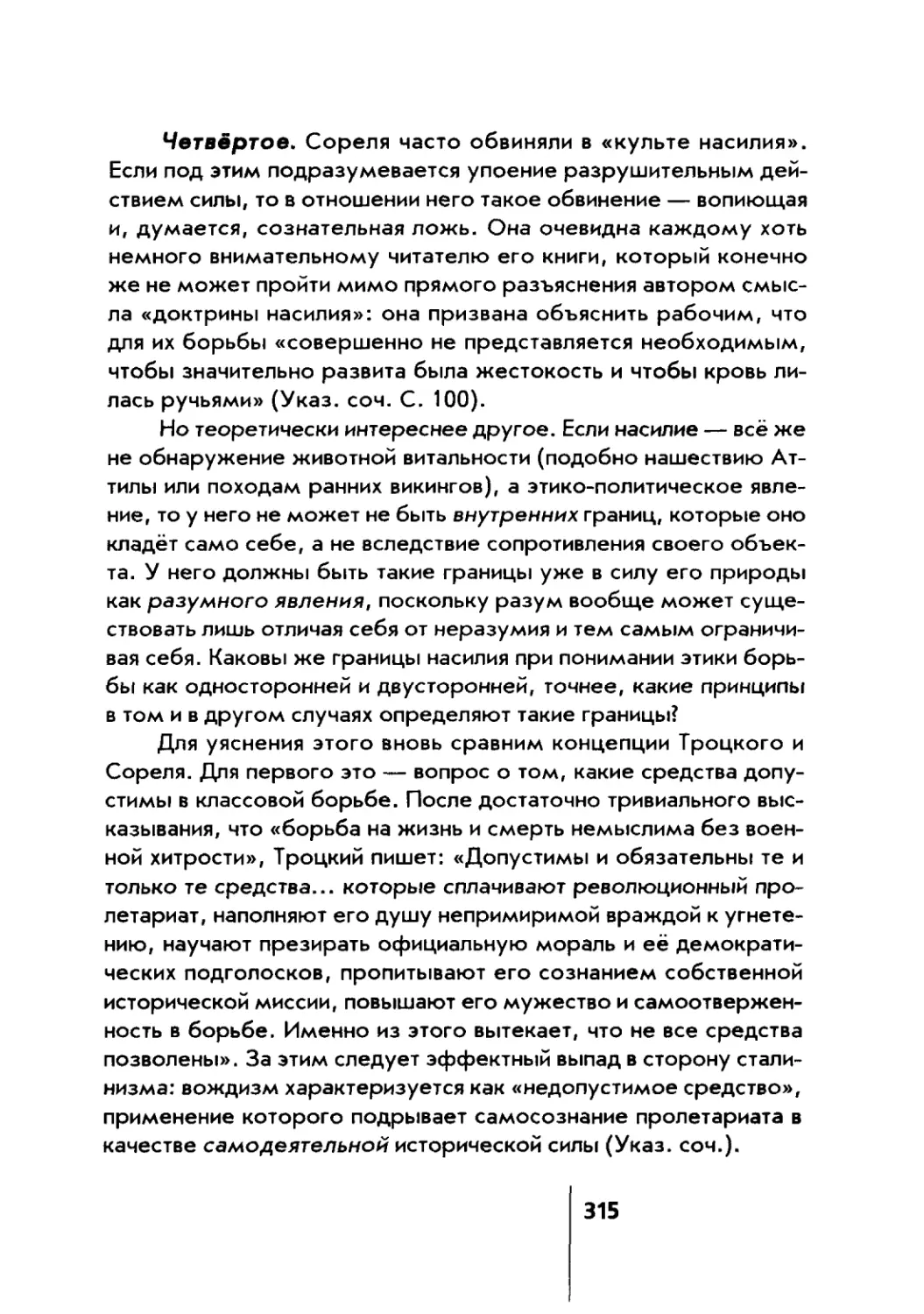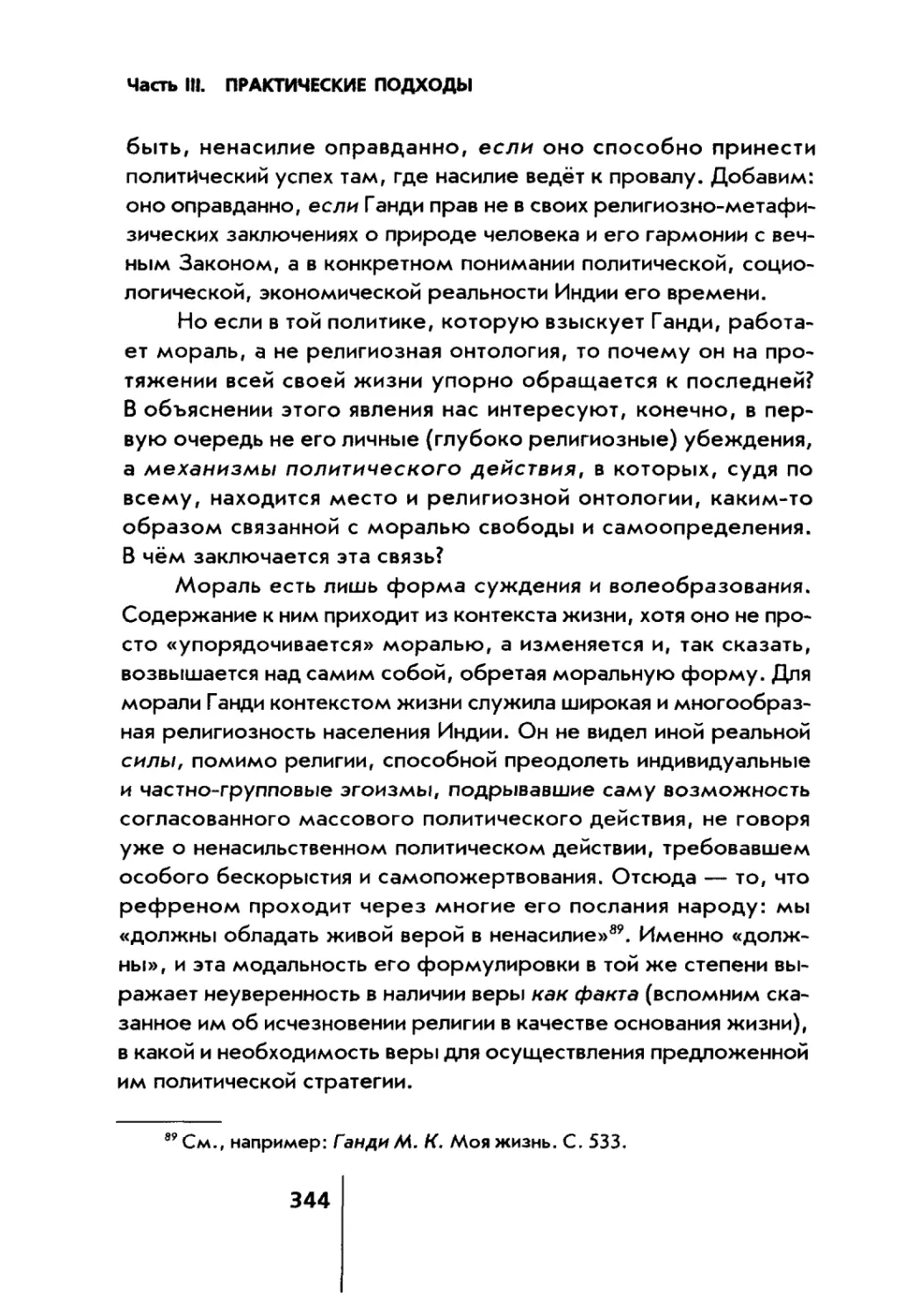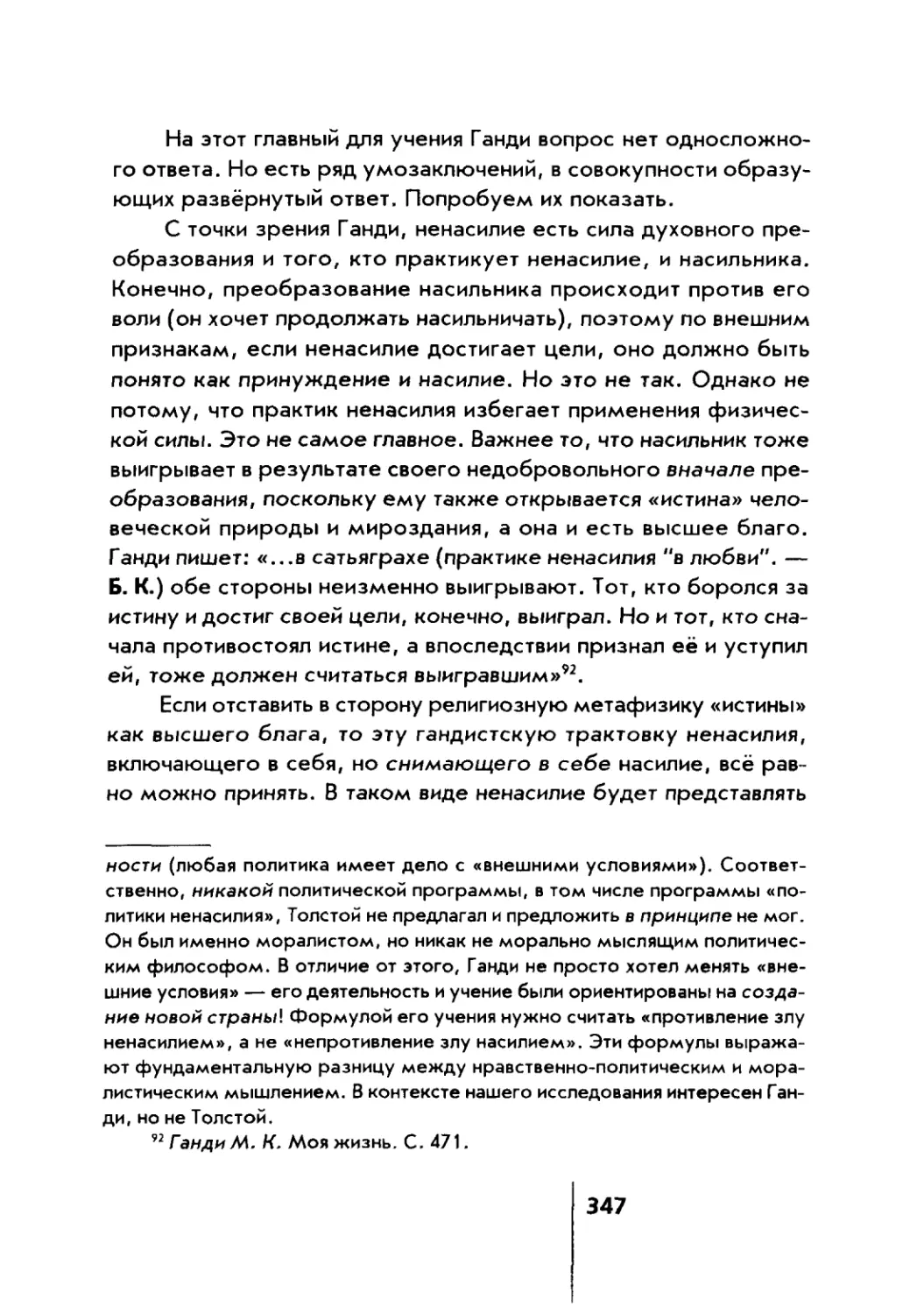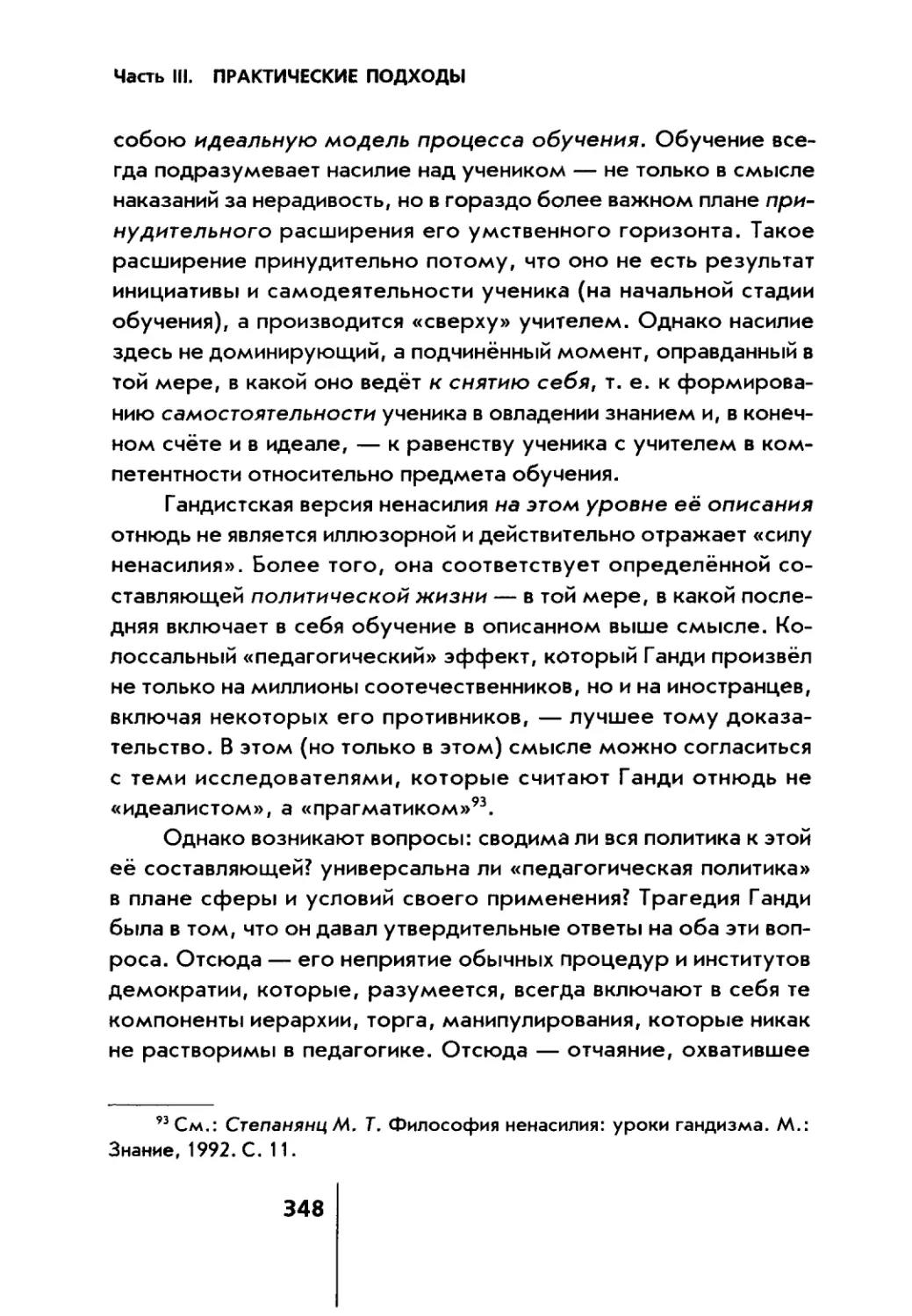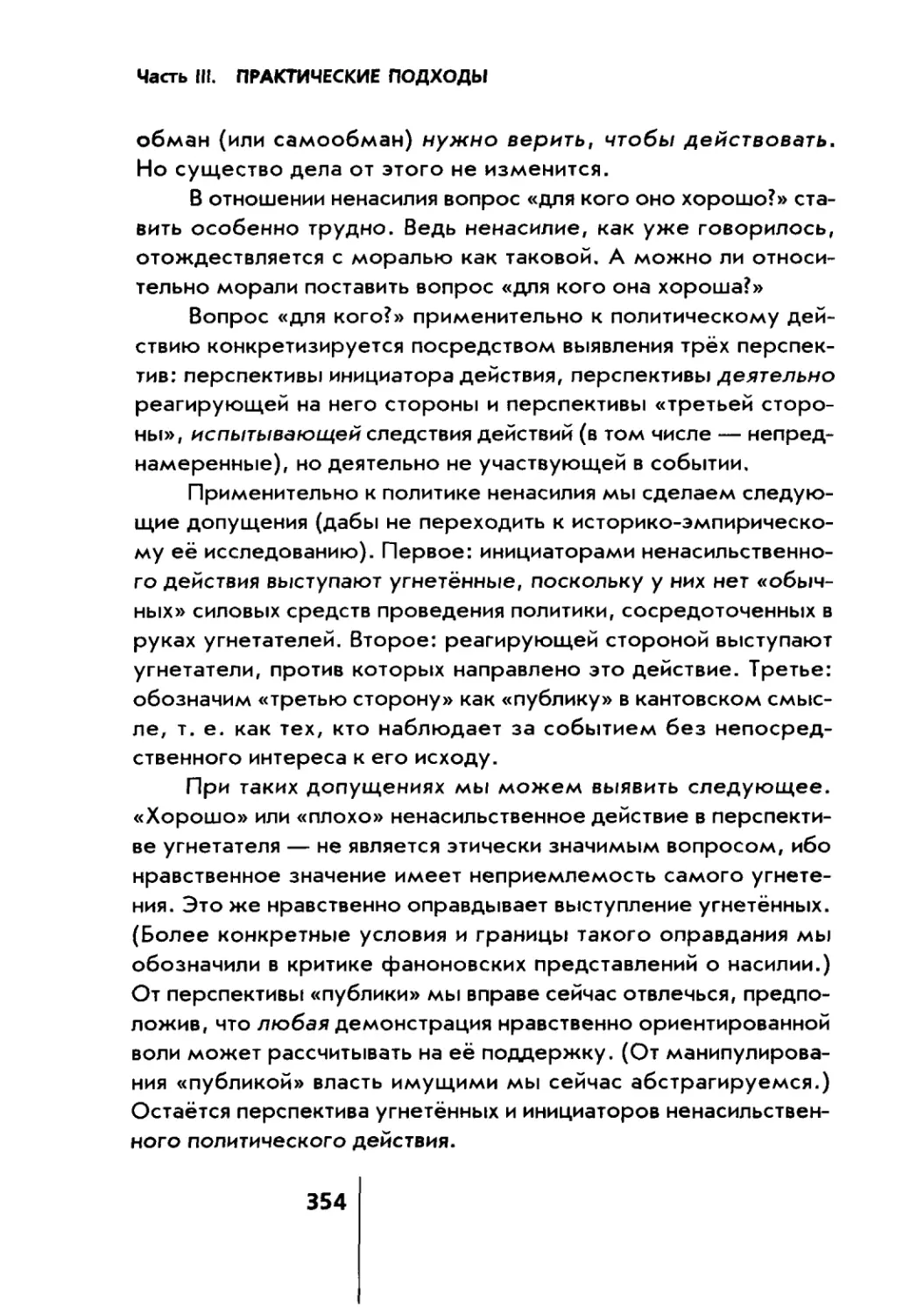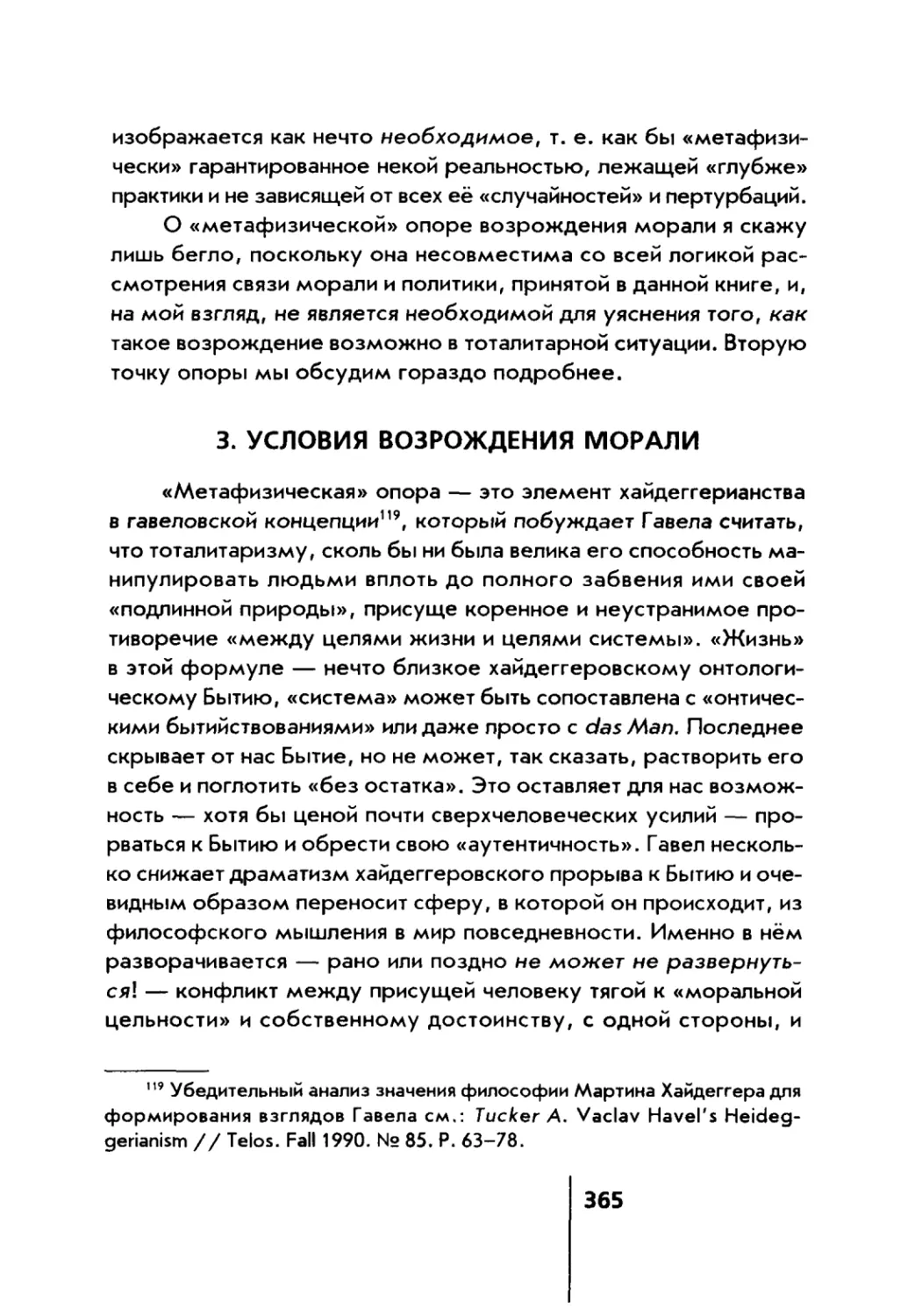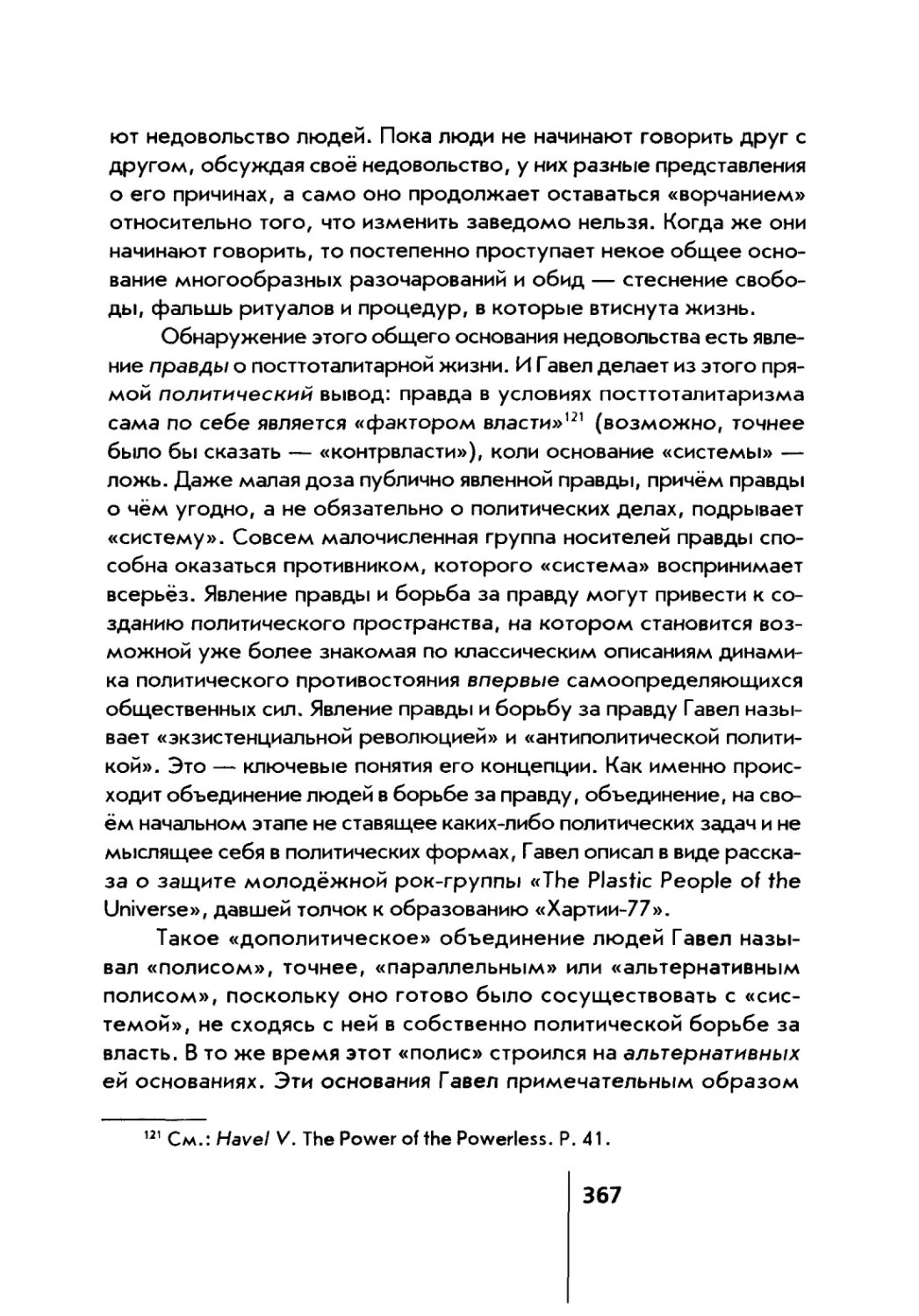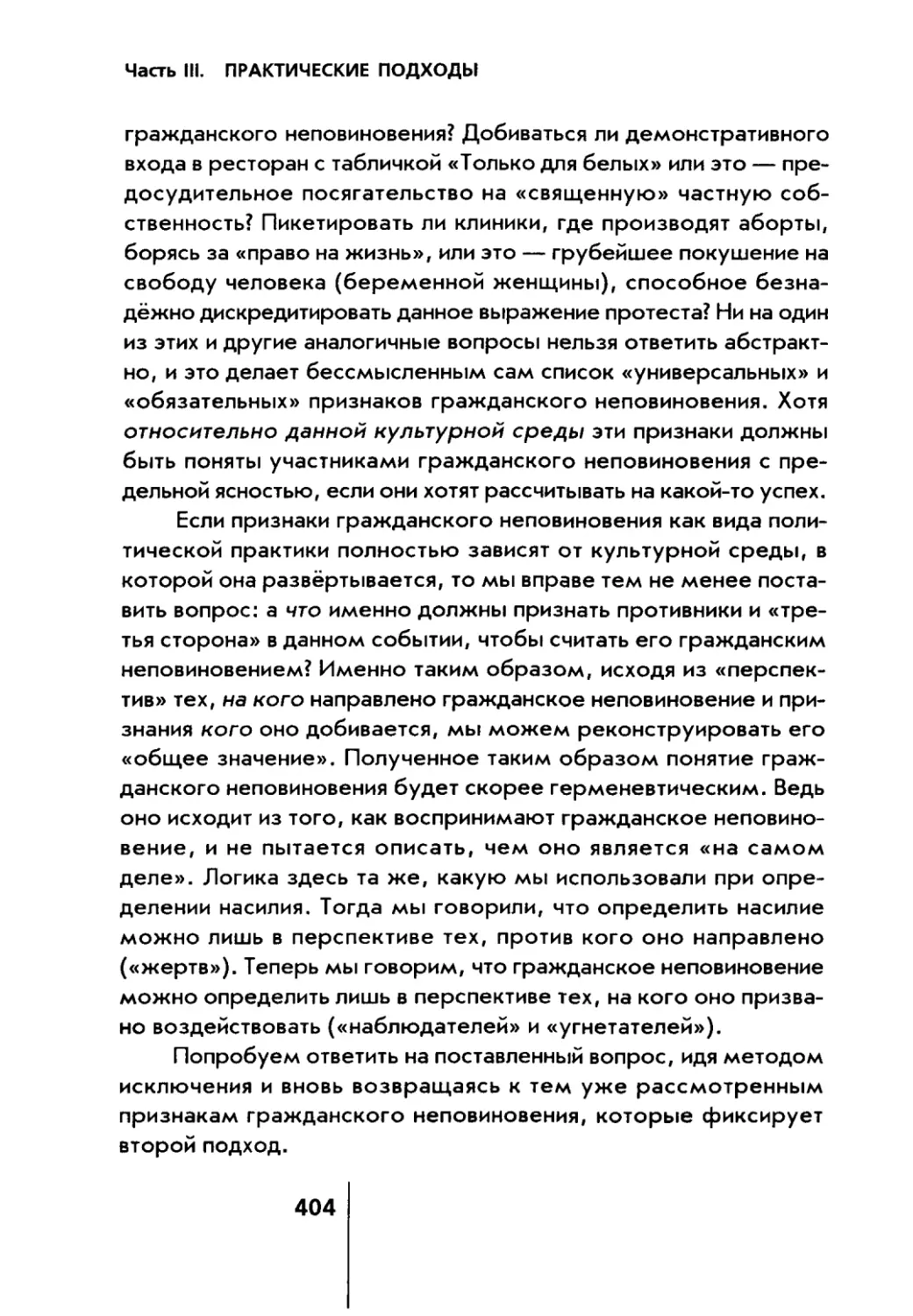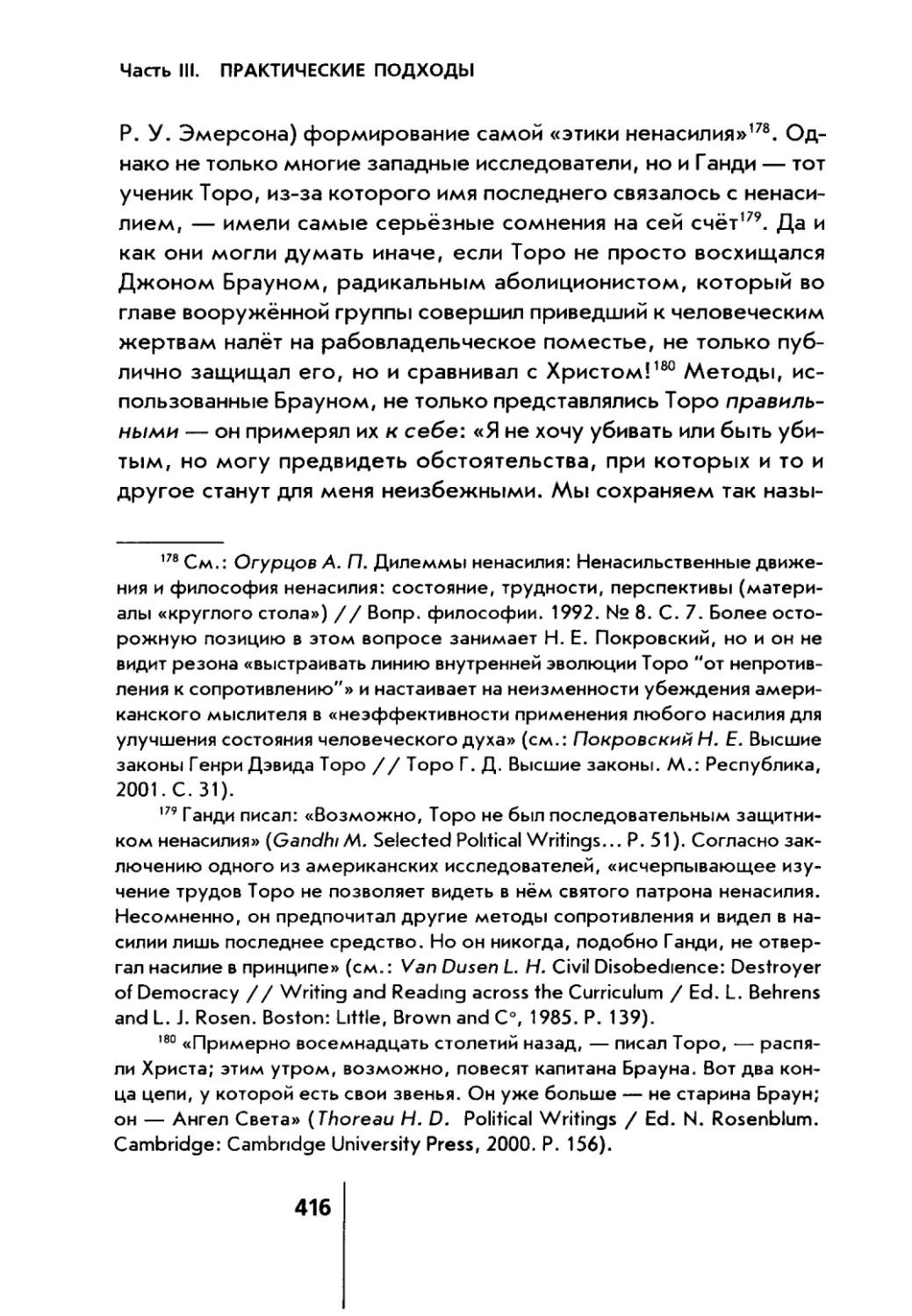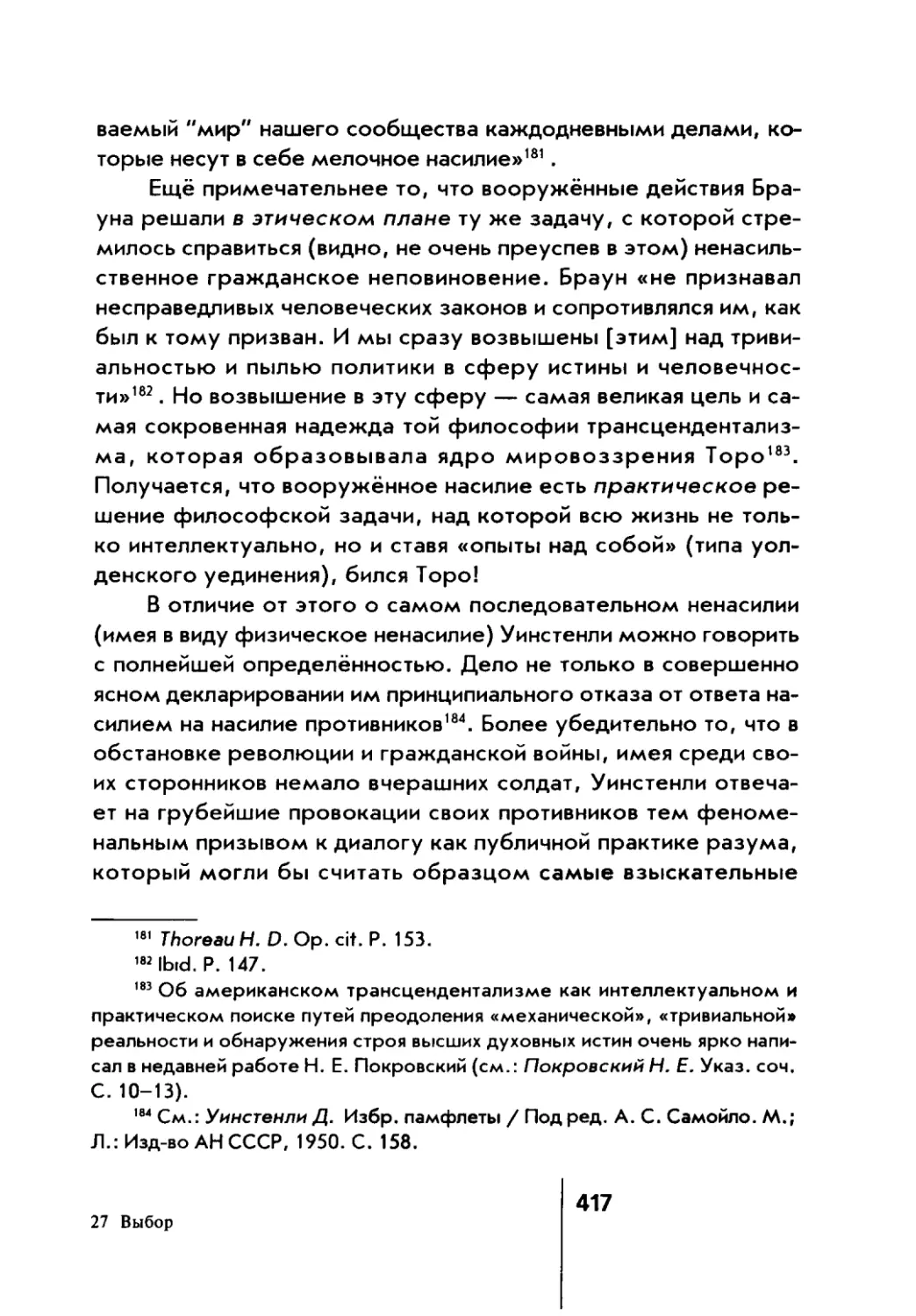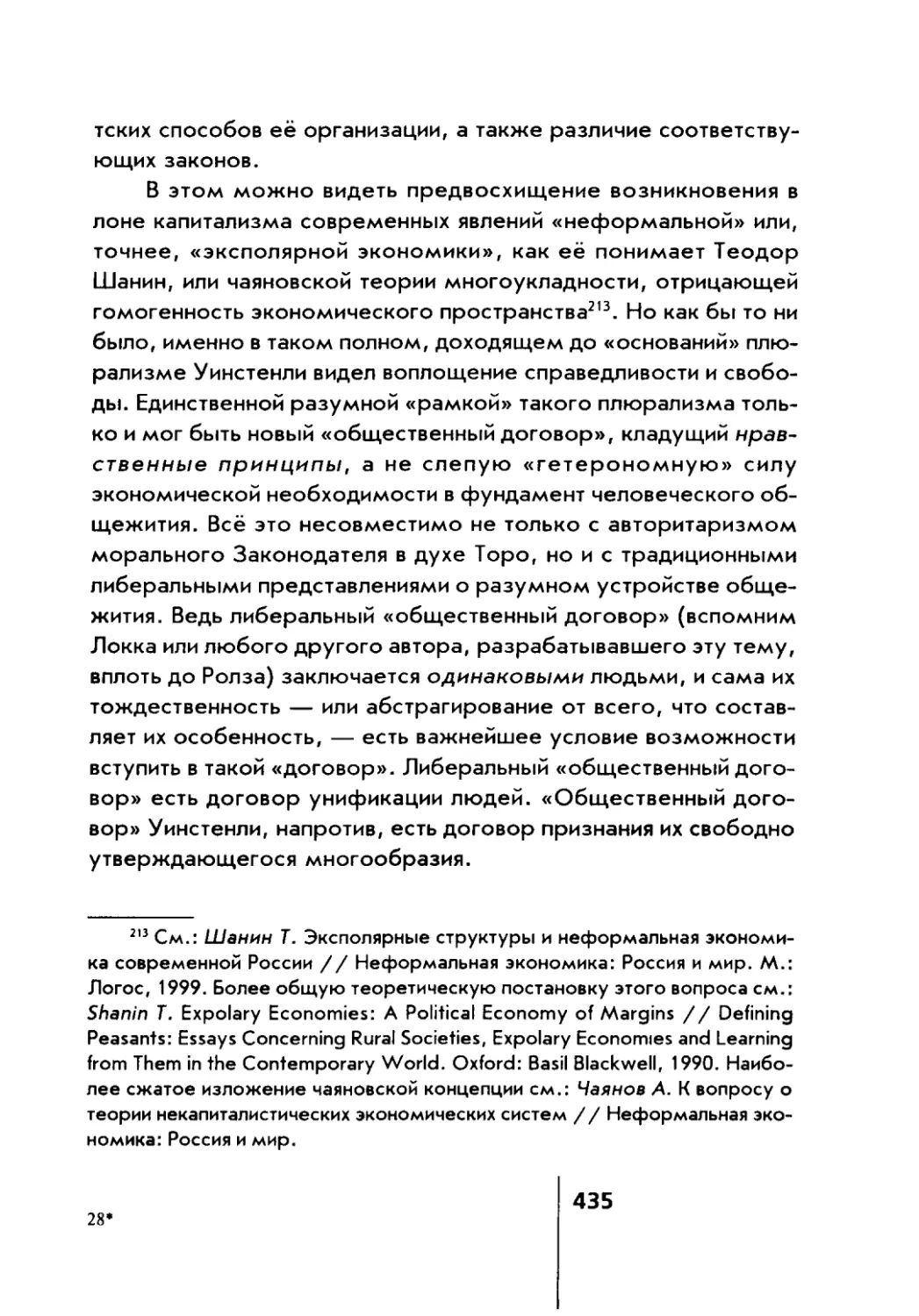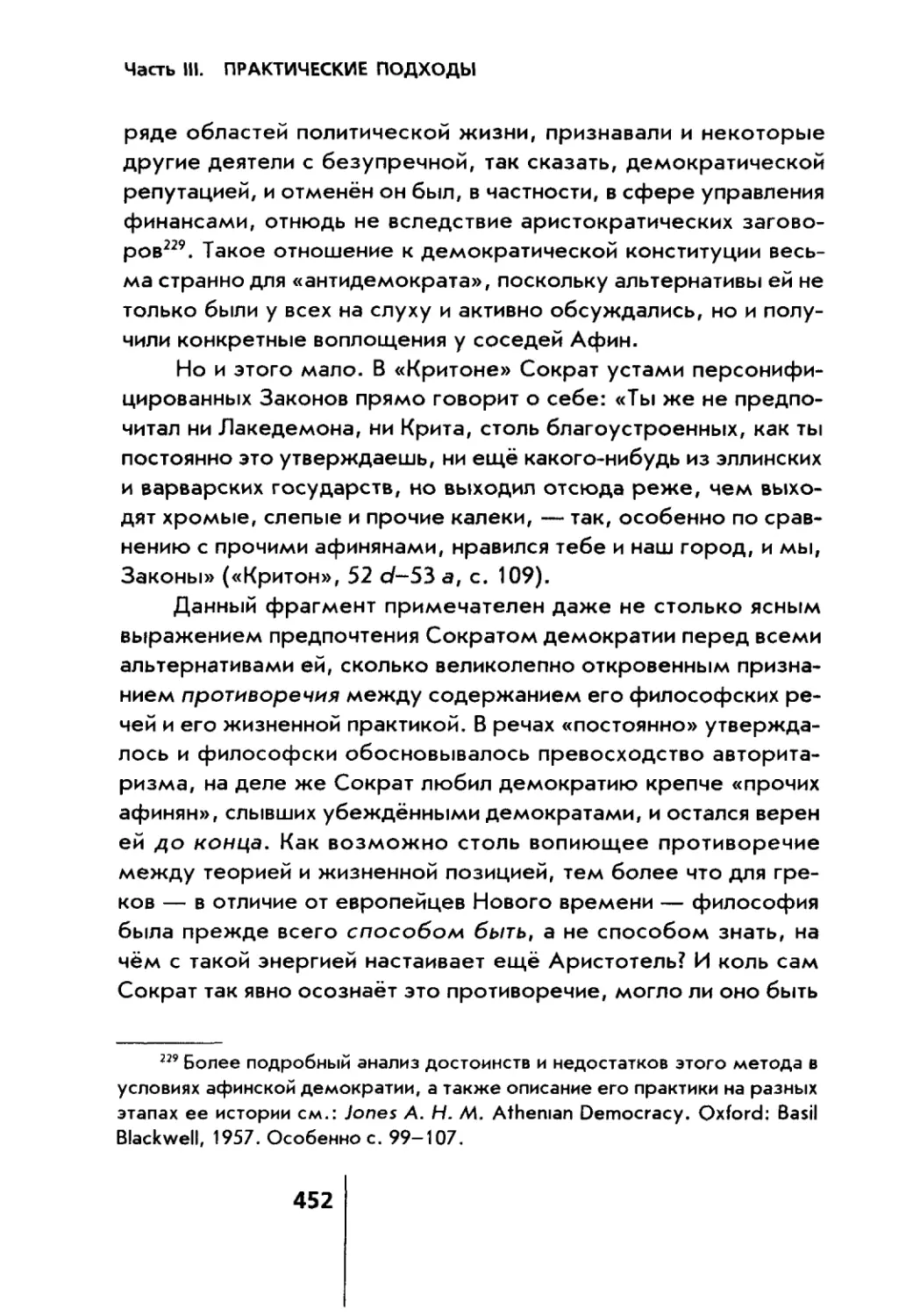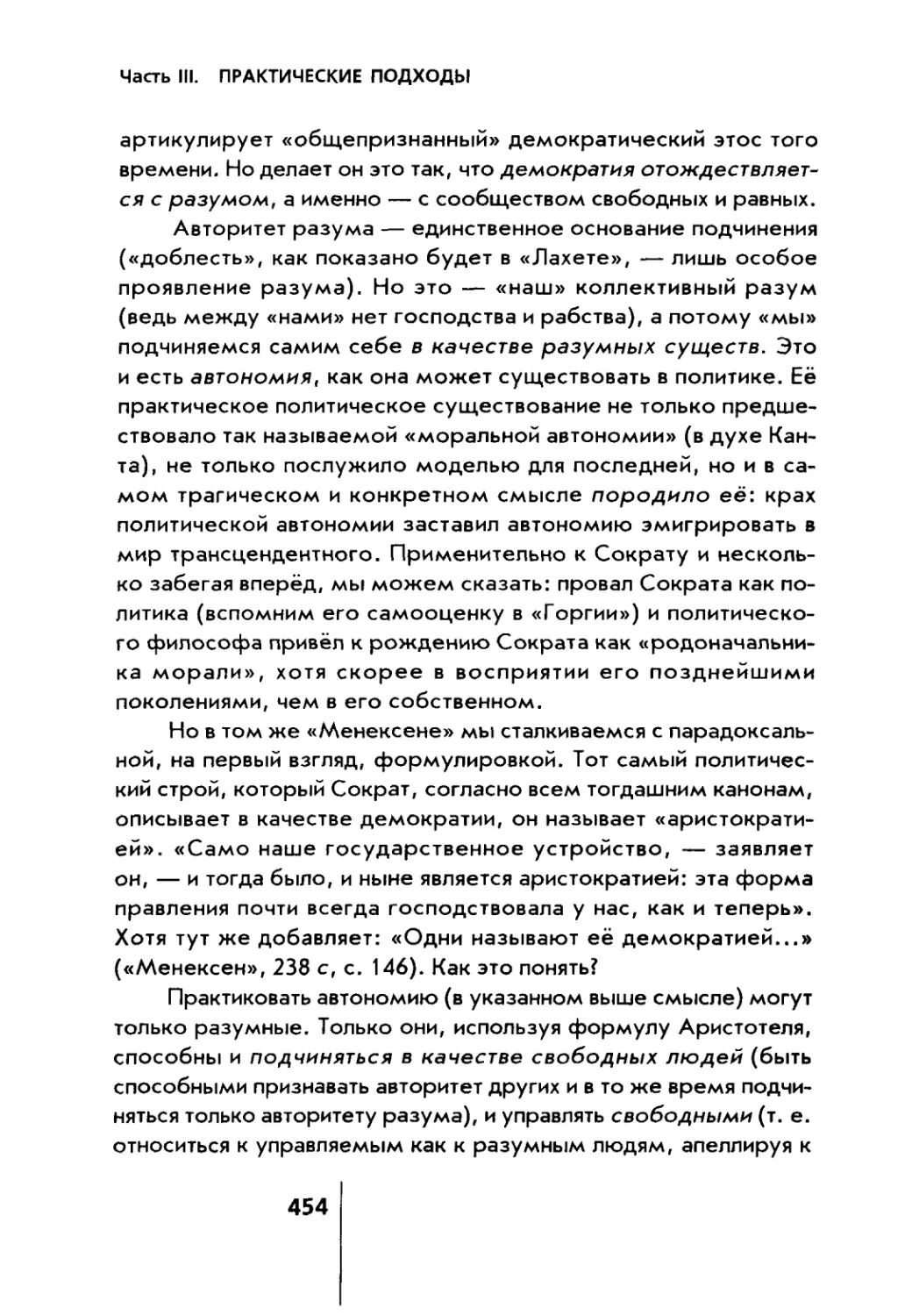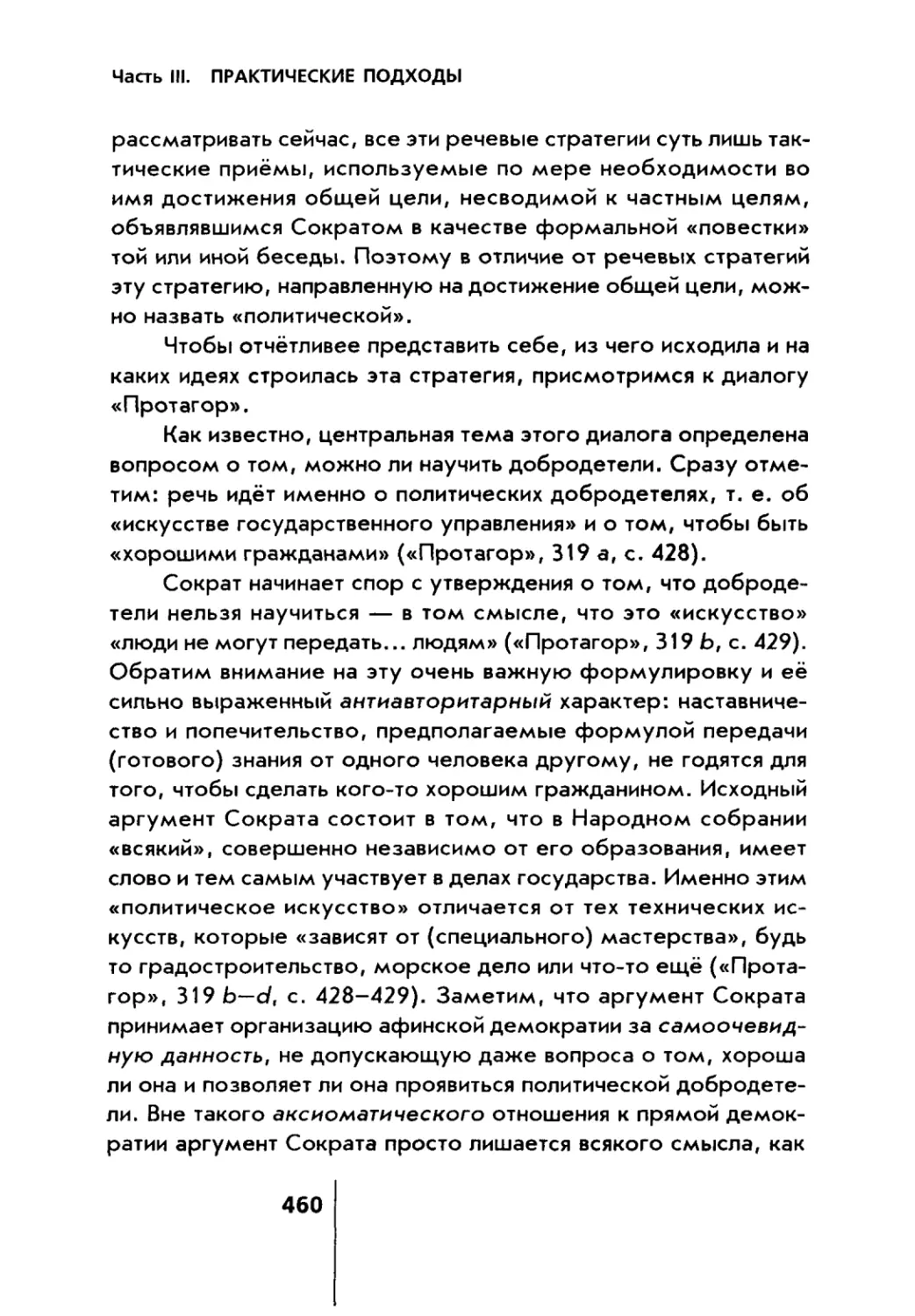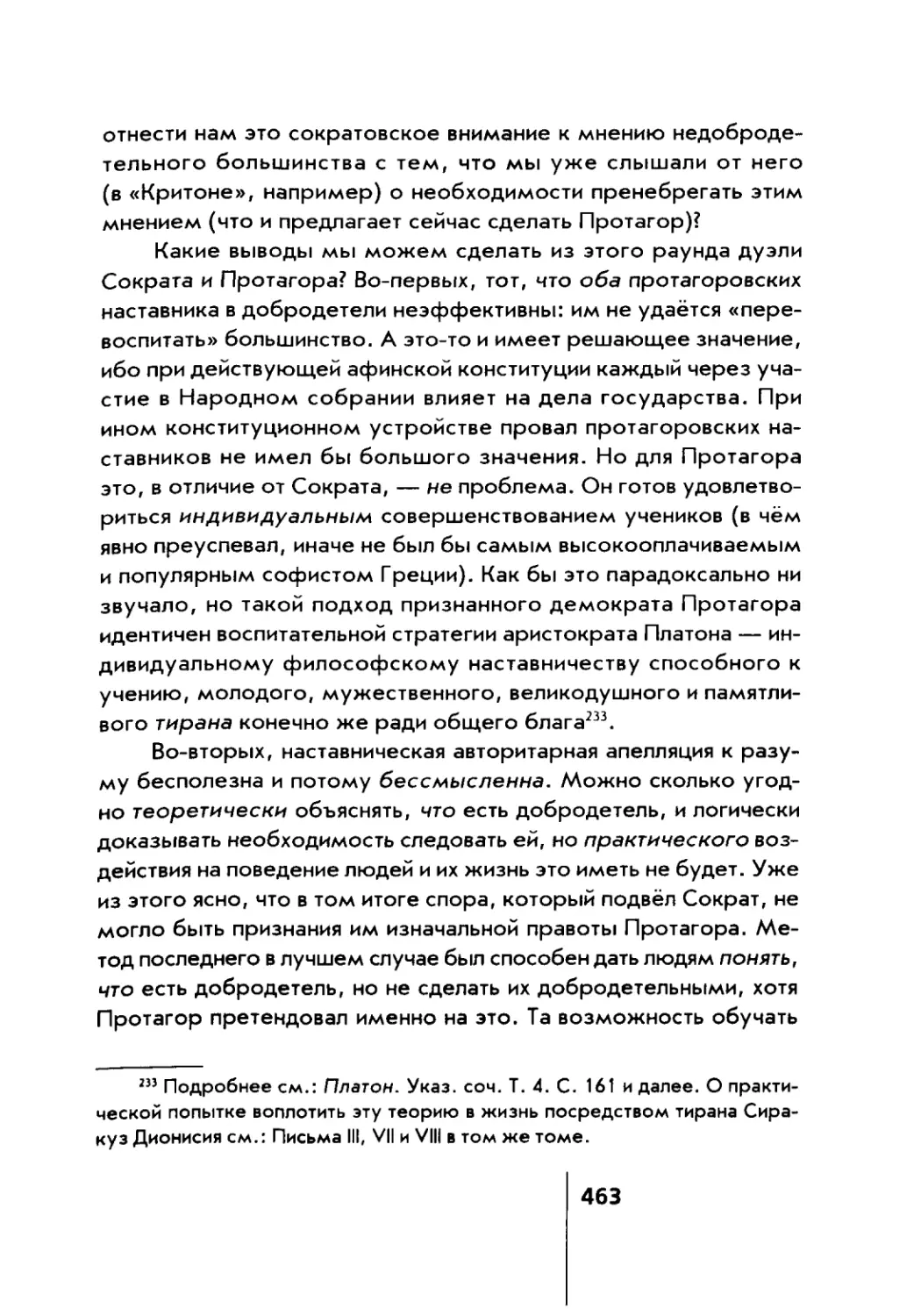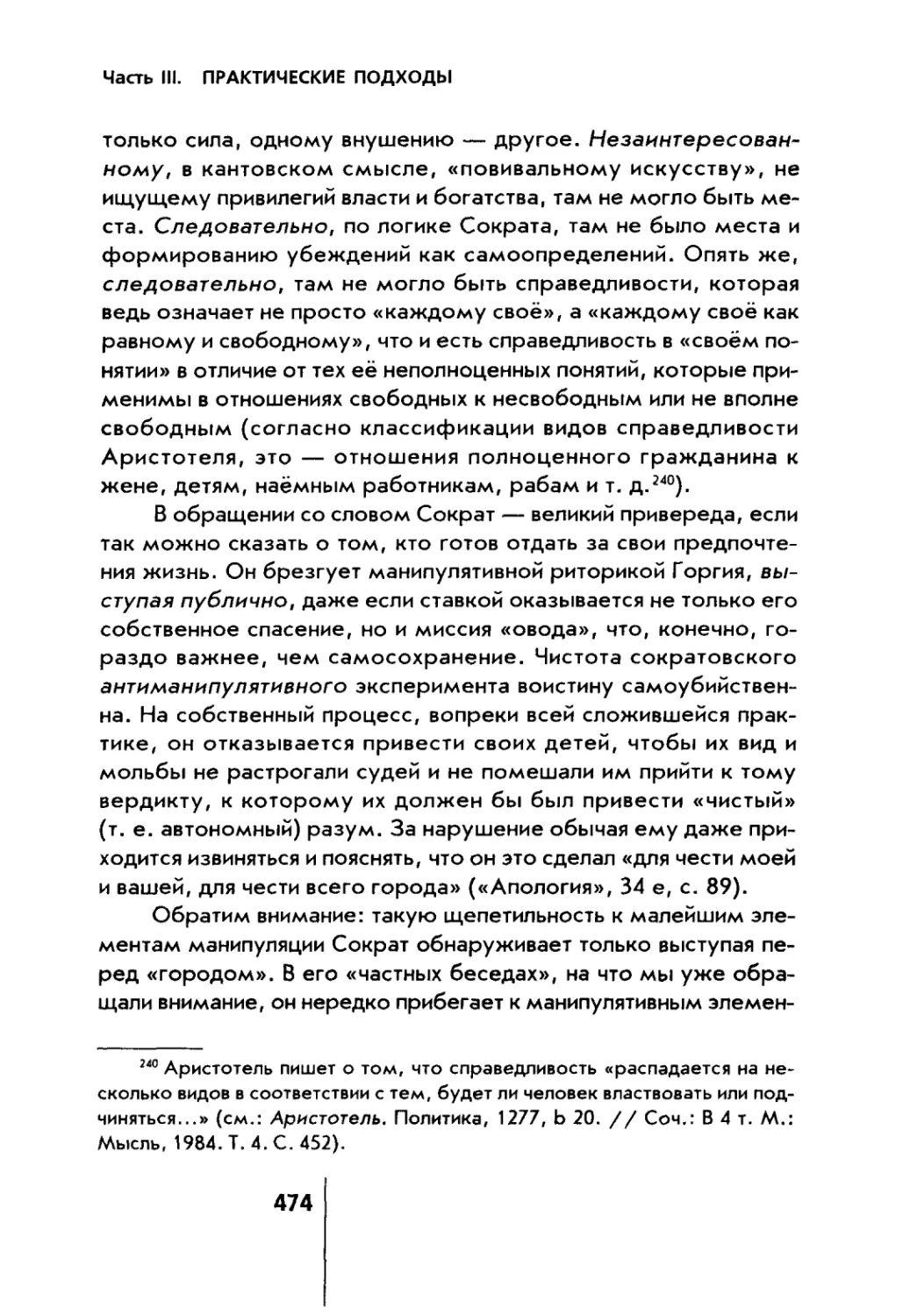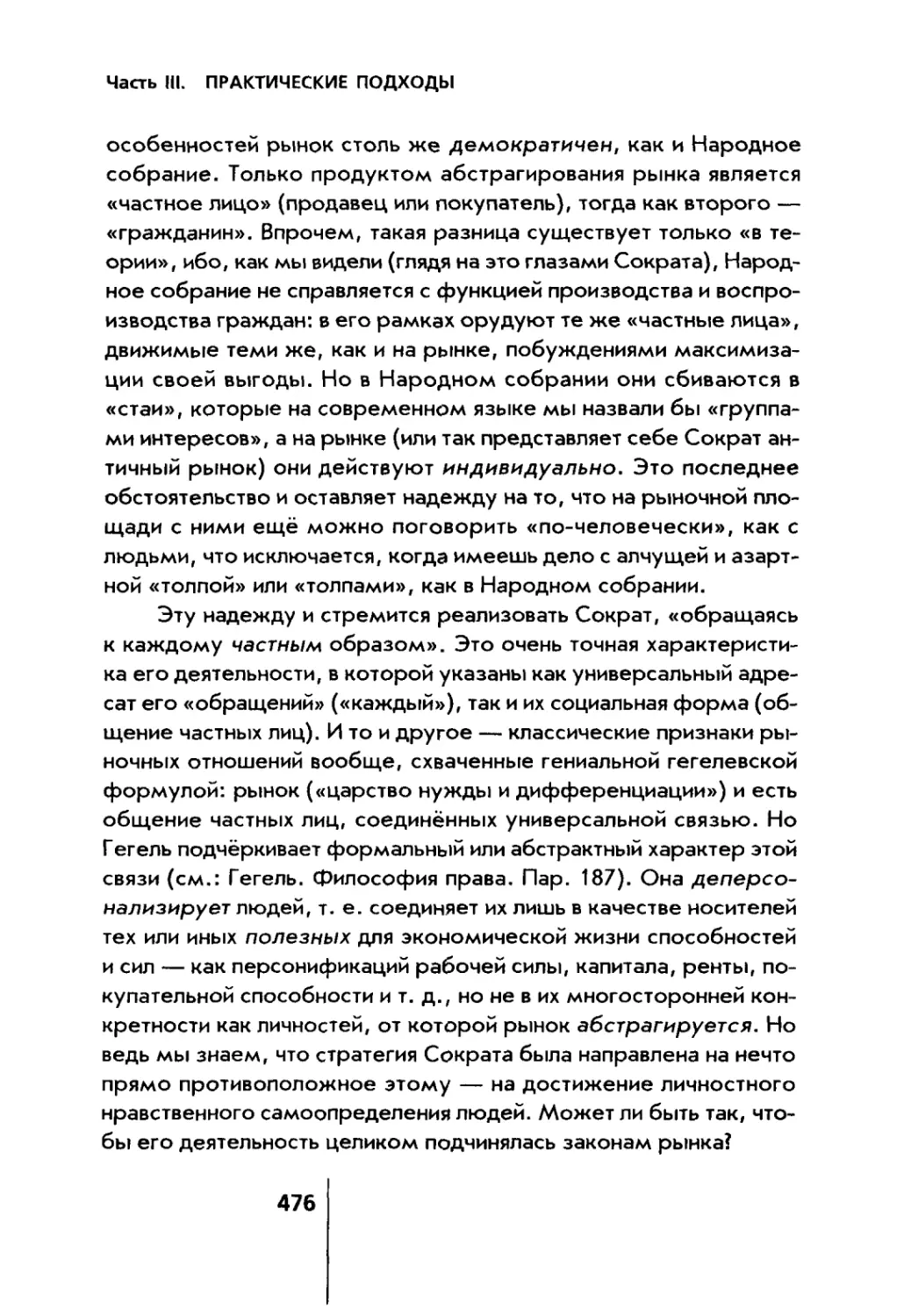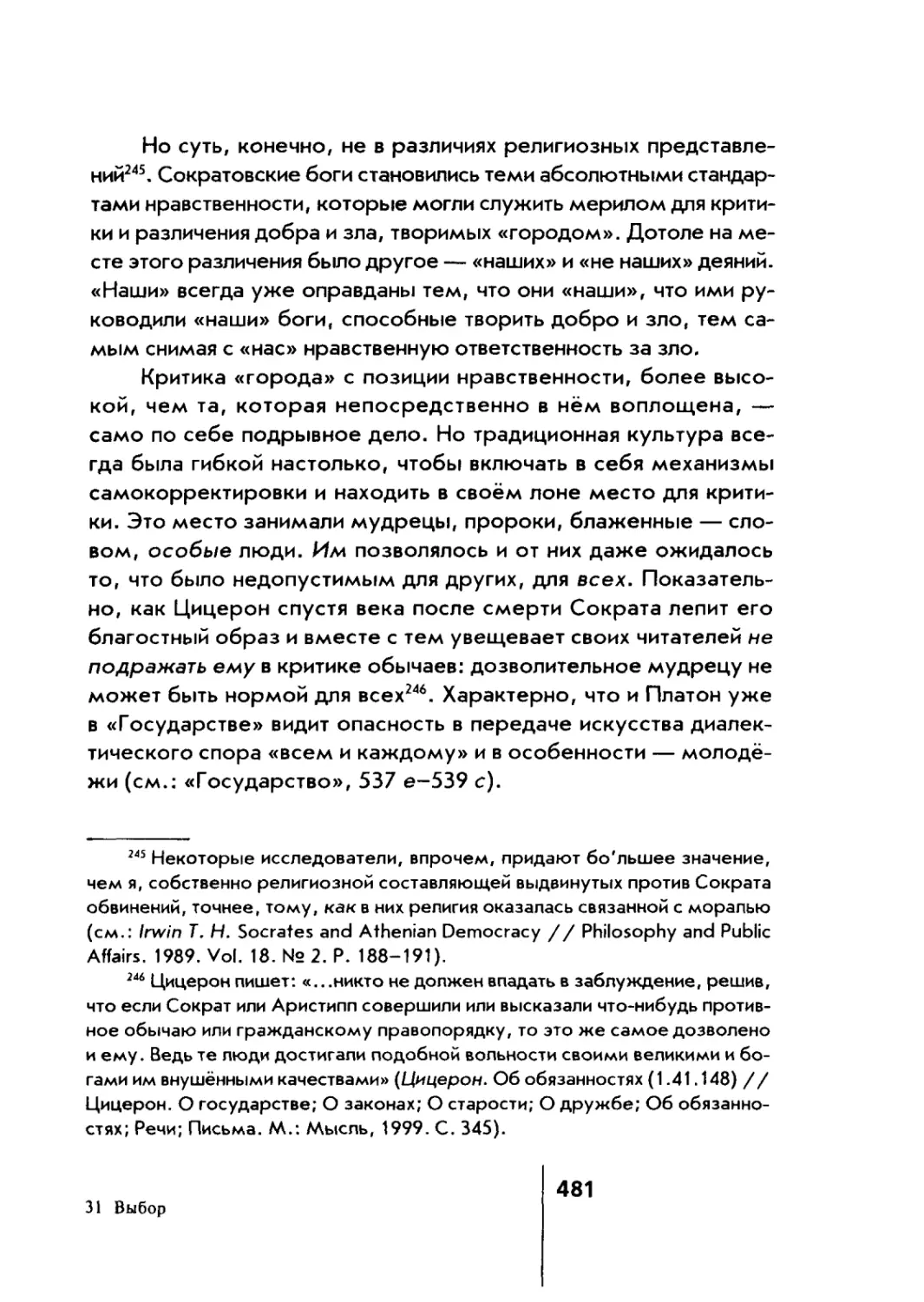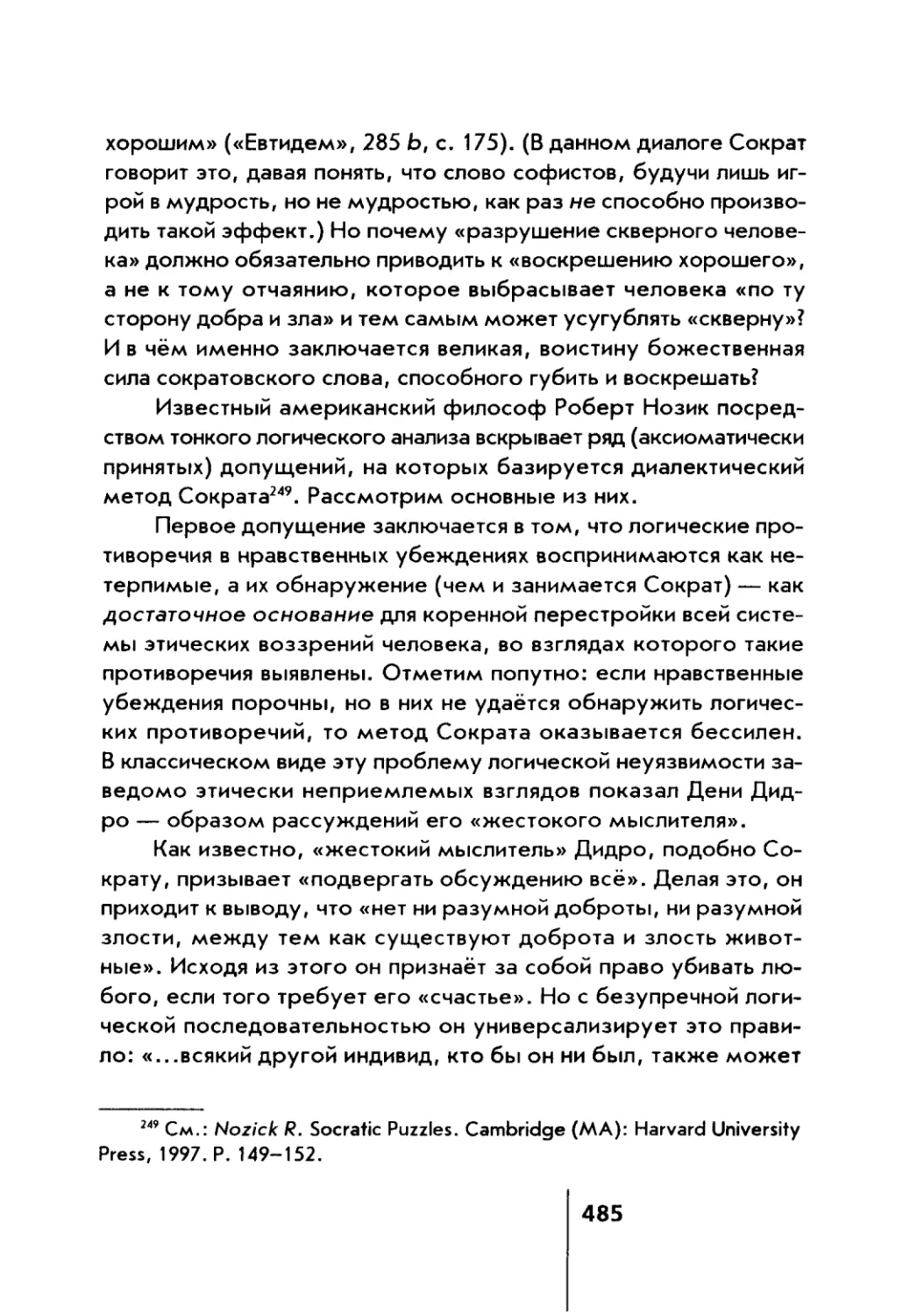Автор: Капустин Б.Г.
Теги: внутреннее положение внутренняя политика отдельных стран философия политология мораль
ISBN: 5-98227-003-2
Год: 2004
Текст
Г ШКОЛА
г
'СОЦИАЛЬНЫХ и
ЖОНОМИЧССКИХ НАУК
Национальный фонд
подготовки кадров
Политический разум и практика политики
Ίτ Ratio politicus et facinons civiles ^
Б. Г. К А П У С Т И Н
МОРАЛЬНЫЙ
ВЫБОР
В ПОЛИТИКЕ
Допущено Министерством образования РФ
в качестве учебного пособия
по дисциплине «Политология»
для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по гуманитарным специальностям
и направлениям подготовки
Издательство
Московского университета
УНИВЕРСИТЕТ
книжный дом
Москва 2004
ББК 66.3(4/8)я73
К 20
Рецензенты:
доктор философских наук, профессор Г. А. Алексеева
доктор философских наук, профессор Р. Г. Апресян
Капустин Б. Г.
К 20
Моральный выбор в политике. Учебное пособие. —
М.: КДУ: Изд-во МГУ, 2004. — 496 с. — (Политический разум и практика политики / Отв. ред. Б. Г. Капустин).
ISBN 5-98227-003-2 (КДУ)
ISBN 5-211-04884-9 (Изд-во МГУ)
Книга посвящена исследованию роли, которую мораль играет в
политике. В противовес морализаторскому, оценочному подходу к
политической жизни данное исследование фокусируется на том, какое значение имеет мораль для деятельности субъектов политики.
Формы, варианты, следствия включения морали в политику рассматриваются в историко-философском, теоретическом и практическом
планах. Центральное место в книге занимают проблемы соотношения
насилия и ненасилия, морального долга и политической целесообразности, неповиновения власти и нравственной ответственности. Указанные темы раскрываются в широком контексте классической и современной философской, политической и этической мысли.
Помимо самостоятельного значения, книга служит учебным
пособием по курсу «Мораль и политика» для студентов, магистрантов и аспирантов гуманитарных специальностей.
ББК66.3(4/8)я73
ISBN 5-98227-003-2 (КДУ)
ISBN 5-211-04884-9 (Изд-во МГУ)
© Издательство «КДУ», 2004
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
5
Часть I. Историко-философские подходы:
три случая применения морали к политике
Лекция 1.
Лекция 2.
Случай Сократа: столкновение морального
дискурса с политическим
25
Случай Бентама: утилитаристская мораль
и «большая» политика
45
Лекции 3-5. Случай Канта: моральное созерцание
и политическое действие
Лекция 3. Моральный долг и политический
конформизм
63
63
Лекция 4. Мораль созерцателя и мораль деятеля .... 81
Лекция 5. Ложь нравоучительности и практическая
логика политики
103
Часть II. Теоретические подходы:
сопряжение морали и политики
Лекция 6.
Причины и характер взаимозависимости политической и моральной теорий
123
Лекция 7.
«Вхождение» морали в политику: трудности и возможности
149
Лекция 8
Два способа отрыва политики от морали
и «утрата политического»
179
Лекция 9.
Следствия «утраты политического»
211
Лекция 10.
Политическая мораль
245
Часть III. Практические подходы:
сила и бессилие морали в политике
Лекции 11 — 12. К понятию политического насилия
Лекции 13-14. Фанон и Ганди: насилие и ненасилие
как этико-политическое действие
Лекция 15.
Гавел: политика как искусство
невозможного
Лекции 16-17. К понятию гражданского неповиновения
Лекция 18.
Торо и Уинстенли: моральные
и политические основания и границы
гражданского неповиновения
277
320
358
376
414
Лекции 19-21. Сократ: гражданское неповиновение
как нравственно-политическое служение .... 437
Лекция 19. Гражданское неповиновение
и «политический проект» Сократа
437
Лекция 20. Стратегия Сократа
459
Лекция 21. Политическое поражение Сократа и смысл
его гражданского неповиновения
480
ВВЕДЕНИЕ
В теоретическом плане суть проблематики данной книги можно передать формулировкой Томаса Гоббса — «естественные законы безмолвствуют в естественном состоянии»1. Что это значит?
«Естественные законы» — это законы морали. «Естественное
состояние» — внеполитическое существование людей. Гоббс полагает, что законы морали известны людям «всегда», ибо они даны
Богом. Они известны, но «безмолвствуют», т. е. отсутствуют как
регуляторы практической жизни людей. Мораль общеизвестна, но
практически бездействует и потому бесполезна — вот смысл приведённого высказывания Гоббса. И это же образует главную проблему его политической теории: каким образом можно «разговорить» эти «естественные законы» и сделать их действенной силой в
жизни людей? Известен и его принципиальный ответ на вопрос о том,
как прекратить «безмолвствование» законов морали: для этого необходимо политическое действие, направляемое коллективной волей и названное им заключением «общественного договора». Получается так, что не мораль руководит политикой или лежит в её «основании», а совсем наоборот: политика «актуализирует» мораль и
сообщает ей жизнь, тогда как до того она была лишь пустым мечтанием или беспомощным созерцательным «знанием» о «должном». Поэтому Гоббс считает, что «наука о морали человека как такового, взятого вне государственной организации (т. е. вне политики. — Б. К.), не может быть построена...»2.
1
Гоббс Т. О гражданине (гл. 5) // Гоббс Т. Избр. произв.: В 2 т. М.
Мысль, 1964. Т. 1.С. 343.
2
Гоббс Т. О человеке (гл. 13) // Там же. С. 261.
ВВЕДЕНИЕ
Мы не будем обсуждать вопросы о том, от Бога или из какого-то другого источника берутся представления людей о законах морали, являются ли они «естественными» или исторически возникшими. Мы даже не станем рассматривать законы морали в том ключе, в каком это делает теоретическая этика,
сосредоточивающаяся на их структуре, субординации, условиях
их мыслимости, присущих им или выраженных в них формах рациональности и т. д. Мы удовлетворимся гоббсовским допущением их известности людям и признанием за этими законами
способности — в определённых условиях — абсолютно («невзирая ни на что») обязывать нас поступать некоторым образом, воплощающим как бы универсальные принципы взаимоотношений между нравственно разумными существами.
Нас будет интересовать то, в каких условиях и благодаря чему
эти законы обретают такую действенность, которая необходима
для политики, более того, которая позволяет политике осуществляться. Иными словами, нас будет занимать то, как мораль работает в политике. Нам придётся заняться этим потому, что гоббсовская модель политической актуализации морали — производство
общественного договора разумной общей волей — сама, с нашей
точки зрения, недопустимо рационалистична. Наша гипотеза состоит в том, что к работе мораль побуждают некоторые политические проблемы или противоречия именно вследствие их неразрешимости посредством разума3, но в то же время они не могут
получить разрешения без их опосредования моралью, которая
обеспечивает абсолютное долженствование и целеполагание, выходящее «по ту сторону» наличной действительности. Нам нужно
будет понять то, каким образом мораль в политической жизни обретает свойство причинности, причём, говоря аристотелевским
3
Хорошим пояснением сказанного могут послужить противопоставление Бертраном де Жувенелем «научных проблем» «политическим» и его
вывод: «"Политической" проблему делает именно то, что условия [её постановки] не допускают решения в собственном смысле слова» // Jouvenel
В. de. The Pure Theory of Politics. Indianapolis: Liberty Fund, 2000. P. 268-269.
языком, — не только «формальной» (в плане смыслоорганизации
действия), но и «телеологической».
Именно фокусировка на работе морали в политике отличает гоббсовский политико-философский подход к вопросу о
связи морали и политики от того, который присущ теоретической этике как таковой. Последняя способна дать лишь оценивание тех или иных явлений политической жизни в качестве соответствующих или несоответствующих моральным принципам,
которые изображаются внешними и потусторонними по отношению к политике. Иначе и быть не может, ибо для теоретической этики моральные принципы исходят из «точки зрения вечности», тогда как политика всегда осуществляется в истории, в
некотором конкретном единстве «здесь и сейчас».
В более амбициозных проявлениях (как у Канта) теоретическая этика претендует на то, чтобы предписывать политике если
не содержание, то хотя бы границы допустимого и цели (в менее
амбициозных проявлениях она довольствуется лишь оцениванием
феноменов политики). Однако поскольку законы морали понимаются как нечто внешнее по отношению к политике и чуждое её
собственным механизмам, постольку упования на осуществление
моральных предписаний приходится возлагать на случайное — на
ту диковинную и неизвестно откуда берущуюся породу людей,
которую Кант называет «моральными политиками»4.
Никакая теория не может строиться на случайном, на том,
что всецело зависит от «игры природы» и стечения благоприятных обстоятельств. Поэтому теоретическая этика не в состоянии
создать теорию отношений морали и политики. Она неизбежно
остаётся в сфере теории моральной личности, которая лишь
наделяется атрибутами власти (непонятно откуда у неё взявшимися и как сохраняемыми в логике закономерностей политики) и
подставляется — под именем «морального политика» — на место содержательного анализа устройства и динамики политической
' Кант И. К вечному миру // Кант И. Соч. на немецком и русском
языках. М.: Kami, 1994. Т. 1. С. 435.
ШЕДШИ!
жизни. «Моральный политик» — всего лишь новоевропейский
застенчивый (т. е. морально чувствительный) парафраз платоновского «философа-царя», не имеющий для реального постижения политики ни на йоту большего значения, чем его классический предшественник.
Давид Юм, обнаруживая превосходное политическое чутьё,
подчёркивал: «Политические писатели в качестве максимы установили то, что при продумывании любой системы правления и определении конституционных сдержек и форм контроля в каждом
человеке нужно предполагать мошенника, не имеющего в своих
действиях никакой цели помимо частного интереса». Конечно, Юм
понимал, что честные люди в жизни встречаются, в том числе и
среди политиков. Но теория политики должна строиться не на исключениях, даже если они нередки, а на общих правилах, каковыми в политике выступает игра эгоизмов. Политика — именно о том,
как сделать так, чтобы эгоизмы служили «общему благу»5.
Приведённая юмовская «максима» важна для нас в следующем отношении. Мы не будем фокусировать общую теоретическую проблему отношений между моралью и политикой на частной
и малоинтересной для нас теме «мораль профессиональных поли5
Hume D. Of the Independency of Parliament // Hume D. Essays Moral,
Political and Literary / Ed. E. F. Miller. Indianapolis: Liberty Fund, 1985. P. 42
(первый курсив мой. — Б. К.). Канта тоже посещали прозрения относительно истинной природы политики, в частности, когда он писал о практическом
бессилии «всеобщей разумной воли» и о том, что проблема правового государства разрешима «даже для народа, который состоял бы из дьяволов»
(Кант И. Там же, с. 419). Но коли так, то, во-первых, к чему вообще разговоры о «моральных политиках», во-вторых, какое отношение мораль
имеет к «политике дьяволов»? Разница между Юмом и Кантом в данном
плане состоит в следующем. Из тезиса о всеобщем господстве эгоизма в
политике Юм делает вывод о необходимости для неё морали и находит
последней место в его системе политики. У Канта же тезис о господстве
эгоизма делает ненужной мораль, чему противостоит его же прямо противоположный тезис о том, что политика должна «склоняться» перед моралью. Разное понимание Кантом и Юмом самой морали мы пока оставим
без рассмотрения.
тиков». Эти отношения в качестве общей проблемы могут быть
рассмотрены только «снизу», а не «сверху», т. е. в виде проблемы моральной ориентации массовых действий людей в их общеполитическом определении как «граждан», а не в частном и специфическом определении как «профессиональных политиков».
В лекции 10 второй части книги мы постараемся раскрыть связь
между частными и особенными проявлениями отношений морали
и политики (включая то, что условно можно назвать «корпоративной этикой политиков»), с одной стороны, и сущностью этих отношений — с другой. Сущность же эту мы постараемся понять в её
универсальном значении, имея в виду под этим не то, что неизменно и присутствует всегда и везде, а то, к чему может приобщиться в некоторых обстоятельствах любой человек, независимо от его
профессиональных, статусных, тендерных и иных ролей.
Иными словами, нам нужно понять, каким образом (потенциально) любой человек может оказаться способным к морально
ориентированному политическому действию и что такое действие
даёт для политики. Только таким путём, имея дело с общим, а не
особенным, мы можем достичь политико-философского осмысления отношения морали и политики. Заметим попутно, что таким
же путём мы можем освободиться от сервильных по своей сути и
антидемократических упований на «моральных политиков» и их
«профессиональную этику» как единственных гарантов пристойности политики. Демократический пафос приведённого выше «циничного» суждения Юма о политиках заключается в том, что пристойность политики, т. е. её направленность на «общее благо», может
и должна быть обеспечена только нами, а не теми, в ком благоразумие всегда должно подозревать склонность к мошенничеству.
Но как это можем сделать «мы»? Ведь и в отношении себя
мы должны благоразумно предположить, что являемся эгоистами, в сущности, такими же, как политики, только лишёнными
их средств удовлетворять свои аппетиты. В «нас» мораль имеет столь же слабую опору в её противостоянии эгоизму, как и
в профессиональных политиках. Более того, «мы» сами — участники «политики удовлетворения аппетитов». В меру «наших»
9
ВВЕДЕН«
сил — посредством просьб, вымогательств, шантажа (в форме
той же угрозы не голосовать на следующих выборах за неугодного нам депутата), призывов к совести, риторики об «общих
интересах» или иным путём — мы тоже стараемся получить
«свою» долю общественного богатства.
Эту реальность политическая наука, претендующая на объективность как «свободу от ценностей», трактует в качестве подтверждения независимости политики от морали. Гениальное название
книги Гарольда Лассвелла — «Политика: кто получает что, когда,
как»6 — афористически выражает такое понимание политики.
Политика стала изображаться грандиозной бизнес-операцией, в
которой нации, классы, всевозможные «группы интересов»,
партийные деятели всяких рангов, тузы СМИ, законодатели, президенты и прочие бесконечно распределяют и перераспределяют
материальные и иные ресурсы, движимые характерной экономической мотивацией минимизировать издержки при максимизации
выгод. Эта деятельность отличается от той, которая считается типичной для рынка, разве что своими орудиями и технологиями —
рычагами государственной власти, законами, избирательными
процедурами, приёмами идеологического воздействия и т. д.
В книге, особенно во второй её части, будет показано, что
так называемый «реализм» такого понимания политики в действительности является идеализацией лишь одного её аспекта,
точнее, видимой поверхности политической жизни. Само существование этой поверхности и протекающая на ней игра эгоизмов обеспечены более глубокими структурами нравственности. Правила, которым подчиняются потому, что это выгодно, а
не потому, что так должно делать, не есть правила. Они оказываются в одном ряду с прочими фактами, способствующими
или препятствующими получению выгоды, и в качестве таковых
полностью зависят от расчёта выгоды («мной», «тобой»,
«ими») — вместо того, чтобы, возвышаясь над фактами, давать
6
Lasswell H. D. Politics: Who Gets What, When, How. N.Y.; L:
Wittlesey House, 1936.
10
условия и рамки таких расчётов. Строго говоря, без того, что
отличается от фактов и в своей «независимости» от них возвышается над ними, невозможны даже расчёты выгоды. Это — самая глубинная причина невыносимости «естественного состояния» Гоббса и в то же время — самое фундаментальное объяснение необходимости «актуализации» морали.
Над фактами возвышается долженствование. Нелепо думать, будто на его место может быть поставлено насилие или,
выражаясь более деликатно, право, обеспеченное силой принуждать (к его исполнению). Принуждающая сила, точнее,
группа, обеспечивающая принуждение других, сама нуждается в правилах своей жизни, действие которых не может быть
обеспечено принуждением. В этой логике Гегель пишет: «...хотя
государство также может возникнуть вследствие насилия, но
держится оно тем не менее не на нём... В государстве дух народа — нравы, законы — является господствующим началом»7.
Политическая философия отличается от объективистской
политической науки пониманием значения этих «господствующих
начал» нравственности в политике как таковой, даже той, которая
протекает, казалось бы, в полном соответствии с приведённой
выше лассвелловской формулой. Можно сказать и так: экономическая (точнее — «экономорфная») теория политики, сводящая
её к расчётливой игре эгоизмов, способна отразить только механику воспроизводства некоторого политического устройства —
без понимания того, как эта механика возникла и что позволяет
ей продолжать работать. Игнорирование этих «как» и «что», указывающих на «нравственное измерение» политической жизни,
приводит объективистскую политическую науку к той же утрате
реальности политики, какую мы отметили ранее, когда рассуждали о теоретической этике. Только теряют они реальность политики, двигаясь в разных направлениях.
Но в настоящей книге в центре внимания стоит не анализ того
долженствования, которое закреплено в «духе народа» и которое
7
Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. М.: Мысль, 1977.
Т. 3. С. 243.
11
ВВЕДЕНИЕ
дано каждому его члену в качестве (объективной) «нравственности» (по Гегелю) или этоса. На всём протяжении книги мы будем оставаться на «точке зрения субъекта», который — в определённых обстоятельствах — как бы заново, добровольно, исходя из своей индивидуальной рефлексии принимает на себя
долг совершать некоторые поступки. Именно сохранение этой
«точки зрения» заставляет нас говорить о роли морали в политике и, точнее, о моральном выборе в политике, а не о «политической этике» или чём-то другом, более тесно связанном с гегелевской «нравственностью».
Здесь нужно сделать некоторые, пусть предварительные,
уточнения понятий, центральных для данной книги, а также её
угла зрения на тот предмет, который мы назвали связью морали и политики.
Под (объективной) нравственностью, говоря кратко, следует понимать систему институтов, законов, норм и ценностей,
которая признаётся в данном обществе. Понятие «признания»
введено в данное определение для того, чтобы подчеркнуть то
единство объективного и субъективного, которое воплощено в
гегелевской концепции нравственности и которое делает её несводимой к «фактам» существования институтов, законов и прочего, как если бы они были способны существовать независимо
от отношения к ним «признающих» их людей8. Под моралью,
следуя краткому определению О. Г. Дробницкого, мы будем
понимать (за исключением специально оговорённых случаев)
«особую область человеческого духа — свободную волю и
стремление к благу, — противостоящую природной зависимости человека и составляющую его внутреннюю автономию»9.
8
Дидактически и методически великолепное изложение гегелевской
концепции нравственности см.: ХейдеЛ. Осуществление свободы: введение
в гегелевскую «Философию права». М.: Гнозис, 1995. Гл. 4. Пар. 1.
9
Дробницкий О. Г. Постановка проблемы. Понятие морали //
Дробницкий О. Г. Моральная философия: избр. труды. М.: Гардарики,
2002. С. 353.
12
Развёртывание этого определения морали выявляет следующие моменты, имеющие ключевое значение для нашего исследования её связи с политикой:
— мораль есть внутреннее убеждение субъекта, которое он
формирует в результате саморефлексии и которому он следует вне зависимости от меняющихся «эмпирических» обстоятельств его жизни, т. е. свободно по отношению к ним;
— в этом убеждении субъект как «особенное» соотносит себя
со «всеобщим», т. е. с тем, что выступает универсальным
правилом «для всех», и берёт это правило в качестве закона своей собственной сути;
— мораль, таким образом, есть воление единства «всеобщего» и «особенного», единства универсального правила «для
всех» и максимы «моего» и «твоего» поступка;
— такое единство предстаёт как требование, предъявляемое
себе и «миру», и выступает для субъекта в качестве долга;
— мораль как убеждение, воление, осознание и осуществление долга (моральное действование) есть сфера исключительной личной ответственности, которая не может быть
снята никакими «эмпирическими» обстоятельствами и соображениями;
— мораль как автономия (самозаконодательство в свободе и с
точки зрения «всеобщего») не может не быть критикой потенциально любой гетерономии, т. е. всех тех общественных институтов, установлений, процедур и т. д., которые
внешним образом детерминируют волю и не признаются ею
в качестве того, в чём она субъективно присутствует10.
10
Гегель пишет: «...точка зрения моральности есть по своей форме
право субъективной воли. Согласно этому праву, воля признает и есть нечто, лишь поскольку оно ее, поскольку она в нем есть для себя как субъективное» (Гегель Г. В. Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990. С. 155, пар.
107.). Дробницкий очень верно отмечает: моральное сознание есть «способ мышления нравственной личности, находящейся в конфликте с миром...» (Дробницкий О. Г. Указ. соч. С. 349).
13
ВВЕДЕНИЕ
Ясно, что мы говорим о кантианском понимании морали.
Противоположную ему утилитаристскую концепцию морали мы
будем затрагивать лишь эпизодически — в критике некоторых
принципов политической философии Бентама во второй лекции
первой части книги и более косвенно — в нескольких лекциях
второй части, в которых речь пойдёт об «экономорфных» теориях политики. Такая фокусировка на кантианской версии морали нуждается в пояснении.
Я далёк от мысли о том, что утилитаристская мораль не имеет значения для политики. Более того, действия, руководимые
принципом полезности, и в более грубом его понимании как эгоистического расчёта «выгод и убытков», характерном для «позднего» Бентама, и в том более возвышенном смысле ориентации на
«наибольшее счастье наибольшего числа людей» при предпочтении духовных благ телесным, которое пропагандировал Джон
Стюарт Милль", — своего рода «стихия» повседневной политики
(действия второго типа являются такой «стихией» явно в меньшей
мере, чем действия первого типа). Вопрос в том, в каком отношении к политике стоят кантианская и утилитаристская мораль.
Выдающийся английский политический философ Майкл Оукшот писал: «Политика не занимается всем или чем угодно из того,
что может прийти в голову человека в качестве желания или
[предмета] соперничества. Она занимается рассмотрением аргументов и правил, которые задают форму ассоциации людей»12.
Конечно, это — не вся политика, во всяком случае, как мы её
обычно понимаем. Можно сказать, что политика, осуществляющаяся согласно лассвелловской формуле «кто получает что, когда, как», протекает в рамках заданной формы ассоциации. Лишь
в редких случаях и «непреднамеренно» — крайними проявлениями своей дисфункциональности — она заставляет людей за11
См.: MHU. S. Utilitarianism // Mill J. S. Utilitarianism, Liberty, Representative
Government / Ed. H. B. Acton. L: J. M. Dent & Sons, 1972. P. 7 ff.
12
Oakeshott M. Talking Politics // The National Review Forum.
December 5.1975. P. 1345.
14
думываться о целесообразности сохранения данной формы и об
альтернативах ей. В этом смысле её можно назвать «политикой
статус-кво», или «малой» политикой. В книге будет показано, что
в рамках данной политики утилитаристская мораль имеет гораздо большее значение, чем кантианская, за которой остаются, так
сказать, второстепенные и вспомогательные функции.
Тем не менее я полагаю, что Оукшот прав в отождествлении
политики с той деятельностью, которая задаёт форму ассоциации
людей, а не только воспроизводит её. Эту форму задаёт «трансформационная», или «большая», политика. Поскольку она создаёт те «правила игры», которые служат форматом «малой» политики с доминирующей в ней утилитаристской моралью, постольку
можно сказать, что «большая» политика относится к «малой» так
же, как спинозовские na/ига naturans (природа порождающая) к
natura naturata (природа порождённая)13. В этой аналогии с рассуждением Спинозы для нас важно прежде всего то, что natura
naturans, как и «большая» политика, выступает «свободной причиной», существующей сама по себе и объясняемой из себя самой,
тогда как natura naturata, подобно «малой» политике, оказывается производной, обусловленной тем, что её породило, а потому
несвободной (Кант назовёт эту несвободную причинность «естественной необходимостью»111 ), а потому и объяснимой не из себя
самой, а из порождающей её «свободной причины».
Это означает, что политику в её «истине», в соответствии с
её «понятием» можно изучить лишь рассматривая «большую»
политику, сколь бы редкими событиями она ни разражалась в
истории. «Малая» политика есть лишь рутинизация «большой»,
её «превращение» и «явление» в состоянии покоя. По сути, она
есть администрирование и управление, поскольку мы его отличаем от коллективного исторического творчества, которое и
13
См.: Спиноза Б. Этика (1, 29) // Спиноза Б. Избр. произв. М.: Госполитиздат, 1957. Т. 1. С. 387-388.
14
См.: Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей
появиться как наука//Кант И. Соч.: В 6 т. М.: Мысль, 1965. Т. 4. Ч. 1.С. 166.
15
ВВЕДЕНИЕ
есть «большая» политика. Схожим образом различает политику и управление и Оукшот15.
Проводя аналогию между «большой» политикой и па/ига
naturans, мы уже использовали для описания её признаков некоторые из понятий, составляющих костяк кантианской версии морали. Мы говорили о присущей ей «свободной причинности», о
её необъяснимости из суммы внешних обстоятельств и фактов
(скажем, предшествующей «малой политики»), которые Кант
назвал бы «посторонними причинами» и «гетерономией», о её
способности давать людям универсальные законы, т. е. форму
их ассоциации. (Не будем сейчас останавливаться на том, что
Кант имел в виду априорные и вечные универсальные законы, а
мы — в связи с «большой» политикой — можем вести речь только об исторически конкретных законах, универсальных для данной ассоциации людей.)
Не будем заходить на основе этой аналогии слишком далеко и представлять мораль эффективной причиной «большой»
политики. Однако речь может идти, используя терминологию
Макса Вебера, об «избирательном сродстве» «большой» политики и кантианской морали16. На уровне мотивации действий, образующих «большую» политику, эта мораль скорее, чем другие способы мышления, обеспечит выбор в пользу готовности
во имя свободы как таковой и вопреки всем советам благоразумной расчётливости «идти до конца». При этом свобода сама
становится телеологической «свободной причинностью». «Тот,
кто ищет в свободе что-либо иное, кроме её самой, — писал
Алексис де Токвиль, — создан для рабства»17. Это написано в
15
См.: OakeshottM. Morality and Politics in Modern Europe: The Harvard
Lectures / Ed. S. R. Letwin. New Haven (CT); L: Yale University Press, 1993. P. 8.
" О веберовской концепции «избирательного сродства» см.:
Gerth H. H. and Mills С. W. Introduction: The Man and His Work // From Max
Weber / Ed. H. H. Gerth and C. Wright Mills. N.Y.: Oxford University Press,
1981. P. 62-63.
17
Токвиль А. де. Старый порядок и революция. M.: Московский философский фонд, 1997. С. 135.
16
книге о Великой французской революции. «Большая» политика
не делается рабами — не в юридическом, а в нравственном
смысле этого понятия, т. е. «рабами гетерономии».
В этом — глубинное проявление связи кантианской морали и
«большой» политики, и именно его мы будем исследовать в данной книге. Но будем делать это не столько «по Канту», сколько
«против Канта». Ведь описанная Кантом мораль остаётся точкой
зрения созерцателей и наблюдателей, а освободиться от «рабства
гетерономии», превратить мораль в движущую силу поступка способен только участник драмы жизни и драмы борьбы. Только он
может «разговорить» моральные законы и на практике — в отличие от мистификации «общественного договора» — разрешить
гоббсовскую загадку политической актуализации морали.
Итак, в центре нашего исследования — моральный выбор в
политике. Но мы будем изучать его теоретически, а не эмпирически, методами политической философии, а не исторической
науки. Это значит, что мы не станем сосредоточиваться на описании конкретных ситуаций и тех или иных политических действий,
отслеживая, каким образом в них проявлялись перипетии мышления их участников и их моральные суждения, в частности и в
особенности. Нас будут интересовать скорее общие условия
осуществления морального выбора в политике, его собственная
логика, поскольку он представляет собой не априорное умозаключение вечно-неизменного «практического разума», а способ
самоопределения в кризисной и конфликтной ситуации в перспективе её «реконструкции»18, а также его значение для организации и проведения политического действия.
18
Я беру понятие «реконструкции» в том общем значении, которое
ему придавал Джон Дьюи, связывавший его прежде всего с «умственным
переопределением» ставшей проблемной ситуации, а затем — практическим, «экспериментальным» изменением отношений между её «конфликтующими» элементами (см.: Dewey I. Studies in Logical Theory // The
Middle Works of John Dewey, 1899-1924. Vol. 2. Carbondale (IL): Southern
Illinois University Press, 1976. P. 328—330). Я готов принять и ту роль, которую Дьюи отводит морали в «реконструкции» проблемной ситуации: «Мо-
2 Выбор
17
ВВЕДЕНИЕ
Мы начнём с того, что в первой части книги на историкофилософском материале рассмотрим «классическую», или
традиционную, постановку вопроса о связи морали и политики,
взятых как два разных мира, в принципе существующих независимо друг от друга, но могущих как бы пересекаться. Мы постараемся выявить неадекватность такого подхода, равно как и
ложность растворения политики и морали в благоразумной расчётливости, что характерно для утилитаризма19. Цель первой
части — рельефное представление проблемы связи морали и
политики и показ тех трудностей, которые возникают в рамках
традиционных подходов к ней.
Ближайшая цель второй части книги — рассмотреть современные метаморфозы этих традиционных подходов, которые
мы назовём «морализаторскими» и «экономорфными» концепциями политики, и показать их фундаментальную аполитичность. Но в стратегическом плане нам важнее другое: выявить
реальные трудности практического (на уровне политических
действий) сопряжения морали и политики в условиях современного, и прежде всего западного, мира, а также те формы и способы, в которых и благодаря которым мораль и политика всё же
могут сопрягаться в политической практике.
ральная ситуация — это ситуация, в которой суждение и выбор предшествуют открытому действию. Практический смысл ситуации — т. е. действие,
необходимое для её разрешения, — не является самоочевидным. Его необходимо отыскать» (Дьюи Д. Реконструкция в философии. М.: Логос,
2001 .С. 131). Однако я не согласен со сциентистским подходом Дьюи к
«реконструкции» и с тем, что «бремя морального решения» он переносит
с нравственно-разумной воли на познающий интеллект и даже «научное
мышление» (см. там же).
19
Как писал Иеремия Бентам, «те, кто для примирения хотят различать
политику и мораль и принять принципом для первой пользу, а для второй
справедливость, только обнаруживают смутные понятия. Всё различие
между политикой и моралью — то, что одна руководит действиями правительств, другая — поступками отдельных лиц, но цель их одна и та же —
счастье» (Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. М.: РОССПЭН, 1998. С. 31).
18
Таким образом, в первой и второй частях книги мы будем
смотреть на связь морали и политики сквозь призму теории —
политико-философской и политико-научной. В третьей части,
хотя и в ней присутствуют теоретические пояснения, призма меняется: мы взглянем на эту связь сквозь то, что, следуя изречению Ганди, назвали «посланиями жизни». «Послания жизни» написаны реальными участниками политики, а не её философскими и научными созерцателями. Рассматриваемые нами
«послания жизни» — не дневники или исповеди, а тексты, также
представляющие собою своего рода теоретические обобщения
или нравственное осмысление некоторых конкретных событий.
И тем не менее точка зрения деятеля позволяет увидеть работу морали в политике в ином ракурсе и в ином свете, чем точка зрения теоретизирующего наблюдателя.
Бессмысленно ставить вопрос о том, какая из них является
более ценной или продуктивной для постижения связи морали и
политики. Они дают доступ к разным типам достоверности.
Точка зрения теоретизирующего наблюдателя позволяет увидеть то, что может или чего не может делать мораль в политике. Точка зрения участника раскрывает то, что делает мораль
в политике, даже когда она делает то, чего теоретически не
должна бы делать, или наоборот: не делает того, что должна
была бы — по теоретическим представлениям — делать. Только с точки зрения деятеля политика может быть определена как
«искусство невозможного» и «мораль в действии». Так её определяет один из персонажей третьей части данной книги Вацлав
Гавел20. И он прав относительно той ситуации, участником которой являлся, как будет прав и теоретизирующий наблюдатель,
отказывающийся принять эти формулировки в качестве «общих»
определений политики или её отношения к морали.
Достоверность наблюдателя — факты, нечто уже ставшее,
уже опредмеченная деятельность. Гегель прав: «...философия
30
Havel V. The Art of the Impossible: Politics as Morality in Practice. N.Y.:
Fromm International, 1998. P. 8ff.
19
ВВЕДЕНИЕ
всегда приходит слишком поздно. В качестве мысли о мире она
появляется лишь после того, как действительность закончила
процесс своего формирования и достигла своего завершения».
О том, что может, а чего не может быть, что можно, а чего
нельзя делать, она, как и наука, способна судить лишь по меркам
соответствия этого существующим фактам. О том же, что должно быть, они в состоянии говорить лишь в форме пустого поучения. Гегель резонно советовал всякой серьёзной философии
остерегаться давать такие поучения2'. Поэтому и для философии,
и для науки, поскольку они работают с общими понятиями, политика будет именно «искусством возможного» — в рамках возможности её соответствия фактам, а мораль окажется не действием, а лишь созерцанием и оценкой тех же фактов.
Достоверность деятеля — его собственная воля и движимое ею становление, способное превращать должное, поскольку оно становится заданием, в факты, а факты — в условия их отрицания. Общая форма мышления деятеля — не философия, «всегда приходящая слишком поздно», а утопия,
всегда приходящая слишком рано. Но она приходит слишком
рано лишь по меркам фактов. Пришла ли данная утопия рано
или своевременно по меркам становления, зависит лишь от
того, стоит ли за ней достаточная коллективная сила, чтобы изменить с её помощью наличное бытие (претворения утопии в
жизнь не бывает никогда, впрочем, так же, как и самых научных программ общественных перемен). Моральное сознание — с его требованием автономии и «царства целей», с его
отрицанием фактов во имя должного — утопично по определению. Выражается ли оно в пустом поучении или в установках, организующих и направляющих практическое действие,
зависит от наличия силы, которая делает его своим духовнопрактическим отношением к миру.
Какая точка зрения на связь морали и политики — созерцателя или деятеля — истинна? Поскольку «истина» в отноше21
См.: Гегель Г. В. Ф. Философия права (Предисловие). С. 55-56.
20
нии дел человеческих — в отличие от истины в отношении природы — зависит от того, как делаются эти дела, постольку рассудить созерцателя и деятеля может только соотношение сил:
тех, которые поддерживают действительность в состоянии, как
если бы она «закончила процесс своего формирования», и
других, стремящихся сообщить ей динамику становления. Но
этим точкам зрения полезно знать друг друга: одной — чтобы
обогатить своё знание о процессе формирования действительности, когда на данном этапе он в самом деле закончится,
другой — чтобы отчётливее и глубже понимать себя с помощью отшлифованной культуры созерцательной мысли и чтобы
яснее представлять, какие барьеры придётся преодолевать
воле к становлению. В этом — смысл показа обеих точек зрения в данной книге.
В книге нет формального заключения. В той мере, в какой
я готов был его дать, — на уровне углублённой формулировки
проблемы, а не её решений, посредством показа возможности сопрягать мораль и политику в самых безнадёжных ситуациях, а не формулировки универсально верных предписаний, как
это делается, — заключением можно считать три последние
лекции о гражданском неповиновении Сократа. Но право делать подлинное заключение, каким — в случае обсуждения
тем, подобных данной, — может быть не только теоретический вывод, но и «экзистенциальное» решение, должно быть оставлено за читателем.
Я признателен многим людям, помощь и сотрудничество
которых сделали издание этой книги возможным. С ними я хотел
бы поделиться тем, что в ней есть заслуживающего внимание, оставив себе все её недостатки и огрехи. Упомяну лишь немногих,
тех, кому по разным причинам я обязан в первую очередь.
Йен Шапиро (Йельский университет) был тем человеком, в
разговорах с которым ещё в середине 1990-х годов родилась
сама идея лекционного курса, а затем — книги, посвящённой
политико-философскому рассмотрению морального выбора в
политике. На более позднем этапе работы беседы с Шейлой
21
ВВЕДЕНИЕ
Бенхабиб и участие в работе руководимого ею семинара в
Йельском университете позволили мне многое уточнить в собственной позиции, не говоря уже об историко-философском
контексте моей темы. Майклу Уолцеру (Принстон), Брюсу Аккерману (Йель) и Стивену Фишу (Беркли) я обязан тем, что стал
ощущать объёмность и, по сути, междисциплинарность поднятой мной темы, сколь бы скромное воплощение это ощущение
ни получило в данной книге.
Из российских коллег я благодарен всем участникам семинара «Мораль — политика — власть», работавшего в 2001 —
2002 годах на базе Московской высшей школы социальных и
экономических наук, и мастерской по политической философии, организованной журналом «Полис» при поддержке Фонда Форда. Происходившие в их рамках дискуссии были действительно отличной теоретической школой, а для меня лично — и
лабораторией испытания складывавшихся в эту книгу идей. Рубену Апресяну, Вадиму Межуеву, Игорю Пантину, Алексею
Руткевичу (ИФ РАН), Александру Соловьёву (МГУ), Михаилу
Ильину, Татьяне Алексеевой (МГИМО), Нуру Кирабаеву
(РУДН), Александру Филиппову, Никите Покровскому (ВШЭ),
Теодору Шанину, Татьяне Ворожейкиной (МВШСЭН) я глубоко
признателен не только за удовольствие долгих бесед, но и за ту
щедрость, с которой они делились со мной богатством своих
мыслей, исследовательского и жизненного опыта. Их замечания
и критика тех или иных разделов данной книги и ряда её тезисов
были огромным подспорьем в моей работе.
Моя особая признательность — Оксане Черненко, оказавшей неоценимую организационную и техническую помощь при
подготовке этой книги.
Глубокая благодарность моим друзьям Ирине и Алексею
Шиканянам, которые поддерживали меня в самые трудные периоды работы над книгой.
Моя жена и дочь — те, благодаря кому я не только пишу,
но живу.
Часть!
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ
ПОДХОДЫ:
ТРИ СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ
МОРАЛИ К ПОЛИТИКЕ
СЛУЧАИ СОКРАТА:
СТОЛКНОВЕНИЕ
МОРАЛЬНОГО ДИСКУРСА
С ПОЛИТИЧЕСКИМ
Лекция 1
1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Когда рассуждают о связи морали и политики, то обычно
имеют в виду моральное оценивание явлений, относимых к разряду «политических». На данном начальном этапе нашего исследования довольствуемся тем, что скажем: это — оценивание в
понятиях доброго и злого, справедливого и несправедливого.
Важно, что эти понятия претендуют на то, чтобы выражать не
индивидуальный взгляд или предпочтение, а общую или даже
всеобщую оценку рассматриваемого предмета, которая к тому
же накладывает на нас некоторые обязательства (долг) относиться к нему так-то, а не иначе.
«Применение» — это и есть приложение моральных понятий к рассматриваемому предмету. Обычно предполагается,
что нам известны и сами эти понятия (что есть добро, справедливость и т. д.), и то, как их «прилагать» (т. е. процедуры оценивания). Конечно, некоторые ученые и философы могут посвящать тома исследованию того, откуда берутся эти понятия,
как и почему их содержание варьируется в разных обществах
и в разные эпохи. Другие полагают невозможным дать всеобщие определения содержания моральных понятий, но думают, будто эти понятия ясным образом указывают на формы и
процедуры, в которых люди разумно и без насилия друг над
другом могут приходить в каждой конкретной ситуации к согласию относительно того, что считать добром или злом.
В последнем случае известным считается то, как мораль применять к политике, хотя неизвестно (до дискуссий конкретных
25
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
людей в конкретных ситуациях), что именно является добром,
справедливостью и т. д.
В задачу данной части книги входит не обсуждение всех
этих спорных вопросов (у нас будет возможность вернуться к
ним позднее), а выявление некоторых общих трудностей морального оценивания политики как такового и даже возникающих при этом парадоксов. Рассмотрение этих трудностей и парадоксов должно вывести нас на поиск более глубоких и более
существенных связей морали и политики, чем та, которая выражается моральным оцениванием политики, исходящим из явного или неявного представления о том, будто мораль и политика — два разных и в решающей мере чуждых друг другу мира.
А если рассмотреть их как единый мир, в котором мораль деятельно участвует, удачно или неудачно входя в политические
дела людей? В этом ракурсе «участие» окажется альтернативой
«применению». Само оценивание, от которого мораль неотделима, приобретет тут иной смысл: оно — как мотив, как условие целеполагания, как код взаимопонимания соратников —·
предстанет в качестве момента действия.
2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭТИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЯ
СПРАВЕДЛИВОСТИ
Главный персонаж нашей первой лекции выбран не случайно. Сократ — «всемирно-историческая личность», которая, по
выражению Гегеля, дала «начало моральной философии» как
таковой. И сделано это было благодаря тому, что греческая «естественная» (данная как нечто самоочевидное) нравственность
была пропущена через горнило индивидуальной критической
рефлексии: нечто теперь считается добром и справедливостью
лишь потому, что познано и признано в качестве такового мной,
а не потому, что «так думают все» или «так было всегда». Это
Гегель назвал «бесконечной субъективностью» и «свободой самосознания», без которых нет морали, хотя может быть нравственность как этос. В этом смысле «афиняне до Сократа были
26
нравственными, а не моральными людьми...»1. Не забудем: афиняне, о которых здесь идёт речь, — свободные граждане полиса,
были непосредственно «политическими животными» (Аристотель).
Соответственно и мораль формируется у Сократа, «переваривая»
непосредственное, стихийное политическое сознание этих «животных» и отталкиваясь от него. Этот момент генеалогии морали делает «случай Сократа» особенно интересным для нас в свете нашей
центральной задачи — прояснения связи морали и политики.
Возьмём знаменитую первую книгу сочинения Платона
«Государство»2. В доме состоятельного Кефала в Пирее происходит беседа Сократа о справедливости со взыскующими истину благородными юношами.
Не будем подробно останавливаться на первом акте беседы, в котором главным партнёром Сократа выступает Полемарх.
В этой её части, как скажет другой участник беседы — Фрасимах, она действительно похожа на игру в поддавки (336 с, с. 103—
104). Разговор вращается вокруг уточнения очень традиционного греческого представления о том, что справедливость — это
«отдавать каждому должное» (331 в, с. 96). Любопытен он нам
разве что одним выводом Сократа: «справедливо никому ни в
чём не вредить» (335 е, с. 103), включая врагов, стало быть, и
преступников всех мастей, извращенцев, изменников и т. д. Не
только аполитичность такого умозаключения, но и его несовместимость с правом в любом понимании права бьет в глаза. Подкрепляющая данное умозаключение аргументация о том, что
несправедливо наносить вред достоинству человека, совершенно неуместна — ведь наказывают не человека как человека, а
того и в той мере, кто и в какой отказался быть человеком (в соответствии с пониманием «человека» в данной культуре). Однако главные признаки моральности в этом умозаключении налицо:
1
Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. СПб.: Наука, 1994.
Кн. 2. С. 33-36.
2
Платон. Государство //Соч.: В Зт. М.: Мысль, 1971. Т. 3. Ч. 1. Все
сноски на это произведение даются прямо в тексте по данному изданию.
27
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
оно предъявляется как всеобщий принцип, ценный и сам по себе
(вследствие его логической обоснованности), и, как старается
показать Сократ, по благим следствиям его применения. К тому
же оно — продукт нашей индивидуальной рефлексии: мы пришли
к нему в ходе критического рассмотрения старого, почитавшегося за самоочевидность нравственного правила «отдавать каждому должное», в ограниченности и частном (в противоположность
всеобщему) характере которого мы успели убедиться3.
Однако настоящий спор начинается с тех самых грубых
слов об «игре в поддавки», с которыми в беседу вмешивается
горячий и самоуверенный Фрасимах. (Как мы увидим, слишком
3
В исследовательской литературе по-прежнему остро дискуссионным
остаётся вопрос о том, следует ли понимать диалектику Сократа (у Платона)
как метод критики и подрыва традиционной нравственности или же как попытку её рациональной реконструкции (см.: Harrison P. R. The
Disenchantment of Reason. The Problem of Socrates in Modernity. N.Y. : The State
University of New York Press, 1994. P. 17-18). Есть немало свидетельств и аргументов в пользу того, что содержание ключевых этических категорий Сократа, в той мере, в какой он мог их определить, весьма близко к тому, что
они означали для досократической мысли, не только философской, но и обыденной. В этой перспективе дело Сократа видится в том, что он изменял их
восприятие современниками, а не в том, что он сообщал им новое содержание. У Сократа они превращались из «объективно» данных идеалов в некий
нравственный потенциал, который человеку еще предстояло познать и реализовать на уровне убеждений и практики (см.: Snell В. The Discovery of the
Mind: The Greek Origins of European Thought. N.Y.: Harper Torchbook, 1960.
P. 184-188). Возможно, это — закономерная реакция на расшатывание старых этических представлений новыми обстоятельствами жизни, вследствие
чего первые утрачивали достоинство самоочевидности. Примечательно, что
те отрывочные определения справедливости, к которым Сократ всё же приходит в позднейших разделах «Государства» (хотя эта цель заявлена, но не
реализована уже в первой книге), и логически несовершенны, и, по признанию самого Сократа, никак не претендуют на оригинальность. Посмотрим,
к примеру, на следующее определение: «...заниматься своим делом и не
вмешиваться в чужие — это и есть справедливость, об этом мы слышали от
многих других...» (433 а, с. 224). Чуть выше справедливость отождествлялась
с «целым» гармоничного кастового государства.
28
горячий и слишком самоуверенный, чтобы «дожать» Сократа
даже в весьма выигрышной позиции.)
Итак, Фрасимах начинает атаку с требования, чтобы Сократ
не вводил в исходное определение справедливости понятия должного, полезного, пригодного, целесообразного... (336 e—d, с. 104).
И в самом деле, ещё нужно показать, почему справедливость —
долг? для кого она полезна и целесообразна? для чего она пригодна? Уж если следовать той логике поиска сущностных определений,
которую предложил (и навязал) присутствующим сам Сократ, то
нужно вначале ответить на вопрос, что есть справедливость, и
лишь потом доказывать, что это нечто потому-то является долгом
и оказывается для тех-то (или даже для всех) полезным, целесообразным и т. д. Поскольку Сократ рассуждал совсем не так и тем
самым вопиющим образом нарушил собственные принципы «исследования», постольку по обоснованному, хотя и неделикатному
утверждению Фрасимаха, он «болтает вздор».
Полемическое мастерство Сократа, противостоящее горячности его противника, проявилось именно в том, что Сократа так
и не удаётся принудить к определению справедливости. В самом
конце первой книги, уже после отказа Фрасимаха продолжать
спор, Сократ с милой иронией, сравнивая себя с лакомкой, набрасывающимся то на одно блюдо, то на другое, говорит: «...не
найдя ответа на вопрос, что мы рассматривали сначала, а именно на вопрос, что такое справедливость, я бросил это и кинулся
исследовать, будет ли она недостатком и невежеством, или же
она мудрость и добродетель; а затем, когда я столкнулся с утверждением, будто несправедливость целесообразнее справедливости, я не удержался, чтобы не перейти от того вопроса к этому» (354 Ь, с. 129). Самое поразительное — это то, что после
всей этой — с логической точки зрения — несуразицы Сократ
пребывает в уверенности, что «уже излишне продолжать беседу» (357 а, с. 130). Иными словами, для него эта тема закрыта,
и он с удивлением обнаруживает то, что даже его почитателям —
Главкону и Адиманту — приведённые им доказательства представляются, мягко говоря, неудовлетворительными (см. 358 в, с. 131).
29
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ
ПОДХОДЫ
Я не думаю, что Сократу все эти трюки и уловки следует ставить в вину, если, конечно, мы не будем наивно видеть в нём теоретика этики или тем паче логика, для которых последовательность
мысли и запрет подмены предмета рассмотрения обязательны.
Сократ, каким он предстаёт у раннего Платона, возможно, включая первую книгу «Государства»4, — моральный борец и даже
политик, каковым он себя открыто и с вызовом заявляет. (Читаем
в «Горгии», 521 d: «Мне думается, что я в числе немногих афинян
(чтобы не сказать — единственный) подлинно занимаюсь искусством государственного управления и единственный среди нынешних
граждан применяю это искусство к жизни»5.) На что направлена
его борьба, какие цели преследует его политика?
Простой ответ: «...чтобы мы ... сограждане, стали как
можно лучше» («Горгии», 515 с). Частное ли это занятие? Или
скажем точнее: замыкается ли оно в сфере частной жизни? Нет,
считает Сократ. Ибо без гражданских добродетелей государство поразит «приступ бессилия», сколь бы ни было оно богато
«гаванями, верфями, стенами, податными взносами...» («Горгии», 519 а). Без добродетелей невозможно то, что держит
«небо и землю, богов и людей» — объединяющее их общение,
основанное на справедливости. Без этого место «космоса»
(т. е. разумного устройства) занимает «беспорядок» («Горгии»,
507 d-508 a).
Наивное представление? С какой стороны посмотреть... Сократовский метод морального «врачевания» — вести диалекти4
Есть традиция, восходящая к Сёрену Кьеркегору, которая считает
первую книгу «Государства» переломом и последним явлением диалектического и иронического Сократа как «рыцаря морали». В дальнейшем Сократ становится всё более «метафизичным» и поучающим, он уже скорее
не «овод» для афинской публики, а брезгующий суетой мира мудрец. См.:
Kierkegaard S. The Concept of Irony. Tr. Lee M. Capel. Bloomington (IN):
Indiana University Press, 1965. P. 144, а также: Irwin T. H. Coercion and
Objectivity in Plato's Dialectic. In Socrates. Critical Assessments / Ed. W. J.
Prior. L; N.Y.: Routledge, 1996. Vol. 2. P. 274.
5
Платан. Собр. соч.: В 4 τ. Μ.: Мысль, 1990. Т. 1. С. 568.
30
ческие беседы, «обращаясь к каждому частным образом, как
отец или старший брат ... убеждая заботиться о добродетели»
(«Апология Сократа», 31 в6), пожалуй, с точки зрения политических целей наивен. Трагедия осуждения самого Сократа — брутальное тому свидетельство. Но отнюдь не наивно представление
о том, что любые сколь угодно прекрасные и отлаженные институты сами по себе — вне связи с определёнными нравственными
качествами действующих в них и посредством их лиц — не могут
обеспечить свободную и достойную жизнь. А автоматической
корреляции «качества институтов» и «качества действующих лиц»
нет. Много веков спустя — уже применительно к либеральной демократии — Алексис де Токвиль будет писать в этой связи о рабстве, которое сочетается с институтами, обладающими «внешними атрибутами свободы», и которое «устанавливается даже в
тени народной власти»7. Сократ, по сути, затронул большую и
сложную проблему политической теории, которая в англоязычной литературе именуется «structure — agency problem» (проблема отношения структур и действующих лиц).
Моральная и политическая борьба требует от Сократа применения разнообразных тактических приёмов — в зависимости от
специфики собеседников-оппонентов и, что всегда очень важно,
слушателей. А среди них и благочестивые тупицы, и изворотливые циники, и заносчивые честолюбцы, и прямодушные, но недалёкие жители Афин... Исследователями давно отмечены и тщательно проанализированы варианты «диалоговых стратегий» Сократа. Многим из них присущи так называемые «несократические
элементы», противоположные строгому канону «диалектического рассуждения», который установил сам Сократ. Это элементы
манипуляции собеседником, провоцирования его на поспешные
выводы, подмены логической аргументации апелляциями к «нравственным аксиомам», которые тот не мог отвергнуть, не нанеся
ущерб своей репутации в глазах присутствующей публики, и
4
7
Платон. Собр. соч.: В 4 т. С. 85.
Токвиль А. де. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992. С. 497.
31
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
т. д.8. Нахождение «истины», т. е. логически строгое и законченное определение «исследуемого» понятия в этом контексте, — далеко не самое важное дело, и Сократу оно нечасто
удаётся, идёт ли речь о мужестве в «Лахете», благочестии в «Евтифроне» или справедливости в «Государстве»9. Возможно, Сократ сам редко к этому стремился.
Однако вернёмся к спору Сократа и Фрасимаха.
На требование Фрасимаха не определять справедливость
изначально через должное, полезное, целесообразное и т. д.
Сократ отвечает решительным отказом. «В моих ответах не
должно быть ничего из того, о чём ты предупредил? — спрашивает Сократ. — А если выходит именно так, чудак ты, я всё-таки
должен говорить вопреки истине? Или как ты считаешь?..» —
«Хватит, — сказал Фрасимах, — ты опять за прежнее». —
«А почему бы нет? — продолжает Сократ. — ...А считаешь ли
ты, что человек станет отвечать вопреки своим взглядам, всё
равно, существует ли запрет или нет?» (337 в—с, с. 105).
В действительности это — ключевой момент спора, предопределяющий поражение Фрасимаха, о чём тот в своей заносчивости даже не догадывается. Во-первых, Сократ подаёт дело так,
будто он уже дал какое-то сущностное определение справедливости через должное, целесообразное и т. д., а этого нет и в помине, что он сам игриво признаёт, как мы видели, в конце книги.
В результате возникает иллюзия, будто в споре готовы столкнуться два определения справедливости — Сократа и Фрасимаха, ко8
Отличный анализ таких «диалогических стратегий» см.: SchofieldM.
Socrates versus Protagoras // Socratic Questions. New Essays on the
Philosophy of Socrates and Its Significance / Ed. B. S. Gower and M, C. Stokes.
L.; N.Y.: Routledge, 1992, а также: Mara G. M. Socrates' Discursive
Democracy. Albany (N.Y.): The State University of New York Press, 1997.
P. 14-53Μ/ην/ηΓ. Η. Op. cit.
' В отношении справедливости это ясно показывает Ханна Арендт,
причём именно на материале «Государства» (см.: ArendfH. Between Past
and Future. Eight Exercises in Political Thought. Harmondsworth: Penguin, 1977.
P. 293-294, note 44).
32
торое тот только собирается предложить. На самом же деле всё
сведётся к подрыву определения Фрасимаха, тогда как Сократ не
рискует в диспуте ничем (ибо его определения нет, и оно не может быть оспорено). Во-вторых, Сократ уже утвердил свои права на некую истину, отказываясь говорить вопреки ей, хотя истину только предстояло найти, чем он сам стимулировал вовлечение всех присутствующих в дискуссию о справедливости. Иными
словами, Сократ присвоил себе право (и оно не было дезавуировано Фрасимахом) подрывать определение оппонента от имени
некой истины, известной ему, Сократу, и только ему (вспомним
о сократовском рефрене «знаю, что ничего не знаю»). В-третьих, Сократ — без серьёзного сопротивления со стороны Фрасимаха — сразу выиграл то, что можно назвать борьбой дискурсивных диспозиций. Этот момент стоит рассмотреть подробнее, поскольку он имеет чрезвычайно большое значение для понимания
оценивания как применения морали к политике.
Диспозиция Сократа состоит в том, что справедливость,
как и любая другая «исследуемая» им добродетель, есть должное и полезное. (В новоевропейской моральной философии,
прежде всего в её кантианской линии, этот соединительный
союз «и», поскольку речь идёт о «посюсторонних» ориентациях и действиях человека, будет удалён. Но примечательно его
наличие и даже непременность при зарождении морального
сознания.) Иначе он мыслить не может, о чём и заявляет Фрасимаху, т. е. Сократ не может и не хочет даже помыслить вопросы «а является ли справедливость чем-то должным?» и «почему она является, если является, таковым?». Такая диспозиция и
такая неспособность мыслить иначе чётко определяют контуры,
«силовые линии» и основные свойства того поля дискурса, на
котором действует Сократ и на котором он логически расправляется со своими оппонентами. Как только они соглашаются, что справедливость — должное (и полезное), сколь бы смутным и даже логически неопределимым не было для них, как и для
Сократа, понятие справедливости, — дело сделано. После такого признания, закладывая его, а отнюдь не какие-либо логические
3 Выбор
33
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
дефиниции, в основу фигур своих силлогизмов, Сократ способен
доказать им всё, что он хочет. Ибо они уже приняли этим признанием его игру — игру морального сознания, замкнутую на себя,
самодостаточную и исходящую из собственных очевидностей,
сколь бы трудно эти последние ни поддавались логическому прояснению. С точки зрения «диалогических стратегий», Сократу
сложно втащить некоторых оппонентов в игру морального сознания (например, Калликла из «Горгия»), и для достижения этого
годятся почти любые приёмы. Но раз это трудное дело сделано,
остальное — дело техники, т. е. собственно логики. Итак, назовём игру Сократа «дискурсом морального сознания».
Фрасимах пытается предложить Сократу другую игру,
т. е. игру на другом дискурсивном поле. В этом смысл его запрета использовать понятия должного, полезного и т. д. в исходном определении справедливости. Он вроде бы даже начинает
эту альтернативную игру своим скандально (благодаря стараниям многих поколений моралистов) известным определением
справедливости: «Справедливость, утверждаю я, это то, что
пригодно сильнейшему» (338 с, с. 106). Он наивно полагает, что
Сократ последует за ним на это дискурсивное поле.
В чём особенности эгого дискурсивного поля? Прежде всего
мы замечаем, что его гравитация задаётся как раз тем — с точки
зрения логической формы — типом определения справедливости,
который сулит найти Сократ на своём поле, но никак не находит.
Фрасимах предельно чётко отвечает на вопрос, что суть справедливость. И суть её, т. е. её сущностное определение, в том, что
она есть отношение между «сильнейшими» и более слабыми, в
котором выигрывают первые. Это отношение способно налагать
обязательства и потому становиться должным. Обратим внимание: в самом этом определении нет ничего, что необходимым и
неизбежным образом делало бы его оправданием господства кучки беспринципных мироедов над моральным большинством. Ведь
«сильнейшим» может быть и это большинство, противостоящее
«белокурым бестиям», которые не желают сообразовываться с
общественной моралью и подрывают её своими действиями и своим мышлением. Собственно, в этом ключе и толковал «господство
34
морали» Фридрих Ницше: оно — результат «восстания рабов в
морали» против аристократических имморальных господ. При
этом сама мораль понималась как сильнейшее оружие, как эффективнейшее «средство воспитания и облагорожения», «проработки» «черни» для будущего господства. Другое дело, что «господство добродетели может быть достигнуто только с помощью тех же средств, которыми вообще достигают господства, и,
во всяком случае, не посредством добродетели»10.
Далее. Мы легко замечаем, что определение Фрасимаха
универсально, но в ином смысле, чем тот, который присущ моральным понятиям. Действительно, все отношения, причисляемые к классу «справедливых», должны обладать той асимметричной структурой распределения выгод между «сильнейшими» и
слабыми, о которой он говорит. Но все ли это возможные отношения между людьми? Разумеется, нет. Нетрудно представить
себе другой вид отношений, которые Фрасимах назвал бы «несправедливыми», складывающиеся между «равносильными» или
«равнослабыми». Им будет присуща другая структура распределения выгод. Её может не быть совсем, как показывает, к примеру, модель естественного состояния «войны всех против всех» у
Гоббса, в котором в проигрыше оказываются все11. Иными словами, универсальность определения Фрасимаха ограничена известным классом явлений, от которого отличимы явления других классов12. Именно поэтому он и способен дать — в отличие
от Сократа — содержательное определение справедливости,
независимо от того, верно оно или нет. Ведь, как известно, определить — значит ограничить.
10
Ницше Ф. По ту сторону добра и зла; К генеалогии морали // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 2. С. 288, 422; Ницше Ф. Воля к власти. M.: REFL-Book, 1994. С. 129.
11
Более подробно о модели Гоббса см.: Капустин Б. Г. Различия и
связь между политической и частной моралью // Вопр. философии. 2001.
№9. С. 10-20.
1а
Универсальность такого типа, относящуюся к явлениям определённой «области», Дьюи называл «реляционной» (см.: Дьюи Д. Реконструкция
в философии. М.: Логос, 2001. С. 13).
з*
35
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
У Сократа, напротив, справедливость не ограничена никаким
классом явлений или лиц. Справедливы должны быть все, всегда,
во всех делах. Хотя в действительности, во всяком случае как её
понимает Сократ, почти все, почти всегда, почти во всех делах
несправедливы. Хотя бы из-за незнания того, что суть справедливость (чего не знает и Сократ, хотя в направленной на Фрасимаха «диалогической стратегии» мастерски демонстрирует иное).
Универсальность справедливости у Сократа беспредметна. Быть
адресованной всем и всему — значит не быть адресованной никому и не быть приложимой ни к чему. Поэтому для неё не находится общих определений — помимо тех традиционных банальностей, которые время от времени повторяет Сократ и которыми он сам, похоже, не очень доволен (см. сноску 4)13. Его
определения справедливости — по существу лишь моральный
призыв, имеющий как бы универсального адресата.
Наконец, третье. У Фрасимаха определение справедливости
не только подразумевает властные отношения (между «сильнейшими» и более слабыми), но прямо вытекает из них. По существу
оно является политическим определением этого ключевого морального понятия или, используя формулировку Бертрана Рассела о политических корнях морали14, можно сказать, что оно построено генеалогически, т. е. на обнаружении этих корней.
Конечно, у этого политического определения морали есть
существенный изъян, на котором, как мы увидим далее, Сократ — в своих моральных целях — «поймает» Фрасимаха.
13
Примечательно, что у Аристотеля понятие справедливости полемически (к Платону) контекстуализируется и конкретизируется применительно к разным типам отношений людей (разным видам «дружбы»), и благодаря этому оно обретает содержание, делающее его не только интересным предметом, но и орудием познания. «...Сколько видов
справедливости, столько и видов дружбы. В самом деле справедливость
[проявляет себя в отношениях] чужестранца к гражданину, раба к хозяину,
гражданина к гражданину, сына к отцу, жены к мужу...» (Аристотель. Большая этика. 1211а // Аристотель. Соч.: В 4 т. М.: Мысль, 1984. Т. 4. С. 368.
14
«.. .Очень трудно, — утверждает Рассел, — отделить этику от политики в целом. На мой взгляд, корни этики там». — Рассел Б. Моральные табу //
Рассел Б. Искусство мыслить. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. С. 165.
36
Мимо данного изъяна нередко проходят современные комментаторы, отдающие Фрасимаху первенство в споре с Сократом и
существенным образом модернизирующие смысл его формулировки. Так, Ральф Дарендорф подчёркивает, что Фрасимах
был первым, кто зафиксировал различие властных позиций в обществе и способность такого различия производить нормативные
структуры, легитимирующие саму власть (через то же понятие
справедливости, принятое, пусть в нетождественных интерпретациях, обеими сторонами). Но из этого Дарендорф выводит следующее: «При некоторых (простых) дополнительных условиях из
этих понятий "власть" и "санкция" следует, что при любых обстоятельствах существует сопротивление осуществлению власти...»,
делающее власть всегда «непрочной». Отправляясь от этого, уже
легко представить Фрасимаха кем-то вроде родоначальника «социологии конфликта» как одного из двух главных направлений теории общества, противостоящего «консенсусному» направлению
(оно же восходит, по Дарендорфу, к Сократу)15.
Но в том-то и дело, что этих «дополнительных условий», при
которых из понятия власти следует сопротивление, у Фрасимаха
нет. Ему, как истинному сыну своей культуры и своего сословия,
самоочевидно, что повиноваться властям справедливо (339 в,
с. 107). Такая самоочевидность никак не замутнена хотя бы оговоркой — «до тех пор и в той мере, до каких и в какой это представляется справедливым более слабым». Данная оговорка вводила бы в рассуждение о справедливости возможность сопротивления власти. Ведь конфликт необходимо подразумевает не
просто разницу фактических положений в обществе «сильнейших» и более слабых, а именно их спор о том, что эти положения есть норма и нечто должное. Точно выразился Гегель: «Не
то, что есть, вызывает в нас чувство нетерпения и страдания, а то,
что оно не таково, каким оно должно быть...»16. Когда слабые
15
Дарендорф Р. Похвала Фрасимаху // Дарендорф Р. Тропы из утопии. М.: Праксис, 2002. С. 408 и далее.
16
Гегель Г. В. Ф. Конституция Германии // Гегель Г. В. Ф. Политические произведения. М.: Наука, 1978. С. 67 (курсив мой. — Б. К.).
37
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ
ПОДХОДЫ
вопрошают существующее устройство, справедливо ли оно, они
тем самым проблематизируют факты. Это есть первый шаг их
мобилизации на борьбу. Главный дефект рассуждений Фрасимаха состоит в том, что он общее определение справедливости
(«справедливость — то, что пригодно сильнейшему») намертво
соединил с представлением о справедливости данной власти (власти данной группы) и не допустил возможность диалектического
переворачивания отношений господства, превращения слабых в
«сильнейшего». Тем самым он исключил логику сопротивления из
своего определения справедливости.
3. ЛОГИКА ПОБЕДЫ МОРАЛЬНОГО ДИСКУРСА
НАД ПОЛИТИЧЕСКИМ
Указанные дефекты рассуждений Фрасимаха приводят к
тому, что Сократ легко «ловит» его. «Могут ли власти ошибаться?» — спрашивает он. «Разумеется», — отвечает Фрасимах.
«Ошибки, включая ошибочные законы, вредят властям?» — продолжает Сократ. «Конечно». — «А подвластным справедливо
подчиняться?» — «Да». — «Значит, — заключает Сократ нехитрый, но убийственный силлогизм, — справедливым будет, согласно твоему утверждению, выполнять не только пригодное
сильнейшему, но и противоположное, то есть непригодное». —
«Что это такое ты говоришь?» — только и может выдавить из себя
Фрасимах (см. 339 с—с/, с. 107).
Рассуждая отвлечённо, Фрасимах мог бы реагировать и более тонкими ответами. К примеру, на вопрос Сократа «Могут ли
власти ошибаться?» могло бы последовать требование уточнить,
с чьей точки зрения некое решение или действие оказывается
ошибкой? Ведь законодательная ошибка нынешних власть имущих, наносящая вред их господству, может быть очень полезна
и пригодна нынешним слабым в их борьбе за то, чтобы в будущем стать «сильнейшими». С их точки зрения это, возможно,
отнюдь не ошибка, а шаг в сторону справедливости. Если оспаривается нынешняя структура господства, если открытым оказыва-
38
ется вопрос, кого считать «сильнейшим» или кто может стать
«сильнейшим», то именно от понимания данного вопроса зависит
то, оценивать ли данный закон как «ошибочный» или нет. Не говоря уже о том, что и «вред» существующей структуре господства от будто бы ошибочного закона следовало бы понимать более конкретно и даже исторически. Нынешняя власть может быть
вынуждена (сопротивлением низов!) пожертвовать некоторыми
своими привилегиями, как будто нанося себе «вред», с тем чтобы через такую уступку и перестраивая себя укрепить основную
конструкцию своего господства. Является ли такой закон, «вредоносный» для сегодняшнего господства «сильнейших», но укрепляющий их завтрашнее положение, — «ошибкой»?
Но ничего подобного Фрасимах не говорит. Он пытается
контратаковать Сократа, полностью переместившись на дискурсивное поле своего оппонента. После неловкого молчания (пауза в их споре занята торжествующе чинным пояснением Сократа логики своей победы тяжеловатому на мысль Полемарху) он заявляет: те, кто ошибаются, не правители, т. е. не
«сильнейшие». Настоящий правитель «ошибок не совершает, он
безошибочно устанавливает то, что для него всего лучше, и это
должны выполнять те, кто ему подвластен» (341 а, с. 109).
Мало сказать, что это заявление Фрасимаха столь же чуждо «эмпирической» действительности, как и Сократово моральное понимание справедливости («справедливо никому ни в чём не
вредить»). Важнее другое. Фрасимах в этом заявлении определяет правителя через полноту и истинность его знаний («безошибочность»), а не через власть, как это имело место в его изначальной формуле справедливости, породившей весь спор. Иными словами, Фрасимах сам уходит от политических определений
рассматриваемых предметов и заменяет их гносеологическими.
Спор действительно можно завершить уже в этом пункте, ибо
суть его в том и заключалась, определимы ли моральные понятия через их политические корни. Теперь эта суть исчезла.
«Политическая гносеология» Фрасимаха очень наивна и противоречива. Отождествив справедливость с безошибочностью
39
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ
ПОДХОДЫ
правителя, он трактует её как точное понимание им своей корысти и возможностей присвоения чужого блага. Но такое понимание не согласуется с самой идеей нормы как того, что регулирует отношения сторон (при любой степени их асимметричности и при любом понимании происхождения нормы). Поэтому
он вынужден тут же опровергнуть себя и отказаться от характеристики господствующего «сильнейшего» как справедливого
(ведь справедливость — это норма): «справедливый человек
везде проигрывает сравнительно с несправедливым» (343 с—с/,
с. 113). Или в другой редакции: справедливость как то, что пригодно «сильнейшему», оказывается лишь частным случаем несправедливости (отсутствия нормы) как того, что целесообразно и пригодно само по себе (344 с, с. 114).
Против этих рассуждений, беспомощных и с политической,
и с этической точек зрения, Сократ приводит серию доводов, из
которых мы остановимся на финальном. Несправедливость (отсутствие нормы) неизбежно вызывает раздоры в любом коллективе, лишая его дееспособности. Если правитель — даже в целях
собственной выгоды — хочет управлять подчинёнными и использовать их в борьбе с другими коллективами, он должен соблюдать справедливость (установленные нормы) (351 d-352 d,
с. 125—126). Иными словами, справедливость выгодна ему, «несправедливость никогда не может быть целесообразнее справедливости» (354 а, с. 129). Коли выгодная правителю справедливость адресована подчинённым, то, как утверждает Сократ, «всякая власть, поскольку она власть, имеет в виду благо не кого
иного, как тех, кто ей подвластен и ею опекаем...». Никакой правитель «никогда не действует и не повелевает ради собственного блага, но повелевает только ради высшего блага для своих подчинённых» (345 d— e, 346 е—347 а, с. 116—117). В постижении этого блага и заключается истинное знание правителя.
Получилось так, что как только Фрасимах признал атрибутом настоящего правителя («сильнейшего») безошибочность, он
сразу и бесповоротно проиграл Сократу. Понятие ошибки оторвалось от политического контекста, от связи с перспективами и
стратегиями разных конкурирующих сил. Оно приобрело значе40
ние умственного заблуждения, противоположного (теоретической) истине, являющейся таковой всегда и везде, безотносительно к каким-либо политическим и любым другим человеческим
делам. Такая истина (подобно физическим законам или математическим формулам) требует единодушного признания всех разумных людей, т. е. всех не заблуждающихся, в нашем случае —
и властителей и подвластных, а также обсуждающих их дела философов. Малоизвестный софист Клитофонт в одноимённом диалоге Платона очень точно передаёт мысль Сократа, подчёркивая, что у того справедливость тождественна единомыслию
(«Клитофонт», 410 а)17. Правда, он, как бы продолжая линию
Фрасимаха, но гораздо более тонко, тут же вопрошает: а какому делу способствует это понимание справедливости — «что
можно считать его произведением»? (Там же).
К этому важному вопросу мы скоро вернёмся, а пока зададимся другим: какие продукты мышления или продукты какого
мышления соразмерны и однотипны таким образом понятой истине? Ясно, что не политического, ведь его понятия единомыслия не
допускают точно — они никак не отделимы от контекстов властных
и конфликтных отношений между людьми. Видимо, морального
мышления. Его продукты претендуют на то, чтобы указывать, что
именно является должным для всех и всегда, независимо от каких-либо контекстов и отношений. Сократ с такой лёгкостью побивает Фрасимаха, отступившего от политических определений к гносеологическим, потому, что в последних уже нет той «политической материи», которая сопротивлялась её усмирению
абстрактным моральным универсализмом. В то же время в гносеологическом рассуждении Фрасимаха остатки «политической
материи» не только приводят к нетерпимым логическим парадоксам — типа «несправедливости справедливых правителей».
Эти остатки кажутся попросту излишними с точки зрения обнаружения истины: зачем вообще упоминать власть, «несправедливо» иерархизирующую отношения людей, когда ищут определение справедливости, абстрактно верное для всех и всегда?
17
Платон. Клитофонт // Платон. Диалоги. М.: Мысль, 1986. С. 389.
41
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ
ПОДХОДЫ
Но так же, как остатки «политической материи» приводят к
противоречиям и несуразностям в рамках гносеологического и
морального мышления, эти виды мышления, будучи перенесёнными на политику, ведут к откровенному абсурду. Как иначе отнестись к логичному — на своём дискурсивном поле — утверждению Сократа, будто никакой правитель «никогда не действует
и не повелевает ради собственного блага, но повелевает только
ради высшего блага для своих подчинённых»? Ведь Сократ сам не
верит в то, что этот вывод правдив! Его сильнейшие инвективы не
только против тиранов и прочих политических злодеев, но и против великих лидеров демократических Афин — Перикла, Мильтиада, Фемистокла и т. д. (см., к примеру: «Горгий», 515 с—519 в)
вне всяких сомнений свидетельствуют о его собственном глубоком убеждении в том, что правители при любом политическом
строе повелевают ради собственного блага и против «высшего
блага для своих подчинённых». Может ли он сам всерьёз воспринимать тот абсурд, который говорит Фрасимаху?
Мы привыкли читать платоновское «Государство» политически. Для этого есть свои основания. Сократ не только часто касается политических тем и пользуется политическими аналогиями и
иллюстрациями для своих мыслей. Он ещё в достаточной мере
афинское «политическое животное», чтобы сквозь его рассуждения просвечивала политическая жизнь его времени, чтобы они
были заданы и оконтурены политической проблематикой, чтобы
сам он, как я постараюсь показать в заключительных лекциях третьей части книги, преследовал политическую цель, идя к ней
необычным для греческой традиции путём. Но «материя» его
рассуждений не политическая, а моральная. Их смысл — моральное наставление, а не политический анализ. И его понятие справедливости — не политическое. Такая справедливость, используя
формулировку Лео Штрауса, «могла бы существовать в неполитическом обществе»18. А в каком же? В моральном. Но можно
ts
Strauss L. On Tyranny / Ed. V. Gourevitch and M. S. Roth. N.Y.: The
Free Press, 1991. P. 120, note 30.
42
ли, при самом безудержном полёте воображения, хотя бы помыслить себе моральное неполитическое общество?
Конечно, нельзя. Сократ этим и не пытается заниматься.
Даже его образец идеального государства — это модель не политического государства, а правильного строя души человека. Поясняя сие своим слушателям уже в девятой книге «Государства»,
Сократ говорит, что этот образец существует только на небе и
смысл его в следующем: «Глядя на него, человек задумается над
тем, как бы это устроить самого себя. А есть ли такое государство
на земле и будет ли оно — это совсем неважно» (592 в, с. 420).
Вообще всё рассмотрение идеального государства затевалось «не
для того, чтобы доказать осуществимость таких вещей», и неспособность показать возможность его создания не наносит ни малейшего ущерба «нашему изложению», поскольку и цель у него была
совершенно иная (см. 472 d— β, с. 274). «Устроить самого себя»
безотносительно к любым земным делам — это и есть сугубо моральная и сугубо аполитичная задача.
Мы выбрали случай Сократа, чтобы рассмотреть применение
моральных оценок к политике. Похоже, мы ошиблись. В «Государстве» такого применения нет, а есть становление замыкающегося
на себя морального дискурса из распадающегося непосредственно политического сознания. Или скажем точнее: в той мере, в какой такое применение к реальным политическим структурам имеет место, оно даёт одинаковый отрицательный результат — все
они представляются сугубо «неправильными». Поздний Платон устами Афинянина в «Законах» выразит это ещё яснее: и тирания, и
олигархия, и демократия «не есть даже государственный строй,
всё это скорее может быть названо длительной междоусобицей...» («Законы», 832 в—с)19. Моральная оценка полностью «съедает» политическую реальность, оставляя лишь мечтания или припоминание мифов о государствах, которые «устрояют ... боги или
сыновья богов» («Законы», 739 d; см. также «Критий»). Последние
19
Платон. Законы // Платон. Собр. соч.: В 4 т. М.: Мысль, 1994.
Т. 4. С. 285.
43
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
служат древнему греку, становящемуся моралистом, доступным
ему образом морального неполитического общества. О практическом «произведении» такого мышления, о котором вопрошал
Сократа Клитофонт, говорить тут уже не приходится.
В заключение постараемся всё же прояснить то, почему Сократу, этому великому искуснику логики, каким он обнаруживает себя, как только оказывается на поле морального дискурса, с
таким трудом даются — или даже совсем не даются — логические
определения моральных понятий. Роберт Нозик, видный американский философ, проведший тщательный логический анализ сократовских диалогов, даёт важную подсказку. Сократ постоянно заявляет о намерении логически вывести определения этих понятий.
Но он не может не знать (хотя бы интуитивно), что любое логическое определение, пусть потенциально — в «бесконечном» продолжении спора о нём, фальсифицируемо, т. е. опровергаемо или
корректируемо критикой. Иначе оно не было бы логическим определением, а оказалось бы декларацией веры. Но речь-то у Сократа идёт о добродетелях или — пусть простят мне этот недопустимый для античного контекста модернизм — о ценностях20, которые нужно принять или в которых нужно утвердиться с
несомненностью. Такую несомненность никакая логика дать не в
состоянии21. Критический дух, так сказать, имманентен ей. Ставя
перед собой в качестве главной задачу морального улучшения сограждан, Сократ вынужден останавливаться перед выставлением
на всеобщее обозрение и критику законченных дефиниций моральных понятий, ибо продолжение логического «исследования»,
инициированного им самим, привело бы к обратному — сравнительно с его целями — эффекту, а именно — к критическому сомнению в дефинированных добродетелях и ценностях.
20
Отличный анализ современной семантики «ценностей» в её отличии от
классической семантики нормативных категорий см.: LuhmannN. Complexity,
Structural Contingencies and Value Conflicts // Detraditionalization: Critical
Reflections on Authority and Identity / Ed. P. Heelas et al. Oxford: Black well,
1996. P. 63-64.
21
См.: Nozick R. Socratic Puzzles. Cambridge (MA): Harvard University
Press, 1997. P. 147-148.
44
СЛУЧАИ БЕНТАМА:
Лекция 2
УТИЛИТАРИСТСКАЯ МОРАЛЬ
И «БОЛЬШАЯ» ПОЛИТИКА
1. НРАВСТВЕННЫЙ ДОЛГ И ПРАВО
НА СОПРОТИВЛЕНИЕ ВЛАСТИ
В 1776 году свет увидело первое сочинение Иеремии Бентама, имевшее значительный общественный резонанс, —
«Фрагмент о правлении». Всё оно было посвящено резкой критике взглядов крупнейшего британского правоведа XVIII века
Уильяма Блэкстона (1723—1780), изложенных в его фундаментальном труде «Комментарии к законам Англии». Во «Фрагменте о правлении» молодой Бентам представляет то, что с полным основанием можно назвать морально-политическим ядром
философии утилитаризма, позднее развёрнутым в его более
объёмных произведениях. Откровенно полемический характер
«Фрагмента...» заставляет Бентама затронуть некоторые очень
важные для нас темы, которые отходят на задний план или вовсе исчезают из его трудов периода теоретической зрелости.
В раннем либерализме эпохи Просвещения почти всегда
присутствовал концептуальный элемент, хотя у разных авторов
он выступал под разными рубриками и в различном теоретическом исполнении, который мы, используя знаменитую формулу
Джона Локка, обозначим как «законное право сопротивляться»
верховной власти или «сопротивление незаконному насилию»
со стороны власти22. Широкое присутствие этого элемента в
22
Локк Д. Два трактата о правлении. Кн. 2 // Локк Д. Соч.: В 3 т. М.:
Мысль, 1988. Т. 3. С. 394, 397. Более подробно о распространённости этого
элемента в раннем либерализме см.: Franklin J. H. John Locke and the Theory
of Sovereignty. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. P. X. Ch. 4.
45
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ
ПОДХОДЫ
либеральном мышлении того времени не удивительно. То был
период, когда либерализм ещё выступал силой революционного преобразования действительности, по существу — силой
формирования основ современного мира. В этих условиях какая-либо либеральная политическая теория едва ли могла претендовать на серьёзность, если она проходила мимо вопроса
«Что делать, если верховная власть и её носители не только слепы к предписаниям собственного "естественного разума", но и
глухи к вердиктам трибунала общественного мнения?» Каким
может быть «последний довод» против власти, злостно попирающей «естественные права» своих подданных?
Поскольку ранний либерализм вынужден был быть практическим и революционным, он не мог позволить себе усматривать
«последний довод» в более глубоком теоретическом аргументе
или в более проникновенном нравственном увещевании правителей. Неразумной силе в действительности может противостоять
только разумная сила, а не чистый и потому бессильный разум
как таковой. Тот же Локк, предельно осторожный относительно
«крайних средств», уверенно пишет о праве народа «оказывать
сопротивление силой» и о том, что в случае использования такого права нет третейского судьи, возвышающегося в своём беспристрастии над конфликтующими сторонами. «Народ будет судьёй; ибо кому же ещё быть судьёй и определять, правильно ли
поступает его доверенное лицо или уполномоченный?..»23
Если сталкиваются две силы, разумная и неразумная, то
встаёт вопрос о различении законного и незаконного насилия.
Критерий, позволяющий их различить, — отношение насилия к
моральным нормам24. Законное насилие — то, которое защищает их от попрания незаконным насилием. Локк подчёркивает,
что иные причины недовольства, кроме систематического нару23
Локк Д. Указ. соч. С. 396, 403-404.
Подробнее о локковской логике связи моральных норм, «незаконного насилия» и сопротивления ему см.: AshcraftR. Locke's Two Treatises of
Government. L: Allen & Unwin, 1987. P. 198-199.
24
46
шения «естественных прав», сколь бы они ни были весомы, не
должны поднимать народ на восстание, т. е. побуждать его совершать законное насилие25.
Отголоски таких рассуждений о праве на сопротивление
власти в очень мягкой и даже не революционной, а скорее консервативной форме (сама Англия Ганноверской династии — уже
стабилизированное послереволюционное общество) можно
найти у Блэкстона. На них и ополчается Вентам.
Его соображения по данному вопросу можно условно разделить на две группы — теоретическую и, так сказать, прикладную. Теоретические соображения призваны ответить на вопрос
«Что даёт право на сопротивление власти?». Прикладные — «Как
реализовать это право (если оно существует)?». Вероятно, движущий мыслью Бентама вопрос точнее было бы сформулировать так: «Почему это право невозможно реализовать, даже
если оно существует?». В плане полемики с Блэкстоном основную
нагрузку несут аргументы второй группы. Это закономерно, учитывая общую ориентацию бентамовского утилитаризма на «факты» — в противовес ориентации на этические «фикции» (типа
«общественного договора» и т. п.) у его оппонентов. Связь таких
ключевых категорий утилитаристской этики, как польза и вред
(удовольствие и боль), с поведением людей должна быть изучена, подчёркивает Бентам, «как вопрос факта точно таким же образом, каким проясняются все другие вопросы фактов, — посредством свидетельств, наблюдений и опыта»26. «Факты», по его
мнению, должны пролить свет и на содержание права на сопротивление, и на то, осуществимо ли оно в действительности.
Теоретические аргументы Бентама опираются на перетолкованное им понятие долга. Он у Бентама не имеет ничего общего с
«самозаконодательством» (автономией) человека, с сознательно
25
См.: Локк Д. Указ. соч. С. 392-393.
Sen/ham J. A Fragment on Government / Ed. J. H. Burns and H. L A.
Hart. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. P. 55-56. Все сноски на
эту работу даются прямо в тексте по данному изданию.
26
47
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
принятым им на себя как бы перед лицом всех людей обязательством. «Мой долг, — пишет Бентам, — это делать то, за неделание чего меня могут подвергнуть наказанию; это — первоначальный, обычный и правильный смысл слова долг» (с. 109). Такой
долг — продукт сугубо внешней для меня причины и следствие её
власти надо мной. По меркам платоновского Сократа, понятый
таким образом долг — вообще внеморальное явление. Он целиком укладывается в логику физических (природных) причинноследственных связей и по определению не несёт в себе ничего
специфически нравственно разумного. Но именно такое понимание долга Бентам закладывает в фундамент утилитаристской этики. Попутно отметим, что в её рамках мораль оказывается производна от права (долг — от карающего закона), тогда как у
Фрасимаха она выводилась из политики (справедливость — функция властного отношения).
Из сказанного ясно, что у Бентама верховные правители не
имеют долга — их никто не может подвергнуть наказанию (Бог
вызывающе отсутствует в его построениях). В противном случае
они не были бы верховными правителями (см. с. 109). Однако это
вовсе не означает, что они не могут действовать так, чтобы приносить управляемым счастье. Им может быть выгодно приносить
счастье, хотя на практике очень трудно подсчитать, приносят ли их
действия в совокупности больше счастья или несчастья. В качестве
формального мерила здесь не годится даже то, соблюдают или не
соблюдают они установленные законы: можно приносить счастье,
нарушая их, в то же время соблюдение законов — не гарантия увеличения «количества» счастья (см. с. 54—55).
У подданных, напротив, по указанной причине долг есть. Но
«их долг — повиноваться до того предела, до которого простирается их интерес, и не далее того» (с. 56). Но где этот предел —
та черта, за которой, согласно представлениям более ранних либеральных мыслителей, вступает в силу право на сопротивление
власти? Это — центральный вопрос политической теории, от которого напрямую зависит понимание характера, перспектив, исторических и функциональных рамок данного государства.
48
2. МОРАЛЬ В ОТНОШЕНИИ К «БОЛЬШОЙ»
И «МАЛОЙ» ПОЛИТИКЕ
По Бентаму, теоретический ответ на этот центральный вопрос дать нельзя, ибо он тоже становится «вопросом фактов».
Во-первых, бентамовская теория не знает права в его классическом для либерализма понимании как нравственно разумного
требования и неотчуждаемой способности его осуществлять 27 .
Не право, а соображения интереса, расчёт «вероятного вреда
от повиновения в сравнении с вероятным вредом от сопротивления» (с. 86) должны определять предел лояльности индивида по
отношению к власти. Имей мы дело с (естественным) правом,
то могли бы, пусть в самых общих чертах, как Локк, указать на
то, возникновение каких обстоятельств несовместимо с правом
и потому проводит черту между революцией и гражданским
миром. Сейчас мы лишены такой «точки опоры». Всё зависит от
самих обстоятельств, влияющих на соотношение двух указанных
видов вреда.
Во-вторых (и это — отправной пункт аргументации прикладного толка против сопротивления власти), это соотношение
не поддаётся никакой мыслимой калькуляции. Возможность сопротивления в реальной политике зависит от многих факторов,
характеризующихся слишком большой степенью неопределённости. К примеру, при нынешней степени репрессивности данного режима, определяющей соответствующую меру наказания за известные деяния, вред от повиновения оказывается меньше вреда от сопротивления. А если степень репрессивности
режима возрастает (что нередко случается, когда начинаются
27
Позднее Вентам, уже удрученный идеологической практикой американской и французской революций, отпечатает свой знаменитый презрительный афоризм: естественные права — это «чепуха на ходулях». Абсурдно заявлять, что люди рождаются свободными и равными. «Нет, ни один
человек [не свободен], ни один, кто когда-либо был, есть и будет. Все
люди, напротив, рождены в подчинении...» (Bentham's Political Thought /
Ed. В. Parekh. L.: Croom Helm, 1973. P. 262, 269.)
4 Выбор
49
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
революционные действия), и те же деяния преследуются более
суровыми наказаниями, то должен ли я сделать пересчёт видов
вреда и их соотношения и отказаться от борьбы? А если, с другой стороны, мне сулят помощь из-за рубежа, которая способна уменьшить возможности власти вредить мне? А если, с третьей стороны, могут обнаружиться мои разногласия с соратниками и у меня появятся основания бояться вреда от них не
меньшего, чем от правителей? (Кстати, к какой категории отнести этот вид вреда — вреда от сопротивления или вреда от подчинения, и подчинения и сопротивления кому — властям или революционной организации?) Подобные вопросы можно продолжать до бесконечности.
К чести Бентама, он понимает немыслимость калькуляции
вреда от сопротивления, вреда от подчинения и их соотношения.
Но другого (морального) принципа обоснования политического,
как и любого другого, действия у него нет. Что должен делать
тот рациональный эгоист (а у Бентама нет других положительных персонажей), который не готов что-либо предпринимать
без точного просчёта выгоды и вреда для себя, но который убедился, что в данном предполагаемом деле такой просчёт никак
не возможен? Он с необходимостью придёт к заключению, что
такое дело вообще не нужно затевать. А поскольку он — «человек правил» (как и Бентам), то непременно обобщит такое
заключение в некое правило благоразумия, объемлющее все
возможные случаи, в которых мысль о сопротивлении и соблазн его начать могут возникнуть: «Едва ли может быть какоелибо нарушение Закона, подчинение которому (нарушению. —
Б. К.) способно принести больше вреда, чем принесёт сопротивление ему» (с. 55). Это и есть важнейший результат применения бентамовской морали (как благоразумия) к политике во
«Фрагменте о правлении».
В развёрнутом виде — как «общее описание» того, что
Бентам именует «моментом сопротивления» (juncture of
resistance), — приведённое выше правило выглядит следующим
образом. Момент сопротивления достоин одобрения «тогда, но
50
не раньше того, как каждому человеку — по соображениям
долга и интереса — будет позволительно или даже обязательно предпринять меры сопротивления; когда — в соответствии с
наилучшими расчётами, на которые он способен, вероятный
вред от сопротивления (говоря об обществе в целом) покажется ему меньше, чем вероятный вред от подчинения. Это
и будет для него, как и для каждого человека в отдельности,
моментом сопротивления. Встаёт естественный вопрос: по какому признаку опознаётся этот момент? Какой общий сигнал
должен поступить, явный и понятный для всех? Это — вопрос,
который легко ставить, но на который, и это столь же легко, я
надеюсь, понять, невозможно найти ответа» (с. 96-97). Следовательно, о сопротивлении власти нечего больше говорить.
Этой темы Бентам больше ни разу в своей долгой жизни не
коснётся. Он делает важнейший вывод: коли сопротивление власти невозможно, значит, принцип, на котором строится любое
политическое сообщество, включая родную ему Англию, есть
подчинение, а не свобода. Поэтому подчинение вводится Бентамом в само определение политики и «политического общества» вообще (см. с. 40). В свете этого — и в пику всей античной традиции — Бентам не видит никакой «объективной» разницы между тиранией и монархией, аристократией и олигархией,
демократией и охлократией. Всё это — лишь имена, которые
дают соответствующему режиму те, кому он нравится или не
нравится (см. с. 69). Более того, различие между этими режимами заключается не в том, что одни из них обеспечивают свободу, а другие — закабаляют. Различие состоит сугубо в их институциональных конструкциях! В одних режимах есть распределение власти (этой формулой Бентам заменяет старую —
«разделения властей») между разными группами, наличие «свободной прессы», терпимость к «публичным ассоциациям», другие же отличаются концентрацией власти, отсутствием «свободной прессы» и «публичных ассоциаций» (см. с. 97). Но «свободные» по своей конструкции институты воспроизводят тог же
характер власти, что и деспотические, гак же базируются на
4·
51
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
подчинении и имеют в качестве своего персонала таких же неавтономных функционеров28.
Попробуем более обобщённо, т. е. не полагаясь целиком
на аргументы прикладного толка, объяснить, почему такая великолепная счётная машина, какой является бентамовский рациональный эгоист, столь безнадёжно сбит, сталкиваясь с вопросом сопротивления власти?
Что, в самом деле, поддаётся расчёту? То, что есть.
«Есть» — глагол настоящего времени. То, что есть, может меняться — увеличиваться или уменьшаться, разжижаться или сгущаться и т. д. Подобные изменения можно просчитать. Но тенденции таких изменений тоже должны быть в настоящем, чтобы
поддаваться просчёту. Если именно они определяют происходящее с интересующим нас предметом, то мы с приемлемой точностью способны просчитать и будущее. Только такое будущее
будет не совсем новым и как бы не совсем будущим, а скорее
некоторой экстраполяцией настоящего «вперёд» по сравнению
с тем его состоянием, которое имеется «сейчас». Вся прогностика и всё планирование построены именно на этом. Они доказывают свою достоверность тогда, когда настоящее может, разрастаясь или сжимаясь, сохраняться. Когда в эти процессы вдруг
прорывается будущее в собственном смысле слова, т. е. как
отрицание настоящего, то прогностику и планирование всегда
28
Главную политическую задачу любого правления поздний Бентам
жёстко формулировал так: «Общество удерживается вместе только за
счёт того, что людей побуждают жертвовать своими удовольствиями.
Обеспечить эти жертвы — великая трудность и великая задача правления»
(Bentham J. The Psychology of Economic Man // Jeremy Bentham's Economic
Writings Ed. W. Stark. L.: George Allen & Unwin, 1954. Vol. 3. P. 431). Фуко
обоснованно считал, что морально-политическая теория Бентама даёт образцовую модель «дисциплинарного общества», прообразом которого выступает идеально устроенная тюрьма, бентамовский Паноптикон (см.: Фуко М. Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы. M.: Ad Marginem, 1999.
С. 288, 301, 305). Попутно отметим, что такая интерпретация встретила
возражения со стороны некоторых профессиональных бентамоведов (см.:
Rosenblum N. L. Bentham's Theory of the Modern State. Cambridge (MA):
Harvard University Press, 1978. P. 19-20).
52
постигает конфуз, сколь бы изощрённой ни была их научно-методическая база. В том и хитрость, условие и «закономерность»
явлений будущего, что они всегда происходят «вдруг».
Вернёмся к вопросу о сопротивлении власти. Если он ставится всерьёз, то это — вопрос о революции, т. е. об изменении тех
основных условий решения любой задачи общественной жизни,
без известности и неизменности которых она не поддаётся просчёту. У задачи не может быть решения по той простой причине, что
революция — это и есть прерывание настоящего и вторжение неизвестного будущего. Как просчитать революцию? То, что она «пожирает своих детей» (Ж. Дантон), тех, кто инициирует и просчитывает её, общеизвестно. То, что она всегда передаёт власть не
тем, кому собиралась изначально передать её (будь то воры-термидорианцы или новый нобилитет наполеоновской империи вместо
народа во французской революции, будь то коммунистическая
номенклатура вместо Советов и пролетариата — в российской) —
тоже известно. То, что её лозунги поднимают на борьбу тех, кто
в ней гибнет, но при этом по большей части никогда не воплощаются в жизненную практику, — общее место. (Какое «братство» принесла французская революция? Какой «Новый Иерусалим» создала английская? Какой свободой наделила трудящихся Октябрьская
революция?) Однако ж революции происходят и создают новые
миры, в которых, когда они стабилизируются, условия решения задач становятся известными, а сами задачи — просчитываемыми.
Вероятно, можно выделить два крупных типа политики,
беря за критерий её темпоральные характеристики и, соответственно, способ участия в ней разума людей. Не подразумевая
никаких оценочных суждений, назовём их условно «большой» и
«малой» политикой29. В «большой» политике будущее со всей
29
Схожую классификацию даёт известный американский политический
философ Брюс Аккерман, который различает «исключительные» (основополагающие) моменты политики, с одной стороны, и «нормальную» политику — с другой, подробно описывая их специфику в плане институциональной организации, а также деятельности и конституирования субъектов политики (см.: Ackerman В. We the People: Foundations. Vol. 1. Cambridge
(MA): Harvard University Press, 1991).
53
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
его неопределённостью, в его качестве отрицания настоящего
присутствует актуально. (Конечно, это верно не только для революций, но и для других общественных катаклизмов.) Будущее
снимает детерминирующую тяжесть устоявшегося бытия. Это
отнюдь не означает, что в такие периоды люди «пишут» свою
новую жизнь на «чистом листе». Как говорил Маркс, люди творят историю только при определённых обстоятельствах (не только материальных, но и духовных). Но в такие периоды они именно творят, меняя modus operand! существующего мира (пусть
результат их творчества оказывается далёк от задумок всех участников такого процесса), а не воспроизводят этот modus, лишь
увеличивая или уменьшая те или иные его параметры.
«Малую» же политику характеризует именно это — воспроизводство всех базовых общественных структур, предстающее как
их самовоспроизводство ввиду господства рутины в человеческой
деятельности. При этом рутину вообще не следует отождествлять
с косностью и статичностью так называемых традиционных укладов. Рутинизирован может быть и прогресс, если неизменны его
направление и формы осуществления, что очень тонко подмечает Йозеф Шумпетер в связи с современной капиталистической экономикой30. В «малой» политике будущее присутствует лишь потенциально — как возможность развития несистемной оппозиции,
несущей жизнеспособную альтернативу настоящему. Если и её
пока нет, подчинение — со всеми вытекающими следствиями, как
верно отмечает Вентам, — остаётся основополагающим принципом политии, какие бы «зазоры свободы» ни оставлял её конкретный институциональный дизайн. «Малая» политика — поле настоящего, проецируемого на будущее в виде экстраполяции, но также на прошлое — в виде его колонизации настоящим,
выстраивания истории по образу лестницы, ведущей к настоящему (история, сконструированная как «прогресс» и «эволюция»).
30
О рассуждениях Шумпетера по поводу «механизации прогресса»
см.: Шумпетер И. Капитализм, социализм и демократия. М.: Экономика,
1995. С. 183 и далее.
54
Этим темпоральным характеристикам «большой» и «малой» политики соответствуют способы участия в них разума.
Если актуального будущего нет, то практический разум (разум
деятельного, а не созерцательного человека) вправе замкнуться на «вопросах фактов», поскольку они в таком случае действительно — факты, а также в тех правилах благоразумия, которые
описывает Бентам. В этом случае мораль, не сводящаяся к утилитаристскому благоразумию, оказывается резонёрством с
очень узкими и второстепенными функциями в политике, которые мы рассмотрим позднее. В целом же в рамках «малой» политики мораль заменяется благоразумием, которое и выступает под именем и от имени морали (утилитаристская мораль).
Иными словами, в «малой» политике разум предстаёт (преимущественно, в главном, типично) как калькулирующий или инструментальный разум, занятый соотнесением пользы и вреда,
оптимизирующий подбор средств в целях выгоды и не утруждающий себя (сократовским) вопрошанием о том, что есть выгода и как её правильно понимать.
В «большой» политике дело обстоит иначе. И это очень точно чувствует Бентам в тех частях «Фрагмента...», в которых он
особенно энергично нападает на «закон природы», «естественные права» человека и прочий моральный «вздор» ранних либералов (и Блэкстона). Главный порок всех этих представлений — не
теоретический, а именно практический. То, что они ложны, т. е.
не имеют никакой референции в виде фактов, а потому «суть
лишь фразы», — ещё полбеды. Гораздо хуже проистекающий от
них практический вред, заключающийся в том, что они «имеют
естественную тенденцию... побуждать человека силой сознания
подняться против закона с оружием в руках, если закон ему не
нравится. Какое же правление совместимо с таким умонастроением (with such a disposition)?..» (с. 95-96. Курсив мой. — Б. К.).
Ведь сопротивление власти обосновывается, рассуждает Бентам,
такой произвольной пустышкой, как «закон природы», а не фактами, относительно которых все могут иметь взвешенное, разумное (построенное на учёте пользы и вреда) мнение.
55
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
Оставим на совести Бентама формулировку «если закон
ему не нравится», поскольку применительно к «закону природы»
речь может идти исключительно о нравственно-должном, которое следует передать формулой «закон не должен быть терпим», а не о субъективно-психологическом, чему соответствует
выражение «нравится». Важнее другое. Бентам верно понимает:
то долженствование, которым мораль побуждает к действию,
как бы аннулирует значение фактов, поскольку имеет безусловный характер. Смысл морального долженствования — «действуй
так-то, невзирая ни на что!», ибо нечто должно быть отринуто
безотносительно к создаваемым им пропорциям пользы и вреда (всегда изменчивым и потому неопределённым). У такого
долженствования действительно нет фактической референции.
Но есть референция к сознанию, обладающему силой, что опять
же точно выражает Бентам (в этом смысл его формулировки
«подняться силой сознания»). Такая сила есть свобода в действии, освобождение от детерминации «фактичностью» — не в
смысле нелепого игнорирования фактов или нечувствительности
к их тяжести, а как способность действовать не под их «диктовку»
и часто — против них. Иммануил Кант назовёт такую способность «спонтанностью» и действием «причинности свободы». Всё
это никак не поддаётся калькуляции, но только так актуализируется будущее. И совершается «большая» политика.
Сказанное имеет прямое отношение к вопросу о сопротивлении власти. Ориентированный на факты инструментальный разум наталкивается здесь на абсолютный для него предел, за которым начинается неопределённость, порождающая его отказ
действовать. Сопротивление, необходимым образом перешагивающее предел известного и рассчитываемого, оказывается невозможным. Подчеркнём, что моральный разум кантианского
типа снимает неопределённость будущего не через познание
фактов, наличных и возможных в будущем, а через абсолютное
предписание действовать, несмотря на их неизвестность. В этом
смысле он действительно оказывается «подрывным элементом»
для любого правления, поскольку ни один вид правления, как мы
56
знаем ещё от Сократа, не может вполне удовлетворить его. Но
как раз благодаря этому именно моральный, а не инструментальный разум оказывается не только адекватным «большой» политике, но и выступает её важнейшей составляющей.
Не впали ли мы, сказав это, в противоречие? Обсуждая Сократа, мы говорили чуть ли не об имманентной аполитичности
морального сознания. Теперь же мы акцентируем его политическую значимость и неотделимость от «большой» политики. Каким
образом аполитичное моральное сознание может иметь такое
огромное политическое значение? Запомним этот вопрос и это
противоречие, мнимое оно или действительное. Их прояснению
посвящена вся книга, поскольку они составляют её проблемный
нерв. Это — как раз то, чем мы будем заниматься — под разными углами зрения — во второй и третьей частях книги.
А пока обратим внимание на следующее. Допустим, что
моральное сознание важно для «большой» политики. Но делает
ли это его важным для политической теории? Ведь она призвана
дать общее и обобщённое отражение политической жизни, а то,
что мы назвали «большой» политикой, — лишь кратковременные
вспышки в политической истории людей. Они — лишь нечто исключительное по сравнению с обычной политической жизнью,
которая, по существу, вся есть «малая» политика. Не должна ли
теория строиться на познании типичного, отводя исключительному скромную роль «особых случаев»? А если так, то стоит ли политической теории заниматься моральным сознанием?
3. ЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ «БОЛЬШАЯ» ПОЛИТИКА
ДЛЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Свою «Политическую теологию» Карл Шмитт начинает с
очень важного методологического замечания. Понятие «суверенитета», центральное не только для данной работы, но и политической философии вообще, устанавливается именно относительно
«чрезвычайного положения». Хотя получаемая таким образом
дефиниция выступает «предельным понятием» и «должна быть
57
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
привязана не к нормальному, но только к крайнему случаю», она
в то же время, точнее благодаря этому, является «общим понятием учения о государстве»31. Почему? Потому что рассматривая
«нормальный порядок», мы можем открыть закономерности его
функционирования, но не то, каким образом и благодаря чему он
возник, и, следовательно, не то, благодаря чему и в каких рамках
сохраняются сами эти закономерности его воспроизводства.
«Нормальный порядок» что-то и как-то должно было произвести, чтобы затем он мог воспроизводиться. Производство
задаёт границы и принципы, в которых и на которых он функционирует. Пока воспроизводство порядка протекает более-менее гладко, оно может не замечать своих границ и даже представлять себя безграничным, а также воспринимать лежащие в
его основе принципы как «естественные» и «самоочевидные»,
а не созданные кем-то и когда-то через конфликт и борьбу, а
потому действенные лишь в определённых культурно-исторических условиях. Так, к примеру, для Аристотеля человек — по
природе «политическое животное», а для Бентама он — естественный «рациональный эгоист».
Но сбои в воспроизводстве «нормального порядка», не говоря уже об общественных катаклизмах, актуализируют проблему
его границ и разрушают «естественность» и «самоочевидность»
его принципов. Их нужно кому-то — и вновь в борьбе — производить заново. Или производить иные принципы и границы. Один американский экономист остроумно заметил: «Экономика завоевала
титул царицы социальных наук благодаря тому, что избрала своей предметной сферой уже решённые политикой проблемы».
Только при этом условии то, что в действительности есть конфликт,
предстаёт как контракт (например, между носителями рабочей
силы и капитала)32. Действительно, о каком накоплении капитала
31
ШмиттК. Политическая теология. М.: Канон-Пресс-Ц, 2000. С. 15.
Lerner A. On the Economics and Politics of Consumer Sovereignty //
American Economic Review, May 1972. Цит. по: Capitalism and Democracy:
Schumpeter Revisited / Ed. R. D. Сое and С. К. Wilber. Notre Dame (IN):
University of Notre Dame Press, 1985. P. 154.
32
58
или свободе передвижения товаров, услуг и рабочей силы можно
говорить в условиях войн, революций или даже эффективных действий террористов, как показал совсем недавний опыт? Примерно
той же логикой руководствуется и Шмитт в анализе права: «Не существует нормы, которая была бы применима к хаосу. Должен
быть установлен порядок, чтобы имел смысл правопорядок. Должна быть создана нормальная ситуация, и сувереном является тот,
кто недвусмысленно решает, господствует ли действительно это
нормальное состояние... Суверен создаёт и гарантирует ситуацию
как целое в её тотальности»33.
Но какой методологический вывод отсюда следует? Тот, что
нормальный порядок в самом для него существенном, т. е. в его
границах и принципах, нельзя познать «изнутри» его самого: он
навязывает оптику, из-за которой границы «не замечаются», а
принципы видятся как нечто натуральное, а не историческое. Напротив, если мы рассматриваем «исключительные случаи», которые сформируют эти границы и принципы, то получаем возможность понять и эти «случаи», и то, что они порождают, т. е. нормальный порядок в его важнейших чертах. Шмитт обобщает эти
рассуждения следующим образом: «Исключение интереснее
нормального случая. Нормальное не доказывает ничего, исключение доказывает всё; оно не только подтверждает правило,
само правило существует только благодаря исключению». И далее: «Исключение объясняет всеобщее и самое себя»34.
33
Шмитт К. Указ. соч. С. 26.
Там же. С. 29. Без малого за три века до Шмитта эту методологическую установку на изучение нормального порядка через «исключение» и
«чрезвычайное положение» чётко отрефлектировал и реализовал в своей
исследовательской практике Томас Гоббс. В Предисловии к работе «О гражданине» он пишет: «...при отыскании прав государств и обязанностей граждан (это — главный предмет его политической философии. — Б. К.) нужно
хотя и не расчленять государство, но всё же рассматривать его как бы распавшимся на части». «Распавшееся государство» — это и есть «естественное состояние» людей вне гражданского общества, состояние «войны всех
против всех». Если это состояние понимать как «предельный слу3<
59
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
Ясно, что «большая» политика является таким «исключением» и «крайним случаем» по отношению к «малой» политике
как «нормальному порядку». Но, как мы видели, для того, чтобы «большая» политика стала возможной, необходимо «преодоление фактов» и их снятие в том абсолютном долженствовании, которое определяет будущее, принципиально неопределимое с точки зрения фактов настоящего. Ницше прав,
утверждая, что рабы восстают «в морали» и только в морали
перерабатывают себя «из черни» для будущего господства (см.
сноску 10). Но не о приложении морали к политике здесь идёт
речь, не о моральном оценивании политики, а о той «моральности, которая есть характер как нечто запёчатлённое» в человеке35, если угодно, о лютеровском «на том стою и не могу иначе». Возникновение таких характеров само по себе есть обстоятельство величайшей политической значимости. От него, в
конечном счёте, зависит то, сохраняются или упраздняются самые «объективные» закономерности данной формации общественной жизни. Фридрих Энгельс великолепно передал эту
мысль: «Что неверно в формально-экономическом смысле,
может быть верно во всемирно-историческом смысле. Если
нравственное сознание массы объявляет какой-либо экономический факт несправедливым, как в своё время рабство или барчай» политической жизни, представленный в виде аналитической модели
познания «прав государств и обязанностей граждан» в нормальном порядке, порождаемом общественным договором, то мы имеем все основные
составляющие рассматриваемой методологической установки (см.: Гоббс
Т. О гражданине // Гоббс Т. Избр. произв.: В 2 т. М.: Мысль, 1964. Т. 1.
С. 290—291 ). Подробнее о такой трактовке методологии Гоббса в западной
историко-философской литературе см.: Капустин Б. Г. Указ. соч. С.17-18.
35
Kierkegaards. The Present Age. Tr. A. Dru. N.Y.: Harper Torchbooks,
1962. P. 43. В плане нашей темы самое примечательное в кьеркегоровском
анализе «моральности как характера» то, что таким образом понятая моральность напрямую связывается с «революционной эпохой», противопоставляемой «нашей эпохе рекламы и разглагольствований», в том числе о
морали и политике. См.: Указ. соч. С. 35, 44, 47 и далее.
60
щину, то это есть доказательство того, что этот факт сам пережил себя...»36. Если это так, то общая политическая теория,
формирующая концепцию политики прежде всего на «крайних
случаях» «большой» политики, не может игнорировать то, какую роль и как играет в ней мораль.
Конечно, при рассмотрении этой роли встаёт важный и
сложный вопрос о том, каким образом мораль как форма индивидуального сознания превращается в «нравственное сознание массы», улавливаемое категорией «политической этики».
О каком-либо автоматизме такого превращения, если мы не хотим впасть в моральный идеализм и воспроизводить неприличные для нашего времени сентенции ранних либералов о «светоче» морального разума, равно- и прямодействующем для всех
«нормальных людей», говорить нельзя. Но сложность данного
вопроса и неприемлемость идеализма, по сути отождествляющего (на уровне «оснований») политическую философию с моральной, не оправдывают встречающийся у многих авторов отрыв политической этики от морали. Такой подход всегда чреват
объективированием ценностей, их приписыванием институтам
чуть ли не в качестве элементов конструкции последних37.
36
Энгельс Ф. Маркс и Родбертус // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. М.:
Политиздат, 1961. Т. 21. С. 184.
37
К примеру, немецкий профессор Бернард Сутор пишет: «Коллективные субъекты, такие как общества по интересам, партии, государства,
не могут выполнить свою этическую миссию, полагаясь на индивидуальную
мораль... Поэтому этика института находится в центре политической этики;
даже если мы не заходим так далеко, чтобы утверждать, что ничего не зависит от хороших целей и правильных действий индивидуального действующего лица». Конечно, поясняет далее этот автор, институты не заменяют
то, «что должна сделать индивидуальная мораль», хотя они способны и
«должны компенсировать дефицит морали». Остаётся неясным только то,
как участвует мораль в создании, функционировании, перестройке таких
институтов и даже в определении того, являются ли объявленные свободными и справедливыми институты таковыми на деле (см.: Сутор Б. Малая
политическая этика // Политическая и экономическая этика. М.: ФаирПресс, 2001.0.62,69).
61
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
Однако не будучи чьими-то ценностями, более того, такими, которые через самостоятельную рефлексию направляют
мысль людей к тому, чтобы заново оценивать «работу» якобы
воплощающих эти ценности институтов, ценности перестают
быть ценностями и становятся лишь орудиями манипуляций, используемыми разными идеологическими аппаратами. Без постоянно циркулирующих «токов» между индивидуальным моральным сознанием и «нравственностью масс», не говоря уже
о «нравственности институтов», политическая этика имеет не
только возможность, но и тенденцию превращаться в апологию
несвободы. Нам ещё предстоит заняться тем, как циркулируют
или могут циркулировать эти «токи».
СЛУЧАЙ КАНТА.
Лекции 3-5
МОРАЛЬНОЕ СОЗЕРЦАНИЕ
И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
ЛЕКЦИЯ 3.
МОРАЛЬНЫЙ ДОЛГ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ
КОНФОРМИЗМ
1. ДОЛГ В ПОЛИТИЧЕСКОМ И МОРАЛЬНОМ
ПОНИМАНИИ
На склоне лет, в 1797 году, Иммануил Кант печатает статью
«О мнимом праве лгать из человеколюбия»38. Она представляет собой весьма обстоятельный ответ на полемическое выступление крупнейшего теоретика французского либерализма конца XVIII — первой трети XIX века Бенжамена Констана. Предмет
спора — кантовское понимание нравственного долга, более
конкретно — отношение человека к долгу. Непосредственно
же речь идёт о долге не лгать и о том, является ли он абсолютным или относительным, т. е. о том, зависит ли его исполнение
от ситуаций, в которых может оказаться человек, в принципе
признающий, что лгать — плохо.
Мысль Констана, вызвавшая отповедь Канта, была такова:
«Нравственное правило, будто говорить правду есть наш
долг — если его взять безусловно и изолированно, — сделало
38
Кант И. О мнимом праве лгать из человеколюбия // Кант И. Собр.
соч.: В 8 т. М.: Чоро, 1994. Т. 8. Все ссылки на это произведение даются
прямо в тексте на данное издание.
63
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
бы невозможным любое общество». На это приводится иллюстрация. Если наш долг — всегда и независимо от любых
обстоятельств говорить правду, то это означает, что солгать
на вопрос злоумышленника, не скрывается ли в нашем доме
преследуемый им наш друг, было бы преступлением (с. 256).
Констану такое заключение представляется не только абсурдом, но и той безнравственностью, которая сделала бы, будучи возведённой во всеобщее правило, невозможными отношения людей, т. е. само общество. Констан поясняет
(а Кант видит в этом его самопротиворечие): долг говорить
правду конечно же есть. Более того, он неотделим от понятия права — в том смысле, что долг одного человека соответствует праву другого. Но там, где нет права у одного, у другого нет соответствующего долга. У злоумышленника в приведённом примере нет права знать, где скрывается наш
невинный друг, следовательно, у нас нет долга говорить ему
правду (см. там же).
Сразу отметим следующее. Во-первых, аргументация Констана имеет по существу политический характер. В центре
её — тезис о невозможности общества, если люди станут безусловно, т. е. бездумно, не обращая внимания на обстоятельства, исполнять моральный долг. Констан даже не ставит вопросы о том, каковы собственные требования морального сознания (в данной ситуации), или же о том, что надлежит делать,
чтобы выполнить их и сохранить незапятнанность моральных
одежд. Если бы ставились такие вопросы, то, вероятно, у Констана не было бы никаких оснований полемизировать с Кантом,
поскольку ответ самоочевиден — исполнять долг правдивости.
Иными словами, проблема Констана в том, что означает и к
чему приводит прямая, не опосредованная учётом определённых обстоятельств проекция морали на общественную жизнь, а
не в том, как точнее понимать «устройство» самого морального сознания и смысл его предписаний. В выводе о том, что такая прямая проекция, переведённая на язык действий, даёт
64
скверные результаты, Констан отнюдь не одинок даже среди
либеральных и весьма умеренных теоретиков39.
Во-вторых, не должно складываться впечатление, будто поставленная Констаном проблема имеет значение сугубо для частной жизни и встречается только в её рамках, скажем, когда
бандит преследует близкого нам человека. Хотя ясно, что разрушение безнравственной правдивостью (если Констан прав)
частных отношений между людьми также чревато тяжёлыми
последствиями для общественной жизни в целом. Но подлинную
остроту и значение для этической и политической теорий эта
проблема приобретает именно тогда, когда она выступает в
сфере публично-властных отношений и при самоопределении
людей в качестве граждан, а не только частных лиц. Именно
этот аспект проблемы интересует Констана в первую очередь.
В произведении «Принципы политики», которое Констан
публикует почти двумя десятилетиями позже вызвавшей критику Канта статьи, он вновь возвращается к этой проблеме, но берёт её уже непосредственно в контексте политики. В «Общественном договоре» Жан-Жак Руссо, с кем на сей раз непосредственно полемизирует Констан, заявляет о праве суверена
утверждать догматы «гражданской религии» (в отличие от «религии человека» и «священнической религии») и требовать от
подданных и граждан веры в них. Те, кто не верят, заслуживают изгнания как неспособные жить в обществе. Те, кто публично признают эти догматы, но ведут себя не в соответствии с
ними, караются смертью как совершившие тягчайшее преступление — ложь перед законами40. С точки зрения Констана, такие требования суверена и такие кары за их невыполнение —
39
Так, выдающийся английский философ XX века Альфред Уайтхед писал: «Если бы общество в его нынешнем состоянии буквально последовало
моральным заветам Евангелий, это привело бы к его немедленной гибели»
(Уайтхед А. Н. Избр. работы по философии. М.: Прогресс, 1990. С. 405).
40
См.: Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права. // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М.: Наука, 1969. С. 254.
5 Выбор
65
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
верх несправедливой и абсурдной «гражданской нетерпимости», более опасной и невыносимой, чем любая религиозная нетерпимость. Для тех, кто сталкиваются с подобными явлениями,
вынужденная вопиющей несправедливостью власти ложь — не
грех, а, как минимум, необходимое средство защиты себя и
своих родных. «...В этих условиях ложь представляется мне
весьма далёкой от преступления: когда так называемые законы
требуют от нас правды только для того, чтобы нас проклясть,
мы не должны говорить правды»41.
Здесь речь идёт об иной ситуации, чем та, которая описывалась в более ранней статье. Но суть рассуждений прежняя —
симметрия и взаимополагание (моего) долга не лгать и (вашего) права на правду. Абсурдные законы, не соответствующие
самому понятию закона (как справедливости), имеют столь же
мало права на мою правдивость, как и бандит, не отвечающий
понятию разумно-нравственного человека и тем самым вычёркивающий себя из круга тех, между кем действуют законы разума и нравственности.
Важно здесь следующее. Для Констана долг — не «факт»
моего изолированного, оторванного от всякой реальности сознания, а определённая модальность реального отношения.
Эта модальность, будучи установленной, обязывает меня вести себя (и говорить) соответствующим образом. Но для того
чтобы она установилась, на другой стороне отношения должен
иметься партнёр, равным образом способный к её установлению. Без этого условия долга не может быть, что бы я «философски» ни фантазировал о нём. Если же через мои действия
такие фантазии входят в жизнь, то они скорее всего принесут
самые дурные плоды — будь то для моего несчастного друга,
как в примере из ранней статьи, будь то для меня самого и моих
близких, как показывают «Принципы политики».
41
Констан Б. Принципы политики // Классический французский либерализм. М.: РОССПЭН, 2000. С. 157.
66
Следовательно, ключевым условием исполнения долга является рефлектирующее определение и того, с кем я имею
дело (хотя бы в смысле выяснения соответствия его поступков
образу действий нравственно-разумного человека), и моих обязательств в отношении его. Подчеркнём: речь идёт о нравственной рефлексии, а не об инструментальном просчёте возможной
пользы или вреда от установления тех или иных отношений с другим человеком (или властью). Если я мыслю себя нравственным
существом, то такая рефлексия является моим долгом перед
самим собой (или перед Богом), который как таковой не тождественен нерефлексивно принятому долгу, как его понимает
(согласно Констану) Руссо. В таком ключе до Канта рассуждали многие моральные и политические философы42.
Кант выступает против всех этих рассуждений, сконцентрированных Констаном в тезисе о допустимости лжи в общении с
теми, кто не имеют права на правду. До того, как мы рассмотрим аргументы Канта, припомним в самом общем виде его понимание долга.
В «Основах метафизики нравственности» Кант даёт самое
краткое определение долга: «Долг есть необходимость [совершения] поступка из уважения к закону»43. Данное определение
содержит три принципиальных момента. Первый: не может
быть должных поступков, совершаемых под действием любых
42
К примеру, Гуго Гроций, объясняя «естественную» недозволенность
обмана тем, что он нарушает право другого на «свободу суждения», вместе с тем ограничивает применение этого принципа в отношении тех, кто этим
правом по тем или иным причинам обладать не может или в данной ситуации должен отказаться от его реализации ради общего блага (см.: Гроций Г. О праве войны и мира. М.: Ладомир, 1994. Кн. 3. С. 587-590). Более
лаконичен Локк: не может быть нравственного долга перед преступником,
«который, отрекшись от рассудка, общего правила и мерила, данного Богом
человечеству, сам посредством несправедливого насилия... объявил войну
всему человечеству...» (Локк Д. Два трактата о правлении. С. 268).
43
Кант И. Основы метафизики нравственности // Кант И. Соч.: В о т .
М.: Мысль, 1965. Т. 4.4. 1.С.236.
67
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
(включая самые возвышенные) склонностей. Должное совершается исключительно из уважения к закону. Второй: закон, который уважают, — категорический императив, заключающий в
себе «принцип всякого долга». Долг и есть «чистое уважение»
к такому закону со стороны субъекта. Третий: долг есть необходимость поступка лишь потому, что он (как выражение уважения) «имеет силу для всех разумных существ». «Лишь поэтому», подчёркивает Кант, он должен быть законом для всякой
человеческой воли44.
Почему уважение имеет «силу» (тем более для всех людей
без исключения), и какую «силу» оно имеет? Оно имеет сугубо логическую силу и имеет её потому, что «все» люди обладают (отвлечёмся от градаций в таком обладании) логическим
мышлением и, как предполагается, с почтением относятся к его
результатам45. Дело в том, что кантовский нравственный человек — логик и неутомимый экспериментатор в лаборатории ло" Нант И. Основы метафизики нравственности. С. 265.
Такая зависимость этики от логики в той или иной форме сохраняется
у последователей Канта вплоть до наших дней. У одного из творцов так называемой «коммуникативной этики» — немецкого философа Карла-Отто
Апеля этика выводится из логики таким образом, что возникает формула
«этики логики». Дело обстоит не так, поясняет Апель, что логика уже имплицирует этику. Важно другое: «логика — а с ней одновременно все науки и технологии — предполагает этику в качестве условия собственной
возможности». Логическую значимость аргументов нельзя доказать, если
не предположить сообщество мыслителей, способных к интерсубъективному взаимопониманию и формированию консенсуса. Получается, что любая
логическая аргументация предполагает следование «основной моральной
норме», чем и обеспечивается достижение консенсуса в «сообществе мыслителей». В этом смысле логика делает этику необходимой и позволяет
распознать «последние основания» этики (см.: Апель К.-О. Априори коммуникативного сообщества и основания этики // Апель К.-О. Трансформация философии. М.: Логос, 2001. С. 298-302). Блестящую критику этих
взглядов Апеля см.: Cass/n ß. Speak, If You Are a Man, or the Transcendental
Exclusion // Terror and Consensus / Ed. J.-J. Goux and P. R. Wood. Stanford
(CA): Stanford University Press, 1998. P. 13-24.
45
68
гики. Он не только каждый акт своего поведения продумывает
на предмет того, какому правилу этот акт соответствует (если
акт уже не продуман ранее), но и само такое правило тщательно взвешивает с точки зрения критерия соответствия общезначимости. Допустимы лишь такие акты, в отношении правил которых можно желать, чтобы ими руководствовались все люди
без исключения как законом. Это и есть категорический императив. Будучи уважаемым, он есть долг.
Сейчас я не собираюсь касаться бесконечных дискуссий,
вызванных этими формулировками, к примеру, о том, почему
прошедшие логический тест правила должны оказаться правилами доброго (или хотя бы справедливого) поведения, и наоборот — способны ли все правила доброго поведения пройти указанный тест46? Или же о том, каким образом логический вывод,
с которым я вполне согласен, способен пересилить бушующие в
моей душе страсти, да ещё так, чтобы задать «программу» моему поведению47? Уже не говоря о том, что два или более успешно прошедших тест правила, равно претендующих на статус закона, могут предъявлять к индивиду взаимоисключающие требования, которые вынуждают его принимать ситуативные решения
по принципу ad hoc. (К примеру, коллизия излюбленной Кантом
нормы возврата залога и предписания «не навреди ближнему
своему», если известно, что возвращённый залог станет орудием
46
Заповедь «не собирайте себе сокровищ» вкупе с «продай имение
твоё и раздай нищим» (Мф. 6, 19; 19, 21), несомненно, является доброй.
Но она не проходит тест на общезначимость, ибо её универсальное исполнение тождественно её упразднению, т. е. ликвидации «сокровищ» и «имений», что, разумеется, отнюдь не обязательно ведёт к тому, чтобы нищие
перестали быть таковыми.
47
У Еврипида Медея, замыслившая убить своих детей, говорит:
На что дерзаю, вижу... Только гнев
Сильней меня, и нет для рода смертных
Свирепей и усердней палача...
(Еврипид. Медея, 1078-1080 // Еврипид. Трагедии. М.: Ладомир; Наука,
1999. Т. 1.С. 108.
69
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
48
безнравственного или противоправного деяния .) Минуя общетеоретическое рассмотрение этих вопросов, сосредоточимся на
том, как Кант, опираясь на своё учение о долге, выстраивает аргументы против приведённого выше тезиса Констана.
2. МОРАЛЬ И ПРОБЛЕМА ИСТИНЫ
Первый же полемический ход Канта несёт огромную смысловую нагрузку и как бы в свёрнутом виде содержит все остальные аргументы. Он нацелен на то, чтобы подорвать фундамент
рассуждений Констана. Этот фундамент, как мы помним, —
его мысль о том, что говорить правду есть долг только в отношении того, кто имеет право на правду. Для Канта это — «первое заблуждение», «лишённое смысле». Право, подчёркивает он, человек может иметь только на собственную правдивость, т. е. «на субъективную правду в нём самом». Полагать,
будто можно объективно иметь право на какую-либо правду,
означало бы допустить, что «от нашей воли зависит, чтобы известное положение было истинно или ложно». Именно это допущение представляется Канту «странной логикой» (см. с. 257).
В общем плане зависимость истины от воли — огромная
философская тема, проходящая в европейской мысли от Гегеля (или даже от Фихте) через Шопенгауэра, Маркса и Ницше к
Фуко и многим другим современным теоретикам. Ничего
«странного» в ней конечно же нет. Но и без знакомства со всей
этой богатейшей интеллектуальной традицией, оставаясь на
уровне осмысления самого обыденного жизненного опыта, неужели не видна зависимость истины от нашей воли? От чего, скажем, зависит истина того аккорда объяснений в любви, который
звучит примерно так: «Я буду тебе верен до конца моих дней»?
48
Некоторые авторы делают из этого радикальный вывод о том, что
неустранимый конфликт моральных предписаний есть свидетельство того,
что никакая этическая теория не может своими «общезначимыми» суждениями и императивами охватить весь спектр морально значимых решений
(см.: Winch P. Ethics and Action. L: Routledge and Kegan Paul, 1972. P. 163).
70
Можно сказать — от силы чувства, хотя для Канта это была бы
ещё худшая зависимость истины, чем от воли. Но мы-то знаем,
что в том сумбуре чувств, который обычно порождается жизнью, даже сильное чувство в конце концов остаётся сильным,
лишь когда его подпирает и направляет воля. Однако в качестве
истины человеческой любви, а не односторонней одержимости, подобной той, которую демонстрирует в «Манон Леско»
кавалер Де Грие и для которой её предмет, как он есть в действительности, давно потерял значение, такая верность — нечто
гораздо большее, чем установка субъективной воли. Это —
верность любви как совместному чувству, истинность которого является общей и по существу зависимой от двух воль.
На языке философии это называется «перформативным отношением». Его участники, признавая друг друга в определённом
качестве, принимают на себя взаимные (не всегда и не во всём
эквивалентные) соответствующие обязательства. Эти обязательства и образуют истину и основание данного отношения1". Иными
словами, истина, зависящая от взаимосвязанных воль участников
отношения, по своей сути интерсубъективна, она не принадлежит
ни субъекту (ни одному из субъектов), ни тем более какому-либо
объекту как чему-то существующему независимо от субъекта.
Почему, если иметь в виду сугубо теоретическую сторону
вопроса, Кант проходит мимо, казалось бы, очевидной зависимости истины, во всяком случае, некоторого рода истин от воли людей? По той же причине, по которой долг уважения имеет исключительно логическую силу, а важнейшие моральные принципы (тот
же категорический императив) оказываются правилами экспериментирования в лаборатории логики. Для Канта истина (с формальной стороны) есть согласие с законами рассудка, которые
и есть логика. Соответственно, заблуждение есть результат влияния чувственности на деятельность рассудка, отклоняющего её
49
Подробнее о «перформативном» отношении (в данном случае —
как отношении говорящего и слушающего) см.: Habermas J. Lawrence
Kohlberg and Neo-Aristotelianism // Habermas J. Justification and Application.
Tr. C. P. Cronin. Cambridge (MA): The MIT Press, 1993. P. 131.
71
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
от следования законам логики50. Поэтому если уж говорить о зависимости истины, то зависеть она может только от рассудка и его
логики, а никак не от воли как моего самоопределения в качестве
живого («эмпирического») существа, находящегося в определённой ситуации. Тем паче — не от воли «другого» (скажем, того, кто
в констановском примере раздумывает о том, выдавать ли злодею
своего друга). Рассудком же обладает каждый. Поэтому каждый,
независимо от чего-либо, обладает правом на истину.
Тут мы и подходим к главному. Оказывается, Кант не различает и постоянно подставляет одно на место другого совершенно разные понятия — «заблуждение» и «ложь», также как под
общей вывеской «истина» у него скрываются две разные сущности, которые по-русски точнее всего передать словами «истина»
и «правда». Если указанные понятия — в отличие от Канта — разводить, то у нас получатся нетождественные пары: «истина —
заблуждение» и «правда — ложь»51. Первая пара, классической
50
См.: Кант И. Критика чистого разума. М.: Мысль, 1994. С. 74—75, 215—
216. По Канту, формальное определение истины должно быть дополнено прояснением условий «эмпирической истины». В целях нашего изложения я отвлекаюсь от этого второго вопроса потому, что он не может внести коррективы
в понимание истины как продукта логики (хотя потребует уточнения относительно специфики этого продукта). Ведь «эмпирическая истина» соотносится
с «явлением» как тем, что отличается от других представлений (не соотнесённых с истиной) именно подчинённостью правилам его презентации, способным связывать многообразное. Но это и есть действующие через воображение те же логические правила, выступающие на сей раз прежде всего в виде
схемы причинно-следственных отношений (см. там же, с. 154, 160 и далее).
51
Тонкое различение этих пар категорий — вместе с показом их сложных и изменчивых взаимоотношений в истории культуры Запада — проводит американский философ шведского происхождения Сиссела Бок. Она
относит их к сферам, именуемым «эпистемологической» — в первом случае и «этической» — во втором (см.: BokS. Lying: Moral Choices in Public and
Private Life. N.Y.: Vintage, 1989. P. 6—16). Исследование различий «истин»
и «заблуждений» относительно фактов, с одной стороны, и относительно
нравственных определений — с другой, равно как и анализ ролей, которые
эти виды «истин» и «заблуждений» играют в мышлении и поведении человека, достаточно развиты и в философской, и в политической теории (см.:
Eagleton Т. Ideology: An Introduction. L.; N.Y.: Verso, 1994. P. 17 ff).
72
сферой применения которой (если отвлечься от некоторых деликатных проблем современной эпистемологии науки) являются
математика, естествознание и направляемые ими виды производства, в целом отвечает кантовскому описанию. Здесь сокрытие
истины или отказ в праве на неё нравственно недопустимы. (Хотя
это — самая обычная капиталистическая практика утаивания производственных и научных «секретов», противовесом которой —
в качестве борьбы за истину — выступает промышленный и иной
шпионаж.) Иное дело — пара «правда — ложь», сферой действия которой являются деяния и отношения людей, насквозь пронизанные их волями и страстями.
Мало сказать, что правда и истина, с одной стороны, ложь
и заблуждение — с другой различаются интенционально и содержательно. Эти различия крайне важны именно с политической точки зрения. Суждение «рабство позорно и потому не
должно существовать» может быть великой правдой, если оно
выражает дееспособную волю, могущую положить конец рабству и движимую возмущением против него. Но как перевести
эту правду на язык истины, будь то в её докантовском (как правильное отражение явления-факта) или кантовском (логически
корректное упорядочение опыта в причинно-следственной схеме) смыслах? Разве из позорности рабства как причины выводима необходимость его уничтожения как следствия? «Упорядоченный опыт» говорит как раз об обратном: рабство всегда
считалось позором и прекрасно существовало тысячелетия (как
существует в специфических формах и сейчас, вызывая гнев правозащитников и Госдепа США52). И вообще — какие факты отражают оценка рабства как «позорного» и решимость его уничтожить? А с другой стороны, не будет ли вопиющей нравственной
52
Недавняя иллюстрация ко всему этому — публичные обвинения,
предъявленные Копимом Пауэллом России и ещё 18 странам в том, что они
недостаточно противодействуют рабскому труду и торговле людьми на
своих территориях. Разумеется, все эти явления есть и в США, как и других «цивилизованных» странах Запада (см.: Куплю человека // Известия.
2002. 7 июня. С. 1).
73
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
ложью фактически истинное высказывание «этот человек —
раб»? Ибо если он в самом деле «человек», то в фактическом
состоянии рабства будет не рабом, а бунтарём, а став действительно рабом, он перестанет быть «человеком». И не правдивее ли фактически неистинное утверждение Аристотеля о том,
что свободный (отождествляемый им с эллином) не будет рабом даже в плену у варваров, тогда как варвар не будет свободным даже среди свободных53?
Неразличение истины и правды, заблуждения и лжи54 имеет три следствия, которые и определяют логику последующих
кантовских аргументов против Констана. Эти следствия — конформизм, созерцательность (практически второе можно
объединить с первым, но аналитически их нужно развести) и
нравоучительность. В данной лекции мы остановимся на первом
53
Как говорит Аристотель, «одни люди повсюду рабы, другие нигде
таковыми не бывают» (Аристотель. Политика. 1255 а // Аристотель. Соч.:
В 4 т. М.: Мысль, 1984. Т. 4. С. 385).
54
К чести Канта нужно отметить его непоследовательность в неразличении этих понятий. К примеру, в работе «Религия в пределах только разума» он очень решительно выступает против расхожего выражения «известный народ (в смысле введения узаконенной свободы) не созрел для
свободы». Главный аргумент Канта — «если исходить из подобных положений, свобода никогда не наступит, ибо для неё нельзя созреть, если предварительно не ввести людей в условия свободы (надо быть свободным, чтобы иметь возможность целесообразно пользоваться своими силами на свободе)». При этом Кант не сомневается в истинности заключения о
«незрелости» народа для свободы с точки зрения фактов. Он сам уверен
в том, что «первые попытки [свободы] бывают, конечно, вполне неумелыми и обыкновенно сопровождаются бо'льшими затруднениями и опасностями, чем те, которым подвержен человек, не только подчиняющийся другим, но и состоящий на их попечении...». Что же он противопоставляет этой
истине, отвергая её? Ту нравственную правду, что обретать (узаконенную)
свободу могут только свободные люди, свободные своим отказом жить
под чужим «попечением», сколь бы ни были они «неумелы» в пользовании
свободой, что и подтверждает истину их «незрелости» для неё (см.: Кант
И. Религия в пределах только разума // Кант И. Трактаты и письма. М.: Наука, 1980. С. 262-263.
74
из них, а двум последующим посвятим отдельные лекции. Итак,
начнём с конформизма.
Едва ли Кант может не знать, что знание есть сила, а заблуждение — слабость. Это в полной мере справедливо для рассматриваемой нами ситуации: знание преступника о том, где
скрывается жертва, составляет его силу, заблуждение относительно этого — его слабость. Не должны ли мы как нравственные существа противодействовать преступной силе? Казалось
бы, это — то правило поведения, которое безупречно проходит
самый строгий кантовский тест на общезначимость, а потому
оно — долг. Если у нас нет иных средств противодействия злодею (а к этому вопросу мы вскоре вернёмся), то не должны ли
мы прибегнуть ко лжи — в самом строгом её значении как
осознанно неверного и определённо заявленного сообщения?
Не права ли Ханна Арендт, утверждавшая, что «обманы, поскольку они нередко используются вместо более насильственных действий, можно счесть относительно безвредными орудиями в арсенале политического действия»55? Но она мыслит политически и
в категориях действия, тогда как Кант — моралистически и в категориях созерцания.
Самое поразительное — то, что Кант даже не задумывается об арендтовской постановке вопроса. Ему, похоже, совершенно не ясно, что ложь есть стратегия воздействия на силу и власть,
противостояния им и их перераспределения. Ложь — тоже есть
сила и власть. В нашем случае (если бы к ней прибегли) ложь
была конгрсилой и конгрвластью, была бы способом перераспределить силу и власть в пользу жертвы. Конечно, ложь как
контрсила и контрвласть, будучи направлена против справедливой
и законной силы и власти, есть порок или даже преступление. Но
о качестве (нравственном качестве!) власти, с которой мы имеем дело, Кант даже не рассуждает. Оно ему, вероятно, совершенно безразлично. Вместо этого Кант абсолютно запрещает
55
Arendt H. Truth and Politics // Arendt H. Between Past and Future:
Eight Exercises in Political Thought. Harmondsworth: Penguin, 1993. P. 229.
75
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
ложь. Тем самым он запрещает важную возможность сопротивления преступной власти. Этот запрет сопротивления — под
именем долга правдивости — Кант называет «священным» и имеющим «силу во всяких отношениях» и независимо от каких-либо
следствий (см. с. 259—260). Это и есть абсолютный конформизм, доведённый до раболепного запрета даже попытки самоопределиться в отношении возможности противодействия злу,
т. е. до запрета выбора между «правдивым» предательством
невинной жертвы и сопротивлением с помощью лжи: «Сам человек при этом вовсе не свободен в выборе, так как правдивость...
есть его безусловный долг» (с. 260).
Мы начали эту лекцию с фразы о том, что содержание кантовской статьи определяется спором с Констаном о понимании
долга и отношении к нему человека. Данная фраза не вполне
точна. У Канта нет отношения человека к долгу. Есть лишь беспрекословное повиновение долгу, уничтожающее саму личность человека — в той мере, в какой личность неотделима от
свободы, рефлексии, самоопределения (в том числе — по отношению к «долгу») и права выбора. В ситуации, рассматриваемой
в данной статье, личность кантовского «человека долга» уничтожена до такой степени, что он даже не способен понять, сколь
омерзителен его поступок — выдача невинного друга злодею.
3. «РАБСКАЯ МОРАЛЬ» И ПОЛИТИЧЕСКИЙ
КОНФОРМИЗМ
Артур Шопенгауэр не без основания считал кантовскую мораль «рабской»56. Нам ещё предстоит поразмышлять над тем,
может ли быть иная мораль, точнее — нерабское отношение к
морали (отнюдь не тождественное аморальности). Но уже ясно,
что возможность такого отношения непосредственно связана с
самоопределением человека в отношении морали, причём
56
Шопенгауэр А. Об основе морали // Шопенгауэр А. Свобода воли
и нравственность. М.: Республика, 1992. С. 147.
76
двояким образом. Во-первых, он выбирает руководствоваться
моралью (хотя может выбрать иное), во-вторых, выбирает те
обязательства (при их, возможно, равной с логической точки
зрения «императивности» и в то же время конфликтности), которым он в данной ситуации, «здесь и сейчас» придаёт значение
«абсолютного долга». Моральное сознание — отнюдь не «факт»,
каким его иногда склонен был изображать сам Кант и сонмы кантианцев, а решение, обусловленное «эмпирическими» обстоятельствами жизни человека. В качестве жизненного решения оно
обязывает совсем не так, как проверяемые на логическую универсальность максимы, за которыми в действительности не стоят мотивы, а потому у них нет реальной обязывающей силы57.
Откуда же берётся такое жизненное решение? Что сообщает ему непреклонную силу «священного долга»? Видимо, какие-то крайние обстоятельства, в которых находит себя человек
и которые ставят под вопрос его жизнь, достоинство (если он им
обладает), кардинальные убеждения, образующие его идентичность... Мораль оказывается особой стратегией преобразования или преодоления такой ситуации. Специфика этой стратегии
именно в том, что руководствующийся ею человек отсекает
иные (компромиссные и частичные) варианты действий, подсказываемые расчётливым благоразумием, и совершает поступки
в логике абсолютной определённости («иного не дано») в условиях полной фактической неопределённости успеха своего действия. Как подчёркивает Джон Дьюи, «моральные блага и цели
появляются только когда что-то нужно сделать. То обстоятельство, что что-то нужно сделать, показывает, что в существующей ситуации есть недостатки, зло». И далее: «Мораль — это не
каталог действий и не набор правил, которыми нужно пользоваться
57
Это очень удачно показывает — на материале кантовской философии и в полемике с ней — американский философ Уильям Галстон (см.:
Ga/s/on W. A. What Is Living and What Is Dead in Kant's Practical Philosophy
// Kant and Political Philosophy: The Contemporary Legacy / Ed. R. Beiner and
W. J. Booth. New Haven (CT): Yale University Press, 1993. P. 210, 214).
77
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
как медицинскими или кулинарными рецептами. Потребность в
морали — это потребность в особых методах исследования и
изобретения» (исследования старой ситуации и изобретения новой. — Б. К.)58.
Но для того чтобы в некоторой ситуации для отдельного человека мораль была предметом возможного выбора, она должна наличествовать в качестве «кода мышления» в культурном
фонде сообщества, к которому данный человек принадлежит.
Выбирая мораль в каждом конкретном случае, человек как бы
заново открывает и находит её как нечто в принципе «всем уже
известное».
Мы не будем останавливаться на том, откуда взялась мораль в культурном фонде человечества. Ограничусь тем, что
выражу согласие с объяснением её генеалогии непримиримой
борьбой рабов и господ, данным Гегелем в знаменитой «Диалектике господства и рабства», а также позднее Ницше (хотя
не все элементы его объяснения, включая важнейшее понятие
«ресентимента», приемлемы для меня59). В таких объяснениях происхождение морали выводится из того, что сейчас назва58
Дьюи Д. Реконструкция моральных концепций // Дьюи Д. Реконструкция в философии. М.: Логос, 2001. С. 134-135.
59
Думается, Ницше прав, выводя мораль (включая «мораль всеобщей
любви») из ненависти. Более того, он прав и в том, что мораль всегда остаётся орудием борьбы, сколь бы много она ни говорила о «царстве целей»
и универсальном уважении каждого как разумного существа (позднее мы
покажем, какой страшный потенциал конфликта заложен в самом понятии
«разумности» и какую политическую борьбу оно необходимо предполагает). Если бы концепция «ресентимента» ограничивалась такой генеалогической и функциональной «привязкой» морали к политике (борьбе и насилию), я был бы готов её принять. Mo y Ницше и наиболее влиятельных его
комментаторов (и в чём-то — оппонентов), как, например, у Макса Шелера, дело не ограничивается этим. «Ресентимент» отождествляется ими с определённой формой борьбы и определённым типом борцов, её ведущих.
«Ресентимент» связывается ими с мощным аффектом мести и чувством
бессилия, с «ценностной девальвацией» противника, с «пустым» неприятием действительности, не устраняющим зло, а лишь использующим его для
78
ли бы «системным» политическим конфликтом. Тем самым показывается, что мораль — продукт «большой» политики и сама
есть «большая» политика60.
Нельзя сказать, что Канту полностью неведома зависимость морали от политики, по крайней мере, когда речь идёт о
способности морали хоть как-то влиять на дела людей. Попутно отметим: представление о такой зависимости едва ли согласуется с гораздо более известными «читающей публике» суждениями Канта о том, что мораль должна предписывать политике её границы или даже руководить ею. (Кант особенно
бескомпромиссно излагает такие суждения в эссе «К вечному
миру», где они достигают апофеоза: политика должна «преклонить колени» перед моралью и признать, что «объективно»
между ними не может быть спора61.) Во всяком случае, он
охотно признаёт, что «если бы политическая общность не лежала Б основе этической, люди не могли бы осуществить эту последнюю». И уж почти «по Ницше» (или даже «по Фуко») звучит
мысль о том, что «именно сила правительства... придаёт целому моральную окраску... и, перекрывая путь противозаконным
того, чтобы «заявить о себе», с пассивностью и даже недееспособностью
тех, кто движим «ресентиментом». Поэтому они — «подлый тип». Сама их
борьба есть «отравление» противника (дискредитация и разложение его
ценностей), и в то же время она оборачивается для них самих «самоотравлением» (неспособностью «понимать» истинные ценности и, как говорил
Ницше, производить новые ценности взамен дискредитированных). «Ресентимент» в действии — лишь проявление «нисходящей жизни» (см.: ШелерМ. Ресентимент в структуре моралей. СПб.: Наука, 1999. Гл. 1). Я постараюсь показать в данной книге, что «восстание рабов в морали» может
быть проявлением силы, а не бессилия, формой признания и даже способом универсализации «ценностей» противника, узурпированных им в качестве частной собственности, деятельным устранением зла и избавлением от «отравления», вызванного рабством, и рабов, и господ.
40
Ницше Ф. К генеалогии морали // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М.:
Мысль, 1990. Т. 2. С. 423.
" Кант И. К вечному миру // Кант И. Собр. соч.: В 8 т. М.: Чоро,
1994. Т. 7. С. 48, 55, 39-40.
79
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
устремлениям, весьма облегчает развитие моральных задат62
ков» человека .
Однако в той мере, в какой Кант признаёт эту зависимость,
у него господствуют статика и строгий глас начальства там, где
у Ницше бурлят динамика истории и энергия протеста низов
(пусть сам он ненавидит их). Действительно, уже дано, что политическая общность лежит в основе этической. Как возникла
эта данность? Что происходит с этикой, когда этой данности нет?
Как участвует этика в возникновении и изменении политической
общности? Что происходит с «моральной окраской» общества и
«моральными задатками» человека, когда сила правительства
слабеет? И ещё интереснее — если сила правительства преступна! Хотя это — вопросы первостепенной важности для теоретического понимания связи морали и политики, внятных, тем более
концептуально развёрнутых ответов на них мы у Канта не найдём. Однако найдём кое-что другое, что всё же объясняет нам
то, почему ответов на эти вопросы Кант не даёт.
В «Метафизике нравов», к примеру, читаем: «Происхождение верховной власти в практическом отношении непостижимо для народа, подчинённого этой власти, т. е. подданный не
должен действовать, умничая по поводу этого происхождения
как подлежащего ещё сомнению права в отношении обязательства повиновения». Пусть никто не подумает, что это — лишь
добрый совет мудрого философа не тратить попусту время на
проблемы, заведомо превышающие наши умственные способности. (Хотя почему — «заведомо»? Может быть, стоит попробовать? Ведь кое у кого, например у шотландских просветителей как ближайших предшественников Канта, это очень недурно получалось.) Нет, это — не совет философа, а скорее
полицейское предупреждение: «Попытка подобного исследования, во всяком случае с целью изменить существующий государственный строй, наказуема».
62
Кант И. Религия в пределах только разума. С. 163 (курсив мой.
Б. К.); Кант И. К вечному миру. С. 43 (примеч.).
80
А если данный «государственный строй» совсем плох? На
это Кант отвечает: «Властелин государства имеет в отношении
подданных одни только права и никаких обязанностей, к которым можно было бы его принудить. Далее, если орган властителя — правитель — поступает вразрез с законами (sic!!)... то
подданный может, правда, подавать жалобы, но ни в коем случае не может оказывать сопротивление»63. Это — не Гоббс.
У Гоббса власть начальства гораздо менее деспотична, чем
у Канта, хотя бы потому, что, по Гоббсу, власть не может действовать «вразрез с законами». Пусть это иллюзия. Но Гоббс
даже не допускает того беззакония власти, сделать которое
безнаказанным требует Кант. Нам ещё предстоит поразмышлять над тем, почему из кантовской «рабской морали» закономерно вытекает беспредельный (не ограниченный «правом сопротивления» — вспомним Локка) деспотизм власти, к тому же
объявляемый Кантом «правовым государством».
63
Кант И. Метафизика нравов в двух частях // Кант И. Соч.: Вот. М.
Мысль, 1965. Т. 4. Ч. 2. С. 240-241, 266.
81
ЛЕКЦИЯ 4.
МОРАЛЬ СОЗЕРЦАТЕЛЯ И МОРАЛЬ ДЕЯТЕЛЯ
1. БЛАГОРОДНЫЙ И ПОДЛЫЙ СПОСОБЫ
СОБЛЮСТИ ДОЛГ НЕ ЛГАТЬ
До сих пор, следуя логике Канта, мы рассматривали ситуацию, взятую в качестве «case study» в его полемике с Констаном, так, будто единственной возникающей в её контексте нравственной дилеммой является «лгать злодею ради спасения невинной жертвы или исполнять долг всегда говорить правду». Но
само представление этой дилеммы в качестве единственной или
даже центральной весьма странно. Даже если мы воспринимаем долг говорить правду как «священный», точнее — именно
81
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
потому, что мы воспринимаем его таковым, нам следовало бы
подумать об иных вариантах реакции на наглый вопрос злодея,
вторгшегося в наш дом. Крупнейший английский католический
теолог и философ XIX века кардинал Джон Генри Ньюмен, рассматривая аналогичную ситуацию, писал, что первым действием
человека, которому злодей задал такой вопрос, «должна быть
попытка сбить его с ног и вызвать полицию. Далее, если за ней
следует поражение, то нельзя давать негодяю нужные ему сведения, с каким бы риском это ни было сопряжено. Я думаю, что
в этом случае [порядочный] человек должен пойти на смерть»64.
Обратим внимание на следующее. Во-первых, у Ньюмена
«священный» долг не лгать соблюдается не менее безукоризненно, чем у Канта. Порядочный человек гибнет, но не лжёт.
Во-вторых, мораль, которой Ньюмен озабочен не менее Канта, даёт ясное предписание относительно того, как порядочному человеку следует действовать в подобной ситуации, тогда
как Кант учит всего лишь тому, что следует говорить. В-третьих, порядочный человек Ньюмена строго исполняет другой универсальный и абсолютный долг (о котором мы кратко упомянули ранее) — противодействовать преступной силе и защищать
невинного. На этот второй вид долга Кант почему-то не обращает ни малейшего внимания, хотя он столь же блестяще проходит логический тест на общезначимость, как и долг не лгать.
Если бы Кант мыслил честно, он должен был хотя бы объяснить,
почему бездеятельному долгу, выражающемуся лишь в говорении, должно быть отдано предпочтение перед деятельным
долгом, выражающимся в нравственном поступке. Разумеется, Кант такого объяснения не даёт.
Логически объяснить кантовское предпочтение нельзя.
Это можно сделать лишь через социологический анализ той
оптики, которой пользуется Кант при своём рассмотрении морали, а также ситуаций, к которым она применяется. Эта опти64
Newman J. H. Cardinal. Apologia Pro Vita Sua: Being a History of His
Religious Opinions. L: Longmans, Green & Co., 1880. P. 314.
82
ка сформирована практической бездеятельностью — при активнейшей умственной работе — не только лично Канта как профессора из провинциального Кенигсберга, а всей академической среды как персонала такого специфического социального
института, каким становится университет в Новое время, с его
ролью в схеме властных отношений современного общества.
Именно в этой среде только и могла родиться гениальная по
своей ясности формулировка, которой Кант в самом начале Предисловия ко второй части «Метафизики нравов» задаёт весь ракурс рассмотрения морали в применении к добродетелям человека: «Учение о долге, следовательно, есть здесь лишь учение о
знании». Поэтому, поясняет Кант, «знаток практической философии не есть практический философ». Последнего же от «знатока» отличает именно то, что для него этическое «знание» есть
по необходимости руководство к совершению поступков. «Знаток» же занимается лишь правилами морали (в их соответствии
«чистому разуму») совершенно безотносительно к тому, как они
воплощаются в поступках и могут ли воплощаться вообще65. Иными словами, он занимается чистым знанием о морали, а не моралью как стимулом действия и руководством к действию, не
моралью как учением о том, как жить. Это и есть теоретическая
апология любой практической безнравственности, которая может вытекать из «чистого знания» о морали.
Я не стану развивать тему о том, как и почему сложился
университет в качестве специфического института, деятельность
которого сосредоточена на производстве и распространении
знаний, а не на формировании навыков, умений и потребностей правильно, т. е. нравственно, жить. То, как редуцированные
и специализированные таким образом функции университета отвечают логике становления и функционирования «рационального»
общества (общества «бездушных профессионалов» и «бессердечных сластолюбцев», мнящих себя вершиной человеческого
45
Newman 1. H. Cardinal. Apologia Pro Vita Sua: Being a History of His
Religious Opinions. P. 307.
83
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ
ПОДХОДЫ
66
развития, как говорил о нём Макс Вебер ), также будет оставлено без рассмотрения. Но нам нужно понять, насколько радикально меняется идея морали, когда она берётся созерцательно, а не деятельно, и чем оборачивается для неё овладение ею
«знатоком», а не практиком морали.
2. ЭМПИРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
И ГОСПОДСТВА СОЗЕРЦАТЕЛЬНОЙ МОРАЛИ
Не только у Сократа, но во всей классической традиции философия была способом быть, а не только способом знать. Хотя
«быть» «по Сократу», «по Эпикуру» или «по Марку Аврелию»
имеет разные значения. Пусть так, но в рамках классической традиции ясно, что этическое знание не может не иметь «огромного влияния на образ жизни», как выражается Аристотель (в таком
влиянии, как мы увидим в третьей части книги, — весь смысл политического «проекта» Сократа). Во второй книге «Никомаховой
этики» он даже без особых доказательств, как нечто само собой
очевидное заявляет: занятия этикой не могут иметь целью созерцание, «мы ведь проводим исследование не затем, чтобы знать,
что такое добродетель, а чтобы стать добродетельными, иначе
от этой [науки] не было бы никакого проку»67.
Полагаю, что сколь бы глубоки и существенны ни были отличия современной жизни от жизни античной или средневековой, не они сами по себе несут ответственность за то, что этика, став академической дисциплиной, утратила способность
«влиять на образ жизни». Ведь потребность в таких добродетелях, как честность, верность данному слову, умеренность, стойкость и т. д., не исчезла с появлением рыночного и либеральнодемократического общества. Скорее наоборот. Указанные и
"См.: Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избр. произв. М.: Прогресс, 1990. С. 207.
67
Аристотель. Никомахова этика. 1103 в // Соч.: В 4 т. М.: Мысль,
1984. Т. 4. С. 55, 79 (курсив мой. — Б. К.).
84
другие добродетели стали так называемыми «моральными основаниями» современных экономических и политических структур68. Если этика в её академическом существовании перестала
осуществлять функцию «влияния на образ жизни», оказалась не
способна компенсировать «нравственное истощение» общества, вызванное некоторыми тенденциями современной жизни,
то это признак серьёзной беды, в том числе и с точки зрения
стабильности рынка и демократии. Этика, ставшая чистым знанием и «метафизикой нравов», а потому не приносящая никакого практического проку, есть симптом нравственной болезни
общества, тем более тревожный, чем более такая этика воспринимается как норма, т. е. как нормальное состояние «этического знания», более того, — как кульминация его исторического развития69.
Созерцательная мораль в её теоретическом выражении,
т. е. как чистое знание, — произведение «знатоков» или экспертов по морали. Однако это не нужно понимать так, будто
она выдумана ими то ли как продукт «профессионального
68
См.: Gray L The Moral Foundations of Market Institutions. L.: The IEA
Health and Welfare Unit, 1992 (эта книга примечательна разработкой специфического понятия «моральность рынка». См. с. 92-93 и др.). О зависимости либеральных политических институтов от нравственности граждан см.:
Hall J. A. Liberalism and Trust // Liberalism in Modern Times / Ed. E. Gellner
and C. Cansino. Budapest; L.: Central European University Press, 1996.
69
В качестве диагноза такого состояния этики вполне можно принять
следующее рассуждение Юргена Хабермаса: «Моральная теория больше
не претендует на знание цели хорошей жизни и должна оставить вопрос
"зачем быть моральным?" без ответа. Исходя из посылок постметафизического мышления [нужно признать], что нет причин, по которым теории
должны бы были иметь обязывающую силу мотивировать людей действовать в соответствии с их взглядами, когда то, что морально необходимо,
вступает в противоречие с их интересами» (Habermas J. Lawrence Kohlberg
and Neo-Aristotelianism. P. 127-128). Конечно, Хабермасом такой вывод подаётся не в качестве диагноза, а как панегирик «постметафизической» стадии развития морали. Но как нам — тем людям, кого этика не способна мотивировать, относиться к ней? Зачем она нам?
85
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
кретинизма», то ли как инструмент легитимации их позиции в социальной иерархии власти, статусов и доходов. Дело обстоит гораздо сложнее. «Моральное знание» есть концептуальное и систематизированное выражение обыденного созерцательного
сознания, обусловленного приватно-деполитизированным, а потому социально бездеятельным способом существования его
носителей. В той мере, в какой такой способ существования утверждается капитализмом и охватывает имущие и малоимущие
страты, можно говорить о том, что созерцательная мораль кантианского типа является «моральной концепцией буржуазии»70.
При этом под «буржуазией» понимается не столько экономический класс, определённый положением в структуре производства, сколько характерный культурный тип обитателей капиталистического общества.
Макс Хоркхаймер, один из «отцов» Франкфуртской школы критической теории, сформулировавший приведённое
выше суждение о кантианстве, отмечал многообразные функции морали в структуре приватно-деполитизированного существования людей. Среди важнейших — сдерживание мощи
эгоистических интересов (императив «относись к людям не
только как к средствам»), примирение с невозможностью установить какое-либо ясное соотношение между личными усилиями и общими социальными результатами (принцип «действуй согласно долгу, невзирая на следствия»), оправдание
политического бессилия и уклонения от участия в социальных
конфликтах («мораль выше любой политики»)... Однако — и
это очень важная мысль Хоркхаймера — моральные идеалы
свободы, равенства, справедливости не являются продуктами
отчуждённого сознания, как не является им моральное сознание вообще. Они — не исключительная собственность «буржуазии», не порождения её созерцательной морали. Это — при70
См.: Horkheimer M. Materialism and Morality // Horkheimer M.
Between Philosophy and Social Sciences: Selected Early Writings. Tr. G. F.
Hunter et al. Cambridge (MA): The MIT Press, 1995. P. 16, 18.
86
своенные «буржуазией» и выхолощенные посредством такой
морали «боевые кличи» Просвещения, мотивы борьбы за
нравственно рациональное общество71.
«Знаток» морали в своей теории даёт феноменологию морального сознания в состоянии его покоя. В самом совершенном
виде это — картина кантовского «практического разума». Такая
картина верна и в самом деле позволяет многое понять. Как верен и позволяет многое понять анатомически точный рисунок человеческого мозга. Однако она столь же мало даёт для понимания того, как моральное сознание работает, как и рисунок мозга для понимания того, как рождается и движется мысль. Но это
покойное моральное сознание, покойное именно вследствие его
откпючённости от живого контекста жизни и неучастия в нём, становится средоточием, организующим принципом и Оком моральной теории созерцательного типа. В современном обществе
стабильность владения моралью «знатоками» столь высока, что
такой способ построения моральной теории стал представляться
чуть ли не единственно возможным. Он стал отождествляться с
моральной теорией как таковой. Поэтому её можно назвать,
используя меткое выражение британского этика Бернарда Уильямса, «теорией Идеального Наблюдателя»72.
Такая теория, продолжает Уильяме, «постулирует наличие
одного всевидящего, беспристрастного и благожелательного
наблюдателя — назовём его Мировым Доверенным Лицом, который постигает преференции всех и каждого, упорядочивает и складывает их вместе. Проверка того, что должно делать
71
См.: Horkheimer M. Materialism and Morality // Horkheimer M.
Between Philosophy and Social Sciences: Selected Early Writings. Tr. G. F.
Hunter et al. P. 22, 37. Как тут не вспомнить Ницше: «В нас (т. е. в имморалистах. — Б. К.) совершается самосохранение морали» (Ницше Ф. Утренняя заря // Ницше Ф. Утренняя заря; Предварительные работы и дополнения к «Утренней заре»; Переоценка всего ценного; Весёлая наука. М.;
Минск: Харвест; ACT, 2000. С. 7.
72
Williams В. Styles of Ethical Theory / / Williams В. Ethics and the Limits
of Philosophy. L: Fontana, 1987. P. 83.
' 87
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
(в непрямых версиях теории — проверка того, какие практики и
институты должны быть одобрены), оказывается тогда тождественной тому, что выбирает этот Наблюдатель.<...> Есть другая версия теории Идеального Наблюдателя, которая оставляет в
стороне условие его благожелательности и не воображает дело
так, будто Наблюдатель действительно разбирается с преференциями всех и каждого. Тогда, по выражению Родерика Ферса,
...[получается] Наблюдатель, «всевидящий, незаинтересованный,
бесстрастный, но во всех иных отношениях нормальный»73. Первая версия «теории Идеального Наблюдателя», о которой рассуждает Уильяме, — утилитаризм, вторая — кантианство.
Как, в какой перспективе, с какой наблюдательной позиции
Идеальный Наблюдатель рассматривает дела людей? Джон Ролз
классически ясно сформулировал ответы на эти вопросы: это —
та перспектива и та наблюдательная позиция, с которой общество «видится sub specie aeternitatis (с точки зрения вечности);
это значит рассматривать положение человека со всех не только социальных, но и темпоральных точек зрения. Перспектива вечности — это не перспектива рассмотрения с некоторого
места, находящегося по ту сторону мира, это и не перспектива
трансцендентного существа. Скорее это — определённая форма мысли и чувствования, которую могут разделять все разумные существа, пребывающие в этом мире»74.
Не будем останавливаться на уточнении того, что позиция
Идеального Наблюдателя не находится по ту сторону нашего
мира, а сам он — не «трансцендентное существо». Сказать
так — noblesse oblige светского философа XX века (говорить
иначе ему неприлично). Но, учитывая это уточнение, мы должны быть тем более поражены самим допущением того, что
один среди нас, бродящий по кампусу американского универ73
Williams В. Styles of Ethical Theory // Williams В. Ethics and the Limits
of Philosophy. P. 83-84.
" Rawls J. A Theory of Justice. Cambridge (MA): Harvard University Press,
1971. P. 587.
88
ситета или торгующий с лотка горячими сосисками, способен
встать на точку зрения Господа Бога. Ведь ни с какой другой точки зрения невозможно обозреть всех нас, причём одновременно в перспективе каждого, кто когда-либо обитал на Земле —
от Адама до только что родившегося младенца! Это воистину
уникальная «форма мышления и чувствования». При каких же
эмпирических условиях её можно произвести? Мы вынуждены
интересоваться этим, поскольку нам очень отчётливо сообщили: эта точка зрения не принадлежит «трансцендентному существу», чьё мышление свободно от какой-либо обусловленности
эмпирическими обстоятельствами. (У Канта она ещё принадлежит такому «существу». Но Канту сию наивность современные
моралисты прощают, ибо его время ещё не возвысилось до
«постметафизической теории». См. сноску 69.)
Конечно, мы не найдём у Канта размышлений по поводу
эмпирических условий производства этой уникальной «формы
мышления и чувствования». Он слишком профессор для этого.
Он — обитатель той среды (и той системы властно-статусных
отношений), в которой эту «форму» достаточно только эксплицировать. Реконструкция её генезиса потребовала бы от нас
подняться к истокам новоевропейского рационализма, в русле
которого работает Кант. Это — путь к Декарту, прежде всего — к его основополагающим «Рассуждениям о методе», замечательным в том числе и тем, что в них — помимо великой
формулы «Я мыслю, следовательно, я существую» — можно
найти, так сказать, самоанализ рассматриваемой нами «формы мышления и чувствования» в период её становления и вхождения в европейскую культуру. Саморефлексия декартовского
cogito позволяет гораздо глубже понять морализм Канта и саму
организацию его моральной теории с её центром в виде Идеального Наблюдателя. Поэтому данная лекция завершится «экскурсом к Декарту», который читатель найдёт в её конце. Тому,
кто не боится потерять нить изложения, есть смысл ознакомиться с этим «экскурсом» сейчас, чтобы после этого с углублённым
пониманием предмета вернуться к настоящему пункту наших
89
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
рассуждений и двинуться дальше в рассмотрении моральной
теории Канта.
До тех пор пока сохраняется самоанализ этой уникальной
«формы мышления и чувствования», её создатели обнаруживают неготовность использовать её для рассмотрения человеческих дел. Тот же Декарт крайне неохотно пишет на темы морали и признаётся, что вынужден делать это только из опасения,
как бы «педанты» не обвинили его в том, что «у него нет религии и веры». В частном письме он заявляет ещё откровеннее:
«Я веду столь уединённую жизнь и всегда был так далёк от вовлечённости в дела, что я уподобился бы в назойливости и наглости тому философу, который вздумал в присутствии Ганнибала
обучать других долгу полководца, если бы взялся... излагать
максимы, коим надо следовать в общественной жизни». Применительно к ней «наилучшая из всех максима» — «следует больше полагаться на опыт, нежели на разум»75. И это пишет «отец»
современного рационализма!
Отметим следующее. Для Декарта «невовлечённость в
дела» является первейшим условием формирования позиции
Идеального Наблюдателя. Именно она позволяет ему, как он
75
См.: Декарт Р. Беседа с Бурманом; письмо Елизавете (принцессе
Богемии), май 1646 г. // Декарт Р. Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1994. Т. 2.
С. 486, 538. Три главных нравственных правила, установленных Декартом,
следующие. Первое — «повиноваться законам и обычаям моей страны, неотступно придерживаться религии, в которой, по милости Божьей, я был
воспитан с детства». Второе — «оставаться настолько твёрдым и решительным в своих действиях. Насколько это было в моих силах, и с не меньшим
постоянством следовать даже самым сомнительным мнениям, если я принял их за вполне правильные». Третье — «всегда стремиться побеждать
скорее себя, чем судьбу, изменять свои желания, а не порядок мира...»
(ДекартР. Рассуждения о методе // Декарт Р. Там же. М.: Мысль, 1989.
Т. 1.С. 263-264. Все дальнейшие ссылки на это произведение, встречающиеся в «экскурсе к Декарту», даются прямо в тексте по данному изданию). Ясно, что содержание этих правил никак не согласуется с тем методом, который выводится Декартом из рассматриваемой нами «формы
мышления и чувствования», и с его критическим рационализмом вообще.
90
считает, предписывать всем универсальные правила рационального мышления. В то же время она же оказывается причиной не
давать наставлений, как поступать людям в их практической жизни. Спустя всего лишь столетие с небольшим положение кардинальным образом меняется: «невовлечённость» присваивает
себе право диктовать деятелям то, как они должны поступать.
3. МОРАЛЬНЫЙ ДОЛГ И ЖИТЕЙСКИЕ УДОВОЛЬСТВИЯ
Кант — абсолютный зритель, не смеющий и думать о каком-либо практическом участии в делах, даже вызывающих его
столь горячий энтузиазм и сочувствие, как французская революция. Он — настолько самозабвенный зритель, что ему интересна и для него имеет смысл только и исключительно зрительская реакция на происходящие события, а не они как таковые в их реальном миросозидающем и миропреобразующем
значении. В отношении той же великой революции Канту, вообще говоря, безразлично, «победит ли она или потерпит поражение, будет ли она полна горем и зверствами...». Важно
совсем другое — вызываемый ею у зрителей «истинный энтузиазм», тяготеющий к «чисто моральному». Потому «в этой
игре великих преобразований открыто проявляет себя лишь
76
образ мышления зрителей» .
Почему «открыто» в этом потрясшем мир событии проявляет себя только реакция праздных наблюдателей? Почему столь
же «открыто» не проявляются бесстрашие санкюлотов, штурмующих Бастилию или опрокидывающих союзные армии на Рейне? Или муки вандейских крестьян, впервые в истории познавших на
себе тотальную войну и геноцид, явленные миру революцией
«прав человека и гражданина»? Или голоса и действия Мирабо, Демулена, Сийеса, Бриссо, Дантона, Робеспьера, Сен-Жюста, Гоша,
Тальена, Наполеона Бонапарта и многих других, осмыслявших и на
76
Кант И. Спор факультетов // Кант И. Собр. соч.: В 8 т. М.: Чоро,
1994. Т. 7. С. 102-103.
91
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
деле отрабатывавших разные возможности современной политики и те элементы, которые — после всех проб и ошибок — сложились в либерально-демократическое устройство? Почему не
«образ мышления» участников великого события, расплачивавшихся за своё творчество, как и положено в истории, смертью,
позором и пересудами праздных зрителей, а именно «образ
мышления» этих последних объявляется единственным достойным внимания продуктом революции?
Это нравственное обесценение реальной истории, реального героизма и реальных страданий — высшее право Идеального Наблюдателя. Он производит стерилизацию истории и выдаёт её в качестве продукта, удобоваримого, безопасного и
даже полезного для праздных. Он предлагает этот продукт
всем тем «разумным существам», которые могут встать на его
собственную точку зрения неучастия ни в чём дельном, т. е. на
точку зрения вечности. Этот ценный продукт — моральная
мысль о делах людей, строго судящая их несовершенство и в то
же время приносящая удовлетворение самозваным судиям,
узурпировавшим право судить тех, кто делает дела77.
Очевидно, что претензии кантовской моральной мысли на
универсальность ложны. Они есть в лучшем случае следствие
оптического обмана (в действительности они — результат самолюбования праздных зрителей). Большинство правил поведения,
способных пройти логическое тестирование на общезначимость, есть правила поведения в партере театра, но никак не на
сцене. Для действующих лиц истории они совершенно не годятся, как, например, для любого из упомянутых участников рево77
В этой связи известный этик Стюарт Хемпшир пишет, что в самом
деле «нет оснований, по которым моральные философы имели бы право
принять на себя роль Радаманта или святого Петра и думать, как выносить
вердикт последнего суда о жизни морально невинных, невинных именно в
политическом действии, в противоположность [вердикту] о жизни политически деятельных людей, которые могли поступать несправедливо, когда
того требовала политическая целесообразность» (Hampshire S. Innocence
and Experience. Cambridge (MA): Harvard University Press, 1989. P. 168).
92
люции, каковы бы ни были его идеологические ориентации и
нравственные воззрения. Эти правила не годятся для действующих лиц не потому, что все они аморальны, а потому, что все
они — действуют.
В самом деле, что означает всерьёз воспринять кантовский
категорический императив — «поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своём лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только
как к средству» 78 ? Это значит перестать быть зрителем. Как
можно в этом случае терпеть, к примеру, сам факт существования наёмного труда, т. е. продажи одним человеком себя в
услужение другому? Ведь это — чистейший образец отношения
людей друг к другу только или преимущественно как к «средствам» (наёмный работник — средство для удовлетворения некоторых потребностей нанимателя, наниматель же для работника — источник денег, но никак не цель сама по себе). Разве не
является первейшим моральным долгом любого нравственного человека, сделавшего императив своим законом, восстать
против «наёмного рабства»?
Участник французской революции Гракх Бабёф именно
так мыслит и поступает. Если мораль, пишет он, должна стать
«конституцией» и «основным законом» жизни (а не только мышления) и если бедные продолжают пребывать в услужении у богатых, то из этого следует, что необходимо совершить «моральную революцию». Восстание против «системы наёмного услужения» и есть моральный «неотложный долг»74. Логически он,
конечно, прав: в несовершенном мире серьёзно воспринятая
мораль может быть только «моральной революцией». За эту
логическую строгость он и поплатился жизнью.
78
Кант И. Основы метафизики нравственности. С. 270.
См.: Бабёф Гракх. Письмо сыну, 2 февраля 1794 г.; Трибун народа, № 31. 1795. 28 января. // Свобода, Равенство, Братство. Великая
французская революция: документы, письма, речи, воспоминания, песни,
стихи. Л.: Детгиз, 1989. С. 443-444, 449.
79
93
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
Можно было бы сказать, что Бабёф в отличие от Канта —
последовательный и истинный кантианец. Но сказать так было
бы не вполне корректно. Дело в том, что оба они работают с
универсальными принципами (императивами), использование
которых приводит к формулировке общезначимых правил поведения. Но у Бабёфа и Канта универсальность замыкается на
разные категории лиц. На практике между ними нет ничего общего, но для созерцания все они — одинаковые «разумные существа». Весь вопрос в том, к чему обращается мораль — к реально-практическим различиям или абстрактному тождеству?
Морис Мерло-Понти как-то сказал, что «политика соотносится
скорее с людьми, чем с принципами. <...> Недостаточно
знать, какие принципы мы выбираем; необходимо иметь представление о том, какие силы, какие люди будут воплощать их в
жизнь»80. Видимо, то же можно сказать о морали.
Главный водораздел в сфере моральной мысли, во всяком
случае в плоскости её отношений к политике, пролегает не между разными моральными принципами (скажем, кантианскими и
утилитаристскими), а между интерпретациями этих принципов
разными силами и разными типами людей. Речь здесь не может идти о лучших и худших, фундированных и поверхностных
и т. п. интерпретациях. Она может идти только о разных интерпретациях, произведённых с разных жизненных позиций, имеющих разные отправные точки и разные ориентиры. Логика не
рассудит спор этих интерпретаций. Только политика способна на
это. Кант не менее последователен, чем Бабёф (и уж явно более фундирован). Но он последователен с точки зрения публики партера и для неё, тогда как Бабёф — с точки зрения дела
(защиты слабых и угнетённых) и для актёров жизненной драмы.
Поэтому два главных течения моральной мысли, независимо от
лежащих в их основе теоретических принципов, мы можем
вслед за Аласдаром Макинтайром обозначить как такое, кото80
Мерло-Понти М. О Макиавелли // Мерло-Понти М. В защиту философии. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 1996. С. 216-217.
94
рое фокусируется на деятеле (agent), и другое, которое сосредоточивается на зрителе (spectator)81. Иными словами, это —
мораль и этика деятеля в отличие от морали и этики зрителя.
Возможно, здесь уместно сделать одно уточнение. Что
значит для теоретика быть деятелем, быть участником дел людей? В современном мире, с его схемами разделения и специализации труда, разрывом публичности и приватности, формализмом и анонимностью коммуникаций между людьми в «большом обществе» и многим-многим другим, теоретик не может
«жить» своей теорией в том смысле, в каком в античности философия была способом быть. Едва ли разумно от теоретика
как теоретика ожидать участия в делах людей в смысле «прямого действия» — будь то просветительское «хождение в народ», будь то «борьба на баррикадах» (хотя мы увидим в третьей части книги современных теоретиков, занимавшихся именно этим). Но теоретик может сказать действенное слово,
произнесённое во имя некоторых общественно значимых целей
и способствующее их достижению мобилизацией и соответствующей ориентацией тех групп людей, с делом которых он себя
ассоциирует. Конечно, уже по причине этой ассоциации теоретик не может встать на точку зрения вечности. Он не может
быть бесстрастным и беспристрастным (но разве являются таковыми те, кто претендуют на это?). Однако делают ли страсть
и пристрастия сами по себе невозможной глубокую теорию?
Не теорию «вообще» — о нейтральных по отношению к людям
предметах, а о самих людских делах, которые исключают нейтральность теоретика самим фактом его принадлежности к человеческому роду и определённой культуре.
Томас Гоббс, как и Кант, был теоретиком «естественного
права», немало писал о вечных моральных законах и даже придавал им важнейшее значение, стараясь обосновать возможность
81
См.: Maclntyre A. A Short History of Ethics. N.Y.: Macmillan Press,
1966. P. 253 (y Макинтайра непосредственно речь идёт о сравнении этических теорий Джона Дьюи и Джорджа Мура).
95
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
заключения людьми того «общественного договора», из которого рождается упорядоченное гражданское общество. Но он
отличался от Канта тем, что, стремясь — по политическим соображениям — подвигнуть людей встать на точку зрения вечности, сам на неё не претендовал. Гоббс был истинным партийным
теоретиком и честно осознавал это, что, с одной стороны, не
мешало ему создавать гениальную философию, а с другой —
не проявлялось в том, чтобы ходить под знамёнами бравого
принца Руперта в лихие атаки на армию парламента. В «Предисловии к читателям» (именно им, а не его сиятельству графу
Девонширскому, которому Гоббс посвящает произведение
«О гражданине») английский философ объясняет идеологические задачи своей работы: «...я надеялся, что, узнав и продумав
предлагаемое мной учение, вы предпочтёте переносить некоторые неудобства в частной жизни... а не приводить государство в состояние смуты. Я сделал это также для того, чтобы...
вы не позволяли в дальнейшем честолюбивым людям проливать
вашу кровь ради приобретения ими власти». И далее в том же
духе82. Это и есть этика деятеля — в отличие от той, разбором
которой мы занимаемся в данной лекции.
В споре же с Констаном в статье о «праве лгать» нелепость,
если не сказать безнравственность, позиции Канта проистекает из
того, что созерцатель оказывается вынужденным примеривать на
себя ситуацию действия. Отвечающая ей логика нравственных
действий типа той, которую описывает кардинал Ньюмен, даже
не приходит созерцателю на ум. Он естественным для себя образом обращается к тем клише мышления, к которым привычен
в качестве созерцателя и которые представляются ему универсальной отмычкой, годной для всех мировых проблем. Он проводит очередные логические эксперименты на общезначимость,
уже исключив из поля зрения единственные нравственно приемлемые для данной ситуации «деятельностные» решения.
82
Гоббс Г. О гражданине // Гоббс Т. Избр. произв.: В 2 т. М.
Мысль, 1964. T. 1.C. 295.
96
Вся эта логико-экспериментальная активность созерцателя
выражает его фундаментальный эгоцентризм, который Кант
даже не очень стремится в данной статье камуфлировать. С одной стороны, обращение к универсальным правилам мышления,
выдаваемым за единственно достойные «разумных существ», освобождает созерцателя от какой-либо ответственности за всё,
что может проистекать из его слов и бездействия. Замечательное свойство универсальных правил разума служить бесплатной
и вечной индульгенцией, снимающей с «разумного существа»
всякую ответственность за любые прегрешения и «ошибки», если
оно (это «существо») докажет, что, совершая злодеяния, неукоснительно пользовалось такими правилами, открыл ещё основоположник новоевропейского рационализма Рене Декарт: «Если мы
всегда будем в своих поступках подчиняться диктату нашего разума, у нас никогда не возникнет повода к раскаянию; пусть даже
события покажут нам впоследствии, что мы допустили ошибку,
это вовсе не будет нашей виной»83.
Такой «ошибкой» может быть и выдача невинного друга бандиту или гестапо. Хотя в отличие от Декарта невинность кантовского созерцателя по определению столь беспредельна, что даже
такая вопиющая подлость была бы для него даже не «ошибкой»,
а — буквально — «чистой случайностью». Ведь нужно различать,
подчёркивает Кант, «то действие, которым человек вредит другому, говоря истину, признания которой он не мог избегнуть, и
то, которым он причиняет другому несправедливость» (с. 260).
Иными словами, кантовский созерцатель вредит другому справедливо (т. е. он осуществляет справедливость, выдавая друга,
ибо иначе — в отличие от порядочных людей — поступить в самом деле не в состоянии), и именно поэтому его не в чем упрекнуть. Разве реальные следствия исполнения долга имеют какоелибо значение для морали, т. е. разве они — не «случайность»?
Воистину, верность принципам, тем более универсальным, — самый простой и дешёвый способ увернуться от ответственности.
83
Декарт Р. Письмо Елизавете (принцессе Богемии), 4 августа 1645 г.
// Декарт Р. Соч.: В 2т. М.: Мысль, 1994. Т. 2. С. 508.
7 Выбор
97
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
Насколько безответственность может быть понята как моральная
84
характеристика — пусть судят последователи Канта .
С другой стороны, обращение к универсальным законам
выгодно и удобно созерцателю в самом прямом и приземлённом смысле этих слов. Эта часть рассуждений Канта о долге говорить правду принимает откровенный характер наставлений в
«умении жить». Сказать правду злодею и выдать невинную жертву — это не повлечёт за собой, что бы ни произошло, никакой
юридической ответственности для предателя, — рассуждает
Кант со здоровым житейским цинизмом. А вот из сокрытия истины — при определённом, хотя и маловероятном, стечении обстоятельств — такая ответственность может последовать. Представьте себе: желая обмануть бандита, созерцатель скажет, что
преследуемая жертва скрылась из дома в таком-то направлении; бандит последует туда и в самом деле настигнет жертву,
которая незаметно от хозяина, действительно, покинула дом и
двинулась именно в ту сторону. Ведь в этом случае (даже
страшно подумать такое!) созерцатель может отвечать перед
гражданским судом чуть ли не как пособник бандита. Исполнять
же долг правдивости абсолютно безопасно — вот в чём решающий довод Канта в пользу высокой морали долга (см. с. 258).
4. ЭКСКУРС К ДЕКАРТУ
Рассматривая в связи с Кантом ту «форму мышления и чувствования», которая отвечает «точке зрения вечности», мы задались вопросом об эмпирических условиях её зарождения.
84
Действительным великим мученикам и героям морали была ясна опасная связь «принципов» и безответственности. Выдающийся немецкий теолог и
герой сопротивления нацизму, погибший в гитлеровских застенках, Дитрих
Бонхёффер писал: «Гораздо легче выстоять в каком-либо деле, опираясь на
тот или иной принцип, чем взяв на себя конкретную ответственность». Но последним вопросом ответственности должно быть не то, как выйти из беды, не
запятнав свою репутацию, а то, как жить потомкам (см.: Бонхёффер Д. Спустя десять лет//Сопротивление и покорность. М.: Прогресс, 1994. С. 32-33.
98
Чтобы прояснить их, мы решили обратиться к её истокам, а её
главный исток в новоевропейской мысли — Рене Декарт. Что он
нам может сообщить о том, как зарождалась эта «форма мышления и чувствования»?
Кратко историю, рассказанную Декартом, можно изложить
так. Исходный пункт — пучина сомнений во всём, что считается
«твёрдым знанием», ощущение полной «запутанности в заблуждениях». Однако отметим: вихрь сомнений никак не затрагивает
незыблемой уверенности в одном — в том, что «наш век» —
«цветущий и богатый высокими умами» и никак не ниже любого
предшествующего. Именно этот великий оптимизм, эта уверенность в превосходстве своей культуры придают Декарту решимость делать то, на что отважатся немногие, — «смелость судить
по себе о других» (с. 252). Это ключевое и самое фундаментальное условие формирования фигуры Идеального Наблюдателя.
«Я» обобщается до «всех», до безличного «чистого разума», в
котором «я» как бы теряется, но зато приобретает право вещать
уже не от своего имени, а от имени «всех разумных существ» и
потому рассчитывать на безоговорочное повиновение. Запомним: в основе этой операции лежит торжествующее утверждение превосходства своей культуры и «своего века».
Второй пункт. Всеохватывающие сомнения побуждают принять «решение освободиться от всех принятых на веру мнений».
Читатель, хотя бы поверхностно знакомый с герменевтикой и современной лингвистикой, в этом пункте явно заподозрит Декарта в некотором, мягко говоря, преувеличении. Освободиться от
всех принятых на веру мнений просто нельзя. Каждое слово, каждая фраза нашего обыденного языка, вся его грамматика и синтаксис пронизаны некоторыми смыслами и «мнениями», в огромной массе своей нерефлектируемыми. «Освободиться от всех
мнений» попросту означает утратить способность речи, самой элементарной коммуникабельности и превратиться, как сказал бы
Аристотель, в «животное, либо божестзо» («Политика», 1253 а).
Возможность превращения в «животное» мы рассматривать не
будем, а превращением в «божество» займёмся подробнее.
99
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
Способность речи Декарт точно не теряет. Уже это значит,
что он освобождается не от всех принятых на веру мнений, а
только от некоторых. От каких именно и по какому критерию
отобранных? Мы уже знаем, что отбор не распространяется на
религиозные догматы, всевозможные законы и обычаи, даже
сомнительные мнения, относящиеся к «житейской мудрости»
(но вновь отметим: сугубо те, которые приняты в его, Декарта, родной стране) (см. сноску 75). Очень важно, что столь же
легко и уверенно принимается упомянутое выше мнение о «цветении» его «века» и культуры. Так от каких же принятых на веру
мнений освобождается тотально сомневающийся Декарт? Всего лишь от тех, общий знаменатель которых в следующем:
«Мыслить не значит существовать». Иными словами, от мнений
о том, что существовать — это делать что-то, а не только мыслить, будь то в частной или публичной жизни. Если существовать — это делать, то мышление должно быть понято лишь как
атрибут общественного бытия человека, но не как сущность и
тем более не как синоним такого бытия. Уникальная божественная «форма мышления и чувствования» оказывается совершенно невозможной, если придерживаться тех мнений, от которых
освобождает себя Декарт. Ведь тогда эта «форма мышления и
чувствования» в своей действительности предстанет лишь функцией и инструментом определённой формы общественного
существования, но никак не «точкой зрения вечности», с которой отстранённо и бесстрастно обозреваются все когда-либо
бывшие и будущие формы жизни.
Третий пункт. Декарт, освободившийся от мнений о том,
что существовать значит действовать, оказывается в одиночестве. Он — «человек, идущий один в темноте» (с. 259). Что делать в темноте и с темнотой — мы скоро увидим. Сейчас же обратим внимание на то, что это — одиночество особого рода.
Оно отнюдь не трагично и не возвышенно в том смысле, в каком
будет изображать его романтизм. Это вовсе не уединение
схимника, античного мудреца или средневекового мистика.
Это — не всеобщая отчуждённость «постороннего» Альбера
100
Камю и не затерянность в «толпе одиночек» Дэвида Рисмена...
Это просто — созерцательная непричастность к происходящему, которую я бы назвал «зрительством», чтобы оттенить её отличие от того созерцания вечных сущностей, которым занимался покинувший пещеру людей античный философ (в «Государстве» Платона). «Целых девять лет, — пишет Декарт, — я ничем
иным не занимался, как скитался по свету, стараясь быть более
зрителем, чем действующим лицом, во всех разыгрывавшихся
передо мною комедиях» (с. 266).
Зрительские скитания Декарта в чём-то даже похожи на
«фланерство» персонажей Шарля Бодлера. Но есть важная разница. Дефилирующий «фланёр» подмечает всё, но лишь затем,
чтобы поместить это в «коллекцию своей памяти» без какой-либо
особой цели85. У Декарта же есть цель. Правда, она не имеет
никакого отношения к людским делам. Она — сугубо внутренняя: искоренять из собственного ума заблуждения посредством
обнаружения в предметах, которыми тешатся люди в разыгрываемых ими комедиях, того, что делает их «сомнительными». Эти
предметы — отбрасываемые «зыбучие пески», и благодаря их
отбрасыванию сам Декарт находит «твёрдую почву» (с. 266).
Эта «твёрдая почва» — почва мысли и её отождествления
с существованием. Обретение этой «почвы» стоит очень дорого, но Декарту плата не кажется непомерной. Цена этой невиданной ранее «почвы» — обесценение практических дел людей
и их падение до уровня «комедий». Пристойно ли мыслителю
85
Великолепный философский анализ бодлеровского «фланёра» даёт
Мишель Фуко. Стоит подчеркнуть, что «фланёр» отличается им, как и Бодлером, от «человека современности». Последний не бесцельно коллекционирует мимолётные впечатления, а «героически» пытается схватить нечто
вечное в вечно текучем и ускользающем. От Декарта таким образом понятый «человек современности» отличается тем, что схватить вечное он
пытается «не по ту сторону настоящего мгновения и не позади него, а в нём
самом», т. е. в самих делах людей, не презирая их и не обесценивая их ради
уникально-вечной «формы мышления и чувствования» (см.: Фуко М. Что
такое Просвещение // Вопр. методологии. 1996. № 1-2. С. 48-49.
101
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
быть участником «комедий»? Конечно нет. Ему подобает быть
лишь зрителем, используя их разве что в качестве сырья для
производства мысли, которое и есть подлинное существование. Понятно, что подлинное существование — удел лишь избранных. Творцы уникальной «формы мышления и чувствования» — не ровня участникам «комедий». Эти последние настолько не способны встать на Декартову «твёрдую почву», что даже
пробовать делать это им не следует. Декарт поясняет: «Само
решение освободиться от всех принятых на веру мнений не является примером, которому всякий должен следовать. Есть
только два вида умов, ни одному из которых моё намерение ни
в коей мере не походит (sic!). Во-первых, те, которые, воображая себя умнее, чем они есть на самом деле, не могут удержаться от поспешных суждений и не имеют достаточно терпения, чтобы располагать свои мысли в определённом порядке,
поэтому... будут пребывать в заблуждении всю жизнь. Во-вторых, те, которые достаточно разумны и скромны, чтобы считать себя менее способными отличать истину от лжи, чем другие, у кого они могут поучиться; они должны довольствоваться
тем, чтобы следовать мнениям других, не занимаясь собственными поисками лучших мнений» (с. 258—259).
Среди людей есть только два вида ума, и оба непригодны
для рационального мышления в «форме», открытой Декартом.
Но творцы этой «формы», которые через столетие с небольшим
распространят её и на дела людей и станут моральными Идеальными Наблюдателями, отличаются умом третьего вида, воистину сверхчеловеческим. Он и позволяет им принять «точку зрения
вечности». Это и есть обоснование их права господства: права
Декарта предписывать общеобязательные — в первую очередь
для «комедиантов», составляющих человеческую «толпу», —
правила мышления, подобно тому как Платон в древности предписывал низам законы кастового государства. Или подобно тому,
как Кант диктует моральные ограничения и принципы политике...
Нам осталось коснуться лишь последнего, четвёртого пункта. Мы оставили Декарта шествующим в одиночестве в темно-
102
те. Как он может знать, куда идти? Откуда ему ждать помощи?
Попытаться ли прибиться к какому-то человеческому очагу? Позвать ли поводыря, способного осветить его путь? Нет, никто
Декарту не нужен. Тьму рассеет «естественный свет разума»86.
Его собственного разума, который и есть «естественный свет».
Так как у Декарта есть право о других судить по себе, то этот
«свет» должен быть «естественным» для всех, хотя у эмпирических «комедиантов» реальной жизни такого «свечения» не замечается. Чтобы они «засветились» тем же «светом», им следует пройти некоторую подготовку, очистку, дисциплинирование, дрессировку. Таким образом «должно быть» перейдёт в
«есть», свет разума Декарта станет «естественным» для всех.
Технологии такого перехода обстоятельно в своих «генеалогиях» прописывал Фуко. Университет и создаваемая им среда —
лишь одна из них.
86
Декарт Р. Правила для руководства ума // Декарт Р. Там же.
Т. 1.С. 79.
103
ЛЕКЦИЯ 5.
ЛОЖЬ НРАВОУЧИТЕЛЬНОСТИ
И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА ПОЛИТИКИ
1. НЕВОЗМОЖНОСТЬ МОРАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
(ОБЩЕСТВА КАНТИАНСКИХ МОРАЛИСТОВ)
Продолжим наши размышления над текстом Канта. Поставим такой вопрос: возможно ли существование общества, если
кантовская мораль, предназначенная всем, всеми и соблюдается? Не забудем: любое общество есть некий порядок, а он, в
свою очередь, есть регулярность и предсказуемость действий
людей на основе взаимности.
По Канту, исполнение долга не может быть обусловлено
никакой наградой. Такая обусловленность сразу превращает
103
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
моральный долг всего лишь в правило благоразумия и стратегию целесообразности. Следовательно, справедливый поступок
(в отличие от целесообразного) не должен подразумевать ответную справедливость. Всякая необходимая связь между
моим справедливым поступком и твоей ответной справедливостью была бы, таким образом, равнозначна, по Канту, уничтожению справедливости, её низведению к расчётливости и целесообразности, аннигиляции долга и морали. Иными словами,
если я — моральный человек и совершаю поступки из сознания
долга, то я должен ждать абсолютно любой реакции на них со
стороны тех, к кому они относятся или кого они затрагивают.
Скажем, если я возвращаю долг тем, кто не могли бы меня к
этому принудить, то я в равной мере должен быть готов и к их
благодарности, и к их издевательствам надо мной, к тому, что
и они вернут их долг мне, и к тому, что они этого никогда не сделают. Кантовский моральный человек должен жить так, как если
бы в мире не было никакой предсказуемости, стало быть, и порядка, а значит — и самого общества. Если бы все люди стали
жить так, т. е. стали бы идеальными кантианцами, то общество
в самом деле исчезло бы.
Однако общество сохраняется. Простейшим объяснением
этому является, конечно, то, что, к счастью, огромное большинство людей живут не по законам кантовской морали. Но такое
объяснение лежит далеко за рамками кантовской философии.
Как из нее самой можно вывести объяснение существования
общества?
Поставив такую задачу и сохраняя незыблемыми все основания кантовской моральной философии, мы вынуждены сделать два предположения. Первое: автономные индивиды, не
связанные никакой взаимностью своих поступков, по какой-то
причине мыслят полностью тождественно и к тому же синхронно. В приведённом мной примере это выглядело бы так. Мои
кредиторы, даже не задумываясь над тем, буду или нет я возвращать им долг, встречают моё появление одой честности,
изъявлением уважения к моему человеческому достоинству и
104
возвратом залога, который я передал им в обеспечение кредита. Совершенно случайно такие их поступки совпадают с моим
решением вернуть долг и приветствовать их столь же возвышенным выражением уважения к их достоинству. Фантастичность
этого предположения вряд ли нужно доказывать. Второе: наши
поступки и их следствия взаимосвязаны неким высшим законом
самого бытия людей, остающегося нам неведомым, и именно
поэтому взаимное соответствие наших поступков кажется нам
случайным, реакции других на наши действия лишь кажутся нам
случайными. Но если так, то мы в действительности движимы
этим законом, зависимы от него, и наша автономия вместе со
способностью руководствоваться «чистым» уважением к моральному долгу являются всего лишь мнимыми.
Едва ли любой из этих выводов устроил бы Канта. Последний из них вообще не совместим с философией свободы и кантовской теорией морали. Первый делает невозможными какиелибо рассуждения об обществе, включая столь дорогое сердцу Канта учение о «правовом государстве».
Однако Кант хочет и универсальный закон, и «правовое государство», и исполнение долга каждым «разумным существом», да вдобавок ещё и безопасное благополучие для философа-моралиста. Всё это присутствует и как-то совмещается в
его теории, хотя вроде бы является логически несовместимым.
Похоже, прав Пьер Бурдье: «Практика имеет логику, которая
является иной, чем в логике; поэтому применять практическую
логику к логической логике означает столкнуться с риском разрушить логику, которую [исследователь] хочет описать при помощи инструментов, используемых для её описания»87. Кажется, так у нас и получилось. Мы хотели найти возможность совместить все эти замечательные кантовские идеи «логической
логикой». У нас это не вышло, и «логическая логика» распалась,
87
Bourdieu P. Is a Disinterested Act Possible? // Bourdieu P. Practical
Reason: On the Theory of Action. Stanford (CA): Stanford University Press,
1998. P. 82.
105
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ
ПОДХОДЫ
заставив нас подозревать то, что они, возможно, связаны той
иной логикой, о которой пишет Бурдье, — «практической». Если
её от нас Кант утаил, то этим и следует объяснить наши затруднения. Какова же она?
2. ЛОГИЧЕСКАЯ ИСТИНА И НРАВСТВЕННАЯ ПРАВДА
Пытаясь подобраться к ответу на этот вопрос, позволим
себе немного пофантазировать. Возьмём ту же ситуацию, которую разбирает Кант в споре с Констаном, но будем менять
некоторые её параметры. Предположим: мы в соответствии с
указаниями Канта честно сказали злодею, что его жертва прячется в нашем доме. Он ринулся на её поиски. А «жертва», оказывается, не считает себя бессильной и готовится к активному
сопротивлению. Она, строго говоря, не прячется от злодея, а,
напротив, решает напасть на него, скрывшись за дверью с кинжалом наготове. Злодей распахивает дверь и получает смертельный удар в грудь. Как в свете этого мы должны оценить исполнение нами морального долга?
Не нарушили ли мы его, фактически солгав злодею? Ведь
мы сказали, что жертва прячется, а в действительности она готовила нападение. Допустим, мы не знали этого точно. Но разве было у нас право исключать такую возможность и не предупредить о ней злодея? Разве утаивание — не разновидность лжи?
По Канту, мы должны быть настолько предусмотрительны, чтобы исключить возможность даже почти невероятной встречи
злодея с жертвой, спасающейся из нашего дома в никому не
известном направлении. Именно поэтому мы не должны обманывать его, будто она бежала. В моём же примере мы не обнаружили такой предусмотрительности и потому солгали. И эта
ложь повлекла за собой фатальные последствия, за которые нас
могут привлечь к «гражданскому суду» с не меньшим основанием, чем за невольное угадывание, в каком направлении спасалась жертва, случайно схваченная злодеем.
106
Но были ли мы застрахованы от лжи даже при всём рвении
открыть злодею полную правду? Допустим, мы предупредили
его о возможном сопротивлении со стороны жертвы. Узнав об
этом, он приходит в ярость и решает убить её, тогда как раньше собирался «только» ограбить. Он громко клянётся осуществить своё решение и демонстративно стреляет в закрытую
дверь. Жертва, и не думавшая сопротивляться, слышит его слова и выстрел и в ужасе умирает от разрыва сердца. Не солгали
ли мы опять и не будем ли привлечены к ответственности за такую ложь?
Что получается? Мы не хотим лгать и постоянно лжём, то
скрывая часть правды о данной ситуации, то прибавляя к ней нечто неистинное. Как это понять?
Дело в том, что наши слова, не говоря уже о поступках, не
отражают ситуацию, а входят в неё, влияют на неё и (во многих случаях) преобразуют её. Сказать истину о предмете, не
меняя его таким высказыванием (что позволяет истине оставаться истиной), можно лишь о бездеятельных и неразумных предметах. Сказать такую «отражательную» истину о людях в их
жизненных ситуациях в принципе невозможно. Можно говорить
лишь правду. Но она — в отличие от истины — будет подразумевать наше участие в ситуации, наше влияние на неё и соответствующие реакции на наши высказывания других включённых в
неё людей. По меркам истины, правда всегда гипотетична и
вариативна — ведь мы не можем знать точно, как отреагируют на меняющуюся ситуацию деятельные и разумные существа
именно потому, что у них есть разум, способный находить новые возможности действий, и свобода, чтобы такие возможности реализовывать.
«Говорить правду» в отличие от говорения истины — значит
«быть в правде». Это значит осознавать свою неустранимую причастность к данной ситуации и нести ответственность за её развитие в соответствии с собственными суждениями о добре и зле.
И это, несомненно, означает моральность — не в смысле логического тестирования правил поведения на универсальность, а как
107
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ
ПОДХОДЫ
непоколебимость в практическом осуществлении принятых решений, понятых в качестве нравственного долга. Моральность здесь
выступает как моральный характер, а не всего лишь в качестве
моральной (по-кантовски построенной) мысли. Можно сказать,
что подмена правды истиной, тем более в ситуациях, подобных
рассматриваемой, уже есть исходная ложь, делающая невозможными какие-либо дальнейшие нравственные суждения, не
говоря уже о нравственных действиях.
Что же придаёт кантовскому созерцателю уверенность в
том, что он говорит истину, когда сообщает злодею о пребывании жертвы в его доме? Или скажем так: при каких условиях
его сообщение истинно? При тех условиях, что жертва ведёт
себя только так, как ей подобает, т. е. не предпринимает ничего активного и разумного, чтобы изменить характер ситуации,
включая отведённую ей в этой ситуации роль. В то же время
жертва не должна переигрывать, к примеру, чрезмерно пугаться, заслышав, как кантовский моралист предаёт её злодею.
Ведь это тоже может сорвать предусмотренное развитие событий. Злодей тоже не должен делать ничего незапланированного. Скажем, он не имеет права содрогнуться от гнусного предательства кантовского моралиста и, как Робин Гуд нравственности, прикончить его вместо намеченной жертвы. Соседям
также надлежит вести себя соогвегстнуюш,ил4 образом. Узнав
о том, что произошло, они не побрезгуют общаться с предателем, не подвергнут его остракизму. А если и явятся на стенания
терзаемой жертвы, то аккуратно препроводят злодея в околоток, а не забьют его до смерти, дабы не бросить тень в глазах
полиции на личность владельца дома.
Истина, которую кантовский моралист сообщает злодею,
является истиной отнюдь не в силу физического факта пребывания в момент говорения бренного тела жертвы в некоем пространстве, именуемом домом. Истиной её делает только широкая совокупность культурных, психологических, социальных,
политических условий, вследствие которых все действующие
лица, и присутствующие, и могущие появиться на сцене, ведут
108
себя как марионетки — безынициативно, безвольно, бесстрастно осуществляя предписанный им сценарий. Иными словами,
созерцатель может быть уверен, что говорит истину, лишь потому, что имеет дело (как он считает) с одушевлёнными предметами, а не с живыми людьми. По отношению к таким предметам правды не может быть — остаётся только истина.
Чей сценарий разыгрывают марионетки? Кто, каким образом, по какому праву создал из людей марионеток? Ставя эти
вопросы, мы впервые начинаем нащупывать ту практическую
логику (вспомним Бурдье), которая соединяет несоединимое в
кантовской теории.
Конечно, нелепо думать, будто сам кантианский моралист,
встретивший у дверей своего дома злодея, сочинил весь этот
грандиозный сценарий, который задал роли всем, кто появился
или мог бы появиться на сцене. Ещё абсурднее допущение, будто это бездеятельное «разумное существо» обладает магической силой превращать людей в марионетки. Скажем больше
того: относительно данной единичной ситуации кантианский моралист (и любой другой на его месте) вообще не мог заранее
знать, говорит он истину или нет. Ведь даже зомби, случается,
действуют неожиданно для их повелителя. В самой беспомощной жертве вдруг может закипеть неукротимый гнев, и она
предпочтёт погибнуть в смертельном бою, чем терпеть надругательства над собой. И закоренелый преступник может возмутиться склизкой подлостью обывателя.
Но ведь и Кант описывает нам не конкретную ситуацию, а
рассуждает о чём-то типичном, о том, что обычно бывает в подобных случаях, и относительно чего исполнение долга (в его
понимании) обернётся безопасностью предателя и всеми прочими следствиями, которые он уверенно предвидит. Он рассуждает в логике закона «больших чисел», в соответствии с которой
действует логика его морального долга не лгать. Только это
объясняет абсурдное — с иных точек зрения — утверждение Канта о том, что моя ложь в данном специфическом случае поведёт к тому, чтобы «высказываниям (свидетельствам) вообще не
109
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
давалось никакой веры и чтобы, следовательно, все права, основанные на договорах, разрушались и теряли свою силу...»
(с. 257. Курсив мой. — Б. К.).
Абсурдность этого утверждения в том, что данная чрезвычайная ситуация не несёт в себе ни малейших признаков договора (между кем-либо из её участников). Следовательно, мои
действия в этой ситуации не имеют никакого отношения к тому,
будут или нет соблюдаться договоры в иных ситуациях, которые
действительно регулируются или должны регулироваться договором. Точнее, это отношение может быть разве что негативным. Поощрение злодея готовностью исполнения морального
долга не лгать может способствовать тому, что он и эти «договорные ситуации» осмелится превратить в гоббсовское «естественное состояние».
Однако с теоретической точки зрения интересно именно
то, почему ситуацию, к которой договор не имеет никакого отношения, Кант рассматривает в соответствии с моделью «договорной ситуации». Это происходит потому, что общество, в котором (частно-правовой) договор — норма, клишировало сознание типичных его обитателей таким образом, что иначе как
по модели договора они не могут мыслить никакие ситуации и
даже такую, которую обсуждают Кант и Констан. Клиширование сознания — это и есть работа «практической логики». Всего критицизма Канта не хватает для того, чтобы даже заподозрить её наличие. В отношении её он — абсолютный догматик и
потому — рационалист, сводящий мораль к логике и не видящий
различия между истиной и правдой.
3. ЗАВИСИМОСТЬ МОРАЛИ ОТ ПОЛИТИКИ
Трудность обнаружения «практической логики» заключается в том, что её нельзя найти в масштабах и на уровне частных
жизненных ситуаций, а именно рамками одной из них Кант замкнул наше исследование долга не лгать. Она выявляется в масштабах и на уровне таких форм жизни и культуры, которые со-
110
зданы историей и деятельностью огромных масс людей, и в первую очередь — непреднамеренными результатами такой деятельности. Если рациональность есть (в известном смысле)
преднамеренность, то непреднамеренность этих форм жизни и
культуры делает их недоступными для рационализма, включая
кантовский. Их постижение требует другого рационализма,
того, который способен инкорпорировать нечто вроде гегелевской «хитрости разума» и который поэтому далеко уходит от
отождествления с преднамеренностью исполнения кантовского
морального долга.
Если мы будем понимать под «политикой» конфликтную,
волевую, организованную деятельность людей, генерирующую и перераспределяющую власть, которая предназначена
прежде всего для производства, воспроизводства или изменения форм человеческого общежития, то «практическая логика» окажется решающим образом логикой политики. Принимая это во внимание, мы можем сказать, что мораль — не
только в её реальном значении для жизни общества, но и с точки зрения её собственных форм и внутренней логики — зависит от политики. «Сама возможность моральной жизни, как
она обычно понимается, — пишет британский исследователь
Стив Баклер, — включая устоявшиеся ожидания в отношении
поведения [других], равно как и способов, какими мы распоряжаемся собою, зависит от стабильных контекстов, прочных
общественных порядков, в которых осуществляются коллективные практики... Хотя бы отчасти политика занимается защитой и поддержанием условий существования этих общественных контекстов...»88. Поэтому политика не может не обусловливать мораль.
Такую обусловленность морали политикой нельзя увидеть
• рассуждениях Канта. Они имеют дело только с одной её определённой формой, воспроизводят сугубо её внутреннюю
88
Buckler S. Dirty Hands: The Problem of Political Morality. Aldershot
(UK): Avebury, 1993. P. 17.
111
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
логику. Все альтернативы исключены, вытеснены из сознания,
подавлены, преданы небытию, причём столь радикально, что от
них не остаётся даже и следа. Сам вопрос о возможности других моралей, не говоря уже о возможности выбора между
ними, представляется нелепым89. Между тем именно этот вопрос становится центральным, как только мы обнаруживаем зависимость морали от политики и решаем по тем или иным соображениям сопротивляться данной политике и обусловленной
ею и поддерживающей её форме морали. «Теперь так много
моралей, — пишет Ницше, — что каждый отдельный человек
теперь выбирает непроизвольно ту, которая ему всего полезнее... Прежде, когда люди одной расы были одинаковы, достаточно было одной морали»90.
В этом и суть проблемы! Непроизвольный выбор наиболее полезной морали означает, что в действительности никакого выбора нет, ибо выбирая гак, мы уже выбираем как утилитаристы. Иными словами, какую бы мораль мы ни «выбрали» —
она окажется лишь идеологической «рационализацией» нашей
невыбираемой установки, заданной формой жизни, к которой
мы принадлежим. Она же — утилитарна. Именно так «практическая логика» обусловливает мораль. Выбор морали, коли он
выбор, может быть только «произвольным», т. е. сознательноволевым. И если уж говорить в связи с ним о «пользе», то её определение, отвечающее на вопрос «Что есть польза для меня?»,
может быть только рефлективным, а не заданным «автоматически» тем рабским рефлексом на удовольствия и страдания,
89
Кант даже использует самоочевидность единственности морали для
обоснования (путём проведения параллелей) своих суждений о других явлениях культуры! «Различие религий — странное выражение, — пишет
он. — Всё равно что говорить о различных моралях» (Кант И. К вечному
миру. С. 34).
''"Ницше Ф. Предварительные работы и дополнения к «Утренней
заре» // Ницше Ф. Утренняя заря; Предварительные работы и дополнения к «Утренней заре»; Переоценка всего ценного; Весёлая наука. С. 237.
112
с описания которого Бентам абсолютно логично начинает своё
изложение учения утилитаризма".
У кантовского моралиста тоже автоматически срабатывает
рефлекс, заставляющий молчать рефлексию. Только у него
это — рефлекс логического тестирования максимы возможного
поступка на общезначимость. При этом результаты тестирования
как бы случайно оказываются тоже целесообразными и полезными — прежде всего для самого моралиста, но также для полиции, соседей, злодея и, возможно, для жертвы (с ней не происходит непоправимо худшего, что выявило бы неверность или
даже порочность данного вида морального мышления). Закономерность этой «случайности» обусловлена только тем устройством формы жизни, которой данная мораль соответствует.
Но она же, эта форма жизни, как мы видели, вытесняет и
подавляет альтернативные виды морали. Её практическая логика не допускает на условиях равноправия сравнивать эти альтернативные виды морали с тем видом, который она утверждает в
качестве единственной морали. Такая операция вытеснения, подавления и запрета сравнения предполагает колоссальную
власть. Причём эта власть должна быть великой настолько, чтобы, совершив такую операцию, стать невидимой в её результатах и представить их как «чистую универсальность», как нормы морали вообще, удостоверяемые только всеобщей «логической логикой». Мощь власти проявляется здесь именно в том,
что в зародыше подавляется самый, казалось бы, естественный
91
Первая глава бентамовского «Введения в основания нравственности
и законодательства» открывается следующим пассажем: «Природа поставила человечество под управление двух верховных властителей, страдания
и удовольствия. Им одним предоставлено определять, что мы можем делать, и указывать, что мы должны делать (sic!). К их престолу привязаны,
с одной стороны, образчик хорошего и дурного и, с другой — цепь причин
и действий. Они управляют нами во всём, что мы делаем: всякое усилие,
которое мы можем сделать, чтобы отвергнуть это подданство, послужит
только к тому, чтобы доказать и подтвердить его» (Вентам И. Введение в
основания нравственности и законодательства. С. 9).
N Выбор
113
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
вопрос: с какой стати мораль отождествляется с логикой или,
точнее, основывается на уважении к последней? Как возможны
у великих мыслителей столь полное незнание и непонимание
жизни людей, чтобы приписывать логике способность справляться со страстями человека?
Эти вопросы (в числе других) ставит Анри Бергсон, но даёт
на них ответ слишком в духе Просвещения: ложная мысль о построении морали, опирающейся на логику, могла родиться
только в головах философов и учёных, которые вследствие своей специфической профессиональной деятельности привыкли
«поклоняться логике» и думать, будто она всевластна во всякой
области жизни и для всего человечества в целом92. Но «поклонение логике» в нравственных вопросах — не иллюзия обитателей университетских «башен из слоновой кости» (хотя у них она
принимает гипертрофированные и сублимированные формы),
легко развеиваемая и опровергаемая жизнью. Это — черта самого жизненного уклада, функциональный элемент «рациональной», технической, бюрократической, коммерческой цивилизации. Это её сила, а отнюдь не «логической логики» самой
по себе, подавляет альтернативные виды морали и навязывает
нормы и внутреннюю логику одного её вида в качестве «нормативной универсальности вообще». Как заметила видный теоретик современного феминизма Джудит Батлер, «установить набор норм, которые выше власти и силы, само по себе является
делом властной и сильной теоретической практики. Она сублимирует, камуфлирует и распространяет свою собственную властную игру посредством обращения к тро'пам [метафорам,
эпитетам и т. д.] нормативной универсальности»93.
Кант наставляет нас именно в этом виде морали, соответствующем такой цивилизации. Когда мы говорим о соответ92
См.: Бергсон А. Два источника морали и религии. М.: Канон, 1994.
С. 92-93.
"Цит. по: Mouffe С. The Return of the Political. L.; N.Y.: Verso, 1993.
P. 143.
114
ствии кантовскои морали этой цивилизации, нас не должна смущать бесконечная полемика между кантианством и утилитаризмом как другим соответствующим той же цивилизации видом
морали. На уровне теории и использования «логической логики», — а именно этим занимаются профессиональные этики —
два данных вида морали, конечно, противоположны. Однако на
уровне «практической логики» формы жизни и культуры, — а
именно это занимает всех остальных — они необходимым образом дополняют друг друга.
Известно — и это убедительно показал Йозеф Шумпетер, —
что чисто утилитаристское общество, в котором каждый озабочен
только калькуляцией собственных выгод, в принципе не может существовать94. Но в равной степени — и даже более очевидным образом — не может существовать общество кантианских моралистов. Однако общество, в котором два этих вида морали дополняют друг друга и живут один за счёт другого, прекрасно
существует, сколь бы недопустимо эклектичным такое сосуществование и взаимодополнение ни выглядело с точки зрения «логической логики». «Доктрина категорического императива, — обоснованно пишет Аласдар Макинтайр, — снабжает меня лишь тестом для отвержения предполагаемых максим [моих поступков].
Она не говорит мне о том, откуда я должен брать эти тестируемые
максимы. Таким образом, кантовская доктрина паразитирует на
уже существующей морали, в рамках которой она позволяет нам
просеивать максимы, точнее, могла бы позволить их просеивать,
если бы предлагаемый тест оказался надёжным. Однако в действительности это не так. Ведь кантовский тест таков, что подлинным
моральным правилом считается то, которое я могу [логически]
94
«...Ни одна социальная система, — пишет Шумпетер, — не может
функционировать, если она базируется исключительно на сети свободных
контрактов между (законодательно) равными партнёрами, в которой каждый руководствуется не чем иным, кроме собственных (краткосрочных)
утилитарных целей» (Шумпетер И. Капитализм, социализм и демократия.
М.: Экономика, 1995. С. 527-528).
к*
115
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
последовательно универсализировать. Однако при должной изобретательности последовательно универсализировать можно почти
любое правило»95. «Уже существующей моралью» в буржуазном
обществе является утилитаризм.
«Паразитирование» кантианской морали на утилитаризме,
пользуясь выражением Макинтайра, в том и проявляется, что,
говоря истину как бы совершенно бескорыстно и не думая о
следствиях, созерцатель гарантированно не подвергает риску
себя и столь же гарантированно не сотрясает тот мир, в котором он обитает, пламенным глаголом правды. В то же время и
утилитаризм паразитирует на запретительной морали бесцельного (с его точки зрения) долга.
Поясню это примером. Энтони Дауне, один из главных создателей популярнейшей ныне на Западе теории «рационального выбора», методологически целиком базирующейся на утилитаризме96, делает следующие любопытные наблюдения. С точки зрения этой теории, совершенно необъяснимо сохранение в
качестве незыблемого принципа политического устройства правила «один человек — один голос». Во-первых, оно противоречит рациональности (как она понимается этой теорией), ибо
люди обладают столь неравными достоинствами, в том числе —
в плане полезности для самой демократии, что нелепо уравнивать их значение для политики, как и их возможности влиять на
неё. Во-вторых, непонятно, почему победившая партия, максимизируя свои выгоды, не отменит это правило и не ликвидирует оппозицию, если есть силы это сделать. Равным образом,
почему — с точки зрения экономической логики выгоды, а
95
Maclntyre A. A Short History of Ethics. P. 197 (курсив мой. — Б. К.).
Прямая зависимость теории «рационального выбора» от утилитаризма проявляется уже в определении ключевых для нее понятий «рациональности» и «рационального». «Рациональное» есть эффективное, пишет Дауне, т. е. то, что «максимизирует отдачу при тех же затратах или минимизирует затраты при той же отдаче» (Downs A. An Economic Theory of
Democracy. N.Y.: Harper & Brothers, 1957. P. 5).
96
116
именно по её меркам теоретики «рационального выбора» описывают политику — нужно обязательно сохранять политическую
свободу? Но здесь и обнаруживается парадокс. При ликвидации
оппозиции и правила «один человек — один голос» утрачивается возможность «рационального выбора», а вместе с ней гиб97
нет и освещающая его теория . Так непонятный долг, переходящий в традицию и инерцию мышления, кладёт пределы рациональности максимизаторов выгоды. Он вводит её в границы,
перешагивание которых было бы равносильно слому существующего порядка и уничтожению соответствующих возможностей максимизировать выгоду. Учитывая всё это, можно сказать,
что и утилитаризм в реальной жизни «паразитирует» на морали долга (кантианстве) в той же мере, в какой последняя «паразитирует» на нём.
4. НРАВОУЧЕНИЕ КАК ПОВЕСТВОВАНИЕ
О БЕССИЛЬНОМ ДОЛЖНОМ
Кант наставляет нас в той морали, которая соответствует
существующим порядкам. Такое наставление я называю нравоучением. Нравоучение есть повествование о бессильном должном, которое стремится — или изображает такое стремление — внушить нам необходимость руководствоваться этим должным при выборе поступков. Должное делает бессильным не
противоречие фактам действительности или неразумным страстям души. Напротив, если должное вступило в такое противоречие, значит, у него есть сила противоречить, пусть даже еще
не реализованная в действии, способном разрешить это противоречие. Как раз признаком бессилия должного является неспособность противоречить фактам и страстям, приводящая к
стремлению их не замечать. Это мы и видим в кантовском разведении двух миров — ноуменального и феноменального, мира
морального долга и мира эмпирических фактов.
97
См.: Downs A. An Economic Theory of Democracy. P. 12, 18.
117
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
Наделить должное силой, если говорить об отдельном человеке, может только какая-то другая страсть, вступившая в
противоречие с первой. Из такого конфликта рождается должное как рефлективное самоопределение человека, находящегося в конфликте с самим собой и со своим окружением.
Это самоопределение подразумевает разумную трансформацию одной из конфликтующих страстей в волю, которая достигает зрелости в форме непоколебимой решимости осуществить себя, невзирая ни на что. Такая решимость и есть долг,
а её цель и предмет — должное. Понятно, что человек, формирующий таким образом свою волю и так определяющийся
относительно своего долга, принимает за всё это полную личную ответственность. Он не может избавиться от неё никакими ссылками на безличные и будто бы всеобщие правила, которыми он мог руководствоваться при определении своей
воли. Судьями ему будут другие люди, испытывающие следствия его волевых действий. Но разве они безгрешны и абсолютно беспристрастны? В этом — великий и неустранимый
риск любого морального дела и страшная ответственность,
связанная с ним: у него не может быть окончательного и безошибочного судьи. Но суд над самим собой, собирающий все
мыслимые показания по делу и приглашающий в качестве свидетелей всех, кто имеет к нему отношение, — обязательное
условие моральности поступка.
Бессильное должное, напротив, не может чему-либо противоречить. Оно предполагает «человека долга» бесстрастным
существом, этаким бесплотным воплощением логики, и в то же
время игнорирует неуступчивую материальность фактов.
Вследствие этого оно оставляет нетронутыми факты, включая
морально нетерпимые, и в то же время не способно преобразовать человека, превратить подлеца в нравственную личность.
Оно не может даже оценить подлеца как подлеца, что мы столь
ярко видим в кантовском эссе о долге не лгать. Бессильное должное оставляет всё как есть, и в этом его беспредельный конформизм — в отношении человека к себе и в его отношении к
118
обстоятельствам жизни. Поэтому нравоучение есть наставление
в конформизме. И как таковое оно есть обман. Ведь никак не
способствуя подавлению низменной страсти, оно, будучи усвоенным, помогает придать ей респектабельный вид, и это нередко лишает других возможности назвать её по имени.
Вернёмся в последний раз к кантовскому эссе о долге не
лгать. Могла ли откровенная трусость быть причиной того, что
злодею открыли истину о месте нахождения его жертвы? Удостоверился или хотя бы пытался удостовериться кантовский моралист в том, что им движет не это низкое чувство? А если бы
и удостоверился в этом (чего не было), то изменил ли бы такой
результат самоанализа его готовность «говорить истину»? Какой
смысл в исполнении абстрактного долга не лгать, если оно оборачивается злом для всех? Злом для жертвы, подвергающейся надругательству, для злодея, поощряемого безнаказанностью к новым преступлениям, для соседей, могущих разувериться в порядочности людей, наконец, для самого кантовского
моралиста, лишающегося даже в такой критической ситуации
возможности заглянуть в себя и понять своё нравственное убожество. То, что критический самоанализ не нужен, что благом
всех окружающих можно пренебречь якобы ради «чистого»
уважения к долгу (с. 257), есть нравственная ложь. Именно ей
учит кантовское нравоучение.
Однако нравоучение может быть обращено не только к отдельному человеку и предназначено не только для ситуаций частной жизни. Его можно адресовать общественности и обратить
на дела политические. В этом втором случае его главной идеей,
следуя Канту, будет следующее: «...Заповедь повинуйся начальству! также моральна»98, т. е. имеет значение всеобщего
и общеобязательного требования. В этой второй ипостаси нравоучение предстаёт громадной проблемой для политики. Но
только для политики освободительной и нравственной.
98
Канг И. Об изначально злом в человеческой природе. // Кант И.
Соч.: В 6 т. М.: Мысль, 1965. Т. 4. Ч. 2. С. 12.
119
Часть I.
ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ
Однако я не хочу завершать данную лекцию этим утверждением. В ней мы сосредоточились на филистерском, конформистском и безнравственном «употреблении» кантианской морали самим Кантом, отражающим «практическую логику» её
«бытования» в современном буржуазном обществе. Но единственно ли это возможный способ «употребления» кантианской
морали? Ведь, в конце концов, она зиждется на идеях автономии и свободы индивида, которые — при их малейшем переходе из сферы «чистой мысли» в сферу практики — не могут не
приобретать непосредственно политическое и даже революционное значение. Мы уже рассуждали о «кантианстве» Гракха
Бабёфа. Ещё отчётливее обретение этого значения кантианской
моралью (её ключевыми категориями) показывает Карл Маркс.
Критика действительности, т. е. того мира гетерономии, который не может не критиковать мораль автономии и свободы, с
необходимостью завершается «категорическим императивом,
повелевающим ниспровергнуть все отношения, в которых человек является униженным, порабощённым, беспомощным,
презренным существом...»99.
Нам ещё предстоит рассмотреть этот другой способ
«употребления» кантианской морали, хотя такое рассмотрение
во многом придётся вести «против Канта». Но пройти мимо этого способа означало бы прочитать Канта тенденциозно и односторонне, т. е. в соответствии лишь с буквой написаного им.
"Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение //
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. М.: ГосПолитиздат, 1955. Т. 1. С. 422. Глубокий анализ связи между кантовской моральной философией и политической философией Маркса, связи, в которой осуществляется радикализация
идеи автономии, см.: Booth W. J. The Limits of Autonomy: Karl Marx's Kant
Critique // Kant and Political Philosophy / Ed. R. Beiner and W. J. Booth. New
Haven (CT); L: Yale University Press, 1993.
120
Часть II
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ:
СОПРЯЖЕНИЕ МОРАЛИ
И ПОЛИТИКИ
ПРИЧИНЫ И ХАРАКТЕР
ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
И МОРАЛЬНОЙ ТЕОРИЙ
Лекция б
1. ПОЛИТИКО-ФИЛОСОФСКИЙ РАКУРС
РАССМОТРЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СВЯЗИ МОРАЛИ
И ПОЛИТИКИ
Вероятно, первая часть этой книги оставила у читателя ощущение недоумения и даже неудовлетворённости. В самом деле,
мы пытались прояснить связь морали и политики и обратились за
помощью к учителям, чья репутация, казалось бы, несомненна, — к Сократу, Бентаму и Канту. Их моральные принципы —
в применении к практическим ситуациям — обернулись весьма
странными наставлениями и выводами.
Конечно, мы вправе либо поискать себе других учителей,
либо отказаться от попыток выяснить связь морали и политики,
признав эту задачу неразрешимой, поскольку-де они — «разные миры». Однако любое из таких решений мне видится опрометчивым.
Во-первых, наши учителя совсем не плохи. В истории мировой философии трудно найти кого-либо, кто бы глубже и основательнее их описал «устройство» морального сознания. Нашу
неудовлетворённость вызвало не это описание, а те выводы, которые были из него сделаны для понимания того, как мораль влияет на дела людей и участвует в них. Мы вправе предположить
(пока это — лишь предположение), что такие выводы и нельзя
было делать, что из «устройства» морального сознания невозможно вывести то, как оно функционирует в делах людей. Для
понимания этого, видимо, нужна особая теория, а не прикладная проекция той же моральной философии, занимающейся
123
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
«устройством» морального сознания. Проекция способна обернуться лишь нравоучениями или «маниловщиной», нас разочаровавшими, а особую теорию, использующую знания, накопленные
моральной философией, но не являющуюся простым «отростком» последней, наши учителя и не пытались создать. Это мы,
опираясь на опыт их успехов и неудач, должны заняться такой
особой теорией. И будем делать это в жанре политической философии, которая не есть лишь разновидность теории морали.
Это важно подчеркнуть для того, чтобы разрабатываемую
нами концепцию не путали с тем, что называют «прикладной
этикой». Сторонники последней видят её задачу в том, чтобы
раскрыть связи морали с различными видами профессиональной деятельности. В первую очередь их интересует то, какие
особенности в рамках разных профессий имеют проявления
универсальных по своему характеру моральных требований1.
Таким путём формируется и концепция «политической этики».
Её содержание усматривают в «нравственных требованиях
граждан как к облечённым властью профессиональным политикам... чиновникам, так и ко всем тем, кто по своей воле или против неё оказался вовлечённым в бурные водовороты политической жизни...» Распространённым курьёзом таких рассуждений
оказывается то, что «универсальные требования граждан» оказываются чётким выражением очень конкретных партийных
позиций. К примеру, если такими требованиями считают отказ
от политического радикализма, предпочтение компромисса, достижение баланса интересов и т. п.2, то это — представление специфически либеральной позиции. Во многих политических ситуациях её последовательное проведение ведёт к чудовищным результатам. Ведь и Мюнхенский сговор англо-французских
руководителей с Гитлером, и «пакт Молотова — Риббентропа»
' См.: Административная этика / Под общей ред. В. Л. Романова. М.:
Изд-воРАГС, 1999. С. 128.
2
См.: Бакштановский В. И., Согомонов Ю. В. Политическая этика //
Этика. Энциклопедический словарь / Под ред. Р. Г. Апресяна и А. А. Гусейнова. М.: Гардарики, 2001. С. 359.
124
являются образцами отказа от радикализма (каким было бы
объявление войны гитлеровскому режиму), предпочтения компромиссов и достижения баланса интересов.
Мы же будем вести речь не о профессиональной деятельности, а о деятельности граждан, не о том, что они требуют, а
о том, как они на деле сами осуществляют свои требования. Соответственно, мы будем исследовать универсальные, а не специфические «проявления» морали в разных контекстах борьбы,
т. е. «алгоритмы» функционирования морали в современной политике, которая отнюдь не сводится к либеральной политике
умеренности, компромиссности и балансировки интересов.
Хотя бы потому, что в политике порой сталкиваются непримиримые «ценности». А также по той причине, что ни умеренность, ни компромиссность, ни балансировка интересов сами
по себе ценностями не являются (в каких-то ситуациях они могут оказаться «антиценностями»), и нам ещё нужно понять, что
и как может позволить считать их ценностями.
Во-вторых, отказ от исследования связи между моралью и
политикой не облегчит, а затруднит понимание каждой из них,
взятой порознь и независимо друг от друга. В первой части книги в связи с Кантом мы уже говорили о том, как мистифицируется понимание морали, если игнорируется её зависимость от
политики. Но лучше ли обстоит дело с политикой, если упускается то, какую роль в ней играет мораль?
Лео Штраус начинает своё знаменитое эссе «Что такое политическая философия?» с простого, но, думается, неоспоримого рассуждения: «Всякое политическое действие стремится либо
к сохранению, либо к изменению. Желая сохранить что-то, мы
стремимся предотвратить изменение к худшему; стремясь же к
изменениям, хотим осуществить что-то лучшее. Это означает,
что всякое политическое действие руководствуется мыслью о
лучшем или худшем. Однако мысль о лучшем или худшем подразумевает мысль о благе»3. Мысль о благе и есть нормативная
3
Штраус Л. Введение в политическую философию. М.: Логос,
2000. С. 9.
125
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
мысль, которая так или иначе «входит» в наши действия. Если игнорировать это нормативное «измерение» политики, то мы получим самые фантастические представления о ней: мы будем вынуждены рассматривать её либо по аналогии с природными процессами, либо как сферу действия мистических сил «бытия»,
лишь марионеткой которых оказывается человек4.
Конечно, мысль о благе, не обязательно является моральной мыслью. Представления о благе мы можем черпать и из нерефлектируемой традиции, из расчётов житейского «здравого
смысла» или просто из наших прихотей и капризов. Такие представления тоже могут входить в мотивацию наших действий. Мы
будем это учитывать, но сосредоточимся на том, как мораль
участвует в формировании нравственного измерения политики.
4
Современной версией второго подхода можно считать понимание
«политического» Карлом Шмиттом. «Политическое» на глубинном уровне
трактуется им как «бытийственно-изначальное», задающее неизбывную оппозицию «друг-враг». Мистика Шмитта заключается, конечно, не в его понимании политики как борьбы, и он верно отвергает типично либеральные
«консенсусные» модели политики как неполитические. Мистика у Шмитта
возникает потому, что содержание этой оппозиции (кто «друг и враг», при
каких условиях и до каких пор, что именно понимается под «дружбой» и
«враждебностью», как мы должны относиться к их проявлениям и т. д.) выводится им из сферы нравственно-разумного определения и самоопределения людей и предстаёт для них некой «бытийственной» данностью (см.:
Шмитт К. Понятие политического // Вопр. социологии. 1992. Т. 1, № 1.
С. 40, 41, 43 и др.). Поэтому такое содержание оказывается не только внеморальным, но и, строго говоря, внекультурным (об этом см.: Strauss L.
Comments on Carl Schmitt's Der Begriff des Politischen // Schmitt C. The
Concept of the Political. Tr. G, Schwab. New Brunswick (N.J.): Rutgers
University Press, 1976. P. 84). Ввести эту «бытийственную» данность в культуру (представить её как явление культуры) посредством апелляции к
концепции традиции также невозможно (к чести Шмитта, он это понимает
и такой апелляции не делает). Ведь любая традиция, как блестяще показал Х.-Г. Гадамер, не является «бытийственно-изначальным». Традиция
есть, по его определению, «точка пересечения свободы и истории как таковых» (Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М.: Прогресс, 1988. С. 334).
126
Мы начнём исследование этой проблемы с рассмотрения того,
что, на первый взгляд, кажется парадоксом: сама по себе мораль не движет «политикой», но, игнорируя значение морали,
мы не можем (сколько-нибудь основательно) понять политику.
2. «МАТЕРИЯ» ПОСТУПКА
И ЗАВИСИМОСТЬ МОРАЛИ ОТ ПОЛИТИКИ
Поставим вопрос так: может ли мораль сама по себе служить мотивом действия, более того — быть столь сильным мотивом, чтобы определять характер и направление действия, возможно, вопреки другим мотивам, которые дают наши прихоти
или расчёты «здравого смысла». Кант даёт неутешительный ответ на этот вопрос. «Объяснить... каким образом чистый разум
сам по себе, без других мотивов, откуда-то извне заимствованных, может быть практическим, т. е. как один лишь принцип общезначимости всех максим разума как законов... без всякой
материи (предмета) воли... может сам по себе служить мотивом
и возбуждать интерес, который назывался бы моральным... —
никакой человеческий разум совершенно не в состоянии, и все
усилия и старания найти такое объяснение тщетны»5.
Если это так, то всё наше исследование обречено на провал. Ведь понять связь морали и политики, т. е. то, как мораль
участвует в формировании наших поступков, как она способна
обязывать к действию, всё равно невозможно. Именно уверенность Канта в невозможности это понять заставляет его произносить напыщенные сентенции о том, что политика должна преклонить колени перед моралью. Но, может быть, не «человеческий разум», а лишь тот разум, который отождествил себя с
моральным сознанием, слился с ним — вместо того, чтобы сделать его особым предметом познания, т. е. чистый и практический разум Канта, не в состоянии понять работу морали по формированию поступков людей?
5
Кант И. Основы метафизики нравственности. С. 308.
127
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Созерцание может абстрагироваться от любых контекстов — культурных, исторических, политических, в которых существует мораль. Оно может даже мыслить мораль как априорный практический разум. Вовсе не обязательно это обрекает созерцание на то, чтобы произносить глупости. Ведь у
морального сознания есть свои алгоритмы и схемы функционирования, которые, сколь бы явным ни было их историческое
происхождение, так или иначе воспроизводятся в разных культурно-исторических контекстах вследствие общности, генетической и функциональной, некоторых ключевых параметров человеческого существования6. В этом мораль схожа с логикой
как таковой, что и даёт основание для кантовского отождествления чистого и практического разума, если отвлечься от «предметов», на которые они обращены7. В той мере, в какой созерцание улавливает такие алгоритмы и схемы функционирования
морального сознания, оно способно говорить дельные вещи.
Но работа морали — нечто другое. Она, как и любая другая работа, не может быть исследована независимо от контекстов, в которых происходит. Пока нет теории работы морали,
её так называемая общая философская теория, по существу совпадающая с описанием «устройства» морального сознания, его
алгоритмов и схем функционирования, неполноценна. Она неполноценна в смысле неспособности объяснять, что происходит
с нами и вокруг нас. Рассмотрим это подробнее.
6
В этой связи американский политический философ Майкл Уолцер пишет о «минимальных ценностях» (их мы и называли «моральными универсалиями» и «алгоритмами» морального сознания), которые вырабатываются в
разных исторических культурах, неотделимы от их контекстов и никоим образом не являются «объективными» или тем более «трансцендентными», но
тем не менее оказываются общими для этих культур. «Универсальное» есть
только акциденция ценностных кластеров определённых культур, которая,
когда она возникает, некоторым образом модифицирует их (см.: Walzer M.
Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad. Notre Dame (IN): The
University of Notre Dame Press, 1994. P. 7-8.
7
Как пишет Кант, «чистый разум без примеси какого-либо эмпирического основания определения сам по себе есть также практический разум...»
(Кант И. Критика практического разума // Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 4. Ч. 1. С. 419).
128
У известного польского этика Марии Оссовской есть замечательное наблюдение, которое делает наглядным то, о чём сейчас идёт у нас речь. «Стоицизм Эпиктета, — пишет она, — был
выражением отказа раба от борьбы, но с книгой Эпиктета в руках шёл на борьбу против рабства Туссен-Лувертюр, вождь негритянских повстанцев Сан-Доминго»8. Почему? Почему не только одни и те же алгоритмы и схемы функционирования морального сознания, но одно и то же их концептуальное выражение
порождали в одном случае политическое подчинение (бесконечная «внутренняя свобода» Эпиктета нас не может интересовать в
связи с нашей проблемой, ибо она не имела ни малейшего значения для политических отношений, разве что кроме их упрочения), а в другом — активное и непреклонное сопротивление?
Конечно, различия в поведении Туссен-Лувертюра и Эпиктета можно объяснять обстоятельствами, не имеющими отношения
к морали. В таких объяснениях можно сослаться, к примеру, на
различия в темпераментах этих людей и тех, кто окружал их. Или
указать на ставшие «второй натурой» привычки (гордого свободолюбия или безропотного смирения), почерпнутые из разных
культурных традиций, к которым они принадлежали. Или подчеркнуть значение случайных — с точки зрения морального долга —
«факторов», благоприятствовавших сопротивлению угнетателям
или препятствовавших ему (таких, как сохранявшаяся во времена Эпиктета мощь репрессивного аппарата Римской империи в
отличие от расстройства французской колониальной политики,
вызванного революцией, во времена Туссен-Лувертюра).
Допустим, что все эти и другие подобные им соображения
истинны. Что это доказывает? То, что любой поступок, говоря
языком Канта, невозможен без «материи», что она придаёт
ему содержание и направленность, что, оставаясь в рамках общей теории морали, нам просто нечего сказать о том, почему
Эпиктет и Туссен-Лувертюр были столь различны. Игнорируя
«материю» поступков, мы не в состоянии понять даже то, почему
8
Оссовская М. Рыцарь и буржуа: Исследования по истории морали.
М.: Прогресс, 1987. С. 475.
Ч Выбор
129
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
оба они обратились к морали, почему стали нуждаться в ней,
почему через её призму стали рассматривать определённые явления жизни своей собственной и окружающих. Ведь нет ничего более наивного, чем полагать, будто любой человек всё и
всегда готов оценивать с «моральной точки зрения», даже в том
случае, когда он не хочет или не может на деле следовать вытекающим из таких оценок требованиям.
Мышление — это труд. Такое требовательное мышление,
как моральная рефлексия, — нелёгкий труд. Он не совершается с той же непринуждённостью, с какой мы отправляем естественные потребности. Что-то должно принуждать брать бремя
труда на себя. Конечно, если моральную рефлексию не отождествлять с моралистической болтовнёй, «внутренней» или прилюдной, которой мы можем тешиться из самолюбования или
желая «произвести впечатление». Только «материя» жизни —
своими угрожающими натяжениями, разрывами, распадами,
которые выталкивают из привычно не обдумываемой повседневности, заставляют заново разглядывать примелькавшееся,
вопрошать обыденно невопрошаемое, — способна принудить
взять на себя труд моральной рефлексии. Юрген Хабермас както подметил, что ни готовность, ни способность рассматривать
проблемы с моральной точки зрения не падают с неба. «Они
проистекают из интересов, которые формируются только в определённых социальных условиях, а также из процессов обучения [жизненной практикой] и из опыта, доступных общественным группам только в известных ситуациях»9.
Эти интересы задают моральной рефлексии и её предметы. Она вообще очень избирательна. В определённые периоды
истории и в определённых культурах она возвышает одни факты жизни до ранга «должного», другие низводит до ранга «недолжного», а мимо третьих проходит, не замечая их, как если
бы они были не подлежащими нравственным оценкам явления' Habermas J. A Reply to My Critics // Habermas: Critical Debates / Ed.
J. B. Thompson and D. Held. Cambridge (MA): The MIT Press, 1982. P. 253.
130
ми природы. Нередко эти последние оказываются именно такими фактами жизни, которые в другой исторический период или
в другой культуре оказываются в самом центре моральных споров о «должном» или «недолжном».
Вспомним, к примеру, о том, с какой нравственной неоспоримостью моральный «светоч разума» Джона Локка, а вместе с
ним и всё либеральное мышление его времени признали «недолжным» тиранию государственной власти, нарушающей условия
«общественного договора». Но тот же «светоч разума» признал
неоспоримо «должным» подчинение жены своему мужу10 и не
нашёл заслуживающими внимания те отношения экономического неравенства и ту эксплуатацию наёмного труда, которые процветали в пред- и постреволюционной Англии. (Их признал «недолжным» «светоч разума», находившийся по другую от Локка
сторону социальной разделительной линии, там, где обитали
Джерард Уинстенли и другие моралисты из низов.) Современному же «деонтологическому либерализму», обозревающему
действительность с той же «точки зрения вечности», с какой взирал на неё локковский «светоч разума», напротив, бесспорно
ясно, что «сексизм» и патриархальность семейной жизни несовместимы с признанием равного морального достоинства всех и
каждого и потому являются «недолжным». Хотя проблема наёмного труда, который может служить образцовым примером гетерономии11 и потому противостоит самому существу морали
как автономии, по-прежнему не привлекает внимания.
Таким образом, мы можем с уверенностью сказать, что
мораль не движет политикой, что на её основе нельзя объяснить
10
См.: Локк Д. Два трактата о правлении // Локк Д. Соч.: В 3 т. М.:
Мысль, 1988. Т. 3. С. 173.
" Хабермас справедливо пишет о том, что труд остаётся гетерономным в современном западном «обществе благоденствия», и само оно может обеспечивать лишь компенсацию его рисков, но отнюдь не изменение
его гетерономного характера (см.: Habermas J. The New Obscurity: The
Crisis of the Welfare State and the Exhaustion of Utopian Energies //
Habermas J. The New Conservatism: Cultural Criticism and the Historians'
Debate. Tr. S.W. Nickolsen. Cambridge (MA): The MIT Press, 1989. P. 54-55.
131
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
важнейшие поступки и решения людей. Более того, нужно признать, что теория морали не в состоянии показать даже то, как
действует само моральное сознание. Она проходит мимо того,
почему и вследствие чего люди встают на моральную точку зрения, что заставляет их фокусировать «моральный взор» на одних
предметах и не замечать другие, к чему приводит моральное рассмотрение этих предметов, дающее столь различные результаты
в разных ситуациях (от замыкания в себе до участия в революции).
Отсутствие у моральной теории способности объяснять и
показывать всё это я называю её «неполноценностью». Такую
неполноценность можно резюмировать одной фразой, которую я, несколько перестраивая её, заимствую у Эмиля Дюркгейма: теория морали не может показать, почему мораль при
своей требовательности к людям оказывается желанной и желательной™. Показать это может только исследование «мате12
См.: DurkheimE. Sociology and Philosophy. Glencoe (IL): The Free Press,
1953. P. 44-45. Я вынужден перестраивать эту фразу потому, что даже социология морали — при всех её отличиях от «общей философской этики» —
сохраняет у Дюркгейма тот морализаторско-доктринёрский элемент, который не позволяет серьёзно проблематизировать интересующую нас связь
морали и политики (социальной действительности в целом). Очень показательно, что сам Дюркгейм формулирует здесь свою мысль в модальности
долженствования. Его занимает не то, почему мораль оказывается желанной и желательной, а то, почему она должна быть таковой. Внимание исследователя, таким образом, направляется на изучение сверхличных процессов
формирования и трансформации нормативного (коллективного) сознания,
которое само задаёт его желанность со стороны индивидов и которое «по
определению» оказывается желательным. Самостоятельное значение индивидуальной моральной рефлексии, относящейся к коллективному нормативному сознанию тем или иным образом, гасится. В результате контекстуализируется (в культурный контекст погружается) само коллективное сознание,
но соответствующим образом не контекстуализируется вариативность отношения к нему индивидуального сознания. Связь с ним индивидуального сознания утрачивает значение особой проблемы, причём проблемы сугубо ситуативной, т. е. не допускающей решений не только априорных, но и с точки зрения «общих закономерностей» (движения общества, эволюции
коллективного сознания или каких-либо иных).
132
рии» жизни и поступка, вне связи с которым любая теория морали останется статичной абстракцией. Исследование «материи» коллективной жизни людей, поскольку её определяют конфликты и властные отношения, — прерогатива политической теории. Коли так, мы вынуждены признать зависимость от неё
моральной теории, если последняя желает иметь отношение к
делам людей и не ограничиваться рассуждениями об инвариантных схемах морального сознания, относительно которых трудно сказать что-то существенно новое после многих веков развития моральной философии.
3. ОБРАТНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПОЛИТИКИ ОТ МОРАЛИ:
ЭКСПЕРИМЕНТ С ПРОЧТЕНИЕМ ПОНЯТИЯ «ТИРАНИЯ»
Но именно такая зависимость объясняющей способности
теории морали от исследования «материи» жизни порождает
соблазн совсем пренебречь этой теорией и ограничиться тем,
что выглядит как непосредственное и прямое изучение «материи» политики. Это заставляет нас поставить другой вопрос: возможна ли полноценная теория политики вообще, современной
политики в частности и в особенности, игнорирующая работу
морального сознания?
Не будем торопиться с утвердительным ответом на этот
вопрос, сколь бы сильно расхожие в отечественной политологии
и зарубежной политической науке суждения ни подталкивали
нас к нему. Не станем и поспешно кивать на Макиавелли, Ницше, Троцкого или кого-то ещё, кого школьная премудрость числит по разряду политических имморалистов.
Для облегчения ответа на поставленный вопрос возьмём
какое-нибудь фундаментальное понятие политической мысли и
приглядимся к его содержанию. Я предлагаю взять понятие «тирания». «Чистота эксперимента» обеспечивается в таком случае
как «природой» самого этого понятия, как бы воплощающего
безнравственность, так и тем, что мы возьмём его в трактовке
такого хрестоматийного «имморалиста», как Макиавелли.
133
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Макиавелли действительно в своих работах неоднократно
применяет понятия «тиран» и «тирания»13. Не будем останавливаться на том, что у него есть основания, всегда им поясняемые, действия одних тиранов осуждать, других — одобрять. (То и другое,
заметим, есть нравственные оценочные суждения.) Присмотримся
к содержанию самих этих понятий. «Тиран» — это тот, кто овладел
властью и удерживает её вопреки установленным в данной политии для этого правилам. Действия, нарушающие правила, есть «насилие». При этом он действует, «не обязываясь перед другими»,
как говорит Макиавелли о тиране Сиракуз Агафокле14.
Что нам, читателям Макиавелли, ему самому и современникам описываемых им тиранов позволяет считать сложившиеся таким образом режимы «тираническими»? Объём власти, которым тираны располагали? Разумеется, нет. Самое либеральное из современных либерально-демократических государств
осуществляет власть в несравненно больших объёмах, чем любой
античный или ренессансный тиран. Простейшие факты упорядоченного и всеобщего налогообложения, административного регулирования всех сторон жизни от брачных отношений до курсов
национальных валют и макроэкономических пропорций народного хозяйства, аккумуляция информации о всех и вся, невиданные
ранее вышколенные и многочисленные управленческие и репрессивные аппараты — всё свидетельствует об этом15.
Насилие? Если Никлас Луман (в числе многих других) прав
в том, что насилие есть «универсальное основание власти»16, то
оно как таковое не есть критерий для определения тирании и
отличения её от других режимов. Прибегая же к аргументу о
масштабах насилия, мы становимся на очень зыбкую почву.
13
См.: Макиавелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия //
Макиавелли Н. Государь; Рассуждения о первой декаде Тита Ливия; О военном искусстве. М.: Мысль, 1996. С. 322 и др.
м
См.: Макиавелли Н. Государь // Там же. С. 61.
15
См. подробнее: Mann M. The Autonomous Power of the State //
Archives européennes de sociologie. 1984. Vol. XXV. № 2. P. 189-190.
16
Луман Н. Власть. М.: Праксис, 2001. С. 96.
134
Измерять ли нам его количеством загубленных жизней и сравнивать ли число жертв того же Агафокла с геноцидом индейцев
и смертоносностью рабства негров в США, не говоря уже о
многом другом? А если мы к тому же — следуя за Луманом —
поймём, что объём насилия нельзя определять исключительно
по объёму физического насилия, ибо последнее — лишь один
из видов насилия, применение которого свидетельствует о неэффективности власти и её неспособности действовать в соответствии со своей символической природой17? Да и как количественно высчитать тот порог насилия, при перешагивании которого режим следует считать тираническим?
Остаётся критерий нарушения правил осуществления и передачи власти. Но какое изменение какого-либо режима происходило без нарушения существовавших ранее правил? Являлся ли
«тираном» принц Оранский, ставший королём Англии в результате «славной революции» 1688—1689 гг., восхождение которого на трон, несомненно, нарушило правила династической преемственности? Были ли «тиранами» «отцы-основатели» США, резко изменившие правила осуществления власти в колониях, а это
к тому же привело к масштабному и долгосрочному насилию
(в виде революционной войны)? Почему одни случаи нарушения
правил овладения властью мы называем «тираническими», а другие — нет? Причём независимо от того, с каким количеством
жертв такие переходы власти были сопряжены и какие объёмы
власти получали те, в чьи руки она переходила.
Мы можем воспользоваться ещё одним аргументом, о котором в приведённом определении «тирана» молчит Макиавелли, но который нам подсказывает добродушный цинизм Давида
Юма. Мы можем согласиться с ним, что любой режим начинается с незаконного — с точки зрения предшествовавшего уклада
жизни — насилия, т. е. с нарушения его правил игры, β этом
смысле любой режим — тиранический. Мы должны раз и навсегда отказаться от рационалистических иллюзий, будто у какого-то
политического строя основание может быть разумным, понимая
17
См.: Луман Н. Власть. С. 97-109.
135
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
под ним что-то вроде договора свободных и равных людей, правильно и согласно рассудивших о том, как им вместе жить. (О боговдохновенных постановлениях беспристрастного и бесконечно
мудрого Законодателя как разумном основании политии Юм не
говорит совсем. Таких законодателей среди людей нет. Но если
бы и нашлись, то их не стали бы слушать отнюдь не беспристрастные и совсем не мудрые люди, кому такие постановления предназначались бы.) Потому с этой точки зрения, как пишет Юм,
«самый великий и самый законный монарх имеет не больше оснований претендовать на особую священность или неприкосновенную власть, чем ничтожный правитель, узурпатор или даже
разбойник и пират»18.
Но в том и дело, что эта точка зрения и неинтересна, и несущественна для понимания политической жизни. Она, как считает Юм, — пустое умствование, которым тешатся немногие.
Для политики же имеют значение «многие», их отношение к власти, которое и определяет то, как она реально функционирует.
Эти «многие» живут по обычаям, а не согласно выводам философской рефлексии или исторических исследований. Отсюда
следует, что если власть, каково бы ни было её происхождение,
стабилизирует себя так, что становится обычной, она тем самым приобретает законность в глазах большинства. Власть вчерашнего или позавчерашнего «разбойника и пирата» становится столь же «священной и неприкосновенной», как и самого законного монарха или самого представительного народного
собрания. Для реальной политики важно лишь то, что «послушание или подчинение становится таким обычным, что большинство людей никогда не спрашивают о его происхождении или
причинах больше, чем о принципе тяготения, противодействия
или о самых универсальных законах природы»19.
18
Юм Д. О первоначальном договоре // Юм Д. Соч.: В 2 т. М.:
Мысль, 1996. Т. 2. С. 657.
" Там же. С. 659. Конечно, Юм — не первый, кто развивал подобные
взгляды. Их блестящую формулировку мы находим почти веком раньше у Блеза Паскаля: «Узурпация должна быть скрыта от народа: когда-то для неё не
136
Возможно, это — самый сильный аргумент относительно
того, на каком основании мы различаем тиранические и нетиранические режимы. Его сила в том, что он не признаёт за разумом (в качестве автономной по отношению к «материи» жизни
способности субъекта свободно судить) возможности находить
такие основания. Их даёт не разум, а время. Оно формирует
нас в качестве социальных существ с определёнными привычками, с той «встроенностью» в повседневность, которая делает
невозможным вопрошание. А это гораздо важнее с точки зрения функционирования власти, чем даже утвердительные ответы на вопрос о её законности, ибо их даёт тот способный к критике разум, который может такие ответы пересмотреть. По
Юму можно сказать, что тиранический режим — тот, о происхождении которого ещё помнят и поэтому вопрошают о его законности. Нетиранический — тот, о происхождении которого
забыли и о законности которого не вопрошают.
Всё это выглядит весьма убедительно, если бы не одно обстоятельство. Революции и прочие потрясения, в которых выражается сознательное отрицание законности самых стабильных и осенённых временем режимов, периодически всё же происходят.
было никакого разумного основания, но время придало ей видимость разумности. Пусть ее считают вековечной и неистребимой, пусть не ведают, что у
неё было начало, иначе ей быстро придет конец» (Паскаль Б. Мысли. № 294.
M.: REFL-Book, 1994. С. 337). Однако Юм вывел из этих взглядов цельную
политическую теорию, органически связанную с моральной философией, вопервых, а во-вторых, —доведённую до «научного» анализа конкретных политических институтов и событий (британской монархии, парламента, партий,
той же «славной революции» 1688-1689 гг. и т. д.). Кроме того, он наложил
на эти взгляды характерный консервативный отпечаток, которого не было у
Паскаля. У французского мыслителя тайну происхождения власти нужно
именно скрывать от народа — иначе ей придет конец. Исследование её истоков прямо отождествляется им с «подтачиванием и ниспровержением государственных устоев» (Там же. С. 336), тогда как у Юма такое исследование политически безвредно и бесполезно, ибо народ («большинство») не
может иметь автономного по отношению к обычаям критического разума.
У Юма исторический разум (а иного нет) — это и есть обычай и традиция.
137
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Конечно, мы не должны забывать ту консервативную мудрость, что ни одна революция не отрицает старое общество целиком, что никогда и нигде новое общество не может строиться
с «чистого листа». Майкл Оукшот, бесспорно, прав, когда заявляет: «Каждое поколение, даже самое революционное, всегда
считает необходимым пересматривать намного меньшее количество соглашений, чем оставлять без изменения, поскольку последние всех удовлетворяют; тех же, которые уже при своём принятии удовлетворяют всех, меньше в сравнении с теми, в которые
затем вносят поправки: [другими словами] новое есть только незначительная часть целого»20. Но ведь этой «незначительной частью» оказываются как раз несущие конструкции старого политического режима, такие как институт верховной власти, механизмы политического представительства, границы между «своими»
и «чужими», формы распределения полномочий и т. д.
Как возможны политические революции? Откуда берётся способность вопрошать дотоле невопрошаемое и отвергать ранее
невопрошаемое? И почему что-то из «целого» отвергается, а другое — нет, оставаясь по-прежнему в зоне невопрошаемого? Логика наших вопросов о тирании как-будто перевернулась. Раньше,
следуя за Юмом, мы размышляли о том, почему «тиранические»
по своему происхождению режимы не считаются (уже) таковыми.
Теперь же мы заинтересовались тем, почему (уже) нетиранические «законные» режимы «вдруг» объявляются таковыми и свергаются в качестве таковых. Почему, к примеру, в той же британской
истории, оказавшейся питательной средой классического новоевропейского консерватизма, в XVII веке «вдруг» вспомнили о разбойном происхождении монархии в XI веке, объявили её нестерпимым «норманским ярмом» и казнили как узурпатора одного из
самых безобидных королей — Карла I ?
20
Оукшот M. Политическое образование // Оукшот М. Рационализм
в политике и другие статьи. М.: Идея-Пресс, 2002. С. 198. Следует иметь
в виду, что под «соглашениями» автор подразумевает не то, что рационально «заключают» люди, а то, что «складывается» между ними в ходе истории и что они «принимают» (с чем они «соглашаются»).
138
На уровне методологии (отвлекаясь от рассмотрения эмпирической «материи» такого события, как английская революция)
нам не так уж трудно найти подсказки для ответа на этот вопрос
о «ретиранизации» нетиранических режимов. Неверно представлять себе любое общество, а тем более современное, как воплощение какой-то одной традиции, принадлежность к которой
полностью определяет наше мышление. Любое общество есть
кластер разных традиций, причём, что было ясно ещё Эдмунду
Бёрку, отнюдь не статичных, а изменяющихся под воздействием
разных обстоятельств. Каждый человек в той или иной форме и
степени принадлежит многим из них одновременно.
Поскольку эти традиции содержат разные нормативные
ориентиры, противоречия между ними и, соответственно, конфликтность сознания и самосознания человека в какой-то степени
неизбежны. Более того, поскольку сами традиции не статичны,
постольку и этим противоречиям, и этой конфликтности присуща
некоторая динамика. Конечно, разница в драматичности таких
противоречий и конфликтов в разных ситуациях может быть огромна, но в любом случае с той или иной степенью настоятельности они требуют собственного суждения человека, которому
эти конфликтные нравственные предписания адресованы. Так
вступает в действие нравственный разум индивида, и это действие
заключается именно в оценивании и переоценивании предъявляемых ему разными традициями требований (и их самих), равно
как и возможностей их согласования или выбора между ними21.
21
Можно представить конфликт нравственных требований такой степени остроты и непримиримости, что разум как разум не в состоянии принять относительно его никакого определённого решения, и тогда он уступает место вере, подобной той, которую в «Или-или» описывал Кьеркегор,
рассматривая решение Авраама убить своего сына по велению Господа.
Как может рассудить разум конфликт между требованием Христа как воплощением абсолютной нравственности оставить братьев и сестёр, отца и
мать, жену и детей (оставить на нищету? беспризорность? смерть?) «ради
имени Моего» и «жизни вечной» (Мф. 20, 29) и имеющими характер высшего нравственного долга обязательствами перед самыми близкими людь-
139
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ПОДХОДЫ
Получается так, что мы не можем быть свободными от
традиций (в этом правда Юма), не можем дистанцироваться от
них и занять позицию абсолютно беспристрастного и лишённого каких-либо «предрассудков» наблюдателя, как того требует
трансцендентальный идеализм. Но получается и так, что сами
традиции в их реальном и потому конфликтном существовании
вынуждают нас рефлектировать, самоопределяться, выбирать.
Пожалуй, можно заключить, что чем острее их конфликт, тем
более значимыми — в том числе для практического хода дел —
оказываются наша рефлексия, самоопределение и выбор, тем
более настоятельно необходимыми они становятся и тем с
большей свободой они осуществляются. «Необходимость свободы» — вот гегелевская формула для характеристики такого
положения22. Она равно противоположна и позитивистски перетолкованной Энгельсом «свободе как познанной необходимоеми? Однако я думаю, что полностью исключать нравственный разум из разрешения даже такого конфликта и полностью »^рационализировать обусловленный им выбор было бы неверно. Чтобы обладать таким колоссальным нравственным потенциалом, способным противостоять обязательствам перед родителями и детьми, вера в Христа должна была сложиться
(становясь самостоятельной традицией) и пройти на этом пути через массу менее драматичных выборов и доказательств, в которых разум наблюдавших и слушавших Христа людей участвовал самым активным образом.
Только так можно понять приводимые в подтверждение миссии Христа
ссылки на её соответствие общепризнанным пророчествам Ветхого Завета, роль чудес как доказательств его божественности, сам стиль введения
новой евангельской морали, построенный на подчёркивании её преемственности-отличии по отношению к ветхозаветной нравственности по формуле
«Вы слышали, что сказано древним... а Я говорю вам...», и многое другое.
22
«Свобода существенно конкретна..., — пишет Гегель, — и, следовательно, вместе с тем необходима» (Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. М.: Мысль, 1974. Т. 1. С. 143). Свобода необходима как порождение причиняющей её необходимости, которая снимается свободой.
Гегель гениально схватывает это в формуле «преображение необходимости в свободу» (Там же. С. 337. Курсив мой. — Б. К.). Моё рассуждение в
этой и последующих лекциях направлено на то, чтобы понять мораль как
условие и момент такого преображения.
140
ти», и действительно необъяснимой кантовской свободе от материальной причинности (вследствие чего свобода у Канта и бежит из реального мира в умопостигаемый).
Означает ли приведённый выше анализ юмовской аргументации, что мы лишились последней возможности отличить тиранию от нетиранических режимов? Коли так, то мы в самом деле
в большой беде. Ведь интуиция ясно говорит нам, что тирания
неприемлема, что это, выражаясь языком античной классики, —
самый презренный режим, что он является презренным именно потому, что оскорбляет человека, лишая его достоинства,
которое состоит прежде всего в свободе. Интуитивно мы чувствуем всё это, но никак не можем перевести нашу интуицию
на уровень разумных определений и понятий. А это не такое уж
немаловажное дело, и затруднения, из этого вытекающие, возникают не только для «чистой теории», как бы оторванной от
практики. Нам нужны разумные понятия для познания противника (а не только для опознания его), для коммуникации с другими людьми, которые тоже сталкиваются с ним, для выработки внятных планов, стратегии и тактики действий...
Мы, конечно, можем вновь и вновь, пытаясь ухватить сущность тирании, указывать на те встречающиеся у тиранических
режимов черты, которые уже рассмотрели выше, — на высокую концентрацию власти в руках тиранов и использование насилия, на нелегитимность их правления и нестабильность (по
крайней мере, на первых порах) структур, посредством которых оно осуществляется". Но при этом остаются вопросы:
23
Относительно классического тезиса античных авторов об имманентной нестабильности тираний, который повторялся и много позже (Монтескье и другими теоретиками), вообще возникает вопрос: не был ли он отражением специфических особенностей греческой полисной жизни? Нельзя
ли ту же Римскую империю, учитывая и её кроваво-узурпаторское происхождение как институции, и всю её историю, переполненную переворотами, самыми незаконными захватами власти новыми императорами, умерщвлениями прежних и прерываниями едва сложившихся династий, рассматривать как на столетия стабилизированную тиранию или же как «стабильную
141
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
специфичны ли все эти признаки для тирании настолько, чтобы
быть необходимыми и достаточными (как говорят логики) для её
определения? Подумаем: любой вышедший из революции режим на первых порах нелегитимен (в глазах многих) и нестабилен.
Должны ли мы считать его на этом основании «тираническим»?
То, к чему мы пришли, рассуждая о тирании, пожалуй, можно выразить следующим образом. Рассмотрев группу структурных, функциональных и генетических(исторических) характеристик режимов, обозначаемых «тираническими», мы не достигли
того чёткого теоретического определения тирании, которое
удовлетворяло бы нашу интуицию относительно её неприемлемости, равно как и нашу интуитивную ясность, какие режимы считать тираническими, а какие — нет. Наша интуиция относительно
тираний обусловлена тем, что они попирают свободу и что это
есть недолжное. Эмпирические наблюдения подсказывают, что
такое нередко случается тогда, когда власть захватывают незаконным путём, что такой захват и удержание таким образом захваченной власти обычно сопровождаются насилием, превышающим «нормальный» уровень, что возникающие таким путём институты (некоторое время, коим иногда и ограничивается
существование тираний) нестабильны и т. д. Но в других случаях
мы готовы назвать «тираническим» режим, осенённый вековыми
традициями, отнюдь не проливающий «потоки крови», выглядящий (на наш взгляд, даже слишком) стабильным и т. п.
Структурно-функциональные и прочие «объективные»
(в позитивистском смысле — как присущие объекту независимо
нестабильность» режима, обладавшего при этом устойчивостью своих основных институтов? Даже сторонники различения тирании и цезаризма, как
Лео Штраус, считают различие между ними «слишком тонким» и во многом выводят его из того, что (классическая) тирания была «вписана» в круговращение политических форм (демократии — аристократии — тирании),
тогда как цезаризм — нет. Я понимаю этот аргумент в качестве подтверждения моей мысли о том, что тезис об имманентной нестабильности тирании отражал специфику греческой полисной жизни и не должен входить
в содержание общего определения тирании (см. : Штраус Л. Ещё раз о «Гиероне» Ксенофонта // Штраус Л. Указ. соч. С. 165).
142
от субъекта) характеристики режима оказываются недостаточны для формирования понятия «тирания». В нём должно присутствовать что-то ещё, чтобы оно имело для нас смысл. Это
«что-то ещё» — ответ режима на наши законные требования
и ожидания, его готовность или неготовность принять на себя
обязательства в отношении того, что мы считаем должным.
Нормативный смысл понятия «тирания», не устранимый из него
никаким «объективным» анализом тиранического режима, это
отсутствие такого ответа и неготовность принять на себя такие
обязательства или же (в случае осенённых временем режимов)
отказ исполнять их. Только сейчас мы вышли на последний, пропущенный нами ранее элемент макиавеллиевского определения
тирании, которое приводилось выше, — тиран «не обязывается
перед другими».
Казалось бы, у нас появилась надежда выйти из затруднений
в понимании тирании благодаря отказу от попыток дать ей чисто
«объективное» определение и переходу к его формулировке,
схватывающей связь объекта и субъекта (режима и «нас»). Причём мы взяли эту связь в модальности долженствования, а не описания фактов. Ведь нас интересует то, берёт ли режим на себя
обязательства в отношении наших требований и ожиданий, а не то,
что «по факту» даёт он нам (скажем, из милости и сегодня, но в
чём он может отказать нам, не нарушая никаких обязательств, завтра, если сочтёт нас недостойными новой своей милости).
Нас интересует также, удовлетворяет ли он наши законные
требования, а не любые, даже насущные потребности и желания.
Ведь не перестанем же мы называть лишивший нас свободы режим тираническим только из-за того, что он делится с нами частью добычи, разбоем захваченной у соседей, или делает бесплатными коммунальные услуги и проезд в городском транспорте за
счёт ренты на энергоносители, присвоенной его верхушкой, как
это происходит в сегодняшнем Туркменистане. А если по этим
причинам мы перестанем считать его тираническим, то сие будет
означать лишь то, что мы перестали быть людьми. Ведь достоинство человека и обязанности по его сохранению неотделимы от
143
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
понятия «человек»24. По отношению к таким «нелюдям» тирания
объективно перестаёт быть тиранией, поскольку сами они оказываются только объектами её действий, а не самодеятельными
субъектами и воспринимают себя лишь в качестве явлений физической, а не нравственной и политической жизни.
Но такой путь определения тирании привёл нас только к новым трудностям. Кто и на каком основании решает вопрос о «законности» или «незаконности» наших требований? Кто и как определяет то «должное», относительно которого режим берёт или не
берёт на себя соответствующие обязательства? Ведь эти критерии
различения тиранических и нетиранических режимов утрачивают
всякий смысл, если не мы сами автономно, т. е. независимо от
складывающихся обстоятельств, от манипуляций нашим сознанием, даже от того, что диктуют нам наши собственные материальные интересы, решаем, что есть «законное» и «должное».
Как только мы заговорили об автономии в таком смысле,
мы сразу перешли на язык морали. Если самостоятельность наших суждений признаётся в качестве необходимого условия различения тиранических и нетиранических режимов, то это означает, что без опоры на мораль мы это сделать не можем.
Мы уже знаем о том, что встать на моральную точку зрения могут побудить только «материальные» обстоятельства
жизни, что встать на неё отнюдь не тождественно тому, чтобы
предпринять ориентированные моральными суждениями действия. Иными словами, связи моральной точки зрения и с побуждениями её принять, и с (возможными) действиями, следующими за этим, требуют особого исследования, которое никак
не подменяется описанием того, что представляет собой сама
моральная точка зрения. Но сейчас мы констатируем то, что
без принятия моральной точки зрения мы оказываемся не2i
Как писал Руссо, «отказаться от своей свободы — это значит отречься от своего достоинства, от прав человеческой природы, даже от её обязанностей» (Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права // Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М.: Наука, 1969. С. 156).
144
способными вынести суждение по важнейшим политическим
вопросам, следовательно, мы оказываемся неспособными к
действиям, направленным на предметы этих суждений. А от
этих предметов, от их сохранения или ликвидации зависит то,
можем ли мы быть людьми. Так мы открываем обратную зависимость политической теории от моральной.
4. ЗНАЧЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ОТ ПОДЧИНЕНИЯ
МОРАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ
Во избежание недоразумений сразу сделаю оговорку. Констатация обратной зависимости политической теории от моральной
вовсе не тождественна тому, чтобы восстанавливать существовавшее некогда (вплоть до XIX века) подчинение первой — второй,
выражавшееся в том, что политическая теория понималась в качестве отрасли моральной философии. Такое подчинение наносило
ущерб им обеим. Обусловленное им рассмотрение политической
«материи» под углом зрения морали не позволяло увидеть в политике многое, возможно, даже самое важное: определяющую
для неё роль конфликта и властных отношений. Моральная философия заставляла начинать анализ политики с представления о должном или благом, относительно которых предполагался консенсус
(всех «разумных» людей). Конфликт, таким образом, выглядел
отклонением от нормы, а не нормой политики. Освобождение
политической философии от подчинения моральной означает поэтому перемену «точки отсчёта» и целевой установки: политическая философия начинает с конфликта, а не с консенсуса, и стремится она не к реставрации консенсуса, а к раскрытию освободительного, а потому инновационного потенциала конфликта.
С другой стороны, подчинение политической теории моральной философии приводило к тому, что мораль не могла
«понять саму себя». Ей было неведомо, откуда берётся её способность обязывать и каким образом она вообще может входить
• дела людей и влиять на них. Вследствие непонимания этого
К) Выбор
145
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
моральная философия в качестве «царицы» «наук о человеке»
мыслила свою связь с политикой сугубо недемократически.
Необходимость собственной практической действенности, которую столь ясно осознавали, к примеру, многие просветители XVIII века, она могла осмыслить только в старом платоновском стиле — открывать глаза на «истину» власть имущим и давать им советы-наставления.
Даже Клод Адриан Гельвеции, столь пафосно писавший о
том, что «этика есть пустая наука, если она не связана с политикой», видел эту связь удручающе традиционно: «Дело моралиста указывать законы, исполнение которых обеспечивает законодатель, налагая на них печать своей власти»25. Не нужно говорить о заведомой провальности этого политического
«проекта», неизбежно повторявшейся при каждой попытке его
осуществления — от самого Платона до тех же просветителей.
Собственно, он и неотвратимо проваливался потому, что не был
политическим проектом, являясь всего лишь морализаторством
«на тему» политики.
Демократическое понимание связи морали и политики —
в противоположность тому, которое мы видели у Гельвеция
(лишь одного в очень длинном ряду моралистов), — предполагает выяснение того, как мораль влияет или может влиять на политические действия «простых людей», а не особой профессиональной, статусной или классовой группы («власть имущих»).
Причём такие действия, поскольку «простые люди» выступают
против сложившихся институтов власти, поддерживаемых профессиональными, статусными и классовыми группами, могут
быть только самодеятельностью. В такой самодеятельности
мораль с её принципом автономии находит естественную среду своего обитания. При этом «простых людей» — в рамках нашего общетеоретического исследования связи морали и политики — мы берём независимо от их специфических професси" Гельвеции К. А. Об уме // Гельвеции К. А. Соч.: В 2 т. М.: Мысль,
1974. Т. 1.С. 262-263.
146
ональных, классовых, статусных и иных характеристик, в этом
смысле — как «людей вообще». Именно это побуждает нас заниматься моралью как таковой (так сказать, «общечеловеческой моралью»), а не специфической корпоративной или классовой этикой, например не «этикой политиков».
В большой степени заведомая провальность проектов морального наставничества власть имущих обусловлена именно
тем, что к сферам профессиональных или классовых действий,
руководимых соответствующими видами частной этики, пытались применить «общечеловеческую мораль». В этих сферах
она каждый раз наталкивалась на их специфические ценности и
символические коды и против них обнаруживала свое бессилие.
Теоретически это очень удачно показывает Никлас Луман,
объясняя, почему «функциональные системы» не могут быть
кодированы или перекодированы моральным кодом «хорошо/
плохо» или «должное/недолжное»26. Впрочем, он связывает
это бессилие морали с глубокой дифференциацией и функциональной специализацией современного общества. На мой же
взгляд, точно такое же бессилие морали и точно по тем же причинам обнаруживали в гораздо менее дифференцированных и
специализированных обществах: Платон — в античных Сиракузах, Томас Мор — в позднефеодальном Лондоне, просветители — в раннебуржуазной Европе.
Но мы всё же предполагаем, что «общечеловеческая мораль» может оказывать влияние на политические акции «простых людей». Это предположение никак не связано с представлением о какой-то особой имманентной нравственности «простых натур». Оно целиком построено на логике политического
конфликта. Те, кто восстают против их нынешней классовой,
статусной, профессиональной или иной определенности, должны найти код действий «поверх» тех кодов, которые создают и
воссоздают такую определённость. Этот код действий «поверх»
" См.: Луман Н. Честность политиков и высшая аморальность политики // Вопр. социологии. 1992. Т. 1. № 1. С. 73—74 и далее.
ю*
147
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
имеющихся социально-экономических определённостей и формируется обычно благодаря подключению структур универсального морального сознания.
Это, конечно, вовсе не означает, что получающийся таким
образом код сам есть воплощение нравственной универсальности — в смысле пригодности его для всех и на все времена, кроме разве что тех локковских «слепых», которые не могут узреть
его «светоч разума». Код универсален только для данной ситуации и для данного социально-политического контекста. Он есть
историческая универсальность, которая с ходом времени должна быть показана как «чья-то особая позиция» и даже как
«предрассудок». Ясно и то, что этот код действия, ломающего
сложившиеся социальные определённости и материализующие
их институты, в самом деле неприменим к вновь складывающимся (если действие успешно) институтам и составленным из
них «функциональным системам». Любая революция не может
не разочаровывать и не восстанавливать «старую мерзость» —
хотя бы в смысле возобновления бессилия морали.
Но и её силу в политике, пусть проявляющуюся только в определённых ситуациях и контекстах, политическая теория должна учесть, если она не хочет превратиться в технократическую
или экономическую (уподобляющую её рынку) мистификацию
политики. Мистификация — не ложь, а дезориентирующая кажимость правды или «полуправда». Политика может быть и часто бывает и технократической, и подобной рынку. Но определять её как «политику вообще», а не особый её вариант, столь
же обусловленный ситуацией и контекстом, как и любой другой
вариант политики, — уже мистификация. Ведь и с Луманом проблема не в том, что он отверг возможность моральной кодировки «функциональных систем», а в том, что он не показал возможность морально кодированного действия, которое и ввело
эти системы в жизнь, и, вероятно, выведет их из неё. Потому
его теория — лишь очередная версия «конца истории». От навязчивости «концов истории» вообще трудно уйти, если упускать связь морали и политики.
148
«ВХОЖДЕНИЕ» МОРАЛИ
Лекция 7
В ПОЛИТИКУ: ТРУДНОСТИ
И ВОЗМОЖНОСТИ
1. НЕОБХОДИМОСТЬ МОРАЛИ
ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ
Если обозревать состояние современной политической теории под углом зрения того, как она понимает отношение политики и морали, то мы увидим две, казалось бы, диаметрально
противоположные тенденции27. С одной стороны, — в диапазоне от позитивизма до постмодернизма — существуют и процветают теории, игнорирующие или крайне принижающие значение морали для политики. Речь идет либо о политике как таковой, либо более специфическим образом о современной
политике. Последняя в особенности считается настолько «технизированной» и/или коммерциализированной, что в ней просто
не находится места для морали. К тому же выводу ведет характерное постмодернистское представление о коллапсе всех универсалий, включая, само собой, и моральные28.
27
Я не хочу этим сказать, что все имеющиеся трактовки связи морали
и политики исчерпываются двумя данными явлениями О многих из тех подходов, которые не укладываются в них, читатель узнает из дальнейшего изложения, ибо именно на них концептуально и методологически я опирался в
первую очередь Тем не менее указанные явления можно считать характерными для современной политической теории и доминирующими в ней
28
Такие постмодернистские авторы, как Зигмунд Бауман, готовы говорить о морали применительно к «состоянию постсовременности», хотя это
будет уже «мораль без этики» (как кодекса универсальных правил) Однако в той мере, в какой такая мораль разводится с универсальным «должным», что Бауман считает характерным для мышления угнетенных и уни-
149
Часть Н.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
С другой стороны, исследователи уверенно пишут о том,
что в последние два-три десятилетия произошло, как выразился известный французский философ Корнелиус Касториадис,
«возвращение этики» в политическое мышление после долгого
периода её прозябания и затворничества сугубо в качестве академической философской дисциплины29. Более того, некоторые
наблюдатели считают, что «основная часть современной политической философии состоит в большой мере в применении этики к практическим проблемам, в приведении философии как
устоявшейся академической практики в соприкосновение с
прискорбным понятийным беспорядком, [царящим] в понимании общественных дел»30. Обычно хронологию этого «возвращения» ведут с выхода в свет в 1971 году нашумевшей книги
Джона Ролза «Теория справедливости» и с начала разработки
Юргеном Хабермасом, его единомышленниками и последователями теории «дискурсивной этики».
Такая противоположность направлений развития и стилей
современной политической теории сама по себе заставляет задуматься о том, что в нынешних условиях на связь морали и политики влияют новые обстоятельства, по-видимому, затрудняющие её, но вместе с тем не отменяющие её как таковую. Во всяженных вообще, она по существу не имеет ничего общего с той моралью,
о которой идёт речь в данной книге. Очень характерно, что у Баумана мораль не работает (в указанном мной смысле) в политике и политических
проектах освобождения — в частности и в особенности. Примечательно,
что объёмную восьмую главу своей книги о «постмодернистской морали»,
целиком посвящённую теме «мораль и политика», Бауман отводит исключительно рассмотрению и критике роли интеллектуалов в жизни современных и «постсовременных» обществ — массовые участники политики обходятся его вниманием полностью (см.: Bäumen 2. Life in Fragments: Essays in
Postmodern Morality. Oxford: Basil Blackwell, 1997. Chapters 1, 8).
29
Castoriadis C. The Ethicists' New Clothes // World in Fragments /
Ed. and tr. D. A. Curtis. Stanford (CA): Stanford University Press, 1997. P. 108.
К оценке Касториадисом этого «возвращения этики» мы ещё вернемся.
30
Dunn I. Interpreting Political Responsibility. Cambridge: Polity Press,
1990. P. 195 (курсив мой. — Б. К.).
150
ком случае, так это представляется для тех видов политики, в которых находят или которым приписывают гуманистические и освободительные цели. Возникает своего рода противоречие
«трудностей и необходимости» вхождения морали в политику,
стороны которого фиксируются и, как мы можем предположить, абсолютизируются первой и второй группами теорий.
Задача данной лекции — теоретически уяснить, вследствие
чего вхождение морали в современную политику оказывается
одновременно и необходимым, и столь затруднённым. В следующих, девятой и десятой, лекциях мы посмотрим на то, какие
«образы политики» получаются при абсолютизации одной из
сторон указанного выше противоречия и на какую практику они
ориентированы.
Чтобы легче понять и необходимость морали для современной политики, и те трудности, с которыми сталкивается мораль
при вхождении в политику, мы вновь прибегнем к тому приёму,
который использовали в предыдущей лекции. Мы продолжим
разговор о тирании. Но на сей раз зададимся следующим вопросом: если мораль необходима политике даже для того, чтобы
опознавать приемлемое и неприемлемое в ней (это мы и стремились показать в шестой лекции), то каким же образом классическая греческая мысль с такой чёткостью опознавала тиранию, не
будучи в то же время моральной? Напомню: мы уже приняли
(в первой части книги) гегелевское различение морали и нравственности и согласились с оценкой Сократа в качестве «родоначальника морали». Как же в таком случае опознавалась тирания
до него и несократической политической мыслью после него?
Дело в том, что классическая греческая нравственность,
действительно, не нуждалась в той индивидуальной рефлексии
и саморефлексии, которая и есть «стихия» морали, для опознания тирании и формирования соответствующего отношения к
ней. Она несла в себе готовые образцы и «наилучшего государственного строя», и «самого презренного».
Лео Штраус, конечно, прав: главное отличие классической политической теории от современной («историцистской», по
151
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
его терминологии) заключалось в том, что первая из них была
организована вокруг идеи «наилучшего политического порядка», рассмотренного с точки зрения вечности, тогда как вторая — вокруг того, что является возможным и предпочтительным в данной (подлежащей изучению) ситуации. Такая организация классической теории была возможна только при том
условии, что ей было известно также, что есть «хороший человек» и что он должен делать в принципе, и только на этом основании имело смысл говорить о том, что ему следует делать
в тех или иных обстоятельствах (прежде всего — политических).
Современная же политическая теория, начало которой
Штраус возводит к Макиавелли, характеризуется не отрицанием
нормативных подходов как таковых, а изменением их строя и, так
сказать, угла зрения. (Макиавелли создал «нормативное учение,
а не дескриптивную или аналитическую политическую науку»,
подчёркивает Штраус). Это изменение является двояким. С одной стороны, признаётся невозможным судить о том, что есть
благо и, следовательно, в чём состоит долг «хорошего человека»
независимо от ситуации, в которой он находится (а такие ситуации очень изменчивы). С другой стороны, подчёркивается зависимость морали от политики. «Мораль, — пишет Штраус о взглядах Макиавелли, — возможна только после того, как условия для
неё созданы, а эти условия не могут быть созданы морально»31.
Соглашаясь с проведёнными Штраусом различиями между классической и современной политической теорией, тем не
менее хочется поставить два вопроса, которые во многом определят ход наших дальнейших рассуждений. Первый: если
даже — с точки зрения современной теории — судить о благе
и содержании должного вне контекста ситуации невозможно,
то судить об этом всё-таки нужно, и не являются ли необходимыми для этого некоторые универсальные структуры нрав31
Strauss L Thoughts on Machiavelli. Glencoe (IL): The Free Press, 1958.
P. 255. См. также: Op. cit. P. 232-233 и Штраус Л. Политическая философия и история // Введение в политическую философию. С. 113, 115.
152
ственнои мысли, которые как таковые не принадлежат данной
(обсуждаемой) ситуации? Второй: если практикование морали
невозможно без некоторых «объективных» условий, создаваемых только политически и потому — по определению — с нарушениями её требований, т. е. неморально, то разве исключает
это участие морали в формировании самого политического действия, такие условия создающего?
Как тут не вспомнить другого великого основателя современной политической теории, который и пытался разрешить некоторые противоречия Макиавелли, — Томаса Гоббса! У него
мысль о необходимости политического создания условий для
практикования морали отлилась в очень радикальную формулу
(симптоматично совершенно утраченную кантианской «деполитизацией» морали) — «наука о морали человека как такового,
взятого вне государственной организации, не может быть построена...» Но государственная организация, как мы знаем из
Гоббса, — «искусственный» продукт деятельности людей, в
свою очередь невозможной без её моральной ориентации
«естественными законами». А они и есть «законы, [которые] установлены для действий... а не для мнений и веры»32. Этот момент современной политической теории Штраус обходит стороной. Однако вернёмся к классической античной мысли.
Поскольку античной мысли «известен» «наилучший порядок», постольку ей не нужно исследовать то, при каких условиях
человек свободен и что значит «быть свободным». Считалось
очевидным, что это значило прежде всего быть членом того сообщества, устройство которого приближалось к образцу «наилучшего порядка». Конкретнее, это означало участвовать вместе
с другими, равными в свободе и столь же свободными в равенстве,
в создании законов для самих себя и в их защите. Это и есть греческий непосредственно политический смысл «автономии», весьма отдалённым потомком которого стала моральная «автономия»
32
Гоббс Т. О гражданине; О человеке // Избр. произв.: В 2 т. М.
Мысль, 1964. Т. 1.С. 261,342.
153
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
как самозаконодательство через идею универсального долга,
пропущенную через мою индивидуальную рефлексию под мою
личную ответственность. Режим, являвший собой предельно полное отрицание такого участия в коллективном самозаконодательстве, т. е. политической автономии, и считался «тиранией».
Когда мы говорили о том, что принятие моральной точки
зрения необходимо для различения тиранических и нетиранических режимов, имелось в виду позднейшее состояние европейской мысли. Исчез полис с его практической политической автономией и готовыми образцами «лучших» и «худших» режимов.
Моральная «автономия» сформировалась из распада действительной политической «автономии». В условиях отсутствия готовых образцов «лучшее» и «худшее» могло быть определено
только с помощью тех мыслительных процедур, которые и даёт
моральная рефлексия. В постклассических политических условиях опознать тиранию, которая по своим формам может быть
далека от античной тирании как отрицания коллективной автономии прямой демократии, может только самостоятельное критическое, а не догматическое («знающее» образцы) нормативное мышление. Суть критического морального мышления состоит в том, чтобы определить принципы, в соответствии с
которыми оцениваются политические явления (скажем, в качестве такого принципа устанавливается справедливость, а не военная мощь, богатство государства или что-то иное в том же духе),
затем — «спроецировать» эти принципы на действительность (она
не принимается просто потому, что «есть»), наконец, — превратить результаты оценивания действительности в нравственные
требования, осуществление которых — «должное», а не просто
«желательное» или «полезное». Учитывая эту необходимую для
политики роль морального сознания, Джон Стюарт Милль верно
писал, что все политические революции следуют за «моральными революциями» и обусловливаются ими33.
"См.: Mill L S. On Socialism. Buffalo (N.Y.): Prometheus Books, 1976.
P. 18.
154
До сих пор мы вели речь о необходимости «вхождения» морали в политику после распада «естественной» «греческой» нравственности. Разумеется, имелась в виду не абстрактная и безликая необходимость наподобие всемирного закона тяготения, а та,
за которую борются и которая утверждается теми, кто стремится придать «постклассической» политике качество соотнесённости с нравственными смыслами человеческой жизни и соразмерности им. В делах человека — помимо их обусловленности силами неочеловеченной природы — вообще нет иных форм
необходимости. Свободная от морали политика, технократическая или «экономорфная»34, — тоже не проявление законов природы, а чей-то исторический продукт, хотя технологии его производства иные, чем у политики, связанной с моралью. Если сказать совсем кратко, отличительный признак таких технологий —
непубличность и редукция «общего дела» (в чём бы оно ни заключалось) к агрегированию частных интересов, разумеется, тех,
которые могут доказать свою силу угрозой стабильности существующего строя. Теперь нам нужно рассмотреть, в чём трудность «вхождения» морали в современную политику.
2. ТРУДНОСТИ «ВХОЖДЕНИЯ» МОРАЛИ В ПОЛИТИКУ:
ОБЩЕЕ РАССМОТРЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Я не буду останавливаться на том, чем вообще обусловлены трудности нравственного ориентирования силы, являющейся атрибутом политики. Ведь политика может быть определена
(хотя это не будет развитым её определением) как деятельность
организованной силы, способной разрешить или сдержать те
конфликты, которые не могут быть разрешены или сдержаны
34
Я заимствую этот термин, призванный передать уподобление политики рыночной экономике, у Йена Шапиро, который применяет его непосредственно к взглядам Энтони Даунса и к теории рационального «публичного выбора» в целом (см.: Shapiro I. The Evolution of Rights in Liberal
Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. P. 198).
155
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
иными средствами. Можно сказать, что нравственное ориентирование силы — это имманентная политике проблема. Она была
зафиксирована ещё древним реформатором Афин Солоном в
его рассуждениях о «соединении справедливости (dike) и силы
(Ые)»35. Эти рассуждения для нас особенно интересны тем, что
в качестве способа такого соединения Солон рассматривал
именно демократию в отличие от того, как ту же проблему начиная с Платона позднее пытались решить посредством так или
иначе перестраивавшейся модели «философа-царя». Итак, нас
будут интересовать не общие вопросы нравственного ориентирования политической силы, а именно специфические трудности
«вхождения» морали в современную политику.
В общетеоретическом виде логику перехода морали в «посттрадиционную» (специфически современную) нравственность
описал Гегель. В таком описании она видится в качестве синтеза «права» как наличных институтов, в которых осуществляется свобода, и идеи «должного», которую несёт мораль свободной (самоопределяющейся) субъективности36.
Правда и глубина гегелевского обсуждения этого вопроса
заключаются в показе того, что моральное сознание связано с
предметами своих оценок не внешним и случайным образом.
Они всегда даны ему как «предшествующие формы» жизни.
Они требуют отнестись к ним тем или иным образом, требуют
«серьёзного погружения» в них. В этом смысле отрыв морали
от нравственности, представление о первой в качестве «свободно парящего», независимого от каких-либо исторических контекстов сознания (типа кантовского априорного «практического
разума»), вольного относиться к ним по своему произволу, есть
следствие кризиса самой нравственности, тех конкретных её
35
Solon. Poem 36 // Sullivan S. D. Psychological and Ethical Ideas: What
Early Greeks Say. Leiden: E. J. Brill, 1995. P. 197.
36
«Резюме» гегелевского исследования перехода морали в нравственность см.: Гегель Г. В. Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990. С. 198-199.
О праве как «царстве осуществлённой свободы» см.: Там же. С. 67.
156
исторических форм, от которых отрывается «свободно парящее» моральное сознание. Кризисная нравственность своей
«пустотой и бездуховностью» отталкивает от себя моральное
сознание и заставляет его мнить себя универсальным — в смысле несвязанности с какими-либо контекстами37.
Учитывая это, переход морали в нравственность оказывается не теоретико-умозрительной проблемой того, как мораль «вообще» может быть связана с нравственностью «вообще», а проблемой практического преобразования той конкретной кризисной формы нравственности, которая
«оттолкнула» от себя мораль или позволила ей «оторваться» от
себя. Общетеоретического описания решения этой практической проблемы действительно не может быть, потому что «механизмы» такого «отталкивания» и такого «отрыва» специфичны для каждой кризисной формы нравственности, как необходимым образом специфичны и способы устранения этих
«механизмов». Гегель поэтому нигде не даёт такого описания.
На уровне общей теории он ограничивается исследованием самого феномена «отталкивания» и «отрыва» морального сознания (в его разных проявлениях — стоическом, скептическом,
«прекраснодушном» и т. д.). Он также указывает на то, что в
контексте «магистральной» логики исторического процесса
моральная точка зрения возвышается до способности «находить удовлетворение в поступке»38.
Вновь повторю: Гегеля нельзя упрекать в том, что он не показал практических решений проблемы «отрыва» морали от
нравственности. Однако его вера в общую логику истории и понимание её в качестве необратимого, хотя и многотрудного восходящего движения Духа, в контексте которого любая историческая
37
Как пишет Гегель, «лишь во времена, когда действительность представляет собой пустое, бездуховное и лишённое устоев существование,
индивиду может быть дозволено бежать от действительности и отступать
в область внутренней душевной жизни» (Там же. С. 181).
38
Там же. С. 166.
157
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
ситуация, любые сколько-нибудь значимые действия людей могут быть поняты лишь как необходимые и необходимым образом
«снимаемые» моменты такого движения, создают трудности для
постижения практических решений проблемы перехода морали
в нравственность, по крайней мере в трёх отношениях.
Во-первых, весьма существенно то, какие ресурсы для
своего перехода в политику моральное сознание может найти
в отторгающей её форме нравственности. Достаточно известно, к примеру, что критические апелляции морали к нравственности, пронизанной религиозной традицией (при прочих равных), имеют большие шансы на успех, чем если они обращены
к секуляризованной культуре. Трудно даже представить успех
Нагорной проповеди, измеряемый эпохальным сдвигом в культуре мышления, если бы она была адресована современному
обществу «массового потребления». Отнюдь не случайно, что
у того же Гегеля в более ранней «Феноменологии духа» мораль
«снимает» себя в религии и, более конкретно, — в религиозной
общине (см. «Феноменологию духа», VII). Мера наличия или отсутствие таких ресурсов в действительности важны для понимания не только того, как именно мораль переходит в нравственность, но и способна ли она (в данной ситуации) сделать это вообще. Гегелевская же концентрация на неумолимом
восхождении Духа к самопознанию обесценивает значение этого вопроса, передавая его в лучшем случае на рассмотрение
нетеоретической «исторической истории» (пользуясь терминологией его «Философии истории»).
Во-вторых, переход морали в нравственность предстаёт у
Гегеля предопределённым логикой самопознания Духа и потому
отрывается от самоопределения и выбора конкретных исторических людей, у которых — в той мере, в какой они моральные существа, — должна оставаться возможность решать и действовать
так или иначе. Иными словами, телеологическая детерминированность всемирно-исторического «восхождения» Духа делает
фиктивной ту субъективную свободу, которую сам Гегель полагает сущностью морали. Примечательно, что в молодые годы,
158
когда ещё не сложилась его всеобъемлющая система, он был в
гораздо большей степени склонен мыслить в логике альтернатив
и ситуативной определённости действий людей (в отличие от
логики подчинения их действий «плану истории»).
В отношении возможности того же перехода морали в
нравственность он в те годы писал: «Состояние человека, загнанного своим временем во внутренний мир, может быть либо
(если он хочет сохранить своё пребывание во внутреннем мире)
вечной смертью, либо (если его существо вынуждает его к
жизни) лишь стремлением снять негативность существующего
мира, для того чтобы найти себя в нём... чтобы жить»39. Не ясно, что иное, кроме конкретных обстоятельств конкретной ситуации, может подтолкнуть человека к тому, чтобы предпочесть одно «либо» другому. (Примечательно, что произведение
Гегеля, из наброска к которому я привёл эту цитату, начинается с энергичного описания обстоятельств, подталкивавших немцев к выбору второго «либо». Такими обстоятельствами был
разгром Германии в войне с Французской республикой.)
В-третьих, то же представление о телеологической детерминированности истории заставляет Гегеля (на уровне его «общей философии») изображать дело таким образом, будто
переход морали в нравственность — однократное явление.
Во всяком случае, раз свершившись и приведя к возникновению
«субстанциальной нравственности», оно утрачивает для Духа
(и для Гегеля) всякий интерес. Моральная точка зрения «снимается» столь полно и безвозвратно, что «в нравственной субстанциальности исчезли своеволие и собственная совесть единичного, которая была бы для себя и составила бы противоположность ей...»40. Значение этой формулировки Гегеля и для
понимания его собственной политической философии, и для
39
Гегель Г. В. Ф. Фрагменты к «Конституции Германии» (1799 г.) //
Гегель Г. В. Ф. Политические произведения. М.: Наука, 1978. С. 178 (курсив мой. —Б. К.).
40
Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 206 (курсив мой. — Б. К.).
159
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
общего осмысления связи морали и политики столь велико, что
на ней есть смысл остановиться подробнее.
Множество раз самые разные авторы укоряли Гегеля в этатизме и аморализме. Приведённая формулировка может служить для этого благодатной почвой — ведь в ней речь идёт об
исчезновении собственной совести индивида. Некоторые авторы доходили до того, что называли Гегеля одним из главных
творцов «тоталитаристской теории морали», защитником «морального нигилизма» и поборником «аморальности государства»'11. Он действительно уподоблял государство «шествию
Бога в мире» и полагал, что высшей обязанностью человека является быть членом государства. Более того, оправдывая Макиавелли, Гегель заявлял, что убийства, коварство, бесчеловечность «не имеют значения зла», если они необходимы для «конституирования государства»42.
Служит ли всё это доказательством его аморализма (в обыденном понимании данного слова)? Считаю, что нет. Как, действительно, можно считать злом убийства и коварство, посредством
которых конституируется государство, если без такого конституирования убийств и коварства было бы неизмеримо больше и
если с ними нельзя бороться иным путём? Если бы мораль,
осуждающая конституирование государства посредством насилия, могла бы на деле предотвратить возникновение государства, её, несомненно, следовало бы обвинить в прямом потворстве разгулу убийств и коварства. И что плохого в «шествии Бога
в мире», если верно то, что в государстве как ставшей нравственной субстанциальности право индивидов на особенность
действительно обеспечено с надёжностью, исключающей появление каких-либо проблем, способных потревожить «собственную совесть» (см. «Философию права», параграф 154)?
л]
См.: Поппер К. Открытое общество и его враги. М.: Международный фонд «Культурная инициатива», 1992. Т. 1. С. 146.
"См.: Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 279, 284 и др.; Гегель Г. В. Ф. Йенская реальная философия // Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет. М.: Мысль, 1970. Т. 1. С. 358.
160
Всё дело в том, что «если» в нашем предыдущем вопросе
указывает на абсолютно нереальное условие. Введение этого
нереального условия — условия полного и окончательного перехода морали в нравственность — и только его! — ведёт Гегеля
к аморализму. Аморализм — представление о том беспроблемном состоянии «завершённой моральности», в котором совесть как бы не нужна, ибо нечему её беспокоить. Оправдание
же убийств, благодаря которым конституируется государство и
тем самым мораль становится практически возможной, вовсе
не является аморальным.
Этот (мнимый) парадокс аморальности «завершённой моральности» наводит на выводы, весьма существенные для нашего исследования.
Первый вывод. Мораль не может полностью и окончательно
перейти в действительность и, так сказать, опредметить себя в ней.
Дело не в том, что она всегда и неизбежно созерцательна и потому якобы не способна переходить в действительность. Она переходит в действительность в поступках людей — через участие в их
формировании. Но она не может перейти в действительность, т.е.
воплотиться в состоянии «завершённой моральности». Такое состояние аморально уже тем, что отрицает мораль как право свободной субъективности на самоопределение в отношении этой
будто бы безупречной действительности, что само собой подразумевает право критики её. «Завершённая моральность» требует
признать такое право и такую (возможную) критику не только излишними в сложившихся условиях, но и (хотя бы потенциально)
подрывными для них. Право на самоопределение и критику,
неотъемлемое от морали, становится как бы аморальным с точки зрения «завершённой моральности», что и обусловливает её несовместимость с моралью. Этот (мнимый) парадокс и зафиксировал Гегель в его рассуждении об исчезновении совести после перехода морали в нравственность. И будь такой окончательный
переход возможен, Гегель был бы полностью прав.
Но данный парадокс — отнюдь не открытие Гегеля. До него
и гораздо радикальнее его о нём писал Иоганн Готлиб Фихте.
П Выбор
161
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Он логически безупречно заключил, что нравственный закон как
объективированная мораль исключает свободу в качестве «постоянного самоопределения» человека, уничтожает её навечно. В условиях объективированной морали индивид живёт не
сам по себе, а в нём живёт «конечная цель» (этот самый закон), вследствие чего его жизнь становится не свободой, а «природой» (sic!)43. Молодого Гегеля такой вывод, видимо, пугал.
Поэтому он настаивал на тем, что мораль, оставаясь моралью,
не может перейти в действительность, что «морально действительного не существует» 44 . Конечно, в этом он видел «ущербность» морали. Зато оставалась свобода человека, не превращавшаяся вновь — или, точнее, не деградировавшая — в «природу», из которой она вышла, чтобы быть свободой.
Второй вывод представляет собой уточнение вопроса о том,
чем с точки зрения морали являются институты, произведённые
её переходом в нравственность, т. е. морально ориентированным действием? Прежде всего они являются частью внешнего по
отношению к индивиду мира гетерономии и потому обладают для
него самого принудительной силой. Они отрицают его автономию в принципе и в действительности будут подавлять её, если
решения и действия автономно мыслящего человека окажутся в
противоречии с ними. В этом — реальный смысл кантовского
разведения моральности и легальности (в том числе и в случае
самого либерального правового государства).
Далее. Любая система нравственности (в гегелевском
смысле) как некая совокупность институтов всегда «конечна»45.
Она конечна в том смысле, что объемлет собой какое-то ограниченное число людей (соединить которых в «целое» и есть её
0
См.: Фихте И. Г. Факты сознания // Фихте И. Г. Соч.: В 2 т. СПб.:
МИФРИЛ, 1993. Т. 2. С. 753-754.
"Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. // Гегель. Соч. Т. IV. М.:
Соцэкгиз, 1959. С. 329.
45
См. гегелевское пояснение этого в «Философии права». С. 194
(сноска).
162
главное дело), но никак и никогда — не «человечество», как бы
от имени которого говорит мораль. Любая система нравственности конечна и в другом очень важном смысле: она существует во времени — со всем, что из этого вытекает и для условий
её функционирования, и для самого её наличия в мире. А вытекает из этого прежде всего то, что она существует только как
традиция. Традиция как таковая вовсе не антитеза разуму и свободе (вспомним её определение Гадамером. См. сноску 4 к
данной части книги). Но в сами механизмы существования и развития традиции входит то, что не осознаётся разумом, что для
него самого является самоочевидным и даже не признанным
им, а просто данным ему как факт.
Эту неустранимую «фактичность», «изнанку» разума, являющуюся, по его собственным меркам, не чем иным, как «неразумием», никакая данная система нравственности своим собственным языком не может даже выговорить, так как не знает
её, хотя живёт, «опираясь» на неё. Строго говоря, в этой «изнанке» разума заключена главная тайна любой культуры (тайна от
неё самой), за разглашение которой она, если обладает на то силой, безжалостно карает. Карает не потому, что данная культура «нетолерантна» к «свободе слова», а потому, что осознание
этой тайны, сознательное отношение к ней уже меняет механизмы функционирования данной культуры, хотя бы в смысле возможности требовать их изменения. За это и погиб Сократ в демократических Афинах с их беспрецедентной «свободой слова».
Выдающийся американский антрополог Альфред Кребер прав в
своём обобщающем заключении: «То, что подлинно важно знать
о [любом] обществе, — это то, что оно принимает за самоочевидное»46 (и потому не осознаваемое разумом).
Но моральное сознание готово принимать лишь то, что
проходит тестирование его собственными нормами на предмет
"Цит. по: Coleman S. Is There Reason in Tradition? // Politics and
Experience / Ed. P. King and B. Parekh. Cambridge: Cambridge University
Press, 1968. P. 243.
163
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
соответствия им. Дело даже не в том, что такое тестирование
обязательно показало бы несоответствие морали всех или хотя
бы «главных» институтов данной системы нравственности. Важнее
то, что далеко не всё в ней может быть так протестировано в каждый конкретный период времени. Причём не могут быть протестированы, как мы видели, как раз «скрытые» основания культуры. Морально ориентированное действие способно изменить то,
что моральное сознание видит неприемлемым. Но оно не видит
очень многое в данном обществе, и это «многое», сцепляясь,
казалось бы, с морально «чистыми» продуктами морально ориентированного действия, всегда даёт результаты, в которых мораль не может себя узнать. Она, как говорил молодой Гегель, не
может полностью перейти в действительность.
Приведу для пояснения сказанного один пример. Базовые
документы Американской республики, лёгшие в её основание,
имели своим подлинным смысловым фокусом формулировку
«все люди созданы равными». Несомненно, это наглядный (и не
столь часто встречающийся) пример прямого перенесения в политическую жизнь важнейшего постулата морального сознания.
Некоторые комментаторы склонны считать таким образом перенесённый в политику моральный постулат «моральным основанием конституционной демократии Соединённых Штатов»47.
В 1920 году — через полтора столетия после учреждения
Американской республики — принимается 19-я поправка к Конституции, уравнивающая женщин в избирательных правах с
мужчинами. Как это понимать? Означает ли это, что ещё в конце XVIII века женщины людьми не были, а потому моральный
разум с полным на то правом не распространил на них формулу «все люди созданы равными», а к тридцатым годам XX века
они людьми каким-то образом стали, и тот же моральный разум столь же законно отметил и оценил данное вновь возник47
См., например: Rutherford J. H. The Moral Foundations of United
States Constitutional Democracy. Pittsburgh (PA): Dorrance Publishing Co,
1992. P. 1-2 ff.
164
шее обстоятельство? Но даже если это так, то зачел* принимать
особую поправку к Основному Закону страны? Ведь формула
о равенстве всех людей должна была бы автоматически распространиться на новую группу «человеков», столь же автоматически отменяя устаревшие акты позитивного права, которые
отрицали, что женщины — «тоже человеки».
Но в том и дело, что моральный постулат о равенстве всех
людей, став формулировкой Закона, перестал быть моральным постулатом, сохранив с ним логическое сходство, и превратился в элемент складывавшейся и развивавшейся традиции.
Данное утверждение имеет в виду не принизить колоссальное,
в том числе освободительное, значение этой традиции, но лишь
подчеркнуть, что опредмеченная мораль (та же формула равенства) живёт по законам традиции, а это иные законы, чем постулаты морального сознания как такового. Законы традиции не
могут не иметь «изнанки» в виде некоторых необсуждаемых самоочевидностей, закреплённых в практике жизни властью, а не
моральной рефлексией. Патриархат и соответствующее ему
приниженное положение женщины — одна такая самоочевидность, рабство — другая. Эти самоочевидности прекрасно уживались с моральным постулатом равенства в качестве интегральных элементов той самой традиции, которая превратила этот постулат в ключевую формулу своих законов.
19-я поправка к Конституции (как и другие поправки, которые принимались в прошлом или будут приняты в будущем)
была необходима для корректировки не применения морального постулата к действительности, а самой действительности.
Смысл данной корректировки вовсе не моральное признание
женщин в качестве людей (ведь все моральные законы — и Декалога, и Нагорной проповеди — распространялись на женщин
с момента оглашения). Он состоит в политико-правовом признании изменения роли женщин в развивающейся традиции американской жизни, а также их новой политической силы, которой
они не имели при учреждении Республики. И законодательно
признавать это пришлось потому, что из так называемого
165
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
«морального основания» американской конституционной демократии ничего автоматически ни для женщин, ни для всех
прочих, чья принадлежность к категории «человек» вызывала
или продолжает вызывать сомнения, не следует и не выводится.
В свете сказанного мы можем под новым углом зрения
взглянуть на гегелевское суждение (в «Феноменологии духа»)
о том, что неспособность морали воплотиться в действительность есть свидетельство её «ущербности». Именно эта неспособность морали к полному воплощению, её «отскакивание»
даже от той действительности, которая была создана морально ориентированным действием, есть важнейшее условие возобновления критики каждой вновь появляющейся формы
культуры, выявления тех её границ, за которыми она оказывается угнетением и «изнанкой» разума. Мы уже говорили о
том, что мораль не сама по себе находит эту «изнанку» и проблематизирует её, что она вполне может не тестировать по
своим правилам сами вопиющие проявления гетерономии, которые в данной традиции представляются самоочевидными
«фактами жизни», что её подталкивает к такому тестированию
возникновение трещин в самой традиции. Однако именно мораль превращает «эмпирически» испытываемое недовольство
данной формой культуры вначале в осмысленную и уверенную в себе критику её, а затем — в не знающее компромиссов действие, необходимое для её преодоления. Только такая
«отскакивающая» от любой действительности мораль способна оставаться моралью и в этом качестве быть «потенциально
подрывной для господства и власти»48.
Подытожим наши рассуждения. В связи с рассмотрением
гегелевского понимания перехода морали в нравственность мы
отметили три обстоятельства, которые не были им учтены. Первое из них — наличие или отсутствие определённых культурных
ресурсов, которые облегчают или затрудняют такой переход.
48
Walzer M. Interpretation and Social Criticism. Cambridge (MA): Harvard
University Press, 1986. P. 22.
166
Второе — его зависимость от конкретных характеристик данной
политической ситуации, в рамках которой он есть лишь одна из
альтернатив, открытых для выбора и самоопределения её участников. Третье — неспособность морали окончательно и полно перейти в действительность, если она сохраняет себя в качестве критического и свободного мышления как одного из условий возможности новой освободительной борьбы. Сейчас
следует показать, что в реальных условиях современного общества все эти три обстоятельства оборачиваются серьёзными
трудностями для «возвращения» морали в политику.
3. ТРУДНОСТИ «ВХОЖДЕНИЯ» МОРАЛИ
В СОВРЕМЕННУЮ ПОЛИТИКУ:
СПЕЦИФИЧЕСКОЕ РАССМОТРЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Рассмотрим эти три обстоятельства.
Первое. В XVII—XVIII веках политика, закладывавшая основы современного общества, ещё могла опереться на некие «остатки» «естественной нравственности», предоставленные ей христианством и преобразованные им в соответствии с его «природой». К ним апеллировал Локк, когда утверждал, что наш
разум, который и есть принципы «подлинной нравственности»,
представляет собой «не интеллектуальную способность», а «закон природы... как проявление божественной воли»49. Реальное
наличие этих «остатков» в сознании разных сословий и сообществ придавало его словам значение философских истин, а не
благочестивых назиданий. Эти «остатки», служа принципами
«подлинной нравственности», оказывались механизмами широкой координации мыслей и поступков людей, так сказать, компенсировавшими неизбежный индивидуализм моральной рефлексии. Самое поразительное то, что эти принципы не нужно
было «изобретать» и даже доказывать массовым участникам
"Локк Д. Опыты о законе природы // Локк Д. Соч.: В 3 т. М.
Мысль, 1988. Т. З.С. 8.
167
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
политических действий (в отличие от необходимости доказывать
их философским оппонентам). Их можно было найти непосредственно в «здравом смысле» людей, в том, что думали «все».
Там и нашёл их Томас Джефферсон в период американской
революции и прямо перенёс в эпохальную Декларацию независимости50.
Конечно, едкий скептицизм Монтеня и Паскаля уже зафиксировал то, что справедливое и истинное по сю сторону Пиренеев
становится несправедливостью и заблуждением по ту сторону51.
Но нас сейчас интересует не столкновение теоретических взглядов на мораль, а политический потенциал морали на уровне
коллективного сознания. Вновь припомним политическую мудрость Юма: для политики имеют значение не те «немногие», которые доискиваются «истины», а «большинство» с его мнениями о справедливом и несправедливом. Не забудем и о том, что
политическая роль морали заключается не в унификации нравственных представлений «по обе стороны Пиренеев» (продолжая монтеневско-паскалевскую метафору), а в том, чтобы помочь координации и мобилизации политического действия по ту
или по другую их сторону.
Да, в этой практической и политической роли морали её универсализм оборачивается не платформой «всеобщего и вечного
50
Окидывая ретроспективным взглядом сделанное им, Томас Джефферсон категорически отрицал оригинальность заложенных в Декларации
идей и своё авторское право на них. При этом он признавал, что она не скопирована с какого-либо из существовавших к тому времени текстов. Разгадка тайны происхождения идей Декларации в том, что она лишь выражала понимание «предмета» с точки зрения «здравого смысла», её авторитет
зижделся исключительно на «гармонично сочетавшихся мнениях того времени» («on the harmonizing sentiments of the day»). «Я совсем не считал частью моей задачи изобретать новые идеи или выдвигать мнения, которые
до меня никто не выражал», — писал он (см.: The Living Thoughts of Thomas
Jefferson. Presented by John Dewey. Greenwich (CT): A Fawcett Premier Book,
1940. P. 42).
51
См.: Паскаль Б, Указ. соч. С. 335.
168
мира», а инструментом борьбы. Причём чем серьёзнее к нему
относятся «по обе стороны Пиренеев», тем бескомпромисснее
будет борьба между сторонниками разных концепций справедливости, в равной мере претендующих на универсальное значение. Но разве не сказал и Христос, поясняя значение Нагорной
проповеди: «Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю;
не мир пришёл Я принести, но меч» (Мф. 10, 34)? И разве не для
такой политики войн и революций, без которой современное общество никак не могло бы утвердиться, должна была подготовить
людей универсальная мораль «закона природы» и «всеобщих
неотчуждаемых прав человека»?
Ключевая проблема, решению которой призвана содействовать мораль в её политической роли, — формирование дееспособного политического субъекта. В век Просвещения такой субъект
часто называли «народом». «Народ» как субъект политического
действия, отличаемый от «народонаселения», «трудящегося люда»
или «нации», — продукт мысли и практики века Просвещения52.
Гордое «мы, народ» — главная идея американской Декларации
независимости. «Народ» является и главным продуктом американской революции, сделавшим возможным решение всех остальных
вопросов государственного строительства.
«Народ» как политический субъект — это не стирание многообразия всех образующих его групп, сложившихся на основе множества частных признаков. Это — возникновение у них особого
52
В теоретическом плане понимание того, что «народ» есть не демографическое, этнографическое или социологическое, а сугубо политическое понятие, обозначающее субъекта, который «обладает единой волей»,
можно найти уже у Гоббса. Другое дело, что Гоббсу неведома практика,
которой может заняться такой субъект. А потому у него народ существует лишь в мистическое мгновение заключения «общественного договора»,
превращаясь сразу же после этого (как и в «естественном состоянии») в
агрегат соперничающих эгоистов, но на сей раз — уже находящихся под
контролем суверена, который, поскольку он сохраняет свойство субъектности, и есть народ («король и есть народ», заявляет Гоббс). См.: Гоббс Т.
О гражданине // Указ. соч. С. 358, 372.
169
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
аспекта их бытия, который существует только в динамике определённого рода политических и публичных действий. Образование
«народа» вовсе не равнозначно исчезновению частных (групповых
и индивидуальных) интересов или хотя бы снижению их роли в жизни людей. Более того, сам «народ» может быть понят только как
найденный людьми способ разрешить те конфликты, преодолеть
те кризисы, которые были порождены их частными интересами,
но не получали разрешения на уровне их «игры» и столкновений.
Теоретически ложными, хотя идеологически очень понятными
являются (руссоистские) представления о «народе» как об особом
«лице» и «существе», образующемся в той мере и постольку, в
какой и поскольку стираются групповые идентификации и теряют
значение те частные объединения людей, которые Руссо именует
«малыми обществами» и «партиями»53.
Тем не менее в форме и в качестве «народа» социальные
группы обретают иной способ бытия, чем тот, который они имели
ранее, и тот, который они получают после того, как перестают
быть «народом», когда политика переходит в режим воспроизводства статус-кво. В «народно-субъектном» аспекте своего бытия социальные группы «трансцендентируют» особые и разделяющие их интересы. Последние отнюдь не исчезают, но их способность детерминировать деятельность соответствующих групп
модифицируется «телеологической» детерминацией через должное, которое необходимо осуществить. Так и получалось в великих революциях Нового времени. Конфликты, первоначально
порождённые чрезмерными пошлинами на импортируемые в
американские колонии товары или слишком обременительным
для французского «третьего сословия» налогообложением,
трансформировались в борьбу за «неотчуждаемые права» человека и «естественное» равенство людей.
Относительно пошлин, налогов и всего прочего в этом роде
возможен торг, взаимные уступки, готовность «ещё потерпеть»
53
См.: Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре //
С. 228-229.
170
Там же.
в надежде на будущие милости... Относительно «неотчуждаемых прав» ничего такого не может быть. Но вследствие бескомпромиссности борьбы за «права» пошлины действительно отменялись, налоги снижались или перестраивались, а привилегии
ликвидировались. Это и оказывалось реальным результатом
борьбы, своей «прозаичностью» всегда разочаровывавшим её
участников, движимых моральными ориентирами, равно как и
позднейших моральных наблюдателей таких событий.
Трудно сомневаться в том, что в современном мире дела обстоят иначе. Когда Хабермас говорит о том, что «народ, от которого и должна исходить государственно-организованная власть, не
есть субъект, наделённый волей и сознанием», что «он в принципе не наделён ни способностью принимать решения, ни способностью действовать»54, то речь идёт о колоссальном изменении по
сравнению с веком Просвещения. Сам Хабермас склонен объяснять его очень «по-лумановски» (сколь бы много он ни полемизировал с Луманом по другим вопросам) — через «внутреннюю системную специфику рынка и административной власти» и «тонкую
дифференциацию экономической и управленческой систем»
(см. там же). Есть сомнения в том, что всего лишь рост степени
такой «тонкости» и такой «специфичности» в наши дни по сравнению с XIX или XX веками может служить адекватным объяснением бессубъектности современной политики. Разве не было никакой «системности рынка и администрации» и никакой дифференциации «экономической и управленческой систем», когда в
середине XIX века по Европе прокатилась революция 1848 года, не
говоря уже об известных событиях XX столетия?
Однако ясно, что способные привести к политическому эффекту апелляции к моральным «истинам» не находят в нынешнем «здравом смысле» того широкого и горячего отлика, который обнаружил Джефферсон в предреволюционной Америке.
Они не находят в нём тех нравственных ресурсов коллективного
54
Хабермас Ю. Демократия, разум, нравственность: Лекции и интервью. М.: Наука, 1992. С. 65 (курсив мой. —Б. К.).
171
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
сознания, мобилизация которых создавала бы морально ориентированное политическое действие.
Свидетельствует ли это о современном упадке морали как
таковой? В той мере, в какой это может прозондировать эмпирическая социология, она даёт отрицательный ответ на данный
вопрос. Моральные взгляды и убеждения обитателей Европы и
Северной Америки за последние десятилетия существенно не
изменились. Огромное их большинство способно не только дать
внятную и разумную моральную оценку различным явлениям
жизни, но и руководствоваться ею в своём поведении как частных лиц. Существенно изменилось лишь то, что автор обзора
обследования «моральных ценностей», на которое я ссылаюсь,
именует «коллективной моралью», «гражданской моралью»
или даже «моралью, опирающейся на религию» (и другие коллективные представления). Она приходит в упадок55. В сфере же
частной жизни мораль по-прежнему сильна.
Йозеф Шумпетер, один из основоположников современной
теории демократии, исходил из убеждения в том, что «обычный
гражданин» неспособен к рациональному политическому мышлению и превращается в «дикаря» при первом же столкновении с политическими вопросами. Он считал, что это — оборотная сторона рационального понимания проблем частной жизни56. Шумпетер
не раскрывает причинно-следственной связи этих двух явлений —
иррациональности в политической сфере и рациональности — в
частной. Ею занялись его наиболее талантливые последователи, к
концепциям которых мы перейдём в следующей лекции. Сейчас
ограничимся лишь замечанием о том, что анализ этой связи даёт
более глубокое объяснение исчезновению «народа как субъекта»,
55
См.: На/man L. Is There a Moral Decline? A Cross-National Inquiry into
Morality in Contemporary Society // International Social Science Journal. 1995.
№ 145. P. 422,428, 438.
56
Шумпетер И. Капитализм, социализм и демократия. М.: Экономика, 1995. С. 347. Развёрнутое объяснение этого явления см.: Там же. Ч. IV,
Гл. XXI. Пар. 3.
172
чем указание на нынешнюю степень дифференциации и специализации рыночных и административных институтов в сравнении с той,
какая существовала пятьдесят или сто лет назад.
Второе. Мы уже говорили о том, что отнюдь не случайно
молодой Гегель (в «Конституции Германии») связывал переход
морали в политику с ситуацией кризиса, теми возможностями
для самоопределения человека, которые он открывает, и теми
импульсами, которые он даёт для свершения выбора. По контрасту с описанной Гегелем ситуацией можно сказать, что нынешнее положение на Западе в целом, т. е. для большинства, не
открывает сколько-нибудь значимых возможностей для морально осознанного политического самоопределения и не даёт
импульсов для выбора соответствующих ему жизненных позиций и стратегий. Упомянутый социологический опрос о восприятии «моральных ценностей» и другие исследования этой проблемы свидетельствуют скорее о том, что моральный выбор в
политике как выбор программ деятельности в аспекте самоопределения «я» снимается с «повестки дня». Он уступает место,
с одной стороны, этосу честности и терпимости в частной жизни57, а с другой — морализаторству по поводу политики.
Конечно, сказанное не означает, что Запад не знает кризисов, актуальных или потенциальных, как таковых. Однако это
не те кризисы, которые бросают зримый вызов сохранению
modus operand! существующей системы58. Возможно, дело
57
Постмодернистские спекуляции о замене этого этоса «моралью
вседозволенности» не подтверждаются — за рамками узких, но референтных для постмодернизма групп — ни эмпирической, ни теоретической социологией (см.: На/man L. Op. cit. P. 438; Bauman Z. Postmodern Ethics.
Oxford: Blackwell, 1995. P. 2-4.
58
Имея это в виду, приходится признать вполне законным вопрос, адресуемый теоретикам Франкфуртской школы, которые столь часто пишут
о различных кризисах современного общества: что же в конце концов означает понятие «кризис»? См.: Finlayson G. Does Hegel's Critique of Kant's
Moral Theory Apply to Discourse Ethic? // Habermas: A Critical Reader / Ed.
P. Dews. Oxford: Blackwell, 1999. P. 176 (сноска 39).
173
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
даже не столько в масштабах кризисов или способах их «сокрытия», которые, согласно теоретикам Франкфуртской школы, освоил «поздний капитализм». Можно предположить, что
дело в той культурной оптике, через которую эти кризисы воспринимаются.
Об этой оптике Хабермас когда-то (до своего кантианского поворота) писал следующее. Укоренившееся технократическое сознание устраняет различие между «техническим и практическим» (в смысле «моральным») и представляет собой «репрессию этики как таковой, как категории жизни»59. При
«репрессированной этике» любой кризис воспринимается либо
в качестве задачи, подлежащей административным решениям,
либо того сбоя в отлаженных механизмах жизни, который устранит «невидимая рука» рынка. Ни первое, ни второе не требуют личного и группового нравственно-политического самоопределения.
Конечно, оптика технократического сознания в отношении
общественных дел укоренилась не случайно. В известном смысле, сколь бы парадоксальным такое утверждение ни показалось, это стало результатом предшествующей успешной политической борьбы. Ведь массовая технократическая вера в административную или рыночную решаемость общественных
проблем — результат тех благ, которые действительно принесли созданное после Второй мировой войны «государство благоденствия» и соответствующий ему «регулируемый рынок». Но
и то и другое не чьи-то дары и не «естественные факты жизни»,
а плоды «истории упорной организаторской и сознательной деятельности, истории риска и потерянных жизней», это — достижения «буржуазных и рабочих политических движений»60. Движения же эти имели сильную моральную мотивацию.
59
Habermai }. Toward a Rational Society. Tr. J. J. Shapiro. Boston: Beacon
Press, 1970. P. 112.
60
Уолцер M, Компания критиков: социальная критика и политические
пристрастия XX века. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. С. 260.
174
Как бы то ни было, сложился тот modus operand! «системы», который на данном этапе способен опираться не на нравственно-политическую, а на прагматическую поддержку большинства населения. Эта поддержка исходит из учёта суммы выгод, которые члены большинства в западных обществах
получают в качестве частных лиц. Это и есть системный «принцип» нынешнего «демократического капитализма». С точки зрения функционирования «системы» он тождествен, как подчёркивает крупнейший американский экономист Джон Кеннет Гэлбрейт, способности экономики расти таким образом, чтобы
обеспечивать повышение жизненных стандартов благодаря
«свободе рынка» большему числу людей, чем те, чье благосостояние зависит от дальнейших политико-государственных корректировок «рыночной игры». На этой способности базируется
сам феномен «демократического капитализма» как демократического (большинством населения) одобрения функционирования капитализма и неотъемлемых от него видов неравенства, угнетения и зависимости. Без этого условия капитализм и демократия несовместимы, о чём убедительно свидетельствует вся
история Запада XIX и начала XX веков, не знавшая всеобщего
избирательного права в нынешнем его понимании61.
Опасна ли такая зависимость демократической составляющей «демократического капитализма» от устойчивого роста
экономики (теперь для неё допустимы лишь «рецессии», но никак не кризисы, известные по прошлой истории капитализма)?
Некоторые теоретики считают, что опасна. Они полагают, что
«парадигма», на которой произошло «примирение» капитализма с демократией после Второй мировой войны, «изнашивается». Удовлетворение непрерывно растущих «аппетитов» частных лиц, образущих большинство, — слишком ненадёжная основа для того «общественного договора», который воплощён в
этой «парадигме». Из этого они заключают, что устойчивость
41
См.: Bäumen Z. A Post-Modern Revolution? // From One-Party State to
Democracy / Ed. J. Frentel-Zagorska. Amsterdam-Atlanta: Rodopi, 1993. P. 18.
175
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
«демократическому капитализму» может сообщить только
связь его демократической составляющей с «практическим разумом». Но под ним понимают уже не кантовский трансцендентальный разум, а способность людей к моральному самоопределению, воспитываемую у них активным участием в делах общества, в том числе в тех сферах, которые до сих пор являются
«вотчинами» элит62.
Возможно ли такое воспитание в нынешних условиях? Только живая практика может дать ответ на данный вопрос. Но пока
она такой ответ не дала, трудно не согласиться с Гербертом Маркузе в том, что в «имморальном обществе» (таком, в котором
мораль не становится принципом действия) «обоснованность [моральных] императивов оказывается какой угодно, только не
универсальной». Однако вряд ли гуманизация общества может
произойти благодаря тому, что моральное сознание выразит
«должное, которое может навязать себя индивиду против его
побуждений, личных потребностей и интересов». Такая надежда выглядит вдвойне странной у Маркузе, ибо он сам признаёт,
что «эти потребности, удовольствия, интересы, похоже, лишают [моральный] императив действенности, по крайней мере, заставляют его выглядеть абстрактной идеей, реликтом устаревшей политической традиции, подавленной реальностью передовых индустриальных обществ и противоречащей ей»63.
Третье. В связи с философией Гегеля мы говорили о том, что
мораль, если она сохраняется в качестве свободного и критического мышления, не может опредметиться в действительности и
необходимым образом «отскакивает» от неё. Есть немало при62
Такой подход ярко представлен в статье крупных немецких социологов Клауса Оффе и Упьриха Пройсса (см.: Оффе К. и Пройсс У. Демократические институты и моральные ресурсы // Современная политическая
теория / Составитель Д. Хелд. M.: Nota Bene, 2001. С. 206, 219-220,
234-239).
63
Marcuse H. Freedom and the Historical Imperative // Marcuse H.
Studies in Critical Philosophy. Tr. J. de Bres. Boston: Beacon Press, 1973.
P. 217-219.
176
знаков того, что на Западе мораль утрачивает способность «отскакивать» от действительности, утрачивает свою критическую
функцию и сливается с апологетическим сознанием. Она всё более «слипается» с существующими институтами. Эту тенденцию
и отражает морализованная политическая философия.
Существующее общество воспринимается, используя сакраментальную формулу Джона Ролза, в качестве «хорошо организованного общества» (well-ordered society). Под этим понимается уже не экономическая эффективность или «рациональность»
(по Максу Веберу) его административных структур, а именно
воплощённость в нём справедливости. Эта воплощённость мыслится настолько полной, что решение любых до сих пор не решённых проблем и возможно и реально в рамках данного общества и на основе принятых в нём процедур и правил. Своего рода
«общей посылкой» мышления стала вера в то, что существующая
«система» без каких-либо принципиальных изменений способна
«вместить» и гармонизировать любые «различия» между людьми, на каких бы основаниях они ни возникали64. Это означает, что
если не в данный момент, то в будущем «система» способна устранить все явления дискриминации, угнетения, маргинализации
и стать «завершённой моральностью».
Конечно, так думают не все. Но очень показательно, что
так думают даже некоторые из тех, кто относят себя к критически мыслящим интеллектуалам. Но думающим так переход
морали в политику просто не нужен. Ведь в уже справедливом
обществе он может считаться состоявшимся, причём — по позднему Гегелю — раз и навсегда. Строго говоря, такому обществу не нужна и политика — одного административного вмешательства должно быть достаточно для устранения «реликтов несправедливости», оставшихся от прежних времён. В крайнем
64
Benhabib S. Introduction: The Democratic Moment and the Problem of
Difference // Democracy and Difference. Contesting the Boundaries of the
Political / Ed. S. Benhabib. Princeton (N.J.): Princeton University Press, 1996.
P. 5.
12 Выбор
177
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
случае, морально чуткому общественному мнению и в особенности его просвещённым выразителям нужно подсказывать администраторам, что им ещё надлежит сделать, чтобы превратить «почти справедливое общество» (Ролз) в безупречно и законченно справедливое.
В качестве итога этой лекции отметим для себя: устранение
проблемы перехода морали в политику неким образом связано с упразднением самой политики, точнее, с растворением её
в администрировании, с одной стороны, и в морально-просветительной деятельности — с другой. Такое растворение на
практике вызвано специфическими для современной политики
трудностями «вхождения» в неё морали. Морализированная политическая философия лишь фиксирует результаты этого на теоретическом уровне. В следующих лекциях мы рассмотрим
то, как именно она это делает.
ДВА СПОСОБА ОТРЫВА
ПОЛИТИКИ ОТ МОРАЛИ
И «УТРАТА
ПОЛИТИЧЕСКОГО»
Лекция 8
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДВУХ ГРУПП
РЕДУКЦИОНИСТСКИХ ТЕОРИЙ
Сейчас мы рассмотрим те две группы теорий, о которых
шла речь в начале седьмой лекции. Вновь подчеркну, что вижу
мою задачу не в том, чтобы подвергнуть их обстоятельному
разбору. Мы взглянем на них сугубо под углом зрения нашей
темы, т. е. попытаемся выявить то, как они осмысливают связь
морали и политики и что вытекает для понимания политики (какой образ её складывается) из того или иного осмысления этой
связи. Собственно, и сгруппированы рассматриваемые теории
исключительно по этому признаку. Во многих иных отношениях
они существенно отличаются друг от друга, и те имена и идеи,
которые читатель встретит в данной лекции как представляющие
какую-либо из выделенных мной групп, в иных изданиях он может увидеть разведёнными по разным школам и направлениям
современной политической мысли.
При первом приближении контраст между двумя группами
теорий бьёт в глаза. Теории одной группы, рассуждая о политике, по существу отказываются говорить о морали, а если и упоминают о ней, то исключительно как о чём-то второстепенном,
никак не влияющем на основные закономерности и условия политической жизни, или даже как об «идеологическом прикрытии»
силовых и эгоистических действий политических акторов. Другие
теории, напротив, делают мораль в полном смысле слова отправной точкой изучения политики. С этой позиции и под этим углом
зрения они стремятся не только вскрыть «природу» политических
I2»
179
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
институтов и дать им оценку, но и увидеть тенденции, противоречия и перспективные возможности современной политики, а также выдвинуть свои рекомендации. В этом плане и характерным,
и имеющим значение своего рода установки является то, как
Джон Ролз открывает свою влиятельную книгу «Политический
либерализм». Определение этого ключевого для него понятия,
ставшего названием книги, следует начать, считает он, с выяснения не того, что означает «политический», а того, как нужно понимать «концепцию справедливости, наиболее подходящую для
установления честных условий кооперации граждан, которых рассматривают в качестве свободных и равных»65.
Мы постараемся по мере необходимости реконструировать
специфическую логику подходов, характеризующих теории обеих групп. Однако уже сейчас я должен пояснить следующее.
Главным объектом моей полемики будет то, что является общим
для теорий обеих групп, а не то, что составляет своеобразие каждой из них, отличая одну от другой. Общим же, с моей точки зрения, выступает утрата политического и подмена его понятиями,
взятыми из других сфер жизни и других отношений, которые являются или в условиях капитализма оказываются по существу
аполитичными или деполитизированными.
В качестве характерных для первой и второй групп теорий
источников, откуда заимствуются понятия, применяемые к изучению политики, выступают, соответственно, (рыночная) экономика и моральное сознание. Сказав это, я должен сразу сделать три
уточнения, дабы предотвратить возможное недопонимание или
исключить дальнейшее движение мысли по «ложному следу».
Первое. Могут возразить, что в рамках первой группы не
все теории редуцируют политику к рыночной экономике — в
смысле рассмотрения политики по модели рынка (или по аналогии с ним). Весьма распространены подходы, согласно которым
политика видится преимущественно или исключительно как деятельность организаций («больших организаций»), и о таких
65
Rawls3. Political Liberalism. N. Y.: Columbia University Press, 1993. P. 3.
180
подходах справедливо сказать, что они редуцируют политику
скорее к функционированию бюрократических структур, чем к
рынку. Некоторые авторы, как, например, Фридрих фон Хайек, видят между организационно-бюрократической и рыночной
концепциями политики столь большую разницу, что считают
первую в огромной мере ответственной за происходящую ныне
на Западе дегенерацию либерального строя в то, что они именуют «демократией торга» (bargaining democracy). «Демократия торга» и представляет собою арену, на которой происходят
силовые маневры и сделки организованных «групп интересов»,
не имеющие ничего общего с рыночным («спонтанным») порядком и разрушительные для него66.
Конечно, можно заметить разницу в фокусировке интереса,
методологии и понятийном аппарате между теориями, акцентирующими «рыночный» и «бюрократический» аспекты современной
политики. Но мы, преследуя цели нашего исследования, можем
абстрагироваться от данных различий по той причине, что в действительности эти теории не противоположны друг другу, а дополняют друг друга, описывая ту единую реальность, которая и есть
современный «бюрократический рынок». (Оставим без комментариев пустые разговоры о нигде не существующем «свободном
рынке» тем, кто по профессиональным или иным соображениям
готов ими заниматься.) Многообразные и необходимые переплетения бюрократического и рыночного «начал» в современном обществе были убедительно описаны ещё Максом Вебером67. Они
видны уже на уровне капиталистического предприятия, воплощающего «строгую модель бюрократической организации», и достигают кульминации на уровне государственного «макрорегулирования» экономики и деятельности партий, строящейся в логике экономической конкуренции (о чём пойдёт речь далее).
"См.: Hayek F. A. Law, Legislation and Liberty. Vol. 3. Chicago: The
University of Chicago Press, 1979. P. 13-17, 99 ff.
67
См., к примеру: From Max Weber / Ed. H. H. Gerth and C. Wright
Mills. N. Y.: Oxford University Press, 1981. P. 215 ff.
181
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Второе. Редукция политики к экономике в разных её проявлениях — не мираж и не заблуждение тех «циников», чьи концепции мы включили в первую группу рассматриваемых нами
теорий. Есть все основания думать, что Шумпетер был прав,
когда заявил: «Не может быть серьёзным политиком тот, кто не
выучил на всю жизнь изречение, приписываемое одному из наиболее преуспевших политиков в истории: "Чего не понимают
бизнесмены, так это того, что я торгую голосами точно так же,
как они торгуют нефтью"»68. Добавлю от себя: без усвоения
этой истины нельзя быть серьёзным исследователем политики,
а также компетентным избирателем.
Полемика с теориями этой группы, на мой взгляд, не может
быть направлена на то, чтобы отрицать их описания современной
политики. Такая полемика не будет продуктивной и в том случае,
если мы зададимся целью смягчить или подправить эти описания
за счёт указаний на те явления или события современной политической жизни, которые «не согласуются» с ними. Нет сомнения,
что мы без особого труда найдём такие явления и события. Останется только вопрос о том, как могут такие «находки» изменить
общее понимание логики и характера современной демократической политики, схваченной данными теориями.
Моя полемика с теориями этой группы будет направлена на
другое. Она призвана, во-первых, прояснить нормативные значения рыночно-бюрократических описаний политики, во-вторых,
выявить границы «истинности» таких описаний. Под прояснением
нормативных значений я имею в виду прежде всего то, чем оборачивается такая политика для свободы человека. Под выявлением «границ» я подразумеваю не временные или пространственные рамки существования политики такого рода, а те её плоскости,
которыми она — для своего сохранения и воспроизводства —
опирается на то, что ей не принадлежит, что по своей «природе»
есть иное, чем она сама. Иными словами, я хочу показать, что
«экономорфная» политика современной демократии пользуется
68
Шумпетер И. Капитализм, социализм и демократия. М.: Экономика, 1995.С. 373.
182
культурными и нравственными ресурсами, которые чужды ей и
не воспроизводятся её собственными механизмами.
Третье. В отношении теорий второй группы было сказано,
что они черпают свои понятия для изучения и концептуализации
политики из такого источника, как моральное сознание. Эта
формулировка нуждается в уточнении.
«Постметафизический» поворот современной философии
затронул, разумеется, и философскую этику. Он не позволяет
современным авторам брать необходимые им для рассмотрения
политики понятия из трансцендентального «практического разума», подобного тому, о котором писал Кант69. Ролзовская «Теория
справедливости» была, кажется, последней влиятельной книгой, в
которой — весьма неудачно — такая попытка была предпринята.
Сам Ролз позднее существенно изменил свой подход. Так
называемая «изначальная позиция» (original position), которая
раньше считалась процедурным механизмом для определения
того, что является справедливым с точки зрения беспристрастного морального «разума вообще», стала пониматься им как
демонстрация «фундаментальной идеи [реально существующего] хорошо организованного общества»70. «Изначальная
позиция», будучи современным парафразом классической идеи
«общественного договора», оказалась вследствие такого переосмысления лишь реконструкцией сознания и исторического
опыта конкретного общества, а не воплощением незыблемых
принципов вечного морального разума.
69
С. Бенхабиб точно, как мне представляется, формулирует те основные положения кантовской моральной теории, которые неприемлемы для
современных этиков, стремящихся опереться на Канта в попытках «вернуть
мораль в политику». Это — априоризм в трактовке «практического разума», представление о «чистом моральном существе» как его носителе и,
соответственно, о том, что в качестве моральных существ мы мыслим одинаково, отождествление универсальности моральных принципов с априорной рациональностью (см.: BenhabibS. Judgment and Moral Foundations of
Politics in Hannah Arendt's Thought // Benhabib S. Situating the Self. N. Y.:
Routledge, 1992. P. 137).
70
Rawls J. Op. cit. P. 103.
183
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Другим теоретикам второй из выделенных мной групп такая
историческая контекстуализация стандартов морального суждения казалась чрезмерной и опасной. Хабермас и некоторые другие этические философы попытались дать им «более надёжное»
основание в языке и присущих ему нормах понимания и взаимопонимания, таких как истинность, правомерность и искренность
высказывания, имеющих универсальное значение для речи. Эти
нормы, (квази)трансцендентные по отношению к любому конкретному контексту, в котором (между кем бы то ни было) осуществляется речевой обмен, стали рассматриваться в качестве
идеальных или идеализированных регуляторов общения людей.
Эти же нормы были представлены в качестве идеальных или идеализированных оснований, на которых люди могут достичь консенсуса по обсуждаемым вопросам. Такие основания и регуляторы, будучи универсальными, нейтральными по отношению к
любому говорящему и равно обязательными для каждого, были
отождествлены с требованиями морали. Так у Хабермаса «универсальная прагматика» языка, объемлющая эти нормы и способы их применения, вышла далеко за рамки семантического и синтаксического анализа значений и грамматики высказываний, в
которые она была заключена Д. Остином и другими исследователями. Она стала трактоваться в качестве общей структуры интерсубъективных коммуникаций, позволяющей людям успешно — в смысле ненасильственно и в форме взаимопризнания —
осуществлять реальные взаимодействия между собою71.
71
См.: Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.: Наука, 2000. С. 33. Ч. 3 «Этика дискурса: замечания к программе обоснования», а также: HabermasJ. What Is Universal Pragmatics? //
Communication and the Evolution of Society. Tr. T. McCarthy. Boston: Beacon
Press, 1979. Примечательна реакция Ролза на эти усилия Хабермаса создать
чисто процедурную теорию морали на базе интерпретации языка. Согласно (пересмотревшему свои более ранние взгляды) Ролзу, в принципе не
может быть адекватной теории справедливости, не являющейся одновременно, причём в самом серьёзном смысле, и субстанциальной, и процедурной (см.: Rawls J. Reply to Habermas // Journal of Philosophy. March
1995. P. 170-180).
184
Я не вижу ни возможности, ни необходимости углубляться
в воистину безбрежную дискуссию, порождённую этой лингвистической реинтерпретацией морали. Мне уже доводилось высказывать в печати мою оценку этой реинтерпретации72. На сей
раз я ограничусь тем, что, строго следуя мыслям самого Хабермаса, воспроизведу отдельные выводы из «дискурсивной теории морали»73, которые имеют самое прямое отношение к
теме нашего исследования.
1. Моральные нормы и моральный принцип (в единственном числе) — это только и исключительно правила ведения
дискуссии. Они абсолютно никого не обязывают как-либо поступать. Они не обязывают даже вступать в «моральную дискуссию». Сам Хабермас прекрасно понимает, что его «дискурсивная мораль» несовместима с учением Канта о долге как высшем смысле морали74.
2. То, каковы всё же обязанности в отношении действий,
решает вовсе не мораль, а право. Точнее, поскольку мы уже в
сфере «дискурсивной теории», а не старой кантовской теории
правового государства, это решает особый вид дискурса —
«дискурс применения» (в отличие от чисто морального «дискурса обоснования» норм), который осуществляется «в форме независимого судопроизводства»75.
3. Дискуссия в соответствии с моральным принципом и моральными нормами практически нигде и никогда не происходит.
Её редкие случаи «можно уподобить островкам, которым грозит
"См.: Капустин Б. Г. Критика политического морализма // Вопр.
философии. 2001. № 2. С. 38-39.
73
Я использую это выражение вместо «дискурсивной этики», поскольку сам Хабермас считал его гораздо более точным применительно к своей
концепции. Она действительно к «этике» отношения не имеет, и Хабермас
соглашался придерживаться названия «дискурсивная этика» только потому,
что оно уже вошло в обиход. См. его пояснение: Habermas J. Justification and
Application. Tr. С. P. Cronin. Cambridge (MA): The MIT Press, 1993. P. vii.
74
См.: Habermas J. Justification and Application. P. 33-34, 41.
75
Ibid. P. 87-88.
185
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
затопление в море практики»76. Модель такой дискуссии может
служить разве что для выявления отклонений от неё реальных
форм практики. Такие отклонения называются «патологиями» и
«искажёнными, насильственными коммуникациями». Их нужно
(кому-то и как-то) устранить. Однако позднее Хабермасу и такое
предназначение модели «идеальной коммуникации» показалось,
видимо, чересчур радикальным, и он назвал её просто «умственным экспериментом» в «безвредном смысле»77.
4. Форумом, где вроде бы должна происходить такая дискуссия, является «публичная сфера», а те, кто ею вроде бы должны заняться, называются «гражданским обществом». Очень
важно, чтобы и «сфера», и «общество» были полностью защищены от каких-либо влияний рынка и административных аппаратов. Иначе осуществляемое в ней и им «коммуникативное действие» (согласно упомянутой выше модели) тут же под влиянием «эмпирических» интересов и дифференциалов силы, в том
числе у самих членов «общества», превратится в «стратегическое действие». Последнее противоположно «коммуникативному действию» и является его отрицанием. В то же время Хабермас пишет, что в действительности «публичная сфера» уже
«пронизана административной и социальной властью», а «общество» находится в состоянии сна78. Иными словами, «коммуникативное действие» невозможно, а «публичная сфера» и «гражданское общество» разрушены или «усыплены».
76
Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие.
С.167.
77
Об использовании модели «идеальной коммуникации» для оценки и
критики реально существующих институтов см.: HabermasJ. Aspects of the
Rationality of Action // Rationality To-day. Ed. T. Geraets. Ottawa: University
of Ottawa Press, 1979. P. 200. О ней же как о безвредном умственном эксперименте см.: Habermas J. Between Facts and Norms. Cambridge (MA):
The MIT Press, 1996. P. 323.
78
См.: Habermas J. Between Facts and Norms. P. 379; Habermas J.
Further Reflections on the Public Sphere // Habermas and the Public Sphere /
Ed. C. Calhoun. Cambridge (MA): The MIT Press, 1994. P. 444 и др.
186
5. По Хабермасу, глубоко ошибочно думать, будто из этого состояния сна пробуждают действия или будто для сопротивления пронизавшей «публичную сферу» административной и социальной власти нужно хоть как-то организоваться. «Моральный
дискурс» вообще не допускает никакой организации, ибо любая форма организации так или иначе нарушит идеальное равенство и полную свободу его участников, в том числе — вступать в дискуссию или выходить из неё, когда им заблагорассудится, равно как и в любой момент возвращаться к любому из
ранее обсуждённых вопросов. В «организациях», отвечающих
характеру «публичной сферы» (признаюсь, учитывая сказанное
выше, мне непонятно, что здесь Хабермас обозначает словом
«организация». — Б. К.), «способность к действию всегда уступает способности к рефлексии». Не говоря уже о том, что
«коммуникативное сообщество» в принципе не действует —
«действует только политическая система», та самая, которая административной властью пронизывает это «сообщество»79.
6. Однако такое положение дел не должно приводить в
уныние радетелей «публичной сферы» и участников «гражданского общества». Во-первых, есть «рациональное право», которое воплощает «доктринальное знание... переплетённое с моралью принципов». Такое право переводит «послания» «жизненного мира» в формы, доступные административной и
экономической системам. Это, вероятно, должно означать то,
что враждебность последних «публичной сфере» и «гражданскому обществу» не столь уж абсолютна и непримирима. Вовторых, хотя «коммуникативное сообщество» бездействует, и
ни власти, ни силы у него нет решительно никакой, оно тем не
"О характеристиках «морального дискурса», включающих полную
свободу его участников см.: Habermas ]. Between Facts and Norms. P. 305306; о принципиальной его неорганизованности см.: Habermas L The New
Obscurity: The Crisis of the Welfare State and the Exhaustion of Utopian
Energies. P. 67; о том, что действовать способна только «система» см.:
Habermas 1. Between Facts and Norms. P. 300.
187
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
менее способно влиять на политическую власть вплоть до того,
чтобы «более или менее программировать её» (sic!)80. Это, конечно, много больше, чем скромные кантовские упования на ограничения политики моралью.
Итак, уточнение, которое нам нужно было здесь сделать в
этом третьем пункте, состоит в следующем. «Постметафизический» поворот в действительности дал лишь иные способы
обоснования той же «моральной точки зрения» (лингвистический
у Хабермаса, контекстуально-исторический у Ролза) и её права «законодательствовать» в отношении политики, а не пересмотр того, как участвует мораль в политике, и тем более не
отказ от её права «законодательствовать». По существу, все
основные понятия для оценивания политики «постметафизические» этики продолжают брать из старого кантовского арсенала,
хотя и дают им иные названия. Но их теории менее интересны,
чем кантовская, для понимания политики именно потому, что
они затушёвывают идею морального долга — т. е. того, что в
конечном счёте и позволяет морали переходить в политику.
Итак, мы сказали о том, что общей чертой обеих групп
рассматриваемых теорий является утрата политического. Мы
сказали далее, что это связано с заимствованием основных понятий, с помощью которых рассматривается и оценивается политика, из сфер, которые мыслятся неполитическими, т. е. из
сфер рыночной экономики и морального сознания. Анализ того,
как происходит утрата политического посредством экономической или моральной его редукции, составит главное содержание
настоящей лекции. В девятой лекции мы рассмотрим некоторые
следствия такой утраты — как для того, что наши авторы продолжают считать «политикой», так и для их теорий. Забегая вперёд, скажем, что, с нашей точки зрения, эти следствия заключаются в нижеприведенных положениях:
а) априорное ограничение политики внешними для неё
рамками;
80
См.: Habermas J. Between Facts and Norms. P. 80-81, 300 ff.
188
б) апологетика существующего и утрата перспективы
трансформационной политики;
в) самопротиворечивость «экономорфных» и морализаторских теорий.
2. ОБЩАЯ ЛОГИКА УТРАТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО
ТЕОРИЯМИ ОБЕИХ ГРУПП
Пусть не удивляет то, что в столь различных по содержанию теориях редукция политического производит одинаковые
эффекты. Между экономизмом теорий первой группы и морализмом второй гораздо больше родства, чем кажется на первый взгляд и чем хотели бы признать сами их авторы. Суть родства и даже взаимодополнительности в том, что политика, свободная от морали, имеет своей оборотной стороной мораль,
свободную от интересов и поступков81.
Итак, как происходит утрата политического в рассматриваемых теориях первой и второй групп?
Политика может испытывать и испытывает влияние разных
«факторов». Среди них экономический «фактор», особенно для
условий современного мира, возможно, является сильнейшим.
Вопрос в том, отменяет ли влияние этих «факторов» собственную «природу» политики, подставляя на её место «природу»
этих «факторов» или того, который является самым мощным
среди них? Правомерно ли сказать, учитывая такое влияние, как
когда-то писал В. И. Ленин, что политика — лишь «концентриро82
ванное выражение экономики» ? Возможно, эту мысль нужно
даже радикализировать. В таком случае мы скажем, что и в политическом выражении экономики ничего специфически политического нет. Оно целиком скроено по меркам экономики: его
характеризуют те же отношения обмена, мотивы максимизации
81
См. : Уолцер М. Компания критиков. С. 61.
Ленин В. И. Еще раз о профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках т.т. Троцкого и Бухарина // Попн. собр. соч. Т. 42. С. 278.
е2
189
Часть И.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
частной выгоды участвующих в нём лиц, критерии успеха и неудачи, формулы оптимизации издержек и результата, что и в
экономике. Если мы скажем так, то единственное отличие политики от экономики останется усматривать в том, с какими видами товаров и услуг каждая из них имеет дело. Если мы согласны так рассуждать, то, оставив Ленина далеко позади, можем
подойти к тому определению политики, которое дают теории
первой из рассматриваемых нами групп.
Приведу такое определение по Нобелевской лекции признанного мэтра экономической теории политики Джеймса Бьюкенена: «Политика есть сложная система обмена между индивидами, в которой последние коллективно стремятся к достижению своих частных целей, так как не могут реализовать их путём
обычного рыночного обмена. Здесь нет других интересов, кроме индивидуальных. На рынке люди меняют яблоки на апельсины, а в политике — соглашаются платить налоги в обмен на необходимые всем блага: от местной пожарной охраны до
суда»83. «Необходимые всем блага», называемые коллективными или публичными, — тот вид товара, который конституирует
единственное отличие политического рынка от рынка в экономике. На последнем циркулируют блага индивидуального (или
узкогруппового, если говорить о семье) потребления.
Однако на политику влияют не только «материальные факторы». В политическом процессе и относительно политического процесса происходят разные дебаты, также в чём-то влияющие на него. Можно представить, что бывают и такие дебаты,
в которых участники искренне стремятся к взаимопониманию,
достижению взаимоприемлемого соглашения и при этом используют рациональную аргументацию. Можно ли на основании
этого заключить, что сущностью политики или хотя бы её «идеальной моделью» является дискурс? Можно ли определить её,
83
Бьюкенен Д. Конституция экономической политики // Бьюкеиен Д.
Избр. труды: Серия «Нобелевские лауреаты по экономике». М.: Таурус
Альфа, 1997. С. 23.
190
как это делает крупнейший американский философ права и политики Рональд Дворкин, в качестве «театра дебатов о том, какие принципы сообщество [людей] должно принять в виде системы»84? Если мы отвечаем на эти вопросы утвердительно, то
становимся на ту точку зрения, которая определяет подходы,
характерные для второй группы рассматриваемых теорий.
Сделаем ещё одно уточнение, дабы избежать упрощений.
Многие теоретики второй группы легко согласятся с тем, что далеко не вся «эмпирически» наблюдаемая политика — в том числе в западных либеральных демократиях — действует как такой
«театр». Как «театр» действует, строго говоря, только так называемая «политика обсуждений» (deliberative politics). В её
рамках по «неформальным каналам политических коммуникаций» происходит образование мнений и «воли» публики, осуществляющееся во взаимосвязи с уже институциализированным
образованием мнений и «воли» в парламенте. Эта «политика обсуждений» находится в сложном взаимодействии (его важные
моменты мы затронули выше в пятом и шестом выводах из лингвистической реинтерпретации морали Хабермасом) с другой
политикой, проводимой «автономными самопрограммирующимися бюрократическими структурами» и «формально частными социальными организациями», оказывающими на неё «привилегированное влияние»85.
Хотя речь, таким образом, идёт о двух видах политики,
имеющих разные «парадигмы», однако именно «театральная»
её разновидность выдвигается в теориях второй группы на первый план. На каких основаниях это делается?
Во-первых, с помощью концепции легитимации стремятся
показать зависимость административной и рыночной «систем»
от нормативных ресурсов одобрения и поддержки, которые им
предоставляет или не предоставляет «политика обсуждения».
Считается, что при «дефицитах легитимности» эти «системы»
84
Dworkin R. Law's Empire. Cambridge (MA): Harvard University Press,
1986. P. 213.
85
См.: HabermasJ. Between Facts and Norms. P. 274-275.
191
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
сталкиваются с двоякого рода трудностями и ограничениями,
которые обрекают их на безынициативность и малоактивность,
граничащую с «квиетизмом». На уровне «входа» работа «систем» затруднена тем, что любые инициативы правительства и
партий ограничены непредсказуемостью реакции избирателей,
которая — при «отзыве легитимности» — может выражаться в
апатии (неучастии в выборах), протестном голосовании или поддержке демагогов и экстремистов. На уровне «выхода» системы достигают предела «способности управлять» (steering
capacity), так как не рискуют предпринимать масштабные действия и прямое вмешательство в ход общественных дел86.
Во-вторых, как было сказано выше, предполагается, что у
конституционных институтов либеральной демократии есть некие «моральные основания», что в известном смысле сами они
представляют собою «институциализацию общих условий коммуникации, направленной на дискурсивное формирование воли
[публики]». Получается, что нормативные ресурсы политических и экономических институтов оказываются даже чем-то «первичным» по отношению к фактическому способу их функционирования β настоящих условиях87. Эти ресурсы были созданы и заложены в основание «систем» «политикой обсуждения», как она
имела место в век Просвещения. Соответственно, одной из
ключевых задач современной демократической теории и практики оказывается «расшифровка нормативного значения существующих институтов»88. Более того, эта расшифровка должна
помочь решить центральное противоречие современной политики. Таковым объявляется «напряжение между нормативным
86
См.: HabermasJ. Between Facts and Norms. P. 333 и др.
В этой связи Хабермас пишет о том, что «формально организованные системы действий, такие как рынки, предприятия, органы управления,
первоначально создавались посредством правовой регуляции. Капиталистическая экономика и бюрократические структуры первоначально возникали в правовой среде, в которой происходила их институциализация»
(HabermasJ. Between Facts and Norms. P. 117).
88
CM. : Habermas J. Further Reflections on the Public Sphere. P. 450.
87
192
самопониманием конституционного государства... и социальной фактичностью политических процессов, которые идут собственным порядком более-менее в конституционном русле»89.
Подытожим то общее, что присуще и «экономорфному», и
морализаторскому определению политики (как «театра дебатов»).
1. Логически исходным моментом политики выступает консенсус. Консенсус может быть согласием «экономических индивидов» относительно правил обмена и признания самого обмена
в качестве главной или единственно «рациональной» формы человеческих отношений90. Но он может быть и согласием «моральных индивидов» («компетентных участников коммуникативных действий») относительно правил и процедур их общения.
2. Первичность консенсуса означает вторичность и «случайность» — с точки зрения этих базисных определений политики —
конфликтов. Они привносятся в жизнь людей какими-то стечениями исторических обстоятельств, в принципе упразднимыми
или хотя бы до известной степени нейтрализуемыми. Такими
обстоятельствами могут оказаться те нарушения разумных
правил обмена, к которым на Западе привело отступление от
принципов laissez-faire и развитие, по терминологии Бьюкенена, интервенционистского «государства производящего» за
счёт «законного» «государства защищающего»91. Или такими
89
Habermas L Between Facts and Norms. P. 288.
Другой нобелевский лауреат Гэри Беккер поставил своей главной теоретической задачей продемонстрировать универсальную применимость
модели экономического поведения ко всем сферам человеческой жизни,
включая не только политику, но и любовь и брак, творческо-интеллектуальную деятельность, пенитенциарную систему и т. д., т. е. показать «экономический подход» в качестве «унифицирующей схемы для понимания всего человеческого поведения». Соответственно и рынок в таком случае
предстаёт универсальным и унифицированным способом координации всей
общественной жизни (см.: Беккер Г. Экономический анализ и человеческое поведение//Thesis. 1993. Т. 1.Вып. 1).
" См.: Бьюкенен Д. Границы свободы // Указ. соч. С. 415 и далее.
Подробнее см.: Там же. Гл. 6 и 10.
90
I 1 Выбор
193
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
обстоятельствами может быть отставание «культурной модернизации» («рационализации жизненного мира») от «социальной
модернизации» («рационализации административной и экономической систем»). Это отставание создаёт «патологии» «деформированных и насильственных» коммуникаций, а также указанное выше политическое противоречие и «кризис легитимации»
как таковой92.
3. У конфликтов, каковы бы они ни были, есть разумные и
в принципе устраивающие всех решения. Их только нужно
уметь разумно искать, не поддаваясь страстям, амбициям, соблазнам достижения сиюминутных выгод, не позволяя совратить
себя всяческим утопиям и иллюзорным надеждам, которыми
просто переполнена современная культура. В этом плане «экономисты» посоветуют нам избавиться от «фундаментального
философского заблуждения», будто «идеальное общество»
может быть рационально определено и тем паче реализовано
на практике. Необходимо также не поддаваться увещеваниям
«политических предпринимателей», сулящих благоденствие
всем при дальнейшем разрастании государственных программ.
Нужно «поверить в себя» и в свою способность осуществить
«конституционную (контр)революцию», восстанавливающую
единственно разумное общество тотального обмена93. «Морализаторы» же повествуют о том, как мы можем и должны принимать рациональные и устраивающие всех решения под тем,
что Джон Ролз назвал «вуалью неведения», т. е. забыв обо всех
характеристиках, которые делают нас конкретными людьми и
отличают от наших собратьев. Хабермасовским аналогом ролзовских «исходной позиции» и «вуали неведения» является «иде" См.: Habermas 1. The Philosophical Discourse of Modernity. Tr. F.
Lawrence. Cambridge (MA): The MIT Press, 1993. P. 3, 355 ff. Специальный и подробный анализ этой проблемы см.: Habermas J. The Theory of
Communicative Action. Vol. 2. Tr. T. McCarthy. Boston: Beacon Press,
1987. Ch. 8.
"См.: БьюкененД. Указ. соч. С. 417,420-429, 433 и далее.
194
альная речевая ситуация», в рамках которой мы общаемся исключительно как бесплотные и чисто моральные существа94.
4. В исходных определениях политики люди предстают абсолютно однообразными существами, какие-либо признаки
плюрализма в них полностью уничтожены. «Экономисты» знают один тип «политического человека», носителя инструментальной рациональности, отождествляемой с рациональностью
вообще. Об этом типе Энтони Дауне писал: «Рациональные
люди интересуются не политикой как таковой, а только выгодой
для собственной пользы (their own utility income)»95. Все, кто интересуются в политике другим, — носители не иных типов рациональности, а иррациональности как таковой («фанатики», по
терминологии Бентама). Столь же однообразны у «морализаторов» персонажи ролзовской «исходной позиции» или хабермасовской «идеальной речевой ситуации».
В отношении последней вообще имеется недоразумение,
всячески поддерживаемое самим Хабермасом, будто её смысл
состоит в том, чтобы стать моделью реальной дискуссии реальных людей о реально волнующих их проблемах. Но реальные
люди никогда и ни при каких условиях не могут соответствовать
тем требованиям, которые предъявляются к бесплотным участникам «идеальной речевой ситуации». В то же время если живых людей представить столь бесплотными, какими их видит Хабермас, то им просто не о чем будет говорить, ибо само собой исчезнет всё, что их может разделять. Пропадут и
94
Более раннюю трактовку «исходной позиции» и «вуали неведения»
см.: RawlsJ. A Theory of Justice. Cambridge (MA): Belknap Press, 1971. Ch. 3.
Более позднюю версию см.: Rawls J. Political Liberalism. P. 24 ff. Более раннее и более позднее описания «идеальной речевой ситуации» или идеального «рационального дискурса» см.: Хабермас Ю. Моральное сознание и
коммуникативное действие. С. 140 и далее; Habermas J. Between Facts and
Norms. P. 305-306.
95
Downs A. An Economic Theory of Democracy. N. Y.: Harper & Brothers,
1957. P. 42.
I3*
195
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
предметы их споров96. Майкл Уолцер прав: хабермасовская
«дискурсивная мораль», претендующая на преодоление метафизического «монологичного разума», в действительности
лишь тиражирует этот самый «монологичный разум», приписывая его «многим» (или «всем») в качестве участников безграничного «дискурсивного сообщества»97.
5. Согласно приведённым определениям политики, она не
знает разумных альтернатив. Решения и действия её участников
предопределены самой их разумностью. Значит, в качестве
разумных существ они могут действовать только так, как действуют, а не иначе. В этом смысле в (разумной) политике господствует необходимость, в ней не может быть той открытости будущему, которая создаётся только неопределённостью.
У «экономистов» рациональные люди могут стремиться только
к воспроизводству или восстановлению (в случае нарушения) общества laissez-faire или строя тотального обмена. У «морализаторов» они столь же жёстко запрограммированы на отстаивание нормативного ядра конституционной демократии. В то же
время они глубоко уверены, что по большому счёту в современном обществе они ничего не изменят (включая все его противоречия и «патологии», о которых уже шла речь), ибо, как
заявил Хабермас, «диалектика разума и революции... уже истощена»98. Это — крайние формы детерминизма или даже фатализма. Макс Вебер — со всей его неумолимой логикой рационализации, преодолеть которую было одной из главных теоретических задач Хабермаса, — не мог допустить столь полного
" О парадоксальности «идеальной речевой ситуации» с точки зрения
вопроса, кто все же являются ее участниками — ангелы или живые люди,
см. проницательные рассуждения Стивена Льюкса: Lukes S. Of Gods and
Demons: Habermas and Practical Reason // Lukes S. Moral Conflict and Politics.
Oxford : Clarendon Press, 1991. P. 219-220 ff.
" См.: Walzer M. Philosophy and Democracy // What Should Political
Theory Be Now? / Ed. J. Nelson. Albany (N. Y.): The State University of New
York Press, 1983. P. 88.
98
Habermas J. Between Facts and Norms. P. 57.
196
искоренения творческих возможностей истории и ее низведения к наличной действительности".
6. Приведённые определения политики не только не указывают на власть как её атрибут, но, напротив, исключают власть
из («разумной») политики. Более того, можно сказать, что главная направленность «разумной политики», как она описывается
в теориях и первой, и второй групп, такова, чтобы по мере возможности и в идеале упразднить власть как таковую.
У Бьюкенена это связано, с одной стороны, с характерными представлениями о психологии нормального, т. е. «рационального», человека, а с другой — с аполитичным определением самой власти. Он уверен, что «не существует никаких реальных свидетельств того, будто люди на самом деле стремятся к
власти над своими собратьями» как таковой. Власть для (нормального) человека может быть ценна только в качестве инструмента максимизации своей рыночной полезности. Сама же
власть есть «способность распоряжаться вещами, желаемыми
людьми». Следовательно, «рациональная политика» может заключаться только в том, чтобы с помощью её усиливать власть
всех людей (участников политики) над вещами. Такое усиление — и как накопление богатства, и как рациональное его использование — даёт, что мы уже знаем, универсальный обмен.
«Правильная» власть оказывается лишь следствием и моментом
рыночного хозяйства, чем-то обратным неравенству и подчинению, или, по бьюкененовской терминологии, она есть «игра с
положительной суммой». Антиподом этой власти является
" Вебер заключает свою «Протестантскую этику и дух капитализма»
так: «Никому неведомо, кто в будущем поселится в этой прежней обители аскезы (в созданном протестантами мире. — Б. К.); возникнут ли к концу этой грандиозной эволюции совершенно новые пророческие идеи, возродятся ли с небывалой мощью прежние представления и идеалы, или, если
не произойдёт ни того, ни другого, не наступит ли век механического окостенения, преисполненный судорожных попыток людей поверить в свою
значимость» (Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер
М. Избр. произв. М.: Прогресс, 1990. С. 207).
197
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
власть иного сорта, которая заключается «в контроле одного индивида за поведением другого». Власть-антипод представляет
собой «игру с нулевой суммой» (чем больше моя власть, тем
больше твоё подчинение). Она противопоставляет политику
экономике и препятствует рациональной организации жизни людей (как универсального обмена). Ясно, что любой нормальный
индивид будет стремиться к тому, чтобы устранить или хотя бы
минимизировать власть этого второго вида100.
У «морализаторов» точно так же разум (но уже моральный или «коммуникативный») противостоит власти как силе подчинения и контроля и стремится ограничить или упразднить её.
В «политике обсуждения», как пишет Хабермас, «сила власти
заменена процессом взаимного разумения и согласия», в котором решающей оказывается «бессильная сила лучшего аргумента»101. В более энергичных, чем у Хабермаса, трактовках
«политики обсуждения» (от которых сам он открещивается) она
должна так или иначе наложить свою печать на реально существующие в обществе институты, не только делая их более открытыми для дискуссий, но и придавая таким дискуссиям большую роль в принятии решений, осуществляемых данными институтами102. Иными словами, «политика обсуждения» должна на
практике укрощать власть (вследствие чего Хабермас и открещивается от такой её трактовки).
Итак, консенсус, «случайность» конфликтов, их принципиальная разрешимость на основе доводов разума, очевидность
100
См.: Бьюкенен Д., Таллок Г. Расчёт согласия: Логические основания конституционной демократии // Указ. соч. С. 59 (курсив мой. — Б. К.)
101
Хабермас Ю. Философский спор вокруг идеи демократии // Гуманизм, наука, техника. М.: ИНИОН — ИФ РАН, 1990. С. 175.
102
Хорошим примером таких энергичных трактовок «политики обсуждения» является статья Джошуа Коэна, с которой и полемизирует Хабермас
(см.: Cohen J. Deliberation and Democratic Legitimacy // The Good Polity:
Normative Analysis of the State / Ed. A. Hamlin and B. Pettit. Oxford: Blackwell,
1989). Полемику Хабермаса со взглядами Коэна см.: Habermas L Between
Facts and Norms. P. 304-308.
198
и безальтернативность (разумных) путей такого разрешения,
одноликость участников политики (как рациональных эгоистов
или моральных существ), наконец, «упразднение» власти как атрибута политики — всё это и есть те характерные черты обеих
групп рассматриваемых теорий, которые делают их фундаментально аполитичными. Это я и назвал «утратой политического».
В чём же заключается понимание политики, утраченное «экономорфными» и морализаторскими теориями103?
3. «ПРИРОДА» ПОЛИТИКИ
Политика как таковая имеет характеристики, прямо противоположные тем, которые ей приписывают теории обеих рассматриваемых групп. Прежде всего она есть способ «обращаться» с конфликтами, не разрешимыми никакими путями,
кроме властно-силовых. Ясно, что такими являются далеко не
все конфликты, случающиеся в любом обществе. Есть такие,
которые вызваны недоразумениями или недопониманием, и они
действительно разрешимы «рациональным» прояснением ситуации и когда стороны прислушиваются к «бессильной силе лучших
103
Не следует думать, будто «утрата политического» является уникальной особенностью рассмотренных нами «экономорфных» и морализаторских теорий. Историки политической мысли говорят об обратном. Разным
ветвям западной политической традиции присущ мощный импульс «трансцендентировать» политику как в смысле возведения её к неизменным «рациональным основаниям», так и в плане рассмотрения её в качестве средства и пути достижения «идеальных» образцов общественного устройства.
И в том и в другом случае (весьма часто оба они сочетаются в одной теории) мы будем встречать некие варианты тех же признаков аполитичности,
которые были отмечены в рассмотренных «экономорфных» и морализаторских теориях. Подробнее об «аполитичном импульсе» западной политической традиции см.: Schwartz J. M. The Permanence of the Political:
A Democratic Critique of the Radical Impulse to Transcend Politics. Princeton
(N. J.): Princeton University Press, 1995. Ch. 1 ; Hindess B. Antipolitical Motifs
In Western Political Discourse // The End of Politics? Explorations into Modern
Antipolitics / Ed. A. Scheider. L: Macmillan, 1997.
199
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
аргументов». Есть и такие, которые улаживаются «обменом»
взаимными уступками или услугами и потому вполне соответствуют «экономической модели». Но, во-первых, разрешаемые
и улаживаемые такими путями конфликты по своей природе являются не политическими, а «понятийными» или «экономическими». Во-вторых, сама возможность разрешать конфликты силой лучших аргументов или обменом всё равно предполагает,
нередко «незримое», присутствие политики как того соотношения сил, которое в данной ситуации делает «невыгодным» или
даже «немыслимым» использование других «аргументов» —
типа обмана, шантажа или открытого насилия.
Политика — слишком сильное средство, чтобы к нему прибегали из-за безделицы или по какой-то причуде. К политике не
прибегают, если проблема такова, что разрешима столь невинными способами, как обмен или рациональная дискуссия. Режи
Дебре, французский философ и политик, прав, заявляя, что политика и постигающая её политическая философия — в отличие
от наук и смоделированных по ним видов практики — занимаются «неразрешимыми проблемами». И дело не в том, что невозможно представить себе их научно-теоретическое разрешение, а в том, что действительная динамика этих проблем другая, чем законосообразное движение теоретической мысли.
Без «различения пространства действия и пространства мысли»
уловить специфику политических проблем совсем нельзя104.
Но именно такое различение не делают ни «экономорфные», ни
морализаторские теории политики.
Что делает политические проблемы «неразрешимыми» и
как они всё же разрешаются политикой, ибо если бы она не делала этого, то утратила бы свой raison d'etre как специфический
вид человеческой деятельности?
«Неразрешимыми» политические проблемы делает то, что
позиции конфликтующих сторон не подводимы ни под какую
104
См.: Debray R. Critique of Political Reason. Tr. D. Macey. L: NLB, 1983.
P. 19, 41 (курсив мой. — Б. К.).
200
объемлющую их универсалию, с позиций которой можно было
бы беспристрастно рассудить, кто и насколько прав. Каждая
сторона имеет предельно универсальное для неё обоснование
своей позиции, так что столь же предельно универсальное обоснование позиции противной стороны представляется первой не
чем иным, как защитой особенной привилегии оппонента, направленной против справедливости «вообще». На каком разумном основании рассудить спор арабов и евреев, что должно
стоять на Храмовой горе — нынешняя мечеть Аль-Акса или когда-то разрушенная (не арабами) святыня — Иерусалимский
храм? И те и другие дают своим претензиям предельно обобщённые основания, уходящие в вероисповедальные представления об устройстве мироздания.
Строго говоря, «неразрешимыми» политические проблемы
делают не столкновения интересов как таковых, всегда допускающие торг и квалифицированное урегулирование спора («одна
треть тебе — две трети мне по справедливости», учитывающей
соотношение сил), а трансформация этого столкновения через
подведение под него универсальных и предельных оснований,
превращающая его в абсолютный выбор. Только так происходит
и только благодаря этому возможно то, что Макс Вебер называл
«борьбой богов» как «несовместимостью ценностей». Тут действительно «правит... вовсе не "наука"», и «здесь слово уже не
за университетскими кафедрами, а за иными силами»105.
Но что означает «несовместимость» ценностей? То, что
между ними нет ничего общего? То, что их приверженцы вообще «не понимают» друг друга? То, что они находятся в разных
никак не пересекающихся культурных мирах? Конечно же нет.
Будь так, между ценностями не было бы «войны». Война бывает
только между теми, кто очень хорошо понимают общую ценность того, за что они непримиримо борются. Равным образом
противники отлично понимают несовместимость их претензий на
105
См.: Вебер М. Наука как призвание и профессия //
С. 726.
' 201
Указ. соч.
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
предмет спора. Ведь «несовместимые» ценности должны, как
минимум, опознаваться противниками в качестве «ценностей» и
понятным для них образом демонстрировать свою «несовместимость». Это очень основательное взаимопонимание конфликтующих сторон, свидетельствующее о том, что «несовместимые» ценности совмещены в общем культурном пространстве, за которое идёт борьба.
Взаимопонимание невозможно без консенсуса. Даже в нашем простом примере мы уже назвали много его проявлений:
согласие в том, что есть «ценность», признание различия между
«ценностями», тождественное понимание их «несовместимости»,
схожее или идентичное представление о долженствовании (должных поступках), вытекающем из приверженности ценностям, и
т. д. Мы можем сказать, что в той мере, в какой взаимопонимание необходимо для «войны», она предполагает консенсус. Если
политика есть способ обращения с «неразрешимыми» (неполитическим путём) конфликтами, то это — то же самое, что сказать: политика осуществляется только в условиях консенсуса относительно ценностей, задающих основные параметры общему
культурному пространству. В случае отсутствия такого общего
пространства события, внешне похожие на политические, таковыми не являются и по своему характеру схожи с явлениями природы. Аттила, ведший гуннов на Римскую империю, не нёс никаких
«несовместимых» с античным миром «ценностей». Ему, скорее
всего, вообще не было дела до «несовместимости» ценностей.
Он нёс чистое разрушение, подобное стихийному бедствию, и
потому правомерно был воспринят обитателями империи в качестве «бича Божьего», а не агрессора, навязывавшего чуждые
«ценности» (чем он действительно и не думал заниматься).
Консенсус — хорошая «лакмусовая бумажка» для определения политического характера конфликта. Те конфликты, которые консенсус способен прекратить (можно взять опять же
пример научных споров), не являются политическими. Конфликты, в которых он не присутствует совсем, стоят вне культуры и
потому — вне политики. Другие же конфликты, для которых
202
он — необходимое условие их развёртывания, имеют именно
политический характер.
Итак, «несовместимые ценности» сталкиваются в неком
общем культурном пространстве. Что это означает? Прежде
всего то, что если они сталкиваются политически значимым образом (а не в академическом диспуте), то «ценности» в действительности представлены определёнными силами. «Ценности»
могут сталкиваться сами по себе столь же мало, как и разум
(коммуникативный или иной) противостоять силе и тем более её
усмирять. Можно представить себе только ценности, персонифицированные в некоторых силах, также как можно представить себе разумную силу, противостоящую силе неразумной.
Как написал в знаменитых «Письмах немецкому другу» Альбер
Камю, «дух бесполезен против меча, но дух с мечом всегда
** 1ПА
осилит меч как таковой»
.
Однако нам сейчас важнее другое. Силы, какими бы «несовместимыми» ценностями они ни руководствовались, действуют в «стратегической» (по Хабермасу) логике взаимосвязи
сил, а не в логике теоретического соотношения «ценностей» как
таковых. Поскольку логика взаимосвязи сил всегда погружена
в определённый контекст (культурный, демографический, экономический, военный и т. д.) и в огромной мере зависит от него,
постольку результаты и сам ход столкновения «несовместимых»
ценностей отнюдь не предзаданы самой их теоретической «несовместимостью». Любое политическое столкновение оказывается не разыгрыванием уже написанной «в теории» пьесы на
тему «совместимости — несовместимости ценностей», а живым событием — чем-то вариативным, зависящим от массы
привходящих обстоятельств, экспериментов и ошибок, слабостей и достоинств вовлечённых в него лиц.
Политика по существу своему событийна. Непреднамеренные, с точки зрения участников этих событий, следствия
loi
Camus A. Letters to a German Friend // Camus A. Resistance,
Rebellion, and Death. N. Y.: Vintage Books, 1995. P. 9.
203
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
политических действий, как правило, и оказываются самыми
важными и долговременными результатами политики. Именно
поэтому она открыта будущему и «творит историю», т. е. создаёт нечто неожиданное, непредсказуемое, не предвиденное
разумом — ни экономическим, ни моральным. Поэтому политика — в отличие от экономики и морали — есть творчество,
если угодно — коллективное и непроизвольное.
Но это не основание для того, чтобы говорить, будто политика «неразумна» или «иррациональна». Она «неразумна» лишь
с точки зрения разума и лишь в тот момент, когда происходит
политическое творчество. Но это означает лишь то, что политика
больше разума, что она сама движет им. Политика разумна и
рациональна в том фундаментальном смысле, что своей борьбой, своими событиями и непреднамеренными следствиями она
определяет то, чем быть разуму и рациональности в данный
период и в данной культуре. Она властно проводит их границы,
не столько разделяющие разум и рациональность с одной стороны, неразумие и иррациональность — с другой, сколько являющиеся швами и стыками, соединяющими эти стороны жизни любого человеческого сообщества107.
Разумность и рациональность политики проявляются прежде всего в том, что она всегда так или иначе совмещает «несовместимые» ценности, создавая жизнеспособные коллективы
людей. Такое совмещение производится игрой власти и контрвласти, а отнюдь не содержанием «ценностей» как таковых.
Можно сказать более того: результаты этой игры способны с
ходом времени менять и содержание «ценностей», например
сближать то, что когда-то было абсолютно «несовместимым».
Именно поэтому анализ политики должен начинаться с конфликта, через призму которого становится видна политическая
107
Как пишет Шанталь Муфф, «политика не может быть сведена к рациональности (в том виде, в каком она существует в каждый данный момент. — Б. К.) именно потому, что она указывает пределы рациональности» (Mouffe С. The Return of the Political. L; N. Y.: Verso, 1993. P. 115).
204
роль консенсуса. Этот анализ должен фокусироваться на власти, которая есть тот способ «обращения» с конфликтом: разрешение или удержание его в «приемлемых» рамках, трансформация его в конфликт иного рода или его институциализация в
виде «правил поведения».
Решающая роль власти для политики заключается именно в
этой её способности так или иначе трансформировать конфликт.
Как справедливо заключает Энтони Гидденс, «"власть" в высоко обобщённом смысле означает "трансформационную способность", возможность вмешиваться в данный порядок явлений
так, чтобы каким-то образом менять его»108. Но тут и обнаруживается самая основательная связь власти и свободы. Что иное
может означать для «эмпирического мира» (а мы уже отставили
иллюзию «трансцендентальной свободы») кантовская «свободная причинность», как не власть менять сложившийся «порядок
явлений» с его устоявшимися цепями причин и следствий, принявшими форму «причинности природы» и «гетерономии»? Что
иное в этом мире может означать «автономия», помимо, говоря языком молодого Шеллинга, деятельности, реализующей
власть как зависимость от «меня» «порядка явлений»109?
Конечно, в этом случае мы не можем понимать «автономию» ни как «независимость от материальной причинности», ни
как «факт» нашего сознания. «Автономия» предстанет как результат конфликтного пересечения разных линий «материальной причинности», оставляющего нам возможность не быть детерминированными ни одной из них и заставляющего нас самоопределяться по отношению к ним так, чтобы мы своей
свободой закладывали основания новой цепи причин и следствий.
В этом смысл упомянутой выше гегелевской «необходимости
свободы». Поступать так и означает властно трансформировать
108
Giddens A. A Contemporary Critique of Historical Materialism. Vol. 2.
Oxford: Oxford University Press, 1992. P. 7.
109
См. : Шеллинг Ф. Новая дедукция естественного права // Шеллинг Ф.
Ранние философские сочинения. СПб: Алетейя, 2000. С. 155 и далее.
205
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
«порядок явлений», чья способность «гетерономно» детерминировать нас тяжестью «обстоятельств жизни» подорвана или ослаблена конфликтом, развернувшимся в нём самом.
Ясно, что такая «автономия» может быть не «фактом», а
только возможностью, коренящейся в той или иной ситуации. Как
реализованная возможность «автономия» есть трансформация
ситуации, и длится она до тех пор, пока эта трансформация продолжается. Ясно и то, что «автономия» в действительности неуниверсальна (в отличие от того, как её представляет моральное сознание). Не все и не всегда могут быть «автономны», и даже не
все и не всегда стремятся к «автономии». Поэтому её нельзя понимать в качестве неизменной цели «всех разумных существ».
Более того, поскольку «автономия» неотделима от борьбы (иначе
ситуации не трансформируются), постольку одни могут быть «автономны» только за счёт других. Это есть необходимая «моральная плата» за власть над «порядком явлений».
Такое понимание «автономии» не «отменяет» свободу.
Оно «отменяет» лишь иллюзию о возможности общества, в котором свободны и равны «все» и которое поэтому есть «царство разума». Оно «отменяет» и веру в то, что какое-либо политическое действие может быть «абсолютно освободительным», что оно «может — просто в силу своей природы —
гарантировать, что люди будут иметь свободу, что данный проект установит её». Однако если продолжить данное рассуждение Мишеля Фуко, «отмена» иллюзии о «царстве разума» в то
же время означает, что политика не может кончиться навсегда — даже для ролзовского «хорошо устроенного общества».
Дело в том, что свободой нельзя обладать — её можно только практиковать"0. В новых раундах игры власти и контрвласти
её будут практиковать те, кто сегодня подчинён «гетерономии»,
поскольку они будут освобождаться от неё. И их практика свободы завершится с установлением их господства.
110
См.: Foucault M. Space, Knowledge and Power // The Foucault
Reader / Ed. P. Rabinow. Harmondsworth: Penguin Books, 1991. P. 245.
206
Совмещение «несовместимых ценностей», такое как Вестфальский мир, позволивший жить бок о бок в разорванной религиозным конфликтом Европе протестантам и католикам, или
политика «мирного сосуществования» капитализма и социализма второй половины XX века, есть, по определению, «большая»
политика. Прежде всего о ней мы и вели речь в данном параграфе. Но само его название — «"природа" политики» — заставляет нас соотнести изложенное понимание политики с тем, что
мы назвали «малой» политикой (вспомним определения «большой» и «малой» политики из второй лекции первой части книги).
Тут мы действительно наталкиваемся на серьёзную проблему. Есть немало крупных мыслителей, отказывавшихся считать
«малую» политику политикой. Алексис де Токвиль был одним из
первых, кто стал писать о «политическом мире», которому не
хватает «политической жизни» (речь шла о буржуазной монархии Луи-Филиппа). Он объяснял эту «нехватку» в первую очередь подчинением политических институтов игре частных интересов и утратой ими специфически политических ценностей и
ориентиров1".
Уже относительно современного западного общества Жак
Эллюль пришёл к выводу: «Как некоторые христиане говорят о
Боге, христианстве и их вере, поскольку если они прекратят говорить об этом, то обнаружат перед собою необъятную пустоту, так и мы непрерывно говорим о политике в бессознательном
усилии скрыть пустоту в нашей реальной ситуации. Слово стало
компенсацией отсутствия, вызыванием в памяти ускользающих
репрезентаций...» Из того, что сейчас называют политикой,
ушли «ценности» и сколько-нибудь значимый выбор. Остались
одни «факты» и приспособление к ним. Даже «ценности» справедливости, свободы, правды утратили способность критически
сталкиваться с действительностью и сами превратились в «факты» перераспределения богатства, высокого уровня жизни и т. д.
'" См.: Tocquevi/le A. de. Recollections. Tr. G. Lawrence. Garden City
(N. Y.): Doubleday, 1971. P. 5-6, 11.
207
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Но с чистыми «фактами» может иметь дело только Технология,
а не Политика, которая всегда есть способность «не повиноваться необходимости». Возвращаясь к принятой нами терминологии, можно сказать, что «малая» политика и понимается Эллюлем в качестве упраздняющей Политику Технологии (управления
обществом)112.
При всём правдоподобии этого и схожих с ним описаний
современной демократической политики они всё же оставляют
чувство неудовлетворённости. Такие описания упускают политическое измерение той самой Технологии, которая якобы
пришла на место Политики (с большой буквы, как у Эллюля).
Это политическое измерение механизмов воспроизводства
статус-кво, которые внешне выглядят как чистая (уже аполитичная) Технология, тонко описал Пьер Бурдье: «Существование
механизмов, способных воспроизводить политический порядок
независимо от сознательного вмешательства, позволяет опознать в качестве политического — среди разных типов поведения,
направленного на приобретение или удержание власти, — только такие практики, которые незаметно исключают контроль над
воспроизводством этих механизмов из сферы легитимной конкуренции». Политика, из которой исключены вопросы о том,
воспроизводить ли эти механизмы поддержания статус-кво и
кто контролирует их воспроизводство, предстаёт как легитимная политика с чёткими границами допустимой в её рамках политической конкуренции. Именно такая политика, добавляет Бур112
См.: EllulJ. The Political Illusion. Tr. K. Kellen. N. Y.: Alfred A. Knopf,
1967. P. 5, 26, 29-31, 65, 70-71. Я не стану обсуждать весьма популярные
ныне постмодернистские версии «исчезновения политического», дабы не
отвлекаться на разбор специфического понятийного аппарата и логики таких концепций. В качестве их отличного примера см.: Baudrillard J.
Revolution and the End of Utopia // Baudrillard J. The Disappearance of Art and
Politics / Ed. W. Stearns and W. Chaloupka. N. Y.: St. Martin's Press, 1992.
Особенно р. 237-238. Моё отношение к таким концепциям я изложил в
другой работе (см.: Капустин Б. Г. Посткоммунизм как постсовременность // Полис. 2001. № 5).
208
дье, и является исключительным предметом политической науки, которая поэтому не может знать о той «изнанке» своего
предмета, которая конституирует его113.
Мы можем сделать из этого рассуждения Бурдье несколько важных для нас выводов.
1. «Малая» политика всё же является политикой и не сводится к чистой Технологии (хотя выглядит таковой, и создание этой
видимости является важным слагаемым её «нормального» функционирования). Это так, ибо «малая» политика необходимым
образом опирается на собственно политические практики властного отстранения от контроля над механизмами воспроизводства статус-кво тех, кто мог бы им угрожать.
2. Организация этих политических практик такова, что она
не нуждается при «нормальном» ходе дел не только в физических репрессиях, но даже в теоретико-идеологических доказательствах целесообразности сохранения таких механизмов.
«Малая» политика устроена так, что вытесняет из «легитимной»
политики и даже хабермасовской «публичной сферы» сам дискурс об этих механизмах, вследствие чего они предстают как
«естественные факты» современной жизни.
3. Поскольку эти механизмы работают и представляют
собою в первую очередь структуры капиталистической экономики и формы их культурной и политической репродукции,
постольку общество тотального обмена фиксируется «экономорфными» теориями политики как единственно «разумное», а агенты обмена — в качестве воплощений «рациональности вообще». Репрессия здесь проявляется именно в том,
что другие типы рациональности оказываются лишь некой нерасчленённой «иррациональностью». Это означает, что силы,
персонифицирующие альтернативные типы рациональности,
в таком обществе репрессируются (в том числе в форме их
маргинализации).
113
См.: Bourdieu P. Outline of a Theory of Practice. Cambridge:
Cambridge University Press, 1977. P. 189.
И Выбор
209
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
4. Морализаторские теории политики также воспринимают
эти механизмы воспроизводства статус-кво в качестве «естественных» технологий современной жизни, которые нельзя и не
нужно менять1ы. Однако с позиции наблюдателя, аналогичной
той, с какой Кант созерцал французскую революцию, можно
сконструировать «моральное alter ego» таких технологий в виде
«политики обсуждения». Этим и заняты авторы теорий данной
группы. Подчеркнём, что такие теории адекватно отражают ту
сторону реальности современного общества, на которой практические участники тотального обмена превращаются в зрителей собственной жизни, имеющих право и «достоинство» морально судить о том, что происходит (и с ними самими) в действительности.
Нам осталось более внимательно присмотреться к основным следствиям «утраты политического» теориями обеих групп.
114
Хабермас пишет: «...аппарат государства и экономика есть системно интегрированные поля действий, которые уже не могут быть демократически трансформированы изнутри... без нанесения ущерба их истинной
системной логике и вместе с этим — их способности функционировать.
<...> Целью является уже не снятие экономической системы, имеющей
свою собственную капиталистическую жизнь, и системы господства, имеющей бюрократическую жизнь, а возведение демократической дамбы
против колонизаторских поползновений системных императивов в отношении сферы жизненного мира» (Habermas J. Further Reflections on the Public
Sphere. P. 444).
210
СЛЕДСТВИЯ
Лекция 9
«УТРАТЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО»
Повторим: «утрата политического» — не только на уровне теоретического мышления, но и в общественной практике — подразумевает, что политика обретает формы, заимствованные из
других родов человеческой деятельности. Во-первых, это — форма рыночного обмена, фиксируемая «экономорфными» теориями. Во-вторых, это фиксируемая морализаторскими теориями
форма «дебатов общественности», скроенная по меркам идеализированного научного диспута и свободная от влияния богатства
и власти в той же мере, в какой она свободна от способности реально влиять на них. Принятие политикой этих форм и их обособление друг от друга имели для неё свою цену, к рассмотрению
главных составляющих которой мы сейчас переходим.
1. АПРИОРНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ПОЛИТИКИ
ВНЕШНИМИ ДЛЯ НЕЁ РАМКАМИ
Не все дела, происходящие в обществе, есть политика, не
все явления в жизни людей суть политические явления. Но они
могут быть таковыми. Свойство принадлежать к политическому
миру определяется не имманентно тому или иному явлению как
таковому. Оно сообщается ему той ролью, которую оно играет в конкретной ситуации. Ситуации, способные политизировать
жизненные явления, мы ранее охарактеризовали как конфликтные. Причём речь шла о таких конфликтах, которые не допускают иного «обращения» с собой, кроме властного-силового.
Следовательно, политике можно дать такое общее определение: она есть властная деятельность некоторым образом
I4*
211
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
организованных общественных сил, вызванная конфликтом
между ними, не разрешимым посредством апелляции к тому
(тем представлениям, нормам, «принципам», обычаям), что
могло бы служить приемлемым для этих сил «основанием»
разрешения их спора. Такая властная деятельность направлена на изменение, сохранение или устроение вновь основ того
общежития, в котором конфликтующим силам необходимо
жить. Политическими оказываются такие жизненные явления
(институты, отношения и т. д.), которые в данных конфликтных
ситуациях принимают на себя некоторые властные и организационные функции (включая функции контрвласти и «альтернативной» организации) и становятся «значимыми» в общем раскладе сил в плане возможностей и перспектив изменения, сохранения или изменения общественных порядков.
Коли так, то становится ясно, что границы политики не могут быть установлены априорно, т. е. безотносительно к ситуациям, в которых разворачиваются конфликты. Задумаемся,
можно ли дать осмысленный общий ответ на вопрос: будет ли
церковь (семья, суд, фабрика и т. д.) политическим или неполитическим явлением? Если в центре общественной борьбы оказываются вопросы о том, быть государству светским или теократическим, иметь ли церковной десятине статус официального
налога, должно ли быть общеобязательное религиозное образование и т. д., то церковь не может не быть политическим явлением. Какую бы позицию сама церковь ни заняла в этих вопросах, она неизбежно выступит против кого-то. Тем самым
церковь включается в политику, влияет на обустройство общества, в котором придется жить и сторонникам, и противникам
выбранной ею позиции.
Однако отделение церкви от государства и отнесение религиозных дел к сфере частной жизни граждан существенным
образом меняют ситуацию. Нельзя сказать, что в этих условиях церковь и религия вовсе не имеют отношения к механизмам
воспроизводства структур власти. В конце концов, на американской купюре любого достоинства за всех и от имени всех
212
(включая американских атеистов) написано «In God We Trust»
(«В Бога мы веруем»), что представляет собой чистый пример
пропаганды и идеологической легитимации фактически существующих порядков. Официальным выходным днём также является христианское воскресенье, а не мусульманская пятница или еврейская суббота, каков бы ни был удельный вес этих
конфессиональных групп в американском населении. Однако
эти и другие религиозные отпечатки на структурах власти и
организации повседневной жизни пока не становятся предметами конфликтов, приобретающих политический характер и
масштабы. В этом и только в этом смысле можно говорить о
деполитизации церкви и религии после возникновения так называемого светского либерального государства. Такая деполитизация означает лишь то, что церковь и религия отстранены от участия в ситуациях, которые раньше вызывали политические конфликты. Ничто не гарантирует невозможность
возникновения новых политических конфликтов по поводу тех
форм, в которых сегодня церковь и религия участвуют в общественной жизни (включая формы их причастности к власти).
Их реполитизация возможна и по другим причинам115.
Ситуативная динамика деполитизации / реполитизации, которую мы кратко рассмотрели на примере церкви и религии,
может быть показана (с соответствующими содержательными
корректировками) относительно любого общественного института и формы сознания. Эта динамика делает границы политической
сферы подвижными, а её состав переменчивым. Определение
115
Есть немало свидетельств тому, что растущий мупьтикультурализм
западных обществ (в том числе в конфессиональном и этническом измерениях) вкупе с подъёмом фундаменталистских движений на «местной почве»
(от евангелических до правонационалистических) делают данный теоретический вывод чем-то большим, чем абстрактное предположение (см.: Barber В.
Jihad vs McWorld: How the Planet Is Both Falling Apart and Coming Together and
What This Means for Democracy. N. Y.: Times Books, 1995; Disciples and
Democracy: Religious Conservatives and the Future of American Politics / Ed.
M. Cramartie. Washington, D. C.: Ethics and Public Policy Center, 1994).
213
Часть И.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
того, где именно пролегают её границы в данном обществе и
какова именно композиция присущей ему политической сферы,
является одним из важнейших политических решений, вытекающим из соотношения противоборствующих сил, а никак не из
прозрений теоретического или практического разума.
Одной из величайших теоретических заслуг Карла Маркса
было как раз то, что он сумел показать историю разделения экономики и политики как одной из определяющих характеристик
буржуазного общества и соответствующего перераспределения
властных функций между публичной (политической в узком
смысле) и частной (экономической) сферами жизни. Путь от
меркантилистского симбиоза экономики и политики времён абсолютистского государства к классической буржуазной модели
«свободного рынка и государства как ночного сторожа» предстал
историей сложной борьбы различных общественных сил и их коалиций, а отнюдь не воплощением предписаний «разума» или неумолимой и анонимной «рационализацией общества». Иными
словами, Маркс дал политическое прочтение тех явлений и процессов, которые в иных концептуально-методологических форматах метафизически изображались в качестве самоосуществления таких неполитических «сущностей», как «природа человека»,
«законы разума», «самоочевидные истины» и т. п.П6.
Понимание политического происхождения границ между
политикой и другими видами и сферами человеческой деятельности, следовательно, понимание их подвижности и «проницаемости» крайне важно в плане борьбы с существующими формами угнетения и дискриминации. Политизировать то, что досе116
Интересную современную интерпретацию Марксова анализа разделения экономики и политики в буржуазном обществе см.: Wood E. M.
The Separation of the Economic and the Political in Capitalism // New Left
Review, 1981. № 127; Rosenberg J. The Empire of Civil Society. L; N. Y.:
Verso, 1994. Ch. 5. Блестящий немарксистский анализ тех же явлений и процессов становления «свободного рынка» и разделения экономики и политики см.: PolanyiК. The Great Transformation. N. Y.: Rinehart, 1944.
214
ле считалось «естественным» или данным «свыше» и потому неполитическим, значит ставить под вопрос и оспаривать укоренённые под этими рубриками структуры иерархии и подчинения.
Когда, например, Джон Стюарт Милль в своих предсмертных
работах закладывал основы будущего реформистского социаллиберализма, он призывал к пересмотру идеи «священной» частной собственности и других «первых принципов» общественного устройства. Зачем? Затем, чтобы дать возможность развить «во всех направлениях» человеческую природу тем, кто до
того был лишён такой возможности117. В первую очередь речь
шла о рабочем классе. Результатом осуществления таких идей
стала частичная реполитизация капиталистической экономики,
выразившаяся в конечном счёте в формировании «государства
благоденствия» (welfare state)118. Схожие перспективы освобождения или, во всяком случае, улучшения своего положения открывались для соответствующих общественных групп при политизации других «естественных» институтов — от патриархальной
семьи в случае женщин до органов территориального управления в случае этнических меньшинств.
В противоположность этому «экономорфные» и морализаторские теории стремятся провести незыблемую границу между сферой оправданного (с их точки зрения) политического действия, с одной стороны, и теми областями общественной жизни,
которые политика не может или не должна касаться, — с другой.
Демаркация политической и неполитической областей производится теориями двух групп по-разному, однако общим является
то, что вне политики оказываются некие «основания консенсуса».
"'См.: MHIJ. 5. On Socialism. P. 56-64,79-81, 130-131, 143-145.
118
Перемещение границы между политическим и неполитическим,
вызванное формированием «государства благоденствия», имело многообразные и противоречивые следствия, в том числе и для самой политической
жизни современных либеральных демократий. Подробнее об этом см.:
Offe С. Some Contradictions of the Modern Welfare State; The Separation of
Form and Content in Liberal Democracy // Offe C. Contradictions of the
Welfare State. L: Hutchinson, 1984.
215
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Они призваны служить отправной точкой и ориентирами «разумных» подходов к политике, и именно поэтому им следует оставаться «по ту сторону» пронизывающих её споров и конфликтов.
В такой логике фон Хайек рассматривает политику как имеющее ограниченное значение устройство, которому надлежит
оставаться в рамках правил спонтанного порядка, складывающихся помимо воли и сознательных устремлений людей. Сами
эти «рамки как целое не должны ставиться под вопрос»119. Любое покушение на них, любая попытка их сознательно-политической реорганизации — в форме не только революции, но и
умеренного социал-демократического реформизма — оказывается, по Хайеку, чреватой тоталитарной тенденцией. Поскольку же Хайеку ясно, что в современном западном обществе нет
и подобия «консенсуса» относительно неприкосновенности этих
«рамок», равно как и того, где именно они находятся, постольку он готов отдать предпочтение диктатуре, их защищающей и
отстаивающей, перед демократией, постоянно подталкиваемой
игрой разнообразных «групп интересов» к их нарушению. «Диктатор может править либерально (т. е. соблюдая правила рыночного спонтанного порядка. — Б. К.). Возможно и то, чтобы
демократия правила при полном отсутствии либерализма. Я лично предпочитаю либерального диктатора, а не демократическое правление, которому недостаёт либерализма»120.
Достоинство этого хайековского рассуждения состоит в
том, что оно доводит до конца логику отстаивания неприкосновенности априорно установленных границ политики и имеет мужество применить её к «трудным случаям» реальной и достигающей своей кульминации политической борьбы, когда о «консенсусе» общественного мнения даже гипотетически не может быть
речи. В таких «трудных случаях» консенсус — это уже не эмпи"' См.: Hayek F. A. Law, Legislation and Liberty. Chicago: The University
of Chicago Press, 1979. Vol. 2. P. 24-27.
120
Liberalism and Economic Order. Cambridge: Cambridge University
Press, 1993. P. 145.
216
рический факт и наблюдаемая традиция, а должное, которое
воплощает собой и «железной рукой» навязывает «глупой жизни» автократ (в только что процитированном интервью Хайека
речь идёт об одобрении диктатуры Пиночета в Чили). Доведение
до конца этой логики отстаивания неполитического характера «оснований согласия» означает уничтожение даже той скромной
сферы политики, которая считалась приемлемой для Хайека и
других теоретиков первой из рассмотренных нами групп.
Что касается морализаторских теорий, то для них характерно изначальное различение «политических ценностей», относительно которых могут вестись политические дискуссии и приниматься политические решения, и «неполитических ценностей», относительно которых всего этого не следует делать121. Хабермас
даёт, пожалуй, наиболее обстоятельное описание того, как именно происходит разделение политической и неполитической сфер.
Чтобы правильно понять его рассуждения, нужно помнить:
у Хабермаса речь идёт о той политике, которая вытекает из морального согласия «всех» по вопросам, поддающимся рациональному обсуждению и допускающим принятие универсально
приемлемых решений, т. е. о «политике обсуждений». Здесь,
на первый взгляд, происходит переворачивание той логики рассуждений, с которой мы только что имели дело, говоря о Хайеке. У последнего «основания согласия» находились вне политики, которая целиком разворачивается в сфере стратегической
игры интересов. У Хабермаса, напротив, желательная для него
«политика обсуждений» вытекает из «оснований согласия». Но
границей её оказываются те проблемы, которые ей не по силам
и которые находятся «в ведении» стратегической политики интересов. Это те проблемы, которые не поддаются универсальному обсуждению и не допускают общеприемлемых решений.
Общее же заключается в том, что у Хабермаса «основания консенсуса» (процедуры морального дискурса) должны
быть столь же надёжно защищены от стратегической политики
См.: Rawls J. Political Liberalism. P. 240-241.
217
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
интересов, этой в самом деле единственно реально существующей
политики, как и у Хайека. При этом хабермасовские «основания консенсуса» в той же мере не зависят от воли и сознательного выбора
людей, как и хайековские правила спонтанного порядка122. Наличие
этого общего сближает позиции Хайека и Хабермаса по существу
проблемы разделения политической и неполитической сфер, делая
различия между ними второстепенными.
Какие же вопросы поддаются рациональному обсуждению
и становятся благодаря этому законными предметами моральной «политики обсуждений»? Строго говоря, таких вопросов совсем не много. Все они относятся к областям легитимности
(существующего строя) и права (как норм справедливости)123.
«Экзистенциальные вопросы», порождаемые разногласиями о
том, что считать «хорошей жизнью» и какими мы хотим быть,
вопросы распределения богатства, все «эмпирические вопросы» (к примеру, как понимать и оценивать существующее в обществе положение дел) «политика обсуждений» никак не затрагивает. Все эти вопросы, решающее значение которых для реальной жизни людей Хабермас понимает сам, отдаются в
ведение недемократической по своему существу политики бюрократов и экономических управленцев. Другим путём, чем
122
Это следует из того, что, с точки зрения Хабермаоа, «основания согласия», отождествляемые с критериями обоснованности суждений, укоренены
в обыденном языке как таковом (т. е. они внеисторичны, поскольку язык —
атрибут «примитивных догосударственных обществ» в той же мере, в какой —
самых современных). Достижение взаимопонимания рассматривается поэтому как «цель, имманентно присущая языку». Вступив в «речевую ситуацию» (а мы не можем не вступать в нее), мы уже не имеем возможности
выбора или невыбора этих «оснований» (см.: Rationality To-day. P. 208; Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. С. 193-194.
Другой вопрос, который Хабермас мучительно пытается разрешить в многочисленных работах, заключается в том, каким образом наше коммуникативное согласие относительно критериев обоснованности суждений может
транслироваться в практические действия и решения.
123
См.: Cohen i., Arato A. Civil Society and Political Theory. Cambridge
(MA): The MIT Press, 1994. P. 356.
218
Хайек, и с соблюдением всех норм политической корректности Хабермас пришёл, по сути, к тому же результату: ключевые
жизненные вопросы должны и могут решаться только авторитарно. Демократии как «политике обсуждений» остаётся только надеяться, что эти решения не будут слишком уж далеко
124
расходиться с моральными нормами .
2. АПОЛОГЕТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО И УТРАТА
ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
В связи с изложенным выше, казалось бы, естественно задуматься над следующим: что делать, если решения, принимаемые по жизненно важным вопросам, все же расходятся с моральными нормами и если «системы» (рынка и государства) не
функционируют в соответствии с тем, что считается их собственными моральными основаниями? Мы уже говорили в начале второй лекции, что в раннем либерализме на данные вопросы существовал классический ответ: народ вправе ответить на незаконное насилие сопротивлением силой. В рассматриваемых
морализаторских теориях, хотя в иных отношениях они задаются
прямой целью дать современную реконструкцию классическо125
го либерализма , мы наблюдаем нечто противоположное.
Предельно радикальной формой сопротивления, которая допускается ими, объявляется гражданское неповиновение, которое связывается с ненасилием и апелляцией к «легитимирующим основаниям» существующего политического строя.
В любом случае оно мыслится как нечто противоположное революции и как такой способ протеста, который «сохраняет
структуру демократического конституционного государства
'" См.: Habermas J. Further Reflections on the Public Sphere. P. 448.
125
Д. Коэн и А. Арато прямо пишут в этой связи о том, что дискурсивная этика стремится дать «современный эквивалент» теориям естественного права без метафизических посылок, на которых они строились (см.:
Cohen }., Arato A. Op. cit. P. 354).
219
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
полностью неприкосновенной»126. Что позволяет столь жёстко и
независимо от конкретных обстоятельств заранее ограничивать
методы борьбы? Разве дано нам историческое всеведение, наделяющее уверенностью, что ничего более радикального, чем
(таким образом понятое) гражданское неповиновение, нам наверняка не понадобится для достижения моральных целей?
Морализаторские теории политики в самом деле претендуют
на такое всеведение (хотя их «постметафизически» настороенные
авторы будут это всячески отрицать). Эта претензия зиждется на
убеждении, что ничего более совершенного, чем наличная конституционная демократия, быть не может. Ведь она, как мы знаем, уже является «почти» справедливой127. Концепция гражданского неповиновения поэтому не ориентирована на ситуации, определяющиеся наличием «несправедливого порядка или даже
серьёзных кризисов». Гражданское неповиновение заранее объявляется предельно радикальным методом протеста потому, что, по
большому счёту, в «почти справедливом обществе» нет более серьёзной задачи, чем шлифовка существующих порядков.
Но даже если институты конституционной демократии
столь хороши, как их представляют морализаторские теории, то
разве можно на этом основании заключать о «почти» полной
справедливости общества, в котором такие институты находятся? Разве не известно, что «качество» общественной жизни зависит не от институтов самих по себе, а от того, как взаимодействуют с ними люди? Разве не показал ещё Токвиль возможность существования поголовного рабства в «тени народной
126
См.: Habermas J. Civil Disobedience: Litmus Test for the Democratic
Constitutional State // Berkeley Journal of Sociology. 1985. Vol. 30. P. 99;
Cohen J., AratoA. Op. cit. P. 602. В третьей части книги у нас будет возможность более обстоятельно рассмотреть теорию и практику гражданского
неповиновения. В настоящее же время удовлетворимся приведённым выше
расхожим пониманием этого морально-политического явления.
'"См.: Habermas J. Civil Disobedience. P. 101; Cohen J.. Arato A.
Op. cit. P. 567.
220
власти» и демократических институтов128? Разве не писал сам Хабермас в своих более ранних работах, ещё носивших критический характер, что «система» стабилизирует и оправдывает себя
посредством деполитизации масс, механизмами которой являются покупка их лояльности за счёт перераспределения части
произведённого богатства и репрессия этических требований,
предъявляемых к «системе»129?
Нельзя сказать, что морализаторские теории совсем упускают из виду живых людей, тех «действующих лиц», которые используют институты. Более того, тема многообразия «жизненных
стилей», мультикультурализма и «нового плюрализма» является
одной из центральных в них. Но тогда откуда уверенность в том,
что безбрежно разливающийся плюрализм «жизненных стилей»
и взглядов людей будет неизменно укладываться в те формы
организации политики, которые предполагает конституционная
демократия? Ведь свободное развитие плюрализма означает открытость результатов политики, и институциональные её формы
было бы странно «закрывать» от такого развития.
Согласование неизменности форм политической организации и бурно меняющейся культуры и жизненных ориентации людей достигается посредством двух теоретических действий.
Первое — утверждение особого характера общей для всех
многообразных групп современного общества культуры, которая сообщает им — при всех различиях между ними в иных
отношениях — некую единую ориентацию. Согласно Бенхабиб,
это — культура, особенность которой заключается в том, что
она «лелеет универсализм» и воспитывает у тех, кто принадлежит к ней, соответствующую «моральную философию». Это
свойство данной культуры не случайно и имеет сугубо историческое происхождение. Оно — результат морального развития
(в смысле гегелевского Bildung), образования, полученного в
128
См.: Токвиль А. де. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992.
Кн. 2. С. 497.
129
См. : Habermas J. Toward a Rational Society .P. 112-113.
221
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
130
школе Просвещения и секуляризма . Получается, что сохранность институтов конституционной демократии, воплощающих
универсальные моральные принципы (начиная с прав человека),
гарантируется всеобщностью универсалистских ориентации
всех действующих лиц современной политики. Разумеется, это
верно лишь для западных обществ, получивших «аттестат зрелости» в школе Просвещения и секуляризма. Но другими обществами морализаторские теории особенно и не интересуются.
Конечно, против этого рассуждения можно привести немало доводов эмпирического порядка. В конце концов, самые впечатляющие примеры вдохновлённой моралью (её универсалистскими принципами) политики гражданского неповиновения
дала Индия времён борьбы с английским колониализмом, которая никак не могла получить «аттестат зрелости» в школе европейского Просвещения. Крайне сомнительно и то, что все группы в современном западном обществе (включая националистов,
расистов, фашистов, фундаменталистов разных мастей и т. д.)
разделяют описанную Бенхабиб универсалистскую ориентацию,
хотя они — законные дети этого общества (как плоды присущих
ему противоречий). Но, пожалуй, более интересно отметить теоретическую слабость данного рассуждения, с присущей рационализму наивностью напрямую связывающего мотивы действий с их результатами,
Допустим, что все социальные группы западного общества
с той же силой движимы универсалистскими идеалами, с какой
агенты рыночной экономики — стремлением к богатству. Если
вторые весьма часто кончают не только индивидуальным банкротством, но и общим экономическим кризисом, то что помешает первым увидеть свои идеалы опрокинутыми той междуусобицей, которую породит разное «материальное» содержание их универсалистских идеалов? С точки зрения христианского
универсализма, чем моральные ориентации католиков были
130
См.: Benhabib S. Critique, Norm, and Utopia. N. Y.: Columbia
University Press, 1986. P. 306.
222
лучше или хуже ориентации протестантов, когда две группировки вступили в смертельную схватку? Разве коммунизм не
прошёл ту же школу Просвещения и секуляризма, что и либерализм, только «сдав экзамены» отчасти по другому набору
предметов, в ней преподаваемых131? Да и редкий ли это случай,
когда самые искренние моральные универсалистские ориентации оборачиваются — логикой обстоятельств — аморальными
партикуляристскими следствиями?132 Всё учение о непреднамеренных результатах сознательных действий людей, как оно развивалось в новоевропейской философии от Давида Юма и Адама Смита до того же Хайека, ориентирует нас на понимание
131
Как пишет американский философ Генри Айкен, «во многих отношениях Маркс был сыном Просвещения, моралистом и человеком доброй
воли, чьи социальные и политические идеалы проистекали из тех же великих универсалистских принципов свободы, равенства, братства и справедливости, которые вдохновляли отцов французской и американской революций. В действительности этический идеал, лежащий в основе коммунизма,
настолько близок к тому, который получил воплощение в основополагающих документах ранних этапов французской и американской республик,
что развенчание первого или разочарование в нём должны распространиться и на последний, как только мы начнём размышлять всерьез» (Aiken H. D.
Morality and Ideology // Ethics and Society: Original Essays on Contemporary
Moral Problems / Ed. R. T. de George. Garden City (N. Y.): Anchor Books,
1966. P. 150).
132
Ярким примером тому могут служить действия, пожалуй, самого морально ориентированного западного политика XX века американского президента Вудро Вильсона. Вероятно, он был искренен, когда при завершении
Первой мировой войны говорил: «Мир должен базироваться на правах народов, а не на правах правительств — народов, больших и малых, слабых и сильных, на их равном праве на свободу, безопасность, самоуправление и участие на справедливых условиях в экономических возможностях, открываемых
•сем миром» (цит. по: Blum J. M. Woodrow Wilson and the Politics of Morality.
Boston: Little, Brown and C°, 1956. P. 146). Он настойчиво пытался материализовать эти идеи в послевоенном устройстве Европы и остального мира и в
немалой мере преуспел в отстаивании своих предложений. Известно, сколь
нежизнеспособной оказалась устроенная таким образом Европа и сколь скоро взорвалась она катастрофой Второй мировой войны.
223
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
скорее закономерности, чем случайности именно такой связи
моральных мотивов действий и их аморальных следствий.
Эти вопросы подводят нас к пониманию второго действия,
совершаемого морализаторскими теориями для согласования
неизменности политических форм и меняющейся культуры и
жизненных ориентации. Таким действием оказывается сепарация политически «разумных» и «неразумных» моральных ориентации. (То, что передаётся здесь термином «разумный», в английском языке обозначается как «reasonable» в отличие от
«rational», что лучше переводить как «рациональный».)
Многие авторы морализаторских теорий готовы признать возможность конфликта ценностей и воплощающих их курсов практических действий. Как говорит Ролз, каждый такой курс может
иметь «решающие и достаточное нормативные обоснования».
Однако «любая система социальных институтов ограничена с точки зрения тех ценностей, которые она может допустить. Поэтому
из всего спектра моральных и политических ценностей необходимо отобрать те, которые можно осуществить»133. Не прошедшие
селекцию ценности отодвигаются в сферу частной жизни и не получают отражения в «базовой (конституционной) структуре» общества. Они не выносятся на политическую «повестку дня». Вновь
подчеркнём: они не проходят отбор не потому, что не могут быть
рационально и нормативно обоснованы, даже если условием их
обоснования выступает принцип универсальности, а лишь вследствие того, что они не встречают «одобрения» части членов данного общества. Причём такое «одобрение» вовсе не обязательно
означает то, что отобранная ценность предпочитается ими всем
остальным. Она может быть не первым, а вторым или третьим
приоритетом для кого-то из них, но они дают согласие на неё по133
См.: Rawls J. Political Liberalism. P. 57. В этом фрагменте Ролз комментирует и, в конечном счёте, принимает концепцию Томаса Нагеля о
конфликте достаточно нормативно обоснованных ценностей. Позицию Нагеля по этому вопросу см.: Nage/ Г. Mortal Questions. Cambridge:
Cambridge University Press, 1979. P. 128-141.
224
стольку, поскольку не имеют надежды на осуществление своего
первого приоритета. Но не встретившие и такого признания универсалистские ценности должны быть отметены.
Действительно, чем, с формально-логической точки зрения, предложение сделать выходным днём пятницу уступает
предложению сохранить в качестве такого дня воскресенье?
Однако полная нереальность осуществить первое предложение в странах Северной Атлантики заставляет проживающие в
них мусульманские меньшинства одобрять сохранение воскресенья в качестве выходного дня. Ведь альтернативой одобрению выступает не свободная дискуссия с христианским большинством в духе упражнений с «ненасильственной силой лучших (универсальных) аргументов», а невозможность работать
и выживать в этих странах. Политический вес христианского
большинства — и ничто другое! — обусловливает то, что
«праздничность» пятницы оттесняется в сферу приватной жизни и не попадает в круг ценностей, которые данная система институтов, т. е. реально существующая западная конституционная демократия, готова «допустить».
Можно много говорить о «разумности» таких ограничений
«свободной дискуссии», а также о целесообразности устранять
из сферы политического диалога «разделяющие нас (sic!) моральные идеалы»134. Однако факт остаётся фактом: селекцию
ценностей на деле производит не «беспристрастный» разум, а
реальное соотношение стоящих за этими ценностями сил. Сокрытие же этого факта есть идеологическая операция по консервированию статус-кво.
Рассматривая апологетичность морализаторских и «экономорфных» теорий политики, мы сосредоточились на первых
134
Такое устранение Брюс Аккерман, из статьи которого я взял приведённую формулировку, называет «путём сдерживания [политического]
разговора» членов либерально-демократического общества (см.:
Ackerman В. Why Dialogue? // Journal of Philosophy 86 (January 1989).
P. 16-17).
И Выбор
225
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
и ещё ничего не сказали о вторых. Такое диспропорциональное распределение нашего внимания вызвано тем, что если
морализаторские теории претендуют на критический, а в некоторых случаях даже радикальный анализ современного общества, с чем нам пришлось полемизировать, то конформистский характер «экономорфных» теорий достаточно очевиден. Последние делают предметом своего исследования то,
что можно назвать «изнанкой» конституционной демократии,
как её представляют себе морализаторы. Иными словами,
«экономорфные» теории сосредоточиваются на экономической жизни и «экономическом человеке», которые и есть alter
ego моральной жизни и «морального человека», описанных в
только что рассмотренных нами теориях. Предмет «экономорфных» теорий — прямой слепок с существующего буржуазного общества, а потому они даже не пытаются выйти за его
границы и помыслить альтернативы. Качественные, т. е. культурно-политические, изменения параметров этого общества —
в отличие от количественных перемен организационно-технологического толка — могут мыслиться в рамках этих теорий
только как подлежащие устранению нарушения рациональных
механизмов его функционирования.
3. САМОПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ «ЭКОНОМОРФНЫХ»
И МОРАЛИЗАТОРСКИХ ТЕОРИЙ
Моя цель в этой части настоящей лекции весьма ограничена.
Под самопротиворечивостью рассматриваемых теорий я имею в
виду не все лежащие на их поверхности или обнаруживаемые в
них посредством логического анализа противоречия, а лишь то,
что они не в состоянии реализовать собственную теоретическую
заявку без апелляции к тем допущениям и посылкам, которые
должны категорически этой заявкой исключаться, дабы она могла претендовать на концептуальную самостоятельность и оригинальность. Говоря конкретнее, это означает, что «экономорфные» теории политики, новизна и самостоятельность которых за-
226
висят от доказательства тезиса о том, что рациональные люди
могут интересоваться политикой сугубо как средством наращивания собственной выгоды (см. сноску 95 к данной части книги),
вынуждены обращаться к противоположным ему допущениям о
способности людей к коллективной этической самоорганизации
ради общего блага. В то же время концептуальная заявка морализаторских теорий строится на представлении о чисто разумном
(не зависящем от эмпирических обстоятельств) консенсусе гражданами, который так или иначе выражает себя в важнейших политических решениях и институтах. Однако такое представление
опирается на целый ряд допущений именно об эмпирическом
структурировании и распределении власти, выступающих, по
сути, условиями самой возможности «идеального» консенсуса и
его влияния на политическую жизнь. Остановимся на рассмотрении этих вопросов чуть подробнее.
Яркий пример самопротиворечивости (в вышеуказанном
смысле) «экономорфных» теорий политики даёт Шумпетер, что
я могу объяснить только последовательностью и честностью его
мысли. Как мы уже знаем, raison d'efre его теории демократии, альтернативной классической, заключался прежде всего в
том, что, во-первых, в политике рядовые люди, как правило, не
в состоянии мыслить рационально; во-вторых, они, как и политики, движимы сугубо эгоистическими интересами и потому к
самозаконодательству на благо «всех и каждого» неспособны;
в-третьих, по этим причинам «общее благо» — пустое понятие,
которое, если его отождествлять с (агрегированными) интересами большинства, осуществляется лишь случайно и лишь постольку, поскольку это может быть полезно для максимизации
собственной выгоды демократическими правителями. На этой
базе и формулируется знаменитая концепция демократии «как
метода» (в отличие, скажем, от концепции её как ценности и
«способа жить» у Джона Дьюи).
Пока мы имеем чистейшую версию «экономорфной» теории политики, ставшую каноном для бесчисленных позднейших
упражнений на этом поприще. Но уже ближе к концу той самой
15*
227
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
четвёртой части «Капитализма, социализма и демократии», в которой излагается учение о демократии «как методе», а именно — во втором параграфе 23-й главы, мы вдруг сталкиваемся с
рассуждениями, никак не согласующимися с «экономорфизмом». И уж совсем удивительно то, что как раз в этих рассуждениях представлены «условия успешности демократического
метода». Мы помним, что, согласно Шумпетеру, такая успешность не связана необходимым образом ни со свободой, ни с
благополучием «народа» (о «равенстве» нет и речи). Она тождественна воспроизводству институтов демократической системы,
т. е. избеганию ситуаций, «которые толкают к недемократическим методам», и принятию решений, которые в конечном счёте приемлемы не для всех вообще, а только для «политически
значимых кругов»135. Каковы же условия успешности демократического метода даже в таком минимальном её понимании?
Во-первых, «человеческий материал политики» должен
быть достаточно высокого качества, причём не только в интеллектуальном, но и в моральном отношении. Во-вторых, зона
действия политических решений не должна простираться слишком далеко, т. е. политика не должна затронуть те «опорные
столпы» общественной жизни (начиная с собственности), затрагивание которых наверняка введёт в действие «недемократические методы». Иными словами, демократия выживает и
работает, пока занимается второстепенными вещами. В-третьих, в распоряжении демократии должна быть безупречная во
всех отношениях бюрократия. В-четвёртых, люди, включая рядовых избирателей, должны отличаться способностью к «демократическому самоконтролю», и именно это — решающее
условие успешности демократии «как метода». Понятие «демократического самоконтроля» распространяется у Шумпетера на самые различные отношения, ситуации, решения и подходы, в которые могут быть вовлечены рядовые избиратели
(не говоря уже о политиках) или к которым их могут подталки135
ШумпетерЙ. Капитализм, социализм и демократия. С. 378, сноска 5.
228
вать. И вновь «высокий моральный уровень» оказывается здесь
на переднем плане. Способность устоять перед посулами демагогов и проходимцев, уважение к «разделению труда»
между управляемыми и управляющими и даже способность к
«добровольному подчинению» (что звучит почти как часть аристотелевского этико-политического определения «гражданина») — всё это и многое другое подразумевается понятием
«демократического самоконтроля».
Каким образом эгоисты (а это — все участники политического процесса, как объяснил нам Шумпетер ранее) окажутся
способны к проявлению таких моральных достоинств, предполагающих силу рационального мышления вкупе с высоким самообладанием и пониманием «общего блага», остаётся совершенно
неясным. (Ссылка на аристократию как источник «человеческого материала» ложна социологически в свете собственных рассуждений Шумпетера о закате аристократии в буржуазном обществе, кроме того, она ничего не говорит о причинах «демократического самоконтроля» на массовом уровне, а это —
главное.) Ещё более загадочно то, зачем вообще нужен этот
«демократический метод», если и народ, и политическая элита
обладают именно теми этическими качествами, на которые хотела опереться классическая теория демократии, отвергнутая Шумпетером именно вследствие нереалистичности её этических и психологических допущений и посылок.
Хотя исходя из внутренней логики теории Шумпетера на два
последних вопроса ответить затруднительно, однако достаточно
ясно, почему второй параграф 23-й главы как бы останавливает
эту логику перед самым её завершением. Каким, в самом деле,
могло быть логичное завершение теории, строящейся на представлении о всеобщем безграничном господстве частных интересов? Уже в XVIII веке осмысление нарождавшегося тогда «коммерческого общества» позволило в общем виде дать ответ на
этот вопрос. По выражению Адама Фергюсона, такое господство, доведённое до логического конца, превратит «нацию» в
«компанию купцов», которые не думают ни о чём другом, кроме
229
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
своих прибылей и убытков. «Нация», претерпевшая такое превращение, не только не способна к свободе, но и недостойна её.
Почему? Потому что, с точки зрения безупречно последовательной инструментальной рациональности, всё, включая свободу, национальную безопасность, само историческое существование данной «нации», окажется лишь средством, полезным или
бесполезным, для увеличения прибылей и уменьшения убытков
как единственных «высших целей». «Продать родину» или отказаться от свободы в пользу тирании, с точки зрения этой рациональности, вовсе не преступление и предательство, а лишь целесообразные или нецелесообразные операции, находящиеся в
общем ряду рассчитываемых частным интересом действий. Распустить «компанию купцов», объявить о её банкротстве, расчленить на ряд самостоятельных мелких предприятий или позволить
поглотить её более сильному конкуренту — всё это могут быть
при разных обстоятельствах совершенно рациональные решения
«судьбы отечества», с точки зрения частных интересов и правителей, и управляемых (тех или иных их групп, играющих в данный
момент определяющую роль в принятии решений)136.
Все такие действия и решения, будучи адекватными воплощениями рациональности, материализованной в «демократическом методе», вместе с тем означают его конец в самом непосредственном смысле (так что о его успешности уже нельзя
будет говорить). С одной стороны, «продажа родины» (роспуск
«компании купцов») означала бы исчезновение той историкокультурной и геополитической «единицы», т. е. страны, в которой этот «метод» работал как конкурентный способ определять
тех, «кто нами правит». С другой стороны, возможное предпочтение тирании упраздняет сам этот метод как способ формирования (части) правящей элиты, теперь образующейся уже другими путями.
136
Более подробно я рассматривал и комментировал эти рассуждения
Фергюсона в другой работе (см.: Капустин Б. Г. Современность как предмет политической теории. М.: РОССПЭН, 1998. С. 220-227).
230
Глубина и реализм второго параграфа 23-й главы заключаются именно в том, что в нём ясно показано: не только демократия (даже в её шумпетеровском чисто процедурном и «минималистском понимании»137), но и политика как таковая (опять
же в самом скромном её понимании, связанном с существованием государства и принятием общеобязательных решений,
обеспеченных легитимной силой) возможны лишь до тех пор,
пока в общественной жизни людей имеется нечто не сводимое
к частным интересам, не могущее быть вовлечённым в их игру
в качестве средства, признаваемое — сколь бы иррациональным это ни выглядело с точки зрения максимизации частной выгоды — как ценность и «цель-сама-по-себе», т. е. безотносительно ко всему остальному. Лишь до тех пор, пока это нечто
направляет игру частных интересов и кладёт ей пределы, возможен «демократический метод», содержательно представляющий собою именно эту игру, но транспонированную из (квази)рыночной экономики в политику. Поэтому сам этот «метод» не
обладает никакими механизмами, чтобы направлять и ограничивать игру частных интересов. Он может быть уподоблен её правилам, но никак не тому, что заставляет их соблюдать, что предотвращает их нарушение, когда это становится выгодным.
То, что заставляет соблюдать правила «демократического метода», Шумпетер находит в нравственном сознании.
Можно даже сказать, что он придаёт нравственности чрезмерно большое значение, так как из четырёх главных условий успешности «демократического метода» три представляют собою непосредственные нравственные требования к сознанию
разных общественных групп (политических элит, бюрократии,
рядового электората). Ясно, что и осуществимость последнего, четвёртого условия прямо зависит от нравственных качеств
тех же групп.
137
О «минималистской демократии» см.: Przeworski A. Minimalist
Conception of Democracy: A Defense // Democracy's Value / Ed. I. Shapiro
and C. Hacker-Gordon. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
231
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Здесь и выявляется зависимость «экономорфной» теории
Шумпетера от тех этических допущений относительно разумности, волевых качеств, нравственных ориентации людей, в которых она должна была усомниться и которые ей необходимо
было отвергнуть, дабы утвердить своё право на существование.
Можно сказать, что слишком большая зависимость данной теории от этих этических допущений есть свидетельство несовершенства её анализа институтов и расстановки политических
сил. Несомненно, «успешность» «демократического метода»
хотя бы отчасти может быть объяснена в категориях присущих
ему институтов и его действующих лиц.
Морализаторские теории также самопротиворечивы,
хотя и на собственный лад. Их рассуждения о применимости
«дискурсивной морали (этики)» к политике имеют смысл только при ряде эмпирических допущений, которые, с одной стороны, не могут быть обоснованы самими этими теориями, а с
другой — будь такие допущения верны, они делали бы данные
теории излишними именно как проекты дальнейшей демократизации современных западных обществ. Это прежде всего
такие допущения: а) о границе между «моральными» и «неморальными» вопросами; б) об исполнителе (субъекте) морально ориентированной политики; в) о средствах и методах воздействия «(морально) дискурсивного сообщества» на власть и
принятие политических решений; г) о «рациональном консенсусе» как воплощении свободы и равенства всех. Поскольку
данные вопросы уже рассматривались нами ранее, хотя и в
другой связи, мы ограничимся сейчас своего рода резюмированием наших предыдущих наблюдений над морализаторскими теориями, развёртывая наши выводы именно в плане
выявления самопротиворечивости этих теорий.
Первое. Мы отмечали ранее (особенно в связи со взглядами Хабермаса) важность различения между вопросами, по которым можно и должно выносить «морально дискурсивные»
суждения, с одной стороны, и теми вопросами, которыми «дискурсивной морали» не следует заниматься, — с другой. Хотя «в
232
принципе» авторы морализаторских теории, ассоциирующие
себя с «демократической критикой», возражают против типичного для либеральных моралистов (вроде Ролза или Аккермана)
стремления ограничить тематику «общественного дискурса».
Ясно, что ограничение «в принципе» безграничной тематики моральной рефлексии и морального дискурса задаётся фактическим состоянием той «формы жизни», к которой принадлежат и
авторы морализаторских теорий, и те потенциальные участники
«дискурсивного сообщества», которым данные теории предназначаются. Иными словами, исключённые темы исключены не потому, что их предметы безупречны с моральной точки зрения и
о них как бы «нечего говорить», а потому, что они не оказались
в фокусе общественно значимых конфликтов (сказанное, учитывая собственные рассуждения Хабермаса, в полной мере относится к таким «системам», как рынок и бюрократическое управление, или к таким явлениям, как наёмный труд, не упоминая уже
о поляризации бедности и богатства или применении вооружённой силы в разрешении конфликтов138, и т. д.).
Но коли так, то следует задуматься: по какой причине конфликты вокруг морально небезупречных предметов не разворачиваются, во всяком случае в том масштабе, какой сделал бы
признание их в качестве «моральных вопросов» необходимым?
138
Впрочем, у авторов морализаторских теорий остаётся возможность
признать сами эти явления моральными. Так и поступает Хабермас, к примеру, рассуждая о натовских бомбёжках Югославии. Оказывается, это — «мировая полицейская интервенция», которую НАТО проводила «от имени мирового гражданского общества». В этих действиях выразилась глубоко нравственная тенденция «трансформации международного права в закон для
граждан мира», предполагающая обуздание (domestication) «естественного
состояния в отношениях между государствами посредством прав человека».
Признаваемая самим Хабермасом трудность оправдания примененных при
этом средств, невинные жертвы, разрушение инфраструктуры гражданской
жизни, равно как и неясность политических целей данной акции не останавливают его перед тем, чтобы сделать приведённые выше выводы (см.:
Habermas i. Bestiality and Humanity: A War on the Border between Law and
Morality // http:// www.theglobalsite.ac.uk/librarytexts/011habermas.html).
233
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
По той ли причине, что моральная точка зрения утрачена членами данного общества? Но тогда к кому апеллируют морализаторские теории и кто такие участники «дискурсивного сообщества»? Или по той причине, что за морально небезупречными
предметами стоят слишком мощные экономические и политические силы, чтобы обсуждение этих предметов имело хоть какой-то практический смысл? Но если причина такова, то сама
«моральная точка зрения» с её универсальностью, беспристрастностью и почтением исключительно к «силе лучших аргументов» оказывается в качестве «отправного пункта» конструирования политической теории лишь идеологическим камуфляжем действительного положения дел.
Второе. Вероятно, у морально ориентированного действия,
как и любого другого, должен быть некий исполнитель или исполнители. В политике исполнителями каких угодно действий
могут быть только (тем или иным образом) организованные
коллективы. Мы уже видели (опять же на примере Хабермаса),
сколь большие трудности испытывают морализаторские теории
при описании исполнителей морально ориентированных действий. И неудивительно: ведь любая организация есть иерархия
и дисциплина, что несовместимо с теми представлениями о равенстве, свободе и неинструментальном отношении «ко всем»,
которые предполагаются моралью вообще и описаниями «дискурсивного сообщества» в рассматриваемых морализаторских
теориях — в частности и в особенности.
Известно, как из данного затруднения в своих политических
сочинениях выходил сам Кант. У него правовое государство «принимало на себя роль "свободной причинности", которая в общем
плане отводилась ноуменальной моральной воле»139. Похоже,
139
Содержательный анализ этой подстановки правового государства на
место «свободной причинности» у Канта и, соответственно, того, каким
образом именно политика оказывалась у него формой разрешения «системной проблемы» отношений между трансцендентальным и феноменальным см.: Howard D. Kant's Political Theory: The Virtue of His Vices // The
Review of Metaphysics. 1980. Vol. XXXIV. № 2. P. 343 ff.
234
аналогичную роль современному конституционному государству
готовы отвести рассматриваемые морализаторские теории. Во
всяком случае, у них нет иного исполнителя морально ориентированных действий — в отличие от форумов коллективной рефлексии и обсуждений, а также «сенсоров», улавливающих общественную озабоченность проблемами права и легитимности.
Либеральные морализаторские теории логически последовательно соотносят эту роль правового государства с его «нейтральностью», со способностью (социологически неидентифицированных) «носителей власти» стоять над конфликтом противоречивых представлений о «хорошей жизни», которых
придерживаются различные группы в данном обществе, и не
навязывать обществу собственные представления о ней140. Морализаторским теориям, ассоциирующим себя с «демократической критикой», нелегко принять эту редакцию тезиса о «нейтральности» государства вследствие её слишком прямолинейного уклонения от обсуждения того, кто и как олицетворяет
государство, чья политика оказывается государственной политикой и каким образом она осуществляется в качестве таковой и
т. д. Эти элементарные для политической социологии вопросы,
нацеленные на понимание субъектно-деятельной стороны политической жизни, как только они поставлены, сразу делают тезис
о «нейтральности» государства «неудобоваримым» и обнаруживают его морализаторскую декларативность.
Поэтому «демократическим» морализаторским теориям
(в отличие от либеральных) приходится проводить сложную операцию «отсоединения» идеи правового государства не только от
его персонала — бюрократов и политиков, их различных группировок, всегда на деле преследующих собственные интересы
и связанных с определёнными частными интересами в реальном
обществе, но и от конкретных институтов государственного
ыо
В качестве характерного примера такого подхода см.: Ackerman В.
Social Justice in the Liberal State. New Haven (CT): Yale University Press, 1980.
P. 7, 11 ff.
235
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
управления, которые, имея дело с частными интересами управляемых и управляющих, также не могут отвечать представлениям о «нейтральности». В результате этой операции правовое государство превращается в нечто эфемерное и трудно уловимое — в некую, пользуясь выражением Хабермаса,
«стержневую структуру в особой конституционно организованной политической системе». Эта структура не только не совпадает с реально существующими институтами (включая государственные), но даже не может служить моделью для них. Она
есть чистая процедура демократической дискуссии — в той
мере, в какой она всё же как-то присутствует в политической
жизни (в парламентских дебатах, судебных слушаниях и т. д.)141.
«Спасение» беспристрастности правового государства таким путём имеет свою высокую цену — утрату возможности
понять его именно как деятеля, осуществляющего «свободную
причинность», как практического исполнителя морально ориентированных действий142. Но такой деятель и исполнитель, хотя
его не удаётся обнаружить и концептуально описать, должен
быть предположен — в противном случае морализаторские
теории утрачивают какое-либо отношение к политике, которая,
в конце концов, есть деятельность, т. е. чья-то деятельность.
Теория, достойная называться политической, не может ограничиваться описанием условий мыслимости должного. Ей необ141
См.: HabermasJ. Between Facts and Norms. P. 305.
Хабермасу нельзя отказать в понимании того, что описанное им правовое государство никоим образом не является деятелем, во всяком случае таким, который способен нравственно трансформировать действительность. «...Демократическая процедура, — пишет он, — должна быть вписана в контекст, который она не способна регулировать». Он призывает
исследовать ту степень, в которой власть, «сосредоточенная в социальных
субсистемах, в больших организациях и публичной администрации, незаметно утверждает себя в системной инфраструктуре нормативно регулируемой циркуляции власти» и в которой «неофициальная циркуляция этой
нелегитимной власти наступает на конституционно регулируемую циркуляцию власти» (Habermas J. Between Facts and Norms. P. 305, 328).
142
236
ходимо так или иначе перейти в описание практической деятельности, осуществляющей должное. Именно поэтому предположение об исполнителе морально ориентированных действий, не
могущее быть не только доказанным, но даже эксплициро'ванным в рассматриваемых морализаторских теориях, есть важнейшее условие их претензий на то, чтобы быть (или казаться)
политической теорией.
Третье. Конечно, помимо правого государства авторы морализаторских теорий много рассуждают о «группах общественности» (в диапазоне от «эпизодических групп» типа посетителей кафе или уличных прохожих до «абстрактной общественности» в виде читателей прессы или телезрителей), в своей
совокупности образующих «публичную сферу», которым отводится определённая, а именно — демократическая политическая роль. То, что это не роль деятелей, видно уже из решительных заявлений о том, что эти группы общественности «не могут
затвердеть в организации»143. Авторы морализаторских теорий
именует их «деятелями» в очень специфическом смысле, имея
в виду «деятельность» говорения, обсуждения, вынесения суждений, формирования мнений и т. п., но не деятельность как
«предметное делание». Коли деятельности говорения приписывается политическая роль, стало быть, нужно объяснить, каким
образом оно само по себе может оказывать влияние на реальную власть, замечательную именно способностью «предметного делания» (не только отношений между людьми, но и, как
убедительно показал Фуко, того, что и как говорится). Иными
словами, нужно показать каналы и механизмы влияния «чистых
мнений», т. е. не подкреплённых никакими организационно-властными ресурсами, на власть, концентрирующую эти ресурсы,
в том числе и ресурсы влияния на «чистые мнения».
Решение этой задачи предполагает, во-первых, что сформированные общественностью мнения будут каким-то образом
доведены до власти именно как мнения общественности, а не
143
Habermas L Between Facts and Norms. P. 374 и др.
237
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
тех или иных индивидов или их группировок; во-вторых, что
власть «разоружится», т. е. не будет использовать имеющиеся
в её распоряжении ресурсы для манипуляции мнениями или
противодействия им (игнорирования их, подрыва их авторитета
посредством противопоставления им суждений экспертов и прочих «знающих людей», фабрикации альтернативных мнений
«другой» общественности и т. д.). Первое в современном обществе могут осуществить только СМИ, второе необходимо
предполагает ту «нейтральность» власти, о которой мы только
что рассуждали. Поэтому ключевые условия, при которых бездеятельные группы общественности способны исполнить отводимую им политическую роль, формулируются Хабермасом
следующим образом: «...СМИ должны осознать себя в качестве уполномоченных просвещённой публики... подобно суду
они должны блюсти свою независимость от политических и социальных давлений; они должны быть восприимчивы к заботам
и предложениям общественности, беспристрастно поднимать
вопросы и наращивать критику... Власть денег должна быть...
нейтрализована, а скрытый переход административной или социальной власти в политическое влияние — блокирован... Политическим и социальным силам можно позволить "использовать"
публичную сферу только в той мере, в какой они вносят убедительный вклад в разрешение проблем, осмысленных общественностью или поставленных на повестку дня с её согласия»144.
Сама форма предписаний, в которой сформулированы
эти условия, даёт ясно понять, что речь идёт не о действительном положении дел. Независимость и беспристрастность
СМИ, блокирование влияния денег и административной власти
и т. д. — это всё из жизни неведомой нам страны Утопии. Хабермас это прекрасно понимает и трезво замечает, что в действительности «общественные движения, гражданские инициативы и форумы, политические и иные ассоциации, короче говоря, группы гражданского общества в самом деле тонко
144
HabermasJ. Between Facts and Norms. P. 378-379.
238
чувствуют проблемы, но сигналы, которые они посылают, и
импульсы, которые от них исходят, в целом слишком слабы,
чтобы стимулировать самообразование общества или чтобы
придать в близкой перспективе процессу принятия политических решений другое направление». Вообще гражданское общество способно к самодеятельности, к тому, чтобы «дать обратный ход процессам коммуникации в политической системе
и в публичной сфере» (т. е. направить их снизу вверх — в противоположность их нынешним токам сверху вниз) лишь в «критические моменты ускорения хода истории»145.
Но ведь в том и дело, что сейчас такого «критического момента ускорения истории» не только нет «по факту» — он, по
всей видимости, уже невозможен в «почти справедливом обществе», оказавшемся, как считают Хабермас и его коллеги, по ту
сторону революционной диалектики. К чему тогда вообще весь
разговор о гражданском обществе, практически недееспособном при том «нормальном» положении дел с его идущими
сверху вниз потоками коммуникации, которое стало «вечным
настоящим» современных обществ? Но без допущения, вопреки всем социологическим свидетельствам, какой-то дееспособности гражданского общества и составляющих его неорганизованных групп общественности морализаторские теории утратили бы того референта в феноменальном мире политики, к
которому они могли бы обращаться и которого они могли бы
теоретически представлять. Им оставалось бы только вернуться
к тому трансцендентальному моральному сознанию, к тому
«практическому разуму», который они торжественно преодолели своим «постметафизическим поворотом».
Четвёртое. Для морализаторских теорий характерна общая
установка на преодоление конфликта и достижение консенсуса.
Значимость последнего обусловлена тем, что он понимается как
состояние равенства и свободы «всех». То, что не только проверка реального равенства, но и его установление достигается
1<5
Habermas J. Between Facts and Norms. P. 373, 379, 381.
239
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
именно конфликтом, т. е. тем действием противостояния, в котором одна сторона утверждает себя в качестве достойной оппозиции другой стороне, а та своей реакцией на брошенный ей
вызов признаёт это, ускользает от морализаторских теорий. Как
ускользает и то, что свобода может быть не наличным состоянием, которое всегда есть состояние несвободной детерминации
всех, кто подпадает под него, а лишь преодолевайте/* этого наличного состояния, т. е. освобождением и потому — конфликтом. Консенсус как устранённость конфликтов есть прежде всего невозможность выравнивания и освобождения. Поэтому он
есть иерархия, представляющая себя свободой и равенством14*
и — в чём особенно видна его репрессивность — воспринимаемая в качестве таковых подчинёнными (свидетельством преодоления такого ложного восприятия будет понимание консенсуса
лишь как временное и условное соглашение).
Авторы морализаторских теорий, несомненно, могут выставить против таких рассуждений тот довод, что они говорят не о любом консенсусе (достигнутом любыми возможными средствами),
а лишь о «рациональном», т. е. о таком, в котором согласие всех
участников обусловлено исключительно подчинением силе «лучших аргументов», и в этом смысле оно является добровольным.
Но этот аргумент в действительности не устраняет, а только конкретизирует представление о репрессивности консенсуса. Допустим, что согласие в самом деле достигается на сугубо «рациональном» основании, т. е. только благодаря логической убедительности приведённых доводов. (Хотя, рассматривая
любую дискуссию, мы всегда вправе спросить: почему рациональная рефлексия, углублённое понимание и собственной позиции, и позиции наших оппонентов должны обязательно вести
иб
Это отлично показывает Барри Купер на примере утопии «постисторического государства» Александра Кожева, которое мыслится как воплощение всеобщего и равного взаимопризнания (см.: Cooper В. The End of
History: An Essay on Modern Hegelianism. Toronto: University of Toronto Press,
1984. P. 281-282).
240
к соглашению, а не к противоположному — выявлению той их
несовместимости, которую мы, возможно, не замечали раньше? Что гарантирует устранение «конформистского синдрома»,
вследствие которого некая точка зрения принимается не в силу
её логической безупречности, а из-за давления большинства, изза опасения остаться в одиночестве против «всех»?147) Но почему именно критерий логичности — с акцентом на логику обобщения (универсализации) представляемых доводов и заключений — должен считаться решающим при определении того,
какие (чьи) аргументы являются «лучшими»?
Разве политическая и этическая рациональность тождественны логической рациональности? Поскольку способность
мыслить логически последовательно и представлять свою позицию в логически правильной форме является продуктом образования (не говоря уже о роли в этом «естественных задатков»), то не получится ли так, что как раз наиболее «униженные
и оскорблённые», имеющие наименьший доступ к «хорошему
образованию», будут, как правило, в проигрыше в чисто «рациональной» дискуссии с более образованными и преуспевающими? Не воспроизведут ли ход и исход «рациональной» дискуссии
то структурное неравенство, ту иерархию статусов и властных
ресурсов (одним из них, несомненно, является образование),
которая характеризует реальное общество, вместо того чтобы
находить приемлемые «для всех» пути его исправления?
Как только такие вопросы ставятся прямо, идея «рационального консенсуса» в её политическом значении (в отличие от
её значения, скажем, для академических дебатов) теряет состоятельность и привлекательность. Конечно, самим авторам морализаторских теорий очевидна нетождественность политической
"7 Эти и другие вопросы, необходимым образом встающие при анали»е того, возможен ли чисто «рациональный» консенсус и действительно ли
он воплощает полную свободу и равенство его участников, тонко разбирает Ион Элстер (см.: Elster J. The Market and the Forum: Three Varieties of
Political Theory. P. 13-18).
16 Выбор
241
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
и этической рациональности, с одной стороны, и логической рациональности — с другой148. Политическая рациональность, в
конце концов, — это эффективность действия в условиях определённого расклада сил и при определённых обстоятельствах;
этическая рациональность — это деятельное стремление к благу, которое — в контексте неравенства и угнетения — неотделимо от борьбы за равенство и свободу. И то и другое вовсе не
обязательно предполагают универсализацию требований и интересов политически и этически рационально действующих сил.
Порой такая универсализация даже невозможна. (Что могло бы
означать требование равной свободы для нацистских концлагерных истязателей и их жертв? Что вообще в этих условиях может
означать свобода, кроме уничтожения нацизма?)
Столь же очевидно, что введение логической убедительности в качестве критерия определения «лучших аргументов» есть
одновременно принцип отбора тех, кто «допускается» к участию в дискуссии, кто признаётся «равным» остальным. Этот критерий предполагает определённую компетентность в ведении
дискуссии, и её нельзя всерьёз считать атрибутом «человеческой природы», подобно тому, как теории «естественного права» на заре Нового времени полагали таким атрибутом разум
человека как таковой. Исходя из этого некоторые комментаторы Хабермаса совершенно обоснованно вносят уточнения и ограничения в представление о том, будто «дискурсивное сообщество» (потенциально) объемлет «всех» (желающих заявить о
"8 Хабермас замечает: хотя апелляция к универсальным стандартам
рациональности неизбежна в любой дискуссии, «это ни в коей мере не доказывает, что такие стандарты сами по себе являются подлинно рациональными» (Habermas J. Moral Consciousness and Communicative Action. Tr.
C. Lenhardt and S. Nicholson. Cambridge (MA): The MIT Press, 1990. P. 3031). Ещё более выразительны американские политические философы Ами
Гатмен и Деннис Томпсон: «Мы не предполагаем, что политика — та сфера, в которой правят логические силлогизмы» (Gutmann Α., Thompson D.
Democracy and Disagreement. Cambridge (MA): Harvard University Press,
1997. P. 4).
242
своей озабоченности теми или иными проблемами и вынести их
на суд общественности). Не нужно, подчёркивает Уильям Per,
отождествлять «всех компетентных участников разговора» со
«всеми пользователями данным языком». Правило неограниченного доступа в «дискурсивное сообщество» оказывается
«формальным и оставляющим открытым вопрос о том, какие
конкретные лица, лингвистические группы, субкультуры могут
считаться "компетентными участниками разговора"»149.
Но тогда неизбежно возникает вопрос: кто и на каком основании устанавливает именно этот критерий определения
«лучших аргументов» и именно этот принцип отбора «участников разговора»? Иными словами: что в действительности является «основанием» консенсуса, если такое «основание» уже
нельзя усмотреть в «самоочевидных» процедурах ведения дискуссии и законах логики? Примечательно, что в более ранние
годы сам Хабермас был весьма озабочен именно этим вопросом и, более того, считал его одним из центральных для «критической теории»: с его точки зрения, она вопрошает как раз
о том, «что лежит позади консенсуса, представленного как
факт, ч го поддерживает господствующую в данное время традицию. Она делает это, обращая взгляд на отношения власти,
незаметно инкорпорированные в символические структуры систем речи и действия»150.
Ныне установка на обеспечение консенсуса, на «бесконфликтную политику» (что совсем не тождественно политике сдерживания или предотвращения конфликтов) сама воплотилась в
149
Rehg W. Insight and Solidarity: A Study in the Discourse Ethic of Jürgen
Habermas. Berkeley (CA): University of California Press, 1994. P. 63. См. также: Fleming M. Emancipation and Illusion: Rationality and Gender in Habermas's
Theory of Modernity. University Park (PA): The Pennsylvania State University
Press, 1997. P. 73-75.
150
Habermas J. Theory and Practice. Tr. J. Viertel. Boston: Beacon Press,
1973. P. 12. Более подробный анализ этой ранней исследовательской установки Хабермаса см.: Dani T. Knowledge, Ideology and Discourse. L.; Ν. Υ.:
Routledge, 1991. P. 94-98.
16*
243
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
традицию. Не только в интеллектуальную традицию морализаторского рассмотрения политики, но и в традицию морализации
практической политики. Здесь и моральный «императив» клинтоновских бомбёжек Югославии, и бушевская политика борьбы
с «осью зла», и блэровская апология «глобального либерального вмешательства» — всё то, что видный британский историк Тимоти Гартон Эш назвал «современным политическим телеевангелизмом» в действии151. Но к этой традиции, к моральному консенсусу по этим вопросам, устанавливаемому столь
колоссальными пропагандистскими усилиями лучших идеологических машин мира, «критическая теория» уже не применяется. Критика идеологии, как говорит поздний Хабермас, «стала
скучной». Ибо проблема сейчас — уже не «превращённое»
(«ложное»), а «фрагментированное» сознание152. Поэтому и
задачей оказывается не вскрытие властных отношений, обусловливающих «консенсус» и лежащих «позади» него, а нечто прямо противоположное — утверждение «консенсуса», закладываемого в основание моральной политики господствующего
«евангелизма».
Здесь, вероятно, мы находим практический raison d'etre
того «возвращения этики» в политическое мышление, о котором писал Касториадис и с рассмотрения которого мы начали
критический анализ современных представлений о связи морали и политики в седьмой лекции.
151
Ash Г. G. Gambling on America // Guardian. October 3. 2002 //
http://www.guardian.co.Uk/comment/story/0,3604,803315,00 html.
152
См.: Habermas 1. The Theory of Communicative Action. Cambridge:
Polity Press, 1987. Vol. 2. P. 202, 355.
244
ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОРАЛЬ
Лекция 10
До сих пор мы имели дело, по существу, с тремя основными
способами соотнесения морали и политики. Во-первых, мы говорили о том, каким образом мораль входит в мотивацию и целеполагание политического действия, будучи в свою очередь
способом реагирования на конфликтную ситуацию и формой
осмысления ее, так что в этом плане конфликт выступает «механизмом запуска» морального мышления. Иными словами,
связь морали и политики представала как то, что осуществляется
практикой действующих в политике лиц (лекции 6—7). Именно
в этом заключается мое собственное понимание связи морали
и политики. Во-вторых, мы рассматривали такие концепции политики, назвав их «экономорфными», которые готовы описать
ее как, в сущности, внеморальное явление (не обязательно имморальное). В этом смысле они разрывают связь морали и политики, отводя первой место в лучшем случае в сфере частной
(неполитической) жизни. В-третьих, мы разбирали такие теории,
назвав их морализаторскими, которые, напротив, стремятся построить политику на моральных основаниях, идет ли речь о «базовой» институциональной структуре современных либеральных
демократий или о «политике гражданского общества». В обоих
случаях мораль мыслится не действующей в политике (на уровне мотиваций и целеполагания ее участников), а применяемой
к ней как нечто ей предпосланное. Только в первом случае применение морали к политике выявляет ее «ненужность», так что
анализ политики проводится без учета «морального фактора»,
а во втором — мораль предписывает, какой политика должна
быть (лекции 8-9).
245
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Читателю судить о том, насколько убедительной оказалась
предложенная мной критика второго и третьего способов соотнесения морали и политики. Я же в дальнейшем буду продолжать
исходить из того, что применение морали к политике в любом
варианте, т. е. го или иное соотнесение их как двух внешних миров, не может не приводить и к ошибочным представлениям о
политике (вплоть до утраты понимания её differentia specifica), и
к выхолащиванию моральной теории, к потере ею того ядра, которое заключается в её обязательстве отвечать на вопрос, «что
я должен делать?», и к сведению её к академическим упражнениям на тему обоснованности моральных суждений.
Однако есть ещё одна перспектива, в которой мораль соотносится с политикой способом, отличным от всех трёх упомянутых
выше, хотя как бы сочетающим разные их элементы. С первым
способом, который мы связали с позицией политического деятеля (вновь подчеркнём: не обязательно профессионального политика), эту перспективу сближает то, что её «носитель» включён в
политическую жизнь. Он относится к ней отнюдь не «с точки зрения вечности», не отстранённо-беспристрастно, а «со своего шестка» и весьма заинтересованно — в тех благах и бедах, которые
она ему несёт или, как он считает, может принести. Однако эта
перспектива отличается от перспективы деятеля тем, что мораль не
выступает как мотив поступка и форма целеполагания, а оказывается лишь «ракурсом» рассмотрения политики и мерилом её оценки. С точки зрения практического поведения, такой человек может
вполне соответствовать тем описаниям «рационального индивида»,
которые дают «экономорфные» теории. В плане же созерцательного применения морали, он — вполне кантианец, хотя ни в коем
случае не ригорист в соблюдении долга. В политике его интересуют прежде всего следствия, а не мотивы тех, кто её «делает». Однако эти следствия он готов оценивать по меркам не сугубо личной
выгоды или ущерба, из них проистекающих, а «общего блага» или
даже «правды» (права), конечно, в его собственной интерпретации, т. е. подразумевая их (возможно, непрямое) соответствие
его интересам и ценностям.
246
Как обозначить и представить такой способ соединения морали и политики? Игнорировать его политическая теория не может по той простой причине, что он — явление .массовое, характерное прежде всего для того, что мы назвали «малой» политикой, но нередкое и при «критических моментах» «большой»
политики. Как таковое оно есть выражение политической инертности. Но как любое массовое явление оно важно для политики самими колебаниями инертной массы, могущими оказаться
решающими при определённых обстоятельствах, не говоря уже
о возможности перехода этой массы или её части к политическим действиям, когда мораль-как-оценка трансформируется в
мораль-как-мотив и форму цели. Этот четвёртый способ соотнесения морали и политики я называю «политической моралью»
в узком и специальном смысле данного понятия.
Для того чтобы уяснить «природу» политической морали,
мы пойдём от «противного», фиксируя её отличия прежде всего от четырёх явлений, с которыми она нередко смешивается
или которым её противопоставляют, а именно — профессиональной этики, политической этики, «общечеловеческой морали» (её во взаимодействии с политикой мы и рассматривали до
сих пор) и «благоразумия».
1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОРАЛЬ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА
Воспользуемся классическим дюркгеймовским описанием
профессиональной этики. Прежде всего — это правила, регулирующие поведение людей в их «особое качестве», определяемом их принадлежностью к той или иной профессиональной группе. Это — правила исполнения роли, не универсальные, с одной
стороны (не предназначающиеся для тех, кто в данную группу не
входит), а с другой — не предполагающие ту саморефлексию, то
самозаконодательство и ту свободу, которые неотделимы от
«морали как таковой». Поскольку это не «технологические инструкции» для исполнения роли (типа правил «техники безопасности»
247
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
или списка должностных обязанностей), а «общие предписания»
относительно пределов допустимого для членов данной группы,
постольку профессиональную этику можно считать обобщённым
выражением условий воспроизводства этой группы, рассмотренных с её собственной точки зрения, т. е. её «техникой безопасности» как целого. На уровне профессиональной этики мы можем
иметь только «моральный партикуляризм», т. е. множество нетождественных и несводимых к общему знаменателю (за исключением самых пустых банальностей) «правил безопасности» разных профессиональных групп153. Профессиональная этика медиков, юристов, офицерский кодекс чести и т. п. служат тому
хорошими примерами.
Заметим попутно, что знаменитая веберовская «этика ответственности» ни в коей мере не может считаться профессиональной этикой политиков как особой группы или корпорации. Она —
глубоко личный и, по сути, трагический выбор человека, оказавшегося в положении политика и принимающего на себя бремя
этого положения в свете того понимания «судьбы» современного мира, для постижения которого отнюдь не обязательно быть
политиком. В то же время к группе профессиональных политиков
можно принадлежать, придерживаясь противоположной ей «этики убеждений», или — что ещё удобнее — не придерживаясь никаких убеждений и не испытывая никакой ответственности154.
Политическая мораль отличается от профессиональной этики по всем указанным параметрам. Она не есть кодекс поведе153
См.: Durkheim E. Professional Ethics and Civic Morals. Tr. C. Brookfield.
L; N. Y.: Routledge, 1992. Ch. 1 (особенно р. 3-8).
154
Некоторые исследователи полагают, что у политиков (в отличие от
некоторых других профессий) вообще не может быть профессионального кодекса. Они аргументируют это тем, что политика сама задаёт рамки и законы для всех остальных видов деятельности (тем самым обусловливая их внутренние кодексы), а для неё самой ничто не может быть внешним ограничителем (см.: Buckler S. Dirty Hands: The Problem of Political
Morality. P. 18-20). Я считаю данный аргумент слабым. Он смешивает
248
ния, присущий какой-то определённой (профессиональной или
иной) группе. Политическая мораль универсальна в том смысле,
что всегда выступает от имени «всех добропорядочных (разумных, нормальных и т. п.) людей» и выносит суждения о делах, касающихся всех, каковыми и являются политические дела в собственном смысле слова. Она тем и отличается от политического
морализаторства, что если и судит о том или ином политике, то
именно в его качестве политика, а не частного лица, т. е., к примеру, она станет судить о том, прав или неправ он был, решив
бомбить другое государство или повысить налоги, а не о том, насколько допустимо для него изменять своей жене с молодыми
практикантками. Политическая мораль претендует на то, чтобы
давать предписания по «технике безопасности» нациям, регионам
мира, человечеству, а никак не профессиональным группам.
С точки зрения политической морали, «моральный плюрализм» — не естественное состояние, а то, что нужно преодолеть
как сумму заблуждений. Плюрализм был естественным для профессиональной этики именно потому, что один профессиональный
кодекс, по существу, безразличен к другому, не претендуя на какую-либо общую для всех них истину. «Хорошо или плохо нам сейчас начинать войну?», «Правильно или неправильно решение о приватизации земли?» — эти и многие другие похожие вопросы не допускают безразличного плюрализма точек зрения. У них может
быть только один верный и один неверный ответ, причём любой из
них будет иметь огромные последствия для каждого из нас.
политику (по существу, «большую» политику) как исторический процесс,
генерируемый всем обществом и охватывающий всё общество, с исполнением одной его частной функции, которая закреплена за профессиональными политиками. Исполнение данной функции тоже предполагает
соблюдение присущих ей «правил игры». Для разных условий и под разными углами зрения их убедительно описали Макиавелли (в «Государе»)
и многократно уже цитировавшийся Шумпетер. Изложенные ими правила и принципы, вероятно, и можно считать «профессиональной этикой»
политиков.
249
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Огромные, но совсем не одинаковые. Ответ, верный в одной перспективе, будет представать ложным в другой. Политическая мораль оказывается плюральной в любом обществе, но
вопреки её собственной необходимой для неё как морали установке на «универсальность истины». Поэтому «моральный плюрализм» на уровне политической морали — в отличие от уровня
профессиональной этики — оказывается конфликтным, а не безразличным. Здесь мы приходим к пониманию важнейшего обстоятельства. Политическую мораль делает политической не тот
факт, что она рассуждает о «политических предметах», а то, как
она их рассматривает и к каким практическим следствиям ведут её рассуждения. Рассуждать о «политических предметах»
можно совершенно аполитично, т. е. видя их неполитическими,
как это и делает морализаторство. Политическая мораль, напротив, видит их именно политическими, как res publica, как «общее
дело», касающееся всех. Право на «истинное» понимание этого
«общего дела» нам даёт наша зависимость от него. Но, конечно,
другие могут утверждать такое же право, хотя мы не можем
признать его таким же, не отказываясь от своего. Коллизия равных прав не может иметь правового решения. Возможно только
политическое решение. Это — то следствие, которое делает политическую мораль политической155.
155
Здесь я должен сделать некоторые уточнения относительно моей
концепции «политической морали», изложенной в более ранних публикациях и вызвавшей критику оппонентов (см.: Капустин Б. Г. Различия и связь
между политической и частной моралью // Вопр. философии. 2001. № 9;
Дегтярёва М. И. Размышления по поводу «народной перспективы» // Полис. 2002. № 4; Бикбов А. Г. Мораль в политике: насилие над господствующими // Полис. 2002. № 4). Не имея сейчас возможности углубляться в
детали этой полемики, отмечу лишь следующее.
В тех работах я связал политическую мораль с «народной перспективой», т. е. с тем, как оценивают действия политиков и как относятся к таким действиям подвластные и управляемые. Никакой иной коннотации, кроме этой, никакого отождествления «народа» с «гегемоном», «сувереном»,
«нацией» у меня не было. Соответственно, и оценки, выносимые в «народ-
250
2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОРАЛЬ
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭТИКА
Существует солидная восходящая к Гегелю традиция, различающая мораль и этику не только как должное — в первом
случае и благое — во втором, но и как, соответственно, установку сознания и деятельно-практическое отношение к действительности, в котором в институтах «опредмечиваются» ценности
человека в той же мере, в какой он осваивает и усваивает эти
ценности посредством участия в их функционировании и изменении. Удачно конкретизирующим такое общее различение морали и этики представляется описание политической этики, данное Шанталь Муфф: политическая этика «занимается нормативными аспектами политики, ценностями, которые реализуются
посредством коллективных действий и благодаря общей принадлежности к некоторой политической ассоциации. Это — предмет, который необходимо отличать от морали, занимающейся индивидуальными действиями. В современных условиях, в которых
ной перспективе», не обладали достоинством «высших истин» и той безусловной правоты, какую предполагает, к примеру, Руссо у определений
«общей воли». Это — ситуативные оценки, выражающие понимание потребностей и нужд, а отнюдь не постулатов чистого «практического разума». Но эти оценки, во-первых, обобщённые, не совпадающие непосредственно с тем, что «мы» как специфическая группа хотим «здесь и сейчас»,
а во-вторых, они «моральны» содержащейся в ней критикой структур господства и угнетения. Последняя присутствует в этих оценках не в силу неких «врождённых» добродетелей «народа», а вследствие социологических
и политических характеристик его положения в обществе как тех, кем управляют и над кем властвуют.
Мне кажется совершенно неверным утверждение тех, кто полагает, будто «мораль — достояние низших позиций, политический интерес —
высших» (Бикбов, с. 117). Не ясно, почему находящиеся на «низших позициях» именно как «группа» не могут иметь политический интерес хотя бы
в том, чтобы их не резали и не грабили (или резали и грабили меньше). Равным образом трудно представить какой-либо реальный политический интерес, который бы не легитимировался моральными оценками, более того,
не был бы обеспечен ими с точки зрения уверенности его носителей в сво-
251
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
из-за различия между частным и публичным "индивид" и "гражданин" не совпадают, необходимо понимать автономный характер политических ценностей. Это и есть задача политической
философии, которую следует отличать от моральной философии»156. Какие основные различия между политической моралью и политической этикой фиксирует данная формулировка?
Первое. Политическая этика — это нормативные ориентиры действия, причём действия коллективного. Политическая мораль — нормативные ориентиры мышления, причём мышления
индивидуального. Конечно, моральные ориентиры и моральное
мышление, как уже было сказано, приобретают политическое
значение лишь тогда, когда они совпадают или близки у достаточно большого числа людей, а сами эти совпадение или близость социологически объяснимы тем, что люди занимают одну
позицию в общественной структуре или по каким-то причинам
ассоциируют себя с ней. Тем не менее совпадение или сходство
индивидуальных ориентиров отнюдь не тождественны единству
ей правоте. Политический интерес, оторванный таким образом от морали,
есть интерес уже обречённых и не способных к решительной самозащите
властвующих групп. Но верно то, что мораль властвующих имеет тенденцию утрачивать критическую дистанцию от действительности, становиться
«позитивным» описанием статус-кво и укоренённых в нём условий господства. Таким образом она трансформируется в своего рода «профессиональную этику» господствующих и утрачивает свой мобилизационный потенциал, необходимый для политического действия.
Отметив это, я должен признать, что выражение «народная перспектива» в данном контексте является всё же неудачным. Оно затемняет
плюральность «перспектив» самих «низов», обобщение которых — в тех
случаях, когда это происходит, — особая проблема, несводимая к «политической морали». Поэтому данное выражение создаёт совершенно ненужную иллюзию некоего метафизического (типа «общей воли») или
«органического» (в духе консерватизма) единства «субъекта политики».
Я благодарен М. И. Дегтярёвой за то, что она своей критикой обратила моё
внимание на это обстоятельство.
156
Mouffe С. On the Articulation between Liberalism and Democracy //
Mouffe C. The Return of the Political. L; N. Y.: Verso, 1993. P. 113-114.
252
ориентиров организации — носителя коллективного действия
(единство само предполагает сходство, но также и различие индивидуальных ориентиров, однако не сводится к ним).
Второе. Ориентиры коллективного действия так или иначе
(даже в случае его неудачного исхода) запечатлеваются на институциональных структурах общества и в этом смысле «опредмечиваются». Они оставляют след в той «материи» общественной жизни, которая на её очередном витке становится новым
предметом индивидуального мышления с его (перестраивающимися) нормативными ориентирами. Политическая мораль сама
по себе этой способностью «опредмечиваться» не обладает
(хотя она может влиять на обладающие такой способностью
коллективные действия).
Третье. Носителями политической морали и политической этики выступают разные субъекты. В первом случае это — «частные
лица», во втором — «граждане» (не в юридическом смысле «обладателей прав», а в политико-философском смысле «деятельных
участников общего дела»; второе определение акцентирует реальную способность делать то, что в первом определении выступает в лучшем случае как абстрактная «допустимость»). Важнейшая особенность политической морали заключается в том, что её
практикуют те, кто судят о политике, не покидая приватной сферы
(именно поэтому они политически инертны). Не случайно Макиавелли, которого можно считать родоначальником теории политической морали, связывал её именно с состоянием «развращённости» народа, уже не способного самостоятельно отстаивать свои
интересы и свою свободу и возлагающего попечение о них на профессиональных политиков157. Политическую этику, напротив, практикуют те, кто — в рамках данного коллективного действия — вышел из сферы приватности на арену публичности.
157
Подробнее об этом см.: Капустин Б. Г. Различия и связь между политической и частной моралью. Ч. 1 «Макиавелли: постановка проблемы»,
а также отличное исследование М. А. Юнуса (см.: Юнус М. А. Этика Макиавелли. М.: Наука, 1990. С. 72 и далее).
253
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Но, отметив всё это, мы остаёмся с вопросом: разве может политическая этика «снимать» политическую мораль в том
смысле, как это происходит у Гегеля? Конечно, если наш интерес состоит не в логическом развитии категорий, а в понимании
того, как живёт общество. Мыслимо ли — даже в высших точках революционной борьбы, — чтобы все члены общества превращались в «граждан»? Разве не происходит так, что после минования таких точек «граждане» вновь становятся «частными
лицами» и начинают судить о политике с тех позиций, которые
характерны для политической морали? Как вообще можно понять «малую» политику, придерживаясь исключительно логики
политической этики?
В том и дело, что политическая мораль и политическая этика связаны логикой не «однократного» перехода первой во вторую, а гораздо более сложными отношениями сосуществования, частичного перетекания одного в другое и обратно, столкновений и взаимодополнений, причём всё это обусловлено не
самодвижением категорий, а ситуативно меняющимися обстоятельствами. Внятное описание этих процессов способна дать не
общая политическая или моральная философия (признавая то
различие между ними, на котором настаивает Муфф), а только теоретически осмысленная история.
3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОРАЛЬ
И «ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ» МОРАЛЬ
Как уже отмечалось ранее, связь этих двух явлений нередко понимают так, что политическая мораль есть специальное
приложение «общей» морали к сфере политики. Познание своеобразия политической морали в таком случае развёртывается
как изучение того, каким образом «природа» политических
предметов обусловливает особенности их оценивания моральным сознанием. Игнорирование этой «природы» и отказ вносить
соответствующие корректировки в логику моральных суждений
сделали бы «общую» мораль откровенно иррелевантной поли-
254
тике, т. е. низвело бы её именно к никчёмному морализаторству «по поводу» политики158.
Однако такой подход по-прежнему не позволяет увидеть в
политической морали «самостоятельное» по отношению к «общей» морали собственно политическое явление, специфика
которого в решающей мере определена его местом и ролью в
самой политической жизни, а не концептуальными механизмами приложения морали к политике, т. е. способом бытия тех,
кто её практикует, а не уточнением мыслей тех, кто размышляет о моральных проблемах политики. Связь политической морали с «общей» моралью не «генетическая», а «аналогическая»,
т. е. она заключается не в производности первой от второй, а в
том, что первая использует некоторые характерные для второй
приёмы формирования суждений и, отчасти, присущий ей понятийный аппарат.
Чтобы прояснить это, нам придётся уточнить, что мы имеем
в виду под «общечеловеческой» моралью. Сделать это — вопреки тому, что представляется на первый взгляд и что мы «ощущаем» интуитивно, — совсем не просто. Не только потому, что в
158
Один из наиболее продуманных вариантов такого подхода мы находим у известного британского этика Бернарда Уильямса. Он методологически последовательно различает вопросы «Что мы морально хотим от
политики?» и «Каковы правильные решения моральных проблем, встающих в сфере политики?». Политическая мораль развивается только в русле
поисков ответа на второй вопрос. Само направление этих поисков предопределено такими неустранимыми характеристиками политики, как наличие
власти и принуждения, конфликтов, не имеющих универсального и морально безупречного способа разрешения, несводимость «особых отношений»
между людьми, благодаря которым формируются политические организации, к всеобщей форме их отношений друг к другу как к «целям» и
представителям «человечества», неизбежное порой (и даже морально
оправданное!) превалирование соображений блага над соображениями
права и т. д. Соответственно, и общим ориентиром политической морали может быть не «торжество доброй воли» и соблюдение морального
долга, а «уменьшение моральных издержек» (любой) политики (см.:
Williams В. Politics and Moral Character // Public and Private Morality / Ed.
S. Hampshire. Cambridge: Cambridge University Press, 1978).
255
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
специальной литературе мы встречаем множество, причём нередко несовместимых, определений морали, а ещё и по той причине, что содержательных определений её, отвечающих необходимым требованиям логики, очень мало. С моралью, похоже,
получается то же, что мы уже заметили в отношении сократовских попыток определить добродетель: чем строже она определяется, тем более пустым оказывается определение и тем ближе оно становится к тому, что все мы (а не только теоретики)
«и так знаем» уже на уровне «здравого смысла».
В самом общем виде под моралью понимают нормативные
регуляторы поведения человека, которые имеют неинституциональный характер, представляют собою оценки (поступков, намерений человека, ситуаций...) в категориях «должное — недолжное», «добро — зло», «право — неправо», обеспечены только «идеальными санкциями» (угрызениями совести или
общественным порицанием, хотя «идеальность» последнего
уже сомнительна), подразумевают сугубо личную ответственность данного человека за принимаемые решения и их исполнение и приводятся в действие его собственным сознанием. С такими регуляторами также связывается представление об их универсальном характере, т. е. о том, что они должны «работать»
всегда, везде и независимо от конкретных обстоятельств, в которых находится данный человек. Это — то понимание «морали вообще», которое, в частности, можно найти у известного
российского этика О. Г. Дробницкого159 и которое мне представляется наиболее адекватным.
Дробницкий, правда, вводит в это понимание «морали вообще» также идею автономии личности, её морального самозаконодательства и неотделимой от него саморефлексии160.
159
См.: Дробницкий О. Г. Понятие морали: историко-критический
очерк. М.: Наука, 1974. С. 264-283.
160
Фокусировка определения морали именно на этом признаке наглядно представлена в другой работе Дробницкого (см.: Дробницкий О. Г.
Моральная философия: Избр. труды. М.: Гардарики, 2002. С. 354-355).
256
Этот признак наряду с упором на долг специфичен уже для
«кантовской морали» и никак не характерен, скажем, для утилитаризма. Здесь мы имеем очень наглядный пример тех попыток содержательного обогащения понятия морали и включения
в него элементов, действительно важных для уяснения того, как
«работает» моральное сознание и в чём состоит его специфика по сравнению с другими видами сознания, которые тут же
делают это понятие не общим, а всего лишь частным. Оно становится пригодным для описания только одной из модальностей,
в которых могут выступать «нормативные регуляторы» поведения человека, обладающие перечисленными выше признаками.
В этом пункте мы подходим к очень важному выводу, который позволяет пролить свет и на различия между политической и «общечеловеческой» моралью. Видов последней — с точки зрения их «оснований», главных «принципов», структуры и логики характерных для них оценочных суждений, отношения к
действительности (в смысле утверждения своей независимости
от неё или признания тех или иных форм и степеней зависимости), ориентирования мышления человека (на саморефлексию
или калькуляцию пользы «для всех», на самосовершенствование
или получение удовольствий, которые, кстати, отнюдь не обязательно понимать как низменные) и т. д. — много. Вполне обоснованно в связи с этим говорить о множественности «нормативных моделей» морали (моральной рациональности)161. Если
политическая мораль есть приложение к политике «общей»
морали, то какой именно? Или нам следует думать, что каждый вид «общей» морали пускает свой «отросток» в сферу
политики, в которой репродуцируется соответствующее число видов политической морали?
Но такой подход был бы явным проявлением догматизма и
«диктатуры» теоретической мысли над действительностью.
161
См.: Апресян Р. Г. Нормативные модели моральной рациональности // Мораль и рациональность / Отв. ред. Р. Г. Апресян. М.: Ин-т философии РАН, 1995.
17 Выбор
257
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Множественность видов политической морали, о которой шла
речь выше, образуется отнюдь не вследствие проекции на политику философски систематизированных и логически обработанных концепций морали, а в силу разности жизненных позиций тех сил, которые дают моральную оценку политических явлений или (учитывая уточнение Уильямса) разное понимание
моральных проблем политики. Такие оценки и такое понимание
никогда не выстраиваются в строгой логике той или иной философской концепции морали. Мало сказать, что зачастую они
оказываются «смешанными», т. е. несут в себе элементы и
«кантовской», и утилитаристской морали, и тех «нормативных
моделей моральной рациональности», о которых пишут философы, аналитически представляя их в чистом виде (см. сноску 161). Для понимания политической морали особой и важной
проблемой является то, каким образом разные политические
ситуации и коллизии актуализируют или, точнее, активизируют
в сознании разных групп людей «коды» тех или иных видов морали в качестве преобладающих в данный момент. Почему, скажем, то же рабство чернокожих оценивалось сознанием основной массы средних классов «цивилизованных» стран Запада ещё
в XIX веке в категориях утилитаристской морали, т. е. под углом
зрения соотношения «общественной» пользы и вреда от его сохранения или отмены, тогда как позднее оно стало восприниматься в духе «кантовской морали» в качестве абсолютно морально недопустимого162? Ответ на данный вопрос невозможно
162
Незадолго до Гражданской войны в США Генри Торо писал о том, что
реальными противниками аболиционистов, к числу которых принадлежал он
сам, являются не политические деятели Юга, а «здешние (живущие в Новой
Англии. — Б. К.) сто тысяч торговцев и фермеров, которым торговля и земледелие дороже человечности»; они «в принципе» осуждают рабство, но
«откладывают вопрос о свободе до решения вопроса о свободной торговле»
(Торо Г. О гражданском неповиновении // Высшие законы / Отв. ред.
Н. Е. Покровский. М.: Республика, 2001. С. 263-264). Известно, что долгие дебаты во французском парламенте об отмене рабства в колониях своим цент-
258
найти в сколь угодно философски совершенных концепциях
«кантовской» или утилитаристской морали. Его способен дать
только политический анализ соответствующих исторических ситуаций, функцией которых был тот или иной тип морального
сознания соответствующих общественных групп в зависимости
от их позиций в этих ситуациях.
Этот же анализ может дать ответ на другой очень существенный вопрос (в общем плане уже рассмотренный нами в
шестой лекции): какие явления, отношения, институты и почему
оказываются в данном обществе и в данной исторической ситуации моральными проблемами, а какие — нет. Что именно
оценивает моральное сознание и как именно оно это оценивает, не зависит от самой «нормативной модели» того или иного
вида морали. Мораль упорядочивает, систематизирует, проясняет наше уже имеющееся, так сказать, предпонимание какого-то явления (отношения, института) как проблемы. Что особенно важно для участия в политике, а не всего лишь оценивания её, это то, что она способна придать решительность и
бесповоротность нашему неприятию данного явления, перевести исходную «проблематизацию» его в осознанный долг его
ликвидировать или преобразовать. Именно поэтому мораль
долга (в её основе, но не в практических экспликациях — «кантовская мораль») обладает «избирательным сродством» — в
веберовском смысле — с политикой действия и функциональна для него, прежде всего в условиях «большой» политики.
ральным пунктом имели вопрос об определении размеров компенсации за
ущерб, наносимый принимаемым законом рабовладельцам. О компенсации
ущерба рабам даже не упоминалось (о моральных импликациях этого факта подробнее см.: Salmi 1. Violence and Democratic Society. L.: Zed Books,
1993. P. 7). Всё это любопытно сравнить с тем, как в нынешних нормативных
теориях демократии, видящих в свободных дискуссиях по общественным
проблемам её основной механизм, суждения о допустимости дискриминации чернокожих (или женщин) даже не считаются достойными уважения и
обсуждения (см., к примеру: Guimann A., ThompsonD. Op. cit. P. 3).
259
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ПОДХОДЫ
Поэтому мы и сосредоточивались преимущественно на ней в
предыдущих лекциях. В отношении же политической морали и
связанного с ней инертного отношения к политике о таком «избирательном сродстве» говорить нельзя.
Зависимость того, что и как рассматривает мораль, от нашего предпонимания ситуации в качестве её участников в рамках общей философской этики затушёвывается и превращается в так называемую проблему релятивизма морали. «Релятивисты» аргументируют относительность (неуниверсальность,
неабсолютность норм морали) ссылками на то, что на «просторах истории» практически любые принятые нами моральные
предписания, включая и те, которые содержатся в Декалоге как
«ядре морали», у каких-то народов или в какие-то эпохи не только не соблюдались фактически, но заменялись нормами, предписывавшими противное*63. На мой взгляд, этот аргумент слаб.
Он смешивает содержание оценки (что и как оценивается) с самими «нормативными регуляторами» и их «внутренними» меха'" Американский этик Джон Хартланд-Сван элегантно и красочно показывает это даже относительно табу инцеста, которому в Древнем Египте противостояла норма, предписывавшая фараонам брать в жёны своих
сестёр, заповеди «не убий!», сфера действия которой всегда ограничивалась культурно определёнными представлениями о том, кого считать «человеком» (себе подобным), запрета «возжелать жену соседа своего»,
абсолютный характер которого во многих культурах снимался разнообразными ритуальными и иными практиками, и т. д. В этой связи ХартландСван приходит к выводу, в чём-то напоминающему те соображения, которые излагаются в данной лекции: центральная проблема теории морали —
что делает какие-то предметы морально значимыми (в позитивном или
негативном смыслах), а другие — морально безразличными, но не то,
каковы основания, форма и структура моральных суждений (см.:
Hartland-Swann L The Moral and the Non-Moral // Problems of Moral
Philosophy. 3rd edition / Ed. P. W. Taylor. Belmont (CA): Wadsworth
Publishing C°, 1978. P. 22-37). Я признаю решающее значение этой «центральной проблемы», но считаю, что ею следует заниматься другой теории, тогда как теория морали должна продолжать изучать именно свой
предмет — «основания, форму и структуру моральных суждений».
260
низмами действия. В этом смешении как раз и обнаруживают
себя догматизм и «диктатура» теоретического сознания, проявляющиеся в претензии «всеобщим образом» содержательно
кодифицировать действительность (содержательно определить
должное и недолжное). Когда же ложность такой претензии
становится очевидной, теоретическое сознание впадает в нарциссическую медитацию о собственной относительности (погружаясь в проблему релятивизма) вместо предметного изучения
того, каким образом действительность кодифицирует сама
себя, используя при этом и для этого формы и структуры нормативного мышления.
Последние же сами по себе не несут ни грана релятивизма.
Они дают формы абсолютных оценок, всякий раз представляя
их как универсально значимые и требуя безусловно руководствоваться ими в практических поступках. То, что эти оценки всегда относятся к некоему конкретному историко-культурному
содержанию и значимы только в его рамках, свидетельствует не
об «относительности» морали, а о независимости от неё этого
содержания, которое ею оперирует.
Подытоживая всё сказанное, постараемся по возможности более отчётливо зафиксировать отличия политической морали от «общечеловеческой», понимая её в указанном выше формальном смысле, т. е. не связывая её ни с каким определённым
содержанием моральных суждений.
Политическая мораль тоже представляет собою нормативные регуляторы. Она «предписывает» политикам делать одно,
а не другое. Но в том и её главное отличие от «общечеловеческой» — требования политической морали адресуются не себе,
т. е. не лицу, выносящему политико-моральное суждение, а некой особой группе лиц, отделённой от «нас» границей, пролегающей между сферами приватности и публичности. Иными
словами, это — требования для других. (К примеру, если первой нравственной обязанностью главы государства является забота о безопасности граждан, как сейчас — в условиях вселенской борьбы с терроризмом — говорят особенно часто, то сие
261
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
означает именно то, что это не наша обязанность.) Здесь конечно же нет и малой толики «самозаконодательства». Напротив,
«мы» «законодательствуем» для других. Следовательно, не мы,
а другие несут ответственность за исполнение требований политической морали. Но судить о моральном качестве такого исполнения будет не их, а «наше» нравственное сознание. «Идеальные санкции» за неисполнение предписаний политической
морали оказываются в наших руках. Отметим попутно, что специфика демократии как политического режима заключается в
данном плане как раз в том, что для «идеальных санкций» созданы институциональные условия конвертации в «материальные
санкции» — «трибунал общественного мнения» с определённой
регулярностью трансформируется в национальную «коллегию
выборщиков», т. е. в «электорат».
Это в свою очередь порождает другое важное отличие политической морали от «общечеловеческой». Первая всегда авторизована, вторая представляет анонимный «разум вообще»
или его столь же «бесхозные» заменители в других видах морали («моральное чувство» у сентименталистов и т. д.). Но хотя авторство в случае политической морали всегда очевидно и тем,
кому её предписания предназначаются, и тем, от кого они исходят, форма политико-моральных суждений остаётся универсальной, а выраженные в них оценочные суждения несут значения добра и зла, должного и недолжного «вообще». (Возвращаясь к примеру о нравственной обязанности главы государства
заботиться о безопасности граждан, мы видим, что в этом требовании содержится лишь общая оценка такой заботы как чегото должного и хорошего и при этом гасится конкретизация того,
что речь идёт именно о безопасности россиян от и против чеченских сепаратистов или о безопасности американцев от и против боевиков «Аль-Каиды». Разумеется, такую конкретизацию
можно проводить и глубже, выделяя среди и россиян, и американцев более дробные группы с их специфическими представлениями об источнике опасности и, соответственно, о том, от
чего именно их обязан защищать глава государства.)
262
Таким образом, политико-моральные суждения универсальны, но не в том смысле, в каком универсальна «общечеловеческая» мораль. Универсализм последней направлен на мотивацию — все люди должны иметь её в качестве «руководства к действию»; универсализм первой направлен на следствия — все
действия некоторой группы людей — политиков, в чём бы эти
действия ни заключались, должны давать определённые результаты (безопасности, благополучия, защиты ценностей и т. д. данного сообщества). Вновь повторим: универсальную форму требованию этих следствий придаёт то, что оно не есть непосредственное отражение конъюнктурных расчётов нашей
сегодняшней выгоды. Связь между «расчётами» и «требованием» опосредована «принципами», как содержательно-этическими (представлениями о благе, присущими данной культуре как
целому, а не только «нашей» группе), так и формально-моральными (схематикой моральных оценок как таковых), посредством
которых производится «сублимация» частных конъюнктурных
интересов в нормативные суждения о правильном и хорошем.
Но на соотношение политической и «общечеловеческой»
морали можно посмотреть и с другой стороны. Подозрительность и даже ущербность первой по меркам второй, обычно видят в том, что политическая мораль нередко готова оправдать
то, что, как кажется, категорически запрещено «общечеловеческой» моралью — убийства, обман, насилие и т. д. Политическая мораль выглядит «беспринципной», руководствующейся
аморальным правилом «цель оправдывает средства» и в экстремальных случаях деградирующей в откровенную апологетику
того или иного политического курса и даже совпадающей с
ним, как это происходит в ленинском определении нравственности: «Нравственность — это то, что служит разрушению старого
эксплуататорского общества и объединению всех трудящихся
вокруг пролетариата...»164.
'" Ленин В. И. Задачи союзов молодёжи // Мораль как её понимают
коммунисты. М.: Политиздат, 1977. С. 111.
263
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Конечно, в таких рассуждениях есть немало искусственного
и не заслуживающего серьёзного внимания. На пресловутый упрёк
об оправдании (грязных) средств целью можно вместе с Юмом
ответить, что в плане нравственности соотношение цели и средств
есть псевдопроблема, ибо «выбирающий цель выбирает и средства». (В техническом же плане, т. е. как забота не нравственного, а инструментального разума, оптимизация средств, конечно,
есть особая проблема.) Только морализированию, заведомо не
имеющему отношения к реальному действию, мнится, будто
связь целей и средств выбирается произвольно, так что для осуществления одной и той же цели могут быть подобраны как морально дозволенные, так и недозволенные средства. В связи с тем
же ленинским определением нравственности гораздо уместнее
подумать о том, нравственна ли цель, понятая как «разрушение
старого общества» и «объединение трудящихся вокруг пролетариата»? А если это не цель, а лишь средства для какой-то неназванной цели, то определение нравственности через средства является неверным по существу, т. е. вообще не является определением
нравственности. Самое же примечательное состоит в том, что
морализаторство, полагающее подбор средств к цели делом произвола, категорически уклоняется от какого-либо разговора о
средствах, ведущих к тому, что оно считает морально достойными целями. У того же Канта нельзя найти никакого серьёзного обсуждения средств, ведущих к достижению «царства целей». Если
же за таковые принимать его «правовое государство», не говоря
уже о «необщительной общительности» людей и схватке их эгоизмов, то приходится признать, что для моральной цели подобраны
весьма аморальные средства (см. конец третьей лекции в данной
книге и другие мои работы165).
Но даже если мы устраним такие аргументы, подозрения относительно ущербности политической морали остаются, и к ним
стоит присмотреться внимательно. Да, в каких-то случаях она оп165
См.: Капустин Б. Г. Критика политического морализма // Вопр.
философии. 2001. № 2.
264
равдывает убийство врагов. Враги — это не «мы». Политическая
мораль распространяется на «нас» так же, как «общечеловеческая» мораль распространяется на человечество, но не далее того,
т. е. тоже на «нас», но как бы забывая о границах этого «мы». Однако без границ не существует никакое сущее, никакое «мы». Исторически меняющееся сущее, в том числе «мы как человечество», не может не передвигать свои границы. «Общечеловеческая» мораль ничего об этом не хочет знать и имеет право не знать,
поскольку, как мы видели, оставаясь сама собой (оставаясь в собственных рамках), она не связана ни с каким определённым содержанием, т. е. ни с какими действиями и их следствиями.
По понятным причинам политическая мораль не может позволить себе такую роскошь. Различая «нас» и «их», на кого она
не распространяется, политическая мораль вынужденно раскрывает то, что «общечеловеческая» мораль имеет привилегию
скрывать, не задумываясь о том, чему противостояло «человечество» на тех или иных этапах истории. (То есть не думать о том,
почему в одном случае оно совпадало с «эллинством», нравственно обосновывая «естественное рабство» варваров, в другом — с «христианским миром», соответствующим образом
третируя язычников где-нибудь в Перу или Гвинее, в третьем —
с «европейской цивилизацией», ещё в конце XIX века устами тончайшего кантианца Вильгельма Виндельбанда морально одобряя
разрушение «диких» неевропейских обществ164.) С той «другой»
стороны, с которой мы сейчас рассматриваем соотношение политической морали и «общечеловеческой», открывается то, что
первая подозрительна и «нечиста» именно потому, что обнаруживает скрытое условие безупречности и «чистоты» второй —
«замалчивание» того другого, только через оппозицию которому конституируется «общечеловеческая» мораль в том же смысле, в каком через такую оппозицию создаётся любая определённость, умопостигаемая или феноменальная. Здесь мы открываем
166
См.: Виндельбанд 8. О принципе морали // Виндельбанд В. Избранное: Дух и история. М.: Юристъ, 1995. С. 241.
265
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
фундаментальное различие, но в то же время и сходство политической морали и «общечеповеческой».
Что же касается аморального оправдания убийства политической моралью, то это выражение не вполне точно. Нет морального оправдания убийства. Есть нераспространение морального суждения на некие предметы, не считающиеся морально значимыми, поскольку они не принадлежат к сфере, очерченной
понятием «мы». Строго говоря, врага не «убивают» — над ним
«одерживают победу». Это есть акт, получающий моральную
оценку, причём позитивную. Точно по той же логической схеме,
по которой, с точки зрения «общечеловеческой» морали, нравственному суждению подлежит не убийство напавшего на человека волка, а победа человека над ним, т. е. оцениваются исключительно явления воли, мужества, самообладания человека и
иных присущих ему добродетелей. Хотя, конечно, в связи с популярными сейчас на Западе разговорами о «правах животных»
такой подход к ним как к тому, что находится вне «нас», может
быть пересмотрен167. Границы «общечеловеческого мы» могут ещё немного раздвинуться, оставляя роль другого более
примитивным или, напротив, сверхчеловеческим существам
(на роль которых пока могут подойти за неимением лучшего и
«террористы»). Хотя политическая мораль всё же озаботилась
бы и в этом случае тем, как вести себя при нападении волков,
если наделение их «правами» не приведёт ни к исчезновению их
популяции, ни к их превращению в укрупнённых такс.
Невозможность распространить моральные суждения за
пределы «мы» нередко воспринимается чуть ли не как ужасное
санкционирование неограниченного насилия по отношению ко
всем другим. На самом деле ни чисто логически, ни в практичес167
Среди работ общего плана по этой проблеме следует отметить:
Cavalier! P. The Animal Question: Why Nonhuman Animals Deserve Human
Rights. Tr. C. Wallard. Oxford: Oxford University Press, 2001; Cohen C.,
Regan J. The Animal Rights Debate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers,
2001 ; Clark S. R. L Animals and Their Moral Standing. L; N. Y.: Routledge, 1997.
266
кой жизни второе не вытекает с необходимостью из первого.
Из первого следует лишь то, что отношения с другими подчиняются иным регуляторам, чем мораль. В том числе «благоразумию», о котором мы скажем ниже. И эти регуляторы могут в
действительности ограничивать и контролировать насилие ничуть не менее эффективно, чем мораль. Ведь и в настоящее
время, когда животные ещё не наделены «правами», к их охране принимаются меры, нередко более эффективные, чем то,
что делается нами для защиты жизни миллионов голодающих и
больных в «третьем мире», не говоря уже о тех жертвах геноцида и репрессий, отстаивать отношение к которым как «к целям» наша мораль должна была бы в полную силу168. Ужасным
нераспространение морали на других представляется именно
теории морали. Она, что отмечалось выше, догматически
изображает мораль как дающую предписания жизни, без которых та неизбежно деградирует в зверство и варварство, вместо того чтобы осмыслить мораль в качестве одной из функций
самоорганизации жизни, осуществляемой в пределах отведённой ей «сферы ответственности».
4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОРАЛЬ И БЛАГОРАЗУМИЕ
По ряду признаков политическая мораль напоминает «благоразумие» или «рассудительность» (греческий pnrones/s) — ту
этическую и политическую добродетель, которая играла столь
видную роль в классической традиции политической мысли (особенно в аристотелевско-томистском её течении) и которая в
"* Корнелиус Касториадис со злой иронией, но обоснованно писал о
том, что, судя по колоссальному вниманию современных этиков к таким
проблемам, касающимся единиц, как искусственное осеменение, и гораздо меньшей моральной озабоченности трагедией миллионов в «третьем
мире», моральные универсалии начинают «работать» лишь выше известного (по документам ООН) порога национального дохода в расчете на душу
населения (см.: Castoriadis С. The Ethicists' New Clothes... P. 112-113).
267
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
специфических интерпретациях активно возрождается в новейшей
литературе, так что некоторые исследователи начинают рассматривать её в качестве «центральной политической ценности»169.
Под «благоразумием» классическая традиция подразумевала идущее от опыта понимание особенного. Оно представляло собой вместе с тем «конкретизацию» представлений о «конечных целях» жизни человека применительно к действиям, которые надлежало предпринять «здесь и сейчас», т. е. в условиях
некой особенной и меняющейся ситуации при «негарантированности» результатов этих действий170.
Аристотель и его продолжатели систематически отличали
«благоразумие» от «знания» (ep/s/eme), с одной стороны, и от
«практических навыков» (techne) — с другой. «Знание» — это то,
что относится к области универсальных и неизменных сущностей
и потому не зависит ни от меняющихся эмпирических обстоятельств, ни от решений, верных или неверных, принимаемых познающим (при неверных решениях у него просто не оказывается знания). «Практические навыки» — это то, что позволяет манипулировать внешними нам объектами безотносительно к
этическим целям деятельности. К тому же «навыки» не предполагают понимания ситуации, в которой ими пользуются, в целом.
Таким образом, «благоразумие» не есть «знание» — даже в
смысле дедуктивного «приложения» его к данной ситуации.
(«Знать», по Аристотелю, можно не только сущность вещей, но
и «блага», так что говоря тут о «знании», мы должны иметь в виду
не только «физическое», но и «этическое», а также «метафизическое» знание.) Опыт — нередуцируемое и самостоятельное
«начало» «благоразумия». Однако оно не есть и техническое знание (только) средств, ибо предполагает осознание той этической
'"См.: Dunn J. Reconceiving Modern Political Community // Dunn J.
Interpreting Political Responsibility. Cambridge: Polity Press, 1990. P. 214.
170
См.: Аристотель. Никомахова этика. 1139 в — 1141 а // Аристотель. Соч.: В 4 т . Т. 4. М.: Мысль, 1984; Аристотель. Метафизика. 981 а //
Там же. Т. 1.М.: Мысль, 1975.
268
цели, соотнесённость с которой только и может сделать осуществляемую деятельность «правильной», доказывая благоразумность практикующего её человека171.
Почти всё из только что сказанного о «благоразумии» применимо и к политической морали (хотя «почти», как мы увидим
далее, окажется столь значительным, что исключит их отождествление). В суждениях политической морали опыт играет ту же
роль, что и для «благоразумия». Они столь же невыводимы из
знания норм и законов морали (если это признавать знанием), как
и «благоразумные» суждения — из знания «конечных благ» человека. В то же время они так же соотнесены с моральным знанием, как последние — с этическим: в противном случае суждения политической морали не обладали бы присущей им формой
универсальности и императивности. Более того, как говорилось
ранее, они соотнесены и с этической идеей «общего блага», хотя
и освобождённой от той телеологичности, которая свойственна
аристотелевским «целям» (однако многие современные интерпретации «благоразумия» также свободны от телеологии172). Политическая мораль так же привязана к ситуации и контексту, как
и «благоразумие», для обоих в равной мере важны следствия
действий (только «благие» следствия подтверждают «благоразумность» поступка), оба открыты к самокорректировке (к пересмотру своих суждений) в зависимости от следствий.
В чём их существенное различие? «Благоразумие», во
всяком случае у Аристотеля и Фомы Аквинского, как точно
выразился один из британских комментаторов, есть «разум
171
Обстоятельные и глубокие объяснения отличий «благоразумия» от
«знания» и «практических навыков» в философии Аристотеля см.: Maclntyre
A. Whose Justice? Which Rationality? Notre Dame (IN): The University of Notre
Dame Press, 1988. P. 92 ff; Günther K. The Sense of Appropriateness:
Application Discourse in Morality and Law. Tr. J. Farrell. Albany (N. Y.): The
State University of New York Press, 1993. P. 171-190.
172
См., к примеру: Wiggins D. Deliberation and Practical Reason //
Essays on Aristotle's Ethics / Ed. A. O. Rorty. Berkeley (CA): University of
California Press, 1980.
' 269
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
в действии»173. «Благоразумие» не может сводиться к правильному суждению как таковому, даже если оно удовлетворяет
все описанные выше условия. Оно есть суждение, направляющее собственное (индивидуальное или коллективное, если говорить о политике) действие. «Благоразумие», в конечном счёте, характеризуют не столько специфические основания и
структура суждения, сколько отношение к воле, определяющее
её к действию, — с учётом желаний «благоразумного» человека, но без того, чтобы быть «на поводу у них». Именно в этом
практическом и деятельном смысле «благоразумие» опосредует связь желаний и разума как нравственного «знания» («знания», что есть «объективное» благо для человека)174. Именно эта
функция имеет определяющее значение для «благоразумия», и
именно она отсутствует у политической морали. Политическая
мораль, если угодно, есть моральное требование к другим (политикам) быть «благоразумными».
Здесь, вероятно, необходимо следующее уточнение. Аквинат, а вслед за ним легион комментаторов и последователей различали два подвида «политического благоразумия» — правителей
и управляемых (ST 11-11, Q. 50, А. 2175). Первый представлял «совершенство» «политического благоразумия» как благоразумия в
отношении к общему благу (что и делало его политическим).
Второй — несовершенное «политическое благоразумие», оказывавшееся всё же таковым в той мере, в какой управляемые следовали указаниям правителей.
Эту вторую разновидность «политического благоразумия»
рядовые члены современных политий могут практиковать и
практикуют независимо от их роли как носителей политической
морали. Они могут быть «благоразумны» и «политически мо173
Westberg D. Right Practical Reason: Aristotle, Action, and Prudence in
Aquinas. Oxford: Clarendon Press, 1994. P. 9.
174
См.: Ibid. P. 218 и далее.
175
Saint Thomas Aquinas. On Law, Morality and Politics / Ed. W. P.
Baumgarth and R. J. Regan. Indianapolis: Hackett Publishing C°, 1988. P. 273-274.
270
ралыны» одновременно, но в разных отношениях. В первом —
они следуют указаниям власть имущих, во втором — оценивают и «наставляют» их. То, что «политическое благоразумие» в
таком его виде представляется некоторым исследователям «недемократическим» и они выступают за «демократизацию благоразумия»176, — совсем другой вопрос. Я хотел подчеркнуть
лишь то, что в той мере, в какой люди оценивают правителей и
«наставляют» их, не превращаясь в деятельных граждан, они
могут делать это только в модальности политической морали,
но никак не «совершенного» «политического благоразумия»,
невозможного без собственных «благоразумных» поступков.
Иными словами, овладение управляемыми «совершенным» «политическим благоразумием», которое только и способно встать
на место политической морали, предполагает демократию участия, едва ли совместимую с существующими демократическими порядками, не говоря уже об авторитарных режимах.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОРАЛИ
Резюмируя рассмотренные нами отличия политической морали от профессиональной этики, политической этики, «общечеловеческой» морали и «благоразумия», мы можем — с некоторым уточнением, которое я сделаю ниже, — принять следующее
определение политической морали, предложенное известным
британским этиком и политическим философом Стивеном Льюксом. «Под политической моралью, — пишет он, — я подразумеваю совокупность принципов, описываемых на весьма абстрактном уровне, которые лежат в основе различных частных политических позиций, занимаемых теми, кто разделяют эти позиции
одновременно или в разное время. Они, как выражается Рональд
Дворкин, являются "конститутивными": это — те "политические
позиции, которые ценятся сами по себе", так что "любая неудача в обеспечении такой позиции или снижение уровня её
176
См.: DunnJ. Introduction // Interpreting Political Responsibility... P. 3.
271
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
обеспеченности равнозначны (для группы, занимающей эту позицию. — Б. К.) pro fan/o понижению ценности всего политического
устройства". Производные позиции, напротив, ценятся лишь как
стратегии или средства для обеспечения конститутивных позиций.
Поэтому разные производные взгляды на политику — к примеру
на налогообложение, образование или — в более общем плане —
на характер и масштабы государственного вмешательства в экономику могут соотноситься с одним и тем же набором принципов или
им обосновываться. Это верно и для кластеров производных взглядов, сменяющих друг друга с течением времени, как, скажем, либерализм "Нового курса" (Франклина Делано Рузвельта. — Б. К.)
сменил либерализм "старого курса"»177.
Достоинство этого определения состоит, во-первых, в ясной
привязке политической морали к политическим позициям разных
общественных групп; во-вторых, — в отличении её от «стратегий»
и «средств», которые эти группы могут «одобрять» в разных ситуациях без изменения своих политико-моральных «принципов»;
в-третьих (что есть конкретизация второго), — в подчёркивании
«абстрактности», устойчивости принципов политической морали
по отношению к меняющейся политической конъюнктуре, т. е. их
относительной независимости от «эмпирии»; в-четвёртых, — в
фиксировании решающей роли принципов политической морали
для общей оценки существующего строя.
Однако хотелось бы уточнить следующее. Определение
Льюкса и, в гораздо большей мере, используемые им тексты
Дворкина могут создать впечатление, будто принципы политической морали являются общими для групп, образующих данное общество, будто разногласия между ними возникают лишь
на уровне «производных позиций», на которых формируются
оценки «стратегий» и «средств», обеспечивающих «конститутив177
Lukes S. Principles of 1989: Reflections on the Political Morality of the
Recent Revolutions // Lukes S. Moral Conflict and Politics... P. 306. Внутренние цитаты из Рональда Дворкина см.: Dworkin R. A Matter of Principle.
Cambridge (MA): Harvard University Press, 1985. P. 184, 408.
272
ные позиции» или подрывающих их. При таком прочтении принципов вновь возникает идея «морального консенсуса», точнее — на сей раз — политико-морального консенсуса, «предпосланного» политике и задающего её рамки.
В общетеоретическом плане такое представление кажется мне неверным, хотя и более-менее адекватно описывающим
фактическое положение дел в условиях «малой» политики современных западных демократий («более-менее» — в том смысле,
что это описание справедливо для тех групп, которые значимы
электорально, но не для всех групп вообще). Конечно, под «принципами» можно понимать только повторяющиеся элементы нравственных оценок, т. е. использование самих категорий должного и недолжного, добра и зла и т. д., и на этом основании рассуждать об «общности принципов». Но тогда едва ли правомерно
говорить о «принципах», ибо это понятие невозможно без его
содержательной и логической конкретизации.
Логическая конкретизация подразумевает выяснение связи
элементов нравственных оценок, а многообразие схем таких связей и ведёт к появлению разных «моделей» нравственной рациональности, о которых уже шла речь ранее. Содержательная же
конкретизация необходима потому, что никакие мыслительные
процедуры не могут быть полностью свободны от «материи жизни». Они всегда есть лишь поднятое на тот или иной уровень обобщение её «начал» и тенденций движения. Такое обобщение представляют собою и принципы политической морали, причём обобщение более низкого уровня, чем тот, который выражают
императивы и законы «общечеловеческой» морали. Уровень
обобщения политической морали не позволяет полностью «погасить» различия в «материи жизни», как она дана разным общественным группам, — в противном случае терялся бы плюрализм
«конститутивных» политических позиций, а связанная с ними политическая мораль переставала бы быть политической.
Из этого следуют «малый» и «большой» выводы. Первый
заключается в том, что хотя связь между «конститутивной позицией» данной группы и «производными» политическими позициями
18 Выбор
273
Часть II.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
действительно является поливалентной, тем не менее она достаточно определённа. Возвращаясь к приведённому Льюксом и
Дворкиным примеру, можно сказать, что хотя одна и та же
«конститутивная позиция» согласовывалась и со «старым», и с
«новым» либерализмом при всех существенных различиях между ними, она едва ли способна вступить в позитивное «соотношение» с маоистской «культурной революцией» или с «капитализмом по Пиночету». Такую избирательность «конститутивной
позиции» по отношению к «производным позициям» обусловливает именно её содержательная определённость как выраженное в ней обобщение «материи жизни».
«Большой» же вывод окажется подтверждением суждения,
к которому мы приходили и раньше, но иным путём. Для политики нет предпосланного ей «морального консенсуса». Если мы
и сможем в чём-то его обнаружить, то у него всё равно не будет эффективной силы по отношению к политике, он не будет в
состоянии что-либо предписывать ей, а значит — иметь для неё
какое-либо реальное значение. Но возможно обратное: политика определённого рода способна создавать «моральный консенсус». Вопрос в том, тождественно ли его создание обеспечению
условий совершенной рациональности и свободы «для всех» или
оно будет означать скорее подавление — не только «аутсайдеров», других, наличие которых неизбежно для любой морали, но
и некоторых участников «консенсуса», теряющих возможность
осознать, артикулировать, защитить действительную специфику
своей «конститутивной позиции».
Часть
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ:
СИЛА И БЕССИЛИЕ
МОРАЛИ В ПОЛИТИКЕ
18*
к понятию
Лекции 11-12
ПОЛИТИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ
1. МОРАЛЬ В ПОЛИТИКЕ
СКВОЗЬ ПРИЗМУ «ПОСЛАНИЙ ЖИЗНИ»
Задача третьей части данной книги — более конкретно присмотреться к связи морали и политики, чем это было возможно при том теоретическом подходе к ней, который определил
содержание второй части. «Конкретность» в данном случае означает нечто большее, чем «снимок крупным планом», обнаружение деталей, ускользнувших при обозрении предмета с «высокой» позиции общей теории. Речь идет о более важном — о
смене оптики. Это позволит нам увидеть предмет глазами самого деятеля, а не «кабинетного теоретика», наблюдать мораль
как действующую причину поступка, а не просто как заключение разума о должном и недолжном.
Глазами деятеля мы увидим практическое разрешение или
устранение тех краеугольных проблем теории морали, логическая неразрешимость которых определяет характер созерцательного мышления наблюдателя. С помощью её мы увидим переход
от сущего к должному и наоборот, логическую невозможность
которого показал ещё Юм. Этим он заложил одно из фундаментальных оснований важнейших течений современной теоретической этики, включая все ее кантианские версии1.
' Видный современный английский философ Рой Бхаскар пытается показать, что и логически переход от сущего к должному можно осуществить. Однако при этом он вводит те «оценочные и практические посылки»,
которые предполагают позицию деятеля и, строго говоря, не являются не-
277
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Конечно, эта смена оптики для нас условна. Мы по-прежнему останемся размышляющими наблюдателями и не превратимся в непосредственных участников событий. Но размышлять теперь мы будем над жизненными ситуациями, в которых
при жёстких политических условиях делали моральный выбор
те, кто станут героями третьей части этой книги. «Моя жизнь —
сама послание, — сказал как-то Махатма Ганди. — Если она не
такова, то ничего из того, что я могу сейчас написать, не достигнет цели»2. В последующих лекциях мы займёмся именно «посланиями жизни». Они помогут нам обрести новый взгляд, который придёт на смену взглядам академических теорий. Особенность «посланий жизни» состоит в том, что они повествуют
о морали, защищающей людей, а не собственную правоту. Защищать же людей, как заметил Майкл Уолцер, — не совсем то
же самое, что защищать идеалы3. Подлинное практическое значение и практическую дееспособность морали мы сможем понять, лишь рассматривая то, как она занимается первым, а не
вторым. Поэтому третья часть данной книги призвана обогатить
наше понимание связи морали и политики, а не служить лишь иллюстрацией тем выводам, к которым мы уже пришли ранее путём теоретических рассуждений.
В чём особенность языка «посланий жизни», в которых речь
идёт о связи морали и политики? В том, что его ключевыми словами оказываются «насилие» и «ненасилие». Это вряд ли может
нас удивить, даже если мы подойдём к этому языку с позиций
«чистой» теоретической этики. Ведь по сути вся она — от Платообходимыми для точки зрения «чистого наблюдателя» (подробнее см.:
BhaskarR. Philosophy and the Idea of Freedom. Oxford: Basil Blackwell, 1991.
P. 146-153). В более широком плане можно сказать, что взаимопереход
сущего и должного — своего рода «конек» восходящей к Гегелю философии «праксиса».
2
The Moral and Political Writings of Mahatma Gandhi / Ed. R. Iyer.
Oxford: Clarendon Press, 1986. Vol. 1. P. 37.
3
См.: Уолцер M. Компания критиков. M.: Дом интеллектуальной книги, 1999. С. 76.
278
на и Цицерона до Хабермаса и Ролза — строится на (так или иначе интерпретированной) оппозиции Разума и Насилия4. Разум
здесь есть то нравственное законодательство, которое исключает насилие. (Читатель может по своему усмотрению подставить
на место Разума в этом контексте локковский «закон природы»,
кантовскую «автономию», хабермасовскую «идеальную речевую ситуацию», бентамовскую свободную от предрассудков утилитаристскую «моральную арифметику» или любой другой философски осмысленный моральный регулятор.) Соответственно,
Насилие выступит тогда в качестве противоположности Разуму,
т. е. Неразумия, и потому — отрицания морали как таковой5.
Однако между «посланиями жизни» и академическими теориями в их подходах к насилию и ненасилию есть существенное
различие. Известный российский философ А. А. Гусейнов β логике
теоретической этики пишет, что ненасилие есть содержательное
определение добра и потому — «синоним этики»6. И он прав, коли
дана та дихотомия Разума и Насилия, о которой шла речь выше
(в её рамках Разум есть Ненасилие, а Насилие есть Неразумие).
4
Сжатое и яркое историко-философское представление этого сюжета см.: Waldenfels В. Limits of Legitimation and the Question of Violence //
Justice, Law and Violence/ Ed. J. B. Brady et al. Philadelphia: Temple University
Press, 1991. P. 100-102.
5
Более обобщённо можно сказать, что дихотомия разума и насилия,
в каком бы теоретическом контексте она ни встречалась, есть надёжнейший признак воспроизводства основания традиционной этики. К примеру,
когда Карл Поппер с позиции его «критического рационализма» заявляет о
том, что центральной альтернативой нашего времени является выбор «разум или насилие», то сколь бы он ни отождествлял разум с определённым
типом аргументации (в отличие от «метафизики» «закона природы» или
кантовской «автономии»), всё равно его формулировка выражает лишь некритическое воспроизведение указанного основания этического мышления
(см.: Popper К. Utopia and Violence // Popper K. Conjectures and
Refutations: The Growth of Scientific Knowledge. L.; N. Y.: Routledge, 1985.
P. 355-356.
'См.: Гусейнов А. А. Этика ненасилия // Вопр. философии. 1992.
№3. С. 72.
279
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Но дана ли такая дихотомия, если речь идёт о защите людей, а не
идеалов, о чём нам говорят «послания жизни»? Не должны ли мы
задуматься по меньшей мере над тем, что ненасилие может
иметь смысл «невозможности борьбы», т. е. худшего вида принуждения, когда жертва лишается последней способности сопротивляться злу?7 Сопротивление, борьба есть насилие — хотя бы в
элементарном смысле принуждения злодея не совершать зло.
Ненасилие как отказ от такого принуждения оборачивается в таком
случае злом в самом прямом смысле слова — поощрением зла.
Существенное отличие «посланий жизни» от академических теорий в плане отношения к проблеме насилия заключается в следующем. Теории могут растворять проблему насилия в
моральных соображениях о мотивах поступков или правилах
универсализации их максим. «Послания жизни» имеют дело с
насилием как неподатливой и грубой реальностью: каковы бы ни
были мотивы поступков и как бы их максимы ни сдавали экзамен
на универсализацию, в конечном счёте важно лишь то, способны они или нет уменьшить «сумму зла» в той конкретной ситуации, в которой находятся данные люди. Если мораль есть ненасилие, то ненасилие способно доказать свою моральность лишь
способностью биться со злом и побеждать его, т. е. пересиливать его. Поэтому Ганди в своём «послании жизни» и определяет ненасилие как «моральный эквивалент войны»!8 Для академической этики такая формулировка есть contradictio in adjecto
(ненасилие есть война, хотя и особого рода). Для Ганди — программный принцип деятельности. В этом суть разницы между
академическими теориями и «посланиями жизни». И эту разницу нам нужно уразуметь для более глубокого понимания того,
как мораль работает в политике.
7
Общее (очень точное, на мой взгляд) определение принуждения как
невозможности борьбы даёт Эмиль Дюркгейм (см.: Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М.: Наука, 1991. С. 351).
8
Civil Disobedience and Violence / Ed. J. G. Murphy. Belmont (CA):
Wadsworth Publishing C°, 1971. P. 94.
280
Однако полностью удержаться в рамках «посланий жизни»
нам не удастся и в этой части книги. Мы вынуждены будем оперировать на всём её протяжении такими многозначными и столь
противоречиво толкуемыми понятиями, как «насилие», «ненасилие», «гражданское неповиновение». Чтобы не запутаться самим и не допустить, как хотелось бы верить, слишком вольного обращения с чужими мыслями, нам придётся заняться уточнением этих понятий. Работа с понятиями есть теоретическая
работа. В той мере, в какой она окажется неизбежной, теория
будет присутствовать и в этой «практической» части книги.
В чём достоинство «посланий жизни», которые я выбрал
для неё? В том, что они несут мысль, способную идти до конца.
Мыслить до конца — значит доходить до той границы отстаиваемой идеи, которая сама по себе предполагает её перешагивание и тем самым — обнаружение иного этой идеи, её отрицания. Но иное и отрицание предстают здесь не в смысле чегото «высшего» и «снимающего» эту идею, как то видит
гегелевская диалектика, а в качестве её изнанки. Изнанка —
противоположность «лицевой стороны», и в то же время обе
они образуют неразрывное целое. Если лицевая сторона — разум, то его изнанка — неразумие. Разум, дошедший до своей
границы, через неё заглядывает в собственное неразумие. Если
мысль идёт до конца, разум не может не заглядывать в собственное неразумие. Именно так, до конца идёт мысль наших
героев. Так на границе идеи ненасилия рождается приведённое
ранее его определение Ганди как «войны». Точно так же на границе идеи насилия рождается утверждение Фанона о пагубности брутальности, причём не только в действии, но и в мысли9.
Мне кажется, что истина, если такое понятие вообще применимо к делам человека, — уникальное явление этого пограничья. Истинна не идея, доказываемая логически и обосновываемая
теоретически. Такие доказательства и обоснования возможны
' См.: Fanon F. The Wretched of the Earth. Harmondsworth: Penguin,
1970. P. 117.
281
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
лишь относительно тех идей, которые не достигли своей границы. Истинна идея, впадающая в противоречие, но не формальное, а то, которое обнаруживается на её границе. Истинна
идея вместе со своей изнанкой, но одновременно — не теряющая себя в ней и способная возвращаться к себе, быть верной
себе, даже осознав собственную неполноту и частичность. Таков разум, осознавший, что он невозможен без неразумия, но
не ставший неразумием и не отрекшийся от себя. Такова мораль, осознавшая аморальную сторону своего «бытования» в
мире, но отказавшаяся совершать аутодафе. Такую истинность
морали и разума мы можем познать только сквозь призму «посланий жизни». Академическая теория для неё слишком целомудренна. В отдельных случаях — даже цинична.
2. ПАРАДОКС ОСМЫСЛЕНИЯ НАСИЛИЯ
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЭТИЧЕСКОЙ ТЕОРИЯХ
Обозрение политико-философской и этической литературы о насилии не может не вызывать чувства растерянности и недоумения. С одной стороны, о насилии — или о сопряжённых,
смежных с ним и производных от него явлениях и понятиях, таких как принуждение, угнетение, господство, диктат, беззаконие, противодействие и т. д., — писали и пишут чуть ли не все,
кто так или иначе касался политических и моральных вопросов.
Неполные обозрения использования и интерпретаций этого понятия только крупнейшими теоретиками последних двух веков
составляют пухлые тома10. Как может быть иначе, если насилие
выступает парной категорией самому Разуму? Если оно сопряжено с такими понятиями, как Порядок, Справедливость, Закон
и т. д., без которых трудно что-либо внятное сказать и о политике, и о нравственности?
10
См., например: Rule J. В. Theories of Civil Violence. Berkeley (CA):
University of California Press, 1988.
282
С другой стороны, в той же самой литературе и особенно
в новейшей её части рефреном проходят суждения о том, что политической теории почти нечего сказать о насилии, что она должна оставить эту тему «техникам» политики", что «насилие» вообще вряд ли является полезным понятием™, что не разрешима
проблема его определения13, что философии насилие не интересно14, что нет «общей теории насилия» и едва ли следует ждать её
появления15, что проблема насилия давно и надёжно «маргинализирована» в западной политической философии, так что сам прорыв к её пониманию требует немалых усилий по «деконструкции» сложившихся философских конвенций16. Перечень подобных суждений можно продолжать, кажется, до бесконечности.
Как это понимать? Что значит «политическая философия
не может заниматься насилием», если она вводит насилие в определение своих центральных категорий, например того же
государства (оно есть монополия на легальное и/или легитимное насилие), вследствие чего Макс Вебер, но далеко не он
один, прямо пишет о существенности и «интимности»17 связи
" См.: Arendt H. On Revolution. N. Y.: Viking, 1963. P. 9. Такое утверждение слышать от Ханны Арендт вдвойне странно, учитывая то, что именно она написала одну из самых влиятельных в XX веке работ по насилию
(см.: Arendf H. On Violence. San Diego: A Harvest Book, 1970). К этому парадоксу, возможно лишь мнимому, мы вернёмся позднее.
12
См.: Riches D. The Phenomenon of Violence // The Anthropology of
Violence / Ed. D. Riches. Oxford: Basil Blackwell, 1986. P. 2.
13
Jean Baudrillard: The Disappearance of Art and Politics / Ed. W. Stearns
et al. N. Y.: St. Martin's Press, 1992. P. 292.
ы
См.: O'Ne/7/ O. Which Are the Offers You Can't Refuse? // Violence,
Terrorism and Justice / Ed. R. G. Frey et al. Cambridge: Cambridge University
Press, 1991. P. 179.
15
См.: Muro-Ruiz D. The Logic of Violence // Politics. 2002. Vol. 22.
№2. P. 116.
"См.: Bolsinger E. The Autonomy of the Political. Westport (CT):
Greenwood Press, 2001. P. XII.
17
См.: Weber M. The Theory of Social and Economic Organization. Tr.
A. M. Henderson and T. Parsons. N. Y.: Oxford University Press, 1947. P. 155.
283
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
понятия государства с насилием? Что нам думать о якобы бесполезности понятия насилия, если оно и только оно может дать
нам ключи к самому происхождению Разума, Порядка и Государства — ведь они должны же были в истории из чего-то и
как-то начаться? «Начало же, — как говорил Ганс-Георг Гада18
мер, — всегда происходит во мраке» , т. е. в том, что противоположно свету Разума. Иными словами — они начинаются в
насилии. И почему проблема определения насилия «не разрешима»? На страницах политических и философских книг и журналов мы встречаем буквально десятки определений насилия.
Некоторую тревогу может вызвать скорее то, что их слишком
и подозрительно много.
С них, вероятно, нам и будет проще начать. Приглядевшись
к определениям, наиболее типичным для современного дискурса или дискурсов о насилии (ибо в действительности их много, и
они не говорят на общем языке), мы, будем надеяться, сможем
лучше понять степень обоснованности озадачивших нас мнений
о неспособности политической философии справиться с проблемой насилия.
3. НАСИЛИЕ КАК «ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ»
Самое незатейливое и в то же время популярное понимание
насилия — отождествление его с нежелательным физическим
воздействием. Для примера воспользуемся формулировками
английского философа Джона Кина. «Насилие лучше понимать
как нежелательное физическое воздействие групп (людей) и/или
индивидов на тела других, которые в результате этого претерпевают ряд следствий, варьирующихся от шока, синяков, царапин...
до увечий и даже смерти. Насилие — акт, выражающий отношение, в котором объект насилия недобровольно третируется не в
качестве субъекта, "инаковость" которого признана и уважаема,
18
Gadamer H.-G. Historical Transformations of Reason // Rationality Today / Ed. T. Geraets. Ottawa: The University of Ottawa Press, 1979. P. 4.
284
а как всего лишь предмет, потенциально заслуживающий того,
чтобы ему нанесли урон или даже его ликвидировали»".
Самые начальные курсы логики обучают тому, что определение должно обладать признаками необходимости и достаточности. Отвечает ли этим требованиям приведённое определение
насилия? Поставленный вопрос можно конкретизировать так:
необходимо ли физическое воздействие, чтобы некий акт был
насилием? И достаточно ли указания на нежелательность физического воздействия, чтобы производящий его акт квалифицировался как насилие?
Известно, что слово способно убивать. К примеру, человек
может подвергнуться такому словесному оскорблению, не оставляющему ни малейших синяков и царапин, что будет принуждён к действиям, которые он никогда бы не совершил без
этого по доброй воле, — от дуэли до самоубийства. В таких случаях мы не имеем ни тени физического насилия, зато имеем
примеры самого страшного принуждения воли. Более того, оскорбление само по себе есть отрицание «признания и уважения
инаковости другого», которое Кин почему-то связывает только
с физическим воздействием.
Известно также, что есть «насилие» во благо20. Таким может быть и физическое насилие. Я могу силой препятствовать
моему раскуражившемуся и нетрезвому приятелю сесть за
руль автомобиля, стремясь предотвратить риск весьма вероятной аварии и его ареста. По физическим признакам это — насилие. Но разве оно говорит о том, что я не признаю и не уважаю
его «инаковость» как человека? Или, точнее, так: я действительно
19
Keane L Reflections on Violence. L.; N. Y.: Verso, 1996. P. 67.
Я беру здесь слово «насилие» в кавычки, ибо то, о чём пойдёт речь
далее, является насилием по признакам физического порядка, но не является таковым по своему нравственному содержанию. Моя аргументация
направлена как раз на то, чтобы, подчёркивая различие физического и
нравственного, показать необходимость и возможность понимания насилия
сугубо в соответствии с нравственными характеристиками рассматриваемого акта.
20
285
Часть 111.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
не уважаю и подавляю его нетрезвую волю, чтобы он был в состоянии практиковать свою свободную волю не на больничной
койке или в тюремной камере, а в тех обстоятельствах жизнедеятельности, которые его свободная воля выберет сама.
Я, собственно, и насилую его нетрезвую и потому неполноценную волю из уважения к его свободной воле.
Учитывая оба приведённых примера, можно сказать, что
определение насилия как нежелательного физического воздействия не обладает признаками ни необходимости, ни достаточности: нежелательное физическое воздействие не является необходимым признаком насилия (над свободной волей), и в то же
время насилие может производиться без применения физического воздействия (быть оскорблением или чем-то иным). Иначе говоря, определение Кина не отвечает минимальным логическим критериям определения. Оно не есть определение.
Мне могут возразить: «Ваши примеры не вполне корректны. В первом случае самое тяжкое оскорбление не предопределяет с "железной" неотвратимостью последующих действий
оскорблённого. Он может "проглотить" обиду и не вызвать наглеца на дуэль. Или попросту предпочесть самоубийству утешение бутылкой водки. Следовательно, слово не является насилием, поскольку оно не создаёт абсолютного принуждения и оставляет свободу выбора. Во втором случае имеет место
подмена понятий. У Кина явным образом речь идёт о принуждении (физическим воздействием) свободной воли. В Вашем же
примере противодействие оказывается нетрезвому, помутнённость разума которого уже есть свидетельство отсутствия или
ущербности свободной разумной воли».
На эти возражения можно ответить так. Физическое воздействие в принципиальном смысле оставляет точно такую же
свободу выбора, как и воздействие словом. Разве одни не молчат под пытками, тогда как другие готовы говорить при одной
лишь мысли о них? Любое воздействие на человека никогда не
является прямодействием. Оно всегда опосредовано его нравственным разумом, переключающим стрелку поведения в ту
286
или другую сторону. Мысль о том, что физическое воздействие — в отличие от воздействия словом — способно детерминировать реакцию человека абсолютно, сама по себе безнравственна, поскольку она представляет человека не человеком, а
чем-то подобным «собаке Павлова».
Я выдвину следующий тезис: кардинальной характеристикой насилия является столкновение и сохранение в его результате, хотя при изменённой диспозиции, двух свобод — и
насильника, и его жертвы. Если свободы жертвы нет изначально или она полностью исчезла в результате насилия, то бессмысленно говорить о насилии как предмете политической философии и этики. Перед нами не насилие, а такие процессы и явления, которые остаётся описывать только физике согласно
законам взаимодействия тел. Соответственно, определение насилия как нежелательного физического воздействия (тем паче
с акцентом на его телесный характер) находится за рамками
этики и, в результате этого, политической философии.
Второе же возражение справедливо в том, что ставит в
центр исследования насилия свободную и разумную волю. Но
это скорее подтверждает, чем опровергает мой пример. Я потому и не считаю противодействие нетрезвому приятелю сесть
за руль насилием, хотя нежелательное для него (в тот момент)
физическое воздействие здесь налицо, что я в этом примере не
сталкиваюсь со свободной и разумной волей, а потому и не
могу её угнетать. Моё противодействие приятелю выражает не
отрицание мной его субъектности, а всего лишь констатацию
того, что в данной ситуации он субъектом в самом деле не является. Из этого соображения мы можем сделать три вывода,
важных для наших последующих рассуждений.
Первый: нежелательное физическое воздействие есть лишь
одно из возможных средств принуждения свободной воли. Поэтому его нельзя вводить в общее определение насилия. Второй:
имеет место насилие или нет — это может определить только
свободная и разумная воля, если она присутствует в данной ситуации. (Коли она отсутствует совсем, то перед нами природная,
287
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
а не культурная ситуация, сколько бы её элементов антропологически ни относились к роду «человек».) Иными словами, насилие есть функция ситуации, а не существующая сама по
себе сущность. Третий: второй вывод, отдающий ситуационное
определение насилия «в ведение» свободной и разумной воле,
может иметь страшные политические импликации, если философский вопрос «Что есть свободная и разумная воля?» не будет конвертирован в политический вопрос «Кто и как определяет, что есть свободная и разумная воля?».
Мой пример с противодействием стремлению нетрезвого
приятеля сесть за руль автомобиля невинен своей житейской
тривиальностью. Именно поэтому он не в состоянии осветить
глубин проблемы насилия, которые обнаруживаются только при
переводе её в политическую плоскость, т. е. при осмыслении её
в качестве проблемы политического насилия. В моём примере критерии опознания свободной и разумной воли и принципы
отличения её от произвола самоочевидны своей укоренённостью в строе повседневности, к которому принадлежим мы все,
я, мой нетрезвый товарищ, милиция, те пешеходы, ради сохранения жизни которых я его остановил.
Но бывают ситуации, в которых такой самоочевидности
критериев и принципов нет, как нет и их укоренённости в общем
строе повседневности. Кто прав — Антигона, желающая из верности великой традиции и принципам семейной нравственности
похоронить павших братьев, или Креон, руководствующийся заботой о стабильности полиса и долгом перед политической справедливостью, запретивший их хоронить, ибо они — предатели
отечества? Даже близкое семейное родство Антигоны и Креона не позволяет им сохранить общность «высших», «самоочевидных» и «объективных» принципов определения того, на чьей
стороне правда и в чём заключается Разум β данном случае. И
на сцену выходит насилие — уже не в киновском «физическом»,
а в «нравственном» выражении его.
Однако в трагедии Софокла конфликт Антигоны и Креона —
ещё не политика, а Рок. Общего Разума нет. Он расколот, его
части узурпированы каждой из противостоящих сторон и пре-
288
вращены в самостоятельные разумы, которые непримиримо
сталкиваются, но не играют друг с другом, не вымогают друг у
друга некие более приемлемые для себя условия. Поэтому они
обречены погибнуть, что бы они ни делали. А это и есть Рок. Рок
же есть «природа» (в гегелевском смысле «естественной нравственности», ещё не пропущенной через горнило субъективной
свободы21), а не политика, в которой люди действуют исходя из
своего понимания собственных интересов и возможностей. Политика возможна лишь как игра свободных и разумных воль друг
с другом, в которых взаимное насилие всегда необходимо присутствует как условие свободы и нравственного самоопределения людей. И эта игра предотвращает узурпацию Разума какойлибо одной стороной, ибо Разум всегда — нечто оспариваемое
в такой игре и в то же время нечто формируемое ею.
Конечно, бывают очень тяжёлые условия игры воль, вызванные огромным неравенством ресурсов, которые стороны
используют друг против друга. Эта ресурсная асимметрия называется угнетением, являющимся специфическим и неприемлемым для угнетённой стороны видом политического насилия.
Но нам важно сейчас подчеркнуть другое. Непревращение философского вопроса «Что есть свободная и разумная воля?» в
политический вопрос «Кто и как определяет, что есть свободная
и разумная воля?» обусловлено узурпацией кем-то Разума,
т. е. прекращением политической игры взаимных насилий.
С этим кончается политика и начинается страшное безмолвие
угнетённых, которое равносильно их низвержению в «природу»
и низведению их действительно к положению тел.
4. ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАСИЛИЯ
Неудовлетворённость «физическим» определением насилия нередко приводит к тому, что его узость пытаются преодолеть предельно широкой, воистину всеохватывающей трактовкой
21
См.: Гегель Г. В. Ф. Философия права. М.: Мысль, 1990. С. 230, 482.
19 Выбор
289
Часть III. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
насилия. Так, насилие может определяться в качестве «любой
силы, применённой к индивиду или группе и вынуждающей их
соглашаться или действовать вопреки воле этого индивида или
группы»22. Другая редакция того же по своей смысловой направленности определения гласит: «Насилие... — это всё, что
препятствует людям удовлетворять их фундаментальные потребности...»23. Главное различие между этими двумя определениями в том, что в центре одного из них находится свободная,
но подавляемая воля (индивида или группы), а другого — фундаментальные потребности, в удовлетворении которых отказывает насилие. Присмотримся внимательнее к каждому из них.
Сила тяготения препятствует мне парить в пространстве подобно космонавтам, покинувшим пределы Земли, даже если я
очень этого хочу. Устройство органов дыхания, равно как и некоторые другие особенности человеческого тела, принуждают
меня отказаться от жизни под водой, даже если это является
моей заветной мечтой. В обоих случаях я вынужден соглашаться
на что-то и действовать как-то вопреки моим желаниям и воле.
Означает ли это, что я подвергся насилию со стороны массы
земного шара в первом случае и анатомии собственного организма — во втором?
Признать всё это насилием означало бы утратить всякий
смысл понятия «насилие». Хотя ничто в приведённом определении логически не препятствует такому признанию. Что ещё
важнее: в данном определении понятие насилия утрачивает
свой критический потенциал. Оно по своей логике (насилие
есть всё, что вынуждает действовать вопреки воле) ставит на
22
Sibley M. Q. The Problem of Coercion // The Ethical Dimension of
Political Life: Essays in Honor of John H. Hallowell / Ed. F. Canovan. Durham
(N.C.): Duke University Press, 1983. P. 173 (курсив мой. — Б. К.). Автор тут
же специально поясняет то, что его определение направлено против сведения насилия к действию физической силы, и стремится охватить весь спектр
«социальных давлений».
23
George S. Preface // Salmi J. Violence and Democratic Society. L: Zed
Books, 1993. P. X.
290
одну доску естественное принуждение, заставляющее меня
отказаться от исполнения абсурдных желаний, и предосудительное насилие, заставляющее меня, скажем, отказаться говорить правду под угрозой расправы с моей семьёй. Неразличение этих видов принуждения (вненравственного и безнравственного, а также нравственного, какое мы имеем при
противодействии преступному желанию) делает данное определение насилия бесполезным или даже дезориентирующим в
исследовании практической жизни людей.
Этот его недостаток вытекает из того, что оно берёт насилие как факт, вместо того чтобы понять его как нравственную
интерпретацию и нравственный смысл некоего действия. Рассмотрение насилия как факта и не позволяет различить вненравственное (естественное, обусловленное силами природы), безнравственное и нравственное принуждение. Более того, как
факт берётся и свободная воля, в отношении которой осуществляется насилие, тогда как в действительности эта воля может
оказаться не свободной (в рассмотренном выше смысле разумной свободы), а абсурдной или преступной.
Рассмотрение свободной воли и насилия как фактов воспроизводит кантовское противопоставление гетерономии и автономии — эту наиболее универсальную формулировку проблемы насилия (любая гетерономия всегда насилует автономию, которой поэтому и есть место только в фантазиях о
трансцендентальном мире). Такой подход сообщает рассматриваемому определению насилия всеохватность (волю насилует
любое явление реальной жизни, с которым она сталкивается).
Но именно по этой причине оно ничего не даёт для понимания
дел людей. Хотя бы потому, что сама воля существует лишь в
преодолении некоего сопротивления. Если мы утрачиваем способность различать сопротивление воле, делающей её возможной как таковую, и насилие над волей, не позволяющее ей осуществляться, значит, мы лишились последней возможности сказать что-либо осмысленное о делах людей. Именно к этому и
ведёт рассматриваемое определение насилия. Выход из этого
I9*
291
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
тупика один — понять насилие в качестве нравственной интерпретации неких фактов, а не как факты сами по себе. «Насилие, —
как точно выразился один американский исследователь, — будь
оно направленным или рассеянным, не есть "социальный факт"
или "культурный опыт" пока ему не придано (соответствующее)
значение рассматривающими его субъектами»24.
Второе из приведённых определений выглядит противоположным первому, упирая на «имманентное» (фундаментальные
потребности») в отличие от «трансцендентного» (автономной
воли). Делает ли это его приемлемым?
«Фундаментальные потребности», если их рассматривать
исторически, столь же фиктивны, как и кантовская «автономная
воля». Можно, конечно, абстрактно сказать, что потребность,
к примеру, в жилье фундаментальна для человека вообще. Однако если мою потребность в жилье удовлетворят самым идеальным по меркам каменного века образом, то я, несомненно,
сочту это вопиющим актом насилия над моей «фундаментальной потребностью». Возможно, окажись неандерталец или
даже сегодняшний папуас Новой Гвинеи в моей благоустроенной (по моим понятиям) квартире, он ощутит то же самое в отношении его «фундаментальной потребности».
Проблематичность «фундаментальных потребностей» состоит не в том, что их нет вообще, а в их трактовке в качестве
«объективных сущностей» человеческой жизни, не зависящих от
их интерпретаций теми и от перспектив тех, кто эти потребности испытывает. Если мы признаём, что «фундаментальные потребности» — такой же культурно-исторический продукт интерпретаций и их конфликтов в конкретных контекстах времени и
пространства, т. е. той самой политической игры взаимных насилий, о которой мы рассуждали ранее, то данное определение
насилия совершенно ничего нового и полезного нам не даёт. Бо24
Warren К. В. Introduction: Revealing Conflicts Across Cultures and
Disciplines // The Violence Within: Cultural and Political Opposition in Divided
Nations. Boulder (CO): Westview Press, 1993. P. 8.
292
лее того, оно окажется банальной тавтологией. Подставим в
нём на место «фундаментальных потребностей» то, что мы о
них сказали, и получим: «Насилие есть всё, что препятствует
людям удовлетворять то, в чём они испытывают потребность как
продукты насилий (т. е. реальной истории)».
Попутно отметим следующее. Логическая и теоретическая
невозможность определить насилие через его соотношение и с
«трансцендентной свободой», и с «имманентными константами»
человеческого существования, чем в основном и занималась
классическая политическая философия, заставила такого автора, как Мишель Фуко, вообще отказаться от использования этого понятия. Оно было без остатка растворено в концепции власти (как «дисциплинирования» и «нормализации»)25, лишённой
какого-либо нормативного измерения. Многие исследователи,
в том числе отечественные, обратили внимание на данное обстоятельство26. Но они не увязывали его явным образом с тем
«банкротством» самого понятия насилия в классической политической философии, которое побудило Фуко предпринять этот
шаг. Насколько он продуктивен — особый разговор.
Однако на этом злоключения рассматриваемого определения насилия не заканчиваются. Представим себе узника совести (без кавычек), который объявляет голодовку в знак протеста против беззакония. Против его «фундаментальнейшей потребности» в питании совершается очевидное насилие.
Представим себе группу потерпевших бедствие и ждущих спасения, большинство которых, видя истощение их скудных запасов,
25
Как выражается Фуко, «каждое человеческое отношение является
в определённой степени властным отношением. Мы движемся в мире неизменно стратегических отношений. Каждое властное отношение само по
себе не является ни хорошим, ни плохим, но оно есть факт, всегда включающий опасность» (Foucault M. Social Security // Michel Foucault: Politics,
Philosophy, Culture. Interviews and Other Writings, 1977-1984 / Ed.
L. D. Kritzman. L; N. Y.: Routledge, 1988. P. 168. (Курсив мой. — Б. К.)
"См.: Кравченко И. И. Введение в исследование политики (философские аспекты). М.: Ин-т философии РАН, 1998. С. 108-109.
293
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
решают резко сократить ежедневный рацион, чтобы, пусть ценой недоедания, растянуть имеющееся у них продовольствие на
больший срок. Если меньшинство против этого решения и настаивает на том, чтобы их «фундаментальная потребность» удовлетворялась в полном объёме, то должны ли мы рассматривать
отказ пойти им навстречу в качестве насилия?
В обоих случаях решения узника и большинства есть высокие
проявления свободы воли против «диктата» природы, а в первом
примере — и против диктата политического насилия. Они есть обнаружения действительно «фундаментальных потребностей» этих
людей в нравственном образе жизни, хотя эти потребности и подавляют другие — природного порядка. Для понимания такого
конфликта и присущей ему динамики насилия — ненасилия, хотя он
имеет ключевое значение для их осмысления, рассматриваемое
определение ничего не может дать вследствие своего натурализма, т. е. почти эксплицитного сведения «фундаментальных потребностей» к «физике» человека. В этом плане оно столь же и по той
же причине безнравственно, как и рассмотренное в третьем параграфе «физическое» определение насилия.
5. НАСИЛИЕ КАК АМОРАЛЬНОСТЬ
Рассмотренные до сих пор попытки определить насилие —
при всех их концептуальных и даже логических изъянах — стремились соответствовать другому правилу логики: определение
должно строиться по принципу «genus proximum и differentia
specifica». Иными словами, необходимо указать ближайший род
предметов, к которому относится определяемый нами предмет,
и его специфические видовые отличия. Этот принцип соблюдался, когда нам говорили, к примеру, что насилие — это физическое воздействие (или неудовлетворённость), специфика которого
в том, что оно выражает непризнание «инаковости» (или подавление именно «фундаментальных потребностей»).
Поскольку структура определения насилия была таковой,
т. е. строилась на соотнесении его с чем-то, непосредственно
294
морали не принадлежащим (воздействием, неудовлетворённостью...), постольку складывалось впечатление, будто это определение несёт какое-то своё особенное содержание, а не просто
повторяет то, что уже дано в морали. Это особенное содержание насилия, отличное от морали и противоположное ей, придавало свойство предметности паре «насилие — разум», предметности, которую можно полезным образом изучить и изучение
которой способно обогатить саму теорию морали. Другими словами, определение насилия согласно правилу «genus proximum и
differentia specifica» придавало теоретическую серьёзность разговору о насилии и обещало значительность политических выводов, которые из него могут последовать.
Мы, как я надеюсь, уже убедились в том, что эта серьёзность
во многом была обманчивой. Неудачность определений насилия
предыдущих двух типов породила соблазн «замкнуть» насилие
прямо на мораль, устраняя те опосредования связи между ними
(в виде понятий воздействия, неудовлетворённости и т. д.), которые
считались «повинными» в возникших трудностях. В результате получились совсем простые определения. Что такое насилие? Это —
нарушение заповедей Декалога (особенно первых трёх), отвечает американский философ Бернард Герт27. Это есть «не санкционированное законом использование силы», пишет в своей ставшей
почти что классикой статье другой американский философ — Роберт Пол Волф (хотя и подходя к таким определениям совсем иначе, чем его только что упомянутый коллега)28.
В отношении подобных определений можно было ограничиться кратким замечанием, что они безупречны, поскольку абсолютно бессодержательны. Насилие не обладает ничем, чего
бы не было в морали. Оно лишь придаёт этому обратный знак.
Вращение в пустоте достигает законченности, когда осознаётся,
27
См.: Gert В. Justifying Violence // The Journal of Philosophy. 1969.
Vol. LXVI. № 19. P. 616.
28
Wolff R. P. On Violence // The Journal of Philosophy. 1969. Vol. LXVI.
№19. P. 606.
295
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
что и в морали нет никакого содержания. (Откуда же ему взяться? Ведь сама по себе мораль — лишь форма мысли. Какое может быть содержание в «золотом правиле», покуда оно не применено к чему-то, что от него не зависит и ему противостоит
как материя!) Тот же Герт очень логично переходит от своего
определения насилия как нарушения правил морали к определению морали как тех правил, которые защищают от зла насилия
(Указ. соч. С. 619). Я думаю, не вполне справедливы те авторы,
которые, имея в виду подобные определения насилия, пишут,
что они являются «паразитическими» по отношению к морали
или праву29 (причём такой «паразитизм» отнюдь не обязательно осуждается). «Паразитировать» в гаком отношении морали
и насилия ни одному из них невозможно, ибо оба бесплотны, и
поживиться чем-либо друг у друга им просто нечем.
Отметить, вероятно, следует ещё то, что из этих взаимоотражений морали и насилия не может проистекать та динамика, которая присуща, к примеру, фихтевской паре «я — не-я».
Ведь у Фихте они как дух и материя качественно различны и уж
чем-чем, а бесплотностью отнюдь не страдают. Сторонники
рассматриваемого определения насилия тоже рано или поздно
должны прийти к его «материализации», ибо в противном случае им просто не о чем было бы говорить. (Ведь ничего не то
чтобы теоретически серьёзного, а просто нового из этого определения вывести нельзя!)
«Материализация» означает представление насилия и морали как противостоящих сил. В случае морали она превращается
в Законное Насилие (правовое государство — у Канта). Было бы
утомительным пересказывать бесконечные и очень логичные издевательства анархистов над этим, с позволения сказать, понятием (остроумный образец их можно найти в той же работе Волфа, которую я процитировал чуть выше). Но суть их проста и
ясна: либо это насилие — законное, т. е. совпадает с законом, но
29
См.: Родде Т. Coercion and Violence // Justice, Law and Violence.
P. 67.
296
тогда оно не может быть насилием, определяемым как нарушение закона, либо оно всё же — насилие как противоречие закону, но в таком случае нелепо говорить о его законности.
Но интереснее другое: во что «материализуется» насилие?
Оно не может «материализоваться» в Незаконное Насилие, ибо
это, во-перых, тавтология, во-вторых, лишь повторение того, что
мы уже знали о насилии в его «бесплотном» состоянии. В соотношении с «материализованной» моралью как Законным Насилием насилие тоже должно обрести новое качество. Какое?
Здесь начинается Великая фигура умолчания теоретической
этики. Вернее, она даёт заведомо нелогичный и прямо-таки обманный ответ о том, что в «материализованном» насилии ничего
не меняется по сравнению с его «бесплотным» состоянием и будто бы оно остаётся Незаконным Насилием. Но мы-то знаем, что
закон превращения — «материализации», уже сработавший с моралью, должен аналогичным образом проявить себя и по отношению к насилию. И оно действительно превращается в Насильственный Закон. Другое имя этому — революция. Именно она снимает с того, что было лишь насилием, проклятие тех, кто узурпировал
мораль, «материализовав» её в виде Законного Насилия. Теперь
это последнее становится лишь насилием, тогда как то, что было
насилием, устанавливает себя в виде нового Закона. Делая это,
насилие «материализуется» в качестве Насильственного Закона.
Но, рассуждая таким образом, мы делаем решительный
шаг в сторону политики как той реальности, в которой только и
можно найти разгадку связи морали и насилия. Определение насилия, которое мы рассматриваем в этом параграфе и которое
«замыкает» его на мораль без каких-либо опосредовании, в таком случае придётся оставить в стороне.
6. НАСИЛИЕ КАК КУЛЬТУРНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Бессодержательность рассмотренного определения насилия подвигла некоторых теоретиков к тому, чтобы попытаться
наполнить понятие «насилие» более конкретным культурным
297
Часть III. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
содержанием. Насилие стало трактоваться ими в качестве явления определённых культур, уже в силу этого несущее на себе
отпечаток присущих им символов, правил, кодов коммуникации
и т. д. Уже по этой причине насилие перестало выглядеть абсолютной противоположностью Разуму, т. е. Неразумием. Оно
оказалось причастным Разуму, вобрав в себя значительную
часть его культурного содержания (тех же кодов коммуникации и т. д.), но сделало это конфликтным образом. Неудивительно, что наиболее активными разработчиками такой трактовки насилия оказались антропологи, философы и социологи культуры, а также те политические учёные, профессиональная
специализация которых не позволяла им парить в заоблачных
высях «моральной философии», а принуждала объяснять ratio
конкретных форм и явлений насилия.
Пожалуй, общим знаменателем определений насилия этого
типа можно считать то, что оно рассматривается как сообщение,
как то, что некоторым образом говорит30. Нужно сразу подчеркнуть: именно это отличает данный подход от того классического
рационалистического понимания насилия, которое столь афористически представлено Ханной Арендт: «насилие — это действия
без аргументации и речи и без расчёта следствий...»31. Именно
такая рационалистическая трактовка насилия позволяла представить его как фиксированную противоположность разуму (у самой
Арендт — «власти», отождествлённой с коммуникативным разумом). В «культурных» определениях насилия как способа коммуникации эта противоположность упразднялась.
Несомненным, на мой взгляд, достоинством таких определений является категориальное разведение насилия как символического и культурного акта, с одной стороны, и явления физической деструкции, возможно, сопровождающей его, — с другой.
В некоторых случаях такое разведение подчёркивается тем, что
30
Насилие — «отличное коммуникативное средство», пишет Дэвид
Риме (Riches D. The Phenomenon of Violence... P. 12).
31
Arendt H. On Violence... P. 64.
298
статусом этического и политического понятия наделяется «принуждение», отражающее «смысловую игру» вовлечённых в данное отношение сторон, тогда как за «насилием» закрепляется
философски малоинтересное значение «технических» средств и
методов, используемых в такой «игре» против жертвы32.
В чём в самом деле смысл террористического акта, и кто
его подлинные объекты? Ясно, что смысл его, как правило, — не
нанести физический урон его непосредственным жертвам, и не
они — объекты такого акта. Смысл — некоторое сообщение
(требование), которое доносится до тех, кто обычно пребывает
в полнейшей физической безопасности, но от кого ожидается соответствующая, т. е. понимающая, реакция на это сообщение.
Те, от кого ожидают такой реакции, могут быть правительством,
частными корпорациями или широкой общественностью (обычно сообщение доносится до правительства посредством реакции
общественности). Современный террор всё более становится
явлением СМИ и без СМИ вообще едва ли был бы возможен.
Но то же самое можно сказать и о такой крайней форме
насилия, как война. Я не имею в виду только такую откровенно
«телевизионную» войну, какой было англо-американское вторжение в Ирак в 2003 году: его смысл столь же мало исчерпывался разгромом самого Ирака, как и террористического
акта — воздействием на захваченных заложников. Я говорю почти о любой войне, которая ставит противнику условия (будь то
даже полная капитуляция), тем самым в конечном счёте имея
цель «образумить» его. В отличие от этого чисто физическое
устранение жертв — будь то геноцид индейцев в США, устроенный нацистами холокост или те нашествия кочевников прошлых веков, которые расчищали под пастбища окультуренные
оседлыми народами территории — не имеет смысла послания
кому-либо. В таких событиях нет постановки условий и ожидания реакции на них от объектов воздействия. В этом смысле
32
См.: Geuss R. History and Illusion in Politics. Cambridge: Cambridge
University Press, 2001. P. 21 ; O'Ne/7/ O. Op. cit. P. 172.
299
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
они — не насилие, а деструкция, подобная той, какая происходит в природе. Поэтому они и порождают у остающегося культурным человечества совершенно специфический ужас, не сопоставимый с тем, какой может вызвать самая кровавая, но обладающая понятным культурным смыслом война.
Настороженность в отношении этого подхода к пониманию
насилия (или принуждения) возникает тогда, когда мы замечаем, что собственно определений насилия он не даёт. В некоторых случаях его сторонники признают это открыто (я приводил
примеры таких суждений в начале лекции). В других случаях пытаются выйти из затруднения путём перечисления признаков или
«элементов» насилия, нередко весьма эклектично подобранных33, что никак не равносильно формулировке определения.
Положение ещё более осложняется в результате того,
что насилие перестаёт отождествляться только с тем, что «препятствует» и «подавляет». Напротив, за насилием признаётся
творческая способность. Всё, что нарушает статус-кво, что
принуждает людей делать нечто новое, к чему они не были готовы в их прежнем состоянии, есть в известном смысле «насилие» над ними. При этом подходе получается, что самая невинная, казалось бы, фраза «заставить думать» несёт в себе заряд насилия. Ведь что-то принуждает нас потрудиться в чём-то
переосмыслить себя или окружающий мир, а труд всегда есть
33
Так, авторы одной из новейших работ, выполненных в русле рассматриваемого подхода, перечисляют в ряду характерных «элементов» насилия злой умысел насильника в отношении жертвы, подчинение её «агрессору» в качестве цели насильственного действия, роль угрозы в структуре
символической коммуникации, а вместе с этим — не вполне логично, на
мой взгляд, — применение физической силы, «законность» которого
спорна с противоположных точек зрения сторон насильственного действия.
Этот перечень завершается следующей формулировкой: «Насилие — это
всегда по своей природе двусмысленная интеракция» (см.: Abbink J.
Preface: Violation and Violence as Cultural Phenomena // Meanings of
Violence: A Cross-Cultural Perspective / Ed. G. Aijmer and J. Abbink. Oxford:
Berg, 2000. P. XI-XII).
300
бремя, по своему определению предполагающее некий элемент недобровольности. Можно очень логично, как это делает Теодор Адорно, интерпретируя дух и смысл гегелевской
философии, выстроить уравнение «мысль = труд = насилие»34.
А можно вслед за Людвигом Витгенштейном и Робертом Нозиком прийти к выводу о том, что любая логически строгая аргументация имеет насильственный характер, поскольку она
принуждает принять ту точку зрения, которой мы не только
противостояли до того, как услышали эти аргументы, но которой, возможно, противится всё наше «экзистенциальное» нутро, подавляемое логической силой разума35. Необычайно яркие
примеры такого противостояния и такого «экзистенциального»
неприятия дают многие беседы Сократа с его оппонентами в
более ранних платоновских диалогах. (Это позволяет некоторым комментаторам говорить о систематическом насилии Сократа над собеседниками36.)
Как обобщённо представить все эти сопряжения насилия с
мыслью и трудом (а не только с репрессиями и преступлениями)?
Видимо, только так, как это делает выдающийся французский
философ Поль Рикёр в его формуле «история есть насилие».
Коли так и коли мы не хотим больше моралистически рассуждать о
ненасилии как об императиве и «содержании» трансцендентного
34
См.: Adorno T. Aspects of Hegel's Philosophy // Adorno T. Hegel:
Three Studies. Tr. S. W. Nicholsen. Cambridge (MA): MIT Press, 1993. P. 21.
35
См.: Wittgenstein L. W. Remarks on the Foundations of Mathematics.
Tr. G. E. M. Anscombe. Oxford: Basil Blackwell, 1964. P. 193; Nozick R.
Philosophical Explanations. Cambridge (MA): Harvard University Press, 1981.
P. 4. В свете этого, кстати, и нужно оценивать степень серьезности рассуждений Хабермаса о «ненасильственной коммуникации», в которой признаётся исключительно сила «лучшего аргумента», и всех этических и политических выводов, вытекающих у него из данной концепции, о чём мы подробно рассуждали во второй части книги.
36
Блестящий анализ этого аспекта сократических диалогов см.:
Irwin Т. Н. Coercion and Objectivity in Plato's Dialectic // Socrates: Critical
Assessments / Ed. W. J. Prior. L; N. Y.: Routledge, 1996. Vol. II.
301
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Разума, то нам придётся принять и обратную сторону этой формулы: ненасилие есть требование «конца истории»37.
Если «история есть насилие», то это означает невозможность определения насилия как специфического исторического акта, отличного от других актов. Сам Рикёр, конечно, пишет
о возможности «включения ненасилия в историю». Но, оказывается, оно способно вносить «свой вклад в историю посредством
той драматической связи, которую оно поддерживает с укоренившимся насилием, с «прогрессистским насилием...»38. Иными
словами, отграничить ненасилие от насилия невозможно.
Здесь мы находим объяснение тому, почему рассматриваемый «культурный» подход к насилию оказывается не в состоянии дать его определение. Вместе с тем мы понимаем, почему подмена такого определения сколь угодно широким перечнем признаков насилия оказывается несостоятельной: такой
перечень всегда будет охватывать лишь некоторую группу явлений насилия, но не всю его «целостность» (совпадающую,
как мы знаем, с историей). Логическим завершением этого
подхода можно считать отождествление насилия Эммануэлем
Левинасом с любой причинностью, с каждым действием, в котором нет эксплицитного выражения сотрудничества в «каждом
его (действия) пункте», вследствие чего насилием оказываются даже страсть и даже вдохновение39.
Однако вернёмся к рикёровскому пониманию ненасилия
как «конца истории», ибо это может помочь нам в дальнейшем
исследовании.
37
Ricoeur P. History and Truth. Tr. С. A. Kelbley. Evanston (IL):
Northwestern University Press, 1965. P. 228. (В русском переводе вторая из
приведённых мыслей Рикёра передаётся так: «совесть отвергает историю».
См. : Рикёр П. Человек насилия и его присутствие в истории // Рикёр П. История и истина. СПб.: Алетейя, 2002. С. 264.)
38
Рикёр П. Указ. соч. С. 270.
39
См.: Levinas E. Difficult Freedom: Essays on Judaism. Tr. S. Hand. L:
Athlone Press, 1990. P. 6, 16.
302
В таком понимании нет ничего эсхатологического, мистического и тем более трансцендентного. Ненасилие трактуется
как этическая установка реальных деятелей истории, которая
реализуется (и формируется) целиком в лоне истории и потому неизбежно — насильственным образом. Но это — установка на то, чтобы «отменить» ту историческую каузальность, которая действовала «до сих пор» и которая привела, в том числе, к появлению и существованию конкретного явления насилия,
вызвавшего деятельное сопротивление носителей установки на
ненасилие. Поскольку политическое действие, вдохновляемое
такой установкой, оказывается успешным, и объект борьбы и
производимое им насилие устраняются, можно сказать, что такое действие «прерывает» логику истории, какой она конкретно была «до сих пор». «Прерывание» логики истории и есть свобода, т. е. единственно возможный способ её прихода в реальный исторический мир — через сопротивление его
неподатливой, а нередко и «свинцовой» тяжести вместо воспарения от неё в безвоздушное пространство трансцендентного.
«Прерывание» истории — это для данной ситуации её «конец»,
после которого история «начинается снова». Такие «прерывания» и сохраняют историю в качестве истории, предотвращают
её дегенерацию в эволюции, которая насквозь детерминирована и которая знает лишь количественные изменения — в противоположность рождению нового качества в истории. В этом —
смысл рикёровской метафоры.
Но само «прерывание» исторической каузальности не может быть чем-либо иным, кроме насильственного акта, направленного против насилия и в то же время выковывающего новую
цепочку исторической каузальности, которая вновь скреплена
насилием. Осознание этого обстоятельства может вызвать консервативно-благоразумное неприятие революции и «прогресса» вообще, поскольку последний всякий раз осуществляет насилие над имеющимся в данный момент статус-кво. Историческая «игра» предстаёт не стоящей свеч, коли одно насилие может
смениться лишь другим. Осознание невозможности покончить
303
Часть III. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
с насилием (вечной игрой власти и контрвласти) может вызвать
и ту усталую разочарованность в борьбе, которую столь сочно
выразил Фуко: «Нет постепенного прогресса человечества, идущего от одного сражения к другому, пока оно не достигнет универсальной взаимности [аллюзия к гегелевской диалектике раба
и господина. — Б. К.], в которой закон наконец-то заменяет войну; человечество вводит каждое из своих насилий в систему правил и таким образом переходит от одного вида господства к
другому»40.
Действительно, пока не проведено этическое различие
между разными видами насилия, пока политическое насилие
стоит на одной доске с любовной страстью и поэтическим вдохновением, любая освободительная борьба с насилием предстанет, по Шекспиру, только «сказкой в пересказе глупца. Она
полна трескучих слов и ничего не значит»41. Но можно ли провести нравственно значимое различие между разными видами
насилия, чтобы увидеть в истории нечто большее, чем такую
нелепую «сказку»?
7. НАСИЛИЕ И ОДНОСТОРОННЯЯ
БОРЬБЫ
НРАВСТВЕННОСТЬ
Сам Фуко много писал о бесконечной игре власти и контрвласти. Но он не готов наделять её каким-либо нравственным
значением, т. е. показывать, чем контрвласть «лучше» власти
или наоборот и почему нам, его читателям, нужно принять сторону той или другой из них. Поэтому он избегает понятий не
только ненасилия, но и насилия. Вместо них он пишет о власти,
которая «течёт» по капиллярам социальных тел подобно природному процессу. Но само это умолчание о насилии / нена40
Foucault M. Nietzsche, Genealogy, History // The Foucault Reader /
Ed. P. Rabinow. N. Y.: Pantheon Books, 1984. P. 85.
41
Шекспир В. Макбет (в переводе Б. Пастернака) // Шекспир В. Трагедии. Сонеты. М.: Худож. лит. 1968. С. 556.
304
силии красноречиво: этими понятиями нельзя пользоваться (не
обессмысливая их окончательно) вне нормативных контекстов,
т. е. если мы освобождаем их от «оценочного момента»42.
Однако примечательно следующее. Я взял рассуждение об
истории как череде форм господства из того эссе Фуко, которое
представляет собой по сути развернутый комментарий к Ницше.
Совершенно ясно, что многие ключевые темы Фуко — от «смерти автора» до неустранимости господства и отождествления социальной жизни с непрекращающейся войной — являются «переработанными» заимствованиями у Ницше. Но между Ницше и
Фуко в плане понимания насилия есть кардинальное различие,
которого французский философ то ли не замечает, то ли замалчивает. Оно состоит в том, что Ницше, которому всяческие идеи
прогресса столь же чужды, как и Фуко, всё же находит основания для оправдания и даже восхваления одних видов насилия и
осуждения других. В этом смысле виды насилия у него различаются и получают разные оценки. Как это делается?
По Ницше, как известно, «чернь», успешно боролась с
аристократией и нанесла ей в конце концов поражение43. Либеральное общество во всех его проявлениях — от господствующей
кантианско-утилитаристской морали и (в качестве её оборотной
стороны) нигилизма до парламентаризма, машинного производства и национально-государственного устроения Европы — есть
42
Именно нравственные оценки Фуко методически последовательно
стирает в своей концепции борьбы и игры власти и контрвласти. «Ведут
борьбу для того, чтобы победить, а не потому, что это справедливо», — пишет он. Примечательно, что это сказано о сопротивлении рабочего класса
власть имущим (см.: Foucault M. Human Nature: Justice versus Power //
Reflexive Waters: The Basic Concepts of Mankind / Ed. F. Elders. L: Souvenir,
1974. P. 85). После этого на каком нравственном основании можно принять
ту или другую сторону? В нравственном отношении победа любого из противников безразлична!
43
Именно это Ницше именует победоносным восстанием рабов в морали (см.: Ницше Ф. К генеалогии морали // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М.:
Мысль, 1990. Т. 2. С. 422).
.'О
Выбор
305
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
материализация этой победы. Против этого рутинного, анонимного, механического, измельчившего человека мира должны
подняться «мы, имморалисты». Это восстание, конечно, будет
насилием и разрушением (в грандиозных масштабах «большой»
политики), и приведёт оно к новой форме господства («моя философия направлена в сторону иерархии», а не индивидуализма,
подчёркивал Ницше44). Но это насилие и это господство — во
благо, причём в смысле восстановления не только здоровой
животности человека, с брутально-зоологическими метафорами которой Ницше особенно часто играет в «Воле к власти», но
и, между прочим, «высшего вида морали». Это — тот вид «морали», который сохраняется именно «нами, имморалистами»,
т. е. теми, кому приходится «подстреливать» мораль, чтобы она
жила (подобно тому, как подстреливают монархов террористы, тем самым оживляющие монархию)45.
Как можно этико-политически резюмировать ницшеанскую дифференциацию видов насилия — того, который осуществляется господствующей «чернью», и другого, к которому
Ницше призывает «нас»? Причём такое резюмирование должно — в противовес мысли Фуко — отвечать установке Ницше
на «оправдание истории»46.
В чём главная миссия «нас, имморалистов», и в чём оправдание «нашего» насилия? Словами Заратустры, они — в том, что
мы «из себя» создаём новые ценности как цели для человека в
том мире и против того мира, который утратил их со «смертью
Бога», стёр их до пруденциальных пошлостей «презренных последних человеков», населяющих либеральное общество и своей жалкой удовлетворённостью, своей неспособностью к твор-
" Ницше ф. Воля к власти // Ницше Ф. Соч.: В 3 т. M.: REFL-Book,
1994.Т. 1.С. 121.
45
Эти формулировки и их развёртывание самим Ницше см.: Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 320-321, 561; Ницше Ф. Утренняя заря. Минск;
М.: Харвест; ACT, 2000. С. 7 и др.
46
См.: Ницше Ф. Воля к власти... С. 70 (курсив мой. — Б. К.).
306
честву и самопониманию представляющих «плен воли». «Мы»
впервые создаём добро и зло после того, как выяснилось, что
у них нет непреходящих значений и «мы» несём освобождение
воли из «плена»47.
В этом суть дела и в этом суть отличия Ницше от Фуко.
«Имморалисты» Ницше в первую очередь — творцы, авторы
новых ценностей. У Фуко же «автор» (а вместе с ним и творчество) «основательно умер», как выразился Ницше о Боге, т. е.
о строе будто бы непреходящей нравственности, а отнюдь не о
творцах"18. И их насилие — в отличие от бессмысленных проявлений контрвласти у Фуко — есть именно освобождение. Оно
наделяет насилие смыслом, точнее, делает его собственно насилием как нравственным понятием.
Конечно, об этическом значении насилия у Ницше можно говорить только в том специфическом и ограниченном смысле, какой мы только что выявили. Этот смысл — восстановление «высшего человека» (можно сказать — высших творческих начал в
человеке), подавленного пошлой удовлетворённостью «средних
и нижесредних типов». Однако в более принятом смысле этика
предполагает нравственное отношение к Другому и прежде
47
См.: Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 19,
83, 101, 141 и др. В «Воле к власти» Ницше прямо призывает «имморалистов» смотреть на себя как на «творцов ценностей» в мире, редуцированном к функциям питания и усвоения пищи, к реагированию на среду обитания (см.: Ницше Ф. Воля к власти. С. 43, 70).
48
Некоторые размышления Фуко в конце его жизни заставляют думать, что «автор», возможно, «умер» не насовсем и не навсегда. Так, об
иранской революции Фуко говорил: революция явила «абсолютную коллективную волю... Эта коллективная воля, которая в наших теориях называется "общей", нашла себе в Иране совершенно ясную, особенную цель и таким образом ворвалась в историю». Как признает Фуко, он также думал
до этого события, что «коллективная воля» — лишь «политический миф»,
используемый философами и юристами. Аллюзия к Руссо и его критикам
здесь очевидна (см.: Foucault M. The Spirit of a World Without Spirit //
Foucault M. Politics, Philosophy, Culture: Interviews and Other Writings, 1977—
1984. P. 215).
20*
307
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ
ПОДХОДЫ
всего — такое отношение, в рамках которого Другой выступает
свободным существом. Такого отношения к Другим, противостоящим «нам», у Ницше нет. Грядущее «общество иерархии»,
между прочим, вовсе не предполагает, по Ницше, систематической жестокости по отношению к подчинённым. Более того, он пишет даже о естественном для господ «добродушии» по отношению к ним. Но то — добродушие презрения*4. В качестве такового оно не имеет ничего общего с полаганием свободы
Другого, а потому, согласно общепринятым критериям, может
быть оценено скорее эстетически (как красота духа господ), чем
этически (как нравственная взаимность).
Точнее сказать так. Между господами и рабами у Ницше
нет генерирующей культуру и этику борьбы, в которой происходит формирование культурных «идентичностей» и нравственности противоборствующих сторон — всего того, что было
главным в диалектике господства и рабства Гегеля, насквозь
проникнутой насилием, более того — ужасом насилия, но вместе с тем обладающей глубочайшим этическим содержанием.
Аристократы духа у Ницше самодостаточны и в этом — совершенны. Ницше предельно точно передаёт эту мысль: они не
борются, а просто («естественно») исходят из «так хочу, а вас
пусть чёрт возьмёт!»50.
Итак, мы имеем у Ницше этически значимое различение
видов насилия, в основе которого лежат критерии «авторства»
и освобождения. При этом под «авторством» мы договорились
понимать творческую способность созидать (ценности, цели,
историю в самом широком смысле), неудовлетворённую, а
потому протестующую и бунтующую против гнёта удовлетворённости статус-кво и требующую освобождения от этого
гнёта. Иными словами, Ницше нравственно оправдывает насилие против безнравственного насилия (со стороны «удовлетворённых»).
•"См.: Ницше Ф. Утренняя заря. С. 867 и др.
50
Ницше Ф. Вопя к власти. С. 151.
308
51
Но если «авторство» и освобождение — необходимые составляющие полноценного этического различения между видами насилия, то сами по себе они ещё не достаточны для него.
Это и показала «эстетизация» отношения «имморалистов» к их
противникам у Ницше. Нужно, чтобы «авторство» и освобождение нашли себе место и на противоположной стороне отношения насилия — на стороне тех, против кого оно применяется.
Только при этом условии мы можем этически отличить насилие
«неудовлетворённых», восстанавливающее «высшего человека»
и во вчерашних угнетателях, от насилия «удовлетворённых», насаждающего «нижесредние типы» и в своей среде, и среди угнетённых. Как можно концептуализировать насилие и различие
между видами насилия с учётом этого этического условия!
8. НАСИЛИЕ И ДВУСТОРОННЯЯ НРАВСТВЕННОСТЬ
БОРЬБЫ
Обратимся к произведению другого автора, испытавшего
мощное влияние Ницше (наряду с влиянием Маркса и Анри Бергсона), — «Размышлениям о насилии» Жоржа Сореля, написавшего, пожалуй, самую знаменитую в XX веке книгу по теме насилия.
В философско-методологическом плане главный тезис
Сореля заключается в том, что насилие в действительности исполняет функции морали, которые сама она реализовать не в
51
В контексте политики «авторство» не нужно понимать сугубо метафорически, как некий троп «философской поэзии», мало говорящий о том,
что происходит в «реальной жизни». Используя несложные приёмы перевода, «авторство» можно представить и социологически. К примеру, когда известный политический социолог Адам Пжеворский пишет о том, что
классовая борьба вначале является борьбой за само существование организованного класса, чтобы затем стать борьбой между организованными
классами, он, по существу, языком своей дисциплины рассуждает о том,
как и благодаря чему в определённом историческом контексте становится возможным «авторство» (см.: Wright E. О. Class, Crisis and the State. L.:
Verso, 1979. P. 101).
309
Часть III. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
состоянии52. Чему, в самом деле, учит мораль? Тому, чтобы
поддерживать человеческое достоинство в себе и в других.
Поддержка и защита его как практическое социальное отношение и есть Справедливость. Что может быть реальной движущей силой такой поддержки и защиты, учитывая то, что
этой силе приходится противостоять колоссальной мощи не
только наших «внутренних» эгоистических побуждений, но и
давлению «внешней» среды? Ведь среда навязывает нам конформистское примирение с бесконечными несправедливостями повседневной жизни и автоматическим попранием достоинства человека ключевыми институтами современного общества начиная с рынка и государства (они инструментализируют
человека, который для них — только средство, идёт ли речь о
средстве функционирования капитала или о средстве, обслуживающем государство).
«Внутренние» убеждения человека, остающегося одиночкой, его «внутренний голос», ассоциируемый с моралью как таковой, слишком слабы в качестве движущей силы, способной
противостоять собственному эгоизму и давлению среды. Убеждения, обладающие достаточной силой для этого, могут быть
только «плодом участия человека в той или иной войне», но никак не его «уединённых» размышлений или сугубо индивидуального воспитания (Указ. соч. С. 126). Динамика коллективной
жизни, обусловленная конфликтом и обладающая собственной
формирующей человека логикой, приходит у Сореля на место
кантовского трансцендентального «практического разума» в качестве источника морали, но морали действующей и действенной, а не созерцательной.
52
Как пишет Сорель в имеющей ключевое философское значение для
всей его книги главе «Этическая ценность насилия», «...зададимся вопросом, не способно ли было бы пролетарское насилие достигнуть тех результатов, которых напрасно было бы требовать от каких-либо средств, проникнутых мягкосердечием». Вся данная глава, как, впрочем, и остальные части книги — развёрнутый утвердительный ответ на этот вопрос (Сорель Ж.
Размышления о насилии / Пер. В. М. Фриче. М.: Польза, 1907. С. 123).
310
Чем в действительности оборачивается эта действенная и
действующая мораль? Конечно, насилием. Она отвергает ту
«механическую систему» современного либерального общества, которая своим «автоматизмом» инструментализирует
человека и лишает его достоинства. Происходит насилие над
«механической системой» (Указ. соч. С. 92). Такое насилие
есть практическая мораль не только в негативном смысле отвержения, говоря кантовским языком — гетерономии, но и в
очень важном позитивном смысле: оно есть реализация автономии как действия в логике «свободной причинности». Ведь
насилие опрокидывает детерминирующую силу «механической системы» и выражает спонтанность свободного действия,
движимого убеждением относительно достоинства человека и
справедливости.
Идеальную модель такого действия синдикалист Сорель
видит во «всеобщей пролетарской стачке». У неё, разумеется,
всегда есть материальные, так сказать, эгоистические причины,
обусловленные положением рабочего класса в современной
системе производства (в этой части своих рассуждений Сорель
предстаёт «марксистом»). Но такого рода причины Сорелю,
строго говоря, не особенно интересны. Важно лишь то, чтобы
были какие-то причины, инициирующие конфликт, который в
дальнейшем приобретает собственную логику, ведущую к описанному выше спонтанному действию. Мы оставим без рассмотрения сорелевское описание «всеобщей стачки» как идеальной модели такого действия и сосредоточимся на интересующем нас вопросе о нравственном значении насилия.
Это значение вполне очевидно, как мы уже отметили, на той
стороне отношения насилия, где рождается сопротивление, т. е.
на стороне пролетариата. Восстание против «механической системы», подавляющей субъектность и её свободное воление, превращает пролетариат в того самого «автора» общественной жизни, о котором мы рассуждали в связи с Ницше. Сорель и описывает пролетариат как «авторскую» силу истории. По отношению
к этой «роли» пролетариата его «экономическое» положение в
311
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ
ПОДХОДЫ
капиталистической системе производства выступает вторичным
и «снимаемым» в политической борьбе.
Понятийно «насилие» определяется в качестве действия,
восстанавливающего субъектность, а отнюдь не как любое подавляющее, принуждающее или разрушительное применение
силы. Насилие — способ действия становящегося субъекта истории. Противодействие (творческому) насилию, сохраняющее
«механистичность» статус-кво, Сорель передаёт понятием
«силы». «Сила» — просто выход некой энергии, будь то объект
физической природы или «механической системы» и как таковой свободный от этических характеристик. Противопоставление
«насилия» и «силы» получает здесь значение противоположности между «нравственным» и «вненравственным». Соответственно, действие пролетариата — «насилие», контрдействие
буржуазии — проявление «силы» (Указ. соч. С. 92, 97 и др.).
Однако пока мы никуда не продвинулись дальше односторонней этики «авторского» действия Ницше, которая сама по
себе тождественна эстетизации «насильника». Но в том и дело,
что Сорель двигает этику насилия дальше. У него получается так,
что становление пролетарита субъектом вынуждает и буржуазию превращаться в субъект. Ведь пока «механическая система»
находится в режиме автоматического воспроизводства, объективирована и буржуазия. Она тоже целиком находится в подчинении у «гетерономной» причинности механизмов рынка и государственной власти и в этом смысле так же лишена человеческого
достоинства, как и пролетариат. Хотя для неё такое подчинение
и лишённость имеют значение удовлетворённости, тогда как для
пролетариата — неудовлетворённости. Необходимость противодействовать выступлению пролетариата вырывает буржуазию из
рутины и автоматизма «механической системы», заставляет действовать нестандартно, принуждает иметь волю и производить
обстоятельства жизни вместо того, чтобы следовать им.
В этом смысле Сорель даёт сильнейшую формулировку
пролетарского насилия как того, что «возвращает хозяев к их
роли производителей» (какую они играли в период великих ре-
312
волюций, заложивших основы современного мира). Более того,
достоинство пролетарского насилия видится и в том, что оно
способно «вдохнуть в буржуазию некоторую долю её прежней
энергии», и именно это обозначается буквально как его «.великая цель» (Указ. соч. С. 27, 32. Курсив мой. — Б. К.).
Эти рассуждения Сореля о двустороннем этическом эффекте насилия необычайно многозначны. Рассмотрим лишь те
выводы из них, которые наиболее интересны для нас и которые
мы отчасти находим в его книге, а отчасти делаем сами.
Первое. Строго говоря, этическим эффектом обладает не
победа над противником, а борьба с ним, такая, которая превращает в «высших человеков» обоих борцов. Победа — по
мере её институционализации — восстанавливает в том или
ином виде «гетерономию» «механической системы». Этическое
значение победы — отражённое. Оно — след, оставленный в
ней этикой борьбы. Сореля нередко упрекали в том, что он в
отличие от его оппонентов — марксистов II Интернационала —
почти не говорил об устройстве «будущего общества». Сорель
довольно убедительно отвечал на это в духе критики экспертного знания, что спонтанность, каковой является описываемая им
борьба, не может быть уложена в формы «научного» предсказания, по своей природе опирающегося на действие «механической», а не «свободной» причинности. Однако я думаю, не
менее важной причиной его молчания о «будущем» была этическая невозможность для теоретика синдикализма описать обратное превращение этики борьбы в «механическую систему».
Способом молчать о будущем и был его радикальный анархизм — мечтательная экстраполяция этики борьбы «по ту сторону» победы, в неопределённое будущее. Этим «грешна» любая
теория «отмирания государства», включая марксистскую.
Второе. У Сореля насилие — в противоположность представлениям о нём тех, кто отождествляет его с применением
физической силы, — есть не отрицание достоинства Другого, а,
наоброт, — само признание его. Вызов насилия бросают тем, кто
может на него ответить с честью. Побудить ответить с честью —
313
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
«великая цель» пролетарского насилия. Поэтому сорелевское
насилие не имеет ничего общего со сметанием противника «как
класса» на «мусорную свалку истории». По Сорелю, такое сметание может быть понято только как катастрофическая неудача
в достижении «великой цели» — вновь превратить в людей чести
буржуа, тех, кто стал «презренными последними человеками».
Третье. Ясно, что применение насилия само по себе есть
отказ руководствоваться «общепризнанной» кантианско-утилитаристской моралью. Означает ли это, как написал в 1938 году
Лев Троцкий, что есть «наша» мораль, а есть — «их», что у каждого класса имеется собственная мораль, и весь вопрос заключается только в том, кто кому навяжет свою мораль?53 Мне кажется, Сорель с лёгкостью принял бы крамольную для академической этики формулировку Троцкого о том, что «мораль есть
функция классовой борьбы», но отверг бы представление о «нашей» и «их» морали.
Дело в том, что мораль — одна. Это — мораль достоинства человека как спонтанно (свободно) действующего субъекта истории. По Сорелю, пролетариат утверждает эту мораль
для себя в той же мере, в какой пробуждает (или надеется
пробудить) её у своего противника. Насилие, таким образом,
есть не противоборство разных видов морали, а борьба за
общую мораль против общей — для обеих сторон — аморальности «механической системы». Разница между Троцким и Сорелем именно в том, что у первого этика борьбы является односторонней, т. е. она присутствует только на стороне пролетариата (этически борьба возвышает только его, и только
его возвышение имеет значение), тогда как у второго она
предстаёт двусторонней. То же самое можно передать иначе.
Для Троцкого мораль — «служебный и преходящий продукт
классовой борьбы» (Указ. соч.). Для Сореля она (как мораль
достоинства человека) — самоцель.
53
См.: Троцкий Л. Д. Их мораль и наша // http:/magister.msk.ru/
library /trotsky /trotm436.htm.
314
Четвертое. Сореля часто обвиняли в «культе насилия».
Если под этим подразумевается упоение разрушительным действием силы, то в отношении него такое обвинение — вопиющая
и, думается, сознательная ложь. Она очевидна каждому хоть
немного внимательному читателю его книги, который конечно
же не может пройти мимо прямого разъяснения автором смысла «доктрины насилия»: она призвана объяснить рабочим, что
для их борьбы «совершенно не представляется необходимым,
чтобы значительно развита была жестокость и чтобы кровь лилась ручьями» (Указ. соч. С. 100).
Но теоретически интереснее другое. Если насилие — всё же
не обнаружение животной витальности (подобно нашествию Аттилы или походам ранних викингов), а этико-политическое явление, то у него не может не быть внутренних границ, которые оно
кладёт само себе, а не вследствие сопротивления своего объекта. У него должны быть такие границы уже в силу его природы
как разумного явления, поскольку разум вообще может существовать лишь отличая себя от неразумия и тем самым ограничивая себя. Каковы же границы насилия при понимании этики борьбы как односторонней и двусторонней, точнее, какие принципы
в том и в другом случаях определяют такие границы?
Для уяснения этого вновь сравним концепции Троцкого и
Сореля. Для первого это — вопрос о том, какие средства допустимы в классовой борьбе. После достаточно тривиального высказывания, что «борьба на жизнь и смерть немыслима без военной хитрости», Троцкий пишет: «Допустимы и обязательны те и
только те средства... которые сплачивают революционный пролетариат, наполняют его душу непримиримой враждой к угнетению, научают презирать официальную мораль и её демократических подголосков, пропитывают его сознанием собственной
исторической миссии, повышают его мужество и самоотверженность в борьбе. Именно из этого вытекает, что не все средства
позволены». За этим следует эффектный выпад в сторону сталинизма: вождизм характеризуется как «недопустимое средство»,
применение которого подрывает самосознание пролетариата в
качестве самодеятельной исторической силы (Указ. соч.).
315
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Таким образом, селекция Троцким «допустимых средств»
проводит границу насилия. Но она полностью соответствует односторонней этике борьбы, выражающей тот убийственный и,
как показывает история, самоубийственный классовый эгоизм,
который может быть умерен лишь ницшеанским эстетическим
добродушным презрением к противнику (которого у Троцкого
нет). К противнику, согласно Троцкому, оправданно применять
самые чудовищные средства подавления, если они не подрывают боеспособность пролетариата. Но что понимать под «боеспособностью»? Входит ли в неё уверенность в нравственной правоте своего дела, которая — по определению — возможна
лишь тогда, когда оно понимается в качестве общего дела человечества, а не служения собственному эгоизму? Противоречие односторонней этики борьбы, не замеченное Троцким, приводит к тому её слиянию с «вопросами революционной стратегии и тактики» (Указ, соч.), которое делает их «стратегией и
тактикой» исторического поражения. Трагическая судьба большевизма — наглядное тому свидетельство511.
" Этику насилия Троцкого, даже принимая его отвержение «общечеловеческой», «абсолютистской» морали, можно критиковать с иных позиций, чем те, с которых критиковал её я. С точки зрения прагматизма это
показал Джон Дьюи. Для американского философа проблема заключается не в оправдании средств целью (иного оправдания, согласно прагматизму, они не могут иметь), а в «абсолютистской», нерефлективной увязке
Троцким цели, каковой является освобождение, со средством, понимаемым как классовая борьба. С точки зрения Дьюи, дефект рассуждений
Троцкого состоит, во-первых, в том, что он не показал вариабельность связи освобождения со средствами его достижения, лишь одним из которых
(в зависимости от характера ситуации) может быть классовая борьба, тем
паче — те ее формы, которые описаны Троцким. Во-вторых, имеет место непонимание взаимозависимости цели и средств: цель заставляет искать
подходящие средства, но в зависимости от того, какие из них имеются в
наличии, происходит корректировка цели как ориентира действий (см.:
Dewey J. Means and Ends: Their Interdependence and Leon Trotsky's Essay on
«Their Morals and Ours» // Dewey J. The Political Writings / Ed. D. Morris and
I. Shapiro. Indianapolis: Hackett Publishing C°, 1993. P. 230-233).
316
Сорель тоже ограничивает насилие: оно «может быть
опасно для нравственности, если переходить известную границу» (Указ. соч. С. 99). Что делает эту границу «известной»? Всё
то, что было сказано ранее о «великой цели» субъектного возрождения на обеих сторонах отношения насилия. Ведь само оно
есть, в конце концов, «вмешательство разумной воли в действия... механических причин» (Указ. соч. С. 92. Курсив мой. —
Б. К.). Разумная воля, чтобы не отрицать себя, не должна переходить через границу, отделяющую её от неразумия. Применение всех тех методов и средств насилия, которые могут воспрепятствовать обретению буржуазией свойств спонтанно действующего субъекта, недопустимо.
Да, такая формулировка принципа ограничения насилия не
содержит точных и неизменных предписаний относительно того,
что можно, а что нельзя делать, и уж совершенно ясно, что она
не исключает априори физического насилия. На все вопросы о
«можно и нельзя» ответы даёт только конкретная ситуация. Это
кажется слишком ненадёжным ограничением насилия? Это смущает отсутствием гарантий от его чрезмерности? Это слишком
туманно? Но в истории вообще нет гарантий, и единственной надеждой, что насилие всё же будет эффективно ограничено является сама разумность воли, его применяющей. Или разум способен справиться с конкретной ситуацией, в которой ему приходится действовать, и тогда насилие останется подконтрольным,
или он бежит от нее в моралистическую болтовню о неизменноабсолютных «разрешено-запрещено», и тогда насилие превратится в ничем не обузданную чистую деструкцию. С осознанием
этой дилеммы Сорель и работает с проблемой насилия.
9. ВЫВОДЫ: ТРУДНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ
ФИЛОСОФСКОЙ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ НАСИЛИЯ
В заключение попытаемся подытожить ответ на поставленный в самом начале вопрос: почему получается так, что политическая философия вроде бы постоянно говорит о насилии и в
317
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
то же время (как считают многие, в том числе сами политические философы) всё никак не может сказать о нём что-то дельное, во всяком случае — создать его развитую теорию?
Видимо, дело заключается в следующем. Оппозиция Разум — Насилие — это не выдумка моралистов, хотя моралисты могут превратить её в ту выдумку, которую мы рассмотрели, разбирая определения насилия как аморальности. Эта оппозиция для философии неизбежна, поскольку Разум, понятый в
гегелевском смысле как рациональная организация жизни людей в обществе, есть подавление насилия. Противополжность
Разума — все те преступления, незаконные вожделения, необоснованные притязания, которые несёт необузданная стихия
частных эгоизмов, грозящая превратить общество в «войну всех
против всех». Философия как артикуляция Разума способна
дать (с той или иной степенью достоверности) теорию его развития и строения, т. е. того, как происходит подавление насилия.
Но в этой теории Разума подавление и насилие всегда будут
чем-то вроде «снятого условия» или, в лучшем случае, «предысторией» Разума, но не атрибутом его действительности. Будь
они поняты как атрибут, философия должна была бы понять
свою Истину не в качестве Разума, но как синтез Разума и Неразумия. Но тогда она перестала бы быть Логосом.
Жак Деррида придумал очень удачное выражение, чтобы
уловить скрываемую рациональной философией зависимость
Разума от Неразумия, — «конституирующее Другое». Без подавляемого насилия само существование Разума неоправданно
и непонятно, и в этом смысле Разум зависит от насилия и конституируется им. Но Разум может существовать только так, что насилие оказывается его Другим, находящимися «по ту сторону»
от него. Хотя «по ту сторону» означает не разграниченную рядоположенность, а скорее обратную сторону или изнанку. Об
этом мы говорили в начале этой лекции.
Однако в каждой данной ситуации говорит только Разум, а
не «конституирующее Другое». Он говорит не только посредством философской артикуляции, но через право, устройство
318
экономики, легальную политику и т. д. В этом смысле Ханна
Арендт права, обозначая насилие как молчание, как действие
силы без слов. Её книга о насилии — тоже не о насилии, а о
том, как и что насилие разрушает. А разрушает оно, по
Арендт, политику, понимаемую как коммуникативный Разум.
Иными словами, и в этой «постметафизической» философии
речь идёт по сути о нём же. Насилие же и «конституирующее
Другое» обнаруживают себя только косвенно — через некоторые явления в самом Разуме. Так современная физика «обозревает» неуловимый электрон по признакам его прохождения через действительно наблюдаемые объекты.
В этом, в общих словах, объяснение того парадокса, что
философия вроде бы постоянно «имеет в виду» насилие, но никак не может родить теорию насилия, даже отдалённо сопоставимую с теорией Разума.
Есть ли другие возможности уловить насилие?
Я полагаю, что есть. Такая возможность открывается, когда Разум сопрягается не с ускользающим Насилием, а с покоящимся Господством. Такое сопряжение позволяет рассматривать Насилие, во-первых, как критику Господства, во-вторых,
как освободительное действие. Философски концептуализировать Насилие можно в его форме альтернативного Разума, противостоящего Разуму господствующему. Описание Насилия в
этой форме может дать герменевтика революций55. Абрис её
и предлагает Сорель.
55
В этих рассуждениях я во многом опирался на критику хабермасовского «коммуникативного разума» и его отношения к действительности, которую развивает П. Коннертон (см.: Conner/on P. The Tragedy of
Enlightenment: An Essay on the Frankfurt School. Cambridge: Cambridge
University Press, 1980. P. 107 ff).
' 319
Лекции 13-14
ФАНОН И ГАНДИ:
НАСИЛИЕ И НЕНАСИЛИЕ
КАК ЭТИКО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ
ДЕЙСТВИЕ
1. КОРНИ СХОДСТВ И РАЗЛИЧИЙ
МЕЖДУ ПОДХОДАМИ ФАНОНА И ГАНДИ
Сравнение идей Фанона и Ганди очень удобно для прояснения
отношений между насилием и ненасилием. С одной стороны,
трудно представить себе более полярные точки зрения на эти
предметы. В самом деле, если Фанон пишет о необходимости «абсолютного насилия» и о том, что «только насилие приносит плоды»56, то для Ганди «есть только одна фундаментальная истина,
Истина как таковая, иначе называемая Ненасилием»57. Логику столь
противоположных подходов вдвойне любопытно проследить по той
причине, что они сформировались в политически весьма схожих
контекстах, а именно — национально-освободительной борьбы
афро-азиатских народов против западного колониализма: алжирского против Франции в первом случае и индийского против Англии во втором. Даже временная дистанция между событиями, отражёнными идеями Фанона и Ганди и вместе с тем впитавшими
эти идеи, совсем невелика — несколько лет, хотя между ними и
пролегла Вторая мировая война.
С другой стороны, во взглядах Фанона и Ганди на насилие и
ненасилие столь много общего (хотя комментаторы обычно проходят мимо этого), что теоретически не так легко объяснить, по54
Fanon F. The Wretched of the Earth. Tr. C. Farrington. N. Y.: Grove
Press, 1965. P. 37, 61.
57
Gandhi M. Selected Political Writings / Ed. D. Dalton. Indianapolis:
Hackett Publishing C°, 1996. P. 31.
320
чему их обобщающие формулировки, подобные приведённым
выше, оказываются диаметрально противоположными.
Действительно, высшие цели борьбы оба деятеля понимают сугубо этически, а не узко политически — как «восстановление» человека и устройство нравственно состоятельного общежития людей. Создание суверенных государств — лишь средство для достижения нравственных целей. Отправными точками
рассуждений обоих авторов выступают некие «очевидности» и
«необходимости», стоящие выше (или лежащие глубже) осознанного выбора людей. Предлагаемые ими программы и стратегии действий нацелены в первую очередь на достижение нравственного катарсиса, индивидуального и коллективного, и лишь
во вторую — на овладение властью, т. е. на то, что считается
специфическим для политики. В то же время ни у Ганди, ни у Фанона этико-политическая «истина» (нормы и принципы «правильного» устройства жизни людей) не формируется в самом процессе борьбы благодаря нравственной трансформации её участников — такой «истиной» «праведная сторона» обладает
изначально. Наконец, в обоих случаях очевидна претензия на
универсализм, если не на этическое мессианство: отстаиваемые
Фаноном и Ганди «истины» предназначены для всего мира —
Алжир и Индия выглядят скорее теми площадками, на которых
вследствие особо благоприятных обстоятельств данные «истины» получают лишь первую «обкатку».
Можно сказать, что Фанона и Ганди разделяет не то, как
они видят действительность, а то, что они в ней видят. «Как» в
данном случае относится к тому моральному «углу зрения» на
угнетение, обман, неравенство и т. д., который делает всю эту
социальную «гетерономию» категорически неприемлемой.
«Категоричность» же здесь означает нечто более серьёзное,
чем у Канта. Это не способ образования морального суждения,
а принцип формирования действующей воли, готовой идти на
любые лишения вплоть до героической смерти.
«Что» относится прежде всего к образу человека, который
видится под таким «углом зрения». У Фанона — это образ раба,
21 Выбор
321
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
доведённого «гетерономией» до крайней степени деградации,
в том числе и прежде всего — нравственной. При такой деградации единственными побудителями действий оказываются ненависть, жажда мести и зависть. Сколь бы низким ни было их
место на шкале нравственных оценок мотивов человеческих поступков, они — последний ресурс человечности в рабе. Ниже
них — только тупая апатия покорности и эскапизм в мир патологического вымысла местных культов и трайбализма. Но апатия
и эскапизм характеризуют уже не деградацию человека, а утрату способности им быть. К этому и стремится колониализм с
его технологиями производства «туземца»58. Поэтому антиколониальная борьба имеет прежде всего значение нравственной
трансформации раба посредством политической практики как
пути и формы преодоления им того «нечеловеческого» состояния, к которому его привёл колониализм.
То, что видит Ганди, в корне отлично от этого. Сколь бы ни
был задавлен и дезориентирован человек «гетерономией» угнетения и лжи, в его человеческой природе всегда остаётся «постоянный элемент». Он соединяет его с истинным законом мироздания, точнее, является свидетельством присутствия этого закона в нём. Выявить этот «элемент» несложно. О нём говорят все
основные религии мира — каждая на своём языке. Сложнее, так
сказать, привести его в действие, причём в двояком смысле. Вопервых, в качестве непреклонного правильного суждения, различающего добро и зло в каждом явлении действительности.
Правильному суждению противостоят как соблазны наших страстей, так и кажимости и фобии, внушаемые лежащим во зле миром. Во-вторых, в качестве твёрдого и отважного поступка, воплощающего такое суждение. Соответственно, антиколониальная
борьба получает значение «пробуждения осознания нашей под5i
О зависти и ненависти как основных мотивах действий «туземца» в
отношении колониста, об эскапизме в мир патологии мифа и трайбализма,
о дегуманизации «туземца» до «животного состояния» см.: Fanon F. Op.
cit. P. 39, 42, 44, 54-58 и др.
322
линнои природы», открытия заново ее «гармонии» с универсальным законом человеческого мира, забвение которой — в той же
мере плод «гетерономии» колониализма, как и его причина. (Ганди многократно подчёркивал, что не англичане завоевали «нас»,
а «мы» призвали их господство собственной испорченностью.)
«Приведение в действие» божественного элемента в нас Ганди
очень точно (с точки зрения логики его концепции) назвал «введением религии в политику»59.
Итак, мы можем резюмировать, что на «доктринальном
уровне» различия между Фаноном и Ганди вызваны разной «метафизикой» понимания человека, а отнюдь не контрастом между нравственным и безнравственным подходами к политике. Точнее сказать так: разница в том, что Фанон ярко представляет
посгметафизическое, радикально историцистское (как пишут некоторые комментаторы, «экзистенциально-марксистское»)
мышление, тогда как Ганди — типичнейший религиозный «метафизик», готовый и в XX веке рассуждать в таких категориях, как
неизменная «природа человека», «универсальный (божественный) нравственный закон», предустановленная (хотя затемняемая
обстоятельствами) «гармония» человека и мира и т. д.
2. ОБРАЗЫ ЧЕЛОВЕКА И «БУДУЩЕГО ОБЩЕСТВА»
У ФАНОНА И ГАНДИ В СВЯЗИ С ИХ ПОНИМАНИЕМ
ЦЕЛЕЙ ПОЛИТИКИ
В том и дело, что для Фанона и колониализм, и деколонизация — радикальные исторические процессы. Это означает, что
они не могут быть примитивно поняты просто как череда событий. Нет, это — творение человеческого мира и идентичностей
всех, кто к нему принадлежит. Помимо этого созданного людьми
мира ничего нет. Если он создаёт нравственно деградировавшего
" См.: The Moral and Political Writings of Mahatma Gandhi / Ed. R. Iyer.
Oxford: Clarendon Press, 1986. Vol. 1. P. 42-43; Gandhi M. Selected Political
Writings. P. 69-70.
21*
323
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
раба, то это означает, что вне его деградации мы не можем
найти никакого нравственного ресурса (в виде не затронутого
ею неизменного «элемента» его «природы»), используя который раб мог бы «подняться». Фанон «по-гегелевски» заключает: «Поселенец (европеец. — Б. К.) — тот, кто создал туземца
и кто поддерживает его существование»60.
Соответственно, деколонизация — это пересоздание «туземца», имеющее самые радикальные следствия для идентичности и существования «поселенца». Но заняться таким пересозданием может только деградировавший «туземец», опираясь лишь на те безнравственные ресурсы, которые у него
имеются. А это означает, что такое пересоздание не может
быть чем-либо другим, кроме насилия, движимого мстительностью и завистью. В этом смысл знаменитой формулировки
Фанона: «Колонизованный находит свою свободу в насилии и
через насилие. Это правило поведения просвещает его, поскольку оно указывает ему и средства, и цель»61. Политика у
Фанона оказывается самоценной и всеобъемлющей деятельностью, поскольку она творит человека из ничтожества и в этическом смысле выступает как «антропогенный процесс».
У Ганди нет ничего даже отдалённо похожего на этот драматизм фаноновского творения человека из ничтожества. Его
нет по той простой причине, что человек уже сотворён Богом и
сотворён как нравственное, хотя и впадающее в грех существо.
Катарсис, по Ганди, — не сам процесс политического освобождения, а предварительное и решающее условие политического освобождения. Катарсис здесь ближе к платоновскому припоминанию утраченной чистоты, чем к гегелевскому обретению нравственности в борьбе. В этой логике естественно
заключить, что «вера в ненасилие» невозможна «без живой
веры в Бога», что начинающие ненасильственное сопротивление
уже должны обладать высочайшими нравственными качества60
61
Fanon F. Op. cit. P. 36.
Ibid. P. 86.
324
ми, такими как «совершенная невинность», бескорыстие, безупречная правдивость и полное бесстрашие. (В противном случае
лучше вообще не начинать это дело, ибо ненасилие, вызванное
страхом или другими недостойными мотивами, много хуже насилия, как часто и энергично подчёркивал Ганди62.)
При таком подходе политика превращается в «техническое» и весьма малосущественное средство, так сказать, материальной фиксации того, что уже достигнуто предварительным
духовным очищением. «Ненасильственная революция, — говорит Ганди, — не входит в программу "захвата власти". Это программа изменения отношений, которое заканчивается мирной
передачей власти» 63 . А если оная не происходит, то это лишь
свидетельство того, что изменения «отношений» в духе ненасилия не произошло, и в таком случае передавать власть тем, кто
духовно не очистился, всё равно не стоит. Торжество «сатьяграхи» (силы истины, любви и ненасилия) и «свараджа» (внутреннего самопознания и самоуправления) должно предшествовать
политической независимости — в противном случае она будет
означать всего лишь то, что Индия останется «английской» (т. е.
нравственно испорченной и несвободной) без англичан. А за это
не стоит бороться. Это — одна из самых ключевых установок
Ганди. Именно она вызвала накануне обретения Индией независимости его резкое расхождение с Индийским национальным
конгрессом (ИНК) — партией, возглавившей борьбу за независимость и победившей в ней, но не проникшейся гандистским пониманием связи результатов политической деятельности с духовным очищением. Как сформулировал суть этого расхождения сам Ганди, «ненасилие — это моё кредо. Оно никогда не
было кредо Конгресса. Для Конгресса ненасилие всегда было
политикой... Конгресс имел полное право менять её, когда считал нужным. Кредо же не допускает никаких изменений»64.
" См.: Ганди М. К. Моя жизнь. М.: Наука, 1969. С. 533; Gandhi M.
Selected Political Writings. P. 40-41, 71.
" Ганди М. К. Моя жизнь. С. 559.
64
Там же. С. 570.
325
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Понятно, что никакая политика не может опираться сугубо
на вечные «сущности» и целиком подчинять себя проведению в
жизнь неизменных «кредо». В этом смысле расхождение Ганди с ИНК легко объяснимо и теоретического интереса не представляет. Гораздо интереснее другое: каким образом — в некоторой ситуации — политика всё же могла руководствоваться таким «кредо» и делать вечные «сущности» ориентирами
своей временной программы?
Чтобы разобраться в этом, необходимо рассмотреть два
вопроса. Первый касается отношения «частной» морали к тому
этически обоснованному политическому действию, которое
пропагандирует Ганди, т. е. к ненасилию, но равным образом и
к тому, которое защищает Фанон, т. е. к насилию. Второй вопрос связан с пониманием характера необходимости политических действий, о которой также говорят оба этих автора.
Первый вопрос. Нередко высказывается мнение о том, что
высокая нравственность деятельности Ганди проявлялась и заключалась в распространении им на общественную жизнь тех же
моральных принципов, которыми люди должны руководствоваться в своей частной жизни. Для Ганди, пишет, к примеру, В. Василенко, «не было разницы между этикой отношений между обычными людьми в практической жизни и "высокой" нравственностью общественного. "То, что справедливо по отношению к
индивиду, справедливо и по отношению к обществу", — подчёркивал он». Такой подход, по мнению Василенко, и «оказывался
вполне практичным»65. О «практичности» такого подхода мы поговорим позднее. А сейчас обратим внимание на следующее.
Верно, что Ганди не видит разницы между справедливостью в отношении индивида и справедливостью в отношении общества. Но означает ли это, что он распространяет на общество
индивидуальную мораль! Если под «моралью» понимать бес65
Василенко В. Педагогическая философия Махатмы Ганди // Махатма Ганди (Антология гуманной педагогики). М.: Издательский дом Шалвы
Амонашвили, 1998. С. 27.
326
конечную саморефлексию и самозаконодательство «я» в форме универсального закона, то «морали» у Ганди нет вообще.
«Когда умирает эго, просыпается душа», «когда человек опустошает своё сердце, в него входит Бог»66 — вот гандистское описание того, каким образом человек пробуждается к осознанию
своей подлинной природы и её гармонии с предустановленным
божественным законом. По Ганди, для этого должно исчезнуть
то самое «я», за которым мораль закрепляет саморефлексию
и самозаконодательство. Здесь мы имеем самое фундаментальное объяснение утверждения Ганди о том, что без религии
(точнее, без его понимания и его преданности религии) ни о какой политике ненасилия речи быть не может. В то же время
ясно, что если мы говорим именно о морали, то не видеть разницы между индивидуальной моралью и принципами общественной справедливости никак нельзя. Эта разница должна
быть зафиксирована хотя бы на уровне кантовского разведения
«моральности» и «легальности».
Но важно и другое следствие упразднения Ганди свободной
субъективности, без которой индивидуальная мораль невозможна в принципе. Оно заключается в том, что устранение индивидуальной морали тут же оборачивается устранением общественной
справедливости. Её место занимает братская любовь, а справедливое общество заменяется братской общиной, которую Ганди
отождествляет с подлинной демократией67. Для братской общины характерно как раз отсутствие того различения частного и публичного, на устранении которого настаивает Ганди68 и наличие
которого делает возможным осмысленный разговор как об индивидуальной морали, так и об общественной справедливости.
66
Василенко В. Педагогическая философия Махатмы Ганди. С. 30.
" «Демократ, — пишет Ганди, — должен быть совершенно бескорыстен»; система правления должна основываться на «честности и чувстве братства». Только при этих условиях становится возможным общество, являющееся его идеалом и целью его политики, в основе которого лежат «истина и
ненасилие» (см.: Gandhi M. Selected Political Writings. P. 145-146, 149).
68
См.: The Moral and Political Writings of Mahatma Gandhi. Vol. 1. P. 375.
327
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Припомним, что сама проблематика справедливости возникает именно и только тогда, когда осознаётся, что общество не может быть братством (даже аристотелевский идеальный полис зиждется на дружбе и более узко — на «политической дружбе», а отнюдь не на братстве, вследствие чего ему и необходима
справедливость). В более же актуальных для нашего времени трактовках справедливость, слегка перефразируя Юма, является «паллиативом для того, что не может быть исправлено», т. е. для неустранимого соперничества частных эгоизмов69. Справедливость, как
совершенно обоснованно замечает тот же философ, была бы бесполезной, ненужной и неизвестной людям, окажись степень их
благожелательности друг к другу более высокой, чем в действительности (или природа более щедрой по отношению к ним)70.
По существу то же самое — но при замене религиознометафизических посылок радикально историцистскими — мы
видим у Фанона. Революционная борьба требует упразднения
субъективного «я», носителем которого у Фанона выступает на
стороне повстанцев только «туземный интеллектуал». Он приходит к осознанию необходимости «аутодафе» — уничтожения
внушённых ему культурой колонизаторов «идолов эгоизма и
гордыни». Он растворяет себя в повстанческом братстве, и
главными словами его лексикона становятся «брат, сестра,
друг». «Индивидуализм должен исчезнуть первым» — это непременное условие начала борьбы. Такое духовное очищение
интеллектуала открывает ему, как и у Ганди, высшую истину
(можно сказать, что он вступает в гармонию с ней). Только этой
высшей истиной оказывается не предвечный божественный закон, а сам угнетённый народ, его страдания и чаяния. Фанон
буквально так и пишет: «Феллах, безработный, голодный тузе" См.: Hume D. Of the Origin of Government // Essays Moral, Political
and Literary / Ed. E. F. Miller. Indianapolis: Liberty Fund, 1985. P. 38.
70
Блестящее обоснование Юмом этой мысли см.: Юм Д. Трактат о
человеческой природе. Кн. Ill, ч. II, гл. 2 // Юм Д. Соч.: В 2 т. Т. 1. М.:
Мысль, 1996.
328
мец не претендуют на истину, не говорят, что они представляют истину, ибо они есть истина»71.
Ясно, что такая истина, истина «Судного дня», как её назовёт
дальше Фанон, мало похожа на нравственные принципы повседневной жизни и на то, что обычно понимается под «моралью». Индивидуальная мораль преодолена вместе с прёодолённым индивидуализмом («туземец» преодолевает даже моральное возмущение, пишет Фанон). Но параллель с Ганди здесь не кончается. Мало
сказать, что революция создаёт основанное на любви и пролитой
крови борющееся братство.Тема «любви и боевого братства» известна истории философии ещё со времён платоновского описания гомосексуальных фаланг, которые сильны в бою и мужеством,
рождённым любовью, и любовью, закреплённой общим подвигом. Успех революции превращает борющееся братство в братство победившее, т. е. в «нацию, уже неделимую», шествующую
«одним порядком в одном направлении»72.
Как мы помним, к братству понятие справедливости неприменимо. Разве что в том специфическом смысле, в каком к своей «единой и неделимой» ассоциации, созданной героическим
актом нового «общественного договора», это понятие применяет Руссо. Справедливость перестаёт быть регулятором отношений между людьми, сама необходимость которого свидетельствует о том, что эти отношения бывают несправедливыми. Она
становится обобщённой характеристикой качества их отношений, в своей совокупности образующих «ассоциацию», т. е. определением её самой как целого.
Такая трактовка справедливости равнозначна ликвидации
понятия справедливости как мерила различения и определения
«хорошего» и «плохого», упразднению его критической функции по отношению к обществу — словом, уничтожению «справедливости» в качестве этической категории. Именно таковым
оно предстаёт по отношению к утопиям «будущего общества»
71
72
Fanon F. Op. cit. P. 49; см. также Р. 47.
Ibid. P. 93; см. также Р. 85.
329
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
как продукта освободительной борьбы и у Ганди, и у Фанона,
если, конечно, применительно к утопии не будет более уместным говорить всё же о квазисоциологическом описании.
Второй вопрос. И Ганди, и Фанон разрабатывают философию и, в конечном счёте, стратегию массовой политической
борьбы. Уже в силу этого они обязаны ответить на вопрос: что
вообще заставляет людей подниматься на такую борьбу и принимать все связанные с ней риски и лишения? Почему бы им, к
примеру, не поупражняться в бентамовских калькуляциях «вреда от подчинения беззаконию» и «вреда от сопротивления ему»,
которые убедят их в нецелесообразности «делать» революцию?
Примечательно, что оба этих автора даже не задаются проблемой выбора между разными нравственными ориентациями
(разными моралями), которые могут привести к покорности или
сопротивлению. Тем более они не задумываются о том, что от
такого выбора существенным образом зависит мера решительности сопротивления, что также совсем небезразлично для исхода революции. Конечно, и Ганди, и Фанон сталкиваются с разного рода вопросами, связанными с темпами революционного
«просвещения» масс и с различными степенями их «просвещённости». Но эти вопросы отражают не выбор между этическими
принципами и соответствующими им, а потому нравственно равноценными, но противоположными линиями поступков73. Эти вопросы отражают лишь соотношения между силой и слабостью
(духа), твёрдостью и неустойчивостью (характера), просветлённостью и замутнённостью (сознания). К выбору они отношения не
имеют: при наличии силы, твёрдости и просветлённости духа он
уже не нужен, а при их отсутствии — невозможен.
п
Ведь не трудно представить себе, что и лояльность по отношению к
колонизаторам может быть продиктована высоконравственными соображениями. К примеру, стремлением отстоять саму мораль, ассоциируемую
с теми самыми западными ценностями, «выблевать которые» (дословный
перевод) предлагает Фанон или которые воплотились в презираемых Ганди институтах парламентаризма и многопартийности (см.: Fanon F. Op. cit.
P. 43; The Moral and Political Writings of Mahatma Gandhi. Vol. 1. P. 209-210).
330
Конечно, такое понимание ненужности и невозможности
выбора в свою очередь ставит любопытный этико-политический
вопрос: что делать с теми, кто в силу указанных своих отрицательных качеств остаётся в стороне от революции, не будучи её
противником, или кто ошибается, начав участвовать в ней? Отношение к таким людям Фанона и Ганди — при всём их подчёркнутом демократизме и народолюбии — очень поучительно.
Мы рассмотрим этот вопрос в связи с тем, к которому непосредственно перейдём сейчас: что именно позволяет Фанону и
Ганди игнорировать проблему выбора и исходить из того, что
нечто предопределяет отношение к революции?
3. НАТУРАЛИЗМ ПРОТИВ НРАВСТВЕННОСТИ:
ФАНОНОВСКОЕ ПОНИМАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ РЕВОЛЮЦИИ
У Фанона читаем: «Для негра, работающего на сахарной
плантации... есть только одно решение — сражаться. Он обратится к борьбе... не вследствие марксистского или идеалистического анализа [ситуации], но просто потому, что не может представить себе жизнь иначе, как в форме битвы против эксплуата74
ции, нищеты и голода» . Комментаторы справедливо обращают
внимание на то, что здесь движущей силой борьбы выступают
даже не сознание и воля, а инстинктивная реакция на «ситуацию
75
угнетения» . Некоторые обстоятельства (эксплуатация, нищета и
т. д.) предстают у Фанона «объективными фактами», не зависящими от сознания того, кто их испытывает. Испытывающий эти
«факты» — как бы «помимо» своего сознания, — так сказать,
физиологически реагирует на них восстанием. Ни о каком осознанном выборе, не говоря уже о нравственном самоопределении,
71
Fanon F. Black Skin, White Masks. Tr. C. L. Markmann. N. Y.: Grove
Press, 1967. P. 224.
"См.: Hansen E. Frantz Fanon: Social and Political Thought. Columbus
(Ohio): Ohio State University Press, 1977. P. 128.
331
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
при таком объяснении мотивов участия в революции речи быть не
может. Натуралистически понятая связь «фактов» и «реакций» и
есть та «необходимость», которая предопределяет освободительную борьбу.
Конечно, такое понимание является ложным и философски,
и исторически. Миллионы негров в течение многих веков, испытывая часто более страшную эксплуатацию и нищету, чем в XX столетии, трудились на сахарных плантациях, не поднимаясь на борьбу за своё освобождение. Эксплуатация и нищета — вообще не
«объективные факты», а явления нравственной жизни, неотъемлемой стороной которых выступают моральные оценки и их понимание людьми. Есть ситуации, в которых самый изнурительный труд,
самое мизерное материальное вознаграждение за него окажутся не «эксплуатацией», а «благородным самопожертвованием», к
примеру, во имя защиты отечества от агрессора. Таким образом,
этическое понимание ситуации, моральный выбор и нравственное
самоопределение в ней никак не могут быть «вынесены за скобки», если мы хотим понять, почему в условиях нужды и лишений
одни люди действуют так, а другие иначе.
Фаноновский натурализм в понимании необходимости освободительной борьбы имеет обширные и очень серьёзные социологические, политические и этические следствия. Остановимся на некоторых из них, наиболее важных с точки зрения
проблематики данной книги.
В социологическом плане его представление о «необходимости» освободительной борьбы приводит к отождествлению
революционных сил с крестьянством и люмпен-пролетариатом,
описанных к тому же явно идеализированно. Такая картина не
только «эмпирически» не соответствует тому, что реально происходило в Африке в период подъёма национально-освободительного движения. Она делает невозможной выработку какойлибо состоятельной политической стратегии, всегда включающей в себя комбинацию разных методов и приёмов борьбы
(а не только военных действий, коими никогда не ограничивалась
и непосредственно описываемая Фаноном алжирская револю-
332
ция). Кроме того, такая стратегия не может позволить себе игнорировать необходимость привлечь на сторону революции те
городские классы и слои, в руках которых находятся или от труда которых зависят ключевые для жизни общества экономические, административные и культурные ресурсы. «Объективные
факты» жизни этих классов и слоев конечно же во многом отличаются от тех, которые, по Фанону, вызывают инстинктивную
реакцию бунта у работника на сахарных плантациях. В социологическом и политическом аспектах фаноновское описание революции действительно является, как выразился один из исследователей, «затемняющим дело схематизмом»76.
Но, как отмечалось выше, у фаноновского натурализма
есть серьёзнейшие и этически неприемлемые следствия. Обратим внимание на два из них.
1. Революция как инстинктивная реакция не может быть
предметом этической рефлексии (и саморефлексии) в той же
мере, как и любое природное явление. Натурализм Фанона
уничтожает саму возможность критики и, что особенно важно,
самокритики революции. Непосредственным образом это проявляется в идеализированных описаниях общины революционного братства и общины победившей «неделимой» нации. Отметим попутно, что ни в той, ни в другой не находится места городским — даже трудящимся — слоям, которые не смогли слиться
с «феллахом как истиной». Фаноновские демократизм и народолюбие оборачиваются маргинализацией и дискриминацией
этих больших и очень важных общественных групп.
Невозможность критики революции и соответствующая идеализация революционного братства приводят к тому, что Фанон
не способен должным образом проанализировать и по достоинству оценить откровенно реакционные черты политической культуры, носителями которой нередко оказываются его крестьянско-люмпенские революционеры, такие как «расизм наоборот»,
ксенофобия, религиозный обскурантизм... Как, игнорируя их
76
См.: Caute D. Frantz Fanon. N. Y.: Viking Press, 1970. P. 86.
333
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
пагубное значение, можно объяснить то, что в том же Алжире,
прошедшем идеальную школу очистительного насилия, победа
революции принесла не братскую «неделимую» нацию, а череду военных диктатур, беспрецедентный размах исламско-фундаменталистского террора и угнетение этнических меньшинств
(берберов)? Натуралистическое понимание необходимости революции оборачивается апологетикой тех её пороков, позднейшее
проявление которых ужаснуло бы самого Фанона.
2. У Фанона «абсолютное насилие» присуще скорее первой фазе революции. Оно и есть инстинктивная реакция поднимающегося с колен раба. Но насилие, по Фанону, имеет эффект экзистенциальной, а также социальной терапии: оно восстанавливает человечность и в отдельном революционере, и в
революционном сообществе. На позднейших стадиях борьбы
«абсолютное насилие» уступает место, так сказать, этически
взвешенному и дозированному насилию. «Расизм, ненависть,
протест — всё это "законное желание отмщения", [которое] не
может поддерживать войну за освобождение (до победного
конца. — Б. К.)». Происходит избавление от «примитивного манихейства» противопоставлений «белый — чёрный», «араб —
христианин» (так у автора), барьеры крови и расовых предрассудков падают, благодаря чему революционеры обретают более высокую «социальную и экономическую сознательность»77.
Появление её и знаменует восстановление человека.
Такому рассуждению можно адресовать вопросы: почему
«абсолютное насилие» должно произвести столь чудесное преобразование деградировавшего раба? Почему оно не окажется лишь
деструктивной экстернализацией его уже утратившей нравственность, если верить Фанону, «натуры»? Почему пролитие крови
само по себе сотрёт «манихейские» оппозиции и разрушит барьеры предрассудков, вместо того чтобы интенсифицировать и укрепить их? Опыт истории и, несомненно, послереволюционного
Алжира свидетельствует скорее в пользу второй возможности.
77
См.: Fanon F. The Wretched of the Earth. P. 139, 144, 146.
334
Мне не известны ответы Фанона на данные вопросы. Но известно другое — то, что может считаться гегелевским доказательством невозможности восстановления человека в деградировавшем рабе исключительно посредством насилия. Собственно, вся
диалектика «господства и рабства» в «Феноменологии духа» и в
позднейших работах Гегеля — тому свидетельство. Раб должен
обрести высокое нравственное содержание ещё в рабстве — посредством труда и дисциплины (и, добавим от себя, опыта тысяч
«микросопротивлений» господству, ещё не ломающих его самого по себе). Только экстернализация накопленного таким образом
нравственного содержания делает созидательным насилие освободительной битвы с господином, в которой раб берёт реванш
прежде всего над собой за проявленную им ранее в столкновении
с господином «животность», превратившую его в раба. Насилием,
творящим новую сознательность, а также все иные этические характеристики, является производительное насилие труда, а не
само по себе разрушительное насилие битвы.
Её созидательное значение может проявляться в основном
на стороне (поверженного) господина — в смысле принуждения его к тем новым условиям жизни, которые способны воспитать в нём более высокую нравственность. Но до этого нравственного значения битвы Фанону нет никакого дела. Жан-Поль
Сартр в знаменитом предисловии к фаноновской книге «Проклятьем заклеймённые» прав: Фанон озабочен только судьбой колониальных народов, Европа его не интересует, «и ему безразлично, жива ли она или при смерти»78.
Применима ли гегелевская диалектика «господства и рабства» к колониальной ситуации, описываемой Фаноном, —
большой и сложный вопрос. Если мы не хотим мыслить метафизически или в духе исторического прогрессизма, ориентируясь
на то, что Гегель называл «планом истории», то данный вопрос
можно решать только эмпирически, посредством конкретных
76
Sarire J.-P. Preface // Fanon F. The Wretched of the Earth. Harmondsworth: Penguin, 1970. P. 9.
335
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
экономических, социологических, психологических исследований форм труда и других институтов, присущих данной ситуации. Мы должны будем исследовать их воздействие на нравственное развитие разных групп местного населения. Фанон таких исследований не проводил. Но он исходил из категорической
неприемлемости гегелевской диалектики. Отсюда его известное описание колониальной ситуации в метафоре двух существующих бок о бок «зон» — «зоны поселенцев» и «зоны туземцев». «Две зоны противостоят друг другу, но не служат образованию высшего единства. Подчиняясь законам чистой
аристотелевской логики, обе они следуют принципу взаимного
исключения. Примирение невозможно, ибо из двух категорий
одна избыточна»79.
Аристотелевская логика здесь — это закон сосуществования полиса и ойкоса как противоположностей свободы и необходимости, господства и рабства, не снимаемых в гегелевском
высшем единстве труда и борьбы. В античном мире такое снятие невозможно. Хотя натяжка видна уже в этой параллели
между «аристотелевской логикой» и колониальной ситуацией,
как её описывает Фанон. Полис и ойкос, будучи неснимаемой
противоположностью, не исключают друг друга так, что один
из них должен исчезнуть как «неистинный». Напротив, они невозможны друг без друга. Эту взаимозависимость улавливал не
только Гегель, подчёркивавший, что истина господина — в рабе
и что господство ведёт раба к свободе, но и Аристотель. Однако
как бы ни решали эмпирические исследования вопрос о применимости гегелевской диалектики к колониальной ситуации, ясно,
что из фаноновского прочтения логики Аристотеля может вытекать только «абсолютное насилие» деградировавшего раба, которое не способно вести к его нравственному восстановлению
и к историческому созиданию вообще.
Но если так, то имеет ли Фанон право использовать понятие «насилие»? Не обозначает ли он им лишь внекультурную де79
Fanon F. The Wretched of the Earth. P. 38-39.
336
струкцию? Похоже, что именно по этой причине Фанон ведёт
речь только о физическом насилии (некорректность такого понимания насилия мы обсуждали в предыдущей лекции). По этой
же причине ему не удаётся показать, как из такой внекультурной деструкции возникает человечность с её нравственностью и
сознательностью. Показ этого он подменяет заклинаниями и заверениями, что это непременно произойдёт.
4. МЕТАФИЗИКА ПРОТИВ НРАВСТВЕННОСТИ:
ПАРАДОКСЫ ГАНДИСТСКОГО
ОБОСНОВАНИЯ НЕНАСИЛИЯ
Теперь обратимся к Ганди и его представлениям о необходимости освободительной борьбы.
Такая необходимость и у Ганди выводится, строго говоря, из
некой фактичности человеческого бытия. Только это фактичность, пользуясь образами Шекспира, не Калибана, как у Фанона, а Ариэля. «Ненасилие, — пишет Ганди, — закон нашего вида,
как насилие — закон зверей»80. Законы вида, тем более действующие с непреклонностью биологических законов животного
мира, наверняка не могут быть предметом морального выбора
людей и существовать в форме их самоопределения. Таким законам можно лишь следовать в качестве представителей вида. Из
этого вытекает то, что, во-первых, закон ненасилия несовместим
со свободой человека, на что, впрочем, нам было указано и раньше, когда речь шла об «умерщвлении эго» как условии того, чтобы Бог (тот же закон ненасилия) мог войти в нас. Во-вторых, те,
кто не следуют этому видовому закону, должны считаться в самом прямом смысле животными, а не людьми.
В другом месте ту же неумолимость закона ненасилия Ганди передаёт с помощью естественно-научной метафоры: «Ненасилие преобладает везде... Подобно силе тяготения ненасилие притягивает к себе всё в мироздании. Любовь имеет эту
80
Махатма Ганди (Антология гуманной педагогики). С. 29.
22 Выбор
337
Часть III. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
силу»81. Такое уточнение (при всей загадочности формулировки о том, что тяготение притягивает к себе вместо того, чтобы
быть свойством взаимодействия разных тел в соответствии с их
массами) делает ещё яснее и необоримость закона ненасилия,
и невозможность свободы человека по отношению к нему.
При таком подходе глубинный смысл освободительной
борьбы усматривается в защите человеческого вида от насилия... Кого? По логике рассуждения, только «нечеловеков». Но
такой вывод, который при своём политическом применении
имел бы страшные последствия (к «нечеловекам» нельзя относиться «по-человечески»), несовместимые с политикой ненасилия, Ганди никогда не делает. Он обходит его с помощью самокритики «человеков». Британский колониализм — в такой логике — отнюдь не причина порчи человеческого вида, а лишь его
следствие, хотя он многократно усугубил эту порчу насаждением «монстра современной цивилизации» во всех её проявлениях — от железных дорог и машинного производства до научной
медицины и политической многопартийности. Поэтому, пишет
Ганди в своей программной книге «Хинд сварадж» (Индийское
самоуправление), «нам вовсе не обязательно делать своей целью изгнание англичан. Если англичане индианизируются, мы
можем ужиться с ними. Но если они хотят остаться в Индии вместе со своей цивилизацией, то им нет места»82.
Здесь стоит обратить внимание на некоторые моменты в
рассуждениях Ганди. Во-первых, его антивестернизм никак не
является «традиционализмом» в обычном значении этого понятия. У него нет ностальгии по индийскому прошлому, и он даже
резко осуждает многие характерные черты индийской цивилизации начиная с угнетения касты «неприкасаемых» и «тирании
индийских владык» и кончая практикой полиандрии, священной
проституцией и т. д. Он выступает против современной цивилизации как вполне современный коммунитарист, только делая
81
82
The Moral and Political Writings of Mahatma Gandhi. Vol. 1. P. 437.
Ibid. P. 235.
338
это резче и последовательнее, чем его западные единомышленники. Он критикует те ее явления, которые они принимают за
данность, уже не обсуждаемую (типа того же индустриального производства, онаученного и технологизированного здравоохранения и т. д.)· Но по существу Ганди не принимает в современной цивилизации именно то, в чём Гегель видел отличительный «принцип современного общества»: «абсолютную
самостоятельность» индивида и его конечное право признавать
или не признавать любые общественные установления83. Гандистское «умерщвление эго» — это и есть его антитеза современной свободной субъективности.
Во-вторых, бросается в глаза удивительное, на первый
взгляд, сходство в отношении к Другому (оппоненту или противнику) у фанона и Ганди. Фанон, конечно, грубее пишет о
физическом вытеснении Другого («поселенцев») из занимаемой им в колониальном пространстве «зоны». У Ганди Другой
(англичане) должен быть ассимилирован и таким образом
уничтожен в качестве Другого. Если такой способ уничтожения Другого не срабатывает, то в качестве резервного варианта Ганди готов прибегнуть к фаноновскому методу. Культурная гомогенность общества у обоих наших авторов выступает
целью, тогда как плюрализм в его серьёзном смысле сосуществования и сотрудничества разных форм культурного развития — тем, что терпеть нельзя. Это необходимо иметь в
виду, когда в дальнейшем мы будем рассматривать политику
ненасилия как обращение в «истину» заблудших и предавших
забвению общечеловеческий Закон.
В-третьих, при обсуждении того, как работает Закон ненасилия и как происходит это обращение заблудших в «истину»,
"См.: Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. С. 13. Мою интерпретацию значения этого «принципа» для понимания логики и противоречий функционирования и движения современного общества см.: Капустин Б. Г.
Современность как предмет политической теории. М.: РОССПЭН, 1998.
С. 24 и далее.
22«
339
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
скажем, тех же англичан84, Ганди производит нигде не объясняемую им и даже не фиксируемую в качестве таковой подмену
понятий. Согласно определению ненасилия как видового закона человечества, все насильники — животные. Однако Ганди по
какой-то причине пробует обратить в «истину» не весь животный
мир, а только двуногих и обладающих речью его представителей. Что позволяет отличить этих животных от других, на обращение которых в «истину» не стоит даже тратить сил?
Сама надежда на обращение в «истину» двуногих и обладающих речью животных говорит о том, что они каким-то образом
причастны человечеству, несмотря на творимые ими насилия. Но
если так, то нужно либо дать другое определение человеческого вида, не центрированное на ненасилии, либо представить последнее лишь как возможность действий тех, кто принадлежит к
виду «человек», а отнюдь не как его Закон. Возможность же по
определению может быть реализована или нет, и её реализация
или нереализация существенным образом зависит от выбора
людей реализовывать или не реализовывать её.
Однако никаких рассуждений обо всём этом у Ганди нет.
Он одновременно сохраняет и указанное определение ненасилия как видового Закона, и установку на то, что насильники могут быть обращены в «истину», причём в принципе все без исключения. («Моя концепция ненасилия, — утверждает Ганди, — универсальна»85.) А это и означает, что при переходе к
обсуждению того, как происходит обращение людей в «истину», Ганди подставляет на место прежнего определения ненаси84
Ганди очень настойчиво проводит мысль о том, что реальное действие Закона ненасилия — это и есть обращение заблудших в «истину» этого Закона. Такое действие не знает цивилизационных границ. «Меня должны извинить, если я скажу, — заявляет Ганди, — что моё последовательное
ненасилие обратило (в «истину». — Б.К.) много больше англичан, чем любое количество угроз и актов насилия» (The Moral and Political Writings of
Mahatma Gandhi. Vol. 2. P. 311).
85
The Moral and Political Writings of Mahatma Gandhi. Vol. 1. P. 430.
340
лия как видового Закона понимание ненасилия как возможности, реальное осуществление которой обусловлено массой эмпирических обстоятельств и свободной волей принимающих
решение действовать ненасильственно. Но об этой подстановке он никогда ни единым словом не говорит своим читателям и
слушателям. Не ясно, осознаёт ли он её сам.
Конечно, нам не стоило бы и останавливаться на рассмотрении этой подмены понятий, если бы дело сводилось сугубо к
логической оплошности. Но за ней стоят и, думаю, обусловливают её появление у Ганди некие императивы политической жизни. Кроме того, она имеет очень серьёзные политические следствия. Эти императивы и следствия заслуживают пристального
внимания, и подойти к их пониманию было удобно именно через
выявление логической оплошности Ганди.
У Ганди читаем: «Полная приверженность ненасилию почти
невозможна для того, кто обладает физической формой». Более того, оказывается, что «здесь (в Индии. — Б. К.), как и повсюду, жизнь теперь лишена своей основы — религии, а место
религии заняло то, что один английский писатель назвал «денежными отношениями»86. Но если религия, как мы уже знаем, —
непременное условие практики ненасилия, стало быть, такая
практика невозможна совсем. Как тогда понять смысл всех гандистских разговоров о ненасилии? Ведь ненасилие делают невозможным и самые общие антропологические характеристики
вида «человек» (обладание «физической формой»), и самые
фундаментальные социально-экономические основания его
жизни (господство денежных отношений)? Что нам в свете этого думать о ненасилии как видовом Законе?
А в том и дело, что мы должны думать, будто ненасилие — видовой Закон. Если мы не будем думать так, то ненасилие в самом деле не будет иметь места. Никто не выразил
страшный конфликт между должным и сущим, между долженствованием ненасилия и действительностью истории в более
86
Op. cit. Vol. 2. P. 218; Ганди M. К. Моя жизнь. С. 539.
341
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
острой и более отчаянной форме, чем Ганди: «Без этой
пары — истины и ненасилия — человечество будет обречено...
Меня не пугает, что мир, похоже, движется в противоположном
направлении. Так мотылёк, приближаясь к своей гибели, кружится все быстрее и быстрее, пока не сгорает. Возможно, Индия не избежит такого же кружения. Но мой долг до последнего дыхания спасать Индию, а через неё — весь мир от этой судьбы». И в другом послании: «Миллионы, подобно мне, могут
потерпеть неудачу доказать истину своей собственной жизнью,
но это будет их личная неудача, но ни в коем случае не неудача этого вечного закона (ненасилия. — Б. К.)»87.
Вечный закон как долг, а отнюдь не онтологически сущее.
Вечный закон, обязывающий меня поступать так, а не иначе, невзирая на любые последствия. Вечный закон, остающийся «истинным», даже если весь ход истории, весь «мир эмпирического» опровергают его. Да это же прямо-таки описание кантовского категорического императива! Это — та самая мораль в
чистейшем её виде, которая была ранее упразднена «умерщвлением эго» и онтологизацией Закона.
Здесь мы обнаруживаем более глубокий смысл рассмотренной выше логической оплошности. Заключается он в том, что
она позволяет перейти от религиозной онтологии к собственно
морали, делая вид, что такого перехода нет. И сам переход, и его
сокрытие имеют фундаментальное политическое значение.
Такой переход необходим, поскольку в современном
«безбожном» и культурно гетерогенном мире, в котором гегелевская «свободная субъективность» уже утвердилась вопреки стремящемуся устранить её обезличенному видовому Закону, только мораль, а не религиозная онтология может работать
в политике. Скажем точнее: религиозная онтология — в виде, к
примеру, фундаментализма — может работать в политике. Но
это будет совсем не га политика, которую хочет Ганди, если он
87
The Moral and Political Writings of Mahatma Gandhi. Vol. 1. P. 286; Ганди M. К. Моя жизнь. С. 569.
342
стремится добиться индуистско-мусульманского единства Индии
(в котором должны найти себе место также и парсы, сикхи,
джайны, христиане и, между прочим, атеисты) и взаимопонимания с англичанами. Сила и величие Ганди в том, что он хочет политики, адекватной многообразию современного мира, а не
фундаменталистской политики, направленной против такого
мира. В политике, адекватной современному миру, может работать только мораль. Она даёт возможность подняться над религиозными онтологиями, всегда остающимися в таком мире
чем-то «частным и особенным», а потому — разделяющим, и
в то же время обеспечить высшую степень служения делу с помощью присущего ей понятия долга.
Эта политическая ориентация Ганди, эта политическая
подоплёка всех его идей, включая религиозно-моральные, становятся совершенно очевидны, когда он изъявляет готовность
принять критерии политической целесообразности и эффективности в качестве оснований суждения о том, заслуживает
или нет ненасилие приверженности и поддержки людей. «Перед лицом революционера, — пишет Ганди, — я настаиваю на
ненасилии исходя не из высших соображений морали, а из более низких соображений целесообразности. Я утверждаю, что
революционный метод в Индии не может иметь успеха. Если
бы открытая вооружённая борьба была возможна, я мог бы
согласиться с тем, что мы могли бы пойти по пути насилия, как
и другие страны, и хотя бы развить в себе те качества, которые
приносит отвага на поле брани. Но достижение самоуправления посредством войны я считаю невозможным на всё обозримое будущее». «...Индия не похожа на Турцию, Ирландию или
Россию, и... революционная деятельность — это самоубийство
для страны — по крайней мере на данном этапе её развития, —
для страны столь огромной, столь безнадёжно разъединённой, для страны с таким нищим и забитым народом»88. Стало
88
Gandhi M. Selected Political Writings. P. 44; Ганди M. К. Моя жизнь.
С. 508.
343
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
быть, ненасилие оправданно, если оно способно принести
политический успех там, где насилие ведёт к провалу. Добавим:
оно оправданно, если Ганди прав не в своих религиозно-метафизических заключениях о природе человека и его гармонии с вечным Законом, а в конкретном понимании политической, социологической, экономической реальности Индии его времени.
Но если в той политике, которую взыскует Ганди, работает мораль, а не религиозная онтология, то почему он на протяжении всей своей жизни упорно обращается к последней?
В объяснении этого явления нас интересуют, конечно, в первую очередь не его личные (глубоко религиозные) убеждения,
а механизмы политического действия, в которых, судя по
всему, находится место и религиозной онтологии, каким-то
образом связанной с моралью свободы и самоопределения.
В чём заключается эта связь?
Мораль есть лишь форма суждения и волеобразования.
Содержание к ним приходит из контекста жизни, хотя оно не просто «упорядочивается» моралью, а изменяется и, так сказать,
возвышается над самим собой, обретая моральную форму. Для
морали Ганди контекстом жизни служила широкая и многообразная религиозность населения Индии. Он не видел иной реальной
силы, помимо религии, способной преодолеть индивидуальные
и частно-групповые эгоизмы, подрывавшие саму возможность
согласованного массового политического действия, не говоря
уже о ненасильственном политическом действии, требовавшем
особого бескорыстия и самопожертвования. Отсюда — то, что
рефреном проходит через многие его послания народу: мы
«должны обладать живой верой в ненасилие»89. Именно «должны», и эта модальность его формулировки в той же степени выражает неуверенность в наличии веры как факта (вспомним сказанное им об исчезновении религии в качестве основания жизни),
в какой и необходимость веры для осуществления предложенной
им политической стратегии.
89
См., например: Ганди М. К. Моя жизнь. С. 533.
344
Но способная к политической мобилизации религия — это,
конечно, не либеральная религия частной сферы жизни и приватных убеждений, «безразличная» к политике. Это — религия,
берущая на себя устройство всего социума как осуществление
высшего своего завета и только ей доступного сакрального знания. О такой религии в наши дни — в силу ряда причин — напоминает только ислам. Но Ганди прекрасно понимает, какого
рода религия, имея в виду не доктрину, а её общественную
функцию, способна послужить его целям. Именно поэтому он
пишет, как мы уже отмечали, о «введении религии в политику».
Понимал ли сам Ганди, какие противоречия несёт в себе эта
связь религиозной онтологии и морали как «факторов» современной политики? Лишь одним из их проявлений стало то, что мы
только что обсудили: ориентация на единую и культурномногообразную Индию (как прообраз всего человечества) и в то же
время выдвижение культурной ассимиляции или изгнания представителей «другой» культуры (тех же англичан) в качестве непременного условия индийской независимости!
В известной мере Ганди понимал или «чувствовал» эти противоречия. Иначе бы он не проводил столь настойчиво «экуменистскую» мысль о том, что все религии говорят в сущности об
одном и что эта общая «истина» (того же ненасилия) должна
служить ориентиром для нас всех. Но сейчас нам интересно не
то, есть ли «в самом деле» такая общая «истина» в разных религиях, а совсем другое: если религиозная онтология важна для
политики Ганди именно тем, что она берёт из контекста жизни
реальную силу для политической мобилизации, то «экуменизм»
именно этой силой обладать не может, поскольку он не является
чьим-либо жизненным контекстом.
Политически гандистский «экуменизм» совершенно предсказуемо повис в воздухе, поскольку землю (Индии) населяют
индуисты, мусульмане, христиане, иудаисты, сикхи и даже
язычники, но не экуменисты. Всей силы противоречий, коренящихся в его связи религиозной онтологии и морали, Ганди не
понял. Он верил, например, что «раньше или позже» сила этой
345
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
связи, воплощённая в его «экуменизме», заставит индуистов и
мусульман понять то, что они не могли понять. А потому — «у
них нет иного выбора (опять это «нет выбора»! — Б. К.), кроме
90
как объединиться, и поэтому я не беспокоюсь на сей счёт» .
В действительности, у них всё же оказался выбор, причём трагический. В результате Индии, какой её видел Ганди, нет — ни
в культурном, ни даже в территориальном аспектах.
5. НЕНАСИЛИЕ КАК СИЛА
Как нам в свете сказанного ответить на главный для этико-политического учения Ганди вопрос: имеет ли ненасилие
силу? Пусть нас не смущает кажущаяся парадоксальность его
формулировки о силе ненасилия. Величие Ганди именно в том,
что он понимал ненасилие как действующую силу, способную
реально менять мир, а не как устранение силы, или её нейтрализацию, или воздержание от её использования, что превратило бы его в заурядного моралиста. Нет, для Ганди ненасилие —
это революция, пусть «ненасильственная революция», «война»,
хотя понятая как «духовная война», даже «смертельная борьба», но определяемая как «дружественная». Только такой подход к ненасилию делает Ганди интересным для политической
философии".
90
The Moral and Political Writings of Mahatma Gandhi. Vol. 1. P. 56.
" В этом пункте нельзя не отметить существенных различий в понимании ненасилия Ганди и Львом Толстым, которые остались не замеченными не только многими комментаторами, но, похоже, и самим Ганди. Толстой формулировал свою концепцию ненасилия как «учение (закон) непротивления злу насилием». Ключевым элементом его учения о непротивлении
было представление о том, что человек может улучшать только самого
себя и ни в коем случае — «внешние условия (жизни), которые не в нашей
власти и изменение которых так же мало может улучшить положение людей, как взбалтывание вина и переливание его в другой сосуд не может изменить его качества» (Толстой Л. Н. Путь жизни. М.: Республика, 1993.
С. 166). Отказ «улучшать внешние условия» есть квинтэссенция аполитич-
346
На этот главный для учения Ганди вопрос нет односложного ответа. Но есть ряд умозаключений, в совокупности образующих развёрнутый ответ. Попробуем их показать.
С точки зрения Ганди, ненасилие есть сила духовного преобразования и того, кто практикует ненасилие, и насильника.
Конечно, преобразование насильника происходит против его
воли (он хочет продолжать насильничать), поэтому по внешним
признакам, если ненасилие достигает цели, оно должно быть
понято как принуждение и насилие. Но это не так. Однако не
потому, что практик ненасилия избегает применения физической силы. Это не самое главное. Важнее то, что насильник тоже
выигрывает в результате своего недобровольного вначале преобразования, поскольку ему также открывается «истина» человеческой природы и мироздания, а она и есть высшее благо.
Ганди пишет: «...в сатьяграхе (практике ненасилия "в любви". —
Б. К.) обе стороны неизменно выигрывают. Тот, кто боролся за
истину и достиг своей цели, конечно, выиграл. Но и тот, кто сначала противостоял истине, а впоследствии признал её и уступил
ей, тоже должен считаться выигравшим»'2.
Если отставить в сторону религиозную метафизику «истины»
как высшего блага, то эту гандистскую трактовку ненасилия,
включающего в себя, но снимающего в себе насилие, всё равно можно принять. В таком виде ненасилие будет представлять
ности (любая политика имеет дело с «внешними условиями»). Соответственно, никакой политической программы, в том числе программы «политики ненасилия», Толстой не предлагал и предложить в принципе не мог.
Он был именно моралистом, но никак не морально мыслящим политическим философом. В отличие от этого, Ганди не просто хотел менять «внешние условия» — его деятельность и учение были ориентированы на создание новой страны! Формулой его учения нужно считать «противление злу
ненасилием», а не «непротивление злу насилием». Эти формулы выражают фундаментальную разницу между нравственно-политическим и моралистическим мышлением. В контексте нашего исследования интересен Ганди, но не Толстой.
92
Ганди М. К. Моя жизнь. С. 471.
347
Часть III. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
собою идеальную модель процесса обучения. Обучение всегда подразумевает насилие над учеником — не только в смысле
наказаний за нерадивость, но в гораздо более важном плане принудительного расширения его умственного горизонта. Такое
расширение принудительно потому, что оно не есть результат
инициативы и самодеятельности ученика (на начальной стадии
обучения), а производится «сверху» учителем. Однако насилие
здесь не доминирующий, а подчинённый момент, оправданный в
той мере, в какой оно ведёт к снятию себя, т. е. к формированию самостоятельности ученика в овладении знанием и, в конечном счёте и в идеале, — к равенству ученика с учителем в компетентности относительно предмета обучения.
Гандистская версия ненасилия на этом уровне её описания
отнюдь не является иллюзорной и действительно отражает «силу
ненасилия». Более того, она соответствует определённой составляющей политической жизни — в той мере, в какой последняя включает в себя обучение в описанном выше смысле. Колоссальный «педагогический» эффект, который Ганди произвёл
не только на миллионы соотечественников, но и на иностранцев,
включая некоторых его противников, — лучшее тому доказательство. В этом (но только в этом) смысле можно согласиться
с теми исследователями, которые считают Ганди отнюдь не
«идеалистом», а «прагматиком»93.
Однако возникают вопросы: сводима ли вся политика к этой
её составляющей? универсальна ли «педагогическая политика»
в плане сферы и условий своего применения? Трагедия Ганди
была в том, что он давал утвердительные ответы на оба эти вопроса. Отсюда — его неприятие обычных процедур и институтов
демократии, которые, разумеется, всегда включают в себя те
компоненты иерархии, торга, манипулирования, которые никак
не растворимы в педагогике. Отсюда — отчаяние, охватившее
"См.: Степанянц М. Т. Философия ненасилия: уроки гандизма. М.
Знание, 1992. С. 11.
348
его в конце жизни: «Давайте покинем политику, чтобы воздать
славу ненасилию». «Метод ненасилия подразумевает, что когда мы не можем устранить зло, нам следует остаться в стороне от него»94. И гандистское ненасилие ретируется из реальной
политики ИНК в тишину и благость ашрама.
Итак, ко всем ли и всегда ли применим гандистский «педагогический метод»? «Не нужно думать, — писал Ганди, — что
такое (ненасильственное) сопротивление возможно только против цивилизованных правителей. Даже каменное сердце будет
растоплено огнём, зажжённым силой души. Даже Нерон становится агнцем, когда перед ним любовь. Это не преувеличение.
Это столь же верно, как алгебраическое уравнение»95. Исходя
из этой уверенности Ганди давал народам Европы нелепейшие
советы не оказывать вооружённое сопротивление Гитлеру, а побеждать его готовностью страдать96. Лишь позже он стал догадываться, что между противниками бывают различия, которые
нельзя игнорировать при определении того, могут ли они быть
учениками в «школе ненасилия». В разгар Второй мировой войны в обращении «Всем японцам» он написал: «Надежд на то,
что вы откликнетесь на моё воззвание, у меня гораздо меньше,
чем на отклик из Британии. Я знаю, что британцы не лишены чувства справедливости... Всё, что я читал, говорит мне, что вы не
прислушиваетесь ни к каким словам, а слушаетесь только
меча». И всё же в том же обращении написано: «Я сохраняю
нетленную веру в отзывчивость человеческой натуры»97.
«Педагогическая модель» политики имеет свои границы,
обусловленные обстоятельствами места и времени, характером
противника и, надо думать, «базы поддержки». Есть ситуации,
в которых гандистское ненасилие имеет (ограниченную) силу,
94
The Moral and Political Writings of Mahatma Gandhi. Vol. 1. P. 418-419.
GandhiM. Selected Political Writings. P. 56.
96
См.: Ганди M. К. Как бороться с гитлеризмом // Ганди М. К. Моя
жизнь. С. 510-512.
97
Ганди М. К. Моя жизнь. С. 517.
95
349
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
но есть и такие, в которых оно бессильно. Отметим, что то же
самое можно сказать об «абсолютном насилии» Фанона.
Рассматривая «силу ненасилия», нам нужно уточнить не
только границы и условия обладания ненасилием силой, но и то,
каким образом ненасилие может переходить в насилие, которое уже не является подчинённым и снимаемым моментом, как
то предполагает «педагогическая модель». Вот ярчайший документ, свидетельствующий о том, как реально открывалась англичанам гандистская «истина»: «Он [Ганди], действительно напугал нас, — говорит в одном из интервью лорд Ллойд, губернатор Бомбея. — Его программа переполнила наши тюрьмы.
Понимаете, просто невозможно бесконечно арестовывать людей, во всяком случае, когда их 319 миллионов. А если они потом осуществят его следующий пункт и откажутся платить налоги! Бог знает, где мы окажемся в этом случае»98.
Здесь нет и намёка на какие-либо прозрения в отношении
вечного Закона и прочей метафизики, которая явно безразлична лорду Ллойду. Но есть страх проиграть отчаянную силовую
борьбу за власть. Есть ясное осознание того, что стратегия Ганди разрушает важнейшие механизмы управления Индией и что
силой подавить её не удаётся. Перспектива проигрыша в столкновении сил, а не любовь, способная растопить «сердце Нерона», заставляет лорда Ллойда считаться с Ганди. Это и есть самое прямое проявление эффекта насилия, производимого движением ненасилия, — революционного насилия против
насильника, пусть оно осуществляется невооружёнными методами". Известно и то, что многие гандистские ненасильственные
акции в действительности сопровождались широкомасштабным
"Цит. по: Sieger M. Gandhi's Dilemma: Nonviolent Principles and
Nationalist Power. N. Y.: St. Martin's Press, 2000. P. 167.
" Британский вице-король Индии выражает это ещё яснее, прямо характеризуя знаменитые голодовки Ганди как «шантаж» властей (см.:
Klitgaard R. E. Gandhi's Non-Violence as a Tactic // Journal of Peace Research
(Oslo). 1971. №2. P. 149).
350
насилием со стороны тех, кто считал себя его приверженцами.
Ганди всякий раз осуждал это и не уставал подчёркивать, что насилие показывает незрелость Индии для его программы. Но для
силовой политики значение имели не эти осуждения, а реальные, пусть непреднамеренные следствия гандистских действий.
Волны насилия, их сопровождавшие, так же «вразумляли» и
«просвещали» англичан, как переполненные тюрьмы и развал
бюджета из-за налоговых неплатежей — лорда Ллойда100.
Суммарная, так сказать, результативность гандистской
стратегии складывалась как из ненасильственного «педагогического эффекта», в котором насилие присутствовало в снятом
виде, так и из прямого насилия. Оттого, что Ганди не понимал
роль последнего в освобождении Индии, суть дела, конечно, не
меняется. Более того, прямое насилие гандистской стратегии,
как и любое насилие, имело свои невинные жертвы. Для Ганди
это было приемлемо.
Возьмём для примера бойкот английских товаров, который
Ганди рассматривал в качестве одного из принципиальных элементов стратегии ненасилия101. Ганди ясно: бойкот обернётся тем,
что Ланкаширу (центру английского текстильного производства)
«придётся пережить некоторые потрясения»102. Признавать это —
значит понимать, что бойкот есть «реальная политика» силового
воздействия на Англию посредством подрыва определённого
сектора её экономики. «Ланкаширские потрясения» в первую
очередь затронут английских рабочих, которым грозят увольнения, а отнюдь не бюрократическо-финансовую элиту, угнетающую Индию. Недовольство невинных жертв — в классической
логике шантажа — используется для давления на тех, кому в действительности предназначено «послание», но кому непосредственно предпринятая акция не угрожает.
100
См. об этом: The Politics of Mass Violence in India / Ed. S. P. Aiyar.
Bombay: Manaktalas, 1967, особенно гл. 1, 3, 6.
101
См.: Gandhi M. Selected Political Writings. P. 60.
102
Ганди M. К. Моя жизнь. С. 468.
' 351
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Конечно, результативность всех элементов гандистской
стратегии (бойкота, неплатежа налогов, массовых демонстраций
и т. д.) обусловлена тем, что она направлена на противника, действующего в определённой экономической, политической и культурной логике. Лорд Ллойд мог бы отдать приказ расстреливать
арестованных, и тогда тюрьмы бы не переполнялись. Недовольство уволенных ланкаширских текстильщиков, вероятно, не произвело бы никакого впечатления на английскую элиту, если бы в
Англии не было выборного парламентского правления и всеобщего избирательного права. Угроза бюджету не останавливала
политиков типа Гитлера, Пол Пота или имама Хомейни в проведении задуманного ими потому, что в своих действиях они руководствовались «этикой абсолютных ценностей (или антиценностей)»,
а не буржуазным экономическим расчётом, который был «само
собой разумеющейся» логикой английской политики.
Некоторые комментаторы справедливо пишут о том, что
стратегия ненасилия может работать только в том случае, если
противником выступает утилитарист как «максимизатор собственного интереса», а отнюдь не человек «абсолютного долга»103. Идти на какие-либо уступки Ганди — даже ввиду больших
материальных потерь — «человеку долга» не позволил бы именно «абсолютный долг». Понять и принять вечную «истину» Ганди он бы тоже не смог, поскольку сам обладает высшей «истиной», по отношению к которой «истина» Ганди — ложь. Утилитарист же готов идти на уступки как раз потому, что любой
«высшей истине» предпочитает соблюдение собственного «интереса». И получается (кажущийся) парадокс: стратегия ненасилия работает как раз благодаря неспособности Ганди обратить в свою веру (полного бескорыстия, абсолютного долга и
прочих атрибутов ненасилия) его противников. Похоже, Ганди
иногда догадывался об этом парадоксе, как в том обращении к
103
Блестящее доказательство этого тезиса, исполненное в жёсткой логике «теории рационального выбора», см.: Klifgaard R. E. Op. cit. Особенно
с. 147-149.
352
японцам, в котором он выразил предпочтение иметь противниками англичан, а не их.
Итак, сделаем умозаключение о том, обладает ли гандистское ненасилие силой. За рамками тех границ и условий, в которых ненасилие обладает силой как ненасилие, оно может иметь
силу в качестве насилия. Суммирование и даже синергетика сил
этих двух видов определяют политическую эффективность ненасилия. Но у неё имеется важное ограничение. Ненасилие работает лишь в той мере, в какой оно не способно обратить в свою
веру противника. Как минимум, он должен оставаться утилитаристом — в широком, а не специально философском значении этого слова. Отдельные же случаи обращения противников в свою
веру нас не могут сейчас интересовать. Такие обращённые противники лишь пополняют ряды одной из участвующих в этой игре
сторон, что может быть важно с точки зрения тактики ведения
игры ненасилия, но безразлично для её логики.
6. НРАВСТВЕННАЯ ОЦЕНКА НЕНАСИЛИЯ
В ПЕРСПЕКТИВАХ УЧАСТНИКОВ ПОЛИТИКИ
Признав — со всеми указанными ограничениями и уточнениями — за ненасилием силу, мы должны теперь поставить
обобщающий вопрос: а всегда ли нравственно «хороша» эта
сила? При кажущейся простоте и даже «очевидности» ответа
данный вопрос очень сложен. Как и любой встающий в политике вопрос, он подразумевает уточнение — для кого! Будем
твёрдо помнить, что любые политические идеи, уходящие от
такого уточнения и настаивающие на том, что они предназначены «всем» и несут благо для «всех», есть обман. В каких-то случаях, когда таким образом продвигаются интересы угнетённых
и униженных, это может быть обманом «во благо» и даже идеологической необходимостью действительного улучшения жизни «общества как целого». Ведь участие в борьбе может требовать самопожертвования, которое никогда не обеспечит преследования лишь собственного интереса, а потому в такой
23 Выбор
353
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
обман (или самообман) нужно верить, чтобы действовать.
Но существо дела от этого не изменится.
В отношении ненасилия вопрос «для кого оно хорошо?» ставить особенно трудно. Ведь ненасилие, как уже говорилось,
отождествляется с моралью как таковой. А можно ли относительно морали поставить вопрос «для кого она хороша?»
Вопрос «для кого?» применительно к политическому действию конкретизируется посредством выявления трёх перспектив: перспективы инициатора действия, перспективы деятельно
реагирующей на него стороны и перспективы «третьей стороны», испытывающей следствия действий (в том числе — непреднамеренные), недеятельно не участвующей в событии.
Применительно к политике ненасилия мы сделаем следующие допущения (дабы не переходить к историко-эмпирическому её исследованию). Первое: инициаторами ненасильственного действия выступают угнетённые, поскольку у них нет «обычных» силовых средств проведения политики, сосредоточенных в
руках угнетателей. Второе: реагирующей стороной выступают
угнетатели, против которых направлено это действие. Третье:
обозначим «третью сторону» как «публику» в кантовском смысле, т. е. как тех, кто наблюдает за событием без непосредственного интереса к его исходу.
При таких допущениях мы можем выявить следующее.
«Хорошо» или «плохо» ненасильственное действие в перспективе угнетателя — не является этически значимым вопросом, ибо
нравственное значение имеет неприемлемость самого угнетения. Это же нравственно оправдывает выступление угнетённых.
(Более конкретные условия и границы такого оправдания мы
обозначили в критике фаноновских представлений о насилии.)
От перспективы «публики» мы вправе сейчас отвлечься, предположив, что любая демонстрация нравственно ориентированной
воли может рассчитывать на её поддержку. (От манипулирования «публикой» власть имущими мы сейчас абстрагируемся.)
Остаётся перспектива угнетённых и инициаторов ненасильственного политического действия.
354
Но здесь вопрос: «хороша» ли сила ненасилия? — встаёт
с предельной остротой. И главный дефект гандизма я вижу в
том, что он этот вопрос даже не ставит. Это и оборачивается
тем, что можно назвать аспектом безнравственности в гандистском ненасилии.
В самом деле, Ганди утверждает, что «нет такой вещи, как
поражение в ненасилии»104. Утверждение это вдвойне странно
потому, что сам он, итожа свою жизнь незадолго до смерти
(в 1948 году), признал себя «банкротом»105. Но чем он занимался в жизни, если не пропагандой и практикой ненасилия? Если это
всё завершилось «банкротством», то как понимать, что поражение в ненасилии невозможно? По Ганди, понимать это нужно
буквально: даже провал попыток миллионов людей «доказать
истину ненасилия» столь же мало может подвергнуть её сомнению, как и «банкротство» самого Ганди.
Здесь ненасилие оборачивается своей бесчеловечностью.
Люди и их жизни оказываются лишь средством подтверждения
и реализации идеи, не имеющими никакого значения сами по
себе. Более того, их гибель даже необходима, чтобы идея воссияла во всём её блеске. Самое, насколько мне известно, чудовищное в нравственном отношении заявление Ганди звучит
так: «Наш триумф состоит в том, чтобы тысячи людей вели в
тюрьму подобно агнцам на бойню»106. Заметим: триумф заключается не в том, чтобы людям стало жить «хорошо», для чего
политика ненасилия — лишь средство (даже одно из возможных
средств), а совсем наоборот: «хорошо» проводить политику
ненасилия, даже когда она оборачивается бойней невинных.
В некоторых случаях ненасилие и в самом деле обладает
огромной силой вести людей на лишения и смерть. Не забудем:
мы говорим о его силе по отношению к угнетённым, т. е. рассуждаем в их перспективе, ибо по отношению к угнетателям и
104
105
106
23·
The Moral and Political Writings of Mahatma Gandhi. Vol. 2. P. 322.
Ганди M. К. Моя жизнь. С. 568.
Gandhi M. Selected Political Writings. P. 74.
355
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
«публике» ненасилие явно такой силой не обладает. Их ненасилие не ведёт никуда. Но это — сила зла, если она приносит им
не свободу и достойную жизнь, а только лишения и смерть.
Зло — любая сила, оказывающаяся самодостаточной и оправдывающей себя через себя саму. Для такой силы всё низводится к средствам, даже люди и их жизни.
В другое время и в другой стране, хотя тоже «из первых
рук» знакомой с гандизмом, был сделан вывод, устраняющий это
заклятие безнравственности с политики ненасилия. Нельсон Мандела на процессе 1963 года, который привёл к десятилетиям его
тюремного заключения, сказал: «Тяжёлый факт заключается в
том, что пятьдесят лет ненасилия не принесли африканскому народу ничего, кроме всё более репрессивного законодательства
и всё более усечённых прав... Решение прибегнуть к насильственным формам политической борьбы было принято только тогда,
когда потерпело неудачу всё остальное и когда все каналы мирного протеста оказались для нас перекрыты...»107.
Да, апартеид в ЮАР был другого культурного и политического «замеса», чем британский колониализм в Индии. Ганди откровенно повезло с противником — для него «каналы мирного
протеста», как и «всё остальное», по сути, никогда не были перекрыты. Смог бы он на месте Манделы108 сделать тот же этико-политический вывод о границах ненасилия, какой сделал Мандела? Или всё ограничилось бы «триумфом бойни» при полном
забвении «триумфа свободы»?
107
Mandela N. The Struggle Is My Life. N.Y.: Pathfinder, 1986. P. 165-166.
Известно, что Ганди впервые пришёл к идеям политики ненасилия в
начале XX века именно в Южной Африке, и в этом смысле он был непосредственно знаком по крайней мере с зачатками системы апартеида. Можно спорить, насколько успешной была его стратегия в Южной Африке, но
очевидно то, что он защищал права индийского меньшинства, находившегося в несравненно лучшем положении, чем коренные жители этой страны,
и что он никогда практически не ставил вопрос о ликвидации существовавшей политической системы как таковой. В обоих смыслах он не был «в положении» Манделы.
108
356
Ирония истории проявила себя в том, что внешне столь противоположные стратегии Фанона и Ганди сработали и в Алжире,
и в Индии, хотя то, чем обернулся такой успех, по меркам обоих авторов, должно быть признано неудачей. Ведь ни фаноновской «неделимой» нации-братства, ни гандистского основанного на
«истине» и ненасилии общества так и не возникло в результате обретения этими странами независимости. Но мы знаем, что в политике имеют значение результаты, а не намерения её участников. Поэтому мы не согласимся с самооценкой Ганди как банкрота и аналогичным суждением, которое вынес бы о себе
Фанон, не умри он слишком рано, чтобы увидеть постколониальные муки Алжира. Однако перед нами остаётся вопрос: возможно ли — на уровне политической стратегии — преодолеть абсолютизацию и насилия, и ненасилия и вместе с тем — безнравственность, присущую обоим? И при этом добиться реальной
политической эффективности? Посмотрим на «послание жизни»
Вацлава Гавела.
ГАВЕЛ:
ПОЛИТИКА КАК ИСКУССТВО
НЕВОЗМОЖНОГО
Лекция 15
1. «НАСИЛИЕ НАД СОБОЙ» И АЛЬТЕРНАТИВА ЕМУ
«Послание жизни» Гавела — о сопротивлении коммунистической власти в бывшей Чехословакии. Во избежание недоразумений
сразу уточню: герой этого повествования — Гавел-оппозиционер,
а не Гавел-президент, кем он стал после победы «бархатной революции» 1989 года. Дело не в том, хорошим или плохим президентом был Гавел, а в том, что «послание» власть имущего не может
не отличаться своим нравственным характером от «послания» оппозиционера. Хотя сам Гавел, по крайней мере первые годы своего президентства, считал, что в нравственном плане у него ничего не изменилось и что его политика продолжает оставаться «практикой морали», какой она была в период сопротивления власти109.
Но это, конечно, не так. Проблема даже не в том, что, будь
он верен своей «диссидентской» идее о борьбе с «глобальным
тоталитаризмом», который охватил и коммунистический Восток,
110
и капиталистический Запад (хотя в несколько разных формах) ,
он вряд ли столь радостно приветствовал бы вступление его страны в НАТО. С точки зрения нашей тематики важнее, что в «диссидентские годы» он не позволил бы себе сказать (о протестующих против плодов «посткоммунистических реформ» в Чехии,
осенённых его именем) — «они по молодости ищут какую-то
иную альтернативу, чем та, которую предлагают демократичес'<" См.: Havel У. Paradise Lost // The New York Review of Books. April 9.
1992. P. 8.
110
См.: Havel V. Anti-Political Politics // Civil Society and the State / Ed.
J. Keane. L; N. Y.: Verso, 1988. P. 393 (а также всю эту статью, поскольку
она посвящена обоснованию и развитию именно этой мысли).
358
кие партии»111. Он не сказал бы этого не потому, что участники
протестов ищут альтернативу в верном направлениии, а потому,
что не искать альтернативу — даже когда все довольны статускво — неправильно само по себе. Ведь не искать её — значит утерять свободу, слиться с гетерономией, с тем, что «допрезидентский» Гавел не без хайдеггеровского влияния называл «безличной объективностью». При таком слиянии политика просто не
может быть «практикой морали». Разница между «посланиями»
оппозиции и «посланиями» власти заключается в разном понимании нравственного значения поиска альтернатив. Именно это заставляет нас сосредоточиться на «Гавеле до 1989 года».
Какую же альтернативу и альтернативу чему искал Гавелоппозиционер?
То, чему искал альтернативу Гавел, подробно описывается
в понятии насилия. Но оно приобретает у него непривычный для
нас (после работы с текстами Фанона и Ганди) смысл: речь идёт
не о насилии кого-то над кем-то, а об «автонасилии», о насилии
над самим собой. «В конце концов, — пишет Гавел, — посттоталитарная система"2 не является проявлением особой политической
111
Осетинский О. Алое сердце над Прагой: Интервью Вацлава Гавела // Известия. 2002. 24 дек. С. 7.
112
Этим понятием Гавел характеризует восточноевропейские общества,
прошедшие десталинизацию, но сохраняющие все основные элементы «коммунистической системы». Данное понятие имеет очевидную полемическую
направленность против «стандартных» определений тоталитаризма в западной
политической науке, получивших наиболее связное и известное выражение в
книге 3. Бжезинского и К. Фридриха о «тоталитарных диктатурах и автократии». Напомню, что такие определения фокусировались на сумме институциональных признаков тоталитаризма (см. : Friedrich С., Brzezinski 2. Totalitarian
Dictatorship and Autocracy (revised edition). Cambridge (MA): Harvard University
Press, 1965. P. 9-10, 84-85, 293-299). Гавеловская концепция «посттоталитаризма» гораздо ближе к той, которую разрабатывала Ханна Арендт (см.:
АрендтХ. Истоки тоталитаризма. М.: ЦентрКом, 1996. Ч. 3. Более подробный
анализ западных дискуссий вокруг понятия «тоталитаризм», включая разбор
концепции Арендт, см.: Капустин Б. Г. Современность как предмет политической теории. С. 209—244). В дальнейшем я буду пользоваться более привычным
для российского читателя термином «тоталитаризм».
359
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
линии, проводимой особым (типом) правления. Она — нечто радикально отличное от этого. Это — комплексное, основательное
и долговременное насилие или, точнее, насилие общества над
собой». Соответственно, и альтернатива такой системе «не может уже представлять собою политическую линию или программу». Ведь проблема состоит в действительности в изменении не
политической линии, а «самой жизни». При этом очевидно, что
альтернативой «автонасилию» должно быть именно ненасилие.
Установка оппозиции, подчёркивает Гавел, является и должна
быть чуждой «идее насильственного изменения (посттоталитарной) системы» и в этом смысле — идее восстания, которое всегда «существенным образом нацелено на насильственные перемены просто потому, что оно верит в насилие».
Однако и эта установка на ненасилие, если сравнивать её с
гандистской, выглядит «странной»: в ней нет морального абсолютизма, она скорее похожа на «разумную стратегию», чем на незыблемое кредо и оглашение вечного Закона. «Говоря вообще, —
уточняет Гавел сразу же после формулировки установки на ненасилие, — позиция "диссидентов" допускает насилие только в качестве необходимого зла в крайних ситуациях, в которых лишь насилие может быть ответом на прямое насилие и в которых сохранение пассивности равнозначно поддержке насилия...» Но разве тот
же Фанон говорил нам что-то иное? Конечно нет, ибо колониализм
и был для него той «крайней ситуацией», в которой на прямое насилие колонизаторов можно ответить только насилием «туземцев», а всё другое — тождественно коллаборационизму.
Да и сам Гавел совершенно недвусмысленно пишет не только о допустимости, но и о целесообразности вооружённых восстаний как типичном для истории способе трансформации ситуаций, которые характеризуются политическим динамизмом, острой конфронтацией противостоящих друг другу общественных
сил, глубоким кризисом существующей системы. Такие ситуации
часто возникают, к примеру, при «классических диктатурах». Но
в том и дело, что в коммунистической Восточной Европе, пожалуй, за исключением Венгрии 1956 года, ситуация совсем иная.
360
В ней нет «классических диктатур», нет «глубокого кризиса» системы, нет острой (и вообще сколько-нибудь заметной) конфронтации «противостоящих сил» и уж совсем нет осознания ими
своих «целей и задач». Есть другое: статичность порядка, конформизм, даже не осознаваемый в качестве такового, и весьма
распространённое довольство статус-кво. Это — довольство того
рода, которое вызывают «мышиная гонка» за удовольствиями потребления и соответствующая ей «тривиализация» человеческой
жизни при забвении высших ценностей.
Все эти характеристики, говоря попутно, делают коммунистические общества Восточной Европы похожими на западные,
так что те и другие можно считать разными проявлениями одного и того же «потребительского и индустриального общества». Последнее и есть тот «глобальный тоталитаризм», гавеловское суждение о котором как о стратегическом противнике
освободительного движения я упомянул в начале лекции. Восточной Европе, в известном смысле, повезло в том, что в ней
«тоталитаризм» проявился грубее, и он более очевидным образом вызывает необходимость защиты достоинства человека.
Благодаря этому она может быть ближе к «моральной политике» и свободе, которые Гавел ассоциирует с восстановлением
«подлинности человеческого существования», чем Запад"3.
Однако параллель между гавеловским и фаноновским пониманием насилия (на основе признания допустимости и целесообразности вооружённого восстания) не только не должна заходить
113
См.: Havel У. The Power of the Powerless / Ed. J. Keane. Armonk (N. Y.):
M. E. Sharpe, 1985. P. 26-27, 68, 70-71, 90-92. Имеется опубликованный более 10 лет назад в Белоруссии русский перевод этого очень важного эссе Гавела (см.: Гавел В. Сила бессильных / Пер. И. Шабловской и Л. Вихревой.
Минск: Полифакт, 1991). Как вследствие практической недоступности этого
издания отечественному читателю, так и по причине необходимости корректировки некоторых использованных в этом переводе понятий и формулировок
я обращаюсь к американскому изданию, тщательно сверенному с чешским
оригиналом. Тем не менее считаю необходимым отметить, что в целом перевод белорусских коллег отличается высоким качеством.
361
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
слишком далеко — её, по существу, нельзя проводить. (Совершенно то же самое можно сказать о гавеловском и гандистском
понимании ненасилия.) Решающая причина воздержаться от проведения такой параллели заключается в различии и даже противоположности методологий, с которыми Гавел и Фанон подходят
к постижению ситуаций, порождающих насилие или ненасилие.
Суть здесь в том, что у Гавела нет и тени того натурализма, который присущ Фанону (как нет и намёка на вечный нравственный
Закон «человеческого вида», столь важный для Ганди).
2. УДОВЛЕТВОРЁННЫЙ РАБ И МОРАЛЬНЫЕ
ОСНОВАНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ РАБСТВУ
Как мы помним, у Фанона раб не только постоянно готов
к восстанию, но и не может представить себе жизнь в иной форме, помимо восстания. У Гавела, напротив, раб не только не готов к восстанию, сколь бы полной ни была ликвидация его свободы (мы увидим далее: он не готов к восстанию, потому что
его свобода ликвидирована с такой полнотой), но и не видит в
себе раба. С точки зрения освобождения, ситуация, описываемая Гавелом, гораздо более трагична: есть факт колоссального угнетения и попрания человеческого в человеке, но нет (на
массовом уровне) политического стремления освободиться.
У Гавела факты — в отличие от Фанона — перестают естественным образом конвертироваться в политические действия. Угнетённый перестаёт быть, как он был у Фанона, естественным и
«универсальным» «политическим животным»"4, а потому — и «истиной» (как фаноновский феллах). Вместо этого он оказывается
одновременно и объектом принуждения, и носителем системы
угнетения, её жертвой и бенефициарием. Такая двойственность
характерна для всех, кто принадлежит этой системе, независимо
от их близости к «рычагам власти» или удалённости от них. В результате система утрачивает этическое значение зла как насилия
114
Fanon F. The Wretched of the Earth. P. 81.
362
кого-то над кем-то. Утратив такое значение, она предстаёт просто
«механизмом», суммой технологий (власти, но также и распределения, производства и т. д.), не подлежащих нравственному оцениванию подобно явлениям природы. Поэтому они не вызывают
нравственного протеста и оказываются недоступны для политического действия и сопротивления. Именно этими соображениями
обусловлен постоянный акцент Гавела на том, что «все мы, хотя,
разумеется, в разной степени, ответственны за функционирование
тоталитарной машины; никто из нас не является исключительно
115
жертвой — все мы так же являемся её создателями» .
Отсутствие прямой конвертации фактов в акты сопротивления заставляет увидеть в качестве центральной задачи стратегии освобождения нахождение нравственного опосредования
между положением дел и (потенциальным) действием. Такое
опосредование — это сознание, которое, с одной стороны, способно отнестись к данным фактам как к чему-то неприемлемому, а с другой — дать не просто мотивацию для борьбы, но ту
степень решимости бороться, которая могла бы вывести бунтарей по ту сторону бентамовской утилитаристской калькуляции
выгод и невыгод сопротивления. Ведь на борьбу, по крайней
мере на начальном её этапе, поднимаются именно «бессильные». Сталкиваются же они не просто с мощной властью, а со
«всем миром», т. е. системой, которая включила в себя всех,
115
Havel V. A Contaminated Moral Environment // The Penguin Book of
Twentieth-Century Speeches / Ed. B. MacArthur. L: Penguin, 1999 (2nd ed.).
P. 470. В «Силе бессильных» Гавел подчёркивает: «...В действительности все
вовлечённые (в функционирование тоталитарной машины. — Б. К.) порабощены — не только зеленщики, но и премьер-министры. Различные позиции
в иерархии устанавливают лишь разные степени включённости». Эта машина «не есть продукт чьей-то дьявольской высшей воли, по непонятным причинам решившей терзать таким образом некоторую часть человечества.
Она [машина] могла появиться и появилась только потому, что в современном человечестве присутствует тенденция, ведущая к [её] созданию или, по
крайней мере, — терпимому отношению (к ней)...» (Havel V. The Power of
the Powerless. P. 37-38).
363
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
превратила всех в своих агентов и носителей, а потому исключила какую-либо «разумную» оппозицию себе1'6. Любой утилитаристский расчёт покажет абсурдность такого сопротивления.
«...Очень трудно представить, — пишет Гавел, — разумного
человека, исходящего из расчёта сегодняшних жертв и завтрашних выгод, который принял бы такую линию действий...»'17. Утилитаризм насаждается тоталитарным обществом потребления,
являясь его надёжным средством защиты.
Освободительная борьба, таким образом, не может даже
начаться без утверждения морали, преодолевающей утилитаризм. Следовательно, этическое опосредование между фактами и актами сопротивления, которое нужно найти, является, по
выражению Гавела, «моральным аспектом» (жизни людей), а
если точнее, то таким, который способен показать, что «есть
некоторые вещи, достойные того, чтобы за них страдали»"8.
Как же найти этот «моральный аспект»?
Здесь — ядро всей концепции Гавела. В поисках ответа на поставленный вопрос его мысль раздваивается, чтобы позднее — на
уровне разработки программы действий — воссоединиться
вновь. Раздвоение происходит потому, что он стремится выявить
как бы две точки опоры для возрождения «морального аспекта».
Одну из них условно (я скоро поясню смысл этой условности)
можно назвать «метафизической», вторую — практической, коренящейся в «праксисе». Воссоединение же осуществляется таким
образом, что выработанный практикой «моральный аспект»
116
Трудно не заметить бросающуюся в глаза параллель между этим гавеловским описанием тоталитарной системы, с одной стороны, и тем, как
Фуко характеризует «власть» вообще и в особенности то, что он называет «управляемостью» или «управляющим государством», приходящим —
в логике эволюции западного общества — на смену «административному
государству» и ещё более раннему «государству справедливости» (см.:
Foucault M. Governmentaiity // The Foucault Effect: Studies in
Governmentality / Ed. G. Burchell et al. Chicago: University of Chicago Press,
1991. Особенно р. 97-104.
117
Have/ V. The Power of the Powerless. P. 45.
118
Ibid. P. 48.
364
изображается как нечто необходимое, т. е. как бы «метафизически» гарантированное некой реальностью, лежащей «глубже»
практики и не зависящей от всех её «случайностей» и пертурбаций.
О «метафизической» опоре возрождения морали я скажу
лишь бегло, поскольку она несовместима со всей логикой рассмотрения связи морали и политики, принятой в данной книге, и,
на мой взгляд, не является необходимой для уяснения того, как
такое возрождение возможно в тоталитарной ситуации. Вторую
точку опоры мы обсудим гораздо подробнее.
3. УСЛОВИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ МОРАЛИ
«Метафизическая» опора — это элемент хайдеггерианства
в гавеловской концепции1", который побуждает Гавела считать,
что тоталитаризму, сколь бы ни была велика его способность манипулировать людьми вплоть до полного забвения ими своей
«подлинной природы», присуще коренное и неустранимое противоречие «между целями жизни и целями системы». «Жизнь»
в этой формуле — нечто близкое хайдеггеровскому онтологическому Бытию, «система» может быть сопоставлена с «онтическими бытийствованиями» или даже просто с das Man. Последнее
скрывает от нас Бытие, но не может, так сказать, растворить его
в себе и поглотить «без остатка». Это оставляет для нас возможность — хотя бы ценой почти сверхчеловеческих усилий — прорваться к Бытию и обрести свою «аутентичность». Гавел несколько снижает драматизм хайдеггеровского прорыва к Бытию и очевидным образом переносит сферу, в которой он происходит, из
философского мышления в мир повседневности. Именно в нём
разворачивается — рано или поздно не может не развернуться! — конфликт между присущей человеку тягой к «моральной
цельности» и собственному достоинству, с одной стороны, и
119
Убедительный анализ значения философии Мартина Хайдеггера для
формирования взглядов Гавела см.: Tucker A. Vaclav Havel's Heideggerianism // Telos. Fall 1990. № 85. P. 63-78.
' 365
Часть III. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
«тривиализацией» всего человеческого как главным следствием
функционирования тоталитарной системы — с другой120.
«Метафизическая опора» — своего рода гарантия того, что
восстановление нравственности рано или поздно произойдёт. На
практике такой гарантии, как и любой другой, в принципе быть
не может. Ведь она — лишь бесконечная совокупность опытов
взаимодействия «эмпирических» людей, отдельные из которых
могут иметь «тягу к онтологическому», но большинство, согласно гавеловскому описанию тоталитаризма, такой тяги явно не
ощущают. Видимо, в условиях Чехословакии времён Густава
Гусака вера в «метафизическую опору» была нужна, чтобы вообще начать что-то делать. В этом смысле за ней может быть
признана не менее важная идеологическая функция, чем та,
которую исполнял гандистский вечный Закон. Но всё дальнейшее
описание восстановления человеческого и вся программа работы в этом направлении строятся Гавелом сугубо в логике праксиса. Это и делает его концепцию ценной.
Описание Гавелом создания или воссоздания «морального аспекта» на практике сознательно приземлено. В большой
мере оно отражает историю «Хартии-77». Кратко это описание
можно воспроизвести следующим образом.
В жизни происходят разные события, на первый взгляд, достаточно незначительные сами по себе, которые, однако, вызыва120
У Гавела читаем: «Существенные цепи жизни естественным образом
присутствуют в каждом человеке. В каждом есть некая тяга к законному
достоинству человечности, моральной цельности, свободному выражению
бытия и сознанию трансценденции по отношению ко всему миру опытов. В
то же время каждый человек может в той или иной степени приспособиться
к жизни во лжи. Каждый может как-то поддаться вульгарной тривиализации
человеческого в нём или в ней, а также утилитаризму... Всё это означает нечто большее, чем простой конфликт двух наших идентичностей. Это нечто
гораздо худшее: это — вызов самому понятию (человеческой) идентичности» (Havel V. The Power of the Powerless. P. 38; см. также с. 37). О гавеловском понятии идентичности в контексте и экзистенциального противоречия
человеческого бытийствования, и освободительной политической практики
см.: MatusikM. J. Postnational Identity. N. Y.: Guilford Press, 1993. Гл. 8.
366
ют недовольство людей. Пока люди не начинают говорить друг с
другом, обсуждая своё недовольство, у них разные представления
о его причинах, а само оно продолжает оставаться «ворчанием»
относительно того, что изменить заведомо нельзя. Когда же они
начинают говорить, то постепенно проступает некое общее основание многообразных разочарований и обид — стеснение свободы, фальшь ритуалов и процедур, в которые втиснута жизнь.
Обнаружение этого общего основания недовольства есть явление правды о посттоталитарной жизни. И Гавел делает из этого прямой политический вывод: правда в условиях посттоталитаризма
сама по себе является «фактором власти»121 (возможно, точнее
было бы сказать — «контрвласти»), коли основание «системы» —
ложь. Даже малая доза публично явленной правды, причём правды
о чём угодно, а не обязательно о политических делах, подрывает
«систему». Совсем малочисленная группа носителей правды способна оказаться противником, которого «система» воспринимает
всерьёз. Явление правды и борьба за правду могут привести к созданию политического пространства, на котором становится возможной уже более знакомая по классическим описаниям динамика политического противостояния впервые самоопределяющихся
общественных сил. Явление правды и борьбу за правду Гавел называет «экзистенциальной революцией» и «антиполитической политикой». Это — ключевые понятия его концепции. Как именно происходит объединение людей в борьбе за правду, объединение, на своём начальном этапе не ставящее каких-либо политических задач и не
мыслящее себя в политических формах, Гавел описал в виде рассказа о защите молодёжной рок-группы «The Plastic People of the
Universe», давшей толчок к образованию «Хартии-77».
Такое «дополитическое» объединение людей Гавел называл «полисом», точнее, «параллельным» или «альтернативным
полисом», поскольку оно готово было сосуществовать с «системой», не сходясь с ней в собственно политической борьбе за
власть. В то же время этот «полис» строился на альтернативных
ей основаниях. Эти основания Гавел примечательным образом
121
См. : Havel V. The Power of the Powerless. P. 41.
367
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
называл «априори открытости» и «априори равенства». Так
«моральный аспект» утверждался в жизни, хотя некоторое время — в жизни лишь особого объединения людей. Но оно выделялось из «остального общества» не особь/Ai частным интересом (оформляемым в особую политическую программу и
организацию именно потому, что он — частный), а представительством тех общих нравственных оснований жизни, на которых «остальное общество» пока стоять не могло122.
«Экзистенциальная революция», «антиполитическая политика», «параллельный полис» — все эти понятия, как в специфически гавеловской интерпретации, так и в других их трактовках,
распространенных среди диссидентов Венгрии, Чехословакии,
Польши, стали предметом интенсивной критики со стороны политических учёных123. Оппоненты обычно указывали на то, что
представление о неком «моральном единстве» людей «поверх»
их социальных и идеологических различий является чем-то вроде наивного романтизма, если не ностальгией по «гемайншафтной» общности (общества типа «общины» — в противоположность современному «обществу»). Тем более, если этому
«единству» на каком-то этапе развития событий приписывается
способность играть важную роль в политике.
Критики также утверждали, что эти понятия контрпродуктивны для стран, выходящих из «реального социализма» и сталкивающихся с задачами формирования многопартийности, парламентаризма и проведения рыночной реформы экономики с
необходимо вытекающей из неё имущественной и иной дифференциацией общества. Говорилось и о том, что концепция «эк122
Havel V. The Power of the Powerless. P. 46-47, 95.
Хорошее представление о такой критике дает книга польского исследователя Ежи Шацкого (см.: Szacki J. Liberalism After Communism.
Budapest; Ν. Υ.: Central European University Press, 1995. Особенно гл. 4,
с. 73—118). См. также: Kiss E. Democracy Without Parties // Dissent. Spring
1992. P. 226-231. Интересный, хотя далеко не бесспорный анализ политического и идеологического смысла такой критики см.: Baker G. The Taming
of the Idea of Civil Society //Democratization. 1999. Vol. 6. № 3.
123
368
зистенциальнои революции» не дает почти никакого институционального описания политического процесса, подменяя его рассуждениями о «пробуждении сознания» и «возникновении человеческой солидарности». «Параллельный полис» выглядит почти
идеальным воплощением «низовой» самодеятельности, а потому противоречит элементарным представлениям о жизнеспособной политической организации. «Антиполитическая политика», в свою очередь, то ли уводит политику от её истинных целей и задач, то ли попросту защищает аполитичность. Одним
словом, всё это — не «научные» понятия.
Гавел как будто предчувствовал такие возражения, неоднократно на страницах «Силы бессильных» отмечая неспособность «традиционной» политической науки осмыслить тоталитарную ситуацию (см., например, с. 50—51). Что именно, с его точки зрения, она не могла осмыслить?
Первое — то, что без субъекта, способного понимать
себя, а соответственно этому — видеть мир в категориях добра и зла и формировать свою волю, направленную на добро,
любой разговор о свободе и освобождении лишается всякого
смысла. Стремиться к свободе or чего-то можно, лишь чувствуя
необходимость свободы для чего-то, чему мешает та несвобода, от которой хотят избавиться. Но вторая свобода — «свобода для» предполагает понимающего себя и вопящего осуществить себя субъекта. Его формирование — абсолютное «начало начал» любого освобождения, так же как без этого «начала»
любая смена технологий власти будет означать лишь смену способов манипулирования тем, кто не имеет «понятия» о себе,
чтобы отличить манипулирование от свободы.
Второе — то, что сформировать такой субъект «сверху» невозможно. Это дало бы лишь воспроизводство технологий манипулирования, в каких-то случаях даже делая их более изощрёнными
(какими, согласно «диссидентскому» Гавелу, и являются технологии
западной демократии). Субъектом можно стать лишь самому,
лишь обретая свойство и необходимость быть им через собственный практический опыт. В этом смысле самодеятельность для
формирования субъекта неизбежна. Отсюда — категорические
24 Выбор
369
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
формулировки Гавела: «...нельзя принимать... решение за других» и «мы живём в условиях, когда движение к лучшему часто
обеспечивается действиями, которые в памяти человечества могут
навсегда остаться только... как демонстративные акты отчаяния»124.
Третье — то, что в условиях отсутствия пространства публичной политики и далеко зашедшей «приватизации» людей
(их превращения в «утилитаристов») единственные жизнеспособные формы их ассоциирования могут сложиться только на
уровне их жизни как частных лиц. «Обобщение» порождаемого этой жизнью недовольства и направление его в некое общее
русло есть та «дополитическая работа», та «антиполитическая
политика», которая является началом становления субъекта и
самой субъектной формы существования людей. Она оказывается «антиполитической» в двойном смысле. Во-первых, как то,
что противопоставлено лживой и ложной политике тоталитаризма, в действительности уничтожающей политику. «Антиполитическая политика» есть «отрицание отрицания», из которого
рождается новое позитивное содержание — возможность нравственно значимой политики. Во-вторых, как отвержение тех
«классических» форм политической организации (типа партий и
т. д.), которые были бы, по крайней мере, преждевременны на
том уровне становления ассоциированной жизни «приватизированных» людей, о котором сейчас идёт речь.
Четвёртое — то, что моральная безусловность решений и
действий, столь необходимая для активного сопротивления «системе», возникает только из ассоциирования людей, пока — на
«дополитическом» уровне, а отнюдь не из откровений «чистого разума» индивида, остающегося в социальном плане одиночкой. Безусловность решениям и действиям придают наши обязательства по отношению к другим людям, наше членство в одной с ними ассоциации, а отнюдь не моральные обязательства
перед самими собой, которые с полнейшей моральной чисто'" Гавел В. Заочный допрос. Разговор с Карелом Гваждялой. М.: Новости, 1991. С. 107, 175-176.
370
той могут быть исполнены «ничегонеделанием». Обязательства
перед самим собой может иметь и раб, обязательства перед
другими может иметь только свободный или освобождающийся человек. Только ему «дают в долг», в том числе — доверие,
и только он может иметь ответственность «отдавать долги», в
том числе — посредством оправдания доверия125.
Эта известная ещё с античности истина о способности свободного человека и неспособности раба иметь обязательства,
истина, столь эффектно применённая Руссо к политической проблематике освобождения (см. его «Об общественном договоре», кн. 1, гл. 4126), лежит в основе гавеловской идеи о том, каким образом «моральный аспект» может практически возникнуть в жизни людей тоталитарного общества. Поэтому мне и
кажется, что «хайдеггеровские» подпорки для этой идеи совсем
не нужны. В то же время «параллельный полис» — это не специфическое сообщество одних людей, исключающее других,
поскольку особый интерес первых может осуществиться только за счёт вторых и против их интереса. Это — сообщество,
включающее всех людей, способных иметь нравственные обязательства друг перед другом, но отделённое от того мира, живущего во лжи, в котором такие обязательства невозможны.
Пятое — то, что «антиполитический» «параллельный полис» не
имеет ничего общего с аполитичностью. Гавел совершенно ясно
писал о его «недвусмысленном политическом измерении»127.
125
Эту тему очень сильно развивает выдающийся американский политический философ Майкл Уолцер (см.: Walzer M. Obligations: Essays on
Disobedience, War and Citizenship. Cambridge (MA): Harvard University Press,
1971.P.XII-XIV, 5-9.
124
Рабство, по Руссо, есть отречение от человеческого достоинства,
«прав человеческой природы» и всех обязанностей. В то же время по отношению к рабу нельзя иметь обязанностей, поскольку от него можно требовать всё. Но это означает, что отношение рабства противоречит праву.
С точки зрения права, оно «недействительно» и «бессмысленно» (см.: Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Принципы естественного права//Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М.: Наука, 1969. С. 156, 159).
127
Havel V. The Power of the Powerless. P. 40.
24*
371
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
В чём оно заключается? Во-первых, в том, что любое явление правды, даже о далёких от политики делах, в тоталитарном обществе
имеет прямой политический эффект угрозы «системе». Во-вторых, поскольку «система» сопротивляется любому явлению правды и стремится его подавить, постольку её реакция на правду сама
по себе «запускает» логику борьбы, вводит в деполитизированную
жизнь политические по своему характеру противопоставления и
способствует (через неизбежную контрреакцию) формированию
структурирующихся и обретающих самосознание сил. В-третьих,
эта логика борьбы принуждает членов «параллельного полиса» —
нередко вопреки их первоначальным намерениям — политизироваться, т. е. вырабатывать политическое понимание происходящего и переходить к политическим методам сопротивления.
Разумеется, всё это имеет реальное значение только в том
случае, если малочисленный сам по себе «полис» оказывает влияние на общество и в то же время отражает происходящие в нём
процессы, если политизация «полиса» сопровождается теми или
иными формами политизации общества и ведёт к ним. Поэтому
Гавел с такой настойчивостью выступает против попыток антикоммунистической пропаганды представить сопротивление коммунизму как «подвиг» какого-то особого «диссидентского движения» и
даже отказывается пользоваться самим этим термином без иронических кавычек. «"Диссидентство" самим этим названием искусственно отделено от того, что его породило. <...> Нельзя даже
говорить о том, что делают "диссиденты", или о том, каковы результаты их действий, без того, чтобы в первую очередь не сказать
о труде всех тех, кто так или иначе участвует в независимой жизни общества и кто вовсе не является "диссидентом"»128.
С учётом всего этого мы, думается, и должны оценить то новое (по сравнению с Ганди и Фаноном), что привносит в понимание
взаимоотношения насилия и ненасилия «послание жизни» Гавела.
Самое главное, что он показал их практическую динамику и
взаимообусловленность. Понятие «автонасилия», с которого он
128
Have/ V. The Power of the Powerless. P. 66; см. также с. 58-61, 81-82.
372
начинает, строго говоря, является само по себе оксюмороном.
В контексте гавеловских рассуждений оно оказывается чем-то более значительным, чем оксюморон, лишь потому, что имплицитно или, так сказать, телеологически содержит в себе указание на
возможность появления из него насилия и ненасилия в собственном
смысле этих понятий. Пока не появляется «параллельный полис» в
качестве сознательного отрицания насилия, воплощённого в тоталитаризме, последний не есть насилие. Он есть лишь автоматизм
воспроизводства неких технологий, не подлежащих этическому суждению, поскольку к такому суждению никто (говоря условно) не
способен. В лучшем случае тоталитаризм содержит возможность
такого суждения, а потому его можно считать «автонасилием».
Возникновение отрицания насилия, т. е. ненасилия, конституирует насилие. Ранее этически «невинный» автоматизм функционирования социальных технологий превращается таким отрицанием в
нетерпимое насилие. Поскольку такое отрицание — не праздный
плод морального самоуглубления одиночки, а позиция некоего сообщества, постольку ненасилие становится практикой, явлением
действительности. В качестве такового оно вступает в силовое противостояние насилию как тому, что сохраняет «систему».
Однако силовое противостояние есть насилие, даже если
оно — не вооружённая борьба. Таким образом, можно говорить
о необходимом переходе ненасилия в насилие. В этом — смысл
упора Гавела на то, что экзистенциальная революция рано или
поздно, в той или иной форме обернётся политической революцией и что долгое сосуществование «системы» и «параллельного полиса» невозможно129. Однако насильственная победа ненасилия делает возможным институциональное преобразование
общества — утверждение не только новой правовой системы, но
и новой нравственности в отношениях между людьми130.
Насилие и ненасилие предстают не дихотомией, а полагающими друг друга, невозможными друг без друга, переходящими друг в друга противоположностями. Они — стороны
12
' См.: Havel V. The Power of the Powerless. P. 47, 87.
Ibid. P. 90.
130
373
Часть III. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
практики людей, и в этом смысле оба равно необходимы, как
необходимо и противоречие между ними.
Однако в заключение нельзя не сказать, что критики Гавела в чём-то правы. Хотя их правда не в том, в чём они видят её
сами. Очень трудно и даже по понятным причинам едва ли возможно, борясь против насилия, не верить в то, что с ним можно будет когда-то покончить совсем. Этой веры не избежали ни
Фанон, ни Ганди. Гавел тоже отдал ей должное, создавая свою
утопию общества будущего — «постдемократии» самоуправления, социальных структур как «коммун, а не организаций и
институтов», экономической деятельности в виде самореализации тружеников, которая так мало похожа на капитализм131.
Верно, но банально было бы сказать, что эта утопия не материализовалась в посткоммунистической Чехии. Ведь утопии вообще существуют не для того, чтобы реализовываться, а исключительно для того, чтобы побуждать людей делать то, что они не сделали бы, не будучи вдохновлёнными ими. Верно, что возникший
накануне «бархатной революции» и проявивший свою силу в её
ходе «параллельный полис» бесполезен и для «строительства демократии», и для рыночных реформ. Это обнаружилось не только в Чехии. То же самое и даже с большими основаниями можно
сказать о Польше и её «Солидарности» или о Литве с её «Саюдисом». Хотя никакого вреда посткоммунистическим реформам
«параллельный полис» не нанёс. Как и положено в истории, он своевременно распался, оставив на месте «морального единства»
тривиальные партии с их склоками и торгом, которые и предназначены для проведения таких реформ.
Некоторые наблюдатели, правда, связывают с распадом
гавеловского «полиса» государственный распад Чехословакии и
даже называют «увядание гражданского идеала», в нём воплощённого, «термидором»132. Но большинство, видимо, готово
131
См.: Have/ V. The Power of the Powerless. P. 92-96.
См., например: Kohak E. Tattered Velvet: A Country Falls Apart //
Dissent. Fall 1992. P. 442 ff.
132
374
принять и это как своего рода «цену» рыночно-демократических реформ. Судя по некоторым публикациям, «увядание идеала» какое-то время вызывало у Гавела-президента определённое разочарование133, но потом и он вполне адаптировался к
новой действительности.
Но против всего «реализма» и всей «научности» критиков
Гавела остаётся одно — сама «бархатная революция». Остаётся то фантастическое и то недоступное науке явление, каким
стало бескровное и даже похожее на карнавал крушение «коммунистической власти», которая строгому научному анализу
представлялась самой свирепой диктатурой в истории человечества, к тому же вооружённой до зубов. Это — не какой-то либеральный британский колониализм, которому противостоял
Ганди. Это — даже не южноафриканский апартеид, в борьбе с
которым подвижнику морали Манделе пришлось отказаться от
ненасилия. Это, как-никак, — «империя зла».
Что представляла собой «бархатная революция» (или её
многочисленные аналоги на огромных просторах Восточной Европы — с одним довольно скромным исключением в лице Румынии)? Чтобы найти адекватное описание этого явления, нам
придётся выйти далеко за пределы строгой науки. Что-то подсказывает постмодернизм. «Власть рассыпалась почти без насилия, как будто убеждённая в собственном несуществовании», — написал Жан Бодрийяр134. Кто и как убедил её в этом?
Мне кажется, это очень трудно понять, не вдумываясь должным
образом в «послание жизни» Гавела, в описанную им «моральную политику», которая оказалась возможной, пусть на коротком, зато поворотном отрезке истории. Эту «моральную политику» он и называл «искусством невозможного».
133
В этом плане очень любопытен его диалог с Вацлавом Клаусом, бывшим
в то время премьер-министром Чехии, а позднее — сменившим Гавела на президентском посту (см.: Rival Visions: Vaclav Havel and Vaclav Klaus, with
Commentary by Petr Pithart // Journal of Democracy. 1996. Vol. 7. № 1. P. 12-23.
134
BaudrillardJ. L'hysteresie du millenium // Le débat. Vol. 60 (mai-août
1990). P. 69.
' 375
Лекции 16-17
К ПОНЯТИЮ
ГРАЖДАНСКОГО
НЕПОВИНОВЕНИЯ
1. НАСИЛИЕ И НЕНАСИЛИЕ
ГРАЖДАНСКОГО НЕПОВИНОВЕНИЯ
В контексте нашего исследования гражданское неповиновение представляет особый интерес по следующей причине. Если
за ненасилием признают способность быть политической практикой, то в качестве таковой видят преимущественно или даже
исключительно именно гражданское неповиновение. Собственно, оно и определяется (если воспользоваться краткой формулой, предложенной великим практиком ненасилия Мартином
Лютером Кингом) как «ненасильственное сопротивление», возможно, с уточнением насчёт того, что это сопротивление означает «вызов фундаментальным национальным законам»135.
Скажу с самого начала: моё понимание гражданского неповиновения противоречит такому отождествлению его с «чистым» ненасилием. Это вытекает из всего предыдущего рассмотрения насилия, которое мы подытожили в конце лекции о
«послании жизни» Гавела именно снятием дихотомии насилия
и ненасилия и определением их связи как сторон политической
практики. Не стоит скрывать того, что данная лекция будет по
существу развёрнутой полемикой с отождествлением гражданского неповиновения исключительно с ненасилием.
Что нам даст рассмотрение гражданского неповиновения?
Во-первых, даже если дихотомия насилия — ненасилия должна
135
King M. L. Love, Law and Civil Disobedience; Address to the American
Jewish Committee // Civil Disobedience in America: A Documentary History /
Ed. D. R. Weber. Ithaca (N. Y.): Cornell University Press, 1978. P. 213, 220.
376
быть снята, то нам всё равно нужно понять то, как установка на
ненасилие реальных субъектов политики (если угодно, вера в
него) работает политически. Или скажем иначе: нам ещё нужно
прояснить, какими должны быть условия «объективной среды»,
чтобы такая работа была возможна, и каким условиям для этого должна отвечать сама установка на ненасилие. Во-вторых,
пусть установка на ненасилие, как выразился американский философ Джордж Катеб, — «утопическая моральная предрасположенность (prepossession) человеческого рода»136. Пусть «объективная» теория покажет её ложность. Но благодаря чему эта
«ложная установка» может всё же менять ход истории? Анализ
гражданского неповиновения в данной лекции будет симпатическим: он нацелен на то, чтобы выявить этическую и политическую
ценность гражданского неповиновения, а не развеять миф о нём
как о лишь прекраснодушной иллюзии.
Беря в качестве отправного момента наших рассуждений
приведённое выше определение гражданского неповиновения
как «ненасильственного сопротивления», мы тут же должны задаться вопросом: какой смысл вкладывается в понятие «ненасилие» в данном случае? Вероятно, оно может иметь три основных
смысла. Они так или иначе совмещаются в понимании гражданского неповиновения у его практиков, но аналитически их всё же
стоит различать. Хотя бы потому, что совмещаются они — в силу
определённых причин и обстоятельств — очень по-разному, и
это прямым образом отражается на практике неповиновения.
Во-первых, под «ненасилием» можно понимать намерения
практиков гражданского неповиновения, их собственную установку действовать ненасильственно. В этом случае мы можем
совершенно отвлечься как от реальных следствий таких действий, которые могут быть даже весьма насильственными (подобно тем, которые имел рассмотренный ранее гандистский
«ненасильственный» бойкот), так и от восприятия этих действий
теми, на кого или против кого они направлены. Этот первый
136
Kateb G. Utopia and Its Enemies. N.Y.: Schocken Books, 1976. P. 9.
377
Часть III. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
смысл ненасилия, вкладываемый в гражданское неповиновение,
является по существу своему «кантианским», и проистекает он
исключительно из обозрения «сознания» практиков неповиновения, а не их деятельности.
Во-вторых, ненасилие гражданского неповиновения может
быть понято шире — не только как установка сознания, но и как
определённый характер действий неповинующихся. Под «характером» здесь имеются в виду применяемые методы и средства
борьбы (скажем, они должны исключать физическое насилие
против лиц и разрушение имущества), её цели (допустим, таковыми могут быть только исправление отдельных сторон политики правительства, а не его свержение, изменение отдельных законов, а не всей их системы в целом), а также формы организации неповинующихся (они должны в максимально возможной
степени исключать «внутреннее» насилие, а потому быть скорее
коммуникативными, чем институционально-иерархическими).
Примечательно, что разные авторы, ассоциирующие ненасилие гражданского неповиновения с определённым присущим
ему характером действий, придают разное значение каждому
из элементов этой триады средства-цели-формы. У некоторых
на первом плане оказывается «природа» применяемых средств.
Хабермас вообще приходит к заключению, что гражданским
неповиновением может считаться только «тот акт протеста, который имеет исключительно символический характер»' 3 7 .
"'Haberinas J. Civil Disobedience: Litmus Test for the Democratic
Constitutional State // Berkeley Journal of Sociology. 1985. № 30. P. 99. Вообще говоря, такое понимание гражданского неповиновения мало что даёт.
Любое, самое агрессивное человеческое действие является символическим.
Мы уже говорили о том, что терроризм, связанный или не связанный с непосредственным пролитием крови, полон символизма и коммуникативных
смыслов. Что касается шантажа, то он может считаться «чистым» символическим действием. Почти каноническую в США идентификацию гражданского неповиновения с методами, соответствующими «хорошим манерам»,
даёт Хуго Бедо (см.: Bedau H. Introduction to Part I // Civil Disobedience:
Theory and Practice / Ed. H. Bedau. N. Y.: Pegasus, 1969. P. 19 ff).
378
Американский исследователь Роберт Холл, напротив, подчёркивает значение целей, каковыми для него являются изменение
законов, тогда как какие-либо специфические средства и методы действия (называемые «цивильными») не рассматриваются
им в качестве определяющих гражданское неповиновение138.
Для Ханны Арендт важнее форма гражданского неповиновения.
Оно вообще определяется ею как меньшинство, организованное общим мнением, воплощающимся в своего рода «горизонтальный общественный договор» и потому исключающим
иерархическую организацию (подчеркнём, что не моральная
установка, а дискурсивно достигнутое согласие выступает здесь
нормативным основанием гражданского неповиновения)139.
В-третьих, ненасилие гражданского неповиновения может
усматриваться не только и даже не столько в мотивах неповинующихся и/или в особенностях избранной ими стратегии борьбы,
сколько в её реальных последствиях, включая воздействие на противоположную сторону и «третьих лиц» (мы снова возвращаемся здесь к модели «трёх перспектив», о которой шла речь ранее
в связи с гандистским ненасилием). Конечно, о «чистом» ненасилии нам придётся при таком подходе забыть. Но не лишено смысла следующее рассуждение, которое приводит, например, Рейнгольд Нибур. Преимущество гражданского неповиновения как
«метода доброй воли» заключается в том, что «он защищает
практикующих его от возмущения, которое насилие всегда вызывает у обеих конфликтующих сторон, и доказывает противной
стороне [«нашу»] свободу от недоброжелательства и злой воли
готовностью принять большие страдания, чем те, которые порождаются [«нашими»] действиями». Таким образом, гражданское неповиновение «уменьшает враждебность»'40.
138
См.: Hall R. The Morality of Civil Disobedience. N. Y.: A Torchbook
Library Edition, 1971. P. 14-15,26-27.
139
См.: ArendfH. Civil Disobedience // Arendt H. Crisis of the Republic.
San Diego: A Harvest Book, 1972. P. 56-57.
ы
°См.: Niebuhr R. Moral Man and Immoral Society. N. Y.: Charles
Scribner's Sons, 1960. P. 247-248 (курсив мой. — Б. К.).
379
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Я позволю себе выразиться более решительно, чем Нибур.
Гражданское неповиновение уменьшает общий объём насилия,
присущий данной ситуации или тем вариантам её развития, которые осуществились бы при другой стратегии сопротивления.
Ненасилие гражданского неповиновения здесь предстаёт не как
нечто абсолютное — оно относительно статус-кво и иным вариантам его преодоления. Но такое ненасилие может быть подтверждено только эмпирически — в виде политического успеха стратегии гражданского неповиновения. Нет ничего опаснее
априорно приписывать «ненасильственную природу» гражданскому неповиновению: если итогом последнего оказывается
кровавая баня или та консолидация режима апартеида, о которой говорил Мандела, то гражданское неповиновение само окажется насилием, провоцируя рост его общего объёма.
Историки гражданского неповиновения полагают, что ещё
для XIX века в целом было характерно неразличение этих трёх
возможных смыслов ненасилия. Оно выражалось прежде всего в представлении о том, будто моральная чистота мотивов
протестующих является необходимым, а то и достаточным условием для достижения эффекта реформирования общества.
Опыт XX столетия и особенно — бурные 1960-е годы с их подъёмом движения «новых левых», часто (и противоречиво) использовавших стратегию гражданского неповиновения, заставил эти
смыслы различать. Считается, что произошёл даже некий общий сдвиг в понимании гражданского неповиновения, сместивший акценты с моральной чистоты мотивов протестующих на
реформаторские следствия их действий'41, т. е., возвращаясь к
нашей схеме, с первого к третьему смыслу ненасилия.
Если данное заключение историков верно, то нам тем более важно тщательно различить моральные и политические импликации каждого из указанных смыслов ненасилия гражданс141
См.: Weber D. R. Introduction // Civil Disobedience in America.
P. 26-27.
380
кого неповиновения. Только таким путём мы можем прийти к
пониманию специфики видов гражданского неповиновения и
Torq, какой или какие из них могут иметь значение для современной политической жизни.
2. НЕНАСИЛИЕ КАК МОРАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
НЕПОВИНУЮЩИХСЯ
Начнём с первого, «кантианского» смысла ненасилия гражданского неповиновения. Наиболее отчётливо его выразил один
из лидеров американского Движения католических рабочих Дэниель Бэрриган. На вопрос, почему он не прибегает к более эффективным методам влияния на внешнюю политику США, представлявшуюся ему несправедливой, чем ненасильственные акции протеста, Бэрриган ответил: «Добро нужно делать, потому
что оно — добро, а не потому, что оно к чему-то ведёт»142.
Такой ответ предполагает то, что добро с несомненностью
известно участнику гражданского неповиновения и что оно никак не зависит от его действий и тем более не проверяется ими.
Собственно, гражданское неповиновение и определяется тем,
что его участники руководствуются своим априорным знанием
добра. Каковы политические импликации такого понимания
гражданского неповиновения?
Безразличие к результату действий говорит о том, что Бэрриган и его единомышленники не думают в понятиях политики,
т. е. не думают стратегически. Но морально они мыслят последовательно. Стратегическое мышление всегда предполагает выбор стратегии, а в данном случае это невозможно, ибо любая
иная линия действий, кроме той, которую диктует априорное знание добра, является злом. При таком подходе тождественными
оказываются также цели и средства — и то и другое совпадает с
ненасилием. Такое тождество означает, что ни цели, ни средства
ш
Цит. по: Polner M., O'Grady J. Disarmed and Dangerous: The Radical
Life and Times of Daniel and Philip Berrigan. N. Y.: Basic Books, 1997. P. 352.
381
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
не понимаются конкретно и содержательно — они без остатка
растворены в абстракции отрицания всего действительного, которая и передаётся негативным понятием «ненасилие».
Здесь нам придётся вновь и более обстоятельно, чем раньше, затронуть тему соотношения целей и средств.
Часто думают, что этическая разнокачественность целей и
средств, которую пытаются уловить формулой «цель оправдывает средства», является первым признаком безнравственности политики. И напротив: за политикой ненасилия (в нашем контексте — за гражданским неповиновением) признают то огромное достоинство, что она, по выражению А. А. Гусейнова,
«снимает противопоставление целей и средств по этическим критериям», хотя и сохраняет «необходимость их праксеологического разведения». На этом основании делается вывод, что «в известном смысле ненасилие действительно существует ради ненасилия»143. Собственно, именно это (без уточнения относительно
праксеологии) говорит и Бэрриган.
Моя точка зрения такова. Этическое неразличение целей и
средств аполитично в той же мере, в какой безнравственно.
Оно аполитично, поскольку делает невозможной какую-либо
разумную стратегию. Последняя предполагает выбор средств
борьбы, а выбор означает, что мы не относимся к ним как к
«абсолютным целям» — ведь такие цели не выбирают, поскольку они конституируют нас в качестве «человеков». В то же время такое неразличение безнравственно, поскольку оно закрывает возможность нравственного улучшения мира, достижимого лишь через стратегии борьбы.
Последнее настолько очевидно, что заставляет прибегать
сторонников критикуемого взгляда к «праксеологическому разведению» целей и средств как дополнению к этическому неразличению их. Но если такое разведение, в принципе, имеет дру143
Ненасильственные движения и философия ненасилия: состояние,
трудности, перспективы (материалы «круглого стола») // Вопр. философии. 1992. №8. С. 15.
382
гие критерии, чем нравственность, т. е. является вненравственным, то сие и означает признание неисправимой безнравственности политики. С одной стороны, такое смирение с безнравственностью всей политики хуже, чем допущение тех отступлений от
нравственности, которые предполагаются формулой «цель оправдывает средства». С другой стороны, это смирение само безнравственно, ибо смиряться с безнравственностью политики
нельзя, хотя полностью устранить её невозможно.
Дабы избежать такого безнравственного смирения с безнравственностью политики, мы должны отказаться считать
«праксеологические критерии» чем-то инородным этике. Это
означает, что различение целей и средств с точки зрения их
нравственного содержания должно производиться на основании нравственности. Разумно не требовать нравственной тождественности целей и средств, целомудренно закрывая глаза на
их реальное «праксеологическое разведение», а научиться контролировать эти различия и оставаться верными принципам
нравственности. Иными словами, в нравственном отношении
цели и средства не могут не быть разными, но формула «цель
оправдывает средства» должна служить указанием на то, как
реально контролировать использование (в том числе «безнравственных») средств, дабы приближаться к нравственной цели, а
не удаляться от неё. Настаивание же на нравственной однородности целей и средств есть не что иное, как бесконечное удаление от нравственной цели, поскольку политика целиком отдаётся
«в ведение» вненравственной «праксеологии».
Однако вернёмся к рассмотрению первого смысла ненасилия гражданского неповиновения.
Априорное знание добра должно подразумевать какой-то
ответ на вопрос, почему в настоящий момент ведётся борьба
именно с данным видом зла, а не с каким-то другим? К примеру, почему усилия Бэрригана и возглавляемого им движения направлены против вьетнамской политики США, а не финансовых
махинаций корпоративного бизнеса? Ведь последние тоже не
очень согласуются с требованиями морали.
383
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Общий ответ моралистов на этот вопрос мы уже знаем. Они
скажут, что есть «моральные проблемы», на решение которых
направлены их усилия, а есть другие, заниматься которыми, стоя
на «моральной точке зрения», не нужно. Вьетнамская война, по
такой логике, — это моральная проблема, а делишки корпоративного бизнеса, видимо, нет. Применительно к гражданскому
неповиновению эта позиция конкретизируется следующим образом: есть вопросы, которые закономерным и необходимым образом решаются большинством, и меньшинство обязано ему в
таких случаях подчиняться. Это — собственно политические вопросы. Но есть другие — моральные, в которых мнение большинства — не авторитет. В этих вопросах должен возвышаться голос
морали, даже если (эмпирически) — это голос одиночки. Именно и только такие вопросы могут вызывать «обоснованные» акции
гражданского неповиновения144.
Во второй части книги мы уже говорили о том, что такое
«объективистское» различение моральных и неморальных проблем несостоятельно. Вещи, институты, общественные проблемы «сами по себе» не обладают ни моральной, ни внеморальной «природой». Мораль — это специфический угол зрения на
них и способ нашего отношения к ним. Весь вопрос в том, как и
почему в данной ситуации такое отношение формируется к од"" См.: Ball Т. Civil Disobedience and Civil Deviance. Beverly Hills (ÇA); L:
Sage Publications, 1973. P. 18. Стивен О'Кейн конкретизирует это различие
между моральными и неморальными проблемами политики следующими
примерами. Конфликты вокруг вопросов, разрешать или запрещать аборты, отдавать или нет приоритет безопасной экологии перед экономическим
ростом и т. п. — являются моральными по своей «природе», ибо их образует столкновение противоположных ценностных установок, не устранимое с помощью рациональной аргументации (или апелляции к общим высшим идеалам). Те конфликты, в которых такая аргументация хотя бы в
принципе может «срабатывать», не являются моральными (в порядке примера мы можем подумать о трудовом конфликте, связанном с требованием увеличения зарплаты или отчислений на медицинское страхование и
т. д.). См.: O'Kane S. Politics and Morality in Conflict. Edinburgh: Pentland
Press, 1994. P. 3 ff, 133-134.
384
ним вещам, институтам и проблемам, а не к другим? Априорное знание добра неспособно даже поставить этот вопрос, не
говоря уже о том, чтобы ответить на него. Поэтому оно некритично и нерефлективно принимает некоторые предметы как достойные морального осуждения, оставляя без внимания другие,
которые, возможно, заключают в себе более тяжкие и трудно
искоренимые формы угнетения и подавления человека.
Означает ли это, что априорное знание полностью произвольно? Конечно нет. Но то, что делает его отличным от произвола, ему самому недоступно. Оно непроизвольно в том смысле, что всегда является артикуляцией сложившихся мнений и установок определённых общественных групп и именно поэтому
«имеет резонанс» и при известных обстоятельствах способно служить идеологией гражданского неповиновения. Эти мнения и установки и получают значение «моральной очевидности».
Завершая разговор о первом смысле ненасилия гражданского неповиновения, нельзя не обратить внимание на ещё одну
присущую ему «самоочевидность» — на сей раз относительно
того, что представляет собой «насилие», от которого необходимо воздержаться сторонникам ненасилия. Мы должны понять,
почему, к примеру, при данном подходе «самоочевидно», что
разбить витрину ресторана «Макдоналдс» — это недопустимое
насилие, а сжечь американский флаг, как то делали многие протестующие против вьетнамской войны, — допустимый акт гражданского неповиновения.
Различие между «допустимым» и «недопустимым», насилием и ненасилием совершенно нельзя понять, пока мы не обратимся к тем же установкам и мнениям массового или группового сознания, к его обусловленности «данностями» общественной жизни, не рефлектируемыми им. Отождествление насилия
с физическим разрушительным воздействием на человеческие
тела и предметы собственности при отказе считать таковым попрание символов, даже таких центральных для данной культуры,
как национальный флаг, есть проявление глубочайших структур
типично буржуазного сознания. Это, пользуясь выражением
25 Выбор
385
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
145
Бертрана де Жувенеля, — «буржуазная идея насилия» . Антропологам, конечно, не составит труда показать, что в иных
культурах разрушение (десакрализация) символов выступало
насилием par excellence, по сравнению с которым ущерб не
только собственности, но и здоровью отдельных лиц выглядел
146
чем-то в лучшем случае второстепенным . Однако сколь бы
важны ни были их наблюдения для теоретического понимания исторической подвижности границ насилия — ненасилия, они не
имеют никакого значения для того, как насилие может быть
представлено на уровне действенной идеологии в современной преимущественно буржуазной (в культурном отношении)
цивилизации. Мы увидим далее, что насилие может быть инкорпорировано в некоторые концепции и виды практики гражданского неповиновения. Но и в этом случае оно по необходимости сохранит своё буржуазное значение.
3. НЕНАСИЛИЕ КАК «МИРНЫЙ» ХАРАКТЕР
ДЕЙСТВИЙ НЕПОВИНУЮЩИХСЯ
Перейдём ко второму смыслу ненасилия гражданского неповиновения, указывающему на «мирный» характер применяемых методов и средств борьбы.
Специфику этому подходу — по сравнению с только что
рассмотренным — сообщает то, что граница между «допустимым» и «недопустимым» определяется в соответствии не
столько с «правдой» внутреннего голоса неповинующихся,
сколько с нормами и процедурами общественной жизни, признаваемыми разумными. Нарушение «разумного» в жизни признаётся насилием, лишающим гражданское неповиновение присущего ему характера ненасилия, каковы бы ни были внутрен145
См.: Jouvenel B. de. The Pure Theory of Politics. Indianapolis: Liberty
Fund, 2000. P. 257 ff.
146
См., к примеру: Parkin D. Violence and Will // The Anthropology of
Violence...?. 205-206.
386
ние убеждения неповинующихся относительно «правды» их действий. Ненасилие — то, что противодействует «неразумному»,
но не наносит ущерба «разумному».
Сама возможность того, что акты неповиновения не несут
вреда «разумному», вытекает из того, что они отвечают определённым условиям, заданным этим самым «разумным». Данные условия, если угодно, — диктат неповиновению со стороны
статус-кво, т. е. ультиматум о том, что неповиновение будет терпимо в рамках статус-кво лишь постольку, поскольку соблюдаются зафиксированные в ультиматуме условия. Так, совершенно
ясно, что если мы говорим о преимущественно буржуазном статус-кво, то первейшим условием ультиматума окажется запрет
на физическое насилие против лиц и собственности при допущении (в некоторых границах) символического насилия. Это и уловил с неподражаемой ясностью Хабермас в его приведённом
ранее отождествлении гражданского неповиновения исключительно с символическим насилием147.
Историзация Разума и признание его в качестве силы —
вместо усмотрения в нём универсальной и вечной Истины, противоположной силе, — заставляет сделать из сказанного вывод
относительно того, что есть гражданское неповиновение. «Считать некий акт гражданским неповиновением, — пишет американский философ Сидней Гендин, — не означает допустить, что
он правилен [сам по себе] или что он осуществляется ради доброй цели. Это лишь означает признать, что он производится допустимым или терпимым способом. Проблема состоит в том,
чтобы понять, будет ли правительство терпеть данные методы
147
Напомним, что такая принципиальная позиция против насилия вовсе
не помешала ему с энтузиазмом приветствовать натовское разрушение
Югославии, где, конечно, в массовом порядке гибли и гражданские лица,
и частная собственность, но где не было того «объективно разумного» статус-кво, по отношению к которому допустимо лишь символическое насилие. Небуржуазный или недостаточно буржуазный статус-кво можно и
нужно, в этой логике, сметать бомбами и ракетами, а не реформировать
гражданским неповиновением.
25*
387
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
достижения целей, хороши последние или плохи, а не в том, являются ли преследуемые цели легитимными. Решить это — дело
скорее судов и силовых органов, чем тех лиц, которые непосредственно участвуют в гражданском неповиновении»148.
Конечно, рассуждение Гендина можно принять лишь с изрядной «щепоткой соли». Ведь то, что в реальности готово «принять» правительство, в огромной мере зависит от степени угрозы ему, которую представляют собою неповинующиеся. Не
только гандистское сопротивление британскому колониализму,
но и движение за гражданские права в США выявляли растущую
готовность власти принимать то, на что первоначально она отвечала пулями и тюремным заключением. Дефект позиции Гендина в том, что своё понимание гражданского неповиновения и его
границ он односторонне выводит из перспективы власти, как будто эта перспектива не претерпевает изменений в зависимости от
хода двусторонней политической игры между ней и сопротивлением ей. Но трактовку гражданского неповиновения в логике этой
двусторонней игры мы рассмотрим позже, когда доберёмся до
третьего смысла ненасилия гражданского неповиновения.
Сейчас же обратим внимание на следующее. Важнейшей
моральной импликацией этого второго подхода к гражданскому неповиновению является сокрытие того, что условия его
«правильности» даны в ультиматуме власти, а не во «внутренней
природе» гражданского неповиновения как такового. Это сокрытие производится посредством изображения статус-кво,
используя незабвенное выражение Джона Ролза, в качестве
«почти справедливого» общества. В то же время характерно
моралистическая подстановка консенсуса на место конфликта
в качестве отправного пункта теоретического исследования делает возможным и вроде бы даже логичным поиск определений
гражданского неповиновения «внутри» его самого, т. е. отвлекаясь от его игры с властью. При этом содержание ультиматума власти, охраняющей статус-кво, выдаётся за определения
148
Gendin S. Governmental Toleration of Civil Disobedience // Philosophy
and Political Action / Ed. V. Held et al. N. Y.: Oxford University Press, 1972. P. 167.
388
«допустимого» и «недопустимого», производимые самим моральным разумом (который и направляет гражданское неповиновение). При таком подходе весь анализ гражданского неповиновения сосредоточивается, по существу, на построении каталога этих условий его «разумности».
Прежде чем мы к нему приступим, обратим внимание на
три характеристики, которые приписываются гражданскому неповиновению в рамках рассматриваемого подхода и которые, по
сути, лежат в основе всего каталога условий его разумности.
Первую мы уже упоминали (в другой связи) во второй части книги: гражданское неповиновение понимается как последнее
и крайнее средство борьбы. Более того, утверждается, что и от
него по сугубо «разумным» причинам нужно отказаться, если
возникает угроза «эффективности действия справедливой конституции»149. При этом не объясняется, почему нужно считать «справедливой» конституцию, которая не устраняет зло, способное
вызвать к жизни гражданское неповиновение, и в чём состоит её
«эффективность», если не в устранении зла. Вторая характеристика вытекает из того понимания справедливости, которое лучше
всего передать словами Ролза: справедливость (в «почти справедливом обществе») никак не затрагивает «незаконные преимущества», которыми обладают «меньшинства» (элиты), укоренившиеся в структурах власти150. Если идея справедливости — то, что
даёт цели, обоснование и рамки гражданского неповиновения, то
её безразличие к «незаконным преимуществам» не может не
делать гражданское неповиновение прямо-таки ручным и безвредным для статус-кво. Неудивительно, что когда борьба против таких «преимуществ» встала на повестку дня гражданского
неповиновения, даже такой его поборник, как Мартин Лютер
Кинг, стал ощущать неудобства с использованием этого понятия
и предпочёл говорить о «ненасильственной революции», задача
149
См.: RawlsJ. A Theory of Justice. Cambridge (MA): The Belknap Press,
1971. P. 373-374.
150
См.: RawlsJ. Op. cit. P. 356-357.
389
Часть III. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
которой — «прервать функционирование общества в некоторой
ключевой его точке»151.
Третья характеристика — запрет физического насилия. Что
он означает в реальном контексте политической борьбы? Сколь
бы ни было ужасно физическое насилие, за ним нельзя не признать того, пожалуй, единственного его достоинства, что оно —
самый дешёвый, а потому доступный низам способ борьбы.
Сугубо «символический протест», которым хотят ограничить
гражданское неповиновение теоретики вроде Хабермаса, —
гораздо более дорогое удовольствие. Ведь он предполагает
доступ к организационным, научным, идеологическим, образовательным и прочим ресурсам Разума, который имеют далеко
не все и далеко не все имеют его в равной степени.
Пьер Бурдье очень элегантно показал, что эффективность доступа даже к такой примитивной артикуляции своей позиции, какой
является «общественное мнение», фиксируемое всяческими социологическими опросами, зависит от обладания логическими, информационными и символическими ресурсами. Они распределены
весьма неравномерно по ступеням социальной лестницы. Предполагать же, будто это не так, что выражается в моралистических
формулах об «универсальности разума», означает затушёвывать,
сознательно или бессознательно, действительное неравенство и тем
самым — мешать реальной борьбе за демократизацию доступа к
Разуму. Такая демократизация конечно же требует институциональных и функциональных перемен в обществе, а не очередного повторения моралистических заклинаний152.
151
См.: King M. L The Trumpet of Conscience // Civil Disobedience in
America... P. 222.
152
См.: BourdieuP. Pascalian Meditations. Tr. R. Nice. Stanford (CA): Stanford
University Press, 2000. P. 67-68, 72-73, 80. Суждение самого Бурдье о следствиях затушёвывания различий в доступе к разуму в действительности много
резче того, как это выразил я. Для него главным таким следствием выступает
«легитимация самой несправедливой из всех монополий — монополии на универсальное» (там же, с. 70). Хабермасовская «дискурсивная этика», попутно
говоря, служит для Бурдье одним из ярчайших примеров такой «легитимации».
390
Итак, третья характеристика гражданского неповиновения,
запрещающая использовать физическую силу, означает следующее. Низам предлагают вести игру по правилам, созданным
верхами, пользоваться исключительно тем оружием, которым
мастерски владеет противник, и вести бой на удобной для него
территории. Малейшее отступление от этих условий преследуется самой жёсткой идеологической агрессией. Наглядный пример её дал тот же Хабермас, объявивший в 1967 году «левым
фашизмом» (sic!) очень умеренный призыв лидера немецких
студентов Руди Дучке провести в университетских городках акции протеста против убийства берлинской полицией одного из
участников демонстрации, выражавшей осуждение политики
шахского режима в Иране и сотрудничества с ним ФРГ153.
Рассмотрим теперь каталог условий «разумности» гражданского неповиновения, как они видятся в перспективе рассматриваемого подхода к нему. Одновременно он будет и каталогом «основных признаков» гражданского неповиновения. Наиболее полно этот каталог выражен в определении гражданского
неповиновения, которое даёт американский исследователь Сидней Хук. На нём мы и остановимся, в случае необходимости делая уточнения, опирающиеся на другие источники.
Хук начинает с призыва, очень характерного для второго подхода к гражданскому неповиновению и проводящего границу
между ним и рассмотренным ранее первым подходом, не абсолютизировать совесть, когда мы пытаемся постичь суть явлений,
относимых к гражданскому неповиновению. Упор на совесть, не
153
Подробнее см.: Balakrishnan G. Overcoming Emancipation // New
Left Review. № 19. January — February 2003. P. 119. Чтобы по достоинству
оценить это заявление Хабермаса о «левом фашизме» Руди Дучке и его
сторонников, нужно помнить о совершенно ясном и недвусмысленном
осуждении самим Дучке любых проявлений терроризма в условиях либеральной демократии как того, что способствует только «оцепенению» социальной ситуации и затемнению «реальных социальных противоречий и политических возможностей классовой борьбы» (Dutschke R. Toward Clarifying
Criticism of Terrorism // New German Critique. Fall 1977. № 12. P. 9.
391
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
дополненный «критической моральной рефлексией», может привести к той позиции самоуверенности и самооправдания своих действий, которая рано или поздно оборачивается нравственной катастрофой. «Критическая моральная рефлексия» призвана открыть
ряд условий, которым должно отвечать гражданское неповиновение, чтобы быть нравственно продуктивным. Каковы они?
Первым Хук называет, естественно, ненасилие как осуществление христианского завета не причинять вреда другим. Второе —
не прибегать к гражданскому неповиновению, пока не использованы все другие легальные методы выражения протеста и пока нет
полной уверенности в том, что они не могут удовлетворить требования протестующих. Третье — участники гражданского неповиновения с готовностью принимают все наказания, вытекающие из нарушения ими законов, в том числе и даже в первую очередь тех,
против которых они протестуют и которые являются аморальными и несправедливыми. Четвёртое — акции гражданского неповиновения направлены на решение только моральных проблем, причём исключительно «наиболее крупных из них». Пятое — если мнения относительно этих проблем людей доброй воли расходятся,
то акциям гражданского неповиновения должна предшествовать
или даже заменять их широкая общественная дискуссия. Шестое — должны иметься ясные рациональные обоснования выбора
именно данного времени и данного места для проведения акций
гражданского неповиновения, равно как и их целей. Седьмое —
необходим учёт «исторической уместности» проведения кампании
гражданского неповиновения, т. е. осознание того, не наносит ли
она урон «общим ценностям», таким как демократические и конституционные основания общественной жизни154.
Присмотримся к тому, что означают эти признаки и условия гражданского неповиновения. Первого из них мы не будем
сейчас касаться, ибо о нём уже было сказано достаточно.
154
См.: HookS. Social Protest and Civil Disobedience // Civil Disobedience
and Violence / Ed. J. G. Murphy. Belmont (CA): Wadsworth Publishing C°, 1971.
P. 57-59.
392
Требование использовать все имеющиеся легальные каналы
выражения протеста и убедиться в их неэффективности до принятия решения о начале кампании неповиновения может иметь
одно из двух совершенно разных значений. Оно может быть понято как благоразумный совет не начинать трудное и дорогостоящее дело, коли цель достижима более лёгким и дешёвым путём. Против такого совета трудно что-либо возразить. Но то же
требование можно понять как принцип, соблюдение которого
необходимо, чтобы данная акция протеста отвечала понятию
гражданского неповиновения. Такое толкование вызывает большие затруднения. Как мы можем убедиться, что использовали
все легальные каналы? Нужно ли нам доходить до Страсбургского суда? Или ждать, пока наше национальное законодательство не
признает приоритет решений этого суда, если такого признания
пока нет? Или не останавливаться и на этом и апеллировать к Генеральной Ассамблее ООН? И что означает полнота уверенности в неэффективности имеющихся легальных каналов выражения
протеста? Поправка к Конституции США, отменяющая рабство,
была принята сразу после окончания Гражданской войны. Нужно ли было сто следующих лет воздерживаться от гражданского
неповиновения в ожидании того, пока такой «легальный канал»,
как Верховный суд, уже во второй половине XX века не устранит
самые дикие формы расовой дискриминации? Этот признак
гражданского неповиновения, понятый в качестве принципа, делает гражданское неповиновение просто невозможным.
Точно так же обстоит дело с третьим признаком. Готовность
принять наказание, вытекающее из нарушения несправедливого
закона, может быть очень эффектным и эффективным политическим приёмом — невинное мученичество способно поднять на протест тех, кто в иных обстоятельствах остался бы в стороне от борьбы. Но как моральный принцип этот признак никуда не годится.
Разве не есть мораль с её критической рефлексивностью —
характерная составляющая современного сознания? Разве для
этого сознания, вновь обращаясь к Гегелю, не действительно
лишь то, что признано им в качестве действительного и разумного? С какой стати я должен быть готов принять наказание на
393
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
основании закона, который несправедлив, а потому, с моей точки
зрения, неразумен и недействителен! Требование быть готовым
принять наказание только потому, что данный закон есть как
факт социального мира, может исходить только от досовременного, т. е. «традиционалистского», сознания155. Диктат традиционалистского сознания в современном мире есть анахронизм,
какая бы реальная сила за этим диктатом ни стояла. Политически я должен считаться с таким диктатом, если не хочу оказаться
совсем беспомощным в реальной борьбе. Но ни о каком моём
моральном обязательстве (принципе), вытекающем из этого
диктата, конечно, не может быть речи. Иными словами, готовность принять наказание может быть понята в контексте гражданского неповиновения как целесообразная тактика действий, но ни
в коем случае не в качестве его атрибута.
Четвёртый признак гражданского неповиновения, указывающий на то, что его предметом могут быть только крупнейшие
моральные проблемы156, нужно рассматривать в свете того, что
мы говорили раньше о невозможности «объективного» различения моральных и вне- или неморальных проблем по их «при155
Отталкиваясь от гегелевской философии, Чарльз Тэйлор очень удачно показывает то, что пиетет к данности «космического порядка» как таковой — в той же мере характерный признак мышления «досовременного
субъекта», в какой установка на самоопределение и критическое отношение
к данности являются признаками мышления «современного субъекта» (см.:
Taylor С. Hegel. Cambridge: Cambridge University Press, 1975. P. off).
156
Такой подход лучше всего проиллюстрировать рассуждениями
крупного американского философа права и политики Рональда Дворкина.
Он принципиально различает два вида гражданского неповиновения — «основанное на справедливости» и «основанное на политике». (Дворкин выделяет и третий тип, который можно понять как индивидуальное моральное
отказничество, но мы его оставим без внимания, так как оно не относится
к нашей теме, разве что в некоторой степени приближаясь к первому из
рассмотренных нами смыслов ненасилия гражданского неповиновения.)
Отметим само противопоставление справедливости (морали) и политики,
лежащее в основе этой классификации. Первый вид — защита «принципов», т. е. прав индивида и меньшинств. Второй вид — защита интересов
против «дурной» политики правительства. «Стратегии убеждения» харак-
394
роде». Взять то же американское рабство. В определённый период оно стало огромной моральной проблемой, поскольку
вокруг него развернулась интенсивная полемика, ставшая прологом Гражданской войны. Но Джон Кальхун, один из самых
философски искушённых защитников рабства, с полным основанием мог сказать, что ещё за полвека до этого, когда столь
морально чувствительные «отцы-основатели» принимали Конституцию, отражавшую и тем самым одобрявшую рабство, оно
такой проблемой не являлось, и южане — как патриоты и нравственные люди — настаивают на том, чтобы продолжать действовать в соответствии с моралью основоположников государства. Более того, согласно Кальхуну, рабство — не моральная
проблема, а моральный факт, как таковой имеющий значение
добра для обеих рас. То, что морально необходимо сделать, —
это как раз предотвратить политизацию данного морального
факта («агрессию деспотической власти»), т. е. превращение
его в предмет борьбы, которая — в отличие от морального
умозрения — всегда движима корыстными интересами, а не
правильным пониманием блага157.
терны только для первого вида, вследствие чего он является не просто
предпочтительным, а именно гражданским неповиновением в строгом
смысле слова. Второй — хотя и допустим при известных обстоятельствах,
но всегда подозрителен, так как чреват подрывом конституционного принципа «правления большинства» (см.: Dworkin R. A Matter of Principle.
Cambridge (MA): Harvard University Press, 1985. P. 107 ff, 111 и вся гл. 4).
157
Обосновывающую эти тезисы аргументацию Кальхуна см.:
CalhounJ. С. Speech on the Reception of Abolition Petitions // Union and
Liberty: The Political Philosophy of John C. Calhoun / Ed. R. M. Lence.
Indianapolis: Liberty Fund, 1992, P. 467-469. Более конкретно, Кальхун считал рабство тем «позитивным благом», которое не может становиться
«предметом спора» и должно быть признано «стоящим выше юрисдикции
конгресса» и того, что он вообще имеет право обсуждать. Рабство изображалось в качестве нравственного «блага», как система личностных попечительских отношений между хозяевами и работниками, противостоящая
аморальности безличностных эксплуататорских отношений между трудом
и капиталом на капиталистическом Севере США (см.: Calhoun 1. С. Slavery
as a Positive Good // http://douglassarchives.org/calh_a59.htm).
395
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Ограничение вопросов, с которыми «законно» может иметь
дело гражданское неповиновение, только «крупнейшими моральными проблемами», по сути означает запрет освобождению
двигаться дальше того пункта, которого оно достигло в данный
момент. Ведь этот запрет означает, что то, вокруг чего уже идёт
большая общественная дискуссия, может стать предметом протеста, но то, что пока воспринимается (большинством) в качестве
фактов — с присущими им структурами господства и неравенства, — должно оставаться таковым. Либеральная моралистическая версия гражданского неповиновения с точностью воспроизводит здесь логику рабовладельца Кальхуна.
Пятый признак гражданского неповиновения акцентирует его
связь с широкими общественными дискуссиями (с «людьми доброй воли») по тем предметам, которые вызывают протест готовых
не повиноваться. В действительности это гораздо более важный
пункт, чем может показаться на первый взгляд, и для рассматриваемого подхода к гражданскому неповиновению, и для понимания его реальных особенностей как политической стратегии.
В самом деле, можно с полным основанием говорить о том,
что гражданскому неповиновению присуща особого рода коммуникативность, важная для постижения его специфики сравнительно с другими видами политической стратегии. Под «особым родом» коммуникативности в данном случае понимается то, что мы
описывали раньше — в связи с гандистским ненасилием — как «педагогическую модель» действия. Американский исследователь
Кристиан Бэй справедливо пишет о том, что важной особенностью
гражданского неповиновения является способность выстраивать
действия так, чтобы их цели и методы были этически приемлемы
не только для «наблюдателей» (публики или «третьей стороны»),
но и для тех, кто может быть в роли противников, даже если конкретным лицам, выступающим противниками «здесь и сейчас»,
такие цели и методы кажутся предосудительными158. Ясно, что
158
См.: Bay С. Civil Disobedience: Prerequisite for Democracy in Mass
Society // Civil Disobedience and Violence... P. 78.
396
«педагогический эффект» гражданского неповиновения возможен
только при исполнении этого условия этической приемлемости.
Оно же, в свою очередь, предполагает «широкую общественную
дискуссию» — с публикой и противниками, назначение которой —
разъяснять цели и методы кампании гражданского неповиновения
в той же степени, а также корректировать их, чтобы достигать искомой этической приемлемости. Всё это говорит о том, что связь
гражданского неповиновения с «широкими дискуссиями» не просто существенна, но имеет для него определяющее значение.
Однако в рамках рассматриваемого подхода к гражданскому неповиновению эта связь понимается несколько иначе.
Гражданское неповиновение определяется как «обращение к
чувству справедливости большинства данного сообщества и декларация того, что — согласно разумному мнению — принципы
социальной кооперации между свободными и равными людьми
не получили должного уважения»159. Что является ложным в таком понимании гражданского неповиновения?
Во-первых, то, что оно редуцируется к коммуникации как
дискуссии. Мы уже говорили о том, что самое ненасильственное действие, будучи политическим действием, не может быть
свободно от многообразных эффектов принуждения, которые
никак нерастворимы в чистой «педагогической» коммуникации.
Их отсечение делает гражданское неповиновение политически
бессильным. Достичь этого бессилия и стремится приведённое
выше ролзовское определение гражданского неповиновения.
Во-вторых, использование термина «большинство» лишено
малейшего смысла, пока мы не уточним, о большинстве кого
идёт речь, — наблюдателей, противников или тех и других вместе? Тот или иной ответ на данный вопрос предполагает совершенно разные стратегии ненасильственных действий: ведь они в
соответствии с такими ответами получают ориентации на разные
социальные группы. Самая элементарная практика гражданского неповиновения показывает, что даже тогда, когда остаётся
. Op. cit. P. 364.
397
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
надежда обратиться к чувству справедливости власть имущих
(как то было у Ганди), это делается посредством привлечения
на свою сторону значительного числа тех, кто вначале были
лишь наблюдателями. А это и означает этапированное развитие
гражданского неповиновения и его нацеливание и перенацеливание на разные групповые «перспективы».
В-третьих, совершенно непонятно, что имеется в виду под
«большинством данного сообщества». Идёт ли речь о нации, о
сверстниках, о классе, о христианском мире или мусульманской
умме, о мировом сообществе в смысле «человечества» (что, кстати, было бы всего уместнее с точки зрения квазикантианской логики рассуждений Ролза) или о чём-то другом? Никакого внятного
ответа на этот вопрос нет, хотя из общего контекста (рассуждений
Ролза и других авторов, мыслящих о гражданском неповиновении
в том же стиле) можно предположить, что речь идёт всё же о «национальном сообществе». А почему именно о нём? Разве не могут неповинующиеся апеллировать к «чувству справедливости»
мирового общественного мнения, в отношении которого гораздо
более обоснованно допустить «моральную беспристрастность»,
чем в отношении национального общественного мнения, которым
гораздо более легко манипулируют власть имущие?
То, на какое «сообщество» должно ориентироваться гражданское неповиновение, само является острейшим политическим вопросом, а не некой самоочевидностью. Структура господства может как раз заставлять неповинующихся добиваться
невозможной в данной ситуации поддержки большинства, к
примеру нации. В таком случае важный предмет идеологической и политической борьбы — право соотносить себя с другим
сообществом, от которого участники гражданского неповиновения могут получить поддержку в противостоянии с властью.
Всё это было многократно продемонстрировано на практике —
диссидентами в странах советского блока, борцами против
апартеида в Южной Африке, противниками диктатуры Пиночета
в Чили, да и активистами американского Движения за гражданские права... Однако важность освобождения гражданского
398
неповиновения от навязанных ему властью референций осталась
неведома теоретикам вроде Ролза160.
Мои возражения против шестого и седьмого признаков
гражданского неповиновения достаточно ясно, на мой взгляд,
вытекают из сказанного ранее.
Да, оно предполагает выдвижение рациональных обоснований своих целей, а также выбора места и времени проведения соответствующих акций. Без этого было бы нельзя всерьёз говорить
о его коммуникативной природе, о присущем ему «педагогическом эффекте», о неотделимых от него «широких дискуссиях» и
т. д. Весь вопрос в том, кто судья тому, являются ли такие обоснования рациональными и насколько они рациональны. Мы вновь
видим, что без анализа «перспектив» разных групп, так или иначе
связанных с кампаниями гражданского неповиновения, требование выдвижения рациональных обоснований абстрактно до бессмысленности. «Фигура умолчания», характерная в этом случае
для рассматриваемого (либерального) подхода, выдаёт его сервильность: как-то само собой предполагается, что судить будет
обладающее властью «большинство», т. е. в действительности —
властные элиты, включая судейское сословие и хозяев СМИ.
Поставим вопрос: почему в отношении неповинующихся нет
презумпции невиновности? В большинстве случаев они уверены,
что действуют в полном согласии с правильно понятым законом,
причём не только моральным, но и юридическим, против неправильных пониманий закона или против законов низшего порядка,
противоречащих высшим законам. (Характерный пример —
апелляции советских диссидентов к юридически обязывавшим
СССР Хельсинкским соглашениям против некоторых внутренних
160
К числу таких теоретиков следует отнести и тех, кто с позиции будто бы «радикальной демократической теории», стремящейся преодолеть
«демократический дефицит» либерализма, по сути повторяют в главных
чертах ролзовское толкование гражданского неповиновения (см.: Cohen L,
Arato A. Civil Society and Political Theory. Cambridge (MA): The MIT Press,
1999 (5th printing). P. 573 ff).
399
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
законов и подзаконных актов, обладающих по отношению к международным договорам статусом низшего порядка.) Почему
доказывать рациональность своих действий должны неповинующиеся, а не их обладающие властью оппоненты? Ведь с точки зрения Разума, последние дают лишь «ещё одну» интерпретацию
закона, истинность которой так же может быть подвергнута сомнению, как и версия сторонников гражданского неповиновения.
Более того, почему власть имущие, нарушающие закон подчас много грубее, чем, скажем, борцы за гражданские права,
никогда не считаются деятелями гражданского неповиновения и
к ним не предъявляют тех же требований относительно рациональных обоснований, апелляции к чувству справедливости «большинства», широты общественных дискуссий и прочего'151? Я не говорю об уголовно наказуемых деяниях, за которые власть имущие могут пострадать, как президент Никсон, или легко уйти от
возмездия, как президент Рейган (за скандал «Иран — контрас»).
Ясно, что они всегда делаются скрытно. Я говорю о тех практически неизбежных и систематических нарушениях разных законов, которые вытекают из политики «государственных интересов» и считаются «рациональными» и «рационально оправданными» чуть ли не по определению, во всяком случае пока они не
выливаются в особо крупные скандалы. Кто должен быть судьёй
«рациональности» в случае подобных нарушений законов?
В том и дело, что в рамках второго подхода к гражданскому
неповиновению вопрос «кто судьи?» не может быть поставлен по
отношению ни к неповинующимся, ни к власть имущим. Невозможность постановки этого вопроса обусловлена тем, что на него
в действительности уже ответила власть: она будет «судьёй» и в
первом случае, и во втором. Закрытие этого вопроса властью придаёт ему мистифицированную форму: он превращается в вопрос
«как оправдаться перед Законом?», причём Власть отождествля141
Этот вопрос ставит и очень остроумно на него отвечает Наум Хомский (см.: Chomsky N. Philosophers and Public Policy // Philosophy and
Political Action... P. 214).
400
ется с Законом. В таком мистифицированном виде он может быть
адресован только выступающим против власти неповинующимся,
что и лишает их презумпции невиновности и вместе с тем — того
«эпистемологического равенства» с господствующими, которое
вытекает из верного в отношении всех людей скептического допущения: «все могут ошибаться, ибо разум человека слаб».
Седьмой признак, указывающий на необходимость учёта «исторической уместности» гражданского неповиновения, либо справедлив до степени трюизма, либо эзоповым языком делает неповинующимся последнее и очень серьёзное предупреждение.
В самом деле, если под «исторической уместностью» понимается нечто вроде того, что Макиавелли называл «соответствием времени»162, то для современного мира это такие азы политики вообще, в которых не нужно никого, включая сторонников
гражданского неповиновения, наставлять особо. Но наши авторы
как подлинные моралисты вряд ли говорят об этой исторической
уместности. Ударение делается скорее на слове «уместность»,
и оно прямо соотносится либо с «конституционным порядком»,
как у Ролза, либо с «основами демократии», как у Хука.
Но почему этот порядок нужно столь трогательно оберегать,
если он совместим с теми формами угнетения и маргинализации,
которые вызывают гражданское неповиновение (если не сказать,
что он воспроизводит их)? Почему, если конституция является такой справедливой, какой изображается, она может потерпеть
урон, вместо того чтобы обрести жизненность — от акций гражданского неповиновения, устраняющих несправедливость? Является
ли причинением урона конституции внесение в неё поправок (добытых даже потоками крови, а не ненасилием гражданского неповиновения) об отмене рабства или уравнении женщин в правах с
мужчинами? И не наносят ли ей, как и всему демократическому
порядку, больший урон идиотски моралистические поправки
вроде той, которая вводила в США «сухой закон», принятые без
162
См.: Макиавелли Н. Государь; Рассуждения о первой декаде Тита
Ливия; О военном искусстве. М.: Мысль, 1996. С. 327 и др.
26 Выбор
401
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
какого-либо давления гражданского неповиновения, а одним лишь
«чистым разумом» законодательствующих мужей?
И как может гражданское неповиновение — эта самая чистая и полная форма демократической жизни (с точки зрения
участия людей в политике и влияния на её ход, обеспечения ответственности властителей перед ними, самоорганизации масс
и т. д.163) — наносить ущерб «основам демократии»? Если оно
всё же наносит ущерб этим «основам», стало быть, они фундаментально недемократичны. Чем же тогда могут быть недемократические «основы демократии», которые нужно оберегать от
демократических «излишеств» гражданского неповиновения?
Видимо, той самой «процедурной демократией», которую
столь мастерски описал Йозеф Шумпетер в «Капитализме, социализме и демократии» и главное достоинство которой состоит
в обеспечении того, чтобы народ не решал ничего. За исключением того, кто персонально будет им править. Каждый, даже
самый невинный акт гражданского неповиновения — просто самим фактом включения людей в политику, делающим их чем-то
большим, чем «электорат», — явная угроза такой демократии.
Наши авторы, бесспорно, имеют все основания быть начеку
против столь опасного гражданского неповиновения и предупреждать его участников «не переходить границы».
4. НЕНАСИЛИЕ ГРАЖДАНСКОГО НЕПОВИНОВЕНИЯ
КАК СНИЖЕНИЕ «ОБЩЕГО ОБЪЁМА НАСИЛИЯ»
Перейдём к третьему смыслу ненасилия гражданского неповиновения, согласно которому ненасилие берётся в условном
и относительном значении как способность понижать общий
163
Ханна Арендт, конечно, права, показывая гражданское неповиновение как, в сущности, самый демократический тип политического действия
и, более того, соответствующий принципам классического либерализма
(токвилевской традиции), ещё не успевшего переродиться в апологетику
статус-кво (см.: Arendt H. Civil Disobedience. P. 94-102).
402
объём насилия, присущий данной ситуации (взятой в динамике
её политического развития).
При таком подходе гражданское неповиновение предстаёт
специфическим видом политической практики, а не манифестацией морального сознания или реализацией некоторых принципов,
что было характерно для первого и второго подходов. В качестве
практики гражданское неповиновение может быть определено
только через взаимодействие всех вовлечённых в эту практику
сторон. Иными словами, односторонняя ориентация неповинующихся, сколь бы чистой с моральной точки зрения она ни была или
сколь полно бы она ни воплощала принципы, считающиеся обязательными в рамках второго подхода, не являются достаточными
для квалификации рассматриваемого явления в качестве акта гражданского неповиновения. Он должен быть признан таковым не
только неповинующимися, но и их противниками, а также «третьей
стороной», и они должны относиться к нему соответственно.
Признание некоего события актом гражданского неповиновения вовсе не обязательно тождественно поддержке или одобрению его. Его можно осуждать или ему можно противодействовать, но при этом осуждение и противодействие будут направлены именно на гражданское неповиновение, а не иные
виды общественного действия — такие как бунт, заговор, уголовное преступление и т. д. (в качестве которых неповиновение
может восприниматься противниками или наблюдателями). Если
неповинующимся не удаётся добиться такого признания, то каковы бы ни были их собственные представления о том, что они
делают, практика гражданского неповиновения становится невозможной, а вместо него происходят совсем иные события.
Достижение признания данного события гражданским неповиновением в разных культурных средах будет предполагать использование разных форм и методов деятельности. Приемлемо
ли вторжение на телестудию для того, чтобы довести до общественности свою программу и тем самым стимулировать «широчайшие дискуссии», или это уже недопустимое насилие, не соответствующее — в глазах противников и наблюдателей — идее
26*
403
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
гражданского неповиновения? Добиваться ли демонстративного
входа в ресторан с табличкой «Только для белых» или это — предосудительное посягательство на «священную» частную собственность? Пикетировать ли клиники, где производят аборты,
борясь за «право на жизнь», или это — грубейшее покушение на
свободу человека (беременной женщины), способное безнадёжно дискредитировать данное выражение протеста? Ни на один
из этих и другие аналогичные вопросы нельзя ответить абстрактно, и это делает бессмысленным сам список «универсальных» и
«обязательных» признаков гражданского неповиновения. Хотя
относительно данной культурной среды эти признаки должны
быть поняты участниками гражданского неповиновения с предельной ясностью, если они хотят рассчитывать на какой-то успех.
Если признаки гражданского неповиновения как вида политической практики полностью зависят от культурной среды, в
которой она развёртывается, то мы вправе тем не менее поставить вопрос: а что именно должны признать противники и «третья сторона» в данном событии, чтобы считать его гражданским
неповиновением? Именно таким образом, исходя из «перспектив» тех, на кого направлено гражданское неповиновение и признания кого оно добивается, мы можем реконструировать его
«общее значение». Полученное таким образом понятие гражданского неповиновения будет скорее герменевтическим. Ведь
оно исходит из того, как воспринимают гражданское неповиновение, и не пытается описать, чем оно является «на самом
деле». Логика здесь та же, какую мы использовали при определении насилия. Тогда мы говорили, что определить насилие
можно лишь в перспективе тех, против кого оно направлено
(«жертв»). Теперь мы говорим, что гражданское неповиновение
можно определить лишь в перспективе тех, на кого оно призвано воздействовать («наблюдателей» и «угнетателей»).
Попробуем ответить на поставленный вопрос, идя методом
исключения и вновь возвращаясь к тем уже рассмотренным
признакам гражданского неповиновения, которые фиксирует
второй подход.
404
Можно ли признать гражданское неповиновение ненасильственным из «перспектив» противников («угнетателей») и «третьей стороны»? Ограничивая (дабы заострить и сузить проблему) наше внимание противниками, мы можем с уверенностью
дать отрицательный ответ. Вспомним восприятие гандистского
ненасилия его противниками из британской колониальной администрации: они на себе ощущали мощный эффект принуждения. Очевидный и сильный ущерб их непосредственным интересам не позволял им ошибиться относительно насильственного
характера гандистского гражданского неповиновения. Им это
было столь же ясно, как и Ганди — насилие и несправедливость
того, что они — со своей позиции — воспринимали в качестве
разумной «миссии белого человека».
Но даже противники Ганди не могли не признать его отказ
от физического насилия. И это сообщало его политике в их глазах те уникальные черты, которые отличали её от политики других радикальных оппозиционных сил.
Обратим внимание: отказ от физического насилия выделял
гандизм в секторе радикальной политики (направленной на ликвидацию британского правления в Индии). В секторе конформистской и коллаборационистской политики ненасилие было нормой. В этом секторе, если бы гандизм принадлежал к нему, он
просто не обладал бы никакой уникальностью. Не «ненасилие»
само по себе, а именно сочетание радикализма с отказом от
физического насилия — вот что позволяет противникам (но и
«третьей стороне») опознавать гандизм в качестве гражданского неповиновения, даже когда его следствием оказывается
реальное принуждение, а «педагогический эффект» незначителен или отсутствует вовсе.
В каком смысле формула «радикализм в сочетании с отказом от физического насилия» характеризует специфику гражданского неповиновения как вида политической практики?
Первое. Эта формула сразу привязывает гражданское неповиновение к конкретному характеру ситуации. Ведь «быть радикальным» абстрактно нельзя. «Радикальное» для одной ситуации может оказаться приспособленчеством в другой и наоборот.
405
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Говоря о гражданском неповиновении в общем плане, мы не можем указывать на какой-то конкретный вид радикализма как его
непременный атрибут. Нельзя, к примеру, сказать, что гражданское неповиновение — это всегда и только реформизм, но не
революция или наоборот. (Ганди делал революцию методом
гражданского неповиновения! Но бывают ситуации, в которых
революция должна быть исключена, если гражданское неповиновение хочет сохранить себя как таковое164.) Но в общем плане
можно сказать, что гражданскому неповиновению должен быть
присущ ситуационный радикализм. Последний нужно понимать
как предельно решительную форму протеста против статус-кво,
как её предполагает и допускает данная ситуация.
Второе. У радикализма гражданского неповиновения есть
другой смысл, который, строго говоря, даже не зависит от
того, завершается оно или нет практическим успехом. Он заключается в том, что обе противостоящие стороны благодаря
гражданскому неповиновению начинают, используя кантовские
понятия, действовать в логике «причинности свободы». Иными
словами, гражданское неповиновение обычно имеет реальный
эффект освобождения, причём сказывающийся на обеих противоборствующих сторонах. Освобождение же как преодоление логики статус-кво всегда радикально. Присмотримся к этому аспекту радикализма гражданского неповиновения.
У Жана-Поля Сартра есть великолепное, на мой взгляд, определение насилия как «действия свободы на свободу посред'" В данном плане мои рассуждения очень близки тем, которые приводит Арендт, решительно выступая против «принципиального» разведения
гражданского неповиновения и революции (см.: Arendt H. Civil
Disobedience... P. 77). Для других авторов, напротив, гражданское неповиновение привлекательно тем, что оно видится им «самоограничивающимся
радикализмом», в этом качестве, по существу, отличным от революции (см.:
Cohen L, Arato A. Op. cit. P. 567). Вообще говоря, революция, которая не
ограничивает себя, т. е. не осуществляет насилие в соответствии со своими
целями, ни в коем случае не является революцией. «Несамоограничивающимся» может быть только «бунт, бессмысленный и беспощадный».
406
ством неорганической материи»165. В самом деле, насилие становится актуальной деятельностью тогда, когда, во-первых,
одна сторона, вопреки «гетерономной» причинности обычая и
повседневности, механизмам подавления, стереотипам о собственном бессилии и т. д., восстаёт·, т. е. начинает действовать
в логике «автономии» собственного свободного воления. Вовторых, другая сторона вследствие этого тоже не может больше полагаться на «естественное» положение дел и тоже вынуждена действовать нестандартно, свободно от рутины, «автономно», кладя свою волю, а не само собой разумеющиеся «факты
жизни» в основу своих поступков. Признание необходимости
действовать в логике воли, а не «фактов» есть признание свободы восставшего, т. е. того факта, что он уже не находится
больше во власти «гетерономии» устоявшихся «естественных»
форм жизни. Этот обоюдный освободительный эффект насилия
мы рассматривали в связи с концепцией Сореля.
Но в насилии, подчёркивал Сартр, есть другой очень важный
момент, который существенным образом ограничивает этот эффект. Как деятельность насилие выстраивается так, чтобы нанести
противной стороне непоправимый урон — сделать её неспособной к новому восстанию или к новому сопротивлению восстанию.
Получается, что целью насилия является прекращение деятельности и вместе с ней — состояния свободы обеих сторон, а это и есть
восстановление «гетерономии». Насилие — несамовоспроизводящаяся интеракция одной свободы с другой, интеракция, упраздняющая себя и свободу. На языке сартровской философии
это передаётся так: «Насилие всегда ищет непоправимого и необратимого. В этом смысле производящий насилие человек предпочитает бытие деятельности. Он желает определять себя исключительно через необратимое прошлое, через то состояние прошлого, которое в настоящем невозможно изменить»'66.
165
Laing R. D., Cooper D. G. Reason and Violence: A Decade of Sartre's
Philosophy, 1950-1960. N. Y.: Humanities Press, 1964. P. 172.
ш
Sartre J.-P. Notebooks for an Ethics. Tr. D. Pellauer. Chicago: The
University of Chicago Press, 1992. P. 182.
407
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Спроецируем эти рассуждения Сартра на гражданское неповиновение. Оно тоже есть восстание с тем же освобождающим эффектом для обеих сторон. То, что первоначальная реакция на гражданское неповиновение обычно происходит в логике
рутины (от примитивных попыток делегитимировать его посредством указания на его противоречие законам до избиений неповинующихся в соответствии с обычными структурами распределения и субординации социальных ролей), ничего существенного нам не говорит. Ведь и на вооружённые восстания вначале
нередко реагируют как на простые «беспорядки» или даже уголовщину и стремятся справиться с ними — в той же логике рутины — судебными и полицейскими, а не политическими и военными мерами. Восстание в качестве такового тоже должно быть
признано обеими сторонами, как и гражданское неповиновение,
чтобы произвести свой двусторонний освободительный эффект.
Однако дальше начинаются различия. Переиначивая Сартра,
можно сказать: гражданское неповиновение есть воздействие
одной свободы на другую при посредстве органичной человеческой культуре материи символов и смыслов (поскольку исключается физическое насилие). Выбор таких орудий и посредников в интеракции свободы соответствует тому главному, что
отличает гражданское неповиновение от вооружённой борьбы:
первое не стремится нанести противнику непоправимый урон,
делающий его неспособным к новой деятельности, включая новое сопротивление. В этом плане гражданское неповиновение
является моделью самовоспроизводящейся интеракции одной
свободы с другой, интеракции, предпочитающей, словами Сартра, деятельность бытию и стремящейся постоянно определять
себя динамикой настоящего. В самом глубоком смысле, когда
обе стороны признают некое событие гражданским неповиновением, они фиксируют и ценят именно этот его аспект сохранения
двух свобод, отличающий его от вооружённого насилия.
Но коли этот аспект гражданского неповиновения признаётся,
то оно получает значение, выходящее далеко за рамки особого и
крайнего случая протеста против каких-то чрезвычайных проявле-
408
ний общественной несправедливости. Гражданское неповиновение
как способ быть свободными должно быть понято в качестве
неотъемлемого момента современной демократической жизни
именно постольку, поскольку она является демократической.
Конечно, это не предполагает того, что в условиях демократии все должны практиковать неповиновение всегда и по любому поводу (подобное бы парадоксальным образом обернулось рутинизацией гражданского неповиновения, т. е. его ликвидацией). Речь идёт о другом. Если демократия есть
ассоциация свободных людей, имеющих по отношению к ней
необходимые обязательства, то эти обязательства могут отличаться от деспотических повинностей только в случае возможности отказа их исполнять, если такое исполнение несёт урон
свободе и той справедливости, без которой, как было ясно ещё
Аристотелю, свободные люди не могут образовывать ассоциацию167. Демократия, неспособная ужиться с гражданским неповиновением, более того, — превратить его в органичный для
себя способ самообновления, есть «демократия несвободы»168.
Насколько приближается к этой «демократии» современная
«процедурная демократия», — вопрос очень интересный, но
выходящий за рамки нашего исследования.
Что касается второй части формулы — отказа от физического
насилия, то мы уже отчасти показали её значение в связи с только
что рассмотренным аспектом радикализма гражданского неповиновения. Однако нужно обратить внимание ещё на следующее.
В «перспективе» противников гражданского неповиновения
оно может представляться причиной некоторого роста насилия — по сравнению с ситуацией, предшествовавшей его началу. В самом деле, гражданское неповиновение может вызывать
167
Эту тему о необходимой связи между демократическим сообществом, с одной стороны, и правом и практикой неповиновения — с другой,
убедительно развил Майкл Уолцер (см.: Walzer M. Obligations... P. 19 ff).
168
Великолепную разработку Марксом этого понятия, хотя и применительно к другому контексту, см. : Маркс К. К критике гегелевской философии
права // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 1 . М.: Госполитиздат, 1955. С. 255.
409
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
репрессивные действия органов правопорядка (разгон несанкционированных властью демонстраций, ликвидацию «оккупационных забастовок», подавление пикетирования «жизненно важных
объектов» и т. д.), а также «несдержанную реакцию» части тех,
кого, в принципе, можно было бы считать «третьей стороной».
Возражая против такого представления, мало, на мой
взгляд, сослаться на те бесспорные факты, что эффективно
организованное гражданское неповиновение, как правило, сопровождается заметным снижением преступности и других присущих «нормальной» ситуации видов насилия, с лихвой перекрывающим рост насилия властей против граждански неповинующихся 169 . Итоговое суждение о том, ведёт ли гражданское
неповиновение к снижению «общего объёма» насилия, в решающей мере зависит от того, как мы понимаем то, что некоторые исследователи называют «институциональным», или «структурным насилием», в отличие от насилия, присущего непосредственным и осознанным действиям людей.
Под «институциональным насилием» обычно понимают те
формы угнетения, неравенства, маргинализации и т. д., которые
воспроизводятся нормальным функционированием социальных институтов и потому не могут быть квалифицированы в качестве насилия с точки зрения существующего права. Однако они лишают
его жертв определённых ресурсов, принадлежащих им согласно
установившемуся в данном обществе понятию справедливости (не
говоря уже о требованиях «универсальной морали»)170. «Институ"* См., например, сведения, приводимые Говардом Зинном о снижении преступности в американском штате Джорджия в период наиболее
мощных акций гражданского неповиновения борцов за гражданские права
в 1961 и 1962 годах (Zinn H. Disobedience and Democracy: Nine Fallacies on
Law and Order. Cambridge (MA): South End Press, 2002. P. 13).
170
См.: Pogge T. Coercion and Violence... P. 68. Некоторые авторы полагают, что важнейшей особенностью марксистской концепции свободы и
её огромным достоинством является именно то, что она ставит проблему
освобождения в контексте «институционального насилия» (безличных социальных сил, насильственные эффекты которых улавливаются такими поня-
410
циональное насилие», разумеется, не фиксируется в «перспективе» насильников и противников гражданского неповиновения. Однако оно, как правило, есть реакция как раз на такое насилие, и направлено оно именно на его ликвидацию или ослабление.
Трудность понятийного определения «институционального
насилия» заключается в том, что пока оно не стало предметом реального сопротивления его жертв, его едва ли можно считать насилием в том значении актуального праксиса (уловленного сартровской формулой «действия одной свободы на другую»), которого мы придерживались в данной книге171. Пока нет этого
сопротивления, «институциональное насилие» может быть признано в качестве такового только с позиции внешнего наблюдателя,
а не изнутри практики: оно оказывается плодом теоретического
заключения, а не «заключения» действующей воли. Насилие же как
то, что имеет политическое значение, — всегда явление и продукт
столкновения действующих воль. Это означает, к примеру, что
можно вполне обоснованно зафиксировать явление «отчуждения»
или «фетишизма», но их нельзя будет признать «насилием», пока
нет практического действия «разотчуждения» и «дефетишизации».
Теоретическое заключение о наличии «институционального насилия» политически всегда опасно соблазном приписать его жертвам
ту готовность к борьбе, которой они могут вовсе не обладать, —
в духе бакунинской уверенности в «имманентном» бунтарстве
русского крестьянства или ещё более нелепого утверждения
тиями, как «отчуждение», «товарный фетишизм», «реификация», «капиталистическая рационализация» и т. д.) и относительно его (см.: Bernsfein l, M.
Recovering Ethical Life: Jürgen Habermas and the Future of Critical Theory. L;
N. Y.: Routledge, 1995. P. 35 ff).
171
В этой связи стоит отметить точное, на мой взгляд, различение Дэвидом Аптером угнетательских и маргинализирующих следствий функционирования институтов, способных вызвать насилие (у него речь идёт о механизмах глобального капитализма), с одной стороны, и насилия как актуальной практики — с другой (см.: Apier D. E. Political Violence in Analytical
Perspective // The Legitimization of Violence / Ed. D. Apter. N. Y.: New York
University Press, 1997. P. 24-25).
411
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
официальной коммунистической идеологии о пролетариате как
«революционном классе» по определению.
Однако гражданское неповиновение есть такое действие сопротивления, которое превращает «институциональное насилие»
из обыденных, «общепризнанных», а потому как бы ненасильственных фактов жизни в насилие. Мартин Лютер Кинг очень удачно передал это превращение в образах «восстания против негативного мира» (покоя, тишины и даже «гармонии» расовых отношений до начала борьбы за гражданские права) во имя «позитивного
мира» (установления подлинного равноправия рас)172. С точки зрения такого превращения «ненасильственно» угнетательских фактов
жизни в насилие, гражданское неповиновение даёт рост насилия по
сравнению с предшествующей ему ситуацией, что адекватно фиксируется в «перспективе» его противников. Но именно по отношению к этой «перспективе», равно как и «перспективе» «третьей стороны», гражданское неповиновение должно доказать, что является таковым. Оно должно обнаружить тот «педагогический
эффект», о котором мы говорили раньше и которого нет у вооружённой борьбы. Признание противниками и «третьей стороной»
насильственного характера «негативного мира» и, соответственно,
устранение тех форм «институционального насилия», против которых было направлено гражданское неповиновение, — только это
позволяет говорить о том, что оно способно уменьшать «общий
объём» насилия, присущий данной исторической ситуации, взятой
в её политической динамике.
Все другие черты гражданского неповиновения (как их фиксирует второй из рассмотренных подходов) являются, так сказать,
тактическими, целесообразными или нецелесообразными в тех
или иных ситуациях с точки зрения снижения «общего объёма» насилия. Определённое исключение, как мы видели, хотя и с очень
важным уточнением, нужно сделать в отношении необходимости
давать рациональное объяснение целей кампании гражданского
неповиновения, места и времени её проведения и т. п. В известном
!
См.: KingМ. L. Love, Law and Civil Disobedience... P. 218.
412
смысле, это — общий признак гражданского неповиновения. Поскольку механизмом его осуществления является «педагогический
эффект», постольку оно должно иметь возможность апеллировать
к разуму противников и наблюдателей, т. е. к некой общей для них
и для неповинующихся области ценностых взглядов и суждений.
Различие между «англичанами» и «японцами», которое сделал
Ганди, оценивая возможность воздействия на тех и других его стратегии ненасилия, очень показательно в этом плане.
Однако в заключение вновь подчеркнём культурные и политические ограничения применимости стратегии гражданского неповиновения. Если ненасилие, а потому и гражданское неповиновение можно в некотором условном, ситуационном и диалектическом смысле ассоциировать с разумом (что мы пытались
показать в лекциях 11 — 12), то этот разум должен быть достаточно разумен, чтобы не попадать впросак, чтобы не мнить о своём
всесилии там, где он бессилен. Ханна Арендт как-то блестяще
выразилась: «Использовать разум там, где разум оказывается
ловушкой, "нерационально"»173. Противники борцов против угнетения и маргинализации нередко подталкивали и будут подталкивать последних именно к «ненасильственным» формам борьбы и
именно потому, что в ряде ситуаций такие формы борьбы заведомо обречены на поражение. Разум ненасилия в таких случаях
в самом деле есть лишь «ловушка». Нельзя забывать, что подчас
«насилие есть единственный способ, каким может быть услышан
призыв к умеренности», что насильственная политика может оказаться вполне рациональным путём открыть или создать те каналы коммуникации и доступа к «публичной сфере», наличие которых есть необходимая и минимальная предпосылка скольконибудь успешной кампании гражданского неповиновения174.
173
Arendt H. On Violence. P. 66.
Цит. по: Arendt H. Op. cit. P. 79. О насилии как рациональном способе открытия каналов социальных коммуникаций, заблокированных
«обычной политикой», см.: AddisonM. Violent Politics: Strategies of Internal
Conflict. Basingstoke: Pelgrave, 2002. P. 20 ff.
174
413
TOPO И УИНСТЕНЛИ:
МОРАЛЬНЫЕ И
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
И ГРАНИЦЫ ГРАЖДАНСКОГО
НЕПОВИНОВЕНИЯ
Лекция 18
1. НАСИЛИЕ И НЕНАСИЛИЕ У ТОРО И УИНСТЕНЛИ
Генри Торо и Джерард Уинстенли видятся мне в отношении
теории и практики гражданского неповиновения примерно такой
же парой, какую составили в отношении насилия — ненасилия
Фанон и Ганди. Существенные сходства в одном плане не просто дополняются не менее важными различиями в другом, а
обусловливают их. Соотнося это с тем, о чём шла речь в предыдущих двух лекциях, можно сказать, что Торо и Уинстенли
своей деятельностью с той «чистотой», какую допускает история, представляют первый и третий смыслы ненасилия гражданского неповиновения.
До перехода к дальнейшему нужно сделать одно пояснение. Значение Торо для теории и практики гражданского неповиновения очевидно, что, вероятно, исчерпывающе объясняет и
наш выбор его как персонажа данной лекции. Вряд ли можно
считать преувеличением следующее заключение: Торо — «поворотный пункт в истории движения (гражданского неповиновения. — Б. К.). В том или ином виде идея гражданского неповиновения оглашалась и даже осуществлялась на практике в течение, по крайней мере, 2400 лет. Но никогда раньше она не
становилась предметом такого большого общественного внимания, никогда раньше не пользовалась столь широкой поддержкой, как за столетие, прошедшее после того, как Торо в интеллектуально ясной форме объяснил, почему людям следует
руководствоваться в своих действиях справедливостью, а не ле414
гальностью»'75. Если оставить пока в стороне вопрос о том, насколько «ясной» была форма изложения идеи гражданского неповиновения у Торо, то с остальным трудно не согласиться.
Отношение к гражданскому неповиновению Уинстенли гораздо менее очевидно. Идеолог и руководитель до сих пор не
вполне понятного эксперимента «истинных левеллеров» или «диггеров» на холме Святого Георгия в графстве Саррей в кульминационный период английской революции, он канул в безвестность
после разгрома его коммуны наймитами местных землевладельцев при поддержке кромвелевских войск в 1650 году176. Своё
дело он понимал, похоже, в эсхатологических категориях искупления и «восстановления» рода людского, а не в качестве того,
что века спустя стали именовать гражданским неповиновением.
Сейчас он для одних — предтеча коммунизма, для других — первый сознательный анархист, для третьих — радикальный реформатор христианства177. Не отрицая того, что все эти определения
отражают некоторые важные составляющие его деятельности, я
попытаюсь реконструировать её политическую логику в соответствии с моделью гражданского неповиновения.
Сравнить варианты гражданского неповиновения Торо и Уинстенли особенно интересно под углом зрения их отношения к насилию и ненасилию. В отечественной литературе чуть ли не как
нечто само собой разумеющееся принимается представление о
том, будто Торо — последовательный сторонник ненасилия.
А. П. Огурцов даже связывает с его именем (как и с именем
175
Woodstock G. Civil Disobedience. Toronto: Canadian Broadcasting C°,
1966. P. 3.
176
Исторические сведения об Уинстенли собраны в очень добротной книге Т. А. Павловой (см.: Павлова Т. А. Уинстенли. М.: Молодая гвардия, 1987).
'" См., соответственно: Hill С. Introduction // Winstanley G. The Law of
Freedom and Other Writings / Ed. C. Hill. Harmondsworth: The Pelican Classics,
1973. P. 10 (трактовка Уинстенли как «предшественника» научного коммунизма особенно характерна для советской историографии); History of
Anarchism // http:/www.hinet.hr/kosta-kraus/topics/anarchism_history.html;
Sutherland D. R. The Religion of Gerrard Winstanley and Digger Communism //
Essays in History (University of Virginia), 1990-1991. Vol. 33.
415
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Р. У. Эмерсона) формирование самой «этики ненасилия»'78. Однако не только многие западные исследователи, но и Ганди — тот
ученик Торо, из-за которого имя последнего связалось с ненасилием, — имели самые серьёзные сомнения на сей счёт179. Да и
как они могли думать иначе, если Торо не просто восхищался
Джоном Брауном, радикальным аболиционистом, который во
главе вооружённой группы совершил приведший к человеческим
жертвам налёт на рабовладельческое поместье, не только публично защищал его, но и сравнивал с Христом!180 Методы, использованные Брауном, не только представлялись Торо правильными — он примерял их к себе: «Я не хочу убивать или быть убитым, но могу предвидеть обстоятельства, при которых и то и
другое станут для меня неизбежными. Мы сохраняем так назы178
См.: Огурцов А. П. Дилеммы ненасилия: Ненасильственные движения и философия ненасилия: состояние, трудности, перспективы (материалы «круглого стола») // Вопр. философии. 1992. № 8. С. 7. Более осторожную позицию в этом вопросе занимает H. E. Покровский, но и он не
видит резона «выстраивать линию внутренней эволюции Торо "от непротивления к сопротивлению"» и настаивает на неизменности убеждения американского мыслителя в «неэффективности применения любого насилия для
улучшения состояния человеческого духа» (см.: Покровский H. E. Высшие
законы Генри Дэвида Торо // Торо Г. Д. Высшие законы. М.: Республика,
2001. С. 31).
179
Ганди писал: «Возможно, Торо не был последовательным защитником ненасилия» (GandhiМ. Selected Political Writings... P. 51). Согласно заключению одного из американских исследователей, «исчерпывающее изучение трудов Торо не позволяет видеть в нём святого патрона ненасилия.
Несомненно, он предпочитал другие методы сопротивления и видел в насилии лишь последнее средство. Но он никогда, подобно Ганди, не отвергал насилие в принципе» (см. : Van Düsen L. H. Civil Disobedience: Destroyer
of Democracy // Writing and Reading across the Curriculum / Ed. L. Behrens
and L. J. Rosen. Boston: Little, Brown and C°, 1985. P. 139).
180
«Примерно восемнадцать столетий назад, — писал Торо, — распяли Христа; этим утром, возможно, повесят капитана Брауна. Вот два конца цепи, у которой есть свои звенья. Он уже больше — не старина Браун;
он — Ангел Света» (Thoreau H. D. Political Writings / Ed. N. Rosenblum.
Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 156).
416
ваемый "мир" нашего сообщества каждодневными делами, которые несут в себе мелочное насилие»181.
Ещё примечательнее то, что вооружённые действия Брауна решали в этическом плане ту же задачу, с которой стремилось справиться (видно, не очень преуспев в этом) ненасильственное гражданское неповиновение. Браун «не признавал
несправедливых человеческих законов и сопротивлялся им, как
был к тому призван. И мы сразу возвышены [этим] над тривиальностью и пылью политики в сферу истины и человечности»182 . Но возвышение в эту сферу — самая великая цель и самая сокровенная надежда той философии трансцендентализма, которая образовывала ядро мировоззрения Торо 183 .
Получается, что вооружённое насилие есть практическое решение философской задачи, над которой всю жизнь не только интеллектуально, но и ставя «опыты над собой» (типа уолденского уединения), бился Торо!
В отличие от этого о самом последовательном ненасилии
(имея в виду физическое ненасилие) Уинстенли можно говорить
с полнейшей определённостью. Дело не только в совершенно
ясном декларировании им принципиального отказа от ответа насилием на насилие противников184. Более убедительно то, что в
обстановке революции и гражданской войны, имея среди своих сторонников немало вчерашних солдат, Уинстенли отвечает на грубейшие провокации своих противников тем феноменальным призывом к диалогу как публичной практике разума,
который могли бы считать образцом самые взыскательные
181
ThoreauH. D. Op. cit. P. 153.
lb.d. P. 147.
183
Об американском трансцендентализме как интеллектуальном и
практическом поиске путей преодоления «механической», «тривиальной»
реальности и обнаружения строя высших духовных истин очень ярко написал в недавней работе Н. Е. Покровский (см.: Покровский H. E. Указ. соч.
С. 10-13).
"" См.: Уинстенли Д. Избр. памфлеты / Под ред. А. С. Самойло. М.;
Л.:Изд-воАНСССР, 1950. С. 158.
182
27 Выбор
417
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
либеральные интерпретаторы гражданского неповиновения и
теоретики «коммуникативного действия». К этому удивительному документу — «Смиренному обращению к деканам обоих
университетов и всем юристам в каждой судебной палате» («An
Humble Request to the Ministers of Both Universities and to All
185
Lawyers in Every Inns of Court» ) мы ещё вернёмся.
Встаёт вопрос: можем ли мы объяснить столь различное
отношение к вооружённому насилию у Торо и Уинстенли исходя из «оснований» их представлений о сопротивлении несправедливости и угнетению, не сводя его к «случайному» стечению событий на определённых этапах их жизни?
2. ПАРАДОКСЫ ГРАЖДАНСКОГО
НЕПОВИНОВЕНИЯ ТОРО
Многие ключевые формулировки важнейшего эссе Торо
«О гражданском неповиновении» выполнены в модальности
долженствования. «Закон надо нарушить», — пишет Торо, если
он требует от нас вершить несправедливость в отношении другого. «Восстать и совершить революцию» в стране, где существует рабство и которая ведёт агрессивную войну, — «неотложный долг». Долг необходимо исполнить, «чего бы это ни
стоило», пусть ценой его исполнения будет само существование американской нации186. Перед кем этот долг? Каков его источник? Что обязывает меня его исполнять?
На первый вопрос ответ столь же лёгок, сколь важен для
всех последующих рассуждений. Пусть человек, подчёркивает
Торо, «выполняет только свой долг перед самим собой» (Там
же. С. 273). Строго говоря, долга перед другими нет и быть не
может, хотя и государство, и мнение большинства пытаются
внушить обратное.
183
См. в кн.: Gerrard Winstanley: Selections from His Works / Ed. L. Hamilton. L: Cresset Press, 1944. P. 105-108.
186
Горо Г. Д. Высшие законы. С. 263, 266 и др.
418
Topo или, скажем, в более общем виде человек, от имени
которого говорит Торо, — существо, совершенно не связанное
социальными отношениями, культурой, историей или какимилибо другими продуктами совместной жизни людей. Это — то
идеальное либеральное существо, «человек вообще», которое
было модельным персонажем теорий «естественного права» и
«общественного договора» XVII—XVIII веков и которое несколько вышло из употребления в XIX веке в Европе, но сохранилось в
более девственной Америке. В соответствии с мышлением этого персонажа Торо пишет заявление в городское управление Конкорда: «Да будет всем известно, что я, Генри Торо, не желаю
считаться членом какой бы то ни было официальной организации,
в которую я не вступал» (т. е. не заключал «общественный договор»). В этой же логике он замечает про себя: «Пожалуй, я ревнивее, чем принято думать, отношусь к своей свободе. Чувствую,
что связь моя с обществом и обязанности по отношению к
нему... слабы и случайны». И ощущение совсем уже воздушной
свободы от всякой социальной определённости выражает Торо в
своих дневниках: «Я могу уйти от общественного мнения, от правительства, религии, образования, от общества». А потому он
готов превратиться в кого угодно — от «почтальона в Перу» и
«гренландского китобоя» до «ссыльного в Сибири» или даже Робинзона Крузо на необитаемом острове187.
Откуда при столь полной социальной неопределённости у
такого существа берётся долг? Из той трансцендентной сферы
Истины и Человечности, о которой мы уже упоминали. В ней
имеются «вечная и единственно справедливая КОНСТИТУЦИЯ»
(не чета той, которую составил Джефферсон или Адаме) и Истина, которая «всегда находится в согласии с самой собой и не
озабочена доказыванием справедливости»'88. Впрочем, они, в
сущности, — одно и то же и являются лишь разными обозначениями высшего нравственного закона.
187
Торо Г. Д. Указ. соч. С. 270, 293, 319.
"" Там же. С. 275, 285.
27*
419
Часть III. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
В большинстве случаев признание таких трансцендентных
сущностей сопровождалось мучительным эпистемологическим
вопросом: каким образом нам, слабым и заблуждающимся существам, можно удостовериться в том, что эти сущности нам
хотя бы частично открылись? Американский трансцендентализм
был счастливо избавлен от таких мучений благодаря удачному
смешению, по формулировке H. E. Покровского, «трансцендентного» и «трансцендентального», в результате чего первое
считалось сравнительно легко доступным посредством интеллектуальной интуиции189. Проблема возникала скорее на другом — практическом — уровне: каким образом эту вполне доступную трансценденталистам Истину довести до обывателей,
«низведённых до уровня дерева, земли и камней» и вызывающих «не больше уважения, чем соломенные чучела или глиняные идолы», хотя и считающихся «обычно за хороших граждан»?190 Вопрос о гражданском неповиновении возникает именно на этом уровне и в связи с этой практической проблемой.
Но что обязывает меня, свободное от всего земного существо, исполнять долг, вытекающий из известности мне Истины?
Если бы меня обязывало само знание того, что существует
«надо» мной и независимо от меня, то я бы не был тем свободным существом, которое описывается Торо. Между знанием
должного и долгом как мотивом поступка должно найтись место моей свободе как принадлежащему мне праву принимать
долг. Это и фиксирует Торо очень чёткой формулировкой:
«Единственная обязанность, какую я имею право на себя
брать, — это обязанность всегда поступать так, как мне кажется
правильным»191.
Понятно, что обязанностей, вытекающих из нравственности коллективной жизни, я, согласно Торо, не имею права принимать, если я с ними не согласен. Но если я принимаю какие189
См.: Покровский H. E. Указ. соч. С. 10-11.
Горо Г. Д. Указ. соч. С. 262.
'"Там же. С. 261.
190
420
либо обязанности, то тем самым реализую моё право их принимать. Такая постановка вопроса предполагает допустимость
выбора не реализовывать данное право или реализовывать его
иным образом, чем делает Торо. Строго говоря, ему не в чем
было бы упрекнуть обывателей, если бы они могли в его собственной логике парировать его нападки простым указанием на
то, что в полноте своей свободы отказываются от реализации
этого права и сознательно выбирают свой «деревянный» образ
жизни. В таком случае они должны были бы быть признаны равными Торо в свободе и достоинстве, но свободными и достойными по-другому. Такого равенства в свободе как основе реального плюрализма образов жизни Торо конечно же признать не может. Его моральная философия предполагает
диктатуру — в самом буквальном смысле слова: «деревянному» быдлу Учитель внушает Истину, которой Он предпочёл руководствоваться, хотя другие на основе того же права свободы
выбрали нечто иное.
Торо в самом деле откровенно тоскует о Великом Законодателе, способном разом разрешить все проблемы: «В Америке ещё не было гениального законодателя. Они редки и в мировой истории. Ораторы, политики, красноречивые люди насчитываются тысячами, но ещё не раскрывал рта тот, кто способен
решить нынешние наболевшие вопросы»192. Критики Торо верно указывали на то, что общее для американского трансцендентализма очарование Платоном оборачивается в данном случае
воспроизводством авторитарных характеристик платоновской
политической утопии — скорее даже в духе «Государства», чем
более смягчённой её версии в «Законах». И уж совсем отчётливо звучит у Торо глубоко антидемократичная руссоистская тема
Законодателя193. Вероятно, можно говорить о том, что стратегия
"2 Торо Г. Д. Указ. соч. С. 276.
См.: Buranelli V. The Case against Thoreau // Ethics. 1956-1957.
Vol. LXVII. P. 264, 266. В свете этого некоторую озадаченность вызывает
мнение других комментаторов, объясняющих популярность эссе Торо о
193
421
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
гражданского неповиновения избирается Торо потому, что ему
заведомо недоступна стратегия Законодателя. Во всяком случае, и для Законодателя, и для неповинующегося «по Торо» характерны два ключевых общих признака: во-первых, уверенность в абсолютной своей правоте и признание за собой прав,
которыми не обладают другие; во-вторых, не просто готовность
действовать в одиночку, а обоснование права на такое действие,
выражаемое внешне парадоксальной формулой «большинство
в лице одного» («majority of one»)194.
Здесь мы подходим к более ясному пониманию того, почему Торо вовсе не был принципиальным противником (физического) насилия. «Вопрос стоит не об оружии, а о духе, с которым оно применяется» — вот, если угодно, его принципиальная позиция относительно допустимости или недопустимости
применения физического насилия. В «праведном деле» (таком,
как дело Джона Брауна) «винтовки "шарп" и револьверы» —
гражданском неповиновении тем, что в нем автор «удачно говорит голосом
совести демократического гражданина» (Rosenblum N. Introduction //
Thoreau. Political Writings. P. XIX). Хотя если подумать о праве читателя на
интерпретацию и о том, что «послание текста», в конечном счёте, формирует именно он, а не писатель, то приведённое мнение предстанет менее
спорным. Примером такого авторского прочтения Торо может служить
яркий рассказ участника датского Сопротивления нацизму о том, как эссе
«О гражданском неповиновении» вдохновляло его товарищей взрывать
мосты и фабрики, использовавшиеся оккупантами, и продолжать бороться, когда надеяться на победу над врагом отказывался «реалистичный» разум (см.: The Variorum Civil Disobedience / Ed. W. Harding. N. Y.: Twayne
Publishers, 1967. P. 91).
194
Thoreau H. D. Political Writings. P. 9. К сожалению, русский перевод
соответствующего места эссе Торо неадекватен именно тем, что создаёт
иллюзию, будто носитель Истины готов вынести её на некое голосование с
участием «деревянных» обывателей, пусть при этом он заранее уверен в
своей правоте. «К тому же любой человек, — говорится в русском переводе, — который больше прав, чем его ближние, уже составляет большинство в один голос (??)» (Горо Г. Д. Указ. соч. С. 267).
422
подходящие средства195. «Праведность» дела Джона Брауна
удостоверила история. Но кто и как в каждый данный её момент
вправе определять, является ли предполагаемое дело «праведным»? Ведь история изобилует страшными ошибками на сей
счёт! В ответе Торо на этот вопрос обнаруживается всё значение той фигуры Законодателя или, что то же самое, трансцендентального философа, о которой мы только что говорили. «За
наставлениями обращайтесь, — пишет он, — не в законодательные органы или церкви и не к бездушным "телам" (soulless
incorporated bodies), а к осенённым духом или воодушевлённым
(to inspirited or inspired ones)»196.
Однако зачем «осенённым духом и воодушевлённым» вообще связываться с «деревянными» обывателями, либо мирно
убеждая их в чём-то, либо призывая к кровопролитию или тем
более участвуя в нём лично? Строго говоря, трансцендентная
Истина обязывает нас избегать зла, а не устранять зло на Земле, что и невозможно полностью, и сопряжено с совершением
нового зла. Сам Торо ясно понимает это и последовательно
проводит «моральную точку зрения», когда пишет: «Человек не
обязан непременно посвятить себя искоренению даже самого
большого зла; он имеет право (обратим внимание на вновь
195
См.: ThoreauH. D. Op. cit. P. 153. Не следует думать, к чему склонны некоторые комментаторы, что такие выводы о допустимости насилия в
«праведном деле», сформулированные в статьях Торо последних лет его
жизни, означают разрыв с «философией ненасилия» более ранних его эссе.
Ещё в «Гражданском неповиновении» Торо со всей ясностью писал: «Если
подданный отказывается повиноваться, а чиновник отказывается от должности, революция свершилась. Но положим даже, что прольётся кровь.
А разве из раненой совести не льётся кровь? Из этой раны вытекает всё мужество и бессмертие человека, истекая этой кровью, он умирает навеки»
(Торо Г. Д. Указ. соч. С. 268). В том и дело, что принципиальной разницы
между духовным и физическим насилием Торо не видел, и упразднение
первого вполне может оправдать применение второго. Возможно, относительно некоторых ситуаций он был прав.
"é Thoreau H. D. Op. cit. P. 167.
423
Часть III. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
появившееся понятие «права»! — Б. К.) и на другие заботы; но
долг велит ему хотя бы сторониться зла; и если не думать о нём,
то не оказывать поддержки»197.
Исполнить долг «сторониться зла» можно очень успешно
в уединении Уолденского леса или добровольно став «Робинзоном Крузо», т. е. именно так, как это практиковал или как об
этом мечтал сам Торо. Стратегия отшельничества даже предпочтительнее. Ведь, с одной стороны, связи с обществом, как
мы помним, всё равно «слабы и случайны», так что рвать их не
составит никакого труда (такой разрыв будет даже облегчением). А с другой стороны, никакая активность всё равно не изменит того, что «политика — это не нравственность, что она
никогда не обеспечит моральной правоты, а ищет только выгоды». К тому же обладателям Истины прекрасно известно,
что политическая свобода (то, что только и можно достичь в
политике) имеет лишь одну цену — быть «средством к достижению свободы нравственной»198. Но зачем нужно это средство и зачем платить за него какую-либо цену, если нравственная свобода уже имеется у отшельников независимо от
всякой политики?
Видимо, когда мы рассуждали раньше об опосредовании
трансцендентного долженствования и долга как мотива действий
правом (признавать или не признавать нечто в качестве долга),
то упустили многие важные импликации этого опосредования.
Право, кроме прочего, предполагает то, что я выбираю, какой
курс действий — отшельничество, участие в военной операции
или мирное гражданское неповиновение — будет вытекать из
моего признания трансцендентного долженствования. Последнее никоим образом не предопределяет такой выбор, но
именно он, а не само по себе долженствование имеет значение
для политики. Чем же нам следует руководствоваться в таком
важнейшем для нашей жизни выборе?
197
198
Горо Г. Д. Указ. соч. С. 265.
См.: Горо Г. Д. Указ. соч. С. 285 (курсив мой. — Б. К.), 303.
424
Ответа на этот вопрос у Торо мы не найдём. И чем больше он призывает нас «быть прежде всего людьми», а не, к примеру, американцами, или русскими, или носителями какой-либо
другой исторической и культурно-политической идентичности,
тем более случайным и несерьёзным предстаёт этот выбор.
Даже предпочтение Джоном Брауном боевой акции против рабовладельцев уединению на излюбленных Торо поймах Массачусетса остаётся совершенно непонятным. Ведь в качестве праведника он мог с не меньшим (по крайней мере) основанием
выбрать второе199.
Но неопределённость, вносимая в наши действия и решения
появлением права между трансцендентным долженствованием
и долгом, не ограничивается отсутствием внятных критериев выбора между той или иной линией поведения. Не менее запутанным оказывается и вопрос, что именно считать тем злом, которого мы обязаны избегать (той или иной линией поведения).
Для Торо безусловно ясно, что такими видами зла, противодействие которым оправдывает и гражданское неповиновение, и вооружённую борьбу, являются агрессия США против
соседней Мексики и рабство афроамериканцев. (Хотя мы видели, что Торо не только не готов посвятить всю свою жизнь
сопротивлению этим видам зла, но даже считает «ненормальным» постоянно говорить и писать о них200.) Почему в их числе
'" Некоторое объяснение выбора Брауна находится тогда, когда мы
видим его не в качестве праведника, а как человека во «плоти и крови», в
той системе товарищеских отношений, которую он построил с черными
американцами, в его принадлежности к определенному сообществу людей. Об этом см.: DuBois W. E. В. John Brown. Milwood (N. Y.): KrausThomson Organization Ltd, 1973. P. 99 ff.
200
В эссе о Джоне Брауне (!) Торо заявляет: «Во всяком случае, я не думаю, что было бы вполне нормальным (I do not think it is quite sane) комуто провести всю жизнь, говоря и сочинительствуя на эту тему [рабства],
разве что под влиянием постоянного вдохновения, и я так не делал. У человека могут быть и другие дела, требующие внимания» (Thoreau H. D. Op.
cit. P. 153).
425
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
нет геноцида индейцев, который уже активно разворачивался
в период жизни Торо? Или угнетённого положения женщин?
Или, что совсем странно, самого частнокапиталистического
хозяйствования, которое, согласно Торо, и является корнем
всех бед, заставляя людей предпочитать интересы торговли и
земледелия «человечности и справедливости», т. е. превращает их в «деревянных» обывателей?201 Чем обусловлен выбор
Торо именно рабства негров и агрессивной войны против Мексики в качестве «приоритетных» видов зла? Мы вновь не находим никаких внятных объяснений, помимо ничего не дающих
ссылок на вечные истины.
Но без таких объяснений совершенно невозможны не только публичная практика разума, считающаяся атрибутом гражданского неповиновения, но и выстраивание какой-либо его
стратегии, определяющей, с кем, против кого, в каких формах
мы будем бороться. H. E. Покровский очень точно заметил, что
у Торо трудно найти какое-либо описание гражданского неповиновения как действия. Его тексты — воссоздание «внутреннего состояния человека, решившего разорвать все связи с системой общественного принуждения»202. Именно такой разрыв
отождествляется им с гражданским неповиновением.
Разрыв и преобразование — разные понятия. Только второе из них может служить ориентиром политического действия.
То, что духовное наследие Торо в самом деле вошло в богатейшую традицию гражданского неповиновения как политической
стратегии, никак не делает американского трансценденталиста
серьёзным политическим теоретиком. Это — свидетельство яркости его литературного дарования, с такой убедительностью
воссоздавшего духовный строй «отказника», а также — богатства воображения тех, кто «вчитал» в его сочинения теорию
гражданского неповиновения как программу борьбы за справедливость.
201
202
См.: Торо Г. Д. Указ. соч. С. 263-264, 269 и др.
Покровский Н. Е. Указ. соч. С. 30.
426
3. ГРАЖДАНСКОЕ НЕПОВИНОВЕНИЕ
КАК ДЕЛО ОСВОБОЖДЕНИЯ У УИНСТЕНЛИ
Посмотрим теперь на то, какие возможности гражданского неповиновения позволяет увидеть нам Уинстенли.
Некоторые комментаторы считают Уинстенли предтечей
коммунизма потому, что он выступал против частной собственности и денежного обмена. Сразу уточним, что он возражал против частной собственности сугубо на землю и что она, равно как
и денежный обмен, упразднялись только в среде тех, кто на это
соглашался добровольно, т. е. в рамках коммуны его приверженцев. Ни о каком навязывании своих правил общежития обществу в целом сторонники Уинстенли не помышляли. Напротив, они
готовы были уважать законы «внешнего мира» настолько, что в
случае конфликтов с ним соглашались именно эти законы принимать в качестве основы урегулирования споров. При этом сподвижники Уинстенли готовы были нести все повинности как граждане государства (платеж налогов, воинская служба и т. д.). Для
регулирования же всех прочих отношений между своей коммуной и «внешним миром» они предлагали заключить с ним тот самый «общественный договор», идея которого в то время начинала складываться в передовой либеральной мысли203.
Не будем заниматься политэкономическим анализом того,
могла ли такая коммуна существовать, не будь она насильственно разгромлена, в условиях формирования капиталистического
общества. Нам более интересно то, почему Уинстенли сделал
фокусом своей программы именно упразднение частной собственности (на землю).
Самый краткий ответ таков: частная собственность есть грехопадение (именно так, а не следствие грехопадения) (см.: Там же.
С. 119). Что в это бкладывается? Во-первых, частная собственность,
согласно Уинстенли, установлена насилием: в плане библейской
истории — убийством Авеля Каином, в английской истории —
норманнским завоеванием англосаксов («норманнским ярмом»).
203
См.: Уинстенли Д. Указ. соч. С. 106-107, 111-112.
427
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
По этой причине она никогда не может быть разумно обоснована.
Мы же как разумные люди должны устранить все законы, которые
не опираются на разум (см. : Там же. С. 115). В этом пункте рассуждений Уинстенли мы видим не только хорошо нам известную оппозицию Разума и Насилия, но и требование практического действия
Разума против Насилия. Более того, он соединяет Разум с социально-политическим агентом такого действия, которым и выступает его
добровольная (т. е. основанная на разуме) коммуна диггеров.
Во-вторых, частная собственность обусловливает неравенство
людей, причём именно в безнравственном смысле превращения
одних в инструменты удовлетворения желаний других. Она делит
общество на слуг и господ. По этой причине сохранение частной
собственности несовместимо с золотым правилом морали. В-третьих, указанное неравенство лишает людей свободы — почти в полном соответствии с её кантовским пониманием как «автономии»:
находясь в услужении, люди живут не своим, а чужим разумом.
Всё это означает, что для Уинстенли частная собственность
представляет прежде всего моральную проблему. Она есть главный источник нравственно понятого зла как «гетерономии», а потому на её искоренение должны быть в первую очередь направлены усилия нравственных людей. В отличие от Торо с его «случайным» и никак не обоснованным выбором главных моральных
проблем, Уинстенли предельно последователен в объяснении того,
по каким разумно-нравственным причинам именно частная собственность должна быть фокусом борьбы. И здесь же идея ненасилия получает своё первое обоснование. Поскольку свобода и
равенство не могут быть навязаны тем, кто не испытывает в них
потребности, постольку отвержение частной собственности имеет смысл как сугубо добровольное дело. В общину диггеров вступят только те, кто уже духовно освободился, т. е. кто стал испытывать потребность в равенстве и свободе. По отношению к остальным, остающимся в мире частной собственности, диггеры
могут действовать единственно «педагогическими методами» —
объяснения, убеждения, примера. Идеал «широких дискуссий»
был, так сказать, заложен в идеологии Уинстенли изначально, и он
неукоснительно следовал ему в самых тяжёлых обстоятельствах.
428
Является ли то понимание частной собственности как главной
моральной проблемы, которое выразил Уинстенли, химерой?
В знаменитых дебатах левеллеровских «агитаторов», поддерживаемых рядовыми и частью офицерства армии парламента, с её
высшим руководством, которые состоялись в октябре — ноябре
1647 года и стали поворотным пунктом революции («Putney
debates» — по имени церковки, где они проходили), генерал Айртон привёл потрясающий аргумент: «Если собственность должна
быть сохранена, то свобода не может быть дана во всеобщем
смысле (in a general sense)». И ещё: «Я говорю об [этом] главном
деле, поскольку мой взор обращён на собственность»204.
В том и дело, что Айртон и Уинстенли в общих чертах согласны в том, каким образом соотносятся свобода и частная собственность. Да и как могло быть иначе, коли оба жили в тот период, когда капиталистическая собственность на практике складывалась в ожесточённой политической борьбе и относительно
этого процесса его участники просто не могли позволить себе
иллюзий? Но, соглашаясь в понимании соотношения между ними,
Айртон и Уинстенли «обращали взор» на разное: первый готов
был поступиться свободой ради собственности, второй — наоборот205. На стороне первого оказывалась логика целесообразности и насилия, на стороне второго — логика морали и ненасилия.
204
Puritanism and Liberty, being the Army Debates (1647-1649) from
Clarke Manuscripts with Supplementary Documents / Ed. A. S. P. Woodhouse.
L: J. M. Dent and Sons, 1936. P. 57, 73.
205
Конечно, такое «антиномическое» противопоставление частной собственности и свободы, с точки зрения теории, является определённым упрощением. Есть большой резон в том, чтобы вслед за Гегелем понимать частную
собственность в качестве «первого воплощения свободы» (см.: Гегель Г. В. Ф.
Философия права. М.: Мысль, 1990. Пар. 45). Но вместе с тем не нужно забывать о том, что это «первое воплощение» удерживает значение свободы,
лишь будучи «снятым» последующими структурами «объективной нравственности», включая «этическое государство». Поскольку же такого «снятия» нет,
а производящие его структуры «объективной нравственности» отсутствуют
(как то было во времена Айртона и Уинстенли, но повторяется кое-где и в конце XX — начале XXI века), постольку «антиномическое» противопоставление
свободы и частной собственности является исторически оправданным.
429
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Мы уже знаем, что при такой оппозиции логика морали, лишённая реальной силы, обречена на поражение. Можно сказать
и о том, что сама «антиномичность» противопоставления морали и силы — следствие исторической незрелости (или перезрелой
тупиковости) ситуации, лишающей мораль стремления и возможности обрести силу, а силу — развиться до нравственного самопонимания и самообоснования. Всё это так, но нам сейчас интереснее другое — то, как эта оппозиция отражается на характере гражданского неповиновения, практикуемого Уинстенли.
Мы можем говорить здесь о гражданском неповиновении в
том смысле, что Уинстенли и его сторонники протестуют против
диктата силы именно на моральных основаниях. Силой, против которой они выступают, являются частная собственность и санкционирующие её и лишённые разумно-нравственных оснований законы. Особенность диггеровской стратегии гражданского неповиновения заключается в том, что она направлена непосредственно не
на отмену этих законов в национальном масштабе, а на утверждение права людей самостоятельно и разумно определяться в их
отношении к ним, т. &. выбирать между признанием и непризнанием их. Это Уинстенли передаёт часто повторяемым им в разных
вариациях утверждением о том, что диггеры не выступают против
существующих законов, но сами не нуждаются в них, поскольку
готовы руководствоваться в отношениях между собою более высоким нравственным «законом любви». Однако они протестуют
против того, чтобы их принуждали жить по тем законам, которые
они не признают для себя. Именно эта конфликтная ситуация должна быть разрешена на основе нового «общественного договора», т. е. урегулирована разумом, а не силой206.
Как мы видели раньше, гражданское неповиновение часто
связывают или даже отождествляют с сознательным и нравственно мотивированным нарушением существующих законов.
Строго говоря, Уинстенли нарушает не законы, а ту фактическую предпосылку их функционирования в обществе, которая
См.: Уинстенли Д. Указ. соч. С. 86, 106, 111, 147, 154-155 и др.
430
состоит в их бездумном, нерефлективном принятии людьми в
качестве простой данности. При таком отношении к ним они выступают как «идолы», т. е. — для Уинстенли — как нечто «языческое» и несовместимое с христианством и присущей ему свободой (см.: Там же. С. 153).
Борьба, таким образом, непосредственно сосредоточивается не на изменении состава действующего права, а на защите права людей быть в соответствии с их «разумной природой».
(Уинстенли, похоже, было ясно, что ещё долгое время многие,
если не большинство, предпочтут оставаться в мире частной
собственности и законнического «идолопоклонства», хотя он
был уверен в том, что рано или поздно Разум человека сделает своё дело и полное искупление рода людского наступит.)
Данная особенность диггеровского гражданского неповиновения снимает легализм, присущий его либеральным современным версиям. Гражданское неповиновение непосредственно
становится делом «восстановления» человека в качестве разумно-нравственного существа. Причём методом такого «восстановления» оказывается не созерцание трансцендентных Истин
или моральная интроспекция, а деятельное участие в практической жизни определённого сообщества людей.
Далее. Религиозно-нравственная вера Уинстенли в «разумную природу» людей, с одной стороны, а с другой — реальное
сходство в понимании многими его современниками ряда ключевых этических идей, обусловленное их принадлежностью к одной исторической ситуации (того же соотношения собственности и свободы), порождали надежду преодолеть имеющиеся
разногласия посредством той рациональной дискуссии, которая
позволяет прояснить «подлинные основания» собственных убеждений и освободиться от «искажающего» их влияния корыстных
интересов и лицемерия.
Эта надежда не только породила уникальную диалоговую
стратегию Уинстенли, но и сделала её главным методом осуществления его версии гражданского неповиновения. Её суть очень
удачно, на мой взгляд, передал американский исследователь
431
Часть III. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Джордж Шульман: «...Уинстенли пытается наставлять старших
братьев (так он именует власть имущих. — Б. К.) относительно
слов, которые те используют со всей серьёзностью, хотя и ошибочным образом. Он оборачивает те критерии, которые они исповедуют, против интерпретаций ими их же идей и поступков.
Учитывая их уверенность в своей непогрешимости, он, кроме
того, стремится выявить ту алчность, которая подсознательно
движет ими. Полемизируя с ними как с "людьми, способными
рационально говорить и действовать", он в то же время разоблачает их как "дьяволов", однако могущих стать "ангелами света"». И далее: «Педагогическая проблема состоит для Уинстенли в том, чтобы убедить их переосмыслить их идентичность и
интересы таким образом, чтобы идея взаимности (взаимопризнания с младшими братьями. — Б. К.) более не отвергалась ими
с презрением»207.
Если в данном плане Уинстенли можно предъявить упрёк, то
разве что в его чрезмерном — буквально «ролзовско-хабермасовском» — уповании на действенность «коммуникативной этики». «Совершенно ясно, — писал он, — что если бы нам позволили говорить, то мы разбили бы вдребезги все старые законы и
доказали, что те, кто поддерживают их, — лицемеры и предатели
Английской Республики (commonwealth of England)»208.
Уже упомянутое «Смиренное обращение...» начинается с
трогательного в своей наивности рассказа о том, как Уинстенли
договорился с одним из местных землевладельцев и главным
противником саррейской коммуны диггеров, неким Платтом,
разрешить их спор о её праве на существование рациональным
диспутом, аргументы в котором должны браться из Священного Писания. В понедельник пасхальной недели Уинстенли привёл
свои доводы, которые опирались не только на Священное Писа207
Shulman G. M. Radicalism and Reverence. Berkeley (CA): University of
California Press, 1989. P. 140-141.
208
Цит. по: Hill C. The English Revolution // http:/radicalarchives03.
tripoid.com/hill/hillenglishrev.pdf.
432
ние, но и на английское обычное право, а также на то, что сейчас
мы можем назвать соображениями «экономической целесообразности». Его оппонент многое в рассуждениях Уинстенли признал правильным. Однако реальный ответ поступил в пятницу на
той же неделе, когда Платт явился в поселение коммуны с пятьюдесятью наймитами, спалившими дотла дома, инвентарь, утварь
и продовольственные запасы диггеров (так поступают лишь «турки», замечает Уинстенли). Ответом на призывы помнить о «доброй воле» была команда Платта его подручным: «Жгите всё до
основания, чтобы они не могли отстроиться вновь!» Подумайте,
обращается Уинстенли к университетским авторитетам и «всем
юристам», «кто в действительности служит Богу — они или диггеры»209. Хотя подумать нужно было ему самому — о пределах
диалоговой ненасильственной стратегии в условиях заблокированных каналов коммуникации.
Но то, что, пожалуй, больше всего отличает Уинстенли от
Торо, так это понимание свободы и справедливости. По Уинстенли, свобода — форма практики, а не свойство и плод созерцания. Быть свободным я могу лишь тогда, когда ко мне на деле
относятся как к свободному, а на это способны лишь свободные
люди. Неразрешимая для Торо дилемма отшельничества и политической активности, таким образом, устраняется. Остаётся
только второе: добиваться того, чтобы «свобода одного была
свободой другого»210. А это и означает практическое создание
такого сообщества, в котором бы это было возможно. Исследователи справедливо отмечают, что специфической чертой
диггеровского движения является отказ видеть духовное преобразование человека в качестве необходимого и предварительного условия создания «правильного» общежития людей. Участие в жизни такого общежития должно производить их духовную трансформацию, а потому в достижении свободы акцент
209
Winstanley G. An Humble Request. Gerrard Winstanley: Selections
from His Works / Ed. L. Hamilton. L: Cresset Press, 1944. P. 105-106.
210
Уинстенли Д. Указ. соч. С. 220.
28 Выбор
433
Часть III. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
решительно перемещается с индивидуального (религиозного)
созерцания на практику политического действия2". Но коли так,
то можем ли мы по-прежнему вслед за Торо говорить о том,
что политическая свобода — лишь цена, которую нужно уплатить за обретение нравственной свободы? Ведь они оказываются
в огромной мере тождественными или, точнее, двумя сторонами одной медали.
Равным образом меняется содержание понятия «справедливость». Можно ли говорить о том, справедлив или нет тот или
иной закон вообще? Для свободных и несвободных людей справедливы разные законы. Вернее, справедливость заключается
не в самом законе, а в его соответствии нравственным свойствам тех людей, на кого он распространяется. (Открытие связи между характером законов и нравственностью людей припишут много времени спустя Монтескье и его теории «духа законов».) Справедливо то, чтобы разные люди жили по разным
законам и сами определяли то, что им подходит. Тем, кто не хочет жить, как диггеры, настаивает Уинстенли, «пусть будет позволено оставаться при их купле и продаже, т. е. при законе завоевателя, пока им будет угодно»212.
Но из такого принципа вытекает самая радикальная концепция социального плюрализма! Не того усечённого и поверхностного, которым столь гордится современный либерализм и который сводится к многообразию «жизненных стилей» и убеждений и верований, но всё это лишь постольку, поскольку они
замкнуты в сфере частной жизни и никоим образом не проецируются на «базовые институты» общества. Плюрализм Уинстенли в противоположность этому проникает до самых «основ», до
признания многообразия форм экономической жизни, предполагая сосуществование частнособственнических и коллективис211
Подробнее см.: Juretic G. Digger No Millenarian: The Revolutionizing
of Gerrard Winstanley // Journal of the History of Ideas. 1975. Vol. XXXVI.
№ 2. P. 278.
212
Уинстенли Д. Указ. соч. С. 204.
434
тских способов её организации, а также различие соответствующих законов.
В этом можно видеть предвосхищение возникновения в
лоне капитализма современных явлений «неформальной» или,
точнее, «эксполярной экономики», как её понимает Теодор
Шанин, или чаяновской теории многоукладности, отрицающей
гомогенность экономического пространства213. Но как бы то ни
было, именно в таком полном, доходящем до «оснований» плюрализме Уинстенли видел воплощение справедливости и свободы. Единственной разумной «рамкой» такого плюрализма только и мог быть новый «общественный договор», кладущий нравственные принципы, а не слепую «гетерономную» силу
экономической необходимости в фундамент человеческого общежития. Всё это несовместимо не только с авторитаризмом
морального Законодателя в духе Торо, но и с традиционными
либеральными представлениями о разумном устройстве общежития. Ведь либеральный «общественный договор» (вспомним
Локка или любого другого автора, разрабатывавшего эту тему,
вплоть до Ролза) заключается одинаковыми людьми, и сама их
тождественность — или абстрагирование от всего, что составляет их особенность, — есть важнейшее условие возможности
вступить в такой «договор». Либеральный «общественный договор» есть договор унификации людей. «Общественный договор» Уинстенли, напротив, есть договор признания их свободно
утверждающегося многообразия.
213
См.: Шанин Т. Эксполярные структуры и неформальная экономика современной России // Неформальная экономика: Россия и мир. М.:
Логос, 1999. Более общую теоретическую постановку этого вопроса см.:
Shanin T. Expolary Economies: A Political Economy of Margins // Defining
Peasants: Essays Concerning Rural Societies, Expolary Economies and Learning
from Them in the Contemporary World. Oxford: Basil Blackwell, 1990. Наиболее сжатое изложение чаяновской концепции см.: Чаянов А. К вопросу о
теории некапиталистических экономических систем // Неформальная экономика: Россия и мир.
28*
435
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Однако остаётся несомненный исторический факт, который сам по себе бросает мрачную тень на все эти нравственно
вдохновляющие идеи: эксперимент диггеров под руководством
Уинстенли завершился полным провалом. Уйти от подавляющего значения этого факта невозможно — ни с помощью фантазий самого Уинстенли в его позднейшем «Законе свободы», потому и становившихся авторитарно-утопическими, что демократическо-практический эксперимент провалился, ни
посредством банальных ссылок на то, что в столкновении с грубой действительностью чистота моральных устремлений всегда
оказывается поруганной. Если эта чистота ни на что другое не
пригодна, то её поругание вполне заслуженно и даже не может
быть порицаемо.
Но верно ли, что она ни на что не пригодна? Чтобы ответить
на этот вопрос, нам нужно взглянуть на ситуацию, в которой
нравственность сталкивается с непреодолимой силой зла и тем
не менее находит возможность превратить поражение в свою
победу. Конечно, нас может интересовать только практическая
победа над злом, т. е. победа в её нравственно-политическом
значении, а не та фиктивная победа, которую может приписывать себе мораль, стоически упиваясь своим совершенством в
условиях собственного политического ничтожества. Одержать
такую практическую победу в столкновении со злом Уинстенли
не смог. Посмотрим, не окажется ли более полезным для постижения того, как она всё же бывает возможна, «послание
жизни» Сократа.
СОКРАТ: ГРАЖДАНСКОЕ
Лекции 19-21
НЕПОВИНОВЕНИЕ
КАК НРАВСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
ЛЕКЦИЯ 19.
ГРАЖДАНСКОЕ НЕПОВИНОВЕНИЕ
И «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ» СОКРАТА
1. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОЧТЕНИЕ ОБРАЗА СОКРАТА
В заключительных лекциях мы вновь возвращаемся к Сократу. Мы начали рассмотрение нашей темы с анализа его спора с Фрасимахом о справедливости. В том споре Сократ предстал моралистом, сумевшим не столько опровергнуть политические доводы оппонента или убедить в собственной правоте
слушателей, сколько повергнуть Фрасимаха своей дискурсивной стратегией, хотя искомое определение справедливости так
и не было получено.
Тот спор был важен для нас тем, что позволил ясно представить специфику политического и морального дискурсов и невозможность их непосредственного совмещения. Можно сказать,
что всё, о чём шла речь в книге в дальнейшем, представляло собой попытку раскрыть иной способ связи морали и политики, а
именно — способ функционирования морали в политике.
Для нас Сократ важен и велик тем, что он сам показывает,
как этот способ осуществляется на практике. Скажем иначе.
В качестве моралиста, каким мы видели его в споре с Фрасимахом, Сократ применяет моральные категории к политике. Но
для Сократа-политика это — лишь средство и приём достижения более высокой цели. Она осталась вне поля зрения первой
лекции. Сейчас же пришло время поговорить о ней, и в свете её
437
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
мы, возможно, должны будем переосмыслить ход и исход полемики с Фрасимахом. Не исключено, что и эристическая в
большей мере, чем диалектическая214, победа над Фрасимахом
служила не прояснению этических понятий, а осуществлению
тех политических функций, выполнение которых позволяло Сократу считать себя чуть ли не единственным из афинян, занимающимся «искусством государственного управления» («Горгий»,
521 d—e). Оно же — высшая цель древних греков, к которым —
со всем его «нонконформизмом» — принадлежал и Сократ.
Если мы правы в предположении о том, что моральный
дискурс у Сократа не самодостаточен, что он — лишь подчинённый элемент политической стратегии, то показ на примере Сократа того, как такое подчинение происходит, можно считать
заключением всей данной книги.
Для решения этой задачи мне нужно будет показать Сократа в качестве гражданина Афинского полиса, действия которого продиктованы в первую очередь соображениями защиты демократического государственного строя перед лицом грозящих
ему опасностей. Морально-логические «исследования» Сократа
в свете этого также должны быть показаны как определённая
тактика, используемая им в тех же целях.
Во избежание недоразумений необходимо сразу сделать
следующие оговорки.
Во-первых, меня никак не интересует то, каким был
(и был ли вообще) и что говорил исторический Сократ. Для
меня он исключительно — литературный персонаж платоновских диалогов. Я претендую лишь на то, чтобы интерпретиро2Ы
Краткую характеристику различий между эристикой и диалектикой
как методом повержения противника в споре — в первом случае и достижения «объективной истины» посредством спора — во втором см. в комментариях А. Ф. Лосева в кн.: Платон. Собр. соч.: В 4 т. М.: Мысль, 1990.
Т. 1. С. 821. Сократ постоянно выставляет себя противником эристики и сторонником диалектики, хотя сам отнюдь не чуждается эристических приёмов, что многократно и справедливо отмечалось его оппонентами (см.:
«Хармид», 166 с; «Горгий», 482 сидр.).
438
вать некоторые речения и поступки этого литературного персонажа. Но фоном интерпретации служит реально-исторический
контекст афинской жизни периода Пелопоннесской войны и первых лет после её трагического для Афин завершения. Для задач
интерпретации связь действий и речений Сократа с этим контекстом в принципе не отличается от той, какую, к примеру, Лев
Толстой устанавливает между поступками и мыслями Пьера Безухова и наполеоновским нашествием на Россию.
Во-вторых, в мою задачу не входит «увязка» платоновского
образа Сократа с теми его образами, какие дают другие «первоисточники» и прежде всего — Ксенофонт. У Ксенофонта я
вижу совсем другой персонаж под тем же именем, причём для
меня не интересный — разве что поучительными контрастами с
платоновским Сократом. О них мы позже кое-что скажем.
В-третьих, несомненно, что в разных диалогах Платона присутствуют разные образы Сократа. Я уже упоминал о том, что
для Кьеркегора последнее явление блестящего, ироничного и
диалектичного Сократа происходит в первой книге диалога «Государство» (см. сноску 4 в первой части данной книги). С моей
точки зрения, водораздел, отделяющий Сократа-гражданина от
Сократа-метафизика, или, пользуясь яркими метафорами Корнелиуса Касториадиса215, Сократа как «философа города» от Сократа как покинувшего (духовно) город «мудреца», проходит в
диалоге «Менон», если принимать ту хронологическую последовательность работ Платона, которая представлена в отечественном четырёхтомном издании под общей редакцией А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса и А. А. Тахо-Годи. Меня интересует сугубо Сократ-гражданин. К Сократу-мудрецу я буду обращаться лишь
постольку, поскольку идеи последнего, будучи философскими
следствиями поражения Сократа-гражданина, позволяют — благодаря обратному ходу мысли — глубже понять породившие их
215
См.: Castoriadis С. Intellectuals and History // Castoriadis С.
Philosophy, Politics, Autonomy. N. Y.; Oxford: Oxford University Press, 1991.
P. 5ff.
439
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
политические причины216. Более того. В данной лекции мы сосредоточимся преимущественно на диалогах «Апология Сократа» и
«Критон», ибо наша непосредственная тема — гражданское неповиновение — наиболее ярко представлена именно в них.
В-четвёртых, я охотно допускаю возможность и даже правомерность разных интерпретаций платоновского Сократа и ни
в коем случае не претендую на то, что моё политическое прочтение его образа является «единственно верным» или хотя бы
более «правдоподобным». Разработка темы «Сократ как политический теоретик и практик политики» — сравнительно недавнее и в целом до сих пор «маргинальное» явление в платоноведении (в отличие от темы «Платон как политический философ»).
Примечательно, что в капитальном фолианте «Загадка Сократа: собрание свидетельств за двадцать четыре века»217, в который включены наиболее значимые или известные интерпретации
образа Сократа в мировой философии от Цицерона и Плутарха до Дьюи и Ортеги-и-Гассета, политических его прочтений почти нельзя найти (разумеется, не считая интерпретаций Фридриха Ницше, Вильфредо Парето и Якоба Буркхардта, впрочем,
весьма далёких от моей). Вряд ли нас должно смущать такое
явное превалирование в истории философии интерпретаций Сократа как логика и этика. Каждая эпоха и каждая «перспектива» — в ницшеанском её понимании — имеет безусловное право на своё прочтение того, что, обладая столь колоссальным интеллектуальным богатством, позволяет себя так многообразно
216
фундаментальные различия между образом Сократа в ранних платоновских диалогах и тем, каким он предстаёт в диалогах «среднего периода» творчества Платона, широко признаются современными исследователями, хотя сами интерпретации этого образа далеко не идентичны (см.:
Field G. С. Plato and His Contemporaries. L.: Methuen, 1930. Ch. 4; Gufhrie
W. K. C. Socrates. Cambridge: Cambridge University Press, 1971. P. 29-35;
Lacey A. R. Our Knowledge of Socrates // The Philosophy of Socrates / Ed.
G. Vlastos. Garden City (N.Y.): Doubleday, 1971 и др.).
217
См.: The Socratic Enigma: A Collection of Testimonies Through TwentyFour Centuries / Ed. H. Spiegelberg. Indianapolis: Bobbs-Merrill C°, 1964.
440
интерпретировать. Важно лишь то, чтобы каждая интерпретация, отвечая известным критериям логики, несла смысл для своего времени, позволяя ему в чём-то лучше понять себя.
Мы построим нашу интерпретацию следующим образом.
Мы начнём с рассмотрения того, в чём именно состояло гражданское неповиновение Сократа и какие парадоксы в нём заключались. Далее, пытаясь объяснить их, мы постараемся выяснить содержание и цели того, что ранее было названо «политическим проектом» Сократа. В свете этого мы попытаемся
понять использованную им стратегию осуществления данного
проекта, включающую как первостепенный элемент его знаменитые «исследования» логики и морали (или логики морали).
Следующий шаг — прояснение причин провала его политического проекта, столь безжалостно удостоверенного вердиктом
суда над Сократом. Лишь после этого мы сможем вновь вернуться к пониманию парадоксов сократовского гражданского
неповиновения и главного среди них — его добровольного отказа покинуть тюрьму и спастись от казни, являвшейся постановлением очевидно (для него самого) несправедливого суда.
2. ГРАЖДАНСКОЕ НЕПОВИНОВЕНИЕ
КАК КОНФЛИКТ НРАВСТВЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Обычно наиболее яркое проявление гражданского неповиновения Сократа видят в следующем. В один из кульминационных
моментов своей речи на суде он заявляет: «...даже если бы вы
меня отпустили и при этом сказали мне: на этот раз, Сократ, мы
не согласимся с Анитом и отпустим тебя, с тем, однако, чтобы ты
больше не занимался этим исследованием и оставил философию,
а если будешь ещё раз в этом уличён, то должен будешь умереть, — так вот, говорю я, если бы вы отпустили меня на этом условии, то я бы вам сказал: "Желать вам всякого добра — я желаю, о мужи афиняне, и люблю вас, а слушать буду скорее бога,
и, пока есть во мне дыхание и способность, не перестану философствовать, уговаривать и убеждать всякого из вас, кого только
441
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
встречу, говоря то самое, что обыкновенно говорю..."»218. Чуть
позже Сократ повторит это ещё раз, причём более ясно и категорично: «...поступать иначе, чем я поступаю, я не буду,
даже если бы мне предстояло умирать много раз» («Апология», ЗОЬ-с, с. 84).
Данное заявление, в самом деле, отвечает всем основным
критериям гражданского неповиновения, рассмотренным в предыдущих лекциях. Оно сделано публично, с явной готовностью принять вытекающее из него наказание. Слова и действия Сократа не
содержат никаких признаков насилия, как мы договорились его
понимать в связи с гражданским неповиновением. Неповиновение
вызвано «крупнейшей моральной проблемой», будем ли мы понимать под ней заботу о «душах» сограждан («Апология», 30 Ь,
с. 84) или — более «по-гречески» — о «городе», которому угрожает небрежение, поскольку основное внимание уделяется не
ему, а тому, «что принадлежит городу» («Апология», 36 с, с. 91 ).
В то же время у нас не должно быть никаких сомнений относительно того, что Сократ обещает нарушить, если будет отпущен, именно Закон. Ведь главная черта афинской прямой демократии в том и состояла, что у Законов «не было никакой этической или институциональной референции помимо
интерпретации их, даваемой собранием афинян или уполномоченными ими на то лицами»219. Именно поэтому исследователи
не считают возможным говорить о «государстве» Афинского
полиса (в обычном смысле понятия «государство», сложившегося в Новое время): оно и есть дебатирующие, принимающие
решения и исполняющие их граждане220. Неповиновение поста218
Платон. Т. 1. С. 83. Все дальнейшие цитаты из Платона, если не указано иное, приводятся по первому тому данного издания прямо в тексте.
2
" Wallach J. R. Socratic Citizenship // Socrates: Critical Assessments /
Ed. W. J. Prior. L.; N. Y.: Routledge, 1996. Vol. II. P. 84.
220
Castonadis C. The Greek Polis and the Creation of Democracy //
Philosophy, Politics, Autonomy... P. 109. В более общем плане об эволюции
понятия «государство» и об отличии его современного значения от античного полиса см.: CollingwoodR. G. Politics // Collingwood R. G. Essays in
Political Philosophy / Ed. D. Boucher. Oxford: Clarendon Press, 1995. P. 119 ff.
442
новлению суда Пятисот, перед которым предстал Сократ, —
это и есть нарушение Закона. Сам Сократ прекрасно это понимает. В «Критоне» он от имени персонифицированных Законов
задаёт самому себе вопрос: «...разве у нас с тобою, Сократ,
был ещё какой-нибудь договор кроме того, чтобы твёрдо стоять за судебные решения, которые вынесет город?» («Критон»,
50 с, с. 106). Верность Законам — суть гражданского нравственно-политического обязательства — в том и состоит, чтобы
исполнять судебные решения «города». Именно это Сократ
твёрдо намерен нарушить, несмотря ни на что.
Вообще говоря, это — не первый случай его неповиновения властям. В «Апологии» рассказывается о том, как он был
призван в Круглую палату во время тирании Тридцати и получил
приказ участвовать в аресте некоего саламинца Леонта, но
вместо этого «отправился домой», дабы не совершать «беззаконного и безбожного» дела («Апология», 32 c—d, с. 86). Комментаторы, разрабатывающие тему «политического Сократа»221, справедливо не видят в этом эпизоде примера «гражданского неповиновения». Дело, конечно, не только в том, что
такой «уход домой» содержал скорее признаки частного, чем
публичного поступка. Вызов властям был тем не менее брошен,
и сопровождавшая его угроза жизни Сократа была очевидна.
Однако вызов был брошен тирании, по греческим понятиям —
по определению противозаконному режиму, а потому Законы Сократ своим поступком нарушить никак не мог. Его акт был
выражением неповиновения, но не гражданского неповиновения, а, если угодно, моральным отказничеством.
221
См.: Woozley A. D. Socrates on Disobeying the Law // The
Philosophy of Socrates: A Collection of Critical Essays / Ed. G. Vlastos. Garden
City (N.Y.): Doubleday Anchor, 1971; Panagiotou S. S. Socrates and Civil
Disobedience // Socratic Questions: New Essays on the Philosophy of Socrates
and Its Significance / Ed. B. S. Gower et al. L.; N. Y . : Routledge, 1992;
Vlastos G. Socrates on Political Obedience and Disobedience // Vlastos G.
Studies in Greek Philosophy / Ed. D. W. Graham. Princeton (N. J.): Princeton
University Press, 1995. Vol. II.
443
Часть III. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Из сравнения этих двух случаев неповиновения мы можем
сделать первый важный вывод. Гражданское неповиновение —
это не любое, пусть публичное, ненасильственное и нравственно
обоснованное, неподчинение властям. Это — неподчинение тем
властям, по отношению к которым признаются нравственные обязательства. Власти могут быть повинны в серьёзных нарушениях
справедливости, законным ответом на которые может быть требование радикальных реформ. Но всё это не упраздняет нравственных обязательств по отношению к власти, включая ответственность за то, чтобы она была разумна и справедлива. Итак,
гражданское неповиновение возникает в ситуации раздвоения и
конфликта нравственных обязательств. В самом непосредственном и напряжённом виде это — конфликт между обязательством
повиноваться «нашей» власти, с одной стороны, и обязательством сопротивляться её неразумию и несправедливости — с
другой. В обществах, более сложно структурированных, чем
афинская полития, данный конфликт может принять более опосредованные формы, скажем, те, в которых обязательства по
отношению к «центральной» власти оказываются в противоречии
с нашими нравственными обязательствами, вытекающими из солидарности с угнетаемой этой властью социальной группой.
Мы не приходили раньше к пониманию этого аспекта гражданского неповиновения. Видимо, причиной тому было то, что
мы имели дело со случаями гражданского неповиновения в Новое время. В этот период государство обособилось в виде специфической институциональной структуры, не совпадающей более с собранием своих граждан, что было характерно для прямой демократии. Об этическом отношении к «машине»
(государства) в полноценном смысле говорить, конечно, нельзя
(вспомним Торо), и оно уступило место инструментальному
требованию исправить те или иные законы, а то и революционному требованию заменить одну «машину» другой.
Этическое отношение оказалось перенесено на лица, которые составляют аппарат государства. В этом виде оно предстало как характерная моральная установка, включающая
444
принцип ненасилия по отношению к насильникам. (Пример тому
— постоянный рефрен Ганди о том, что борьба идёт с английским господством, но не с англичанами, или Гавела — о сопротивлении «тоталитарной» системе, в существовании которой виноваты «все», но никто — в качестве её «хозяев».) В таком современном виде гражданское неповиновение предстало
столкновением морального идеала и действительности, что
породило не только многие иллюзии относительно этого типа
политического действия, но и те трудности практического выбора и практической ориентации сопротивления, которые мы рассматривали, в частности, на примере Торо.
Однако столкновение морального идеала и действительности
есть лишь «превращённая», как сказал бы Маркс, форма проявления конфликта нравственных обязательств, и именно логика этого конфликта начинает проступать с той или иной степенью отчётливости, как только данное столкновение переходит в плоскость
практической политики. То же гандистское обязательство действовать морально по отношению к англичанам при обязательном
обеспечении свободы соотечественников есть специфическая
форма проявления этой логики. Но в том чистом виде, с помощью
которого распознаются и её превращённые морально-метафизические формы, мы находим эту логику конфликта обязательств,
как и многое другое, в афинской прямой демократии — этом историческом истоке современной политической жизни вообще.
Итак, Сократ в «Апологии» объявляет о готовности не повиноваться Законам, законность которых он признаёт, что и делает его заявление актом гражданского неповиновения. Но как
именно раздваиваются этические обязательства Сократа? Или
точнее: обязательства перед кем вступают в конфликт с его
обязательствами перед Законами?
В речи на суде Сократ говорит: «Таким образом, о мужи
афиняне, я защищаюсь теперь совсем не ради себя, как это может казаться, а ради вас, чтобы вам, осудивши меня на смерть,
не проглядеть дара, который вы получили от бога». Прямо за
этим следует знаменитая аллегория «овода», который подгоняет
445
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
благородную, но обленившуюся лошадь, призванная передать
то, как Сократ понимает своё отношение к «городу» («Апология», 30 d-e, с. 84-85).
Вся проблема заключается в том, можем ли мы поверить,
что Сократ говорит это всерьёз. Если да, то мы имеем здесь
прямой ответ на вопрос о конфликте этических обязательств
Сократа, порождающих его гражданское неповиновение. Он не
повинуется Законам афинян ради них самих. Повиновение Законам воспрепятствовало бы исполнению им той роли, которая
необходима, чтобы афиняне были действительно гражданами,
т. е., как мы уже говорили, заботились бы о себе раньше, чем
о своём, и о «городе» раньше, чем о том, что ему принадлежит. О «своём» и о «принадлежащем городу» заботятся люди
в качестве частных лиц, так сказать, «экономических человеков». Используя классификацию видов блага Аристотеля
(см. «Никомахова этика», 1098 Ь 10-15), можно сказать, что
это — те, кто на первое место ставит блага тела и «внешние блага», т. е. имущество. О «городе» как ассоциации свободных и
равных и о «себе» как члене такой ассоциации (ибо «себя» в качестве нравственного, свободного и равного с другими существа можно иметь только принадлежа к полису222) в первую очередь заботятся люди как граждане.
Нарушить Закон, устанавливаемый частными лицами, лишёнными этико-политического разумения (поскольку они руководствуются частными интересами, а не общественным благом), но всё же остающийся Законом (поскольку эти лица устанавливают его своим полномочным собранием), оказывается
необходимым, чтобы сохранить возможность превращения
частных лиц в граждан, способных принимать разумные и справедливые Законы. Конечно, такое объяснение конфликта обяза222
В этом смысле Аристотель пишет о том, что те, кто не способны образовывать политическое сообщество и не нуждаются в нем, — боги или звери, но не люди, понимаемые как нравственные существа, а потому — как
«политические животные» (см.: Аристотель. Политика, 1253 а 25-30).
446
тельств Сократа имеет смысл только при том условии, что его
деятельность в качестве «овода», которую хотят прекратить
своим решением собравшиеся в суде частные лица, действительно нацелена на их превращение в граждан.
Вопрос о нацеленности деятельности Сократа именно на
это обращается к его собственному её пониманию. Поэтому он
перекликается со сформулированным нами ранее вопросом о
том, всерьёз ли Сократ говорит, что защищается ради своих сограждан, а не ради себя самого. Но даже если Сократ искренен в таком понимании своей защиты на суде и, соответственно, в таком понимании смысла своей деятельности до суда, то
это не избавляет нас от необходимости задать вопрос другого
рода: пусть Сократ честен в своих стремлениях, но приносила ли
его деятельность в самом деле те результаты, на которые он
рассчитывал? Может быть, желая привить частным лицам гражданские добродетели, он в действительности и против своей
воли «развращал» их ещё больше? Может быть, эгоисты, пройдя его выучку и овладев в той или иной мере его логической и
риторической «техникой», но не став добродетельнее, оказывались ещё опаснее для отечества? Известно, что среди его ближайших учеников и наперсников были и такие государственные
изменники, как Алкивиад, и такие коварные и безжалостные
враги демократического строя, как Критий.
Вопросы о понимании самим Сократом своей деятельности, с одной стороны, и об уяснении её объективных результатов — с другой, при всей очевидности их политической связи в
нравственном отношении являются всё же разными вопросами.
Так мы и будем к ним подходить.
3. ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА СОКРАТА
Понять гражданское неповиновение Сократа нельзя, не разобравшись с тем, чего именно он стремился достичь в политическом плане. Этот вопрос глубоко разделил современных
447
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
исследователей. Вероятно, суждение А. Э. Тэйлора о том, что
авторитарно-кастовая модель платоновского «Государства» в
наибольшей мере отражает политический идеал Сократа, можно считать неизбежным для популярной энциклопедической статьи упрощением223. Однако в основе такого упрощения лежит
взгляд, достаточно распространённый в академической литературе: Сократ оказался в оппозиции демократии потому, что
она, якобы с его точки зрения, передала власть толпе несведущих, а не тем немногим, кто обладает знанием. При этом под
«знанием» понималось конечно же нравственное знание о добре и зле, справедливости и несправедливости, а не инструментально-техническое знание о финансах, торговле, военном
деле, градоустройстве и других аспектах государственной жизни. Только первый род знания считался греками (не только Сократом) собственно политическим, ибо только он был способен
пролить свет на два ключевых вопроса, внятные и признанные
ответы на которые делали совместную жизнь людей возможной
как таковую: «кто мы?» и «зачем мы вместе?». Инструментальное знание — при всей его важности — обеспечивало лишь техническое воплощение нравственных решений этих двух ключевых для общежития людей вопросов.
Мы договорились ограничить наше исследование ранними
диалогами Платона. Но и в них, а не только в тех более поздних,
в которых Сократ действительно предстаёт учителем «благодетельного деспотизма» мудрецов, немало высказываний, могущих быть истолкованными как антидемократические. Как иначе
понять его вопрос: «Но для чего же нам так заботиться о мнении большинства, мой милый Критон?» В расчёт, показывает далее Сократ, стоит принимать только «людей со смыслом», только их мнения следует уважать, поскольку большинство вследствие своего неразумия «делает что попало» («Критон»,
44 c—d, 47 а, с. 98-99, 101). Но что есть демократия, как не
223
См.: Taylor A. E. Socrates // The New Encyclopedia Britannica.
Chicago et al.: Encyclopedia Britannica Inc. 1995. Vol. 27. P. 439.
448
правление мнения большинства? Именно мнения, изменчивого
и вырабатываемого коллективно в каждой конкретной ситуации,
а не знания, неизменно истинного и вечно равного себе. Для обретения знания, в самом деле, не нужно шумное собрание многих — досточно тихого разговора избранных или даже углублённого созерцания одного, а его существование никак не зависит
от специфики тех ситуаций, в которых сталкиваются «эмпирические» интересы и страсти людей. Безразличие к мнению большинства, высказанное Сократом, смущает даже его верного
последователя Критона. Оно есть, как минимум, игнорирование
демократии. Но в действительности оно равнозначно отрицанию
её modus operand/.
Однако когда Сократ переходит от размышлений о принципах собственных индивидуальных поступков (о чём непосредственно идёт речь в приведённом фрагменте «Критона») к более общим и потому более политически нагруженным темам, игнорирование мнения большинства обрачивается призывом к борьбе
с этим мнением и активному противодействию ему. Юного
Алкивиада, собирающегося вступить на политическое поприще,
Сократ убеждает в необходимости «сорвать личину» с афинского народа, «чтобы он предстал в своём истинном свете». Он
предостерегает своего ученика против опасности быть развращённым им и в конце их беседы, по существу, формулирует
дилемму: либо «мы» (Алкивиад и Сократ) одолеем «наш город», либо он — «нас» («Алкивиад I», 132 а, 135 е, с. 261, 267).
(Последнее настолько страшит Сократа, что комментаторы отечественного издания этого диалога склонны видеть в таком страхе пророческое предчувствие судьбы обоих персонажей, в том
числе суда над Сократом и его исхода224.)
2
" См.: Платон. Указ. соч. Т. 1. С. 734, примеч. 61. Диалог «Алкивиад I» некоторые исследователи считают «апокрифическим», но никто, кажется, не сомневается в том, что он адекватно передаёт дух платоновской
философии рассматриваемого периода.
29 Выбор
449
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Стоит ли удивляться после этого, что есть такие исследователи, которые видят в Сократе провозвестника той аристократической реакции на демократию, которая уже в следующем
поколении — трудами Платона и Аристотеля — превратилась в
философски оформленную идеологию аристократической
борьбы против демократии225?
Но даже если не делать столь радикальных выводов, нет ли
достаточных оснований для умозаключения о том, что Сократ
противостоял демократии уже своей аполитичностью! Разве не
об этом говорят его подчеркнутый уход с той единственной арены, на которой протекала политическая жизнь его времени —
агоры Народного собрания (см. «Апологию», 31 d— e, 32 а—Ь,
с. 85—86), его жизнь в качестве «частного человека», занимавшегося сугубо «частными беседами», его вечный моральный или
моралистический (нам ещё нужно будет разобраться с этим
«или») упор на «заботу о душе», в то время когда его «город»,
истекая кровью, вёл отчаянную борьбу за свою свободу против
спартанского деспотизма и доморощенных олигархов? Ведь ещё
по законам Солона нейтральность и неучастие в общественных
делах, когда в «городе» идут распри и споры, есть преступление
против демократического отечества. Сократ, заключают другие
исследователи, был правильно осуждён за это преступление. Он
был осуждён не как «овод», роль которого он лишь тщеславно
приписывал себе, а как «idiotes»226. Этим понятием греки обозначали того неполноценного человека, который лишён или лишил
себя публичной политической жизни, замкнувшись в жизни частной. Она же представлялась «идиотской» именно вследствие её
односторонности и оторванности от того, что считалось специфически человеческим, — публичной политической жизни и неотделимого от неё нравственно-политического дискурса. Примером
такой жизни и соответствующими речами Сократ, как полагают,
225
См.: Wood E. M., Wood N. Class Ideology and Ancient Political
Theory. Oxford: Basil Blackwell, 1978. Особенное. 81-118.
226
См.: Stone I. F. The Trial of Socrates. N. Y.: Anchor Books, 1989. P. 99-101.
450
соблазнял и «развращал» своих учеников и последователей, от227
вращая их от демократии
.
Однако верны ли такие заключения о «политическом проекте» Сократа? Точнее, не являются ли они лишь односторонней
интерпретацией явления, сама противоречивость которого
(вследствие наличия у него другой стороны) придаёт ему совершенно иной смысл?
В самом деле, обсуждая вопрос о «политическом проекте» Сократа, нельзя пройти мимо того обстоятельства, что он
нигде в ранних диалогах Платона не предлагает каких-либо изменений в конституционном строе афинской демократии, кроме одного — устранения выбора должностных лиц методом
жребия
228
. Однако то, что этот метод имел негативные след-
ствия для уровня компетентности принимавшихся решений в
227
Строго говоря, тезис о соблазнении частной жизнью не опровергается теми фактами, что многие ученики Сократа — не только Алкивиад и Критий, но и его «биографы» — Платон с его сицилийскими экспериментами и
Ксенофонт, особенно имея в виду персидскую эпопею последнего, — активно шли в политику. Мы уже говорили о том (во второй части книги), что в
классике тирания понималась как попрание общего блага политии частными
интересами (тирана и его клики). Если признать, что эти ученики Сократа
были движимы тираническими устремлениями, то тогда в их действиях нужно будет увидеть разрушение политической жизни жизнью частной. Применительно к ним, более точно говорить о втором варианте ухода в частную
жизнь, осуществляющемся посредством агрессии против публичной жизни
и её упразднения, тогда как первый вариант, приписываемый самому Сократу, должен быть понят как «эскапизм». Очень показательно, что Ксенофонт
с его очевидной антидемократической политической и теоретической ориентацией пытается доказать невиновность Сократа, изображая его целиком и
исключительно как наставника в житейской мудрости частной жизни и даже
как защитника типично «буржуазных» добродетелей умеренности, трудолюбия, бережливости и трезвого образа жизни (см.: Ксенофонт. Апология Сократа // Суд над Сократом: Сб. исторических свидетельств / Составитель
А. В. Кургатников. СПб.: Алетейя, 1997. С. 95-98).
228
Подробнее об этом см.: Brickhouse T. С., Smith N. D. Socrates' Evil
Associates and the Motivation for His Trial and Condemnation // Socrates:
Critical Assessments. Vol. II. P. 99 ff.
29*
451
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
ряде областей политической жизни, признавали и некоторые
другие деятели с безупречной, так сказать, демократической
репутацией, и отменён он был, в частности, в сфере управления
финансами, отнюдь не вследствие аристократических заговоров229. Такое отношение к демократической конституции весьма странно для «антидемократа», поскольку альтернативы ей не
только были у всех на слуху и активно обсуждались, но и получили конкретные воплощения у соседей Афин.
Но и этого мало. В «Критоне» Сократ устами персонифицированных Законов прямо говорит о себе: «Ты же не предпочитал ни Лакедемона, ни Крита, столь благоустроенных, как ты
постоянно это утверждаешь, ни ещё какого-нибудь из эллинских
и варварских государств, но выходил отсюда реже, чем выходят хромые, слепые и прочие калеки, — так, особенно по сравнению с прочими афинянами, нравился тебе и наш город, и мы,
Законы» («Критон», 52 с/-53 а, с. 109).
Данный фрагмент примечателен даже не столько ясным
выражением предпочтения Сократом демократии перед всеми
альтернативами ей, сколько великолепно откровенным признанием противоречия между содержанием его философских речей и его жизненной практикой. В речах «постоянно» утверждалось и философски обосновывалось превосходство авторитаризма, на деле же Сократ любил демократию крепче «прочих
афинян», слывших убеждёнными демократами, и остался верен
ей до конца. Как возможно столь вопиющее противоречие
между теорией и жизненной позицией, тем более что для греков — в отличие от европейцев Нового времени — философия
была прежде всего способом быть, а не способом знать, на
чём с такой энергией настаивает ещё Аристотель? И коль сам
Сократ так явно осознаёт это противоречие, могло ли оно быть
"' Более подробный анализ достоинств и недостатков этого метода в
условиях афинской демократии, а также описание его практики на разных
этапах ее истории см.: Jones A. H. M. Athenian Democracy. Oxford: Basil
Blackwell, 1957. Особенно с. 99-107.
452
случайным и непредумышленным? Но если оно было предумышленным, то в чём состоял умысел? В чём вообще смысл
бесчисленных противоречий и самопротиворечий Сократа, которыми буквально пестрят платоновские диалоги (к некоторым
из них мы ещё вернёмся)?
Но что именно ценит Сократ в демократии, и за что он так
любит её? В «Менексене» в вымышленной речи Аспазии он выделяет главные достоинства афинского «прекрасного государства» («Менексен», 238 с, с. 146). Чуть ли не первым в их ряду
мы находим то, что должно стоять в непримиримом противоречии (очередном!) с высказанным в «Критоне» суждением о
необходимости пренебрегать мнением большинства:
«...власть в государстве преимущественно находится в руках
большинства, которое неизменно передаёт должности и полномочия тем, кто кажутся лучшими, причём ни телесная слабость, ни бедность, ни безвестность предков не служат поводом для чьего-либо отвода, да и противоположные качества не
являются предметом почитания, как в других городах, и существует только одно мерило: властью обладает и правит тот, кто
слывёт доблестным или мудрым». Из этого вытекает главное:
«мы» «не признаём отношений господства и рабства между
собою, равенство происхождения заставляет нас стремиться к
равным правам для всех, основанным на законе, и повиноваться друг другу лишь в силу авторитета доблести и разума».
В итоге «мы» являемся «покровителями свободы», что и делает «наш» демократический строй «прекрасным» («Менексен»,
238 d, 239 а, 244 c-d, с. 146-147, 152).
Конечно, эти мысли нельзя считать открытиями Сократа. Нечто
весьма созвучное им можно найти и в знаменитой речи Перикла, излагаемой (или приписываемой ему) Фукидидом в «Пелопоннесской войне», и в выступлениях многих знаменитых демократических ораторов Афин. Примечательно, что и эта вымышленная речь Аспазии как бы предназначается для публичного
события, связанного с погребением павших в войне со Спартой.
То и интересно, что Сократ здесь, по сути, лишь философски
453
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
артикулирует «общепризнанный» демократический этос того
времени. Но делает он это так, что демократия отождествляется с разумом, а именно — с сообществом свободных и равных.
Авторитет разума — единственное основание подчинения
(«доблесть», как показано будет в «Лахете», — лишь особое
проявление разума). Но это — «наш» коллективный разум
(ведь между «нами» нет господства и рабства), а потому «мы»
подчиняемся самим себе в качестве разумных существ. Это
и есть автономия, как она может существовать в политике. Её
практическое политическое существование не только предшествовало так называемой «моральной автономии» (в духе Канта), не только послужило моделью для последней, но и в самом трагическом и конкретном смысле породило её: крах
политической автономии заставил автономию эмигрировать в
мир трансцендентного. Применительно к Сократу и несколько забегая вперёд, мы можем сказать: провал Сократа как политика (вспомним его самооценку в «Горгии») и политического философа привёл к рождению Сократа как «родоначальника морали», хотя скорее в восприятии его позднейшими
поколениями, чем в его собственном.
Но в том же «Менексене» мы сталкиваемся с парадоксальной, на первый взгляд, формулировкой. Тот самый политический строй, который Сократ, согласно всем тогдашним канонам,
описывает в качестве демократии, он называет «аристократией». «Само наше государственное устройство, — заявляет
он, — и тогда было, и ныне является аристократией: эта форма
правления почти всегда господствовала у нас, как и теперь».
Хотя тут же добавляет: «Одни называют её демократией...»
(«Менексен», 238 с, с. 146). Как это понять?
Практиковать автономию (в указанном выше смысле) могут
только разумные. Только они, используя формулу Аристотеля,
способны и подчиняться в качестве свободных людей (быть
способными признавать авторитет других и в то же время подчиняться только авторитету разума), и управлять свободными (т. е.
относиться к управляемым как к разумным людям, апеллируя к
454
их разуму и опираясь на свой разумно признанный авторитет).
Поскольку греческий рационализм отождествляет разум не только с высшей способностью души человека, но и с тем, что определяет его как видовое существо, постольку разумные — это
«совершенные люди», люди, соответствующие понятию «человек». Аристократия — правление лучших. Но демократия требует, чтобы разумными и в эгол* смысле «лучшими» были все (ведь
она не признаёт таких критериев совершенства, как благородное
происхождение, богатство, сила и т. п., которые являются случайными с точки зрения разума, исключающими равенство свободных и потому неразумными). В такой логике демократия оказывается самой перфекционистской политической системой: она
в буквальном смысле требует, чтобы аристократами были все.
В этом — объяснение сократовского определения демократии
как (самой совершенной) аристократии.
Но является ли такой аристократией Афинский полис в реальности? Мы уже знаем из «Критона», что, согласно Сократу,
большинство «делает что попало». Как это понимать? Пользуясь
приведённой выше формулировкой из «Апологии», именно так,
что многие предпочитают заботиться не о себе (в качестве свободных и разумных граждан), а о своём, не о «городе» как ассоциации свободных и равных, а о том, что принадлежит «городу», т. е. о накоплении богатства. Это и разрушает ассоциацию
свободных и равных. Дело не в том, что Афины «не дотягивают»
до какого-то умозрительного идеала, который Сократ как завзятый моралист зачем-то хочет навязать «городу». Всё гораздо «практичнее»: в качестве демократии Афины разрушают
себя тем, что в погоне за могуществом и богатством всё больше функционируют в чуждой демократии олигархической и тиранической логике.
Угроза демократии исходит не столько от нескольких интригующих против неё олигархов, сколько от того, что стремление к превосходству над другими посредством накопления «своего», т. е. богатства и власти, овладело многими. Возникает угроза утраты автономии как «сущности» демократии и
455
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
подчинения гетерономии тех «внешних» нашему разуму, но определяющих нашу жизнь «законов», которые диктуются погоней за богатством и властью как самоцелями. В этом смысле
Сократ говорит, что «большинство людей не отказалось бы... от
тиранической власти...» («Алкивиад II», 142с, с. 130), не обязательно государственной, но, так сказать, частно-экономической, которая тем не менее все равно губительна для равенства
свободных. Поэтому «город» оказывается главным «развратителем», противостоять которому Сократ призывает Алкивиада,
обещая ему в этом свою помощь.
В чём же именно заключается логика сократовской оппозиции афинской демократии, и чем она в корне отличается от
платоновской аристократической конфронтации с демократией?
Иными словами, нам нужно понять — в противоположность
тому утверждению Тэйлора, с которого мы начали рассмотрение «политического проекта» Сократа, — почему модель платоновского «Государства» никак не могла быть его идеалом.
Будем считать, что Сократ одобрял демократическую конституцию Афин как идею. Но разве у идеи есть жизнь и действительность, пока она не практикуется? Или, точнее, так: действительность идеи есть не что иное, как её практикование. Обсуждать идею, или законы, или институты «в принципе», независимо
от их практикования, судить о том, хороши они или плохи безотносительно того, какую роль они играют в деятельности людей и
как они их используют, могут лишь юридический догматизм, институциональный фетишизм или идеалистическая метафизика.
Платон мог судить об идеях и институтах именно так. Сократ (или
ранний Платон) — нет. В этом состоит огромная разница между
ними, но также и разница между философской онтологией,
пусть одетой в одежды теории политики, как в платоновских «Законах», и собственно политическим мышлением.
Пожалуй, ничто не позволяет понять эту разницу более отчётливо, чем рассуждения Сократа о «благе» в «Евтидеме».
«...Всё то, что мы раньше называли благами, — обращается Сократ к Клинию, — не потому носит это имя, что по самой сво-
456
ей природе является таковым, но вот почему: если этими вещами руководит невежество, то они — большее зло, чем вещи
противоположные, причём настолько большее, насколько сильнее они подчиняются руководящему началу, выступающему как
зло; если же их направляют разумение и мудрость, то они скорее будут добром; само же по себе ни ΤΌ ни другое ничего
не стоит» («Евтидем», 281 с/, с. 170. Курсив мой. — Б. К.).
Эта формулировка — буквально квинтэссенция антиплатонизма, если под платонизмом подразумевается прежде всего
теория «эйдосов». У «благ», как тут говорится, вообще нет никакой своей природы, а следовательно, никакого объективного
существования. Они совсем ничего «не стоят» вне использования их людьми, и именно оно и только оно делает их добром или
злом. Обратим внимание и на то, что «большие» блага при их
дурном использовании оказываются большим злом, чем то, что
противоположно благу. Вспомним это, когда вернёмся к проблеме демократии, чтобы понять, как её нравственно неразумное использование оборачивается большими бедами, чем разумное — в соответствии с их собственными понятиями — использование авторитарных режимов, подобных спартанскому
или критскому. Применяя терминологию «Евтидема», можно
сказать, что демократией мало «обладать». Само «обладание»
«не принесёт никакой пользы», если не уметь «правильно пользоваться» ею (как и любым другим «благом») (см.: «Евтидем»,
280с/-е, с. 169).
Примечательно, что именно в «Евтидеме» появляется понятие «царское искусство», которое больше известно в той его
интерпретации, которую ему придал Платон в своих поздних диалогах, особенно в «Политике». Но по сути «царское искусство»
«Евтидема» и «царское искусство» «Политика» — это противоположные вещи. В первом оно есть, с одной стороны, знание,
«как всем этим пользоваться» («всем этим» означает «всеми
практическими искусствами» — от военного дела до домохозяйства), с другой стороны — производство, в первую очередь —
производство «мудрых и достойных» людей (см.: «Евтидем»,
457
Часть III. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
291 с, d; 292 с, с. 182-183. Курсив мой. — Б. К.). Что есть, говоря современным языком, единство производства, включая самопроизводство человека, и знания, позволяющего это производство осуществлять? Конечно, практика! И в «Евтидеме» такая
практика не закрепляется за какой-то особой группой избранных, имеющей привилегированный и «эксклюзивный» доступ к
знанию того, как правильно использовать «блага». «Царское искусство» оказывается демократичным, точнее, оно — атрибут
демократии как аристократии в указанном выше понимании.
В «Политике» «царское искусство» интерпретируется совершенно иначе. Оно более не есть «искусство использования»,
в принципе доступное всем, а совершенно особое «искусство
выращивания» и «попечения» за «человеческим стадом», которое доступно единицам, обладающим уникальным доступом к
Истине (естественно, она уже имеет бытие и «природу» независимо от какого-либо её использования). Платон делает очень
многозначительное уточнение относительно того, что «царское
искусство» не действует само по себе, т. е. ничего не производит, а лишь управляет действующими искусствами. Соответственно, кардинально меняется понимание характера того знания, которое присуще «царскому искусству». Оно уже не есть
знание того, как правильно обращаться с предметами. Оно становится знанием того, как повелевать «стадом» (конечно, его
же пользы ради)230. Из творческой практики политика превращается в технологию материализации в «подлунном мире» Вечной
Идеи, доступной лишь мудрецам.
Я думаю, Мишель Фуко в его комментарии к платоновскому «Политику» прав, указав на то, что такое технологическое — в противовес креативному — понимание политики есть
следствие импорта «восточных» идей в Грецию, а не собственный продукт греческой культуры и общественной жизни (конечно, если понятие «восточный» не трактовать как чисто географическое, а отождествлять его с до- и внеполисной «арха230
См.: Платон. Указ. соч. С. 7, 11, 25-27, 62.
458
икой», имевшей своё автохтонное существование в Элладе).
Если Фуко прав и в том, что современная организация политической жизни, прежде всего в виде «государства благоденствия» (welfare state), представляет собой лишь иное воплощение той же технологической политики попечения за «человеческим стадом», то нам, конечно, следует иначе осмыслить
родословную либеральной демократии, возводя её не только
и даже не столько к «эллинской свободе», сколько к «восточной» мудрости и автократии231.
Однако Сократ (ранних диалогов Платона) такой «восточной» мудростью не обладал и стремился сохранить «эллинскую
свободу». Ради этого он искал пути развить или восстановить в
согражданах способность «правильно пользоваться» демократией и тем самым сделать её действительной. Именно в этом
видится его «политический проект». Удачен или нет был выбор
им таких путей — другой вопрос.
231
См.: Foucault M. Omnes et Singulatim: Towards a Criticism of «Political
Reason» // The Tanner Lectures on Human Values / Ed. S. McCurrin. Salt Lake
City: University of Utah Press, 1981. Vol. II. Особенно р. 228, 234-235.
459
ЛЕКЦИЯ 20.
СТРАТЕГИЯ СОКРАТА
1. ЦЕЛЬ СТРАТЕГИИ - ФОРМИРОВАНИЕ
РЕФЛЕКСИВНЫХ УБЕЖДЕНИЙ
Под «стратегией» Сократа мы будем понимать его метод
реализации того «политического проекта», который мы только
что обсудили. В первой лекции мы говорили о речевых стратегиях Сократа, применяемых им по отношению к тем или иным
собеседникам, и выяснили, что таких стратегий было несколько и что они отнюдь не сводились ни к «диалектике», ни к строгой логике. По отношению к той стратегии, которую мы будем
459
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
рассматривать сейчас, все эти речевые стратегии суть лишь тактические приёмы, используемые по мере необходимости во
имя достижения общей цели, несводимой к частным целям,
объявлявшимся Сократом в качестве формальной «повестки»
той или иной беседы. Поэтому в отличие от речевых стратегий
эту стратегию, направленную на достижение общей цели, можно назвать «политической».
Чтобы отчётливее представить себе, из чего исходила и на
каких идеях строилась эта стратегия, присмотримся к диалогу
«Протагор».
Как известно, центральная тема этого диалога определена
вопросом о том, можно ли научить добродетели. Сразу отметим: речь идёт именно о политических добродетелях, т. е. об
«искусстве государственного управления» и о том, чтобы быть
«хорошими гражданами» («Протагор», 319 а, с. 428).
Сократ начинает спор с утверждения о том, что добродетели нельзя научиться — в том смысле, что это «искусство»
«люди не могут передать... людям» («Протагор», 319 Ь, с. 429).
Обратим внимание на эту очень важную формулировку и её
сильно выраженный антиавторитарный характер: наставничество и попечительство, предполагаемые формулой передачи
(готового) знания от одного человека другому, не годятся для
того, чтобы сделать кого-то хорошим гражданином. Исходный
аргумент Сократа состоит в том, что в Народном собрании
«всякий», совершенно независимо от его образования, имеет
слово и тем самым участвует в делах государства. Именно этим
«политическое искусство» отличается от тех технических искусств, которые «зависят от (специального) мастерства», будь
то градостроительство, морское дело или что-то ещё («Протагор», 319 Ь—с/, с. 428-429). Заметим, что аргумент Сократа
принимает организацию афинской демократии за самоочевидную данность, не допускающую даже вопроса о том, хороша
ли она и позволяет ли она проявиться политической добродетели. Вне такого аксиоматического отношения к прямой демократии аргумент Сократа просто лишается всякого смысла, как
460
это произошло бы с ним, будь он предъявлен в наше время, в
условиях представительной демократии232.
Протагор, позиционирующий себя в качестве наставника в
добродетели, причем получающего за свои услуги законную плату, естественно, принимается опровергать такое утверждение.
Известен парадоксальный финал этого спора, просто невероятный, если верить в то, что целью обоих великих мудрецов
было отстоять методами строгой логики свои тезисы, вскрывая
слабые места в аргументации оппонента. Сократ с замечательной иронией подводит итог дискуссии таким образом: «Чудаки
вы, Сократ и Протагор! Ты, утверждавший прежде, что добродетели нельзя научиться, теперь вопреки себе усердствуешь,
пытаясь доказать, что все есть знание... Но таким путём легче
всего обнаружится, что добродетели можно научиться... С другой стороны, Протагор, тогда полагавший, что ей можно обучаться, теперь, видимо, настаивает на противоположном: она,
по его мнению, оказывается чем угодно, только не знанием, а
следовательно, менее всего поддаётся изучению» («Протагор»,
361 а—с, с. 475-476). Означает ли сие, что Сократ признал изначальную правоту Протагора (а Протагор — Сократа) и что
весь длинный и мучительный спор для него оказался лишь самоопровержением?
Для ответа на этот вопрос, имеющий ключевое значение
для понимания стратегии Сократа, нам нужно ещё раз и внимательнее присмотреться к доводам обеих сторон.
Согласно Протагору, в обучении добродетели участвуют,
строго говоря, два наставника. Помимо учителя в собственном
смысле слова к этому делу причастно государство, которое
232
Отметим также то, что в позднейших платоновских диалогах «политическое искусство» (то же «царское искусство» в «Политике») рассматривается именно по аналогии с «техническими искусствами». В этом и проявляется переход к «технологическому» видению политики и подмена демократического нравственного «знания» как ее «основы» экспертным знанием,
всегда являющимся чьей-то привилегией.
461
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
«в свою очередь заставляет их (людей по мере их вступления во
взрослую жизнь. — Б. К.) изучать законы и жить сообразно с
предписаниями этих законов, чтобы не действовать произвольно и наудачу». Таким образом, обучение добродетели — это
совокупный эффект «и частного, и общественного попечения»
(«Протагор», 326 с—е, с. 436). Вновь обратим внимание на тот
авторитарный подтекст, который придаёт этому рассуждению
понятие «попечения».
Сократ (через несколько полемических итераций) задаёт
такой вопрос: «Большинство считает, что знание не обладает силой и не может руководить и начальствовать... Несмотря на то
что человеку нередко присуще знание, они полагают, что не знание им управляет, а что-нибудь другое: иногда страсть, иногда
удовольствие, иногда скорбь, иной раз любовь, а чаще — страх.
О знании они думают прямо как о невольнике: каждый тащит его
в свою сторону. Таково ли примерно и твоё мнение о знании, или
ты полагаешь, что знание прекрасно и способно управлять человеком?..» Ясно, что Протагор как профессиональный поставщик
знания не может не выбрать второе. Но Сократ не унимается:
«...но знаешь, люди большею частью нас с тобой не слушают и
утверждают, будто многие, зная, что лучше всего, не хотят так
поступать, а поступают иначе...» И он энергично развивает эту
тему дальше: знание блага бессильно перевесить тягу к удовольствиям или стремление избежать страданий, и все увещевания,
всё обучение нравственному ничего не дают.
Протагор реагирует на данные замечания предложением
совсем закрыть эту тему как не имеющую отношения к предмету спора (о возможности обучать добродетели): «К чему,
Сократ, нам обязательно рассматривать мнение людской толпы, говорящей что попало?» Но для Сократа именно это мнение имеет принципиальное значение, и он немедленно парирует: «Думаю, что это как-то поможет нам понять отношение
мужества к прочим добродетелям» («Протагор», 352 Ь—353 Ь,
с. 465). Мужества кого и к чьим добродетелям, если, как выясняется, «толпа» не обладает ни первым, ни вторыми? И как со-
462
отнести нам это сократовское внимание к мнению недобродетельного большинства с тем, что мы уже слышали от него
(в «Критоне», например) о необходимости пренебрегать этим
мнением (что и предлагает сейчас сделать Протагор)?
Какие выводы мы можем сделать из этого раунда дуэли
Сократа и Протагора? Во-первых, тот, что оба протагоровских
наставника в добродетели неэффективны: им не удаётся «перевоспитать» большинство. А это-то и имеет решающее значение,
ибо при действующей афинской конституции каждый через участие в Народном собрании влияет на дела государства. При
ином конституционном устройстве провал протагоровских наставников не имел бы большого значения. Но для Протагора
это, в отличие от Сократа, — не проблема. Он готов удовлетвориться индивидуальным совершенствованием учеников (в чём
явно преуспевал, иначе не был бы самым высокооплачиваемым
и популярным софистом Греции). Как бы это парадоксально ни
звучало, но такой подход признанного демократа Протагора
идентичен воспитательной стратегии аристократа Платона — индивидуальному философскому наставничеству способного к
учению, молодого, мужественного, великодушного и памятливого тирана конечно же ради общего блага233.
Во-вторых, наставническая авторитарная апелляция к разуму бесполезна и потому бессмысленна. Можно сколько угодно теоретически объяснять, что есть добродетель, и логически
доказывать необходимость следовать ей, но практического воздействия на поведение людей и их жизнь это иметь не будет. Уже
из этого ясно, что в том итоге спора, который подвёл Сократ, не
могло быть признания им изначальной правоты Протагора. Метод последнего в лучшем случае был способен дать людям понять,
что есть добродетель, но не сделать их добродетельными, хотя
Протагор претендовал именно на это. Та возможность обучать
233
Подробнее см.: Платон. Указ. соч. Т. 4. С. 161 и далее. О практической попытке воплотить эту теорию в жизнь посредством тирана Сиракуз Дионисия см.: Письма III, VII и VIII в том же томе.
463
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
добродетели, с существованием которой согласился Сократ,
предполагала совсем иной метод. И суть его, как мы увидим далее, заключалась в побуждении практиковать добродетель, а не
знать, что она собой представляет. Теоретическое знание добродетели, в отличие от теоретического знания предметов «технических искусств», вообще вряд ли возможно. Не забудем: постоянным рефреном Сократа было то, что он знает, что ничего не
знает. Причём «многомудрые» на поверку оказывались ещё невежественнее не только Сократа, но и «тех, кто считаются похуже», т. е. «простонародья» («Апология», 22 а, с. 75). Что же это
за вид знания, которым обладает Сократ, хотя бы в той степени, чтобы удостовериться в его отсутствии у «многомудрых» и некотором присутствии его у «простолюдинов»?
В-третьих, мы можем теперь осмысленно соотнести и призыв Сократа пренебрегать мнением большинства (в «Критоне»),
и его же огромное внимание к тому же мнению (в «Протагоре»). В «Критоне» Сократ говорит: «Таков уж я всегда, а не теперь только, что из всего, что во мне есть, я не способен руководствоваться ничем, кроме того разумного убеждения, которое, по моему расчёту, оказывается наилучшим» («Критон»,
46 Ь, с. 100). Это — утверждение «неотчуждаемого» права самостоятельной индивидуальной нравственной рефлексии выносить окончательные суждения о добре и зле под полную ответственность рефлектирующего индивида и устанавливать такие
суждения в качестве принципов поступков. Это право не может
быть подменено никаким мнением большинства и тем более отменено им. Поскольку оно посягает на данное право, постольку мнением большинства необходимо пренебречь. Для нравственной рефлексии значение могут иметь только мнения способных к рефлексии людей, «людей разумных», как
выражается Сократ («Критон», 47 а, с. 101). Только взаимодействие рефлектируемых мнений может осуществляться в модальности «равенства и свободы», через взаимопризнание
обеспечивая автономию каждого из них. Взаимодействие с нерефлектируемым мнением, догматическим, манипулируемым
464
или манипулирующим, ведет лишь к насилию, и потому его нужно избегать в сфере нравственной рефлексии.
Однако именно отсутствие способности большинства к
нравственной рефлексии, вернее и скорее, желания заниматься ею представляет для Сократа огромную проблему, и это
прежде всего — политическая проблема. Поэтому он отказывается вопреки призыву Протагора игнорировать её. Сократ выносит очень жёсткие суждения о мнении большинства. Но его
критика этого мнения есть борьба за разум большинства, а не
платоновско-аристократическое попечение за заведомо неспособным к разуму «стадом», которому благодетельный авторитаризм отводит скотское довольство частной жизнью, наглухо
затворив от него двери политики и общественного творчества
(что при некоторых нюансах характерно для политических моделей, описанных и в «Государстве», и в «Законах»). Касториадис прав, считая практику Сократа примером демократической критики демократии. «Быть демократом и быть способным сказать народу "люди, вы не правы", если приходишь к
такому суждению, — это то, что также требуется от демократа», ибо сказать так означает признать их способность к творчеству и самоизменению234. В этом суть стратегии Сократа.
Коли так, то мы можем ясно понять, чем сократовское понимание обучению добродетели отличается от протагоровского. Для Протагора обучать добродетели означает сообщать
ученику знание, чго есть добродетель и какие блага приносит
следование ей. Для Сократа такое обучение означает побуждать рефлектировать самого «обучающегося», из себя порождать «знание» о добродетели в надежде, что «ученик» будет
руководствоваться им как своим убеждением. Это и есть сократовская майевтика, отводившая ему роль ставшей присказкой «повивальной бабки», а отнюдь не наставника в традиционном (и протагоровском) его понимании.
234
Castoriadis С. Intellectuals and History. P. 12.
30 Выбор
465
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Я сознательно закавычил слово знание как обозначение
того, что должен производить сократовский метод. И столь же
сознательно не сделал этого в случае Протагора. Дело в том,
что один и тот же термин используется для обозначения двух
разных видов знания.
Протагор говорит о знании как достоверности. Такое знание доказывается логически, демонстрируется теоретически и
строится вокруг вопроса «что?» («что есть х?»). Сократ в своих
«исследованиях» тоже применяет процедуру, по форме адекватную поиску этого же вида знания. Он постоянно задаёт вопросы «что?» (что есть мужество, благочестие, рассудительность, справедливость и т. п.?). Но, как уже отмечалось, практически никогда не приходит сам и не приводит своих
собеседников к ответам, логически соответствующим этому
вопросу и венчающим логически безупречную конструкцию доказательств. Он ограничивается повторением прописных для
греческой культуры «истин», которые вследствие их общеизвестности и так не требовали никаких доказательств и никакого
«исследования»235. Зато'своим симулирующим логико-теоретическое исследование методом Сократ достигает потрясающих
«экзистенциальных» эффектов.
Они бывают разные (от отчаяния и бегства Фрасимаха до
мрачного согласия с Сократом не убеждённого им Калликла и
восторженного преклонения Алкивиада), но, возможно, самым
235
Сошлюсь лишь на один пример парадоксальности финалов сократовских диалогов, замечательный разве что своим комизмом. Диалог «Евтифрон», номинально посвящённый определению понятия благочестия, завершается следующим заключением Сократа: «...ты не замечаешь, —
обращается он к собеседнику, — что наше рассуждение, описав круг, вернулось к исходной точке?» («Евтифрон», 15 Ь— с, с. 312). Начинали же они
с самого банального и пустого понимания благочестия. По ходу спора им
удалось достичь такого нетривиального определения, которое отождествило благочестие с «искусством торговли между людьми и богами». Впрочем, Сократ тут же признаёт его «неверным» (см.: «Евтифрон», 14 е,
с. 312) и в итоге возвращается к исходной банальности.
466
желанным для нашего героя является тот, который описывает
Менон: «...ты, — говорит он Сократу, — меня заколдовал и зачаровал и до того заговорил, что в голове у меня полная путаница... Я оцепенел. У меня в самом деле и душа оцепенела...»
(«Менон», 80 а—Ь, с. 587). В связи с этим признанием Менона
Сократ и говорит о благотворности такого оцепенения и тут же
излагает суть своей майевтики: «Смотри же, — обращается он
к Менону, призывая его следить за экспериментом, проводимым над столь же "оцепеневшим" рабом, — как он выпутается из этого затруднения, ища ответ вместе со мной, причём я
буду только задавать вопросы и ничему не стану учить его».
И далее: «...знания он найдёт в себе самом...» («Менон», 84 с—
d, 85 d. с. 593, 595).
Я уже говорил о том, что, на мой взгляд, «Менон» — та
граница, которая отделяет ироничного и политичного Сократа
от Сократа, превращающегося и в конце концов превратившегося в занудного нравоучителя и великого метафизика. На этой
границе находимое в самом себе знание уже начинает интерпретироваться как «припоминание» в связи с идеей о бессмертии души и чистом познании по ту сторону материального мира
(см.: «Менон», 81 с—е, с. 589 и далее). Но ведь в себе можно
найти не отблески потустороннего мира, «припоминаемые» несчастной душой, вселившейся в бренное тело человека, а нечто
прямо противоположное им: символы и значения очень посюстороннего «жизненного мира» нашей культуры, привитые нам
сызмальства самой нашей к ней принадлежностью. Это и будут
те самые тривиальные определения мужества, благочестия,
справедливости и т. д., дальше которых Сократ не в состоянии
двинуться в своих «исследованиях»236. Но прошедшие сквозь
236
Карл Ясперс очень точно, на мой взгляд, передаёт соотношение
между критической рефлективностью Сократа и его верностью греческой культурной традиции: «Хотя его неумолимое критическое вопрошание делает его похожим на них (софистов. — Б. К.), он никогда не отходит от исторических оснований (его культуры. — Б. К.), но благоговейно...
30*
467
Часть III. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
рефлексию, индуцированную его майевтикой, и заново рождённые из себя, они из объективной и безразличной данности
могут стать личными убеждениями. В этом — эффект катарсиса, производимого сократовским методом, к этому должно
привести благотворное «оцепенение» как тот главный «экзистенциальный» результат, на достижение которого этот метод
направлен.
Качество убеждения измеряется не надёжностью подкрепляющих его доводов и не чёткостью его логических экспликаисследует их смыслы» (Jaspers К. The Great Philosophers: The Foundations.
N. Y.: Harcourt, Brace and World, 1962. P. 20). Выводе том, что содержание этических идей, отстаивавшихся Сократом, малооригинально и что ко
времени его деятельности они уже стали достоянием тех или иных течений греческой культурной жизни, получает всё большее признание среди современных учёных (см.: McKirahan Jr. R. D. Philosophy before
Socrates. Indianapolis: Hackett Publishing C°, 1994. P. 353 ff; Stokes M.
Socrates' Mission // New Essays on the Philosophy of Socrates... P. 76; Mara
G. M. Socrates' Discursive Democracy. Albany (N. Y.): SUNY Press, 1997.
P. 44 и др.). Даже знаменитая максима Сократа «чинить несправедливость
хуже, чем терпеть её», с возвещением которой «каноническая» история
философии связывает само рождение морального мышления, является
скорее лишь кристаллизацией весьма традиционного представления. Примечательно, что в том же диалоге «Горгий», в котором Сократ оттачивает формулировку этой максимы, Калликл, его оппонент, начинает своё
выступление с осуждения обычая, предписывающего её (эту максиму)
исполнять, и противопоставляет ему закон природы (см.: «Горгий»,
483 а—Ь, с. 522). Ясно, что эта «новаторская» максима — нечто давно и
хорошо известное. Бруно Шнелл возводит её происхождение к конкретному политическому событию афинской истории — отказу великого реформатора Солона установить свою тиранию. Данное событие, по мнению Шнелла, явило афинянам формулу «лучше быть безвластным и справедливым, чем всесильным и несправедливым». Сократовская максима
может быть понята лишь как «обобщение» этой политической формулы
и та её универсализация, которая сделала эту максиму применимой к поведению каждого независимо от его или её политической роли (см.:
Snell В. The Discovery of the Mind: The Greek Origins of European Thought.
N.Y.: Harper Torchbook, 1960. P. 176).
468
ций. Как правило, их невозможно доказать подобно теореме и
логически эксплицировать в виде формулы. Их сила обусловлена не этим, а тем, что они прошли «экзистенциальное» испытание на прочность — личность удержала их и идентифицировала
себя с ними, когда им бросали вызовы и жизненных соблазнов,
и философского скепсиса, и логического тестирования на «последовательность». Возможно, по собственным меркам теоретической философии и логики они не выдержали экзамена, т. е.
не оказались ни прочно теоретически фундированными, ни логически безупречными. Они могут быть даже не очень полезными для достижения преуспеяния вопреки заверениям Сократа о
неразрывности счастья и добродетели. Но они прошли высший
«экзистенциальный экзамен», став рефлективно принятыми самоопределениями «я». В этом качестве они есть совсем другой
вид знания, чем то теоретико-достоверное знание, на обретение которого ориентировано протагоровское обучение. Они
есть диалектическое знание. Характеристика его как «диалектического» указывает здесь и на путь его обретения в споре
(в отличие от путей созерцания, логической дедукции или индукции и т. п.), и на его рефлективную природу, и на его нравственное содержание как самоопределения в единстве тождества с
собой и нетождественности себе237.
Именно таким образом понятое диалектическое знание
может быть силой, способной материализовать «политический
проект» Сократа. Эрнест Ренан как-то точно сказал: «Люди
становятся мучениками только за то, в чём у них нет полной
237
Более подробно о необходимости для правильного понимания метода Сократа различать знание как достоверность («certain knowledge») и
знание как «обоснованные нравственные убеждения», обретаемые в споре («elenctic knowledge»), см.: Vlastos G. Socrates' Disavowal of
Knowledge // Philosophical Quarterly. 1985. Vol. 35, № 138. P. 1-31. ВласTOC подчёркивает, что хотя современное прочтение понятия «знание» не
позволяет подводить под него «нравственные убеждения», Сократ (в духе
времени) распространял его на них, не разводя концептуально «инструментальный разум» и «нормативный разум» (см.: Op. cit. P. 9, note 25).
469
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ
ПОДХОДЫ
уверенности. Они умирают за мнения, а не достоверности, за
то, во что верят, а не за то, что знают. Когда дело касается мнений... наиболее убедительным доказательством является
238
смерть за них» . Мы ещё вернёмся к этой мысли в заключительных размышлениях о гибели Сократа и его гражданском неповиновении.
2. СОКРАТОВСКАЯ «ПУБЛИЧНАЯ СФЕРА»
Если общей целью стратегии Сократа было формирование
нравственных убеждений как рефлективных самоопределений
личности, то условием её реализации было создание особого
социального пространства, дотоле неизвестного в жизни полиса. Можно сказать и обратное: осуществление сократовской
стратегии впервые создавало такое пространство, и оно вследствие своей новизны и беспрецедентности плохо «вписывалось»
в организацию полиса. Что это было за пространство?
Вопрос этот, как мы скоро увидим, представляет живой интерес для современной политической теории. Но, занимаясь
сейчас непосредственно Сократом, мы должны прежде всего
отметить то, что попытка создать это пространство сыграла самую роковую роль в его судьбе. Действительно, общим подтекстом всего процесса над Сократом было ощущение большинства, что он делает нечто неподобающее и потенциально
или актуально подрывающее устои Афинского полиса. Но что
именно? Внятно артикулировать это обвинителям не удалось.
Оба основных обвинения в их буквальных формулировках (непочитание афинских богов и развращение молодёжи) с лёгкостью и убедительно опровергнуты Сократом. Но убедительность его аргументов, судя по результатам первого голосования (о признании или непризнании его виновным), не впечатлила
большинство. Ибо суть дела была, конечно, не в буквальных
238
Цит. по: Debray R. Critique of Political Reason. Tr. D. Macey. L.: NLB,
1983. P. 123.
470
обвинениях, а потому и опровержение их Сократом прошло
мимо этой сути239.
Однако суть эту Сократ чувствует и реагирует на неё, начиная защищаться от того, о чём совсем не говорится в официальных обвинениях: «Может... показаться странным, что я подаю эти советы (заботиться о добродетели. — Б. К.) частным образом, обходя всех и во всё вмешиваясь, а выступать всенародно
в вашем (sic!) собрании и давать советы городу не решаюсь».
И далее начинается рассказ о том самом пресловутом «даймонии», божественном знамении и внутреннем голосе, который,
не побуждая делать что-либо конкретное, отвращает Сократа
от того, что делать не следует («Апология», 31 с, с. 85).
Оставим в покое «даймоний» и присмотримся к тому, что,
согласно собственному пониманию Сократа, должно показаться афинянам «странным» в его поведении.
Сразу отметим для себя: «странно» не то, что Сократ вел
свои беседы-«исследования», сколь бы острым в нравственном или
политическом отношении ни было их содержание. Да и как это
могло быть «странным» в Афинах, вся культура которых была, так
сказать, дискурсивно-полемической, а уж речи многих софистов
или таких оппонентов Сократа, как Фрасимах или Калликл, подрывали общественную нравственность гораздо более явным образом, чем традиционалистская по своему содержанию этика нашего героя?! «Странно» именно другое — то, что, во-первых, беседы велись частным образом; во-вторых, касались всего, т. е.
239
Некоторые исследователи считают, что неартикулируемым подтекстом процесса была неприязнь к Сократу из-за его прошлых связей с некоторыми аристократами, участвовавшими в свергнутой «тирании Тридцати» и/или перешедшими на сторону Спарты. Не говоря уже о всеобщей
амнистии (не распространявшейся только на самую верхушку тиранического режима), объявленной после восстановления демократии, совершенно
непонятно, почему в этом случае столь важный процесс устроен против
такой политически незначительной фигуры, как Сократ, а не против действительных аристократов, продолжавших (благодаря амнистии) благоденствовать в Афинах.
' 471
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
включая предметы общественного значения и интереса; в-третьих,
проводились они не на том естественном пространстве, которое
им отводила организация полиса, — не на агоре Народного собрания. Последнее Сократ, будучи свободным гражданином Афин,
шокирующе и вызывающе называет «вашим».
Игнорирование Народного собрания, строго говоря, не
«странно», а для свободного грека — безнравственно и даже
преступно. Сократ настолько отчётливо понимает это, что даже
не пытается как-то смягчить объяснение своего систематического отсутствия на Народном собрании и в буквальном смысле идёт
ва-банк: «Будьте уверены, о мужи афиняне, что если бы я попробовал заниматься государственными делами, то уже давно бы
погиб и не принёс бы пользы ни себе, ни вам. И вы на меня не сердитесь, если я вам скажу правду: нет такого человека, который
мог бы уцелеть, если бы стал откровенно противиться вам или
какому-нибудь другому большинству и хотел бы предотвратить
всё то множество несправедливостей и беззаконий, которые совершаются в государстве. Нет, кто в самом деле ратует за справедливость, тот, если ему и суждено уцелеть на малое время,
должен оставаться частным человеком, а вступать на общественное поприще не должен» («Апология», 31 d—e, с. 86).
Разведение (до несовместимости) справедливости и государственной жизни, Разума и Демократии есть на уровне духа
не менее решительное отвержение устоев Афинского полиса,
чем то, что сделала тирания Крития и его сподвижников на уровне материальной жизни. В этом и заключается та суть процесса над Сократом, которую не артикулировали его обвинители,
ибо они не могли даже сформулировать проблему Неразумия
Демократии. Не говоря уже о том, что её формулировка показала бы бессмысленность процесса над Сократом с точки зрения возможности «вразумить» Демократию.
Но почему всё же Сократ считает таким безнадёжным делом противостояние большинству в Народном собрании? Разве
слово не может иметь власть и силу, в том числе над большинством? Когда Горгий заявляет, что красноречие «даёт людям как
472
свободу, так равно и власть над другими людьми...», что «владея такой силой, ты и врача будешь держать в рабстве, и учителя гимнастики, а что до нашего дельца, окажется, что он не
для себя наживает деньги, а для другого — для тебя, владеющего словом и умением убеждать толпу», то Сократ даже не пытается ему возражать. Он целиком принимает эти утверждения
и вопрошает Горгия совсем о другом — о том, благо ли такая
сила. Или, точнее, при каких условиях она — благо, что определяется тем, какие и «на что направленные убеждения» она формирует («Горгий», 452 d—e, 453 е-454 а—Ь, с. 484-485).
Можно ли представить себе, что Сократ с его феноменальным воздействием на собеседников, примеры которого мы уже
приводили, не обладает искусством красноречия? Так почему
же он избегает публичных выступлений? Или скажем так: почему он в самом деле проваливается в таких выступлениях — и
тогда, когда он, будучи членом афинского Совета (эпистатом),
пытался защитить несправедливо осужденных стратегов, победителей в Аргинузской битве (см. «Апология», 32 Ь, с. 86), и в
своей последней речи на собственном процессе?
Видимо, ключ к разгадке лежит как раз в том, о чем Сократ
допрашивал Горгия, приняв его тезисы о силе и власти слова, —
какие и на что направленные убеждения способна формировать
политическая риторика? Те ли внушаемые, которые лишают жертву риторики автономии и делают ее, как точно и грубо выразился Горгий, рабом мастера красноречия? Или те, которые человек
сам рефлективно вырабатывает для себя, делая их самоопределениями и потому — содержанием своей автономии! Последние,
как мы уже говорили, — цель «повивального искусства» Сократа.
Первые, стало быть, — их противоположность и отрицание.
Здесь мы и приходим к пониманию смысла и назначения
того особого социального пространства, которое — осознанно
или неосознанно — пытался построить Сократ, подрывая тем самым устои полиса и той его свободы, которую он хотел спасти.
В пространстве властной политики, которым по определению являлось Народное собрание, силе могла противостоять
473
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
только сила, одному внушению — другое. Незаинтересованному, в кантовском смысле, «повивальному искусству», не
ищущему привилегий власти и богатства, там не могло быть места. Следовательно, по логике Сократа, там не было места и
формированию убеждений как самоопределений. Опять же,
следовательно, там не могло быть справедливости, которая
ведь означает не просто «каждому своё», а «каждому своё как
равному и свободному», что и есть справедливость в «своём понятии» в отличие от тех её неполноценных понятий, которые применимы в отношениях свободных к несвободным или не вполне
свободным (согласно классификации видов справедливости
Аристотеля, это — отношения полноценного гражданина к
жене, детям, наёмным работникам, рабам и т. д.240).
В обращении со словом Сократ — великий привереда, если
так можно сказать о том, кто готов отдать за свои предпочтения жизнь. Он брезгует манипулятивной риторикой Горгия, выступая публично, даже если ставкой оказывается не только его
собственное спасение, но и миссия «овода», что, конечно, гораздо важнее, чем самосохранение. Чистота сократовского
антиманипулятивного эксперимента воистину самоубийственна. На собственный процесс, вопреки всей сложившейся практике, он отказывается привести своих детей, чтобы их вид и
мольбы не растрогали судей и не помешали им прийти к тому
вердикту, к которому их должен бы был привести «чистый»
(т. е. автономный) разум. За нарушение обычая ему даже приходится извиняться и пояснять, что он это сделал «для чести моей
и вашей, для чести всего города» («Апология», 34 е, с. 89).
Обратим внимание: такую щепетильность к малейшим элементам манипуляции Сократ обнаруживает только выступая перед «городом». В его «частных беседах», на что мы уже обращали внимание, он нередко прибегает к манипулятивным элемен240
Аристотель пишет о том, что справедливость «распадается на несколько видов в соответствии с тем, будет ли человек властвовать или подчиняться...» (см.: Аристотель. Политика, 1277, Ь 20. // Соч.: В 4 т. М.:
Мысль, 1984. Т. 4. С. 452).
474
там эристики против тех противников, которых нужно опрокинуть, в надежде на желанный эффект в отношении других, тех,
кто может быть способен к нравственному самоопределению.
Конечно, в случае с «городом» такая тактика не годится, ибо если
он как целое становится предметом манипуляции, то вне его не
остаётся никого, ради кого её применение было бы оправданно.
Но если властно-силовое поле Народного собрания не оставляет места для нравственного самоопределения людей, то
означает ли это, что для такого дела нельзя найти или создать
другое место! Причём не только для нравственного самоопределения как такового, а для того, чтобы самоопределившиеся
люди потом вновь вступили на арену Народного собрания, вновь
вошли бы в государственные дела, утвердив в них справедливость свободных и равных, т. е. соединили бы разошедшиеся Разум и Демократию.
Без этого политического ориентира нравственным самоопределением можно было бы и даже удобнее было бы заняться
вне города, скажем, в теплично-изолированной коммуне нравственно чистых и очищающихся, защищённой от городских соблазнов и страстей самим своим уединением. Но в такой теплице трудно вырастить политических бойцов. Ведь качество нравственности последних, в отличие от схимников, определяется не
тем, что они могут уйти от соблазнов, а тем, что они могут выстоять против соблазнов и преодолеть их не только в собственной
душе, но и в действительной жизни города. Классическую технологию создания аполитичного пространства нравственного совершенствования предложил Платон, учредив свою Академию за
стенами Афин. Технологию формирования нового политического пространства, нового по отношению к официальному пространству Народного собрания, впервые опробовал Сократ.
Местом проведения своего эксперимента он избирает рыночную площадь. На рынке тоже, как и в Народном собрании,
присутствуют «все», независимо от их рангов, статусов, имущественного положения, репутации, идеологических воззрений и
прочего. В плане абстрагирования от всех этих «частностей» и
475
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
особенностей рынок столь же демократичен, как и Народное
собрание. Только продуктом абстрагирования рынка является
«частное лицо» (продавец или покупатель), тогда как второго —
«гражданин». Впрочем, такая разница существует только «в теории», ибо, как мы видели (глядя на это глазами Сократа), Народное собрание не справляется с функцией производства и воспроизводства граждан: в его рамках орудуют те же «частные лица»,
движимые теми же, как и на рынке, побуждениями максимизации своей выгоды. Но в Народном собрании они сбиваются в
«стаи», которые на современном языке мы назвали бы «группами интересов», а на рынке (или так представляет себе Сократ античный рынок) они действуют индивидуально. Это последнее
обстоятельство и оставляет надежду на то, что на рыночной площади с ними ещё можно поговорить «по-человечески», как с
людьми, что исключается, когда имеешь дело с алчущей и азартной «толпой» или «толпами», как в Народном собрании.
Эту надежду и стремится реализовать Сократ, «обращаясь
к каждому частным образом». Это очень точная характеристика его деятельности, в которой указаны как универсальный адресат его «обращений» («каждый»), так и их социальная форма (общение частных лиц). И то и другое — классические признаки рыночных отношений вообще, схваченные гениальной гегелевской
формулой: рынок («царство нужды и дифференциации») и есть
общение частных лиц, соединённых универсальной связью. Но
Гегель подчёркивает формальный или абстрактный характер этой
связи (см.: Гегель, философия права. Пар. 187). Она деперсонализирует людей, т. е. соединяет их лишь в качестве носителей
тех или иных полезных для экономической жизни способностей
и сил — как персонификаций рабочей силы, капитала, ренты, покупательной способности и т. д., но не в их многосторонней конкретности как личностей, от которой рынок абстрагируется. Но
ведь мы знаем, что стратегия Сократа была направлена на нечто
прямо противоположное этому — на достижение личностного
нравственного самоопределения людей. Может ли быть так, чтобы его деятельность целиком подчинялась законам рынка?
476
Конечно, нет. Сократу важно подчеркнуть — и это никто из
его обвинителей не оспаривал, — что за свои беседы он никогда не брал деньги (как софисты). Уже из этого ясно, что его деятельность, протекая на рынке, не была коммерческим «искусством» и совсем не подчинялась тем принципам, которые регулируют товарно-денежные отношения. Но и этого мало.
Представляя собою «частные беседы», диалоги Сократа никогда не предназначались для того, чтобы удовлетворять потребности какого-либо конкретного частного лица. У них почти всегда был тот публичный характер, который Сократ с такой уверенностью и гордостью подчёркивает перед судьями: «Если же
кто-нибудь утверждает, что он частным образом научился от
меня чему-нибудь или слышал от меня что-нибудь, чего бы не
слыхали и все прочие, тот, будьте уверены, говорит неправду».
И тут же следует объяснение того, почему афиняне так любили слушать его споры с самозваными или общепризнанными
мудрецами («Апология», 33 Ь—с, с. 87).
Что мы имеем в итоге? Публичные беседы частных лиц
об общих принципах (добродетелях), которые должны регулировать деятельность и отдельного человека, и ассоциации
людей (полиса), проводимые на пространстве, открытом для
всех без исключения (во всяком случае, свободных граждан)241. Но в этой формулировке мы имеем почти все ключевые слова, которыми Юрген Хабермас описывает «публичную
сферу». Ведь она и определяется им как «форум, на котором
сходятся частные лица, образуя публику», чтобы «обсуждать
общие правила», регулирующие их отношения. Или совсем
лапидарно: она есть «публичная практика их (частных лиц. —
Б. К.) разума»242.
241
Сократ подчёркивает: «...одинаково как богатому, так и бедному
позволяю я меня спрашивать, а если кто хочет, то и отвечать мне и слушать
то, что я говорю» («Апология», 33 Ь, с. 87).
242
См.: Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere.
Oxford: Polity Press, 1989. P. 25-27.
477
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Конечно, хабермасовское видение публичной сферы, с одной стороны, а с другой — публичная сфера, создаваемая Сократом, имеют существенные различия. Одно из них сразу бросается в глаза: сократовская публичная сфера центрирована на
нём самом. Он является, так сказать, тем центром гравитации,
в поле действия которого образуется публичный дискурс частных
лиц об общих правилах жизни. Хабермасовская публичная сфера не имеет никаких привилегированных позиций. Во-вторых, у
Хабермаса публика ведёт беседы прежде всего об общих правилах, регулирующих приватную сферу «товарного обмена и социального труда», поскольку она, обретая форму современного
рынка, получила общее значение для жизни всего общества (см.:
Op. cit. С. 27 и далее). Ясно, что такой сферы современного капиталистического рынка в античности не было, а её отдалённые
предки — ойкос и хрематистика (искусство обогащения посредством денежных операций и торговли) — занимают внимание
ксенофонтовского, а не платоновского Сократа. Последний обсуждает с собеседниками общие правила именно гражданской
политической жизни. В-третьих, хабермасовская публичная сфера не предполагает никаких эффектов нравственного катарсиса.
Оказавшиеся в её рамках частные лица, обсудив их общие принципы жизни, возвращаются в сферу приватности точно такими
же, какими на время покинули её ради участия в публичном дискурсе. У Хабермаса в публичной сфере нет той практики нравственного развития и изменения человека, которые имеют главное значение для Сократа.
Наконец, решающее различие: хабермасовская публичная
сфера не генерирует власть. Образующие её частные лица остаются таковыми, не собираясь править, но намереваются лишь
«контролировать» власть. Точнее, они требуют того, чтобы последняя «легитимировала себя перед лицом общественного мнения», формирование которого и есть, по существу, единственный продукт публичной сферы (Op. cit. С. 25-26, 28).
Такая модель публичной сферы, с одной стороны, предполагает институциональную конструкцию представительной де-
478
мократии, а с другой — строится на том допущении, что законодатели действительно руководствуются рационально и автономно (от власти) сформированным общественным мнением.
Я не хочу сейчас вновь уходить в обсуждение того, как быть,
если такое мнение формируется не рационально и не автономно и если «слуги народа» обладают достаточными ресурсами
манипуляции, чтобы, по выражению Шумпетера, такое мнение «фабриковать» и лишь симулировать послушание вердиктам коллективного разума (об этом речь шла во второй части
книги). Сейчас нам достаточно отметить то, что Сократ предполагает конструкцию прямой демократии. А это значит, что
те самые люди, которые формируют свои мнения об «общих
правилах» в беседах с ним, и будут править как члены Народного собрания. Иными словами, конечным продуктом сократовской публичной сферы должна стать власть, а не мнение
о власти. «Цена вопроса» — не легитимность власти как её соответствие неким стандартам «разумности», а её актуальная
способность быть разумной, т. е. строиться как разумное самозаконодательство.
В классическом и идеальном виде полис — единство агоры
и Народного собрания, т. е. пространства разумно-нормативного дискурса и органа власти. Сократ видит поглощение властью
дискурса, оборачивающееся неразумностью власти. Выход,
который он предлагает, — опосредование этого единства третьим элементом, а именно — новой дискурсивной сферой, на
которую возлагается задача производства нравственных граждан. Народное собрание как орган власти должно, так сказать,
получить их в готовом виде с рыночной площади, превращённой
в сократовскую публичную сферу, благодаря чему оно вновь
смогло бы стать полноценной агорой как разумным политическим дискурсом. Сократу не был известен другой метод достижения этой цели, и он настолько верил в его силу, что по поводу собственного обвинительного приговора только и нашёлся
что сказать согражданам-афинянам: «...мало времени беседовали мы друг с другом» («Апология», 37 а, с. 91).
479
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
ЛЕКЦИЯ 21.
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ СОКРАТА
И СМЫСЛ ЕГО ГРАЖДАНСКОГО НЕПОВИНОВЕНИЯ
1. ЗАКОНОМЕРНОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
ОСУЖДЕНИЯ СОКРАТА
Сократ проиграл судебный процесс, на котором выступал
защитником самого себя. Он проиграл, защищая перед афинянами дело Сократа, а не только свою жизнь.
Даже по формальным признакам этот процесс неверно называть «маккартистским», как делают некоторые симпатизирующие Сократу исследователи243. Он проходил не только в строгом соответствии со всеми принятыми процедурами и совершенно публично, но и предоставил Сократу наилучшие возможности
для демонстрации его красноречия. Более того, Сократу дали
возможность допрашивать обвинителей, что трудно представить
себе при современном судопроизводстве. Суд был «публичной
практикой разума», насколько она вообще возможна в реальном
мире. Эта практика Сократу не удалась.
Сколь бы ни были неудачны буквальные формулировки обвинений, проходившие мимо сути дела, по собственным меркам Сократа они должны быть признаны справедливыми. Сократ, в самом деле, понимал богов иначе, чем традиционная
олимпийская религия. Ведь у него они могли творить только добро (см.: «Государство», 379 в—с), тогда как согласно обычаю,
в котором неблагочестивого Аристодема наставляет воистину
традиционалистский ксенофонтовский Сократ, — они творят и
добро, и зло244.
243
См.: Woozley A. D. Op. cit. P. 300.
Ксенофонт. Воспоминания о Сократе // Суд над Сократом: Сб.
исторических свидетельств... С. 136.
244
480
Но суть, конечно, не в различиях религиозных представлений245. Сократовские боги становились теми абсолютными стандартами нравственности, которые могли служить мерилом для критики и различения добра и зла, творимых «городом». Дотоле на месте этого различения было другое — «наших» и «не наших» деяний.
«Наши» всегда уже оправданы тем, что они «наши», что ими руководили «наши» боги, способные творить добро и зло, тем самым снимая с «нас» нравственную ответственность за зло.
Критика «города» с позиции нравственности, более высокой, чем та, которая непосредственно в нём воплощена, —
само по себе подрывное дело. Но традиционная культура всегда была гибкой настолько, чтобы включать в себя механизмы
самокорректировки и находить в своём лоне место для критики. Это место занимали мудрецы, пророки, блаженные — словом, особые люди. Им позволялось и от них даже ожидалось
то, что было недопустимым для других, для всех. Показательно, как Цицерон спустя века после смерти Сократа лепит его
благостный образ и вместе с тем увещевает своих читателей не
подражать ему в критике обычаев: дозволительное мудрецу не
может быть нормой для всех2"16. Характерно, что и Платон уже
в «Государстве» видит опасность в передаче искусства диалектического спора «всем и каждому» и в особенности — молодёжи (см.: «Государство», 537 е—539 с).
2i5
Некоторые исследователи, впрочем, придают бо'лыиее значение,
чем я, собственно религиозной составляющей выдвинутых против Сократа
обвинений, точнее, тому, как в них религия оказалась связанной с моралью
(см.: Irwin Т. Н. Socrates and Athenian Democracy // Philosophy and Public
Affairs. 1989. Vol. 18. № 2. P. 188-191).
246
Цицерон пишет: «...никто не должен впадать в заблуждение, решив,
что если Сократ или Аристипп совершили или высказали что-нибудь противное обычаю или гражданскому правопорядку, то это же самое дозволено
и ему. Ведь те люди достигали подобной вольности своими великими и богами им внушёнными качествами» (Цицерон. Об обязанностях (1.41.148) //
Цицерон. О государстве; О законах; О старости; О дружбе; Об обязанностях; Речи; Письма. М.: Мысль, 1999. С. 345).
31 Выбор
481
Часть III. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Но в том и дело, что сократовское утверждение «жизнь
без такого (рефлексивного и саморефлексивного. — Б. К.) исследования не есть жизнь для человека» («Апология», 38 а,
с. 92) относится ко всем и адресовано всем! Сократ воистину, вопреки установкам традиционной культуры, демократизирует и универсализирует критику, причём не только в теории,
но и на практике, обучая искусству критики каждого, с кем
ему доводится иметь дело. Демократизация критики — действительно капитальное преступление против любого традиционного общества. Возможно, против любого общества, включая современное. Будь это не так, ему бы не понадобились для
самовоспроизводства те дорогостоящие и технически совершенные механизмы манипуляции, какие мы видим сегодня в
СМИ, рекламе, PR-технологиях и т. д. Возможно, великая эффективность таких механизмов делает нынешних сократов настолько политически безвредными, что современное общество может позволить себе относиться к ним более толерантно, чем Афинский полис, это беспрецедентное в истории
воплощение человеческой свободы.
Развращал ли Сократ моложёжь? В тривиальном смысле,
конечно, нет. Но Александр Нехамас справедливо обращает
внимание на то, что Сократ был готов — опять же вопреки традиции — передавать «мудрость», оказывавшуюся у него оружием диалектики, всем без каких-либо возрастных ограничений. Где гарантия, что неостепенившиеся юнцы не направят это
оружие против священных устоев, что оно не окажется в их руках «оружием массового поражения» всех идеалов и верований, следствием разрушения которых могут быть только агностицизм, нигилизм, полная политическая беспринципность? Разве это — не «коррупция», причём в самых социально опасных
и трудно поправимых её проявлениях247?
la
См.: Hehamas A. Virtues of Authenticity: Essays on Plato and Socrates.
Princeton (N. J.): Princeton University Press, 1999. P. 60-61.
482
Несёт ли Сократ ответственность за то, что те, кого он научил обращаться с этим оружием, воспользовались им совсем
иначе, чем он ожидал и желал? На суде Сократ неоднократно
возвращается к этой теме и снимает с себя ответственность на
том основании, что он никого ничему не учил. И в буквальном
смысле он прав. Сократ не учил так, как тот же Протагор, который обещал сделать своих собеседников совершеннее. По
методу Сократа, они должны были сделаться совершеннее
сами. Сократ — лишь помощник в этом деле, а не наставник, в
обычном понимании. Но несёт ли он ответственность за помощь? Или иначе: предосудительна ли помощь, если она оказывается помощью в недобром деле, каковы бы ни были собственные намерения лица, эту помощь предоставляющего?
В логике кантовской морали, ответственности за такую помощь быть не может, поскольку её снимают сами добрые намерения. Но в том и дело, что Сократ выше этой морали. Он
грек и ещё в достаточной мере гордый, свободный человек,
чтобы не оправдываться благонамеренным бессилием или незнанием. Он ещё несёт в себе ту классическую греческую нравственность, которую Джудит Шкляр блестяще передаёт следующим образом: Эдип, Орест, Антигона, Ахилл — все они знают, что будут страдать, и «готовы принять ответственность за
"весь объём" их деяний. Они не ограничивают свою ответственность намерениями и тем, что могли предвидеть. Их преступления включают все следствия и все неизвестные аспекты
их деяний. Было бы ниже их достоинства принять на себя меньшее бремя. Они ответственны не перед кем-то, а за всё, даже
за те следствия, которые находятся целиком за пределами их
знаний и контроля»248. Но именно в этой логике и рассуждает
Сократ о своей «помощи»: «...Если бы кто-нибудь меня уличил, что я не могу доставить себе и другим такой помощи
248
Shklar J. Freedom and Independence: A Study of the Political Ideas of
Hegel's «Phenomenology of Mind». Cambridge: Cambridge University Press,
1976. P. 70.
31«
483
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
(стать справедливее. — Б. К.), мне было бы стыдно, где бы
меня ни уличили — в большом ли собрании или в малом или
даже с глазу на глаз, — и если бы умирать приходилось из-за
этого бессилия, я бы негодовал» («Горгий», 522 с/, с. 569).
Но ведь именно в таком бессилии Сократ и был «уличён»,
причём не только страшными злодеяниями его лучших «учеников» и постоянных собеседников (того же Алкивиада, Крития и
др.), но и тем, что ему не удалось помочь афинянам, судившим
его, стать справедливее. Следовательно, осуждение Сократа,
по его собственным меркам, оправданно. Он проиграл не судебный процесс, а дело своей жизни. Не принимая обвинений,
как они были сформулированы, а также вынесенный на их основе вердикт, он не мог не принять то, что подспудно обусловило их. Его решение отказаться от гарантированно успешного
побега из тюрьмы, как оно изложено в «Критоне», есть выражение его самоосуждения. Именно поэтому многие исследователи склонны толковать его гибель как самоубийство. Но мне
представляется, что это было не самоубийство, а последний
подлинно гражданский политический акт, воплощающий, так
сказать, гениальную попытку отыграть уже проигранную
партию. То, что отыграть её удалось «в веках», а не в Афинском
полисе, каким его знал Сократ, не умаляет ни политического, ни
нравственного значения этой попытки.
2. ЛОЖНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ СОКРАТА
Но прежде чем мы рассмотрим аргументы, подкрепляющие такую интерпретацию сократовского отказа от спасения,
нам следует более чётко понять, что сделало его нравственнополитическую стратегию проигрышной.
Мы уже говорили о том, что, согласно Сократу, слово способно производить мощнейший эффект катарсиса. Используя
несколько брутальные метафоры из диалога «Евтидем», можно
сказать, что оно, будучи правильным диалектическим «словом»,
в состоянии, «разрушив скверного человека, воскрешать его
484
хорошим» («Евтидем», 285 b, с. 175). (В данном диалоге Сократ
говорит это, давая понять, что слово софистов, будучи лишь игрой в мудрость, но не мудростью, как раз не способно производить такой эффект.) Но почему «разрушение скверного человека» должно обязательно приводить к «воскрешению хорошего»,
а не к тому отчаянию, которое выбрасывает человека «по ту
сторону добра и зла» и тем самым может усугублять «скверну»?
И в чём именно заключается великая, воистину божественная
сила сократовского слова, способного губить и воскрешать?
Известный американский философ Роберт Нозик посредством тонкого логического анализа вскрывает ряд (аксиоматически
принятых) допущений, на которых базируется диалектический
метод Сократа249. Рассмотрим основные из них.
Первое допущение заключается в том, что логические противоречия в нравственных убеждениях воспринимаются как нетерпимые, а их обнаружение (чем и занимается Сократ) — как
достаточное основание для коренной перестройки всей системы этических воззрений человека, во взглядах которого такие
противоречия выявлены. Отметим попутно: если нравственные
убеждения порочны, но в них не удаётся обнаружить логических противоречий, то метод Сократа оказывается бессилен.
В классическом виде эту проблему логической неуязвимости заведомо этически неприемлемых взглядов показал Дени Дидро — образом рассуждений его «жестокого мыслителя».
Как известно, «жестокий мыслитель» Дидро, подобно Сократу, призывает «подвергать обсуждению всё». Делая это, он
приходит к выводу, что «нет ни разумной доброты, ни разумной
злости, между тем как существуют доброта и злость животные». Исходя из этого он признаёт за собой право убивать любого, если того требует его «счастье». Но с безупречной логической последовательностью он универсализирует это правило: «...всякий другой индивид, кто бы он ни был, также может
"* См.: Nozick R. Socratic Puzzles. Cambridge (MA): Harvard University
Press, 1997. P. 149-152.
485
Часть III. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
требовать уничтожения меня, если я ему нежелателен. Этого
требует разум, и я под этим подписываюсь»250.
Конечно, Дидро находит возражение «жестокому мыслителю», указывая на то, что «нелепо навязывать другим желание
того, чего хочешь сам» и что неверно делать «себя одновременно и судьёй и тяжущейся стороной» (Указ. соч. С. 347). Но такое
возражение не опровергает логику «жестокого мыслителя», в
которой нет противоречий. Оно лишь указывает на противоречие
его мысли сложившейся к тому времени и «общепризнанной»
практике нравственных и правовых отношений. Скажем так: ничего логически противоречивого в том, чтобы все были одновременно судьями и тяжущимися сторонами в собственных делах,
нет, и этот принцип вполне может быть универсализирован, как
то демонстрирует, к примеру, Гоббс, описывая «естественное
состояние». В какой кошмар при этом превращается реальная
жизнь людей — совсем другой вопрос.
Однако вернёмся к допущениям Сократа, описываемым
Нозиком. Предположим, что логические противоречия в нравственных воззрениях некоего человека удалось выявить. Почему это должно его потрясти и, более того, заставить их пересматривать? Тертуллиану, одному из «отцов» христианской церкви, приписывают прямо противоположное сократовскому
отношение к противоречиям в нравственных (и религиозных)
воззрениях — «credo quia absurdum est» («верую, ибо абсурдно»)251. И действительно: крайне наивно думать, будто вообще
возможна какая-либо целостная система этики, свободная от
250
Дидро Д. Естественное право // Дидро Д. Избр. произв. М.; Л.:
Гос. изд-во худож. лит., 1951. С. 346—347.
251
У самого Тертуллиана этого выражения нет, но есть нечто ещё более
примечательное для нас: «.. .я не нахожу причин для стыда, которые показывали бы, что я, презрев стыд, счастливо бесстыден и спасительно глуп. Сын
Божий распят — это не стыдно, ибо достойно стыда; и умер Сын Божий —
это совершенно достоверно, ибо нелепо; и, погребенный, воскрес — это
несомненно, ибо невозможно» (Тертуллиан. О плоти Христа. 5 // Тертуллиан. Избр. соч. М.: Прогресс, 1994. С. 165-166).
486
противоречий, тем более, если речь идёт не о теории, а о практической системе взглядов, имеющей операциональное значение «руководства» нашим поведением в сложных, быстро меняющихся и этически разнотипных ситуациях252.
Условием эффективности такой практической системы нравственных взглядов является скорее «сокрытие» имеющихся в ней
противоречий. Критическая рефлексия, если она не убивает саму
способность к действию, обнажает только те из них, которые имеют непосредственное ситуативное значение с точки зрения определения ориентиров человека в данном специфическом контексте.
Отвлечённый же и ситуативно не связанный поиск противоречий как
самоцель должен обернуться в большинстве случаев воспроизводством того положения, в котором оказался буриданов осёл, —
утратой способности действовать, на что, кстати, неоднократно
намекали и о чём даже прямо говорили некоторые собеседники
Сократа (тот же Калликл). Они поэтому и считали деятельность
Сократа бесполезной в практическом отношении.
Так что же позволяло Сократу пребывать в столь невинной
уверенности относительно того, что выявление логических противоречий в этических воззрениях людей само по себе должно
произвести нравственную революцию в них? Только особенности той самой классической греческой рационалистической,
«логоцентристской» культуры, продуктом которой был Сократ
и «коррупцию» которой он стремился предотвратить или остановить. И здесь мы сталкиваемся с великим парадоксом: его деятельность по спасению этой культуры могла рассчитывать на
успех только в той мере, в какой эта культура была в действительности здорова. Лишь для тех её верных сынов, которые в достаточной мере оставались рационалистами в нравственности,
252
Развернутую теоретическую аргументацию этого тезиса см.:
Williams В. Conflict of Values // The Idea of Freedom: Essays in Honour of Isaiah
Berlin / Ed. A. Ryan. Oxford: Oxford University Press, 1979; Honig B.
Difference, Dilemmas and the Politics of Home // Democracy and Difference /
Ed. S. Benhabib. Princeton (N. J.): Princeton University Press, 1996. Особенно с. 261 и далее.
487
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
обнаружение логических противоречий становилось равносильно необходимости перестраивать этические воззрения. Таких
среди собеседников Сократа было ещё достаточно для того,
чтобы он не терял надежды на успех своего дела. Но их уже не
хватило для того, чтобы выиграть судебный процесс.
Однако даже если обнаружение логических противоречий
потрясает и производит то «оцепенение», в котором признаётся Менон, то почему выходом из этого состояния должно стать
обязательно обретение прочных и «правильных» нравственных
воззрений? Здесь мы обнаруживаем второе аксиоматическое
допущение Сократа. Дело выглядит так, будто каждый человек
уже обладает правильным нравственным представлением, но
оно скрыто или подавлено неправильным представлением.
(У позднего Платона эта сократовская интуиция трансформируется в философскую теорию «припоминаемых» идей, о которой
мы уже упоминали в связи с «Меноном».) Разрушительное действие исследования логических противоречий локализуется в
«верхнем слое», подрыв которого позволяет подняться на поверхность нижележащим «правильным» представлениям.
Но никаких особых приёмов локализации диалектического взрыва Сократ не описывает и, похоже, даже не задумывается о них. Почему нижележащий слой «правильных» нравственных представлений оказывается защищённым от взрыва,
остаётся совершенно непонятным. Более того, он действительно оказывался незащищённым у тех собеседников Сократа, которые становились преступниками, негодяями и предателями. Однако и само допущение о выше- и нижележащих слоях нравственных представлений, о, так сказать, «наносном» и
«сущностном» ничем у Сократа не обосновано. Почему мы не
можем предположить, что верхним слоем, принимающим на
себя главную ударную силу сократовской диалектики, оказываются как раз остаточные представления, свойственные классической нравственности, тогда как глубинный слой уже образуют себялюбие, стяжательство, тщеславие, как, к примеру,
представляет себе «природу человека» моральная психология
488
Юма253? В отличие от Сократа, Платон конечно же даёт теоретическое объяснение различению «наносного» и «сущностного».
Но это философское объяснение, как мы уже видели, неотделимо от той авторитарной политической теории, которая абсолютно несовместима с сократовской «городской» демократией.
Догматическое допущение Сократа о верхнем и нижнем
слоях нравственности столь же связано с конкретной практикой
жизни его мира, как и опровержение «жестокого мыслителя»
Дидро с устоями европейского мира Нового времени. Разница
лишь в том, что жизненный мир, с которым связано допущение
Сократа, был уходящим уже в его время, тогда как устои европейского мира Дидро — укреплявшимися. Только вследствие
этого и без помощи логики Европе удалось обуздать позднефеодальных и раннебуржуазных «жестоких мыслителей» — хотя
бы в виде «нормы» и «принципа» либерального капитализма.
Указанные допущения Сократа, на которых базировалась
его стратегия, оказались нежизненными или недостаточно жизненными. Это обусловило крах его «политического проекта».
Это привело к тому, что наиболее осязаемые плоды его деятельность принесла в сфере мышления, а не политической практики. Поэтому многим исследователям он стал представляться
«реформатором морали, а не социальным реформатором»254.
Но не заставляет ли нас скорректировать такое представление
самый последний акт трагедии Сократа, разыгранный уже в
тюрьме после вынесения смертного приговора?
253
«Несомненно, — пишет Юм, — что ни один из аффектов человеческого духа не обладает ни достаточной силой, ни должным направлением,
чтобы стать противовесом любви к стяжанию и сделать людей достойными
членами общества, заставив их воздерживаться от посягательств на чужую
собственность. <...> Эгоистический аффект не может быть сдерживаем
никаким иным аффектом, кроме себя самого...» (Юм Д. Трактат о человеческой природе // Юм Д. Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1996. Т. 1. С. 532.
254
Сильную аргументацию в пользу этой точки зрения на Сократа см.:
Was/os G. The Paradox of Socrates // Vlastos G. Studies in Greek Philosophy.
Vol. II. Особенное. 16.
489
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
3. РЕВАНШ СОКРАТА
Кратко напомню общую канву действия. За день до казни
к Сократу приходит его верный последователь Критон, богатый
и влиятельный гражданин Афин. Он убеждает Сократа спасти
свою жизнь и гарантирует успех побега. Его доводы (кроме
прочих) таковы: суд является «нелепым», а потому — «несправедливое дело — предавать самого себя, когда можешь спастись». Кроме того, Сократа ждут в других местах, где он сможет продолжить свою философскую деятельность, к которой
столь неблагодарно отнеслись афиняне (явная аллюзия к ответственности Сократа за его «миссию») (см.: «Критон», 45 Ь—
46 а, с. 99-100). Сократ отказывается бежать. Что побуждает
его принять такое решение, и, соответственно, какой смысл он
вкладывает в свою по сути дела добровольную смерть?
Сразу скажу: мы пройдём без рассмотрения ту часть аргументов Сократа, которую отдельные исследователи считают
«патриархальной». В ней он пытается обосновать невозможность побега чувством сыновней благодарности к «городу»
(уподобленному родителям), вскормившему и воспитавшему
его. Такие аргументы, в самом деле, неубедительны с точки
зрения собственного принципа Сократа всё проверять и взвешивать разумом: ведь и родители могут совершать такие злодеяния, которые заставят любящего, но обладающего нравственным разумом сына выступить против них или, во всяком случае,
не исполнять их преступные повеления. Но так ли неразумно или
преступно в данном случае повеление Сократу умереть? Или
скажем так: не может ли оказаться его смерть разумной!
Обратим внимание: предложение Критона коренным образом меняет характер ситуации, в которой после суда оказался
Сократ. В ней больше нет никакой фатальности (обречённости
Сократа на гибель), и она превращена в ситуацию чистого нравственного выбора: можно свободно выбрать смерть или жизнь,
причём и то и другое — как некие нравственные значения. В какой логике Сократ делает свой выбор?
490
Рассуждение Сократа о его выборе начинается с вопроса:
«...будет ли справедливо, если я буду стараться уйти отсюда вопреки воле афинян, или же это будет несправедливо...» («Критон», 48 Ь—с, с. 103). Та «воля афинян», относительно которой
нужно самоопределиться Сократу, тут же противопоставляется им «мнению большинства», уже развенчанному и вновь отвергаемому в данной части его беседы с Притоном в качестве ложного ориентира для суждений о допустимости побега. В чём различие между «волей афинян», нарушить которую Сократ не
смеет, и мнением большинства, которое он презирает?
Последнее есть мнение частных лиц, толкующих о публично-политических делах как о жизни на коммунальной кухне. Рассматривать гибель или бегство Сократа под углом зрения того,
насколько действия Критона отвечают расхожим представлениям о дружбе (так рассуждает сам Критон), нисколько не лучше
и не хуже, чем оценивать президентство Клинтона в свете его
гротескного адюльтера с Моникой Левински или объяснять установление принципата Октавиана Августа безумием страсти
Антония к Клеопатре. Во всех этих случаях мы имеем одно и то
же: утрату способности к нравственно-политическому мышлению (которая, впрочем, может приносить разные плоды —
грязные газетные спекуляции или драматургические шедевры)
и непонимание проблем и даже самой природы политики.
Но «воля афинян» — это политическая реальность, игнорировать которую никак нельзя. Вопрос о том, было ли бы
«справедливо уходить вопреки воле афинян», по существу означает вопрос: должно ли уворачиваться от этой реальности, какова бы она ни была! Является ли для Сократа нравственным
превращение в частного человека, участь которого ему гарантирована в случае бегства в чужие края, если отечество, по его
мнению, находится в беде?
Принимая решение отказаться от бегства, Сократ утверждает себя именно как политического человека, до конца, в самой
безнадёжной ситуации остающегося лицом к лицу с «волей афинян» как той единственной реальностью, в которой он может иметь
победу или поражение, причём по меркам этой самой реальности,
491
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
а не каким-то другим — духовного самосовершенствования, величия философских прозрений или даже «реформирования сознания» вообще. Самосовершенствованием, философствованием и
прочим можно было бы заниматься в качестве частного лица гденибудь в «распущенной Фессалии», в которой Сократа ждали надёжные друзья Критона, но где не было той политической жизни, ради коей Сократ готов был жить. («А беседы о справедливости и прочих добродетелях, — спрашивает Сократ в связи с
фессалийской перспективой своего бегства, — они куда денутся?» — «Критон», 54 а, с. 110). В политически же благоустроенных
городах, вроде Мегары или Фив, Сократу, превращённому побегом от законов и политики в частное лицо, в «idiotes», нечего делать — там на него будут «коситься» («Критон», 53 fo, с. 109).
Но что делать, если «воля афинян» как высшая и суверенная
политическая реальность неразумна? Хуже того, если неразумная воля права? Она права в том, что Сократ со всей его «майевтической» стратегией не сделал её разумной, а потому в действительности оказался не политическим человеком, а лишь частным
лицом, но надоедливо и вызывающе вмешивающимся во всё, в
дела других частных лиц, так и не ставших гражданами или становившихся много хуже «простых граждан». Неразумная воля права в своей самооценке и в оценке того значения, которое для неё
реально имел Сократ. Но при этом она остаётся неразумной в
том, что не поняла упрёка, брошенного ей Сократом, — упрёка в неспособности нравственно-разумно мыслить и делать выводы такого мышления собственными определениями.
Не признать правоту неразумной воли неразумно. Но признать её правоту — значит признать смертный приговор себе.
Сократ готов к такому признанию. Однако само это признание,
обретшее благодаря предложению Критона значение добровольного акта, вместе с тем оказывается вызовом неразумию
«воли афинян». Сократа осудили как частное лицо. Его бегство
подтвердило бы, что он таковым и являлся, что он — не потерпевший поражение политический человек, а всего лишь частный
банкрот. Этого Сократ страшится больше всего. (Своим бегством, обращается он к себе устами Законов, «ты утвердишь за
492
твоими судьями славу, будто они правильно решили дело...» —
«Критон», 53 с, с. 109.) Это лишь укрепило бы неразумную
волю в её неразумии. Но неразумию должен быть противопоставлен разум, чтобы круг неразумия не замкнулся, чтобы не
возник тот «одномерный мир», в котором нет даже противоречия разума и неразумия, вследствие чего оно может слиться с
разумом и присвоить себе его права.
Та верность Законам, которую решает сохранять Сократ,
есть верность принципу разума против неразумной, но оказавшейся правой «воли афинян». В чём суть Законов? «Или вразумлять... или исполнять» («Критон», 52 а, с. 108; см. 51 Ь—с,
с. 107). Вразумлять Законы, Город, Отечество (в данном контексте эти понятия тождественны) или исполнять то, что они велят. Это и есть высший принцип политического разума.
Он предполагает как то, что Законы, Город, Отечество могут быть «вразумлены» убедительными доводами, т. е. обладают
разумом, способным их воспринимать, так и то, что неудача их
«вразумить» свидетельствует о неубедительности использованных
доводов. От этого принципа, оставаясь демократом и потому борясь за нравственность демократии, нельзя отступать ни на шаг255.
255
Либеральные интерпретации сократовского принципа «вразумлять
или исполнять» резко снижают его драматическое значение, равно как и
личную ответственность демократа за успех или неудачу «вразумления».
Американский философ Ричард Краут «уточняет» этот принцип таким образом, что он превращается у него в своего рода максиму индивидуального поведения: «ты должен стараться вразумлять». Понятно, что старания не
всегда могут увенчаться успехом. Но уже их достаточно, чтобы совесть
старающегося была чиста и чтобы от попыток убедить он имел право перейти к неповиновению «неубежденным» законам (см.: Kraut R. Socrates and
the State. Princeton (N. J.): Princeton University Press, 1984. P. 71-72. Критику
такой интерпретации сократовского принципа см.: Panagiofou S. Op. cit.
P. 99 ff). У Краута происходит «кантианизация» Сократа: добрых намерений, а отнюдь не их результатов, вполне достаточно, чтобы иметь чистую
совесть. Мне непонятно, почему «кантианизированный» Сократ не бежит
из тюрьмы и этим не выражает своего неповиновения несправедливому закону, принятому афинянами в отношении его.
493
Часть III.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Поскольку Сократ настаивает на этом принципе — вопреки «эмпирической очевидности», факту «несправедливого» (т. е. неразумного, хотя и правого) приговора и провалу собственной попытки
«вразумить» Город, — он остаётся демократом. Как демократ он
продолжает служение этому принципу, но как рефлексивный демократ, у которого демократическая критика народа есть одновременно самокритика, ибо он есть часть народа, Сократ должен
задуматься о том, какие доводы действительно могут «вразумить»
«волю афинян», а потому — оказаться разумными.
Беседы в форме сократических «исследований» такими доводами не оказались. Что остаётся? Только практическое действие. У одиночки таким практическим действием — в смысле
публично-политического воздействия — может быть только
демонстрация примера. В данном случае — примера добровольной гибели за принцип «вразумляй или исполняй». За принцип ответственности за «весь объём» деяний разума, включая
его поражения (см. сноску 248).
Здесь мы вновь возвращаемся к мысли Ренана о том, что
самым убедительным доказательством истинности мнения является смерть за него. Сократ и прибегает к этому последнему и
самому убедительному практическому доказательству: разум,
за который отдают жизнь, не может быть фикцией или, как выражался Ницше, «ошибкой». Он уже становится фактом действительности, в качестве которого готов противостоять любым
фактам неразумия, даже если последних огромное большинство, а факт разума стоит один против всех них. Всё равно круг
неразумия уже не может сомкнуться. Хотя бы в нашей исторической памяти, доколе мы ею обладаем. А это всегда оставляет надежду, что круг неразумия, даже замкнувшийся в настоящем, может быть рано или поздно разомкнут вновь. В этом
смысле Сократ отыграл «в веках» проигранную в афинской действительности партию.
Нам осталось сделать последнее уточнение: какое отношение к этому акту трагедии Сократа имеет гражданское неповиновение?
494
В «Критоне» Сократ неукоснительно повинуется законам:
и формальному закону как вердикту полномочного собрания
афинян, и содержательному закону как принципу разума, и
прагматическому закону долженствования присутствия принципа разума в формальном законе. Чему тогда не повинуется
Сократ? Действительному положению дел — тому, в котором
собрание неразумно, а он — лишь обанкротившееся частное
лицо. Сократ борется с этим положением дел даже своей добровольной смертью, он ищет способ и возможность трансформировать наличное бытие в новую действительность, предположительно — более разумную. Гегелевским языком можно
было бы сказать: он не повинуется наличному бытию и его законам, а они, конечно, — иное, чем «право», с которым они совмещаются лишь отчасти. Против этого наличного бытия Сократ
отыскивает возможность его трансформации. Если возможность — не химера, она должна быть найдена в самой действительности как потенция её изменения. Эту возможность Сократ
обнаруживает в существующих законах — формальных, содержательных и прагматических, которые уже выработала его
культура и которым он жертвенно повинуется, тем самым обращая их против наличного неразумного бытия. Ведь в последнем эти законы присутствуют лишь как санкция статус-кво,
т. е. в безжизненном виде, тогда как он возвращает им жизнь
вечной, ничем не остановимой, всё подрывающей и всё созидающей заново нравственной рефлексии и саморефлексии.
В политическом служении Сократа гражданское неповиновение обнаруживает более глубокий смысл, чем во всем том,
что мы рассмотрели ранее. Оно становится неповиновением самовоспроизводящемуся статус-кво, а не всего лишь отдельным
его юридическим механизмам. Оно становится «гражданским»
не в смысле «цивильного» соблюдения норм приличия, а как выражение нравственно-политического долга гражданина-демократа перед своим народом, за разум которого порой приходится бороться с ним самим. Иногда — ценой насилия, в том числе — над собственной жизнью.
495
Учебное издание
Капустин Борис Гурьевич
МОРАЛЬНЫЙ ВЫБОР В ПОЛИТИКЕ
Учебное пособие
Редактор Богатская Г. В.
Корректор Лобанова М. Т.
Художник Орлова-Петрушина М. О.
Компьютерная верстка Алексеева Ж. С.
Сдано в набор 08.09.03. Подписано в печать 23.12.03.
Формат 60x84/16. Гарнитура «JournalSansC».
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 28,93.
Объем 31,0 п. л. Тираж 3 000 экз. Заказ № 634.
ООО «Издательство «КДУ», 119234, Москва, а/я 587
Тел./факс: (095) 939-40-36, 939-40-51
E-mail: kdu@kdu.ru Http://www.kdu.ru
Ордена «Знак Почета» Издательство Московского университета.
125009, Москва, ул. Б. Никитская, 5/7.
Тел.: (095)229-50-91. Факс: (095)203-66-71.
(095) 939-33-23 (отдел реализации). E-mail: kd_mgu@rambler.ru
В Издательстве МГУ работает служба «КНИГА — ПОЧТОЙ»
Тел.:(095)229-75-41.
Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Дом печати — ВЯТКА».
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.