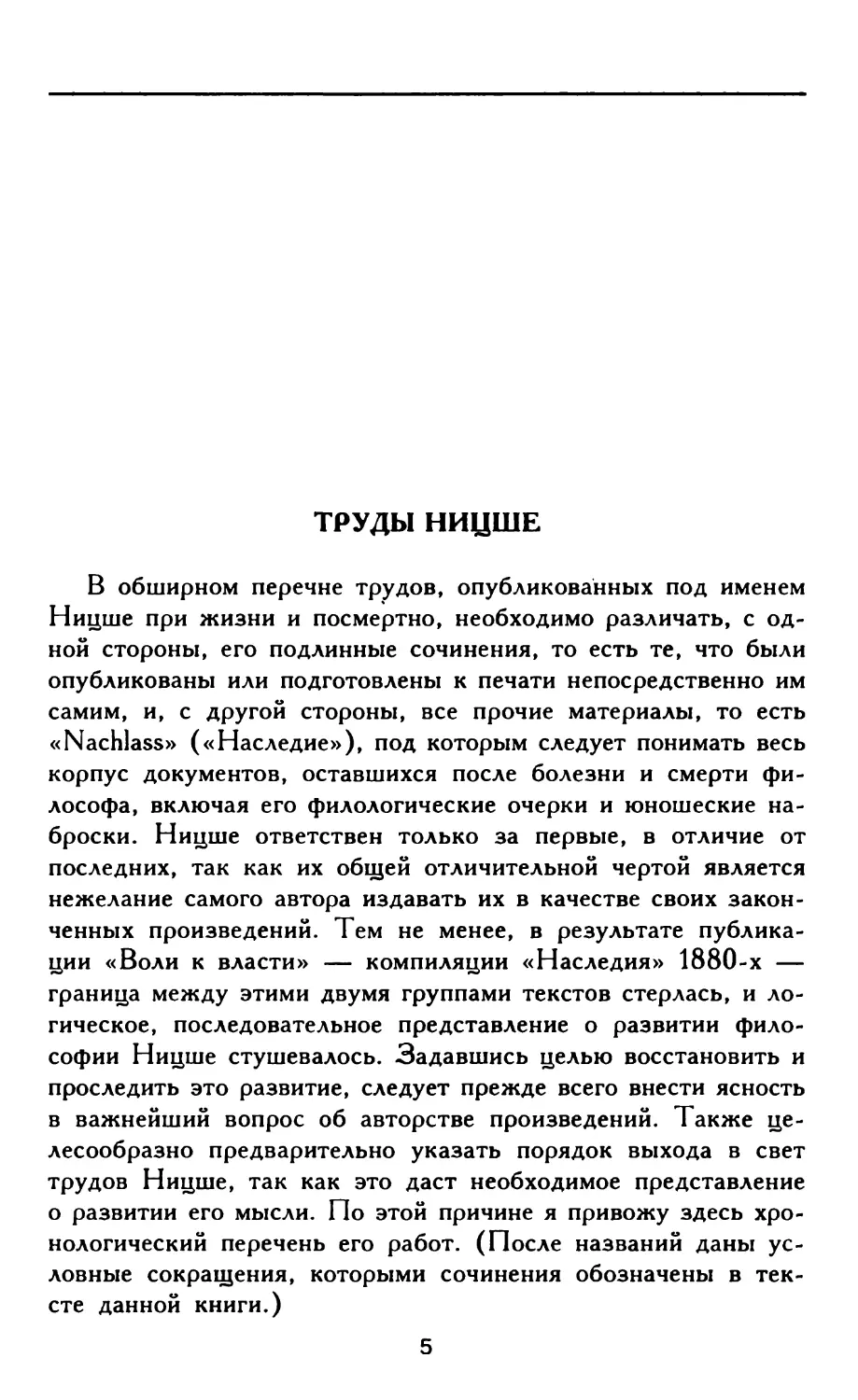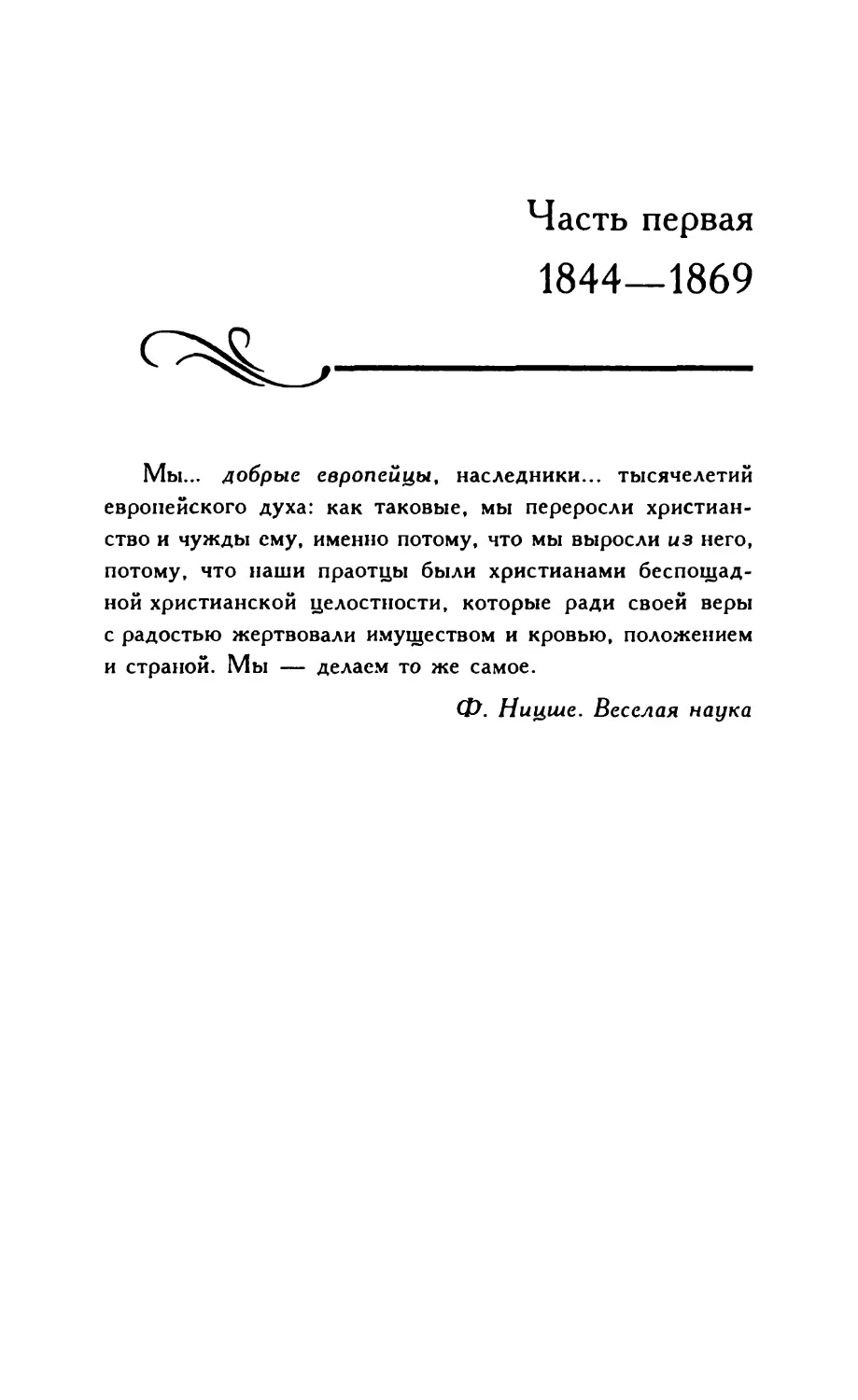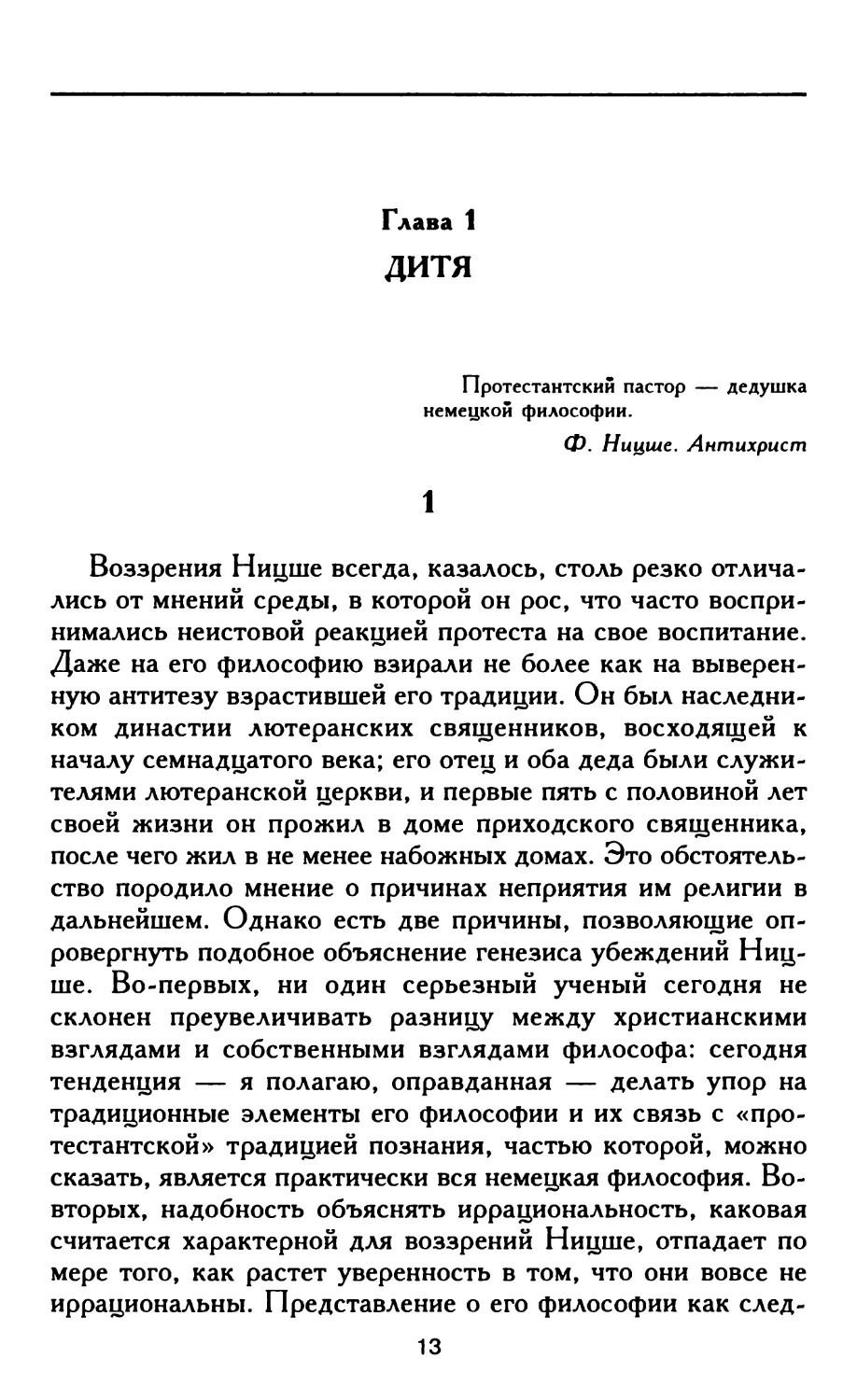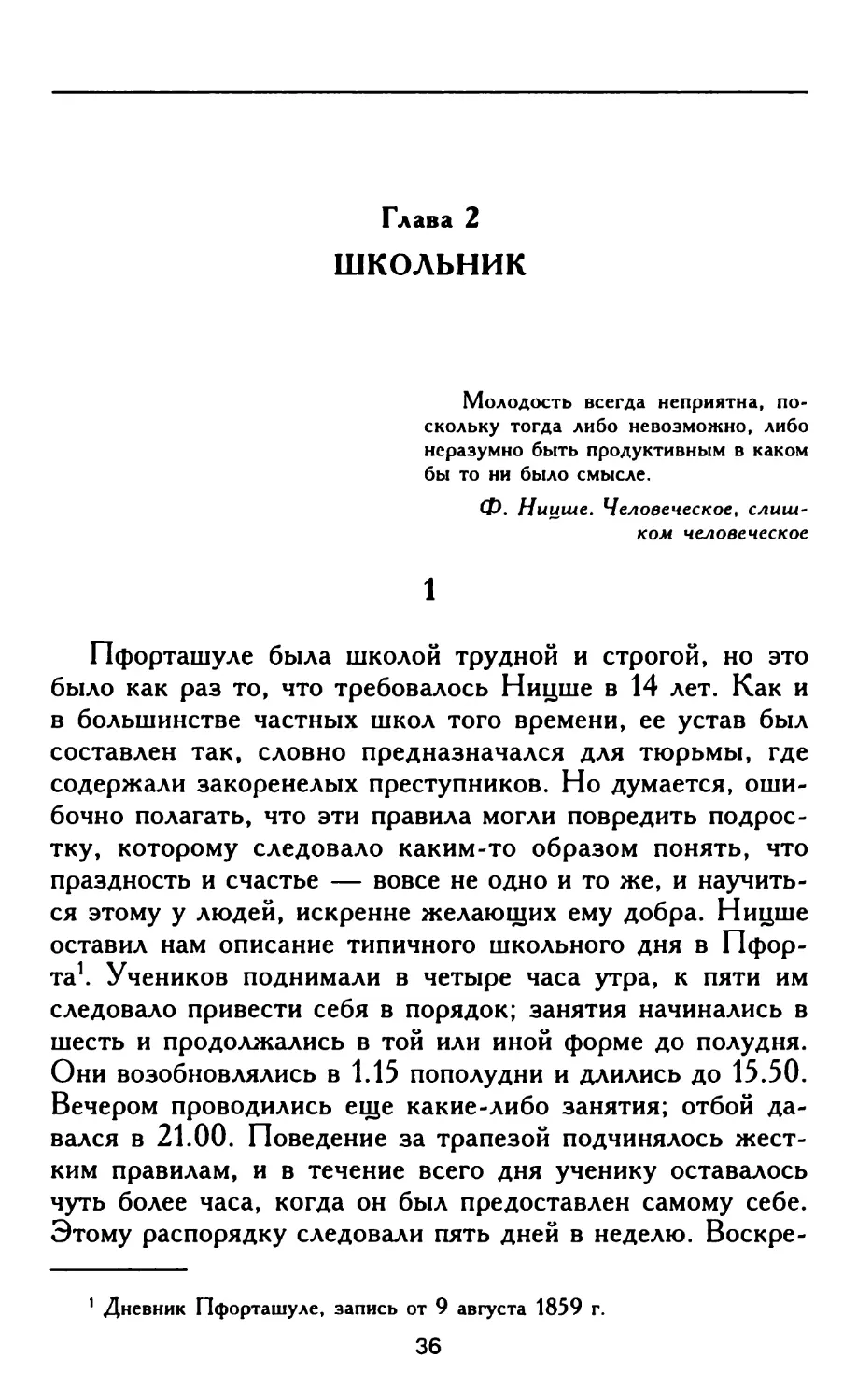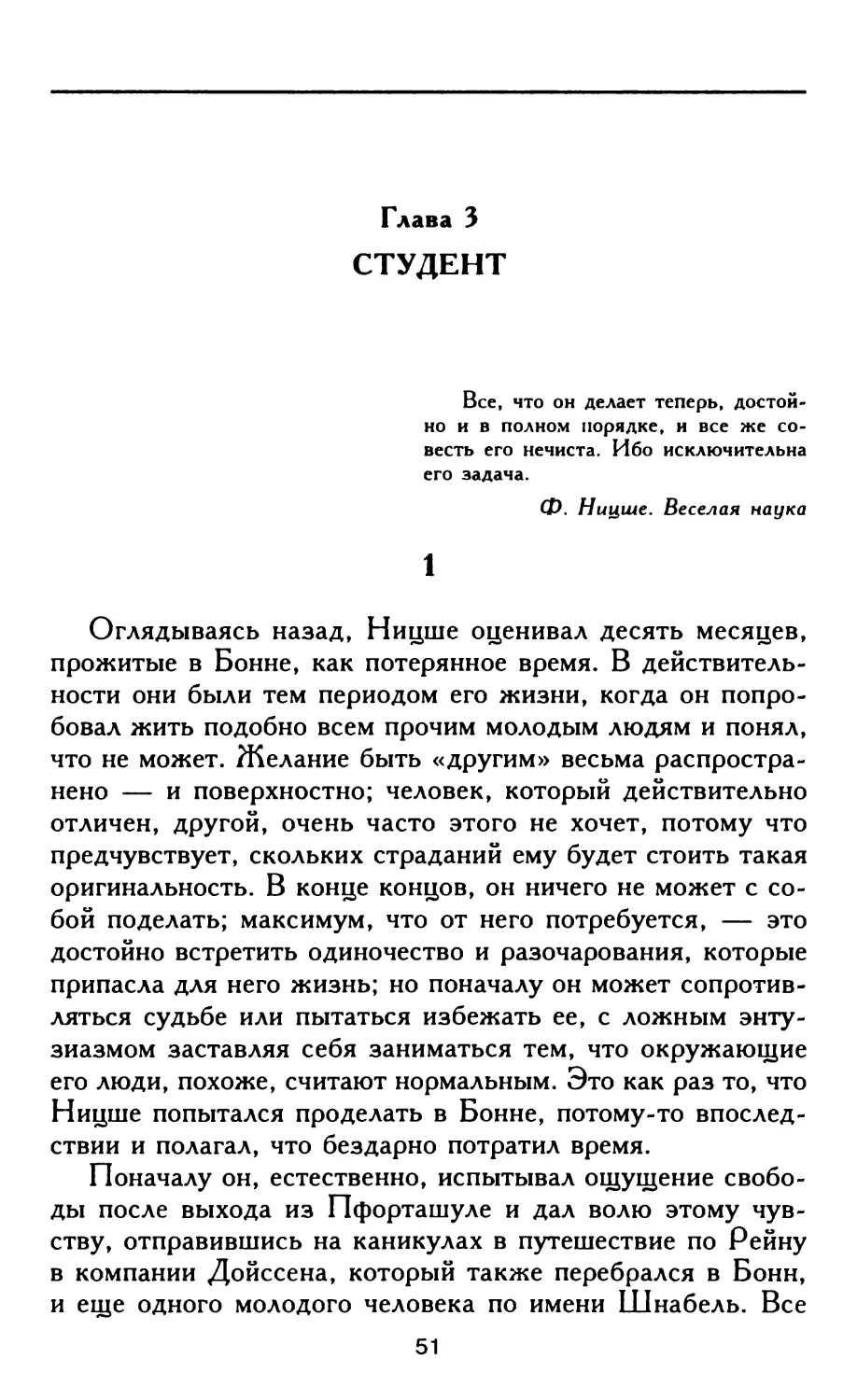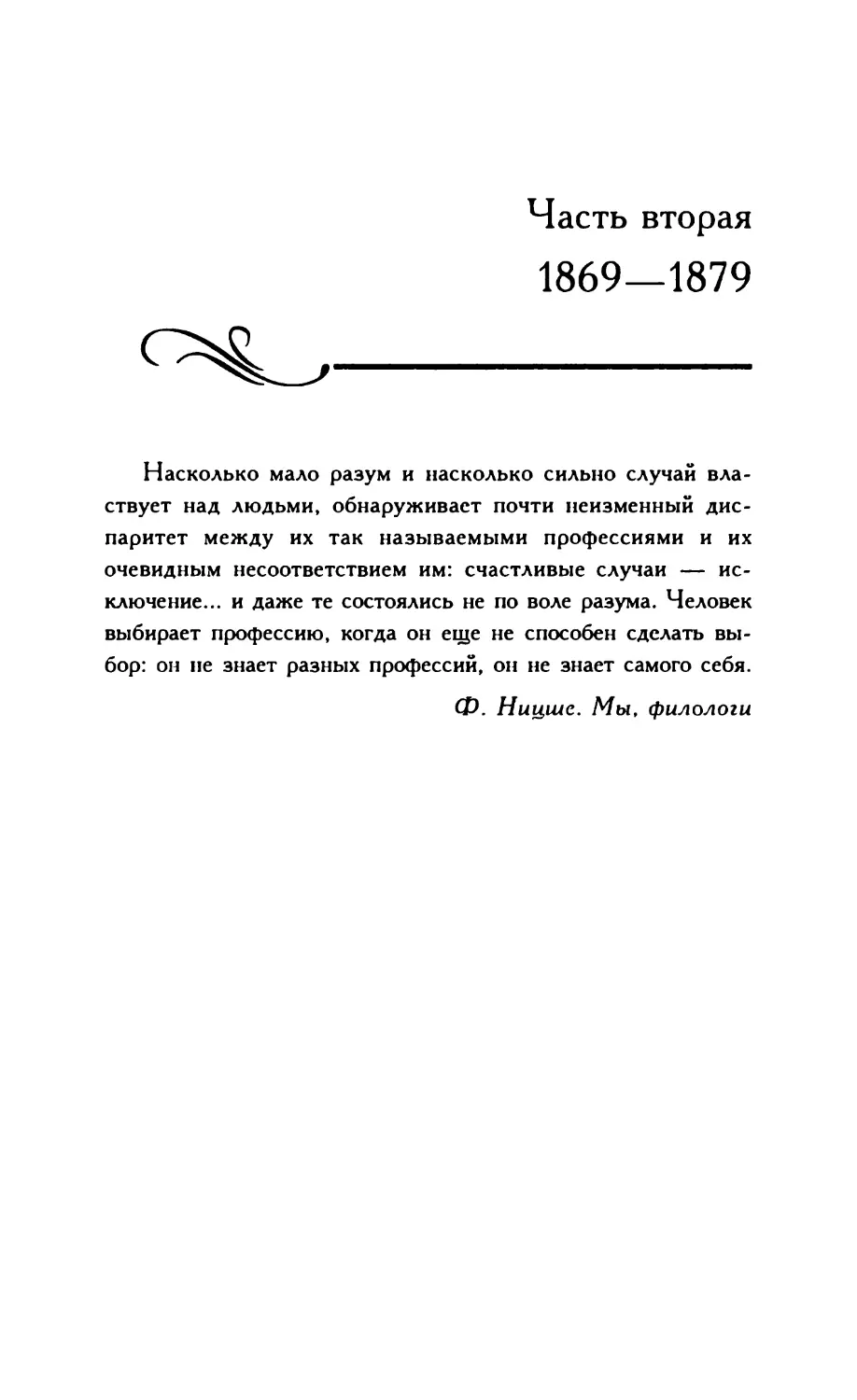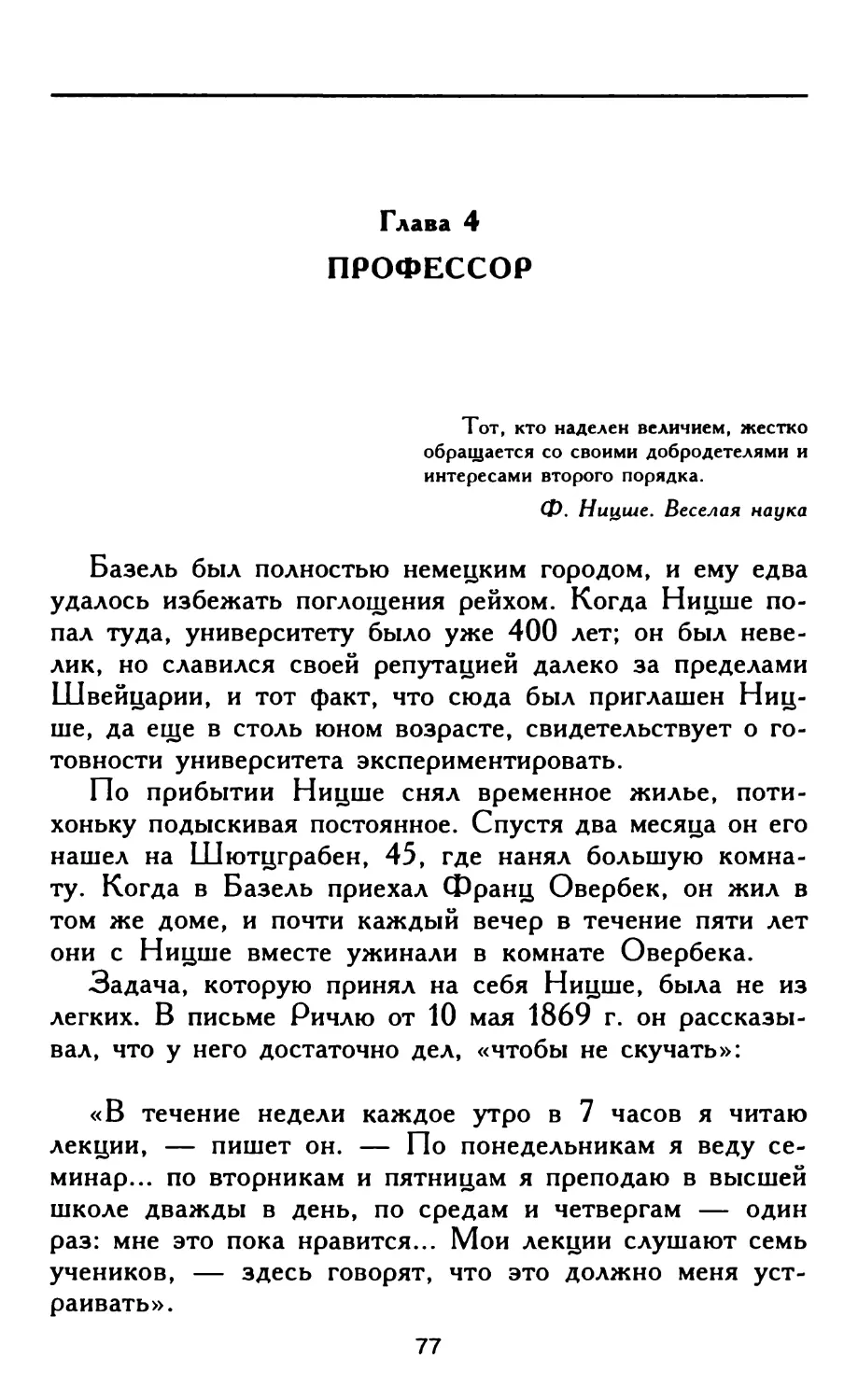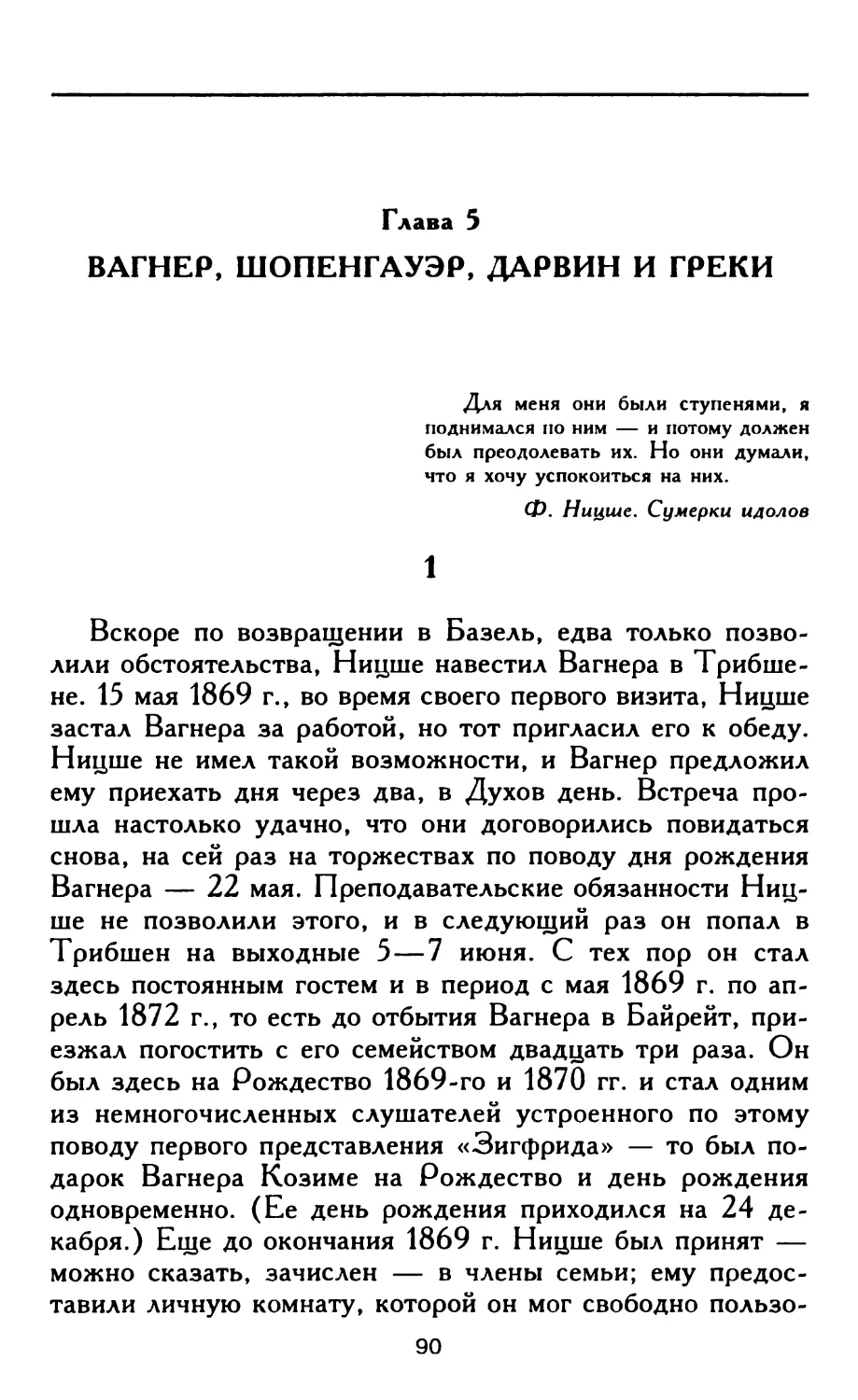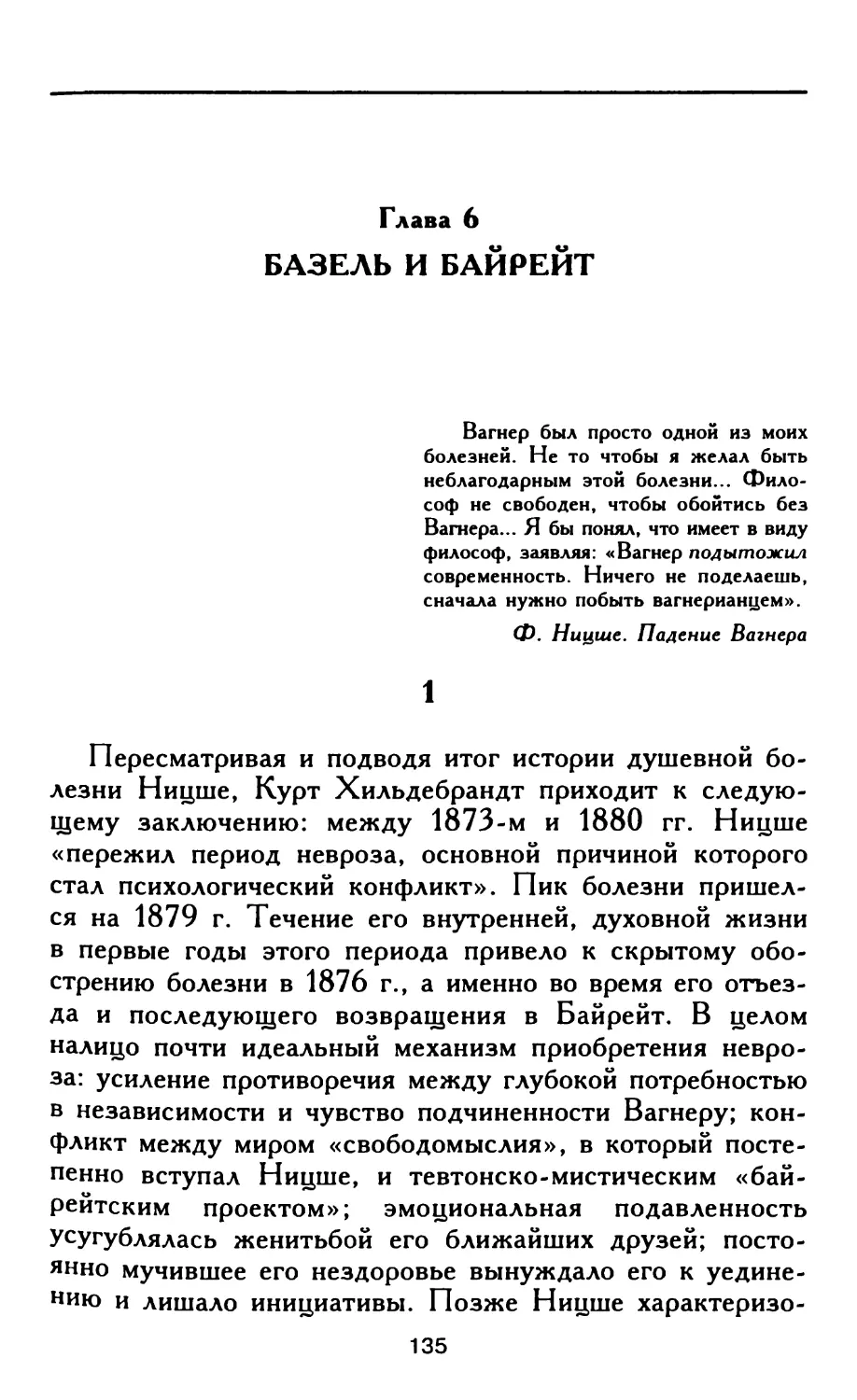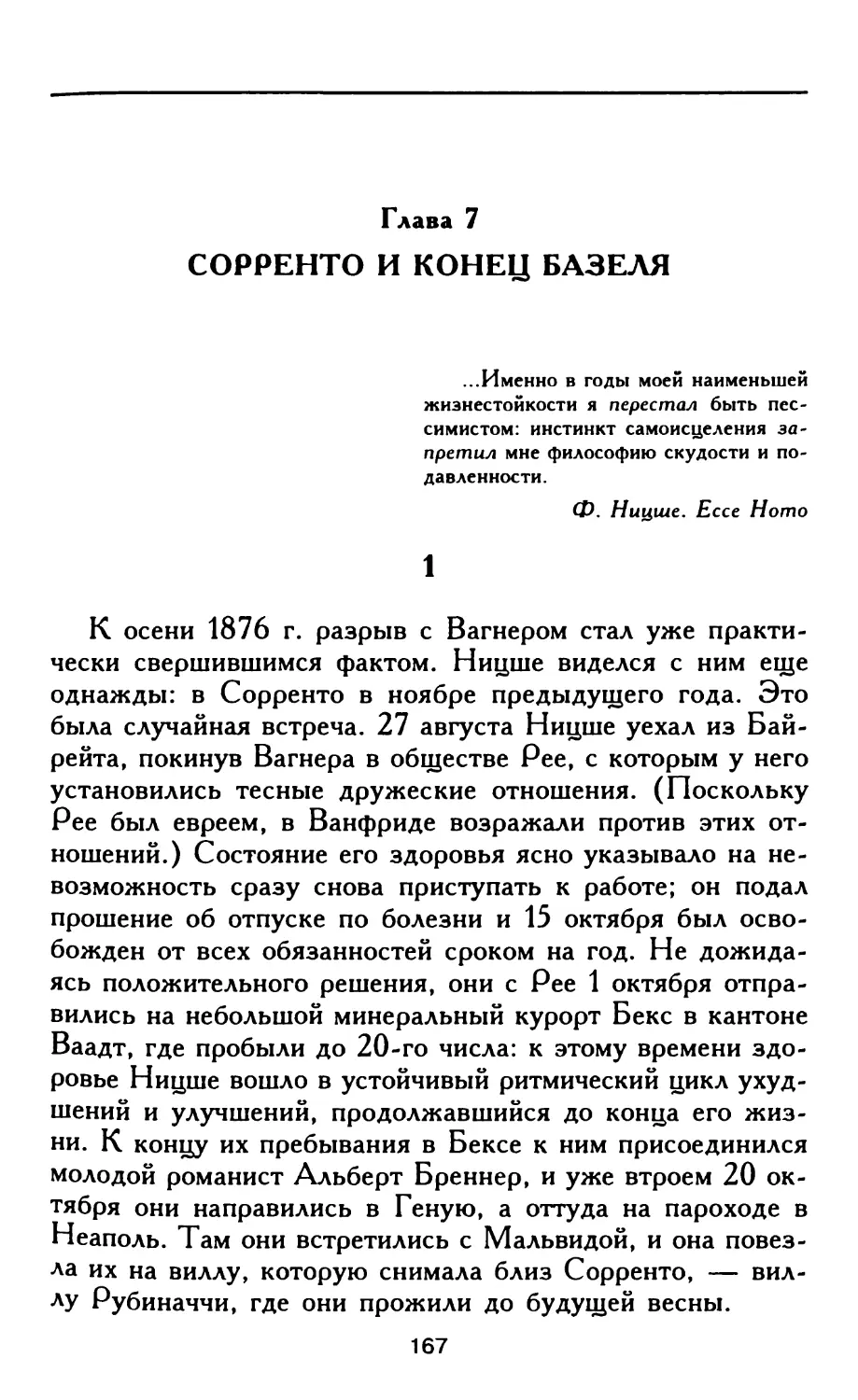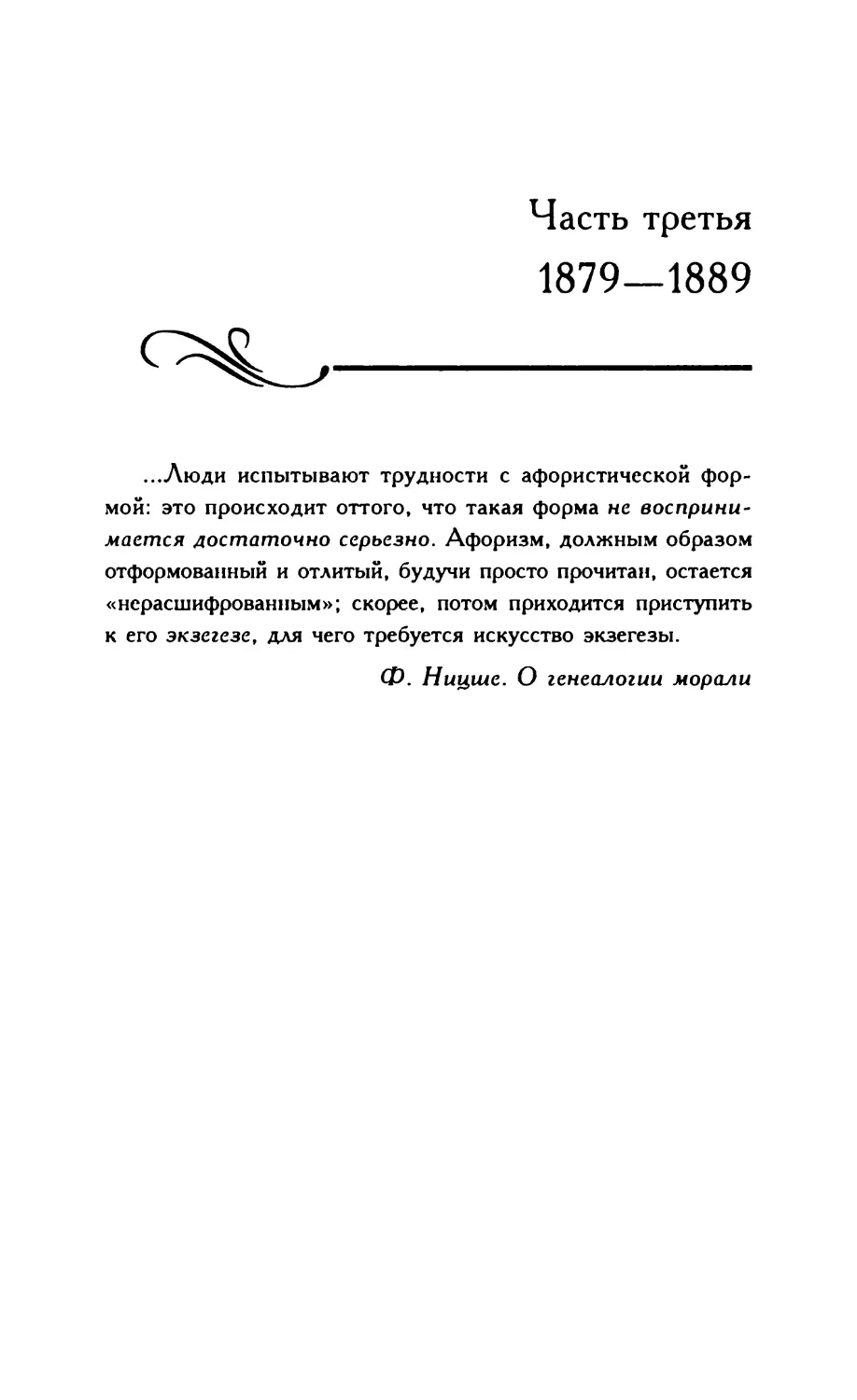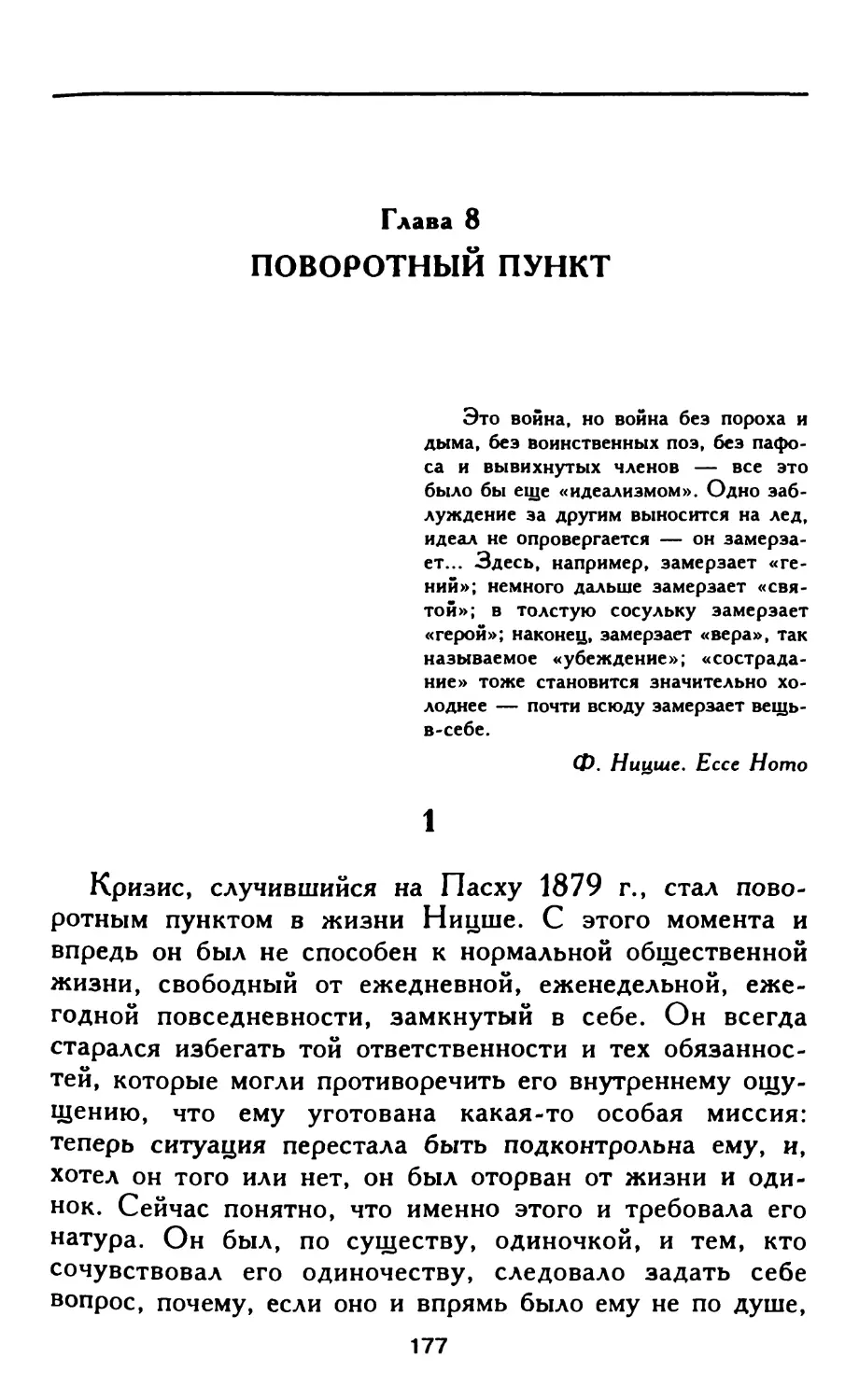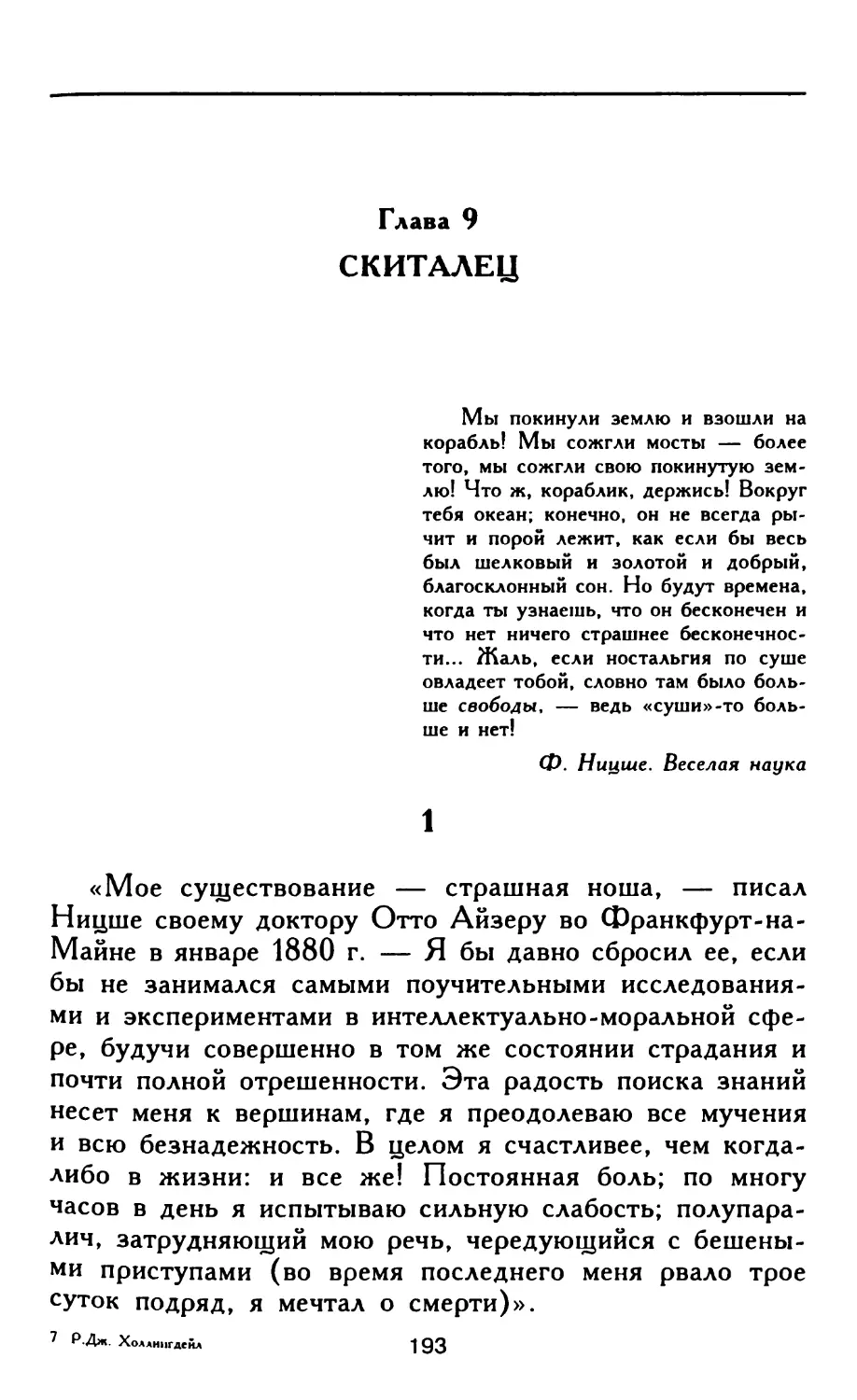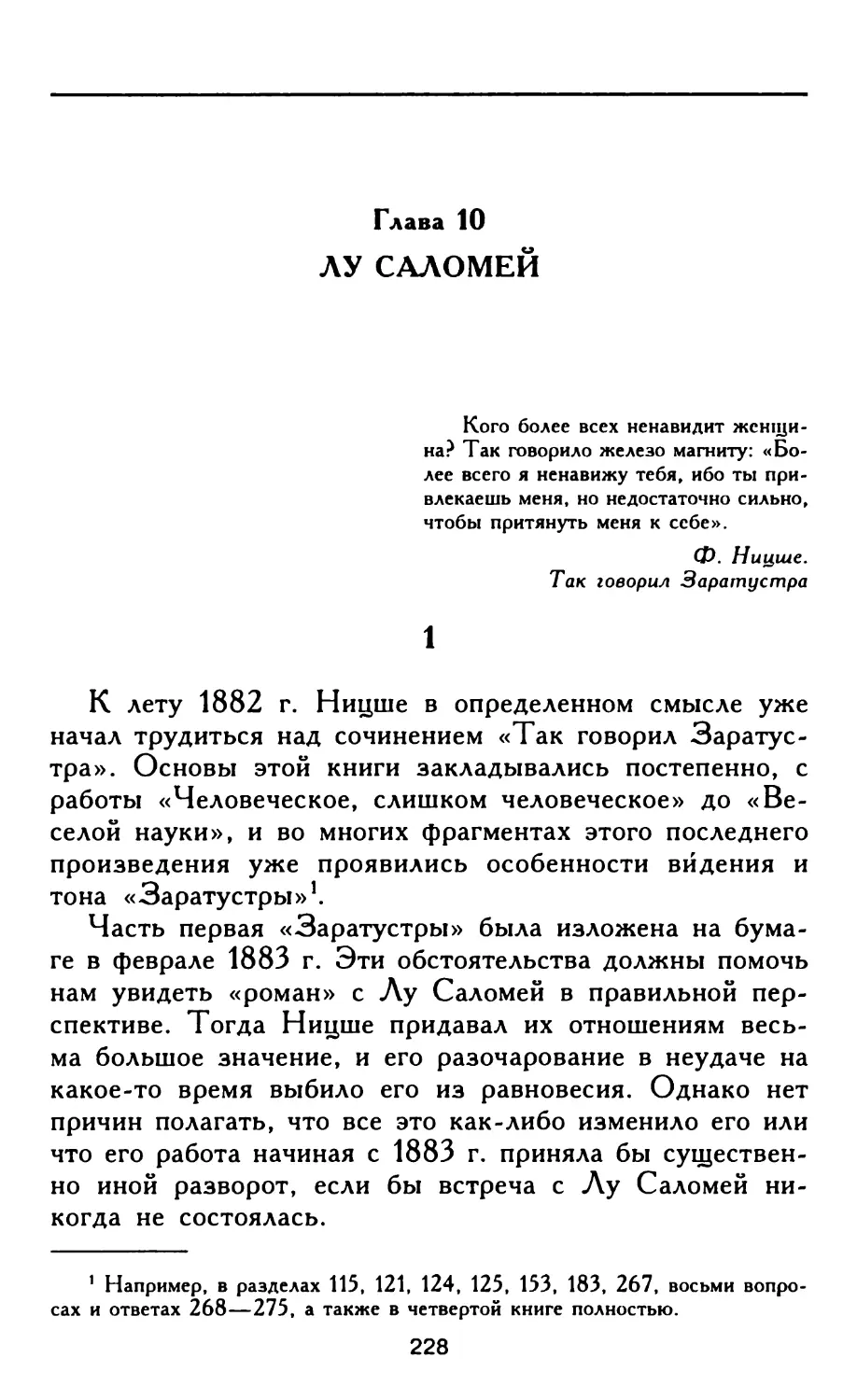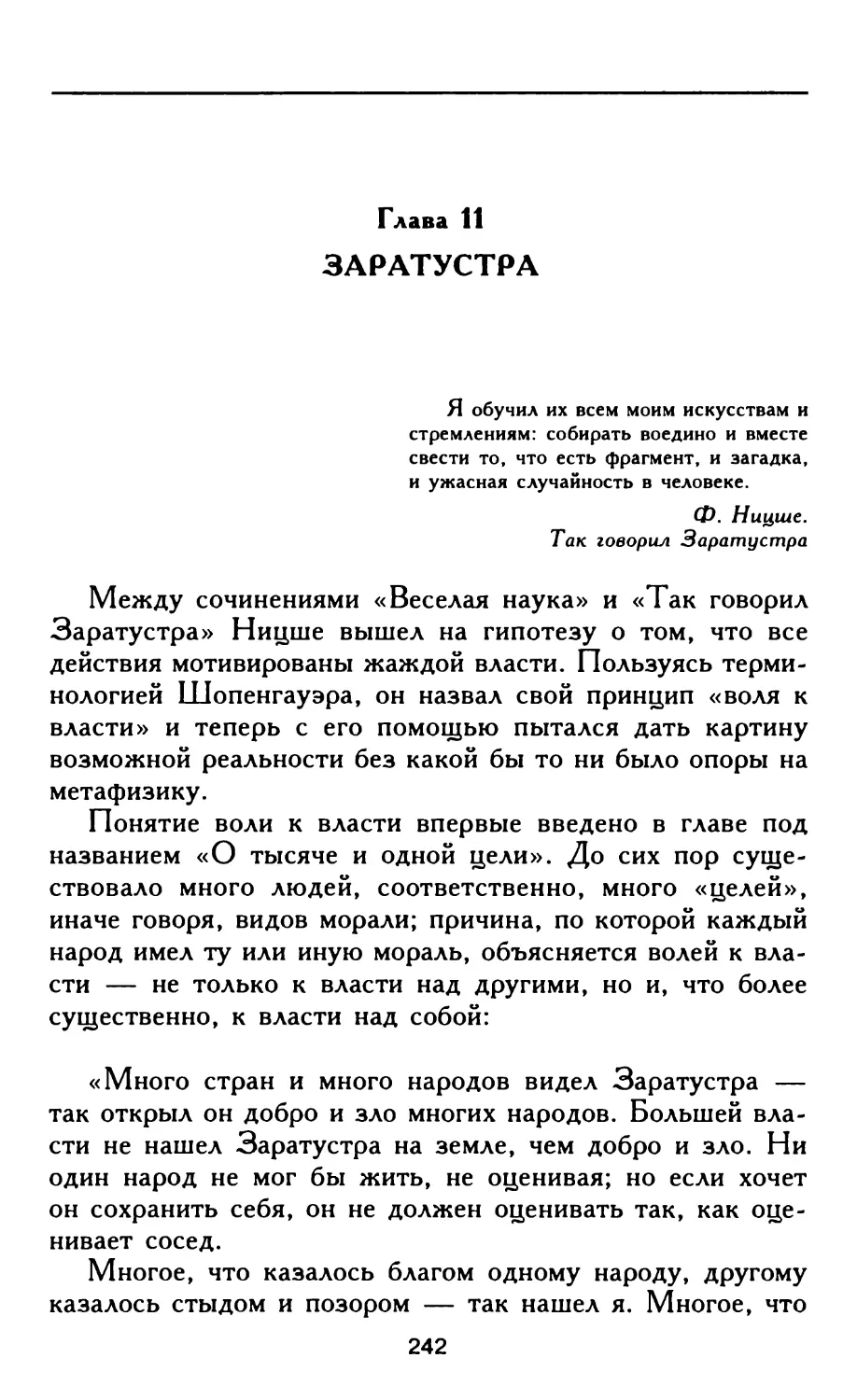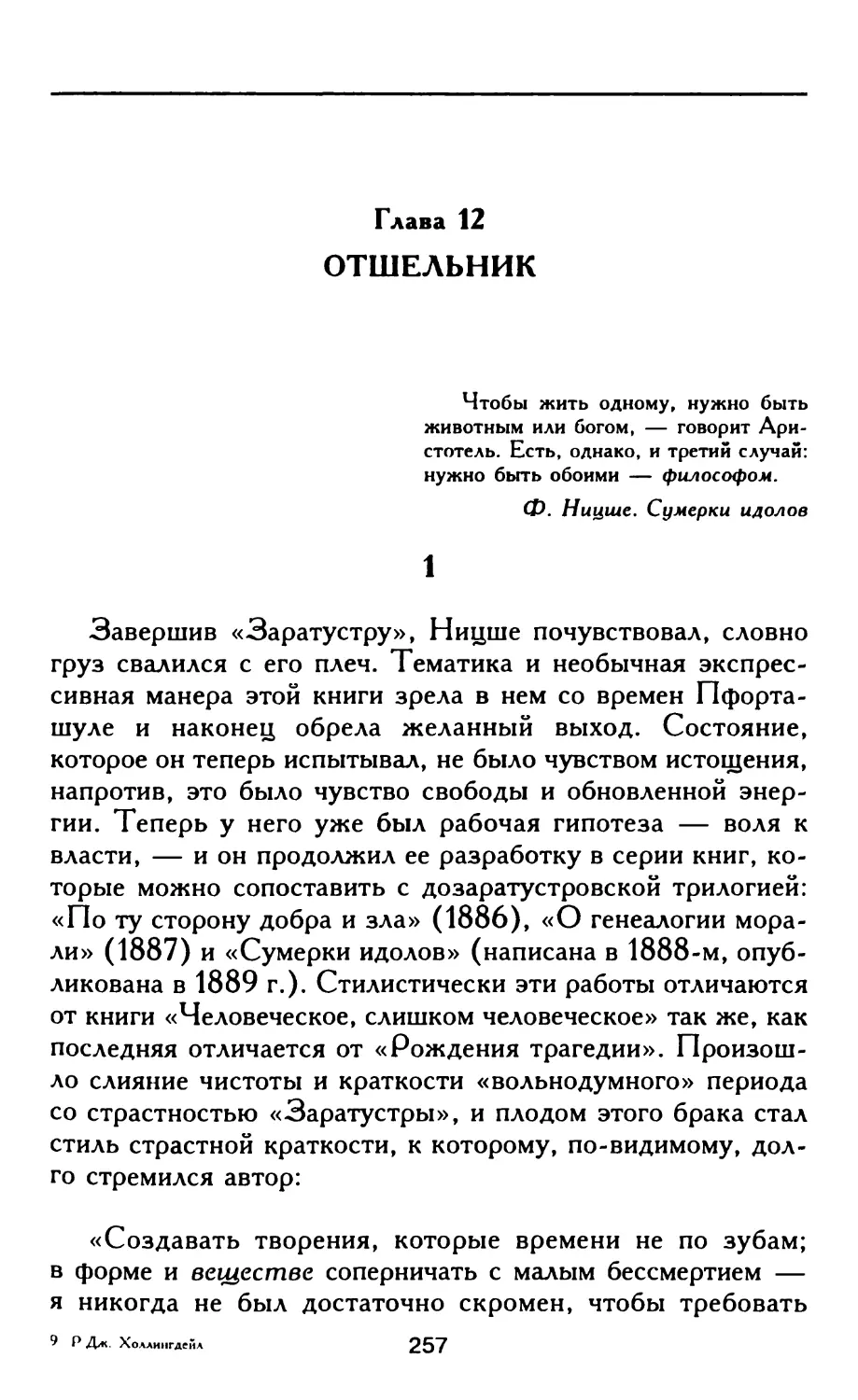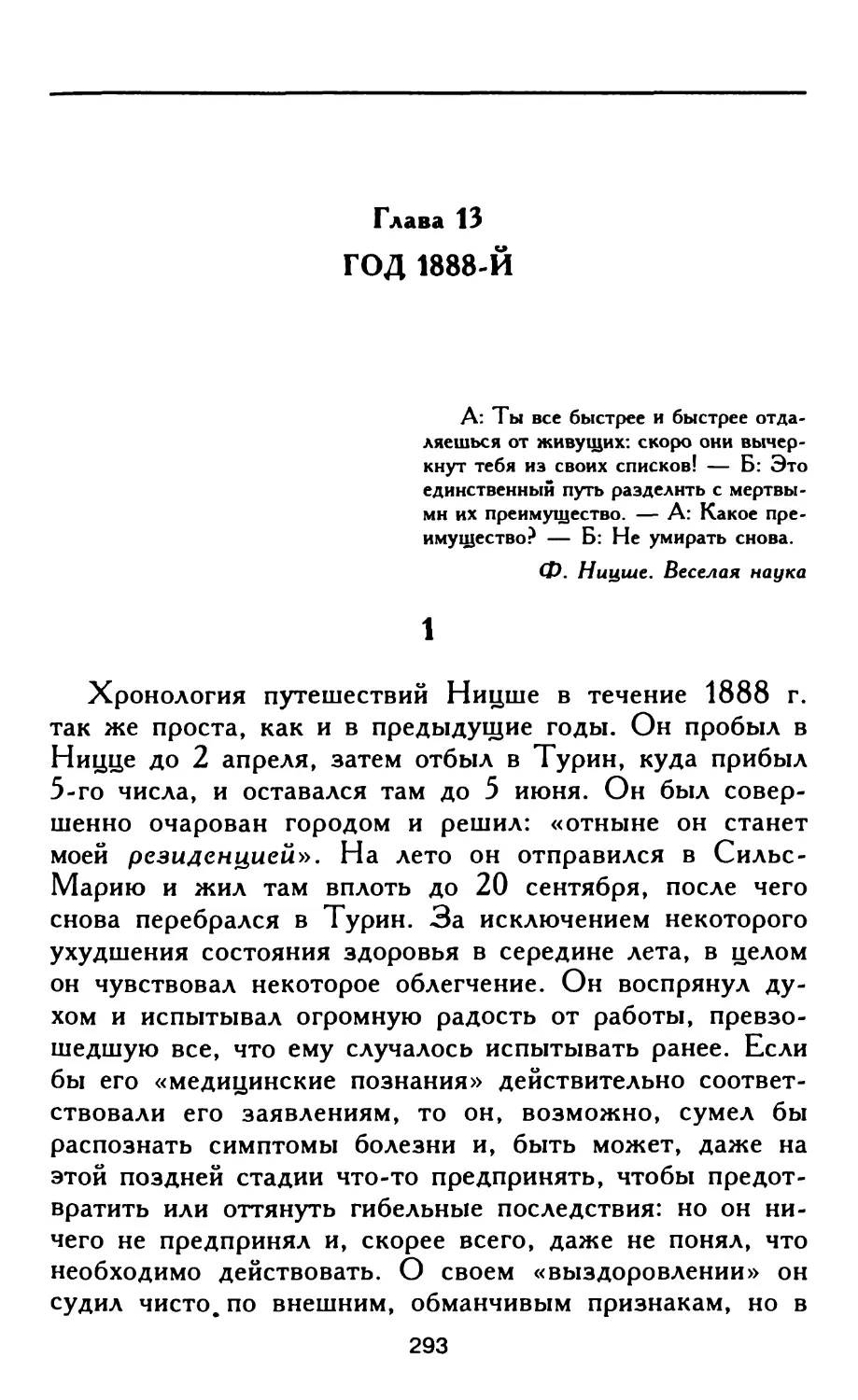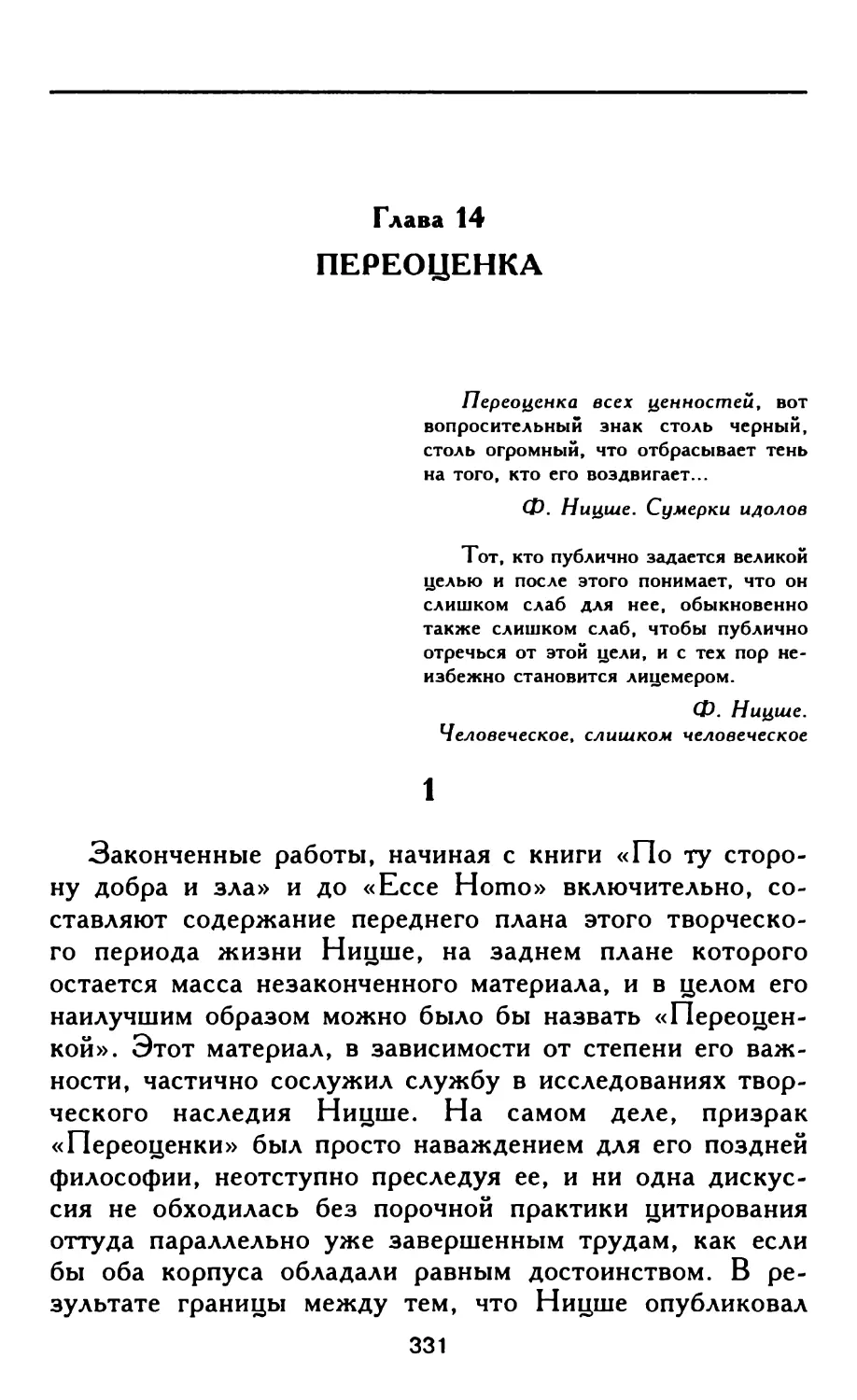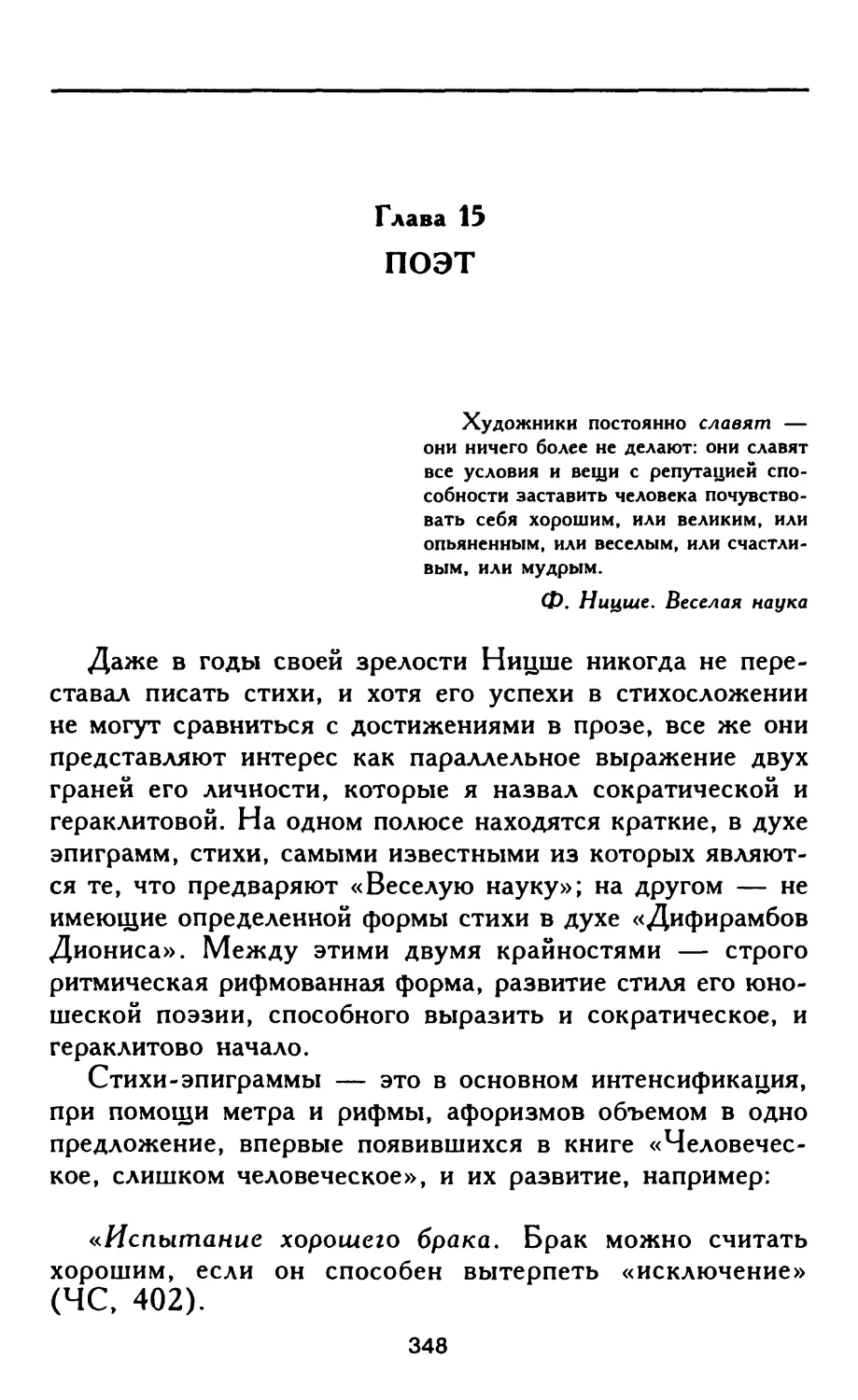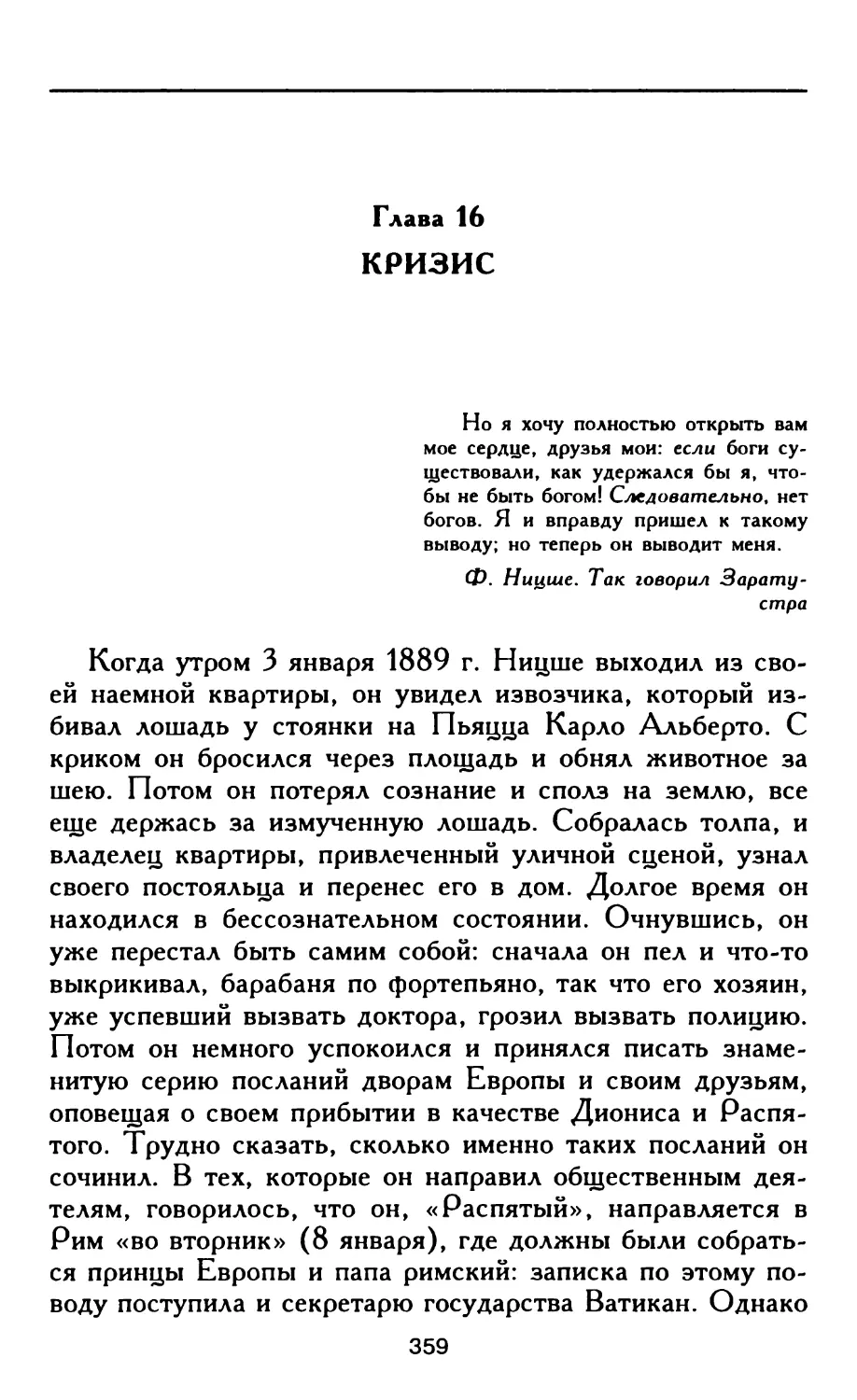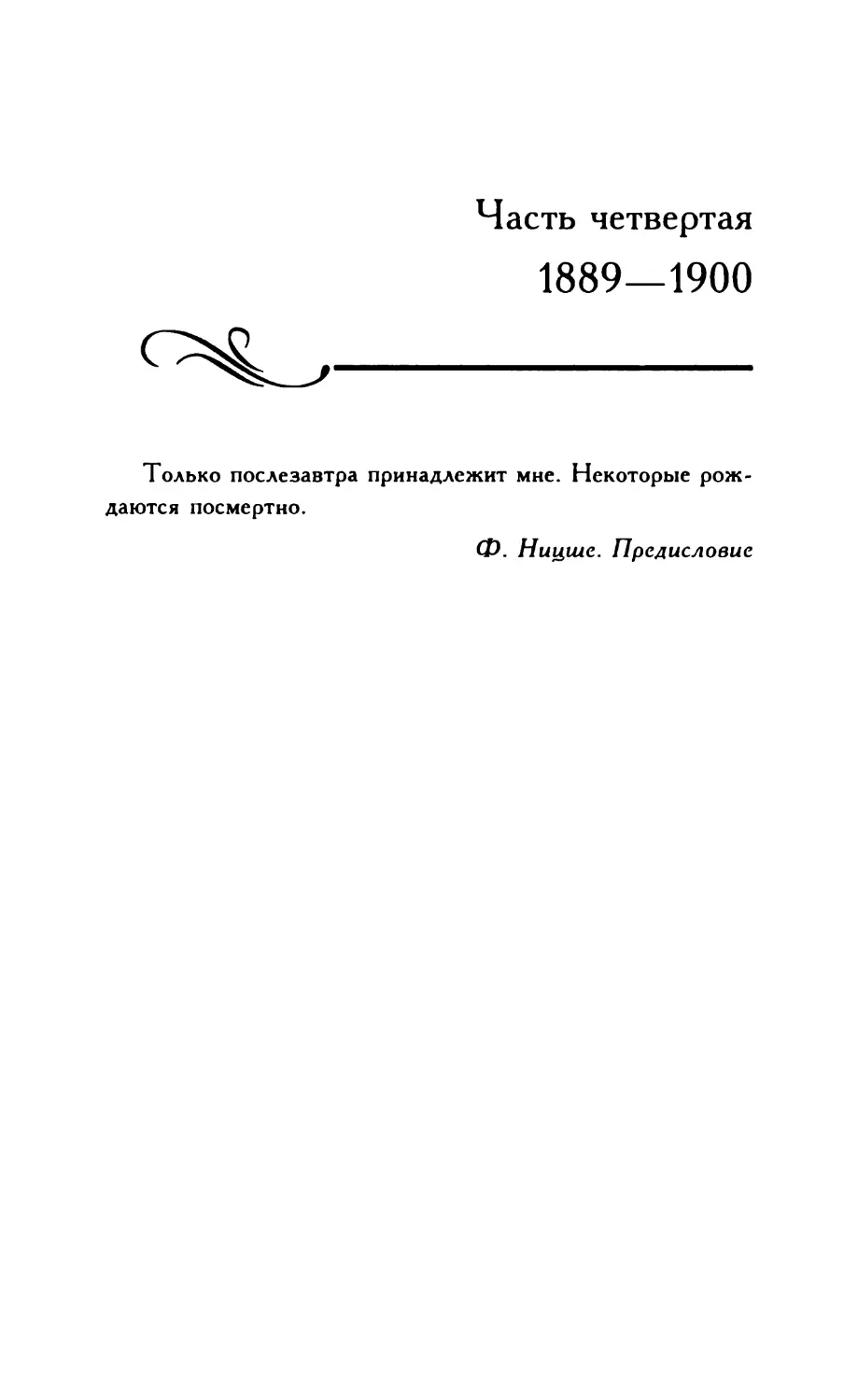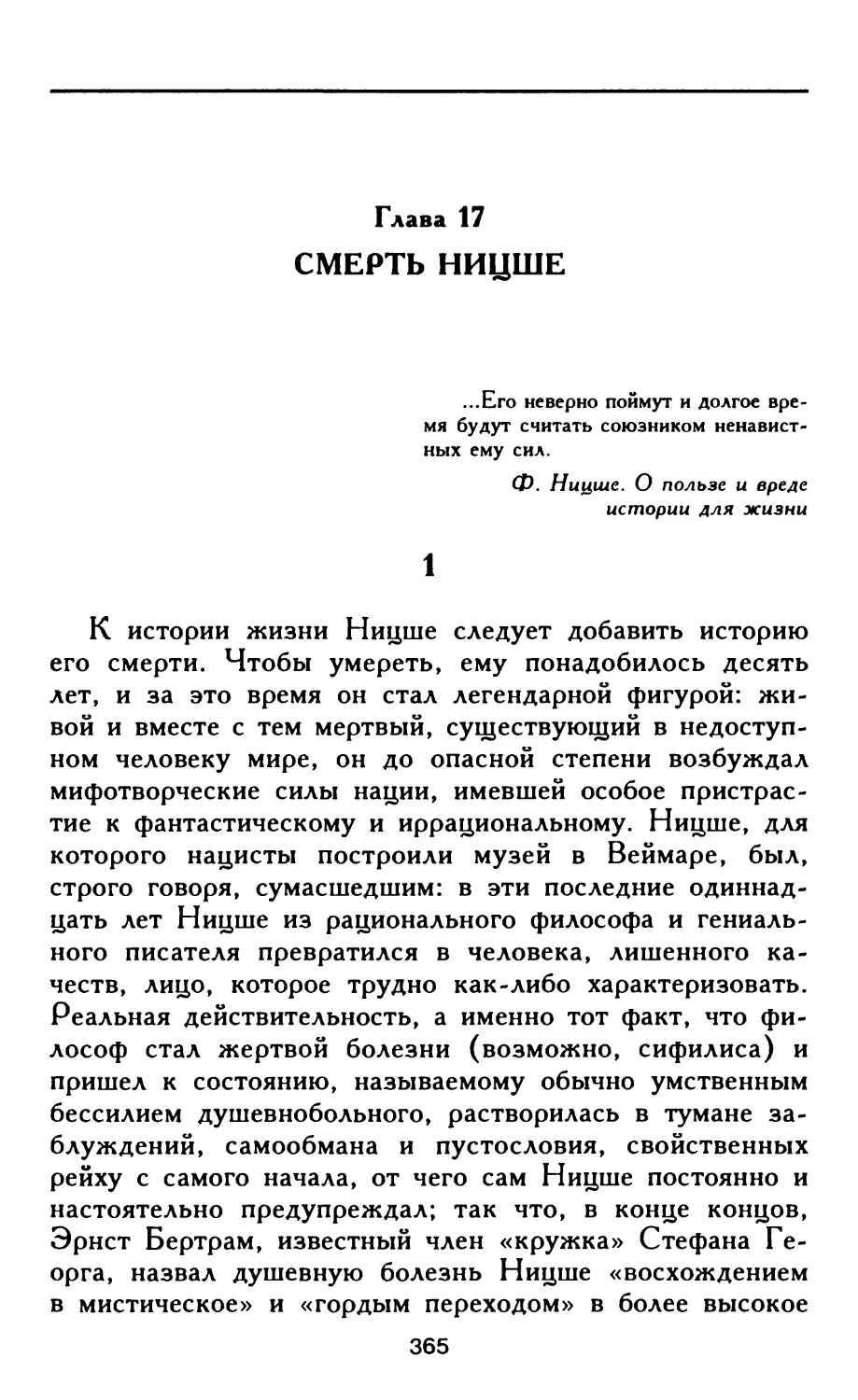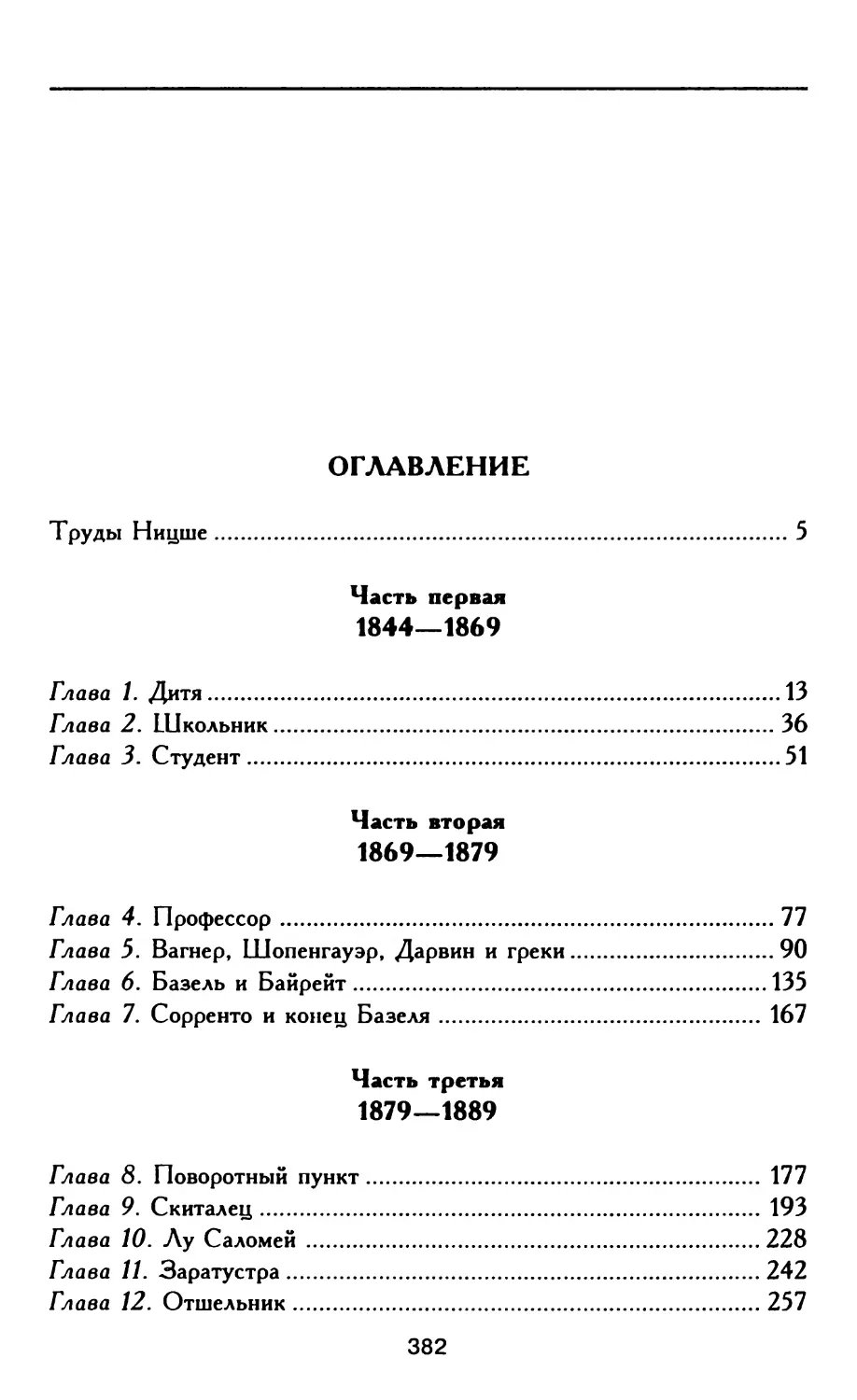Текст
R.J. HOLLINGDALE
NIETZSCHE
Р. ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
ФРИДРИХ
НИЦШЕ
Трагедия неприкаянной души
s
Москва
116НТРПОЛИГРАФ
2004
Холлингдейл Р.Дж.
Фридрих Ницше. Трагедия неприкаянной души / Пер.
с англ. A.B. Милосердовой. — М.: ЗАО
Центрполиграф, 2004. — 383 с.
ISBN 5-9524-0784-6
Известный переводчик и почитатель творчества Ницше Р.Дж.
Холлингдейл создал ясную и умную книгу об этом философе. Автор проводит
четкую границу между реальными фактами и легендами, между философией и
ее профанацией.
Ницше — знаковая фигура конца XIX — начала XX века,
переломной вехи в истории человечества. Актуальны его идеи и в наше непростое
и тоже переломное время.
ISBN 5-9524-0784-6
ББК 87.3
© Перевод,
ЗАО «Центрполиграф», 2004
© Художественное оформление,
ЗАО «Центрполиграф», 2004
ТРУДЫ НИЦШЕ
В обширном перечне трудов, опубликованных под именем
Ницше при жизни и посмертно, необходимо различать, с
одной стороны, его подлинные сочинения, то есть те, что были
опубликованы или подготовлены к печати непосредственно им
самим, и, с другой стороны, все прочие материалы, то есть
«Nachlass» («Наследие»), под которым следует понимать весь
корпус документов, оставшихся после болезни и смерти
философа, включая его филологические очерки и юношеские
наброски. Ницше ответствен только за первые, в отличие от
последних, так как их общей отличительной чертой является
нежелание самого автора издавать их в качестве своих
законченных произведений. Тем не менее, в результате
публикации «Воли к власти» — компиляции «Наследия» 1880-х —
граница между этими двумя группами текстов стерлась, и
логическое, последовательное представление о развитии
философии Ницше стушевалось. Задавшись целью восстановить и
проследить это развитие, следует прежде всего внести ясность
в важнейший вопрос об авторстве произведений. Также
целесообразно предварительно указать порядок выхода в свет
трудов Ницше, так как это даст необходимое представление
о развитии его мысли. По этой причине я привожу здесь
хронологический перечень его работ. (После названий даны
условные сокращения, которыми сочинения обозначены в
тексте данной книги.)
5
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
1. Die Geburt der Tragödie, oder Greichentum und Pessimismus
(Рождение трагедии, или Эллинизм и пессимизм (РТ)).
Работа опубликована в 1872 г. под названием «Рождение
трагедии из духа музыки»; состоит из 25 разделов и
«Предисловия Рихарду Вагнеру». Второе издание — 1874 г. —
содержит некоторые текстовые изменения. В третьем издании —
1886 г. — название изменено на указанное выше, и сочинение
открывается «Очерком самокритики»: будучи помечено как но-
вое издание, оно в действительности является переизданием
оставшихся копий двух предыдущих изданий (с измененным
названием и добавленным вступительным очерком). В настоящей книге
текст цитируется по второму изданию.
2. Unzeitgemasse Betrachtungen (Несвоевременные
размышления).
Erstes Stück: David Strauss, der Bekenner und der
Schriftsteller.
Часть первая: Давид Штраус, исповедник и писатель.
Опубликована в 1873 г. Объемный очерк, состоящий из
12 разделов (HI).
Zweites Stück: Vom Nutzen und Nachteil der Historie fur das
Leben.
Часть вторая: О пользе и вреде истории [исторической
науки] для жизни. Опубликована в 1874 г. Объемный очерк из
10 разделов, с Предисловием (НИ).
Drittes Stück: Schopenhauer als Erzieher.
Часть третья: Шопенгауэр как наставник.
Опубликована в 1874 г. Объемный очерк из 8 разделов (Hill).
Viertes Stück: Richard Wagner in Bayreuth.
Часть четвертая: Рихард Вагнер в Байрейте.
Опубликована в 1876 г. Объемный очерк из 11 разделов (HIV).
Планировалось продолжение «Несвоевременных
размышлений», но осуществлено не было.
3. Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch für freie
Geister (Человеческое, слишком человеческое. Книга для
свободных духом).
Том первый. Опубликован в 1878 г., содержит 638
разделов, объединенных в 9 глав, с посвящением Вольтеру и
цитатами из Декарта «вместо предисловия». Второе издание 1886 г.
6
ТРУДЫ НИЦШЕ
не содержит изменений, за исключением следующих: 1) изъято
посвящение, 2) вместо цитат дано заново написанное
предисловие и 3) добавлено поэтическое послесловие «В кругу
друзей» (ЧС).
Том второй
Erste Abteilung: Vermischte Meinungen und Sprüche.
Раздел первый: Разнородные мнения и максимы.
Опубликован в 1847 г., содержит 408 разделов (ЗМ).
Zweite Abteilung: Der Wanderer und sein Schatten.
Раздел второй: Скиталеи, и его тень. Опубликован в
1880 г., содержит 350 разделов структурно единого диалога
между скитальцем и его тенью (СТ).
Второе издание 1886 г. объединяет эти два раздела в
качестве второго тома ЧС, единственное изменение — новое
предисловие.
4. Morgenröte. Gedanken über die moralischen Vorurteile
(Рассвет. Размышления о предрассудках морали).
Публикация 1881 г., содержит 575 разделов, объединенных
в пять «книг». Второе издание 1887 г. без изменений, за
исключением нового предисловия (Р).
5. Die fröhliche Wissenschaft («la gay a scienza») (Веселая
наука (BH)).
Опубликована в 1882 г., содержит 342 раздела,
объединенных в 4 «книги», с «Прологом к немецкой поэзии: жест,
коварство и месть» — заголовок из Гете; содержит 63
коротких стихотворения. Второе издание 1887 г. дополнено:
1) пятой книгой: «Wir Furchtlosen» («Мы, бесстрашные»)
2) приложением «Lieder des Prinzen Vogelfrei» («Песни
Принца-Свободной-Птицы»), содержащим 14 стихотворений,
3) новым предисловием. Цитата из Эмерсона, взятая в
качестве эпиграфа к первому изданию, заменена
четверостишием самого Ницше.
6. Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen
(Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого (3)).
Часть первая опубликована в 1883 г. и содержит «Пролог
Заратустры» и 22 главы.
Часть вторая также опубликована в 1883 г., содержит
22 главы.
7
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
Часть третья опубликована в 1884 г., содержит 16 глав.
Четвертая и последняя часть, содержащая 20 глав, издана
частным образом в 1885 г.; первое публичное издание 1892 г.
составляет часть первого собрания сочинений Ницше (ред.
Петер Гаст).
Части первая, вторая и третья переиздавались единым
томом в 1887 г. без каких-либо изменений и дополнений.
7. Jenseits von Gut und Böse. Vorschpiel einer Philosophie
der Zukunft (По ту сторону добра и зла. Прелюдия к
философии будущего (ДЗ)).
Опубликовано в 1886 г., содержит 296 разделов,
объединенных в 9 глав, предисловие и поэтическое послесловие под
названием «Aus hohen Bergen» («С высоких гор»).
8. Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift (О
генеалогии морали. Полемика (ГМ)).
Опубликовано в 1887 г. Три очерка с предисловием.
9. Der Fall Wagner. Ein Musikanten-Problem (Падение
Вагнера. Проблема музыканта (В)).
Опубликовано в 1888 г. Полемический очерк с
предисловием, двумя послесловиями и эпилогом.
10. Götzen-Dämmerung, oder Wie man mit dem Hammer
philosophiert (Сумерки идолов, или Как философствовать при
помощи молота (СИ)).
Подготовлено к публикации в 1888 г., опубликовано в
1889 г. 10 глав с предисловием и цитатой из «Заратустры»
(«Der Hammer redet») («Говорит молот») в качестве
эпилога.
11. Nietzsche contra Wagner. Aktenstücke eines Psychologen
(Ницше против Вагнера. Письмо Философа (НПВ)).
Подготовлено к публикации в 1888 г., вышло в частном
издании в 1889-м; первое публичное издание 1895 г.
состоялось в составе «Gesamtausgabe in Grossoktav», ред. Фриц
Кегель. 9 коротких глав с предисловием и эпилогом.
12. Der Antichrist (Антихрист (А)).
Подготовлено к публикации в 1888 г., опубликовано в
1895-м в составе «Gesamtausgabe in Grossoktav». Объемный
очерк из 62 разделов с предисловием.
13. Dionysos-Dithyramben (Дифирамбы Диониса) (ДД)).
8
ТРУДЫ НИЦШЕ
Девять стихотворений разных периодов, вероятно
подобранные Ницще для публикации в конце 1888 г; опубликованы в
1892 г. в первом собрании сочинений, ред. Петер Гаст.
14. Ессе Homo. Wie man wird, was man ist. (Ecce Homo. Как
человек становится тем, что он есть (ЕН)).
Автобиография в 4 главах с предисловием. (Между третьей
и четвертой главами расположены 10 разделов, в которых
Ницше повествует о своих предыдущих работах. В настоящей
книге ссылки на эту часть обозначены сокращениями ЕН-ДЗ,
ЕН-ГМ.) Подготовлена к публикации и частично
опубликована в последней четверти 1888 г. Опубликована в 1908 г.
(ограниченное издание), 1911 г. (неограниченное издание).
«Der Wille zur Macht» («Воля к власти») в тексте
настоящей книги обозначена индексом (ВВ).
...Любопытство вроде моего — это решительно
наиболее приятный из пороков — да простят меня. Я разумел под
этим: любовь к истине вознаграждается на небесах, а теперь
и на земле.
Ф. Ницше. По ту сторону добра и зла
Часть первая
1844—1869
Мы... добрые европейцы, наследники... тысячелетий
европейского духа: как таковые, мы переросли
христианство и чужды ему, именно потому, что мы выросли из него,
потому, что наши праотцы были христианами
беспощадной христианской целостности, которые ради своей веры
с радостью жертвовали имуществом и кровью, положением
и страной. Мы — делаем то же самое.
Ф. Ницше. Веселая наука
Глава 1
ДИТЯ
Протестантский пастор — дедушка
немецкой философии.
Ф. Ницше. Антихрист
1
Воззрения Ницше всегда, казалось, столь резко
отличались от мнений среды, в которой он рос, что часто
воспринимались неистовой реакцией протеста на свое воспитание.
Даже на его философию взирали не более как на
выверенную антитезу взрастившей его традиции. Он был
наследником династии лютеранских священников, восходящей к
началу семнадцатого века; его отец и оба деда были
служителями лютеранской церкви, и первые пять с половиной лет
своей жизни он прожил в доме приходского священника,
после чего жил в не менее набожных домах. Это
обстоятельство породило мнение о причинах неприятия им религии в
дальнейшем. Однако есть две причины, позволяющие
опровергнуть подобное объяснение генезиса убеждений
Ницше. Во-первых, ни один серьезный ученый сегодня не
склонен преувеличивать разницу между христианскими
взглядами и собственными взглядами философа: сегодня
тенденция — я полагаю, оправданная — делать упор на
традиционные элементы его философии и их связь с
«протестантской» традицией познания, частью которой, можно
сказать, является практически вся немецкая философия. Во-
вторых, надобность объяснять иррациональность, каковая
считается характерной для воззрений Ницше, отпадает по
мере того, как растет уверенность в том, что они вовсе не
иррациональны. Представление о его философии как след-
13
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
ствии окружения опиралось на тезис о том, что природа его
воззрений скорее эмоциональна, нежели рациональна. Эта
предпосылка эмоционального бунта вела к трактовке в русле
иррационализма, так как именно иррационализм ответствен
за непримиримость и радикализм бунта. И здесь снова
приходится пересматривать привычную картину; теперь
возникает соблазн пренебречь бунтовской составляющей, вместо
того чтобы сделать на нее упор, ибо наличие ее в его
философии Ницше несомненно, а заодно сделать упор на
прочные связи с прошлым, вместо того чтобы игнорировать их.
Чем пристальнее вчитываешься в произведения Ницше,
тем менее ощущаешь склонность взирать на них извне
ради разъяснения их значения или причин появления на
свет. Пропадает желание вскрывать их психологическую
подоплеку или отыскивать в той сугубо ортодоксальной
семье почву, на которой взошла его философия. И вот
когда исчезает эта потребность, можно более реалистично
представить, чем же на самом деле был этот дом. Также
становится ясно, что устоявшееся представление о нем
основано на ошибочной концепции. Дом Ницше был
действительно ортодоксален, но качество этой
ортодоксальности понималось несколько превратно. На взгляд
стороннего наблюдателя, лютеранская церковь родственна
англиканской в гораздо большей степени, чем любая
другая: обеим не свойствен фундаментализм, фанатизм или
пуританство. Лютеранская церковь занимает особое
место в истории немецкой культуры и образования. Ее
называют Pfarrhaustradition (традиция дома священника), что
подразумевает сохранение и распространение культурного
просвещения в лютеранском приходе, и это одна из
нескольких непрерываемых нитей в ткани немецкого
исторического развития за последние три сотни лет. Те, кто
воспитан в этой традиции, независимо от того,
присоединились ли они к ней самостоятельно или нет, сыграли ни
с чем не сравнимую роль в культурной и
интеллектуальной жизни Германии, и, когда Ницше писал, что
протестантский пастор является дедушкой немецкой философии,
14
дитя
он говорил истинную правду. Его собственный дом был
организован строго в соответствии с лютеранской
традицией. Нет сомнений в том, что здесь он был счастлив, и
он никогда не говорил о том, что «бунтовал» против
своего окружения, на которое не мог опереться. Помимо отца
и матери, наиболее влиятельной фигурой его детства и
юности был его дед по материнской линии, пастор Давид
Охлер, с которым он и его сестра часто проводили
каникулы. Дедушка Охлер принадлежал к разряду пасторов
старого типа; он любил охоту, обладал большой
библиотекой и был музыкально одарен; его приход напоминал
ферму, и подавляющую часть рабочей недели он был
больше фермером, чем служителем церкви. Сложения он был
крепкого, имел одиннадцать детей, умер на своем посту в
возрасте 72 лет и, подобно Лоренсу Стерну, был столь же
поразительно благочестив и мечтателен. Как и
англиканская церковь, лютеранская открывала низшим сословиям
один из возможных путей к культурному
совершенствованию, и тот факт, что предки Ницше избрали этот путь,
не является свидетельством их особой набожности (и
вообще набожности). Если читатель представит, что в
англиканской церкви восемнадцатого века некто Свифт мог
занимать должность декана кафедрального собора, некто
Беркли — служить епископом, что место здесь
находилось даже для таких, как Стерн, то у него сложится
совершенно правильное представление о том климате
терпимой ортодок:ли, в котором вырос Ницше.
Родословная Ницше восходит к шестнадцатому веку.
Известны имена более двухсот его предков, все они
немцы. Аристократов среди них не было; были в роду
крестьяне, но по большей части это были мелкие
ремесленники — шляпники, плотники, мясники и тому подобные.
Но к восемнадцатому веку все фамилии, которые в
конечном итоге сошлись в философе, состояли при
лютеранской церкви.
15
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
Первым Ницше, поступившим на службу церкви, был
дед философа Фридрих Август Людвиг (1756—1826),
который дослужился до звания суперинтендента, что
равноценно епископскому рангу. Семья матери Фридриха
Августа насчитывала уже пять поколений лютеранских
священников (1600—1725); отец его жены и прадед тоже
состояли при церкви. Он был автором двух полемических
трактатов в защиту христианства в период Французской
революции; в одном из них в качестве подзаголовка он
выдвигал утверждение о том, что христианство продлится
вечно. Категорические противники в этом вопросе, прадед
и правнук все же в чем-то были похожи: обоим
свойственна крайность суждений находящейся под угрозой
традиции и, кроме того, есть что-то общее в полемическом стиле
их работ, хотя прадед не обнаруживает столь острого ума
и риторического блеска, которые свойственны правнуку1.
Сын Фридриха Августа, отец философа, Карл Людвиг
Ницше, родился в 1813 г. Ему изначально была уготована
судьба служителя церкви, и в 1842 г. он стал пастором
деревни Рекен близ Лютцена, а также соседних деревушек
Михлитц и Ботфельд. На следующий год он женился на
одной из дочерей священника деревни Поблес в часе
ходьбы от своего прихода. Франциска Охлер, мать философа,
была шестым ребенком из одиннадцати детей пастора Ох-
лера. Она родилась в 1826 г. и к моменту супружества с
пастором Ницше достигла 17 лет. Она, по-видимому, была
недостаточно образованна, но многочисленные
свидетельства говорят о ее веселом нраве и здравом смысле. Эти
добродетели могут показаться прозаическими, однако в приходе
Рекен о них не упоминалось до ее появления. Жизнь в
приходе пастора Ницше протекала спокойнее, нежели в хозяй-
1 Книги Фридриха Августа Ницше: «Gemaliel, oder die immerwährende
Dauer des Christentums» (1796); «Beiträge zur Beförderung einer vernünftigen
Denkensart über Religion, Erziehung, Untertanenpflicht und Menschenliebe»
(1804). Эти работы являются единственным источником, позволяющим
составить некоторое представление о характере незаурядного интеллектуального
дарования представителей рода Ницше до рождения философа.
16
дитя
стве фермера и охотника — пастора Охлера. Обязанности
по дому лежали на вдовой матери; здесь же проживали две
сводные сестры священника, Августа и Розали, парочка
престарелых чудачек, милых, исполненных благих
намерений, незамужних, умеренных невротичек; за ними
впоследствии закрепилась слава «тетушек Ницше», воплощения
провинциальной косности, против которой, как полагают
некоторые комментаторы, и была обращена философия
Ницше.
Новая фрау пастор была настолько моложе всех
домочадцев, что ей, должно быть, показалось, что из одного
отеческого дома она перебралась в другой, правда менее
симпатичный, где была далеко не хозяйкой, да еще и
самой младшей в семье. Когда стали появляться дети, они
были ей сверстниками в большей степени, нежели любой
другой обитатель дома. Все, что нам известно о
Франциске Ницше, говорит о ней как об очень кротком и добром
человеке. Она унаследовала от отца добрую толику его
жизнелюбия, и ее глубокая вера носила инстинктивный
характер, что сказывается прежде всего в поступках, а не
в отправлении культа. Она принадлежала к тому типу
христиан, которые не допускают, что обученный
Евангелию человек может сомневаться в его истинности, и при
этом снисходительно смотрят на все ереси, прописанные
в книжках; всего один-единственный раз она всерьез
повздорила с сыном, когда ей показалось, что он
вознамерился претворить в жизнь свое теоретическое язычество.
Совершенно неуместную путаницу в незатейливую
историю происхождения Ницше внесла версия о том, что на
самом деле их род восходит к польской знати. Согласно
«семейному преданию», их аристократическими предками
были протестанты, бежавшие в Германию от
католического преследования на родине. Ницше настаивал на этой
версии уже ближе к концу жизни. В 1888 г. он писал Георгу
Брандесу: «Моими предками были польские дворяне (Ниц-
17
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
кие); похоже, тип хорошо сохранился, несмотря на три
поколения немецких матерей». То же самое он повторил и кое-
где еще, а именно в «Ессе Homo». Брандес, знавший
историю рода только со слов самого Ницше, повторил ее в
некрологе, дав ей тем самым путевку в жизнь. В своих
исследованиях Макс Охлер, ведавший одно время архивом
Ницше в Веймаре, доказал — как и подозревали
современники Ницше — ложность этого положения. Именно Охлер
выявил двести предков, имевших отношение к философу, и
указал, что все они носили немецкие имена, даже по
женской линии. Согласно Рихарду Блунку1, фамилия Ницкие
не является польской, тогда как фамилия Нищие
чрезвычайно распространена в Центральной Германии, как в этой
форме, так и в некоторых сходных с ней (Nictsche, Nitzke).
Как многие распространенные фамилии, она происходит от
обычного имени, в данном случае Nikolaus (Nicholas),
которое, будучи сокращено до Nick, ассимилировалось со
славянским Nitz (произносится Нии,ш) и стало сначалаNitsche,
а потом и Nietzsche. Очевидно, что сам Ницше не изучал
своей родословной, и его замечание о «трех поколениях
немецких матерей», похоже, чистый вымысел. Нельзя с
уверенностью указать причины его желания верить в то, что его
семья — лютеранских священников — имела предков в
лице польского дворянства. Лично мне, однако, кажется,
что ему хотелось прослыть не столько дворянином,
сколько поляком; иначе говоря, его поддержание этой легенды
было частью его кампании против Германии, «европейской
равнины», нации, «на совести [которой] все тягчайшие
преступления против культуры за последние четыре
столетия...» (ЕН-В, 2). Эта же нация в течение первого года со
дня публикации его книги «Человеческое, слишком
человеческое» купила всего 170 ее копий, а реакция на первые три
тома «Заратустры» была так холодна, что ни один издатель
не шел на риск взяться за четвертый. Десять лет — вплоть
1 Blunck Richard. Friedrich Nietzsche. Kindheit und Jugend. Basel, 1953.
S. 16.
18
дитя
до 1888 г. — он потратил на то, чтобы издать несколько
произведений, благодаря которым он имел все основания
стать крупнейшей фигурой в немецкой литературе и
философии того времени. Однако ничего подобного не
произошло: он сталкивался с молчанием и равнодушием, и его
справедливый гнев за такое отношение обернулся в последний
год его душевного здоровья слепой, безотчетной
ненавистью. Теперь он не признавал в немцах ничего, кроме
преступлений. Никто, говорил он, никогда не писал на
немецком языке так прекрасно, как Гейне и Ницше, причем Гейне
был еврей, а Ницше — поляк.
2
Ницше родился 15 октября 1844 г. в Рекене. Его
появление на свет совпало с датой рождения короля Пруссии,
перед которым благоговел пастор Ницше, и ребенок
получил имя Фридрих Вильгельм в честь короля. В дальнейшем
у пастора и его жены родилось еще двое детей: 10 июля
1846 £. — дочь Элизабет и в феврале 1848 г. — второй
сын, Иозеф, умерший в младенчестве.
Приход, в котором молодой Фриц провел первые пять
лет жизни, находился в сердце сельской природы.
Окруженный крестьянскими хозяйствами, он и сам был своего
рода фермой, с фруктовым садом позади него и скотным
двором перед ним. За скотным двором был палисад, а за
изгородью — место, которое представлялось ребенку
раем: четыре полных рыбы пруда, окруженные ивами.
Именно здесь он проводил большую часть летнего
времени. Единственный городок неподалеку, в получасе
ходьбы, был Лютцен, место сонное, просыпавшееся только с
ежегодной ярмаркой, визит на которую служил жителям
Рекена единственным предлогом раз в году покинуть свою
деревню. Городок, находившийся в Саксонии-Анхальт,
бывшей ранее территорией Восточной Германии,
по-прежнему столь же невелик; в годы Ницше он располагался
19
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
в сугубо сельской местности в окружении деревушек, для
которых служил рынком и «столицей».
Наверное, нет необходимости говорить о том, что
революционные волнения 1848—1849 гг. мало затронули Ре-
кен. В своих записках «Aus meinem Leben»1 («Из моей
жизни») Ницше отмечает, что видел повозки, набитые
веселыми людьми, которых он принял за повстанцев; с
поднятыми знаменами они мчались по дороге мимо приходской
церкви. Известно, что пастор Ницше осуждал восстания как
акты крайней неблагодарности по отношению к его
возлюбленному королю. Попутно вспомним, что основным
доводом обвинения Вагнера на судебном процессе об его участии
в Дрезденском восстании в мае 1849 г. была его
неблагодарность королю Саксонии, который спас его от нищеты,
дав место дирижера в Королевской опере.
Но все это никак не касалось маленького Фрица.
Монотонная жизнь, привычная череда буден, в которых если
что-то и менялось, то только погода, надежный дом,
предназначенный, видимо, стоять вечно, — вот фрагмент
детства, который Ницше пережил за свои первые четыре
года. Идиллия нарушилась, когда пастор Ницше заболел
и умер в возрасте 36 лет. Вероятно, это стало главным
событием в жизни Ницше; нет более ни одного другого
события, запись о котором могла бы пролить свет на
возможную причину, по которой в последующие годы для
него стало невозможным ни пребывать в родном доме, ни
создать свой собственный, ни прочно обосноваться где бы
то ни было. Если окинуть взглядом его жизнь в целом,
ничто так не поражает, как контраст между совершенно
неподвижным, домашним, локализованным
существованием его ближайших и более отдаленных предков и его
собственной хронической неприкаянностью. Сын глубоко
национальной, с глубокими корнями семьи стал лишенным
1 Этот документ появился между 18 августа и 1 сентября 1858 г., как раз
перед тем, как Ницше покинул дом, чтобы стать соискателем на место в
Пфорташуле. Он хотел записать все, что мог припомнить о детстве, прежде
чем с ним расстаться.
20
дитя
корней космополитом. Это вряд ли можно списать, как
иногда полагают, на счет слабого здоровья, донимавшего
его в последующие годы; наоборот, слабый здоровьем
человек, не в пример человеку крепкого здоровья,
вероятно, старался бы избегать путешествий и бытовой
неустроенности. А Ницше, как будто инстинктивно, избегал
малейшего повода, который мог бы привязать его к
определенному месту. Он никогда не был женат и не стал
отцом, он избегал отношений с этими институтами, которые
большинству мужчин, даже самых блестящих,
обеспечивают твердую жизненную почву. Странно ли усматривать
объяснение этому факту во внезапном и, как, должно
быть, он воспринял, катастрофическом падении его
самого первого дома?
Он был горячо привязан к отцу, и его утрата нанесла
ему тяжелейшую травму. «Из моей жизни» рисует нам
сохранившийся в его душе образ; здесь же мы находим
свидетельство тех переживаний, которые переполняли сына
во время болезни и смерти отца. Пастор Ницше, читаем
мы, был «совершенным образцом сельского священника».
«Одаренный высоким духом и душевной теплотой,
наделенный всеми добродетелями христианина, он жил
мирной, простой, счастливой жизнью, любимый всеми, кто его
знал. Его хорошие манеры и веселый нрав были
украшением всякого общества, куда его приглашали... Часы
досуга он посвящал чтению и музыке и как пианист достиг
заметного мастерства, особенно в исполнении свободных
вариаций (то есть импровизации)».
Столь же хвалебное описание мы находим и в «Mein
Lebenslauf» («Краткой автобиографии»), еще одном
автобиографическом очерке, написанном в 1861 г.:
«Я все еще храню в душе его живой образ: высокая,
стройная фигура, тонкие черты лица и добрая, приятная
манера держаться. Всеми любимый и повсюду желанный
21
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
гость, как за свой остроумный разговор, так и за доброе
сочувствие, чтимый и любимый крестьянами как
священник, чьи слова и поступки были равно полезны, самый
заботливый муж и любящий отец — он был образцом
совершенства сельского священника».
Над самым известным фрагментом из воспоминаний
Ницше об отце, написанном в 1888 г., посмеивались, как
над явной идеализацией:
«...Он был утонченный, любящий и болезненный, как
существо, коему предначертано нанести мимолетный визит
в этот мир, — любезное напоминание о жизни, нежели
собственно жизнь» (ЕН, 1,1).
Однако это не столько идеализированный образ
забытого отца, сколько портрет больного, умирающего
человека — пастора Ницше в последние девять месяцев
его жизни, каким он более всего являлся в памяти
своего 44-летнего сына. Настроение тех последних месяцев
лучше всего передано языком «Из моей жизни»:
«До той поры мы испытывали только радость и счастье,
жизнь наша текла безмятежно, как ясный летний день. Но
потом сгустились черные тучи, сверкнула молния, и удары
грома грянули с неба. В сентябре 1848 г. моего
возлюбленного отца внезапно постигла душевная болезнь. И мы, и он
надеялись на скорейшее выздоровление. В те дни, когда ему
становилось лучше, он просил нас позволить ему
проповедовать и возобновить уроки конфирмации, ибо его
деятельный дух не выносил праздности. Несколько докторов
пытались выяснить природу его болезни, но тщетно. Тогда
мы привезли в Рекен знаменитого доктора Опольцера,
бывшего тогда в Лейпциге. Этот удивительный человек сразу
же распознал, где поселилась болезнь. К нашему общему
ужасу, он поставил диагноз — размягчение мозга. Хотя и
не безнадежный, случай был, несомненно, очень тяжелый.
22
дитя
Моему дорогому отцу приходилось переносить страшную
боль, но состояние не улучшалось, а становилось день ото
дня все хуже. Он пролежал в постели до июля 1849 г.; и
вот приблизился день его ухода. 26 июля он впал в
глубокое забытье и лишь временами приходил в сознание...
Скончался он 27 июля 1849 г. Когда я проснулся в то утро,
повсюду вокруг я услышал плач и всхлипы. Моя дорогая
мать вошла в слезах и простонала: «О боже! Мой дорогой
Людвиг умер!» Хотя я был еще очень мал и неопытен, я
имел представление о том, что такое смерть: меня
пронзила мысль, что я навсегда разлучен с моим возлюбленным
отцом, и я горько заплакал. Дни, которые затем
последовали, были полны слез и приготовлений к похоронам. О
господи! Без отца я осиротел, моя дорогая мать овдовела!
2 августа бренные останки моего дорогого отца были
преданы земле... Церемония началась в час дня и
сопровождалась звоном колоколов. О, пустой лязг этих колоколов
навсегда останется у меня в ушах, мне никогда не забыть
мрачной мелодии гимна «Jesu meine Zuversicht»!»
Эти события произошли, когда мальчику было 4 года,
а записал он их в 14 лет. За эти 10 лет чувство потери и
ощущение, что мир рушится, похоже, усилились, а не
притупились1.
Природа болезни пастора Ницше и ее причина горячо
обсуждались в литературе, посвященной Фридриху Ницше,
так как его самого постигло помутнение рассудка. И это
1 Цитата из книги «Из моей жизни» — это только отрывок: в деталях
описаны похороны, названы даже имена священников. Похоже, Ницше
запомнил сцену с детальной точностью. В книге «Краткая автобиография»
смерть отца описана вновь, на сей раз со стихами, посвященными памяти
почившего:
Ach sie haben
Einen guten Mann begraben,
Und mir war er mehr!
(«Ах, вы похоронили хорошего человека, а для меня он был еще лучше!»)
И это спустя 13 лет после смерти отца, которого он знал только в
младенчестве!
23
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
было мощнейшим аргументом публики, пережившей
настоящий шок с выходом в свет его произведений 1880-х и
1890-х гг., начиная с работы «Человеческое, слишком
человеческое»; многие читатели испытывали явный соблазн
приписать эти труды сумасшествию автора.
Несостоятельность такой позиции я попытаюсь доказать, когда мы
коснемся вопроса об истинных причинах болезни Ницше. На
мгновенно возникающий вопрос о том, не мог ли он
унаследовать психическое нездоровье от отца, ответом может
быть только твердое «нет». Сведения, чем именно страдал
пастор Ницше и от чего он умер, весьма скудны. С
уверенностью утверждать можно лишь то, что он временами
страдал от непродолжительных припадков эпилепсии, которые
сам он таковыми не считал и которые не сочли достаточно
серьезными, чтобы предписать лечение и постоянный
надзор. Примерно за девять месяцев до смерти пастор стал
жертвой какого-то нервного или мозгового недуга,
оказавшегося фатальным. Много позже, уже в клинике в Базеле,
Франциска показала, что он умер от «чего-то в мозгу,
вызванного падением с лестницы», но что при этом он никогда
не был «сумасшедшим». Термин gemütskrank, который
Ницше употребил при описании состояния, в которое впал
его отец, означает психическое расстройство или
меланхолию. Это очень расплывчатый термин и не обязательно
означает (строго говоря, не должен означать)
умопомешательство в клиническом смысле. Конечно, сам Ницше никогда
не был gemütskrank, умственно больным, он был
geisteskrank, то есть душевнобольным. Более того, едва ли
четырехлетнему мальчику позволялось неограниченное общение
с отцом в пору «умственного расстойства» последнего; мало
вероятно и то, что он сумел осознать гораздо больше, чем
просто инстинктивно почувствовать, что что-то не так.
Пресловутая ненадежность и нечестность Элизабет в
вопросах биографии отсекает всякую возможность
ссылаться на любые ее свидетельства — ив подтверждение,
и в опровержение фактов в тех случаях, когда мнения
расходятся. В написанных ею биографиях брата она делает
24
дитя
все возможное, чтобы отвести подозрения относительно
душевной болезни отца, но делает это таким образом, что
эти подозрения кажутся еще более основательными: она
подтасовывает, к примеру, фрагмент текста в «Из моей
жизни», в котором Ницше писал, что его «любимого отца
внезапно постигла душевная болезнь». Когда она в
первом томе биографии 1895 г. приводит этот отрывок, он
уже звучит так: «Моего любимого отца внезапно
постигла серьезная болезнь в результате падения». Этот пример
типичен для методов работы Элизабет. Наиболее честным
и разумным способом было бы процитировать слова
Ницше, а затем пояснить, что они неверны, приведя слова
матери как отражающие действительное положение дел и
приписав ошибку Ницше его молодости и неспособности
понять, что же на самом деле происходило с отцом. Она
не только не сделала этого, исказив текст рукописи
Ницше, но и не уничтожила его, а оставила в архиве с тем,
чтобы позже он мог быть опубликован без искажений.
Утверждение о том, что пастор Ницше некогда
«помутился рассудком», можно считать в лучшем случае
неокончательным. Тем более нельзя настаивать, что
свою недоказанную болезнь он передал сыну. Это
чистое предположение: зная, что Ницше постиг
психический коллапс, что он, несомненно, был душевно болен, и
одновременно узнав, что его отец скончался от
«размягчения мозга», кто-то пришел к вполне допустимому, но
не вполне обоснованному выводу о связи этих фактов.
Уж если кто и дает основания полагать, что доля
безумия от отца все же передалась сыну, так это Роде. В
письме Овербеку от 4 августа 1889 г. (то есть спустя
восемь месяцев, как Ницше помутился рассудком) он
мягко замечает, что Элизабет, скорее всего, тоже носит
в себе «семена безумия», и добавляет: «С ней всегда
было не все в порядке». (Роде знал о предположении,
что пастор Ницше страдал какой-то болезнью головы.)
К счастью, его страхи относительно умственного
здоровья Элизабет не подтвердились. Как бы кто ни пори-
25
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
цал ее поведение, ни противился ее мнениям, ни
сомневался в ее суждениях, но ничто из этого нельзя
приписать умопомешательству.
Даже если допустить, что коллапс, случившийся в
последние месяцы 1888 г., лег тенью на все, происходившее
ранее, совершенно не оправдано распространять это на его
труды и подвергать сомнению их ценность.
Последовательный ход мысли прослеживается начиная с работы
«Человеческое, слишком человеческое» и чем ближе к концу
творческой деятельности философа, тем его мысль не
только не слабеет, но становится убедительнее. Необычность
идей, а вовсе не дефицит логики в его произведениях — вот
что отдалило современного ему читателя, а факт
психического нездоровья философа позволил и вовсе скинуть со
счетов его идеи как продукт неуравновешенного ума.
Вернемся к семейству церковного прихода Рекен. За
ударом, нанесенным смертью отца, в первые дни 1850 г.
последовала вторая трагедия. Внезапно умер маленький
Иозеф — по словам матери, от «спазма во время
прорезывания зубов». И есть вероятность, что здесь есть связь
с признаками легкой эпилепсии в организме отца.
В апреле того года на смену пастору Ницше должен был
приехать новый священник, и поэтому семья должна была
освободить дом. У бабушки Ницше были тесные связи с
городом Наумбургом-на-Саале; там семейство оправилось,
чтобы начать новый этап своей жизни. Наумбург в то
время все еще был обнесен крепостной стеной; имевшиеся здесь
пять ворот закрывались в десять вечера и оставались
запертыми до пяти часов утра. В некотором роде Наумбург был
так же тих и консервативен, как Рекен, где жизнь текла без
каких-либо существенных изменений вот уже более века. И
здесь Ницше прожил с шести до четырнадцати лет. Не
считая его, семья теперь полностью состояла из женщин, и мы
вкратце и по существу проследим их судьбы в годы
пребывания в Наумбурге.
26
дитя
Летом 1855 г. умерла тетя Августа, а в апреле 1856-го
за ней последовала бабушка Эрдмуте. Получив наследство
от бабушки, Франциска теперь обрела свой собственный
дом, и летом 1856 г. она с двумя детьми перебралась к
друзьям, а вскоре и в свою недвижимость. Ей было всего
тридцать; она больше никогда не вышла замуж, но это
была скорее нерасположенность к браку, нежели
отсутствие таковой возможности. Может создаться ложное
впечатление о домашней обстановке, окружавшей в то время
Ницше, если представлять его живущим с «вдовой
матерью», со всеми присущими этому понятию атрибутами,
вроде угрюмого уныния и сверхбережливости. На самом
деле только теперь, освободившись от гнета старших
женщин, она вновь вполне обрела ту энергию и веселость,
которые были столь характерны для нее в девичестве.
Летом 1858 г. она в третий раз поменяла место
жительства, переехав в дом номер 18 по Вайнгартен, где так и
осталась до конца жизни. Именно из этого дома, впервые
покидая мать, Ницше уезжал, чтобы поступить в школу-
интернат Пфорташуле, и в этот же дом он вернулся
через тридцать один год, чтобы принять на себя заботу о
матери вплоть до ее кончины.
Вскоре после переезда в Наумбург Ницше поместили
в местную школу для мальчиков; ему было почти 6 лет, и
он уже умел читать и писать, обученный грамоте матерью.
Здесь он встретил первых друзей, двух наумбургских
мальчиков, Вильгельма Пиндера и Густава Круга.
Бабушка Пиндера была подругой бабушки Ницше и одной из
самых ярких личностей городка; его отец, член
городского совета, был любителем литературы, и именно в его доме
Ницше впервые услышал о Гете: советник Пиндер читал
«Novelle» Гете трем мальчикам. Круг был кузеном
Пиндера; его отец, известный музыкант-любитель, принимал
у себя гостей-музыкантов, приезжавших выступать в
Наумбург, — таким образом, природная склонность Ницше
к музыке получила мощную поддержку в том, что ему
доводилось слышать во время таких гастролей.
27
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
Те, кто был склонен отрицать в Ницше все, вплоть до
его человеческих достоинств, обвиняли его в
неспособности дружить. Это совершенная неправда. У него был друг
всей его жизни в лице Овербека; если постепенно угасла его
глубокая дружба с Роде, когда разошлись их пути, то, тем
не менее, она продолжалась столь долго, сколь обычно
может вообще длиться крепкая дружба. Более того, никто не
высказывал письменно похвал дружбе с такой силой и
красотой, как Ницше. Однако следует признать, что в друге
он очень часто искал в первую очередь утверждение самого
себя, отклик себе либо слушателя своим рассуждениям.
Трудно было ждать от него привязанности к кому-либо
только из-за чисто человеческих качеств этих людей (Овер-
бек является абсолютным исключением). В этом отношении,
как и во многих других, он был так похож на Вагнера, что
высказывание Эрнста Ньюмана о том, чего ждал от друга
Вагнер, полностью применимо и к Ницше:
«Ему нужен был приемник, резервуар для
вулканического извержения его идей и поддержка в их реализации; и
настоящий друг, с его точки зрения, был тот, кто с
наибольшей отдачей исполнял роль слушателя или помощника. Он
был, в некотором смысле, подобен человеку, который
возвышается над собратьями и чересчур огромен для обычной
дружбы: не может быть настоящей дружбы между
центральной горой и окрестными холмами — один может
смотреть только снизу вверх, другой — сверху вниз. «Скорбный
гений, вершащий закон, — весьма справедливо замечает
Ромен Роллан, — словно заявляет, что великий ум
нуждается в сильной дозе посредственности другого, чтобы
удовлетворять потребностям дружбы. Для гения возможна лишь
преходящая дружба с равными ему»1.
Однако это вовсе не означает, что гениальный человек
не способен на дружбу вообще, и утверждение Роллана
1 Newman Ernest. The Life of Richard Wagner. Vol 1. London, 1933.
P. 89.
28
дитя
не следует понимать как утверждение, что все, чего
желает такой человек, — это поклонение. Ближайшим
товарищем Ницше после его разрыва с Вагнером был Петер
Гаст, человек значительно более скромного интеллекта
(что Гаст прекрасно понимал), но преисполненный
восхищения личностью Ницше. У Гаста был красивый четкий
почерк; почерк Ницше никогда не был хорош и
становился еще хуже по мере потери зрения, пока не превратился
в совершенно неразборчивые каракули, расшифровать
которые было под силу лишь Гасту. Трудно представить, как
вообще Ницше сумел бы привести свои рукописи в
пригодное для издателя состояние без помощи Гаста.
Потомки во многом обязаны поистине неимоверным усилиям
Гаста как копииста, так никогда и не получившего
должной благодарности. Более того, Гаст готов был бросить
все, чем бы он ни занимался, чтобы по первому зову
прийти Ницше на помощь. Если бы при таком положении дел
Ницше мог принимать преданность Гаста без малейшего
чувства обязанности ему, то в глазах любого человека он
выглядел бы действительно исчадием неблагодарности,
каковым его подчас и рисуют. На деле же он глубоко
переживал это чувство. По профессии Гаст был
композитором, и хорошо известно, что Ницше сделал все, что мог,
для становления его карьеры, устраивая или пытаясь
устроить концерты его музыки повсюду, где только
представлялась возможность, и с высокой похвалой отзываясь о
Гасте как о «втором Моцарте», хотя на деле таланты его
друга были весьма посредственны. Критики Ницше,
естественно, поднимали на смех экстравагантность его
панегириков произведениям Гаста, заявляя, что не видят в этом
ничего, кроме доказательства абсурдности его претензий
на роль эстетического судьи. Как правило, те же
джентльмены заявляют и о его неспособности дружить.
Его юношеская дружба с Пиндером и Кругом была
в определенном смысле моделью того, что вообще
могла собой представлять такая дружба. Ницше,
безусловно, доминировал, и это было неизбежно (в противном
29
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
случае эти отношения, возможно, не состоялась бы
вовсе), но причиной тому конечно же являлись его более
высокая одаренность по сравнению с двумя его
приятелями. Хотя он и не был вундеркиндом, его
интеллектуальные и артистические способности были заметны с
первого взгляда, и нет ничего удивительного, что ему
выделили бесплатное место в знаменитой Пфорташуле.
Такая ситуация в расстановке сил, должно быть,
устраивала и двух его приятелей, поскольку эта дружба
продолжалась не только в мальчишеские годы; она
выдержала период расставания, связанный с отъездом Ницше
из Наумбурга в Пфорташуле, и впоследствии наиболее
ярко проявилась в создании малого литературного
общества «Германия». Это общество друзья основали в
поддержку развитию искусства, и проработало оно целых
три года. Наконец, именно Круг познакомил Ницше с
творчеством Вагнера. Друзья перестали видеться и
помогать друг другу только тогда, когда Ницше уехал из
Пфорта в Бонн, а затем в Лейпциг, и его юношеский
период на том завершился.
Школьные годы в Наумбурге протекали без особых
приключений. Весной 1851 г. Ницше и его два друга были
переведены из городской школы в частную
подготовительную школу, где они проучились вплоть до 1954 г. и где
Ницше получил первые знания в латыни и греческом.
Затем они продолжили обучение в школе более высокой
ступени, Domgymnasium. По прошествии четырех лет
обучения в гимназии Ницше наградили бесплатным
местом в Пфорташуле. Он покинул гимназию по окончании
летнего семестра в 1858 г. и 5 октября приступил к
занятиям в Пфорташуле. Он не испытывал трудностей в
обучении. Будучи очень прилежным учеником, он отнюдь не
был книжным червем. Судя по характеру его поведения в
последующие годы, можно предположить, что он
старался избегать неровностей улицы, боясь споткнуться и
30
дитя
упасть, так как уже тогда давала о себе знать его
близорукость1; она же стала препятствием к участию мальчика
в спортивной жизни школы, но он всегда с
удовольствием занимался любыми упражнениями на свежем воздухе,
которые, как он чувствовал, были ему по силам. Еще в
раннем возрасте он научился плавать и всегда оставался
пловцом незаурядных способностей. Также он
превосходно катался на коньках и в своих длительных поездках по
стране отмечал, что немцы всех возрастов имеют особое
пристрастие к этому виду упражнений. Он был крепкого
сложения и отнюдь не слабым физически. Эти
внутренние резервы помогали ему год за годом бороться с
болезнью, которая уже сказывалась в его юношеском организме.
Слабым местом его здоровья было зрение. Уже
поступив в школу, он был вынужден носить очки,
которые затем не снимал всю жизнь. Несмотря на то что
его не постигла полная слепота, он всегда жил под
угрозой полной потери зрения. Чтение и письмо в том
объеме, который он выполнял, будучи еще мальчиком,
конечно же отрицательно сказались на его здоровье и
стали одной из причин мучительных головных болей,
которые тогда начали донимать его и от которых он уже
никогда полностью не избавился. Летом 1856 г. из-за
проблем со зрением и постоянных головных болей его
даже на время освободили от школьных занятий.
Хотя Пфорташуле находилась всего в часе ходьбы от
Наумбурга, переезд туда Ницше знаменовал конец целой
эпохи его жизни и начало новой. До 14 лет он жил
уединенной жизнью: защищенный любовью своей нежной
матери, поначалу в крошечной деревушке, потом в городке
побольше, но столь же тихом и спокойном, он мало что
знал о реальности большого мира, и спартанская
дисциплина в Пфорташуле составила резкий контраст той
уютной домашней свободе, в которой он до сих пор рос. Но
1 Элизабет тоже была близорука: как раз эту черту оба ребенка
действительно унаследовали от отца.
31
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
прежде чем мы последуем за ним в Пфорташуле, давайте
посмотрим, чем в эти ранние годы жил нарождающийся в
нем художник и философ.
3
Многие философы писали стихи, и многие поэты
философствовали, но только в Платоне интеллектуальные и
художнические способности сочетались на столь же высоком
уровне, на каком они сказались в Ницше. Однако этот
двойной талант повредил его репутации философа, поэтому
его и поныне порой приходится отстаивать прежде всего как
философа, а не поэта и сочинителя афоризмов,
обуреваемого несколькими навязчивыми идеями. Его великолепная
память обернулась против него же: мозг удерживает
краткие выдержки, но вне контекста они иногда кажутся почти
бессмысленными и всегда подвергаются опасности быть
неверно истолкованными. Он обладал несомненным
художническим темпераментом, и потому его философские труды
лишены определенной чистоты в том смысле, что они суть
сплав разума и чувства, логики и риторики, а порой и
Dichtung und Wahrheit (поэзии и правды. — Примеч.
пер.). Это приводит в замешательство заурядный ум,
которому непременно нужно уточнять, «что же Ницше имеет в
виду». Если Ницше-философ за столь долгий срок
обучения не поддался обработке стандартами наших
университетов, то ответственность за это лежит именно на Ницше-
художнике. Ибо когда философ в нем диктовал содержание,
художник диктовал форму, которая отстаивала правду
искусства вопреки предрассудкам логической ясности. Таким
образом, он создавал лишние сложности для тех, кому
неймется «разрешить» проблемы произведений Ницше (а
попутно, видимо, и «порешить» самого автора).
На самом деле эти минусы были одновременно
плюсами, художник в Ницше был его прибежищем. И
именно потому, что он был столь же художник, сколь и мыс-
32
дитя
литель, ему удалось избежать пороков немецкой
философии. А поскольку он постоянно общался с тем
лучшим, что в этой философии было ценного и глубинного,
то сумел избежать неряшества мысли и не скатился до
уровня остряка-афориста. Если перебрать и перечислить
все недостатки, присущие этим двум противоположным
классам мыслителей, то станет ясно, на каком острие
балансировал Ницше.
Минусы немецкой философии связаны с ее
профессионализмом: замкнутая атмосфера, книги вместо жизни,
неспособность увязывать открытия с миром как таковым,
презрение к хорошему стилю, инбридинг, недостаток
общей культуры, серьезность до отвращения. Дефекты
культурного philosophe лежат, напротив, в области
непрофессионализма, дилетантизма: слишком обширные интересы,
поверхностность, культивация хорошего стиля как
предела достижений, принесение истины в жертву остроумию,
отсутствие интеллектуальной честности, философствование
вместо философии, непоследовательность,
противоречивость. Ницше удается балансировать между этими двумя
типами мышления и двумя способами выражения: он
глубок, но не заумен; он оттачивает стиль, но сочетает его с
хорошей мыслью; он серьезен, но не зануден; он тонкий —
но не эстетствующий — искусствовед и культуролог; он
афористичен и склонен к эпиграмме, но основанием его
афоризмов и эпиграмм является твердая философская
позиция; самый остроумный из философов, он редко
поддается соблазну пожертвовать правдой ради красивой
фразы; он очень многосторонен, но никогда не упускает из
поля зрения свои основные интересы. Он достигает,
особенно в последних работах, точности и ясности, редко
встречающейся в немецкой письменной культуре: ни один
мыслитель подобной глубины не владел столь совершенно
инструментом выражения.
Ницше был не по годам интеллектуален, но до поры до
времени не оригинален, и ему было уже 34 года, когда
появилась первая из его значительных работ — «Челове-
2 Р.Дж. Холлипгдейл 33
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
ческое, слишком человеческое». Самое раннее его
творчество — стихи и другие сочинения наумбургского периода
вплоть до 1858 г. — на редкость неоригинально: темы и
их разработка банальны и совершенно лишены той
спонтанности, которая присуща даже гораздо менее
талантливому ребенку в его первых творческих попытках. В
автобиографических записках «Из моей жизни» (1858) Ницше
делит свое прежнее поэтическое творчество на три
периода. Самые ранние стихи в основном представляют собой
описание природы и драматические сценки, изложенные в
форме неупорядоченного и часто нерифмованного стиха
(«Шторм на море», «Спасение», «Кораблекрушение»,
«Буря»); потом он попытался привнести форму и метр в
этот хаос, но добился лишь скуки («Андромеда»,
«Аргонавты», «Дриопа»); наконец, он предпринял осознанную
попытку объединить формальные качества второго
периода со страстностью первого («Куда?», «Жаворонок»,
«Жалоба соловья», «Прощание Гектора», «Барбаросса»).
В 1857 г. он написал стихотворение на осаду
Севастополя: вместе с Пиндером и Кругом он разыгрывал
Крымскую войну в саду за домом, испытывая при этом глубокое
сочувствие к русским. Он перечисляет сорок шесть
стихотворений, написанных с 1855-го по 1858 г., и
оговаривает особо, что это только выборка; всего же он написал,
видимо, около сотни стихов, однако они не отмечены
знаком врожденного писательского дара. В записках «Из
моей жизни», повествуя о своих ранних поэтических
усилиях, он замечает: «Так или иначе, но в мои планы
всегда входило написать маленькую книжку и потом читать
ее самому» — детское выражение нарциссизма
подлинного художника, который создает что-то, чтобы потом
любоваться созданным. Другие юношеские произведения —
это две короткие пьесы на классические сюжеты,
написанные в содружестве с Пиндером, а в 1856 г. он начинает
роман под названием «Смерть и разрушение». Наиболее
убедительным творением было уже не раз упоминавшееся
«Из моей жизни», написанное простой, бесхитростной
34
дитя
прозой, когда говорится то, что хочется сказать, и ничего
более, оно представляет довольно успешный опыт для
подростка, не достигшего еще 14 лет.
Ценность этих юношеских творений для изучения
феномена Ницше состоит в том, что они дают исследователю
точку отсчета: в гораздо большей степени, чем все
вторичные источники, они свидетельствуют о том, насколько
набожен был мальчик. Вряд ли можно ожидать, что на тот
момент он таил в душе серьезные сомнения, и еще менее —
что он мог формулировать свои несогласия. Напряженность
его религиозного чувства поразительна:
«Я уже испытал так много — радость и несчастье,
веселье и печаль, — но во всем Господь бережно вел меня,
как отец ведет свое маленькое, слабое дитя... Я для себя
твердо решил навсегда посвятить себя служению Ему. Да
вселит в меня возлюбленный Господь силы и волю
осуществить мои намерения, и да защитит Он мой жизненный
путь! Как дитя, я верю в Его милосердие: Он защитит всех
нас, так что никакое несчастье не постигнет нас. Да
исполнится его воля! Все, что он пошлет, я с радостью приму —
счастье и несчастье, бедность и богатство, и даже смело
взгляну в лицо смерти, которая однажды всех нас
объединит в вечной радости и блаженстве. Да, дорогой Господь,
пусть лик твой воссияет над нами навеки! Аминь!»
Глава 2
ШКОЛЬНИК
Молодость всегда неприятна,
поскольку тогда либо невозможно, либо
неразумно быть продуктивным в каком
бы то ни было смысле.
Ф. Ниише. Человеческое,
слишком человеческое
1
Пфорташуле была школой трудной и строгой, но это
было как раз то, что требовалось Ницше в 14 лет. Как и
в большинстве частных школ того времени, ее устав был
составлен так, словно предназначался для тюрьмы, где
содержали закоренелых преступников. Но думается,
ошибочно полагать, что эти правила могли повредить
подростку, которому следовало каким-то образом понять, что
праздность и счастье — вовсе не одно и то же, и
научиться этому у людей, искренне желающих ему добра. Ницше
оставил нам описание типичного школьного дня в Пфор-
та1. Учеников поднимали в четыре часа утра, к пяти им
следовало привести себя в порядок; занятия начинались в
шесть и продолжались в той или иной форме до полудня.
Они возобновлялись в 1.15 пополудни и длились до 15.50.
Вечером проводились еще какие-либо занятия; отбой
давался в 21.00. Поведение за трапезой подчинялось
жестким правилам, и в течение всего дня ученику оставалось
чуть более часа, когда он был предоставлен самому себе.
Этому распорядку следовали пять дней в неделю. Воскре-
Дневник Пфорташуле, запись от 9 августа 1859 г.
36
школьник
сенье было выходным, и был еще один день, когда
обитатели интерната могли поваляться в постели на час
дольше, после чего занимались повторением пройденного за
неделю. И конечно же были долгие школьные каникулы,
когда можно было оправиться и поднабраться сил.
Поначалу Ницше активно невзлюбил такую жизнь. Он
тосковал по дому. В феврале 1859 г., после четырех месяцев
пребывания в Пфорташуле, его охватило неодолимое
желание выбраться отсюда и вернуться домой; такой же
приступ он испытал по возвращении в школу после летних
каникул того же года. Он поделился своими проблемами
с наставником по имени Буддензиг, и тот помог ему
справиться с ними1, после чего Фридрих стал почти
образцовым школьником и погрузился в изучение предметов,
которым в школе уделялось особое внимание.
Основной интерес Пфорташуле лежал в области
греческого языка и латыни и несколько в меньшей степени в
сфере немецкой классики. По свидетельству Рихарда
Блунка, школа была поистине миром книг: ученики
вдыхали воздух не современной Европы, а Древней Греции и
Рима, а также Германии времен Гете и Шиллера.
Совершенно естественно поэтому, что, как выпускнику
Пфорташуле, Ницше была уготована судьба профессора
классической филологии, поскольку из всей программы данного
заведения именно этот раздел знаний он осваивал
наилучшим образом. Математика и естественные науки
значительно уступали гуманитарным и отходили на второй план.
Математика давалась Ницше хуже всех прочих предметов,
и, если бы не его высокая репутация в классических
дисциплинах, он провалился бы на выпускных экзаменах из-
за слабой письменной работы по математике. (Есть
версия, что экзаменаторы были уже на грани решения
поставить неуд., когда один из них воскликнул: «Но
позвольте, господа, неужели мы и в самом деле собираемся
1 Дневник Пфорташуле, запись от 6 августа содержит перечень
противоядий от ностальгии по дому, которым научил мальчика Буддензиг.
37
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
провалить лучшего из всех, кто когда-либо обучался в
Пфорташуле?») В других неклассических дисциплинах
Ницше тоже не блистал. Следуя своему намерению стать
теологом, он изучал древнееврейский язык, но так и не
сумел освоить грамматику. Был он посредственным
учеником и в современных языках: Шекспира и Байрона он
читал в переводах на немецкий, так и не сумел вполне
овладеть итальянским (даже потом, живя в Италии), а по-
французски читал только с помощью словаря.
Его интеллектуальная энергия не находила выхода в
учебе, и, чтобы как-то реализовать свои развивающиеся
способности, он предложил своим наумбургским
приятелям Пиндеру и Кругу организовать
литературно-музыкальное общество под названием «Германия», где можно
было бы слушать или читать друг другу свои сочинения и
затем обсуждать их. Общество открылось с должной
торжественностью 25 июля 1860 г., и следующие три года
друзья встречались достаточно регулярно, чтобы почитать
вслух то, что они написали, или исполнить музыку,
которую сочинили. Первое произведение Ницше для
«Германии» было музыкальным: пьесы для Рождественской
оратории. Затем последовали стихи и эссе, а в апреле
1862 г. появился его самый ранний философский очерк —
«Судьба и история».
В марте 1861 г. Круг представил обществу
«Несколько сцен из «Тристана и Изольды». «Германия»
подписалась на «Neue Zeitschrift für Musik», который в то
время настойчиво пропагандировал Вагнера и «новую
музыку», а также приобрела копию фортепьянного
переложения Бюлова партитуры «Тристана», вышедшего в
1859 г. Круг был уже большим почитателем Вагнера и
старался увлечь Ницше. Он исполнял несколько
отрывков из оперы, и Ницше, ставший к тому времени
прекрасным пианистом, порой подсаживался к клавиатуре и
пытался следить за незнакомой и очень сложной
партитурой, при этом оба молодых человека прилагали
максимум стараний, чтобы исполнить вокальные партии. Эти
38
школьник
встречи происходили в доме у Ницше, и Элизабет
вспоминает, какие кошмарные звуки доносились из гостиной,
когда шел процесс освоения. Круг также сделал в
обществе сообщение об увертюре к «Фаусту» и «Золоту
Рейна». Это было первое знакомство Ницше с
творчеством Вагнера. Поначалу оно озадачило его, хотя он
конечно же понимал, что их исполнение на пару с
Кругом «Тристана» едва ли позволяет достоверно судить о
произведении. Все годы учебы в Пфорташуле его
любимым композитором был Шуман, чей сдержанный
романтизм приходился ему более по вкусу, чем
неукротимая страстность (как он это тогда воспринимал) Вагнера
и Листа, и чьему примеру он следовал в собственных
попытках сочинять музыку.
Эта литературная и музыкальная деятельность велась
конечно же сверх всякого расписания, но учеба в школе
тоже начинала приносить плоды: к 1861 г. относятся
очерки о Гельдерлине и Байроне, и вплоть до октября 1863 г.
Ницше занимался продолжительными исследованиями саги
об Эрманарихе и северной мифологии в целом. Он уже
завершал работу над ними, когда состоялось его
знакомство с Карлом фон Герсдорффом, с которым он оставался
в дружеских отношениях многие годы. (Герсдорфф был
приходящим учеником и занимался с профессором
немецкого, который дал ему прочесть очерк Ницше об
Эрманарихе, выразив при этом свое одобрение; в результате этого
Герсдорфф преисполнился решимости познакомиться с
Ницше.) Фридрих также приобретал навыки в
постижении школьной критики. Он уже прежде читал Писание,
но некритическим взглядом верующего человека; теперь он
пытался подвергнуть его более вдумчивому, а
следовательно, и более критическому прочтению. Он начинал
понимать, что небрежное и невежественное чтение Библии не
оправдано, ведь к текстам, пришедшим через Грецию и
Рим, можно было теперь применить весь ресурс
приобретенного гуманитарного знания и исторической критики. На
Пасху 1861 г. он прошел конфирмацию вместе с Паулем
39
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
Дойссеном, также учеником Пфорташуле, и они
поддерживали отношения с Ницше вплоть до самой смерти
последнего. Недели, предшествовавшие конфирмации, оба
они, и Ницше, и Дойссен, пребывали в состоянии некоего
религиозного экстаза, быстро, однако, угасшего по
окончании церемонии и никогда более не посещавшего их. Дни
невинности Ницше были сочтены, и не прошло и года, как
он уже готов был объявить религию «плодом детства
человечества».
Это была не единственная произошедшая в нем
перемена. Наступил беспокойный переходный период, и
образцовый ученик начал выказывать признаки неповиновения.
Литературная манифестация этого явления вылилась в
прозаический фрагмент «Евфорион», написанный на
летних каникулах 1862 г. Его сохранил некий Гранье,
соученик Ницше, которому тот переслал рукопись 20 июля из
Горенцена, где в то время находился. Этот фрагмент —
отчасти циничное, отчасти сентиментальное свидетельство
юношеского отчаяния. В сопроводительном письме,
приложенном к рукописи, Ницше написал: «Я с
отвращением отказался от намерения продолжить эту историю после
того, как написал первую главу. Посылаю тебе рукопись
этого уродца, чтобы ты распорядился ею, как тебе будет
угодно»1.
В первые месяцы 1863 г. поведение его стало
решительно скверным, он начал плохо писать. Возникла
глубокая привязанность к довольно буйному молодому
человеку по имени Гвидо Мейер, у которого вечно были
трения со школьной администрацией. Вскоре Мейера и
вовсе исключили из школы. В письме матери и сестре
Ницше назвал день отъезда Мейера, 1 марта, «самым
печальным днем, который когда-либо довелось испытать
в Пфорта». У него вошло в привычку засиживаться
допоздна за разговорами и выпивкой с вышеупомянутым
Гранье, помимо прочих, после чего на утро следующего
1 Цит. по: Blunck Richard. Friedrich Nietzsche. P. 87.
40
школьник
дня он бывал несколько не в форме и не испытывал
особой любви к греческому языку. Кризис разразился в
воскресенье 14 апреля. Вместе с приятелем, неким
Рихтером, они отправились в ближайший городок Кезен и
на железнодорожной станции выпили по четыре пинты
пива; на обратном пути в школу они имели несчастье
натолкнуться на учителя, с негодованием увидевшего, что
Ницше не вполне трезв, а Рихтер и того хуже.
Последовало соответствующее наказание, и Ницше на время
лишили должности префекта (старосты), что потрясло
его до глубины души. В письме матери от следующего
вторника он дает обещание постараться привести себя в
надлежащее состояние. «Мне нет оправданий, — пишет
он, — кроме того, что я не знал, какова моя мера
(выпивки), и в тот день мы были немного возбуждены».
С этого момента он и впрямь, похоже, подтянулся —
во всяком случае, в книге наказаний Пфорташуле более
не было о нем никаких записей.
А вот в книге болезней он продолжает фигурировать.
Головные боли, начавшиеся у него с приходом в школу,
усиливались. Особенно сильный приступ произошел в
середине января 1861 г. и повторился в феврале, и
мальчика на две недели отпустили домой. Но мигрени
продолжали мучить его; в своем дневнике он пишет: «Я должен
к этому привыкнуть». В период с марта 1859 г. по май
1864 г. — пока он учился в Пфорташуле — в школьной
книге регистрации болезней есть записи о том, что он
переболел ревматизмом, катарами, простудами, закупорками
сосудов головы в дополнение к головным болям, причем
приступы болезней длились в среднем неделю.
Ницше окончил Пфорташуле 4 сентября 1864 г. Он
написал Valediktionsarbeit (выпускное сочинение) на тему
«Theognide Megarensi» («О Феогниде Мегарском»);
работа была написана на латыни и являлась, по сути, его
первым оригинальным филологическим исследованием.
Выпускной вечер состоялся 7 сентября, после чего он
написал самое лучшее из своих ранних стихотворений «Dem
41
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
unbekannten Gott» («Незнакомому Богу»). На следующий
месяц он был зачислен в университет в Бонне в качестве
студента филологии и теологии.
Что касается того, что в период учебы в Пфорта
Ницше порой был не прочь выпить, то, как известно, в те
времена пьянство в частных школах вообще было
обычным явлением. В Пруссии Пфорташуле заработала такую
же славу, что в Англии приобрела Регби, печально
знаменитая числом своих сильно пьющих студентов.
2
Окинув взором литературное творчество Ницше
времен Пфорташуле, можно заметить, что начали
формироваться стиль, идеи и восприятие зрелого Ницше. Для
начала заметим, что основной его интерес по-прежнему
составляла поэзия, но побуждение выразить
субъективные чувства уже соперничает с жаждой познания. «В
настоящий момент меня одолевает невероятная тяга
к знанию, к общей картине, — писал он в августе
1859 г., — ее пробудил во мне Гумбольдт. Если б
только она стала столь же постоянна, как моя преданность
поэзии!» А преданность поэзии постепенно
вознаграждалась: он выработал строго ритмический и
благозвучный стиль стиха, которым мог выразить свои истинные
переживания. В самом раннем из действительно стоящих
стихотворений — «Ohne Heimat» («Без дома» или «Без
родины»)), написанном 10 августа 1859 г., впервые
звучит тема, которая впоследствии появляется снова и
снова, как лейтмотив его более поздних сочинений: у него
нет дома, но именно поэтому он свободен:
Flüchtge Rosse tragen
Mich ohn Furcht und Zagen
Durch die weite Fern.
Und wer mich sieht, der kennt mich,
Und wer mich kennt, der nennt mich:
Den heimatslosen Herrn...
4^
школьник
Niemand darf es wagen
Mich danach zu fragen,
Wo mein Heimat sei:
Ich bin wohl nie gebunden
An Raum und flüchtge Stunden,
Bin wie der Aar so frei!..
(Проворные кони несут меня / без страха и смятения / по пустынным
местам. / И кто видит меня — знает меня, / и кто знает меня, называет
меня / бездомным человеком. // Никто не смеет / спросить меня о том, /
где находится моя родина: / похоже, я ничем не связан, / ни местом и
ни летящим временем, / свободный, как орел.)1
Сходная идея более конкретным образом выражена в
«Капри и Гельголанде», фрагменте некой истории,
написанной приблизительно в то же время: «Мы
пилигримы в этом мире — мы граждане мира». Он уже
мыслит себя скорее гражданином мира (Weltbürger) —
по крайней мере, иногда, — нежели гражданином
Пруссии, и становление его как «доброго европейца» в
более поздние годы, несомненно, состоялось бы раньше,
если бы не отсрочка, связанная с отношениями с
Вагнером. Его фундаментальная антипатия к узкому
патриотизму лучше всего проявляется в очерке о Гельдерлине,
написанном 19 октября 1861 г. Сегодня превозносимого
до небес Гельдерлина тогда мало кто знал, и репутация
его основывалась по большей части на его критических
высказываниях в адрес Германии того времени. Ницше
заступился за поэта и попытался оправдать его нападки
на немецкое мещанство и «варварство», подчеркивая при
этом, что они не являются «нападками на Германию».
Позже сам Ницше пошел гораздо дальше Гельдерлина
в том же направлении, и его критика немецкого
филистерства и варварства приняла масштабы радикального
осуждения государства и народа в целом. (Гельдерлин
был современником Гете и Шиллера, Ницше — совре-
1 Объективно, конечно, у него был дом в Наумбурге; но, как я
попытался показать выше, его субъективное ощущение бездомности ведет свое
происхождение со смерти отца.
43
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
менником Вагнера и рейха.) Сходство между двумя
этими личностями — Гельдерлином и Ницше — часто
отмечалось, оно и впрямь поразительно: на обоих сильное
влияние оказала греческая античность, оба резко
осуждали современную им Германию, кончине обоих
предшествовал продолжительный период душевной болезни.
Ницше называл прозу «Гипериона» «настоящей
музыкой», точно так же он высказывался и о прозе своего
«Заратустры». Учитель, прочитав очерк, одобрил его, но
внизу приписал: «Однако я должен дать автору
дружеский совет выбрать себе в качестве привязанности более
здорового, понятного и более немецкого поэта»1.
Очерк о Байроне (написан в декабре 1861 г.) менее
интересен, и дело не в том, что репутация Байрона
более нуждалась в дефляции (изъятии лишних символов),
чем в аугментации (пополнении ими); здесь Ницше всего
лишь повторяет бытовавшую тогда точку зрения на
Байрона. То, что он видел в Байроне, по существу было
сходно с представлением о нем современников: реальное
воплощение Карла Мора. Герой-злодей Шиллера все
еще оставался архетипом романтического бунтаря для
молодых немцев 1860-х гг. Энтузиазм Ницше по
отношению к Шиллеру в то время почти целиком
основывался на его энтузиазме по отношению к «Разбойникам»,
и Байрон был как раз тем героем, который в жизни
воплощал то, о чем Шиллер только мечтал.
Восхищение «героем-изгоем» очевидно в очерке Ницше; по сути,
это восхищение человеком, не побоявшимся следовать
своим инстинктам, а поскольку этот герой сильно
отличается от того, что позже Ницше назвал
«сверхчеловеком», было бы ошибочно переоценивать влияние Байрона
на эту концепцию. (Ницше называет байроновского
Манфреда «Übermensch (сверхчеловек), подчинивший
страсти», но под этим определением имеет в виду все
же только человека, хотя великих страстей и силы, воз-
1 Цит. по: Blunek Richard. Friedrich Nietzsche. P. 60, курсив оригинала.
4*
школьник
можно «почти полубога», однако в нем нельзя
усматривать тот совершенно особый смысл, который философ
позже вложит в это понятие.)
Его выступление в защиту Байрона было на самом деле
не чем иным, как все более возрастающим беспокойством
переходного возраста; эта связь прослеживается весьма
отчетливо по отрывку «Евфорион», написанному летом
1862 г.1 Эта история, которую Ницше справедливо назвал
уродцем, представляла собой сборную солянку разного
рода «сатанинской» чепухи:
«Поток мягких, отдохновенных гармоний омывает мою
душу, — сообщает нам Евфорион. — Я не знаю, отчего
мне так грустно; хочется рыдать и затем умереть...
Багрянец утра сияет в небесах, потухший фейерверк,
навевающий на меня скуку. Мои глаза горят намного ярче, я в
страхе, что они прожгут в небе дыры. Я чувствую, что
прорвал свой кокон, я ощущаю, как прохожу сквозь него
вперед и вперед, и все, чего я жажду, — это отыскать
голову Doppelgänger, чтобы рассечь его мозг...»
Фрагмент завершается так:
«Неподалеку живет монахиня, которую я иногда
посещаю, чтобы насладиться ее добродетелью. Я хорошо знаю
ее, с головы до пят, лучше, чем знаю себя. Она всегда
была монахиней, стройной и хрупкой, я — доктором. Она
живет с братом; они женаты... Я сделал его худым и
тощим — тощим, подобно трупу.
Скоро он умрет — к моему восторгу, — ибо я
намерен рассечь его. Но сначала я напишу историю моей
жизни, ибо она не только интересна, но и поучительна в том,
как молодых людей быстро превращать в стариков... ибо
в этом я мастер... — Здесь Евфорион откинулся назад и
простонал, потому что страдал болезнью позвоночника...»
1 Евфорион, дитя Фауста и Елены Прекрасной из второй части
«Фауста», был хорошо известен как герой Байрона, чье произведение сочетало в
себе черты готики и эллинизма совершенно новым удивительным образом;
Евфорион Ницше — это подражание Байрону.
45
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
Бунтарское настроение, чему подтверждением служит
сей опус, длилось вплоть до 1863 г. Одно из
стихотворений этого года, «Von dem Kruzifix» («Перед
Распятием»), изображает пьяницу, швыряющего бутылку
шнапса в фигуру Христа на кресте. Конечно, это
псевдобайронический жест, но вместе с тем он отражает что-
то более глубинное, что поселилось в Ницше, нежели
просто беглую фазу его байронического бунта. В апреле
1862 г. в письме Пиндеру и Кругу он писал:
«Христианство — исключительно материя сердца... Обрести
блаженство через веру — значит всего лишь
подтвердить древнюю истину о том, что только сердце, а не
знание может сделать нас счастливыми». Приблизите -
ольно в то же время он написал для «Германии» очерк
под названием «Детство народов», в котором утверждал,
что хотя религия и была поначалу признаком творчества
народов, но в ее позднейших формах основной ее
задачей стало лишить «сей мир» его божественности в
пользу «грядущего мира».
«То, что Бог стал человеком, — писал он, —
указывает лишь на то, что человеку следует искать блаженства
не в вечности, а обрести рай на земле; ложное
представление о внеземном мире поставил дух человека в ложные
отношения с миром земным: это был продукт детства
человека».
Он перестал быть верующим христианином, и с
угасанием его веры в христианство пришли сомнения
относительно ценности религии как таковой. Наиболее серьезной
попыткой выразить эти сомнения стал его очерк «Судьба
и история», написанный в марте 1862 г. и
представленный обществу «Германия» в апреле:
«Если бы мы могли взглянуть на христианские учения
и на историю церкви свободным, непредвзятым взором,
нам пришлось бы прийти ко многим заключениям, идущим
46
школьник
вразрез с общепринятыми представлениями. Но
поскольку мы, схваченные ярмом обычаев и предрассудков своих
изначальных дней, задержались в своем умственном
(духовном) [Geist] развитии под впечатлением детства... то
считаем себя обязанными полагать, что совершаем почти
преступление, если выбираем свободную позицию, с
которой можем вынести такое суждение о религии и
христианстве, которое является надконфессиональным и
соответствует потребностям нашего времени. Такая
попытка [Versuch] — работа не нескольких недель, а всей
жизни. Отважиться пуститься в море сомнений без компаса
и штурвала — это смерть и разрушение для неразвитых
умов; большинство гибнет в штормах, мало кто открывает
новые земли. Пребывая в середине этого непомерного
океана идей, зачастую не терпится вновь вернуться на
твердую землю».
Он расценивает историю и науку как «единственное
прочное основание, на котором можно строить башню
рассуждений»; примечательно также, что его
разочарование в христианстве и религии не ввергло его в
какой-либо иной догматизм и ортодоксию, а оставило в
состоянии постоянного сомнения. Он уже называет
философское исследование словом Versuch — попыткой или
опытом — и прибегает к образу бурного моря при
описании состояния неуверенности, свойственного
настоящему исследователю, предвосхищая тем самым стиль «За-
ратустры»:
«Разве ты никогда не видел парус, парящий над
морем, округлый и набухший и дрожащий от неистовства
ветра? Как парус, дрожащий от неистовства духа, моя
мудрость парит над морем (3, II, 8).
Вам, смелым искателям, испытателям [Suchern,
Versuchern] и всем, кто когда-либо плавал под коварными
парусами по грозным морям... (3, III, 2).
47
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
Море бушует: все в море. Ну что ж! Вперед, вы,
старые сердца моряков! Что вам отечество! Наш корабль
стремится прочь, туда, где страна детей наших! Там,
далеко, более неистово, чем море, бушует наше великое
желание» (3, III, 12, 28).
Самое позднее к 1862 г. он сменил религиозную
убежденность на ее противоположность и вскоре уже
пропагандировал состояние сомнения, постоянно меняющихся
взглядов и настроений как желательное само по себе:
«Борьба — это беспрестанная пища души, и она
довольно хорошо знает, как извлекать из этого сладость.
Душа разрушает и в то же время порождает новое; она
неистовый борец, и при этом она мягко перетягивает
оппонента на свою сторону во внутренний союз. И самое
удивительное то, что она никогда не утруждает себя
внешними формами: имена, личности, места, красивые слова,
росчерки — все они побочной ценности: она ценит то, что
внутри... Теперь я думаю о многом, что прежде любил;
имена и люди изменились, и не скажу, чтобы они всегда
становились глубже и красивее по своей природе; но
совершенно точно, что каждое из этих настроений для меня
означало прогресс и что для духа [Geist] невыносимо снова
шаг в шаг ступать там, где уже хожено; он хочет двигаться
дальше, к великим вершинам и великим глубинам» («О
настроениях»).
Можно было бы представить философию власти
Ницше как экзегезу фразы: «Борьба — это беспрестанная
пища души», а образ ступени — таким, какой он часто
использовал в более поздние годы, как, например, в
стихотворении «Meine Harte» («Моя жестокость):
Ich muss weg über hundert Stufen,
Ich muss empor und hör euch rufen:
«Hart bist du! Sind wir denn von Stein?» —
Ich muss weg über hundert Stufen?
Und niemand möchte Stufe sein.
48
школьник
(Я должен преодолеть сотню ступеней, / я должен взойти и услышать,
как вы воскликнете: / «Как ты жесток! Ты думаешь, мы из камня?» /
Я должен преодолеть сотню ступеней, / но никто не хочет быть
ступенью) (ВН, Vorspiel 26).
или в позднем афоризме:
«Для меня они были ступенями, я поднимался по ним —
и потому должен был преодолевать их. Но они думали, что
я хочу успокоиться на них» (СИ, I, 42).
В этом отношении Ницше уже стал самим собой, и
интерес творчества периода Пфорташуле состоит в этом
предвестии зрелости. Идеи, которые он выражает,
конечно, не оригинальны, но это не имеет значения. В
известном смысле, в мире мысли нет такой вещи, как
оригинальность, есть только новый способ видения и подачи
того, что мыслилось ранее: новый синтез ранее
разрозненных элементов, новый акцент, внезапный луч,
упавший в некий полузабытый закоулок. Воля к власти —
это своего рода расхожая идея, значение которой
Ницше первым оценил по достоинству; и в его ранних
работах важно вовсе не повторение неоригинальных
наблюдений, а то, что он уже выбрал путь, которому ему
выпало следовать дальше.
Если говорить о Ницше как о поэте, то в период
Пфорташуле его стиль постепенно вызревал, так что на момент
отъезда он смог выразить свою неуверенность в будущем и
чувство, что он оставил Бога отцов во имя лучшего, в
таком сравнительно завершенном стихотворении, как
«Незнакомому Богу»:
Noch einmal, eh ich weiterziehe
und meine Blicke vorwärts sende,
heb ich vereinsamt meine Hände
zu dir empor, zu dem ich fliehe,
dem ich in tiefster Herzenstiefe
Altäre feierlich geweiht,
dass allezeit
mich deine Stimme wieder riefe...
49
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
(Еще раз, прежде чем я продолжу путь и устремлю взор вперед, я
одиноко воздену руки ввысь к тебе, кому я молился, кому я в глубинах
глубин сердца торжественно посвящал алтари, чтобы всегда впредь мне твой
голос звучал...)
Неуверенность в будущем дополнялась
неудовлетворенностью прошлым, тем, каков он был и что сделал. В
коротком рассказе, «Сон в новогоднюю ночь»,
написанном в 1864 г., автор проклинает Старый год за то, что
тот был таким бесплодным; Старый год упрекает его в
нетерпении и говорит так: «Плод падает, когда он
созрел, не раньше».
Глава 3
СТУДЕНТ
Все, что он делает теперь,
достойно и в полном порядке, и все же
совесть его нечиста. Ибо исключительна
его задача.
Ф. Ницше. Веселая наука
1
Оглядываясь назад, Ницше оценивал десять месяцев,
прожитые в Бонне, как потерянное время. В
действительности они были тем периодом его жизни, когда он
попробовал жить подобно всем прочим молодым людям и понял,
что не может. Желание быть «другим» весьма
распространено — и поверхностно; человек, который действительно
отличен, другой, очень часто этого не хочет, потому что
предчувствует, скольких страданий ему будет стоить такая
оригинальность. В конце концов, он ничего не может с
собой поделать; максимум, что от него потребуется, — это
достойно встретить одиночество и разочарования, которые
припасла для него жизнь; но поначалу он может
сопротивляться судьбе или пытаться избежать ее, с ложным
энтузиазмом заставляя себя заниматься тем, что окружающие
его люди, похоже, считают нормальным. Это как раз то, что
Ницше попытался проделать в Бонне, потому-то
впоследствии и полагал, что бездарно потратил время.
Поначалу он, естественно, испытывал ощущение
свободы после выхода из Пфорташуле и дал волю этому
чувству, отправившись на каникулах в путешествие по Рейну
в компании Дойссена, который также перебрался в Бонн,
и еще одного молодого человека по имени Шнабель. Все
51
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
трое отдали должное умеренной выпивке и катанию на
лошадях, а Ницше насладился легким флиртом с сестрой
Дойссена. (Дом Дойссена находился в Рейнланде.)
Ницше и Дойссен были зачислены в университет
одновременно 16 октября 1864 г.
Бонн пользовался превосходной репутацией в области
филологии благодаря Отто Яну и Фридриху Ричлю,
которые были не только первоклассными филологами, но также
людьми широкой культуры и учителями, способными
внушить ученикам великую преданность делу. (Наибольшую
известность Яну принесла его биография Моцарта.) Не
исключено, что оба сумели бы занять достойное место в
любой области, на которую пал бы их выбор. Поначалу
Ницше в большей степени привязался к Яну, но, когда в
результате ссоры они не сумели поладить, оба юноши
покинули Бонн, последовав в Лейпциг1 за Ричлем, и именно
с его именем в дальнейшем всегда будет ассоциироваться
имя Ницше. По свидетельству Дойссена2, трудно
вообразить встречу более абсурдную, чем встречу Ричля и
Ницше. У Ницше и Дойссена было общее рекомендательное
письмо, и, прихватив его с собой, они отправились с
визитом к Ричлю. Ричль вскрыл конверт и воскликнул: «Ах, мой
старый приятель Низе! (Учитель Пфорташуле, составивший
письмо.) Что он нынче поделывает? Здоров ли? Стало
быть, вас зовут Дойссен. Очень хорошо, заходите ко мне,
жду вас в ближайшее время». Казалось, интервью
закончилось; но стоявший рядом Ницше, смущенно кашлянув,
заметил, что его имя тоже указано в письме. «Ах да! —
сказал Ричль. — Здесь два имени, Дойссен и Ницше.
Добро. Добро. Ну что ж, господа, приходите повидаться в
1 Было бы не вполне точно утверждать, что Ницше переехал в Лейпциг
по причине переезда туда Ричля. Если бы не его неудовлетворенность
жизнью в Бонне, он не оставил бы этот город даже с отъездом Ричля; то, что он
отдал предпочтение Лейпцигу, а не какому-то иному университету, частично
объясняется тем, что туда же собирался и Герсдорфф. Однако присутствие в
Лейпциге Ричля явилось, очевидно, решающим фактором.
2 Deussen Paul. Erinnerungen an Friedrich Nietzsche. Leipzig, 1901. S. 20.
52
СТУДЕНТ
ближайшее время». Так Ричль впервые встретил юношу,
которому суждено было стать самым знаменитым его
учеником, далеко превзошедшим всех прочих.
Вскоре после прибытия в университет Ницше вступил в
Burschenschaft (студенческое товарищество) «Франкония».
Эти «студенческие объединения» формировались начиная с
1815 г. с целью объединить студенчество всех
университетов Германии в движение, выступающее за либеральную
единую Германию; но к 1860-м их политический пыл спал
почти до точки замерзания, и они стали не более чем
социальными клубами с ритуальными декорациями. Ницше
старался изо всех сил вписаться туда: он произвел фурор в
качестве сатирика, сослужили ему добрую службу и его
способности пианиста-импровизатора. Но то, что составляло
основную отличительную особенность Burschenschaften, а
именно Biergemutlichkeit — пьянство, он так никогда и не
сумел заставить себя полюбить. Короткий период его
умеренного дебоширства остался позади, да и конституция его
не отвечала привычным стандартам, годным для длительных
пивных загулов. Он отдавал явное предпочтение пирожным
с кремом, съесть которых мог любое количество. Среди
наиболее дурацких студенческих практик были ритуальные
дуэли, и, поскольку Ницше теперь являлся членом
«Франконии», над ним тоже довлела необходимость приобрести
какой-нибудь шрам дуэлянта — студенческий знак
мужества. (Вопреки здравой логике, никто не мог рассчитывать
на репутацию хорошего фехтовальщика до тех пор, пока не
предъявлял шрам.) Дойссен1 поведал нам, как раздобыл
свой. Однажды вечером он прогуливался и мирно болтал то
с одним, то с другим членом братства, как вдруг кто-то
предложил подраться и обеспечить друг другу шрам-другой.
Сражение состоялось в соответствии со всеми уважаемыми
тогда правилами, в присутствии аккредитованных
свидетелей, длилось три минуты, по прошествии которых Ницше
получил удар по носу — и кровь пролилась; судьи призна-
1 Deussen Paul. Erinnerungen an Friedrich Nietzsche. Leipzig, 1901. S. 20.
53
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
ли это достаточным искуплением. Полученный шрам был
едва заметен; повествование Дойссена позволяет
предположить, судя по его молчанию на сей предмет, что самому
Ницше нанести ответный удар сопернику не пришлось.
Дойссену мы также обязаны свидетельством о случае,
который произошел в феврале 1865 г. и имел слегка
дурной привкус; этот факт важен для понимания причин
психической болезни, постигшей в дальнейшем Ницше.
Дойссен пишет, что Ницше рассказывал ему о том, как
однажды он один отправился в путешествие в Кельн.
Извозчик повез его осматривать достопримечательности, после
чего тот попросил отвезти его в какой-нибудь хороший
ресторан. Вместо этого извозчик доставил его в притон. «Я
вдруг обнаружил себя в окружении полдюжины призраков
в блестках и марле, выжидающе рассматривающих меня, —
рассказывал Ницше. — На мгновение я лишился дара речи.
Потом я инстинктивно прошел к стоявшему в комнате
фортепьяно, как к единственной живой вещи в этой компании,
и взял несколько аккордов. Они рассеяли наваждение, и я
поспешил вон». Дойссен считал, что этот случай был
уникальным в жизни Ницше и что к нему вполне подошло бы
выражение muUeram nunquam attigit (женщины да не
коснется никогда). Едва ли можно согласиться с этим теперь,
когда у нас имеется свидетельство, о котором не знал
Дойссен в момент написания своих заметок. Доподлинно
известно, что болезнь, жертвой которой стал Ницше, — полная
невменяемость; а это значит, что он почти наверняка
переболел сифилисом, и большинство его биографов согласны,
что в юности он, вероятно, действительно перенес эту
болезнь. Крейн Бринтон пишет: «Тот факт, что Ницше
страдал сифилисом, можно считать почти доказанным (со
степенью точности, которая возможна при доказательстве
такого рода фактов)». Вальтер Кауфманн более осторожен:
«Все, что мы можем сказать — и все здравые и
несенсационные медицинские исследования на сей предмет,
похоже, согласны в своих выводах, — это то, что Ницше, скорее
54
СТУДЕНТ
всего, болел сифилисом». Рихард Блунк представил
свидетельство, не оставляющее сомнений в том, что в 1867 г.
Ницше проходил курс лечения от сифилитической
инфекции у двух лейпцигских докторов, при этом сам он мог и не
знать природы своего заболевания. Как он заразился,
остается предметом догадок, хотя проблема не столь и
сложна: молодой человек в положении Ницше вряд ли мог
подхватить болезнь где-то помимо борделя. Х.В. Бранн
полагает, что стихотворение «Die Wüste wächst»,
вставленное в четвертую часть «Заратустры», — это
реминисценция посещения борделя, и основывает свое предположение
на наличии в тексте стихотворения некоторого сходства с
теми выражениями, в которых Ницше описал Дойссену свой
февральский опыт в 1865 г. Томас Манн полагает, что,
будучи приведен в бордель в первый раз против своей воли,
Ницше впоследствии бывал там уже по собственному
желанию. В любом случае это обстоятельство избавляет нас
от необходимости считать, что Ницше унаследовал
психическую болезнь от отца и потому «был сумасшедшим по
жизни». Его судьба отнюдь не оригинальна. Сифилис был
неизлечим, и потому пациенту часто не сообщали о том, чем
он заражен: следствием этого была жизнь, отягощенная
постоянно усиливающимися приступами «загадочной»
болезни, что часто оканчивалось слабоумием и преждевременной
смертью. Полагали также, что Ницше мог заразиться
сифилисом на медицинской службе во время
Франко-прусской войны, но предоставленные Блунком доказательства
того, что он лечился уже в 1867 г., исключают вероятность
поражения болезнью в 1870 г., и мало вероятно, что это
произошло как-то иначе, чем было изложено выше.
В Бонне Ницше решил оставить занятия теологией. Мы
убедились, что его вера в истинность христианства и
ценность религии в целом была чисто инстинктивной вплоть до
окончания Пфорташуле. В то время он не имел четкого
представления, как именно он собирается распорядиться
своей жизнью, но он, должно быть, уже понял, что
профессия отца и обоих его дедов не будет его профессией. Он,
55
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
скорее всего, никогда всерьез и не занялся бы изучением
теологии, если бы не настоятельное желание матери, но его
собственное отношение к предмету обострилось в первые
месяцы его пребывания в Бонне, и к Пасхе 1865 г. он
принял решение бросить его. Вероятно, понимание того, что
такое решение расстроит мать, и опасение, что она может
воспрепятствовать осуществлению его замыслов, настроило
его на агрессивный лад, и с таким настроением он
отправился домой на пасхальные каникулы. Он позволил себе
нелестные реплики в адрес церкви и тех, кто в ней состоял, и
объявил, что следует быть выше таких примитивных
суеверий, как христианство. Он отказался идти в церковь в
Пасхальное воскресенье, зная, естественно, что в этот день
протестанты обязаны воссоединяться с общиной, даже если
в остальное время этого не происходит, и под конец
объявил матушке без особого такта, что он покончил с
теологией. Результатом всего этого была домашняя сцена со
слезами и взаимными обвинениями, но длилась она недолго:
фрау Ницше вскоре поняла, что коль скоро Господь
направляет все наши поступки, то и этот поступок Фрица он,
должно быть, тоже направил, и решила покориться Его воле.
Но Элизабет взбесило поведение брата и потрясло его
отступничество. Сама она была истовой поборницей веры и
полагала, что таков и ее брат. После его отъезда в Бонн она
отправилась за советом к одному из дядей, пытаясь найти
контраргументы тем, к которым прибег брат, оправдывая
свою позицию. Она написала ему ревностное письмо в
защиту христианской веры, и его ответ от И июня 1865 г. стал
одним из самых известных документов его биографии.
«Что касается твоего основного принципа, — что вера
всегда там, где сложнее, — писал он, — то я частично с
этим согласен. Однако сложно ли поверить, что 2 X 2 не
равно 4; и правда ли это потому? С другой стороны, так
ли сложно просто принять как истину все, чему нас
учили, и что постепенно прочно вросло в нас, и что полагают
истинным в кругу наших близких и многих хороших лю-
56
СТУДЕНТ
дей, и что, более того, действительно успокаивает и
возвышает людей? Сложнее ли это, чем отважиться на
новые пути, в конфликте с обычаем, в беззащитности,
которая сопутствует независимости, испытывая многие
колебания храбрости и даже совести, часто безутешным,
но всегда в стремлении к истинному, прекрасному и
доброму? Так ли это важно — остановиться на конкретном
представлении о Боге, мире и согласии, что заставляет нас
чувствовать себя наиболее комфортно? Разве
вопрошающий об истине не безразличен к тому, каков может быть
результат его поиска? Ибо когда мы вопрошаем, разве мы
ищем отдохновения, мира и счастья? Нет, только истины,
даже если она в высшей степени уродлива и
отвратительна. И наконец, один последний вопрос: если бы мы
постоянно верили с юности, что все спасение исходит от
кого-то другого, нежели Иисус, — от Магомета, к
примеру, — разве не очевидно, что мы испытывали бы ту же
благодать? Это вера дает нам благодать, а не
объективная реальность, что стоит за верой... Каждая подлинная
вера непогрешима, она довершает то, что верующий
человек надеется найти в ней, но она не оказывает ни
малейшей поддержки в подтверждении объективной истины.
Здесь расходятся пути людей: если ты желаешь обрести
мир в душе и счастье — верь; если ты желаешь быть
учеником истины — вопрошай».
Он никогда не отступал от этой позиции, напротив,
снова и снова настаивал на ней: предмет философских
поисков — истина; нет уготованного соответствия между
правдой и счастьем, между тем, что истинно и что
приятно; подлинный искатель должен оставаться равнодушным
к «миру в душе и счастью», или, по крайней мере, он не
должен стремиться к ним, ибо, если таковы его цели, ему
следует сторониться пути, что ведет к тем истинам,
которые уродливы и отвратительны.
Усиленно стараясь вынудить себя относиться к вещам
менее заинтересованно и не принимать все так близко к
57
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
сердцу, он — возможно, это была реакция на
собственные усилия — становился все более серьезен и глубок.
Он уже стал «свободно мыслящим», но в отличие от
своих предшественников начинал сознавать, что
«свобода» означала не только избавление от ноши, но и
принятие вместо нее другой, более тяжелой. Вскоре он уже
не испытывал ничего, кроме презрения, по отношению
к «либерально настроенному» скептику, который
полагает, что волен разделаться с божественным
Архитектором, сохраняя при этом само здание, покончить с
Законодателем, нуждаясь при этом в защите данного им
Закона. Он вскоре убедился бы, что, если бы Бог
перестал существовать как реальность для человечества,
жизнь как таковая лишилась бы ценности и
человечество в конечном итоге прекратило бы свое
существование под ношей собственной бессмысленности. Уже к
1865 г. он понял серьезность положения. Вместе с Дой-
ссеном они приобрели по экземпляру книги Давида
Штрауса «Жизнь Иисуса» — изрядный вклад в
успешную демифологизацию религии, тенденцию, набиравшую
в то время обороты. Когда Дойссен сказал, что готов
согласиться с тем, что написал Штраус, Ницше ответил:
«Это может иметь серьезные последствия; если ты
предаешь Христа, тебе придется предать и Бога»1.
Творческая деятельность продолжалась, и основным
интересом Ницше в период пребывания в Бонне была
музыка. Он много сочинял и исполнял, а в июне 1865 г.
принял участие в трехдневном фестивале в Кельне в качестве
певца громадного хора в 600 голосов под управлением
Фердинанда Хиллера.
Он покинул Бонн 17 августа того же года и перевелся в
Лейпциг. После отъезда он направил письмо (от 20
октября) в общество «Франкония» с уведомлением о своем
выходе из него; из письма явствует, насколько не в ладах он
был со своим окружением.
1 Цит. по: Deussen Paul. Erinnerungen an Friedrich Nietzsche. S. 20.
58
СТУДЕНТ
«С выходом из общества я не перестаю разделять
идеалы Burschenschaft, — писал он. — Единственное,
должен признаться, что форма, в которую они облечены в
настоящее время, не доставляет мне удовольствия.
Возможно, в этом есть частично и моя вина. Мне было
трудно продержаться год во «Франконии». Но я считал своим
долгом стать ее членом; теперь я более не испытываю к
ней тесной привязанности. Поэтому прощаюсь. Пусть
«Франкония» скорее пройдет стадию становления, в
которой она пребывает в настоящий момент».
Как проявление взаимного выражения доброй воли,
«Франкония» вычеркнула его имя из своих протоколов.
2
Лейпцигским периодом — 1865—1869 гг. —
отмечено окончание юности Ницше. Исследование всего, что
было здесь наиболее существенного, наиболее удобно
вести по четырем направлениям: успехи в области
филологии, открытие Шопенгауэра и Ланге, дружба с Эр-
вином Роде и начало общения с Вагнером.
25 октября 1865 г. Ричль прочел вступительную
лекцию в Лейпциге в заполненной до отказа аудитории.
Ницше был там, и Ричль, бывший в очень приподнятом
настроении, приветствовал с кафедры его и еще нескольких
экс-боннских студентов веселыми шутками. Ницше с
самого начала являлся членом его филологического класса и
совместно с еще тремя студентами стал учредителем Лейп-
цигского филологического общества, созданного в декабре
по предложению и под покровительством Ричля. Темой
первого доклада, представленного Ницше 18 января 1866 г.
в этом обществе, была «Последняя редакция Феогни-
да» — его же очерк о Феогниде, но доработанный. Че-
59
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
рез месяц, внеся еще некоторые исправления в лекцию, он
принес рукопись Ричлю и попросил его
прокомментировать работу. 24 октября Ричль вызвал Ницше к себе в
кабинет и спросил, как тот намеревался поступить с этим
сочинением.
«Я сказал ему первое, что пришло мне в голову, —
пишет Ницше, — а именно что в качестве основы
доклада, представленного нашему обществу, эта работа уже
сослужила свою службу. Тогда он спросил, сколько мне
лет, как долго я учусь и проч., и, когда я обо всем
рассказал ему, он заявил, что никогда прежде не получал
ничего подобного от студента третьего семестра, что
могло бы сравниться с этой работой по выверенное™ метода
и убедительности сопоставлений. Он настоятельно
уговаривал меня переработать лекцию в брошюру... После этой
сцены моя уверенность в себе взлетела до небес...
Некоторое время я бродил, и голова моя шла кругом; именно в
тот момент я родился как филолог»1.
Этот разговор стал решающим событием в судьбе
Ницше. С течением времени внимание Ричля к способностям
Ницше как филолога все возрастало, и тот стал в
определенном смысле его протеже. Ричль был уверен в его
феноменальной одаренности и убеждал в этом остальных,
вплоть до того, что рекомендовал Ницше на вакансию
профессора Базельского университета, когда тому было
всего 24 года, а потом выхлопотал ему докторскую
степень в Лейпциге без предварительных экзаменов и
прочих формальностей. Я полагаю, что Ницше занялся
классической филологией только потому, что в Пфорташуле
латыни и греческому языку был дан мощный старт. Он не
планировал посвящать жизнь университетской карьере; он
вообще ничего не планировал, но, как и многие юноши без
определенных амбиций, стал «студентом», так как это
1 Rückblick auf meine zwei Leipziger Jahre (Обзор двух лет, проведенных
мною в Лейпциге), написан в августе 1867 г.
60
СТУДЕНТ
было понятным и само собой разумеющимся шагом.
Беседа с Ричлем в феврале 1866 г. кардинально все
изменила, и к лету того же года Ницше приступил к
составлению курса, который ему предстояло читать в Базеле.
В ноябре того же года университет (то есть Ричль)
предложил Диогена Лаэрта в качестве темы
филологического эссе на премию; как и ожидалось, премия досталась
Ницше. Очерк о Феогниде был опубликован в 1867 г. под
названием «Zur Geschichte der Theognideischen
Spruchsammlung» («Об истории собрания речей Феогнида») в
«Rheinisches Museum für Philologie» («Рейнском музее
филологии»). Это была первая публикация Ницше. Очерк
о Лаэрте вышел в четырех частях в 1868-м и 1869 гг.
Прочие его работы по филологии в те же годы
публиковались в «Rheinisches Museum» и «Litterarisches Central-
blatt» («Центральном литературном бюллетене»).
Его обучение было прервано в 1867—1868 гг. в связи
военной службой, продлившейся год. Германская война
1866 г.1 разразилась слишком внезапно, вынудив привлечь
в армию штатский контингент на так называемую
добровольную службу сроком 12 месяцев, обязательную для
прусской молодежи. Ницше был призван 9 октября 1867 г.
и служил штатским лицом в конном подразделении
полевого артиллерийского полка, расквартированного в Наум-
бурге. Год в армии он провел безрадостно, но даже этот
срок был сокращен в результате серьезного несчастного
случая, происшедшего в марте 1868 г., после чего Ницше
месяц пролежал в постели и оставшуюся часть службы нес
с учетом своего ранения. Он находился в госпитале,
когда 1 апреля получил чин ефрейтора. «Лучше бы мне дали
Befreiter (то есть освободили)», — писал он. 15 октября
он был демобилизован.
По возвращении в Лейпциг он начал уделять больше
внимания тем областям знания, в которых отставал, особен-
1 Война между Пруссией, с одной стороны, и Австрией и Баварией — с
другой, она началась 14 июня и закончилась победой Пруссии 22 августа.
61
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
но точным наукам. Он был еще очень молод — всего
24 года — и чувствовал, что жизнь начинает сужаться. Он
уже вознамерился было вовсе оставить на год
университетскую жизнь и уехать в Париж с Роде, чтобы отведать
«божественный канкан и желтый яд абсента». То, что это было
серьезное намерение, подтверждается неоднократными
упоминаниями его в их переписке с Роде. Несмотря на
непревзойденно блистательное знание предмета, Ницше никогда
не преувеличивал значение филологии, напротив, был
склонен умалять его, недовольный изучением мертвых книг,
поэтому неудивительно, что он подумывал бросить все это,
по крайней мере на время, ради познания иных сторон
жизни. Но намерение это запоздало: в первые месяцы 1869 г.
пришло предложение, отказаться от которого было
невозможно и которое связало его с филологией и
университетской жизнью еще на десять лет.
Его двойственное отношение к своему предмету ясно
изложено в письме к Роде от 16 января 1869 г., где он
говорит о своем вероятном назначении: он воспринял его
как удар, которому частично радовался и о котором
частично сожалел:
«Мы, действительно, игрушки в руках судьбы: на
прошлой неделе у меня возникла идея написать тебе письмо
с предложением заняться химией и бросить филологию по
части древних безделок. А сегодня дьявол по имени
Судьба соблазняет меня званием профессора филологии».
Отношение Ницше к Шопенгауэру и то, во что в
конечном итоге оно вылилось, мы обсудим позже, но нельзя
отрицать, что открытие основного труда Шопенгауэра —
«Мир как Воля и Представление» — было главным
событием его интеллектуальной жизни. Это произошло в
конце октября или начале ноября 1865 г., вскоре после
того, как он приехал в Лейпциг. Он еще был полон
чувства разочарования и неудовлетворенности, привезенного
из Бонна:
62
СТУДЕНТ
«Я пребывал тогда в состоянии беспомощной
нерешительности, наедине с конкретным болезненным опытом и
разочарованиями, без основополагающих принципов
[Grundsätze], без надежды и без единого приятного
воспоминания... Представь теперь, как чтение главной
работы Шопенгауэра должно было подействовать на человека
в таком состоянии. Однажды мне попалась эта книга... [в]
захудалой книжной лавке я подобрал ее как нечто
совершенно неизвестное мне и полистал. Не знаю, какой
демон нашептал мне: «Возьми эту книгу с собой». Это было
вопреки моей обычной практике раздумывать над
покупкой книг. Придя домой, я бросился на диван с только что
приобретенным сокровищем и постепенно поддался
воздействию энергичного и мрачного гения... И вот я увидел
зеркало, отражавшее мир, жизнь и мою собственную
природу в ужасающем великолепии... там я увидел болезнь и
здоровье, изгнание и бегство, Ад и Рай»1.
Есть все основания вынести вопрос о философии
Шопенгауэра и реакцию на нее Ницше в самостоятельный
раздел (см. главу 5, где речь пойдет также о влиянии на
Ницше Ф.А. Ланге). Здесь мы коротко скажем о сугубо
биографическом эффекте: Ницше стал поклонником
Шопенгауэра и сделал все от него зависящее, чтобы
познакомить с его философскими воззрениями своих друзей.
Вскоре Роде и Герсдорфф тоже стали почитателями
Шопенгауэра, хотя не вполне понятно, было ли то их
самостоятельное мнение или сказалось влияние Ницше. Он
также познакомил Дойссена с трудами философа, и тот
впоследствии стал истинным продолжателем
Шопенгауэра в Германии.
Общее восхищение Шопенгауэром было тем
цементирующим началом, которое связало Ницше узами дружбы
с Вагнером, и, вероятно, именно этот фактор способство-
1 Rückblick auf meine zwei Leipziger Jahre (Обзор двух лет, проведенных
мною в Лейпциге), написан в августе 1867 г.
63
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
вал готовности Ницше подчиниться ему. В любом случае
едва ли они стали бы так близки, будь он безразличен к
Шопенгауэру или враждебен ему.
В те годы Ницше чувствовал свое полное единство с
великим пессимистом; но именно «чувствовал» — это
было во многом делом чувства: то, что говорил
Шопенгауэр, было созвучно тому, что желал услышать Ницше. Это
было действительно так, чему подтверждением служит его
увлечение в ту же пору «Историей материализма»
Фридриха Альберта Ланге. Эту книгу Ницше прочел летом
1866 г. В письме Герсдорффу от 16 февраля 1868 г. (то
есть приблизительно через 18 месяцев после знакомства с
книгой Ланге) он рекомендовал ее другу в самых лестных
выражениях: она «дает несравнимо больше, чем обещает
название» и является «сущим кладом, куда можно
заглядывать, перечитывая снова и снова». Он обращается к
«материалистическому течению нашего времени,
естественным наукам, включая теорию Дарвина... этическому
материализму, манчестерской теории», основные положения
которых изложены в книге. Он намеревался посетить
Ланге, но так никогда и не собрался, и, когда в 1887 г.
вышло новое издание «Истории материализма», он купил
экземпляр и перечитал снова. Нужно заметить, что
взгляды Ланге не просто отличаются от философии
Шопенгауэра, но абсолютно несовместимы с ними и противостоят
им. Если Ланге прав, то Шопенгауэр не прав, и
наоборот. Ницше обладал способностью восхищаться обоими
одновременно, поскольку доводы Шопенгауэра были
преимущественно эмоциональны, тогда как Ланге опирался на
интеллект; или, говоря иначе, Шопенгауэр предлагал
цельное мировоззрение, которое можно было полностью
принять или отвергнуть только всем своим существом, тогда
как Ланге всего лишь обсуждал философию.
В лейпцигский период в работах Ницше появляются
также некоторые идеи, которые он будет развивать в будущем.
Двеиз них наиболее примечательны. Он провел
исследование Гомера и Гесиода и их легендарного «соперничества»
64
СТУДЕНТ
и на этой основе получил первые свидетельства того,
насколько важно было понятие агона, или соревнования, в
развитии греческой культуры — озарение, приобретшее
колоссальное значение, когда позже Ницше собирал
примеры того, как можно достигнуть власти косвенными
путями. Первая часть очерка о Диогене, опубликованная в
1868 г., содержала в качестве эпиграфа цитату из Пинда-
ра: «Стань тем, кто ты есть!» Ницше принял этот лозунг
как свой личный; он процитирован как одна из «гранитных
сентенций», завершающих третью книгу «Веселой науки»:
«Что говорит твоя совесть? «Ты должен стать тем,
кто ты есть» (ВН, 270)
и свою автобиографию (1888) он озаглавил: «Ессе
Homo: как человек становится тем, что он есть» (вар.:
«...как становятся самими собою»).
Ницше и Эрвин Роде были почти ровесниками. Роде,
сын гамбургского доктора, родился 9 октября 1845 г. Он
попал в Лейпциг примерно в одно время с Ницше, и
познакомились они, когда Роде вступил в Филологическое
общество. Ницше описывает его в письме Герсдорффу в
сентябре 1866 г. как «очень умного, но упрямого и
своенравного парня» (замечание по принципу «говорил
горшку котелок»). Между ними установилась прочная дружба
в пасхальный семестр 1867 г., а в августе следующего года
им предстояло долгое совместное путешествие на
каникулах. Время шло, вкусы их развивались в тесном согласии,
и вскоре их объединила любовь к греческой античности,
увлечение Шопенгауэром и преданность Вагнеру. Ницше
говорит, что оба они также питали неприязнь к «изыскам
и тщеславию» филологии. В течение десяти лет их
дружба не ослабевала; она угасла в связи с неспособностью
Роде понять эволюцию Ницше примерно после 1880 г., и
к 1886 г., когда состоялось их последнее свидание, они
3 Р.Дж. Холлингдейл
65
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
уже были совершенно чужими друг другу людьми. На
следующий год Ницше попытался восстановить
отношения, но Роде не пожелал этого. По его письмам,
адресованным людям, которые были знакомы также и с Ницше,
мы можем проследить, как Роде постепенно становился
все более и более нетерпим к образу жизни Ницше,
казавшемуся ему порочным, и к неординарности его образа
мысли. «Что ему действительно нужно, — взорвался он,
прочтя «По ту сторону добра и зла», — так это найти
хорошую работу!»1 Замечание обличительное и вполне
понятное. Сам он продолжал добиваться признания в той
области, которая наиболее отвечала способностям обоих;
кроме того, он женился и завел семью, обустроился.
Ницше, наоборот, казалось, удалился в горную цитадель,
откуда время от времени вбрасывал в мир свои туманные
книги, которым предпосылал грандиозную рекламу; у него
не было ни семьи, ни работы, ни привязанностей, ни
ответственности; в книгах он кичился своим одиночеством,
в письмах скорбел о нем. К жизни, которую он прежде
вел и которую продолжали вести его друзья, он теперь не
испытывал ничего, кроме отвращения, и презрение ко
всему, что в основном наполняет человеческую жизнь,
казалось, витало над всем, что он писал. Если ко всему этому
добавить прогрессирующий эгоизм Ницше, мы без труда
поймем отступничество Роде: он был просто в ярости от
поведения бывшего друга.
В 1866 г., когда они познакомились, Роде был
довольно замкнутым молодым человеком, который редко выражал
свои чувства открыто. В этом он признается Ницше в
рождественском письме 1868 г., позволяющем нам судить обо
всей глубине чувства их взаимной привязанности:
«Лучшими часами жизни я обязан только тебе; если бы
только ты мог заглянуть в мое сердце и узнать, как я
благодарен тебе за все, что ты дал мне; ты открыл для меня
1 См. гл. 12.
66
СТУДЕНТ
благословенную страну чистейшей дружбы, которую я
раньше наблюдал лишь со стороны, с сердцем, жаждущим
любви, как заглядывает бедное дитя в богатый сад. Я, который
всегда был одинок, теперь чувствую себя единым с лучшим
из людей; и тебе трудно будет постичь, как сильно это
изменило мою внутреннюю жизнь».
Ответные письма Ницше полны торжественных
заверений в дружбе и выстраивании планов на будущее,
которые им хотелось пережить вместе. В те времена друзья
полагали, что предстоящая им карьера непременно пойдет
параллельно, и обсуждали конкретные предприятия,
которые можно осуществлять совместно, и самым прекрасным
из них казалась поездка в Париж, о которой мы уже
упоминали. Письмо Ницше к Роде от 16 января 1869 г., в
котором он сообщает о вероятности своего назначения в
Базель, трогательно своим искренним волнением, когда он
пытается убедить друга, что не в его силах так просто
отказаться от этого назначения, даже если при этом
пострадает столь дорогой их сердцу план.
В августе 1867 г. Ницше и Роде вместе отправились
на каникулы в Богемский Лес. Будучи там, писал
Ницше, они услышали о «концерте Zukunftsmusik» (музыки
будущего) под управлением Листа. Термин «музыка
будущего» был журналистским искажением названия
одного из основных теоретических произведений Вагнера «Das
Kunstwerk der Zukunft» («Произведение искусства
будущего»), в котором он изложил свои основные идеи
относительно союза искусства музыки, драмы, живописи и
пантомимы во «всеобъемлющем (тотальном) произведении
искусства». Журналисты-современники — одни по
недобросовестности, другие по неведению — распространяли
версию о том, что Вагнер защищал свою ужасную
музыку, полагая, что два столетия спустя она покажется
прекрасной. Поэтому термин Zukunftsmusik воспринимался
67
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
как насмешка, и тот факт, что Ницше использовал его,
означает, что летом 1867 г. он все еще не проникся
уважением к Вагнеру. Но он пытался: позже в том же году
он исполнял переложение для фортепьяно «Валькирий», по
его словам, с «очень смешанным чувством». Должно быть,
он и после этого неоднократно экспериментировал, вплоть
до 28 октября 1868 г., когда, прослушав исполнение
прелюдий к операм «Тристан» и «Мейстерзингер», он
наконец заявил о перемене своего отношения к Вагнеру.
«Мне представляется, невозможно сохранять
критически холодный ум, когда дело касается этой музыки, — в
тот же день в восхищении писал он Роде. — Во мне
трепещет каждая клеточка, каждый нерв, я никогда не
испытывал такого продолжительного чувства восторга, какой
испытал, слушая последнюю увертюру (то есть прелюдию
к «Мейстерзингеру»)».
Он попался, но, возможно, вскоре сумел бы
высвободиться, если бы не встреча с Мастером лично ровно
через одиннадцать дней после его экстатического опыта.
Вагнер тогда переживал один из наиболее оживленных
домашних кризисов, бесконечная череда которых придает
его биографии, написанной Эрнстом Ньюманом, столь
развлекательный характер и внушительный объем; он
сбежал из дому и укрылся в Лейпциге, где проживал со
своей сестрой Оттилией и ее мужем Германом Брокгаузом
(потомком издателя трудов Шопенгауэра). Естественно,
место его пребывания не составило бы ровно никакого
секрета, если бы газетчики пронюхали о том, что он в
Лейпциге, поэтому он соблюдал строгое инкогнито, и только
близким друзьям семейства позволялось видеться с ним.
Одним из таких близких друзей была фрау Ричль,
которая однажды присутствовала на вечере, где Вагнер
исполнял на фортепьяно «Победную песнь» Вальтера из оперы
«Мейстерзингер». Она заметила, что уже знакома с этой
музыкой через одного из студентов своего мужа, горячего
68
СТУДЕНТ
поклонника Вагнера. Рихард выразил удовольствие и
сказал, что хотел бы повидаться с этим молодым человеком,
если это возможно. В итоге, когда в полдень 6 ноября
Ницше вернулся на свою квартиру, он обнаружил, что его
ждет адресованная ему записка от приятеля, студента
Эрнста Виндиша: «Если хочешь познакомиться с
Рихардом Вагнером, приходи в «Театральное кафе» в 3.45».
Виндишу доверили передать ему приглашение в дом
Брокгаузов, взяв с получателя клятву о соблюдении тайны.
Благодаря тому факту, что Роде в это время был болен
и сидел дома, мы имеем длинное письмо Ницше от 9-го
числа, из которого узнаем об этой встрече. В тот день,
7 ноября, Ницше и Виндиш отправились по приглашению, но
Вагнер куда-то ушел, «надев неимоверную шляпу»
(вероятно, для конспирации), и встреча была перенесена на
следующий, воскресный, вечер. Полагая, что соберется много
народу, Ницше нанес визит к портному, который пообещал
предоставить ему вечерний костюм в тот же день. К
назначенному часу костюм был еще не вполне готов, и
требовалось еще три четверти часа. Когда, спустя указанный срок,
Ницше вновь явился к портному, костюм снова не был
готов, и получить его удалось только в половине седьмого
одновременно со счетом, который помощник портного
требовал оплатить прежде, чем соглашался расстаться с
костюмом. У Ницше не оказалось с собой нужной суммы — а
может быть, и просто не было таких денег. Он попытался
примерить новый костюм, сняв при этом свой, чтобы
убедиться, впору ли он ему. Завязалась потасовка, из которой
победителем вышел портной; он скрылся, прихватив
долгожданный костюм. Ницше разразился проклятиями,
опасаясь, что теперь опоздает на встречу, и искренне надеясь,
что его старый костюм не вызовет нареканий. Как
выяснилось, собрание было немногочисленно: только семья
Брокгауза, Ницше с Виндишем и Вагнер. Ницше представили,
и состоялся один из тех вечеров, характер которого
отлично знаком биографам Вагнера, когда маэстро, окруженный
группой почитателей, выступает единственным солистом:
69
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
«До и после ужина Вагнер играл [на фортепьяно] и
включил все ключевые фрагменты из «Мейстерзингера»,
имитируя все вокальные партии с постоянно нарастающей
энергией. Он удивительно живой, подвижный человек,
говорит очень быстро, очень остроумен и делает частные
собрания такого рода очень веселыми. Между делом мы
довольно долго беседовали с ним о Шопенгауэре; и можешь
себе представить, как отрадно мне было слышать, с какой
неподдельной теплотой он отзывался о нем, говоря, что
многим обязан ему и что это единственный философ,
понимающий природу музыки... Потом он прочел кусок из
автобиографии, над которой работал, — одну ужасно
забавную сцену из его студенческих дней в Лейпциге, вспоминая
о которой я до сих пор не могу удержаться от смеха... В
конце вечера, когда мы оба уже собирались уходить, он
очень тепло пожал мне руку и от души пригласил навестить
его, чтобы поиграть музыку и потолковать о философии».
К обаянию музыки теперь прибавилось обаяние
человека; от первого Ницше постепенно избавился, но от второго —
никогда. Его «мятеж против Вагнера» в более поздние
годы — а на самом деле возврат к самому себе — был не
разрывом уз, связавших его с возлюбленным тираном, но
решимостью следовать своему собственному пути. Вагнер
был на 31 год старше Ницше, то есть по возрасту годился
ему в отцы, и это важное обстоятельство не ускользнуло от
внимания психологов; он просто не мог видеть мир иначе как
своими собственными глазами. «Другом» Вагнера был его
слуга, иначе он переставал быть его другом и становился,
по понятиям Вагнера, врагом — Вагнер делил человечество
на друзей и врагов. Издалека, в ретроспективе, жизнь
Вагнера — с его операми и театром в Байрейте, результатом
которого стал фестиваль, — представляется грандиозной и
сам он — фигурой колоссальной, выдающейся даже на фоне
века великих личностей; но если мы попытаемся увидеть его
глазами современников, то неудивительным покажется тот
факт, что многие, кого он пытался использовать, порывали
70
СТУДЕНТ
с ним, а иногда и проклинали за ту власть, которую он имел
над ними даже после разрыва. И первым в числе таких
людей был Ницше — практически равный ему по степени
гениальности и устремлений и, бесспорно, превосходящий в
интеллектуальном отношении всех, кого Вагнер когда-либо
встречал. Сцена воскресного вечера под музыку
«Мейстерзингера» открыла первый акт трагедии, которой суждено
было завершиться сценическим громом «Казус Вагнер» и
желчью «Nietzsche contra Wagner» («Ницше против
Вагнера»).
3
В начале 1869 г. в Базельском университете
освободилось место на кафедре классической филологии, и Ричля
попросили внести возможную кандидатуру. Этот пост
также предполагал преподавание греческого языка в высшей
школе. Ричль предложил Ницше. 10 января он известил
Ницше о том, что ведется обсуждение его кандидатуры на
место в Базеле. 13 февраля Ницше получил назначение, а
23 марта в Лейпциге ему присвоили докторскую степень
без экзаменов на основании работ, ранее опубликованных
в «Rheinisches Museum». Базель был заинтересован в том,
чтобы он рассмотрел вопрос о швейцарском гражданстве
на случай, если его обязанности как гражданина Пруссии
повлекут за собой в будущем призыв на военную службу;
подразумевалось также, что ему следует обратиться к
прусской администрации с просьбой освободить его от
статуса военнообязанного. Ницше направил два
необходимых запроса. Он пробыл дома в Наумбурге с конца
марта до отбытия в Базель 12 апреля. 17 апреля он перестал
быть гражданином Пруссии. Впоследствии он никогда,
однако, не исполнял требований, предъявляемых
швейцарским гражданством, и таким образом всю оставшуюся
жизнь формально не имел статуса. В Базель он прибыл
рано утром 19-го числа.
71
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
Таковы вкратце события первой четверти 1869 г. —
двери юности Ницше затворились. В свои 24 года он
достиг пределов возможного в карьере филолога. Следуя
обычным путем, ему потребовалось бы много лет, прежде
чем он мог надеяться на кресло в университете, — теперь
же оно досталось ему практически без усилий. Его сестре
и матери это казалось невероятным везением, но сам он
был далеко не уверен, что для него это был оптимальный
вариант. «Не следует, — писал он позже, —
становиться профессором университета в возрасте 24 лет» —
мнение, с которым конечно же согласится большинство людей.
Волей-неволей возникает ощущение, что Ричлю
следовало бы дать выход своему энтузиазму по более зрелом
размышлении: Ницше в то время стоило не обременять
обязанностями, а, наоборот, сократить их, не ограничивать
сферу его интересов, а расширять ее. Кроме того, ему
нужен был опыт — и психический, и интеллектуальный.
С шести лет он пребывал в школе — целых восемнадцать
лет, — и теперь ему предстояло задержаться здесь еще
на десять. Когда он оставил Базель, ему было 34 года, и
с тех пор, как он был зачислен в наумбургскую школу для
мальчиков, ему еще никогда не доводилось расставаться с
атмосферой класса на срок, превышающий несколько
месяцев. Перед ним как философом стояла цель преодолеть
школьные формулы мысли и лексикона, чтобы постичь
реальность, или, как он сам выражался, Dinge — «вещи».
«Не следует позволять книгам вставать между нами и
вещами», — писал он, но в первые тридцать четыре года
жизни сам был погружен в книги, и большую часть этого
времени в самую книжную из всех дисциплин —
филологию, где единственными «вещами» являются собственно
книги. В этом состояла причина главного недостатка его
сочинений: незнание того, как на самом деле живут
«обычные» мужчины и женщины.
Не последним соблазном, склонившим его принять пост
в Базеле, был соответствующий должности оклад. Семья
Ницше была в строгом смысле бедна: основным доходом
72
СТУДЕНТ
матери служила ее вдовья пенсия, и обучение сына стало
бы невозможным без поддержки государства. Оклад
профессора университета был таков, что Ницше просто не
посмел отказаться.
Таким образом, финансовые соображения, гордость
столь быстрого и высокого взлета, отсутствие какой-либо
видимой альтернативы — вот причины, сделавшие в
конечном итоге невозможным отказ от Базеля. Но ехал он
туда с настроением, которое, несомненно, встревожило бы
Ричля, знай он об этом. Накануне отъезда в новую жизнь
Ницше высказал нечто такое, что выражало не просто
неудовлетворенность филологией, а говорило о почти
презрительном отношении к ней:
«Время истекло, наступил последний вечер пребывания
дома, — писал он Герсдорффу 11 апреля, — завтра утром
я должен отправиться в большой-большой мир, в новую
незнакомую профессию, в трудную и угнетающую
атмосферу долга и труда. И снова я прощаюсь: золотой век
свободной, безудержной деятельности... в безвозвратном прошлом:
теперь правит суровая богиня Повседневность... Теперь я
сам должен стать Мещанином!.. Нельзя принимать
должности и звания, не расплачиваясь за это, — единственный
вопрос состоит в том, из железа эти оковы или из нитей. И
я все еще полон решимости время от времени разрывать их.
[Влияние Шопенгауэра, по его словам, было чересчур
велико, чтобы он когда-нибудь позволил себе опуститься до
состояния только «человека профессии»]. Напитать мою
науку свежей кровью [философия Шопенгауэра], донести
до моих слушателей ту шопенгауэровскую серьезность,
которой отмечено чело возвышенного человека, — вот мое
желание, моя самая храбрая надежда; я хочу быть более чем
наставник квалифицированных филологов».
Тон этого письма — взятое в полном объеме, оно
звучит еще более высокопарно — возможно, результат того
компромисса, на который Ницше шел вопреки своему
73
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
внутреннему ощущению. В душе он уже пережил
филологию; под влиянием Шопенгауэра он двигался к чему-то
более отвечающему и реализующему его необычную
натуру, чем профессорское кресло, к чему-то, что еще вряд ли
могло называться философией, но стыдилось считать себя
чем-то меньшим1. Ницше был очень честолюбив; он пока
не вполне представлял, в каком направлении следует
реализовать свои амбиции, но полагал, что это будет не
филология, — отсюда его не вполне честное решение стать
«более чем просто наставником» будущих филологов. Как-
никак, предполагалось, что слушатели его лекций будут
посещать их именно ради обучения филологии и вовсе не
готовы к тому, что вместо нее им подсунут философию
Шопенгауэра. Ницше повезло, что он не сумел жить в
соответствии с собственной программой; начав
преподавать, он — возможно, не без удивления — обнаружил,
что был хорошим преподавателем и что ему это нравилось.
1 В последние месяцы пребывания в Лейпциге, когда он обращался
мыслью к различным нефилологическим направлениям, у него возникла идея
получить докторскую степень в области философии, он уже даже выбрал тему
своей диссертации: «О концепции органического после Канта». Но этот
проект принадлежит к числу тех, до которых дело так и не дошло.
Часть вторая
1869—1879
Насколько мало разум и насколько сильно случай
властвует над людьми, обнаруживает почти неизменный
диспаритет между их так называемыми профессиями и их
очевидным несоответствием им: счастливые случаи —
исключение... и даже те состоялись не по воле разума. Человек
выбирает профессию, когда он еще не способен сделать
выбор: он не знает разных профессий, он не знает самого себя.
Ф. Ницше. Мы, филологи
Глава 4
ПРОФЕССОР
Тот, кто наделен величием, жестко
обращается со своими добродетелями и
интересами второго порядка.
Ф. Ницше. Веселая наука
Базель был полностью немецким городом, и ему едва
удалось избежать поглощения рейхом. Когда Ницше
попал туда, университету было уже 400 лет; он был
невелик, но славился своей репутацией далеко за пределами
Швейцарии, и тот факт, что сюда был приглашен
Ницше, да еще в столь юном возрасте, свидетельствует о
готовности университета экспериментировать.
По прибытии Ницше снял временное жилье,
потихоньку подыскивая постоянное. Спустя два месяца он его
нашел на Шютцграбен, 45, где нанял большую
комнату. Когда в Базель приехал Франц Овербек, он жил в
том же доме, и почти каждый вечер в течение пяти лет
они с Ницше вместе ужинали в комнате Овербека.
Задача, которую принял на себя Ницше, была не из
легких. В письме Ричлю от 10 мая 1869 г. он
рассказывал, что у него достаточно дел, «чтобы не скучать»:
«В течение недели каждое утро в 7 часов я читаю
лекции, — пишет он. — По понедельникам я веду
семинар... по вторникам и пятницам я преподаю в высшей
школе дважды в день, по средам и четвергам — один
раз: мне это пока нравится... Мои лекции слушают семь
учеников, — здесь говорят, что это должно меня
устраивать».
77
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
Тематика лекций первых пяти лет отражает реальные
интересы Ницше. Его вводная лекция — «Гомер и
классическая филология», — прочитанная 28 мая и изданная
через год отдельной брошюрой, со всей ясностью
обозначила, что он считает филологию служанкой искусства. В
течение 1869 г. он читал лекции о «Хоэфорах» Эсхила и
о греческих лирических поэтах; также, по просьбе
учеников, но с некоторым неудовольствием, он преподавал
латинскую грамматику. В 1870 г. темами его лекций был
«Царь Эдип» Софокла и сочинения Гесиода, в 1871 г. —
диалоги Платона, и тогда же он преподавал введение в
филологию и латинскую эпиграфию. Основное внимание
он уделял Греции, особенно поэзии и драме. В своих
публичных лекциях, когда выпадал случай дать волю своим
пристрастиям без каких-либо ограничений, он говорил о
Греческой музыке-драме (18 января 1870 г.) и о
Сократе и трагедии (1 февраля 1870 г.). Позже в том же году
он написал «Дионисийские принципы», но, похоже, так
эту лекцию и не прочел. Лекция о Сократе вышла
отдельным изданием в 1871 г. Все три исследования были
подготовительными этапами на пути к «Рождению трагедии».
Самую длинную свою лекцию в те ранние годы — «О
будущем наших образовательных учреждений» — он
читал 16 января, 6 и 23 марта 1872 г. Ее текст часто
переиздавался после его смерти, но сам он не считал ее
достаточно важной и показательной для его мысли, чтобы
самому искать возможности опубликовать ее. (Так же
обстояло дело со всеми его лекциями и рукописями тех
лет, за исключением «Рождения трагедии» и четырех
полных частей «Несвоевременных размышлений».)
Начав работать в Базеле, он обнаружил, что
обладает талантом преподавателя и может пробудить у
студентов интерес к предмету. Карл Бернулли рассказывает,
как в самом начале двадцатого века беседовал с
бывшими учениками Ницше — к тому времени,
естественно, уже зрелыми людьми. «Когда их спрашиваешь о
нем, — говорит Бернулли, — все они единодушно
утверждают, что складывалось впечатление, словно они
78
ПРОФЕССОР
сидели не с педагогом, а у ног живого эфора из
античной Греции, пересекшего время, чтобы явиться среди них
и поведать о Гомере, Софокле, Платоне и их богах. Он
говорил так, словно сам это пережил и исходил из
собственных знаний о вещах самоочевидных и
по-прежнему абсолютно правомерных, — таково было
впечатление, которое он производил на них»1. Его устраивало,
что студенты читали греческих авторов в немецком
переводе, главное, чтобы они читали как можно больше:
он был заинтересован не столько в зубрежке греческой
грамматики и языка (принимая хорошее их знание как
нечто само собой разумеющееся), сколько в знакомстве
своих учеников с самим миром античной Греции. Он
иногда отступал от намеченного плана, чтобы поговорить
о чем-то, казалось бы, не имеющем прямого отношения
к теме. Например, он мог неожиданно спросить: «А
скажите-ка мне, что такое философ?» — и после того,
как прозвучит невразумительный ответ, прочесть
спонтанную лекцию на эту тему. Известность получил один
эпизод, происшедший в его классе. Он предположил, что
на летних каникулах студентам будет интересно прочесть
описание щита Ахиллеса в «Илиаде»; в начале
следующего семестра он спросил одного из них, прочел ли он
это. Студент (имя его не называется) сказал, что
прочел, хотя это была неправда. «Хорошо, тогда опишите
нам щит Ахиллеса», — сказал Ницше. Воцарилось
неловкое молчание, которое он не прерывал в течение
десяти минут —- времени достаточного, по его мнению, для
того, чтобы описать щит Ахиллеса, — при этом он
ходил взад-вперед, делая вид, что внимательно слушает.
Затем сказал: «Очень хорошо, X описал нам щит
Ахиллеса, можем двигаться дальше».
Те десять лет, что Ницше провел в Базеле, толки
постоянно возбуждала его внешность, так как он с
повышенным вниманием относился к одежде, временами
1 Bernoulli Carl Albrecht. Friedriche Nietzche und Franz Overbeck. Eine
Freundshaft. Jena, 1908. T. 1. S. 67.
79
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
доходя до щегольства. Бернулли говорит, что, не считая
старого статского советника из Бадена, он был в
Базеле единственным, кто носил серый цилиндр. Он был
немного ниже среднего роста, крепкого сложения, и его
юность в некоторой степени скрадывалась усами, уже
тогда служившими прекрасным украшением его верхней
губы. (На фотографии 1867 г. усы уже in situ (букв.
высажены, привиты, проросли — лат.); еще один
снимок того же года обнаруживает значительное их
увеличение в размерах и плотности — это уже почти те
самые знаменитые «усы Ницше» 1880-х. Наиболее
показательна фотография 1883 г., где усы перекрывают
практически весь рот. На фотографии, относящейся
приблизительно к 1890 г. (вместе с матерью), усы Ницше
превосходят уже все разумные параметры, аркой огибая
рот и почти достигая подбородка.) Людвиг фон Шеф-
флер, один из его студентов, описал внешность Ницше,
когда впервые посетил его в 1875 г.:
«Я не ждал, что профессор бурно ворвется в
комнату... как Буркхардт. Я также хорошо знал, что
вызывающий тон писателя не всегда созвучен поведению
автора как частного лица. Тем не менее, я поразился той
скромности, почти смирению, свойственной манере
поведения Ницше, когда он вошел. К тому же он был чуть
пониже среднего роста... А блестящие очки и пышные
усы сообщали его лицу то выражение
интеллектуальности, которое часто делает невысоких людей какими-то
внушительными. Но при этом вся его личность выражала
полное равнодушие к тому, какое внешнее впечатление
он мог производить»1.
Это последнее наблюдение представляется не вполне
согласным с заботой Ницше об одежде, которую Шеф-
флер тоже заметил; но к 1875 г. манера хорошо одевать-
1 Цит. по: Bernoulli Carl Albrecht. Friedrich Nietzsche and Franz Overbeck.
I, 252.
80
ПРОФЕССОР
ся стала скорее привычкой, чем сознательным усилием.
Шеффлер также подтверждает то, что мы узнаем от
других очевидцев: «Тот, кто никогда не слышал голоса
Ницше, знает его только наполовину».
Ницше ехал в Базель, готовый к неприязненным
отношениям с людьми, с которыми ему предстояло
общаться. 10 мая 1869 г. он писал Ричлю: «О жителях
Базеля с их аристократическим мещанством много
можно писать и еще больше говорить. Это место,
предназначенное для излечения от республиканства». Но,
поселившись там, он с удовольствием общался с
высшими кругами буржуазии, независимо от того, были они
филистерами или нет, и быстро стал популярным
молодым человеком в довольно закрытом и самодовольном
обществе небольшого городка.
Когда он получил назначение в Базель, университет
попросил его принять швейцарское гражданство во избежание
отзыва с принятого поста, если того потребует положение
военнообязанного гражданина Пруссии. Хотя Ницше и
попытался удовлетворить эту просьбу, при этом он не
сомневался, что договоренности будут нарушены, едва он сам
почувствует к тому побуждение; именно это и случилось в
августе 1870 г., когда началась Франко-прусская война.
8-го числа он написал прошение об отпуске, объяснив, что
желает «быть полезным в качестве солдата санитарной
службы». 11 августа его просьба была удовлетворена, и он
отбыл на медицинскую службу в прусские войска. С
середины августа он прошел санитаром Эрланген, Верт, Сульц-
бай-Вайсенбург, Хаген-Бишвиллер, Люневиль и Нанси.
7 сентября, вернувшись в Эрланген, он заболел
дизентерией и дифтерией, после того как ухаживал за ранеными трое
суток подряд. Он сам отправился в военный госпиталь,
откуда был отослан домой в Наумбург на долечивание.
К концу октября он вернулся в Базель.
Неудовлетворенность академической жизнью,
одолевавшая его в момент принятия профессорского поста, была
несколько сглажена потоком новых впечатлений, сопро-
81
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
вождавших его в первый год пребывания в университете;
теперь — возможно, под влиянием войны и конечно же
под влиянием Вагнера — она проявилась с новой силой.
Преподавание в университете было «ярмом» — таков
лейтмотив его переписки с Роде, с которым Ницше
никогда не переставал поддерживать тесные отношения после
отъезда из Лейпцига, и в конце 1879 г. он предложил
удалиться от академической жизни, основав нечто вроде
светского монастыря. Эта идея, изложенная в письме от
15 декабря, весьма туманна в деталях, но ссылки на
Вагнера явно указывают, что проросла она на почве
увлечения Вагнером. «Однажды мы сбросим это ярмо, — пишет
он, — для себя я твердо решил это». Эта идея,
добавляет он, вовсе не проявление эксцентричности, а
«настоятельная необходимость». Они с Роде станут писать книги,
но то, как и на что они будут жить, не обсуждается. Он
говорит, что только что прочел последнее письмо Роде и,
подобно ему, чувствует, что «было бы позором, если бы
мы не сумели однажды преодолеть это исполненное тоски
томление (sehnsüchtigen Schmachten) путем мощного
деяния (kräftige Tat)». Это язык Вагнера: все
процитированные на немецком языке словосочетания суть характерный
вагнеровский лексикон, а в основе самого проекта лежит
вновь заговорившее в Ницше стремление стать «великим»
под впечатлением успешной независимости Вагнера. В
1876 г., как мы позже увидим, Ницше на короткое время
действительно удалось создать что-то вроде светского
монастыря.
Между тем Ницше не терпелось положить конец
разлуке с Роде, и он подталкивал друга изыскать способ
приехать в Базель. Прекрасная возможность осуществить это,
казалось, представилась в январе 1871 г., когда в
университете освободилось место на кафедре философии.
Ницше подал заявление на замещение вакансии, предложив
кандидатуру Роде на кафедру филологии вместо себя. В
стремлении добиться назначения Роде он переоценил свои
шансы стать приемлемой кандидатурой на пост философа.
82
ПРОФЕССОР
Ему недоставало формального философского образования,
а его хорошо известное увлечение Шопенгауэром — не
говоря уже о воинствующем вагнерианстве — еще более
усугубляло ситуацию: ему не удалось получить назначения,
и Роде так и не приехал в Базель, ни тогда, ни потом.
Дружба между ними не остывала; наоборот,
расстояние словно добавило ей обаяния, и в течение ряда лет
Ницше еще видел в Роде своего брата по оружию в
борьбе с миром мещанства. Но были и другие друзья юности,
с кем он продолжал поддерживать отношения: Пиндер и
Круг, друзья по Наумбургу, и Дойссен — по Бонну и
Лейпцигу. В отношениях с Дойссеном Ницше тяготел к
слегка отеческому, даже менторскому, тону, и
немногочисленные письма, оставшиеся от их переписки, рисуют его
в несколько неприглядном свете. Будучи весьма
немногословным, он, тем не менее, успешно дает понять, что не
удовлетворен успехами Дойссена и что тому следовало бы
подумать более серьезно о генеральной линии своей
жизни. Так как последующие успехи Дойссена ничуть не
уступают достижениям остальных приятелей студенческих
дней Ницше, у нас нет оснований всецело доверять
суждениям Ницше. Здесь отчетливо сказывается потребность
интеллектуально доминировать. Особенно комично она
проявилась в финале его долгих дружеских отношений с
Генрихом Ромундтом, лейпцигским сокурсником Ницше,
впоследствии частным наставником в Базеле,
проживающем на Шютцграбен, 45. В письме с предложением
основать светский монастырь Ницше называет Ромундта в
качестве вероятного третьего члена этого проекта, что
подразумевает очень высокое мнение о его качествах. Но
однажды, немного позже того момента времени, до которого
мы добрались, Ромундт объявил о своем намерении
принять римское католичество. Возмущению Ницше не было
предела, но сквозь квази- (или, скорее, псевдо-)
философскую полемику со всей очевидностью проступает
уязвленное amour-propre (самолюбие) завзятого эгоиста: в
течение десяти лет Ромундт находился под его практичес-
83
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
ки ежедневным влиянием, и все же оно оказалось
настолько ничтожно, что Ромундт вознамерился совершить акт,
невозможный для мыслящего человека, как полагал
Ницше. Одно дело — родиться католиком, но решиться стать
им после десяти лет общения с Ницше — нет, этого
невозможно было ни понять, ни простить.
Не подлежит сомнению, что потребность оказывать
идейное воздействие на современников и называть их
друзьями только в случае, если они соглашались с ним,
было заложено в натуре Ницше. Но в то же время он
был способен на глубокую, теплую привязанность к
людям старшего поколения, с кем совершенно не имел
в виду интеллектуально состязаться. Главным среди них
был конечно же Вагнер, но в Базеле Ницше встретил
еще двух человек, искреннюю симпатию к которым
сохранил на всю оставшуюся жизнь. Старший был Якоб
Буркхардт, историк. Он родился в Базеле в 1818 г.;
наиболее известный его труд — «Культура
Возрождения в Италии» — вышел в 1860 г., когда автору было
42 года. Ницше познакомился с этим уже
состоявшимся человеком в 1869 г. Тот присутствовал на вводной
лекции Ницше, и юному профессору очень хотелось
установить с ним постоянную дружескую связь. Но
Буркхардт избегал близкого знакомства. По свидетельству
очевидцев — Якоба Мэли, Овербека и Петера Гаста,
которым удобнее всего было наблюдать поведение
Ницше и Буркхардта по отношению друг к другу, так как
они знали обоих, Буркхардт не стремился к близким
отношениям с Ницше и обходился с ним не более чем
вежливо1. Их взаимовлияние составляет предмет споров,
но в любом случае оно было слабым. Фон Мартин
видит здесь пример «контрастных человеческих и
философских типов», и этот контраст, действительно, гораздо
более ярко выражен, нежели сходство, основой которо-
1 См.: Martin Alfred von. Nietzsche und Burckhardt. Munich, 1941, 1947.
S. 173, где приводятся и обсуждаются все свидетельства современников.
84
ПРОФЕССОР
го можно считать единственный общий интерес —
Шопенгауэра. Предметом изучения Буркхардта была
история культуры (в отличие он политической истории);
для его глубоко пессимистической натуры философия
Шопенгауэра оказалась чрезвычайно привлекательной, и
его презрение к философии истории Гегеля как ко лжи
о «нашем старом добром друге прогрессе» завоевало
симпатию Ницше. В целом отношение Буркхардта и
Ницше к исторической науке сходно, но даже в этом
случае мы не можем утверждать, что Буркхардт
оказывал влияние на молодого человека, так как источником
его служил Шопенгауэр, которого Ницше знал и до
того. Ницше пытался заинтересовать Буркхардта
своими работами, и тот дал очень лестный отзыв о его
сочинении «Человеческое, слишком человеческое», сказав,
что оно напоминает ему труды великих французских
моралистов. Он также находил много достоинств и в
последующих его произведениях; больше всего его
восхищала их невозмутимость и независимость, в отличие
от «Рождения трагедии» и «Несвоевременных
размышлений». (Именно эти указанные их свойства, напротив,
отпугнули Роде.) В последующие годы он не
интересовался Ницше, тогда как последний продолжал
восторгаться им. Эрих Хеллер назвал неспособность
Буркхардта откликнуться на потребность Ницше в словах
поддержки «просто бесчеловечным равнодушием» и
сравнил его с таким же равнодушием Гете по
отношению к тем, кто, по его мнению, мог нарушить зыбкое
равновесие, которого тот добился1. Но равновесие,
которого достиг Буркхардт, ни в какое сравнение не шло
с гетевским, и при чтении Буркхардта вас не покидает
впечатление, что он постоянно сопротивляется
необоримой, всепроникающей меланхолии. Философский
пессимизм Буркхардта, похоже, проистекает из ранней утра-
1 Heller Erich. Burckhardt and Nietzsche / The Disinherited Mind. London,
1952.
85
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
ты доверия к христианской религии в сочетании со
свойственной ему склонностью к интроспекции. Даже
Шопенгауэр, никогда не имевший веры, чтобы ее терять, и
крайне впечатлительный по природе, уступал Буркхард-
ту в пессимизме. Как бы там ни было, но к тому
времени, когда Ницше готов был предложить средства, с
помощью которых Буркхардт сумел бы преодолеть свою
философскую безнадежность, Буркхардт был слишком
стар, чтобы менять характер и образ мышления, и,
вероятно, именно сознание этого заставляло его держать
юношу на расстоянии вытянутой руки.
Несколько месяцев спустя после торо, как Ницше
обосновался в Базеле, туда приехал из Иены Франц Овер-
бек, чтобы занять вакансию лектора «критической
теологии». Овербек родился в 1837 г. и, будучи на семь лет
старше Ницше, стал единственным постоянным его
другом, и эта привязанность основывалась на чисто личном,
инстинктивном фундаменте. Какое-то время под
влиянием Ницше он был почитателем Вагнера, но все же
взгляды их по большей части не совпадали; он отличался от
Ницше практически всем, в том числе происхождением.
Его отец был немецким бизнесменом, натурализованным
британцем, мать — француженкой. Родился он в Санкт-
Петербурге, и ему было уже 11 лет, когда он переехал
жить в Германию. Дома он говорил по-английски, по-
французски и по-русски, а когда ему предстояло поступить
в школу в Дрездене, выучил немецкий. Овербек обладал
талантом заводить друзей. После его смерти в 1905 г.
Элизабет Ницше упрекала его за то, что в последние годы
жизни он отказался работать совместно с ней над
архивом Ницше. Вместо ответа, бывший коллега Овербека по
Базелю написал панегирик его качествам как ученого и как
человека и разослал его всем друзьям Овербека, кого смог
припомнить, после чего это свидетельство было
опубликовано за множеством подписей хорошо известных ученому
миру людей из почти дюжины университетов. Но большую
часть жизни Овербека его лучшим другом оставался Ниц-
86
ПРОФЕССОР
ше, с которым он познакомился, поселившись на Шютц-
грабен, 45. Его отзывы об этой дружбе — бесхитростное
выражение благодарности за этот опыт. «Наша дружба
была совершенно безоблачной», — пишет он. Вместе с
тем он был довольно беспощадный критик и конечно же
высказывал свои несогласия в пору, когда Ницше был еще
в состоянии воспринимать критику, однако это не
омрачало их отношений. Шли годы, Овербек сильно
отдалился от Ницше в философии и едва ли мог согласиться с его
последними произведениями. Но при этом он стал ему еще
ближе как друг, так что последние годы он и его жена1,
были Ницше единственными по-настоящему родными
людьми, не считая Гаста.
Наконец, из всех знавших Ницше людей именно
Овербек поспешил в Турин, когда с его другом случилось
помутнение рассудка и он способен был натворить бог знает
что. Кажется, между ними не случилось ни одной
серьезной ссоры или размолвки за все время их общения — и
это уникальный случай в биографии Ницше.
Напрашивается вывод, что Овербек — казалось бы, бесцветная
фигура рядом с героем биографий Ницше — на самом деле
был мастером отношений с людьми, по крайней мере
отношений с Ницше: он инстинктивно понимал, когда
уступить, а когда нет, когда говорить, а когда молчать, чтобы
сохранить дружбу, продолжения которой он желал всей
душой.
Странное совпадение заключается в том, что Овербек
познакомился с Вагнером при обстоятельствах, очень
сходных с теми, при которых с ним встретился Ницше.
Будучи студентом в Лейпциге, он дружил с семьей Брокгауз и
был приглашен на один из вечеров в их доме, где
оказался также и Вагнер. Он не произвел на Овербека особого
1 Воспоминания о Ницше Иды Овербек чрезвычайно живы и исполнены
искреннего сочувствия; через них мы получаем редкий шанс увидеть, каков
был Ницше, когда мог расслабиться в компании людей, чей интеллект и
взгляды уважал, и беседовать с полной откровенностью. Эти воспоминания
приводятся в книге Бернулли (op. cit. Т. 1. С. 234—251).
87
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
впечатления. Своим родителям тот писал, что в Вагнере
было «quelque chose de phraseur et de pathétique»
(смешение фразерства и патетики. — Примеч. пер.), когда он
излагал свои идеи. В 1870-х, под влиянием Ницше, Овер-
бек изменил свое мнение, и к 1875 г., посещая Байрейт
во время репетиций и подготовки к фестивалю, он уже был
членом Patronatverein* и пламенным пропагандистом
начинаний Вагнера.
В 1871 г. Ницше впервые по-настоящему заболел. Мы
знаем о перенесенном им заболевании во время
пребывания в Бонне и Лейпциге, а также помним, что он с
детства был подвержен мигреням, причиной которых могло
быть и его плохое зрение. Но до 1870 г. он не страдал
серьезными последствиями, а в тот год его здоровье было
ослаблено дизентерией и дифтерией, положившими конец
его военной службе, и, вернувшись в Базель, он начал
страдать постоянно возобновляющимися периодами
истощения. Это становилось настолько серьезным, что он был
вынужден просить о временной отставке. Его прошение
было удовлетворено, и с 15 февраля 1871 г. он получил
отпуск «до конца зимнего семестра для восстановления
здоровья». Почти сразу же он уехал с сестрой в Лугано,
где пробыл до начала апреля и где, вместо отдыха,
усердно трудился над «Рождением трагедии». Вероятно, по
этой причине он по-прежнему плохо чувствовал себя
летом, которое провел в горах близ Берна с Элизабет и
Герсдорффом. В октябре он съездил в Наумбург и
посетил Лейпциг, где провел несколько прекрасных дней с
Герсдорффом и Роде и где его представили издателю
Вагнера, Фритцшу, которому вскоре предстояло издать
1 Patronatverein (Патронажное общество) — национальная организация,
созданная Вагнером и его ближайшими сподвижниками для оказания
финансовой помощи Байрейтскому фестивалю 1876 г. В литературе о Вагнере роль
этого общества сильно преувеличена, так как поставленная им цель —
покрыть расходы на фестиваль — не была достигнута. Его реальное значение
состоит в том, что к уже огромным достижениям Вагнера присовокупляется
еще одно: создание первого организованного клуба поклонников (фан-клуба).
88
ПРОФЕССОР
«Рождение трагедии». Он вернулся в Базель в конце года.
Казалось, он поправился, но это была лишь зловещая
интерлюдия, и, хотя тогда он едва ли осознавал серьезность
положения, здоровье его постоянно ухудшалось. С тех пор
он уже никогда вполне не был здоров, и при любой
попытке понять его поведение начиная с 1871 г. необходимо
принимать во внимание тот факт, что фоном всех его
действий была повседневная, непрекращающаяся битва с
болезнью. Врагом, донимавшим чаще других, была мигрень:
она преследовала его по ночам и порой не унималась по
три дня подряд, в течение которых он не мог даже есть
или, если поесть все же удавалось, удерживать пищу в
организме. Такие приступы совершенно изнуряли его и
делали уязвимым для прочих напастей. Сопротивление его
было титаническим: снова и снова его убивал недуг,
снова и снова он побеждал его. Итогом его мучений стала его
хорошо известная эпиграмма: «То, что не убивает меня,
придает мне силы» (СИ, I, 8). Может быть, как
универсалия эта сентенция не имеет достаточных оснований, но
в случае с Ницше она соответствует положению дел.
Глава 5
ВАГНЕР, ШОПЕНГАУЭР, ДАРВИН И ГРЕКИ
Для меня они были ступенями, я
поднимался но ним — и потому должен
был преодолевать их. Но они думали,
что я хочу успокоиться на них.
Ф. Ницше. Сумерки идолов
1
Вскоре по возвращении в Базель, едва только
позволили обстоятельства, Ницше навестил Вагнера в Трибше-
не. 15 мая 1869 г., во время своего первого визита, Ницше
застал Вагнера за работой, но тот пригласил его к обеду.
Ницше не имел такой возможности, и Вагнер предложил
ему приехать дня через два, в Духов день. Встреча
прошла настолько удачно, что они договорились повидаться
снова, на сей раз на торжествах по поводу дня рождения
Вагнера — 22 мая. Преподавательские обязанности
Ницше не позволили этого, и в следующий раз он попал в
Трибшен на выходные 5—7 июня. С тех пор он стал
здесь постоянным гостем и в период с мая 1869 г. по
апрель 1872 г., то есть до отбытия Вагнера в Байрейт,
приезжал погостить с его семейством двадцать три раза. Он
был здесь на Рождество 1869-го и 1870 гг. и стал одним
из немногочисленных слушателей устроенного по этому
поводу первого представления «Зигфрида» — то был
подарок Вагнера Козиме на Рождество и день рождения
одновременно. (Ее день рождения приходился на 24
декабря.) Еще до окончания 1869 г. Ницше был принят —
можно сказать, зачислен — в члены семьи; ему
предоставили личную комнату, которой он мог свободно пользо-
90
ВАГНЕР, ШОПЕНГАУЭР, ДАРВИН И ГРЕКИ
ваться в любое удобное для него время. Он часто
присматривал за детьми Вагнера, которые относились к нему как
к старшему брату.
Значение, которое в жизни Ницше имело общение с
Вагнером, невозможно переоценить. Оно пробудило его.
Его глазам открылись возможности величия, все еще
составлявшего часть человеческой природы. Он познал
значение гения и силы воли — понятий, пользуясь которыми
он прежде не осмысливал в их подлинном величии. Со
временем он научился у Вагнера и многому другому, и это
не всегда было то, чему стремился обучить его сам
Вагнер: например, тому, что даже самый искренний человек
во многом актер; что ничтожество и величие вполне могут
уживаться в одной душе; что любовь и ненависть не
исключают друг друга, а, скорее, являются
противоположностями одной и той же эмоции. Наблюдая Вагнера, он
стал психологом, имея перед собой один из наиболее
многогранных и открытых характеров, когда-либо
существовавших на земле; и могучее прозрение, из которого
выросла теория воли к власти, пришло тогда, когда он
понял, что грандиозные произведения Вагнера были
преимущественно продуктом его столь же грандиозной
потребности господствовать над людьми.
Трибшен был (и остается) большим прямоугольным
домом в немецкой Швейцарии с видом на озеро Люцерн.
Вагнер переехал сюда из Мюнхена в апреле 1866 г., а
месяцем позже к нему присоединилась Козима, жена
Ганса Бюлова, и ее три дочери, из которых одна была
дочерью Вагнера. (Козима и Вагнер поженились в
августе 1870 г. Ницше приглашали в шаферы, но тогда он
служил в прусских войсках во Франции.) За шесть лет
пребывания здесь Вагнер закончил «Мейстерзингера» и
«Зигфрида» и написал «Гибель богов». Он был в
самом расцвете своих творческих сил, когда Ницше стал
ближайшим другом Трибшена.
Мы знаем, что Ницше был поклонником Вагнера до его
отъезда из Лейпцига, и дерзнем предположить, что бли-
91
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
зость Люцерна к Базелю — расстояние между ними всего
пятьдесят миль — способствовала его решению принять
должность в Базеле. Как бы там ни было, у него ушло
немного времени на поиски Вагнера. Да, Вагнер пригласил его
к себе, но едва ли это было больше чем просто формальная
вежливость: мало вероятно, что он даже просто помнил о
студенте из Лейпцига. Однако, как выяснилось, Ницше
действительно произвел впечатление; Вагнер и в самом деле
запомнил его, и чем больше он его узнавал, тем больше тот
ему нравился. Ницше был переполнен восторгом,
преданность его Вагнеру не знала границ. Письма этого периода
свидетельствуют о его безграничной любви. Свое первое
письмо к Вагнеру (от 22 мая 1869 г.) он подписал «Ваш
самый верный и преданный последователь и почитатель» и
уже в скором времени обращался к Вагнеру Meister. Его
письма друзьям были исполнены похвал гению Вагнера и
радостью за свою счастливую судьбу. 4 августа он
восторженно писал Герсдорффу:
«Я нашел человека, который предстал мне не кем
иным, как тем, что Шопенгауэр называет «гением», и
который просто одержим этой глубочайшей философией
(то есть Шопенгауэром). Это не кто иной, как Рихард
Вагнер, о коем ты не должен верить ни единому
суждению, что бытуют в прессе, в работах музыкальных
критиков, и т. д. Никто не знает его и не способен судить о
нем, потому что весь мир стоит на отличной от него
основе и не чувствует себя привычно в его атмосфере. В нем
обитает такой бескомпромиссный идеализм, такой
глубокий и страстный гуманизм, такая возвышенная серьезность
намерений [Lebensernst], что когда я рядом с ним, то
чувствую, будто я рядом с богом».
Этот взволнованная и не вполне вразумительная речь
свойственна еще дюжине подобных излияний. Его
собственная карьера отошла на второй план перед
пониманием важности продвижения планов Вагнера. В 1870 г. он
92
ВАГНЕР, ШОПЕНГАУЭР, ДАРВИН И ГРЕКИ
рассчитывал взять в Базеле отпуск на два года, чтобы
начать работу над предприятием в Байрейте, а в 1872 г.
у него возникла мысль и вовсе оставить профессорство,
чтобы полностью посвятить себя Вагнеру. И если такие
жертвы не понадобились, то только потому, что не
послужили бы никакой полезной цели.
Хотя он и жаждал посвятить свои время и энергию
служению старшему другу, его преданность «вагнеризму»
всегда была неоднозначна. Он вдруг начал обнаруживать
пристрастие к витиеватым вагнеровским оборотам, что вело к
утрате его собственного умения правильно пользоваться
немецким языком. Он также принудил своих друзей
внимательно прочесть некоторые прозаические сочинения
Вагнера, даже такое крайне абсурдное творение, как
«Государство и религия», которое Вагнер написал в назидание своему
патрону, королю Людвигу Баварскому, и которое Ницше
называет «глубоким», добавляя: «Никогда еще к королю не
обращались в более возвышенной философской манере»
(письмо к Герсдорффу от 4 августа 1869 г.). Но основные
положения философии Вагнера он никогда не разделял.
Претензия Вагнера на роль философа и пророка
безосновательна. Его мышление отличалось чрезвычайной
живостью, но способности аргументировать были крайне слабы.
Он вещал на темы, о которых не имел ни малейшего
представления; у него была привычка выстилать свои сочинения
туманной терминологией из Фейербаха и Шопенгауэра,
придавая им ложную глубокомысленность. То, что Ницше
восхищался некоторыми из них, можно отнести на счет
проявления той самой пресловутой слепой любви. (Сам того не
ведая, он достигает вершин подсознательной иронии, когда
в апрельском письме 1873 г. пишет Вагнеру, что ведет
полемику против «знаменитого писателя» Давида Штрауса и
намерен показать все стилистические просчеты «самого
неприглядного свойства» прозы этого бедняги. (Надо сказать,
что стиль прозы самого Вагнера с его туманной
бестолковостью и витиеватостью — один из самых «неприглядных»
во всей немецкой литературе.) Именно в статьях Вагнера
93
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
по эстетике, особенно в пяти работах 1849—1851 гг.,
Ницше находит идеи, которые можно использовать. Краткий
обзор их основных положений наглядно покажет, что же
конкретно он вынес из них.
Серия работ, начиная с «Искусства и революции» и
кончая «Обращением к друзьям», составляет первую
группу и относится к периоду в пять с половиной лет между
«Лоэнгрином» и «Золотом Рейна», когда Вагнер не
сочинял музыки, а пытался заново осмыслить проблему
отношений между музыкой, текстом и драматическим
действием оперы. Пять очерков обладают логической и
эмоциональной слаженностью, которая придает им в
целом большую динамику: «Искусство и революция»
начинается с описания театра античной Греции как центра и
высшего выражения культурной жизни народа;
«Обращение к друзьям» завершается оглашением намерения
Вагнера «в недалеком будущем» обеспечить Германии образец
для воссоздания театра такого же высокого статуса.
В статье «Искусство и революция» (июль 1849 г.)
оглашен один из двух тезисов эстетики Вагнера:
самостоятельные виды искусства некогда были
компонентами единого произведения искусства — древнеафинской
трагедии. Драма, говорит он, есть «высшая из всех
возможных форма искусства», поскольку в ее истинном
совершенстве она является союзом всех искусств. Своего
совершенного воплощения она достигла лишь однажды —
в трагедии Древних Афин. И эта высшая форма
исчезла, когда распалась на отдельные компоненты. Наконец,
«самый импульс Искусства застыл перед Философией...
Философии, а не искусству принадлежат два с
половиной тысячелетия, которые со времен заката греческой
трагедии дошли до наших дней». В эпоху христианства
наслаждение прекрасным, которое церковь впрессовала
в богослужение, было не выражением народной
культуры, но глубоким противоречием всего христианского
мировоззрения: наслаждение прекрасным есть проявление
язычества.
94
ВАГНЕР, ШОПЕНГАУЭР, ДАРВИН И ГРЕКИ
«Произведение искусства будущего» открывается
утверждением: «Как Человек соотносится с Природой, так
соотносится Искусство с Человеком». Природа, говорит
Вагнер, исходит из необходимости, человек — из
каприза и эгоизма, и потому он уклоняется в сторону. «Но
Ошибка — мать Знания; и история рождения Знания из
Ошибки — это история человеческой расы». В искусстве
этот эгоизм отдельной личности отражается в эгоизме
личности отдельных искусств; но истинно необходимое
искусство — это искусство, созданное природой.
Природа порождает искусство не через личность, а через
единую совокупность людей — и это второе ключевое
положение эстетики Вагнера: подлинный создатель
искусства — «народ». На самом деле, «народ» ответствен за
каждое человеческое творение, от речи до государства, но
его наивысшее творение — драма, всеохватное
произведение искусства, в котором цельный человек выразил себя
с полной силой. «Народ» все еще существует, но его
захлестнула стихия личностей; он должен возродиться к
сознанию своей «миссии искупления» и вернуть в искусство
«инстинктивные законы Природы». Произведения
искусства будущего станут совместным продуктом, в котором
архитектор, живописец, мим, поэт и музыкант отойдут от
своей эгоистической личности, чтобы объединиться в
своем творчестве в направлении единого финала; причем
неким мистическим образом, истинным создателем творения
искусства будет «народ».
В статье «Искусство и климат» (февраль 1850 г.)
Вагнер отвечает критикам, что погода в северных широтах не
способствует «восторженному опьянению чувства
прекрасного». Следующая работа, «Опера и драма», как ни одно
другое его творение, обнаруживает ограниченность и
крайний эгоцентризм, а также беспредельную фантазию
удивительного ума Вагнера: на протяжении почти 400 страниц
затейливой прозы он пытается доказать положение,
объективная ложность которого почти очевидна, но сила
которого — в его правде применительно к самому Вагнеру. Он
95
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
начинает с утверждения, что «ошибка оперы как жанра
искусства заключается в том, что Средство выражения
(музыка) стало конечным результатом, тогда как Конечный
результат (драма) стал средством». И далее показывает,
что до сего времени опера и драма были искалеченными
формами искусства и что предстоящее «Кольцо Нибелун-
га» — не только в целом, но и во всех деталях — является
единственной правомерной формой драматического
произведения.
«Обращение к друзьям» (август 1851 г.) написано с
целью пояснить видимые противоречия между его операми
и его теориями. Завершается оно оглашением проекта,
который должен был занять много времени и энергии у
Ницше как следствие его привязанности к Вагнеру: «Я
предлагаю осуществить постановку моего мифа [«Кольцо
Нибелунга»] в трех законченных драмах, предваренных
длинной прелюдией... Я буду придерживаться
следующего плана: во время специально намеченного Фестиваля,
который, как я полагаю, должен состояться в недалеком
будущем, представить эти три драмы и Прелюдию
(Пролог) в течение трех дней и вечера накануне». Этот
фестиваль должен будет стать образцом для народных
произведений искусства будущего. Вопрос о том, как именно
это должно осуществляться, Вагнер оставляет на будущее
и на усмотрение своих друзей.
Самым наглядным результатом воздействия на Ницше
этих теорий искусства Вагнера было его обращение к
драме. Прежде он не проявлял к ней особого интереса и не
видел в ней особой ценности. Позже он опровергнет это,
но в период увлечения Вагнером он все видел его
глазами. Его оценка афинской трагедии была в точности ваг-
неровской, а теория ее заката находит точное отражение
в словах Вагнера: «Философии, а не искусству
принадлежат два с половиной тысячелетия, которые со времен
заката греческой трагедии дошли до наших дней». То, что
искусство по сути своей явление не христианское — в чем
Ницше оставался уверен до конца жизни, — также четко
96
ВАГНЕР, ШОПЕНГАУЭР, ДАРВИН И ГРЕКИ
оглашено в статье «Искусство и революция».
Двойственность, присущая философии Шопенгауэра и перенятая от
него Ницше, также свойственна и эстетике Вагнера, и
дуализм «Рождения трагедии» во многом исходит и из
Вагнера, и из Шопенгауэра. Вагнер принимал дихотомию
Человек и Природа, Искусство и Человек со
свойственным ему веселым равнодушием к трудностям, и под его
влиянием Ницше тоже попытался решить проблему при
помощи двух самодостаточных принципов: Аполлон и
Дионис в «Рождении трагедии» соответствуют не только
интеллекту и воле, взятым из Шопенгауэра, но в еще
большей степени искусству и природе, взятым из
Вагнера. Человек идет по неверному пути, говорит Вагнер, так
как интеллект уводит его от природы, но «Ошибка —
мать Знания, и история рождения Знания из Ошибки —
это история человеческой расы». Вагнер никогда не
задается вопросом, как же может случиться, что
продолжительное заблуждение в конечном итоге приводит к знанию,
и в произведениях Ницше нет большего символа его
освобождения от влияния Вагнера, чем абзац, открывающий
«Человеческое, слишком человеческое», в котором он
ставит под вопрос именно это положение:
«Почти все философские проблемы и поныне
представляют собой тот же вопрос, что и две тысячи лет назад: как
может что-то рождаться из своей противоположности,
например, рациональное из иррационального, чувствующее из
мертвого, логическое из нелогического, бескорыстное
созерцание из страстного хотения, жизнь для других из эгоизма,
истина из заблуждения? Метафизическая философия
доселе преодолевала эту трудность тем, что отрицала
происхождение одного из другого, полагая, что чудесным источником
всякой более высоко ценимой вещи является самое ядро и
существо «вещи в себе». С другой стороны, историческая
философия, которую уже более нельзя отделять от
естествознания, самого молодого из всех философских методов,
установила для отдельных случаев... что здесь вообще нет
4 Р.Дж. ХоАлннгдейл Q"7
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
противоположностей... и что в основе этой антитезы лежит
ошибка в рассуждениях. При такой трактовке не
существует, строго говоря, ни неэгоистического действия, ни
совершенно бескорыстного созерцания; и то и другое лишь
сублимация, при которой основной элемент кажется почти
полностью растворенным и обнаруживает себя только при
самом скрупулезном наблюдении» (ЧС, 1).
Этот абзац — водораздел в философии Ницше: по
одну сторону находится дуализм, унаследованный им от
Вагнера и Шопенгауэра, по другую — монизм, к
которому он пришел самостоятельно.
Какое-то время он воспринимал, хотя бы отчасти,
теорию Вагнера о Gesamtkunstwerk — всеохватном
произведении искусства, но он никогда не принимал мистического
вагнеровского «народа». Его пылкое изображение народа
как гения не имело на Ницше никакого воздействия, даже
при первой вспышке его энтузиазма в 1869 г., и в своей
лекции о «Гомере и классической филологии» он выходит
из привычного русла, чтобы вылить свой сарказм на идею
о том, что поэзия является порождением народных масс.
«Массы никогда не испытывали столь лестного
обращения, как тогда, когда их пустые головы венчали лаврами
гения, — говорит он, — противоположения народной
поэзии и индивидуальной поэзии вовсе не существует». В
статье «Произведение искусства будущего» Вагнер
несколько строк посвятил Гомеру:
«Никоим образом не был и подлинный народный эпос
всего лишь воспроизводимым наизусть стихом: песни
Гомера, какими мы их знаем, исходят из критического
отсева и компиляций того времени, когда подлинный эпос уже
давным-давно прекратил свое существование... Прежде
чем эти эпические песни стали объектом... литературной
заботы, они процветали в среде народа, восполняемые
голосом и жестом, как телесно воплощенное творение
искусства».
98
ВАГНЕР, ШОПЕНГАУЭР, ДАРВИН И ГРЕКИ
«Илиада», оказывается, была общинной
музыкой-драмой, но музыка была утрачена, и все, что нам осталась, —
«всего лишь» стих. Кажется, Ницше напрямую возражает
этому, говоря о Гомере, что «нам ничего не дает наша
теория поэтической души народа... нас всегда отсылают
обратно к поэтической личности».
Согласия и разногласия в теории имели, однако,
второстепенное значение. Гораздо важнее были личные
взаимоотношения. Хорошо известен собственный вывод
Ницше: «Я готов уступить все свои прочие человеческие
отношения: но ни за какую цену я не отдал бы из своей
жизни дни в Трибшене те дни взаимного доверия,
жизнерадостности, возвышенных эпизодов — глубинных
моментов. Я не знаю, что переживали другие рядом с
Вагнером: по нашему небосклону не пробежало ни одно
облачко» (ЕН, II, 5). Уже говорилось о том, что факты
не подтверждают это идеализированное представление, и,
поскольку «Ессе Homo» обычно не принимается во
внимание, представляясь последними неподконтрольными
словами разума на грани помрачения, все, что касается
Вагнера, также не берется в расчет. Однако «Ессе Homo»
вполне ясно повествует о Вагнере, и то, о чем здесь
рассказано, осталось в душе Ницше от тех прожитых в
Трибшене лет; это то, что он помнил о своей жизни с
Вагнером по прошествии шестнадцати лет. Он говорит:
«по нашему небосклону не пробежало ни одно облачко».
Мы не обязаны понимать это дословно и, слыша рокот
грома, заявлять, что его память нарушена. Все, что он
вспоминает, относится к ситуации в целом, и, когда он
говорит, что в обществе Вагнера был счастливее, чем в
компании любого другого человека, у нас нет иного
выбора, как только верить ему. Общим местом в
комментариях стала фраза о том, что Вагнер стал ему «отеческой
фигурой», и, действительно, были особые причины на то,
почему он более всех соответствовал тому, чтобы принять
99
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
на себя роль, которую двадцать лет назад оставил пастор
Ницше. Он был как раз того же возраста, что и пастор
Ницше, будь он жив, — оба родились в 1813 г. Вагнер
родился в Лейпциге, и его выговор сохранил отчетливый
след саксонского диалекта, который он иной раз
форсировал ради комического эффекта; фактом является и то,
что он внешне походил на пастора1. Но хотя Ницше,
возможно, и понимал, что Вагнер принял на себя отеческую
роль в его жизни, он нигде не пытался объяснить этим
обстоятельством свою привязанность к Вагнеру. А говорит
он вот что:
«У меня, такого, как я есть, чуждого в своих
глубинных инстинктах всему немецкому, так что одно
присутствие немца затрудняет мое пищеварение, при первом
контакте с Вагнером впервые в жизни перехватило
дыхание: я чувствовал, что благоговею перед ним, как
перед существом из внешнего мира [als Ausland], иным,
воплощенным протестом против всех «немецких
добродетелей»... Вагнер был революционером — он бежал от
немцев... Немец добродушен — Вагнер никоим образом
не добродушен... [Той же терминологией Ницше
пользуется, когда пытается объяснить, почему наступил конец
их дружбе.] Чего я никогда не простил Вагнеру? Того,
что он унизился до немцев — стал reichdeutsch».
В свои поздние годы он использовал имя «немец» как
идеограмму того человеческого типа, какой представлялся
ему в лице соотечественников: человек среднего класса,
убежденный конформист по образу мысли и морали,
ungeistiger Mensch (бездуховный человек. — Примеч. пер.);
1 Рихард Блунк. Op. cit., содержит фотографию пастора Ницше.
Сходство с Вагнером, пусть и не вполне строгое, достаточно очевидно, чтобы
явиться поразительным и несомненным в глазах сына. Блунк утверждает, что
Вагнер и Ницше состояли в отдаленном родстве: их матери имели общего
предка в лице Каспара Шпереля, или Шперля, жившего приблизительно в
1530—1600 гг. и бывшего бургомистром Зальбурга.
100
ВАГНЕР, ШОПЕНГАУЭР, ДАРВИН И ГРЕКИ
с этой точки зрения Вагнер был решительно «не-немец».
И это его характер, особенно заметный на фоне
привычного окружения, его чуждое и бунтарское поведение
возбуждал воображение Ницше. Современники Вагнера
достаточно хорошо представляли себе, к какой человеческой породе
он принадлежал: к породе отъявленных богемцев. Начиная
с «Тангейзера» в его операх проявляется неподдельное
презрение к привычным нормам поведения, и нет такого ваг-
неровского героя, который не попирал бы их. (Даже в
добродушном «Мейстерзингере» представители зажиточного
среднего класса являются предметом насмешек.) Что
касается его собственного поведения, то он кроил свою мораль
с безразличием к общественному мнению, как Гете или
Рембо. Богемианизм его темперамента находил свое
внешнее выражение в иностранной одежде: когда Ницше
впервые был принят в Трибшене в Духов день (в понедельник
утром, 1869 г.), Вагнер был одет в костюм голландского
художника — черный бархатный жакет, бриджи, шелковые
чулки, башмаки с пряжками, берет а-ля Рембрандт и ярко-
синий галстук. Приподнятая роскошь помещения — стены,
обитые штофом, обилие предметов искусства, духи —
пользовалась той же славой, что и его оперы, и составляла
предмет насмешек в мещанском мире. Его эгоизм
всенародно считался перешедшим все границы разумного, а для
многих благонамеренных граждан он был просто сумасшедшим:
к байрейтскому предприятию относились как к проекту ме-
галоманьяка, для которого существующие оперные театры
недостаточно хороши. Своим близким Вагнер также казался
не менее ненормальным, чем всему остальному миру. Они
знали, как он невероятно требователен, как многого он
хотел от своих друзей. Но его гениальность была настолько
очевидна, что многие чувствовали, что служат собственным
высшим интересам, служа ему. Это был «воплощенный
протест» против всего «немецкого», который поначалу
очаровал, а потом завоевал Ницше, и он никогда не отрицал
этого очарования, даже тогда, когда решил, что Вагнер
декадент.
101
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
Несколько слов о Козиме. В то время, о котором мы
повествуем, она была, как никто другой, предана Вагнеру,
и, хотя она, насколько нам известно, неизменно
по-доброму относилась к Ницше, у нее тоже была склонность
обращаться с ним с известной долей превосходства. Она, не
задумываясь, могла резко отозваться о его работах, если в
них он не достигал высот, которых она и Вагнер ждали от
него, — попросту говоря, когда он высказывал суждения,
отличные от Вагнера, или, еще того хуже, когда эти
суждения и вовсе не имели к Вагнеру никакого отношения. Она
редко просила его о чем-то и приглашала в Трибшен
потому, что его присутствие было благотворно для Вагнера.
Несмотря ни на что, она произвела глубокое впечатление на
Ницше. Он написал свои «Пять предисловий к пяти
ненаписанным книгам» в качестве подарка Козиме; в его
видениях поздних лет она играет роль Ариадны при нем,
Дионисе (Вагнер — Тезей), а среди писем, отправленных им
уже после помешательства, есть одно, адресованное ей, где
сказано просто: «Ардадна, я люблю тебя. Дионис». Потом,
находясь в клинике Иены, он, судя по записям, как-то
сказал: «Сюда меня привезла моя жена Козима Вагнер».
2
Привязанность Ницше к Вагнеру укреплялась
благодаря их общей привязанности к Шопенгауэру, и характерно,
что в 1876 г. одновременно с разрывом отношений с
Вагнером Ницше порывает и с Шопенгауэром. И несмотря на
его репутацию «ученика» Шопенгауэра, его конечная
философия противостоит Шопенгауэру по каждому пункту.
Что более всего импонировало Ницше, так это его личность,
с которой у самого Ницше довольно много общего.
В 1880 г., когда Ницше был увлечен Шопенгауэром,
профессор В. Уоллис высказал несколько существенных
замечаний об отличиях философии Германии и Англии
того времени:
102
ВАГНЕР, ШОПЕНГАУЭР, ДАРВИН И ГРЕКИ
«С учетом ряда ярких исключений, можно сказать, что
в Англии... университеты не были клапаном философских
паров, и профессиональный элемент был полностью
вторичен. В Германии, напротив, сокровища ученой
мудрости были вверены хранению избранникам официального
статуса — преподавателям университетов... В то время как
немецкая философия пользовалась собственным
техническим наречием, английская излагалась обычным
литературным языком. Шопенгауэр более напоминает нам Англию,
нежели Германию. Для труда системного учителя ему не
хватало обязательного обучения методическим навыкам и
еще в большей степени — регулярного, детального, почти
прозаического умения ограничивать нашу мудрость
объемами, доступными потреблению публики, чему
способствует не столько философский запал, сколько тесные рамки
академических построений. Но если он не годился в
учителя той системной логики и этики, коим никогда
специально не обучался, то своим дилетантизмом, литературным
даром, своим интересом к проблемам, как они поражают
природный ум, он был способен вдохновить, повести, даже
очаровать тех, кто, как и сам он, ведом темпераментом,
ситуацией, внутренними проблемами, чтобы вопрошать о
всех «почему» и «для чего» в этом непонятном мире»1.
В этом абзаце имя Шопенгауэра можно заменить
именем Ницше, не погрешив против истины. Как
Шопенгауэр, он был настоящим философом, работавшим вне
дисциплины, в поле которой обычно трудятся все немецкие
философы; точно так же он понял, что, возможно, именно
по этой причине его путь к познанию очень тяжел.
Книга «Мир как воля и представление» вышла в
конце 1818 г. (на титульном листе значится 1819 г.),
опубликованная лейпцигским издательским домом Брокгауза.
Когда в 1834 г. Шопенгауэр поинтересовался, сколько
1 Wallace W. Life of Arthur Shopenhauer (Жизнь Артура Шопенгауэра).
London, 1890. P. 11.
103
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
осталось экземпляров, ему сказали, что совсем немного —
подавляющая часть издания была за бесценок сдана на
макулатуру. Работа действительно не вызвала никакого
интереса. Шопенгауэру было 30 лет, когда появилось его
великое произведение. В 1844 г., в возрасте 56 лет, он
уговорил Брокгауза осуществить второе издание, но
признание и успех по-прежнему сторонились его, пока в 1851 г.
он не опубликовал работу «Parerga und Paralipomena»
(изощренно педантичное название, приблизительно
означающее «О том о сем»). Гораздо более доступный, чем
основной труд философа, этот сборник статей открыл
огромному количеству читателей появление в их среде
писателя и мыслителя высочайшего ранга. Успех книги
возбудил интерес к «Миру как воле и представлению», и
в 1856 г. философский факультет в Лейпциге объявил
конкурс на изложение и критику философии
Шопенгауэра. С этого момента и до самой смерти в 1860 г. он был
знаменит, однако не столь знаменит, как бы ему того
хотелось, по коей причине он и умер человеком
ожесточенным и разочарованным.
Та мера воздействия и понимания, о которой он так
мечтал, пришла к нему только посмертно. Мы уже знаем,
что Ницше не был знаком с его основным трудом вплоть
до 1866 г., когда он впервые прочел его, но задолго до
того Шопенгауэр покорил Рихарда Вагнера, и в 1860—
1870-х гг., с ростом мировой славы Вагнера и посредством
его личной пропаганды, мир больше узнал и о
Шопенгауэре. К тому же под его магию подпали молодые люди,
вроде Ницше, и к середине 1870-х гг. его имя приобрело
примерно такую же известность в Германии, как имя Шоу
в первые годы двадцатого века в Англии. И все же он был
одинок на своей вершине: ни Вагнер, ни Ницше, его
самые знаменитые «ученики», не заслуживают этого
титула, и настоящим его преемником, если вообще можно
говорить о таковых, был Пауль Дойссен.
Говоря о Шопенгауэре, следует различать три аспекта
его работ: его философию, философствование и его дея-
104
ВАГНЕР, ШОПЕНГАУЭР, ДАРВИН И ГРЕКИ
тельность популяризатора философии Востока. Как сам он
говорит в предисловии к первому изданию «Мира как воли
и представления», его философия — не система, это
«единая мысль», которую нельзя развить, можно лишь
совершенствовать, и сам Шопенгауэр отработал ее до последней
точки, не оставив ученикам ничего, кроме как
возможности согласиться. «Влияние» этой единой мысли с тех пор
исчерпало себя, и, если бы его наследием было только это,
сейчас от него осталось бы только имя в истории
философии. Но было и кое-что еще: и его основной труд, и «О
том о сем» исполнены истинной мудрости и оригинальных
мыслей, облеченных в самый привлекательный
литературный слог, каким в ту пору владели немецкие философы.
Именно этот Шопенгауэр знаменит, именно его до сих
пор читают, и именно у него не могло быть «преемника»,
как, скажем, у Эмерсона или Карлейля, с которыми он
схож по части значительности тона и независимости ума.
Единственным аспектом, где он мог служить отправной
точкой дальнейших изысканий, была популяризация на
Западе положений индийской философии, и именно здесь
деятельность Дойссена можно назвать плодотворным
продолжением усилий Шопенгауэра. Ницше воспринял из
Шопенгауэра то, что ему было нужно, отсеяв все прочее;
Вагнер, как и Ницше, был в восторге от работы «Мир как
воля и представление», но, не обладая способностью
критически оценить ее, просто предался ей в той мере, в
какой это не угрожало его пониманию самого себя. Дойссен
же, в отличие от них, выучил санскрит, занялся
изучением индийской философии в подлинниках и посвятил свои
таланты переводам и ознакомлению с ней Запада. Его
вдохновляла уверенность в том, что Шопенгауэр
продемонстрировал великую ценность до сих пор мало
известного мира мысли и что заложенная там мудрость была
идентична мудрости философии самого Шопенгауэра.
В пылу начального энтузиазма Ницше принял
Шопенгауэра tout court и «отрицал волю» столь же страстно, как,
полагал Вагнер, и он сам. (Философию Шопенгауэра
105
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
справедливо упрекают в том, что ее конечный призыв к
«отрицанию воли» практически неосуществим. Ни Ницше,
ни Вагнеру, несомненно, искренне верившим ему, не под
силу оказались те тысячи миль аскетической святости,
которой требовал моралист. Сам Шопенгауэр был
известным любителем красивой жизни, и Ницше не упустил это
обстоятельство из виду, приступая к написанию четвертой
части своего «Заратустры», где появляется Шопенгауэр.)
То была временная стадия, почти не оставившая следа в
его собственной философии. Но он удержал в сознании
образ философа, который не останавливался ни перед чем
в поисках истины, который не боялся «суровой правды»
и был уникальным явлением среди немецких философов по
части изложения, ибо не следует забывать, что доля
воздействия Шопенгауэра, причем доля немалая, заключалась
не в том, что он говорил, а в том, как он говорил.
Блестящий стиль конечно же является ключом к разгадке того,
каким образом столь странная и беспомощная доктрина,
как шопенгауэровская, сумела овладеть умами столь
многих молодых людей при постулатах, противоречащих тому,
что большинство молодежи полагает стоящим.
Шопенгауэр обращался к ним напрямую, как художник, и
предлагал познать, объяснить и овладеть «миром, жизнью...
Адом и Раем» единым порывом вдохновения. Порвав с
христианством и религией, Ницше заговорил о парусе в
море сомнений, в середине которого часто обуревает
тоска по твердой земле, — Шопенгауэр был той самой
твердой землей, к которой он иногда приставал отдохнуть.
Хотя позже он посмеивался над колоссальным
несоответствием между доктриной Шопенгауэра и тем образом
жизни, который в действительности вел философ, в целом
Ницше никогда не терял уважения к «франкфуртскому
святому», от которого впервые получил откровение, как
может философ работать совершенно в одиночку и при
этом выйти победителем. Что же касается собственно
философии Шопенгауэра, то уважение к ней он в конце
концов утратил, полагая ее не только полностью ошибоч-
106
ВАГНЕР, ШОПЕНГАУЭР, ДАРВИН И ГРЕКИ
ной, но и проявлением декаданса западного человека. Да,
он вынес из нее концепцию верховенства воли, но его воля
к власти настолько отлична от шопенгауэровской воли, что,
кроме слова «воля», эти два принципа по сути своей не
имеют ничего общего, и, будь Ницше более тщателен в
терминологии, он мог бы применить какое-то иное
выражение.
Истоком философии Шопенгауэра был Кант, чьим
преемником считал себя Шопенгауэр, и исходит она из
двух основных умозаключений Канта: во-первых, что
мир объективной реальности — мир «кажущийся», и,
во-вторых, что в жизни человека практическая причина
первична, а теоретическая вторична. Кантианский мир
ноумена и феномена, вещи-в-себе и видимости,
претворяется в шопенгауэровский мир воли и представления;
теоретическая причина Канта тождественна интеллекту,
практическая — воле, причем воля первична, интеллект
вторичен.
В его диссертации «О четверояком корне закона
достаточного основания» (1813) Шопенгауэр перечислил
четыре вида знания: логическое, этическое, научное и
математическое. Ни одно из них, говорил он, не выводит за
грань установления отношений между представлениями.
В работе «Мир как воля и представление» он говорит о
другом виде знания, которое связывает не представление
с представлением, а представление с данной реальностью:
знание себя. «Единая мысль», которая воплощает его
философию, сводится к следующему положению: «Мое тело
и моя воля — одно». Я представляю себя объектом,
подобным прочим предметам, в пространстве и времени —
«феноменом»; но я также представляю себя субъектом,
живущим, ощущающим, страдающим, желающим, или —
в терминологии Шопенгауэра — волей. Эта форма
восприятия радикально отличается от интеллектуального
восприятия. Интеллект членит реальность на фрагменты, и
107
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
все, что он видит, является «кажимостью» или
«представлением». Но непосредственное осознание самого себя не
является представлением такого рода: через знание себя
как воли я чувствую внутреннее единство жизни, вне
пространства и времени. Поскольку интеллекту свойственно
членить и изолировать вещи, в обычной жизни мы
воспринимаем себя как индивидуумов, как изолированные
объекты. Но всякое знание относительно и зависит от другого
знания, и членение мира неполно даже на
интеллектуальном уровне. Есть базовое единство, связующее все вещи,
и это базовое единство постигается нами путем только
что описанного знания: мы постигаем тождество нашего
физического тела и нашей нематериальной воли, и этот
принцип тождества есть ключ к единству всех вещей,
материальных и нематериальных. Шопенгауэр особо
подчеркивает абсолютную противоположность интеллекта и воли
и ограничивает атрибуты воли неудовлетворенной жаждой
жизни, а все прочие свойства, в том числе и сознание,
приписывает интеллекту. Причина, по которой он так
поступает, становится ясна из следующей ступени его
доводов: если мы можем понять, что наши тела суть внешняя
форма нашей воли, а наша воля есть внутренняя форма
наших тел, мы должны понять, что все прочие объекты
также являются внешней формой их внутренней воли.
Воля, которую мы ощущаем как свое подлинное бытие,
является также подлинным бытием всех вещей; а
поскольку время, пространство и обособленность суть свойства
только мира феноменального, то ноуменальный мир воли
должен быть един и невидим.
Мир, как его видит Шопенгауэр, двойствен: это
внешний мир событий, объектов, времени, пространства,
причины и воздействия, явлений, «представлений» и
внутренний мир молчания, вне времени, пространства, причины и
воздействия, мир ноуменов, вещь-в-себе, одна вездесущая
«воля». Воля — первичная сила жизни; она
поддерживает вселенную; она буквально «приводит мир в движение»,
так как Шопенгауэр отождествляет ее с такими физичес-
108
ВАГНЕР, ШОПЕНГАУЭР, ДАРВИН И ГРЕКИ
кими силами, как гравитация, а также с инстинктами
животных и слепым побуждением растительного мира.
Интеллект развился как «орудие» воли и потому вторичен по
отношению к ней; но те особо устроенные индивидуумы,
в ком развит интеллект, могут высвободить его из-под
власти воли. Интеллект, полностью свободный от воли,
Шопенгауэр называет «гением».
Самая сложная проблема философии Шопенгауэра —
это его этические суждения о том, что индивидуальная
воля есть зло и ее следует отрицать. Причины, почему это
так, следующие. Индивидуум, в буквальном смысле, есть
воплощенная воля: единство ноуменального мира
расчленено в феноменальном мире на множество отдельных
«воль», каждая из которых является воплощением
первичной силы жизни. Индивидуум как часть воли вступает в
жизнь с намерением существовать как можно дольше; он
не может поступить иначе, ибо воля, по сути, является
жаждой жизни, волей к жизни. В результате он
вынужден воспринимать все предметы и всех прочих людей
относительно самого себя и в конечном итоге использует
все вещи и всех людей так, как если бы они
существовали ради его выгоды. Но поскольку другие вещи и другие
люди ощущают себя точно так же, то результатом
оказывается всеобщий конфликт. Конфликт порождает
несчастье; где воля, там страдание; природа воли заключается в
борьбе, и эта борющаяся воля всегда будет порождать
ссоры, и несчастье всегда будет преобладать над
счастьем. Единственным благом служит отрицательное благо
совершенствования: счастью никогда не суждено быть
положительным качеством, это всего лишь уменьшение
страдания. Жизнь неизлечимо несчастна, и ответ этому
того, кто все осознал, состоит в отрицании: он «отрицает
волю», отрекается от борьбы, освобождается от оков
желания и становится аскетом и святым, ожидая только
избавления от жизни. Смерть, под которой Шопенгауэр
подразумевает полное исчезновение, есть единственное
реальное благо; перед смертью хороша та жизнь, что со-
109
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
ответствует типу гения, святого, с которым «остается лишь
знание: воля исчезает». Таков «пессимизм»
Шопенгауэра — его убежденность в том, что жизнь неизлечимо зла,
и это отличает его философию от всех прочих.
Глубинное отличие зрелой философии Ницше от
Шопенгауэра заключается в том, что Ницше не метафизичен,
а материалистичен, и его воля властвовать над
следствиями, полученными в результате наблюдений, не является
метафизическим постулатом, подобным воле к жизни
Шопенгауэра.
Мы говорили о том, что Ницше сумел сочетать свое
увлечение Шопенгауэром с восхищением «Историей
материализма» Ф.А. Ланге, а когда его пыл поостыл, он
принял позицию, настолько родственную Ланге, что
наше предположение относительно прямого влияния этой
работы на Ницше кажется вполне оправданным. Ланге,
как и Шопенгауэр, был преемником Канта, но
решительно иным. Согласно Ланге, конечная реальность не
только непознаваема, как полагал Кант, но самая идея
ее (представление о ней) является следствием нашего
образа мысли; иначе говоря, понятие вещи-в-себе
является частью феноменального мира. В переводе на
терминологию Шопенгауэра воля есть не что иное, как еще
одно представление. Ибо даже представление конечной
реальности должно принадлежать плану кажимости,
говорит Ланге, ничего внятного о ней сказать нельзя, и
философов должен заботить только материальный мир —
мир феноменов, единственный, который мы знаем. Хотя
Ницше иногда забывает об этом и пишет о воле к
власти и вечном возвращении, как если бы он описывал
конечную реальность, его настоящая позиция не
оставляет сомнений: и то и другое — понятия
материалистические, как они представлены у Ланге. И это четко
подтверждается его принципиальным отношением к
понятиям «потустороннего», «реального мира» и вещи-в-
себе: он снова и снова разными способами повторяет, что
они не существуют. Самая известная его формулировка
110
ВАГНЕР, ШОПЕНГАУЭР, ДАРВИН И ГРЕКИ
ориентации на «эту сторону» — «Бог мертв». Это
подразумевает, что все, что когда-либо было или могло бы
быть отнесено к названию «Бог», включая все его
замещения — иные миры, конечную реальность, вещи-в-
себе, ноуменальные планы и волю к жизни, — все это
«метафизическая потребность» человека и все суть его
собственные порождения.
Есть и еще два существенных отличия. Первое лежит
в области темперамента. Основой мировоззрения
Шопенгауэра является представление о том, что жизнь — это
страдание, и это вывод темперамента. Оно не
подтверждено и не может быть подтверждено; Шопенгауэр просто
ощущает, что это так, и мобилизует всю свою риторику,
чтобы передать эту свою убежденность читателям. Но
если читатель не чувствует, что счастье есть только
сокращение страданий, и убежден в том, что жизнь иногда
доставляет удовольствие, — тут уж Шопенгауэр бессилен.
Чтобы быть шопенгауэрианцем, нужно быть пессимистом.
Правда, и в характере Ницше была сильная жила
пессимизма, и именно это поначалу привлекало его в
Шопенгауэре. Но это не был довлеющий элемент, и в конечном
итоге пессимистическое отношение к жизни, как таковой,
оказалось для него невозможным. В каком-то смысле он
перенес его с жизни на человека, так, что сумел
примирить фундаментальный оптимизм касательно природы
жизни с пессимизмом касательно массы человечества. Он
не отрицал, что жизнь во многом является страданием, но
при этом считал, что счастье дается ценой страдания и что
желать счастья без страдания — значит испрашивать
невозможное. Второе отличие состоит в том, что
Шопенгауэр не сумел избавить свою философию от присущего ей
дуализма, который сильно расшатывает некоторые ее
стадии; Ницше, преодолевший дуализм уже на ранних
стадиях своей философии, сумел придать ей вид логически
более привлекательного монизма. Дуалистическая
тенденция Шопенгауэра присутствует в изначальной дихотомии
воли и представления и усиливается еще в большей сте-
111
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
пени его настоятельным утверждением о полной
противоположности воли и интеллекта. Приблизительно та же
двойственность в раннем Ницше представлена Дионисом
и Аполлоном в «Рождении трагедии», и вопрос В. Кауф-
манна «Откуда родом Аполлон?» содержит в себе протест
шопенгауэровскому «Откуда родом интеллект?».
Шопенгауэр отвечает, что интеллект является порождением воли
в виде своего орудия, но ничто так убедительно не
указывает на метафизический характер его философии, чем
его неспособность объяснить, как же именно он был
порожден или почему, если интеллект исходит из воли, он
есть ее полная противоположность. (Ответ на последний
вопрос заключается в том, что он, интеллект, должен быть
таковым, если воля является единой, равно присущей всем
и вся, чтобы признать за волей все атрибуты, отличные от
тех, которые сама воля признает атрибутами
неодушевленных предметов, которыми те явно не обладают. Вот
почему сознание должно быть атрибутом интеллекта, а не
воли.) В полной мере эта двойственность сказывается
только в финале, то есть тогда, когда святой
преодолевает волю, и «остается лишь знание: воля исчезает». Как это
возможно, при всем, что происходило ранее, Шопенгауэр
так никогда и не объясняет. Скверно то, что
первоначальная двойственность оказалась весьма упрямой. Интеллект
не может преодолеть волю, пока он тоже не будет ею
наделен, а воля есть как раз то, что ему противоречит; и,
наоборот, если интеллект все-таки побеждает волю, он
сам должен быть ее аспектом, вероятно осознанным.
Такому решению мешает настойчивое утверждение
Шопенгауэра, что воля является тотальным злом, что ее следует
«отрицать» (то есть преодолевать) и что в святом она
побеждена. Конечные стадии его философии в
действительности представляют собой нечто большее, чем просто
изложение того, что, сам Шопенгауэр полагает, должен
почувствовать человек, прочитавший его философию, и
какими побуждениями ему следует руководствоваться. Он
надеется, что святой пожелает отрицать волю; чем при
112
ВАГНЕР, ШОПЕНГАУЭР, ДАРВИН И ГРЕКИ
этом является таковое желание, если не собственно волей,
Шопенгауэр объяснить не может. Сделав волю верховной
метафизически и затем сказав, что она есть зло, он лишил
«благо» всякой собственной воли. И вот результат: волю
нельзя отрицать, зло нельзя одолеть или хотя бы
сократить — ситуация свидетельствует о еще большем
пессимизме, нежели сам Шопенгауэр себя оценивал.
Наконец, forts et erigo^ ошибок, которыми пронизана
философия Шопенгауэра, — это способ, каким он
освобождается от высшей реальности. В работе «Мир как воля
и представление» он рассуждает о воле как высшей
реальности бытия в выражениях, очень схожих с речами
некоторых религиозных апологетов о Боге. Представляется
абсолютно невероятным, что природа «высшей
реальности» когда-нибудь станет доступна ограниченному
человеческому разуму или что о ней будет когда-нибудь сказано
что-либо дельное. Когда Шопенгауэр полагал, что достиг
самой сердцевины существования одним прыжком, он
допустил грубую ошибку в оценке означенного расстояния.
Ницше, которого многие обвиняют в высокомерии, был в
этом отношении просто образцом скромности: ни воля к
власти, ни вечное возвращение не претендуют на
описание высшей реальности, которая признается непознаваемой
и потому не обсуждается. И в этом тоже сказывается
колоссальная разница между Ницше и Шопенгауэром.
Теории искусства Вагнера и философия Шопенгауэра
отняли у Ницше изрядную долю времени в годы его
пребывания в Лейпциге и Базеле и ничего не привнесли в его
зрелую философию. (Иное дело — влияние личности
Вагнера и примера Шопенгауэра.) Оба они, строго говоря,
эксцентричны, тогда как мысль Ницше является частью
генерального направления западной философии и
напрямую связана с важнейшими проблемами «прогнозирова-
1 Источник и возбудитель (лат.).
113
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
ния» современного человека. Вагнер и Шопенгауэр
принадлежат девятнадцатому веку, Ницше — предтеча века
двадцатого в том смысле, что он предвосхищает то, что
сегодня является частью сознания каждого мыслящего
человека. Философия Ницше обозначила кризис
человеческой деятельности, на что нет и намека ни у Вагнера,
ни у Шопенгауэра. Чтобы проследить генезис этой
философии, мы должны расстаться с ними и обратиться к трем
другим явлениям, занимавшим в те годы внимание
Ницше: это философия Греции, разочарование в христианстве
и вопросы, поднятые Дарвином в его теории эволюции
путем естественного отбора.
3
Каждый философ, чья мысль является крупным
вкладом в философию, поначалу сталкивается с некоей
новой ситуацией, которую, как он полагает, никто, кроме
него, не способен осознать и объяснить. Классический
тому пример — Кант, «пробудившийся от своей
догматической спячки» пониманием того, что основные
положения британской философии, особенно Дэвида Юма,
ввергли мир в состояние необъяснимости и разрушили те
основы, на которых прежде делались попытки дать
этому миру объяснение. Теперь было довольно сложно
опровергнуть их доводы; попросту говоря, умозаключения
английской философии были справедливы, но
неприемлемы. Для Канта Юм представлял опасность, которой
нельзя было пренебречь; с ней следовало сойтись в
открытую и создать новую картину мира, которая
принимала бы во внимание юмовскую, но не сводилась бы ею
на нет. Философия Канта стала ответом на вызов
британского нигилизма — таков же и смысл философии
Ницше. Главным противником был тогда Чарльз
Дарвин, в чьем лице снискала славу теория эволюции. Нет
необходимости специально указывать на то, что он не
114
ВАГНЕР, ШОПЕНГАУЭР. ДАРВИН И ГРЕКИ
был автором этой теории; но есть необходимость
подчеркнуть, что до Дарвина эта теория была одной из
многих, касающихся происхождения человеческой расы,
тогда как после Дарвина она считалась доказанной.
Кризис философии, спровоцированный Дарвином, был,
по существу, кризисом эволюции, ставшим насущной
«проблемой» лишь после того, как своей гипотезой
естественного отбора ученый доказал, что существует
некий механизм, с помощью которого этот отбор мог бы
происходить. Ницше принял фундаментальный смысл
гипотезы Дарвина, а именно что человечество
эволюционировало чисто натуральным путем через случайность:
похоже, существовала некая цель этой эволюции, но
Дарвин показал, что тот способ, которым
эволюционировали высокоорганизованные животные и человек,
заключался, возможно, в случайных видоизменениях особей.
Естественный отбор был для Ницше, по существу,
эволюцией, свободной от всякой метафизической
подоплеки: до простого, но основательного открытия Дарвина
было сложно отрицать, что мир следует некоему курсу,
заданному головным предприятием; после него
необходимость такого головного предприятия исчезла, и то, что
казалось упорядоченным движением, теперь объяснялось
чистой случайностью. «Вся природа мира, — писал
Ницше в «Веселой науке», — это... хаос
бесконечности» (ВН, 109), и эта мысль, ставшая основой его
философии, возникла непосредственно из его понимания
Дарвина.
Дарвинизм довершил взгляд на действительность,
который вызревал в уме Ницше в течение юности.
Во-первых, он утратил веру в доказательность религии: отныне
смысл реальности был тайной. Он обратился за
разъяснениями к Шопенгауэру, но в то же время вырабатывал
противоядие против него на работах Ланге.
Метафизический мир закрыт для человека — был ли он открыт Шо-
115
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
пенгауэру? Нет, потому что он непознаваем. Все, что
составляло предмет размышлений, было «представлением»;
представлениями, соответственно, были и вещь-в-себе, и
воля, — весь мир метафизики был представлением. Это
отношение и принял Ницше. Феноменальный мир был
единственным, где люди не имели возможности
«соприкасаться» со сверхчувственной реальностью. И даже в том
случае, если факт эволюции предполагал внешнюю силу,
управляющую миром, Дарвин доказал, что и тогда в
гипотезе головного предприятия не было нужды, чтобы дать
объяснение наблюдаемым явлениям.
Последствия не замедлили сказаться. Бог, коли
таковой существовал, был непознаваем: он мог быть не более
чем представлением в умах человечества. Ничто
существующее в феноменальном мире не исходит «извне». Если
вселенная и познаваема, то она должна быть познаваема
изнутри. Отчасти эту познаваемость объяснил Дарвин:
«божественные» атрибуты человека на самом деле
отпущены ему животным миром. Никаких контактов с
«потусторонним» у человека не было, он ничем не отличался от
любого другого существа. И как Бог был смыслом
вселенной, так человек был смыслом земли. Таким образом, и
Бог, и человек в их прежнем понимании более не
существовали. Понятия вселенского и земного теряли смысл.
Ощущение, что этот смысл улетучился, похоже,
ускользнуло от внимания тех, кто приветствовал Дарвина как
благодетеля человечества. Ницше считал, что эволюция
давала верную картину мира, но что картина эта пагубна.
Его философия явилась попыткой выработать новую
картину мира, которая принимала бы во внимание дарвинизм,
но не сводилась бы им на нет.
Знание и любовь Ницше к античной Греции были
чрезвычайно глубоки, в этом отношении он особенно
прославился тем, что отверг мнение Винкельмана и Гете
о греках как о расе прекрасных детей, увидев в них же-
116
ВАГНЕР, ШОПЕНГАУЭР, ДАРВИН И ГРЕКИ
стокий, свирепый и воинственный народ, который создал
культуру уникальной ценности умением управлять
своими импульсами и перенаправлять их. Он показал,
насколько эллинский мир обязан шестому веку (до н. э.),
который ранее считался чуть лучше варварского пролога
доблестям пятого; и вполне вероятно, что, даже если бы
Ницше сам по себе не был оригинальным мыслителем,
его бы помнили за экспозицию той эпохи. Его чувство
к Греции шестого века настолько очевидно, что следует
задуматься, не повлияло ли оно на его философию. Я
полагаю, что в этом не остается никакого сомнения, если
вникнуть в его мысли о сходстве времени, в котором он
жил, со временем философов-досократиков1. Ситуацию
своего времени он характеризовал как
«нигилистическую»: ценности и значения утратили свой смысл, и
философия столкнулась с необъяснимой вселенной в той
мере, в какой этого не случалось с доплатоновской
эпохи. Начиная с Платона, философия основывалась на
предположениях, более не представляющих ценности, и,
чтобы найти философов, которые стояли перед
решением проблем, не имея предварительных исходных
посылок, следует вернуться к Гераклиту, Пифагору и
Сократу.
Ницше не только обнаружил природу своей дилеммы
у греков, он также нашел ключ к ее решению. Задолго до
того, как он сформулировал теорию воли к власти, он
обнаружил, что движущей силой культуры эллинов было
состязание, агон, желание превзойти. Неудовлетворенный
приобретенной картиной жизни в античном обществе, он
задействовал свое мастерство классического филолога,
чтобы составить для себя соответствующую картину, как он
полагал, более близкую к истинному положению дел. Это
1 Сам Ницше, тем не менее, относится не к «досократикам», а к «доила-
тоникам». В работе «Философия в трагическую эпоху Греции» он говорит о
«республике гениев от Фалеса до Сократа», и многим непонятно его
восхищение досократиками, пока не становится ясно, что он считал Сократа
последним из них.
117
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
он, по существу, и считал предметом классической
филологии. «Все научное и художественное движение
[филологии], — говорил он в лекции «Гомер и классическая
филология», — склонно... к наведению мостов через
пропасть между идеальной античностью, которая, вероятно,
является всего лишь буйным цветением тевтонской мечты
по югу, и реальной античностью». В античном мире, как
он выяснил, «базовые» эмоции были сложно переплетены
с «высшими» эмоциями.
«Когда речь идет о гуманности, — писал он в статье
«Состязание Гомера», одном из пяти «Предисловий к
пяти ненаписанным книгам» 1872 г., — за этим кроется
представление о том, что гуманность есть то, что
отделяет и отличает человека от природы. Но на самом деле
такого разделения нет: «природные» качества и те, что
называются специфически «гуманными», сложно
переплетены. Человек в его высшем и благороднейшем
проявлении полностью природен и наделен опасным двояким
природным характером. Те свойства, которые внушают
ужас и считаются негуманными, на самом деле,
возможно, являются той единственной плодотворной почвой, на
которой может произрасти весь гуманизм в порыве,
действии и деянии. Так и греки — самый гуманный народ
античности — имели склонность к жестокости, к
брутальному удовольствию разрушать».
Греки были жестоки, свирепы и хищны; тем не
менее, они стали самым гуманным народом античности,
изобретателями философии, науки и трагедии, первой и
лучшей европейской нацией. Что вызвало к жизни этот
эллинский мир? В «Состязании Гомера» Ницше
заостряет внимание на первых строках поэмы «Труды и дни»
Гесиода — фрагменте, который он называет «одной из
самых примечательных эллинских мыслей», достойных
немедленного усвоения вновь прибывшим странником
при входе в эллинскую этику:
118
ВАГНЕР, ШОПЕНГАУЭР, ДАРВИН И ГРЕКИ
Знай же, что две существуют различных Эриды на свете,
А не одна лишь всего. С одобреньем отнесся 6 разумный
К первой. Другая достойна упреков. И духом различны:
Эта — свирепые войны и злую вражду вызывает,
Грозная. Люди не любят ее. Лишь по воле бессмертных
Чтут они против желанья тяжелую эту Эриду.
Первая раньше второй рождена многосумрачной Ночью;
Между корнями земли поместил ее кормчий всевышний,
Зевс, в эфире живущий, и более сделал полезной:
Эта способна понудить к труду и ленивого даже;
Видит ленивец, что рядом другой близ него богатеет,
Станет и сам торопиться с насадками, с севом, с устройством
Дома. Сосед соревнует соседу, который к богатству
Сердцем стремится. Вот эта Эрида для смертных полезна.
Зависть питает гончар к гончару и к плотнику плотник;
Нищему нищий, певцу же певец соревнует усердно1.
Этот отрывок Ницше комментирует так:
«Вся греческая античность думает о досаде и зависти
совершенно иначе, чем мы, и рассуждают подобно Гесио-
ду, который в первую очередь определяет как зло ту
Эриду, что ведет людей друг против друга к истребительным
войнам, а потом восхваляет другую Эриду как добро, что,
подобно ревности, досаде, зависти, поднимает людей на
подвиги, но не военные подвиги, а состязательные».
Греки полагали, говорит он немного позже в том же
предисловии, что «каждый природный дар должен
развиваться путем состязания».
Он уже объявил, что «борьба есть постоянная пища
души», и таким образом перефразировал философа,
сказавшего, что «война есть отец всех вещей». Гераклит,
«темный» мудрец из Эфеса, пророк «вечного
становления», воплощал своим учением, как считал Ницше, глу-
биннейшее прозрение природы греческой души. В статье
«Философия в трагическую эпоху Греции» он говорит о
Гераклите с огромным вдохновением:
Пер. В. В. Вересаева.
119
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
«Гераклит постиг актуальность борьбы
противоположностей, говорит он, и эта концепция, извлеченная из
чистейшего источника эллинизма... есть та самая добрая
Эрида Гесиода, перевоплощенная в мировой принцип; это
идея состязания... переведенная из гимназии и палестры,
из художественных состязаний, из борьбы политических
партий и из городов в наиболее обобщенный принцип, так
что им регулируется механизм вселенной. [Более того,
Гераклит учил] вечному и всеохватному становлению,
тотальной нестабильности всего сущего, которое постоянно
трудится и становится, но никогда не застывает на
отметке «есть», [и это] ужасная и сбивающая с толку идея...
Требовалась поразительная сила, чтобы перевести этот
эффект в его противоположность, в возвышенное, в
счастливое изумление».
То, как Ницше это представил, очень походит на его
собственную зрелую философию, и позже ему придет в
голову, что Гераклит, вероятно, учил тому самому
вечному возвращению.
Как бы ни были привлекательны ранние философы,
следует поостеречься (чего не сделал Ницше) и не
впасть в иллюзию того, что осведомленность о них есть
нечто большее, нежели весьма смутное представление.
Они кажутся гигантами, но, возможно, это эффект
туманной дымки, которая их обволакивает. Может быть,
Гераклит был старым сварливым оригиналом вроде
Шопенгауэра; тем не менее, Ницше живописует для
себя героический портрет древнего мудреца, «гордого и
одинокого искателя истины»1, и воспроизводит этот
образ всякий раз, когда хочет убедить нас, что занятие
философией — это трудное и одинокое призвание.
Фигура Ницше—Гераклита, непреклонного и одинокого на
фоне альпийских скал, имеет тенденцию возникать в
каждом произведении Ницше, начиная с работы «Че-
1 Лекция 10. Доплатоновские философы.
120
ВАГНЕР, ШОПЕНГАУЭР, ДАРВИН И ГРЕКИ
ловеческое, слишком человеческое» и кончая «Ессе
Homo». «Скиталец» из последней части сочинения
«Человеческое, слишком человеческое» (ЧС, 638), из
пролога и эпилога части «Скиталец и его тень», из раздела
380 «Веселой науки» — все это Ницше—Гераклит.
Таков же, в свете доктрины огня Гераклита, и
автопортрет, ставший содержанием стихотворения под
названием «Ессе Homo»:
Ja! Ich weiss, woher ich stamme!
Ungesättigt gleich der Flamme
Glühe und verzehr ich mich.
Licht wird alles, was ich fasse,
Kohle alles, was ich lasse:
Flamme bin ich sicherlich.
(Да! Я знаю, где я прянул!
Ненасытный, точно пламя,
Я горю и жру себя.
Все светло, что я хватаю,
Пепел все, что покидаю:
Несомненно, пламя я.)
(ВН, 62)
В философе, ведущем совсем не сократический диалог
в лекции 1872 г. под названием «О будущем наших
образовательных учреждений», уже угадывается
Ницше-отшельник, современная версия Гераклита. Вот как философ
описывает свое предназначение:
«...Хотите ли вы жить жизнью пустынника во
враждебном удалении от толпы?
...Полагаете ли вы, что можете одним рывком
достичь того, что я под конец намеревался завоевать сам
только после долгой и упорной борьбы, чтобы хотя бы
иметь возможность жить, как философ? И не боитесь
ли вы, что одиночество станет вам мстить? Но
попытайтесь жить жизнью отшельника культуры — нужно
обладать неимоверным богатством, чтобы жить ради
блага всех на собственные средства!» (Лекция 1).
121
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
Наиболее впечатляющий автопортрет Ницше в позе
Гераклита — это фигура Заратустры, гордого и
одинокого искателя истины, еще более гордого, одинокого и
загадочного, чем его прообраз.
Но у личности Ницше была и другая сторона:
терпеливый исследователь, «ученый» философ, который
углублялся в мелкие, частные вопросы и пытался постичь
реальность в ее деталях. Именно эта его сторона
обнаружила себя, когда он назвал философию «опытом»
[Versuch] и принял эксперимент в качестве
философского метода:
«Предоставьте мне какой угодно сомнительный план,
на который я мог бы ответить: «Давайте испытаем его!»
[Versuchen wir's!] Но я не хочу более ничего слышать о
чем-либо или о каком-либо вопросе, который не
допускает эксперимента» (ВН, 51).
Эту свою сторону он отождествлял с Сократом. Locus
classicus аргумента в пользу того, что Ницше восхищался
Сократом и вылепил себя по его образу и подобию,
является глава 13 книги Кауфманна, к которой я должен
отослать читателя. Сократовский тон — разумный,
логический, слегка язвительный, с насмешкой, в том числе и в
свой адрес, — более типичен для Ницше, чем полагают
те, что знакомы только с Заратустрой. Более того, сам
Сократ, гораздо более живой и реальный, чем по большей
части вымышленный Гераклит, составлял «проблему» для
Ницше, занимавшую его постоянно: проблема Сократа
(СИ, II) была проблемой самого разума, и сознание того,
что разум, способность обосновывать — дар
неоднозначный, позволяло Ницше одновременно восхищаться им и
называть «декадентом». В очерке «Опыт самокритики»,
предпосланном в качестве предисловия к изданию
«Рождения трагедии» 1886 г., Ницше говорит, что «задачей»
книги было «уловить... проблему самой науки...» (РТ,
предисловие, 2):
122
ВАГНЕР, ШОПЕНГАУЭР, ДАРВИН И ГРЕКИ
«...каково с точки зрения признака жизни значение всей
науки? Каков конец — или, хуже, каково начало — всей
науки? Может быть, дух науки не более чем страх перед
лицом пессимизма и бегство от него? Изощренное
средство самозащиты против — правды? А с моральной
точки зрения что-то вроде трусости и лжи? С аморальной —
лукавство?» (РТ, предисловие, 1).
Этот знак вопроса, поставленный против философии
как таковой, персонифицировался для Ницше в фигуре
Сократа, человека, который стал «рационален до
абсурда». Сократу приходилось сражаться с инстинктами
своего века, и, чтобы «успешно бороться против инстинктов,
существует формула декаданса: пока жизнь восходит,
счастье и инстинкт суть одно» (СИ, II, 11). Но все
философы борются с инстинктами своего века:
«Что в первую и последнюю очередь требует от себя
философ? Преодолеть в себе свой век... Я, в той же мере,
что и Вагнер, — дитя этого века, иначе говоря — decadent:
только я осознал это, только я защищался от этого»
(В, предисловие).
Ницше приходилось «преодолевать свой век», но
бороться с инстинктами века декаданса означало быть не
меньшим декадентом. Философия была, строго говоря,
самовопрошанием о жизни, и в этом смысле была
симптомом декаданса. Здоровая жизнь — радостная жизнь,
говорит он, а там, где боль и страдания доминируют над
радостью, жизнь нездорова, то есть в упадке. Радостную
жизнь не нужно пояснять, она сама себе подтверждение.
Только там, где возобладало страдание, ощущается
потребность в «объяснениях». И наоборот: там, где даются
объяснения (то есть философия), можно ожидать такое
состояние дел, когда жизнь представляется несчастной.
Таким образом, Дарвин и греки, а не Вагнер и
Шопенгауэр служили отправными точками философии Ниц-
123
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
ше; и причина, почему его ранние работы кажутся
фальстартом, состоит в том, что он пытался истолковать
дарвиновские проблемы и прецедент Древней Греции в
свете эстетики Вагнера и метафизики Шопенгауэра. И
только пройдя этот этап, он обратился к своей
собственной теории.
4
Мировоззрением Вагнера и Шопенгауэра пронизана
первая книга Ницше, «Рождение трагедии», которая
начинается с изучения греческой культуры и оканчивается
полемикой вокруг опер Вагнера. Она включает двадцать
пять разделов; перемена курса прослеживается начиная с
раздела 16, и вторая часть книги носит характер
обобщения уже готовых утверждений. Работа «Рождение
трагедии из духа музыки» была опубликована в январе 1872 г.
Двумя годами ранее Ницше читал в Базеле лекции
«Греческая музыка-драма» и «Сократ и трагедия», и ни одна
не имела ровно никакого отношения к Вагнеру и его
художественным устремлениям. В июле 1870 г. Ницше
совершил поездку в Трибшен в компании Роде и, пока был
там, прочел собравшемуся обществу «Греческую музыку-
драму». «У Вагнера возникли «определенные сомнения»
по поводу лекции, — пишет Ньюман, — и он поделился
с молодым профессором «ясными и проницательными»
замечаниями». Этих «сомнений» Вагнера было в ту пору
достаточно, чтобы заставить Ницше усомниться в
направлении своих мыслей относительно греческой культуры, и
уже лучшее впечатление он произвел скетчем своей
будущей книги — предположительно под названием
«Происхождение трагической идеи». Его он подарил Козиме на
Рождество 1870 г. «Козима пришла в восторг от скетча,
но в своем дневнике сделала характерную запись, что ей
было «особенно приятно, что идеи Рихарда могут
распространиться и на эту область». Как всегда, в существова-
124
ВАГНЕР, ШОПЕНГАУЭР, ДАРВИН И ГРЕКИ
нии юного профессора она не усмотрела иного смысла, как
быть полезным Вагнеру своими греческими штудиями»1.
Работа над самой книгой «Рождение трагедии»
началась примерно в начале 1871 г. 15 февраля Ницше был
предоставлен университетом отпуск по состоянию
здоровья, и он отправился в Лугано вместе с Элизабет; там,
рассказывает Элизабет, он непрестанно трудился над
новой книгой. Вероятно, представление о том, какой
именно она должна быть, сложилось в его уме самое позднее
к концу февраля, поскольку все это изложено в
предисловии, написанном в этом месяце. Это предисловие,
адресованное Вагнеру (впоследствии оно было заменено
более кратким предисловием к изданию 1872 г.), четко
дает понять, что книга вовсе не о Вагнере, а о
греческой культуре и ее значении для Германии 1870-х гг.
Рабочим названием книги была «Греческая
жизнерадостность», и обсуждение музыки-драмы Вагнера никоим
образом здесь не предполагалось.
В начале апреля Ницше покидает Лугано и
возвращается в Базель, но по пути заезжает в Трибшен, где
остается с 3 по 8 апреля. Вполне обоснованно полагать,
что к тому времени «Греческая жизнерадостность» была
завершена и что Ницше захватил ее с собой, чтобы
прочесть Вагнерам. Мы можем только догадываться о
событиях той недели, но напрашивается вывод, что
Вагнер уговорил Ницше переделать книгу, чем тот и
занялся по возвращении в Базель. 26 апреля Ницше послал
рукопись первой ее половины Фрицшу, уведомив его о
том, что «истинной целью» его сочинения было пролить
свет на феномен Вагнера в связи с его отношением к
греческой трагедии. Теперь книга называлась «Музыка
и трагедия». Октябрь Ницше провел в Лейпциге с
друзьями Роде и Герсдорффом и тогда же передал
Фрицшу полную рукопись «Рождения трагедии из духа
1 Цит. по: Newman Ernest. The Life of Richard Wagner. London, 1947.
Vol. 4.' P. 319; цитаты в цитате взяты из дневника Коэимы.
125
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
музыки». Краткое «Предисловие Рихарду Вагнеру»
датировано «концом 1971 г.».
Убедительность и значительность книги придали особый
вес доводам в пользу того, что драма-музыка Вагнера
является возрождением античной трагедии, и, даже при
отсутствии прочих доказательств, этого единственного факта
достаточно, чтобы понять, насколько Ницше подчинился
влиянию Вагнера. В его письмах того периода нет никаких
указаний на то, что книга подверглась переделке против его
воли или убеждений: Вагнер побеседовал с ним, и теперь он
увидел вещи в ином свете, — вот до чего доходило дело.
Все, что касалось изменений, происходивших в душе
Ницше, он до поры до времени хранил про себя; что касалось
его публичных действий, он горел желанием сделать все, что
содействовало бы делу Вагнера. Что до самого Вагнера, то
он был не способен поступать иначе, чем поступал. Сказать,
что он слишком поспешно выступал в печати по самому
незначительному поводу, — это значит ничего не сказать.
Он блестяще усвоил фундаментальную аксиому ремесла
публициста: заставь знать свое имя — и распространил свое
собственное на всю германскую прессу столь беспримерным
образом, на какой стала способна только рекламная
индустрия нашего времени. Уже говорилось о том, что многими
публикациями он причинил себе больше вреда, чем извлек
пользы; что в деле обретения непопулярности он был
злейшим из своих врагов и что путь его был бы менее тернист,
если бы он умел обуздать склонность к публичным дебатам.
Но в его случае это было невозможно. Вагнера никогда не
волновала непопулярность, собственные заблуждения, но не
было на свете другого человека, кто бы столь же небрежно
относился и к своему «доброму имени». Он не жаждал
доброго имени, он добивался власти и славы, и, поскольку он
действительно их желал, он их имел. Последующие
поколения пребывали в полной иллюзии, что именно оперы
стали причиной шумихи, сопровождавшей имя Вагнера во
второй половине его жизни, тогда как истинное положение
вещей заключалось в том, что Вагнер был автором и опер,
126
ВАГНЕР, ШОПЕНГАУЭР, ДАРВИН И ГРЕКИ
и шумихи, причем часто они никак не были связаны; будь
он сапожником, он сделал бы себя самым обсуждаемым
сапожником в истории сапог. Поэтому нет нужды
задаваться вопросом, был ли интерес Вагнера обусловлен его
расчетом на то, что книга Ницше «Рождение трагедии» будет
способствовать продвижению его, Вагнера, мероприятия.
Еще один публичный печатный орган — и этого уже было
достаточно.
Эффект, который книга произвела на публику, отвечал
всем ожиданиям: убежденный вагнерианец полагал, что
она восхитительна, и первое издание быстро разошлось; но
коллеги Ницше по профессиональному цеху сочли, что он
излишне пожертвовал научными стандартами в угоду
пропаганде. Такого мнения придерживался Ричль, которому
Ницше заблаговременно послал копию в конце декабря
1871 г.; в своем дневнике от 31-го числа Ричль
откомментировал прочитанное как «geistreiche Schwiemelei», что
можно перефразировать как «интеллектуальный дебош».
Ницше прождал ответа месяц и затем, 30 января,
написал учителю письмо, выразив разочарование, что не
получил его замечаний. Ричль ответил 14 февраля. Он был
вежлив, но мнения своего не скрывал: он отверг книгу на
том основании, что это был труд не ученого, а дилетанта,
каковое обстоятельство могло повлечь за собой
недооценку достоверного знания студентами. Это был почти самый
суровый приговор профессиональному филологу, к тому же
абсолютно обоснованный. Но тон, которым он был
вынесен, во многом сгладил боль суждений, и, пересылая это
письмо Роде, Ницше заметил, что Ричль не «утратил
своего дружеского великодушия» к нему.
Первая резкая публичная отповедь пришлась на 1 июня
с публикацией статьи Ульриха фон Виламовица-Меллен-
дорфа « Zukunftsphilologie! » ( « Филология будущего! » ).
Виламовиц, филолог, бывший учеником Пфорташуле
одновременно с Ницше, расценил «Рождение трагедии» как
бесстыдное извращение филологии в интересах Вагнера и
обвинил автора в серьезнейших фактологических ошибках
127
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
и общей некомпетентности. Против Виламовица в
октябре выступил Роде со статьей «Afterphilologie»
(«Субфилология» или «Филология злословия». — Примеч. пер.),
прозванной «Открытым письмом филолога Рихарду
Вагнеру». Роде обвинял Виламовица в «безграничной
тупости и безграничной лживости», а также в неспособности
понять, что же имел в виду автор. Ницше сам снабдил
своего друга материалом для «Субфилологии» и 25
октября написал ему, что и сам он, и другие коллеги Роде
нашли, что памфлет вышел «в духе Лессинга». Но это были
еще далеко не все беды, которые «тупой» Виламовиц
призвал на его незадачливую голову. В ноябрьском выпуске
«Музыкального еженедельника» появилось «Открытое
письмо Фридриху Ницше, профессору классической
филологии Базельского университета», сочиненное самим
Meisterl Нет сомнений, что Вагнер имел добрые
намерения, но его защита Ницше, справедливо
раскритикованная Ньюманом как «хвастовство неисправимого
дилетанта», обернулась для того большим злом, нежели вся
прочая критика. В начале 1873 г. Виламовиц возобновил
драку, затеянную в «Филологии будущего!» статьей
«Zukunftsphilologie! Zweites Stück» («Филология
будущего! Часть вторая»), направленной теперь уже скорее
против Роде, чем против Ницше. Перепалка на сей раз
переросла в фарс: первое выступление Виламовица задало
оскорбительный тон по отношению к Ницше и его книге;
Роде ответил примерно тем же; Вагнер, имевший в своем
арсенале неисчерпаемый запас ругательных эпитетов,
назвал Виламовица «задиристым мужланом»; теперь снова
подошел черед Виламовица, и тот вдвое усилил удары по
врагу. Впоследствии Роде и Виламовиц дружно смеялись
над этим эпизодом своей молодости — все удары
оказались достаточно безобидными, ни один не достиг цели;
дружеское послание Ричля оказалось гораздо более
болезненным.
Что все это означало для Ницше, становится ясно из
письма Вагнеру, написанного в середине ноября 1872 г.:
128
ВАГНЕР, ШОПЕНГАУЭР, ДАРВИН И ГРЕКИ
«После всего, что случилось со мной за последнее
время, я на самом деле не имею права впадать в уныние, так
как живу поистине в солнечной системе дружбы,
утешительной поддержки и вселяющей силу надежды. Но есть
одно обстоятельство, которое в данный момент ужасно
меня тревожит: зимний семестр начался, а у меня
совершенно нет студентов! Наши филологи так и не появились!..
Сей факт объясняется весьма просто: я вдруг приобрел
столь дурное имя среди своих профессиональных коллег,
что наш маленький университет страдает от этого!.. Вплоть
до последнего полугодия число филологов постоянно
росло — теперь их всех словно ветром сдуло!»
В течение зимнего семестра 1872/73 г. он прочел
всего одну лекцию, и ту для двух нефилологов. Вина за все
это частично лежит на пропаганде Вагнера, однако его по-
настоящему серьезная ошибка заключалась в том, что он
позволил себе абсолютно непрофессиональное обращение
с предметом, в котором считался квалифицированным
специалистом. Теперь понятно, что он вынашивал
определенные филологические идеи, смутно маячившие перед его
мысленным взором, и в своем исследовании античной
трагедии попытался обозначить их. Но современники
увидели в черно-белом цвете лишь то, что бросалось в глаза:
совершенно ненаучное исследование проблемы, для
решения которой едва ли хватило бы всего имевшегося в
наличии научного аппарата.
Ранняя философия Ницше, за исключением тех
рукописей, которые он бросил или счел слишком слабыми
для публикации, находит свое отражение в «Рождении
трагедии» и «Несвоевременных размышлениях». Поле
исследования — культура; цель — обнаружить, какой
тип культуры наилучшим образом содействует появлению
«философов, художников и святых».
В «Рождении трагедии» ценно то, что объединяет ее с
философией Ницше в целом: это гипотеза о том, что
творение есть продукт состязания и что созидательная сила —
5 Р.Дж. ХолАингдеЙА 1 29
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
это подконтрольная и перенаправленная страсть.
Недостатком данного произведения является его опора на
дуализм воли и представления, природы и человека (здесь они
выступают под именами Диониса и Аполлона),
метафизический характер которого Ницше, похоже, не осознает в
полной мере. Книга начинается ошибочным сравнением,
которое показательно для этой путаницы:
«Было бы весьма выигрышно для эстетической науки,
если бы... пришли к сознанию, что поступательное
движение искусства зависит от двойственности аполлоническо-
го и дионисийского начал подобно тому, как продолжение
жизни зависит от двойственности полов» (РТ, 1).
Двойственность полов не является двойственностью в
том же смысле, что и Аполлон с Дионисом: Аполлон и
Дионис воплощают противоположные побуждения, тогда
как мужское и женское начала представляют
противоположные аспекты одного и того же побуждения. Ницше
мыслит Аполлона и Диониса не как явления, а как
«принципы», и в этом качестве их можно описать только
метафорой: мечта и опьянение так же соотнесены друг с
другом, как аполлоническое и дионисийское начала:
«Аполлон, как бог всех пластических сил, есть в то же
время и бог, вещающий истину. Аполлона можно назвать
великолепным, божественным образом principii individua-
tionis, в жестах и взорах которого с нами говорит весь
восторг и мудрость «иллюзии», со всей ее красотой...
Дионисийское опьянение [просыпается] либо под влиянием
наркотического напитка, о котором говорят в своих гимнах
все первобытные люди и народы, либо при могучем...
приближении весны... [Человек] чувствует себя богом, он сам
шествует теперь столь же восторженный и возвышенный,
какими видел во сне богов. Человек уже больше не
художник: он сам стал творением искусства; художественная мощь
всей природы... явлена в этом исступлении...» (РТ, 1).
130
ВАГНЕР, ШОПЕНГАУЭР, ДАРВИН И ГРЕКИ
Художник «имитирует» видения или опьянение или, в
редких случаях, и то и другое вместе:
«Относительно этих непосредственных состояний
природы каждый художник является только «подражателем», и
притом либо аполлоническим художником видения, либо
дионисийским художником опьянения, либо, наконец, —
как, например, в греческой трагедии — художником и
опьянения, и видения одновременно» (РТ, 2).
Аполлоническое искусство — это искусство масок; не
в силах вынести лица действительности, художник
надевает на него маску «иллюзий». Это распространяется и на
Олимпийский пантеон.
«Тот же инстинкт, который нашел свое воплощение в
Аполлоне, породил и весь олимпийский мир вообще...
Какова же та огромная потребность, из которой возникло столь
блистательное собрание олимпийских существ?.. Грек знал
и ощущал страхи и ужасы существования: чтобы иметь
вообще возможность жить, он вынужден был заслониться от
них блистающим образом-видением — олимпийцами... Где
бы мы ни сталкивались в искусстве с «наивным», мы
вынуждены признать наиболее мощное действие аполлоничес-
кой культуры, которой всегда приходится сначала
опрокидывать царство титанов и убивать чудовищ и при посредстве
могущественных и радостных иллюзий одерживать победы
над ужасающей глубиной миропонимания и болезненной
восприимчивостью к страданию... Гомеровская «наивность»
может быть понята лишь как совершенная победа аполло-
нической иллюзии...» (РТ, 3).
Мысль — от Шопенгауэра, храбрость — от Вагнера;
собственно от Ницше — язык сражения: «опрокидывать
царство титанов и убивать чудовищ и... одерживать
победы над... страданиями». Покоем кажется — ив наиболее
успешных случаях действительно оказывается таковым —
131
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
преодоление конфликта и одержание победы: это
по-ницшеански. Но такое представление все же связано с
сомнительным дуализмом: казалось бы, Дионис символизирует
реальность, которую греки выдерживают с трудом, находя
ее слишком болезненной; но есть и такая «реальность» —
Аполлон, — которая способна все преодолеть, став ее
частью; и, тем не менее, он возражает против такого решения.
Мир по-прежнему являет собой волю и представление.
Теорию Ницше о становлении и падении трагедии
можно свести, по существу, к нескольким кратким цитатам:
«Драма — это аполлоническое воплощение дионисий-
ских прозрений и сил» (РТ, 8).
«В древнейшей форме греческой трагедии
существовала непреложная традиция изображать только страдания
Диониса, так что подавляющую часть эпохи Дионис был
единственным героем. Но с равным основанием можно
утверждать, что вплоть до Еврипида Дионис никогда не
переставал быть трагическим героем, напротив, все
знаменитые персонажи греческой сцены... суть лишь маски того
первоначального героя Диониса» (РТ, 10).
Величие Эсхила и Софокла состоит в том, что они
воплотили Диониса в аполлонической форме. Их усилия были
разрушены Еврипидом:
«Греческая трагедия умерла, покончив с собой,
вследствие неразрешимого конфликта. [Еврипид боролся
против Эсхила и Софокла] не полемикой, но как
драматический поэт, который выдвинул свою концепцию трагедии,
противопоставив ее концепции традиционной» (РТ, 11).
«Изгнать из трагедии этот изначальный и всемогущий
дионисийский элемент и построить ее заново на основе
недионисийских искусства, обычая и философии —
такова... цель Еврипида... Еврипид был в определенном
132
ВАГНЕР, ШОПЕНГАУЭР, ДАРВИН И ГРЕКИ
смысле всего лишь маской: божество, говорившее через
него, не было ни Дионисом, ни Аполлоном, это был
совершенно новый демон, имя которому Сократ. Такова
новая антитеза: дионисийское и сократическое и
художественное создание — греческая трагедия — погибло
в этом конфликте» (РТ, 12).
«Верховный закон [«эстетического сократизма»]
гласит приблизительно так: «Что должно называться
прекрасным, должно быть также разумным», — как
параллель сократовскому: «Только знающий добродетелен»
(РТ, 12).
Дионис — это взрывная неуправляемая сила
творения; Аполлон — сила, которая им управляет; кто же
тогда Сократ? Вот как Ницше описывает его:
«Сократа нужно обозначить как специфического не-
мистика, в ком логическое, путем гипертрофии, развилось
в той же мере, в какой инстинктивное развилось в
мистике» (РТ, 13).
«[Сократ] тип теоретического человека... он
представляется нам первым из тех, кто сумел не только жить,
руководствуясь... научным инстинктом, но — что гораздо
труднее — и умереть; вот почему образ умирающего
Сократа — человека, освободившегося от страха смерти при
помощи знания и разума, — это герб над вратами науки,
напоминающий нам о миссии науки: заставить
существование казаться понятным и потому оправданным. [Сократ]
поворотный пункт... в так называемой мировой истории»
(РТ, 15).
То. что движет Сократом, вовсе не Аполлон или
Дионис, а нечто новое: логика. С этого момента сократовский
оптимизм противостоит дионисийскому пессимизму, а
философия узурпирует место искусства.
133
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
Ницше считал «Рождение трагедии» философской
работой и называл ее своей «первой книгой», то есть чем-то
отличным от всех тех многочисленных сочинений, которые
были написаны им в области филологии, классических
исследований и философских размышлений. В этом контексте
тот факт, что современная наука подтвердила его прозрения
относительно рождения трагедии от Аполлона,
обуздавшего Диониса, представляется почти неуместным; в этом
они стоят бок о бок с теми современниками Ницше,
которые оценили его книгу как эксцентричную и ненаучную.
В «Очерке самокритики» Ницше фактически отрекся от
нее — и все же многие его прозрения были чрезвычайно
ценны и намного опережали время. Из этого факта следует
извлечь урок. В философии нельзя сделать правильные
выводы на основе ошибочных рассуждений: сами эти
рассуждения и есть философия, и если вывод не является их
следствием, то вероятность иных доводов, следствием
которых такой вывод все же мог бы стать, уже мало кому
интересна. Ницше пытается показать, как трагедия родилась
из культа Диониса, но ему это не удается: двоица
Аполлон—Дионис нежизнеспособна, поскольку происхождение
Аполлона не принимается во внимание. Позже Ницше
представит Диониса как волю к власти, а Аполлона как
сублимацию Диониса (и потому будет использовать имя
Диониса для обозначения всей творческой силы, Дионис-плюс-
Аполлон), но в «Рождении трагедии» он так и не придет к
этому выводу. И хотя вполне справедливо утверждать, как
это делает Фрэнсис Корнфорд, что книга была
«произведением глубокого художественного прозрения, которое
оставило глубоко в тылу усилия науки целого поколения», тем
не менее, науке пришлось сначала хорошо потрудиться,
прежде чем она смогла вынести подобное суждение о
«Рождении трагедии».
Глава 6
БАЗЕЛЬ И БАЙРЕЙТ
Вагнер был просто одной из моих
болезней. Не то чтобы я желал быть
неблагодарным этой болезни...
Философ не свободен, чтобы обойтись без
Вагнера... Я бы понял, что имеет в виду
философ, заявляя: «Вагнер подытожил
современность. Ничего не поделаешь,
сначала нужно побыть вагнерианцем».
Ф. Ницше. Падение Вагнера
1
Пересматривая и подводя итог истории душевной
болезни Ницше, Курт Хильдебрандт приходит к
следующему заключению: между 1873-м и 1880 гг. Ницше
«пережил период невроза, основной причиной которого
стал психологический конфликт». Пик болезни
пришелся на 1879 г. Течение его внутренней, духовной жизни
в первые годы этого периода привело к скрытому
обострению болезни в 1876 г., а именно во время его
отъезда и последующего возвращения в Байрейт. В целом
налицо почти идеальный механизм приобретения
невроза: усиление противоречия между глубокой потребностью
в независимости и чувство подчиненности Вагнеру;
конфликт между миром «свободомыслия», в который
постепенно вступал Ницше, и тевтонско-мистическим «бай-
реитским проектом»; эмоциональная подавленность
Усугублялась женитьбой его ближайших друзей;
постоянно мучившее его нездоровье вынуждало его к
уединению и лишало инициативы. Позже Ницше характеризо-
135
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
вал «декадента» как человека, который желает того, что
заведомо причиняет ему зло; в этом случае мы говорим
о «невротике», и признаки невротизма в Ницше в
середине 1870-х гг. как раз и заключались в его
эмоциональной склонности к вещам, от которых, по его
собственным интеллектуальным представлениям, следовало
отказаться. Отсюда противоречие между его личным
отношением к Вагнеру и Байрейту и теми оценками,
которые он публично высказывал в своих работах. Он
отчетливо видел, что «идеологический» компонент,
имевший для Вагнера второстепенное значение в период,
когда он был одиноким художником в уединенном Триб-
шене, все более и более выдвигался на первый план с
тех пор, как Вагнер уехал в Байрейт, и Ницше
понимал, что рано или поздно с этой идеологией предстояло
порвать. Но когда он видел Вагнера за работой,
слышал его голос и его музыку, общался с его семьей и
соратниками или выслушивал нападки на него людей, не
достойных даже шнуровать ему ботинки, его прежняя
любовь к человеку и его миссии вновь заявляла о себе
с неодолимой силой. В такие моменты сама мысль о том,
чтобы покинуть его, казалась невозможной, и все же она
жила в нем. Он поверял свои сомнения записным
книжкам, но это не избавляло его от этих сомнений: весь
образ его мышления претерпевал изменения или, скорее,
возвращался к чему-то, что было до встречи с
Вагнером. Его письма к друзьям все еще были полны
энтузиазма к задуманному, и это не было притворством: он
все еще жаждал быть с Вагнером. По мере
приближения первого фестиваля его психическое состояние
ухудшалось и приступы болезни учащались. Летом 1875 г.
он, несомненно, как и все его друзья, рвался
присутствовать на репетициях оркестра в Байрейте; однако в то
время как Овербек, Роде и Герсдорфф находились там,
сам он пребывал в Штайнбаде, маленьком курортном
местечке в Черном Лесу, куда попадали больные
желудком. Принимая во внимание все, что мы знаем о нем в
136
БАЗЕЛЬ И БАЙРЕЙТ
этот период, можно не сомневаться, что проблемы с
желудком, вынудившие его покинуть Байрейт ради
Штайнбада как раз в такой момент, имели
психосоматическое происхождение. Его хронические колебания
относительно Вагнера, неспособность от души
предаться ему или же отказаться от него, обнаружили себя с
большей очевидностью, чем можно было ожидать, во
время самого фестиваля.
Последний раз Ницше приехал в Трибшен 25 апреля
1872 г. и пробыл там до 27-го числа. Вагнер уехал в
Байрейт 22-го, а Козима тем временем паковала его книги,
письма и рукописи. Ницше задержался, чтобы помочь ей.
Отъезд Вагнера в место сравнительно отдаленное
знаменовал для Ницше (как некогда с «Франконией») начало
медленного процесса освобождения. Даже если бы он
подсознательно уже не расставался с Вагнером,
увеличившееся между ними расстояние само по себе должно было
ослабить узы привязанности.
Церемония закладки первого камня в фундамент
Фестивального театра была назначена на день рождения
Вагнера, 22 мая. Ницше отправился в Байрейт 18-го и
22 -го сопровождал Вагнера в его карете,
направлявшейся к месту на холме за городом. Лил дождь, и
формальности были сведены к минимуму: Вагнер ударил по
камню, вслед за ним то же проделали его соратники и
актеры, затем он с трудом забрался в карету,
«смертельно бледный», по словам Ньюмана. Для него это было
поистине трогательное, возможно, даже пугающее,
мгновение, и в свой очерк «Рихард Вагнер в Байрейте»
Ницше включил описание маэстро, погруженного в
молчание и отрешенного, на обратном пути в город.
Оставшиеся формальности были выполнены в помещении
старой оперы. Ницше также присутствовал на вечере,
где Вагнер дирижировал исполнением Девятой симфонии
Бетховена. Были в Байрейте и Роде, и Герсдорфф; сре-
137
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
ди прочих гостей Ницше встретил Мальвиду фон Мей-
сенбуг, ставшую ему столь же хорошим другом, каким
она была и Вагнеру.
В следующий раз он встретился с Вагнерами в
ноябре следующего года. В этот промежуток времени
Элизабет впервые надолго приезжала в Базель, прожив там
с 1 июня до конца сентября. Теперь это была
худощавая и чопорная молодая дама двадцати шести лет, пока
незамужняя и по-прежнему жившая с матерью в Наум-
бурге большую часть года. 10 ноября Вагнер и Козима
отправились в турне по оперным домам Германии в
поисках певцов, исполнителей «Кольца Нибелунга».
С 22 по 25 ноября они остановились в Страсбурге, и
там Ницше примкнул к ним на пару дней1. В
результате некой договоренности во время этой встречи его
ждали в Байрейт на Рождество и Новый год. То ли он не
понял этого, то ли намеренно не приехал: Рождество он
провел в Наумбурге, где вместе с Кругом они
музицировали, как в прежние времена. Герсдорфф, который
был в Байрейте в конце 1872 г., навестил Ницше в
Базеле в январе, но ничего не сказал ему о внесении его
в черные списки Вагнера: эта информация дошла до него
лишь в феврале, когда он получил письмо от Козимы с
благодарностью за подаренные ей «Пять предисловий к
пяти ненаписанным книгам». Он упомянул об этом в
примечательном письме к Герсдорффу от 24-го числа
того же месяца. С момента отъезда Герсдорффа,
говорится в письме, он снова болел, и трехдневный
карнавал на Масленицу в Базеле так действовал ему на
нервы, что ему пришлось «сбежать» на озеро в Герсау,
близ Люцерна. Он получил письма от Вагнера и
Козимы, из которых узнал, что Вагнер на него в большой
обиде.
1 Не в Штутгарте, как говорит Ньюман; Вагнеры были в Штутгарте
всего один день, 21-го числа, а затем отправились в Страсбург. См.: Otto
Strobel. Richard Wagner. Leben und Schaffen. Eine Zeittafel. Bayreuth, 1952.
S. 106.
138
БАЗЕЛЬ И БАЙРЕЙТ
«Бог ведает, как часто я наношу маэстро обиды, —
пишет он, — каждый раз, когда это происходит, я
оказываюсь захвачен врасплох, и я не могу понять, что стало
тому причиной... Скажи, что ты думаешь по поводу этих
обид1. Я не представляю, как можно быть более верным
Вагнеру во всех отношениях или преданным ему, чем я:
если бы я мог вообразить это, я бы был еще более
таковым. Но я должен сохранять немного свободы для себя в
малых, второстепенных вопросах и своего рода
необходимое «санитарное» воздержание от частого личного
общения — но это, на самом деле, лишь для того, чтобы уметь
оставаться верным ему в высшем смысле... На сей раз я
ни на секунду не представлял, что нанес столь серьезную
обиду; и я боюсь, что такие эпизоды доставят мне еще
больше беспокойства, нежели теперь».
Внутреннее сопротивление Вагнеру заявляет о себе все
с большей силой — но в то же время с не меньшей силой
отвергается само допущение существования этого
сопротивления. Ницше противится ранимости Вагнера — но винит
за нее себя; ему нужно сохранить свободу — но лишь во
имя еще лучшего служения. Это состояние не могло
продолжаться: в конце концов, он должен был либо отказаться от
всякой мысли о независимости, либо расстаться с Вагнером.
Тем не менее, два события 1873 г. способствовали тому,
что он временно оказался еще более связанным. С 7 по 12
апреля они находились в Байрейте вместе с Роде, и Вагнер
рассказал им о трудностях, с которыми пришлось
столкнуться его байрейтскому проекту: если не добыть денег, все
предприятие попадало под угрозу срыва. Ницше вернулся
в Базель, насквозь пропитанный яростью и отчаянием
Мастера, и незамедлительно принялся вымещать свой сплин на
незадачливой германской нации, которая стояла в стороне,
в то время как ее величайший сын терпел крушение; он
Это предполагает, что были и другие эпизоды, связанные с «обидами»,
помимо тех, что попали в записки.
139
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
приступил к написанию первой части своих
«Несвоевременных размышлений» — «Давид Штраус, исповедник и
писатель». В течение весны и лета финансовое состояние
в Байрейте еще более усугубилось и к августу приняло
такой оборот, что было принято решение обратиться за
поддержкой к общественности; Вагнер предложил, чтобы
сопровождавший акцию манифест написал Ницше. Собрание
для обсуждения дальнейших планов намечалось на конец
октября, тогда же следовало представить на рассмотрение
и манифест. На третьей неделе октября Ницше набросал
черновик манифеста, «Mahnruf an die Deutschen»
(«Воззвание к немцам»), и взял его с собой на собрание, которое
должно было состояться 31 октября. До этого у Вагнера
возникла идея, что визит с инспекцией на фестивальный
холм вдохновит делегатов видом строительства театра. Но
он не учел одно обстоятельство, которое в Байрейте
находилось вне его компетенции: 31 октября погода стояла
прекрасная, а 1 ноября небеса прорвало — инспекторский тур
по щиколотку увяз в грязи, а вид на театр открывался
сквозь густую завесу дождя. Ницше был призван принести
еще одну жертву делу Вагнера, на сей раз в виде новой
шляпы, погибшей под ливнем. В городской ратуше
делегаты выслушали манифест, похлопали ему, но не приняли;
несколько дней спустя был принят более сдержанный
документ Адольфа Стерна из Дрездена. Манифест Ницше
считался резервным, но так никогда и не был выпущен; его
назидательный, почти обвинительный тон придавал ему
характер не обращения, а скорее угрозы. Казалось, Ницше
забыл, что в задачу входило убедить изначально не
сочувствовавших проекту людей дать на него деньги. (Усилия
господина Стерна также оказались тщетны: обращение
оказалось бессильно.)
В летние месяцы жизнь Ницше протекала в
привычном русле: в начале июня в Базель приехала Элизабет
и пробыла там до 21 октября; месяц отпуска с середи-
140
БАЗЕЛЬ И БАЙРЕЙТ
ны июля до середины августа он провел в Граубюндене
в обществе Герсдорффа; в начале октября его навестил
Роде. И что самое главное, возвращались его
студенты. Летний семестр 1872 г. он открыл курсом лекций
«Философы-доплатоники», который возобновился летом
1873 г. Его посещали девять студентов плюс два
вольнослушателя. Одним из них был Герсдорфф, другим —
Пауль Рее.
Рее был пионером в области психологического
подхода к философии и в этом своем качестве оказал
огромное влияние на Ницше. Когда в 1878 г. появилась
книга «Человеческое, слишком человеческое», те из
числа друзей Ницше, кого обеспокоил ее тон и взгляд на
вещи, винили в этом Рее, а сам Ницше называл свое
новое мировоззрение «Рееализм». Рее, действительно,
вошел в его жизнь как раз в тот самый момент, когда
смог оказаться наиболее эффективным катализатором для
Ницше, по-прежнему пребывавшего в состоянии
смутной неудовлетворенности миром мысли, в который был
вовлечен. В 1873 г. Рее было 23 года, и по скорости
интеллектуального созревания он опережал даже
Ницше. Он был студентом юридического факультета, но
Франко-прусская война прервала его обучение, и
впоследствии он оставил право ради философии. Когда он
познакомился с Ницше, его уже переполняли идеи,
которым суждено было обрести свое первое пробное
воплощение в 1875 г. в небольшой книге «Psychologische
Beobachtungen» («Психологические наблюдения») и
более полное — в 1877 г., в его основном труде «Der
Ursprung der moralischen Empfindungen»
(«Происхождение моральных чувств»). Этот труд был написан в
течение 1876—1877 гг. в Сорренто совместно с Ницше,
который тогда же работал над своей книгой
«Человеческое, слишком человеческое». В принадлежащем Ницше
экземпляре книги Рее есть посвящение, написанное
рукой Рее: «Отцу этой работы, с огромной
благодарностью, от ее матери». И все же приоритеты, несомненно,
141
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
остаются за Рее, «ницшеанское» название его
основного труда — это всего лишь видимость. На самом деле
сходные названия сочинений Ницше были подсказаны
как раз примером Рее (например, вторая глава книги
«Человеческое, слишком человеческое» называется «К
истории моральных чувств», а пятая глава книги «По ту
сторону добра и зла» — «К естественной истории
морали»). Рее был атеистом, понимавшим, что
«религиозный опыт» реален, и он пытался объяснить его при
помощи понятия «субъективизм»: вера в Бога, полагал он,
есть субъективный феномен, который может
проявляться независимо от объективного существования или
несуществования Бога. Религиозный опыт является
«интерпретацией», а не данностью факта, и происхождение
интерпретации можно выяснить путем исследования
общей природы человеческих существ, иначе говоря, через
психологию. Особую важность для Ницше
представляли изыскания Рее в области морали. Согласно Рее,
мораль — это обычай, а не «природа», морального
чувства как такового не существует, и добро и зло суть не
более чем условности. Что поражало в нем Ницше, так
это, по его выражению, «холодность» мыслителя, под
которой он подразумевал независимость и четкость.
Именно «холодности» тогда решительно недоставало
самому Ницше. Поздняя философия Рее нас не
интересует: его «субъективизм» развился в почти совершенный
солипсизм, который напоминает Фихте с его
крайностями и который, как выразился о Фихте Бертран Рассел,
есть едва ли не проявление безумия. Придя к выводу о
том, что мир «бессмыслен», ум Рее словно замер,
парализованный этой идеей: это был конец, как, впрочем,
и начало его философии. Для Рее бессмысленность
существования стала источником отчаяния; для Ницше,
наоборот, она явилась основой свободы. «И что осталось
бы созидать, если бы боги — существовали?» —
восклицает Заратустра (3, II, 2): достичь такого
состояния ума Рее было не дано.
142
БАЗЕЛЬ И БАЙРЕЙТ
Год 1874-й стал решающим в отношениях Ницше и
Вагнера. Записные книжки Ницше, датированные
январем этого года, полны критических замечаний в адрес
Вагнера — и как человека, и как художника; и вторая
часть «Размышлений» — «О пользе и вреде истории
для жизни», — вышедшая в феврале, полна
рассуждений, весьма далеких от интересов Вагнера.
В том же месяце финансовые сложности в Байрейте
были временно улажены с помощью субсидии,
предоставленной королем Людвигом, и после внесения
некоторых изменений в план действий дата проведения
первого фестиваля была утверждена на лето 1876 г. Между
тем Вагнер спешно заканчивал «Götterdämmerung»
(«Падение богов»). Он был погружен в партитуру,
когда Ницше навестил его в частном порядке, и этой
встрече суждено было стать последней. Она была довольно
тягостной, и поведение Ницше четко свидетельствует о
том, что чувства его к Вагнеру на тот момент были
крайне противоречивы. В течение весны и лета он
писал третью часть «Размышлений» — «Шопенгауэр как
учитель», и собственная работа в себе и для себя
начинала казаться ему гораздо важнее, чем все его старания
в качестве простого приложения к Вагнеру. Это
явствует из письма к Герсдорффу от 4 июля. Герсдорфф,
который по-прежнему жил душа в душу с Вагнером,
похоже, почувствовал охлаждение Ницше к маэстро;
Ницше пытается возражать, но несколькими строками
ниже уже теоретически допускает это, поскольку видит
тому оправдания. Даже в пределах короткого письма он
уже не способен на постоянное отношение.
«Как тебе пришла в голову странная мысль, что я был
принужден посетить Байрейт под угрозой? —
спрашивает он. — Можно подумать, что я не хотел ехать туда по
собственной доброй воле. Но ведь я же был в числе
гостей Байрейта дважды в прошлом году и дважды в
позапрошлом — и всегда приезжал из Базеля... Мы оба знаем,
143
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
конечно, что Вагнер по натуре сильно склонен к
недоверию, — но я никогда не считал возможным еще более
возбуждать это недоверие. Наконец — вспомни, что у
меня есть обязанности по отношению к себе, которые
очень трудно исполнять при моем ущербном состоянии
здоровья. На самом деле никто не может меня к чему-то
вынуждать».
Месяц спустя он приехал в Байрейт и прожил у
Вагнеров в их новом доме — Ванфриде — до 15 августа.
Зачем он поехал? В вышеприведенном письме он
отговаривает Герсдорффа от поездки в Ванфрид на том
основании, что «в их доме и их жизни теперь неразбериха, и
время самое неподходящее». Вагнеры переехали в
Ванфрид 28 апреля; с тех пор прошел уже месяц, но Вагнер
был занят еще более, чем когда-либо. Оркестровка
заключительного акта «Кольца Нибелунга» была самой
грандиозной задачей подобного рода, даже в ряду тех, которые
ему уже приходилось решать, и одно это исключало
всякую ненужную паузу. («Götterdämmerung», а заодно и все
«Кольцо Нибелунга», было завершено 21 ноября.) Плюс
к тому он уже начал репетиции первых частей тетралогии
и был занят этим на протяжении всего августа. (Ему в
помощь в Ванфриде поселился пианист Карл Клиндворт.)
Приезд Ницше был неожиданным и не слишком
желанным — примерно таким, каким в его понимании и
должен был быть. А может быть, он потому и приехал —
чтобы раздосадовать Вагнера? Если так, то он преуспел.
8 и 9 июня Ницше побывал на двух концертах,
которые дал в Базеле Брамс. Музыка Брамса мало трогала
его, но в своих записках того периода он упрекнул
Вагнера в том, что тот не способен оценить качества другого
великого немецкого композитора, их современника. Не
секрет, что Вагнер недолюбливал Брамса как человека и
не мог участливо отнестись к нему как композитору, а в
легионах Вагнера презрение к Брамсу было почти догмой.
Поэтому тот факт, что Ницше захватил с собой в Ванф-
144
БАЗЕЛЬ И БАЙРЕЙТ
рид фортепьянные ноты «Triumphlied» Брамса и оставлял
их на фортепьяно в музыкальном кабинете, можно
расценивать только как преднамеренный злой умысел. Он
постоянно играл оттуда пьесы, а когда ноты убирали, клал
их обратно туда же. Это был большой том в красном
переплете, и каждый раз, когда Вагнер входил в комнату,
он натыкался на этот том с ненавистным именем,
начертанным поперек обложки. В конце концов разыгралась
сцена, героями которой стали Вагнер с красным от
ярости лицом от умышленной, по его мнению, провокации со
стороны Ницше, и Ницше (согласно Элизабет),
молчаливый и застывший, как лед. Надо полагать, Элизабет
говорит правду: Вагнер славился неумением сдерживать
себя, но буря, сопровождавшая этот эпизод, была столь
оглушительной силы, что быстро иссякла; Ницше,
наоборот, был слишком сдержан и совершенно не способен
сотрясать воздух громовыми раскатами, поэтому природе
обоих мужей вполне соответствует ситуация, когда Вагнер
шумел и бушевал, а Ницше оставался молчалив. Однако
это не значит, что он остался равнодушен: вместо того
чтобы реагировать на реальное или казавшееся реальным
оскорбление прямым отпором, как это делал Вагнер, он
затаивал обиду в сердце и жил с ней долгие годы; и
можно с полной уверенностью утверждать, что, когда в 1888 г.
он приступал к работе над своими антивагнеровскими
записками, сцена августа 1874 г. отчетливо стояла перед
его мысленным взором.
Его выходку с нотами Брамса следует оценивать как
преднамеренную (и успешную) попытку рассердить
Вагнера: это было восстанием в миниатюре. После того как
15 августа Ницше уехал в компании Овербека, они с
Вагнером не виделись вплоть до июля 1876 г., то есть
почти два года. За этот промежуток времени его
внутренний конфликт обострился. Здоровье его ухудшалось,
и 2 января 1875 г. он написал Мальвиде фон Мейсен-
буг письмо из Наумбурга, где в тот год справлял
Рождество:
145
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
«Вчера, в первый день года, я заглянул в будущее
и содрогнулся. Жизнь пугающа и враждебна — я
завидую всякому, кто основательно и по-настоящему
мертв».
Герсдорффу он написал в июне, что ему было так
плохо —- «головные боли самого мучительного свойства,
длящиеся по многу дней и возобновляющиеся с
интервалом всего лишь несколько суток, с частой
многочасовой рвотой, не позволяющей мне что-нибудь съесть», —
что доктор велел ему забыть о поездке в Байрейт на
летние репетиции. Он просит Герсдорффа подготовить
Вагнера к новости, что его не будет: «Вагнер
разозлится; меня это тоже злит». Как уже говорилось, вместо
Байрейта он уехал в Штайн, и нужно прочесть его
письма оттуда к Роде, Герсдорффу и другим, чтобы уяснить
его душевное состояние на тот момент. Это отнюдь не
письма инвалида, и действия, описанные в них, —
купание ранним утром в воде, чересчур холодной для
других пациентов, двухчасовые прогулки перед завтраком —
предполагают, что писатель не был настолько болен,
чтобы присутствие в театре оказалось ему не по силам.
Действительно, едва он прибыл в Штайн, как
почувствовал себя намного лучше и к своему прежнему
состоянию вернулся только по возвращении в Базель. Здесь
к нему присоединилась Элизабет, которая решила
поселиться в городе на время и обустроить дом для себя и
брата. Домашний уют пришелся Ницше очень по вкусу.
Еще два события, происшедшие в 1875 г.,
способствовали его отдалению от Вагнера: публикация
«Психологических наблюдений» Рее и прибытие в Базель
Петера Гаста. (Настоящее имя Гаста было Генрих Ке-
зелитц; он принял псевдоним, когда начал серьезно
работать как композитор, и известен преимущественно под
этим именем.) В декабре предыдущего года в офисе
146
БАЗЕЛЬ И БАЙРЕЙТ
издателя Эрнста Шмайцнера, который впоследствии
будет издавать и Ницше, Гаст встретил Овербека и
решил поехать поучиться в Базель. Встреча с Ницше
стала поворотным пунктом в его жизни. Поначалу
студент Ницше, но постепенно стал его учеником, и, хотя
его преданность не была столь самоотверженной, как
обычно полагают (или как, вероятно, казалось самому
Ницше), она была очень глубока, что может показаться
немного нездоровым, особенно учитывая малую разницу
в возрасте — Гаст был всего на семь лет младше
своего кумира. Уже летом 1876 г. мы застаем его
исполняющим обязанности личного секретаря Ницше, а к
1879 г. он уже просто обожал его. Нашими сведениями
о чувствах Гаста в 1879—1881 гг. мы обязаны ряду
писем, которые он отправлял своей австрийской
подруге. В письме от 12 сентября 1879 г. Гаст сообщает, что
он только что узнал, что Ницше находится на грани
смерти. При этом известии он «плакал навзрыд». «Я
никогда так не любил ни одного человека, как его, —
пишет он, — даже своего отца... Я чувствую себя так,
словно мой величайший долг — лечь и умереть с
ним. Я не в силах описать это чувство». Большую часть
1889 г. он был единственной опорой Ницше, и тот
активно пользовался его добротой, что можно оправдать
только крайне отчаянным положением смертельно
больного. Гаст то и дело терял терпение от его капризов и
постоянно упрекал себя за это: «Ты знаешь, я сделаю
для Ницше все, что смогу, — пишет он 15 марта, —
ибо я не в силах даже смотреть на это и видеть столь
замечательного человека беспомощным и покинутым».
К октябрю здоровье Ницше немного улучшилось, и он,
похоже, осознавал, как дурно обращается с Гастом: он
пишет ему, что корит себя за свою чрезмерную
требовательность в последнее время. Гаст пересказывает это
своей австрийской подруге и добавляет: «В моральном
отношении я стою намного ниже Ницше; я понимаю это
из каждого написанного им слова: все исходит от вели-
147
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
кой души» (письмо от 22 октября). Его ощущение, что
Ницше был исключительной личностью и что, отбросив
все досадные мелочи, он действительно нуждался в
помощи, всегда возвращало его к учителю и заставляло
быть рядом и в прямом, и в переносном смысле. В
последующие годы Гаст исполнял роль протоапостола
культа Ницше, первого из немногих, и его деятельность в
этом качестве еще предстоит оценить по достоинству.
Нельзя отрицать то, что его понимание философии
Ницше было минимальным, как и то, что он стимулировал
в Ницше склонности, которые более мудрый человек
попытался бы обуздать. Но все это с лихвой окупается
тем, что он был для Ницше источником теплого
одобрения, которое тот тщетно искал вокруг. Творческому
писателю нужна критика, но нужен также и кто-то, кто
верит в него и таким образом удерживает его веру в
себя самого. Гаст верил в Ницше, в этом и
заключалась добродетель для него как ученика.
На Рождество 1875 г. в Наумбурге Ницше пережил
первый общий кризис здоровья. За ним последовал
период прострации, и, хотя состояние медленно улучшалось,
ему пришлось временно оставить работу в Базеле. В
надежде поправить здоровье в марте 1876 г. он в
сопровождении Герсдорффа отправился на Женевское озеро, а в
первых числах апреля — в Женеву. К тому времени он
достаточно оправился, чтобы насладиться ролью туриста
и сделать предложение Матильде Трампедах.
Вопреки устоявшемуся мнению, Ницше в
действительности значительную часть жизни был занят
поисками жены. Те фрагменты его писем, где он отвергает
мысль о женитьбе, компенсируются другими, в которых
он обсуждает такую возможность. Известно также, что
он дважды предлагал дамам руку и сердце, причем оба
предложения были сделаны спустя очень малый срок
после знакомства, — таким образом, мысль о женить-
148
БАЗЕЛЬ И БАЙРЕЙТ
бе, несомненно, присутствовала в его сознании еще до
встречи. Тема супружества просто висела в воздухе в
том обществе, где вращался Ницше: Пиндер и Круг
женились в 1874 г., с их женами Ницше познакомился
в Наумбурге на Рождество того же года; в 1876 г. о
своей помолвке объявил Овербек, а в 1877 г.
состоялась и свадьба; и, наконец, в 1877 г. женился Герс-
дорфф. Поскольку Ницше не был женат, можно было
бы, конечно, предположить, что он испытывал некий
внутренний протест против брака, но очевидные факты
противоречат убеждению об изначальном или
принципиальном отторжении им самой этой идеи. Он очень
хотел жениться на Лу Саломей в 1882 г.; в письмах к
Элизабет он часто обсуждает возможность
«подходящего» брака. Серьезность его намерений относительно
Матильды Трампедах вызывает все же большие
сомнения. Он прибыл в Женеву 6 апреля и там
познакомился с молодым кондуктором Гуго фон Зенгером, который
представил его Матильде: она не была обручена с
Зенгером, но между ними было «понимание». Ей было
21 год, она была исключительно хороша и
самоуверенна: вероятно, она вела себя с Ницше более свободно и
заинтересованно, чем он привык ожидать, и он,
конечно, неверно истолковал ее поведение. 11 апреля они
провели на шумной вечеринке, обсуждая поэзию и прочие
высокие материи, и, вернувшись в гостиницу, он
написал ей* краткое послание с предложением выйти за него
замуж. В записке он предупреждал, что утром
следующего дня должен возвратиться в Базель, но что
записку ей передаст Зенгер, — неудачный выбор связного,
подтверждающий, однако, что ему не было известно об
отношениях Зенгера и Матильды. (Такой же промах
Ницше совершил и в отношениях с Лу Саломей: в
посредники он выбрал Пауля Рее, который имел те же
намерения и уже успел назначить девушке свидание. Но
в тот раз Ницше отважился на повторный личный
разговор.) Матильда отписала ему в Базель с отказом.
149
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
Впоследствии она вышла замуж за Зенгера. Она
никогда не воспринимала Ницше как возможную партию и,
насколько нам известно, больше никогда с ним не
виделась. Ее письменный отказ был довольно мастерски
изложен, так как заставил Ницше почувствовать
необходимость извиниться за то, что он вообще отважился
сделать предложение. 15 апреля он пишет ей смиренный
ответ:
«Вы были столь великодушны, что простили меня; я
чувствую это по мягкому тону вашего письма, которого я
на самом деле не заслужил... У меня есть лишь одно
последнее желание: если вы когда-нибудь прочтете мое имя
или увидите меня снова, то не станете вспоминать об
испуге, причиненном мною. Я прошу вас, во всяком случае,
верить, что хотел бы загладить вину за свое дурное
поведение».
В этих словах чувствуется некоторое облегчение.
Жалел ли он о своем внезапном предложении, был ли теперь
рад, что его не приняли? Похоже что так: любовь не
любовь, которая меняет ветер между 11-м и 15-м числами
одного месяца.
Самым значительным событием этого периода жизни
Ницше стал первый фестиваль в Байрейте. Учитывая то,
что случилось прежде, не сложно будет понять его
поведение. Сам фестиваль должен был начаться 13
августа, и состоял он из трех полных циклов «Кольца Нибе-
лунга». Ницше приехал 23 июля, к концу репетиций
второго цикла. Он плохо себя чувствовал, ему и вовсе
не следовало бы ехать туда, но на сей раз он не мог
убедить себя остаться в стороне. Репетиция первого акта
шла вечером в день его приезда; он был на ней, но ему
пришлось уйти с середины из-за головной боли. На
следующий день он присутствовал на репетиции второго
акта, а 26-го числа — третьего. Репетиция третьего
цикла началась 29 июля. В тот день Ницше прослушал
150
БАЗЕЛЬ И БАЙРЕЙТ
«Золото Рейна», а 31-го числа — «Валькирии», но у
него так разболелись глаза, что он не в состоянии был
смотреть на сцену. На следующее утро он отправил
Элизабет письмо с сообщением о своем отъезде,
поскольку был более не в силах что-либо выдержать. 2 и
3 августа он провел в курортном местечке Клингенбрунн
в Богемском Лесу, откуда писал сестре, бывшей тогда
в Байрейте:
«Я совершенно точно знаю, что не выношу
пребывания там; нам следовало это осознать заранее! Вспомни,
как осторожно мне приходилось жить все последние
годы. Я чувствую такую усталость и изнурение от
краткого пребывания там, что мне будет трудно
оправиться».
Он пробыл в Клингенбрунне десять дней и большую
часть времени писал, несмотря на постоянные головные
боли: этот материал составил часть книги «Человеческое,
слишком человеческое». (Из написанного двумя годами
позже письма к Матильде Майер мы узнаем, что он
тогда набросал около трети всей книги, то есть — в ее
окончательном варианте — первого тома.) За эти десять дней
он постепенно оправился, и, когда Элизабет предложила
ему вернуться в Байрейт, он уступил. Он приехал туда
снова 12 августа и стал свидетелем публичного показа
первого цикла «Кольца» 13—17 августа. (15-го числа
спектакля не было.) Второй цикл шел с 20 по 23 августа,
но Ницше не присутствовал на нем — свои билеты он
кому-то отдал; а 27 августа, когда начался третий и
последний цикл, он вернулся в Базель. Ввиду своих близких
отношений с Вагнером он мог быть в самом центре
событий всего фестиваля, но вместо этого предпочел
оставаться в тени, не получая, очевидно, никакого удовольствия от
происходящего. Он жил в доме Мальвиды — а мог бы,
можно представить, жить в Ванфриде, если бы
пожелал, — и избегал Вагнера, словно боялся личного контак-
151
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
та. Многие заметили, что он уехал, и радовались его
возвращению. Но его угрюмый вид и дурное настроение
печально контрастировали с всеобщим состоянием восторга
и радости.
Таким оказался для Ницше Байрейт. Он испытывал
острое разочарование и проклинал свое никчемное
здоровье. Спустя годы, однако, он приписывал свое
поведение внезапному прозрению относительно природы
фестиваля:
«Каждый, кто имеет какое-то представление о
видениях, проносившихся на моем пути даже в то время, может
догадаться, как я себя чувствовал, когда однажды пришел
в себя в Байрейте. Это было, как если бы я спал... Где я?
Я ничего не узнавал, я с трудом узнал Вагнера. Тщетно
вглядывался я в свою память. Трибшен — далекий
благословенный остров: ни тени сходства. Несравненные дни
закладки камня, маленький оркестр посвященных,
славивших себя и имевших вкус к изяществу: ни тени сходства.
Что же произошло? Вагнера перевели на немецкий! Ваг-
нерианец стал хозяином Вагнера!.. Решительно, толпа, от
которой волосы встают дыбом!.. Ни один урод не остался в
стороне, вплоть до последнего антисемита. Бедный Вагнер!
Какой же путь он избрал? Уж лучше бы он оказался среди
свиней! Но среди немцев!» (ЕН-ЧС, 2).
И далее в том же духе. С тем же чудовищным
изнурением и преувеличением, как в «Ессе Homo» — но это
не значит несправедливо. Идеологическая сторона
Вагнера — немецкого националиста и антисемита, — которую
даже в 1888 г. Ницше предпочитал не расценивать как
часть глубинной сущности его характера, обнаружилась со
всей силой, и ее более нельзя было игнорировать: Байрейт
вскрыл в Вагнере не только великого художника, но в той
же степени и тевтонского мистического проповедника.
Важно отметить, что «новый» Ницше, автор книги
«Человеческое, слишком человеческое», существовал уже до
152
БАЗЕЛЬ И БАЙРЕЙТ
начала самого фестиваля 1876 г.: фестиваль стал только
поводом, а не причиной его интеллектуального развода с
Вагнером. (В этом отношении «Ессе Homo» несколько
дезориентирует.) Его конфликт с самим собой,
выражаясь метафорически, разорвал его пополам: эмоционально
он был с Вагнером, интеллектуально он отвергал его.
Четвертая часть «Размышлений» — «Рихард Вагнер в Бай-
рейте», вышедшая на второй неделе июля 1876 г., но
бывшая по преимуществу творением 1875 г., — стала его
последней попыткой вылечиться от этой расщепленности
и в этом отношении оказалась вполне успешна: никогда
еще Вагнер не был обрисован столь сочувственно. Но уже
через месяц после публикации Ницше приступил к
работе над книгой «Человеческое, слишком человеческое»,
совершенно антивагнеровской, каковой была признана и
самим Вагнером.
Ключом к пониманию Ницше того периода,
понятием, которого не хватало ни его современникам, ни ему
самому, является психосоматическое расстройство. Вряд
ли можно сомневаться в том, что все симптомы —
проблемы с желудком, глазами, рвота, хронические
головные боли — указывали на резкое обострение этой
мучительной болезни.
2
Четыре части «Несвоевременных размышлений»
содержат мысли Ницше о природе культуры в
постдарвинском мире в целом и в рейхе в частности. Тон их
юношеский, агрессивный и бескомпромиссный. В первом
«Размышлении» — «Давид Штраус, исповедник и
писатель» — в ужасающих деталях изображен враг: это
«культурный филистер (мещанин)», который не имеет
даже начального представления о том, что такое
культура, но стыдится в этом признаться. Он глубоко
озабочен обустройством рейха:
153
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
«Из всех дурных последствий недавней войны с
Францией наибольшим, вероятно, является распространение
едва ли не универсального заблуждения... что
германская культура также победила в этой борьбе... Это
заблуждение... способно обратить нашу победу в полное
поражение: в поражение, если не в полное
истребление германского духа [Geist] ради выгоды
«Германского рейха» (HI, 1).
Ницше дает определение культуры таким образом, что
оставляет современного ему немца лишенным ее:
«Культура — это прежде всего единство
художественного стиля всех проявлений жизни народа. Многознание
и ученость, однако, не являются ни существенным
средством культуры, ни ее признаком и при необходимости
могут хорошо уживаться с противоположностью культуры,
варварством, которое либо лишено стиля, либо является
хаотичным нагромождением всех стилей. Но именно в
таком хаотичном нагромождении всех стилей и пребывает
современная Германия» (HI, 1).
Незадолго до того вышедшая книга Давида Штрауса
«Вера старая и новая» имела огромный успех у немецкой
публики и уже считалась «классикой», и это было
подтверждением того, что «культурный мещанин» был
полным невеждой в вопросах культуры.
«Вера старая и новая» содержит сумму взглядов
Штрауса: он отвергает всякую веру в возрождение религии и
связывает все надежды со светской, рациональной культурой,
и основания протеста Ницше очень важны для понимания
такого рода «атеизма», а также причин, по которым
Штрауса нельзя назвать «рационалистом девятнадцатого века».
Для рационализма девятнадцатого века характерно
осознание всей тяжести принятия уже разоблаченной религии и тех
сложностей, которые связаны с последствиями ее
отторжения. Характерным тоном рационалистов девятнадцатого
154
БАЗЕЛЬ И БАЙ РЕЙТ
века является их маниакальная жизнерадостность: они
словно вышли из тюремного заключения. Штраус — типичный
представитель, и сегодня он глубоко устарел с его
легковесной самоуверенностью и ласковым одобрением текущего
миропорядка. Возражения Ницше нельзя свести просто к
его неприятию мира как такового, он указывает на
невнимание к моральным и логическим проблемам, выдвинутым
рационалистическим мировоззрением, и нежелание их
решать. В афоризме 1888 г., направленном против Джорджа
Элиота, он, с присущим ему лаконизмом последних лет,
формулирует свой основной аргумент против
соответственной рационалистической позиции:
«Они освободились от христианского Бога и теперь
чувствуют обязанность еще более держаться христианской
морали: это соответствует английской логике... У нас
иначе. Когда отказываешься от веры в христианство, ты тем
самым лишаешься права на христианскую мораль...
Христианство — это система, последовательно продуманный
и завершенный взгляд на мир. Если кто-то выбивает из
него основополагающую идею, веру в Бога, он, таким
образом, разбивает вдребезги весь предмет... Христианская
мораль — это веление; ее происхождение
трансцендентально... она истинна, только если Бог истинен — она
либо стоит, либо падает с верой в Бога. Если англичане
действительно полагают, что знают, на основании
собственных представлений, «интуитивно», что есть добро и
что зло... то само по себе это лишь следствие
возвышенности христианских ценностей» (СИ, IX, 5).
Ницше действительно отказался от веры в Бога, и его
презрение к Штраусу коренится в том, что Штраус
только делал вид, что отказался от нее. Штраус не страдал от
«смерти Бога», потому что на самом деле не верил в него;
он мог ниспровергать христианство и приветствовать
Дарвина как благодетеля человечества без страданий духа,
потому что не ведал, что творил:
155
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
«Он признается с умилительной искренностью, что
более не христианин, но что у него нет желания тревожить
чей-либо душевный покой... С каким-то грубым
презрением он покрывает себя меховым плащом наших творцов
обезьяньей генеалогии и восхваляет Дарвина как одного из
величайших благодетелей человечества — но смущает
видимость того, что эта этика выстроена совершенно
независимо от вопроса: «Какова же наша концепция мира?»
Здесь-то и была возможность проявить врожденную
храбрость: ибо здесь... ему следовало смело вывести
моральный код для жизни вне bellum omnium contra omnes1 и
привилегии сильного» (HI, 7).
Штраус принял мир bellum omnium contra omnes, но был
не способен объяснить ни то, как характерные качества
гуманизма могли возникнуть в таком мире, ни то, как всякая
этика вообще возможна в постдарвинской вселенной:
«Штраус до сих пор даже не знает, что никакая идея
никогда не может сделать людей лучше или морально
выше и что поучать морали в той же степени легко, в
какой искать ей основания сложно; его задачей было,
скорее, взять явления человеческой доброты,
сострадания, любви и самоотречения, которые и в самом деле
существуют, и вывести их и объяснить на основании
предположений Дарвина» (HI, 7).
Разница между Ницше и рационалистом типа Штрауса,
таким образом, налицо: Штраус считал, что тенета религии
более не заслуживают доверия, и верил, что Дарвин
продемонстрировал истину гипотезы эволюции, но продолжал
мыслить и действовать так, словно больше ничего не
изменилось; Ницше, придя к тем же выводам, осознал, что и все
остальное изменилось, что вселенная утратила всякую
осмысленную реальность.
1 «Война всех против всех», афоризм английского
философа-материалиста Гоббса. (Примеч. пер.)
156
БАЗЕЛЬ И БАЙРЕЙТ
Атакуя Штрауса, Ницше через отрицание
волей-неволей приговорил себя к решению задачи, от которой
увильнул Штраус: то есть задать вопрос, «какова же
наша концепция мира» после Дарвина. Второе
«Размышление» — «О пользе и вреде истории для жизни» —
подступает к этой теме исподволь через размышления о
наиболее яркой характеристике того времени по
сравнению с прошлыми эпохами: его историческом сознании.
Исходная мысль заключается в том, что знание
прошлого является бременем для человека (НИ, 1). Возможно,
что неведение прошлого более способствует счастью; во
всяком случае, забывчивость по отношению к прошлому
есть непременный спутник счастья и действия (НИ, 1).
Но люди не могут забыть о прошлом более чем на
несколько мгновений за один раз; они не могут стать
полностью «неисторичны», как неисторичны животные;
поэтому им следует учиться «преодолевать» прошлое и
мыслить «над-исторично»:
«...исторические люди верят, что смысл существования
становится яснее по ходу его процесса... над-исторические
люди... не видят решения в этом процессе; для них,
скорее, мир представляется целостным и достигшим конца в
каждое следующее мгновение» (НИ, 1).
Человечество, говорит Ницше, все еще молодо, и
ошибочно думать о «человеческой природе» как о неизменном
качестве. Но само это предположение лежит за
пределами чрезмерного исторического сознания, от которого
страдает эпоха; а за пределами этого предположения находится
наследие христианской эры и влияние Гегеля:
«Человеческая раса — штука неподатливая и
упорная и не допустит, чтобы прогресс рассматривался в
контексте сотен тысяч лет... Что такого в паре тысячелетий
(иными словами, промежутке в 34 последовательных
поколения по 60 лет каждое), которые позволяют нам го-
157
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
ворить о «юности» человечества в их начале и
«старости» человечества в конце? Не заключено ли в этом
парализующее убеждение, что человечество уже не склонно
считать заблуждением христианскую богословскую идею,
унаследованную от Средневековья, идею о том, что
грядет конец мира, что мы с ужасом ожидаем Страшного
Суда? Разве возрастающая потребность в историческом
суждении не есть та же самая идея в новом обличье?..»
(НИ, 8).
Убежденность в том, что ты поздний пришелец эпох,
в любом случае парализует и угнетает; но окажется
чудовищным и разрушительным, когда эта убежденность в
один прекрасный день в результате смелой инверсии
вознесет такого запоздавшего гостя до божества как
истинное значение и цель всех предыдущих событий... Такой
взгляд на вещи приучил немцев говорить о «мировом
процессе» и оправдывать собственный век как необходимый
результат этого мирового процесса. [Это случилось под
воздействием] огромного и все еще продолжающегося
влияния [философии Гегеля]» (НИ, 8).
Гегель призывал современного человека именовать
«свой образ жизни... полной отдачей своей личности на
волю мирового процесса»; а теперь влияние Гегеля
пополнилось еще и влиянием Дарвина:
«...теперь история человечества — это всего лишь
продолжение истории животных и растений; даже в
сокровеннейших глубинах моря универсальный историк все
же отыскивает свои следы в виде живой слизи... Он
стоит, возвышен и горд, на вершине пирамиды
мирового процесса» (НИ, 9).
«Высокомерный европеец XIX века, ты в сумасшедшем
бреду! — восклицает Ницше. — Твои знания не
совершенствуют природу, они только разрушают ее» (НИ, 9).
158
БАЗЕЛЬ И БАЙ РЕЙТ
Этот крик направлен против тех, кто приветствовал
Дарвина как спасителя, тогда как в действительности он свел
их на уровень ничто. Под предводительством Гегеля и
Дарвина они в ближайшем будущем придут к
нигилистическому краху всех ценностей:
«Если наступающие господствующие доктрины о
текучести всех понятий, родов и видов, отсутствии всякого
кардинального отличия между человеком и животным —
доктрины, которые я считаю верными, но убийственными, —
обрушатся на людей еще одного поколения с яростью
инстинкта, ставшего теперь нормой, то не следует
удивляться, если... индивидуалистские системы, братства, созданные
ради алчной эксплуатации не-братьев, и тому подобные
творения... выйдут на сцену будущего» (НИ, 9).
Против этого наступающего нигилизма Ницше
выдвигает «над-исторический» идеал:
«[Достойный человек] всегда восстает против слепой
власти фактов, против тирании существующего и
подчиняется законам, которые не являются законами
исторического течения. Он всегда идет против прилива истории,
либо путем единоборства со своими страстями как с
ближайшими звериными данностями своего существования,
либо посвящая себя достоинству» (НИ, 8).
«Наступит время, когда станут благоразумно
воздерживаться от всех построений мирового процесса или
даже от истории человека; время, когда станут
относиться со вниманием не к массе, а к личностям, которые
образуют нечто вроде моста через бурный поток
грядущего. Эти личности не выдвигают никакого процесса, но
живут современно друг с другом... они живут как та
Республика Гения, о которой некогда говорил
Шопенгауэр... Нет, цель человечества не может состоять в его
конце, но только в его высших образцах» (НИ, 9).
159
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
Их создание, полагает Ницше, и есть функция
культуры; и как наглядный урок того, как следует создавать
живую культуру, перед нами все те же греки:
«Дельфийский бог взывает к тебе... своим оракулом:
«Познай себя!»... Бывали столетия, когда греки
оказывались перед лицом опасности, сходной с той, которая
угрожает нам: опасности быть поглощенными тем, что уже
в прошлом, и чужим, или погибнуть через «историю»... Их
культура была долгое время... хаосом чужого —
семитских, вавилонских, лидийских, египетских форм и идей, а
их религия — битвой всех богов Востока... Греки
постепенно научились упорядочивать хаос, следуя
дельфийским наставлениям и возвращаясь мыслью к себе, то есть
к своим реальным нуждам... Таким образом, они... не
долго оставались навьюченными наследниками и
эпигонами всего Востока... Таково назидание каждому из нас:
следует упорядочить хаос в себе, возвращаясь мыслью к
своим реальным нуждам... Так откроется греческое
понимание культуры... идея культуры как нового и
улучшенного physis» (НИ, 10).
«Упорядочение хаоса» — это иной способ описания
победы Аполлона над Дионисом, но все еще метафора и
в этом смысле бесполезная: Ницше не может объяснить,
о чем конкретно идет речь. Но кардинальные понятия его
зрелой философии уже присутствуют в «Размышлении» об
истории, несмотря на то что они пока не нашли четкого
воплощения: понятие «упорядочение хаоса» ведет к главе
«О самопреодолении» в «Заратустре», где впервые
описана воля к власти; та мысль, что «цель человечества не
может состоять в его конце, но только в его высших
образцах» ведет к Übermensch (Сверхчеловеку), человеку,
который упорядочил в себе хаос; представление о
над-историческом человеке ведет к вечному возвращению. Он
также острее, чем прежде, обозначил типичную проблему
о «верном, но убийственном». Дарвинизм верен, но гро-
160
БАЗЕЛЬ И БАЙ РЕЙТ
зит катастрофой; учение о том, что реальность
«становится», но никогда не есть, тоже справедливо, но тоже
представляет угрозу. Ни одно утверждение нельзя отвергнуть:
оба они в конечном итоге будут преодолены.
Третье размышление — «Шопенгауэр как Учитель» —
закрепляет идею о том, что «высшие образцы» человечества
суть его цель и что каждая личность может осознать
«греческую идею культуры... как новый и улучшенный physis»,
«возвращаясь мыслью к своим реальным нуждам».
«Человеку, который не желает принадлежать массе,
нужно только перестать легкомысленно относиться к себе
и следовать своему сознанию, которое взывает к нему:
«Будь самим собой! Все, что ты в данный момент
делаешь, думаешь, желаешь, — не ты!» (Hill, 1).
«Но как можем мы вновь отыскать себя? Как
человеку узнать себя?.. Молодая душа должна оглянуться на
жизнь с вопросом: «Что ты до сих пор любил
по-настоящему, что притягивало твою душу, что владело ею и в то
же время благословляло ее?» Представь эти вещи...
перед собою, и, может быть, они дадут тебе...
фундаментальный закон твоего собственного, подлинного я... ибо твоя
настоящая природа лежит не глубоко погребенная внутри
тебя, а находится неизмеримо высоко над тобою... Есть и
другие средства найти себя... но я не знаю лучшего
способа, как думать о своих учителях» (Hill, 1).
Следующий затем очерк Ницше посвящает
размышлениям о своем «учителе» — Шопенгауэре.
Примечательно, что о философии Шопенгауэра сказано буквально два
слова; акцент делается на независимости его мышления и
позиции, а также на его интеллектуальной смелости:
«Философ полезен мне только в той мере, в какой он
может являть для меня пример... Но этот пример должен
сопровождаться его внешней жизнью, не только его кни-
6 Р Дж. Холлингдейл 161
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
гами... Кант, привязанный к своему университету,
подчинился его правилам... поэтому естественно, что его
пример представляет, помимо прочего, университетских
профессоров и профессорскую философию» (Hill, 3).
«Там, где существовали мощные общества,
правительства, религии, общественные мнения — короче, везде, где
бывала тирания, — там одинокий философ был
ненавидим; ибо философия предлагает человеку прибежище, в
которое не может пробиться ни один тиран» (Hill, 3).
В век разобщенности и тирании, который, Ницше не
сомневался, неизбежно грядет, философ типа
Шопенгауэра сохраняет «человеческий образ»:
«В течение целого столетия мы готовились к полному
потрясению основ... Кому охранять и защищать
гуманность.., среди опасностей нашей эпохи? Кто подаст
пример человеческого образа, когда люди... пали до уровня
животных или даже автомата?» (Hill, 4).
Существовало, говорит он, три «человеческих образа»,
завещанных современной эпохой, и он называет их
именами Руссо, Гете и Шопенгауэра. Человек Руссо по
преимуществу революционер, человек Гете — созерцатель,
человек Шопенгауэра — тот, кто «добровольно
принимает на себя страдания, неотъемлемую часть
правдивости» (Hill, 4):
«Тот, кто стал бы жить по Шопенгауэру... напоминал бы
скорее Мефистофеля, нежели Фауста... все, что
существует, что можно отрицать, заслуживает отрицания; и быть
честным означает верить в существование, которое никоим
образом нельзя отрицать... Безусловно, он станет разрушать
свое земное счастье своей храбростью; ему придется стать
врагом тех, кого он любит, и учреждений, породивших его;
он может не щадить людей или вещей, даже при том, что
162
БАЗЕЛЬ И БАЙРЕЙТ
будет страдать, когда страдают они; он будет неверно
понят и долгое время может восприниматься как союзник
власти, ненавистной ему... ему придется сойти в глубины бытия
с целым рядом странных вопросов на устах: зачем я живу?
Какой урок должен я извлечь из жизни? Как мне стать тем,
что я есть, и почему я страдаю от того, каков я?.. Тот, кто
расценивает свою жизнь не более как мгновение в
эволюции расы, или государства, или науки... не постиг урока
бытия» (НШ, 4).
«Урок бытия» состоит в том, что только великие
личности имеют какую-то ценность, а великая личность — это
тот, кто больше, чем животное, больше, чем человек, — это
Übermenschу в более поздней терминологии Ницше:
«До тех пор, пока кто-то жаждет жизни как
удовольствия, он не поднимает глаз выше горизонта животного,
так как всего лишь более осознанно жаждет того, что
животное ищет посредством слепого импульса. Но
именно это мы все и делаем большую часть наших жизней...
Но бывают моменты, когда мы осознаем это... мы
видим, что, согласно со всей природой, мы
проталкиваемся к человеку, как к чему-то, что выше нас» (НШ, 5).
«...Так кто они, способные возвысить нас? Они те
самые настоящие люди, те, которые уже более не
животные, это философы, художники и святые; природа, которая
никогда не делает скачков, сделала один свой скачок...
создав их» (НШ, 5).
Человечество должно работать постоянно, чтобы
создавать индивидуальные великие человеческие существа, —
это, и ничто другое, составляет его задачу... Ибо вопрос
таков: как может твоя жизнь, индивидуальная жизнь,
сохранять высочайшую ценность, глубочайшую важность?..
Только путем жизни во благо редчайших и ценнейших
образцов» (НШ, 6).
163
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
«[Всякий, кто поступает так] помещает себя в круг
культуры [и говорит] я вижу над собой нечто выше и
человечнее, чем я; пусть каждый поможет мне достичь
этого, как я помогу каждому, кто знает и страдает, как я:
так что в конце концов может появиться человек, который
чувствует себя совершенным и безграничным в знании и
любви, восприятии и силе и который в своей
завершенности заодно с природой — судьей и оценщиком вещей»
(Hill, 6).
Все четвертое «Размышление» — «Рихард Вагнер в
Байрейте» — в отличие от прочих трех, представляет
скорее биографический интерес, нежели философский.
Здесь важно не то, о нем Ницше писал, а сам тот
факт, что он написал очерк о Вагнере в 1875 г. и
опубликовал его в 1876 г., имея в виду приурочить его к
первому фестивалю в Байрейте. Очерк написан в
откровенно хвалебном тоне, и в «Ессе Homo» Ницше
поясняет, что здесь, как и в эссе о Шопенгауэре, он на
самом деле писал о самом себе. «Очерк «Вагнер в
Байрейте» — это видение моего собственного будущего»,
говорит он (EH-HIII); и снова:
«...то, что я слышал в музыке Вагнера в юности, не
имеет ничего общего с Вагнером... Подтверждение тому...
мой очерк «Вагнер в Байрейте»: во всех ключевых
психологических фрагментах речь идет только об одной
личности — можно не сомневаясь вставить мое имя или слово
«Заратустра» везде, где текст содержит слово «Вагнер»...
У Вагнера и самого была такая мысль: себя в очерке он
не узнал» (ЕН-РТ, 4).
Это заявление совершенно неприемлемо, и
утверждение, что Вагнер не узнал себя в очерке, неправда.
Ницше послал ему текст в июле 1876 г., и оба — Вагнер и
Козима — пришли от него в восторг. (Как и король
Людвиг, которому Вагнер направил экземпляр.) Вагнер
164
БАЗЕЛЬ И БАЙРЕЙТ
написал Ницше почти немедленно: «Друг! Твоя книга
гениальна! Как удалось тебе так хорошо меня узнать?»
Во всяком случае, исследователь Вагнера скорее
восхитится проявленным в очерке пониманием личности
маэстро, чем поверит, что изображенный здесь человек —
Ницше, а вовсе не Вагнер.
С точки зрения философии Ницше в очерке есть один
важнейший элемент, который является мостиком между
его ранними произведениями и книгой «Человеческое,
слишком человеческое»: объяснение творческой энергии
Вагнера его волей к власти. В «Размышлении» об
истории он уже предположил, что тот процесс, который
там назван «упорядочением хаоса» и посредством
которого греки стали единой и живой культурой, может
также работать и в каждой отдельной личности как
разновидность состояния, характерного конфликтующими
побуждениями и эмоциями. В ретроспективе видно, что
Ницше уже приблизился к концепции жажды власти как
ведущей идее государства и личности, но эта концепция
была еще затушевана аполлоно-дионисийским дуализмом.
В очерке «Рихард Вагнер в Байрейте» он уже смотрит
на вещи иначе: он уже повидал Вагнера крупным
планом и был готов дерзнуть на психологический анализ его
развития. С Вагнером к нему пришла и идея воли к
власти, трансформированная в художественном
творчестве не как отдаленное и полуметафорическое явление,
а как реальное воплощение:
«Когда ведущая идея его (Вагнера) жизни — идея,
что ни с чем не сопоставимого влияния... можно достичь
через театр — овладела им, она привела все его существо
в самое неистовое возбуждение... Эта идея впервые
появилась... как выражение его скрытой личной воли,
ненасытно жаждущей власти и славы. Влияние, несравнимое
влияние — как? над кем? — с той поры стало вопросом
и запросом, неотступно занимающим его голову и сердце.
Он хотел покорять и править, как ни один художник до
165
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
него, и при возможности достичь единым ударом того
тиранического всемогущества, к которому тайно взывали его
инстинкты» (HIV, 8).
В результате Вагнер стал гением театра и не
остановился до тех пор, пока не создал целый маленький мир,
где его слово было законом.
Ницше нигде не высказывался осуждающе по поводу
такого источника искусства Вагнера, считая это чем-то
недостойным, ведь свою страсть к власти Вагнер
направил в чисто идеальное русло. История девятнадцатого века
была бы совершенно иной, если бы Вагнер добивался
власти через политику или армию: в нем были задатки
второго Наполеона — что представляло великую ценность
для Ницше-психолога.
Глава 7
СОРРЕНТО И КОНЕЦ БАЗЕЛЯ
...Именно в годы моей наименьшей
жизнестойкости я перестал быть
пессимистом: инстинкт самоисцеления
запретил мне философию скудости и
подавленности.
Ф. Ницше. Ессе Homo
1
К осени 1876 г. разрыв с Вагнером стал уже
практически свершившимся фактом. Ницше виделся с ним еще
однажды: в Сорренто в ноябре предыдущего года. Это
была случайная встреча. 27 августа Ницше уехал из Бай-
рейта, покинув Вагнера в обществе Рее, с которым у него
установились тесные дружеские отношения. (Поскольку
Рее был евреем, в Ванфриде возражали против этих
отношений.) Состояние его здоровья ясно указывало на
невозможность сразу снова приступать к работе; он подал
прошение об отпуске по болезни и 15 октября был
освобожден от всех обязанностей сроком на год. Не
дожидаясь положительного решения, они с Рее 1 октября
отправились на небольшой минеральный курорт Беке в кантоне
Ваадт, где пробыли до 20-го числа: к этому времени
здоровье Ницше вошло в устойчивый ритмический цикл
ухудшений и улучшений, продолжавшийся до конца его
жизни. К концу их пребывания в Бексе к ним присоединился
молодой романист Альберт Бреннер, и уже втроем 20
октября они направились в Геную, а оттуда на пароходе в
Неаполь. Там они встретились с Мальвидой, и она
повезла их на виллу, которую снимала близ Сорренто, —
виллу Рубиначчи, где они прожили до будущей весны.
167
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
Воспоминания Мальвиды о ее полной приключений
жизни можно прочесть в «Мемуарах идеалиста». К 1872 г.,
когда Ницше познакомился с ней в Байрейте, она уже
стала чем-то вроде всеобщей тетушки для молодого
поколения немецких писателей и художников. У нее был
колоссальный круг общения, в большинстве своем
состоящий из людей, которым она так или иначе когда-то
помогла, и было вполне закономерно, что она
предложила трем молодым людям1 поработать и отдохнуть у
нее в течение зимних месяцев. Вилла была расположена
на побережье в пятнадцати минутах ходьбы от Соррен-
то, откуда через пространство морского залива
открывался вид на Неаполь и Везувий. «Мы живем... в
квартале, где сплошь одни сады и виллы и садовые
домики, — писал своей семье Бреннер. — Весь квартал
похож на монастырь». Позже сам Ницше писал Р. фон
Зейдлицу, одному знакомому писателю и художнику:
«Мы жили вместе в одном доме, и, более того, у всех
были общие высшие интересы: это было что-то вроде
монастыря для свободных духом». «Светский
монастырь», о котором они когда-то мечтали с Роде, на
короткое время воплотился в реальность.
Рее и Бреннер пробыли там до середины следующего
апреля, Ницше — до мая; все трое работали над своими
книгами, иногда Ницше диктовал Бреннеру, у которого,
как у младшего из всех, был ряд «обязанностей», в том
числе оглашение календарной даты за завтраком и
утренний подъем раньше всех остальных. Большую часть
времени Ницше нездоровилось, хотя мягкая зима потихоньку
приводила к улучшению.
Случилось так, что Вагнер с семьей тоже были тогда в
Италии. 1 сентября, после завершения первого фестиваля,
они отправились в длительный отпуск и 5 октября прибыли
в Сорренто, где оставались до 7 ноября. Вагнер виделся с
Ницше несколько раз: они вели долгие беседы, как неког-
Ницше было 32 года, Рее — 26, Бреннеру еще не было 21.
168
СОРРЕНТО И КОНЕЦ БАЗЕЛЯ
да в Трибшене; в основном говорил Вагнер, Ницше слушал,
и внешне царила гармония. Но в душе Ницше печалился
тому впечатлению, которое производил на него его бывший
кумир. Вагнер, повторял он в письмах этого и несколько
более позднего периода, стар и не способен уже к
переменам. Дело было не только в возрасте: Вагнеру было всего
63 года — лишь на семь лет больше, чем когда они
впервые встретились. Но он был стар ментально, и в его уме
сложились твердые убеждения по всем мыслимым вопросам.
Он уже начинал погружаться в тему своего последнего
великого сочинения — «Парсифаля». Казалось бы, в этой
опере нет ничего «старческого». По словам Ньюмана, «Ни
в одном другом творении Вагнер не обнаружил столь
сурового критического мышления. Он... был занят созданием
музыкального мира, о котором до того никто и не
помышлял, даже он сам»1. И все же нет сомнений в том, что
«Парсифаль» — сочинение человека старого в том
смысле, в котором «Фальстаф» Верди, к примеру, таковым не
является. Упор на страдания и жалость, отказ от действия,
разворот в пользу смирения, крайне затянутый темп,
многословие самой длинной роли — Гурнеманца (отдаленно
напоминающего Просперо) — решительно во всем
сказывается настроение человека, который осознает, что это его
последняя работа, и потому превращает ее в последнюю
волю и завещание. При всем христианском лексиконе и
перипетиях «Парсифаль» Вагнера — творение поистине
шопенгауэровское, и, слушая его рассуждения, Ницше, надо
полагать, снова и снова убеждался в том, как далеки они
теперь друг от друга.
После отъезда Рее и Бреннера (10 апреля) между
Ницше и Мальвидой состоялся, вероятно, серьезный разговор
относительно будущей карьеры Ницше. К тому времени
вполне отчетливо обозначились два момента: во-первых, ему
1 Цит. по: Newman Ernest. The Life of Richard Wagner. Vol. 4. P. 581.
169
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
следовало оставить Базель и, во-вторых, найти жену.
Последняя тема уже обсуждалась с Элизабет и устно, и
письменно; 25 апреля Ницше пишет ей снова:
«Теперь план, который, как полагает фрл. фон М., мы
должны постоянно держать в поле зрения и в котором ты
должна помочь, таков: мы убеждены в том, что в конечном
итоге мне придется расстаться с университетской жизнью в
Базеле, ибо, если я продолжу ее, это приведет к краху всех
моих более важных проектов и окончательной потере
здоровья. Конечно, мне придется остаться в Базеле на
будущую зиму, но к Пасхе 1878 г. я сверну все дела, при
условии что мы осуществим другой план, то есть брак с
подходящей и обязательно обеспеченной женщиной.
«Хорошей, но богатой», как говорит фрл. фон М. ... К этому
проекту следует приступить нынешним летом в Швейцарии,
так, чтобы я мог вернуться в Базель уже женатым
человеком. В Швейцарию уже приглашены несколько лиц, среди
которых есть имена, совершенно тебе незнакомые,
например, Элизе Бюлов из Берлина, Элизабет Брандес из
Ганновера. С точки зрения интеллекта я по-прежнему считаю
наиболее достойной Нат. Герцен1. Твои похвалы в адрес
маленькой фрл. Кекерт из Женевы очень впечатляют!.. Но
у меня по-прежнему есть сомнения: каковы ее средства?»2
Казалось бы, все достаточно ясно; но ничему из
намеченного не суждено было осуществиться. Ницше
следовало вернуться в Базель осенью (1877 г.), и оставшееся время
он (а вернее, Мальвида) намеревался провести в
Швейцарии, где, при посредничестве Мальвиды, ему предстояло
повидаться с некоторыми юными особами и присмотреться
1 Наталья Герцен была дочерью Александра Герцена. Мальвида
служила частной наставницей сестры Натальи, Ольги. Прочие кандидатуры на брак
были, несомненно, предложены Мальвидой.
2 Фрл. Кекерт была дочерью женевского банкира, и то, что Ницше
спрашивает о ее средствах, проясняет, что именно они с Мальвидой
подразумевали под словом «богатая» применительно к кандидатам в жены.
tTO
СОРРЕНТО И КОНЕЦ БАЗЕЛЯ
к ним повнимательнее, чтобы потом одну из них взять в
жены. Нет никаких сведений о том, что он так и поступил.
Напротив, в письме к Мальвиде от 1 июля, после
примерно шести месяцев странствий по Италии и Швейцарии, он
сообщает, что эта «приятная обязанность» все еще
впереди. Поменялись и планы относительно Базеля:
«Я твердо решил вернуться в Базель и возобновить свою
деятельность. Я не могу жить, не чувствуя себя полезным,
а базельцы — единственные люди, которые дают мне это
чувство. Что меня сделало больным, так это все эти
размышления и бумагомарания. Пока я был настоящим
ученым, я был здоров; а потом началась вся эта музыкальная
нервотрепка и метафизическая философия [иначе говоря,
Вагнер и Шопенгауэр], и меня начали беспокоить тысячи
вещей, не имеющие ко мне никакого отношения. Поэтому
я снова хочу быть учителем. Если я не выдержу этого, то
умру на своем посту».
Но это было только мимолетное настроение. В августе
он писал Овербеку уже более реалистично: «Одно я
теперь знаю наверняка: в целом академическое
существование для меня невозможно».
И это подтвердилось. 1 сентября он снова поселился с
Элизабет в доме в Базеле (Гаст был здесь третьим, как
«секретарь и друг») и попытался возобновить свою
академическую деятельность. Но к концу года он был вынужден
оставить обязанности учителя в высшей школе и полностью
сосредоточиться на лекциях. В середине июня Элизабет
вернулась в Наумбург, а Ницше снял дом на краю города,
чтобы заставлять себя ходить пешком и таким образом,
думал он, обеспечить себе небольшую укрепляющую
здоровье нагрузку. В течение зимнего семестра 1878/79 г. он,
казалось, немного поправился, но на Пасху почувствовал,
что нуждается в «лечении» в Женеве. Оно оказалось
настолько неудачным, что он вернулся в Базель в еще худшем
состоянии, чем до отъезда. Теперь он расплачивался за
171
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
почти десятилетнее пренебрежение к своему здоровью.
Понятно, что лежащая в основе причина болезни делала ее
неизлечимой, но отдельные проявления, подрывающие
работоспособность, следовало тщательно лечить. Этим
лечением он постоянно пренебрегал: вместо отдыха работал;
вместо разумного поведения в периоды улучшения он
каждый раз вел себя так, словно окончательно поправился;
вместо того чтобы какое-то время заставить работать
восстановительные силы организма, он глотал лекарства. Он
любил ходить пешком и плавать и поэтому позволял себе
верить, что прогулки и плавание шли ему на пользу.
Короче говоря, он делал все возможное, чтобы усугубить свою
болезнь, и в апреле 1879 г. добился результата: в течение
нескольких недель он находился в состоянии полного
упадка сил, мучимый одним за другим приступами жесточайшей
мигрени; от боли он практически лишился зрения, а
желудок его постоянно отторгал пищу. В панике Овербек
телеграфировал Элизабет, что ее брат нуждался в срочной
помощи, и по приезде она застала его полумертвого от боли и
истощения.
2 мая он подал прошение окончательно освободить его
от обязанностей в университете: он расстался с
преподаванием. 14 июня он вышел на пенсию и вместе с
Элизабет покинул Базель. Сначала они отправились в Шлосс-
Бремгартен, курорт близ Берна, и вскоре затем к теще
Овербека в Цюрих. Там Ницше оставался до тех пор,
пока не оправился в достаточной степени, чтобы быть в
силах решать, что делать дальше.
2
3 января 1878 г. Вагнер прислал Ницше экземпляр
недавно опубликованного текста «Парсифаля». В мае
следующего года вышла книга «Человеческое, слишком
человеческое», и Ницше направил экземпляр Вагнеру. Теперь между
ними лежала пропасть. Ницше писал Зейдлицу 11 июня:
Т72
СОРРЕНТО И КОНЕЦ БАЗЕЛЯ
«Его [Вагнера] стремления и мои движутся в
противоположных направлениях. Это для меня довольно
болезненно — но в служении истине следует быть готовым
на любые жертвы. Если бы только он узнал обо всем,
что я имею против его искусства и его целей, он счел
бы меня одним из своих злейших врагов, каковым — и
это хорошо известно — я не являюсь».
31 мая он сказал Петеру Гасту, что «Человеческое,
слишком человеческое» «находится под своего рода
запретом в Байрейте, и великое отлучение, похоже,
распространяется и на автора тоже». Реакция Вагнера на книгу была,
однако, окрашена больше сожалением, нежели гневом.
«Из того, что ты писал, — пишет он Овербеку
24 мая, — я понял, что наш старый друг Ницше
теперь держится поодаль. В нем, действительно,
произошли какие-то резкие перемены: и все же тот, кто был
свидетелем его психических конвульсий, которым он был
подвержен долгие годы, может почти с уверенностью
сказать, что давно нависавшая над ним катастрофа,
которая теперь постигла его, не является полной
неожиданностью. Я оказал ему любезность... не прочесть его
книгу, и мое величайшее желание .и надежда состоят в
том, что однажды он поблагодарит меня за это».
19 октября он вновь пишет Овербеку, справляясь о
Ницше; он говорит о нем как о дорогом друге, чей разум
дал сбой, но для которого остается все же надежда на
выздоровление. За этот промежуток времени в
августовском номере «Bayreuther Blätter» («Байрейтский
бюллетень») появилась мягкая критика на «Человеческое,
слишком человеческое» под именем Вагнера1.
1 Она содержится в третьей статье под названием «Публика и
популярность». Орган «Bayreuther Blätter», основанный в феврале 1878 г., был
журналом партии Вагнера: редактировал его Ханс фон Вольцоген, но идейное
содержание определял конечно же сам Вагнер, под чьим неусыпным
контролем находилось издание.
173
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
В только что упомянутом письме Гасту Ницше
отмечает «странное отстранение многих друзей и знакомых»,
последовавшее за публикацией книги «Человеческое,
слишком человеческое». (Понятно, что Ницше сам
«держится поодаль», на что указывал Вагнер, глядя с другой
стороны.) В число этих отстранившихся друзей попал и
Роде, который был вполне искренен в своем неприятии
новой книги. Он сказал Овербеку: что его возмущало в
Ницше, так это его способность «произвольно принимать
любую возможную позицию», а также что он «хвастается
тем, что для нас является недостатком, то есть свободой
от всякого принуждения видеть мир в каком-то особом
свете». Все почитатели Вагнера, в частности Козима,
восприняли книгу как предательство Мастера, в которое
верилось с трудом.
Многое из этого, конечно, объясняется просто
эффектом новизны, и письмо Вагнера — полезный прибор для
измерения существа более поздних уверений
современников, что та или иная книга Ницше демонстрировала
признаки безумия: если Вагнер мог так думать о книге
«Человеческое, слишком человеческое», то ничего
удивительного, если люди иного масштаба могли то же
самое сказать о «Веселой науке» или о книге «По ту
сторону добра и зла». Возражения Роде здравы и говорят
о том, что, в отличие от Вагнера, он прочел книгу с
достаточной долей прилежания. (Заверения Вагнера в том,
что книги он не читал, не очень-то убедительны: он либо
сам просмотрел ее, либо ему поведали, о чем она.) То,
против чего выступает Роде, на самом деле и явилось
тогда основным достоинством Ницше: его мастерство
диалектика в экспериментировании с различными точками
зрения. Роде это воспринял чистой прихотью; он не
понял, что родился новый философский метод: это
станет очевидным только тогда, когда он даст результаты.
Часть третья
1879—1889
...Люди испытывают трудности с афористической
формой: это происходит оттого, что такая форма не
воспринимается достаточно серьезно. Афоризм, должным образом
отформованный и отлитый, будучи просто прочитан, остается
«нерасшифрованным»; скорее, потом приходится приступить
к его экзегезе, для чего требуется искусство экзегезы.
Ф. Ницше. О генеалогии морали
Глава 8
ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ
Это война, но война без пороха и
дыма, без воинственных поз, без
пафоса и вывихнутых членов — все это
было бы еще «идеализмом». Одно
заблуждение за другим выносится на лед,
идеал не опровергается — он
замерзает... Здесь, например, замерзает
«гений»; немного дальше замерзает
«святой»; в толстую сосульку замерзает
«герой»; наконец, замерзает «вера», так
называемое «убеждение»;
«сострадание» тоже становится значительно
холоднее — почти всюду замерзает вещь-
в-себе.
Ф. Ницше. Ессе Homo
1
Кризис, случившийся на Пасху 1879 г., стал
поворотным пунктом в жизни Ницше. С этого момента и
впредь он был не способен к нормальной общественной
жизни, свободный от ежедневной, еженедельной,
ежегодной повседневности, замкнутый в себе. Он всегда
старался избегать той ответственности и тех
обязанностей, которые могли противоречить его внутреннему
ощущению, что ему уготована какая-то особая миссия:
теперь ситуация перестала быть подконтрольна ему, и,
хотел он того или нет, он был оторван от жизни и
одинок. Сейчас понятно, что именно этого и требовала его
натура. Он был, по существу, одиночкой, и тем, кто
сочувствовал его одиночеству, следовало задать себе
вопрос, почему, если оно и впрямь было ему не по душе,
177
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
он не положил этому конец. В пределах достаточно
широких границ он мог жить где угодно, но так нигде
и не обосновался. Местом, где он наиболее
приблизился к оседлому образу жизни, можно считать деревушку
Сильс-Мария в Обер-Энгадин; там Ницше снимал
комнату в доме бургомистра и прожил несколько зим. Он
бывал в Генуе, Ницце, Венеции, Турине, постоянно
кочуя с места на место, путешествовал по Швейцарии и
Германии. Он жил в гостиничных номерах и наемных
квартирах, и единственным его имуществом была
одежда, которую он носил, бумага, на которой он писал, и
большой путевой саквояж, куда он складывал вещи. До
встречи с Лу Саломей в 1882 г. он не оставлял
попыток подыскать себе жену, но результат ухаживаний за
этой молодой женщиной убедил его в том, что он
обречен на одиночество. Иногда, конечно, ему было
жаль себя, особенно при мысли о том, что другие
смогли найти удовлетворение в браке и семье: так,
волна жалости к себе захлестнула его, когда в феврале
1884 г. Роде прислал ему фотографию своего
новорожденного сына.
«Я не знаю, как это случилось, — писал он в ответ, —
но, когда я читал твое последнее письмо и особенно когда
увидел фотографию твоего ребенка, мне почудилось, будто
ты сжимаешь мне руку и грустно смотришь на меня...
словно говоря: «Как же это возможно, что между нами теперь
так мало общего, будто мы живем в разных мирах, ведь
когда-то!..» И так, друг, со всеми, кого я люблю: все
кончено, ушло, отдаленно; люди по-прежнему навещают меня
и разговаривают, словно для того только, чтобы не молчать.
Но их глаза выдают правду: и они говорят мне (я это
довольно хорошо слышу!): «Друг Ницше, теперь ты
совершенно одинок!» К этому и вправду все пришло... О, друг,
какой бессмысленной, удаленной жизнью я живу! Так
одиноко, одиноко! Так «бездетно»!» (письмо от 22 февраля
1884 г.).
178
ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ
Три с половиной года спустя, посылая Роде экземпляр
книги «Генеалогия морали», он жаловался: «У меня за
плечами 43 года, а я все так же одинок, как был в
детстве» (письмо от 11 ноября 1887 г.).
Эмоциональные всплески подобного рода, однако,
представляли в данном случае тот тип одиночества,
которому при желании можно было бы положить конец.
Я уже высказывал предположение, что неспособность
Ницше к оседлости коренилась в смерти отца; к этому
следует добавить, что и в интеллектуальном, и в
эмоциональном плане он на самом деле нуждался в
одиночестве. Об этом свидетельствует весь его образ
мышления и стиль письма его сочинений, которые, по сути,
представляют беседу с самим собой. Многое в его
работах было не только придумано, но и записано во
время прогулок в небольших блокнотах, умещавшихся в
кармане; было бы не удивительно, если бы все это
проговаривалось также и вслух, с жестикуляцией. Нечто
подобное присуще самому характеру его изложения. Вот
каким он видится мне в зрелые годы: это человек, чей
ум полон идей, даже переполнен ими; он постоянно ищет
способы их выражения, которые, как он говорит в
письмах, удивляют и восхищают его; каждый день он
совершает долгие пешие прогулки, а по ночам сидит
согнувшись за столом; и все время беседует с собой. Ему
нравится пребывать в собственном обществе, ибо никто
другой не может доставить ему удовольствие столь
занимательных бесед. Иногда он возражает себе, но что
за беседа без возражений! Он спорит, сердится,
смеется над собой: он позирует и иронизирует над
собственной позой; он объявляет себя самым вольным из
вольнодумцев и парирует, что вольнодумство — это просто
разрушение. Постепенно возникает философия, его
философия: ничто в ней не представляет ни для кого
ровно никакой пользы, никому она даже и не интересна; но
однажды — так говорит он себе — человечество
раскроет глаза и увидит, что открылся новый мир: вот по-
179
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
чему он так часто живет в городе Колумба. Этой
мыслью он утешает себя в том, что является пока
единственным понимающим слушателем, и продолжает разговор.
Тон его голоса доверителен в понимании того, что
размышления и беседа — наиболее приятное
времяпрепровождение. Иногда тон становится нравоучительным
(особенно в «Заратустре»), а в Предисловиях и в «Ессе
Homo» самовосхваление выходит за рамки здравого
смысла и хорошего вкуса; но преобладающим остается
стиль возвышенной беседы.
С тех пор его биографией становятся его книги: не
только в широком смысле, в каком это относится к
любому профессиональному писателю, но и в том
специфическом смысле, что он большую часть времени проводил в
метафорических (а иногда, возможно, и реальных)
беседах с самим собой, и его книги — это художественно
обработанное воспроизведение таких бесед. К тому же у нас
есть масса записок и заметок, которые он не опубликовал
и которые позволяют нам представить его за работой: как
он уточнял, вычищал, вычеркивал то, что счел
поверхностным, временно откладывал то, что казалось ему не
вполне продуманным.
К концу июня 1879 г. Ницше ощутил результат
благотворного влияния заботы о нем мачехи Овербека и
решил, что в силах сменить Цюрих на место, более
подходящее для его инвалидного состояния. Он выбрал
Обер-Энгадин (Верхний Энгадин) и сразу по прибытии
туда понял, что нашел сочетание чистого воздуха,
уединения и великолепного пейзажа, что полностью
устраивало его. 24 июня он написал Элизабет: «Я словно
попал в землю обетованную». Он поселился в Сен-Морис
и начал подумывать, как бы ему окончательно
поправиться. Для долгого процесса выздоровления вполне
годился Наумбург; после отъезда Ницше из Базеля этот
город снова оказался единственным местом, которое
180
ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ
можно было назвать домом. К тому же он уже
пообещал провести там предстоящую осень и зиму.
Одновременно он продумывал, какой образа жизни ему следует
теперь вести.
«Ты знаешь, что я предпочитаю простой и
естественный образ жизни... — писал он матери 21 июля, — и
к тому же это единственное средство при моем
состоянии здоровья. Немного настоящей работы, занимающей
время и требующей некоторых усилий, не напрягая
мозги, — вот то, что мне нужно. Разве отец не говорил,
что я когда-нибудь стану садовником? Я
совершенно неопытен в этом, знаю, но, с другой стороны, и не
так уж туп, и тебе придется показать мне, с чего
начать».
Вернуться в Наумбург и «возделывать сад», вероятно,
казалось ему очень привлекательной идеей во время
мучительных летних месяцев: он все еще был жертвой
постоянных приступов мигрени и истощения (в 1879 г.
жесточайшие приступы преследовали его 118 дней),
придерживался строгой диеты, и его глаза являлись
постоянным источником боли и дискомфорта. Но он категорически
не умел долгое время жить, не «давая нагрузки мозгам».
За исключением самых тяжелых периодов болезни, он всю
весну и лето трудился над завершением книги
«Человеческое, слишком человеческое». Первое дополнение —
«Разнородные мнения и максимы» — появилось в
феврале, второе и последнее дополнение — «Скиталец и его
тень» — было закончено к первой неделе сентября.
Работа вышла в печати в 1880 г.
Уже не было сомнений, что писательский труд стал
к тому времени практически неподконтрольной
потребностью Ницше; вероятно, это произошло с той поры, как
летом 1876 г. он открыл для себя форму развернутого
афоризма — форму, в которую его мысли и
стилистический гений укладывались, как рука в перчатку. Ис-
181
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
ключительность этой формы и исключительность силы
преданности ей Ницше не получили пока заслуженной
оценки: возможность создания философии долгосрочной
ценности из множества фрагментов показалась бы
проблематичной, если бы Ницше не дал тому пример.
Похоже, выбор произошел сам собой: трансформация,
которой подверглись стиль и мысль Ницше, едва он начал
использовать развернутый афоризм, доказывает
конгениальность этой формы.
(Обычно к «афоризмам» Ницше относят тексты,
которые по объему колеблются от одного предложения до
краткого эссе на несколько страниц. Афористическими
работами в том смысле слова, который применим к
Ницше, можно считать его произведения «Человеческое,
слишком человеческое», «Заявленные мнения и
максимы», «Странник и его тень», «Рассвет», «Веселая
наука» и «По ту сторону добра и зла», которые вместе
насчитывают 2650 афоризмов. В работах «Заратустра»,
«Генеалогия морали», «Казус Вагнер»,
«Антихристианин» и «Ессе Homo» тексты более пространны, но
афористические формы выражения насквозь пронизывают
их. «Götzen-Dämmerung» («Сумерки идолов»), в этом
и других отношениях представляющие собой конспект
зрелого Ницше, содержат главу, состоящую из кратких
афоризмов, и главу из развернутых афоризмов (СИ, I
и IX). Посмертная компиляция под названием «Воля к
власти» насчитывает 1067 афоризмов самого разного
объема, а с учетом всех прочих материалов «Nachlass»
их становится намного больше.)
Болезнь не могла заставить его прервать работу:
может быть, наоборот, вынуждала его работать;
писательский труд был, выражаясь его собственным языком,
разновидностью «самопреодоления». Об этом он говорит в
письме Петеру Гасту от 11 сентября из Сен-Морис; это
письмо прилагалось к рукописи работы «Скиталец и его
тень», которую Гаст должен был переписать для
издателя.
182
ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ
«Я стою у завершения 35-го года моей жизни, —
пишет он, — последние 1500 лет этот период называли
«серединой жизни»; в этот момент Данте было видение,
и он говорит об этом в первых словах своей поэмы. Но
будучи в середине жизни, я настолько пребываю «в
середине смерти», что каждый час жду ее прихода... И в
этом отношении я ощущаю себя стариком; таков же я и
в том, что исполнил труд своей жизни [то есть написал
«Человеческое, слишком человеческое» и два
приложения к нему]... Долгие и мучительные страдания до сих
пор не сломили мой дух [Gemüt]; порой мне даже
кажется, что я ощущаю себя бодрее и благодушнее, чем в
иные моменты жизни... Прочти эту последнюю
рукопись, дорогой друг, и спроси себя, обнаруживает ли она
какие-либо следы страданий и подавленности: я думаю,
что нет у и в этом мне видится признак того, что за
этими моими взглядами, должно быть, стоит сила, а не
слабость и усталость, которых будут искать те, кому я
не по нраву».
Плачевное состояние, в котором он писал, —
достаточное свидетельство его потребности в работе:
«Та рукопись, которую ты получил из Сен-Морис,
далась столь дорого, что, должно быть, за эту цену
ее не стал бы писать никто из имеющих возможность
избежать этого, — пишет он Гасту 5 октября из На-
умбурга; он получил выполненную Гастом чистовую
копию работы «Странник и его тень». — Я часто
содрогаюсь, читая ее... по причине жутких
воспоминаний, которые она вызывает... Я прочел твою копию и с
трудом понял, что я написал, — голова моя так
утомлена».
В сентябре он вместе с Элизабет покинул
Сен-Морис, и, заглянув в Кур, они вернулись в Наумбург, где
Ницше пробыл до февраля следующего года. Завершив
183
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
«Странника и его тень», он твердо решил «отдохнуть от
раздумий» (письмо Петеру Гасту от И сентября); в том
же письме он сообщает Гасту:
«Ты не поверишь, как я верен своей программе
бездумности; у меня есть веские причины быть ей верным, ибо
«за мыслью стоит Дьявол» — яростный приступ боли».
Вероятно, так и было; но период бездействия не мог
тянуться долго; к 1881 г. 575 разделов «Рассвета» уже
были готовы к публикации, а это было всего лишь
избранное из большего объема работы. Мы, скорее всего, не
ошибемся, предположив, что, как только Ницше выпадал
удачный день, он тут же брался за перо.
2
В разделе 3 книги «Человеческое, слишком
человеческое» заявлена перемена метода, с помощью которого
Ницше намерен вести исследования:
«Оценка незаметных истин. Признаком высшей
культуры является умение ценить маленькие, скромные истины,
найденные строгими методами, более высоко, чем
выигрышные и ослепительные заблуждения, обязанные своим
происхождением метафизическим и художественным эпохам и
людям».
Природа проблемы, подлежащей этому отличному от
других исследованию книги «Человеческое, слишком
человеческое» и двух ее приложений, представлена в разделе 10:
«Как только религия, искусство и мораль будут
описаны таким образом, что их можно будет сполна понять без
допущения метафизических вмешательств...
прекратится сильнейший интерес к чисто теоретической проблеме
184
ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ
вещи-в-себе и «явления». Ибо... через религию,
искусство и мораль мы не касаемся «сущности мира в себе»; мы
находимся в области «представлений», и никакая
«интуиция» не может увлечь нас дальше».
Осознание сути проблемы влечет за собой решение той
«задачи», перед которой стоят Ницше и остальное
человечество:
«С тех пор как утрачена вера в то, что Бог правит
судьбами мира... человечество само должно ставить себе
вселенские, объемлющие всю землю, цели... Если человечество не
хочет погубить себя сознательным подчинением такому
универсальному правилу, оно должно в первую очередь достичь
беспрецедентного знания предварительных условий
культуры как научного мерила для всемирных целей. В этом
состоит огромная задача великих душ [Geis/er]
наступающего века» (ЧС, 25).
Как приступить к решению этой проблемы и этой
задачи? Ницше говорит, что «Человеческое, слишком
человеческое» посвящено «образу человеческого, слишком
человеческого — или, согласно заученному выражению,
психологическому наблюдению» (ЧС, 35). Сразу же он
поясняет, что именно понимает под психологией и
почему психологическое исследование может помочь
объяснить мир в неметафорических терминах:
«Психология — это наука, которая углубляется в
происхождение и историю так называемых моральных чувств.
[Пауль Рее писал в своем «Происхождение моральных
чувств»: «Моральный человек стоит не ближе к
интеллигибельному (метафизическому) миру, чем физический
человек]». Это положение, отвердевшее и отточенное под
Ударами молота исторического познания, в некоем
отдаленном будущем, возможно, послужит топором, который
подсечет корень «метафизической потребности» человека.
185
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
Станет ли это больше проклятием, нежели
благословением, — кто может ответить на это? Но в любом случае это
будет иметь самые значительные последствия,
одновременно и плодотворные, и страшные, обращенные к миру тем
двойным ликом, который присущ всем великим
прозрениям» (ЧС, 37).
Человечество гордится своими «моральными
чувствами», потому что они представляются надежными
гарантами вторжения «высшего мира» в низший: если наши
представления о том, что такое хорошо и что такое
плохо, не от Бога, тогда откуда они? В первом разделе
(процитированном в главе 5) Ницше высказал свою
версию: «хорошие» качества — это сублимированные
«плохие». «Плохое» качество, продолжает он свое
исследование, — это воля к власти, и далее задает вопрос:
какие хорошие качества могут объясняться сублимацией
воли к власти? Такой подход возник у него благодаря
знанию Греции:
«Художники Греции, например трагики,
поэтизировали с целью покорить; все их искусство немыслимо вне
контекста состязания: добрая Эрида Гесиода —
честолюбие — придавала им крылья» (ЧС, 170).
«[Греческие философы] обладали непоколебимой верой
в себя и свою «правду», и с ней они опрокидывали всех
соседей и предшественников; каждый из них был ярым и
воинственныим тираном... каковым желал стать каждый
грек... Деятельность законодателя — это еще более
сублимированная форма тирании» (ЧС, 261);
и знанию психологии Вагнера:
«Влияние, несравнимое влияние — как? над кем? —
с той поры стало вопросом и запросом, неотступно
занимающим его ум и сердце» (HIV, 8).
186
ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ
Теперь определимся, что из идей Ницше относительно
власти является новшеством, а что не более чем
подтверждением высказывания Гоббса: «Я полагаю общей
склонностью человечества непрестанную и неуемную жажду все
большей власти, что прекращается только со смертью».
Вряд ли возникает сомнение в том, что жажда власти в
той или иной степени является естественной потребностью
человека или что часто она удовлетворяется довольно
скромными масштабами. Этот очевидный факт не
слишком заботил Ницше, хотя сама его очевидность являлась
подспорьем в достоверности его философии. Его больше
интересовала вероятность того, что действия и ощущения,
казалось бы не имеющие к жажде власти никакого
отношения, на самом деле были ею подсказаны. Для Гоббса
власть означает политическую власть, которая в конечном
итоге сводится к грубой силе; для Ницше власть — это
психологическая потребность, которую человек стремится
удовлетворить косвенными путями, если прямое
удовлетворение претит им. Такая концепция сродни той, что
воплощена в персонаже Диккенса по имени Урия Гип:
«Отец стал могильщиком ценой своей скромности.
«Будь смирен, Урия, — говорит мне отец, — и ты
преуспеешь. Это то, что всегда вбивали в школе в тебя и
меня; это то, что срабатывает наилучшим образом. Будь
смирен, — говорит отец, — и ты преуспеешь». Дела у
меня и впрямь недурны... Я и теперь смирен, мастер
Коперфильд, но обладаю кое-какой властью».
Урия задуман как сознательный лицемер, ханжа, и
Диккенс не верит, что все человечество фальшиво;
Ницше тоже не считает, что все человечество сознательно
практикует ханжество. Но та мысль, что видимость
самоуничижения Урии на самом деле является средством
достижения кое-какой власти, то есть
противоположностью того, чем кажется, повторяет мысль, заложенную
в афоризме Ницше:
187
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
«От св. Луки, 18: 14 исправленное: Унижающий себя
желает возвыситься» (ЧС, 87). (У Луки: «...унижающий
себя возвысится».)
«Человеческое, слишком человеческое» не делает
каких-либо обобщений относительно происхождения
человеческих качеств из желания властвовать; оставаясь
верен своему новому методу, Ницше просто исследует
частные случаи. Он допускает, что благодарность
может быть рафинированной формой мести (ЧС, 44); что
слабые и страдающие могут желать пробудить
сочувствие, потому что это дает им ощущение, что,
несмотря на свою слабость, они «обладают хотя бы
одной формой власти: властью причинять боль» (ЧС, 50).
То, что справедливость является одним из «реально
существующих» хороших качеств, как он некогда
говорил Давиду Штраусу, можно понимать как
соглашение между силами, обладающими приблизительно
равной властью (ЧС, 92); что те, кто дает бесплатные
советы, поступают так с целью распространить свою
власть на тех, кому они советуют (ЧС, 299); что
дразнить означает выставлять напоказ власть над тем, кого
дразнишь (ЧС, 329); что приобретение знаний
сопровождается чувством удовольствия, потому что оно
одновременно сопровождается чувством возрастающей
власти (ЧС, 252); что правду предпочитают неправде,
так как руководствуются мыслью, что «власти и славы
трудно добиться, прибегая к заблуждениям или лжи»
(ЗМ, 26).
Но есть и другой аспект вопроса о власти. Ницше
уже высказывал предположение, что личность
представляет собой что-то вроде состояния и что культурная
личность — это тот, кто упорядочил «хаос» внутри себя,
как поступили греки в общенациональном масштабе.
Поскольку это предполагает овладение самим собой, то
не является ли самоконтроль, размышляет он, аспектом
волевого побуждения?
188
ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ
«Существует вызов самому себе, наиболее утонченным
проявлением которого являются многие формы аскетизма.
Ибо некоторые люди чувствуют столь огромную
потребность применять свою силу и властолюбие, что, за
неимением иных объектов или из-за того, что их усилия в других
направлениях всегда оканчивались провалом, пришли
наконец к тому, чтобы тиранить некоторые отделы собственной
натуры» (ЧС, 137).
«Святой упражняет то упорство в борьбе с собой,
которое близко родственно властолюбию и которое дает
ощущение власти даже самому одинокому человеку» (ЧС, 142).
Это «овладение собой» позже покажется Ницше самым
главным аспектом воли к власти.
Мораль как таковая — суждение; что одно действие
благостно, а другое губительно, также экспериментально
объяснимо на языке отношений власти:
«Двойная предыстория добра и зла. Понятие добра
и зла имеет двойную предысторию. Во-первых, в душе
господствующих родов и каст. Тот, кто в состоянии
воздать добром за добро и злом за зло и кто действительно
чинит возмездие и потому слывет благодарным и
мстительным, называется хорошим; тот, кто бессилен и не
может совершать возмездия, признается дурным. В
качестве хорошего принадлежишь к «благу», к общине,
обладающей корпоративным интересом, ибо все члены ее
связаны между собою понятием возмездия. Как дурной
человек относишься к «злу», к толпе бессильных людей,
лишенных корпоративного чувства. Хорошие суть каста,
дурные — масса. Уже долгое время добро и зло
означают практически то же, что знатный и подлый, господин и
раб. С другой стороны, врага не считают дурным: он
способен к возмездию. У Гомера троянцы и греки одинаково
хороши. Не тот, кто причиняет нам вред, а тот, кто
вызывает презрение, считается дурным... Во-вторых, в душе
189
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
порабощенных и бессильных. Здесь всякий иной человек
считается враждебным, бессовестным, принуждающим,
жестоким, хитрым, будь он знатного или низкого
происхождения. «Злой» здесь эпитет для каждого человека,
даже для воображаемых живых существ, например Бога...
Признаки благости, готовности помочь, сострадания
воспринимаются... как утонченная злоба» (ЧС, 45).
Не вполне соответствующей этой теории, но
впоследствии согласованной с ней является разработка той
мысли, что добро есть утонченное зло и практически
неотделимо от него:
«Все благие мотивы... какие бы высокие названия мы им
ни давали, произросли из тех же корней, которые мы
считаем ядовитыми; между добрыми и злыми поступками нет
родового различия, разве только различие в степени.
Хорошие поступки суть утонченные дурные; дурные поступки
суть более грубые и глупые хорошие. Единственное
стремление личности — это стремление к самоудовлетворению,
и именно оно (включая сюда страх его утраты)
проявляется при всех условиях... в тщеславии ли, мести, наслаждении,
пользе, злобе, хитрости, самопожертвовании, сострадании,
познании... Многие действия получают название злых, тогда
как они всего лишь глупы, ибо степень разумности,
которою они определены, была весьма низкой. В известном
смысле еще и теперь все действия глупы, ибо высшая
степень человеческой разумности, которая достижима теперь,
несомненно, будет превзойдена в будущем: и тогда
ретроспективному взору все наши поступки и суждения покажутся
столь же ограниченными и необдуманными, сколь
ограниченными и необдуманными поступки и суждения диких
народов представляются сейчас нам» (ЧС, 107).
«Циклопы культуры. При виде глубоко
изборожденных котловин, в которых лежали ледники, кажется
почти невозможным, что наступит время, когда на том же
месте будет простираться долина, поросшая лесом и тра-
190
ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ
вою, омытая ручьями. Так случается и в истории
человечества; путь прокладывают самые дикие силы,
которые в большинстве своем разрушительны, и, тем не
менее, их деятельность нужна, чтобы позднее могли
утвердиться более мягкие нравы. Ужасные энергии — то,
что зовется злом, — суть циклопические архитекторы и
укладчики путей гуманности» (ЧС, 246).
Вести себя морально означает подчиняться
определенному кодексу, иначе говоря, мораль — это обычай:
«Быть моральным, нравственным, этичным — значит
повиноваться издревле установленному закону или обычаю.
При этом безразлично, подчиняются ли ему насильно или
охотно: достаточно того, что подчиняются. Хорошим
называют того, кто действует в соответствии с обычаем, как если
бы по природе, в результате длительного наследования, и
потому легко и охотно... Быть дурным — значит быть «не
связанным с обычаем», безнравственным, действовать
вопреки устоям, восставать против традиции, при этом не
важно, разумна она или нет» (ЧС, 96).
Обычай полезен преимущественно сообществу:
«Происхождение обычая имеет в своей основе два
положения: «сообщество имеет большую ценность, нежели
индивидуум» и «более долгосрочная выгода
предпочтительнее, нежели преходящая»; отсюда вывод, что
долгосрочная выгода сообщества имеет безусловное
превосходство над выгодой индивидуума» (ЗМ, 89).
Поскольку мораль — это обычай, наше сознание
вмещает команды, внедренные еще в детстве:
«Содержание нашего сознания таково, каковым, без
Дачи каких бы то ни было объяснений, оно постоянно
требовалось от нас в детстве людьми, которых мы
уважали или боялись» (СТ, 52).
191
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
По существу, Ницше объясняет сознание очень
близко тому, как это впоследствии сделал Фрейд: как «су-
nep-ego».
Важнейшей задачей книги «Человеческое, слишком
человеческое» было дать объяснение действительности,
не опираясь на метафизические положения, и, объяснив
ее, выйти на понимание «пред-условий культуры».
Метод, принятый в работе, — «экспериментализм».
Ведущей тенденцией является опровержение «высших
качеств» (то есть тех, для которых предполагается
внеземное происхождение) через осознание их как
трансформации качеств «низших» (то есть общих у людей и
животных). Особым качеством, требующим
наибольшего внимания при разработке, является жажда власти. С
этих позиций книга «Человеческое, слишком
человеческое» представляет собой подлинную первую ступень
совершенно особой и легко узнаваемой философии Ницше.
Глава 9
СКИТАЛЕЦ
Мы покинули землю и взошли на
корабль! Мы сожгли мосты — более
того, мы сожгли свою покинутую
землю! Что ж, кораблик, держись! Вокруг
тебя океан; конечно, он не всегда
рычит и порой лежит, как если бы весь
был шелковый и золотой и добрый,
благосклонный сон. Но будут времена,
когда ты узнаешь, что он бесконечен и
что нет ничего страшнее
бесконечности... Жаль, если ностальгия по суше
овладеет тобой, словно там было
больше свободы, — ведь «суши»-то
больше и нет!
Ф. Ницше. Веселая наука
1
«Мое существование — страшная ноша, — писал
Ницше своему доктору Отто Айзеру во Франкфурт-на-
Майне в январе 1880 г. — Я бы давно сбросил ее, если
бы не занимался самыми поучительными
исследованиями и экспериментами в интеллектуально-моральной
сфере, будучи совершенно в том же состоянии страдания и
почти полной отрешенности. Эта радость поиска знаний
несет меня к вершинам, где я преодолеваю все мучения
и всю безнадежность. В целом я счастливее, чем когда-
либо в жизни: и все же! Постоянная боль; по многу
часов в день я испытываю сильную слабость;
полупаралич, затрудняющий мою речь, чередующийся с
бешеными приступами (во время последнего меня рвало трое
суток подряд, я мечтал о смерти)».
7 Р-Дж. ХоАлингдейл 1 93
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
Три месяца, проведенные в Наумбурге, не принесли
улучшения, и теперь Ницше хотелось поехать на юг, где
погода всегда хороша и где он мог бы часы
бодрствования проводить исключительно в ходьбе, — он все еще был
уверен в целительной силе мышечной активности.
Единственным препятствием на пути осуществления этого
плана было то, что в его болезненном состоянии требовалась
помощь компаньона. Им мог бы стать Пауль Рее, долго
гостивший в Наумбурге в январе; Рее напомнил о том, что
в то время в Венеции находился Петер Гаст.
Беспримерная преданность Гаста Ницше была хорошо известна
знакомым по Базелю, и Рее конечно же вполне резонно
предположил, что преданный Гаст и есть как раз тот
человек, который нужен. Случилось так, что 26 января Гаст
получил от Рее неожиданный подарок в 200 марок, а с
ним и письмо, в котором сообщалось о назначении этих
денег. Ницше, писал Рее, едет на юг и остановится в
Риве; не хочет ли Гаст составить ему компанию; если да,
то расходы на проезд и содержание прилагаются. Гаст был
раздосадован столь бесцеремонным обращением: он
пытался завоевать признание как композитор и в 1880—
1881 гг. работал над многочисленными музыкальными
проектами (некоторые из них он начинал с Ницше). Его
рассердило, что знакомым он интересен только в роли
«секретаря и друга Ницше»1. Но, как всегда, любовь к
Ницше подавила все менее достойные чувства, и он
согласился на предложение Рее.
Тем не менее, ему пришлось дожидаться сообщения о
том, когда следует приступать к обязанностям. 4
февраля Франциска написала ему, что ее сын все еще не
готов к отъезду из-за плохой погоды, и только 19 февраля
пришло известие от самого Ницше, — он уже в Риве.
Туда и направился преданный Гаст. В день его приезда,
23 февраля, шел снег с дождем. На утро следующего дня
1 О письмах, из которых мы узнаем о делах и чувствах Гаста в тот
период, см. главу 6.
194
СКИТАЛЕЦ
Ницше пришел к нему в комнату в половине шестого,
чтобы сообщить, что если они настроены прогуляться в этот
день (а он был настроен), то им лучше всего отправиться
тогда-то и туда-то, поскольку все говорило за то, что снова
пойдет мокрый снег. «Исполняющий обязанности
самаритянки» — так Гаст описывает своему австрийскому другу
свою деятельность в Риве с начала пребывания там вплоть
до 13 марта, когда они с Ницше направились в Венецию,
в гости к Гасту. Он предвидел, что его помощь будет
постоянно востребована, — так и случилось. 15 марта он
в спешке нацарапал:
«Пишу эти строки в кафе; я на несколько минут
оставил Ницше. Вчера я абсолютно не мог писать; когда я
добрался до дома, я просто упал в постель. Сегодня с утра
то же самое. Ты не представляешь, какого напряжения...
стоит мне присутствие Ницше».
В конце марта странная пара пополнилась еще одним
членом — приятелем по имени Минутти, который
незамедлительно заболел сам. 8 апреля Гаст жалуется:
«То, что я вчера не писал, объясняется полным
отсутствием времени, от чего я теперь страдаю. Я сыт по
горло жалобами двух больных в течение всего дня. Если я в
конце концов потеряю терпение от этой собачьей жизни,
то уеду из Венеции... и пусть больной лечит больного
подобно тому, как мертвым положено хоронить мертвых.
Я скоро и сам слягу».
Он не уехал) несмотря на то что его композиторская
деятельность, по сути, застыла на мертвой точке. 11 мая
он писал:
«Почти не переставая идут дожди. Каково Ницше,
который чувствителен к каждому облачку,
появившемуся в небе, можешь себе представить».
195
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
В письме от 24 сентября Гаст рассказывает, как он
провел пять или шесть дней с Ницше за чтением и беседами:
«Ты себе не представляешь, что я претерпел... сколько
ночей я лежал и пытался уснуть, но, перебирая в мыслях
все, что случилось за день, понимал, что ничего не сделал
для себя, а все только для других; и меня порой
охватывала такая ярость, что я впадал в безумие и призывал смерть
и проклятия на Ницше. Мне никогда не было так плохо, как
тогда... А потом, когда в четыре или пять часов утра мне
наконец удавалось уснуть, Ницше частенько появлялся у
меня в комнате в девять или десять и просил, не поиграю
ли я ему Шопена».
Какое облегчение он должен был ощутить, когда
увидел, как 29 июня его друг отбывает поездом в Мариен-
бад. Восхищаться острым умом и интеллектуальной
энергией Ницше было одно, а опекать измученную
оболочку, в которую они были заключены, — другое.
Ницше и сам прекрасно понимал, какой пыткой он был для
Гаста, и послал ему письмо с извинениями из Мариен-
бада. Снова среди лесов и гор, говорит он, он
чувствует себя прежним, и снова за работой, «усердно разрывая
мои моральные копи» (письмо от 18 июля). Но
хорошая погода, которой он искал, обходила его стороной.
«Я все еще в Мариенбаде... — писал он Гасту 20
августа. — С тех пор как я прибыл сюда 24 июля,
ежедневно идут дожди, часто весь день напролет. Дождливое
небо, дождь в воздухе, но прогулки по лесу приятны».
В том же письме он признается, как сильно до сих пор
он переживает отчуждение с Вагнером:
«Я... ужасно страдаю, если не нахожу сочувствия; к
примеру, за последние годы ничто не может мне возместить
утрату сочувствия Вагнера. Как часто он снится мне, и все-
196
СКИТАЛЕЦ
гда мы снова вместе и по-прежнему близки. Между нами
никогда не было сказано ни одного злого слова, а сколько
при этом было приветственных и ободряющих; и я,
наверное, никогда ни с кем так не смеялся, как с ним. И все это
ушло — и что хорошего в том, что во многом я прав,
будучи его противником] Как будто это может стереть память
его утраченного сочувствия!.. Как это глупо — хотеть быть
правым ценой любви».
Нет нужды комментировать неточность его
воспоминаний: здесь, как и в «Ессе Homo», он воссоздает цельное
ощущение, и в ретроспективе ссоры с Вагнером кажутся
пустяковыми.
В начале сентября он вернулся в Наумбург, где
прожил пять недель, и 8 октября снова уехал за солнцем в
Италию: на этот раз он отправился в Стрезу на озеро
Маджоре, по пути завернув в Базель и насладившись
свиданием с Овербеком. В Стрезе он пережил рецидив
болезни и пять недель спустя уже был на пути в
Геную, где остался на зиму. Состояние его было
плачевно, но он учился жить с ним.
«Все мои усилия направлены сейчас на осознание
идеала мансардного уединения [Dachstuben-Einsamkeit], в
котором все необходимые и простейшие запросы моей
натуры, которым я научен долгой-долгой болью, получают
все надлежащее, — писал он в ноябре Овербеку. — И
может быть, я достигну его! Ежедневная борьба с
головными болями и смехотворные колебания моего
самочувствия требуют такого внимания, что мне грозит опасность
стать мелочным — но это противовес тем глобальным,
возвышенным устремлениям, которые имеют надо мною
такую власть, что без некоего противовеса им я стал бы
просто дураком. Я оправляюсь от тяжелого приступа, и
едва отступает двухдневная немощность, как моя глупость
снова уносится в погоню за невероятным, с момента, как
я снова воскрес... Помоги мне сохранить это затворниче-
197
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
ство... ибо мне приходится достаточно долго жить без
людей, в городе, язык которого мне незнаком; мне
приходится — повторяю; не волнуйся за меня! Я живу,
словно века ничто, и следую моим мыслям, не обращая
внимания на даты и газеты».
Его мансардное уединение в Генуе было бедственным
периодом. Зима 1880/81 г. выдалась холодная, а денег
у него едва хватало на роскошь согреться. «Мои
конечности часто замерзают», — писал он Овербеку 22
февраля. Весной он вновь присоединился к Гасту и провел
с ним месяц в Рекоаро с конца апреля до конца мая;
после отъезда Гаста он пробыл там до середины июня
и затем вернулся в Сен-Морис. 23 июня Овербек
получил письмо с нового курорта: Сильс-Мария, в Обер-
Энгадин. «Я не знаю ничего, что бы подходило моей
натуре больше, чем этот горный уголок», — писал
Ницше; и действительно, в этой альпийской деревушке
Сильс-Мария он нашел место, которое в его последние
годы стало почти постоянным местом его жительства.
Он снимал комнату, примыкающую к дому
бургомистра, и столовался в сельской гостинице, а кругом были
горы и лесная тишина, всегда более созвучная ему,
нежели мансардное уединение в городе. Конечно, и здесь
все обстояло не столь прекрасно.
«Даже здесь мне приходится многое выдерживать, —
писал он, — лето в этом году намного жарче и более
наполнено электричеством, чем обычно, что для меня
губительно».
Но в целом Сильс-Мария снискала его расположение,
и снова заметим, что целью его было не бегство от
уединения, а поиски его: жители деревни были
безграмотными крестьянами, для которых он был всего лишь туристом,
приехавшим надолго погостить, так что во всех
отношениях он был совершенно один.
198
СКИТАЛЕЦ
Ницше скитался вот уже два года, а его здоровье едва
ли улучшилось: бесспорно, отчасти в этом была повинна
ущербность медицины 1880-х гг., но основная доля
ответственности за отсутствие улучшения в лечении ложилась
на обстоятельства, о которых идет речь в письме,
написанном из Сильс-Марии матери в середине июля. Мать
постоянно заботила и тревожила его неотступная болезнь,
и, похоже, она упрекала его в недостаточном внимании к
своему здоровью. Он пытается обнадежить ее, но его
возражения, если читать их, зная, каково на самом деле было
его состояние, оборачиваются полной противоположностью
его заверениям.
«Не было, наверное, человека, к которому слово
«подавлен» подходило бы менее, — писал он. — Тот, кто в
большей степени догадывается о задаче моей жизни и ее
непрекращающихся требованиях, считает меня если не
счастливейшим человеком, то, по крайней мере, наиболее
мужественным. У меня есть более весомые нужды, чем
забота о здоровье, и потому я готов терпеть также и это.
Выгляжу я, во всяком случае, превосходно; в результате
моих походов моя мышечная система стала почти как у
солдата; желудок и живот в порядке. Моя нервная
система, учитывая огромное напряжение, которое ей
приходится выдерживать, отменна и поразительна, очень тонка и
очень сильна... Очень трудно диагностировать, что не в
порядке с головой; изучив все научные материалы,
необходимые для этого, я теперь осведомлен лучше, чем
любой врач. И вообще, мою гордость как человека науки
оскорбляет, когда ты предлагаешь все новые средства и
даже говоришь, что я «не обращаю внимания на болезнь».
Доверяй мне немного больше в этих вопросах! Я лечусь
всего лишь два года, и если ошибался, то всегда потому,
что уступал давлению чужих советов и пытался их
опробовать... Как бы там ни было, каждый здравомыслящий
врач ясно дает понять, что я могу излечиться только по
прошествии долгого периода, к тому же я должен старать-
199
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
ся избавиться от дурных последствий всех этих
лжелечений, которым подвергался так долго... Отныне я намерен
стать врачом себе самому, и люди скажут обо мне, что я
был хорошим врачом... Всякий, кто способен понять, как
мне удается сочетать заботу о выздоровлении с
продвижением моих великих задач, окажет мне немалую честь.
Я живу не просто очень смело, но и в высшей степени
разумно, опираясь на широкие медицинские знания и
непрестанное наблюдение и исследование».
Та же история, что в годы пребывания в Базеле: любая
форма лечения, которая подразумевает перерыв в работе,
«ложна»; излечиться можно только работой,
следовательно, только он может влиять на выздоровление, ибо только
он знает, как ему следует работать. Трудно принять всерьез
его ссылки на свои «медицинские знания» (он сам
прекрасно понимал, что их нет), как и на то, что он должен
уделять особое внимание отменному состоянию своей
«мышечной системы» и что его нервная система являет пример
несоответствия практически всем его «наблюдениям и
исследованиям» болезни. Если задуматься о глубинных причинах
того, почему Ницше постоянно болел начиная
приблизительно с 1872 г., мы столкнемся с фактом, что он не делал
серьезных попыток следовать советам врачей; а если мы
зададимся вопросом, почему он этого не делал, ответ, я
полагаю, таков: он с самого начала был убежден, что
неизлечим, и боялся, что умрет прежде, чем напишет все, что
задумал. Обязательный характер его работы, о котором
речь шла выше, вероятно, коренился в его страхе.
Он пробыл в Сильс-Марии до 1 октября и на зиму
вернулся в Геную: как бы неуютно там ни было, но
альпийская зима была бы для него, наверное, слишком
суровой. Его второе пребывание в Генуе длилось до конца
марта следующего года. Эти месяцы он посвятил работе
над фрагментами, которые позже вошли в «Веселую
науку», и, вероятно, не случайно большая часть ее
стилистического своеобразия и богатства по сравнению с преды-
200
СКИТАЛЕЦ
дущими работами проявилась одновременно с открытием
«антитезы» и стилистического противовеса все еще
доминировавшему Вагнеру: «Кармен» Визе. Впервые он
увидел ее в ноябре и повторил этот опыт месяц спустя.
5 декабря он писал Гасту:
«Я слушал «Кармен» во второй раз — и снова она
произвела на меня впечатление Novelle первого класса...
Для меня это творение равноценно поездке в Испанию —
творение в крайней степени южное! Не смейся, старина;
с моим «вкусом» меня вовсе непросто окончательно сбить
с толку... Я и впрямь был болен, но излечился с помощью
«Кармен».
В письме, на которое Ницше и ответил подобным
образом, Гаст что-то сообщил ему о деятельности
Вагнера, и Ницше заверяет его: «Время от времени (почему
это так?) я испытываю почти потребность получать
какие-нибудь общие и конкретные новости о Вагнере, и
лучше всего от тебя!» Второй фестиваль в Байрейте,
посвященный представлению «Парсифаля», уже
находился на стадии разработки, и хотя Ницше, как и все, не
видел последней оперы Вагнера1, он прочел текст, и
антитеза «Парсифалю» — «Кармен» — стала для него
символически значима, что он впоследствии использовал
в полную силу.
Для себя он уже решил не ездить на фестиваль 1882 г.,
хотя придавал некоторое значение поездке туда Элизабет:
возможно, сказывалась та самая потребность — знать о
1 Ницше так и не увидел ее, поскольку постановка в Байрейте так и не
состоялась на протяжении остатка его жиэни, да и присутствие его было бы
там нежелательно. В январе 1887 г. (в Монте-Карло) он слышал
оркестровую увертюру к опере и был искренне восхищен. «Написал ли Вагнер что-
либо лучше?» — писал он Гасту 21 января; прямота утверждений и
психологическая точность в ней «как ножом, режут душу». Между этим
утверждением и «Падением Вагнера» нет противоречия: то, что Вагнер не был
гениальным композитором, допускал не один Ницше.
201
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
том, чем занят Вагнер. В письме от 10 февраля 1882 г.,
где он советует ей, как приобрести билеты, есть также
упоминание о состоянии его здоровья, из которого
явствует, насколько странным стало его существование. Его
навестил Пауль Рее, но самочувствие Ницше не
способствовало удовольствию:
«В первый день все шло очень хорошо; я выдержал и
второй, приняв все тонизирующие средства, что имелись
у меня. На третий день — переутомление, пополудни —
потеря сознания; в ту ночь у меня был приступ;
четвертый день я провел в постели; на пятый я снова встал,
только чтобы днем лечь опять; на шестой и далее —
постоянные головные боли и слабость».
В 1880—1882 гг. Ницше полностью написал
«Рассвет» и «Веселую науку». Рукопись «Рассвета»
отправилась к Гасту для копирования в самом начале 1881 г.,
а сама книга появилась в июне. «Веселая наука» заняла
почти всю зиму 1881/82 г., и в письме к Лу Саломей
от 2 июля 1882 г. Ницше сообщает, что накануне
завершил последнюю часть рукописи, «а с ней и
шестилетний труд (1876—1882), все мое «свободомыслие»!».
Как автор «Рождения трагедии» и полемики со
Штраусом он приобрел довольно скорую известность;
как автор работ «Человеческое, слишком человеческое»,
«Рассвет» и «Веселая наука» он остался незамечен и
неизвестен: эти творения мастера вызвали еле заметный
интерес вне непосредственного круга общения Ницше.
Это обстоятельство, даже и теперь, не вполне понятно.
Даже просто с литературной точки зрения «Рассвет»
был самой замечательной публикацией на немецком
языке 1881 года, «Веселая наука» — 1882-го. Язык
«Рассвета» — это образец того, что можно достичь в
современном немецком языке с точки зрения точности и
ясности, а «Веселая наука» — произведение
стилистически виртуозное, непревзойденное в рамках немецкого
202
СКИТАЛЕЦ
языка. В этих работах не только Ницше — сам
немецкий язык обрел новое звучание. Почему хранители
языка, которые несколько лет назад превозносили
заурядную работу Давида Штрауса как «классику», не сумели
разглядеть появление величайшего мастера немецкой
прозы со времен Гете, остается загадкой; но если
искать объяснение высокой самооценке Ницше, то ключ
ее — в отсутствии таковой со стороны других. В то
время он уже начинал обнаруживать волнение в своих
работах, и с годами оно становилось все сильнее:
«На моем горизонте восходят идеи, подобных
которым я никогда не видал, — писал он Гасту 14 августа
1881 г. из Сильс-Марии. [Речь идет об идее вечного
возвращения, возникшей у него в том же месяце.] —
Определенно, мне придется пожить еще несколько лет!..
Напряжение моих чувств бросает меня в дрожь и
заставляет смеяться — пару раз я не мог выйти из
комнаты по странной причине, что мои глаза воспалены...
Накануне во время прогулок я каждый раз подолгу
рыдал, не слезами жалости, а слезами ликования; и
когда я плакал, я пел и молол чепуху, полон новых
прозрений... Если бы я не обладал способностью находить
силы в себе самом, если бы я ждал рукоплесканий,
поддержки, утешения, где бы я был? чем бы я был?
Конечно, случались моменты и даже целые периоды в моей
жизни (например, 1878 г.), когда крепкое слово
поддержки, рукопожатие согласия были бы для меня
мощнейшим средством восстановления — и именно тогда все
покинули меня в бедственном положении... Теперь я
более не жду этого и испытываю лишь несколько
смущенное удивление, когда, к примеру, думаю о письмах,
которые сейчас получаю, — все это настолько
несущественно... То, что люди мне говорят, исполнено заботы
и хорошего отношения, но далеко, далеко».
203
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
2
«Этой книгой я открываю кампанию против морали», —
писал Ницше в «Ессе Homo» о «Рассвете» (ЕН-Р, 1), но
тон этой книги не агрессивен, как предполагает само
заявление: на самом деле, нигде более он не обнаруживает
такого покоя и ясного взгляда, такой свободы от словесных
ухищрений и чрезмерностей, как здесь. «Человеческое,
слишком человеческое» и его приложения были
перегружены неразработанными идеями, что придает им скорее
видимость компендиума, нежели самостоятельных наработок, но
ко времени написания «Morgenröte» («Рассвета») Ницше
вычленил из массы идей те, которые, по его мнению, могли
привести к нескольким конкретным выводам: особенно его
занимала мысль о том, что мораль развилась из жажды
власти и страха неподчинения, и работа «Рассвет» в
основном посвящена исследованию морали с этих позиций.
Первая трудность «проблемы морали», с которой
столкнулся Ницше, состоит в том, что до сих пор ее вообще
не считали проблемой. В предисловии ко второму изданию
1886 г. он объясняет неудачи всех предшествующих
философов именно этой причиной:
«Почему начиная с Платона и далее каждый архитектор
философии в Европе строил напрасно?.. Правильный ответ,
вероятно, в том, что все философы строили под
дезориентирующим влиянием морали... что они явно стремились к
определенности, «истине», на самом же деле — к
«величественным моральным построениям» (Р, предисловие, 3).
Универсальная идея такова, что мораль есть нечто
«данное», что она существует как часть познаваемого
мира; но это не так:
«Когда человек наделял родом все вещи, он
воспринимал это не как игру, а как глубокое прозрение...
Равным образом человек все связал с моралью и облек мир
204
СКИТАЛЕЦ
в этическую значимость. Однажды это будет иметь не
большую ценность, чем сегодня имеет вера в мужское
или женское начало солнца» (Р, 3).
Человечество гордится своей моралью и отрицает ее
в животном мире; мораль — одна из основных
гарантий божественного происхождения человека. Но
животный мир воспринимает ситуацию иначе:
«Мы не считаем животных моральными существами. Но
полагаете ли вы, что животные считают нас моральными
существами? Животное, которое смогло бы заговорить,
сказало бы: «Гуманность — предрассудок, от которого мы,
животные, по крайней мере, свободны» (Р, 333).
И все же, если мораль считать обычаем, у животных
она есть — причем такая же, как и у людей:
«Животные и мораль. Поступки требуют вежливого
общества: осмотрительного избежания всего странного,
оскорбительного, наглого; подавления собственных
достоинств, а также наиболее сильных наклонностей;
приспособления, самоумаления, подчинения порядку рангов —
вся эта социальная мораль присутствует в грубой форме
даже в глубинах животного мира, и только на этой
глубине становится понятна цель всех этих милых
предосторожностей: желание уйти от своих преследователей и быть
удачливым в преследовании собственной жертвы. По этой
причине животные научаются владеть собой и менять
форму, так что многие, к примеру, принимают окраску
окружающей их среды... Так индивид укрывается в общем
понятии «человека», или общества, или
приспосабливается к государям, классам, партиям, мнениям своего
времени и места: и все искусные способы в желании казаться
удачливым, благодарным, властным, влюбленным легко
обнаруживают свои соответствия в животном мире...
Начатки справедливости, благоразумия, умеренности, храбро-
205
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
сти — короче, всего, что мы называем сократическими
добродетелями у — все это животное: последствия
побуждения, которое учит нас добывать пищу и уходить от
врага... Не будет ошибочным считать все целиком
явление морали животным» (Р, 26).
Это не только попытка, к тому времени ставшая у
Ницше инстинктом, оценить «метафизические» качества
с неметафизических позиций, но также и составная
«дарвинизма»: люди произошли от животных, так же и их
мораль; истоки морали — страх и жажда власти, и в
этом люди сходны со всем животным миром:
«Разве происхождение морали не следует искать в
таких отвратительно мелких суждениях, как: «что плохо для
меня, то зло (само по себе); что выгодно мне, то хорошо
(выгодно и полезно само по себе)...»? О pudenda origo!»
(Р, 102).
Морали, как ее обычно понимают, не существует:
«Если моральны только те действия... которые
производятся ради другого и только в его пользу, тогда
моральных действий не бывает!» (Р, 148).
«Я отрицаю мораль, как я отрицаю алхимию, то есть
я отрицаю их исходные условия; но я не отрицаю, что
были алхимики, которые верили в эти исходные
условия и действовали в соответствии с ними. Я также
отрицаю аморальность: не то, что многие люди
чувствуют себя аморальными, но то, что есть реальная причина
чувствовать себя таковыми. Само собой разумеется, я не
отрицаю — если я не дурак, — что многие действия,
которые считаются моральными, следует исполнять и
поддерживать, — но я думаю, что одно следует
поддерживать, а другого избегать по иным причинам, не-
жели принято» (Р, 103).
206
СКИТАЛЕЦ
Мораль утверждается, становясь обычаем, и это истоки
цивилизации: «Первое правило цивилизации... всякий
обычай лучше, чем отсутствие обычая» (Р, 16). Ницше
предполагает два фундаментальных основания, почему люди
действуют в соответствии с обычаем: из страха и из
жажды власти; и в «Рассвете» приводится огромное количество
опытов с обоими. «Все действия можно возвести к оценкам,
все оценки либо оригинальны, либо приняты — последние
гораздо более распространены, — пишет он. — Почему мы
их принимаем? Из страха» (Р, 104). Таким образом, он
предполагает, что человечество выработало институт
симпатии («сочувствия») на основе возникшей потребности
понимать смысл поведения других людей и животных:
«...человек, по причине своей чувствительной и уязвимой
природы, самый робкий из всех существ, через свою робость
познал сочувствие и быстрое понимание чувства других
существ (в том числе и животных). На протяжении долгих
тысячелетий он видел опасность во всем незнакомом и
живом: наблюдая это, он напрямую копировал черты и позы и
делал выводы относительно злого умысла, скрытого в этих
чертах и этой позе... Радость и приятное удивление,
наконец, чувство нелепого — это отпрыски сочувствия и юное
потомство страха» (Р, 142).
Подобным образом, полагает он, безопасность,
которая была продуктом морального поведения в обычном
его понимании, составляет предмет этого морального
поведения:
«За основным законом действующего морального
кодекса — «моральные действия продиктованы
сочувствием к другим» — я вижу социальное воздействие
робости, скрытой под интеллектуальной маской: она жаждет,
прежде всего и более всего, устранить из жизни все
присущие ей опасности, и чтобы каждый способствовал
этому всеми силами: отсюда только те действия, кото-
207
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
рые способствуют общей безопасности и чувству
безопасности общества, должны соответствовать понятию
«добра»!» (Р, 174).
В раннем афоризме, где напрямую связаны страх и
обычай, Ницше дает определение «аморального»
человека, по которому можно проследить долгий путь, ведущий
к пониманию термина «имморалист», который Ницше
употреблял по отношению к самому себе. Говоря об
«основном законе», а именно: «мораль есть не что иное, как
(и потому не более чем!) подчинение обычаю», — он
продолжает:
«Свободный человек аморален, потому что он
настроен во всем полагаться на себя, а не на традицию: в
каждом примитивном государстве человечества «зло» означало
то же, что и «индивидуум» — «свободный», «спорный»,
«непривычный», «непредсказуемый»,
«непрогнозируемый»... Что такое традиция? Высший авторитет,
которому подчиняются не потому, что он указывает, что следует
считать полезным у а потому, что он указывает...
Изначально все было обычаем, и тот, кто хотел над ним
подняться, становился законодателем и врачевателем и чем-то
вроде полубога: иначе говоря, он был обязан делать
обычаи... Те моралисты, которые, следуя по стопам
Сократа, предлагают индивидуальности мораль самоконтроля
и умеренности в качестве средства ему же на пользу, как
его личный ключ к счастью, являются исключениями...
они оторвались от сообщества, как люди аморальные, и в
самом прямом смысле суть зло. Так, добродетельному
римлянину старой закалки каждый христианин, который
«пекся в первую очередь о собственном спасении»,
казался злом» (Р, 9).
Поэтому «прогресс» в моральной сфере означает
изменения, отчеканенные людьми, которые поначалу
воспринимались как зло:
208
СКИТАЛЕЦ
«...история имеет дело почти исключительно с...
плохими людьми, которых позже объявляли хорошими людъ-
лш!» (Р, 20).
«В сфере морали идет постоянная хлопотная и потная
работа — эффект успешных преступлений (среди которых,
например, все нововведения в суждения о морали)» (Р, 98).
«В прославлении «труда», — пишет он, — я
усматриваю... страх к индивидуальному. Есть коренное
убеждение... что труд — лучший полицейский» (Р, 173).
Поскольку индивид является антитезой группе —
независимо от того, племя это или современное государство, —
и, следовательно, единственным источником аморальности
(то есть непослушания обычаю), то его боятся все, кто свято
чтит обычай.
Со временем Ницше откажется от концепции страха
как положительной силы в том смысле, в каком она
видится ему в «Рассвете», и расценит его как на
негативный аспект жажды власти, то есть как тождество чувства
бессилия или как подчинение власти кого-то или чего-то
другого. Даже в «Рассвете» власть, по причине ее
позитивного воздействия, начинает казаться более
плодотворным полем исследования, чем страх. «Не необходимость,
не желание, — говорит он, откликаясь Гоббсу, — нет,
любовь к власти является демоном человечества» (Р, 262).
И он высказывает ряд соображений о происхождения
морали из любви к власти, например:
«5 чем мы наиболее искусны. Поскольку вещи
(природа, орудия, собственность всякого рода) в течение многих
тысяч лет воспринимались как наделенные жизнью и душой,
чему власть всегда вольна нанести ущерб... чувство
безвластия было гораздо сильнее... среди людей, чем следовало...
Но из-за того, что чувство беспомощности и страха было
столь велико... чувство власти стало столь утонченным, что
209
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
в этом отношении человек мог соперничать с самым
хрупким равновесием. Оно стало самым сильным его
инстинктом; средства, открытые для обретения этого чувства, почти
составляют историю культуры» (Р, 23).
«О, в сколь большой степени чрезмерная жестокость и
вивисекция произошли от тех религий, которые изобрели
грех! И от тех людей, которые жаждали с его помощью
обрести высшее наслаждение властью!» (Р, 53).
«К естественной истории прав и обязанностей.
Наши обязанности — это права других, что над нами...
Мои права — часть моей власти, которую другие не
просто уступили мне, но которую они хотят, чтобы я
удержал... Права — признанные и гарантированные степени
власти... Права других представляют уступку части нашего
чувства власти чувству власти тех других» (Р, 112).
«Бороться за отличие означает бороться за
превосходство над ближним, даже если оно весьма косвенно, или
просто чувство, или даже мечта» (Р, ИЗ).
«Если война оказывается неудачна, всегда ищут
«виноватого» в этом... Вину всегда ищут в случае провала; ибо
провал всегда несет с собой подавленность духа, против
которого инстинктивно применяется единственное средство:
свежее возбуждение чувством власти — и его находят в
осуждении «виноватого». Этот виноватый не просто козел
отпущения за вину других: он жертва слабым, униженным
и угнетенным, которые хотят каким-то образом
продемонстрировать, что в них все еще сохранилась кое-какая сила.
Осуждение себя может также быть средством
восстановления чувства силы после поражения» (Р, 140).
«Сколько бы превосходства и тщеславия... ни было
задействовано в большой политике, самый сильный
прилив, влекущий ее вперед, есть потребность в чувстве
210
СКИТАЛЕЦ
власти... Когда человек ощущает чувство власти, он
ощущает и называет себя благом: и в то же время те, на кого
он желает излить свою власть, ощущают и называют его
злом\» (Р, 189).
«Безграничное честолюбие... быть «разоблачителем
мира» наполняло мечты мыслителя: так, философия была
чем-то вроде возвышенной борьбы за тираническое
господство духа» (Р, 547).
«Полевая богадельня души. Каково сильнейшее
средство? Победа» (Р, 571).
Последняя цитата устанавливает связь — ив этом
Ницше усматривал все большую важность — между счастьем
и ощущением власти: «Первое действие счастья состоит в
чувстве власти» (Р, 356), пишет он; и далее:
«Есть два вида счастья (ощущение власти и ощущение
покорности)» (Р, 60).
Еще более важным для разработки теории воли к
власти является отношение к власти как средству обретения
господства над собой, самообладания:
«Мы все еще на коленях перед силой... и все же, когда
степень достоинства определена, степень разумности
силы может оказаться решающей: следует измерить степень
преодоления даже самой этой силы чем-то еще более
высоким, на службе у которого она теперь состоит как средство
и инструмент!.. Возможно, самое прекрасное пока еще
только на мгновение появляется из темноты и, будучи едва
рождено, погружается в вечную ночь, — я имею в виду тот
аспект силы, который использует гения не для труда, a для
себя самого как объекта труда; то есть для обуздания
самого себя, для очищения воображения, для наведения
порядка и выбора в потоке задач и впечатлений» (Р, 548).
211
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
Отрывок не вполне ясный, и Ницше продолжает
разговор о силе, «превзойденной чем-то более высоким», хотя
он уже утратил право на выражения такого рода; но
именно через постижение этого аспекта побуждения к власти
он позже сумел предложить решение проблемы
предназначения человека:
«Прежде велись поиски смысла величия человека, с
указанием на его божественное происхождение: теперь это
запретная стезя, ибо у ее врат стоит обезьяна... Нынче
поиски приняли обратное направление: тот путь, по
которому движется человек, должен послужить
подтверждением его величия и родства с Богом. Увы, в этом тоже нет
смысла! В конце пути стоит погребальная урна
последнего человека... Как бы высоко ни был развит человек...
переход в следующий порядок невозможен для него
точно так же, как не возможен он для муравья или
уховертки в конце их «земного пути», чтобы возвыситься до
родства с Богом и вечности. Становление постоянно
тащит за собой минование» (Р, 49).
3
«Веселую науку» часто воспринимали как апекс
«сократического» периода Ницше, периода, когда он еще верил
в разум и логику. Считается, что с написанием книги «Так
говорил Заратустра» в Ницше произошла перемена: он
стал иррационален, стал превозносить и нахваливать зло
и умышленно переворачивать с ног на голову все каноны
суждений из чистого циничного упрямства — одним
словом, сочли, что он повредился рассудком. Такое мнение
неоправданно. Положительные утверждения «Заратустры»
и его последователей являются следствием критических
экспериментов, предложенных в книгах «Человеческое,
слишком человеческое», «Рассвет» и «Веселая наука», а
не противоречием им. Более того, «сократические» книги
212
СКИТАЛЕЦ
ни в коей мере не однородны в стилистическом
отношении: даже холодная, сдержанная манера работы
«Человеческое, слишком человеческое» иногда уступает страстному
речению, в котором угадывается будущий «Заратустра»;
«Рассвет» выдержан в стиле гораздо более теплом и
экспансивном; а в «Веселой науке» Ницше достигает очень
широкого диапазона звучания, от строго «научной»
точности «Человеческого» до высокой и пылкой проповеди «За-
ратустры». Последняя часть оригинального издания
«Веселой науки» почти идентична началу «Заратустры»,
а язык афоризмов, которым впервые сказано о вечном
возвращении (ВН, 341), очень близок языку
соответствующего отрывка из «Заратустры» (3, III, 2, 2). Ни стиль,
ни мысль «Заратустры» не являются причудливым
отклонением от прочих трудов Ницше.
В «Веселой науке» Ницше продолжает
экспериментирование, начатое в предыдущих работах, но его
заключительные концепции — воля к власти, сверхчеловек и
вечное возвращение — уже присутствуют здесь в
зачаточном состоянии. Кроме того, в сознании четко
удерживается исходная основа всего этого экспериментирования —
исчезновение метафизического мира. Новая космическая
ситуация человечества выражена в яркой форме притчи
под названием «Сумасшедший»:
«Неужели вы не слышали о том сумасшедшем,
который зажег фонарь ясным утром, побежал на рыночную
площадь и непрестанно кричал: «Я ищу Бога! Я ищу
Бога!» Так как многие из тех, кто не верил в Бога,
стояли там, он возбудил сильный смех. «Так что, ты его
потерял?» — сказал один. «Не сбился ли он с пути, как
малое дитя?» — сказал другой. «А может, он прячется?
Может, он боится нас? Он отправился в путешествие?
Или эмигрировал?» Так они шумели и смеялись.
Сумасшедший бросился в самую гущу толпы и буравил их
взглядом. «Куда ушел Бог? — кричал он. — Я скажу вам.
213
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
Мы его убили — вы и я. Все мы его убийцы. Но как же
мы сделали это? Как сумели мы выпить море? Кто дал
нам губку, чтобы вытереть весь горизонт? Что мы
делали, когда освобождали эту землю от оков солнца? Куда
она движется теперь? Куда мы теперь движемся? Прочь
от всех солнц? Разве мы не падаем непрерывно? Назад,
в стороны, вперед, во всех направлениях? Есть ли еще
верх и низ? Разве мы не блуждаем в бесконечном ничто?
Разве мы не чувствуем дыхание пустого пространства?
Разве оно не стало холоднее? Не надвигается ли все
больше и больше ночь? Разве не нужно зажигать фонарь по
утрам? Разве мы не слышим что-то вроде звука
могильщиков, которые хоронят Бога? Разве мы еще не обоняем
разложение Бога? И боги подвержены разложению. Бог
мертв. Бог остается мертв. И мы убили его. Как будем
мы, убийцы из убийц, утешаться? Тот, что был самым
святым и могущественным из всех, кем обладал этот мир,
смертельно истек кровью под нашими ножами — кто
сотрет с нас его кровь? Какой водой нам очиститься?
Какие празднества искупления, какие священные игры
нужно нам изобрести? Величие такого деяния не слишком
ли велико для нас? Не было вовеки более великого
деяния, — и кто бы ни был рожден после нас, ради этого
деяния он будет частью истории, превосходящей всю
прежнюю историю». Здесь сумасшедший умолк и снова
взглянул на своих слушателей, и они тоже молчали и
взирали на него в изумлении. Наконец он бросил фонарь
на землю, и тот разбился и угас. «Я пришел слишком
рано, — сказал он тогда. — Мое время еще не пришло.
Это грандиозное событие все еще свершается, все еще в
пути — оно еще не достигло человеческих ушей. Молнии
и грому требуется время, свету звезд требуется время,
деяниям требуется время, прежде чем, содеянные, они
смогут быть зримы и слышимы. Это деяние от них пока
дальше, чем самые удаленные звезды — и все же они сами
содеяли его». Позже рассказывали, что в тот же день
сумасшедший ходил по разным церквам и пел там requiem
214
СКИТАЛЕЦ
aeternam deo1. Выходя и успокоившись, он, говорят,
каждый раз возглашал: «Что теперь эти церкви, как не
гробницы и склепы Бога?» (ВН, 125).
«Бог мертв», но этот факт пока не осознан и не
воспринят: люди все еще мыслят так, как если бы Бог по-
прежнему оставался реальностью:
«После того как Будда умер, его тень веками все еще
маячила в пещере — огромная, пугающая тень. Бог мертв:
но поскольку люди остались тем, что они есть, то,
возможно, еще тысячелетия будут существовать пещеры, в
которых будет маячить его тень. И нам — нам тоже до сих
пор приходится покорять его тень» (ВН, 108).
В следующем разделе в общих чертах дан характер
этой тени: механистические и гуманистические свойства
переданы «природе», сама идея «природы» — царство
порядка и целесообразности:
«Будем настороже, когда говорят, что существуют
законы природы: некому указывать, некому подчиняться,
некому их преступать» (ВН, 109).
«Когда же, — восклицает он, — у нас будет
полностью обезбоженная природа?»
Мораль, лишенная всякого метафизического
происхождения или сверхъестественной директивы, не может
обладать «вечной ценностью», но должна быть
следствием «необходимости», ощущаемой теми, кто ее
оформляет и по ней живет: действительно, существуют системы
морали, но существует и отсутствие морали:
«Когда бы мы ни столкнулись с моралью, в ней мы
всегда находим оценки и иерархию рангов человеческих
побуждений и действий. Эти оценки и иерархия рангов
Реквием вечному Богу. (Примеч. пер.)
215
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
всегда являются выражением потребностей сообщества и
стада... Посредством морали индивидуум вводится в
жизнь как функция стада и приписывает ценность себе
самому только как функции. Поскольку условия
поддержания сообщества сильно отличались от таковых в ином
сообществе, существовали совершенно несхожие системы
морали» (ВЫ, 116).
В результате современная мораль изобилует
противоречиями, которые обнаруживают себя, когда какая-то
конкретная мораль претендует на представительство морали
вообще:
«Добродетели человека называются благом не в связи с
тем воздействием, которое они оказывают на него самого,
а в связи с воздействием, которое, как мы полагаем, они
будут оказывать на нас и на общество... Ибо, в противном
случае, пришлось бы признать, что достоинства... в
большинстве своем вредны для их обладателей, как импульсы,
которые правят ими слишком сильно... Если вы обладаете
добродетелью, поистине совершенной добродетелью (а не
просто слабым позывом к добродетели!), — вы ее жертва!
Но именно поэтому ваши соседи превозносят вашу
добродетель!.. «Сосед» хвалит самоотверженность, потому что он
извлекает из этого выгоду!.. Основное противоречие той
морали, которая в настоящее время в большом почете,
таким образом, налицо: мотивы, которые диктуют эту
мораль, противоречат ее принципам).» (ВН, 21).
«Самопреодоление» христианской морали и веры, по
убеждению Ницше, есть просто признание факта, что
нечто, называемое моралью, по существу, таковой не
является:
«Отчетливо видно, что именно одерживает победу над
христианским Богом: сама христианская мораль,
концепция истинности, принимаемая все более и более строго,
216
СКИТАЛЕЦ
конфессиональная утонченность христианского сознания,
переведенная и сублимированная в научное сознание, в
интеллектуальную ясность, во что бы то ни стало»
(ВН, 357).
То, что это может привести к нигилизму, против
которого Ницше пытается бороться, — новая ипостась того
самого «справедливо, но смертельно»: он говорит о
«чудовищной альтернативе» грядущего поколения:
«...либо покончить с вашим почитанием, либо — с
вами самими! Последнее, пожалуй, нигилизм; но
разве не нигилизм — первое? Это наш знак вопроса»
(ВН, 346).
Он смог отважиться ответить на этот вопрос не
раньше, чем оформилась его теория воли к власти.
Поскольку всякая мораль обладает только относительной
ценностью, различие между добром и злом тоже должно
быть условным, а не абсолютным: не существует гарантий
в признании злых действий, как таковых, — напротив, они
так же ценны, как и добрые действия, поскольку последние
являются следствием первых:
«Самые сильные и самые злые души до сих пор
продвигали человечество более всех: они вновь и вновь
возжигали уснувшие страсти, — все упорядоченные общества
убаюкивают страсти, — они вновь и вновь пробуждали
чувство сравнения, противоречия, восторга к новому, к
риску, к неизведанному; они вынуждали человечество
выдвигать мнение против мнения, идеал против идеала. В
основном это случалось силой оружия, опрокидыванием
пограничных столбов, насилием над благочестием: но также
и новыми религиями и моралью!.. Новое... при всех
условиях зло... только старое — благо! Добрыми людьми
каждой эпохи были те, кто глубоко закапывался в старые идеи
и кормился ими, — земледельцы духа. Но всякая почва,
217
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
в конце концов, истощается, и лемех зла должен
возвращаться снова и снова... злые импульсы столь же
полезны, необходимы и спасительны для видов, сколь и
добрые: только у них иная функция» (ВН, 4).
И снова проходит идея конфликта как динамической
силы культуры: конфликт есть «зло», но без него нет
культуры:
«Исследуйте жизнь лучших и наиболее плодотворных
людей и народов и спросите себя, может ли дерево, если
оно гордо стремится к небу, обойтись без плохой погоды
и бурь; и не являются ли жадность, сопротивление извне
или же ненависть, зависть, недоверие, суровость, алчность
и насилие теми благоприятными условиями, без которых
великий подъем — даже добродетели — едва ли
возможен» (ВН, 19).
«Добрая Эрида» Гесиода — позывы зависти,
жадности и вражды, направленные на соревнование, — и
по сей день богиня — управительница культуры. В
книге «Человеческое, слишком человеческое» Ницше уже
обращался к существованию «доброй Эриды», называя
ее сублимацией «плохой», но, хотя он держит эту идею
в поле зрения в «Веселой науке»,
«там, где слабое зрение уже не различает злых
побуждений, как таковых, по причине их утонченности,
человечество устанавливает царство добра» (ВН, 53),
он пока не может дать какое-либо обоснование
сублимации как реального события: это обоснование должно
дождаться его теории воли к власти.
И он постепенно продвигается в направлении этой
теории. В одном из его ранних афоризмов, озаглавленных
«К теории о чувстве власти», он допускает, что и добрые,
и дурные действия вытекают из побуждения властвовать:
218
СКИТАЛЕЦ
«Благодеянием и злодеянием человек осуществляет
свою власть над другими... Злодеянием — над теми, кого
мы еще должны заставлять чувствовать свою власть...
Благодеянием... над теми, кто в чем-то от нас зависим... мы
желаем усилить их власть, поскольку этим мы усиливаем
свою... И то, жертвуем ли мы чем-либо, поступая хорошо
или плохо, не меняет конечной оценки наших действий; даже
если мы кладем жизнь, как это делает мученик во имя
церкви, — это жертва нашему стремлению к власти... Тот, кто
чувствует «Я обладаю истиной», — какими владениями он
не пожертвует, только чтобы удержать это чувство! Чего
только он не выбросит за борт, чтобы остаться «на
высоте» — то есть над другими, лишенными этой «истины»
(ВН, 13).
Также и любовь, так называемое неэгоистическое
чувство, коренится в желании осуществлять наивысшую
степень власти над любимым человеком:
«Наша любовь к ближним — разве это не стремление
к новой собственности?.. Удовольствие от самих себя ищет
возможности сохраниться, снова и снова трансформируя
что-нибудь новое в нас самих — вот что означает
обладание... Когда мы видим, как кто-то страдает, мы рады
ухватиться за предоставленную таким образом
возможность, чтобы овладеть им; так действует, например,
великодушный и сострадательный человек, и он тоже
называет «любовью» возникшее в нем желание заполучить что-то
новое... Однако наиболее отчетливо выдает себя как
стремление к собственности любовь полов: любовник
хочет безусловного, всецелого обладания желанной
личностью, он хочет безусловной власти над ее душой, как и над
ее телом, он хочет, чтобы любили только его; жить и
царить в ее душе представляется ему самым высоким и
самым желанным... Удивительно, что эту беспощадную
алчность и несправедливость любви полов славили и
обожествляли во все времена до такой степени, что из этой
219
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
любви и впрямь должно было возникнуть представление
о любви как противоположности эгоизму, тогда как она
есть, несомненно, самое безудержное проявление эгоизма»
(ВН, 14).
Отречение, то есть аскетизм, теперь тоже видится как
атрибут жажды власти:
«Что делает аскет? Он стремится в более высокий мир,
он хочет лететь дальше, и дольше, и выше, чем все люди
убеждений, — он отбрасывает многое из того, что
могло бы препятствовать его полету, и среди прочего многое
такое, что для него ценно и приятно: он жертвует этим во
имя стремления к высотам» (ВН, 27).
В «Веселой науке» также впервые появляются
сверхчеловек и вечное возвращение. Образ сверхчеловека еще
весьма расплывчат, но уже проявляются отдельные
конкретные черты: Ницше нащупывает путь к «образу
человека», который воплощает властный порыв и каким-то
образом использует его ради созидательных целей. В
довольно странном афоризме он напрямую связывает
«возвышение» человека со «смертью Бога»:
«Есть озеро, которое однажды отказалось изливаться и
воздвигло плотину в том месте, где ранее вытекало: с тех
пор это озеро поднимается все выше и выше... может быть,
и человек начнет подниматься все выше и выше с того
момента, как перестанет изливаться в Бога» (ВН, 285).
Восхождение через некое ограничение, практику
проявления воли по отношению к себе самому — именно
такое направление получает в то время мысль Ницше:
«Придать стиль» своему характеру — великое и редкое
искусство! В нем упражняется тот, кто, обозрев все силы и
слабости, отпущенные ему природой, затем оформляет их в
220
СКИТАЛЕЦ
некий артистический план, пока все не претворится в
искусство и смысл, так что даже слабости покажутся
восхитительными. Здесь следует прибавить побольше от второй
природы, здесь — отторгнуть часть природы изначальной...
Это будут сильные, властные натуры, которые испытают
утонченное удовольствие, осуществляя подобные
настройки, в подобном принуждении и совершенствовании,
согласно их собственному закону» (ВН, 290).
Когда мы читаем это, мы понимаем, что он все еще
говорит на языке статьи «О будущем наших
образовательных учреждений», языке «Рождения трагедии» и
«Несвоевременных размышлений»; понимаем, что есть линия
непрерывного развития от его ранней философии к более
поздней; и что на протяжении всего деструктивного
периода «Человеческого...» и «Рассвета» он удерживал в
голове позитивную цель всех своих вопрошаний: установить
новое значение человеку в мире, ставшем бессмысленным.
Исчезновение божественных санкций на моральные
ценности, вновь говорит он, предполагает, что человек
должен сам создавать собственные ценности и что следует
отыскать основу для этих ценностей:
«Давайте же ограничим себя... чистотой наших мнений
и оценок и созданием своих собственных новых таблии,
ценностей... Мы... хотим стать теми, кто мы есть, —
новыми, уникальными, несравненными, теми, кто
устанавливает для себя собственные законы, теми, кто творит себя
сам!» (ВН, 335).
Создание законов для себя самих и творение себя — это
все еще загадочное занятие: мы пока не знаем, с помощью
какой силы можно осуществить это. Но из другого
афоризма Ницше становится ясно, что в его сознании
по-прежнему живы побуждающие силы «Рождения трагедии»:
обуздание страсти; и динамический фактор прогресса —
конфликт. Люди должны научиться «жить опасно»:
221
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
«Я приветствую все признаки того, что наступает более
человечный, более воинственный век, который, помимо
всего прочего, вновь возведет в почет отвагу! Ибо ему
предстоит проложить путь еще более высокой эпохе и собраться
с силами, которые эта эпоха однажды потребует — эпоха,
которая привнесет героизм в познание и станет вести
войну во имя идей и их последствий. Для этого теперь
требуются многие храбрые пионеры... люди, которые умеют быть
молчаливыми, одинокими, решительными... которые
внутренне предрасположены к поиску во всем того, что следует
преодолеть в себе: люди, которым жизнерадостность,
терпение, простота и презрение к великой суете присущи в той
же мере, как и великодушие в победе и снисходительность
к малым суетам побежденных... люди со своими
праздниками, своими буднями, своими днями плача, привыкшие и
способные повелевать и равным образом готовые при
необходимости подчиняться приказу, равно достойные в первом
случае, как и во втором, равно исполняя собственные
задачи: люди более рискованные, люди более плодотворные,
более счастливые люди! Ибо поверьте мне! — тайна
осознания величия плодотворности и величайшее наслаждение
бытия — это: жить опасно] Стройте свои города на
склоне Везувия! Направляйте свои корабли в неизведанные
моря! Живите в конфликте с равными вам и с самими
собою! Будьте разбойниками и грабителями, если не можете
быть правителями и собственниками, вы, люди знания!
Скоро пройдет то время, когда вы могли довольствоваться
скрытной, лесной жизнью, подобно пугливым оленям!»
(ВН, 283).
Язык этого афоризма может служить примером
«боевого» стиля Ницше. Те немногие отрывки, где он
использует лексикон войны, нанесли его репутации больше зла,
чем все остальные произведения, вместе взятые.
Вырванные из контекста, они звучат как призыв к вооруженному
конфликту и часто приравниваются к таковому; в
контексте же они часто вмещают немногим более того, что он
222
СКИТАЛЕЦ
некогда написал, будучи еще учеником Пфорташуле:
«Борьба — это постоянная пища души»; и обычно (как и
в вышеприведенной цитате) его воинственный словарь
связан с самыми невоинственными устремлениями, с
философией. На самом деле в этом и кроется ключ к пониманию,
почему он считал уместным вводить столь воинственные
выражения в свои работы. Немецкая философия
прекрасно уживалась с установленным в Германии порядком —
но философы не должны уживаться с установленным
порядком; до сих пор немецкие философы писали книги и не
причиняли вреда — но философы не должны не
причинять вреда. Страстный, активный человек восхитителен, но
он не умеет мыслить, — философ должен к своей
способности мыслить добавить способность действовать, он
должен соединить мышление и страсть, он должен жить
своей философией, не только мыслить ею, он должен стать
воином, разбойником, грабителем знаний — вот что
имеет в виду Ницше, когда ассоциирует философию с
войной. Locus classicus] Ницше о войне представляет глава
«О войне и воинах» в «Заратустре». Знакомые строки:
«Вы должны любить мир как средство для новых войн.
И краткий мир более, чем долгий... Вы говорите, что
хороший предлог освящает даже войну? Я говорю вам: это
хорошая война освящает каждый предлог. Война и
храбрость свершили больше великих дел, чем
благотворительность» (3, I, 10).
Менее известны строки, которые придают этим
воинственным выражениям то значение, которое он в них
вкладывает:
«И если вы не можете быть святыми знания, будьте
хотя бы воинами. Они союзники и предвестники такой
святости... Вы должны искать своего врага, вы должны
Расхожая цитата (лат.). (Примеч. пер.)
223
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
разжигать свою войну — войну за ваши мнения. И если
ваше мнение терпит поражение, ваша честность все равно
должна торжествовать! Вы должны любить мир как
средство для новых войн...» и т. д.
Другая линия приближения к сверхчеловеку состоит в
том, что развитие человеческих личностей упростилось с
тех пор, как вера в единого Бога исчезла:
«Монотеизм... этот окоченелый вывод из учения о
некоем стандарте человека — а значит, и веры в некий
стандарт Бога, за исключением которого все прочие боги не
более чем ложь и подделка, — представлял, возможно,
наибольшую опасность для человечества, с которой ему
когда-либо приходилось сталкиваться: человечеству
угрожал преждевременный застой, в каковой, насколько мы
можем видеть, уже давно впали другие виды животных»
(ВН, 143).
Ницше пришел к теории вечного возвращения
вследствие двух потребностей: необходимости дать
объяснение миру и необходимости принять его. Первая
является потребностью всех философски настроенных умов,
вторая — особой потребностью философа, чьи
изыскания могут привести к нигилизму: понять необходимый
характер всех явлений, даже — и особенно — «зла»,
означало бы избежать логически абсурдной позы
«отторжения» мира, который не может быть иным, чем он
есть. Часть пути к этому заключению вымостило
представление Ницше о «злых» страстях как «циклопах
культуры», но теперь он видит эту проблему более с
позиций психологии личности:
«Что же? Конечная цель науки в том, чтобы
доставлять человеку как можно больше удовольствия и как
можно меньше страданий? Однако представьте, что
удовольствие и страдание столь тесно переплетены друг с
224
СКИТАЛЕЦ
другом, что тот, кто хочет иметь как можно больше
первого, должен также получить и как можно больше
второго... И вполне вероятно, что так оно и есть! Во всяком
случае, так полагали стоики, и были последовательны,
когда желали иметь как можно меньше удовольствия,
чтобы получить от жизни как можно меньше страдания»
(ВН, 12).
В двух афоризмах более решительно, чем когда-либо,
Ницше отразил свое видение мира на тот момент — мира
кажимости, откуда невозможно осуществить «прорыв» в
«более высокую реальность», — и свою решимость видеть
этот мир таким, каким его следует видеть, —
«приемлемым»:
«Осознанность кажимости. В каких чудных и
новых и в то же время ужасных и иронических
отношениях с полнотой бытия я ощущаю в себе это знание! Я
обнаружил для себя, что старый человеческий и
животный мир, да и вся предыстория и прошлое чувственного
бытия, продолжает работать, любить, ненавидеть,
мыслить во мне. Я внезапно пробудился в середине этого
сна, но лишь для того, чтобы осознать, что я сплю и
вынужден спать дальше, чтобы не подвергнуться
разрушению: так приходится спать лунатику во избежание
падения. Что мне теперь кажимость! Конечно, не
противоположность некоей форме бытия — что я могу
вообще сказать о какого-то рода бытии нечто, что не
является предикатом его кажимости! Конечно, не
посмертная маска, надетая на неведомый «х», которую при
желании можно снять! Кажимость для меня —
активная и живая сущность, которая столь далеко заходит в
самоиронии, чтобы позволить мне почувствовать, что нет
ничего, кроме кажимости и призрачной надежды и
мерцающего танца духов; что среди этих сновидцев также
и я, «человек знания», есть средство разворачивания
земного танца и в этом отношении один из церемоний-
8 Р Дж. Хоалингдсна 225
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
мейстеров бытия и что возвышенная последовательность
и единство знания, вероятно, есть и останутся
первейшим средством сохранения универсальности сна и
всеобщего взаимопонимания всех этих сновидцев, а тем
самым и длительности сновидения» (ВН, 54).
«Я хочу более и более учиться видеть, что именно
является в вещах необходимым, а также прекрасным —
так я стану одним из тех, кто делает вещи
прекрасными. Amor fati: да будет это отныне моей любовью! Я
не хочу разжигать войн против уродливого. Я не хочу
обвинять, я не хочу даже обвинять обвиняющих. Путь
моей единственной формой отрицания станет сторонний
взгляд] И в конце концов: я хочу отныне и во веки
веков только утверждать!» (ВН, 276).
Этот последний отрывок был написан в день
Нового, 1882-го года; за шесть месяцев до этой даты
мысли, зреющие в нем, оформились в идею вечного
возвращения. Она явилась конечным продуктом его изучения
Древней Греции и стала фундаментом для «Заратустры».
Самый момент, когда эта идея озарила его сознание,
сохранился в его памяти вплоть до написания
следующих строк «Ессе Homo»:
«...идея вечного возвращения, крайняя формула
утверждения, которая вообще достижима, явилась в
августе 1881 г.: она была нацарапана на клочке бумаги с
припиской: «6000 футов по ту сторону человека и
времени» (ЕН-3, 1).
Она снабдила Ницше новой картиной
неметафизической действительности, примирила «становление» и
«бытие», дала взгляд на цели человечества. В «Веселой науке»
эта идея возникает в виде простого предположения «а что,
если?..»: ее полное осмысление могло произойти только
после того, как была отчетливо сформулирована теория
226
СКИТАЛЕЦ
воли к власти и сверхчеловека. А между тем в конце
«Веселой науки» это «а что, если?..» предстает странной
загадкой для всех читателей:
«Самая тяжелая ноша. А что, если однажды днем или
ночью к тебе в твоем уединенном одиночестве приполз бы
демон и сказал тебе: «Эту жизнь, какой ты живешь сейчас
и какой жил прежде, тебе придется прожить снова и снова,
бессчетное число раз; и в ней не будет ничего нового, но
каждая боль, и каждая радость, и каждая мысль, и вздох,
и все невыразимо малое и великое в твоей жизни должно
будет возвращаться к тебе, и все в той же череде и
последовательности — такой же паук и такой же лунный свет
среди деревьев, также и это мгновение, и сам я». Вечные
песочные часы существования будут переворачиваться снова
и снова — ас ними и ты, пыль пыли! Разве не падешь ты
ниц и не будешь скрежетать зубами и проклинать демона,
так сказавшего? Или же ты пережил однажды невероятный
момент, когда ты ответил бы ему: «Ты бог, и никогда не
слышал я ничего божественнее!» Если эта мысль овладела
тобой, то она, как ты сейчас, преобразила и раздавила бы
тебя; вопрос всего и вся — «хочешь ли ты этого снова и
снова, бессчетное число раз?» — лег бы тяжелейшим
грузом на все твои действия. Или насколько хорошо должен
был бы ты относиться к самому себе и к жизни, чтобы не
жаждать ничего большего, нежели этот окончательный
приговор и печать на нем?» (ВЫ, 341).
Глава 10
ЛУ САЛОМЕЙ
Кого более всех ненавидит
женщина? Так говорило железо магниту:
«Более всего я ненавижу тебя, ибо ты
привлекаешь меня, но недостаточно сильно,
чтобы притянуть меня к себе».
Ф. Ницше.
Так говорил Заратустра
1
К лету 1882 г. Ницше в определенном смысле уже
начал трудиться над сочинением «Так говорил
Заратустра». Основы этой книги закладывались постепенно, с
работы «Человеческое, слишком человеческое» до
«Веселой науки», и во многих фрагментах этого последнего
произведения уже проявились особенности видения и
тона «Заратустры»1.
Часть первая «Заратустры» была изложена на
бумаге в феврале 1883 г. Эти обстоятельства должны помочь
нам увидеть «роман» с Лу Саломей в правильной
перспективе. Тогда Ницше придавал их отношениям
весьма большое значение, и его разочарование в неудаче на
какое-то время выбило его из равновесия. Однако нет
причин полагать, что все это как-либо изменило его или
что его работа начиная с 1883 г. приняла бы
существенно иной разворот, если бы встреча с Лу Саломей
никогда не состоялась.
1 Например, в разделах 115, 121, 124, 125, 153, 183, 267, восьми
вопросах и ответах 268—275, а также в четвертой книге полностью.
228
ЛУ САЛОМЕЙ
Пробыв около месяца с Ницше в Генуе, 13 марта
1882 г. Пауль Рее уехал оттуда и вскоре объявился в
Риме. Там, в доме Мальвиды, он познакомился с Лу
Саломей и влюбился в нее. Лу (правильно Луиза)
родилась в Санкт-Петербурге в 1861 г. и была дочерью
русского генерала с гугенотскими корнями. Решив начать
самостоятельную жизнь, она вместе с матерью в
сентябре 1880 г. покинула Россию, чтобы обучаться в
университете в Цюрихе; там она заболела, и один друг дал ей
рекомендательное письмо к Мальвиде и предложил
поехать в Рим на поправку. Она приехала к Мальвиде в
январе 1882 г. и как раз гостила у нее, когда там
появился Рее.
Рее предложил ей выйти за него замуж, но она
отказалась и ответила встречным предложением жить и учиться
«как брат и сестра», взяв в компанию еще кого-нибудь
одного. Эта идея удивила Рее (и привела в негодование Маль-
виду, когда та услышала об этом), но он принял ее и решил,
что третьим компаньоном должен быть Ницше. Ницше
покинул Геную 29 марта и направился в Мессину, где
пробыл три недели: чувствовал он себя очень плохо и,
вероятно, возвращался в Германию на консультацию со своим
врачом, когда в конце апреля появился в Риме. Он
удивился, узнав у Мальвиды, что Рее тоже в Риме, да еще в
обществе молодой леди, о которой Рее упоминал ему в письме
в середине марта. Встретившись с обоими, он был тотчас
покорен Лу, как до него и Рее. Спустя пару дней после
знакомства Рее передал Лу, что Ницше просил его сделать
ей предложение от его имени. Ницше был интересен Лу как
третий участник их ménage-a-trois — на что он с
готовностью согласился, — но ни тогда, ни после он не
интересовал ее как кандидат в мужья. Она отказала; однако «план
обучения» оставался в силе, и местом пребывания была
выбрана Вена.
Казалось, Ницше был вполне доволен таким
распорядком, но втайне он не оставлял надежды покорить Лу
Саломей. И после небольшого развлекательного турне в
229
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
обществе матери Лу и Рее по Италии и Швейцарии (в
течение которого они побывали на озере Орта и
знаменитой Монте-Сакро) он снова сделал ей предложение, на
этот раз лично и, по-видимому, совершенно осознанно и
искренне. Лу ответила, что не хочет замуж — не только
за него, но и вообще за кого бы то ни было — и что ей
более по вкусу жизнь независимой женщины. Его снова,
казалось, устроил такой ответ, и он удовлетворился
планами совместного проживания и обучения в Вене.
Это повторное предложение имело место 13 мая в
Люцерне. С 24 мая по 24 июня Ницше был в Наум-
бурге. Лу и Рее отправились погостить к матери Рее в
город Стиббе в Западной Пруссии. События лета не
вполне ясны. В недатированном письме Овербеку из
Наумбурга Ницше пишет:
«Лето проходит, а все остается крайне неопределенным.
Я едва-едва держусь [относительно Лу Саломей]. Я
твердо решил не посвящать в это сестру; она может только
испортить дело (как никто другой)».
В письме к Лу от 10 июня он писал:
«Я возлагаю столь высокие надежды на наш план жить
вместе, что все... менее значимое мало волнует меня».
Все же во время месячного пребывания в Наумбурге он
как-то раз все-таки проговорился Элизабет о Лу. Что
именно он ей рассказал, мы не знаем; возможно, только
то, что юная леди была его предполагаемой «ученицей», с
которой ему хотелось познакомиться поближе, и что для
этого ему требовалась помощь Элизабет. В то лето
Элизабет намеревалась посетить Байрейт, где впервые
ставился «Парсифаль», и было решено, что Лу должна составить
ей компанию; после этого им предстояло направиться в
Таутенбург, курорт в Тюрингии, а там их уже ожидал бы
Ницше. В Таутенбурге все трое проведут три недели на
230
ЛУ САЛОМЕЙ
отдыхе и в беседах, и тогда (как, должно быть, полагал в
душе Ницше) он постепенно посвятит Элизабет в
«аморальный» план на ближайшую зиму. Он выехал в Таутен-
бург 25 июня, а 2 июля писал Лу:
«Как ясно надо мною небо! Вчера мне почудилось, что
я новорожденный: вы прислали мне согласие [приехать в
Таутенбург], лучший подарок, который кто-либо мог
преподнести мне. Сестра прислала мне ягод, Тойбнер
[издатель] прислал первые три листа корректуры «Веселой
науки», и в довершение всего закончена третья часть
рукописи «Веселой науки», а с нею и шестилетний труд
(1876—1882), все мое «вольнодумство»!.. По мере того
как проходит зима, я серьезно думаю исключительно о
Вене. Зимние планы моей сестры никак не связаны с
моими... Я более не хочу одиночества; я хочу снова научиться
быть человеческим. Увы, в этой области мне придется
учиться практически всему!»
Элизабет и Лу приехали в Таутенбург 7 августа; они
уже поссорились, и Элизабет уже утвердилась во мнении,
что Лу была не тем типом женщины, которая могла
рассчитывать на общение с Фрицем и на его симпатию. Три
недели, проведенные в Таутенбурге, укрепили ее в этом
мнении, и 26 августа, в день отъезда Лу, между братом
и сестрой разразился скандал, котрый вынудил Ницше
уехать на следующий день. Он направился в Наумбург и
в начале сентября написал Элизабет (очевидно, в ответ на
ее письмо к матери):
«Мне жаль слышать, что ты все еще вспоминаешь ту
сЦену, от которой я охотно избавил бы тебя. Но
посмотри на это иначе: в результате этой ссоры выяснилось то,
что в противном случае долгое время оставалось бы
скрытым: Л. была равнодушна ко мне и испытывала
некоторое недоверие. И когда я взвешиваю обстоятельства
нашего общения, я признаю, что у нее, возможно, было на
231
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
это право (принимая во внимание некоторые
опрометчивые замечания нашего друга Рее). Но теперь она
конечно же думает обо мне лучше — и это главное, разве не
так, дорогая сестра?»
Что касается Элизабет, то, на ее взгляд, главным было
вовсе не это: главным было вырвать Фрица из силков этой
аморальной женщины. Она написала матери, что
отказывается возвращаться в Наумбург, пока там находится ее
брат, и объясняла причину: в данный момент Фриц водит
компанию с аморальной женщиной, Лу Саломей; налицо
позорное поведение и еще более позорное запланировано
на будущее. Теперь Ницше подвергся еще одной сцене
благочестия, на этот раз со стороны его матери, после
которой он немедленно уехал из Наумбурга в Лейпциг.
Отправленное оттуда письмо к Овербеку проясняет, что же
произошло:
«К несчастью, моя сестра превратилась в заклятого
врага Лу. Она была преисполнена морального
негодования от начала до конца и говорит, что наконец-то поняла,
что означает вся моя философия. Она написала матери, что
видела мою философию в действии в Таутенбурге и была
потрясена: я возлюбил зло, говорит она, а она любит
добро... Короче, «добродетель» Наумбурга восстала против
меня; это привело к настоящему разрыву между нами —
и моя мать тоже дошла до того, что сказала мне нечто,
заставившее меня упаковать чемодан и на следующее же
утро уехать в Лейпциг»1.
Лу и Элизабет были очень разными по природе и едва
ли когда-нибудь смогли бы ужиться; но, даже если
Ницше и осознавал это, он недооценил собственническую
натуру сестры и ее абсолютную тупость в понимании его
1 Из более позднего письма мы узнаем, что же именно она сказала:
якобы он был «позором могиле его отца», замечание, которого — если мое
понимание чувств Ницше к умершему отцу верно — было достаточно, чтобы
он в недоуменной ярости немедленно покинул дом.
232
ЛУ САЛОМЕЙ
«философии». Элизабет, со своей стороны, совершенно не
поняла ситуацию, с которой столкнулась: она была
уверена — и никогда не теряла этой веры, — что
свободомыслящая и свободно живущая юная Саломей «преследовала»
ее брата и заманивала его в свои сети; тогда как на самом
деле Ницше как мужчина совершенно не интересовал Лу.
Она восхищалась им как мыслителем и собеседником и
наслаждалась его обществом почти не меньше, чем он
наслаждался ее; все чувство сосредоточилось в Ницше.
Как не сумел он предусмотреть ненависть Элизабет к
Лу, так не увидел он и любовь к ней Рее. Когда в начале
октября Рее и Лу приехали в Лейпциг, Рее уже, похоже,
решил, что Ницше следует исключить из их общих с Лу
планов на будущее: он был слишком опасным соперником.
Три недели, проведенные в Лейпциге, внешне выглядели
вполне добродушно. Далее ménage-a-trois предстояло
переместиться в Париж; Ницше наводил справки о подходящем
жилье и был слегка озадачен, когда в конце месяца Лу и
Рее уехали в Стиббе, не назначив дату следующей
встречи. В начале ноября в Лейпциг приехал Гаст, и за две
недели, проведенные в его обществе, Ницше постепенно
осознал, что от него просто избавились. Когда же он наконец
постиг суть случившегося, то в ярости и отчаянии сорвался
в Италию. 15 ноября он был на дне рождения у Овербека
в Базеле, но, не задерживаясь, поспешил в Геную; не
находя себе места и там, он перебрался в Раппало, где
пробыл в полном одиночестве до 23 февраля следующего года.
2
Трудно найти подходящее определение тому состоянию,
в котором он пребывал в течение примерно десяти
последующих месяцев, потребовавшихся ему, чтобы
успокоиться. Он был человек гордый, и сама мысль о том, что он
посвятил себя Лу Саломей, девушке 21 года, за неимением
другой женщины, и что она спокойно оставила его, приво-
233
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
дила его в бешенство: в первую очередь была задета его
гордость. Но письмо от Рее с попыткой объяснить
обстоятельства заставило его посмотреть на это дело с более
разумных позиций.
«Но, мой дорогой друг, — писал он в ответ (в конце
ноября), — я полагал, что ты чувствовал себя совершенно
иначе и был вполне рад отделаться от меня! Сотни раз за
этот год, начиная с Орты, я чувствовал, что ты «слишком
дорого заплатил» за свою дружбу со мной. Я уже многое,
слишком многое украл от твоей римской находки (имею в
виду Лу) — и мне всегда казалось, я говорю о Лейпциге,
что ты имел право немного отдалиться от меня. Думай обо
мне по возможности лучше, дорогой друг, и попроси о том
же Лу. Я предан вам обоим, от всего сердца... Будем иногда
видеться, не так ли?»
Потом он начал перебирать события прошлого лета и
осени, и в адрес Лу и Рее полетели письма, полные
горьких и язвительных упреков:
«Пусть вас не сильно заботят вспышки моей
«мегаломании» или «оскорбленного самолюбия» — и если бы
случилось так, что однажды в приступе страсти я
лишил бы себя жизни, в этом не было бы ничего, о чем
стоило бы чересчур беспокоиться. Что вам мои
фантазии!.. Просто отчетливо представляйте, что я, в конце
концов, полусумасшедший человек, сбитый с толку
совершенным одиночеством. Я пришел к этой (как мне
кажется) разумной оценке положения после того, как
принял — от отчаяния — огромную дозу опия. Но
вместо того, чтобы в результате этого утратить чувства,
я, похоже, наконец, пришел в них. На самом деле, я
всю неделю был очень болен».
Возможно, так и было, но верить в это необязательно:
целью письма было предупредить негодяев, что жертва их
козней может дойти до самоубийства — и каково им тог-
ЛУ САЛОМЕЙ
да будет? Рождественское письмо 1882 г., адресованное
Овербеку, обнаруживает всю глубину болезни и отчаяния,
навалившихся тогда на Ницше:
«Я переживал позорные и мучительные воспоминания
о прошлом лете, как какое-то сумасшествие... Это
конфликт противоречивых чувств, с которым я не справляюсь...
Если бы только я мог заснуть! Но самые сильные
снотворные помогают столь же мало, сколь мало помогают мои
прогулки по шесть—восемь часов. Если я не сумею
отыскать магической формулы обратить весь этот навоз в
золото, я пропал... Я теперь никому не верю: во всем я
чувствую, во всем слышу презрение к себе... Вчера я
прекратил всякую переписку с матерью: не мог более этого
выносить... Мои отношения с Лу переживают последнее
болезненное удушье: по крайней мере, так мне кажется
сегодня... Иногда я думаю о том, чтобы снять маленький
дом в Базеле, время от времени навещать тебя и посещать
лекции. Иногда мне хочется поступить наоборот: довести
мое одиночество и смирение до крайности и...»
В этом крике слышится не только голос больного,
страдающего человека, но и голос художника, человека,
который обращает навоз в золото. «Заратустра» в одном из
своих проявлений — это гимн одиночеству, и его герой —
самый одинокий человек в литературе. У Робинзона Крузо
были его Пятница, ящик с инструментом и надежда на
спасение; у Заратустры — только орел и змея: он «вне
человеческого доступа» в самой своей правде, один даже
тогда, когда гуляет по базарной площади. Последнюю
главу книги «Человеческое, слишком человеческое» Ницше
озаглавил «Человек наедине с собой». Теперь, в книге «Так
говорил Заратустра», он пытается дать развернутое
представление о человеке наедине с собой: поначалу
выбирающем одиночество, затем устающем от него, ищущем
спутников, чтобы покончить с этим одиночеством, выясняющем,
что даже в окружении последователей он по-прежнему оди-
235
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
нок, принимающем уединение во всей его полноте,
уходящем в него и, наконец, воздающем ему хвалу и славу. Даже
при видимости разговора с другими Заратустра говорит так,
словно обращается к себе: эффект хорошо известного
лаконизма стиля Ницше. Все неясности в «Заратустре»
связаны с тем, что Ницше предполагает в читателе фоновое
знание, сходное с его собственным: если читатель знаком с его
произведениями, начиная с книги «Человеческое, слишком
человеческое» и заканчивая «Веселой наукой», то он
становится причастен этому знанию; если нет, то остается в
неведении. В любом случае кажется, что Заратустру мало
волнует, понимают ли его или нет, он сам — единственный
слушатель, которому он поверяет глубочайшую тайну
вечного возвращения. Порвав с семьей из-за Лу и Рее и
затем брошенный также и ими, Ницше чувствовал, что теперь
он и вправду одинок в мире, а состояние его здоровья было
таково, что по странности он не мог ни умереть, ни жить.
Не будь он художником, мы могли бы почти наверняка
ожидать, что в пределах года он положит конец
существованию, переросшему в мучительный абсурд. Но, будучи
художником, он вместо этого сумел перевести боль
одиночества в удовольствие, и в его образе Заратустры — он, как
все вымышленные персонажи, и есть и не есть его автор —
воплотить тип человека, который желает одиночества, так
как оно является его природным свойством.
Первая часть «Заратустры» задает тон и настроение
всей книге. Ницше решил начать ее с повторения почти
слово в слово заключения «Веселой науки» и таким
образом установить связь между новым произведением и своим
«вольнодумством», что страстно пытались оспорить его
критики. Появляются сверхчеловек и воля к власти; идет
беспримерно жесткая критика современного общества.
Стиль в высшей степени приподнятый и экзотический,
мысль порой теряется в стихии метафор и риторики.
Изобилует сексуальная образность, и есть собственное
свидетельство Ницше, что его словарь не всегда остается
подконтрольным ему: действительно, в его манере присутствует
235
ЛУ САЛОМЕЙ
элемент случайности, хотя все озвучено и вполне
продумано по существу, будучи выходом шести лет размышлений.
Нисхождение с высот «Заратустры» к реальностям
жизни в последующие месяцы было крайне болезненным.
Примирение с Элизабет заставило Ницше приехать в Рим, где
она жила у Мальвиды с 4 мая по 16 июня. Здесь Ницше
позволил убедить себя, что Рее с самого начала замышлял
против него заговор и что неудача с Лу была следствием
интриг Рее. Элизабет уже развила против Лу Саломей
такую кампанию, которая дает нам новое представление о
существе женской злобы: письма летели во всех
направлениях, и, поскольку Лу тогда жила в гражданском браке с
Рее в Берлине, были предприняты все попытки, чтобы
выслать ее назад в Россию как лицо аморальное. К великому
позору Ницше, он, вне всяких сомнений, участвовал в этом
или вдохновлял сестру создавать сложности обоим, Лу и
Рее, рассылая их родственникам письма с подробностями
жизни, которую они вели. Именно эти месяцы 1883 г.
наиболее сложны для понимания умонастроений Ницше.
Лучшая тому иллюстрация — его письма. Наиболее важные из
них, к сожалению, не точно датированы, и можно только
предполагать их реальную последовательность. В одном из
них, адресованном Георгу Рее, брату Пауля, и
датированном летом 1883 г., он объявляет, что дальнейшее общение
с Паулем Рее «ниже моего достоинства» — вот почему
он вместо него пишет Георгу. Для него теперь ясно, что Лу
Саломей все это время была «только рупором» Пауля,
который за его спиной вел себя «как подлый клеветник,
лживый мерзавец».
«Это он говорит обо мне как о низкой личности и
заурядном эгоисте, который жаждет использовать все только
ради собственных нужд... он упрекает меня в том, что,
прикрываясь личиной идеалиста, я вынашиваю грязные
замыслы относительно фрл. Саломей... он смеет
презрительно отзываться о моем интеллекте, как если бы я был
безумцем, который не ведает, что творит».
237
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
Что касается самой Лу, она «сухая, грязная, вонючая
обезьяна с подкладной грудью». Не улавливаем ли мы в
этом беглом описании любезных интонаций Элизабет,
сходных с теми, что звучат в высказывании о Рее, которое
приписывают Ницше? Трудно представить, откуда еще можно
было почерпнуть подобные формулировки, если не из
этого источника. Мы много знаем о личности Рее, и столь
позорный характер высказываний ему чужд; однако он не
чужд Элизабет, и волей-неволей приходишь к заключению,
что все было состряпано именно ею ради того, чтобы
превратить брата в желанного союзника кампании против Лу
Саломей. Конечно, Ницше поступил очень глупо, поверив
ей, — он и сам впоследствии признавал это. Ее реакция на
его ухаживания за своей юной почитательницей была
чрезвычайно экстравагантна: можно подумать, что никогда
ранее в истории человечества мужчина не оставался наедине
с женщиной. Ее длительное преследование Лу уже после
того, как ей удалось настроить против нее Ницше, выдает
невротическую навязчивость идей. Еще задолго до
завершения 1883 г. Ницше опомнился и понял, что Рее всего
лишь исполнил то, что он и сам желал бы исполнить, и то,
что они оба влюбились в одну и ту же женщину, было
просто невезением. Но Элизабет питала вражду к Лу до самой
своей смерти в 1935 г. (Лу скончалась в 1937 г.)
В конце июня Ницше вернулся в Сильс-Марию и
почти сразу же написал вторую часть «Заратустры»1. Она
ничуть не уступает первой части и кажется творением
разума иного уровня культуры, нежели тот, что
мелькнул в письме к Мальвиде, датированном августом:
1 В «Ессе Homo» он утверждает, что первые две части «Заратустры»
были написаны в течение десяти дней каждая, но в «Rcce Homo» он
постоянно преувеличивает темпы, которые были свойственны ему в работе. Так,
он заявляет, что «Сумерки идолов» были «работой столь ничтожного срока,
что я не смею огласить его» (ЕН-СИ, 1), однако можно доказать, что он
трудился над книгой свыше двух месяцев, если не более. Конкретные сроки,
в которые были написаны первая и вторая части «Заратустры», таким
образом, точно не установлены.
238
ЛУ САЛОМЕЙ
«Согласно всему, что я теперь для себя выяснил, —
увы, слишком поздно, — эти особы, Рее и Лу, не
достойны лизать подошвы моих башмаков. Прошу
прощения за эту чересчур мужскую фигуру речи! Для меня
было продолжительным несчастьем, что мои пути
пересеклись с Рее, этим лжецом и подлым клеветником до
мозга костей».
Два письма к Овербеку свидетельствуют о
постепенном восстановлении равновесия. Одно из них, помеченное
просто «Сильс-Мария, лето 1883», является полной
противоположностью письма Мальвиде:
«Мои родственники и я — мы слишком сильно
отличаемся друг от друга. Предосторожности, которые я прошлой
зимой счел необходимыми, чтобы более не получать от них
писем, уже нельзя выдерживать. (Я недостаточно жесток
для этого.) Но каждое презрительное слово, направленное
против Рее и фрл. Саломей, заставляет кровоточить мое
сердце: словно меня настраивают на вражду».
В самом конце августа он навестил Овербека и по
возвращении от него написал, что теперь чувствует
«настоящую ненависть к сестре», которая так повлияла на
него, что
«...под конец я стал жертвой безжалостной
мстительности, тогда как мои внутренние помыслы противятся
всякой мести и наказанию... Мне долее даже нежелательно
писать письма сестре — только самого невинного толка.
Возможно, самым роковым моим шагом во всей этой
истории было довериться ей — теперь я вижу, что она
восприняла это как оправдание своей мести фрл. Саломей».
На этом, по сути, и закончилась эта история. Ницше
вернулся к прежнему образу жизни и уже никогда более
не встретился с Лу и Рее, хотя иногда и переживал сен-
239
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
тиментальные настроения по их адресу. В письме Овер-
беку из Ниццы от 7 апреля 1884 г., к примеру, он
говорит, что надеется собрать там вокруг себя друзей, в том
числе, «может быть, д-р Рее и фрл. Саломей, с кем мне
хотелось бы наладить то, что разладила моя сестра». Если
кому-то придет в голову определять долю вины каждого,
это проще простого: виноваты все. И может быть,
Ницше больше всех. Элизабет, скованная, религиозно
настроенная старая дева, с ее ограниченным моральным кодексом
и мстительной ненавистью к женщине менее ограниченной
и более свободной, чем она сама, умела только
преследовать такую женщину со всей злостью, на какую была
способна оскорбленная добродетель. Ницше, как никто, знал
это, но, вместо того чтобы отстранить ее, поощрял.
Вероятно, ему было стыдно за это, так как в конце он
возложил всю ответственность за происшедшее на сестру. «Мне
хотелось бы наладить то, что разладила моя сестра», —
говорит он, но никто не поверит, что он был только
орудием в руках Элизабет: отношения между ними носили
иной характер, поскольку он всегда был доминантной
личностью. И в конечном итоге, если его отношения с Лу
Саломей под конец увязли в потоках грязи и
оскорблениях, то виноват в этом именно он.
Нужно добавить, что исследователь, который ищет в
этой истории указаний на продолжение, будет разочарован.
Сам Ницше, когда бы ни упоминал о Лу в письмах — что
случалось не часто, — скрывает свою эмоциональную
заинтересованность и говорит о ней только как о друге.
Существует только одно прямое упоминание о ней в «Ессе
Homo», и оно имеет конкретную цель: предупредить
неправильное понимание стихотворения «Гимн жизни». Ницше
объясняет, что это стихотворение, положенное им на музыку
в 1882 г., принадлежало не ему, а перу «молодой русской
госпожи, фрейлейн фон Саломей, с которой я в то время был
дружен» (ЕН-3, 1).
Книга Лу Саломей «Фридрих Ницше в его
сочинениях», опубликованная в 1894 г., обходит молчанием собы-
240
ЛУ САЛОМЕЙ
тия 1882—1883 гг.; ее мемуары, вышедшие посмертно,
уже в 1957 г., также ничего не проясняют. Когда ее
однажды, много лет спустя, спросили, поцеловал ли ее
Ницше во время их путешествия к Монте-Сакро, она ответила,
что не помнит.
Идея вечного возвращения держалась в резерве, чтобы
в результате стать кульминацией «Заратустры»: она
вводится в третьей части, написанной в январе 1884 г. в
Ницце. С точки зрения поэтической мощи шестнадцать глав,
составившие эту часть, превзошли все, что было написано
Ницше прежде: местами он впадает в ложный пафос, но это
не более чем естественный риск писателя, который
пытается выдержать стиль на высокой отметке заданной им
выразительности. Четвертая часть, написанная осенью и зимой
1884/85 г., задумывалась как первая часть второй трехча-
стной группы. Она явно уступает в стиле и не содержит
новых идей, и Ницше хватило мудрости прервать работу:
блистательное заключение третьей части — это настоящая
вершина книги и печать, скрепляющая факт
окончательного формирования к этому времени завершенного
философского мировоззрения.
Глава 11
ЗАРАТУСТРА
Я обучил их всем моим искусствам и
стремлениям: собирать воедино и вместе
свести то, что есть фрагмент, и загадка,
и ужасная случайность в человеке.
Ф. Ниище.
Так говорил 3аратустра
Между сочинениями «Веселая наука» и «Так говорил
Заратустра» Ницше вышел на гипотезу о том, что все
действия мотивированы жаждой власти. Пользуясь
терминологией Шопенгауэра, он назвал свой принцип «воля к
власти» и теперь с его помощью пытался дать картину
возможной реальности без какой бы то ни было опоры на
метафизику.
Понятие воли к власти впервые введено в главе под
названием «О тысяче и одной цели». До сих пор
существовало много людей, соответственно, много «целей»,
иначе говоря, видов морали; причина, по которой каждый
народ имел ту или иную мораль, объясняется волей к
власти — не только к власти над другими, но и, что более
существенно, к власти над собой:
«Много стран и много народов видел Заратустра —
так открыл он добро и зло многих народов. Большей
власти не нашел Заратустра на земле, чем добро и зло. Ни
один народ не мог бы жить, не оценивая; но если хочет
он сохранить себя, он не должен оценивать так, как
оценивает сосед.
Многое, что казалось благом одному народу, другому
казалось стыдом и позором — так нашел я. Многое, что
242
ЗАРАТУСТРА
нашел я, называлось злом в одних краях, в других
облекалось в пурпурную мантию достоинств...
Скрижаль добра висит над каждым народом. Вглядись,
это скрижаль преодолений его; вглядись, это голос его
воли к власти. Достойно хвалы то, что называет он
трудным; все необходимое и трудное называет он добром; а то,
что избавляет от величайшей нужды, редкое и самое
трудное — славит он как священное. Все, что способствует его
господству, победам и блеску, на страх и зависть своим
соседям, — все это считает он возвышенным,
первостепенным, мерилом и смыслом всех вещей» (3, I, 15).
Мораль, если ее понимать как тождество обычаю,
теперь представляется самопреодолением народа: стадо
обращает свою жажду власти против себя, он покоряет
себя, научается подчиняться собственным велениям и в
этом подчинении становится «народом». С самого
начала своих философских писаний Ницше всегда
чувствовал оправданность применения к индивидууму тех же
критериев, что он применял к государству; он всегда
рассматривал отдельную личность как нечто вроде
государства в миниатюре, с теми же побуждениями к труду
и теми же потребностями. Поэтому во второй части
«Заратустры» он применил свою теорию воли к власти
к индивидууму:
«Все живое проследил я; я прошел великими и
малыми путями, чтобы познать его природу... Где бы ни
находил я живые существа, там же я слышал язык
послушания. Все живые существа суть существа подчиняющиеся.
И второе: тот, кто не умеет подчиняться себе, будет
подчиняться велениям других... И третье слышал я: что
повелевать сложнее, чем подчиняться... Попыткой и
дерзновением казалось мне всякое приказание: и живое существо
всегда рискует, повелевая. Да, даже когда он повелевает
собою: должен он также искупить свое веление. Ему
суждено стать судьею, и мстителем, и жертвой собственного
243
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
закона. Как же это случилось? — так спрашивал я себя.
Что заставляет живые существа повиноваться и повелевать
и, даже повелевая, повиноваться? ...Где бы ни встречал я
живые существа, там же находил я и волю к власти; и
даже в воле слуги находил я волю быть господином. Воля
слабого убеждает его служить тому, кто сильнее; и все же
его воля желает быть господином над теми, кто еще
слабее: лишь от этой единственной радости он не волен
отказаться. И как меньший отдает себя большему, так,
чтобы радоваться и властвовать над наислабейшим, так и
сильнейший покоряется и ради воли к власти ставит на
карту — жизнь... И там, где жертвоприношение и
служба и любящие взоры, там также и воля быть господином.
Там слабый тайными путями пробирается в замок и в
самое сердце сильнейшего — и крадет власть. Жизнь
поведала мне тайну. «Смотри, — сказала она, — я то, что
должно снова и снова преодолевать себя. Конечно, вы
называете это волей к творению или стремлением к цели,
более высокому, далекому, более сложному: но все это
одна единая тайна. Я лучше погибну, чем отрекусь от
этого: и, воистину, где гибель и опадание листьев, там —
вглядись! — жизнь жертвует собой — во имя власти!
...Также и ты, ты, познающий человек, всего только
тропа и след моей воли: воистину, моя воля к власти ступает
в ногу с твоей волей к истине!.. Лишь там, где есть жизнь,
есть воля: не воля к жизни, но... воля к власти! Живое
существо многое ценит выше, нежели саму жизнь; но в
самой этой оценке говорит — воля к власти!» Так
некогда научила меня жизнь: и с этой наукой я разрешил
загадку ваших сердец, ваших, мудрейшие... Своими
ценностями и вероучением о добре и зле вы осуществляете
власть, вы, оценщики ценностей... Но еще более могучая
власть и преодоление вырастает из ваших ценностей...
И тот, кому суждено быть созидателем добра и зла,
воистину, должен вначале быть разрушителем и взламывать
ценности. Так величайшее зло принадлежит величайшему
благу...» (3, II, 12).
244
ЗАРАТУСТРА
Чтобы понять, насколько органично эта теория является
продолжением более ранних опытов Ницше, нужно
вспомнить, что он писал о подчинении и господстве, о
самопожертвовании ради власти, о взаимозависимости добра и зла:
«Те способности, которые представляются ужасными
и считаются антигуманными, на самом деле, возможно,
и есть та плодотворная почва, на которой единственно
и может произрасти все гуманное в побуждении,
действии и деянии» («Состязание Гомера»).
«[Добродетельный человек] всегда восстает против
слепой воли фактов, против тирании происходящего и
подчиняет себя законам, которые не являются законами
исторического потока... либо борясь со своими страстями, как
ближайшими брутальными проявлениями своего
существования, либо посвящая себя целомудрию» (НИ, 8).
«От св. Луки 18: 14, исправленное. Унижающий себя
желает возвыситься» (ЧС, 87).
«Существует вызов самому себе, утонченным
проявлением которого являются многие формы аскетизма»
(ЧС, 137).
«Когда человек ощущает чувство власти, он ощущает
и называет себя благом...» (Р, 189).
«...Философия была чем-то вроде возвышенной
борьбы за тираническое господство духа» (Р, 547).
«...Тот аспект силы, который использует гения не для
труда, а для самого себя как объекта труда; то есть,
для обуздания самого себя...» (Р, 548).
«...Оценка и иерархия рангов человеческих побуждений
и действий... всегда является выражением потребностей
сообщества и стада» (ВН, 116).
245
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
«Самые сильные и самые злые души до сих пор
продвигали человечество более всех... злые побуждения столь
же полезны, необходимы и спасительны для видов, сколь
и добрые» (ВН, 4).
С позиций воли к власти Ницше теперь смог увидеть
в борьбе за выживание дарвиновского учения особый
случай борьбы за господство:
«Желание сохранить себя есть выражение состояния
бедствия, нехватки поистине главного побуждения к
жизни, которое стремится к распространению власти и с
учетом этого довольно часто подвергает сомнению
целесообразность самосохранения и жертвует им... в природе
господство является состоянием не бедствия, а избытка и
расточительности, иногда граничащее с абсурдом. Борьба
за существование — это лишь исключение, временное
ограничение основной воли к жизни; борьба, большая и
малая, направлена повсюду на превосходство, рост и
распространение, на власть, согласно воле к власти, которая и
есть самая воля к жизни» (ВН, 349 — в книге пятой ВН,
написанной после «Заратустры»).
«Физиологам следует вновь задуматься, прежде чем
выдвигать инстинкт самосохранения в качестве
кардинального стимула органического существа. Живая особь хочет
прежде всего испытать свою силу — сама жизнь есть
воля к власти: самосохранение — это только одно из
косвенных и наиболее частых следствий этого. Словом,
здесь, как и везде, следует остерегаться излишних
телеологических принципов! — таких, как инстинкт
самосохранения» (ДЗ, 13).
Теперь он может попытаться объяснить то, что
отказывался объяснять раскритикованный им некогда
Давид Штраус: происхождение «хороших» качеств из
«злых» в том мире, каким он оказался после Дарвина.
246
ЗАРАТУСТРА
«Хорошие» качества суть сублимированная, утонченная
страсть, а страсть теперь следует понимать как волю к
власти:
«Когда-то у тебя были страсти, и ты называл их злом.
Но теперь у тебя есть только добродетели: они выросли
из твоих страстей... Когда-то были свирепые псы у тебя
в подвалах: но, в конце концов, они превратились в птиц
и сладостных певцов. Из своих ядов ты приготовил себе
бальзам; ты подоил свою корову — бедствия, — теперь
ты пьешь сладкое молоко ее вымени» (3, I, 5).
Чтобы стала возможна добродетель, необходимо дать
волю «злым» страстям, ибо они являются единственным
источником добродетелей, единственной движущей силой.
Отсюда враждебность Ницше по отношению к тем, кто
искореняет страсти, поскольку такие представляют
опасность: он не отрицает, что воля к власти опасна, но ее
следует контролировать, «сублимировать», а не ослаблять
и не уничтожать:
«Недостаточно того, что молния более не причиняет
зла. Я не хочу устранять ее: ее следует обучить —
работать на меня» (3, IV, 13, 7).
Вот почему он осуждает слабость, как бы она ни
маскировалась — например, как «умеренность»:
«Не ваш грех, но ваша умеренность вопиет к небу, ваше
убожество в грехе вопиет к небу!» (3, 1, предисловие, 3).
Большое зло даже предпочтительнее слабости, ибо оно
дает почву надежде: где великое преступление, там и
великая энергия, великая воля к власти, следовательно,
возможность «самопреодоления». Ницше совершенно недоступен
пониманию до тех пор, пока не придет понимание того, что
преодоление себя он рассматривал как самую сложную из
247
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
всех задач, вместе с тем и как самую желаемую; что он
считал волю к власти единственным живым стимулом в
человеке; что сильная воля к власти всегда требовалась там, где
решались сложнейшие задачи; и что поэтому человек с
сильной, но неуправляемой волей к власти предпочтительнее
человека, чья воля к власти ослаблена, хотя первый
конечно же более «опасен». Поскольку «добро» есть
сублимированное «зло», зло носит позитивный характер, и
искоренение злых побуждений не пройдет бесследно и для добра —
оно тоже исчезнет. Уничтожить «добрую Эриду» означает
уничтожить человечество, которое выросло таким, каким
выросло, через соперничество. И потому «лучше... Чезаре
Борджиа, чем Парсифаль» (ЕН, III, 1): лучше злодей, чем
тот, чья добродетель состоит в беззлобности,
неспособности творить зло. Те, кто полагает, что Ницше восхищался
Чезаре Борджиа как таковым, не поняли его:
восхищавшими его людьми были те, чья воля к власти была сильна,
но сублимирована в созидательность, людиг которые
«стали теми, каковы они есть», сверхлюдьми (Übermenschen):
«Я обучаю вас о сверхчеловеке. Человек есть нечто,
что следует превзойти. Что сделали вы, чтобы
превзойти его? До сих пор все существа создавали что-то выше
себя: а вы хотите быть отливом этой великой волны и
скорее вернуться к состоянию животного, нежели
превзойти человека?.. Сверхчеловек — это смысл земли.
Пусть ваша воля скажет: сверхчеловек да будет
смыслом земли! Заклинаю вас, братья мои, оставайтесь
верны земле» (3, I, предисловие, 3).
Сверхчеловеком является тот, кто достигает в себе того,
что однажды достигли нации, когда поднимали себя над
уровнем стад:
«Можешь ли ты обеспечить себе свои добро и зло и
повесить над собою собственную волю как закон?
Можешь ли ты быть сам себе судьей и мстителем закона?..
248
ЗАРАТУСТРА
Самым злейшим врагом, какого ты можешь повстречать,
всегда будешь ты сам; ты залег в ожидании самого себя в
пещерах и лесах» (3, I, 17).
Все существа желают власти, но только человек
может желать власти над собой; только человек обладает
достаточным запасом энергии, чтобы стать господином
самому себе. Различие между человеком и животным,
уничтоженное Дарвином, восстановлено — без
обращений к сверхъестественному; моральные ценности,
лишенные божественных санкций, получают теперь новую
природную санкцию: количество власти. Человеческая
психология теперь излагается на языке власти; «добро»
следует понимать как сублимированное «зло», потому
как злые и добрые чувства, в сущности, являются
одним и тем же, то есть волей к власти. Новый взгляд в
сжатой форме подытожен в «Антихристе»:
«Что есть добро? Все, что способствует чувству
власти, воле к власти, самой власти в человеке. Что есть зло?
Все, что исходит от слабости. Что такое счастье? Чувство,
что власть возрастает — что сопротивление преодолено...»
(А. 2).
Все люди хотят счастья, потому что все хотят чувства
усиления власти; наивысшее усиление власти влечет
наивысшее счастье; наибольшая власть требуется для
преодоления себя; самый счастливый человек тот, кто преодолел
себя — сверхчеловек.
Весь смысл философии, которая произвела на свет
сверхчеловека, делает очевидным, что новый «образ
человека», должный противостоять нарастающему нигилизму
современной Европы, — это образ человека, который
более не является животным. Предполагается, что «цель»
человечества состоит в «создании сверхчеловека», то есть
в трансформации самое себя в не-животное. Тогда
человек будет обладателем позитивной ценности, сам термин
249
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
«человек» приобретет особую коннотацию,
принципиально отличающую его от животного мира в целом, и тогда
станет возможным снова говорить о «добре и зле» как о
«вечных» свойствах — как оценочных суждениях,
значимых для всего мира, поскольку их будет устанавливать уже
подлинно высшее существо:
«Когда я пришел к людям, я нашел их сидящими на
старом предубеждении: все они верили, что давно уже знают,
что для человека добро и что для него зло... Я встряхнул
эту сонливость, когда стал учить, что никто до сих пор не
знает, что есть добро и что есть зло — если только сам
творец.
Но творец тот, что создает цель для человечества и
дает земле ее смысл и ее будущее: тот, кто создает
качества добра и зла в вещах» (3, III, 12, 2).
Именно в этом смысле сверхчеловека можно назвать
«наследником Бога»:
«Некогда говорили вы «Бог», глядя в далекие моря; но
теперь я научил вас говорить «сверхчеловек». Бог —
предположение: а я хочу, чтобы ваши предположения
простирались не далее, чем ваша созидательная воля. Могли бы вы
создать бога? Но вы, несомненно, могли бы создать
сверхчеловека... Бог — предположение: но я хочу, чтобы ваши
предположения лежали бы в пределах мыслимого. Можете
ли вымыслить бога? Но пусть воля к истине означает для
вас, что все непременно должно превратиться в
человечески-мыслимое, человечески-видимое,
человечески-ощутимое... И вы сами должны создать то, что до сих пор вы
называли Миром... Ни в непостижимом, ни в
иррациональном не можете вы быть дома» (3, II, 2).
Во вселенной, где вырос Ницше, Бог был верховным
существом, и человеку, которого возвысило над
животными божественное дыхание и который милостью Божьей
250
ЗАРАТУСТРА
удерживался в этом приподнятом состоянии, было
обещано, что жизнь его вечна и смерть — это всего лишь
переход из одного состояния существования в другое. На
третьем десятке Ницше пришлось принять ту вселенную,
которая была прямой противоположностью первой: там
верховное существо вовсе отсутствовало, люди были
всего лишь продолжением животных, а в конце была смерть.
Не в состоянии отрицать научные основы этой картины
мира, он в свои тридцать лет пришел к выводу, что
«смерть Бога» означала необходимость формирования
нового миропонимания, где метафизическому миру не было
места. На четвертом десятке он выдвинул три гипотезы,
которые, независимо от его намерений, предлагали
природную замену Богу, божественной милости и вечной жизни:
вместо Бога — сверхчеловек; вместо божественной
милости — воля к власти, а вместо вечной жизни — вечное
возвращение.
Воля к власти и сверхчеловек появились в связи с
потребностью объяснить некоторые следствия
неметафизической действительности; но вечное возвращение не является
следствием неметафизической реальности, как таковой: оно
возникло из того обстоятельства, что, как это понимал
Ницше, метафизический мир является не чем иным, как
противоположностью миру кажимости, метафизический план —
не что иное, как антитеза плану земному, а сама идея
метафизической реальности — часть феноменального мира; вот
почему он считал его венцом своей философии. Поначалу
Заратустра страшится вечного возвращения и делает все от
него зависящее, чтобы оттянуть день, когда ему предстоит
постичь его возможную истину. Наконец, в третьей части
книги он повествует о ночном кошмаре, где воображаемая
вечность предстает ему в качестве врат с двумя ведущими
в противоположных направлениях тропами:
«Взгляни на эти ворота... у них два лица. Две дороги
сходятся здесь: еще никто не достигал их конца. Этот
долгий путь позади: он длится целую вечность. А этот
251
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
долгий путь впереди — другая вечность. Эти пути
противоречат один другому, они сталкиваются — и именно
здесь, у этих врат, они сходятся. Название врат написано
над ними: «Мгновение». Но если кто-то пошел бы по ним
дальше — все дальше и дальше: думаешь ли ты... что эти
два пути оставались бы в вечном противоречии?..
Взгляни на это Мгновение!.. От этих врат Мгновение ведет
долгий, вечный путь назад: позади нас лежит вечность. Не
должно ли было все, что умеет двигаться, уже однажды
пройти этот путь? Не должно ли было все, что может
случиться, уже сбыться, миновать? И если все это уже
было, что ты думаешь об этом Мгновении?.. Не должны
ли и эти врата уже однажды быть здесь — ранее?
И не связаны ли все вещи так прочно, что это
Мгновение влечет за собою все грядущее? А потому — и
самое себя тоже?
Ибо все, что способно ходить, должно было еще раз
пройти по этому долгому пути вперед? И этот
медлительный паук, ползущий в лунном свете, и сам это лунный свет,
и я, и ты, что шепчемся у врат, шепчемся о вечном, —
разве все мы уже не существовали когда-то? — и не должны
ли мы вернуться и пройти этот другой путь, что впереди нас,
этот ужасающе долгий путь, — не должны ли мы
возвращаться вечно?» (3, III, 2, 2).
И только ближе к концу третьей части Заратустра
обретает смелость посмотреть на эту идею в холодном свете
дня, и даже тогда его символические животные, его орел
и змея, должны объяснить ему во всех подробностях, что
именно означает это возвращение:
«Пой и радуйся, о Заратустра, врачуй свою душу
новыми песнями: чтобы ты мог нести свою великую судьбу,
которая не была еще судьбою ни одного человека! Ибо
твои звери хорошо знают, о Заратустра, кто ты и кем
должен ты стать: смотри, ты учитель венного
возвращения, в этом теперь твое назначение!.. Смотри, мы знаем,
252
ЗАРАТУСТРА
чему ты учишь: что все вещи возвращаются вечно и мы
сами вместе с ними и что мы уже существовали
бесконечное число раз и все вещи вместе с нами. Ты учишь, что
существует великий год становления, чудовищно великий
год: он должен, подобно песочным часам,
переворачиваться снова и снова, чтобы стекать вниз и опять становиться
пустым. Так что все эти годы похожи сами на себя в
большом и малом. И если бы тебе предстояло умереть теперь,
о Заратустра: смотри, мы знаем также, что стал бы ты
тогда говорить самому себе... «Теперь я умираю и
исчезаю... и через мгновение стану ничем... Но связь
причинности, в которую я вплетен, вернется — она вновь
сотворит меня!.. Я снова вернусь, с этим солнцем, с этой
землей, с этим орлом, с этой змеею — не к новой жизни,
или лучшей жизни, или к жизни подобной прежней: я буду
вечно возвращаться к той же самой жизни, в большом и
малом, чтобы снова учить о вечном возвращении всех
вещей...» (3, III, 13, 2).
Основанием идеи вечного возвращения служит то, что
метафизический мир — это только «представление»,
принадлежащее миру феноменальному; иначе говоря, он не
существует: кажимость и есть реальность. Когда мы
вычитаем все, что можно назвать кажимостью, у нас ничего
более не остается; следовательно, «прорыва» на другой
«уровень» реальности не может быть — такие
выражения бессмысленны, ибо, как бы мы ни «углублялись» в
феноменальный мир, выбраться из него не удастся.
От этой мысли до мысли, что все является
повторением, один шаг. Говорить о «безвременном мире» означает
пользоваться характерно отрицательным языком
метафизики: «метафизический мир» — это всего лишь
отрицание реального мира; реальный мир существует во
времени, поэтому одним из свойств метафизического мира
должно стать безвременье (точно так же, как и «невоп-
лощенность», бестелесность, беспространственность). Если
нам никогда не вырваться из действительности, которую
253
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
мы ощущаем, тогда мы привязаны к реальности, одним из
свойств которой является время; то есть время вовсе не
иллюзия, скрывающая «безвременную действительность».
Другим атрибутом реальности, с которой мы связаны,
является «становление»: реальность всегда «настает» и
никогда не «существует». Поскольку действительность
«настает» во времени, то, если бы было возможно конечное
состояние, оно давно бы уже наступило; но на практике
все не так. Более того, если не существует конечного
состояния, то не могло быть и начального, поскольку и оно
являлось бы статическим состоянием, «бытием». На
практике наше существование временно и нестабильно: время
реально, изменения реальны, и нам ничего не известно о
существовании, лишенном времени и перемен. Тогда, если
мы не можем установить ни начала, ни конца времени, то
и за нами и перед нами должна простираться
бесконечность во времени; реальность должна быть бесконечной
длительностью, из которой никогда не возможен прорыв
в состояние, где нет длительности. Но мы не можем с той
же определенностью утверждать, что число возможных
форм, в которых проявляется наша постоянно
меняющаяся реальность, бесконечно. Этого не допускает здравый
смысл: как бы ни был велик созданный кем-то
калейдоскоп, сколько бы кусочков цветной бумаги туда ни
положили, число возможных композиций не будет
бесконечным; когда-то настанет момент, что количество вероятных
положений, число возможных чередований этих
положений истощится и узоры начнут повторяться.
Сравнение реальности в «становлении» с калейдоскопом
может показаться неуместным, но оно действительно
отражает представление Ницше о той картине, которую влечет
за собой «становление». Он не допускает, чтобы Бог или
метафизика вламывались в его мысль через черный ход:
отвергнув Бога, он отказывается признавать какой-либо
непроверенный принцип, который мог бы внезапно
оказаться замаскированным Богом. Неудачи других
«вольнодумцев» принять меры предосторожности вызывали лишь его
254
ЗАРАТУСТРА
презрение: их поведение он приписывал трусости. Но мир,
понимаемый как «становление» в рядовом смысле, как
наступление чего-либо, как осмысленное становление — что
это, если опять не Бог и не метафизика? Можно ли
доказать, что природа движется в каком-то направлении? Что
перемены, которые мы наблюдаем повсюду и постоянно,
управляются законами или направлены к некоей цели? Есть
ли во Вселенной что-то, что можно считать направляющей
силой? Ответ Ницше был — «Нет»; нет ничего подобного
рода, на что можно было бы указать: напротив, если бы у
Вселенной была такая цель, она была бы уже достигнута.
«Вся природа мира — это... вечный хаос» (ВН, 109) —
ибо кто или что может привести ее в порядок? Каждый
упорядочивающий принцип, будь то Бог, «природа» или
«история», должен налагаться извне — и все же это «вне»
является феноменом. «Становление» для Ницше —
абсолютно беспорядочные изменения: это и есть конечное
следствие «смерти Бога», которое другие отказывались признать
в качестве вывода, неизбежный результат исчезновения из
мира «указующего перста Божьего»; и именно на это он
намекает, когда говорит, что человечество должно
установить свою собственную цель, ибо до тех пор, пока люди не
определят своих устремлений, они будут продолжать жить
так, как жили до сих пор — в хаосе.
Ницше рассматривает Вселенную как калейдоскоп
изменений, и, как ни велико возможное количество
различных состояний, в которые может впадать Вселенная, их
число должно быть конечным. Но время бесконечно, и
потому нынешнее состояние Вселенной должно быть
повторением одного из предыдущих ее состояний, как и того,
что было до него, и того, которое за ним последует: все
события должны повторяться бесконечное число раз.
Следствием такого положения дел для жизни любого
человека, который это понимает, говорит Ницше,
является то, что это знание сминает его, если только он не
сумеет достичь кульминации существования, ради которого
он согласится изменить всю свою жизнь. Тогда зло и боль
255
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
в его жизни станут положительными началами, поскольку
они необходимы для достижения этого главного момента:
если убрать хотя бы одно событие, все последующее
изменится. Жизнь, к которой следует стремиться, несет в
себе огромное количество радости — радости чувства, что
власть возрастает, что очередное препятствие преодолено.
Поэтому сверхчеловек как человек, чья воля к власти
превзошла все, победив самое трудное, является самым
радостным человеком и оправданием существования. Такой
человек будет утверждать жизнь, любить жизнь и
говорить «Да» даже нужде и страданию, потому как он
понимает, что радость, которую он познал, была бы
невозможна вне боли, которую он также познал; и, поскольку
его не ужасает мысль, что радость жизни будет
повторяться бесконечно, он не станет уклоняться от знания, что его
боль также должна повторяться:
«Вы когда-нибудь говорили «Да» радости? О, друзья
мои, тогда вы также говорили «Да» и всем горестям. Все
вещи связаны и переплетены... Если вы когда-либо
говорили: «Ты мне желанно, счастье, миг, мгновение!», то вы
хотели, чтобы вернулось все!» (3, IV, 19, 10).
Чувство возрастания власти, чувство радости сами по
себе уже оправдывают вечное возвращение, ибо радость
желает вечности:
О человек, внимай!
Чем речь полуночи полна!
«Я почивал,
Но пробудился ото сна:
Сей мир глубок,
Днем эта бездна не видна.
Бездонна скорбь,
Но радость глубже, чем она.
Скорбь гонит: прочь!
Но радость вечности верна
И в глубь нее устремлена!
(3, III, 15. 3; IV, 19, 12)
Глава 12
ОТШЕЛЬНИК
Чтобы жить одному, нужно быть
животным или богом, — говорит
Аристотель. Есть, однако, и третий случай:
нужно быть обоими — философом.
Ф. Ницше. Сумерки идолов
1
Завершив «Заратустру», Ницше почувствовал, словно
груз свалился с его плеч. Тематика и необычная
экспрессивная манера этой книги зрела в нем со времен Пфорта-
шуле и наконец обрела желанный выход. Состояние,
которое он теперь испытывал, не было чувством истощения,
напротив, это было чувство свободы и обновленной
энергии. Теперь у него уже был рабочая гипотеза — воля к
власти, — и он продолжил ее разработку в серии книг,
которые можно сопоставить с дозаратустровской трилогией:
«По ту сторону добра и зла» (1886), «О генеалогии
морали» (1887) и «Сумерки идолов» (написана в 1888-м,
опубликована в 1889 г.). Стилистически эти работы отличаются
от книги «Человеческое, слишком человеческое» так же, как
последняя отличается от «Рождения трагедии».
Произошло слияние чистоты и краткости «вольнодумного» периода
со страстностью «Заратустры», и плодом этого брака стал
стиль страстной краткости, к которому, по-видимому,
долго стремился автор:
«Создавать творения, которые времени не по зубам;
в форме и веществе соперничать с малым бессмертием —
я никогда не был достаточно скромен, чтобы требовать
9 Р.Дж. ХоллингдеЙА 257
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
от себя меньшего. Афоризм, апофтерма, в которых я
первый мастер среди немцев, суть формы «вечности»;
моя задача — в десяти строках сказать то, что любой
другой говорит в книге, а иной и в книге не говорит»
(СИ, IX, 51).
Афористичная форма постепенно отходит, но дух
афоризма — итог длительного процесса размышления в
единственной пронзительной строке — сохраняется. В этом
отношении «Сумерки идолов» — самое короткое из
значительных произведений Ницше — является
афористическим итогом всей его мысли.
В основу этих публикаций (и кратких книг 1888 г., о
которых речь пойдет ниже) легли неопубликованные
материалы, предназначенные для того, что должно было
стать главным событием постзаратустровских лет:
расширенное содержание его работы, называемой либо «Воля к
власти», либо «Переоценка всех ценностей». Появление на
свет после его смерти собрания заметок и афоризмов под
прежним названием вызвало замешательство в понимании
его намерений касательно этого труда; о том, что же
произошло на самом деле, речь пойдет в главе 14.
В 1883—1888 гг. Ницше проводил лето в Сильс-
Марии, зиму — в Ницце; в периоды межсезонья он в
основном бывал у Гаста в Наумбурге, куда вернулся в
начале сентября 1883 г. Он был настроен восстановить
прежние отношения с матерью и сестрой, но его
намерения не нашли отклика, и с его приездом ситуация еще
более обострилась. Враждебность Элизабет по
отношению к Лу Саломей ничуть не угасла, а точка зрения
матери на эту «историю» полностью совпадала с
позицией дочери, чьими глазами она на все смотрела. Как
уже упоминалось, Ницше был особенно сдержан там, где
дело касалось выражения эмоций, и эта сдержанность —
достаточно обычная, именуемая, как правило,
деликатностью, — удерживала его от разговоров с матерью о
258
ОТШЕЛЬНИК
Лу и о своих к ней чувствах. В Наумбурге за ним к
тому времени закрепилась репутация человека, который
уже более не общается с «респектабельными людьми»,
причем представление о респектабельности было таково,
что полностью исключало из списков общения Лу
Саломей и Пауля Рее, зато благоволило к известному
тогда лидеру антисемитов д-ру Бернхарду Ферстеру, с
которым, к изумлению Ницше, незадолго до того
состоялась помолвка Элизабет. Чувство того, что две его
ближайшие родственницы совершенно не понимали его,
усилилось после их настоятельных требований, чтобы он
вернулся к университетской жизни. Он еще был полон
«Заратустрой» и мечтами о еще более великих
свершениях, и предложение отказаться от этого ради
университетской должности — даже в том случае, если бы ему
позволяло здоровье, — было наименее приемлемым из
всех возможных. В начале октября он уехал из Наум-
бурга и вернулся в Геную. Его самочувствие, писал он
22-го числа Овербеку, было «плохо, как никогда», и в
конце ноября он направился в Ниццу: теперь он верил
в то, что ему необходим «сухой воздух», а в Ницце, он
слыхал, его предостаточно. Наконец-то он нашел
подходящий для себя город и прожил там до 20 апреля
следующего года.
С наступлением летней жары он стал подумывать о том,
чтобы перебраться в Сильс-Марию, но прежде навестил
в Венеции Петера Гаста, у которого погостил с 21 апреля
до 12 июня. Гаст играл ему только что законченную им
комическую оперу «Венецианский лев»; Ницше пришел в
восторг и решил, что всегда и всюду будет всячески
содействовать исполнению музыки Гаста, насколько это в
его силах. Двухнедельный визит к Овербеку в Базель с
15 июня по 2 июля был испорчен тем, что весь этот срок
Ницше проболел; поправившись, он направился в Сильс-
Марию, но прибыл туда только 16 июля, заехав по пути
в Пьор близ Арау и в Цюрих; там он оставался до
середины сентября.
259
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
Самым приметным событием тех месяцев был визит
Генриха фон Штайна (с 26 по 28 августа), визит, который
Ницше расценивал как признак того, что он пользуется
некоторым влиянием в лагере Вагнера. В октябре 1879 г.,
в возрасте 22 лет, Штайн приехал в Ванфрид, чтобы
исполнять обязанности наставника Зигфрида, сына Вагнера, и
был соиздателем (совместно с Гласенаппом) объемного
«Wagner-Lexicon» (1883), памятника тем дням, когда
Вагнера всерьез воспринимали как мыслителя. После смерти
Вагнера в феврале 1883 г. Штайн был одним из наиболее
активных деятелей Байрейта, хотя его последующая
должность преподавателя в университетах Халле и Берлина
занимала все более и более существенную долю времени. Его
книга «Helden und Welt» («Герои и мир») вышла в 1883 г.,
а последней работой Вагнера было «Открытое письмо
фон Штайну», задуманное как вступление к этой книге. К
1884 г. имя Ницше стало в Байрейте ругательным
эпитетом, и потому немного удивительно, что Штайн прочел «За-
ратустру» и затем написал его автору, испрашивая
разрешения приехать повидаться с ним. Ницше вспоминает об этом
визите в «Ессе Homo». Штайн, пишет он,
«однажды на три дня появился в Сильс-Марии...
объясняя всем, что приехал не ради Энгадина. Этого
замечательного человека, который со всей неистовой
бесхитростностью прусского юнкера окунулся в вагнеровскую топь...
в течение тех трех дней словно носило штормовым ветром
свободы, как кого-то, кто вдруг достиг собственных
высот и обрел крылья. Я неустанно повторял ему, что это
результат здешнего прекрасного горного воздуха, что
каждый ощущал то же самое, что невозможно находиться в
6000 футах над Байрейтом и не замечать этого, — но он
мне не верил» (ЕН, I, 4).
Впоследствии Штайн был единственным из байрейт-
ского гарнизона, кто поддерживал отношения с Ницше,
и между ними шла живая переписка; ранняя смерть Штай-
260
ОТШЕЛЬНИК
на лишила Ницше одного из немногих сочувствующих ему
в Германии людей.
Октябрь Ницше провел в Цюрихе, и здесь он
познакомился с Готфридом Келлером, которого считал самым
великим немецким поэтом со смерти Гейне и вообще
единственным из здравствующих немецких поэтов. Он
также связался с капельмейстером Цюриха Фридрихом
Хегаром и уговорил его исполнить увертюру к
«Венецианскому льву» Гаста, которую оркестр Цюриха
сыграл для единственного слушателя — Ницше. Сам Хегар
полагал, что в этой музыке чересчур много медных и
деревянных духовых; Гаст слишком мало доверял
струнным и пожелал, чтобы «все было выдуто». (См. письмо
Ницше к Гасту от 8 октября.) Заботы Ницше о
музыке Гаста продолжались и в последующие годы: в июне
1886 г. он через своих друзей в Лейпциге добился
исполнения его Септета в Гевандхаузе; копии партитур он
рассылал разным дирижерам и музыкантам, среди
которых были Бюлов и Иоахим. Ему даже приходила в
голову мысль привлечь к этому Брамса: он слышал, что
тот проявлял «живой интерес» к его книге «По ту
сторону добра и зла», и надеялся, что ему удастся вызвать
у него интерес к Гасту. (См. письмо к Гасту от 18 июля
1887 г.) Но из этого ничего не вышло.
К ноябрю он вернулся в Ниццу, и в течение
последующих восемнадцати месяцев его жизнь была полностью
лишена внешних событий. К 1885 г. он жил только ради
того, чтобы работать: его натура практически полностью
замкнулась на себе, и он сократил контакты с внешним
миром до минимума, необходимого для выживания.
Здоровье его не выказывало никаких признаков улучшения, а
его зрение, доставлявшее ему больше всего страданий, не
только вследствие болезни, но и в результате способа
«лечения» работой, упало, как никогда: за зиму 1884/85 г.
он практически ослеп.
8 апреля 1885 г. он перебрался из Ниццы в
Венецию, где пробыл вместе с Гастом до 6 июня; 7-го чис-
261
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
ла он приехал в Сильс-Марию и прожил в своей
комнатке при ферме до середины сентября, а затем
направился на север в Наумбург. Там он провел шесть
недель, временами наведываясь в Лейпциг, а в ноябре
через Мюнхен и Флоренцию вновь вернулся в Ниццу.
Там он находился в течение зимы 1885/86 г. и,
наконец, в середине мая поехал в Наумбург, снова
используя свой дом в качестве перевалочного пункта для
путешествия в Лейпциг.
В один из своих приездов он в последний раз видел
Роде. Прежние друзья теперь жили словно в разных
мирах, и впечатление, которое Ницше произвел на
Роде, врезалось ему в память, но записал он его только в
1889 г.:
«Его окружала непередаваемая атмосфера отчужден-
HocmUy что-то, что показалось мне зловещим. В нем было
что-то, чего я не знал ранее, а то, что когда-то отличало
его, ушло. Словно он прибыл из страны, где больше
никто не живет»1.
Следует помнить, что, когда Роде предавал перу свои
впечатления, он только что узнал о постигшем Ницше
психическом кризисе, и это, похоже, придало
определенную окраску языку письма. Но даже если принять это во
внимание, факт остается фактом: в то время у Ницше
действительно был странный и несколько зловещий вид. Он
стал, вполне конкретно выражаясь, «ненормальным»: в
нем отсутствовали признаки социального человека,
которые являются критерием «нормальности» и которые
развиваются в результате необходимости жить в хотя бы
минимальной степени гармонии с другими людьми. Жизнь
отшельника, которую он вел, и его сосредоточенность на
болезни и работе отдалили его от «нормального» мира,
которому принадлежал Роде.
1 Из письма к Овербеку от 24 января 1889 г.
262
ОТШЕЛЬНИК
Роде мы также обязаны пониманием того, насколько
неприемлемы были последние работы Ницше для
разумного научного деятеля 1880-х. В августе 1886 г.
Ницше прислал ему экземпляр только что опубликованной
книги «По ту сторону добра и зла», и в длинном
письме к Овербеку от 1 сентября Роде дает выход чувству
досады и раздражения, мучившему его уже не один год.
Он прочел книгу, говорит он, в «страшно мрачном
настроении». Что касается содержания, то это по большей
части «монологи пресыщенного человека после обеда»,
исполненные «оскорбительного презрения ко всем и
вся». Философию он оценил как «ничтожную и почти
детскую», политику как «абсурдную и невежественную
в знании мира». Есть несколько «умных наблюдений»
и «восхитительных дифирамбических мест», но все это
чересчур прихотливо. Точка зрения постоянно меняется,
но Роде «более уже не в силах воспринимать эти
бесконечные метаморфозы всерьез»; они не более чем
«видения пустынника» и «умственные мыльные пузыри». И
хуже всего прочего, что «По ту сторону добра и зла»
снова служит «вечной пропаганде жутких вещей,
пугающей дерзости мысли, которые потом, к досадному
разочарованию читателя, никогда не сбываются!». «Это, —
говорит Роде, — невыразимо обидно мне». Все в книге
«утекает, как песок сквозь пальцы», и над всем этим
возвышается «гигантское тщеславие автора». Что
нужно Ницше, говорит в заключение Роде, так это найти
реальную работу: «тогда он понял бы, чего стоит такая
возня со всякого рода вещами: вовсе ничего».
С начала июля до 25 сентября Ницше снова был в
Сильс-Марии; затем, проведя месяц в Генуе и местечке
Рута, он 22 октября вернулся в Ниццу и пробыл там до
2 апреля 1887 г. К середине следующего июня он уже
вновь был в Сильс-Марии, где оставался до середины
сентября; месяц с Гастом в Венеции отделял этот период
от зимнего сезона в Ницце — с середины октября до 2
апреля. И снова его существование было почти лишено со-
263
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
бытии: борьба с плохим самочувствием и постоянная,
одержимая работа заполняли все его дни.
Одного описания того, как он выглядел в 1887 г.,
будет достаточно, чтобы показать, что же, при взгляде со
стороны, от него осталось. Это описание принадлежит
Паулю Дойссену, навестившему Ницше в Сильс-Марии
осенью этого года во время своего отпускного
путешествия с женой. Дойссен не видел его четырнадцать лет.
«Какая перемена произошла в нем за это время, —
пишет он. — Не было более ни гордой осанки, ни
гибкого шага, ни плавной речи прежних лет. Казалось, он
с трудом таскает ноги, речь его была замедленна и
постоянно прерывалась. Может быть, это был один из его
плохих дней. «Мой дорогой друг, — сказал он
печально, указывая на проплывающие вверху облака, — мне
нужно, чтобы надо мной было голубое небо, чтобы я мог
собраться с мыслями». Потом он повел нас к своему
любимому месту. Я до сих пор с отчетливой ясностью
помню поросший травой участок у скалы, под которой
бежал горный ручей. «Вот, — сказал он, — где я
больше всего люблю лежать и где меня посещают
наилучшие идеи». Мы жили в скромной гостинице «Альпен-
роз», где Ницше обычно обедал; обед его, как правило,
состоял из котлеты или чего-то подобного. Мы
вернулись туда отдохнуть часок. Но не успел этот час
закончиться, как наш друг уже был у двери, любезно
осведомляясь, утомлены ли мы все еще, и извиняясь, если
он пришел чересчур рано, и т. д. Я упоминаю об этом,
поскольку такая избыточная учтивость и деликатность
никогда ранее не были свойственны характеру Ницше,
но, очевидно, имели существенное значение в его
нынешнем состоянии. На следующее утро он повел меня в свое
жилье, или, как он выразился, в свою пещеру. Это была
простая комната на ферме... Обстановка самая что ни
на есть простая. По одну сторону стояли его книги, в
большинстве хорошо известные мне еще с прежних дней,
264
ОТШЕЛЬНИК
возле них помещался грубый стол с кофейными
чашками, яичной скорлупой, рукописями и туалетными
принадлежностями, наваленными в беспорядке, далее — полка
для обуви с ботинком и все еще неубранная постель»1.
В течение тех лет, о которых идет речь, отношения
Ницше с женщинами внешне выглядят вполне благопристойно
и не подтверждают всякие домыслы о
женоненавистничестве, которое якобы явствует из его сочинений. Особенно
он искал общества интеллектуальных женщин того типа, чье
существование он, казалось, порой отрицал: среди них были
Мета фон Салис, Реза фон Ширнхофер, Хелене Друско-
виц и Хелене Циммерн, особенно он был дружен с Метой
фон Салис. Мы не знаем, носили ли его отношения с
женщинами какой-либо иной характер в Генуе, Ницце или
Сильс-Марии, а потому не можем с достаточной долей
основания и отрицать это: традиционное суждение о том, что
к сексуальным отношениям он был безразличен, своим
происхождением обязано Элизабет. Оно противоречит тому,
что нам известно о его молодости, и сохраняется только
благодаря отсутствию свидетельств его зрелых лет. Но, если
он некогда посещал проституток (как это, видимо,
случилось в Кельне) или других женщин, какие еще требуются
«свидетельства»? Зная о деликатности Ницше и об
отсутствии близких друзей, кому он мог бы довериться в столь
деликатных вопросах, неудивительно, если эти темы не
находят своего документального отражения. Для одинокого
человека такие отношения составляют наиболее закрытую
для биографов область, и догадки здесь абсолютно
неуместны. (И уж самым последним человеком из тех, кому он мог
бы довериться, была его сестра.) Но нам доподлинно
известно, что после Лу Саломей у него не было ни одного
серьезного увлечения и что он, похоже, оставил всякую мысль
о супружестве; но состояние его здоровья наименее
повинно в этом.
1 Цит. по: Dcussen Paul. Erinnerungen an Friedrich Nietzsche. S. 20.
265
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
В целом отношения Ницше с женщинами нельзя
втиснуть в какую-то определенную формулу. В своих
сочинениях он неизменно осторожен в оценках женского
интеллекта (не презрителен, как это часто приписывают
ему: он не сомневается в том, что женщины бывают
очень умны). Он низкого мнения о женских критериях
цельности, но в то же время вполне искренен в
выражении удовольствия, которое ему доставляет женская
красота и способность быть веселыми и ветреными.
«Мужчина должен быть подготовлен к войне, а
женщина — к рекреации воина: все прочее глупости», —
говорит Заратустра (3, I, 18), и, если правильно
понимать, что означают слова «война» и «рекреация», это и
будет довольно точным пониманием того смысла,
который Ницше вкладывал в отношения мужчины и
женщины. Женщины — «наслаждение каждой сильной
(мужской) души», добавляет он, и временами
персонифицирует Жизнь, Мудрость и Истину в женском обличье. В
те годы, когда он воплощал «жизнеутверждение
сверхчеловека» в образе Диониса, в спутницы Дионису он
давал Ариадну и писал: «Человек лабиринта никогда не
ищет истину, только свою Ариадну». Конечно, ему было
что сказать нелицеприятного о женщинах. («Вы идете
к женщине? Не забудьте кнут!» — советует Заратуст-
ре старуха (3, I, 18), — сентенция довольно известная,
по крайней мере женщинам). Но в целом складывается
впечатление, что он весьма далек от нелюбви и страха
к ним, что приписывает ему молва. Есть, однако, некое
подспудное ощущение, что женщины для Ницше были
чем-то чуждым, загадочным и к тому же
соблазнительным; и нельзя не проследить настойчивый мотив,
присущий всем его произведениям, что женщины
совлекают мужчин с пути величия, портят и разлагают их.
Однако гораздо важнее всего этого одно простое
обстоятельство, на что много лет назад указал Бернулли,
но что вечно упускается из виду: всем известна по
меньшей мере одна женщина, которую любил Ницше, но
266
ОТШЕЛЬНИК
никому не известна хотя бы одна женщина, любившая
его. Оставим в стороне вопрос о том, насколько он был
привлекателен, «приспособлен для любви», то есть мог
претендовать на то, чтобы быть любимым. Сам он
писал: «Потребность быть любимым есть величайшая из
презумпций» (ЧС, 523). Людей любят не за
недостатки и не за их отсутствие. Его, тем не менее, не любила
ни одна из женщин из тех, с кем он был знаком, а таких
было, особенно в 1880-х гг., гораздо больше, нежели
принято думать. Будь он любим, можно ли сомневаться
в том, что многие из его презрительных и
нелицеприятных высказываний о женщинах никогда не нашли бы
места в его сочинениях?
Существенную важность в оценке жизни и мысли
Ницше представляет помолвка и брак Элизабет с Бернхардом
Ферстером, поскольку это событие достаточно ясно
выявило его отношение к антисемитизму. В опубликованных
им работах он неоднократно1 выступает против
антисемитизма как одной из составных расизма, который чужд ему
в целом как таковой2; он отмечает положительные
качества евреев и иудаизма3, и его записные книжки тоже
содержат подобные суждения и настроения. Его мало
занимали вопросы расизма и национализма, он даже
критиковал их, и его философия рассматривает как
заблуждение и то и другое. Но обстоятельства личного свойства
заставили его определиться, и фактически все его
высказывания на сей предмет следует понимать как отповедь
бытовавшим тогда мнениям, процветавшим в том числе и
среди некоторых его ближайших знакомых: эти взгляды
разделяли Элизабет, Вагнер и Козима, Бернхард Ферстер.
Реакция Ницше на новость, что Элизабет выходит замуж,
не была столь однозначна, как принято считать:
параллельно хорошо известным письмам с нападками на Фер-
1 Например, ЧС, 475, ДЗ, 251, А, 55.
2 Например, ВН, 377, СИ, I, 11, СИ, VIII. 3 и 4.
3 Например, ЧС, 475, ЗМ, 171 и НПВ, IV, Р, 38, ДЗ, 52, ДЗ, 250,
ГМ, II, 22.
267
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
стера и критикой Элизабет за подобный выбор супруга
есть и другие, где он желает им счастья. Что
действительно однозначно, так это сила неприятия взглядов Ферсте-
ра и его характера.
Элизабет познакомилась с Ферстером в 1882 г., когда
ей было уже 36 лет, в тот год они вместе ездили на Бай-
рейтские торжества (где познакомились также с Лу
Саломей). Начиная с 1870 г. Ферстер преподавал в высшей
школе в Берлине; в 1870-х гг. он стал центральной
фигурой антисемитского движения Германии и одним из
«Германской Семерки», группы политиков-антисемитов и
«мыслителей», видевших своей целью «обновление»
жизни Германии через устранение евреев. В 1881 г. он стал
инициатором и организатором антиеврейской петиции,
подписанной якобы 267 000 человек, в которой содержался
призыв ограничить иммиграцию евреев, сместить их с
ключевых государственных постов, отстранить от
преподавания в школах и подвергнуть всех евреев регистрации.
Бисмарк, которому была направлена петиция, пренебрег этим
«криком отчаяния сознания немецкого народа» (как это
звучало у Ферстера), но Ферстер утверждал, что с этого
акта «началось «национальное антисемитское движение» в
рейхе. 8 ноября 1880 г. он впутался в трамвайную
склоку: причиной послужили громкие антисемитские реплики,
которыми он обменивался с приятелем. В результате
этого инцидента, а также в связи со своей политической
деятельностью в целом, он был вынужден в конце 1882 г.
уйти с должности преподавателя. Расстроенный неудачей
с петицией, а теперь еще и безработный, он обратился к
колонизации как подходящему полю приложения своих
талантов и два года провел в изучении немецкой колонии
Сан-Бернардино в Парагвае. Весной 1885 г. он вернулся
в Германию, опубликовал свой план «Немецких колоний
в районе Верхней Лаплаты», женился на Элизабет
Ницше и в начале 1886 г. уехал с ней обратно в Парагвай.
Их колония носила название Новая Германия и была
обречена на провал с самого начала, не столько по при-
268
ОТШЕЛЬНИК
чине некомпетентности Ферстера, сколько по причине
его нечестности. Эти земли принадлежали
парагвайскому правительству и были сданы в аренду Ферстеру с
тем условием, что если в течение двух лет начиная с
17 ноября 1886 г. (даты подписания контракта) ему
удастся поселить здесь 140 семей, то земля перейдет в его
собственность; при несоблюдении этого обязательства
правительство может отобрать у него земли и сдать их
в аренду кому-нибудь еще. Почему Ферстер подписал
такой сомнительный договор, остается только гадать: как
основатель колонии, в случае если ему не удавалось
привлечь на жительство в колонии 140 семей, он не только
терял плоды своего двухлетнего труда, но обязан был
компенсировать издержки тех, кто уже успел здесь
поселиться, а также возместить стоимость участков,
приобретенных семьями поселенцев у него как у будущего
землевладельца. К июлю 1888 г. здесь появились
только 40 семей, причем некоторые из них упаковали вещи
и вернулись домой, и на Ферстере повис огромный долг.
Обеспечить прибытие более 100 семей в период с июля
по ноябрь было невозможно, но само предприятие,
может быть, и удалось бы тихо свернуть, если бы
оскорбленный колонист Юлиус Клингбайль не
опубликовал в начале 1889 г. книгу «разоблачений»
объемом в 214 страниц, повествующую о состоянии дел в
Новой Германии. Он обвинил Ферстера в полной
неспособности организовать колониальное предприятие, а
также в бытующих там обмане, тирании и
неправомерных поборах с колонистов. Он утверждал, что семьи
колонистов лишились средств, поскольку были
вынуждены приобретать все необходимое у Ферстера путем
частной системы обмена и жить в строениях типа ба-ра-
ков, тогда как Ферстер и Элизабет царствовали над
ними в великолепном доме, битком набитом
доставленной из Европы мебелью. Клингбайль был склонен
освободить Ферстера от полной ответственности,
поскольку тот явно находился под влиянием своей жены.
269
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
В «Bayreuther Blätter»1 полным ходом шел процесс по
развенчанию книги Клингбайля как клеветнической,
когда пришла новость о том, что Ферстер умер. Элизабет
написала в Байрейт, что он скончался от «нервного
приступа». «Мнимые друзья и происки врагов разбили его
сердце», — сетовала она и при этом умышленно
недоговаривала: Ферстер покончил с собой выстрелом в
голову, чтобы избежать банкротства и грозившего ему
судебного преследования.
Даже столь краткого очерка жизни Бернхарда Ферсте-
ра достаточно, чтобы доказать, что возражения Ницше
против него имели более веские основания, чем просто
эгоистическое отторжение человека, отнявшего у него
сестру. Такая убежденность возникла, мне кажется, не
только в связи с неприятием всего мировоззрения Ферстера,
но еще более от понимания, что Элизабет разделяла это
мировоззрение. «Этот проклятый антисемитизм... явился
причиной окончательного разрыва между мною и моей
сестрой», — писал он Овербеку 2 апреля 1884 г.
Помолвка Элизабет с Ферстером состоялась еще до его
первой поездки в Парагвай в феврале 1883 г., и
подавляющая часть адресованных ему писем Ницше написана
между датами помолвки и свадьбы, которая состоялась в
1885 г. (Эти письма были опубликованы матерью и
сестрой Ницше во втором томе собрания его писем.) В них явно
прочитывается желание воспрепятствовать этому браку, но
не намерение создавать трудности и портить отношения уже
после того, как брак был заключен. Под огонь его критики
попадает каждый аспект философии и мировоззрения,
которые повлекли за собой катастрофический взлет национал-
социализма, и наиболее сокрушительным ударам
подвергается антисемитизм и его следствие — поклонение чистоте
германской расы. Что касается последней, то взгляды
Ницше не оставляют сомнений:
1 Признаком силы антисемитских настроений в Германии в конце
девятнадцатого века было то, что с момента, когда Ницше приобрел славу
наиболее ярого противника Вагнера, страницы «Bayreuther Blätter» всегда были
открыты для его сестры. Ее ценили как Parteigenossin в войне с евреями.
270
ОТШЕЛЬНИК
«Я ничтожно мало преуспел в энтузиазме по поводу
«национального немецкого характера», но еще менее в
желании сохранить «славную» расу в чистоте.
Напротив, напротив...» (письмо от 21 марта 1885 г.).
Когда 22 мая 1885 г. Элизабет все же вышла замуж,
Ницше пожелал ей счастья; но от остальных он не
скрывал своего отвращения к Ферстеру и подчеркнуто заявлял,
что никогда не встречался с ним и не желает встречаться.
Матери он написал, что был рад тому, что Ферстер счел
возможным самоизгнание в Парагвай и что хорошо бы все
люди этого сорта проделали бы то же самое. Когда из
Новой Германии поступили призывы вкладывать туда
деньги, он отказался участвовать в этом.
Вхождение Ферстера в его семью было не единственным
опытом общения Ницше с активными антисемитами,
которые, как он опасался, могли скомпрометировать его. Его
репутации уже угрожало сотрудничество с издателем
Эрнстом Шмайцнером, благодаря которому появились книга
«Человеческое, слишком человеческое» и последующие за
ней работы. В 1879 г. Шмайцнер учредил газету
«Antisemitische Blätter» («Антисемитский бюллетень») и
убежденно выступал против еврейского влияния в Германии.
У Ницше с ним были существенные разногласия, и он
пытался отмежеваться от него, так как энтузиазм в вопросах
антисемитизма отвлекал его от дела, следствием чего
явилась задержка издания «Заратустры»1. В 1884—1885 гг.
Ницше пришлось искать правовой защиты против Шмайц-
нера, чтобы получить гонорар за книгу, и он вздохнул с
облегчением, когда его прежний издатель, Фрицш, изъявил
желание выкупить у Шмайцнера право на издание всех его
работ и опубликовать их под собственным знаком. Эта идея
воплотилась в течение лета 1886 г., и Ницше написал пре-
1 Пикантным обстоятельством было то, что типография Тойбнера, где
печатались книги, не справлялась с работой, поскольку получила заказ на
500 000 экземпляров сборника церковных гимнов. Ницше откомментировал
это так, что христиане, вероятно, пытались расправиться с «Заратустрой» при
помощи антисемитизма и пения гимнов.
271
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
дисловия к новому изданию каждого произведения, начиная
с «Рождения трагедии» и кончая «Веселой наукой» (за
исключением «Несвоевременных размышлений», которые не
переиздавались). Это новое издание состоялось в 1886—
1887 гг.; Фрицш также осуществил выпуск первого
однотомного издания «Заратустры», его первой, второй и
третьей частей. И как раз в то время, когда Ницше
находился в процессе избавления от Шмайцнера, до него
дошла весть о том, что еще более ярый антисемит должен стать
не то что его издателем, а зятем.
Не оправдав надежд Фрицша, книги Ницше не нашли
широкого отклика у публики в те годы. Первые три части
«Заратустры» и в самом деле продавались столь скверно,
что Шмайцнер отказался печатать четвертую, и перед
нами предстает Ницше, окольными путями вымаливающий
у Герсдорффа денег в долг, чтобы издать ее за свой счет
(письмо от 12 февраля 1885 г.). Герсдорфф уступил, и
часть четвертая вышла в частном издании. Впервые на суд
публики она предстала в 1882 г.
Самодовольство и самовосхваление, ставшие, по нашим
наблюдениям, частью характера Ницше уже во время
«Веселой науки», тревожно прогрессировали в период
«Заратустры», что совершенно очевидно из самой книги. О
первых трех частях он писал Роде 2 февраля 1884 г.:
«Это нечто вроде бездны будущего, что-то жуткое, я
имею в виду — в своем блаженстве. Все здесь
принадлежит только мне, без образца, сравнения,
предшественника... Я льщу себе, что в «Заратустре» я довел немецкий
язык до степени совершенства. После Лютера и Гете
оставалось сделать всего лишь третий шаг».
В начале мая того же года он сказал Овербеку:
«...когда я приближусь к своим сорока годам, я,
должно быть, останусь совершенно один — я никогда не
питал иллюзий на сей счет... Теперь я, скорее всего, самый
независимый, человек в Европе».
272
ОТШЕЛЬНИК
Словно сочтя это недостаточным, немного позже в том
же месяце он объявил Мальвиде:
«Задача моя грандиозна; но мое предназначение — не
менее... Я хочу вынудить людей к решениям, которые
станут решающими для всего человеческого будущего».
В письме к фон Штайну от 22 мая он объясняет,
почему не может приехать в Байрейт посмотреть что-нибудь
из опер Вагнера в Фестивальном театре:
«Закон, который стоит надо мной, моя миссия, не
оставляет мне на это времени. Мой сын Заратустра,
возможно, обнаружил вам, что происходит внутри меня; и
если я достигну всего, чего жажду достигнуть, я умру
в сознании, что последующие тысячелетия будут давать
свои высочайшие клятвы моим именем».
Надменность заявлений, подобных этим, следует
воспринимать как подсознательную компенсаторную
функцию больного, полуслепого человека; такие высказывания
не следует путать с самой его философией: обращаясь
непосредственно к ней, мы увидим, что работы «По ту
сторону добра и зла» и «Генеалогия морали» —
последние труды тех лет — самодостаточны вне подобных
заявлений о них автора.
2
«По ту сторону добра и зла» посвящена разработке и
разъяснению теорий, выдвинутых в «Заратустре», таковой
же представляется и роль «Генеалогии морали», поэтому
обе книги могут рассматриваться вместе.
Первая проблема, с которой сталкивается Ницше, — это
трудность, заложенная в утверждении, что воля к власти
«истинна», если сами поиски истины продиктованы волей к
273
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
власти. «Все критяне лжецы», — сказал критянин Эпиме-
нид. «Воля к истине есть воля к власти», — сказал
Ницше, философ воли к власти. Оба утверждения ложны, если
они истинны, и истинны, если они ложны. Ницше видит, что
данный парадокс заложен в его теории, и готов парировать,
для начала признав, что если жизнь — воля к власти, то
ценность истины проблематична:
«Что есть в нас, что действительно желает «истины»?..
Допустим, что мы хотим истины: почему это лучше нсис-
тины? Неопределенности? Невежества, наконец? Перед
нами встает проблема ценности истины» (ДЗ, 1).
«При всей ценности, которая, быть может, и присуща
истинному, подлинному, бескорыстному, все же более
высокую и более значительную для жизни ценность
следует, вероятно, приписать кажимости, воли к обману,
корысти и влечению. Возможно даже, что и сама ценность
этих благих и чтимых вещей коренится именно в их
искусной соотнесенности, связанности и сплетенности с теми
злыми, на вид противоположными вещами, а может быть,
даже и в тождестве с ними» (ДЗ, 2).
Такой взгляд дает ему возможность оценить силу с
позиций истины:
«Нечто может быть истинным, несмотря на то что
является в высшей степени вредным и опасным; на самом деле
основное устройство существования может оказаться
таковым, что полное знание о нем окажется разрушительным —
так что силу сознания следует измерять тем, сколько
«истины» она способна выдержать» (ДЗ, 39).
Что, однако, несомненно, так это что философия
должна быть в некотором роде средством достижения власти, а
не просто средством поиска истины: философ должен
желать не просто пассивного знания, но и активного
созидания знания:
274
ОТШЕЛЬНИК
«...философия... всегда созидает мир согласно
собственным представлениям: она не может поступать иначе; и сама
философия есть такой же тиранический импульс, наиболее
одухотворенная воля к власти, к «творению мира», к causa
prima*» (ДЗ, 10).
«Задача истинных философов заключается в том,
чтобы «созидать ценности»... «Их знание — это
творчество, их творчество — это законотворчество, их воля к
истине — это воля к власти» (ДЗ, 211).
Во-вторых, он апеллирует к потребности в логике,
чтобы признать один вид причинности и предельно
эксплуатировать его, с тем чтобы на нем лежала ответственность
за всякое возможное последствие. Согласно его
собственной теории о том, что мир объясним сам в себе, что он
«работает» без какого бы то ни было воздействия «извне»,
должно быть возможным установить его «разумный
характер» — иначе говоря, понять его в той форме, в которой
он явлен нашим ощущениям, — на основе некоего
базового принципа. Этот принцип, полагает он, — воля к
власти; а «воля к истине», то есть к знанию того, что реально
существует, подлинная «воля к истине», — это аспект
воли к власти, поскольку познать означает овладеть, меж
тем как обмануться означает лишиться власти над тем,
относительно чего мы обманулись. Основания своего
довода в пользу того, что следует избрать один вид
причинности, он изложил в одном из развернутых афоризмов,
ДЗ. 36:
«Допуская, что нет иных реальных «данных», кроме
нашего мира желаний и страстей, что мы не можем
подняться и погрузиться в какую-либо иную реальность,
кроме реальности наших побуждений — ибо мышление
есть только взаимоотношение этих побуждений, — раз-
1 Первопричина (лат.). (Примеч. пер.)
275
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
ве не дозволительно проделать эксперимент и задать
вопрос: не достаточно ли того, что дано, для понимания
даже так называемого механического (или
«материального») мира? Я имею в виду: понять не как обман,
«кажимость», «представление» (в берклианском или
шопенгауэровском понимании), но как нечто,
обладающее тою же степенью реальности, как сами наши
эмоции, как более примитивная форма мира эмоций, где все
замкнуто в могучем единстве... как начальную форму
жизни? В конце концов, такой эксперимент не только
позволительно проделать: он продиктован осмыслением
метода. Не для того, чтобы допускать несколько родов
причинности, пока попытка ограничиться одним не
будет доведена до крайних пределов... Вот мораль
метода, от которого не должно нынче уклоняться... Нужно
иметь храбрость, чтобы отважиться на гипотезу, что
везде, где мы признаем «воздействия», воля правит
волей... Допустим, наконец, что удалось бы объяснить всю
нашу инстинктивную жизнь как развитие и
разветвление одной основной формы воли — воли к власти,
согласно моей теории; допустим, что удалось возвести все
органические функции к этой воле к власти... Мы
получили бы право определить всю активную силу
единственно как волю к власти. Мир, наблюдаемый
изнутри, мир, описанный и обозначенный в соответствии с его
«осознанным характером», — этот мир был бы просто
«волей к власти» и ничем более».
Если допустить, что воля к власти есть основное
побуждение всей жизни, то возникает вопрос: какова
природа воли, как таковой? Налицо видимость
существования двух действующих сил: воли и той воли, что
стремится к власти; понятие «воли» все еще существует
в качестве субстрата, воли в шопенгауэровском смысле,
метафизической основы жизни. Ницше следует
разобраться с этим понятием, если его философия не имеет в
виду свестись к варианту Шопенгауэра — к воле, вы-
276
ОТШЕЛЬНИК
ражающей себя не в борьбе за жизнь, а в более
динамичной борьбе за господство; и он делает это
достаточно неожиданным на первый взгляд образом. Не
существует, говорит он, воли. Как душа при ближайшем
рассмотрении оказывается словом, обозначающим
сложную систему отношенийу и потому не может
существовать, так и воля не имеет дискретного существования:
нет исходящей изнутри тела силы, которую можно
назвать «волей». «Воление» есть продукт сложных
ощущений; и чувство воления приходит, когда чувство
господства превосходит все прочие чувства. То, что мы
понимаем как «волю», есть акт господства: нет
субстрата «воли-в-себе», проявляющейся в форме господства.
В «Генеалогии морали» Ницше дает разъяснение, что
именно он имеет в виду, отрицая существование воли как
самостоятельной целостности:
«Требовать от силы, чтобы она не выражала себя как
сила... столь же абсурдно, как требовать от слабости,
чтобы она выражала себя, как сила... Расхожая мораль
отмежевывает силу от выражения силы, как если бы вне
сильного человека существовал нейтральный субстрат... Но
такого субстрата нет; нет «бытия» вне действия, работы,
становления: «деятель» просто придан деянию, деяние —
это все» (ГМ, I, 13).
Нет «бытия» вне «действия», нет «воли» вне
«воления»: оба выражения суть абстракции, лингвистические
препоны к пониманию сложной природы этих явлений:
«Мне представляется, что воление, помимо прочего,
есть нечто сложное,., в каждой воле есть, прежде
всего, множественность ощущений, а именно ощущения
состояния, которое мы покидаем, ощущения состояния, к
которому мы направляемся, ощущения самих этих
«ухода» и «направления» и затем сопровождающего их
мускульного ощущения... Поскольку ощущения... на этом
277
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
основании можно считать составной воли, то таковым
же, вторым по счету, можно считать и мышление: в
каждом акте воли есть повелительная мысль...
В-третьих, воля есть не только комплекс ощущения и
мышления, но еще и эмоции: на деле это эмоция веления. То,
что называют «свободой воли», есть по преимуществу
эмоция превосходства относительно того, кто должен
подчиниться: «Я свободен, «он» должен
подчиниться» — такое сознание присуще каждой воле... Человек,
который велит, отдает приказ чему-то внутри себя, что
повинуется или что, он полагает, ему повинуется... При
данных обстоятельствах мы одновременно указуем и
повинуемся... «свобода воли»... есть выражение такого
сложного состояния радости человека, который
повелевает, приказывает и в то же время осознает себя
исполнителем веления... Во всех случаях проявления воли —
это в абсолюте вопрос приказа и повиновения на
основе... общественной структуры, состоящей из многих
«душ»: а посему философ должен заявить право на
включение воления как такового в поле морали, то
есть морали, понимаемой как теория отношений
превосходства, при которых возникает явление «жизни»
(ДЗ. 19).
Значит, природа воли заключается в ее «осознанном
характере», воле к власти; тогда возникают определенные
отношения — отношения власти, — которые
устанавливаются между элементами «социальной структуры»,
независимо от того, является ли эта структура индивидуумом,
нацией или же всей Вселенной, жизнью как таковой. Этот
вывод согласуется с выводом Ницше относительно
природы морали — он еще раз говорит об этом в работе «По
ту сторону добра и зла»:
«Каждая мораль есть... часть тирании, направленной
против «природы», а также против «разума»...
Существенным и неоценимым элементом каждой морали яв-
278
ОТШЕЛЬНИК
ляется то, что это длительные ограничения... Важно то...
что это... длительное повиновение в одном направлении»
(ДЗ, 188).
В «Генеалогии морали» он делает еще один вывод,
который важен как связующее звено между его теорией
воли к власти и потребностью обозначить «смысл»
жизни. Поскольку жизнь представляет собой волю к власти,
то «смысл» жизни состоит в ощущении, что воля к
власти находится в действии, что нечто подвластно воле — не
важно, что именно; важен сам факт веления:
«В отрыве от аскетического идеала человек, животный
человек, не имел смысла. Его существование на земле было
бесцельным... Это и есть, по сути, аскетический идеал:
отсутствие чего-то, когда человек находился в окружении
пугающего отсутствия — он не знал, как оправдать,
оценить, утвердить себя, он мучился вопросом о своем
назначении... это не было просто проблемой страдания, как
такового, у него не было ответа на вопиющий вопрос: «почему
существует страдание?»... Бессмысленность страданий, а не
страдания сами по себе, была проклятием, лежавшим на
человечестве, — и аскетический идеал придал этому
смысл!.. Через это человек был спасен... он мог теперь что-
то велеть... сама воля была спасена. Совершенно
невозможно обмануться в том, на что именно направлена
каждая законченная воля, исходящая из аскетического идеала:
эта ненависть к человеческому, и еще более к животному,
и еще более к материальному, этот ужас перед чувствами,
перед самим разумом, этот страх перед счастьем и
красотой, это стремление избавиться от всякой видимости,
перемены, становления, смерти, желания, от самого
стремления — все это указывает — отважимся понять это! — на
волю к ничто, волю, обратную жизни, отторжение
наиболее фундаментальных пред-условий жизни; и все же она
есть и остается волей!.. И... человек скорее проявит волю к
ничто, чем не проявит ее вовсе» (ГМ, III, 28).
279
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
«...Lieber will noch der Mensch das Nichts wollen, als
nicht wollen...» — слова, которые завершают
«Генеалогию», сводят в характерно лаконичную и
запоминающуюся форму конечный вывод Ницше о моральных ценностях.
Он уже установил возможность того, что мораль можно
оценивать согласно ее способности стимулировать чувство
возрастающей и более высоко организованной власти. Та
мораль, которая возводила права бесправных в ранг
достоинств и добродетелей, вредна, поскольку
противоречила требованиям власти, а следовательно, самой жизни. К
числу расслабляющих явлений Ницше приписывал
христианскую мораль: но христианская мораль являлась
господствующей моралью в Европе того времени. Так
неужели слабый праздновал победу над сильным? И если
победило христианство, не была ли его мораль на самом деле
более сильной моралью? Как же в таком случае
опровергнуть то, что это мораль слабости? Более того, если
единственным критерием «добра» является власть, не следует
ли всякую побеждающую силу считать «добром» только
потому, что она победила? Разве это не «голое
восхищение прогрессом», которое он презирал в Гегеле? На эти
вопросы Ницше не давал ответа до тех пор, пока не
пришел к выводу о том, что человек может также желать
ничто. В такого рода воле он усмотрел причину
нигилизма: индивидуум, нация, цивилизация, лишенные
положительных целей, саморазрушаются, проявляя волю к
последнему, что осталось в их власти, — к собственному
уничтожению; и они скорее проявят к этому волю, нежели не
проявят ее. Ницше теперь обрел авторитет, позволяющий
отличать выигрышные формы морали: то, что некая
мораль утвердила себя, еще не означает, что это было
движением за повышение власти, — это могла быть и
нигилистическая мораль, и ее триумф — триумф воли к ничто.
Поэтому он повел разговор об «оздоровляющей жизнь»,
или «возвышающей», морали и об «отрицающей жизнь»,
или «упаднической», морали и мог испытывать презрение
к последнему явлению, не противореча самому себе.
280
ОТШЕЛЬНИК
Таким образом, теория воли к власти получила свое
завершение, и теперь есть все условия, чтобы понять
значение наиболее важных положений произведений «По ту
сторону добра и зла» и «Генеалогия морали».
Излагая все свои идеи разом, как он всегда поступал
начиная с работы «Человеческое, слишком человеческое»
и далее, Ницше еще раз подчеркивает, что конфликт и
состязание составляют основу жизни и что добрые
побуждения ведут начало от побуждений дурных:
«Вся психология до сих пор увязала в моральных
предрассудках и опасениях: она не отваживалась
проникать дальше в глубину. Понимать ее как морфологию и
учение о развитии воли к власти, как ее понимаю я, —
ни у кого никогда даже и в мыслях не было... Сила
моральных предрассудков глубоко внедрилась в
интеллектуальный мир, наиболее, казалось бы, холодный и
наименее подверженный предрассудкам... Истинной физио-
психологии приходится бороться с бессознательными
противодействиями в сердце исследователя; этому
противится «сердце»: уже учение о взаимной
обусловленности «хороших» и «дурных» инстинктов как более
утонченной безнравственности удручает и отвращает
даже сильную, неустрашимую совесть, и еще более —
учение о выводимости всех хороших инстинктов из
дурных. Однако, когда кто-то считает даже аффекты
ненависти, зависти, алчности, властолюбия аффектами,
обусловливающими жизнь, эмоциями, существенными для
жизни, чем-то, что существенно и необходимо для
общей экономии жизни и чему, следовательно, должно
содействовать, если должно содействовать самой жизни, —
такой человек страдает от подобных выводов, как от
морской болезни» (ДЗ, 23).
«Это повелевающее нечто, что люди называют
«духом», желает господствовать в самом себе и вокруг себя
и чувствовать себя господином... Его потребности и воз-
281
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
можности таковы же, что приписываются психологами
всему, что живет, растет и множится... Его цель —
вобрать новый «опыт»... рост; точнее говоря, ощущение
роста, ощущение возрастающей власти» (ДЗ, 230).
«...Сама жизнь по существу есть присвоение,
оскорбление, подчинение себе чужого и более слабого,
подавление, жестокость, навязывание собственных форм,
поглощение и, наиболее безобидное и мягкое из всего,
эксплуатация... Даже организация, в рамках которой...
индивидуумы относятся друг к другу как к равным... —
если эта организация жива, а не умирает, — по
отношению к другим организациям вынуждена проделывать
все то, от чего в пределах своей собственной люди
удерживаются: она будет воплощаться в воле к власти... не
потому, что моральна или аморальна, а просто потому,
что она живет, и потому, что жизнь и есть воля к
власти» (ДЗ, 259).
Особый интерес в этой связи представляет его
отношение к расе:
«Человек эпохи распада, смешанной расы, который
вследствие этого вобрал в себя разнообразное племенное
наследие, а точнее говоря, противоположные и часто не
только противоположные побуждения и ценности, которые
борются друг с другом и редко оставляют друг друга в
покое, — такой человек поздних культур и преломленных
лучей будет в среднем человеком довольно слабым: его
основное желание состоит в том, чтобы война, которая
есть он сам, закончилась... Если же внутренний разлад
и война действуют на такую натуру как еще одна
возбуждающая приманка и щекотка жизни и если, с другой
стороны, ею унаследованы и развиты в себе высокое
мастерство и тонкость ведения подобной войны с собою, то тогда
появляются те волшебно непостижимые и необъяснимые
люди, те загадочные люди, предназначенные к победам и
282
ОТШЕЛЬНИК
увлечению других, подлинными примерами которых
служат Алкивиад и Цезарь (к ним я хотел бы присоединить
первого европейца в моем вкусе, Фридриха Второго
(Великого) Гогенштауфена), а среди художников, возможно,
Леонардо да Винчи» (ДЗ, 200).
До тех пор пока нацисты не приспособили его имя
под свои интересы, едва ли подлежало сомнению, что
Ницше был противником расизма, и Übermenschen
(сверхлюди) могли появляться везде, в среде любого
народа. Его представления о «господствующей расе», о
которых сейчас пойдет речь, являются просто частью его
общей теории о развитии цивилизации посредством
конфликта. В отдаленном прошлом разные расы вступали в
конфликт; одна побеждала другую и становилась по
отношению к побежденной расе господствующей расой;
побежденная раса становилась по отношению к
победителям расой рабов. Он никогда не говорит о какой-то
особой, единственной, господствующей расе, и ему
никогда не приходило в голову, чтобы одна раса
превосходила все прочие. (Даже если бы это и было так, то с
оговоркой в скобках, что вряд ли этой расой, по его
представлениям, являлись немцы.) Он никогда не
употребляет это слово в значении «чистая раса». Для
Ницше раса была группой людей, живущих вместе в течение
долгого времени, в результате чего сформировались
общие потребности и характеристики. И именно в этом
смысле он говорил о будущем «европейской расы»,
которая, он надеялся, сможет соперничать в своих
достижениях с самой знаменитой из всех «смешанных рас» —
греками. Но его протест против расизма был не просто
временным настроением или же высказанным по
случайному поводу мнением. Любая философия, которая
помещает конфликт в сердцевину предмета и усматривает в
нем лестницу к совершенствованию, должна развернуться
спиной к «чистой расе» как чистому абсурду. Расовое
смешение должно стать непременным предусловием та-
283
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
кой философии; и тот факт, что греки были, как
известно, хаотическим смешением рас, похоже, и снабдил его
необходимым свидетельством того, что высшая культура
берет начало в конфликте.
Размышления Ницше о расе привели к его знаменитой
типологии морали и защите «аристократической» этики:
«Странствуя по областям многих утонченных и грубых
моралей, господствовавших до сих пор или еще нынче
господствующих на земле, я обнаружил определенные черты,
постоянно встречающиеся вместе и связанные одна с
другой, пока, наконец, не обнаружились два основных типа и
основное различие между ними. Есть мораль господ и
мораль рабов — спешу прибавить, что во всех высших и
смешанных культурах очевидны попытки согласовать обе
морали, еще чаще наблюдается переплетение одной с
другою и их взаимное непонимание, а порой они упорно
сосуществуют — даже в одном и том же человеке, в одной
душе. Различные моральные оценки возникли либо среди
господствующей касты... либо среди подвластных, среди
рабов и зависимых. В первом случае, когда понятие
«хороший» устанавливается господствующей кастой,
отличительной чертой, определяющей ранг, считаются
возвышенные, гордые состояния души. Знатный человек отделяет
от себя существ, выражающих собою нечто
противоположное таким возвышенным, гордым состояниям: он презирает
их. Следует сразу заметить, что в этой морали первого
рода противоположение «хороший» и «плохой» значит то
же самое, что «знатный» и «презренный», —
противопоставление «добрый» и «злой» имеет иное происхождение.
Презрением клеймят людей трусливых, малодушных,
мелочных, думающих об узкой пользе, а также
недоверчивых... тех, кто унижается, собачью породу людей,
позволяющих дурно обходиться с собою, раболепного льстеца,
а более всего лжеца: все аристократы глубоко уверены, что
простолюдины лживы... Немедленно становится очевидно,
что обозначение моральной ценности прилагалось сначала
284
ОТШЕЛЬНИК
к людям, и только позже исходя из этого было
перенесено на поступки... Человек знатной породы чувствует себя
мерилом ценностей, ой не нуждается в одобрении, он
говорит: «Что вредно для меня, то вредно само по себе»...
он созидает ценности... Такая мораль есть
самопрославление. На первом плане стоит чувство избытка, чувство
мощи, бьющей через край, счастье высокого напряжения...
Знатный человек чтит в себе человека власти, а также
такого, который властвует над самим собой, который умеет
говорить и безмолвствовать, который охотно проявляет
строгость и суровость по отношению к самому себе и
благоговеет перед всем строгим и суровым... Если кто умеет
чтить, так это именно люди сильные, это их искусство,
царство их творчества. Глубокое почитание древности и
традиции... предрассудки в пользу предков и против
потомков типичны для морали людей сильных; и когда люди
«современных идей» почти инстинктивно верят в
«прогресс» и «будущее» и выказывают все менее и менее
уважения к прошлому, то это уже определенно
свидетельствует о незнатном происхождении таких «идей»... Иначе
обстоит дело со вторым типом морали, морали рабов.
Положим, что морализировать начнут люди оскорбленные,
угнетенные, страдающие, несвободные, не уверенные в
самих себе и усталые: какова будет их моральная оценка?
Вероятно, в ней выразится пессимистически
подозрительное отношение ко всей участи человека, быть может, даже
осуждение человека вместе с его участью. Раб
подозрителен в отношении добродетелей сильного: он заражен
скепсисом и недоверием... ко всему «хорошему», что
почитаемо им... С другой стороны, он окружает ореолом и
выдвигает на первый план те качества, которые служат для
облегчения существования страждущих: таким образом
входят в честь сострадание, услужливая, готовая на
помощь рука, сердечная теплота, терпение, прилежание,
кротость и дружелюбие, ибо здесь это наиполезнейшие
качества и почти единственные средства, дающие возможность
выносить бремя существования. Мораль рабов по существу
285
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
своему есть мораль полезности. Вот где источник
возникновения знаменитого противопоставления «добрый» и
«злой» — в категорию злого зачисляется все мощное и
опасное, грозное, наделенное утонченностью и силой, что
невозможно презирать» (ДЗ, 260).
Концепция «господской и рабской морали» — это
попытка объяснить, как стали возможны противоположные
друг другу моральные суждения. Прежде чем попытаться
понять, что же именно выражено в этом отрывке,
обратимся к тем отрывкам из «Генеалогии морали», которые
являются его разработкой и продолжением:
«...вердикт «хороший» исходит не от тех, кто взирал
на «хорошее»! Скорее, они были «добром» сами в себе,
то есть благородными, обладающими властью, высоким
положением и высоким образом мыслей, кто ощущает и
утверждает себя и свои действия как благие,
первостепенные, в противоположность всему низкому, низменно
мыслящему, заурядному и плебейскому. Из этого пафоса
отчуждения они впервые овладели правом созидать
ценности и чеканить имена для ценностей: какое дело им
было до пользы?.. Пафос благородства и отчуждения...
протяженное и преобладающее чувство фундаментального
единства в высоком правящем положении по сравнению
с положением низким... именно таково происхождение
антитезы «хорошего» и «плохого» (ГМ, I, 2).
«Указателем выхода на верный путь стал вопрос:
какова реальная этимологическая ценность символов
«хорошего», отчеканенных в различных языках? Я обнаружил,
что все они восходят к одной и той же концептуальной
трансформации: повсюду «благородное»,
«аристократическое» в социальном смысле является базовым понятием,
откуда непременно развивалось понимание «хорошего» в
значениях «с аристократической душой», «благородный»,
«с душой высшего порядка», «с привилегированной ду-
286
ОТШЕЛЬНИК
шой», и это оформление протекало параллельно другому,
где понятия «простой», «плебейский», «низкий» в
конечном итоге трансформировались в понятие «плохой»... В
генеалогии морали это представляется мне
фундаментальным положением» (ГМ, I, 4).
«Восстание рабов в морали начинается тогда, когда
сопротивление... становится созидательным и порождает
ценности... Если всякая аристократическая мораль проистекает
из триумфального самоутверждения, то мораль рабов
изначально говорит «нет» тому, что «вне ее», что «другое», что
«не она»: это «нет» и есть ее созидательный акт... ее
действие... реакция... Человек сопротивления... постиг «злого
врага», «злого», это и стало его основной идеей, откуда он
потом произвел, как соотносимую и противопоставленную
фигуру, «хорошего», — самого себя» (ГМ, I, 10).
«Это... совершенно противоречит тому, что делает
благородный человек, который устанавливает
основополагающую идею «хорошего» спонтанно... из себя самого, и
только затем создает для себя понятие «плохого». Этот
«плохой» аристократического происхождения и этот
«злой», возникший из котла неутоленной ненависти... как
отличны эти слова, «плохой» и «злой», несмотря на то что
оба, несомненно, противоположны одному и тому же
понятию «хорошего»! Но это понятие «хорошего» не
одинаково: следует уточнить, кто есть «зло» с позиций морали
сопротивления. Ответ со всей строгостью таков: конечно
же это «хороший человек» другой морали, конечно, это
знатный, властный человек, правитель» (ГМ, I, 11).
«Нельзя не видеть в сердцевинной сути всех этих
благородных рас хищника, великолепную белокурую бестию,
которая жадно рыщет в поисках добычи и победы; у этой
скрытой сердцевины порой возникает потребность
вылезти наружу, зверь должен покидать логово и возвращаться
в свое дикое состояние. Римская, арабская, немецкая,
287
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
японская знать, герои Гомера, скандинавские викинги —
все они разделяли эту потребность. Именно эти знатные
расы оставляли^ за собой понятие «варварский», где бы они
ни побывали» (ГМ, I, 11).
«Я считаю нечистую совесть серьезной болезнью,
которой человек заразился, испытав шок от наиболее
существенного изменения, которое ему когда-либо довелось
пережить, — того изменения, которое случилось, когда он
вдруг обнаружил, что обнесен стенами общества и мирной
жизни... Все инстинкты, которые не находят выхода
вовне, обращаются внутрь... так человек впервые развил
понятие, которое впоследствии назвал своею «душой». Весь
внутренний мир... обрел глубину, ширь, высоту в той же
мере, в какой внешний выход стал затруднен. Те
жуткие бастионы, которыми социальная организация
оградилась от древних инстинктов свободы... способствовали
тому, что все те инстинкты дикого, свободного,
рыщущего человека обернулись против самого человека.
Вражда, жестокость, удовольствие от преследования, нападения,
мести, разрушения — все это обратилось против самого
обладателя этих инстинктов: таково происхождение
«нечистой совести» (ГМ, II, 16).
«...Старейшее «государство»... возникло как страшная
тирания и продолжало действовать до тех пор, пока это
сырье людей и полуживотных не... оформилось. Я
употребил слово «государство»: самоочевидно, что оно
означает — некое стадо белокурых хищников, раса
завоевателей и господ, которое, будучи создано для войны и
обладая способностью организовывать, без колебаний
вцепляется когтями в население, которое, быть может,
значительно превосходит по численности, но еще
бесформенно и не оседло. Вот так начиналось на земле
«государство»... Эти врожденные организаторы не знали, что
такое вина, ответственность, уважение... Само собой ра-
288
ОТШЕЛЬНИК
зумеется, нечистая совесть развилась не в них, но и без
них не возникла бы... ее не было бы вовсе, если бы
огромное количество свободы не было изъято из мира или
по меньшей мере не перестало быть видимым, а стало
латентным под ударами их молотов. Этот инстинкт
свободы, насильно переведенный в латентное состояние...
положил начало нечистой совести» (ГМ, II, 17).
«Следует остерегаться легкомысленного отношения к
этому явлению по причине его изначальной
болезненности и уродства. Ибо в основе своей это та же активная
сила, которая работает в большем масштабе в тех
яростных художниках и организаторах и строит государства и
которая там, внутри... в «лабиринте зверя»... становится
нечистой совестью; это тот самый инстинкт свободы (на
моем языке — воля к власти), с той лишь разницей, что
теперь материалом, которым управляет данная сила,
является здесь сам человек, вся его звериная сущность — а
не... другой человек» (ГМ, II, 18).
«Нечистая совесть — болезнь, в том нет сомнения, но
болезнь в той же мере, в какой болезнью можно назвать
беременность» (ГМ, II, 19).
Первое, на что следует обратить внимание, — это что
Ницше объясняет «класс» на языке «расы». Правящий
класс, полагает он, это потомки расы победителей,
управляемый класс — потомки расы побежденной; со временем
расовые различия исчезли — частично через смешанные
браки, но в основном по той причине, что «раса» — это
по существу свод характеристик, общих для людей,
длительное время живущих совместно на одной территории,
при этом отношения власти сохранились. Тогда
аристократия стала в расовом отношении неотличимой от простых
людей — они превратились в единую расу — и понятие
«класс» возникло в связи с потребностью истолковывать
эти отношения власти, существующие между властителя-
Ю Р Дж. ХоААимгдейл 289
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
ми и подвластными. При помощи таких отношений
Ницше пытается объяснить происхождение двух
противоположных типов морали, «души», нечистой совести, чувства
вины и проч. Свою цель он видит в применении теории
воли к власти в качестве того «вида причинности»,
которого требует логический метод.
Из-за того что «мораль рабов» есть по сути своей
реакция против жизни в страданиях, против жизни,
воспринимаемой как страдание, она является моралью
«жизнеотрицающей»; она защищает, она отвращает, она
сворачивает жизненность; свою крайнюю форму она
обретает в буддийском уходе от реальности,
патологической чувствительности к боли, когда жизнь
представляется болезнью. В Шопенгауэре Ницше видит философа,
который усвоил эту тенденцию в своих крайних
проявлениях. Против этой тенденции он выдвигает встречный
идеал:
«...идеал самого энергичного, самого живого и самого
мироутверждающего человека, который не только научился
мириться и справляться со всем, что было и что есть, но
который желает, чтобы все повторялось, как оно было и
как оно есть, вечно, жадно призывая da capo* не только
для себя, но и для всех и вся...» (ДЗ, 56).
Такова эмоциональная важность возвращения: это
самая крайняя форма приятия жизни — не только
хорошего в ней, но также и плохого:
«Вы хотите, если можно... отменить страдания; а мы? —
нам действительно кажется, что мы охотнее увеличили бы
их и усугубили по сравнению с теми, что были!..
Воспитание страдания, великого страдания — разве вы не знаете,
что именно это воспитание, и только оно, до сих пор
создавало каждый взлет человечества? То напряжение души в
1 Сначала, снова (игл.).
ОТШЕЛЬНИК
несчастье, которое передает ей силу, ее ужас при виде
великого разрушения, изобретательность и храбрость в
испытаниях, терпении, толковании и эксплуатации несчастья, и
все, что даровало ей также глубину, тайну, личину, дух,
находчивость и величие, — разве не даровано это через
страдания, через науку великого страдания? В человеке тварь
и твореи, едины: в человеке есть материя, часть, избыток,
глина, грязь, безумие, хаос; но в человеке есть также и
творец, ваятель, твердость молота, божественный созерцатель
и седьмой день, — понимаете ли вы это противоречие? И
что ваши симпатии на стороне «твари в человеке», того, кого
следует лепить, ломать, ковать, рвать, обжигать, закаливать,
рафинировать, — того, кому назначено страдать и кому
должно страдать?» (ДЗ, 225).
Только под знаком сверхчеловека возможно понять
смысл защиты Ницше «аристократизма»:
«Каждое возвышение типа «человек» было до сих пор
делом аристократического общества... общества, которое
верит в длинную лестницу рангов и в разную ценность
людей и которому в той или иной форме нужно рабство.
Без этого пафоса дистанции, порождаемого
воплощенным различием сословий... никогда не возник бы
другой, более таинственный пафос, та тяга к увеличению
дистанции в самой душе, формирование более
возвышенных, более редких, более отдаленных, напряженных и
всеобъемлющих состояний, словом, именно возвышение
типа «человек», непрестанное «самопреодоление
человека», если употреблять моральную формулу в
сверхморальном смысле» (ДЗ, 257).
«В хорошей и здоровой аристократии существенно то,
что она чувствует себя не функцией (все равно,
королевства или общества), а смыслом и высшим оправданием
существующего строя — что поэтому она со спокойной
совестью принимает жертвы огромного количества людей,
291
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
которые ради нее должны быть подавлены и принижены
до степени рабов и орудий. Ее основная вера должна
заключаться в том, что общество имеет право на
существование не для общества, а лишь как фундамент и помост,
опираясь на который определенный вид избранных
существ может взойти... к высшему бытию» (ДЗ, 258).
Логика такой позиции, продиктованная всем
предыдущим, неизбежна; неизбежна, к прискорбию Ницше, и ее
нереальность. Едва ли и сам он верил в возможность
подобной аристократии; и конечно же она не является портретом
ни одной из существующих аристократий. Сложность,
однако, не носит непреодолимый характер; в основном она
коренится в архаическом языке, которым выражается здесь
Ницше, и в давно миновавшей стадии общества, к которой
он апеллирует. Стоящая за этим идея та же, что, как мы
убедились, составляла фундамент всей его мысли:
существование как таковое не представляет ценности, и для
человечества оно не представляет ровно никакого смысла, если
человечество остается только его функцией; само
человечество должно стать смыслом и оправданием бытия.
Глава 13
ГОД 1888-Й
А: Ты все быстрее и быстрее
отдаляешься от живущих: скоро они
вычеркнут тебя из своих списков! — Б: Это
единственный путь разделить с
мертвыми их преимущество. — А: Какое
преимущество? — Б: Не умирать снова.
Ф. Ницше. Веселая наука
1
Хронология путешествий Ницше в течение 1888 г.
так же проста, как и в предыдущие годы. Он пробыл в
Ницце до 2 апреля, затем отбыл в Турин, куда прибыл
5-го числа, и оставался там до 5 июня. Он был
совершенно очарован городом и решил: «отныне он станет
моей резиденцией». На лето он отправился в Сильс-
Марию и жил там вплоть до 20 сентября, после чего
снова перебрался в Турин. За исключением некоторого
ухудшения состояния здоровья в середине лета, в целом
он чувствовал некоторое облегчение. Он воспрянул
духом и испытывал огромную радость от работы,
превзошедшую все, что ему случалось испытывать ранее. Если
бы его «медицинские познания» действительно
соответствовали его заявлениям, то он, возможно, сумел бы
распознать симптомы болезни и, быть может, даже на
этой поздней стадии что-то предпринять, чтобы
предотвратить или оттянуть гибельные последствия: но он
ничего не предпринял и, скорее всего, даже не понял, что
необходимо действовать. О своем «выздоровлении» он
судил чисто, по внешним, обманчивым признакам, но в
293
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
действительности это было затишье перед бурей,
прелюдия всеобщего кризиса: 9 января 1889 г., покидая
Турин, он уже был безнадежно психически болен —
«развалина, которую мог признать только друг»1.
Его погружение в безумие носило форму все более и
более нараставшего чувства острой эйфории,
кульминацией которой стала мегаломания. Уже в феврале из его
писем явствует, что перекомпенсация предыдущих лет
начала принимать несколько угрожающую окраску: к
примеру, в письме к Зейдлицу от 12-го числа он
говорит:
«Между нами — вполне вероятно, что я являюсь
первым философом нашей эпохи, возможно, даже чем-
то большим... чем-то решающим и судьбоносным,
стоящим на грани двух тысячелетий».
К маю он вдруг испытал чувство полного
благоденствия, исторгавшего из его груди возгласы счастья.
«Чудо из чудес, — писал он Зейдлицу 13-го числа, — до
сих пор моя нынешняя весна была особенно
оживленной. Впервые за десять, пятнадцать лет — а может
быть, и более!» Ухудшения состояния не наблюдалось
вплоть до поздней осени: и тогда начался
катастрофический закат. В день своего 44-летия (15 октября) он
написал небольшой отрывок «An diesem vollkommnen
Tage», который поместил между предисловием и первой
главой «Ессе Homo» и который по своей приподнятой
жизнерадостности является самым патетическим в его
произведениях:
«В этот совершенный день, когда все созрело и не
только виноград покрывается загаром, луч солнца
озарил мою жизнь: я оглянулся назад, я вгляделся вперед,
и никогда еще не видел я так много столь хорошего
1 Овербек Гасту, 11 января 1889 г.
294
ГОД 1888-Й
разом. Недаром похоронил я сегодня свой сорок
четвертый год, я получил право на его погребение — что было
в нем от жизни, спасено, бессмертно».
Ему казалось, что отныне все идет так, как он хочет:
скоро он насладится воздаянием за все годы усилий; и
трагедия в том, что не вмешайся рок, так бы все и
исполнилось.
1888 г. был не только последним годом его активной
жизни, но и первым годом его славы. Он часто говорил о
презрении к славе и большой читательской аудитории, но
на самом деле мечтал о них со страстью, которая
усугублялась постоянными разочарованиями. Его уверенность в
том, что его труды являются достоянием немногих —
«очень немногих, — говорит он в предисловии к
«Антихристианину», — может быть, они еще и не пришли в
жизнь», — была страховкой от разочарования. Во всяком
случае, слишком уж вопиющим и неприемлемым
парадоксом было бы то, что он, самый читаемый из философов,
пожелал бы остаться непрочитанным. Напротив, в нем
было многое от публициста: он формулировал свои идеи в
некой особой манере, рассчитанной на то, чтобы поразить
и обвинить, и в дальнейшем оказалось, что подобный
тактический ход был настолько продуктивен, что порой
звучали мнения, возлагавшие на Ницше ответственность за
Первую и Вторую мировые войны1.
Непонимание наверняка огорчало и возмущало его —
но как ему хотелось известности! В действительности он
познал только ее начало. «Ко всему, что было трагичес-
1 У нас нет возможности обсуждать здесь беспочвенные утверждения о
том, что Ницше был философом немецкого милитаризма и позже нацизма;
если читатель воспринял, пусть в самых общих чертах, предложенную в
данной книге реконструкцию его личности, то эти обвинения в любом случае
должны отпасть сами собой. В основе первого из этих ложных утверждений
лежит неверное понимание того, что Ницше понимал под «властью», в
основе второго — некритическое приятие высказываний нацистских авторов,
причем и первое, и второе отмечены незнанием текстов самого Ницше.
295
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
кого в жизни Ницше, — писал датский критик и
историк литературы Георг Брандес, — прибавилось еще
одно: после неуемной жажды признания, доходящей до
болезненности, он достиг почти фантастической степени
славы — тогда, когда, будучи еще жив, оказался
отторгнутым от жизни.
1 января 1888 г. воскресное издание «Bund» Бернера
напечатало статью Карла Шпиттелера — это был первый
из где-либо появившихся обзоров творчества Ницше в
целом. С Ницше уже вступил в переписку Брандес: 3
апреля он написал ему, что имеет намерения прочесть серию
лекций в университете Копенгагена об общих положениях
философии Ницше:
«Вчера, — сообщал он, — когда я взялся за одну из
Ваших книг, я внезапно почувствовал что-то вроде
досады при мысли о том, что никто здесь в Скандинавии
ничего не знает о Вас, и вскоре решился разом сделать Вас
известным».
Лекции прошли с большим успехом, сообщал Брандес,
и Ницше снова и снова, весь остаток года, возвращается
к ним в письмах: он, очевидно, был невероятно счастлив,
что наконец-то его заметили. Брандес, действительно, был
первым лицом с международной репутацией, кто понял и
оценил значение Ницше, и вступительные слова его
«Очерка об аристократическом радикализме» (1889) —
«Фридрих Ницше представляется мне самым интересным
писателем в немецкой литературе нынешнего времени» —
были первым достойным признанием, полученным Ницше
в печати.
Брандес желал заинтересовать его творчеством Кьер-
кегора и Стриндберга; но для Ницше тогда уже было
слишком поздно извлекать какую-то пользу из учений
тех или иных авторов, а его недолгая переписка со
Стриндбергом отмечена явными признаками
помешательства с обеих сторон.
296
ГОД 1888-Й
В дополнение к долгожданному признанию, он начал
серьезно задумываться над вопросом об издании своих
трудов. Сочинения этого года предназначались к
публикации на нескольких языках. В качестве переводчика
«Ессе Homo» он имел в виду Стриндберга. У него
возникла мысль о том, чтобы стать единственным
владельцем всего своего творчества. Когда Фрицш приобрел все
его работы, вплоть до «Заратустры», Ницше в качестве
особого условия сделал оговорку, что он сам будет
издавать все свои будущие книги, и заключил на этот счет
соглашение с С.Г. Науманном; несмотря на то что имя
Науманна стоит на титульном листе последующих книг,
на самом деле фирма выполняла только технические
работы и служила лишь типографией, а собственно
издателем был сам Ницше. Именно при таких
обстоятельствах появились «По ту сторону добра и зла» и
«Генеалогия морали». К началу 1888 г. Ницше полностью
истратил свои сбережения, и его друзья начали
объединяться, чтобы помочь ему: Дойссен выслал ему 2000
марок (возможно, при участии Пауля Рее), Мета фон
Салис дала ему 1000 франков, и этими деньгами он
расплатился за публикацию вышедшей в сентябре
работы «Казус Вагнер».
Будучи издателем Ницше и Вагнера, Фрицш также
выпускал «Musikalisches Wochenblatt» («Музыкальный
еженедельник»), и в номере от 25 октября появился
ответ на «Казус Вагнер» Рихарда Поля, озаглавленный
«Казус Ницше». Ницше пришел в негодование (а
может быть, просто сделал вид), что Фрицш допустил
нападки на одного из своих авторов, и написал ему
короткую, язвительную записку:
«Сколько вы хотите за всю мою литературу? In
aufrichtiger Verachtung^ Ницше».
1 «С искреннем презрением», вместо In aufrichtiger Verehrung («с
искренним уважением»), принятого обращения в заключение послания.
297
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
Фрицш ответил: 11 000 марок. Ницше решил отнестись
к ответу всерьез и попросил совета у братьев Науманн. Их
позиция была такова: принимая во внимание лекции Бран-
деса и довольно оживленную журналистскую полемику
вокруг его имени, следует ожидать резкого увеличения
продаж его книг, и, если ему удастся достать нужную
сумму, он станет единственным владельцем всех своих работ
как раз в нужный момент. Получив такую консультацию,
Ницше написал стряпчему в Базель, испрашивая
возможности получить кредит.
Такой всплеск деятельности был, однако, в основе
своей следствием повышенного внутреннего возбуждения.
Склонность к завышенной самооценке, некогда бывшая
не более чем свойственной ему склонностью к
преувеличениям, постепенно перерастала в явное психическое
отклонение, и направление и скорость этого
продвижения наиболее отчетливо можно проиллюстрировать рядом
выдержек из его писем периода с октября по конец
декабря.
К Мальвиде, 18 октября (ответ на ее недовольство
очерком «Казус Вагнер»):
«Это не те темы, по которым я допускаю возражения.
В вопросах décadence я сам в настоящее время
представляю высший апелляционный суд на земле».
К Овербеку, в тот же день:
«Я теперь самый благодарный человек на свете — в
осеннем настроении во всех хороших смыслах этого
слова: это время моей великой жатвы. Все мне легко
удается, все предприятия успешны, несмотря на то что
никто доселе не владел столь великими материями, как
я. О том, что первая книга «Переоценки всех
ценностей» окончена и готова к прессе, сообщаю тебе с чув-
298
ГОД 1888-Й
ством, для которого не нахожу слов... На сей раз, как
старый артиллерист1, я заряжаю самые большие свои
пушки: боюсь, как бы я не разнес историю человечества
на две половинки».
К Гасту, 30 октября:
«Я только что взглянул не себя в зеркало — никогда
до сих пор я не выглядел так, как теперь: в чрезвычайно
хорошем настроении, откормленный, на вид десятью
годами моложе, чем следовало бы».
К Мальвиде, от 5 ноября (в ответ на ее ответ на его
письмо от 8 октября):
«Постой, погоди немного, почтенный друг! Я посылаю
тебе еще одно подтверждение того, что «Nietzshe est
toujours hansable»2. Вне всякого сомнения, я обошелся с
тобой дурно; но поскольку этой осенью я страдаю
избытком правдивости, мне и в самом деле идет на пользу
поступать дурно... «Имморалист».
К Овербеку, 13 ноября:
«...люди здесь [в Турине] обращаются со мною comme
il faut3, как если бы я был чрезвычайно знаменит; передо
мною отворяют двери, чего я не встречал более нигде».
К Стриндбергу, 7 декабря: \
«Теперь пять слов между нами, только' между нами!
Когда вчера меня достигло Ваше письмо — первое
письмо, которое достигло меня в моей жизни, — я толь-
1 Он намекает на год своей военной службы в 1867—1868 гг.
2 «Ницше всегда гадкий» (фр.). (Примеч. пер.)
3 Как подобает (фр.). (Примеч. пер.)
299
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
ко что завершил последнюю правку рукописи «Ессе
Homo». Поскольку в моей жизни более не случается
происшествий, это, следовательно, не было
происшествием. Почему Вы пишете письма, которые приходят в
такой момент!»
К Гасту, 9 декабря:
«Теперь о серьезных делах. Дорогой друг, я хочу
вернуть обратно все экземпляры четвертой [части] «Зара-
тустры», чтобы уберечь ее ineditum* от всех бедствий
жизни и смерти (я читал ее вчера и был почти до
бесчувствия охвачен эмоцией). Если я опубликую ее через
пару десятилетий после кризисов мировой истории —
войн! — только тогда наступит нужное время. Поройся
в памяти, пожалуйста, и припомни, у кого есть
экземпляры книги».
К Карлу Фуксу (сочинителю слов на музыку), 18
декабря:
«Все идет превосходно. Я никогда прежде не
испытывал ничего подобного периоду, начиная с сентября и
до сегодняшнего дня. Самые неслыханные задачи
удаются играючи; мое здоровье, как погода, каждый день
является с неодолимой яркостью и радостью».
К матери, 21 декабря:
«К счастью, я теперь созрел для всего, к чему меня
призывает мое предназначение. Мое здоровье
по-настоящему отменно; труднейшие задачи, для которых ни один
человек доселе не был достаточно силен, легко даются
мне».
1 Неизданная (лат.). (Примеч. пер.)
300
ГОД 1888-Й
К Овербеку, на Рождество:
«Дорогой друг, нам следует быстро решить дело с
Фрицшем! [Имеется в виду — выкупить книги Ницше],
ибо через два месяца я буду первым именем на земле...
Что здесь, в Турине, замечательно, это то впечатление,
которое я произвожу на людей... Когда я иду в
большой магазин, перемена происходит в каждом лице;
женщины на улицах провожают меня взглядами, —
женщина, которая обслуживает меня в лавке, приберегает для
меня самый сладкий виноград и снижает цену».
К Овербеку (получено 28 декабря):
«Я работаю над меморандумом к судам Европы с
предложением об антигерманской лиге. Я хочу заковать
«Reich» в стальную кольчугу и подвигнуть его к
безрассудной войне. Как только я освобожу руки, я
приберу к рукам молодого кайзера, со всеми причиндалами».
К Гасту, 31 декабря:
«Ах, друг! Какое мгновение! Когда пришла твоя
открытка, что я делал?.. То был знаменитый Рубикон... Я
более не знаю своего адреса: предположим, что в скором
времени им станет Palazzo del Quirinale*».
Состояние напряжения, в котором он пребывал, ни в
коей мере не ослаблялось при получении почти столь же
возбужденных писем Гаста и Стриндберга. Гаст, который,
похоже, принял самовосхваление Ницше за чистую
монету, полагал, что название, поначалу задуманное как
«Götzen-Dämmerung» («Падение идолов»), «Досужие
часы психолога», «чересчур скромно», и побуждал Ниц-
1 Квиринал, дворец президента республики (um.). (Примеч. пер.)
301
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
ше придумать «более блестящее, более пленительное
название». Стриндберг писал ему, что он рассылает письма
всем подряд, призывая: «Carthago est delenda, lisez
Nietzsche»1.
Окончательный срыв произошел накануне Нового года.
Письмо к Гасту от 31 декабря было, вероятно, последним,
которое Ницше подписал только своим именем, хотя
2 января 1889 г. Науманн получил еще одно послание без
указания даты.
3 января Ницше впал в забытье, а когда очнулся,
то был уже не профессором, доктором Ницше, некогда
служившим в Базеле, а инкарнацией Бога-Страдальца в
его двух наиболее впечатляющих формах: Диониса и
Христа.
2
В течение 1888 г. Ницше работал над шестью
небольшими книгами: это «Казус Вагнер», написанный в мае и
изданный в сентябре, «Сумерки идолов» и «Антихрист»,
написанные в августе и сентябре; «Ницше против
Вагнера», «Предисловие», датированное Рождеством;
«Дифирамбы Диониса», которые частично представляют собой
стихотворения еще поры написания «Заратустры» и
посвящение которых (К. Мендес) датировано 1 января
1889 г.; и, наконец, «Ессе Homo», написанное в течение
последней четверти года.
Возникает естественный вопрос, должна ли любая из
перечисленных работ расцениваться как продукт
неуравновешенного состояния автора и таким образом
списываться со счетов. Здесь недостаточно ответить просто да или
нет, и все же ситуация совершенно однозначна.
Во-первых, философское содержание этих трудов составляет
единое целое с предшествующими трудами: новых идей здесь
1 Карфаген разрушен, читайте Ницше. (Примеч. пер.)
302
ГОД 1888-Й
нет, и ни одно из их положений не вступает в
противоречие с уже сформулированными прежде философскими
взглядами. Ницше по-прежнему демонстрирует полное
владение материалом и даже уплотняет, концентрирует его.
Было бы несправедливо также утверждать, что эти
последние произведения каким-то образом поражены
интеллектуальной ущербностью или что в них содержится
некая «бессмыслица». Во-вторых, ни одно сочинение не
обнаруживает спада в умении выстраивать, организовывать
текст, — наоборот, «Антихрист» представляет собой
самое пространное исследование, посвященное одному
вопросу, со времен «Несвоевременных размышлений», а
некоторые главы из книги «Сумерки идолов» были бы
столь же объемны, будь они написаны в манере
«Несвоевременных размышлений». Это подводит к третьему
суждению — о стиле. Сочинения 1888 г. знаменуют
окончательную победу Ницше над немецким языком: знаменитый
лаконизм этих заключительных трудов — наглядная
демонстрация абсолютного контроля над средствами
выражения. Если и случается стилистический сбой, то он со
всей очевидностью направлен на создание заранее
продуманного эффекта. В-четвертых: там, однако, где Ницше
уходит от философии и пишет о себе, его чувство
собственной значимости выходит за пределы разумного и
граничит с абсурдом — выше об этом уже говорилось. Но даже
и здесь его нельзя обвинить в интеллектуальной
неполноценности: даже в «Ессе Homo» апофеоз собственного ego
почти сводится к желанию выжать все потенциальные
риторические возможности языка. И наиболее тревожными
фрагментами являются отнюдь не те хорошо всем
известные высокопарные заявления, а те, в которых Ницше в
спокойной форме приписывает себе невероятные
способности:
«Мне присуща совершенно жуткая восприимчивость
инстинкта чистоты, так что я подтверждаю
физиологически — чую... «потроха» всякой души» (ЕН, I, 8).
303
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
«Моя гуманность есть постоянное самопреодоление»
(ЕН, I, 8).
«Только я располагаю критерием «истин»...» (ЕН-СИ, 2).
Философское содержание этих последних сочинений
является повторением в сжатой и бескомпромиссной
форме взглядов, высказанных ранее, начиная с книги
«Человеческое, слишком человеческое». Наиболее знаменателен
его особый упор на фундаментальный лозунг, что
метафизический мир не имеет бытия, — тезис, составивший
основу его теории вечного возвращения:
«Гераклит останется вечно правым в том, что бытие
есть пустая фикция. «Кажущийся» мир есть единственный:
«истинный мир» только прилган к нему [hinzugelogen]»
(СИ, III, 2).
«...Идиосинкразия философов... состоит в смешивании
последнего и первого. Они помещают в качес пве начала то,
что следует в конце... «высшие понятия», то хть наиболее
общие, пустые понятия, последние дымы и паряющейся
реальности. Это... всего лишь выражение их ь неры
благоговеть: высшее не должно произрастать из :зшего оно
вовсе не должно произрастать... Мораль: все i >вора
рядное должно быть causa sui..? Вот таким образ* оии
обрели свое грандиозное понятие «Бог»... После,. амое
призрачное, самое пустое помещено как первое, к<ьх
причина сама по себе, как ens realissimum2» (СИ, III, 4).
«Основания, в силу которых «этот» мир определили
как мнимый, скорее указывают на его реальность — при
этом другой вид реальности совершенно недоказуем...
Признаки, которые приписали этому «реальному бытию»
Само себе причина (лат.). (Примеч. пер.)
Реально существующее (лат.). (Примеч. пер.)
304
ГОД 1888-Й
вещей, суть признаки не-бытия, признаки ничто —
«истинный мир» выстроили из противоречия настоящему
миру... Рассуждать о «другом» мире, нежели этот,
совершенно бессмысленно, при условии, что инстинкт оклеве-
тания, небрежения, осуждения жизни не является в нас
довлеющим: в последнем случае мы мстим самим себе за
жизнь посредством фантасмагории «иной», «лучшей»
жизни... Делить мир на «истинный» и «кажущийся», не
важно, в духе христианства или на манер Канта... это всего
лишь указание на décadence — симптом угасающей
жизни» (СИ, III, 6).
«Чистый дух — это чистая ложь» (А, 8).
«.Ложь об идеальном доселе была проклятием
действительности» (ЕН, предисловие, 2).
Теперь он представляет историю философии как
постепенную девальвацию метафизического мира, пока наконец
в его собственной философии абсурдность разговора о
«реальном» мире и мире «кажимости» не выливается в
манифест:
«КАК «РЕАЛЬНЫЙ МИР» В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ
СТАЛ МИФОМ
История одного заблуждения
1. Истинный мир, достижимый для мудреца,
благочестивого, добродетельного человека — он живет в нем, он
есть этот мир.
(Старейшая форма идеи, относительно здравая,
простая, убедительная. Перифраз положения: «Я, Платон,
есл*ь истина». [Wahrheit, соответствующее wahre Welt —
истинный мир].)
2. Истинный мир, недостижимый нынче, но
обетованный для мудреца, благочестивого, добродетельного («для
грешника, который кается»).
305
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
(Прогресс идеи: она становится тоньше, запутаннее,
непостижимее, — она становится женщиной, она
становится христианской...)
3. Истинный мир, недостижимый, недоказуемый, не
может быть обетованным, но, даже просто мыслимый, он
уже утешение, долг, императив.
(По сути, все то же старое солнце, но сияющее сквозь
туман и скепсис: идея, ставшая возвышенной, бледной,
северной, кенигсбергской [то есть кантианской].)
4. Истинный мир — недостижимый? Во всяком
случае, недостигнутый. И если недостигнутый, значит,
также и неведомый. Следовательно, также не утешающий, не
спасающий, не обязывающий: к чему может обязывать нас
нечто неведомое?..
(Серый рассвет. Первое позевывание разума.
Петушиный крик позитивизма.)
5. «Истинный мир» — идея, ни к чему больше не
нужная, даже более не обязывающая, — идея, ставшая
бесполезной, ставшая лишней, следовательно, опровергнутая
идея: так упраздним ее!
(Светлый день; завтрак; возвращение
жизнерадостности и bon sens1; Платон краснеет от стыда; буйство всех
свободных духом.)
6. Мы упразднили истинный мир: какой же мир
остался? Быть может, кажущийся?.. Но нет! Вместе с истин-
ным миром мы упразднили также и кажущийся!
(Полдень; мгновение самой короткой тени; конец
самого долгого заблуждения; зенит человечества; INCIPIT
ZARATHUSTRA2)» (СИ, IV).
«Упразднение» «истинного мира» — это, конечно,
метафора, такая же метафора, как и «смерть» Бога. Этот
мир перестал быть действительностью; вся драма в
шести актах происходит по «эту сторону» существования,
1 Здравый смысл (фр.). (Примеч. пер.)
2 Начинается Заратустра (лат.). (Примеч. пер.)
306
ГОД 1888-Й
единственную сторону, которая нам знакома или может
стать знакома. Но последствия такого «упразднения»
гораздо более серьезны, нежели осознают философы:
если Бог «умер», мир утрачивает свою прежнюю
ценность. Если не существует «запредельного», то те
опоры, на которых до сих пор зиждилась мораль мира,
рушатся. Если идея ноуменального мира принадлежит
миру феноменальному, то феноменальный мир лишается
того, что, как предполагалось, являлось его источником.
Этический, метафизический и логический миры лежат в
руинах. «Incipit Zarathustra» — «Начинается Заратуст-
ра» — гласит собственная позиция Ницше как
философа нового завета: человек, лишенный всех прежних
убеждений (заблуждений), должен предстать пред
лицом правды о том, что в жизни не существует ничего,
на что он мог бы положиться, кроме него самого, — и
это момент величайшего просветления (полдень).
Третий пункт ужимает до менее сорока слов критику
Канта, которую Ницше последовательно проводит в своих
сочинениях последнего десятилетия, и указывает почти
графически наглядно, где он отводит место вещи-в-себе
и «категорическому императиву», — он видит в них
стадии постепенного заката идеи «потустороннего».
Весьма характерно, что северное положение
Кенигсберга становится отличительной чертой бледной, туманной
природы «истинного мира» Канта. Пятый пункт
содержит критику собственной позиции еще времен книги
«Человеческое, слишком человеческое», получившей
подзаголовок «Книга для свободных умов», чем он дал
определение самому себе и всем, кто освободился от
предрассудков своего времени, — но, как он
утверждает теперь, тогда не было еще полного понимания
последствий этого освобождения.
Как и в «Рождении трагедии», созидательной силой
является обузданная страсть; и как в «Заратустре»,
«сверхчеловек» — это человек сильных страстей,
«преодолевший» себя:
307
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
«У всех страстей бывает пора, когда они являются
только роковыми, когда они тащат свою жертву вниз всем
весом своей глупости — и более поздняя, гораздо более
поздняя пора, когда они венчаются с духом [Geis/], когда
они «одухотворяются». Прежде вели войну с самой
страстью по причине присущей ей глупости: клялись
уничтожить ее — все старые чудовища морали едины в том, что
«il faut tuer les passions»^. Наиболее знаменитая формула
осуществить это содержится в Новом Завете, в Нагорной
проповеди... [где] говорится, применительно к
сексуальности, «если око твое соблазняет тебя, вырви его»: к
счастью, христиане не следуют этому предписанию. Изгонять
страсти и желания просто ради того, чтобы разделаться
с их глупостью и неприятными последствиями этой
глупости, — само по себе кажется нам сегодня всего лишь
обостренной формой глупости... Церковь борется со
страстями отсечением во всех смыслах: ее практика, ее
«лечение» — это кастрация. Она никогда не спрашивает: «Как
можно одухотворять, делать прекрасным, обожествлять
вожделение?» — во все времена она делала упор в своем
учении на искоренении (чувственности, гордости, жажды
власти, алчности, мстительности). Но в корне пресекать
страсти означает в корне пресекать жизнь» (СИ, V, 1).
«...Что есть свобода? То, что есть воля к собственной
ответственности... Что становишься более равнодушным к
тяготам, труду, лишениям, даже к жизни... Свобода
означает, что мужские инстинкты, воплощенные в войне и
победе, возобладали над прочими инстинктами — к
примеру, над инстинктом «счастья»... Чем измеряется
свобода, как у индивидов, так и у народов? Сопротивлением,
которое следует преодолеть, усилием, которое прилагаешь,
чтобы удерживаться на высоте. Высший тип свободных
людей следует искать там, где постоянно преодолевается
высшее сопротивление: в пяти шагах от тирании, у порога
1 Должно уничтожать страсти (фр.). (Примеч. пер.)
308
ГОД 1888-Й
опасности рабства. Это верно психологически, когда под
«тиранами» понимаются беспощадные и страшные
инстинкты, побороть которые требуется максимум авторитета и
дисциплины... Первый принцип: нужно испытывать
потребность в силе, иначе сильным не будешь никогда»
(СИ, IX, 38).
«Я тоже говорю о «возвращении к природе», хотя на
самом деле это не возвращение, а восхождение —
восхождение к высокой, свободной, даже пугающей природе и
природности» (СИ, IX, 48).
«Гете... грандиозная попытка преодолеть
восемнадцатый век через возвращение к природе, через
восхождение к естественности Возрождения, нечто вроде
самопреодоления со стороны этого века... Он не
отторгал себя от жизни, он помещал себя внутрь ее... и
принимал столько, сколько можно на себя, сверх себя, в
себя. К чему он стремился, так это к цельности; он
боролся с разладом разума, чувственности, эмоции,
воли... он дисциплинировал себя в целостность, он
созидал себя... Гете представлял собою сильного,
высококультурного человека, который, держа себя в узде и
питая к себе уважение, отважился позволить себе всю
полноту и богатство естественности, который
достаточно силен для такой свободы; человека, обладающего
терпимостью не вследствие слабости, но вследствие
силы, потому что он знает, как использовать к своей
выгоде то, что сокрушило бы натуру посредственную;
человека, для которого нет ничего запретного, кроме
слабости, не важно, является ли она пороком или
добродетелью. Такой ставший свободным дух пребывает
среди Вселенной радостным и доверчивым фатализмом,
веруя, что лишь отдельное и единичное можно отвергать,
что в целом все искупается и утверждается, — он не
отрицает более... Но такая вера — высшая из всех
возможных: я окрестил ее именем Дионис».
309
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
Имя Диониса теперь установлено для утверждения
существования человека, который «достаточно силен для
свободы», который может позволить себе любую
вольность, поскольку взял свои страсти под контроль;
который является хозяином своей жизни, а не ее жертвой;
который наслаждается жизнью и утверждает ее, так как
радость заключается для него в осуществлении воли к
власти. Теперь Дионис — это Дионис из «Рождения
трагедии» вкупе с Аполлоном из того же «Рождения
трагедии» — эффект сильной страсти, сильной воли к
власти под собственным ее контролем, то есть
сублимированный.
Осознать — это означает понять, что
подразумевается под знаменитой последней строкой «Ессе Homo»:
«Поняли ли меня? — Дионис против Распятого»
(ЕН, XIV, 9). «Дионисийский человек» — это
«сверхчеловек», реальный, а не просто надежда на
«возвышение типа человек»:
«Человечество не обнаруживает развития в
направлении лучшего, или более сильного, или более
высокого... поступательное развитие ни в коем случае, ни при
какой надобности [не является тем же, что есть]
восхождение, продвижение, умножение сил. В ином
отношении бывают случаи индивидуального прогресса,
постоянно возникающие в самых разных частях земли и в
недрах самых разных культур, и в них действительно
воплощен более высокий тип — некто, относительно
всего человечества представляющий собой
сверхчеловека. Такие счастливые случайности великого успеха
всегда были возможны и, вероятно, всегда будут
возможны» (А, 4).
Но Ницше отмечает:
«Христианство... объявило войну не на жизнь, а на
смерть высшему типу человека» (А, 5).
310
ГОД 1888-Й
Первые свои серьезные претензии к христианству
Ницше сформулировал в главе из книги «Человеческое,
слишком человеческое», озаглавленной «Религиозная жизнь».
Научные и особенно психологические знания, говорит он,
теперь запрещают нам верить в его догматы:
«...при нынешнем состоянии знания уже более
невозможно иметь что-то общее с ним [христианством], не
замарав безнадежно свое интеллектуальное сознание..,»
(ЧС, 109).
Вера в христианского бога —
«...лживое утверждение жрецов, что существует Бог,
которому угодно, чтобы мы делали добро; который
является надзирателем и свидетелем всякого действия,
всякого момента, всякой мысли; который любит нас...»
(ЧС, 109);
в божественность Христа —
«...еврея, распятого две тысячи лет назад, который сказал,
что он Сын Божий. Доказательства для подобного
утверждения не существует» (ЧС, 113).
Христианская религия —
«...бог, который производит на свет детей от смертной
женщины; мудрец, который призывает не работать больше, не
чинить суда, но внимать знамениям грядущего конца мира;
справедливость, которая принимает в искупительную
жертву невинного человека; некто велящий своим ученикам пить
его кровь; молитвы о свершении чуда; грехи, содеянные
против бога и богом отпущенные; страх перед
потусторонним, вратами которого является смерть; образ Креста как
символ в эпоху, которая уже не ведает назначения и позора
Креста...» (ЧС, ИЗ).
311
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
Для мыслящего человека это уже не представляется
возможным. Влияние христианской веры оказалось
психологически вредным:
«Именно христианство привнесло в мир понятие
греха. Вера в средства, предлагаемые против греха,
постепенно сходила на нет в самых своих основах: но вера в
слабость, чему обучают и что распространяют, все еще
жива» (СТ, 78).
«Основатель христианства был... подобен врачевателю
души, преданный той печально известной доморощенной
вере в универсальное средство. Временами его методы
представляются сродни методам зубодера, чьим единственным
лечением от боли является удаление зубов... Но различие
состоит в том, что зубодеру, по крайней мере, доступен сам
объект, а следовательно, достижимо и избавление от боли
пациента... тогда как христианин, верующий в то, что
избавился от чувствительности, занимается самообманом: она
продолжает жить в нем в опасной вампирической форме и
терзает его отвратительным притворством» (СТ, 83).
Критика продолжается в «Рассвете», где святой Павел
назван «первым христианином, изобретателем христиане-
кости [Christlichkeit]» (Р, 68), а христианская церковь —
«энциклопедией доисторических культов» (Р, 70).
«Не будем никогда забывать, — пишет он, — что
именно христианство сделало из смертного одра ложе
пыток» (Р, 77).
«...В древности существовало просто несчастье, чистое,
невинное несчастье; только в христианстве все приобрело
значение наказания, заслуженного наказания...» (Р, 78).
«Единственная капля крови в мозгу, слишком
большая или слишком малая, может сделать нашу жизнь не-
312
ГОД 1888-Й
имоверно несчастной и тягостной, так что нам придется
выстрадать более из-за этой одной капли крови,
нежели Прометей выстрадал от грифа. Но самое худшее
состоит в том, что кто-то может даже и не знать, что
причина заключается в этой капле. Се «Дьявол»! Или
«грех»!» (Р, 83).
Христианское отношение к проблемам пола казалось
ему просто извращением:
«Христианство трансформировало Эроса и
Афродиту... в дьявольские знаки и фантомы посредством тех
мучений, которые вызываются в сознании верующих при
любом эротическом возбуждении. Не ужасно ли
превращать неизбежные и постоянно повторяющиеся ощущения
в источник внутреннего страдания?.. А следует ли
считать Эроса врагом? [Во время соития] один человек,
совершая то, что доставляет ему удовольствие,
одновременно доставляет удовольствие другому человеку —
столь великодушное взаимодействие не так уж и часто
встречается в природе! И порочить такое
взаимодействие, и разрушать его посредством отождествления с
нечистой совестью! Ассоциировать воспроизводство
человеком своего рода с нечистой совестью!» (Р, 76).
(Сравним это с фрагментом из «Ессе Homo»,
написанного восемь лет спустя:
«И для того чтобы не оставалось никакого сомнения...
в моем взгляде на этот вопрос, я приведу еще одно
положение из своего морального кодекса против порока...
Это положение гласит: «проповедь целомудрия есть
публичное подстрекательство к противоестественности.
Всякое презрение половой жизни, всякое осквернение ее
понятием «нечистого» есть особое преступление перед
жизнью, — есть истинный грех против святого духа
жизни» (ЕН, III, 5).)
313
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
Как филолог он был особенно нетерпим к
христианской манере библейской экзегезы и интерпретации:
«Сколь мало воспитывает христианство чувство
достоинства и справедливости, можно вполне оценить
исходя их характера писаний его учителей... снова и снова
они говорят: «Я прав, ибо в Писании сказано...» — и
далее следует толкование столь бесстыдно спорное, что
филолог, который слышит это, испытывает
одновременно ярость и смех и вопрошает себя: возможно ли такое?
Да достойно ли это? Да прилично ли это, наконец?.. Но
в конечном итоге, что можно ожидать от действия
религии, которая в эпоху своего основания увековечила
этот неслыханный филологический фарс, касающийся
Ветхого Завета: я имею в виду попытку вытащить
Ветхий Завет из-под ног евреев в убеждении, что в нем
заложено исключительно христианское учение и что он
принадлежит христианам» (М, 84).
В основе враждебности Ницше к христианству, таким
образом, лежит мнение, что эта религия безрассудна: что
просвещенный и разумный человек не должен верить в
нее. Но критика христианства с этих позиций в принципе
могла бы быть заявлена любым философом; при этом
существует единое мнение о какой-то особой, ницшеанской,
специфике этого неприятия. Эта специфика состоит в том,
что уходит корнями в его собственную философию и
направлена (особенно в «Антихристианине») в первую
очередь против учения самого Христа. Для Ницше ключ к
характеру Иисуса состоит в доктрине о непротивлении злу:
«...противоположность всякому состязанию, всякому
ощущению себя в борьбе, сделалась здесь инстинктом;
неспособность к сопротивлению становится здесь моралью
(«не противься злому»: глубочайшее слово Евангелий, в
известном смысле ключ к ним) — блаженство в мире,
кротости, неспособности враждовать» (А, 29).
314
ГОД 1888-Й
«Благая весть»... как раз о том, что противоречий
больше нет; Царство Небесное принадлежит детям»
(А. 32).
«Такая вера не сердится, не порицает, не защищает
себя... Такая вера не доказывается ни чудесами, ни
воздаянием, ни посулами, ни даже Писанием: она всякий
миг сама себе чудо, награда, «Царство Божие»...
Можно было бы, допустив некоторую свободу выражения,
назвать Иисуса «вольнодумцем» — его не заботит
ничто устоявшееся: слово убиет, все устоявшееся убиет...
Он говорит только о самом глубинном: «жизнь», или
«истина», или «свет» — вот как он называет это
глубоко внутреннее» (А, 32).
«Вся психология Евангелия не ведает понятий вины
и наказания, не ведает она также и понятия
вознаграждения. «Грех», всякая разновидность дистанции между
Богом и человеком устранена — именно в этом и
состоит «благая весть». Блаженство не обещано, оно
ничем не обусловлено: это единственная реальность...»
(А, 33).
«Царство небесное» — это состояние сердца, а отнюдь
не то, что находится «над землею» и грядет «после
смерти»... «Царства Божия» не ждут; для него нет ни
вчерашнего, ни завтрашнего дня, оно не грядет и «через тысячу
лет» — это опыт сердца...» (А, 34).
«Радостный вестник» умер, как жил, как учил, — не
ради «искупления людей», а для того, чтобы показать, как
надо жить. Практическое поведение — вот что завещал
он человечеству: свое поведение перед судьями, перед
солдатами, перед обвинителями, перед всевозможной
клеветой, издевательствами и насмешками — свое поведение на
Кресте. Он ничему не противится, не защищает своих
прав, не делает и шага ради того, чтобы предотвратить
315
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
самое страшное, что может с ним произойти, — более
того, он еще и способствует всему этому. И он молит,
он страдает и любит вместе с теми и в тех, кто
причиняет ему зло... Не противиться, не гневаться, не призывать
к ответу... Не противиться даже злому человеку —
любить его...» (А, 35).
«Теперь видно, чему наступил конец со смертью на
Кресте: новым, совершенно самостоятельным начаткам
буддийского мирного движения, фактическому, а не
просто обещанному счастью на земле» (А, 42).
«Жаль, — говорит он, — что поблизости от этого
интереснейшего из декадентов не случилось никакого
Достоевского; я хочу сказать, жаль, что рядом не было
никого, кто сумел бы воспринять пугающую прелесть
такой смеси утонченности, болезненности и детскости»
(А, 31). Иисус учил спасению через отказ от
сопротивления, через готовность «подставлять другую щеку» —
но для Ницше движущей жизненной силой был
конфликт. Таким образом, ни заголовок «Антихристианин»,
ни вызывающее «Дионис против Распятого» не
подразумевает возведение Ницше себя самого в ранг
антибога: это просто формулы для противопоставления его
философии власти Христовой доктрине о непротивлении.
Он испытывал огромное уважение к Христу как к
человеку:
«...на самом деле был только один христианин, и тот
умер на кресте. Евангелие умерло на кресте... Ложно до
бессмыслицы видеть в «веровании»... отличительный
признак христианина: только христианское практическое
поведение, жизнь, подобная той, которой жил Он, распятый
на кресте, является христианской... Даже сегодня такая
жизнь возможна, для отдельных личностей даже
необходима: подлинное, примитивное христианство будет
возможно во все времена» (А, 39).
316
ГОД 1888-Й
Однако он полагал, что эта доктрина получила
развитие как следствие болезненной чувствительности к боли:
«Инстинктивная ненависть к реальности — следствие
крайней раздражительности и болезненности, когда уже не
хочется, чтобы тебя «трогали», потому что любое
прикосновение слишком чувствительно. Инстинктивное неприятие
антипатии, вражды, любых разграничений и дистанций —
следствие крайней раздражительности, когда любое
сопротивление, сама необходимость чему-то сопротивляться
воспринимается как непереносимое неудовольствие... когда
блаженство... лишь в том, чтобы никому и ничему не
противиться, ни злу, не злодею, — любовь в качестве
единственного, последнего шанса на жизнь... Страх перед болью... не
может окончиться иначе, чем религией любви» (А, 30).
Однако жизнь, которую вел Иисус, была иной,
нежели жизнь современного христианина, а практическое
поведение Христа отличалось от поведения церкви,
называемой его именем: должно быть, у «христианства» иной
источник, отличный от жизни и поведения Христа.
Мнение Ницше относительно его происхождения выражено
одним предложением: «За «благой вестью» последовала
наисквернейшая из всех: Павла» (А, 42). И когда он
говорит об этом с презрением, то речь идет именно о
религии Павла, а не о Евангелии, умершем на Кресте. Павел,
утверждает он, вновь привнес все грубые понятия
примитивной религии, которую Иисус уже преодолел:
«Нет ничего менее христианского, чем церковные
огрубления — Бог как личность, «царство Божие»,
которое грядет, «царство небесное» по ту сторону, «Сын
Божий», вторая ипостась Троицы» (А, 34).
«Тот факт, что человечество должно преклонить
колена перед противоположным тому, в чем заключались
исток, смысл, правда Евангелия; что в понятии «цер-
317
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
ковь» человечество освятило все то, что «радостный
вестник» счел оставленным внизу и позади... тщетно
искать более грандиозную форму всемирно-исторической
иронии...» (А, 36).
Таким образом, критика христианства у Ницше
имеет две стороны. Во-первых, это критика собственно
учения Иисуса. Сердцевина доктрины Христа, утверждает
Ницше, состоит в оправдании тотального пацифизма, и
эта доктрина должна была быть выражением
определенного состояния бытия: неоправданно преувеличенной
чувствительности к страданиям. Если бы это состояние
было в целом присуще человеку, какие бы ценности ни
производило человечество, — то тогда и «человечество»,
как таковое, никогда не возникло бы, поскольку
эволюция высших качеств выковывалась в конфликтах, как
между индивидуумами, так и внутри индивидуумов, в
недрах «души». И потому он оставляет за собой право
считать Иисуса «декадентом», частично из соображений
физиологических — иначе говоря, он полагает, что
нервная система Иисуса, вероятно, была патологически
возбудима, — а частично из более общих оснований,
полагая, что, если его доктрине будут следовать все без
исключения, то она приведет к закату человечества. Во-
вторых, он критикует христианскую церковь не потому,
что она превратила в учреждение учение Христа, —
самоочевидно, что она этого не сделала, — а потому, что
это был возврат к примитивной религии чудесного
разрешения, которую сам Христос считал пройденным
этапом. Если отвлечься от чрезмерной риторики
«Антихристианина», то можно отчетливо видеть, что претензии
Ницше к религии Запада имеют под собой достаточно
разумные основания и вытекают из положений его
собственной философии. Также совершенно очевидно, что
обстоятельства его воспитания (если мне будет
позволено отослать читателя к началу данной книги) не имеют
никакого отношения к делу.
318
ГОД 1888-Й
Вопрос «декаданса», составивший сердцевину
«Антихристианина», стал также сердцевиной работы «Казус
Вагнер». Обзор этой полемики, как правило, не
учитывает разницу между личными мотивами критики
Вагнера со стороны Ницше и существом этих нападок — а
еще чаще игнорируется суть вопроса как таковая. Так,
Ньюман, посвятивший всего несколько страниц в
четвертом томе своей книги «Жизнь Вагнера» обсуждению
«Падения Вагнера», счел возможным объявить статью
«злобной и бессмысленной», «подростковым
хулиганством» и «гнусным пасквилем», не удосужившись даже
упомянуть о ее главном положении — что Вагнер был
«декадентом», — и еще менее пытаясь опровергнуть
этот тезис. Методически сходные моменты в работах
«Казус Вагнер» и «Несвоевременные размышления (о
Давиде Штраусе)» — а именно выявление
определенной «проблемы» через какое-либо выдающееся имя —
не нашли достаточного освещения, равно как и то
обстоятельство, что нелицеприятное обхождение с
Вагнером идентично отношению к Штраусу, с которым
Ницше никогда не имел личных контактов. Напротив,
изначально полагали, что «Казус Вагнер» своим
существованием обязан единственно неспособности автора
простить Вагнера за свое полное порабощение в некий
момент своей жизни. Те из его друзей, которые
по-прежнему оставались верны идеям Вагнера, были обижены
за неуважительный тон работы. «Я поверг своих
близких и родных в ужасающий шок», — писал Ницше
Брандесу 20 октября.
«Среди них, например, мой старый друг барон Зейд-
лиц из Мюнхена, к несчастью президент Мюнхенского
Щ1гнеровского общества; мой еще более древний друг
И. Круг из Кельна, президент местного Вагнеровского
общества; мой зять д-р Бернхард Ферстер из Южной
Америки, небезызвестный антисемит, один из самых
ревностных вкладчиков в «Bayreuther Blätter»; и мой са-
319
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
мый уважаемый друг — Мальвида фон Мейсенбуг,
автор «Воспоминаний идеалиста», которая все еще
продолжает путать Вагнера с Микеланджело.
То, что Вагнера не было в живых уже пять лет, — он
умер в феврале 1883 г., — казалось, еще более усугубило
вину. Ницше пришлось отбивать обвинения в
отступничестве от почившего Мастера специально подготовленной
статьей «Ницше против Вагнера», состоящей из ряда
фрагментов его предыдущих произведений, начиная с работы
«Человеческое, слишком человеческое» и заканчивая
«Генеалогией морали». Данная статья была призвана доказать,
что его мнения о Вагнере не претерпели изменений с 1878 г. и
оформились еще за пять лет до кончины Вагнера.
В связи с этим представляется достаточно важным
попытаться все же выяснить, о чем идет речь в статье
«Казус Вагнер». Конечно, это критика Вагнера, причем
критика в нескольких направлениях. Во-первых, его
характера, что ясно с самого начала, и на то есть основания.
(Другое дело — соображения корректности, ведь исходят
эти замечания от бывшего близкого друга.) Теперь нет
смысла замалчивать неудачи Вагнера в общении с миром:
не будь он таким, каким был, он не добился бы того, чего
добился, и на этом, я полагаю, вопрос закрыт. В 1888 г.,
однако, все только начиналось: Вагнер находился в
процессе канонизации не только как великий композитор или
создатель Байрейта, но и как человек. «Официальная»
биография, автором которой был Карл Гласенапп,
появилась в 1876 г.: это повествование о жизненном пути
прошедшего мучительные испытания святого, столь же
фальшивое, сколь и биография Ницше, состряпанная
впоследствии Элизабет, с той лишь разницей, что герой
последнего произведения был уже навеки нем. Естественно,
Ницше знал, что Вагнер отнюдь не был святым, и в
«Падении Вагнера» так об этом и сказал.
Вагнера почитали также и как мыслителя. Он сам
издал собственное «собрание сочинений», и произошло это
320
ГОД 1888-Й
незадолго до того, как Х.С. Чемберлен объявил его
«регенератором» человечества — уж во всяком случае, его
нордической фракции. Протест Ницше против
«литературы» Вагнера — еще один аспект очерка «Казус Вагнер»,
и сегодня спорить с точкой зрения Ницше уже едва ли кто
станет.
Третьим пунктом критики была двусмысленность
Вагнера: его настоятельные утверждения о том, что его
музыка есть нечто большее, чем просто музыка, что она
содержит невыразимые глубины смысла; и его невнятность
там, где дело касалось непосредственно его творчества.
Миру музыки-драмы Вагнера Ницше противопоставляет
«Кармен» и говорит, что предпочтение отдает последней.
Антитеза носит столь крайний характер, что ее
полемическая направленность не подлежит сомнению, хотя Ницше
действительно искренне восхищался музыкой Визе.
Несомненно, Вагнер — композитор гораздо большего
масштаба, чем Визе, и этот факт Ницше никогда и не думал
отрицать. Но бог Вагнера — Вотан — «бог плохой
погоды» (В, 10), и при всей его мощи и гении он не может
достичь того, что легко дается Визе, — «la gay a scienza;
легкость, остроумие, огонь, изящество... шипучее сияние
юга; спокойного моря — совершенство» (В, 10).
В-четвертых, Ницше утверждает, что Вагнер был
актером и что он знаменовал собой «прибытие актера в
мир музыки» (В, 11). Положение спорное, но не
вопиющее и не абсурдное; наоборот, сегодня многие готовы с
ним согласиться. И вот что поражает во многих
критических положениях о Вагнере, которые впервые прозвучали
в «Казус Вагнер»: они словно звучат из Парижа 1920-х
годов, а Жак Бразен даже пошел так далеко, что
усмотрел в разрыве Ницше и Вагнера первый критический
отпор девятнадцатого века, ставший провозвестником
критики века двадцатого1.
1 Jacques Brazun. Nietzsche contra Wagner // Darwin, Marx, Wagner:
Critique of a Heritage. New York, 1941, 1958.
11 Р.Дж. Холлингденл
321
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
Однако суть полемики Ницше состоит не в
вышеперечисленных обвинениях, а в том, что Вагнер был
«декадентом». Нет никаких разночтений в том, что конкретно он
в данном случае подразумевал под словом «декадент»: он
имел в виду, что Вагнер был частью артистического
декаданса второй половины девятнадцатого века. В письме к
Петеру Гасту от 26 февраля 1888 г. он писал:
«Сегодня я испытал удовольствие, найдя
подтверждения ответу на вопрос, который может показаться
чрезвычайно странным: «Кто был наиболее подготовлен к
Вагнеру? Кто должен по природе своей быть... вагнерианцем,
независимо и без Вагнера?» И теперь я бы многократно
повторил... Бодлер».
Этот вывод прямиком выводит на ключевую фразу
«Падения Вагнера»: «Wagner est une névrose»^ (В, 5):
Проблемы, которые вынесены им на сцену, суть не
более чем проблемы истерии: конвульсивная природа его
страстей, его чрезмерно возбудимая чувствительность,
его вкус ко все более и более острому, его
нестабильность... и не в последнюю очередь подбор героев и
героинь как психологических типов (галерея
инвалидов!) — все это вместе взятое являет собою образец
патологии, где нет места сомнениям. Wagner est une
névrose» (В, 5).
Проблемы, которые Вагнер выносит на сцену,
утверждает Ницше, суть проблемы «невротические»:
«...переведите Вагнера на язык повседневности,
современности... Какие неожиданности переживаешь при этом!
Поверите ли вы, что решительно все как одна вагнеров-
ские героини, если только их сперва очистить от героиче-
1 Вагнер — это невроз (фр.). (Примеч. пер.)
322
ГОД 1888-Й
ской шелухи, суть точная копия мадам Бовари!.. Да и
говоря в целом, Вагнер, по-видимому, не интересовался
никакими иными проблемами, кроме тех, которыми
интересуются нынче маленькие парижские décadents.
Постоянно в пяти шагах от лазарета! Все только вполне
современные проблемы, только проблемы большого города).»
(В, 9).
Вагнер, художник décadence (В, 5), осознал себя
через философа décadence, Шопенгауэра, и с тех пор
сознательно следовал по пути, по которому прежде шел
вслепую.
Ницше делает попытку увязать все наиболее заметные
характеристики натуры и искусства Вагнера с этим
ключевым положением — что он был невротиком: так,
например, он утверждает, что «теперь музыкант стал актером»
и что «такая тотальная трансформация искусства в
актерскую игру... есть решительно симптом дегенерации (а
точнее, форма истерии)» (В, 7). Нужно заметить, что
название самого очерка также особым образом связано с этим
положением: Вагнер как казус, диагноз.
Такая критическая оценка становится понятна и
особенно важна как отпор набиравшей силу тенденции культа
Вагнера с догматической верой в то, что он является
вершиной всего немецкого и национальным поэтом нового
рейха: Ницше противостоит этой точке зрения, утверждая,
что Вагнер — французский декадент. Байрейтское
движение было насквозь пропитано откровенными
антисемитскими настроениями: в ответ на это Ницше высказывает
сомнение, а не был ли евреем сам Вагнер. Текст сноски,
в которой он высказал подобное предположение,
нижеследующий (в сокращении):
«Да и вообще, был ли немцем сам Вагнер? Есть
некоторые причины задаться таким вопросом. В нем трудно
усмотреть какие-либо немецкие черты... Вся его природа
противоречит тому, что до сих пор считалось свойствен-
323
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
ным немцу... Отцом его был актер по имени Геер. Геер
[гриф] это почти Адлер [орел; Адлер всегда, а Геер
зачастую — немецко-еврейское имя]... То, что ходило по
рукам в качестве «жизнеописания Вагнера», — fable
convenue\ если не хуже. Признаюсь, я не доверяю ни
одному положению, которое покоится единственно на
заявлениях Вагнера» (В, послесловие).
Официальная биография Вагнера гласит, что отцом
его был актуарий полиции города Лейпциг Карл
Фридрих Вагнер, то же самое говорит о себе и сам Вагнер в
«Mein Leben» («Моей жизни»). Однако известно, что
некоторым из своих близких друзей он неоднократно
говорил, что, возможно, он мог быть и сыном своего
отчима, актера и художника Людвига Геера. Уверенность
Ницше в том, что отцом был именно Геер, наводит на
мысль, что ему Вагнер говорил это со всей
определенностью. Сегодня, по прошествии стольких лет, доказать
это практически невозможно. Однако Ньюман,
занимавшийся изучением данного вопроса, пришел к выводу о
том, что «похоже, доблестные оппоненты теории об
отцовстве Геера защищали проигранное дело»2. И потому
вполне возможно, что Вагнер действительно говорил с
Ницше о Геере.
Цель, которую ставил перед собой Ницше, выдвинув
эту версию, обесценивается недавно раскрывшимся
обстоятельством, что Геер не был евреем; одним из его
имен было Кристиан, и, подобно самому Ницше, он
был потомком крепкого рода немецких протестантов.
Язвительность очерка «Казус Вагнер», как уже
говорилось, сродни тону полемики со Штраусом, и в обеих
работах Ницше критикует — через известную, ставшую
знаковой, личность — современную ему Германию, с той
разницей, что в основе разговора о Вагнере лежал опыт
1 Вымышленная басня (фр.). (Примеч. пер.)
1 Newman Ernest. The Life of Richard Wagner. Vol. 3. P. 528.
324
ГОД 1888-Й
их личного общения. Данному обстоятельству было
придано чересчур большое значение. Совсем несложно понять,
что стало причиной неприязни Ницше к Вагнеру. Его
охлаждение к нему, обозначившееся примерно в 1876 г.,
влекло за собой ощущение, что предыдущие семь лет
прожиты напрасно, и ответственность за эти потерянные годы
он предпочел возложить на Вагнера, а не на себя. Это
чувство было следствием той псевдоотеческой роли,
которую Вагнер играл в его жизни все эти годы. И хотя
продолжительность этих отношений свидетельствует о силе
взаимной привязанности, по сути своей они ничем не
отличались от прочих: каждое поколение несправедливо к
поколению своих отцов и винит его за то, что оно иное.
Чувство Ницше, что Вагнер «ввел его в заблуждение»,
приобрело более широкий размах с ростом популярности
Вагнера: теперь он вводил в заблуждение всю Германию,
особенно тех молодых людей, которые в иных
обстоятельствах могли бы стать последователями Ницше, как сам он
стал последователем Вагнера.
«Байрейтский кретинизм также стоит на моем пути, —
с горечью писал он Мальвиде в конце июля 1888 г. —
Старый совратитель Вагнер даже после своей смерти
лишает меня тех людей, на которых я мог бы оказать
некоторое влияние».
В этот последний год душевного здоровья его
противостояние мировоззрению Вагнера переросло в
антипатию к нему как к человеку, точно так же, как принятое
им некогда критическое отношение к рейху с самого его
основания обратилось в ненависть к немецкому народу
как таковому. В обоих случаях причина довольно
схожа: если во втором случае это была неспособность его
соотечественников хотя бы в малой степени оценить его
или его труды, то в первом причина крылась в
унизительном зрелище все более возрастающей славы и
популярности Вагнера.
325
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
Но объяснить причины появления книги еще не
означает оправдать ее. Возможно, когда Ницше писал «Казус
Вагнер», он уже ненавидел Вагнера, как ничто другое на
земле, хотя, думается, формулировать вопрос таким
образом довольно примитивно, и задача исследователя вовсе не
сводится к выяснению только этого; она состоит в том,
чтобы выяснить, могла ли эта «ненависть» к человеку
повлечь за собой какие-либо объективные выводы о нем,
представляющие ценность независимо от эмоции, к ним
подтолкнувшей. Заявление Ницше о том, что Вагнер был
«декадент» в том же смысле, в каком был для него и
Бодлер, — одно из суждений, заслуживающих того,
чтобы обсудить его с объективной точки зрения, и, будучи
расценено таковым, требует комментария.
Уже в таком раннем произведении, как «Тангейзер»,
Бодлер признал в Вагнере родственную душу, и,
исполненный ярости на неласковый прием спектакля в Опере
13 марта, он в апреле 1961 г. опубликовал брошюру
«Рихард Вагнер и «Тангейзер» в Париже». Бодлер был
одним из французских почитателей, всерьез настроенных на
создание Театра Вагнера в Париже, однако эта идея не
осуществилась из-за начавшейся в 1870 г. войны. В
числе прочих «декадентов», почитавших Вагнера и
подражавших ему, были такие крупные фигуры, как д'Аннунцио,
Гюстав Моро, К. Мендес, Барре, Джорж Мур, Обри
Бердсли, Суинберн и многие прочие масштабом
помельче. Для Жозефа Пеладана, автора второго плана, но очень
типичного для данного периода, «une Wagnererei» было
«практически синонимом шабаша ведьм»1. Малларме
отдал дань «Le dieu Richard Wagner» в стихотворении,
написанном на учреждение в 1885 г. «Revue Wagneriunne».
Привычка притупила наше восприятие опер Вагнера, и
требуется напрячь воображение, чтобы понять, как воздей-
1 Mario Praz. The Romantic Agony (Романтическая агония). V. 5. P. 65.
Классическое исследование романтического декаданса содержит много ссылок
на Вагнера как на вдохновителя многих знаменитых и менее известных
авторов и художников, работавших в эротическом жанре.
326
ГОД 1888-Й
ствовали они на публику в 1880-х и 1890-х гг. и ранее.
Для многих они были оргиями сладострастия. Для 1850-х
увертюра к опере «Тангейзер» явилась последним словом
артистического воплощения разгула чувственности, а
Бодлер нашел в опере «Le sentiment presque ineffable, tant il
est terrible, de la joie dans la damnation»1. К тому времени,
когда «Тангейзер» слегка устарел, на смену ему пришел
«Тристан», и многие юные барышни, прослушав оперу,
утратили сон. «Я знаком с несколькими людьми и
слышал о еще большем числе тех, кто проплакал всю ночь
[после представления «Тристана»], — писал Марк Твен,
находясь в Байрейте. — Я чувствую себя здесь не в
своей тарелке. Иногда мне кажется, что я единственный
здравомыслящий человек в обществе сумасшедших». В
последнее десятилетие века «Парсифаль», представлявший
собой христианскую драму греха и искупления был —
увы! — гораздо менее популярен, чем изысканно
извращенное «византийское» зрелище.
Более того, настойчивое пристрастие Вагнера сопрягать
эротизм со смертью вызывало у «декадентов» особый
восторг: хотя на глубинном уровне это был символ
совершенного сексуального единения, целому поколению писателей
более импонировал его буквальный смысл — в нем они
видели проявление своего собственного абсолютного
нигилизма. «Заметили ли вы, — вопрошает Ницше, — что у
героинь Вагнера нет детей? Они не могут иметь их...
Зигфрид «эмансипирует женщину» — но без надежды на
потомство» (В, 9). Это замечание не столь уж
неуместное, как может показаться. «Идеал андрогина, — пишет
Прац, — стал наваждением... всего Декадентского
Движения» и в таком виде являл символ бесплодия. Героини
Вагнера не живут ради любви, они умирают ради нее;
и их единственным «искуплением» может быть их полное
уничтожение.
1 «Чувство почти невыразимое, настолько оно страшно, в радости постыд-
ства» (фр.). (Примеч. пер.)
327
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
В творчестве Вагнера огромную силу и
убедительность обрели многие из фундаментальных отличительных
особенностей «романтизма». Отказ от пяти столетий
эволюции, показавшихся слишком тяжелой ношей;
неспособность ориентироваться в нынешнем сложном,
нестабильном обществе и вытекающая отсюда ностальгия по
(вероятно) более простой жизни прошлых эпох или
«Востока»; приоритеты «мифа» (то есть попросту
нереального) перед «историей» (то есть сложным и
актуальным); пристрастие к крайним аффектам из-за их
способности заслонять все прочие чувства, все
неудобные потребности, все обязанности и права других
людей и низводить бытие до примитивного либо/либо;
разворот от ясного и недвусмысленного к темному,
таинственному, бездонному и «глубинному»; желание
«унестись прочь», которое перерастает в желание «унестись
прочь» окончательно, в тягу к вымиранию, — все это
Вагнер распространил на высшие достижения искусства.
Большинство его трагических персонажей, начиная с
Летучего Голландца и кончая Вотаном, тяготятся жизнью
и в известном смысле желают собственного
уничтожения. Под конец жажда избавления от тягот жизни —
все вместе эти тяготы сведены в формулу «проклятие
Альбериха» — влечет за собой крушение мира. Далее
следовал шаг, который был повторен огромным числом
«декадентских» романтиков: смерть собственно желания,
полное истребление страстей, смерть в жизни, «религия»
в византийском обличье, одновременно экзотическая и
бесплодная: «Парсифаль». Грандиозность искусства
Вагнера не должна ослеплять нас в том крайнем
выражении, в каком она предстает в «Парсифале» —
нигилизма, в котором христианские символы вынуждены
изъясняться на языке Шопенгауэра.
То, что Вагнер пережил своих последователей и
сегодня пользуется репутацией еще более непреложной,
нежели когда-либо, — перестав быть «модным» в
сиюминутном понимании этого слова, поскольку, подобно
328
ГОД 1888-Й
Баху, Моцарту и Бетховену, он всегда в моде, —
свидетельствует о его качестве художника, что, однако, не
является аргументом против тезиса Ницше о его
декадентстве. Этот тезис, как я попытался показать, вполне
достоин обсуждения и состоятелен, независимо от того,
был Ницше поражен «ненавистью» к Вагнеру или нет.
«Падение Вагнера» — это заблаговременное
предупреждение против тенденции, которая обозначилась в
искусстве последних десяти лет уходящего столетия.
И вполне понятно, почему даже угроза обвинения в
«отсутствии вкуса» не удержала Ницше от написания этой
статьи. «Декаданс», в котором он обвинял Вагнера, был
наиболее влиятельной тогда формой выражения,
принятой нигилистическим течением современной Европы, в
частности рейха, и в этой тенденции Ницше увидел
угрозу цивилизации, серьезнейшую из всех, с которыми
когда-либо доводилось сталкиваться человечеству.
«Ессе Homo» — самое загадочное и проблемное
произведение Ницше, и читать его следует аккуратно.
Многое в нем написано уже тогда, когда Ницше в
значительной степени утратил контроль над своими фантазиями; с
другой стороны, многое здесь не только рационально, но
и вполне созвучно воззрениям, знакомым по другим пост-
заратустровским сочинениям.
Крайние заявления Ницше о значении его
собственной персоны для истории европейской цивилизации
(«Когда-нибудь мое имя будет ассоциироваться с
воспоминанием о чем-то пугающем — с кризисом, не
случавшимся прежде на земле» (ЕН, IV, 1) и далее)
можно не принимать в расчет как проявления той
завышенной самооценки, которая обозначилась в упомянутых
письмах и личных заметках 1888 г. и ранее. Там, где
он пишет не о себе, а о других людях или повторяет
положения своей философии, «Ессе Homo» не несет
признаков нездоровья. Здесь нет интеллектуальной
деградации: мысль столь же остра, как и прежде, и, кроме
того, не утрачено стилистическое владение языком; на-
329
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
оборот, книга, несомненно, является одним из
прекраснейших произведений немецкой литературы. Многие
фрагменты поп plus ultra по своему богатству в
сочетании с лаконизмом: единственный писатель, отдаленно
напоминающий его, — это Гейне, но его быстроногая
проза лишена той весомой смысловой нагрузки, которой
насыщена прозе Ницше. Чтобы подыскать достойный
аналог, придется вовсе выйти за пределы литературы:
«Ессе Homo» — это «Симфония Юпитера» немецкой
словесности1.
1 Название, содержание, предисловие, «An diesem vollkommen Tage» и
первая глава «Ессе Homo» были отправлены в печать еще до того, как
Ницше постигла беда.
Глава 14
ПЕРЕОЦЕНКА
Переоценка всех ценностей, вот
вопросительный знак столь черный,
столь огромный, что отбрасывает тень
на того, кто его воздвигает...
Ф. Ницше. Сумерки идолов
Тот, кто публично задается великой
целью и после этого понимает, что он
слишком слаб для нее, обыкновенно
также слишком слаб, чтобы публично
отречься от этой цели, и с тех пор
неизбежно становится лицемером.
Ф. Ницше.
Человеческое, слишком человеческое
1
Законченные работы, начиная с книги «По ту
сторону добра и зла» и до «Ессе Homo» включительно,
составляют содержание переднего плана этого
творческого периода жизни Ницше, на заднем плане которого
остается масса незаконченного материала, и в целом его
наилучшим образом можно было бы назвать
«Переоценкой». Этот материал, в зависимости от степени его
важности, частично сослужил службу в исследованиях
творческого наследия Ницше. На самом деле, призрак
«Переоценки» был просто наваждением для его поздней
философии, неотступно преследуя ее, и ни одна
дискуссия не обходилась без порочной практики цитирования
оттуда параллельно уже завершенным трудам, как если
бы оба корпуса обладали равным достоинством. В
результате границы между тем, что Ницше опубликовал
331
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
или готовил к публикации, и тем, что он забраковал и к
изданию не предназначал, стерлись.
Анализа требуют три позиции: отношение самого
Ницше к «Переоценке»; проблема ее публикации; содержание
и качество самих материалов.
К концу 1888 г. Ницше сражался со своими недугами
вот уже шестнадцать лет. Это не романтическое
преувеличение, а чистая правда, когда говорят, что
единственное, что сохраняло ему жизнь в течение второй половины
этого периода, было его чувство предназначения; и чем
больше прогрессировала болезнь, тем отчаяннее он
сосредоточивался на важности этой миссии. В том понимании,
в каком он использовал это выражение, миссия Ницше
была манией. Ее движущей силой был грандиозный
проект, поначалу получивший название «Воля к власти» и
задуманный как труд, по сравнению с которым «Зарату-
стра» выглядел бы поэтическим прологом. Кругозор
этого творения должен был быть очень обширным —
детальной разработкой всей его философии. Ницше начал
собирать для него материал в 1884 г., и «Nachlass»
содержит множество планов к его исполнению. Один из них,
датированный 17 марта 1887 г., был не вполне
обоснованно выбран Элизабет в качестве каркаса для созданной ею
компиляции, получившей название «Воля к власти»1.
Первое упоминание о задуманной книге в
опубликованных Ницше сочинениях появляется в «Генеалогии
морали», где он в скобках отсылает читателя «к работе, кото-
1 План выглядит следующим образом: «Воля к власти. Опыт переоценки
всех ценностей. Книга первая. Европейский нигилизм. Книга вторая.
Критика высших ценностей до настоящего времени. Книга третья. Принципы
новых оценок. Книга четвертая. Дисциплина и воспитание [Zucht und
Züchtung]». Сохранилось более двадцати пяти планов «Воли к власти».
Никаких указаний на то, что приведенный выше план окончательный, нет (не
говоря уже о том, что Ницше отказался от самого проекта как такового);
наоборот, бумага, на которой был записан план, порвана пополам, причем
заглавие и подзаголовок, за исключением слов «всех ценностей», не сохранились.
332
ПЕРЕОЦЕНКА
рая готовится мною: «Воля к власти. Попытка
переоценки всех ценностей» (ГМ, III, 27). К тому времени, когда
эти слова появились в печати, многое из собранного
материала уже было использовано в работе «По ту сторону
добра и зла» и в самой «Генеалогии». Он написал
больше. В мае 1888 г. он с головой ушел в работу над
«Падением Вагнера», а потом приступил к «Сумеркам
идолов». Но намерение написать «Волю к власти» все еще не
оставляло его, по крайней мере, до 26 августа 1888 г., так
как этой датой помечена сохранившаяся страница из его
записной книжки с очередным планом сочинения. Потом
он вдруг внезапно передумал и набросал план
совершенно другой книги. Идея детальной разработки «Воли к
власти» полетела в корзину; вместо нее он теперь напишет
короткую книгу, где сумеет изложить свою последнюю
философскую позицию с прямотой и лаконизмом, к
которым он благоволил с самого начала года и которые уже
прошли испытание в «Казус Вагнер». Этот новый труд,
опять в четырех «книгах», но гораздо более краткий, чем
тот, от которого он отказался, в качестве рабочего
названия получил прежний подзаголовок: «Переоценка всех
ценностей». В составленном осенью плане приводятся
названия четырех книг:
Книга 1. Антихристианин. Опыт критики христианства.
Книга 2. Свободный дух. Критика философии как
движения нигилизма. Книга 3. Имморалист. Критика самого
рокового вида невежества, морали. Книга 4. Дионис.
Философия Вечного Возвращения.
Новый грандиозный опус упомянут в конце
предисловия к «Сумеркам идолов», под которым стоит пометка
«Турин, 30 сентября 1888 г., в день завершения первой
книги «Переоценки всех ценностей». Должно быть, этой
первой книгой был «Антихристианин», и, будучи
опубликована, — уже после постигшего Ницше коллапса — эта
книга имела подзаголовок, обозначенный в вышеприведен-
333
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
ном плане. Поначалу Элизабет представила
«Антихристианина» как «первую и единственную законченную часть
«Воли к власти», но «Антихристианин» не значится ни в
одном из планов этого проекта; впервые он появляется в
качестве «первой книги» «Переоценки», и теперь его
принято считать первой и единственной законченной частью
«Переоценки».
Но и это еще не главное. В «Ессе Homo» мы читаем:
«Непосредственно по окончании только что
названного произведения и не теряя ни единого дня я приступил я
к грандиозной задаче «Переоценки»... Предисловие было
написано 3 сентября 1888 года... Лишь 20 сентября я все
же покинул Сильс-Марию... 21-го днем я прибыл в
Турин... Без промедлений и ни на минуту не позволяя себе
отвлечься, я возобновил работу: оставалось написать
последнюю четверть произведения. 30 сентября — день
великой победы; седьмой день; отдых Бога не берегах По.
В тот же день я написал еще предисловие к «Сумеркам
идолов» (ЕН-СИ, 3).
Из этого следует, что «Антихристианин» уже
перестал быть «первой книгой» «Переоценки», а стал уже
всей книгой целиком, что «Переоценка» и
«Антихристианин» теперь были одно и то же. Этот вывод
напрашивается на основании нескольких писем того
периода, в которых Ницше говорит об окончании
«Переоценки». «Ессе Homo» он рассматривает как прелюдию
к ней.
«Теперь я, с цинизмом, который станет
всемирно-историческим, поведал свою собственную историю, —
писал он Брандесу 20 ноября. — Сочинение называется
«Ессе Homo»... Вся эта работа — прелюдия к
«Переоценке всех ценностей», которая лежит законченная
передо мною: клянусь тебе, что через два года вся земля
содрогнется. Я — фатум».
334
ПЕРЕОЦЕНКА
Таким образом, к этому сроку четырехчастная
«Переоценка», представлявшая собой сокращенный
вариант «Воли к власти», была сведена до объема одного
эссе, гораздо более краткого, чем каждое из
«Несвоевременных размышлений»; но на каком-то отрезке
между этой датой и более ранними числами 1889 г. Ницше
вообще вычеркнул «Переоценку» из планов
задуманного. Об этом поведали два титульных листа,
дошедшие до нас в «Nachlass»1. На первом, более раннем из
двух, читаем: «Антихристианин». Опыт критики
христианства. Книга первая «Переоценки всех ценностей».
На втором — более позднем — читаем:
«Антихристианин. Переоценка всех ценностей». Подзаголовок
жирно зачеркнут, и под ним крупным шрифтом написано:
«Fluch auf das Christentum» («Проклятие
христианству»). Значит, в соответствии с его последними
намерениями, «Антихристианин» не является ни
«Переоценкой», ни ее первой книгой: как раньше «Воля к власти»,
так теперь и «Переоценка всех ценностей» получила
отставку.
По мере того как задуманные шедевры все больше и
больше ужимались в объеме, заявления Ницше звучали все
громче и достигли своего пика как раз тогда, когда он сам,
похоже, решил пресечь их: это означало утрату связи с
реальностью, и затем последовало безумие, явное и
нескрываемое. Многим этот последний период осознанной жизни
Ницше казался непрерывным движением к закату, и
главным основанием подобного взгляда служила его выросшая
до небывалых размеров самооценка значимости своей
личности и своих трудов. Но сам факт, что «Переоценка» так
и не появилась, говорит о гораздо более серьезной
подоплеке дела.
Параллельно самовосхвалению протекал глубинный
поток самокритики. Если бы не это, не исключено, что
1 Они воспроизводятся в книге: Erich F. Podach. Freidrich Nietzsche
Werke des Zusammenbruchs. Heidelberg, 1961. IV, V.
335
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
шедевр, призванный потрясти мир до оснований,
разросся бы до масштабов, соответствующих его
предназначению; вместо этого он сократился в объеме и под конец
был полностью отброшен. Это произошло под
воздействием глубинного здравого смысла, который
подсказывал ему, что «Переоценка» не являлась продвижением
вперед относительно «Заратустры», а была всего лишь
его комментарием и что этот комментарий сам по себе
уже опубликован в ряде произведений начиная с книги
«По ту сторону добра и зла» и заканчивая «Сумерками
идолов». Вполне оправдано мнение, что расщепление в
его осознанном отношении к себе и своим работам
происходило в течение 1888 г. Он всегда был склонен
преувеличивать собственные достоинства, но в 1888 г. все
сдерживающие моменты полностью отказали. Отсюда
самовосхваление, свойственное «Ессе Homo». Но в
равной мере он заботился о своей репутации философа и
стилиста и никогда не опубликовал бы ничего, что
вызвало бы прямые нарекания в его адрес как
несостоятельного мыслителя или же неумелого писателя. В этом
отношении он оставался, как всегда, непреклонен: отсюда
здравомыслие «Сумерек идолов». Оповещение о
колоссальном проекте, для достижения которого он боролся
за сохранение своей жизни, относится к прежнему
состоянию ума; постепенное сведение на нет этого
проекта и окончательный отказ от него свидетельствуют о
прежней силе его разума.
2
Остатки забракованной работы попали в руки
Элизабет, когда в 1895 г. она приобрела единоличное
право на все опубликованные и неопубликованные труды
Ницше. И ее решение выдать их за близкую к
завершению книгу было роковой ошибкой, повлекшей за
собой пересмотр отношения к этому корпусу материалов.
336
ПЕРЕОЦЕНКА
«Воля к власти: исследования и фрагменты» впервые
появилась в 1901 г. в 15-м томе третьего издания собрания
сочинений Ницше (то есть второго издания
«Grossoktavausgabe», 1901—1913 гг.); в этом виде она содержала 483
раздела в редакции Петера Гаста и Эрнста и Августа Хор-
нефферов, с предисловием и послесловием Элизабет
Ферстер-Ницше. В 1906 г. вышло «Taschenausgabe»
(карманное издание) сочинений. К этому времени «Воля к
власти», теперь под редакцией Гаста и Элизабет, разбухла до
1067 разделов, разбитых на четыре «книги»; это издание
было впоследствии (в 1910—1911 гг.) перенесено в
«Grossoktavausgabe» (вместо существующего 15-го тома),
где получило новое название «Воля к власти, опыт
переоценки всех ценностей».
Обстоятельства, при которых вышло первое издание,
описаны Эрнстом Хорнеффером, и они весьма
показательны для свойственного Элизабет метода работы.
Предыдущая редакция «Nachlass», выполненная
Фрицем Когелем, была, как утверждает Хорнеффер,
бесполезной, потому что многие материалы еще не были
дешифрованы или прочитаны, и никто не знал, как их следует
редактировать.
«Мы сочли, что в первую очередь должны прочесть все
«Nachlass» («Наследие»), чтобы, по крайней мере, иметь
о нем полное представление. Это необходимое
предварительное, но первостепенной важности мероприятие для
продуманного и спланированного издания до сих пор не было
выполнено. Нерасшифрованные, непереписанные рукописи
лежали стопками; ни у кого не было ни малейшего
представления, каково их содержание. Архив издавался самым
бездарным образом. И вот мы приступили к работе по разбору
«Nachlass». Однако фрау Ферстер-Ницше это показалось
чересчур долгим. Она совершенно не выносила
«монотонности» нашего способа работы. В ее планы входило сделать
все как можно скорее... Короче, единственной целью было
поскорее выдать тома. Нам предстояло трудное решение. Ее
337
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
желание разделаться с изданием «Nachlass», пусть и кое-
как, было совершенно непреклонным. Это мы знали. Если
бы мы отказались сотрудничать, она поручила бы эту
работу кому-нибудь еще. Порой она называла имена, которые
бросали в дрожь от беспокойства за Ницше. Поэтому мы
решили держаться до последнего, чтобы предотвратить
худшее».
Эти заметки относятся a fortiori^ ко второму изданию,
над которым трудилась сама Элизабет.
Возражения против «Воли к власти» в том виде, в
котором она существует ныне, можно вкратце перечислить
следующим образом:
1) компиляция содержит только материалы,
забракованные самим Ницше или использованные им где-либо
еще в иной форме и контексте (в компиляции Элизабет не
делает разницы между этими двумя разновидностями
материала);
2) не обосновано и размещение материалов под
издательскими заголовками, а также заявление о том, что
результат является «главным трудом» Ницше. На это
обстоятельство указывал Альберт Лэмм, который в
сентябре 1906 г. сделал обзор «Воли к власти». Он писал:
«Книга не содержит ничего, что не было бы известно
любому, кто знаком с творчеством Ницше: это
фактически публикация «Nachlass», афоризмы, которые могли бы
соседствовать с прочими в книге «По ту сторону добра и
зла», «Антихристианине» и т. д. ... ничего нового». И
продолжает: «Во время работы над этими материалами
Ницше открыл много гораздо более существенных вещей
[то есть того, что впоследствии опубликовал сам], и труд,
который предстает перед нами («Воля к власти»
Элизабет), — это совсем не тот труд, которому судьбе было
не угодно дать осуществиться. Перед нами то, что
забраковал сам Ницше».
Преимущественно, в основном (um.). (Примеч. пер.)
338
ПЕРЕОЦЕНКА
Важным в этом суждении является то, что материалы
«Nachlass» — материалы забракованные: и если Ницше не
использовал их, то только потому, что не желал использовать;
именно так их и следует читать, раз уж они явились на свет.
Что касается манеры презентации, то никакого порядка
в организации материала — будь то «Воля к власти»
Элизабет, или компиляция под названием «Unschuld des
Werdens», или же то, что отобрал Герхардт Штенцель для
«Bergland-Buch-Klassiker», — здесь нет. Эти издания
могут лишь дезориентировать читателя, поскольку создают
впечатление порядка там, где он отсутствует; они
затушевывают сам факт, что эти материалы суть материалы
отбракованные, и отвлекают внимание от законченных
произведений 1886—1888 гг., которые в результате могут
показаться только «пристрелкой» к произведению
«неоконченному». Целое поколение исследователей было введено в
заблуждение ориентацией на «Волю к власти» как на
«основной труд» Ницше и на отношение к «Заратустре» как
на его «глубоко личное» произведение (в интерпретации
Элизабет). Очевидная бессвязность первого и
непостижимость второго увековечили мнение о том, что их автор сам
толком не знал, о чем писал. Такой вывод был бы
абсолютно невозможен, если бы постоянно помнили о том, что
произведения Ницше начиная с книги «Рождение трагедии» и
кончая очерком «Ницше против Вагнера» составляют
последовательный ряд сочинений, единую и неразрывную цепь;
а также о том, что, хотя Ницше и планировал книгу под
названием «Воля к власти», он сам отказался от этого
замысла (как и в случае с «Переоценкой», пришедшей на
смену «Воли к власти»), — и потому этих книг нет вовсе.
Единственный метод публикации «Nachlass», который
бы удовлетворял научной объективности, уже тогда был
понят Эрнстом Хорнеффером:
«То, как следовало осуществлять издание, — пишет
он в уже цитированном выше отказе от участия в
издании, за которое нес частичную ответственность, — мы
339
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
поняли... только тогда, когда было уже слишком поздно.
И даже если бы мы увидели это раньше, то никогда не
сумели бы убедить фрау Ферстер-Ницше в
необходимости принятия этой формы. Ибо существует единственно
возможный способ издания «Nachlass» Ницше... его
рукописи следует публиковать слово в слово, точно так,
как они есть, без какой бы то ни было издательской
организации и перегруппировки».
Сейчас «Nachlass» Ницше воспроизведено подобным
образом в издании Колли-Монтинари «Kritische
Gesamtausgabe», вышедшем между 1967-м и 1978 гг.
3
Обращение к «Nachlass» может принести какую-то
пользу только в том случае, если читатель знаком с
опубликованными трудами Ницше; причина состоит в
вышеозначенном факте, что содержание «Nachlass» представляет
собой отбракованные материалы. Само по себе это
огромное и обескураживающе хаотичное нагромождение заметок,
афоризмов и кратких замечаний, в которых порой узнаваем
стиль Ницше, хотя и необработанный, лишенный того
«разговорного» начала, которым отличаются его законченные
произведения. Многие из записей — это не более чем
заметки на память или списки тем. Пытаться освоить эту
массу хаотичного материла без какого-то ведущего
принципа — бесполезный труд, и единственным принципом,
который может обойтись без наведения ложного порядка,
является сравнение и сверка фрагментов «Nachlass» с
текстами законченных произведений.
Весь материал распадается на два больших отдела:
1) предварительные наброски или формулировки,
параллельные уже опубликованным чистовым вариантам, а
потому уже ненужные; и 2) временно отложенные материалы,
неприемлемые в силу тех или иных причин.
340
ПЕРЕОЦЕНКА
В первом случае можно сопоставить афоризм «Nachlass»
с его опубликованным двойником, чтобы выявить
дополнительные оттенки взглядов Ницше; во втором случае
следует поступать наоборот — исключать афоризм из
формулировки философского положения Ницше, поскольку именно
так поступил в данном случае он сам. И конечно же нужно
уметь отличать первый тип материалов от второго.
Основной принцип, которым следует руководствоваться, состоит
в том, что все то, что в «Nachlass» не соответствует текстам
публикаций, не имеет силы.
Материал первого типа включает заметки по всем
аспектам философии. Например, замечание такого рода:
«Свойства вещей суть их влияние на другие «вещи»: если
изъять другие «вещи», тогда вещь будет лишена свойств, то
есть нет вещи без других вещей, то есть нет «вещей-в-
себе» (ВВ, 557) —
является неиспользованным фрагментом доводов против
метафизического мира, его можно поместить рядом с
аналогичными выдержками из уже опубликованных работ. То
же самое относится и к следующим афоризмам на тему
конфликта и контроля над чувствами:
«В отличие от животных, человек развил в себе
множество противоречивых побуждений и импульсов: именно
вследствие такого синтеза он является хозяином земли...
Высший человек должен обладать величайшим
разнообразием побуждений... В действительности, там, где
растительный человек выказывает себя сильнейшим,
обнаруживаются самые мощные противоположные инстинктивные
побуждения (пример тому Шекспир), но подконтрольные
[человеку]» (ВВ, 966).
«Преодоление аффектов? Нет, если то, что имеется в
виду, ослабляет их и способствует их уничтожению.
Другое дело — поставить их на службу, что также означа-
341
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
ет подвергнуть их длительной тирании (не только в
пределах отдельной личности, но и как сообщество, расу,
проч.). В конце концов, они снова решительно станут
гарантами свободы: они возлюбят нас, как хорошие слуги,
и добровольно устремятся туда, где лежат наши главные
интересы» (ВВ, 384).
«Овладение страстями, не ослабление их и вымирание!
Чем больше сила овладения волей, тем больше свободы
может быть позволено страстям» (ВВ, 933).
Сходным образом следующее замечание является
вкладом в теорию сублимации:
«Жестокость утончается до трагического сострадания,
так что начинает быть отрицанием понятия
жестокости. Точно так же сексуальная любовь утончилась до
любовной страсти; рабское поведение — до христианского
послушания; низость — до уничижения; патологическое
состояние nervus simpathicus\ как, например, пессимизм,
паскализм или карлейлизм и т. д.» (ВВ, 312).
К этой же сфере относится довольно длинный
отрывок под названием «Что такое благородно?» (ВВ, 943),
который является предварительным наброском или
наметками главы с тем же названием в книге «По ту
сторону добра и зла». В работе «Генеалогия морали»
раздел, посвященный происхождению «угрызений совести»
(«Генеалогия морали» II, 16, цит. гл. 12),
предварительно изложен в заметке о «Verinnerlichung» —
углублении и напряжении — человека:
«Углубление и напряженность происходят тогда, когда,
с установлением мира и стараниями общества к обузданию,
мощные побуждения, не нашедшие выхода вовне, стремят -
1 Симпатический нерв (лат.). (Примеч. пер.)
342
ПЕРЕОЦЕНКА
ся разрядиться внутрь при содействии воображения.
Жажда вражды, жестокость, месть, насилие разворачиваются
назад, «уходят вглубь»; в стремлении к знанию
сказывается стяжательство и соперничество; в художнике
проявляется ушедшая вглубь сила притворства; побуждения
трансформируются в демонов, с которыми нужно
бороться, и т. д.» (ВВ, 376).
Здесь есть и много заметок по поводу вечного
возвращения, например:
«1. Идея вечного возвращения: предположения,
которым суждено быть верными, если они были верными.
Последствия этого.
2. Как тягчайшая идея: ее возможное воздействие, если
это не предупредить, то есть если не осуществить
переоценку всех ценностей.
3. Способы выдержать это: переоценка всех
ценностей. Наслаждаться уже не определенностью, а
неопределенностью; нет более «причины и следствия», есть
непрерывное творчество; нет более воли к сохранению,
есть воля к власти; нет более робкого выражения: «Все
это только субъективное», но есть другое: «Все это
наш труд! Будем гордиться им!» (ВВ, 1059) —
и на тему нигилизма, например:
«Что означает нигилизм? Что высшие ценности
утратили свою ценность. Нет цели. Нет ответа на вопрос:
«По какой причине?» (ВВ, 2) —
и на такие темы, как антисемитизм:
«Антисемиты не прощают евреям наличие «Geist» —
и денег. Антисемиты — другое название «обладающих
меньшими привилегиями» (ВВ, 864).
343
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
Вторая разновидность материала в целом состоит из
философских заметок, которые не укладываются в общую
концепцию публикуемых работ. Такого свойства,
например, следующая запись:
«Длительность существования, при наличии такого
«напрасно», без цели и устремления, вот наиболее
парализующая идея... Вообразим эту идею в самой страшной
ее форме: существование, как оно есть, без смысла или
цели, но неизбежно возобновляющееся, без окончания в
ничто: «вечное возвращение». Это крайняя форма
нигилизма: ничто («бессмысленность») навечно! Европейская
форма буддизма: энергия знания и силы вынуждает к
подобному верованию. Оно наиболее научно из всех
возможных гипотез. Мы отрицаем конечные цели: если бы
существование имело конечную цель, она должна была бы
уже быть достигнута» (ВВ, 55).
Этот афоризм вступает в некоторое противоречие с теми
взглядами, которые изложены в «Веселой науке» и «Зара-
тустре», и, несмотря на то что и такой взгляд на вечное
возвращение, конечно, возможен, тем не менее он
отличается от того, что принял сам Ницше: данное положение
забраковано и именно по этой причине попало в «Nachlass», а
не в «Веселую науку». Вот еще один пример:
«Все то, что повторится в ближайшем будущем, мир
становления может превратить в мир пребывания» (ВВ, 504).
Высказывание относится к теории вечного возвращения,
и мы приняли его во внимание (см. главу 9), но Ницше
счел его не вполне отработанным — и мысль осталась в
записных книжках.
То же самое можно сказать о фрагменте, помещенном
в предисловии 1906 г. к «Воле к власти»; этот текст
выглядит как несостоявшееся вступление к исследованию о
нигилизме:
344
ПЕРЕОЦЕНКА
«То, о чем я повествую, есть история двух
последующих столетий. Я описываю грядущее, то, чего уже нельзя
более избежать: нарастание нигилизма. Эту историю уже
можно рассказывать, ибо неотвратимость этого уже здесь
и действует. Это будущее дает о себе знать через сотни
признаков, этот рок уже повсюду возвестил о себе;
каждое ухо уже навострилось на эту музыку будущего.
Долгое время вся наша европейская культура с мучительным
напряжением, нарастающим от десятилетия к десятилетию,
движется как будто к катастрофе: беспокойная, неистовая,
опрометчивая: как река, которая хочет достичь своего
конца» (ВВ, предисловие, 2).
И снова в этом есть нечто созвучное всему строю его
мысли, но «история двух последующих столетий» есть
нечто им не написанное: и этот проект также оказался
среди отвергнутых.
Необходимость помнить о том, что заметки, вошедшие
в «Переоценку», носят характер забракованных, еще
более усиливается, когда дело касается записей, которые не
только не противоречат опубликованным оценкам, но и
являются их развитием. Известно, например, такое
замечание о Наполеоне:
«Революция сделала возможным Наполеона: в этом ее
оправдание. Ради такой же награды можно желать
анархического исхода всей нашей цивилизации» (ВВ, 877).
Эта цитата приводилась как свидетельство тому, что
Ницше помрачился рассудком, когда писал это, или, при
самой мягкой оценке, что его страсть к «великим мира сего»
утратила всякое чувство меры. Но следует снова указать на
то, что «экспериментальный» метод его философии —
допущение многих положений, в том числе и самых крайних,
в стремлении прийти к непредвзятой точке зрения —
вынужден идти на риск абортивных «опытов»:
преждевременных ответов, необоснованных догадок, формулировок,
345
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
веская проницательность которых доходит до абсурда. К
тому же следует помнить, что проницательность философа
«эксперимента» проявляется в его способности признавать,
что опыт не удался». (Вся философия власти была, с точки
зрения Ницше, экспериментом удачным.) Опубликование
приведенного выше афоризма в «Воле к власти» не
доказывает безумия Ницше, это как раз свидетельство
обратного: он это написал, но он же от этого и отказался.
Еще более тонко вводит в заблуждение славословие
универсальной воле к власти в разделе 1067 «Воли к власти»:
«А знаете ли вы, что для меня «мир»? Нужно ли мне
явить его в своем зеркале? Этот мир: чудовище энергии,
без начала, без конца; неподвижная, отлитая в бронзе
чудовищность энергии, которая не прибывает и не убывает,
которая не истощается, а превращается; как единое целое
неизменной величины, хозяйство без убытков и потерь, но
также и без роста и доходов; заключенное в «ничто» как
свою границу; не что-то, что истекает или рассыпается, не
что-то, что простирается бесконечно; это определенное
количество энергии, помещенное в определенное
пространство, но не такое пространство, которое бывает «полым»
здесь и там, оно, скорее, и есть сама вездесущая энергия
как игра энергий и волн энергии, одной и многих
одновременно; она нарастает в одном месте и одновременно
убывает в другом; это море энергий, текущих и
струящихся вместе, в вечном движении, с вечными отливами,
огромными периодами возобновления, с убыванием форм и
наполнением ими. От простейшей формы она стремится к
самой сложной, от застывшей, самой жесткой, холодной
формы — к раскаленной, бурлящей, противоречивой, и
затем от этого изобилия вновь возвращается домой к
простейшему, от игры противоречий к радости гармонии, все
еще утверждая себя в этом единообразии потоков и лет,
благословенная в том, что ей суждено вновь и вновь
возвращаться; она подобна началу, что не знает насыщения,
пресыщения, износа: вот мой дионисийский мир вечного
346
ПЕРЕОЦЕНКА
самосотворения, вечного саморазрушения, этот загадочный
мир двойного восторга, вот мое «по ту сторону добра и
зла», без цели, если радость вращения не есть сама по
себе его цель; без воли, если это кольцо не испытывает
доброй воли по отношению к самому себе — вам хочется
имени этому миру? Решения всех ваших загадок? Света
и для вас тоже, вас, самых сокровенных, сильных, самых
бесстрашных, самых полуночных людей? Этот мир есть
воля к власти — и ничего кроме\ И вы сами также суть
эта воля к власти — и ничего кроме!»
На первый поверхностный взгляд кажется, что это
довершает философию власти, распространяя ее принципы на
дальние пространства; в действительности это ее
отрицает, так как выводит за границы поля доступных
наблюдению феноменов. Радикальное и коренное отличие воли к
власти Ницше от воли Шопенгауэра состоит в том, что
первая является индукцией наблюдения, а вторая —
постулатом, основанным на посылках немецкой метафизики;
но в вышеприведенном отрывке Ницше сумел свести волю
к власти к универсальному субстрату, отличному от
шопенгауэровского только своим «материалистским»
характером.
На этих нескольких примерах двух разновидностей
материала, который составляет содержание «Nachlass»,
надеюсь, удалось показать, как следует им
пользоваться. Будучи процитирован неосмотрительно и без
хорошего знания опубликованных трудов, он может стать
источником путаницы и заблуждений; прочитанный с
пониманием, он будет способствовать более глубокому
проникновению в методы работы Ницше и процессы его
мышления.
Глава 15
ПОЭТ
Художники постоянно славят —
они ничего более не делают: они славят
все условия и вещи с репутацией
способности заставить человека
почувствовать себя хорошим, или великим, или
опьяненным, или веселым, или
счастливым, или мудрым.
Ф. Ницше. Веселая наука
Даже в годы своей зрелости Ницше никогда не
переставал писать стихи, и хотя его успехи в стихосложении
не могут сравниться с достижениями в прозе, все же они
представляют интерес как параллельное выражение двух
граней его личности, которые я назвал сократической и
гераклитовой. На одном полюсе находятся краткие, в духе
эпиграмм, стихи, самыми известными из которых
являются те, что предваряют «Веселую науку»; на другом — не
имеющие определенной формы стихи в духе «Дифирамбов
Диониса». Между этими двумя крайностями — строго
ритмическая рифмованная форма, развитие стиля его
юношеской поэзии, способного выразить и сократическое, и
гераклитово начало.
Стихи-эпиграммы — это в основном интенсификация,
при помощи метра и рифмы, афоризмов объемом в одно
предложение, впервые появившихся в книге
«Человеческое, слишком человеческое», и их развитие, например:
«Испытание хорошего брака. Брак можно считать
хорошим, если он способен вытерпеть «исключение»
(ЧС, 402).
348
поэт
«Враги истины. Убеждения — для истины враги
более опасные, чем ложь» (ЧС, 483).
«Благородный лицемер. Никогда не говорить о себе —
весьма благородная форма лицемерия» (ЧС, 505).
«Плохая память. Преимущество плохой памяти состо-
ит в том, что одними и теми же хорошими вещами можно
по нескольку раз наслаждаться впервые» (ЧС, 580).
«Скромность человека. Как мало нужно удовольствия,
чтобы большинство людей сочло жизнь хорошей; как
скромен человек!» (СТ, 15).
«Преамбула к веку машин. Печатная пресса, машина,
железная дорога, телеграф — все это преамбула,
тысячелетних выводов которой ни у кого так и не нашлось
храбрости извлечь» (СТ, 278).
«Самый опасный член партии. Самым опасным членом
партии является тот, чье поражение способно развалить всю
партию: а потому это лучший член партии» (СТ, 290).
Целью афоризма является легкость его запоминания,
которая достигается за счет сжатой выразительности, и
самая успешная в этом отношении работа Ницше —
«Сумерки идолов», где ему удается свести высказывание к
абсолютному минимуму слов, например:
«Даже самый храбрый из нас редко отваживается на
то, что он действительно знает» (СИ, I, 2).
«Из военной школы жизни. Что не убивает меня, то
придает мне силы» (СИ, I, 8).
«Немецкий ум [Geist]»: уже восемнадцать летcontradic-
tio in adjecto» (СИ, I, 23).
349
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
«Формула моего счастья: да, нет, прямая линия, цель»
(СИ, I, 44).
Но легкости запоминания способствует также размер и
рифма, именно этому обстоятельству мы обязаны
появлению дюжины крошечных метрических афоризмов 1880-х,
например:
Für Tänzer
Glattes Eis
Ein Paradeis
Für den? Der gut zu tanzen weiss.
(Для танцоров. Гладкий лед — рай для того, кто умеет хорошо
танцевать) (ВН, Vorspiel 13).
Aufwärts.
«Wie kommt ich am besten den Berg hinan?» —
Steig nur hinauf und denk nicht dran!
(Вверх.
— Как лучше подняться на гору ту мне?
— Ты просто ступай и о том не думай!)
(ВН, Vorspiel 13).
Der Nächste
Nah hab den Nächsten ich nicht gerne:
Fort mit ihm in die Höh und Ferne!
Wie würd er sonst zu meinem Sterne?
(Мой ближний. Мне не очень приятен мой ближний. / Пусть прочь летит, в
высь и даль! / Как иначе стал бы он моей звездой?) (ВН, Vorspiel 30).
Урбанизм, характерный для эпиграмм, также очевиден и
в стихах более традиционного стиля, ранними примерами
которого могут служить «Ohne Heimat» («Без Родины») и
«Dem unbekannten Gott» («Неизвестному Богу»)1.
Хороший пример 1880-х — стихотворение «Unter Freunden»
(«Среди друзей»), помещенное во втором издании книги
«Человеческое, слишком человеческое»:
1 Цит. в гл. 2.
350
поэт
Schon ists, miteinander schweigen,
Schöner, miteinander lachen, —
Unter seidnem Himmels-Tuche
Hingelehnt zu Moos und Buche
Lieblich laut mit Freunden lachen
Und sich weisse Zähne zeigen...
(Хорошо молчать друг с другом,
Лучше — вместе посмеяться,
Под шелковым неба кровом,
Развалясь во мху под буком,
Любо хохотать с друзьями,
Зубы белые являя.)
Однако во время написания «Веселой науки» Ницше
начал все больше и больше использовать этот вид
стиха в качестве средства выражения своих природных
эмоций: восторженные, экстатические ноты наиболее
отчетливо слышатся в «Идиллиях Мессины» (написанных в
1882 г. и вошедших в приложение ко второму изданию
«Веселой науки»), а также в других стихах того же
периода, например в «Nach neuen Meeren» («Новым
морям»):
Dorthin — will ich; und ich traue
Mir fortan und meinem Griff.
Offen liegt das Meer, ins Blaue
Treibt mein Genueser Schiff.
Alles glänzt mir neu und neuer,
Mittag schläft auf Raum und Zeit;
Nur dein Auge — ungeheuer
Blickt mich's an, Unendlichkeit!
(Я в себя и выбор верю
И стремлюсь куда-то вдаль.
В синь летит, покинув берег,
Генуэзский мой корабль.
Все мне ново. Мир полдневный
Спит в пространстве временном;
Твой лишь взор неимоверный,
Бесконечность, предо мной!)
(ВН, Anhang 12)
351
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
Еще один пример — стихотворение «An den Mistral»
(«К мистралю»), ставшее классическим образцом
динамичного ритма:
Mistral-Wind, du Wolken-Jäger,
Trübsal-Mörder, Himmels-Feger,
Brausender, wie lieb ich dich!
Sind wir zwei nicht eines Schosses
Erstingsgabe, eines Loses
Vorbestimmte ewiglich?
Hier auf glatten Felsenwegen
Lauf ich tanzend dir entgegen,
Tanzend wie du pfeifst und singst:
Der du ohne Schiff und Ruder
Als der Freiheit frefster Bruder
Über wilde Meere springst...
(Вей, мистраль, до туч охотник,
Смерть хандры, небесный дворник,
Забияка, мне родной!
Мы не первенцы ли оба.
Не одной ли мы утробы,
Мы судьбы ли не одной?
Вверх к тебе по тропам твердым
Я бегу, танцуя, в горы
Под дуду твою и свист;
Без ладьи и без руля ты
Воле самым вольным братом
В бурном море рвешься ввысь...)
(ВН, Anhang 14)
Тенденция, намеченная в этих стихах, усилилась в
годы создания «Заратустры», и кульминация ее
пришлась на полумистические экстатические строки «Auf
hohen Bergen »(«С высоких гор»):
О Lebens Mittag! Zweite Jugendzeit!
О Sommergarten!
Unruhig Glück im Stehn und Spähn und Warten!
Der Freunde harr ich, Tag und Nacht bereit,
Der neuen Freunde! Kommt! 's ist Zeit! 's ist Zeit!
352
поэт
Dies Lied ist aus — der Sehnsucht süsser Schrei
Erstab im Munde:
Ein Zauber tat's, der Freund zur rechten Stunde,
Der Mittags-Freund — nein! Fragt nicht, wer es sei —
Um Mittag war's, da wurde Eins zu Zwei...
Nun feiern wir, vereinten Sieg gewiss,
Das Fest der Feste:
Freund Zarathustra kam, der Gast der Gäste!
Nun lacht die Welt, der grause Vorhang riss,
Die Hochzeit kam für Licht und Finsternis...
(О жизни полдень! О мой летний сад!
И вновь цветенье!
Стан счастья в созерцанье, предвкушенье!
И день и ночь друзей встречать я рад,
О новый друг! Приди! Уж время! время!
Иссякла песнь — желанья сладкий крик
Застыл в гортани:
То маг содеял в час предугаданный,
Полдневный друг — не суть, каков твой лик —
Один двумя предстал в полдневный миг.
Мы нынче правим общую победу,
Пир всем пирам:
Друг Заратустра здесь, гость всем гостям!
Отринут страшный занавес бесследно,
Ликует мир на свадьбе Тьмы со Светом.)
(ДЗ, Nachgesang, заключительные строки)
Напряженность чувства в стихотворении «Aus hohen
Bergen» едва не взламывает метрическую форму и
сдерживающие рамки рифмы, прорываясь в белый стих; и
действительно, для заключительного поэтического стиля
Ницше характерно обилие самых разнообразных
организационных принципов, за исключением метра:
Still! —
Von grossen Dingen — ich sehe Grosse! —
soll man schweigen oder gross redden:
rede gross, meine entzückte Weisheit!
12 Р.Дж. Холлингденл
353
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
Ich sehe hinauf —
dort rollen Lichtmeere:
о Nacht, о schweigen, о totenstiller Lärm!..
Ich sehe ein Zeichen, —
aus fernsten Fernen
sinkt langsam funkelnd ein Sternbild gegen mich...
(Тихо! — / Из больших вещей — я вижу большее! / Должно молчать
или великое речь: / реки великое, моя восхитительная мудрость! //
Гляжу я вверх — / там катит море света: / о ночь, о немота, о
мертвенно-покойный шум!.. / Я вижу знак, — /из дальнего далека /
нисходит медленно, мерцая, созвездье предо мной...) («Ruhm und Ewigkeit»,
3; ДД, 8)
Zehn Jahre dahin, —
kein Tropfen erreichte mich,
kein feuchter Wind, kein Tau der Liebe
— ein regenloses Land...
Nun bitte ich meine Weisheit,
Nicht geizig zu werden in dieser Dürre:
ströme selber über, träufle selber Tau;
sei selber Regen der vergilbten Wildnis!..
(Минуло десять лет — /ни одна капля не достигла меня, / ни влажный
ветер, ни роса любви / — безводная страна... / Теперь свою молю я
мудрость / не быть скупой в той засухе: / сама пролейся, сама стекай росой
по каплям; / сама дождем пройди по пожелтевшей пустоши!..) (Из «Von
der Armut des Reichsten»; ДД, 9)
Однако это состояние размытости границ между
прозой и поэзией — характерная черта позднего периода.
Фрагменты высокой, «поэтической» прозы встречаются во
всех сочинениях Ницше, например в разделе 292 книги
«Человеческое, слишком человеческое»:
«Если вы достаточно проницательны, чтобы
разглядеть дно вашей природы и вашего знания, тогда вам,
вероятно, может также явиться отражение отдаленных
созвездий грядущих культур. Полагаете ли вы, что
такая жизнь, с такой целью, слишком утомительна,
слишком лишена того, что доставляет удовольствие? Значит,
вы еще не постигли того, что нет меда слаще, чем мед
354
поэт
познания, ни того, что вам придется превратить облака
печали, сгустившиеся над вами, в сосцы, питающие вас
молоком вашего обновления».
И еще один отрывок из «Рассвета»:
«Мы воздухоплаватели духа! Все те храбрые
птицы, что улетают в даль, в далекую даль — конечно же!
Так или иначе, они не смогут более двигаться далее и
приземлятся на вершину мачты или голую скалу — и
будут даже благодарны за это скудное пристанище! Но
кто отважится сделать из этого вывод, что перед ними
не открывалось огромное свободное пространство и что
они не залетали так далеко, как только могли? Все наши
великие учителя и предшественники в конце концов
останавливались... и то же самое произойдет с вами и со
мною? Но что за дело до того и вам, и мне! Другие
птицы полетят дальше! Это наши прозрение и вера
соперничают с ними в полете вверх и вдаль; они
поднимаются над нашими головами и над нашей немощью в
высоты и оттуда озирают даль и видят перед собою стаи
птиц, которые, гораздо более сильные, чем мы,
пробиваются туда, куда стремились мы и где все кругом море,
море, море! И куда же двигаться нам? Пересекать ли
море? Куда повлечет нас это могучее томление, это
томление, которое нам много дороже, нежели любое из
удовольствий? Почему именно в этом направлении,
именно туда, куда доселе уходили все светила
человечества? Не скажут ли и о нас когда-нибудь, что и мы
тоже, следуя курсом к западу, надеялись достичь
Индии, — но что нам была судьба потерпеть крушение о
вечность? Или, братья мои? Или?..» (Р, 575).
В «Заратустре», которого часто называют «поэмой в
прозе», можно встретить разнообразие стилей, от самой
что ни на есть прозаической прозы до рифмованного
355
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
метрического стиха1; а многие фрагменты и некоторые
главы целиком производят впечатление белого стиха: их
не только возможно расположить особым образом —
как белый стих, не нарушив внутренней гармонии, но
при таком расположении еще отчетливее проявляется их
ритм:
Die Feigen fallen von den Bäumen, sie sind gut und süss;
und indem sie fallen, reisst ihnen die rote Haut.
Ein Nordwind bin ich reifen Feigen.
(Смоквы падают с деревьев, они хороши и сладки; /
и во время их падения разрывается их красная кожица. /
Я северный ветер для спелых смокв) (3, II, 2).
Nacht ist es:
nun reden lauter alle springenden Brunnen.
Und auch meine Seele ist
ein springender Brunnen.
Nacht ist es:
nun erst erwachen alle Lieder der Liebenden.
Und auch meine Seele ist
das Lied eines Liebenden.
(Ночь, / теперь говорят громче все журчащие источники. /
И душа моя тоже / Журчащий источник.
Ночь: / только теперь пробуждаются песни влюбленных. /
И душа моя тоже / Песня влюбленного) (3, II, 9).
«Dort ist die Gräberinsel, die schweigsame;
dort sind auch die Gräber meiner Jugend.
Dahin will ich einen immergrünen Kranz des Lebens tragen».
Also im Herzen beschliessend,
fuhr ich über das Meer. —
(«Там мрачный остров, молчаливый остров; / там и гробницы юности
моей. / Оттуда я вечнозеленый венец жизни унесу».
Так в сердце заключив, / Пустился я по морю) (3, II, 11).
1 Первая часть «Второй песни-танца» (3, III, 15, 1) написана в
необычной форме рифмованной прозы.
356
поэт
О du mein Wille! Du Wende aller Not,
du meine Notwendigkeit!
Bewahre mich vor allen kleinen Siegen!
Du Schickung meiner Seele, die ich Schicksal heisse!
Du In-mir! Uber-mir!
Bewahre und spare mich auf zu einem grossen Schicksale!
(О, моя воля! Ты порог всех нужд, / моя необходимость! Храни меня
от малых всех побед!
Ты рок моей души, что я зову судьбою!
Нутро мое! Сверх-я! / Храни меня и береги меня для умасти великой!)
(3, III, 12, 30).
Still! Still! Ward die Welt nicht eben vollkommen?
Was geschieht mir doch?
Wie ein zierlicher Wind, ungesehn,
auf getäfeltem Meere tanzt,
leicht federleicht: so —
tanzt der Schlaf auf mir.
(Тише! Тише! Разве мир не совершенен стал? / Что сделалось со мной?
/ Как грациозный ветер, невидимый, / по ровному танцует морю /
легчайший, как перо, и точно так / танцует сон по мне) (3, IV, 10).
Шаг от прозы такого рода до свободной поэзии
«Дифирамбов Диониса» ничтожно мал. Неограниченная
свобода, которую позволяет себе Ницше, является, вероятно,
причиной их меньшего успеха по сравнению с теми
фрагментами, которые я только что процитировал. Особенно
заметно отсутствие всякого сдерживающего начала в
четвертой части «Заратустры», и низкое качество огромного
числа написанных в подобном стиле фрагментов,
опубликованных уже после постигшего Ницше кризиса, дает
основания полагать, что ему отказало сдерживающее влияние
размера. И тем не менее, одно из его прекраснейших
стихотворений относится к числу последних: это белый стих
лирического содержания, в котором Ницше сумел поведать
нам о себе больше правды, чем во всех мечтаниях
Диониса, вместе взятых:
357
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
An der Brücke stand
jüngst ich in brauner Nacht.
Ferner kam Gesang;
goldener Tropfen quoll's
über die zitternde Fläche weg.
Gondeln, Lichter, Musik —
trunken schwamm's in die Dämmrung hinaus...
Meine Seele, ein Saitenspiel,
sang sich, unsichtbar berührt,
heimlich ein Gondellied dazu,
zitternd vor bunter Seligkeit.
Hörte jemand ihr zu?
(На мосту стоял / недавно я в бурую ночь. / Издали дошла песнь; /
золотые капли набухли / над дрожащей поверхностью. / Гондолы,
светильники, музыка — / опьяненные, выплывают из сумрака...
Моя душа, струнный инструмент, / пропела про себя, незримо задета, /
тайно песнь гондолы, / дрожа от разноцветного счастья. / Слышал ли
кто-то ее?) (ЕН, II, 7)
Глава 16
КРИЗИС
Но я хочу полностью открыть вам
мое сердце, друзья мои: если боги
существовали, как удержался бы я,
чтобы не быть богом! Следовательно, нет
богов. Я и вправду пришел к такому
выводу; но теперь он выводит меня.
Ф. Ницше. Так говорил Зарату~
стра
Когда утром 3 января 1889 г. Ницше выходил из
своей наемной квартиры, он увидел извозчика, который
избивал лошадь у стоянки на Пьяцца Карло Альберто. С
криком он бросился через площадь и обнял животное за
шею. Потом он потерял сознание и сполз на землю, все
еще держась за измученную лошадь. Собралась толпа, и
владелец квартиры, привлеченный уличной сценой, узнал
своего постояльца и перенес его в дом. Долгое время он
находился в бессознательном состоянии. Очнувшись, он
уже перестал быть самим собой: сначала он пел и что-то
выкрикивал, барабаня по фортепьяно, так что его хозяин,
уже успевший вызвать доктора, грозил вызвать полицию.
Потом он немного успокоился и принялся писать
знаменитую серию посланий дворам Европы и своим друзьям,
оповещая о своем прибытии в качестве Диониса и
Распятого. Трудно сказать, сколько именно таких посланий он
сочинил. В тех, которые он направил общественным
деятелям, говорилось, что он, «Распятый», направляется в
Рим «во вторник» (8 января), где должны были
собраться принцы Европы и папа римский: записка по этому
поводу поступила и секретарю государства Ватикан. Однако
359
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
Гогенцоллернов следовало исключить из числа
присутствующих, а остальным наследникам германских домов было
предложено не иметь с ними ничего общего: даже теперь
рейх все еще враг немецкой культуры.
Петер Гаст получил единственную строку:
«Моему маэстро Пьетро. Спой мне новую песнь: мир
изменился, и небеса возрадовались. Распятый».
Брандесу — послание немного длиннее:
«После того как ты меня обнаружил, отыскать меня
было уже несложно: теперь сложность в том, чтобы не
потерять меня... Распятый».
Письма также поступили (в числе прочих) к Стринд-
бергу, Мальвиде, Бюлову, Шпиттелеру и Роде. Козима
получила единственную строку:
«Ариадна, я люблю тебя. Дионис».
Буркхардту тоже пришло послание от Диониса, а
позже (6 января) — гораздо более долгое послание на
четырех страницах с пометками на полях:
«В своем последнем пристанище я был скорее
профессором Базеля, нежели Богом; но я не смел в своем
эгоизме заходить столь далеко, чтобы пренебрегать творением
мира. Видите ли, человек должен жертвовать, как бы и где
бы он ни жил... Я хожу везде в своей студенческой
куртке, накидываю ее на плечи того или иного человека и
говорю: siamo contenu? Son dio, ho fatto questa caricatura...,1
Остальное для фрау Козимы... Ариадны... Иногда
случаются чудеса... Я заключил Кайафу в оковы; а в прошлом
году меня распинали немецкие доктора страшно долгим
...вы довольны? Я Бог и создал эту карикатуру (игл.).
360
КРИЗИС
изнурительным способом. Вильгельм, Бисмарк и все
антисемиты отменяются. Можешь использовать это письмо
по своему усмотрению, если только это не нанесет урона
моей репутации во мнении жителей Базеля».
Буркхардт принес это письмо к Овербеку, которого
знал как близкого друга Ницше, и Овербек понял, что
это результат психического отклонения, если не безумия.
Он незамедлительно написал Ницше, умоляя его
вернуться в Базель. На следующий день, 7 января, ему и
самому пришло письмо из Турина:
«Несмотря на то что до сих пор ты был низкого мнения
о моей способности платить долги, я все же надеюсь
доказать, что я из тех, кто отдает должное — например, тебе...
Только что я расстрелял всех антисемитов... Дионис».
Он направился прямиком к базельскому психиатру
Вилле; тот прочел оба письма и посоветовал доставить
Ницше к нему в лечебницу, и как можно скорее. В тот
же день Овербек выехал в Турин. 8 января днем он
приехал к Ницше на квартиру и нашел ее в состоянии
полного беспорядка. Ницше снова пел и играл на фортепьяно и
так шумел, что его хозяин уже решительно нацелился идти
в полицию, когда появился Овербек. По его словам, он
прибыл «в последний момент, когда еще можно было
беспрепятственно вывести его из этого состояния»1. Он
сидел в углу и читал корректуру «Ницше против Вагнера»,
или создавал видимость чтения, кода вошел Овербек;
узнав своего друга, Ницше крепко обнял его и расплакался.
На следующий день Овербек и слуга проводили его на
железнодорожный вокзал и путем уговоров и обмана
сумели без инцидентов усадить в поезд. По прибытии в
Базель 10-го числа его доставили в клинику нервных
заболеваний доктора Вилле, где он пробыл до 17 января. Его
Письмо Гасту от 15 января.
361
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
поведение свидетельствовало о полном ментальном
коллапсе, хотя физически он был крепче, чем в иные времена.
Диагноз Вилле гласил: «Paralysis progressiva» — ив
дальнейшем этот диагноз подтвердился.
14 января Ницше навестила его мать. Он узнал ее и вел
вполне осмысленную беседу о семейных делах, пока,
наконец, не закричал: «Вглядись в меня, тиран Турина!» — и
разговор пришлось прервать. Мать пожелала забрать его
домой в Наумбург, но доктор Вилле категорически
воспротивился этому: Ницше требовался особый надзор, а порой
и особые меры, и обеспечить их можно было только в
особом учреждении. В качестве компромисса доктор
предложил перевести его в клинику поближе к дому, и Овербек
направил письмо Отто Бинсвангеру, директору
университетской клиники в Иене, с просьбой принять Ницше уосебя.
Тот согласился, и 17 января Ницше был переведен в Иену,
куда прибыл поездом в сопровождении врача, слуги и
матери. Поначалу он был очень спокоен, но не успели они
доехать до Франкфурта, как он разразился приступом
ярости против матери и оставшуюся часть пути был беспокоен
и шумен. 18-го числа он прибыл в Йену, и уже в полдень
был помещен в местную психиатрическую лечебницу.
Вернувшись в Базель, Овербек был совершенно
подавлен мыслью о будущем своего друга. «Я никогда прежде не
видел столь страшную картину коллапса», — писал он Га-
сту 11-го числа. Теперь, 20 января, он говорил, что «актом
подлинной дружбы» было бы лишить его жизни, а не
помещать в дом умалишенных.
Он пишет Гасту:
«У меня нет иного желания, как только скорейший его
уход, — продолжает он. — Я не испытываю ни
малейшего сомнения, говоря это, и полагаю, что абсолютно все,
кто был со мной в эти дни, чувствовали то же самое.
С Ницше все кончено!»
Часть четвертая
1889—1900
Только послезавтра принадлежит мне. Некоторые
рождаются посмертно.
Ф. Ницше. Предисловие
Глава 17
СМЕРТЬ НИЦШЕ
...Его неверно поймут и долгое
время будут считать союзником
ненавистных ему сил.
Ф. Ницше. О пользе и вреде
истории для жизни
1
К истории жизни Ницше следует добавить историю
его смерти. Чтобы умереть, ему понадобилось десять
лет, и за это время он стал легендарной фигурой:
живой и вместе с тем мертвый, существующий в
недоступном человеку мире, он до опасной степени возбуждал
мифотворческие силы нации, имевшей особое
пристрастие к фантастическому и иррациональному. Ницше, для
которого нацисты построили музей в Веймаре, был,
строго говоря, сумасшедшим: в эти последние
одиннадцать лет Ницше из рационального философа и
гениального писателя превратился в человека, лишенного
качеств, лицо, которое трудно как-либо характеризовать.
Реальная действительность, а именно тот факт, что
философ стал жертвой болезни (возможно, сифилиса) и
пришел к состоянию, называемому обычно умственным
бессилием душевнобольного, растворилась в тумане
заблуждений, самообмана и пустословия, свойственных
рейху с самого начала, от чего сам Ницше постоянно и
настоятельно предупреждал; так что, в конце концов,
Эрнст Бертрам, известный член «кружка» Стефана
Георга, назвал душевную болезнь Ницше «восхождением
в мистическое» и «гордым переходом» в более высокое
365
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
состояние1. Содержание трудов всей жизни Ницше было
аннулировано, разрыв с Вагнером залечен, даже
враждебность по отношению к рейху нашла свое объяснение —
и Ницше превратили в «союзника ненавистных ему сил»
(Hill, 4). Дело дошло до того, что его начали
отождествлять с последователями движения, против которого он
изначально боролся: с антисемитизмом, апологетикой
расы и государственности, нацизмом, претящим здравому
разуму. «Время его последователей прошло», — писал
Бертран Рассел к концу Второй мировой войны —
выражение в той же степени английское, в коей
непонимание сути дела всеобщее.
Нельзя отрицать, что Ницше в какой-то степени попал
под влияние слово- и мифотворчества, свойственное
времени и нации; но следует также и признать, что он
боролся с ними и что его антинемецкие настроения были в
своей основе внешним признаком внутренней борьбы. Он
предвидел опасность и предупредил о ней в первых же
своих «Несвоевременных размышлениях», где выразил
опасение, что недавняя победа над Францией обернулась
бы «поражением, если бы не искоренение немецкого Geist
в угоду «немецкому Reich» (HI, 1). В дальнейшем он
считал, что его опасения подтвердились:
«Deutschland, Deutschland über alles»2 было, я боюсь,
концом немецкой философии» (СИ, VIII, 1).
Ставший беспомощным после кризиса, он попал в руки
Элизабет, которая всегда была больше Ферстер, чем
Ницше, а соответственно, и в лапы целого племени
фабрикантов тевтонской мифологии. В эпоху нацизма поиски
«хорошей родословной», распространившиеся на культурную
и идеологическую сферы, высветили фигуру «отшельника
из Сильс-Марии» тем легче, чем добротней была
подготовлена для этого почва стараниями Элизабет. И возве-
1 Bertram. Nietsche: Versuch einer Mythologie. 1918. S. 361 — 362.
2 Германия, Германия превыше всего. (Примеч. пер.)
366
СМЕРТЬ НИЦШЕ
денное в Веймаре ниневийское строение, призванное
вместить архив Ницше, возникло не только как результат ее
стараний, но и как плод молчаливого сговора большей
части немецкого ученого мира.
Ко всему этому Ницше не имел ровно никакого
отношения: это часть повести, но уже не о его жизни, а о его
смерти.
Состояние, в котором он поступил в клинику в Иене,
описано в отчете врача за 19 января (1889 г.):
«Больной проследовал за нами в свою палату со
множеством учтивых поклонов. Он вышагивал по комнате
величавой поступью, глядя в потолок, и благодарил нас
за «грандиозный прием». Он не осознает, где
находится. Иногда он полагает, что в Наумбурге, иногда — в
Турине... Он постоянно жестикулирует и изъясняется
восторженным тоном и напыщенными выражениями... Во
время разговора он все время гримасничает. Также и по
ночам почти беспрерывно продолжается его бессвязная
болтовня».
Остаток 1889 г. он по большей части пребывал в том
же состоянии: иногда бывал почти разумен, порой
агрессивен, часто бормотал бессмыслицу, но физически был
совершенно здоров. В начале 1890 г. в Иену приехал
Гаст; свою встречу с Ницше он описал в письме к
Карлу Фуксу:
«Он сразу же узнал меня, обнял и поцеловал и был
ужасно рад меня видеть; он снова и снова жал мне руку,
словно не мог поверить, что я и вправду здесь».
Гаст сопровождал больного в долгих прогулках и
внимательно наблюдал за ним. Иногда ему казалось, что тот
близок к излечению; но бывало, говорил он, что «каза-
367
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
лось — ужас! — как будто Ницше притворяется
сумасшедшим, будто он рад, что все закончилось именно так».
О тех же ощущениях сообщает и Овербек в своих
записках, но в обоих случаях это могло быть следствием
труднообъяснимой мимики Ницше, а возможно, и явления
«имитации притворства», которое часто сопровождает
некоторые формы душевной болезни. Овербек тоже был в
Иене в феврале 1890 г., и они с Гастом поочередно
сопровождали Ницше во время его прогулок. Он сообщает,
что подавляющую часть времени беседа носила вполне
нормальный характер, если не считать, что Ницше не мог
вспомнить ничего из того, что с ним произошло начиная с
конца 1888 г., не осознавал своего состояния и не
понимал, где находится.
Все это время Франциска навещала сына, когда
позволяло его состояние, а в середине февраля она сняла в Иене
маленький домик, чтобы быть рядом. Единственным ее
желанием было забрать его из клиники под свою опеку, но
клиника, как могла, сопротивлялась этому, пока наконец не
стало понятно, что улучшения ждать не приходится и что
матери ничто не угрожало в случае, если она заберет его.
^ак и поступили, и начиная с 24 марта Ницше жил с ней в
Иене, а 13 мая они перебрались в Наумбург — снова на
Вайнгартен, 18, откуда Ницше уехал в Пфорташуле
мальчиком 14 лет. К тому времени он стал очень спокойным и
послушным и следовал за матерью, как дитя, но ему
постоянно требовался надзор. Пока кто-то находился с ним
рядом, он вел себя совершенно нормально, но что могло
произойти, если он уходил один, показывает случай,
произошедший в мае, когда он вышел из дому, не дожидаясь
матери. Оказавшись на улице, он немедленно привлек
внимание активной жестикуляцией и странностью поведения;
когда же он начал раздеваться на тротуаре, вызвали
полицию, и его забрали в отделение. Вскоре разобрались, кто он
такой, и отправили домой в сопровождении полицейского,
с которым он весело болтал, — в этом состоянии его и
встретила обеспокоенная мать.
368
СМЕРТЬ НИЦШЕ
В Наумбурге он полностью находился на попечении
матери. Она ухаживала за ним с огромной преданностью,
вероятно ободренная мыслью, что Господь вернул ей сына.
В письме к Овербеку она писала: «Снова и снова моя
душа наполняется благодарностью нашему дорогому,
доброму Богу за то, что я теперь могу заботиться о своем
возлюбленном дитяти». Как-то раз, когда речь зашла о
ком-то из умерших, Ницше заметил: «Благословенны те,
кто умирают в Боге». Она называет этот случай
«религиозным настроением», которым он проникался все больше
и больше, и выражает наивное удивление его глубоким
знанием Библии. Габриэль Ройтер слышал, что
Франциска намеревалась сжечь богохульные сочинения своего сына
(очевидно, речь идет об «Антихристианине»), но ее
отговорила Элизабет, сказав, что «труд гения принадлежит
миру, а не семье». Тем не менее, говорит Габриэль, она
гордилась сыновней славой и чистосердечно встала бы на
защиту его репутации.
Содержание следующих двух лет — история
постепенного угасания, погружения в апатию с редкими
вспышками жизненной активности. Надежды на то, что
Ницше удастся излечить, с трудом, но безнадежно
угасли, и усилия Франциски сводились к тому, чтобы
делать его существование как можно счастливее и
предотвращать любые нежелательные оинциденты, могущие
повлечь за собой возвращение в Иену, — такой участи
она боялась больше всего. Ее письма к Овербеку,
опубликованные в 1937 г. как «Der kranke Nietzsche»
(«Больной Ницше». — Примеч. пер.), дают нам
подробное представление о тех практически лишенных
событий годах. 1 октября 1893 г. она записала, что он все
еще выглядел здоровым и большую часть времени
проводил сидя на веранде; он не производил впечатления
страдающего человека и «даже немного шутил и
смеялся вместе с нами [имея в виду себя и Элизабет] над
своими шутками совершенно естественным образом». На
Рождество в тот год он чувствовал себя все еще непло-
369
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
хо, но в марте 1894 г. болезнь усилилась; он шумел и
пел часы напролет, хотя, как и ранее, не испытывал
страданий или боли, — «кажется, что он вполне
доволен собой» (письмо от 29 марта). В том же письме она
говорит, что от ежедневных прогулок теперь пришлось
отказаться: едва они сворачивают за угол, Ницше
спрашивает: «Где наш дом?» — и чувствует себя
несчастным, пока не вернется обратно.
На Пасху 1894 г. больного впервые навестил Роде по
приглашению Элизабет.
«Я видел несчастного, — писал он Овербеку 27
декабря (посетителям обычно отказывали в свидании с
самим Ницше), — он совершенно апатичен, никого не
узнает, кроме матери и сестры, раз в месяц с
трудом выговаривает одну фразу; телом он высох и ослаб,
хотя цвет лица вполне здоровый... Но совершенно ясно,
что он более ничего не чувствует — ни счастья, ни
несчастья».
К осени он погрузился в состояние полной апатии и
едва мог выходить из дому. Гаст, видевший его в
октябре, писал Овербеку:
«Ницше целыми днями лежит наверху, одетый в
байковый халат. Выглядит он неплохо, очень спокоен и
смотрит перед собой с мечтательным и вопросительным
выражением... Меня он практически не узнает».
В день пятидесятилетия (15 октября 1894 г.) его
навестил Пауль Дойссен:
«Мать ввела его в комнату, я поздравил его с днем
рождения, сказал, что ему исполнилось пятьдесят лет, и
подарил ему букет цветов. Из всего этого он ничего не
понял. Только цветы, похоже, на мгновение привлекли его
внимание, а потом и они тоже лежали забытыми».
370
СМЕРТЬ НИЦШЕ
Последний раз Овербек видел Ницше в один из
последних дней сентября 1895 г. Он описывает внешность
друга в письме к Роде от 31 декабря:
«Пять с половиной лет назад я мог гулять с ним
часами по улицам Иены, когда он был в состоянии говорить о
себе и хорошо понимал, кто я; теперь я видел его только
у себя в комнате, сжавшегося, как смертельно раненное
животное, которое хочет единственно, чтобы его оставили
в покое, и за то время, что я там был, он не произнес ни
единого звука. Было непохоже на то, что он страдает или
испытывает боль, кроме, пожалуй, выражения глубокого
неудовольствия, заметного в его безжизненном взоре.
Более того, каждый раз, когда я входил к нему, почти
всегда казалось, что он борется со сном. Он неделями жил
в состоянии, когда сутки ужасающего возбуждения,
доходящего до рычания и крика, сменялись днем полной
прострации. Я видел его как раз в день второго типа».
2
Когда с Ницше случился кризис, осталась огромная
масса неопубликованного материала: что-то в Турине,
что-то в Генуе, что-то — из того, о чем речь пойдет
ниже, — в Сильс-Марии. Из сочинений 1888 г. был
издан только «Казус Вагнер»; «Сумерки идолов» были
готовы к изданию, «Ессе Homo» и «Ницше против
Вагнера» — частично опубликованы, а «Антихристианин»
и «Дифирамбы Диониса» оставались в рукописях. Что
касалось сочинений Ницше, то непосредственными его
«наследниками» были Овербек, чувствовавший
ответственность за сохранность трудов, Гаст, который считал
себя единственным «учеником» Ницше, и фирма «Нау-
манн», бизнес которой был во многом завязан на Ницше.
20 января 1880 г. Овербек написал Гасту, что «Nach-
lass» («Наследие») — строго говоря, оно еще не было
371
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
таковым, поскольку Ницше был жив, — надлежало
вывезти из Турина. Помимо законченных книг, это, по его
словам, «уйма записок», часть которых не поддается
прочтению. Дочитав оконченные труды, Овербек 27-го
числа вновь прислал письмо, где высказал мнение, что
очерк «Ницше против Вагнера» издавать, пожалуй, не
стоит. Вместе с тем, следовало далее в письме, он не
находит каких-либо веских причин задерживать издание
«Сумерек идолов» — «этого поистине невообразимого
рога изобилия интеллекта и прозрения». «Ессе Homo»
он пока не читал. 4 февраля Овербек сообщает, что
оставшиеся бумаги Ницше теперь находятся у него в
Базеле. Он прочел две изданные части «Ессе Homo» и
был ими потрясен. Фирма «Науманн» и сама считала —
и Овербек согласился с этим, — что автобиографию
издавать не следует, «какую бы исключительную
ценность она ни представляла в дальнейшем». По поводу
прочих материалов он пояснений не давал, за
исключением единственной реплики в письме от 23 февраля: «Я
вовсе не испытываю счастья при мысли, что может
случиться с литературным «Nachlass» Ницше, если мы, я
имею в виду вас и себя, утратим над ним контроль».
Нет никакого сомнения в том, что при этом он думал
(как, должно быть, и Гаст, читая эти слова) об Элизабет.
Обоим было хорошо известно, что брат и сестра
безнадежно рассорились и что Элизабет воплотила в себе
абсолютно все, что Ницше не принимал в Германии того
времени. Друзья, несомненно, понимали, что дело будет
плохо, если бумаги Ницше попадут к ней в руки. В то
время она все еще была в Парагвае. Ферстер покончил с
собой в июне 1889 г., и после его смерти Элизабет
оставалась там до конца 1890 г., когда в полном безденежье
она вернулась в Германию в поисках средств. Одним из
ее проектов был сбор средств на строительство церкви для
духовных нужд Новой Германии; другое ее предприятие
вылилось в небольшую книгу, где Ферстер фигурирует в
качестве трагического героя.
372
СМЕРТЬ НИЦШЕ
Случившееся с братом и самоубийство мужа лишили
ее в одночасье двух людей, которые действительно что-
то значили в ее жизни, и эта двойная утрата
обнаружила в ней все лучшее и все худшее: лучшее — то, что
она решила самостоятельно встать на ноги и доказать,
из какого прочного материала сделана; худшее — что,
решившись на это, она утратила последние
остававшиеся в ней крупицы разумного сомнения. Ее первым
вмешательством в публикацию трудов Ницше была
отсрочка публичного издания пока еще не изданной четвертой
части «Заратустры». Она сочла ее текст, особенно
главу «Праздник ослов», богохульным и убедила
Франциску, что им грозит преследование, если публикация
состоится. Встревоженная Франциска написала Овербеку
(24 и 29 марта 1891 г.) и Гасту, уже подготовившим
труд к печати у Науманнов (1 апреля), умоляя их
отозвать его, поскольку Ницше сам часто говорил, что не
хочет делать его достоянием общественности. Гаст не
сомневался, что такое желание Ницше не было
высказано всерьез, но из уважения к матери временно
приостановил работу.
В августе 1892 г. Элизабет уехала из Германии в
Новую Германию. Это случилось как раз в тот момент,
когда один из колонистов, Фриц Нойманн, выступил в печати
с критикой ее колониальных методов. Согласно Нойман-
ну, в Новой Германии победили джунгли: для борьбы с
этим природным врагом колонистов Ла-Платы
использовались совершенно непригодные меры, и работа
практически простаивала. Ферстер обвинялся в «глупости»,
Элизабет — в «преступлении», так как продолжала
заманивать туда людей. Газета, посвященная интересам в
Южной Америке, «Sudamerikanische Kolonial-Nachrichten»
(«Южноамериканский колониальный вестник»), сочла, что
Нойманн говорил правду, обратилась за новыми
свидетельствами и, в конце концов, обвинила организаторов
Новой Германии в некомпетентности и двурушничестве.
Все предприятие, утверждала она в сентябрьском номере
373
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
1892 г., оказалось «скорее грабежом неопытных и
доверчивых людей и осуществлялось самым безрассудным и
жестоким образом». Обвинения Клингбайля признавались
справедливыми по всем аспектам1. На следующий год
газета опубликовала «открытое письмо» в адрес Элизабет от
ее бывших союзников; в их числе был Пауль Ульрих,
который не стеснялся в выражениях и назвал ее лгуньей,
воровкой и бедствием всей колонии и предложил ей
убираться подобру-поздорову. Газета подхватила это
требование и подзадоривала колонистов выгнать ее силой, если
она не уедет добровольно. В то лето Элизабет
ликвидировала оставшееся в колонии имущество и вернулась в
Германию.
В течение 1892 г., по договоренности с Франциской
и после обсуждения с Науманном, Гаст занимался
подготовкой собрания сочинений Ницше, объединяющего все
прежде опубликованные работы; туда также должна
была войти четвертая часть «Заратустры», избранное из
«Nachlass» и предисловие самого Гаста. Эта работа
велась уже почти год. Но 19 сентября 1893 г. Гаст
написал Овербеку: «Произошло событие, которое является
угрозой и мне, и всему делу Ницше: фрау Ферстер
вернулась из Парагвая. За сим последовало несколько
ужасных дней, когда я готов был бросить всю эту
редакторскую деятельность». Но сделать это Гасту не
пришлось: вскоре его просто вышвырнули. 13 ноября он
сообщил Овербеку:
«Я передал «Nachlass» фрау Ферстер 20 октября в
Лейпциге. «Так кто же назначал вас редактором?» —
потребовала она от меня ответа. Мои предисловия никуда не
годятся. В примечаниях, составителем которых будет д-р
Когель [назначенный Элизабет на место Гаста], должно
быть сказано: предисловия Гаста попали в издания Ницше
«по ошибке».
См. гл. 12 об обвинениях Юлиуса Клингбайля.
374
СМЕРТЬ НИЦШЕ
С изданием под редакцией Гаста было покончено в
начале 1894 г., и второе собрание стартовало под
редакцией Когеля, но и оно было вскоре прервано вследствие ссор
по поводу методов1. В феврале на Вайнгартен, 18
Элизабет основала «Архив Ницше»: две комнаты на втором
этаже были объединены в одну и заполнены предметами
жизни и деятельности Ницше. Главным экспонатом —
пусть и скрытым от взоров — был сам Ницше. К лету
помещение показалось чересчур мало, и архив
переместился в более просторный дом, поблизости от прежнего
места. С образованием архива на сцене истории возник новый
персонаж: Элизабет Ферстер-Ницше, бывшая Эли Фер-
стер (как ее знали в Парагвае), преобразившаяся в
жрицу нового загадочного культа. Заметкой в «Bayreuther
Blätter» от 15 января 1895 г. она распрощалась со своим
колониальным прошлым. Плод ума ее святого мужа —
Новая Германия — откуда ее изгнали в результате
чудовищных наветов, должна научиться обходиться без нее в
борьбе за будущее; «другая великая жизненная задача —
забота о моем дорогом и единственном брате, философе
Ницше, защита его книг и описание его жизни и мысли —
отныне требует моего времени и сил». Она потеряла одну
колонию, но нашла другую.
Между тем она пыталась прибрать к рукам все, что
когда-либо принадлежало Ницше, особенно конечно же
все им написанное. Но ее представление о «рукописях»
было чуждым и гибельным для концепции «Nachlass».
Я уже говорил, что она не делала разницы между
опубликованными материалами, использованными в той или
иной форме в законченных трудах, и материалами
неопубликованными, которые сам Ницше забраковал; но
хуже всего было то, что она также не отличала того, что
он хранил, от того, что выбросил. Часть «Nachlass»,
вывезенная из Сильс-Марии, относится как раз ко
второму типу записок.
1 См. также главу 14.
375
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
Когда Ницше последний раз уезжал из Сильс-Марии,
он оставил в своей комнате не только кое-какие книги, но
и груду бумаги. Он надеялся вернуться туда будущим
летом, но специально предупредил хозяина, некоего Дю-
риша, что оставленные бумаги — мусор: эти заметки и
обрывки более не понадобятся, а потому он просил Дю-
риша сжечь их, чтобы очистить помещение к его приезду.
Жечь их Дюриш не стал; он вынул их из корзины для
бумаг, подобрал с пола и сунул в шкаф. Позже, когда
туристы приезжали посмотреть на дом, где жил Ницше,
и просили что-нибудь на память о философе, он вынимал
охапки этих бумаг и приглашал что-нибудь отсюда
выбрать. Об этой практике стало известно из рубрики
новостей осеннего выпуска «Magazine für Literatur» 1893 г.
Добрались до Дюриша и задали ему вопрос, что он делал
с «рукописями Ницше»; не желая нарываться на
неприятности, он мгновенно отослал всю кипу брошенных
бумаг Элизабет, которая тут же поместила их в архив. При
составлении «Воли к власти» эти бумаги попали в число
«рукописей», из которых происходил отбор материала.
В конце 1895 г. Элизабет стала «опекуном» Ницше
и владельцем авторских прав. С момента кризиса
официальным опекуном была мать, и вполне естественно,
что со временем опекунство должно было перейти к
сестре; но Элизабет не намеревалась ждать, когда
умрет мать и она наконец станет наследницей всех трудов
Ницше, стоимость которых постоянно и быстро росла.
В декабре 1895 г. она уговорила Франциску подписать
передачу ей в собственность архива, трудов и,
разумеется, самого Ницше. Она добилась этого обманным
путем: из письма Франциски Овербеку от 27-го числа мы
узнаем, что ее заверили, будто бы «друзья» ее сына
готовы дать на содержание архива 30 000 марок в
случае, если официальным опекуном творческого наследия
Ницше станет Элизабет. Но даже и тогда Франциска
потребовала еще четыре недели отсрочки, прежде чем
подписала необходимые бумаги. Позже выяснилось, что
376
СМЕРТЬ НИЦШЕ
деньги были всего лишь ссудой, что, по словам
Франциски, она давно втайне подозревала.
Теперь, когда Элизабет стала полновластной хозяйкой,
«дело» Ницше стало набирать обороты. Летом 1896 г.
архив был перевезен из Наумбурга в Веймар — мекку
немецкой культуры, чарующая сила которого должна была, по
расчетам Элизабет, сказаться на сумрачной фигуре брата.
Надуманность «дела», за которое она ратовала, теперь была
очевидна даже Роде, который, как мы уже убедились, не
мог более скрывать своего неприятия. 17 марта 1895 г. он
писал Овербеку:
«До сих пор и так было достаточно шума вокруг
Ницше. Теперь к этому следует добавить полное собрание
(сочинений), написать его биографию, а потом пустить это дело
на самотек. О, я сказалдело: но нет никакого «дела»; есть
только и ничего, кроме личности».
Это было вполне здравое замечание; но прозвучало оно
в стране, где здоровье подобного рода уже более не могло
оказать существенного влияния на общие настроения. На
факты прозаического толка, вроде тех, что высказал Роде,
не было времени: жизнь протекала в надеждах и
ожиданиях «Нового рейха», в желании внимать его герольдам, и
воплощение одного из них вдруг почудилось в Ницше. На
поверку «дело» Ницше было лишено содержания. Реально
существовало только то уникальное, самобытное, присущее
личности Ницше, умершего в первые дни 1889 г., и его
философии; а деятельность архива, издание трудов
философа помимо него самого были абсолютно безответственны.
3
Франциска Ницше умерла 20 апреля 1897 г. в возрасте
71 года. Семь лет она день и ночь заботилась о сыне, и ее
преданность часто становились предметом восторженных
377
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
отзывов даже при ее жизни. Она наблюдала, как он
постепенно погружался в полную апатию, и последние месяцы
жизни ее не покидала мучительная тревога о том, что
станет с ним, когда ее не будет. Ее труды облегчала
горничная Альвина, служившая в доме уже тридцать лет, и именно
она приняла на себя заботу ухода за Ницше после кончины
его матери.
Элизабет к тому времени уже покинула Наумбург и
направлялась с архивом в Веймар, где и утвердилась на
вилле Зильберблик, в доме, который арендовала для
этой цели одна из швейцарских почитательниц Ницше.
После смерти матери сюда попал и сам Ницше,
которому отвели комнату на верхнем этаже. Его приезд стал
событием в городе; об этом написал проживавший там
в это время бывший ученик Ницше, Людвиг фон Шеф-
флер. Вилла Зильберблик, рассказывает он, была
уродливым строением, стоявшим на отшибе и настолько
незащищенном от летнего солнца, что в народе этот дом
прозвали «Villa Sonnenstich» — вилла «Солнечный
удар».
«Однажды мой маленький сын вернулся домой из
школы сильно взволнованный, — пишет Шеффлер, —
и сказал: «Папа, представляешь? Вон там поселился
сумасшедший философ!» [Шеффлер отправился на виллу
«Солнечный удар».] Сестра Ницше провела меня в
помещение вроде салона. Там, как в церковной
дарохранительнице, помещались реликвии ее великого брата: его
портреты на стенах, книги, собрания рукописей...»
В последующие годы этот салон посетили многие; но
того, кто надеялся увидеть Ницше, обычно ждало
разочарование. Облаченный в белый халат, он оставался
наверху, скрытый и молчаливый, иногда только раздавались
его шаги, когда он ходил по комнате. Сама Элизабет
видела его все меньше и меньше, и уход за ним был
полностью поручен преданной Альвине.
378
СМЕРТЬ НИЦШЕ
Воспоминания современников дают представление о
том, какого рода полумистический культ разворачивался
вокруг этой трагически патетической фигуры.
Благоговейный страх перед его коллапсом, разительный контраст
между его состоянием и активной жизнью его книг
постепенно переросли в благоговение перед самим
человеком, словно он стал не чем-то меньшим, чем человек (а
так и было), но чем-то большим. Даже перед его
отбытием из Наумбурга посетителей, которые повидали его,
не будучи знакомы с ним в его полноценные годы,
порой охватывал почти суеверный страх перед страдающей
и сломленной фигурой. Этот страх многие не стремились
подавить, а, наоборот, культивировали в себе и
распространяли на тех, для кого Ницше был новым и
волнующим опытом. Некая Габриэль Ройтер поведала о том
поразительном впечатлении, которое произвел на нее
Ницше; ее язык, вполне уместный для данной
конкретной задачи, тем не менее, настолько эмоционален, что
опасно возбуждает и без того обостренное восприятие
Германии 1890-х:
«Я стояла, дрожа, под мощью его взгляда, который,
казалось, исходил из неисповедимых глубин страдания...
Мне казалось, что его дух покоится в бескрайнем
одиночестве, бесконечно далекий от всех человеческих дел. Кто
может сказать, какая часть этой великой, несчастной души
все еще пребывает в этом укромном теле?»
От подобного рода драматизации всего один шаг до
полной потери реальности, которую продемонстрировал
Рудольф Штайнер. Он писал об
«...удивительном ощущении того, что — пока мы
внизу разбирали сокровища его рукописей, дабы явить их
миру, — он царил на веранде над нами в торжественном
благоговении, бесстрастный к нам, подобный богу
Эпикура. Те, кто видел его тогда, в белом складчатом халате,
379
Р.ДЖ. ХОЛЛИНГДЕЙЛ
возлежавшего со взором брахмана широко и глубоко
посаженных глаз под кустистыми бровями, с благородством
загадочного, вопрошающего лица и по-львиному величавой
посадкой головы мыслителя, — испытали чувство, что
этот человек не может умереть, но что взор его будет
вечно прикован к человечеству и всему видимому миру в этой
непостижимой торжественности».
4
И все же Ницше умер. Это произошло 25 августа
1900 г., за шесть недель до его пятьдесят шестой
годовщины. В течение двух предшествующих лет он
ничего не осознавал, не чувствовал, не мыслил. Как мы
полагаем, он не знал, что его матери не было в живых
и что сам он в Веймаре. Он не знал ни того, что стал
знаменит, ни того, что эта известность покоится на
искажении почти всего, чему он учил. Когда он умер, он
не ведал того, что вот уже восемь месяцев он живет в
двадцатом веке, в истории которого столь многое
предвидел. Он провидел век «расцвета нигилизма» и
падения старого миропорядка; «классическую эпоху войн» и
«политики большого масштаба», основанной на выводах
из «смерти Бога» и исчезновения всех моральных
санкций; век, когда воля к власти, не сублимированная и не
обузданная ничем, что сдерживало в веке девятнадцатом,
повсеместно захватит рычаги правления. Это будет век,
когда антисемитизм даст повод и мотив крайним
проявлениям нигилизма; а его теория, что люди сильной воли
к власти, лишенные удовлетворения вовне, скорее
проявят волю к саморазрушению, нежели не проявят ее
вовсе, будет продемонстрирована на деле во всей своей
страшной полноте безрассудным и обманутым рейхом.
В предшествующий год — последний год века —
началась подготовка третьего издания его сочинений: Гаст
помирился с Элизабет и сотрудничал с ней в работе над
380
СМЕРТЬ НИЦШЕ
новой редакцией «Архива», отстаивая «дело»; именно Гаст
произнес надгробную речь во время похорон Ницше,
погребенного рядом с отцом на церковном кладбище в Ре-
кене. Бесспорно, он очень переживал, но его слова, по
духу напоминающие цитату из Рудольфа Штайнера,
выдают чудовищное непонимание его «учителя». Он
завершил свое обращение возгласом: «Да будет мир праху
твоему! Да будет свято имя твое для всех будущих
поколений!» В «Ессе Homo» Ницше писал: «Меня
одолевает страх, что однажды меня объявят «святым». И это
он тоже предвидел.
Ему суждено было называться «святым» — а еще
чаще «нечестивцем» — целый век после смерти.
Сегодня все это составляет, или должно составлять, часть
прошлого: «ницшеанство», как и «вагнерианство», умерло,
и нам осталось не учение, которому следует
поклоняться, молиться и защищать от нападок, а человеческая
индивидуальность, художник языка великого мастерства и
мощи, философ, покоряющий глубокой интуицией и
строгостью принципов; нам остался человек и его философия.
Его жизнь и мысль были своего рода «экспериментами»
и, будучи доведены до логического конца, правомерны
сами по себе и в защите не нуждаются.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Труды Ницше 5
Часть первая
1844—1869
Глава 1. Дитя 13
Глава 2. Школьник 36
Глава 3. Студент 51
Часть вторая
1869—1879
Глава 4. Профессор 77
Глава 5. Вагнер, Шопенгауэр, Дарвин и греки 90
Глава 6. Базель и Байрейт 135
Глава 7. Сорренто и конец Базеля 167
Часть третья
1879—1889
Глава 8. Поворотный пункт 177
Глава 9. Скиталец 193
Глава 10. Лу Саломей 228
Глава 11. Заратустра 242
Глава 12. Отшельник 257
382
ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава 13. Год 1888-й 293
Глава 14. Переоценка 331
Глава 15. Поэт 348
Глава 16. Кризис 359
Часть четвертая
1889—1900
Глава 17. Смерть Ницше 365
Холлингдейл Р.Дж.
ФРИДРИХ НИЦШЕ
Трагедия неприкаянной души