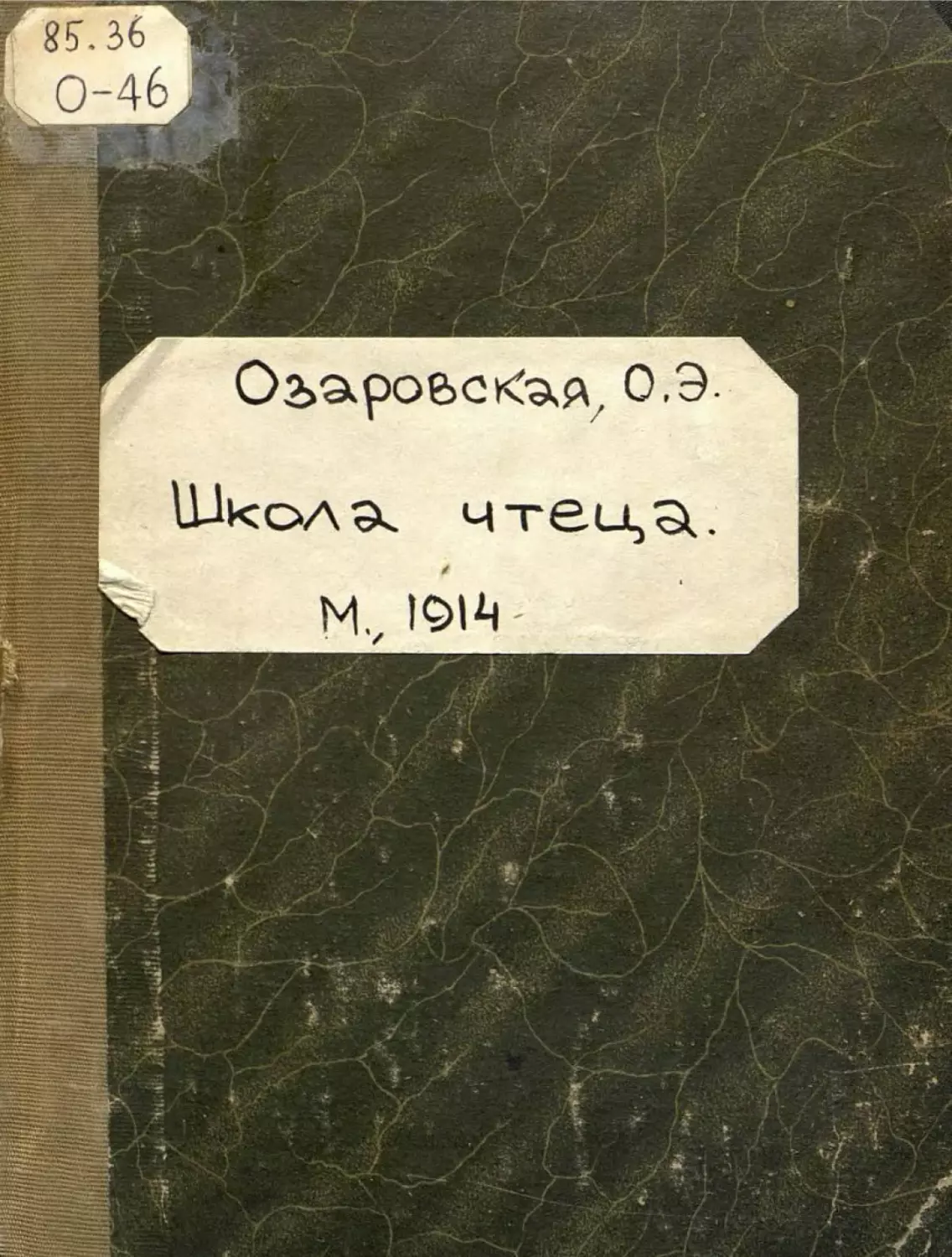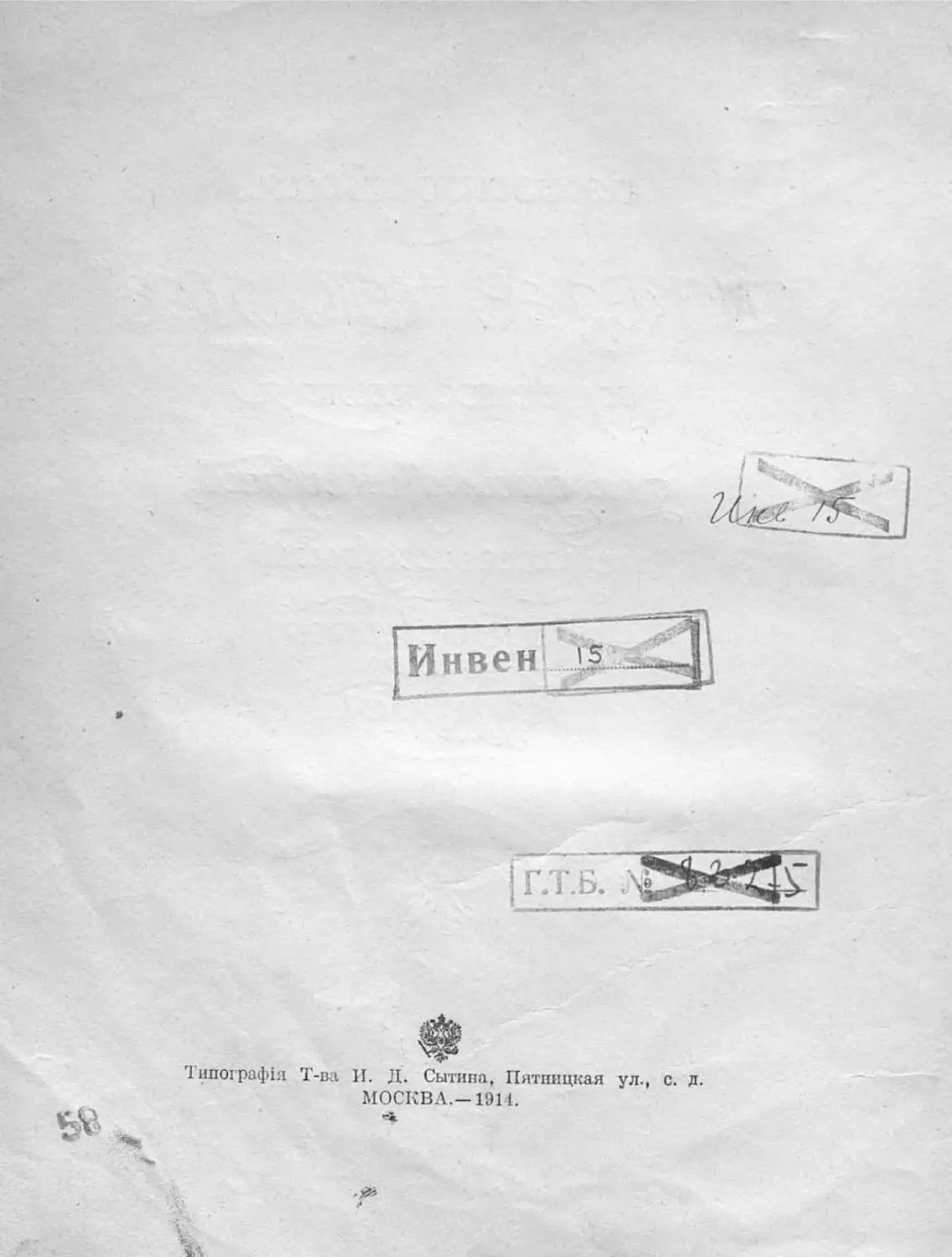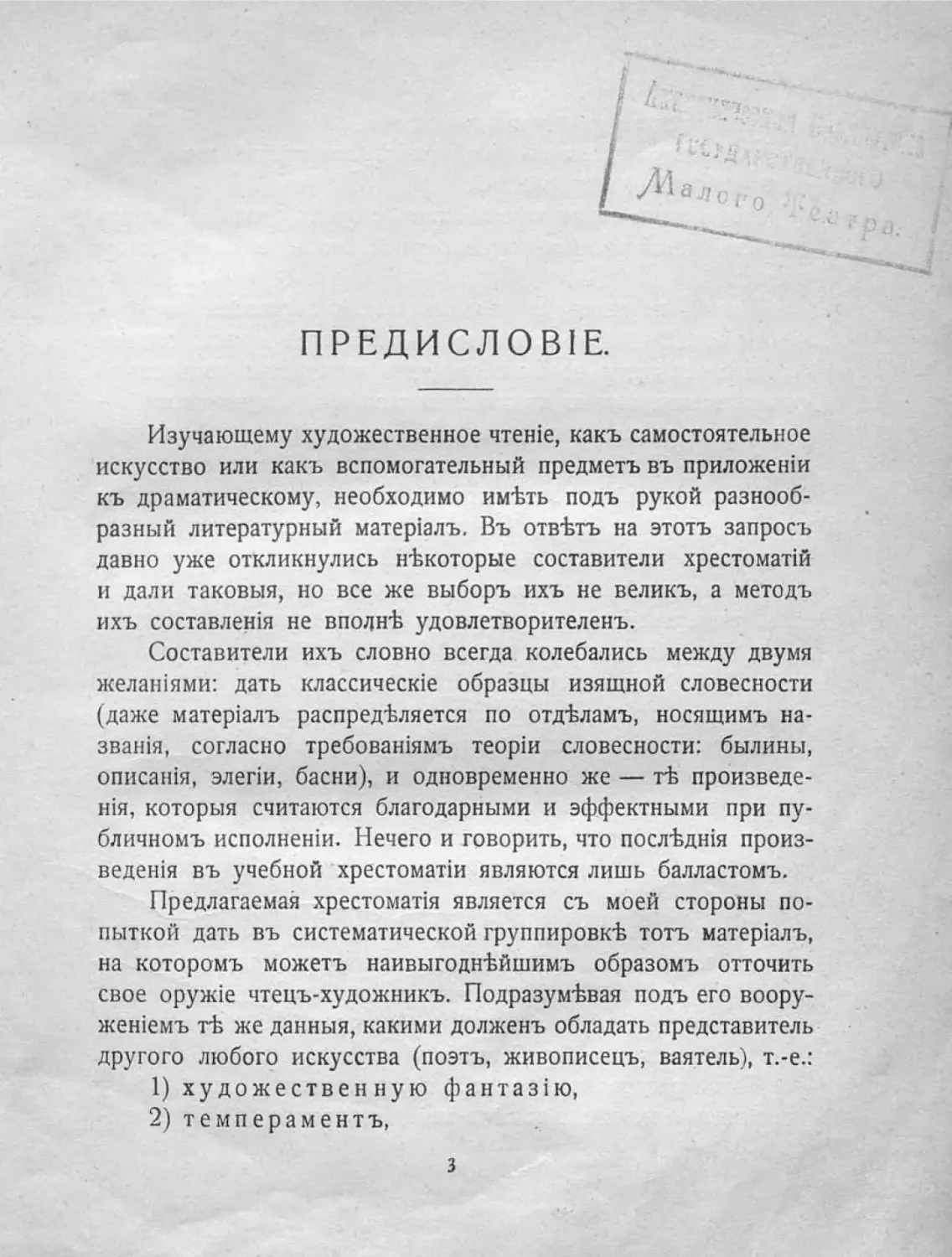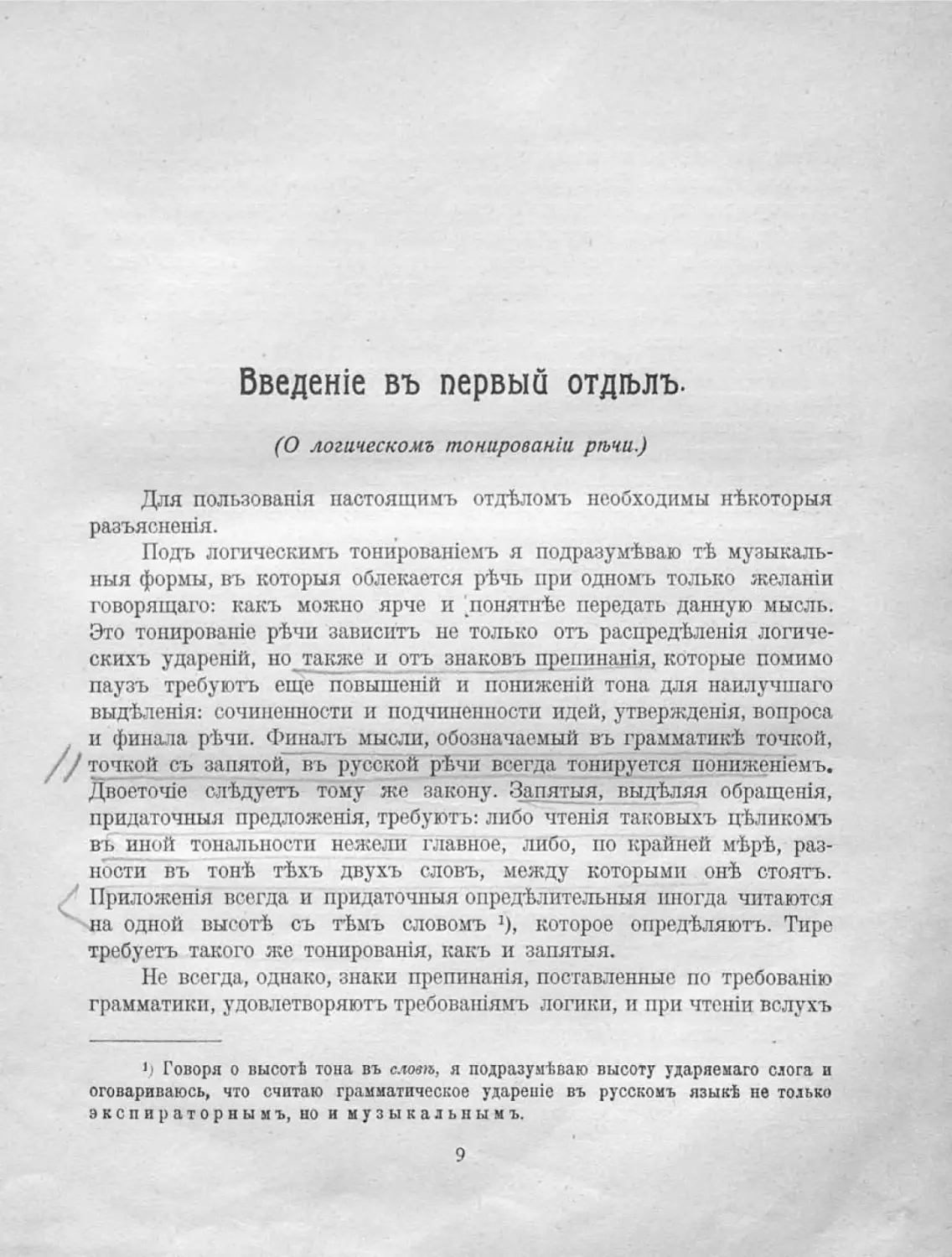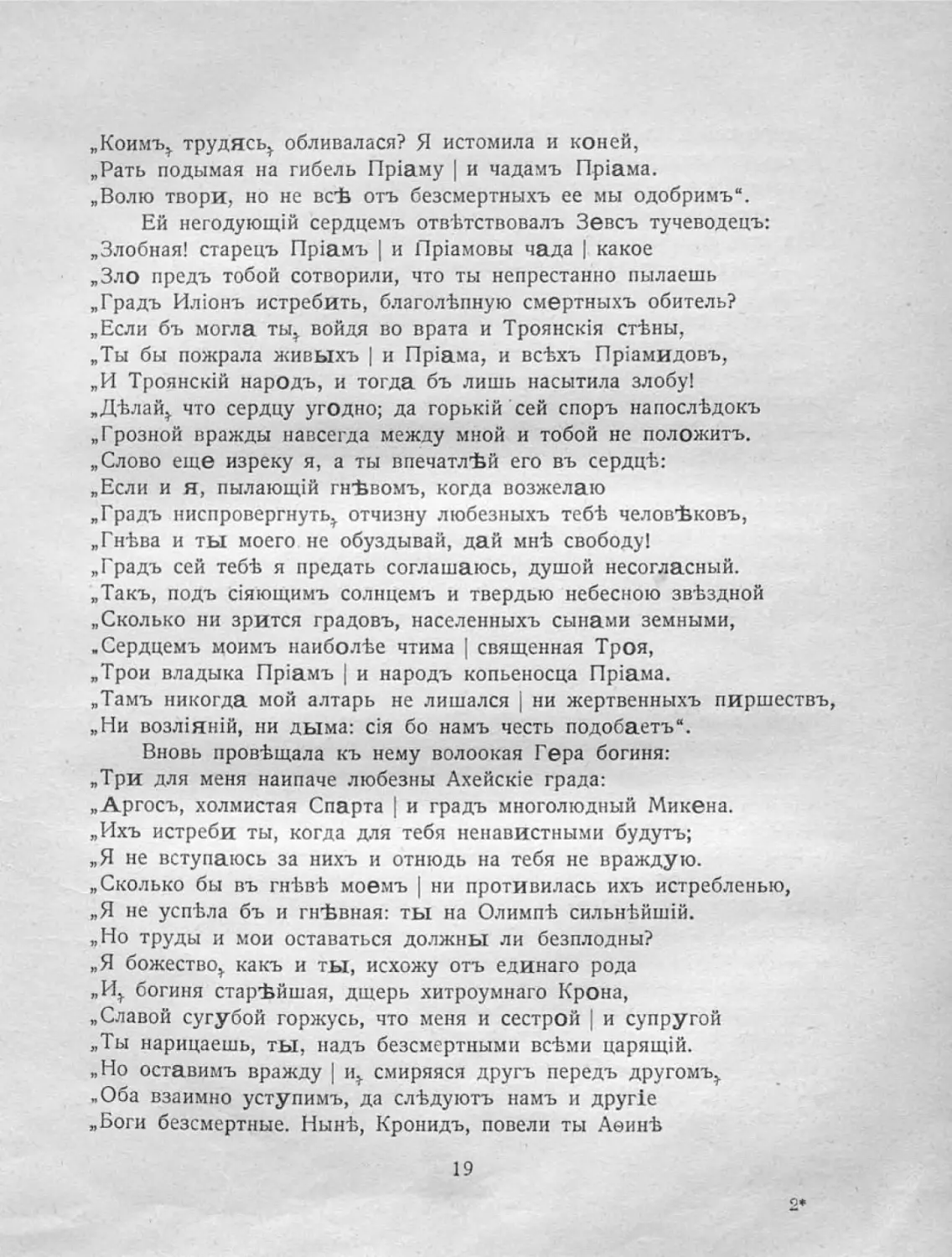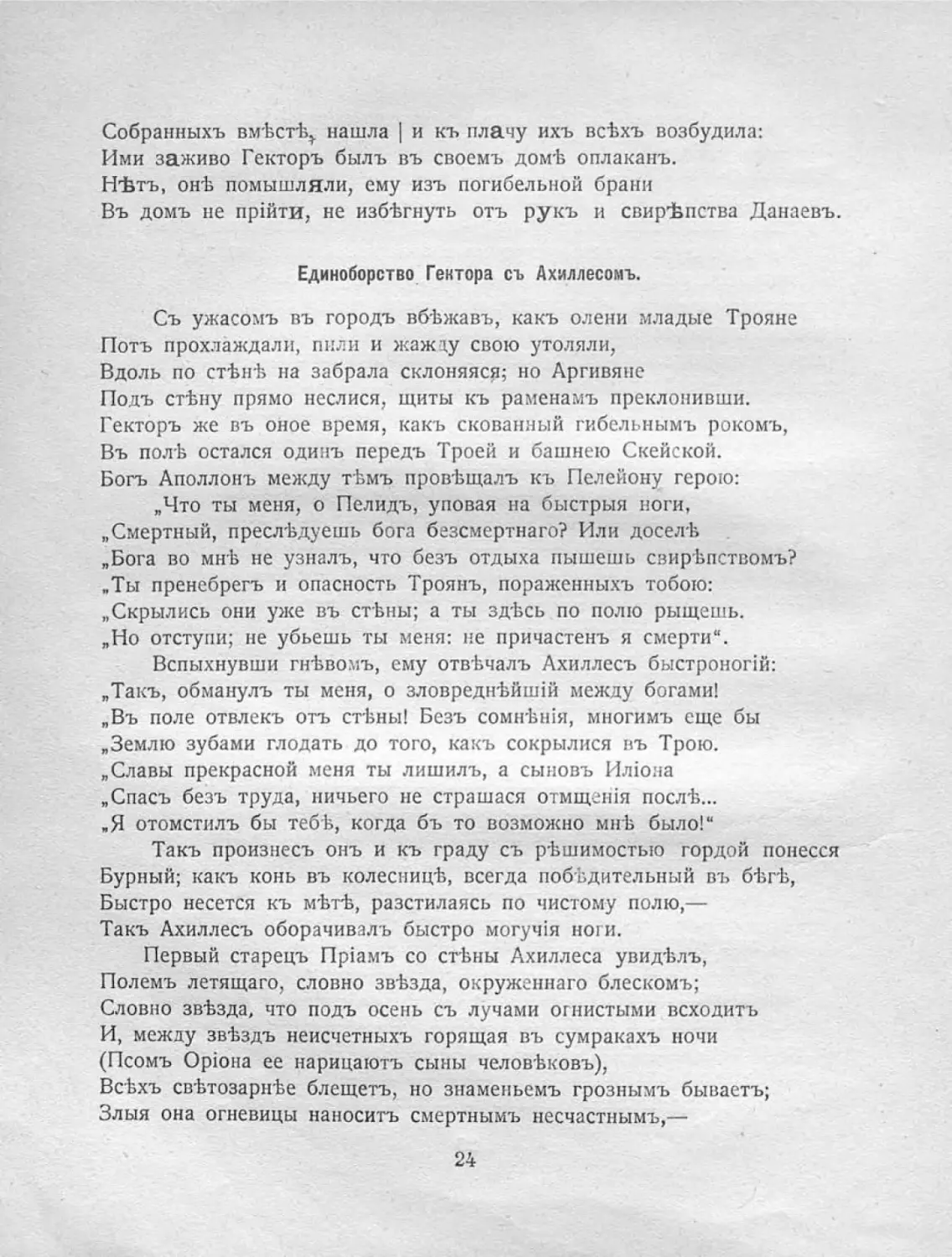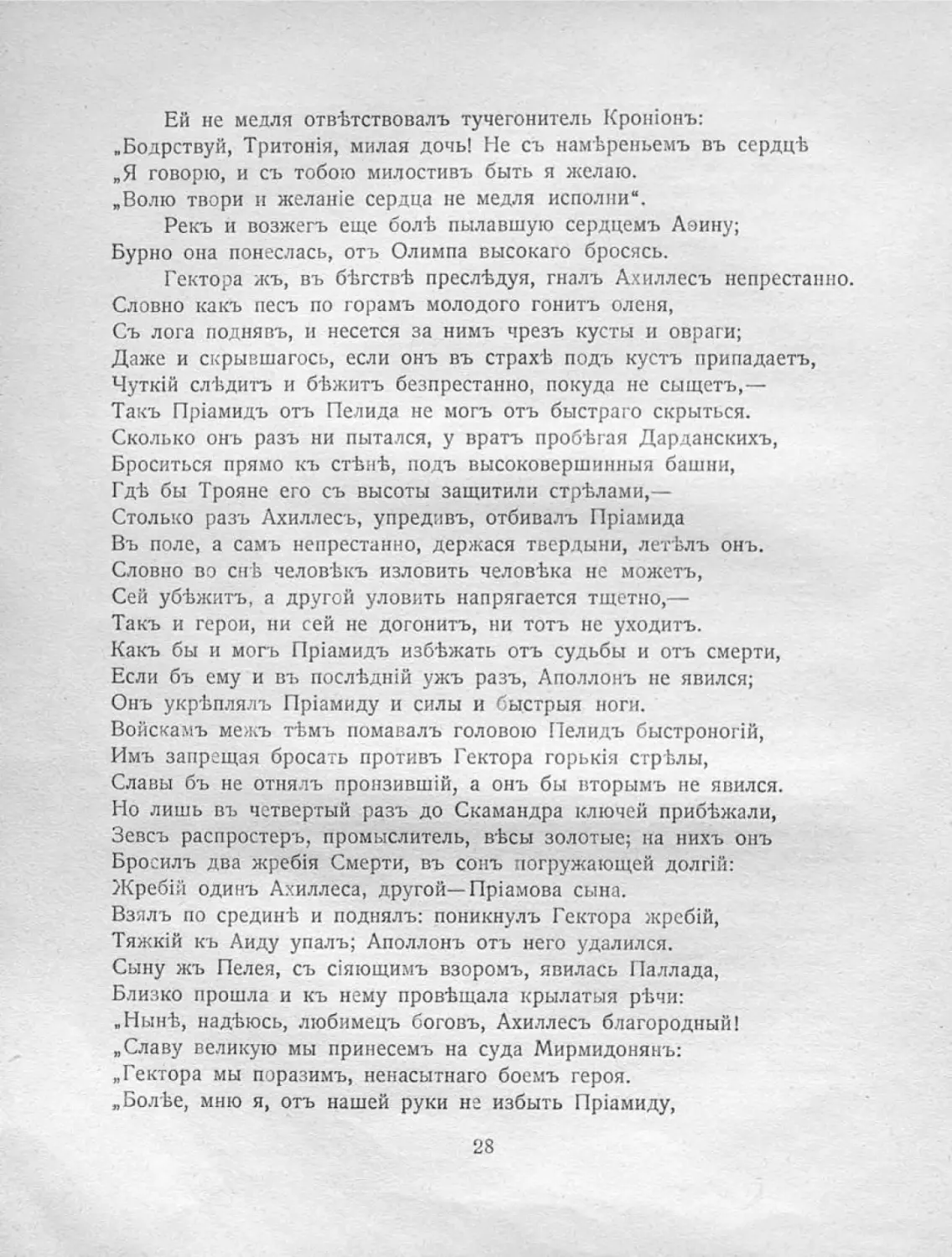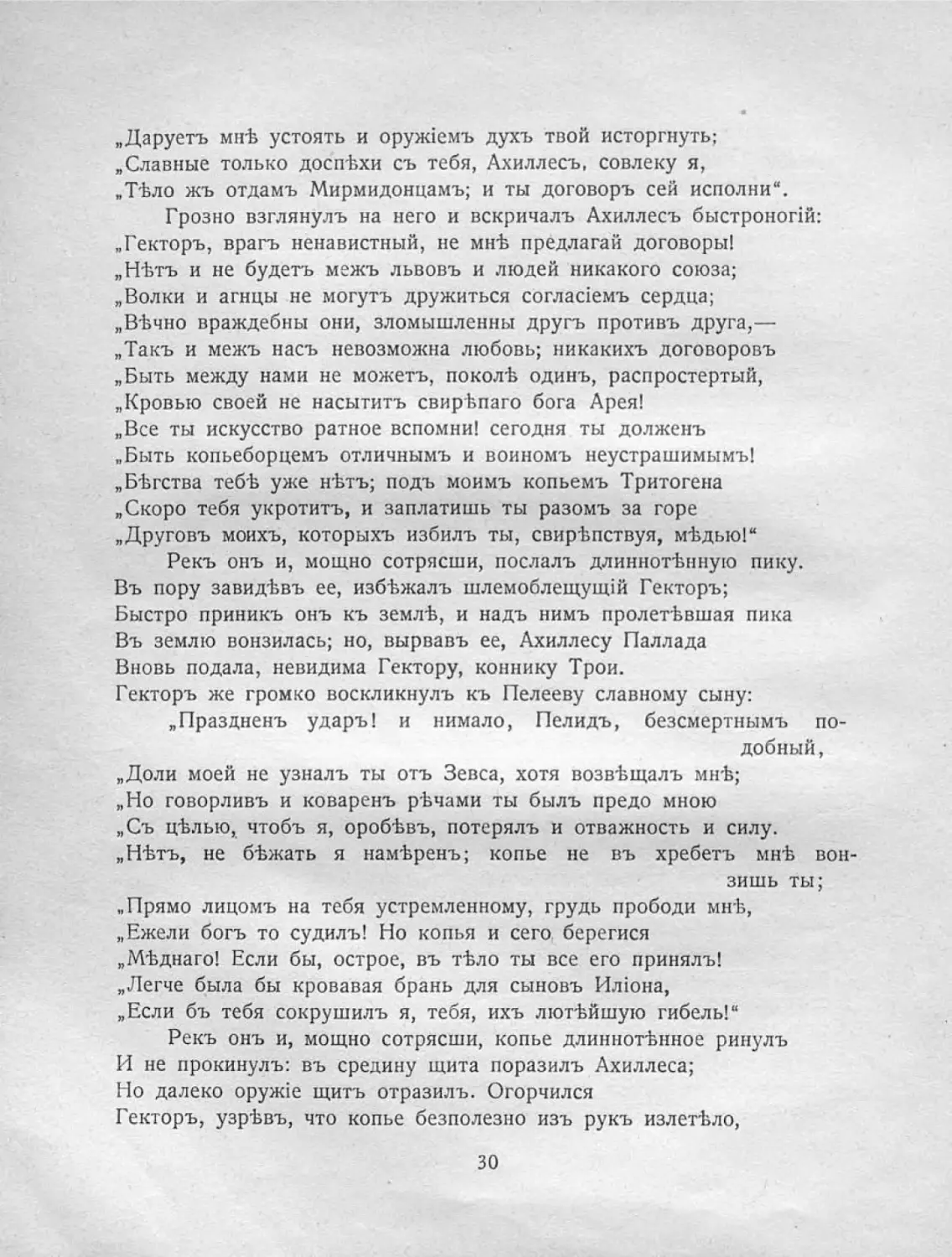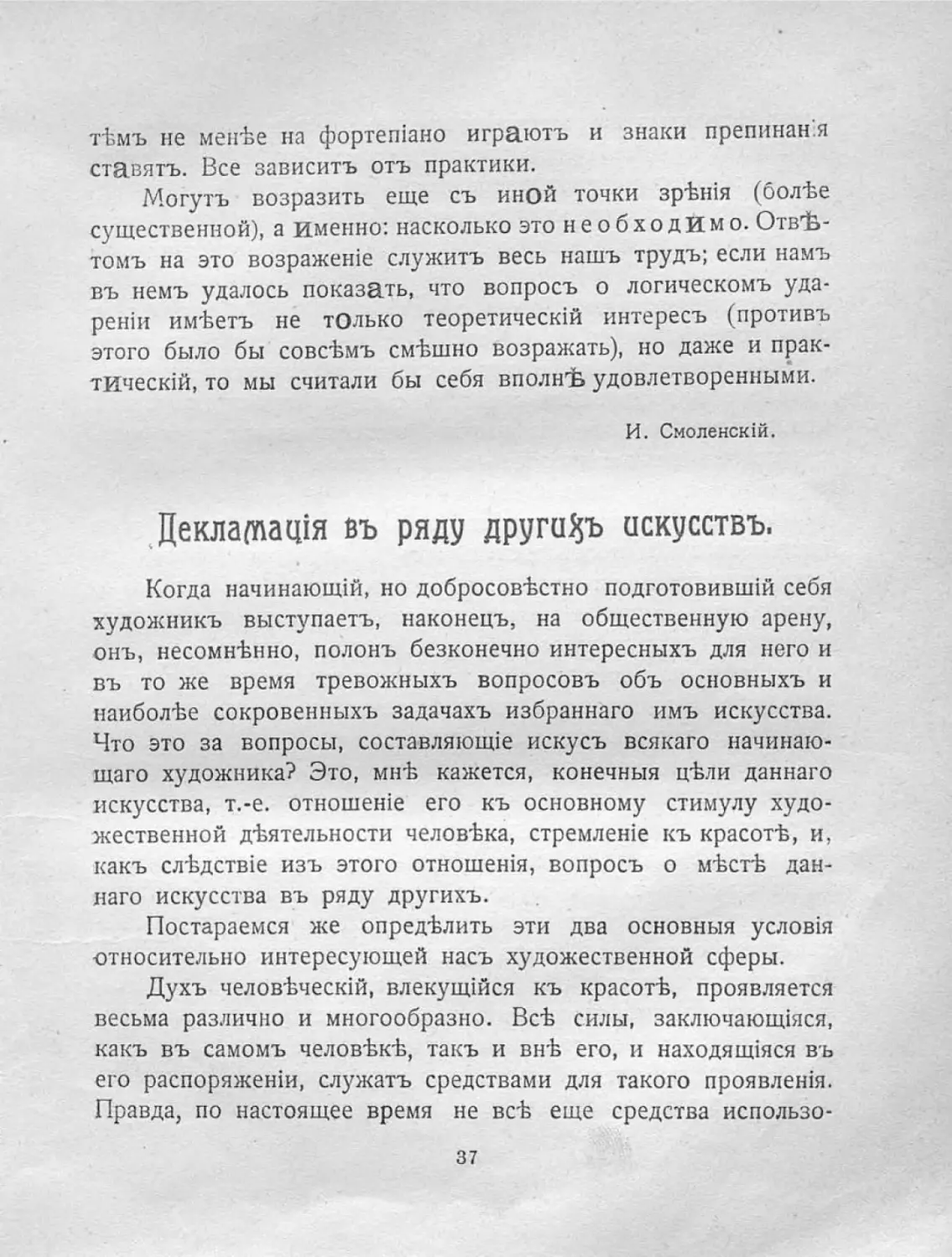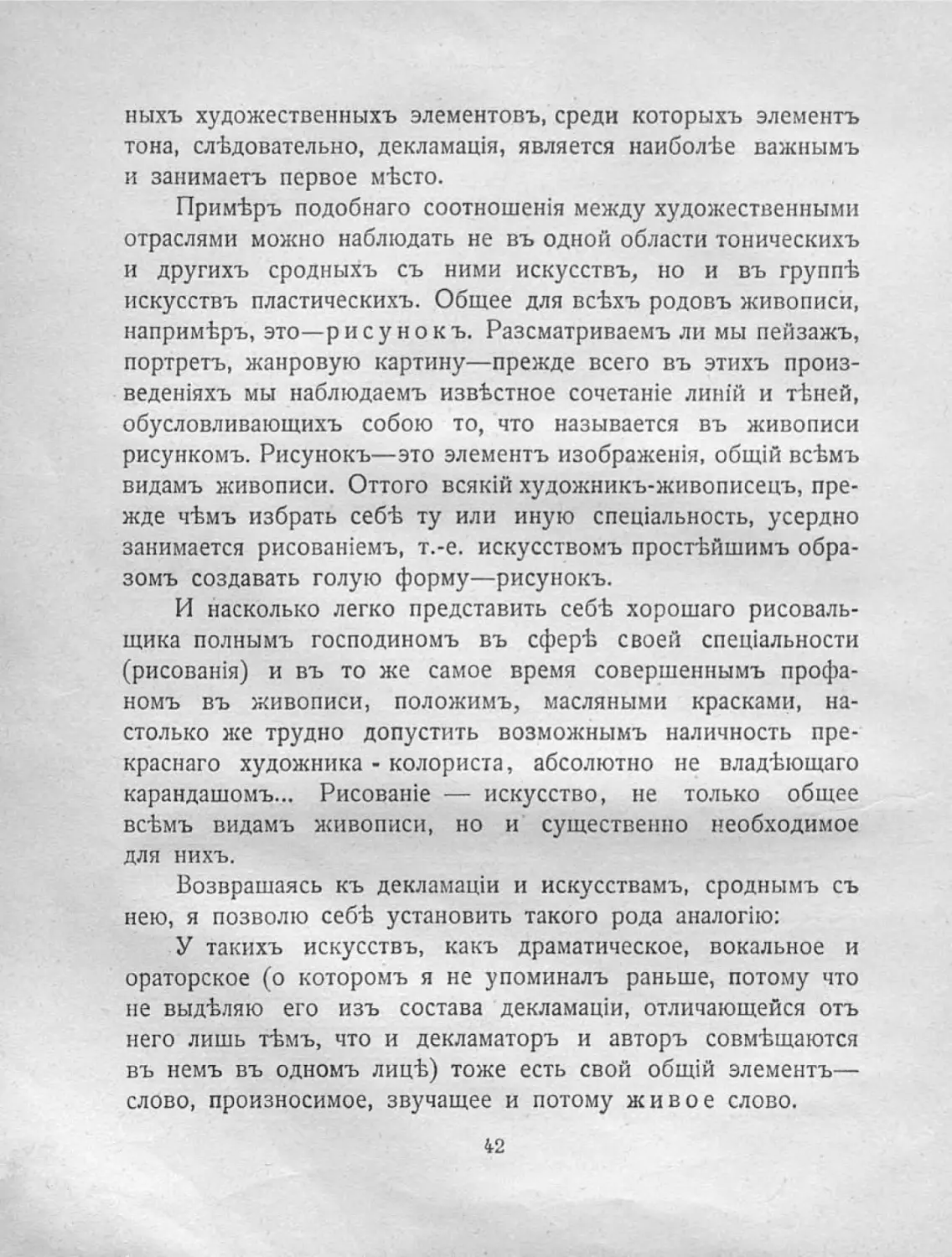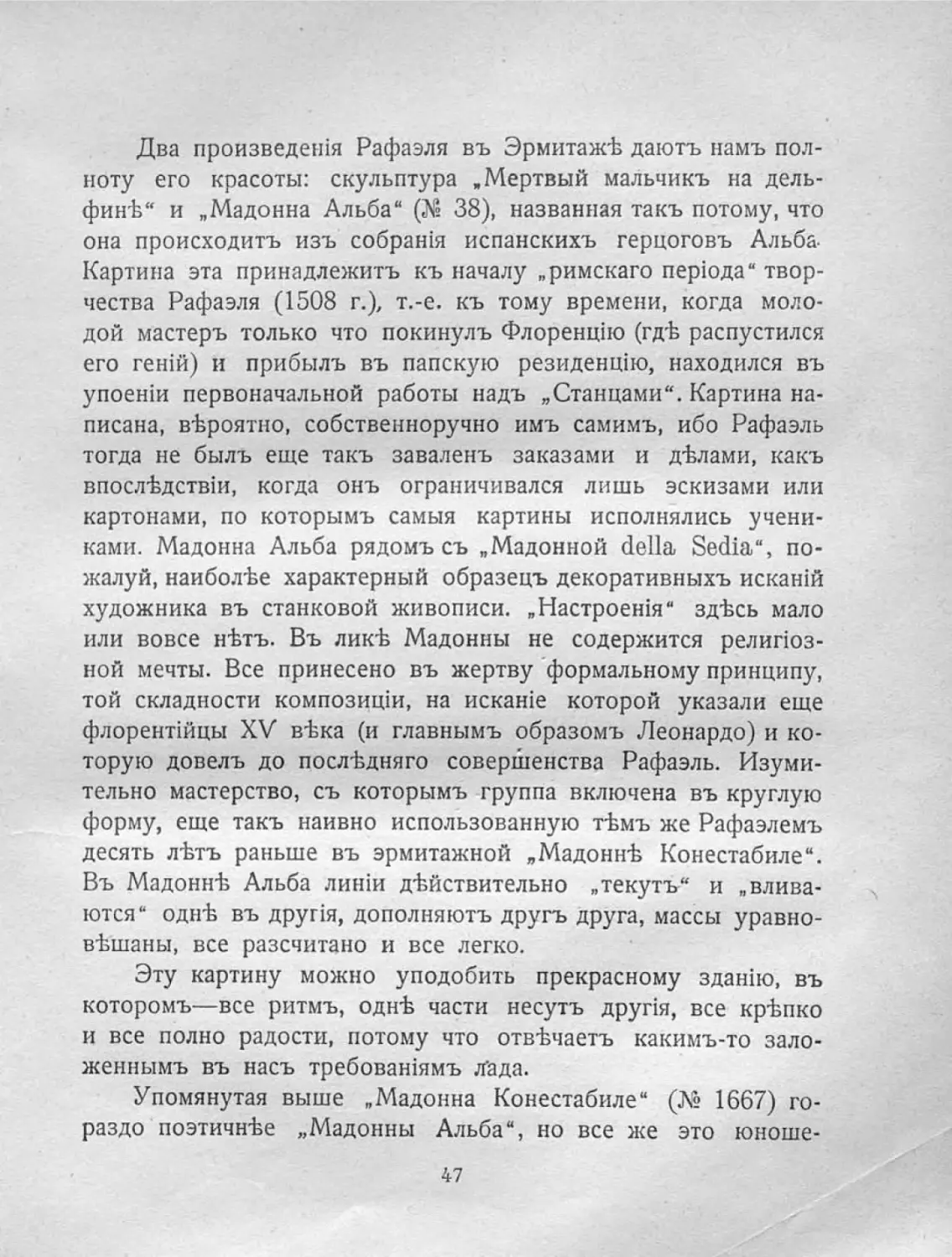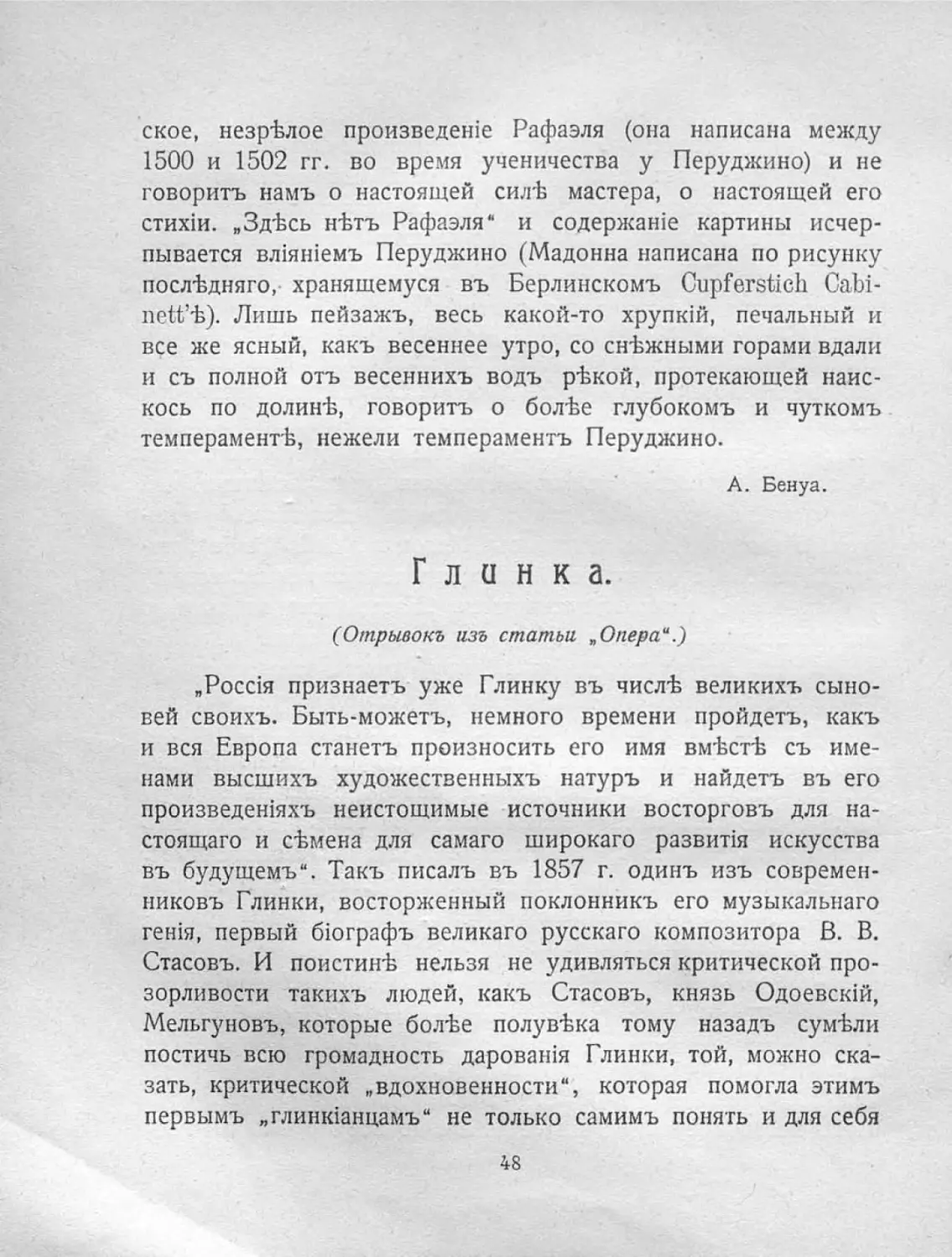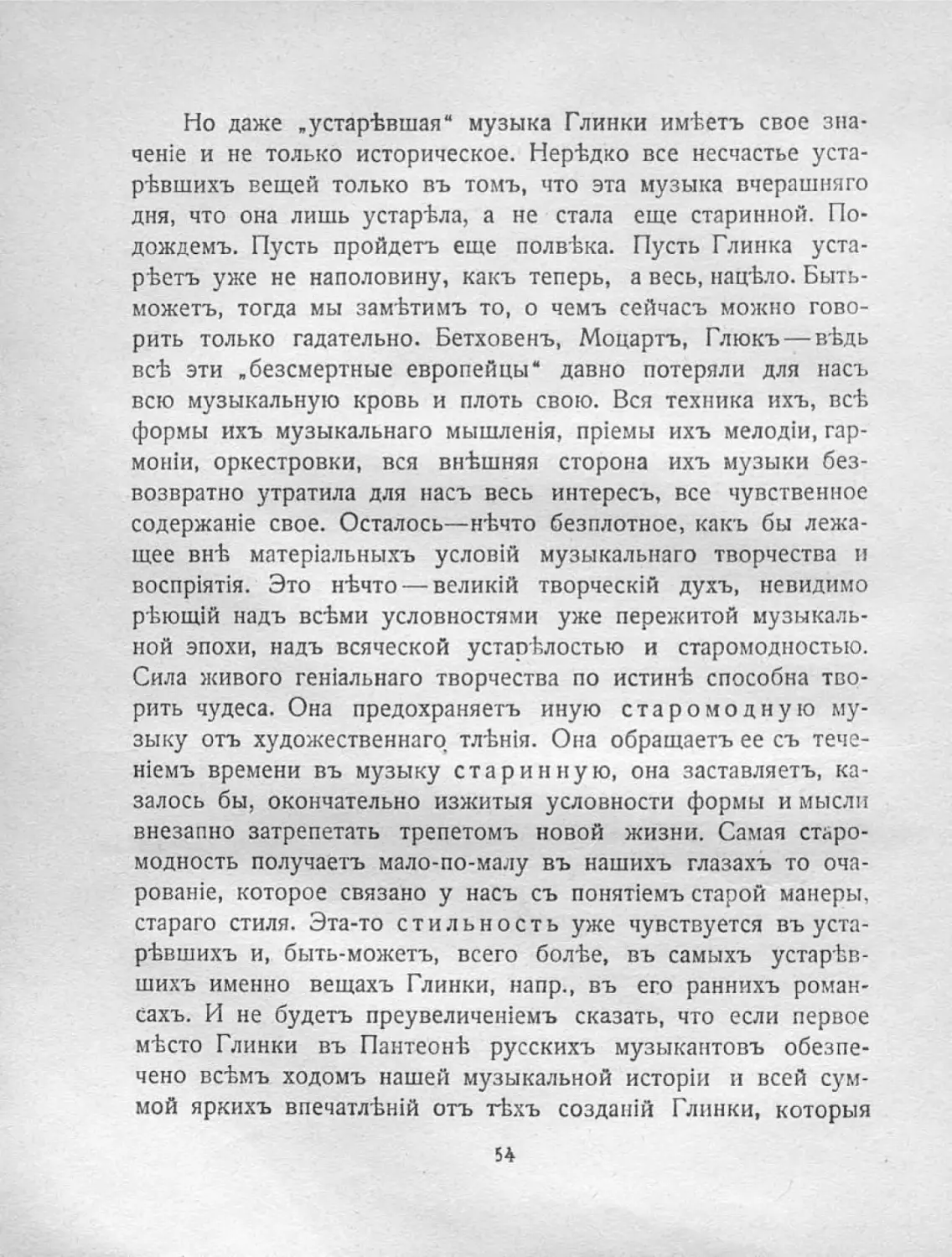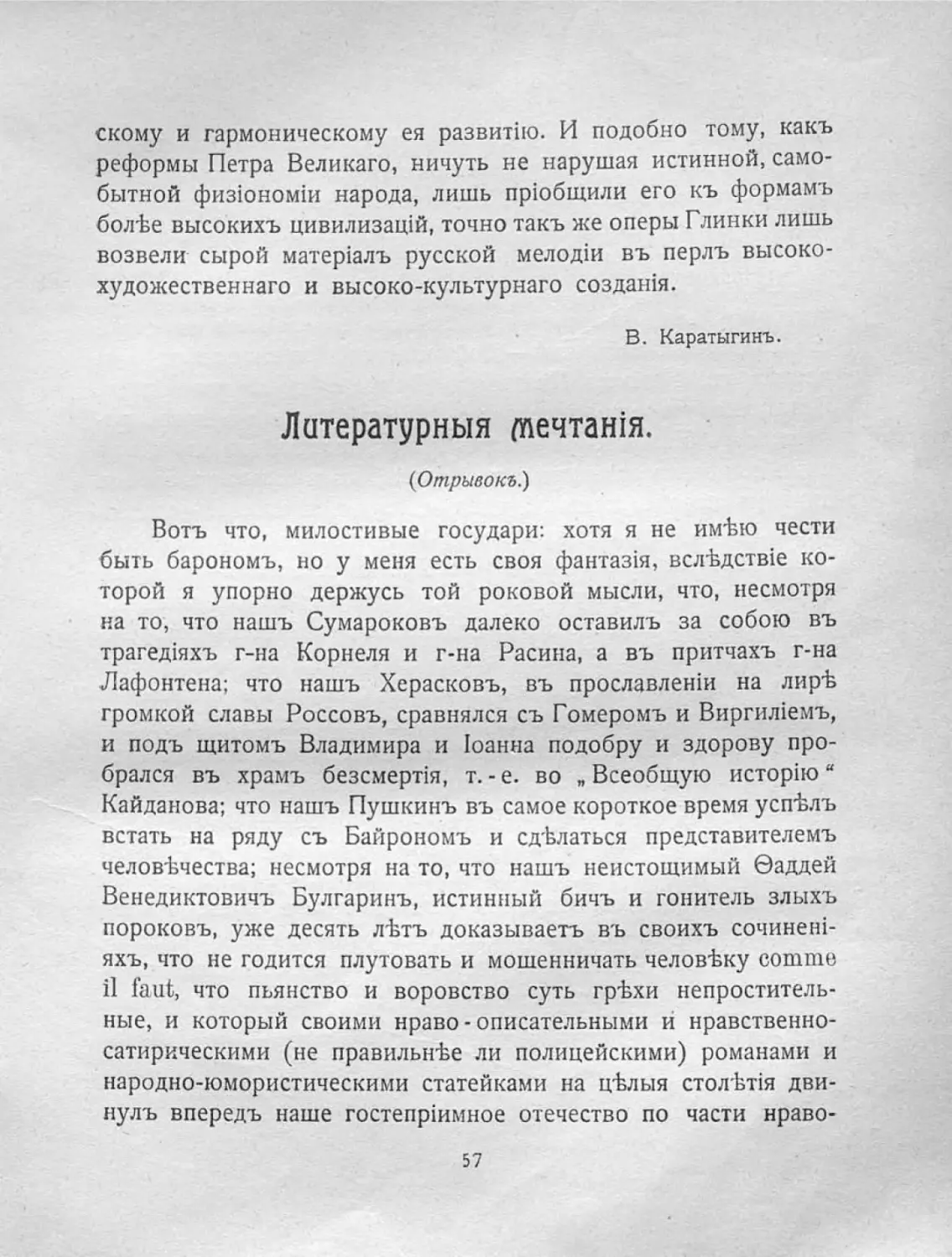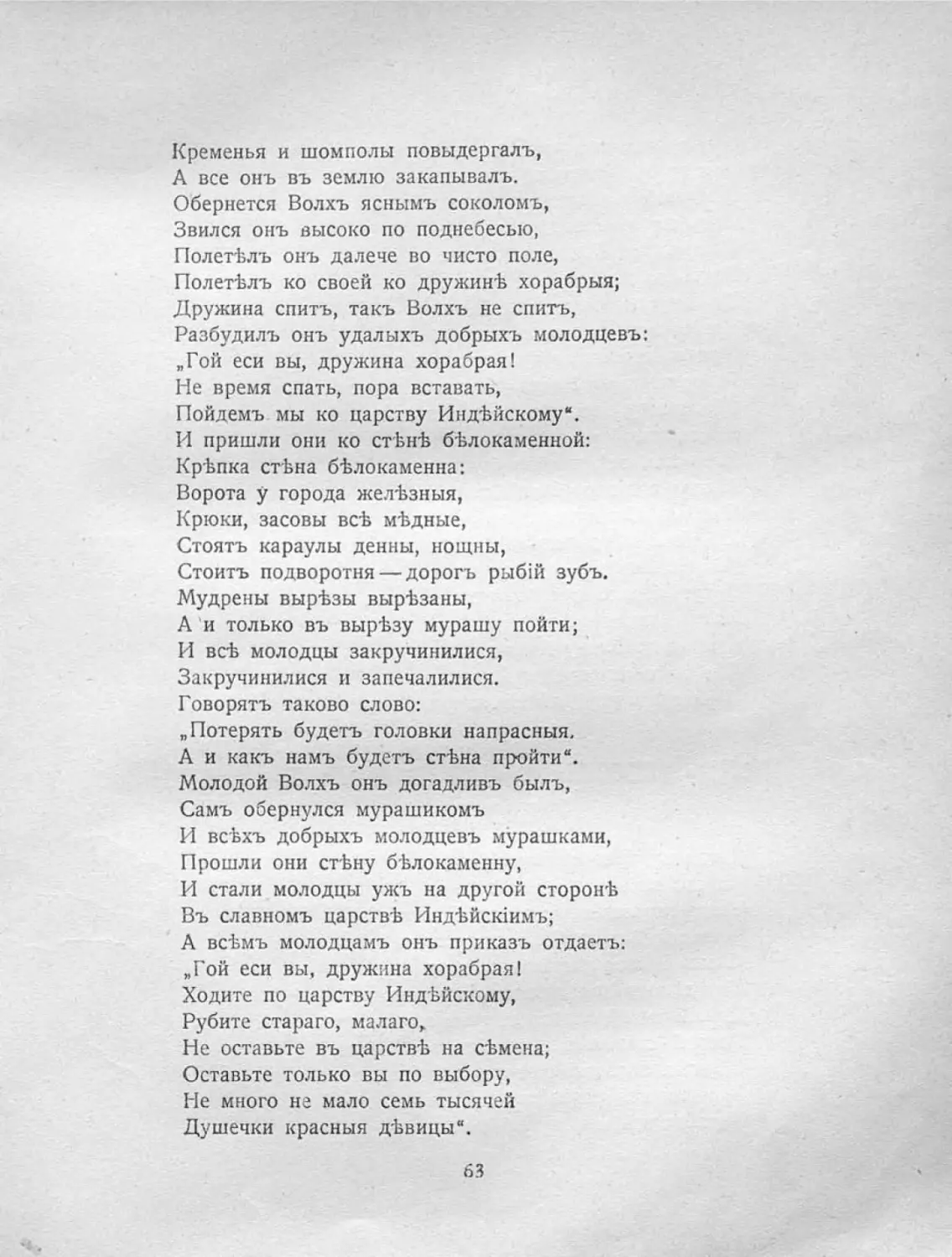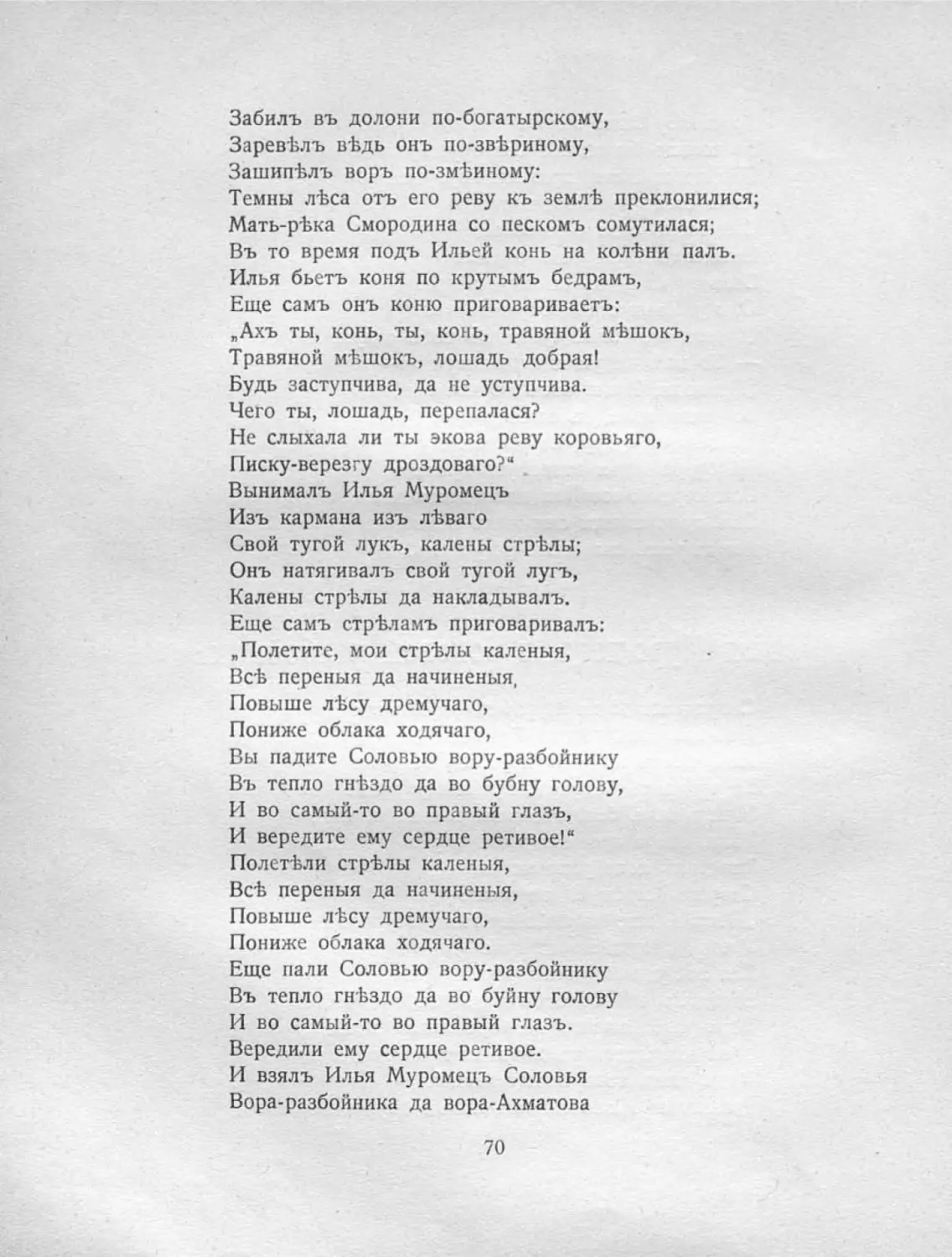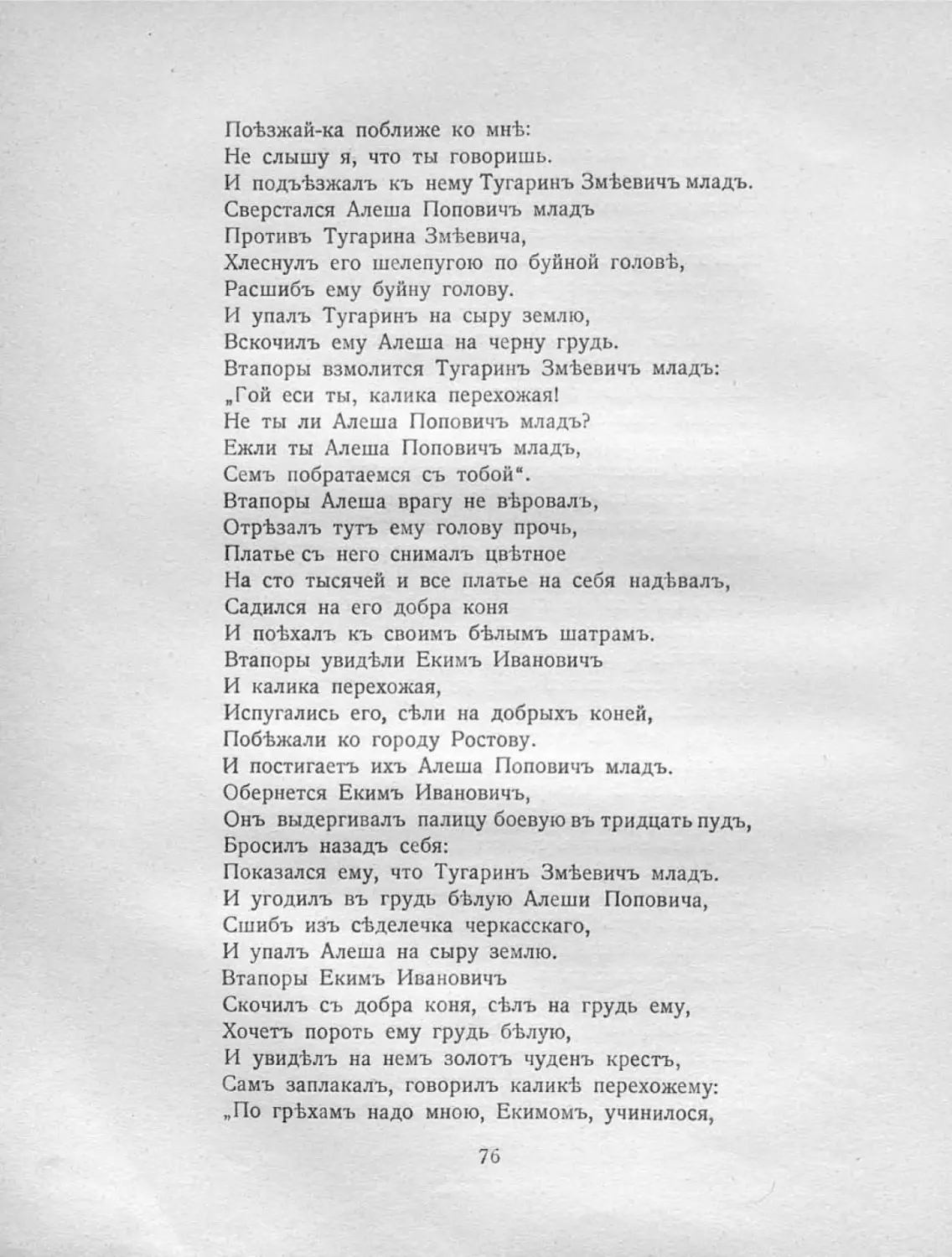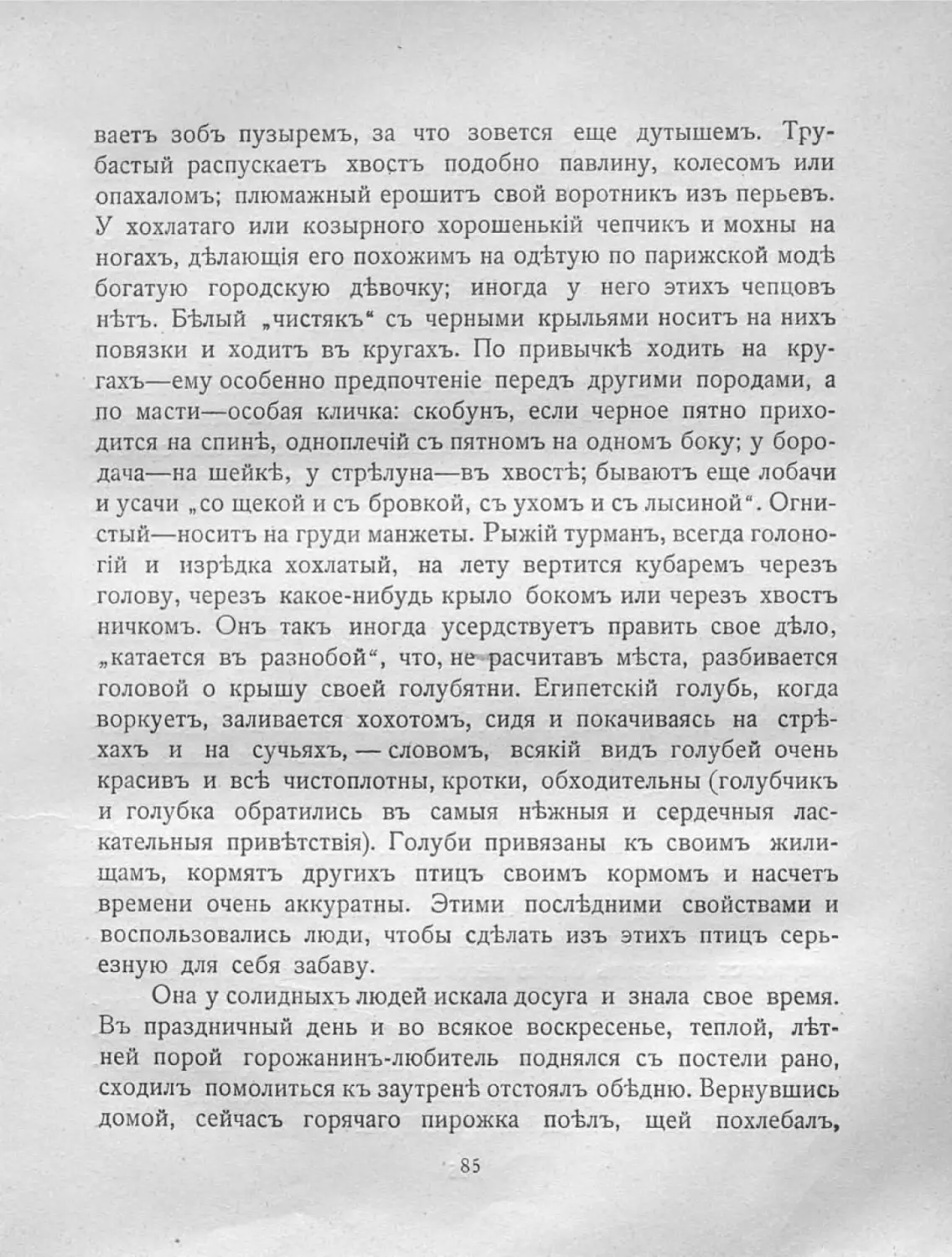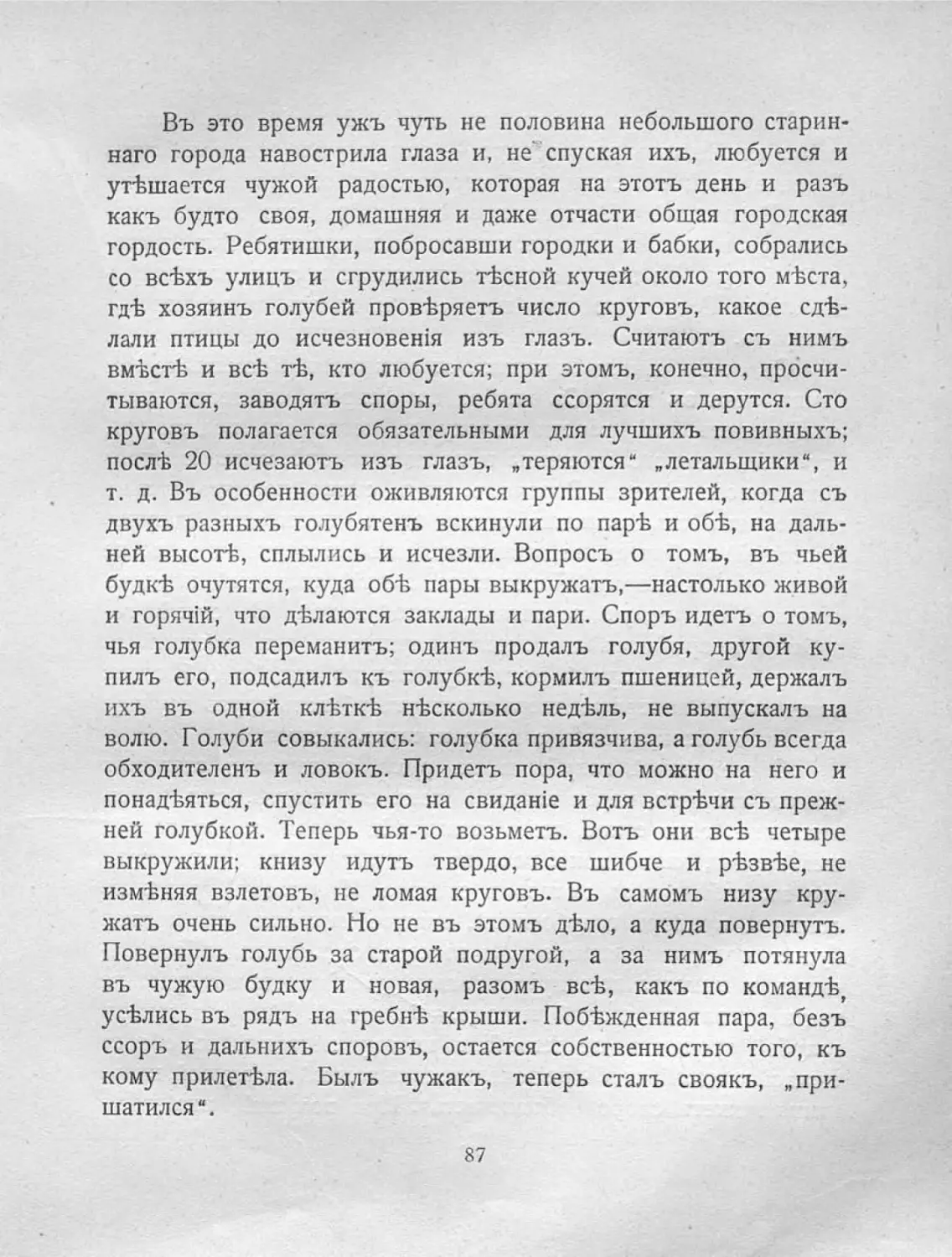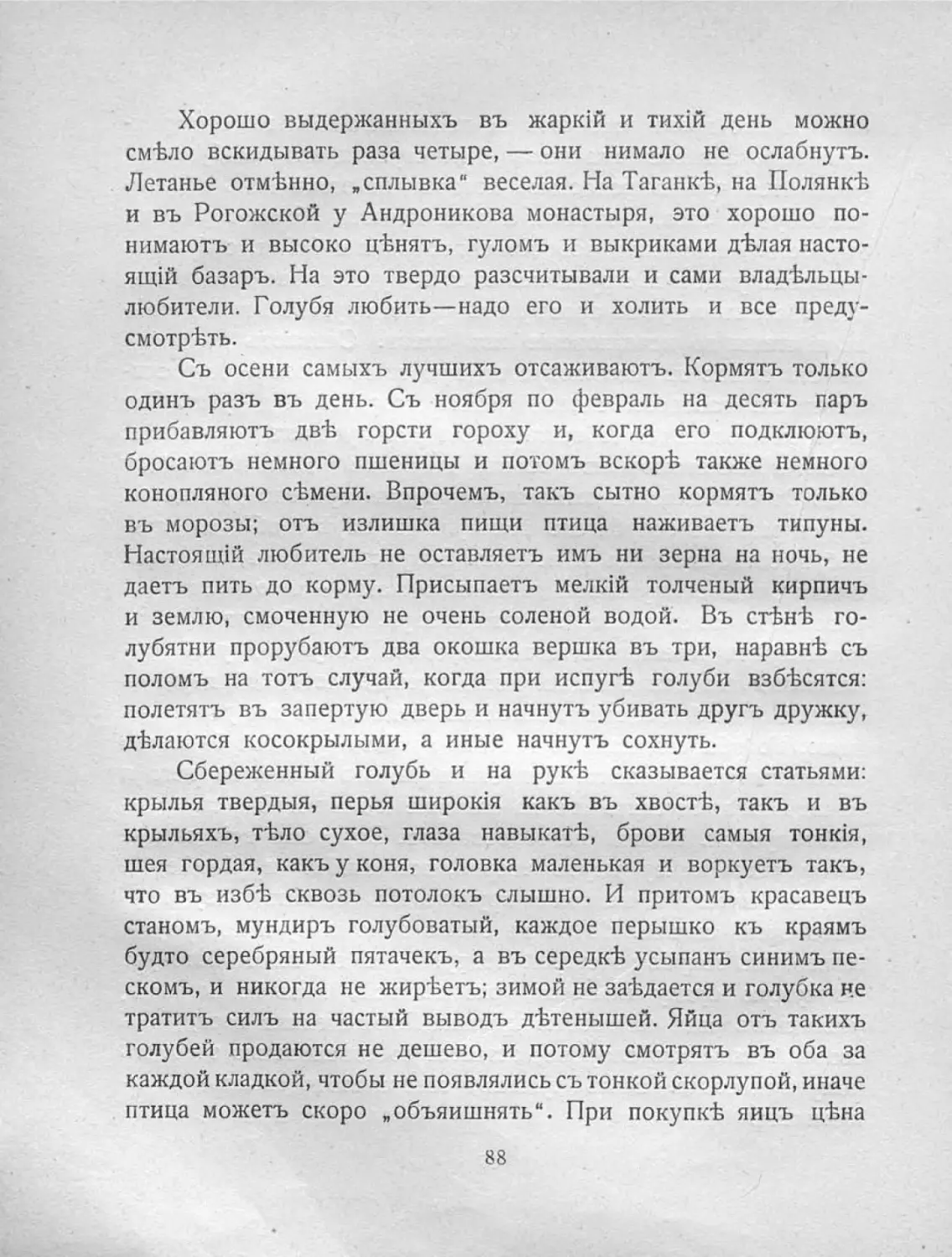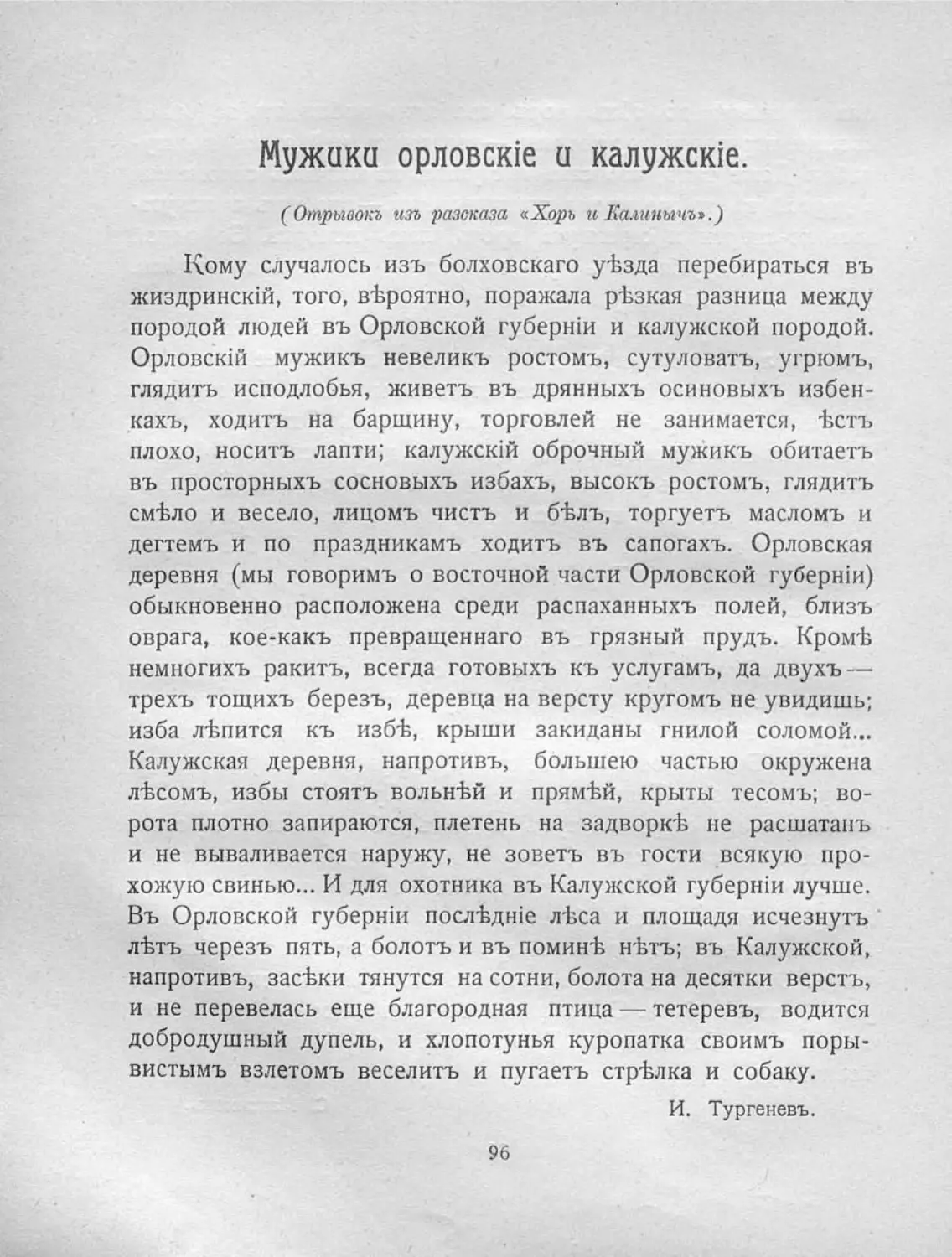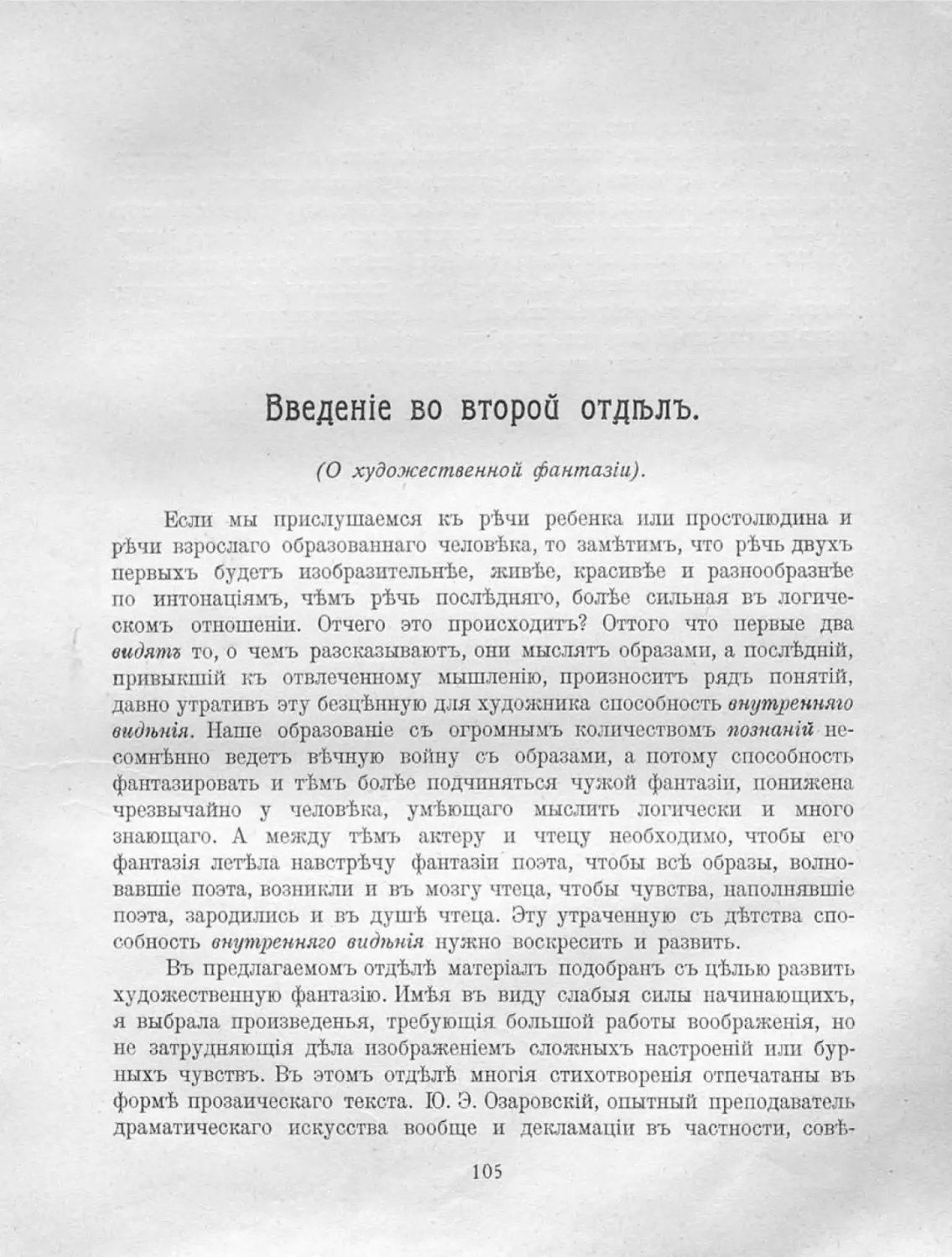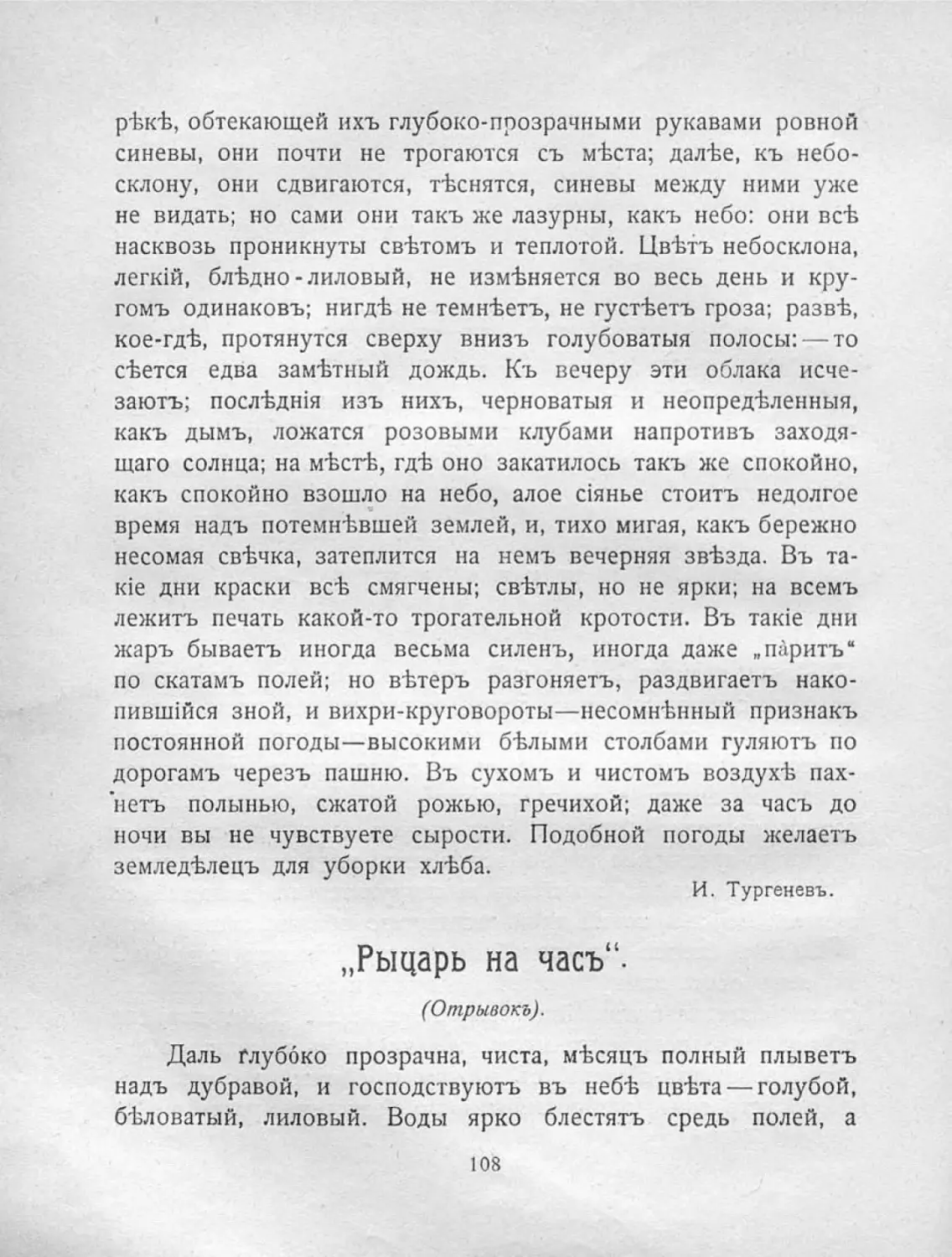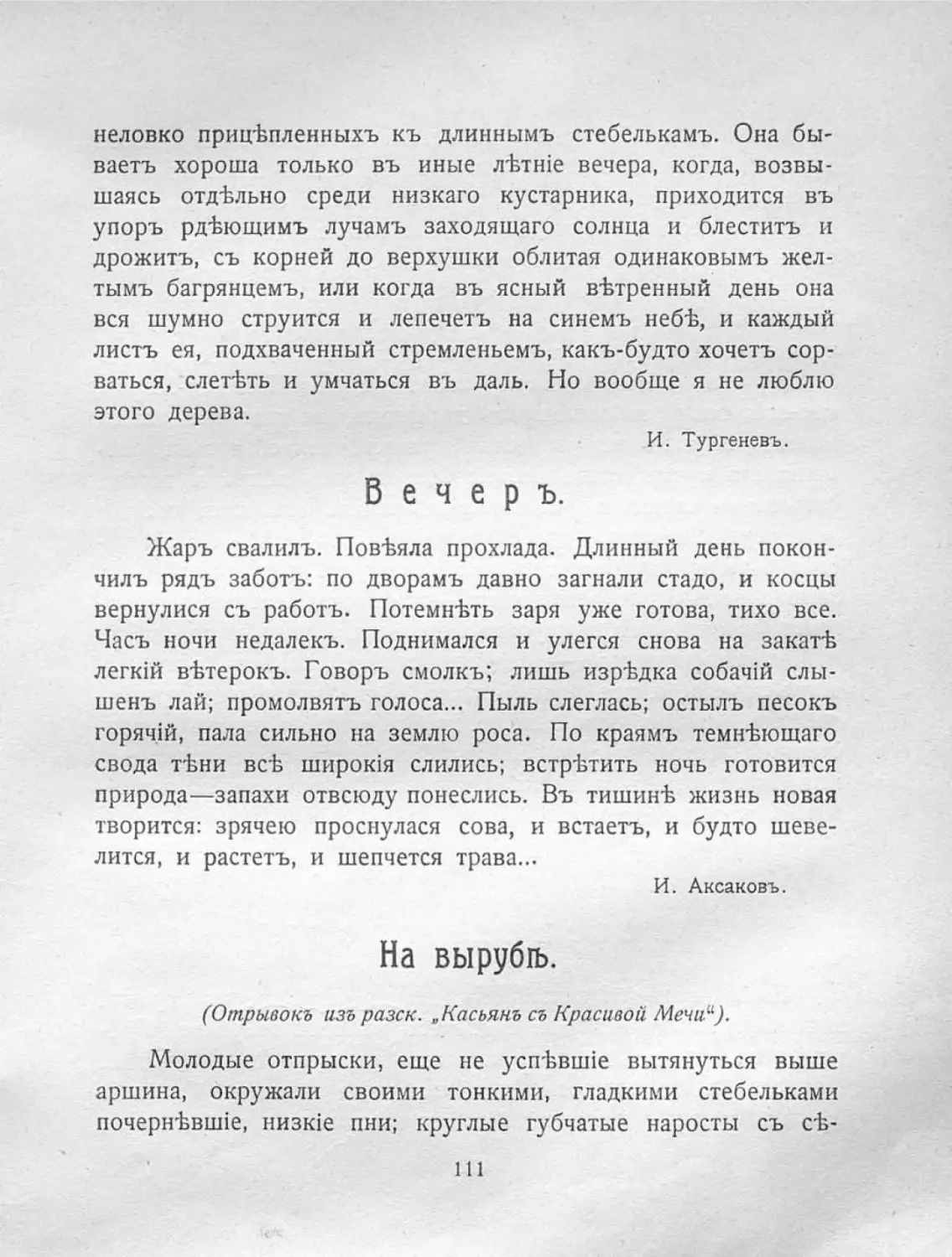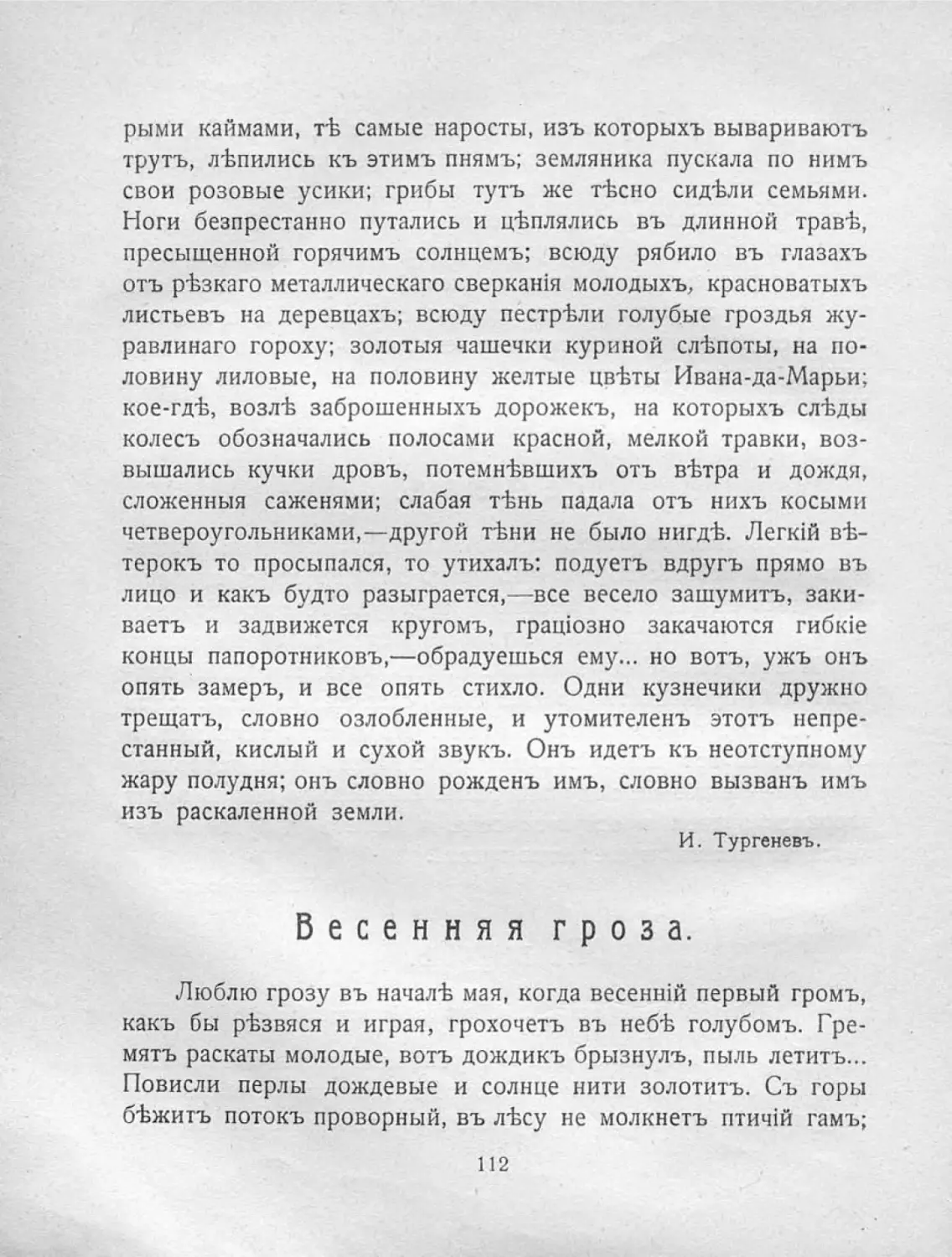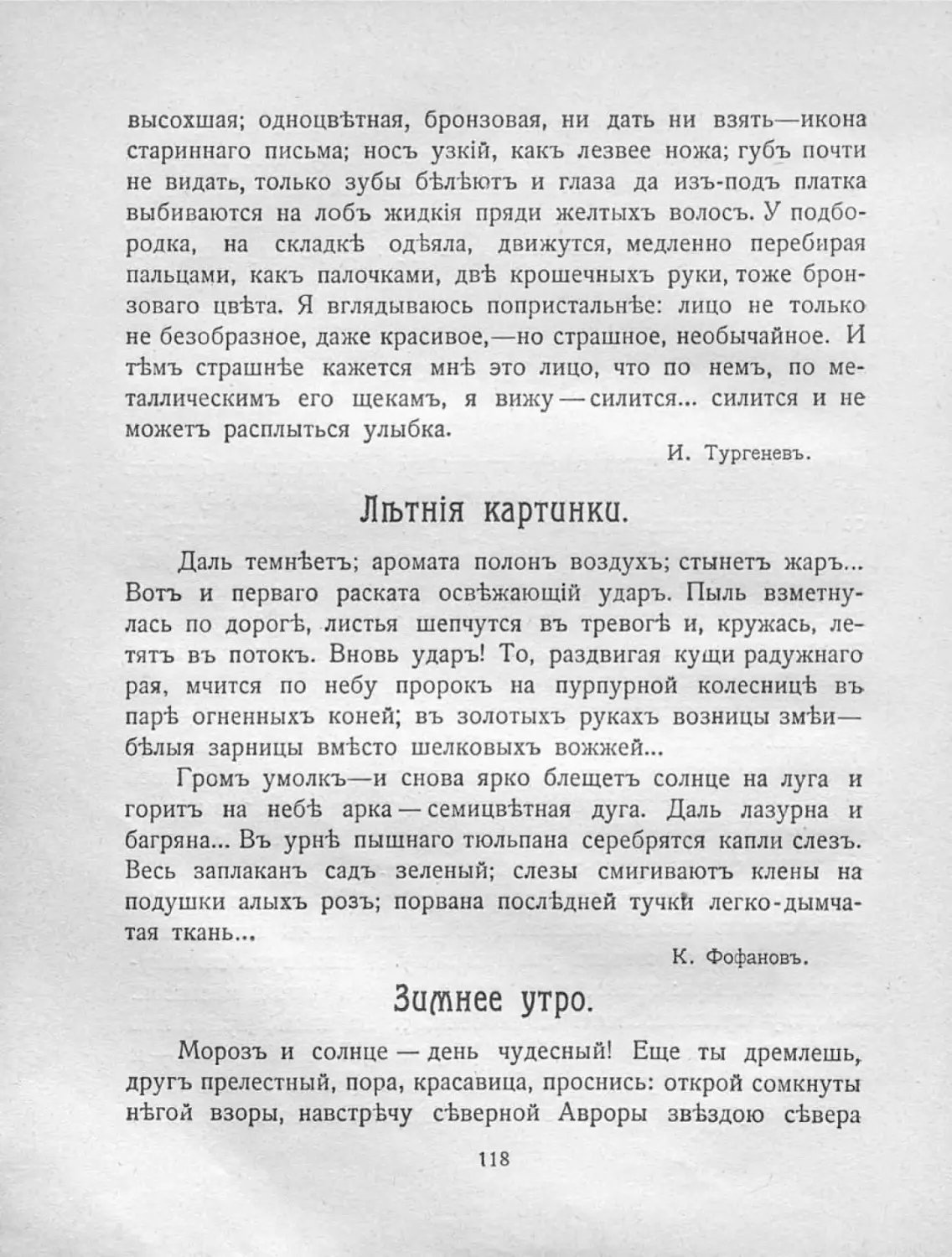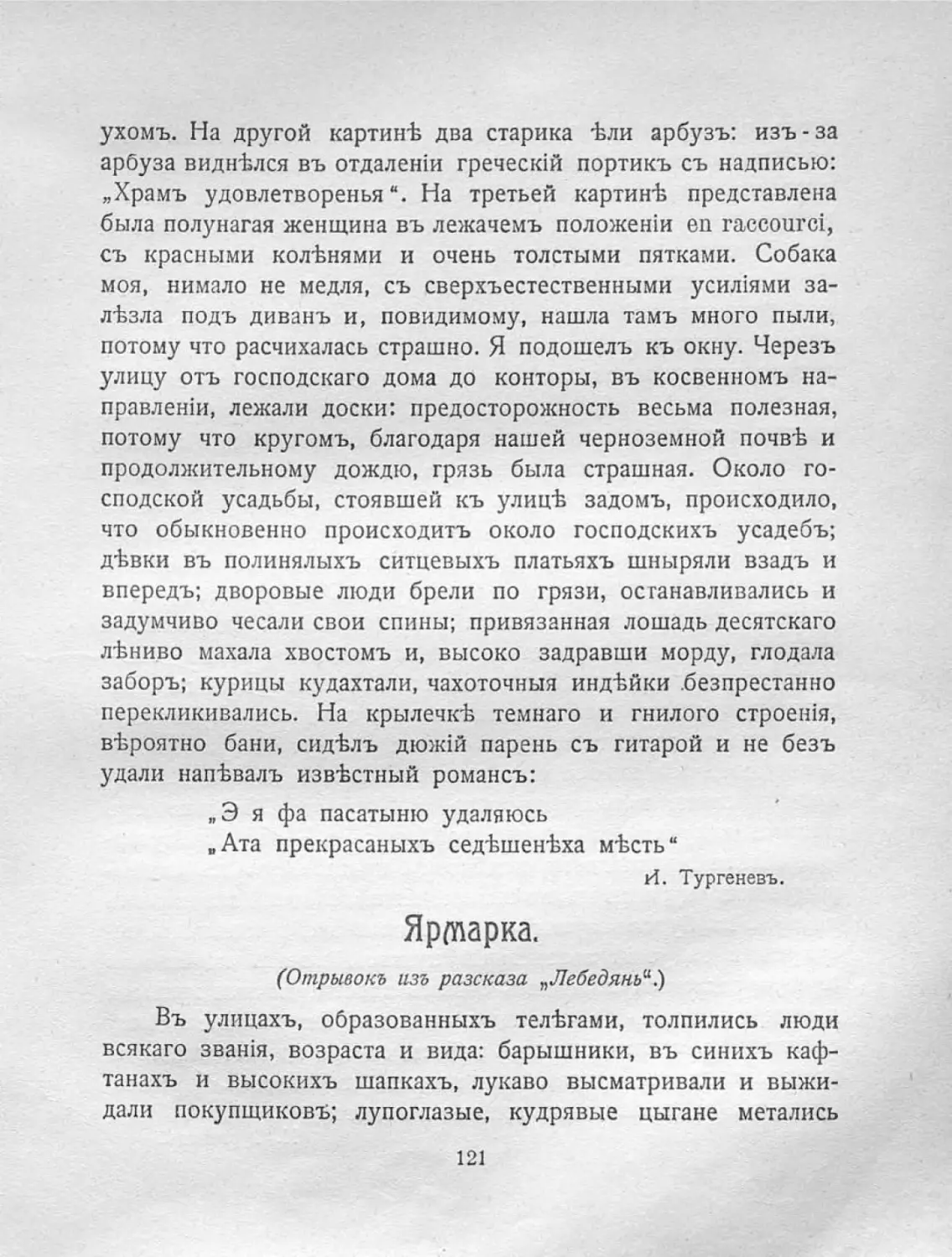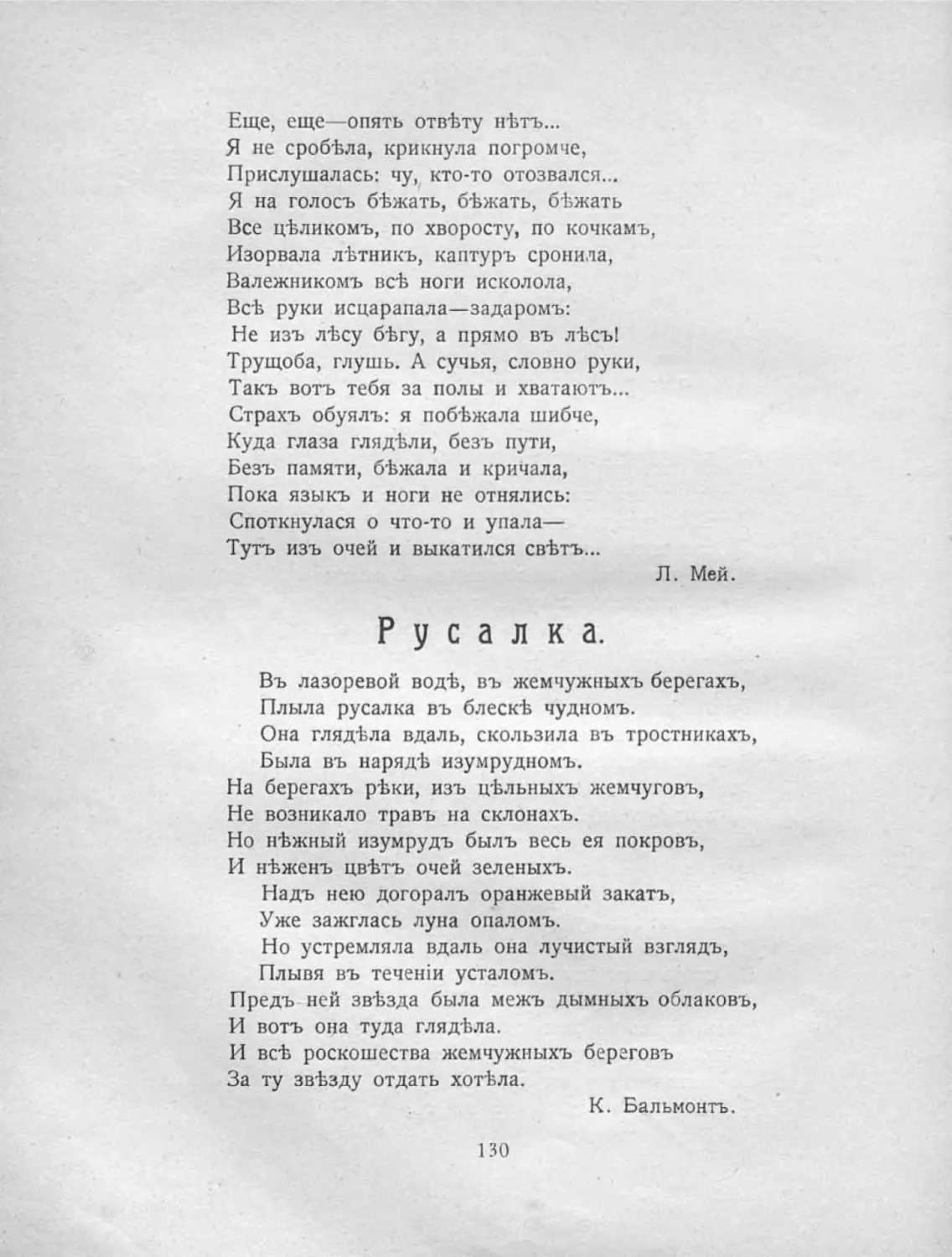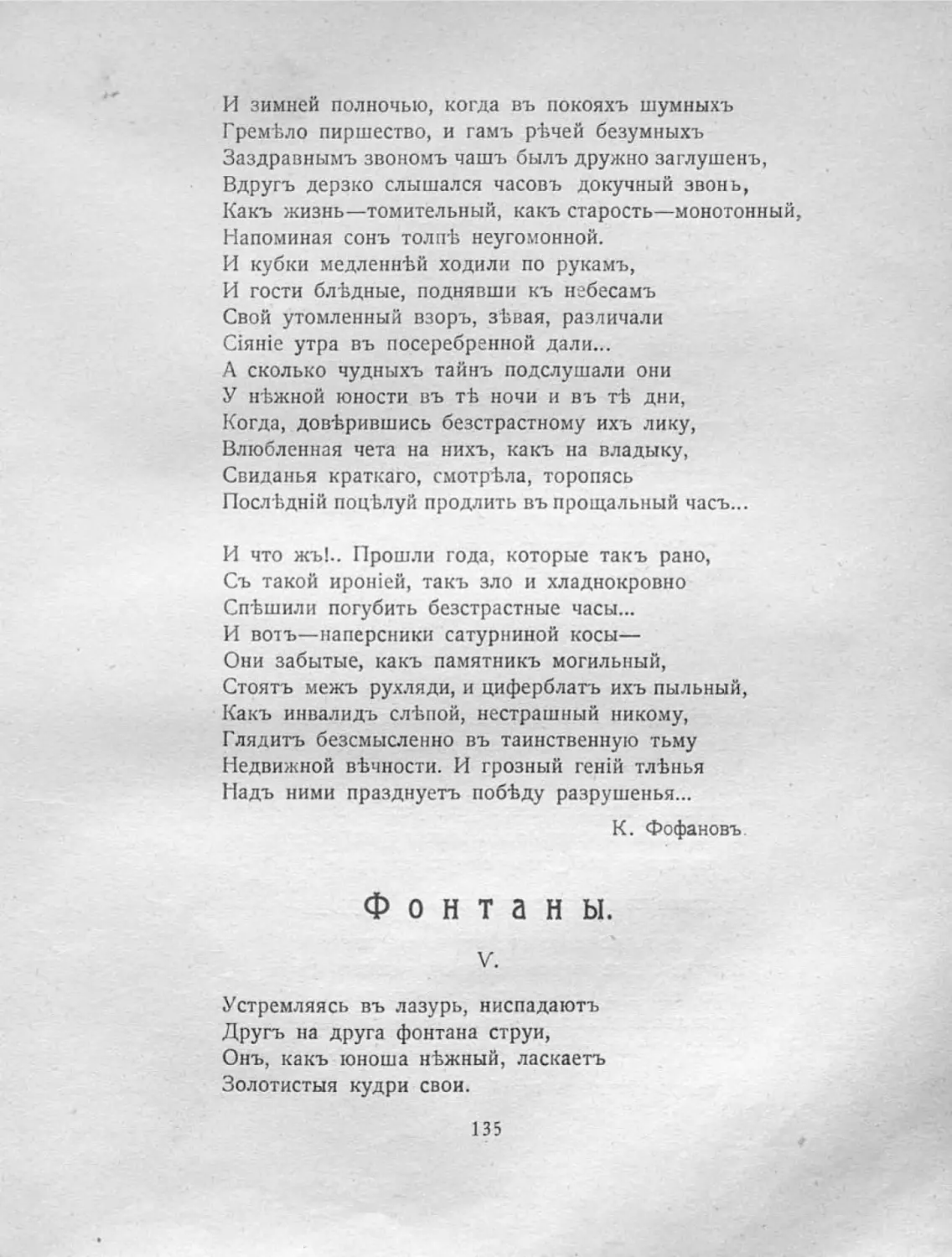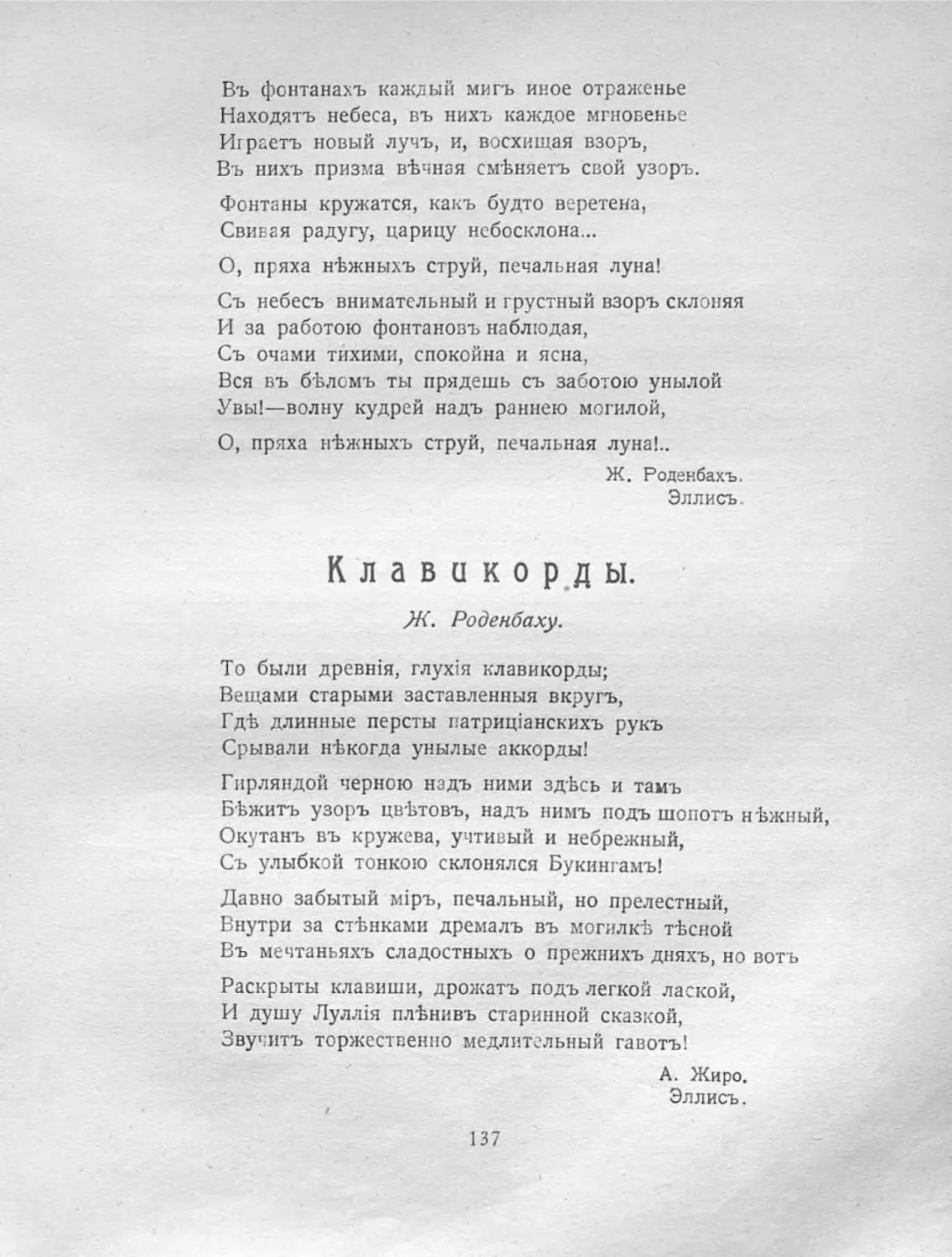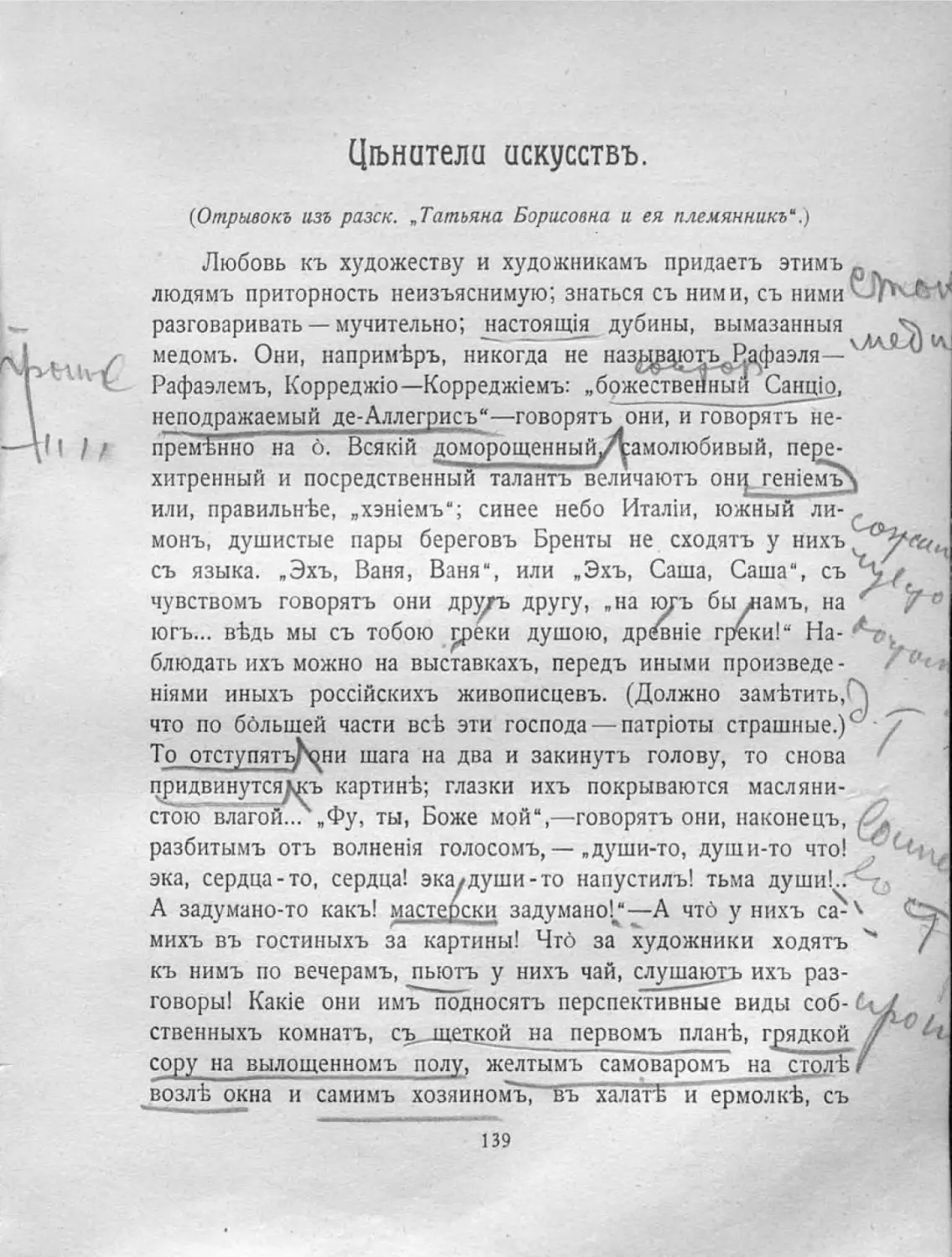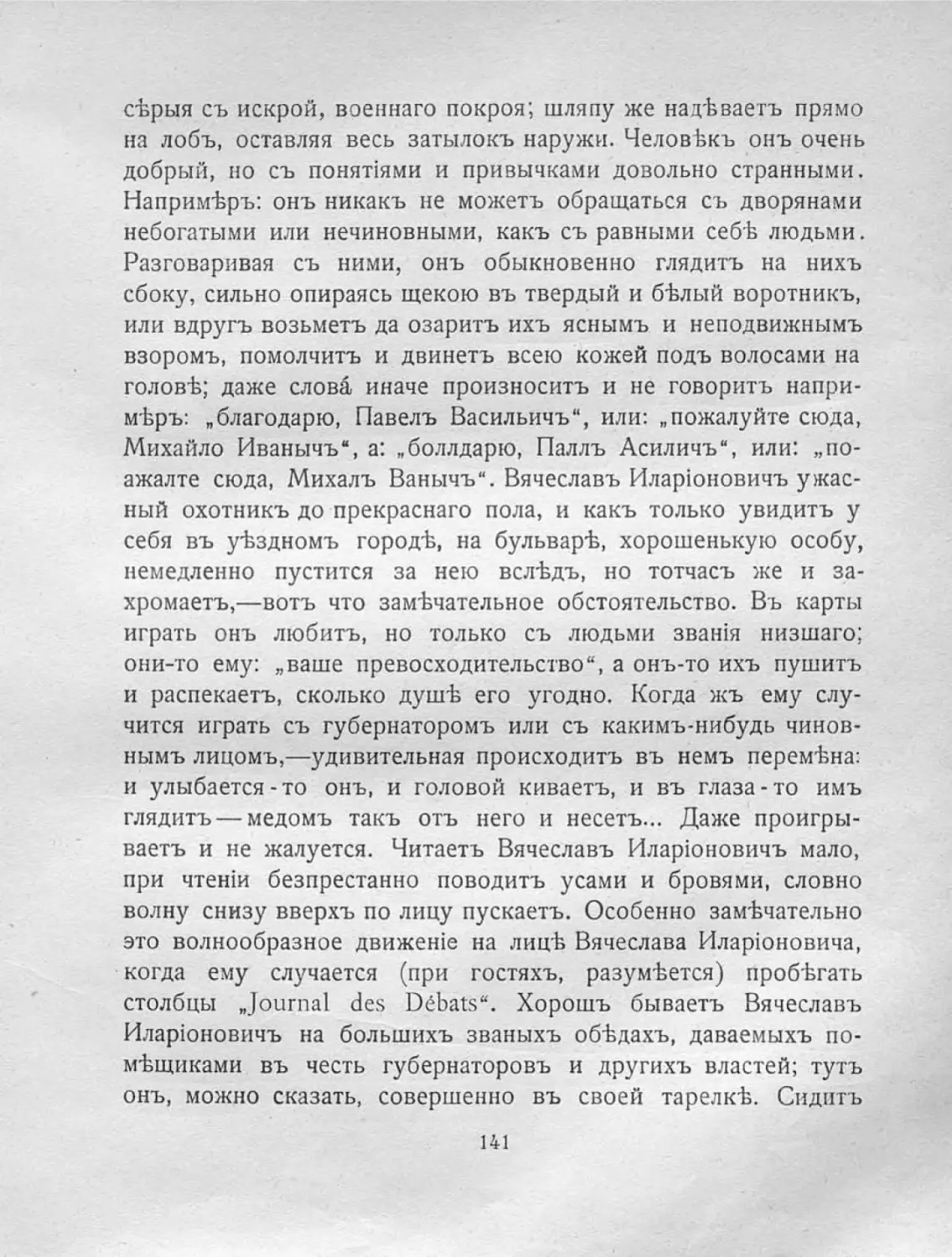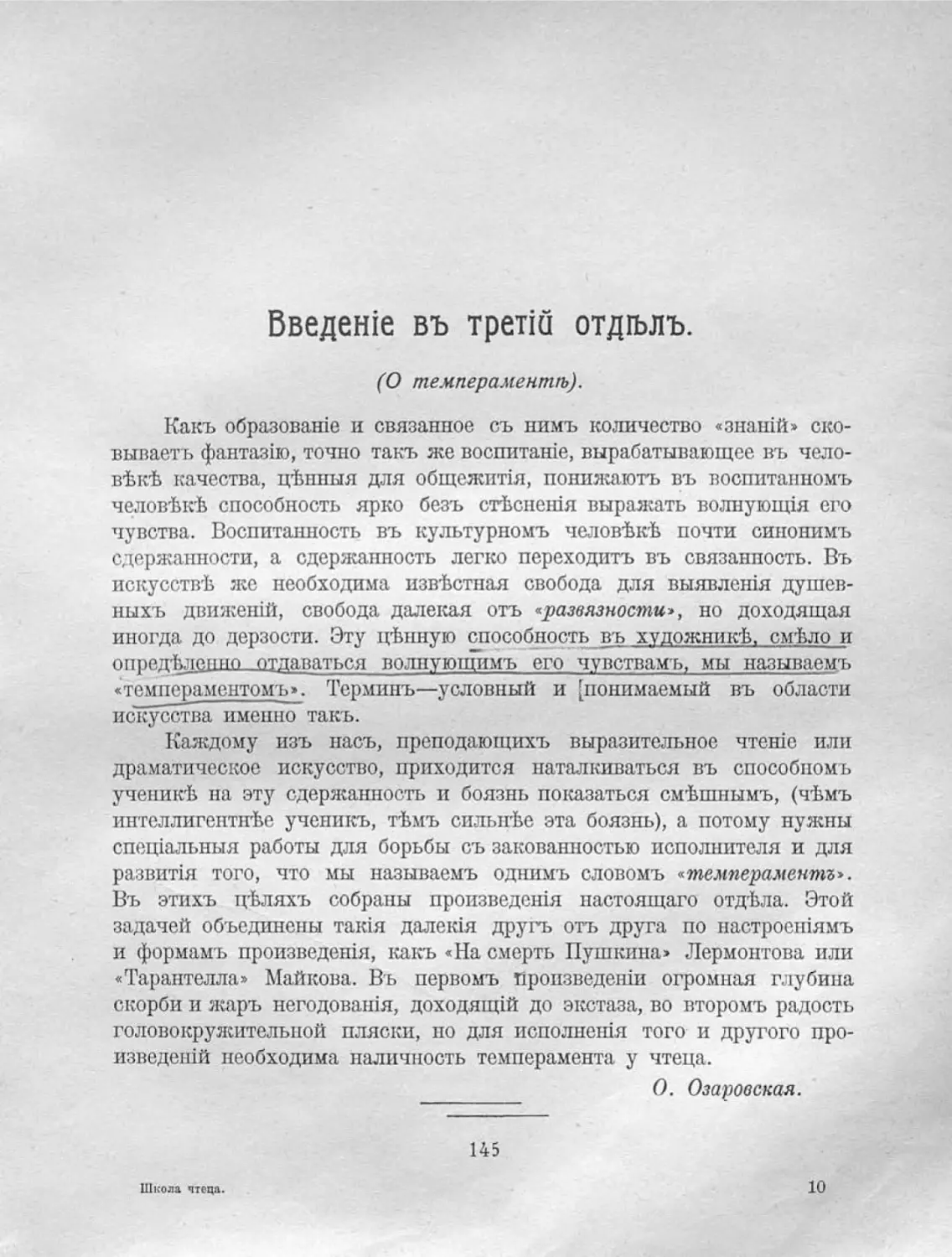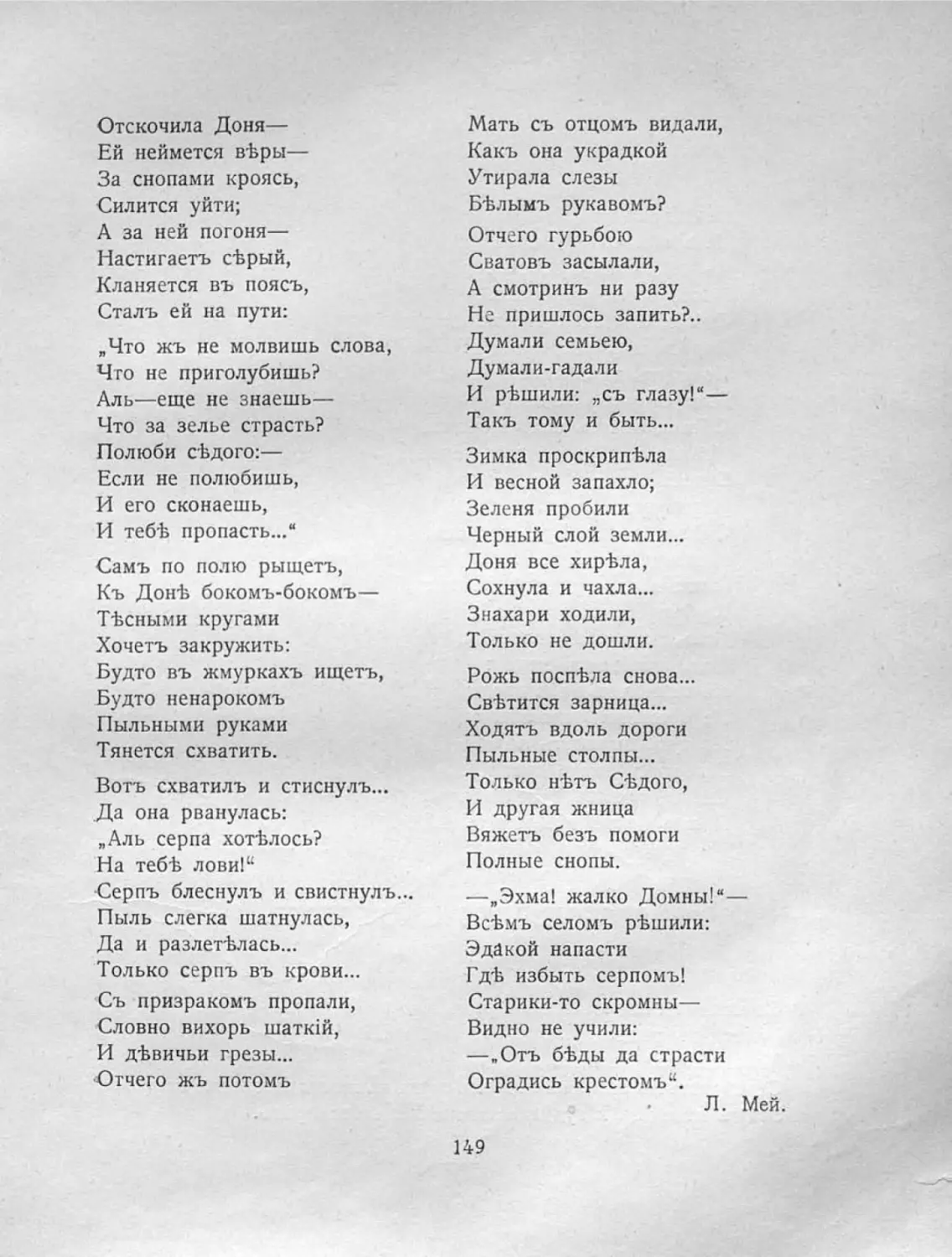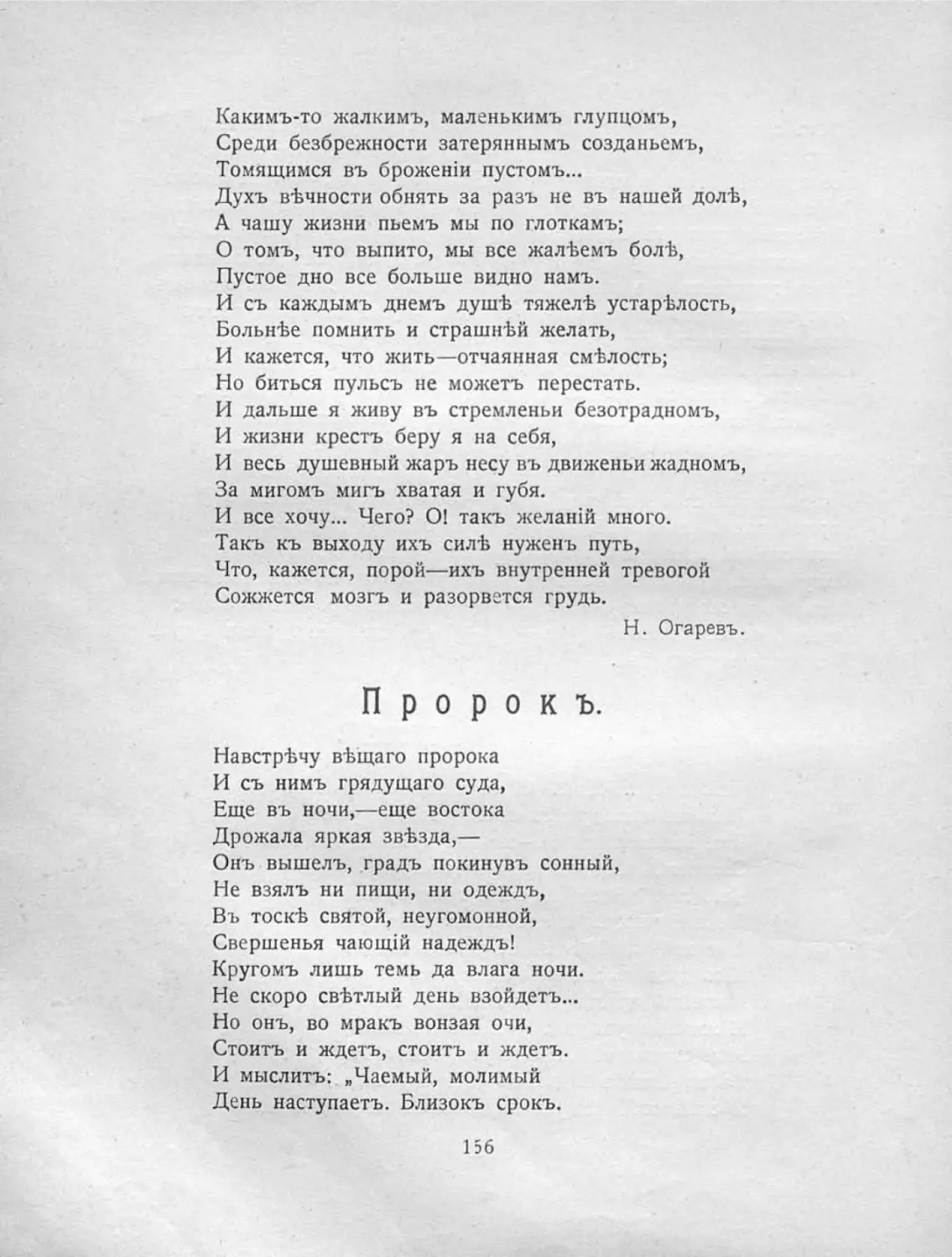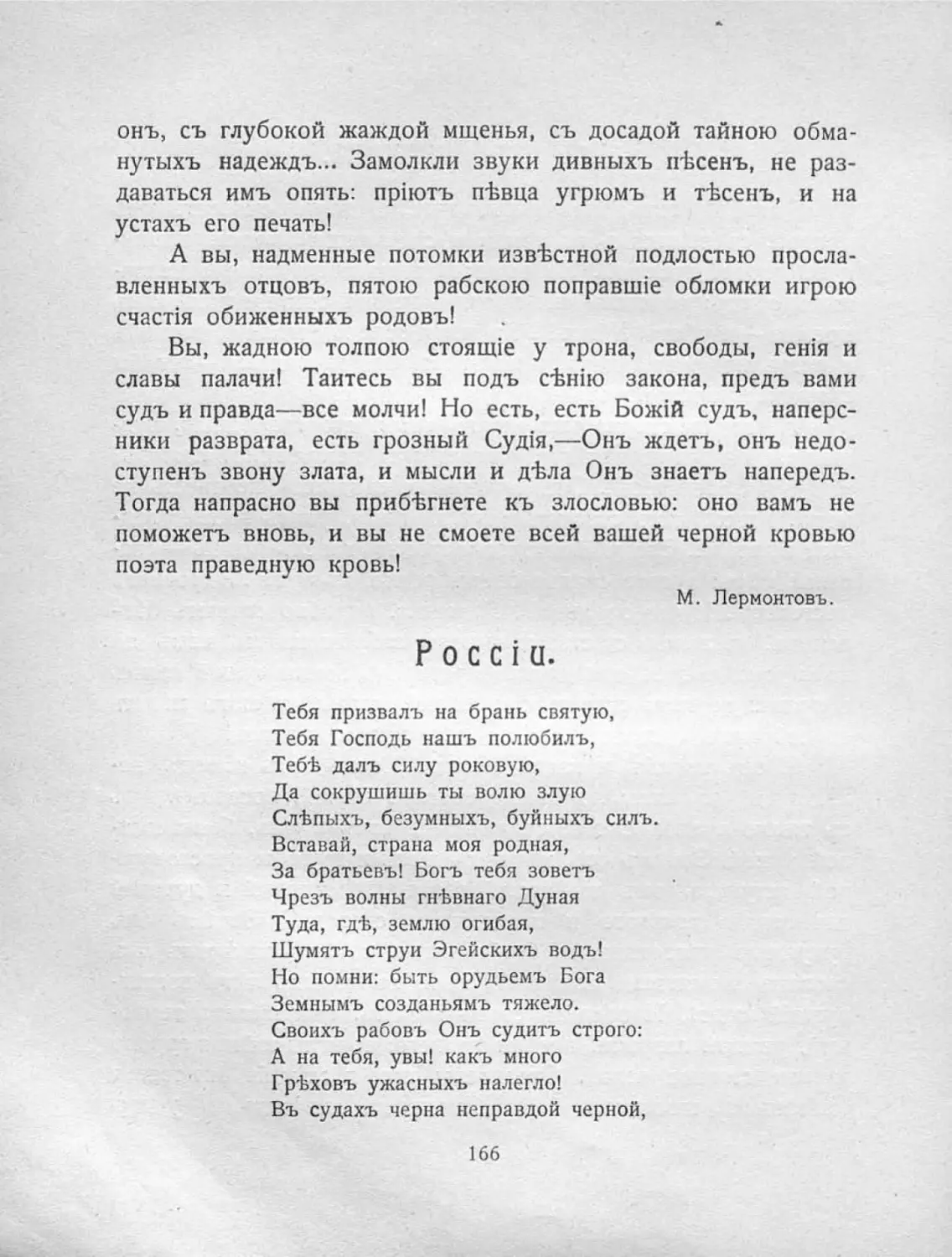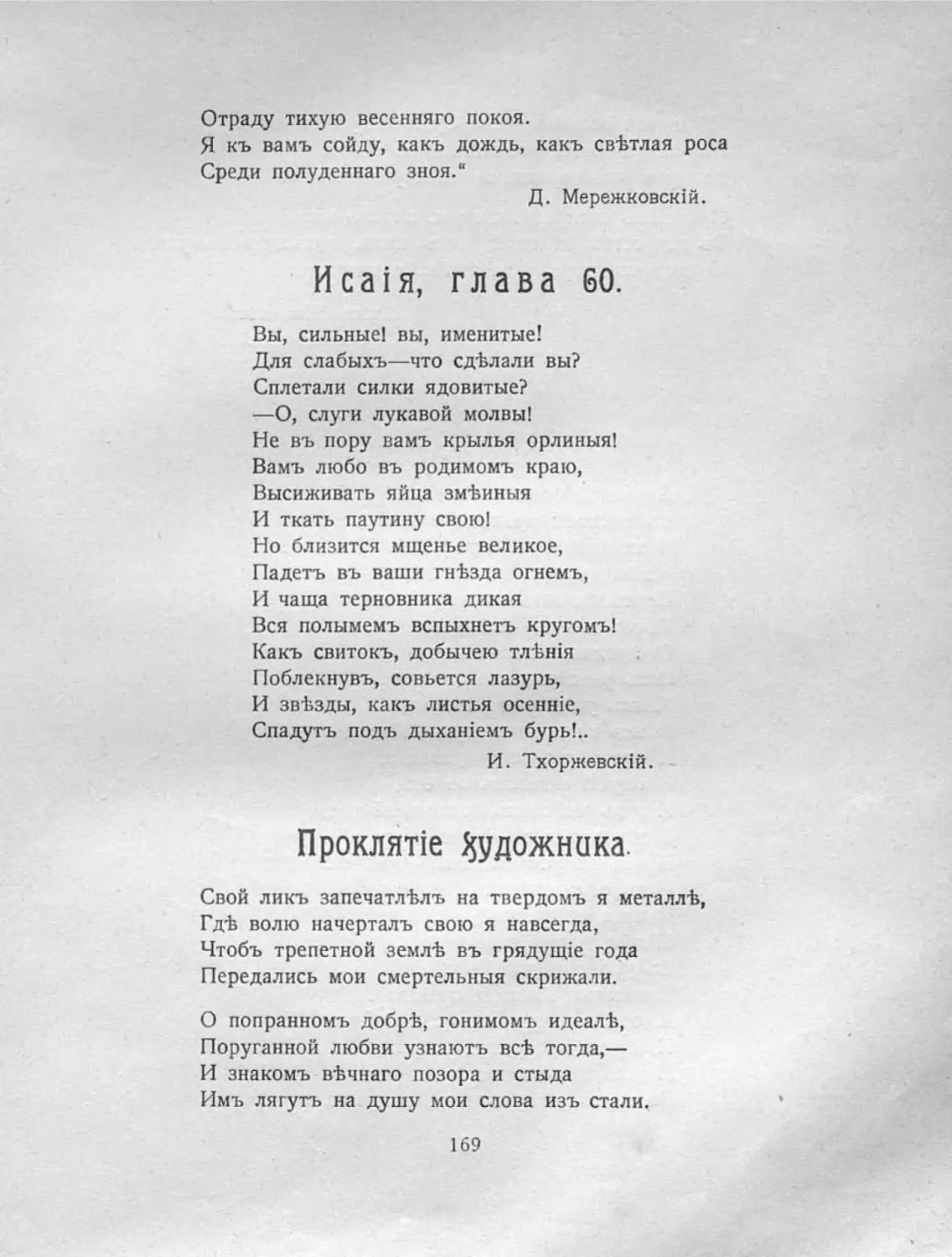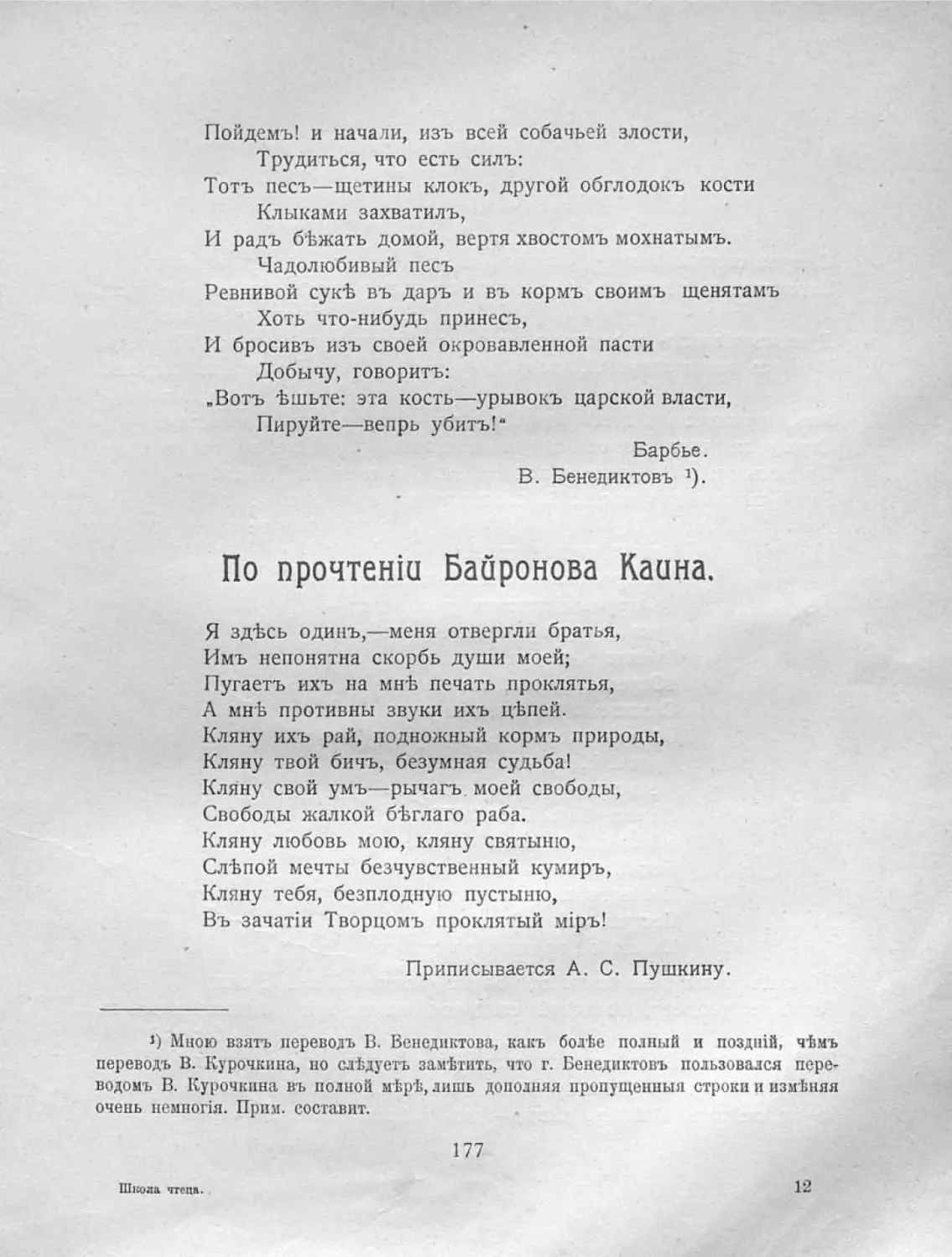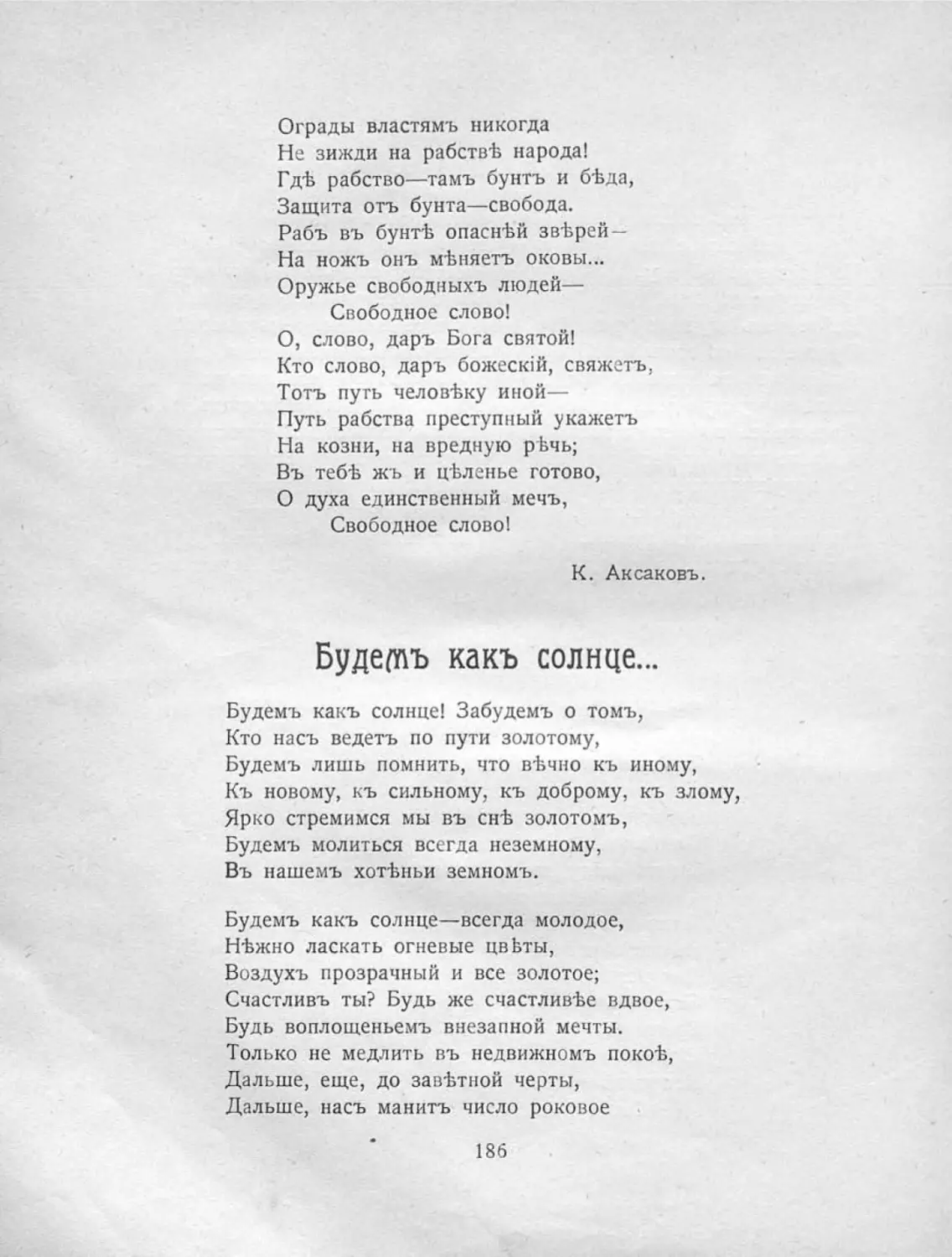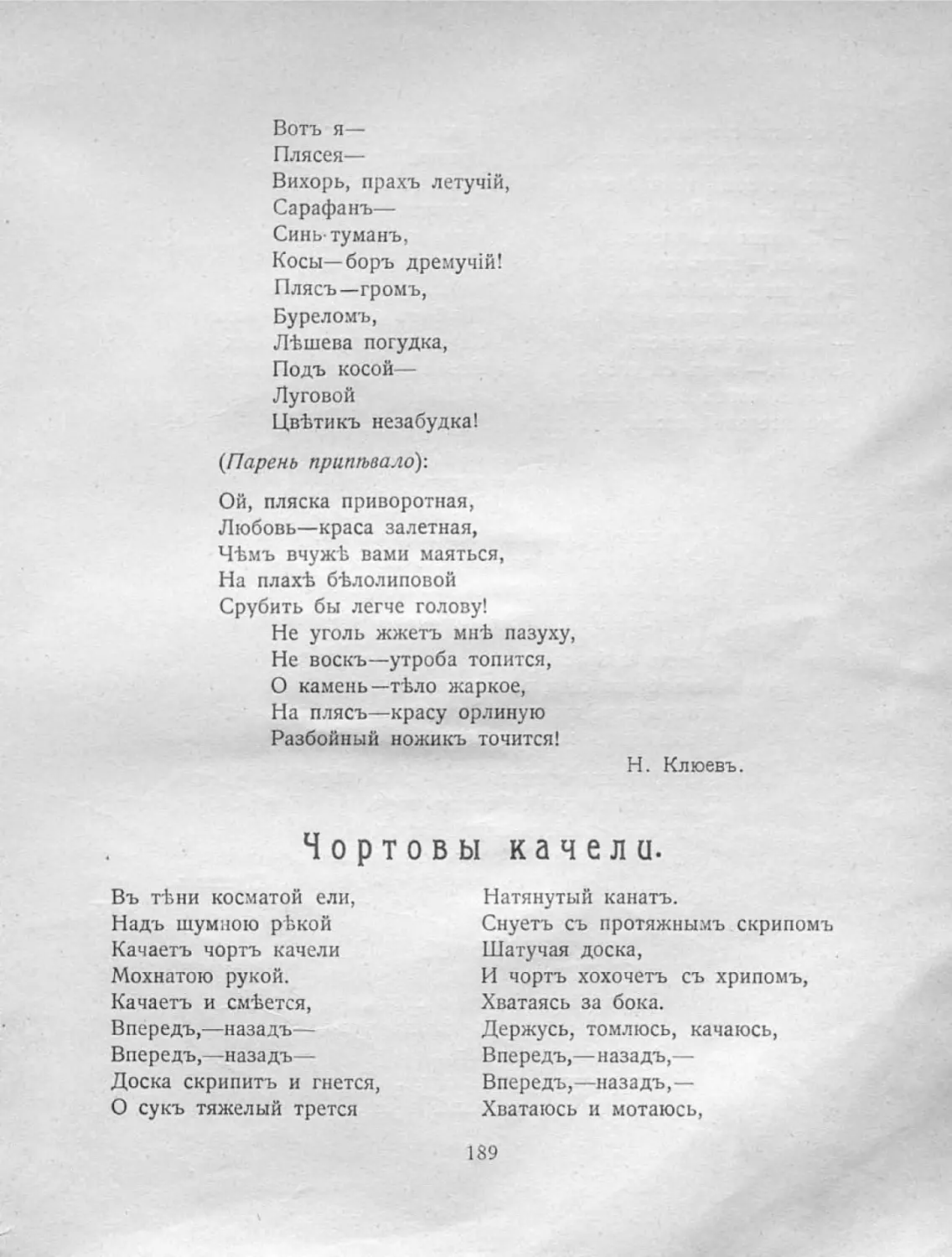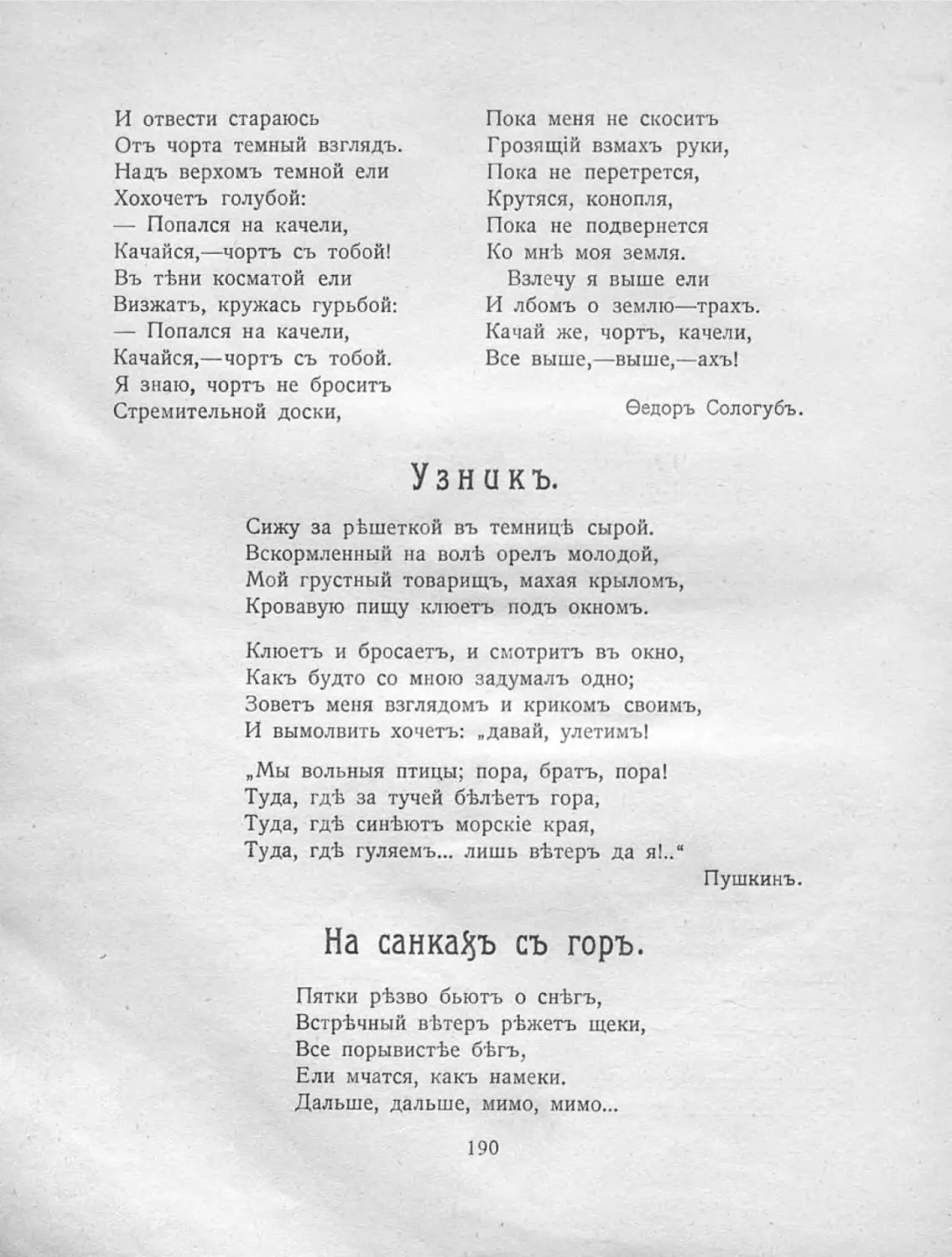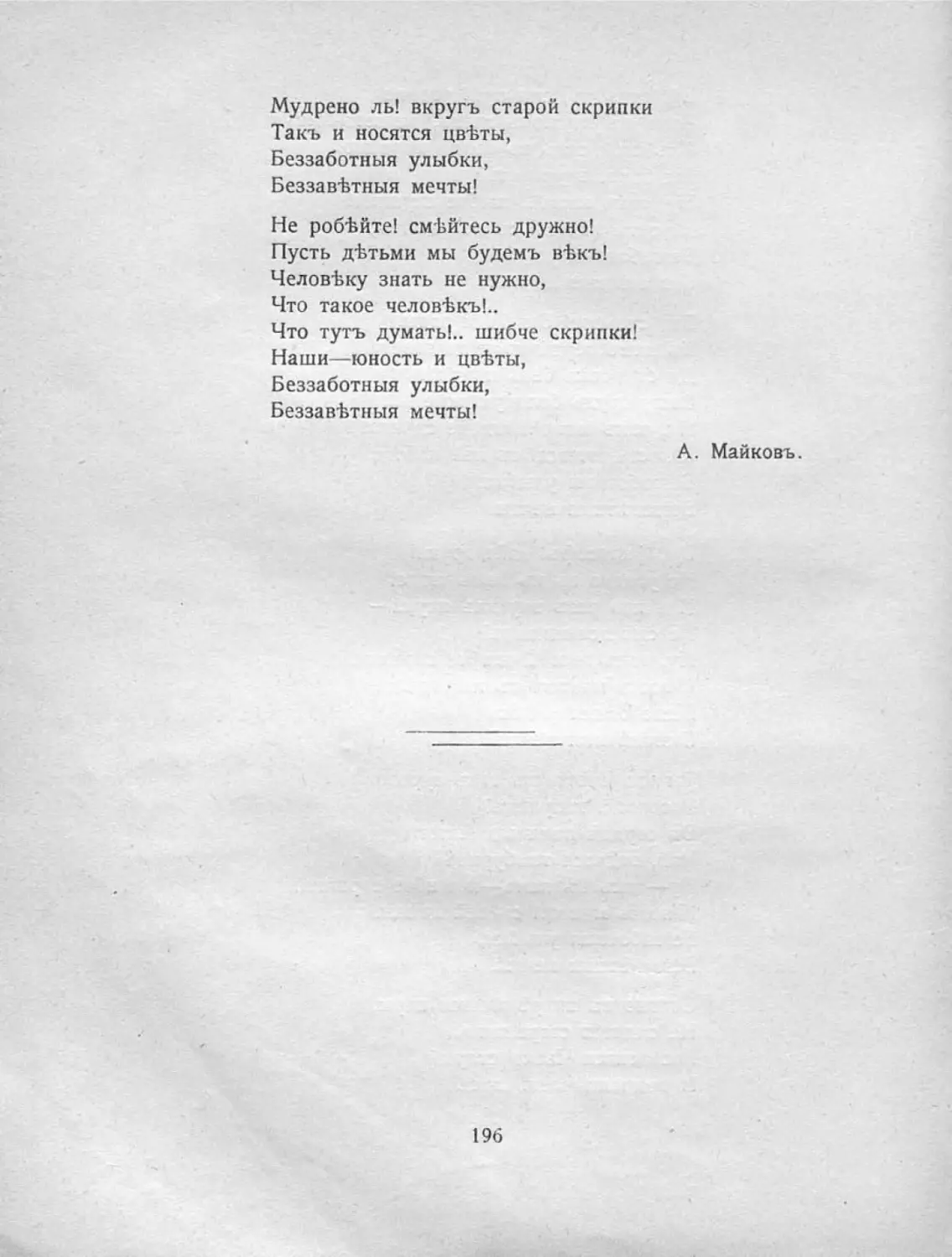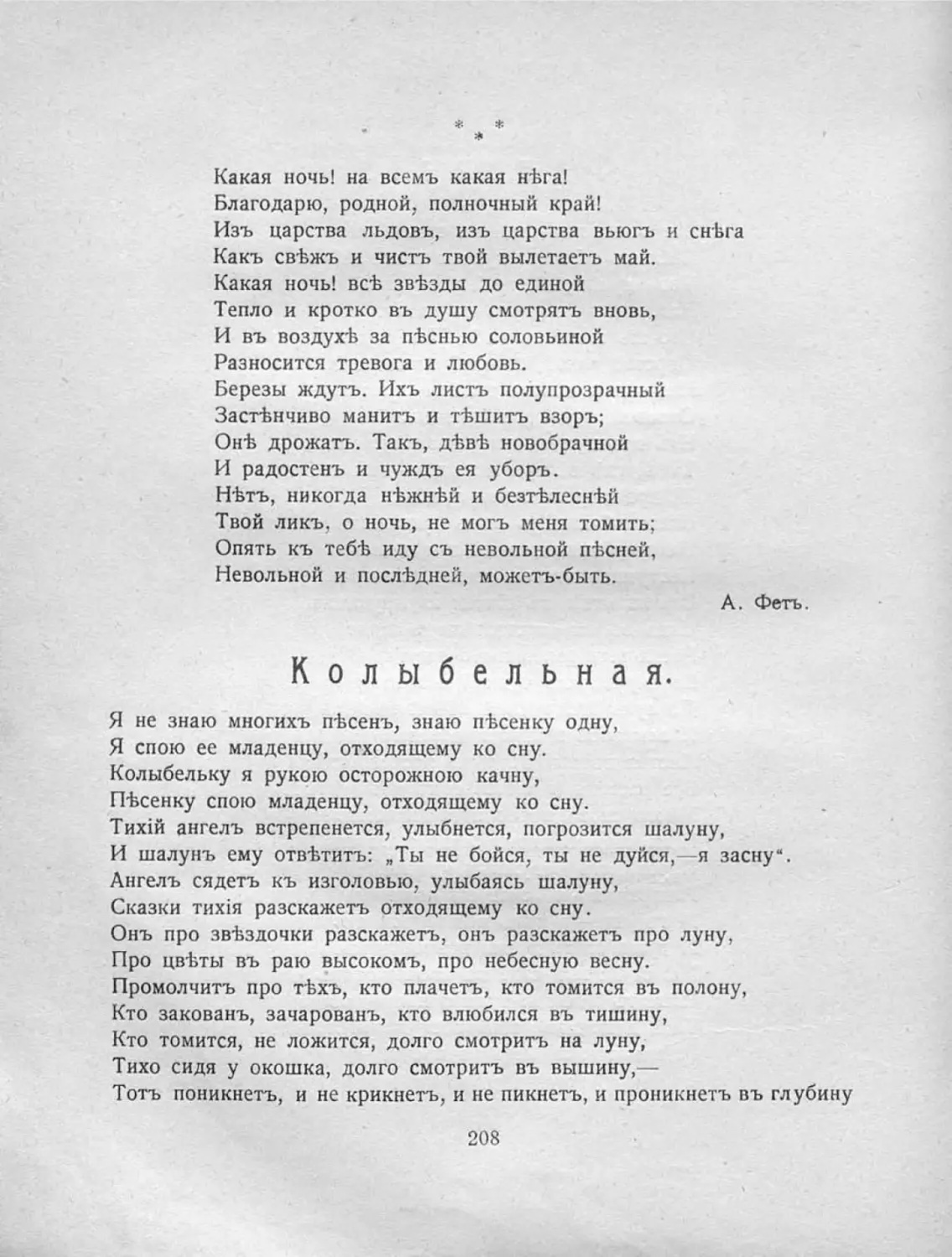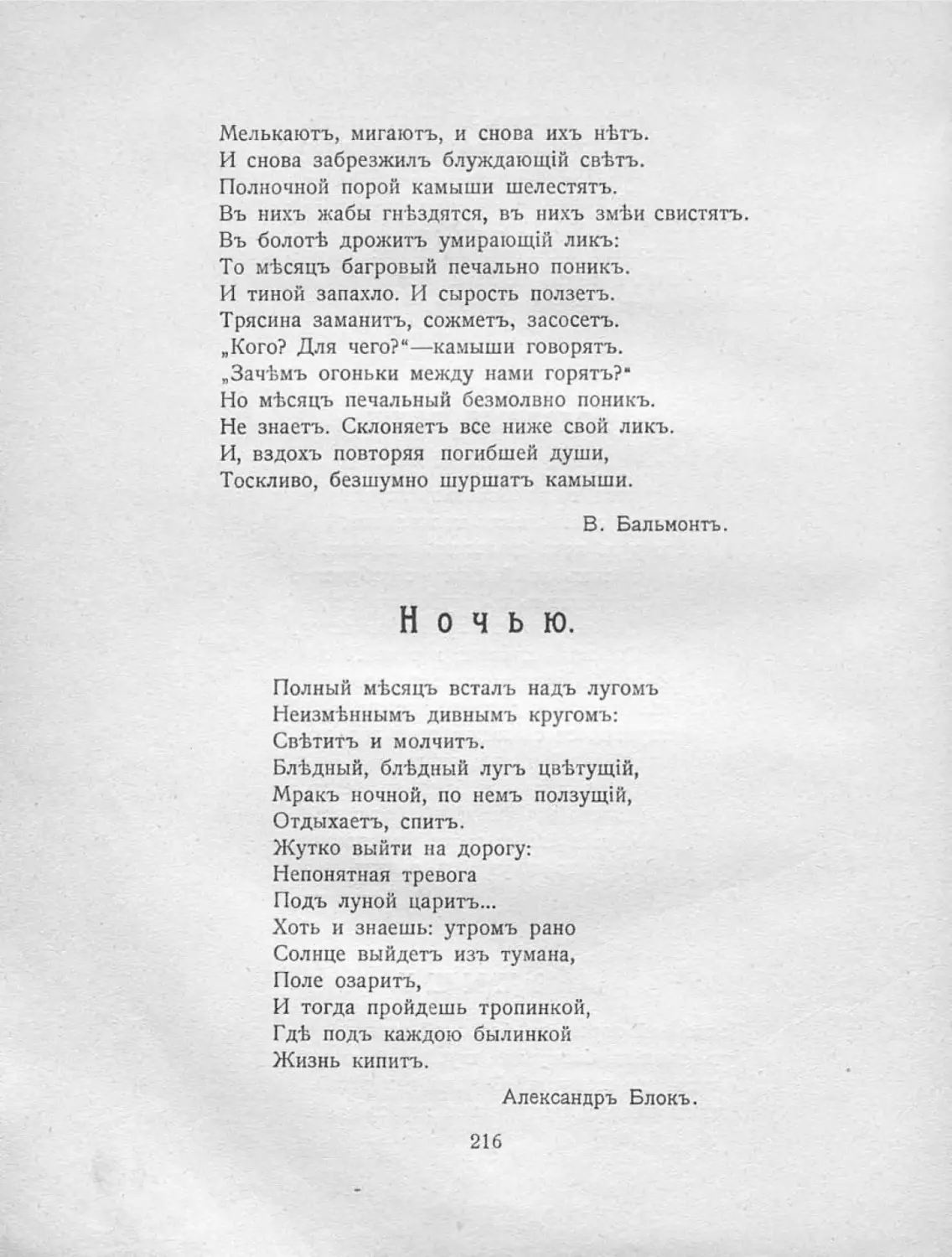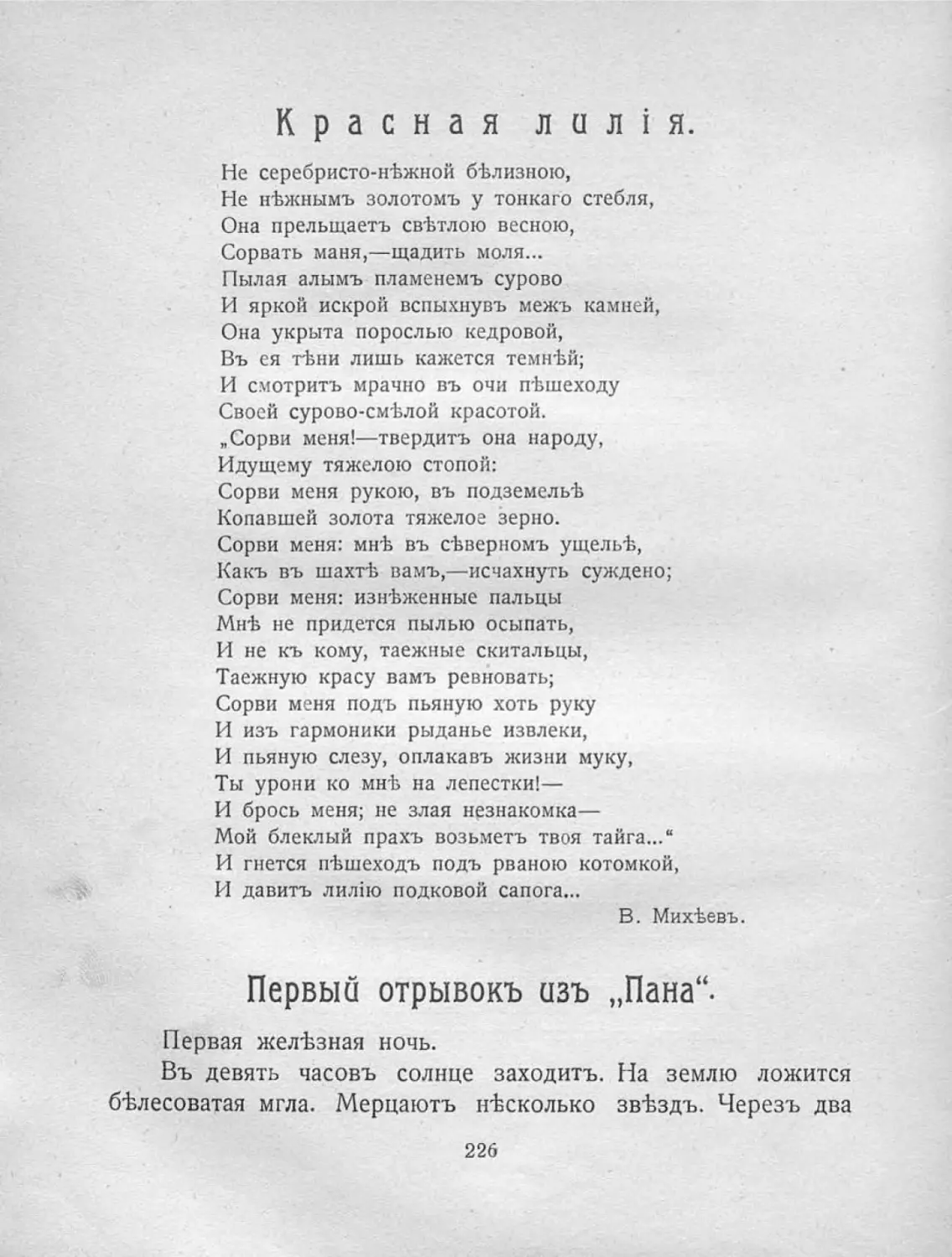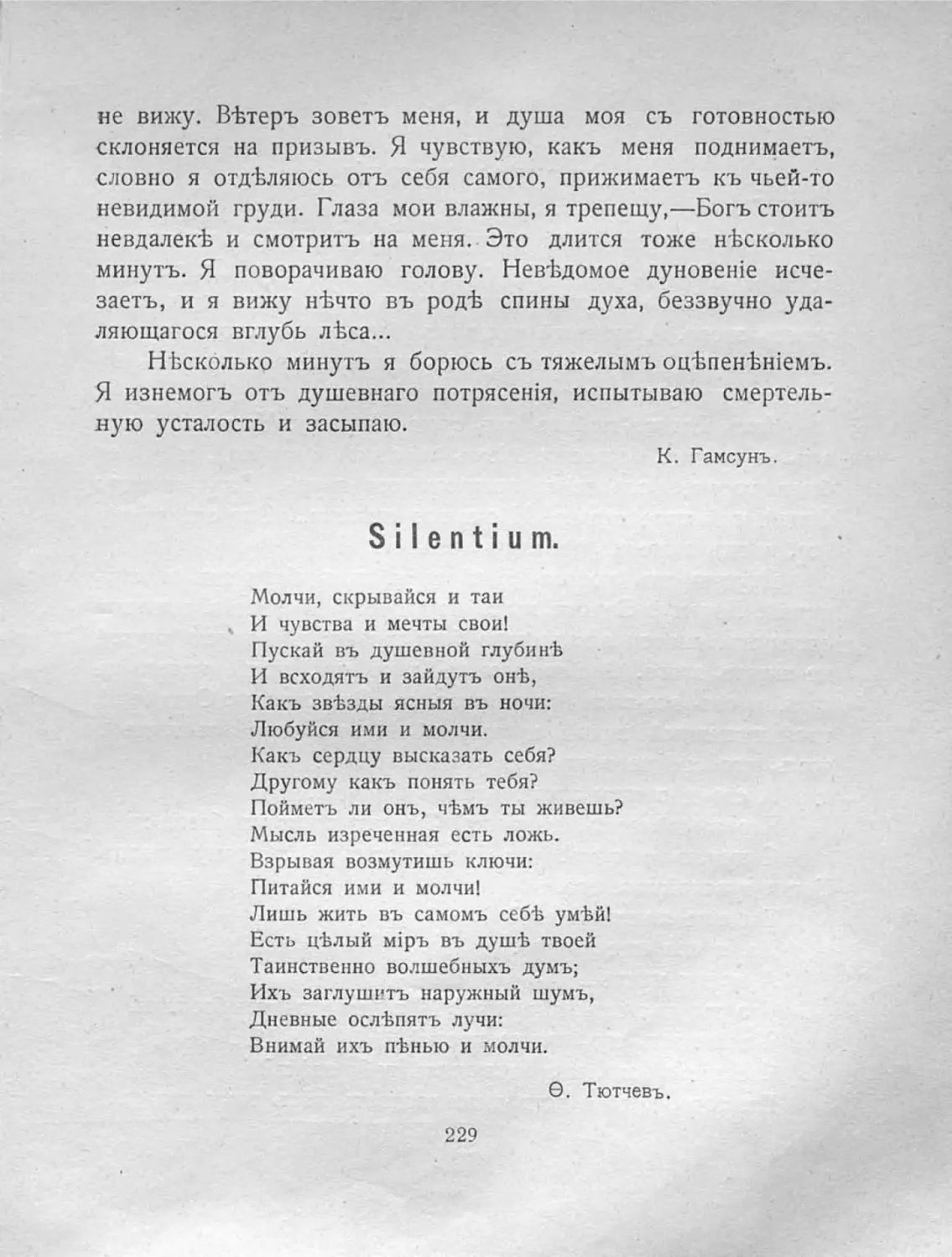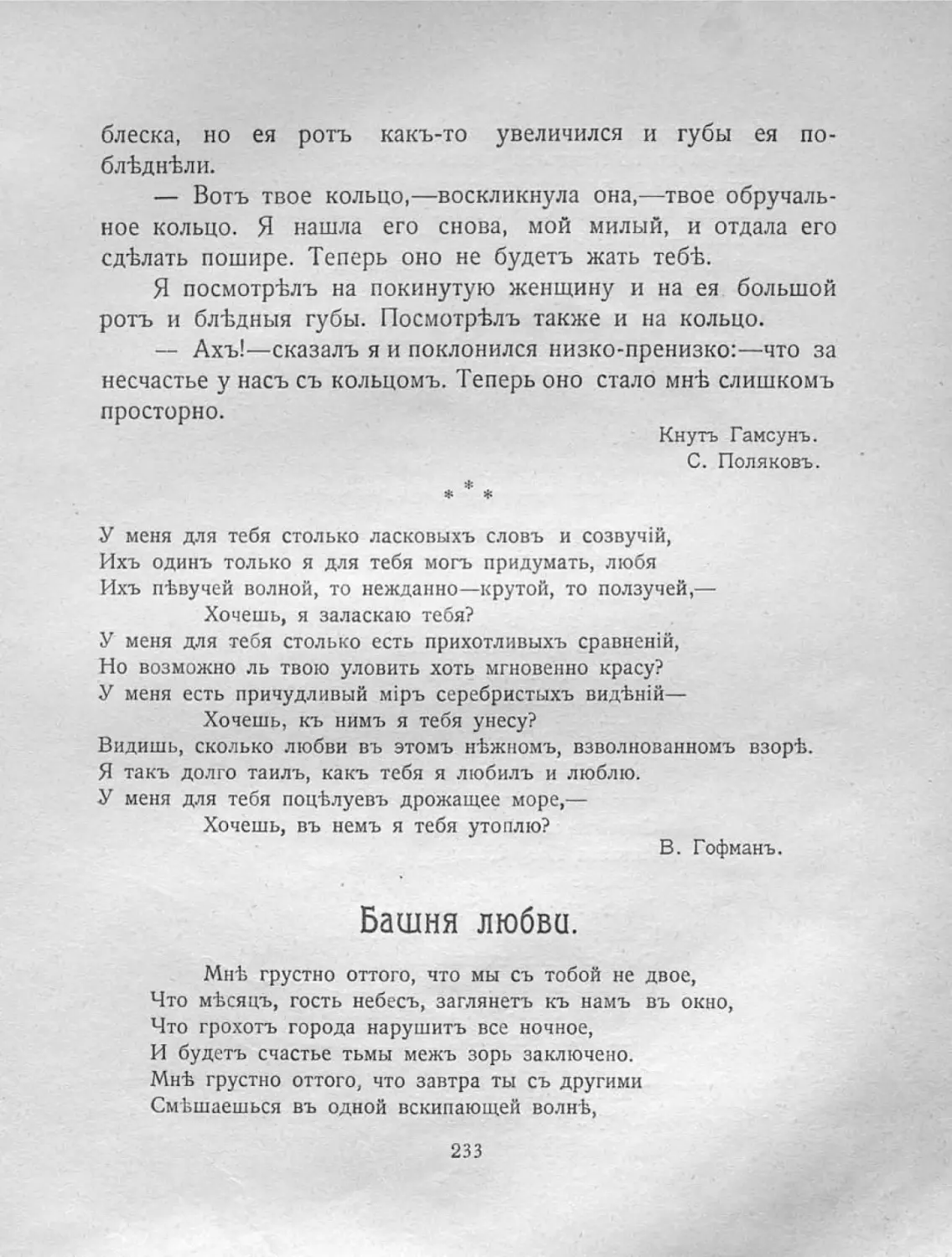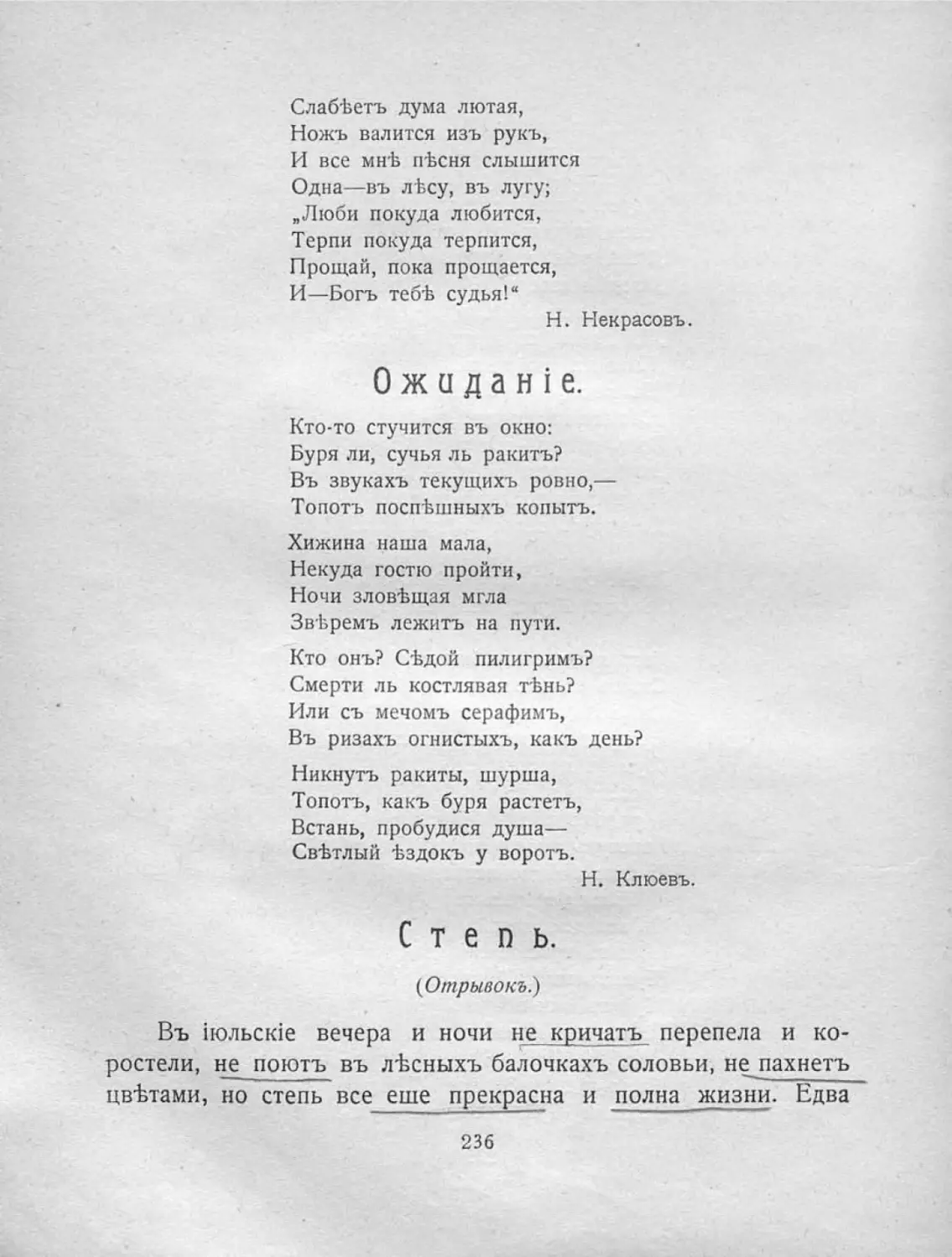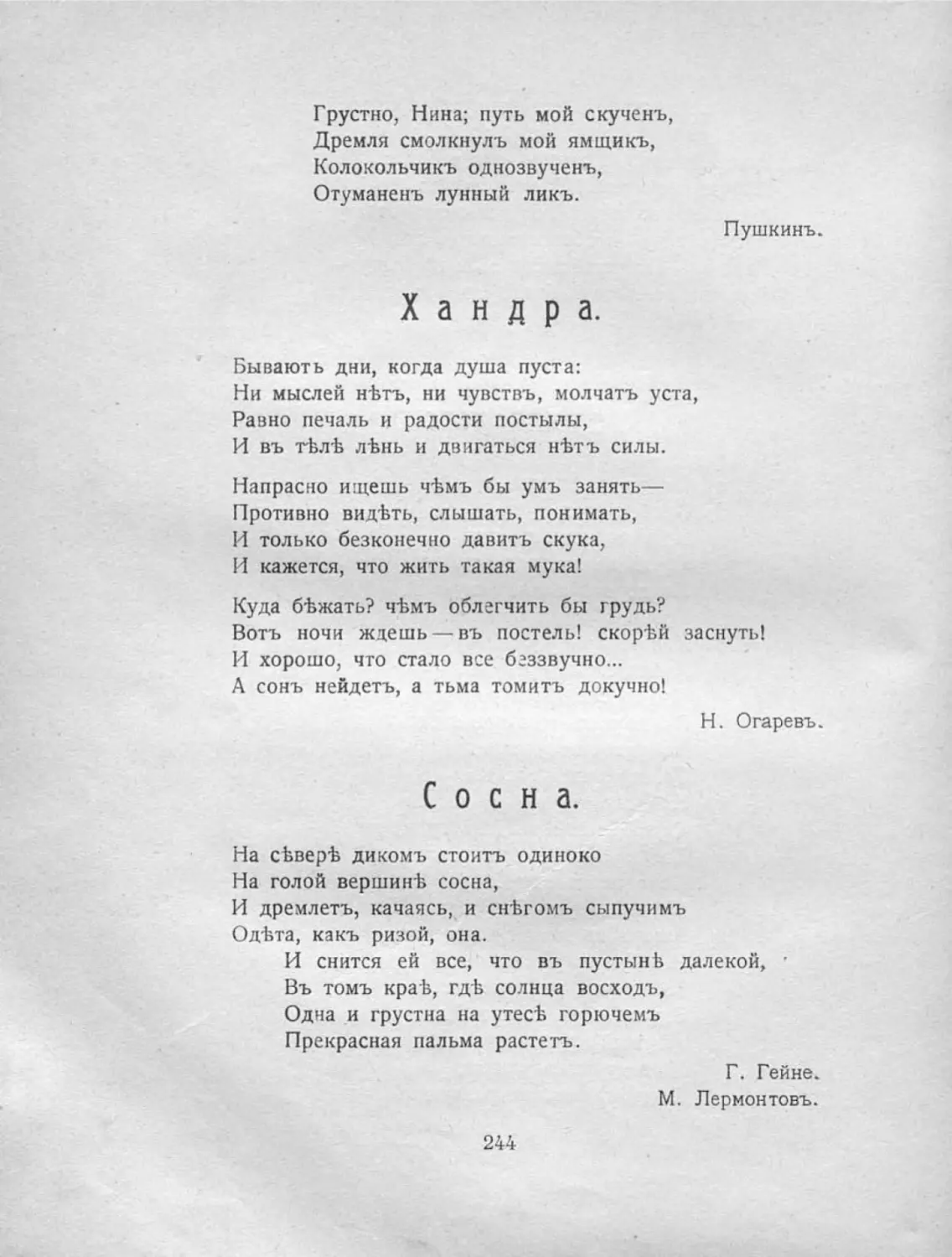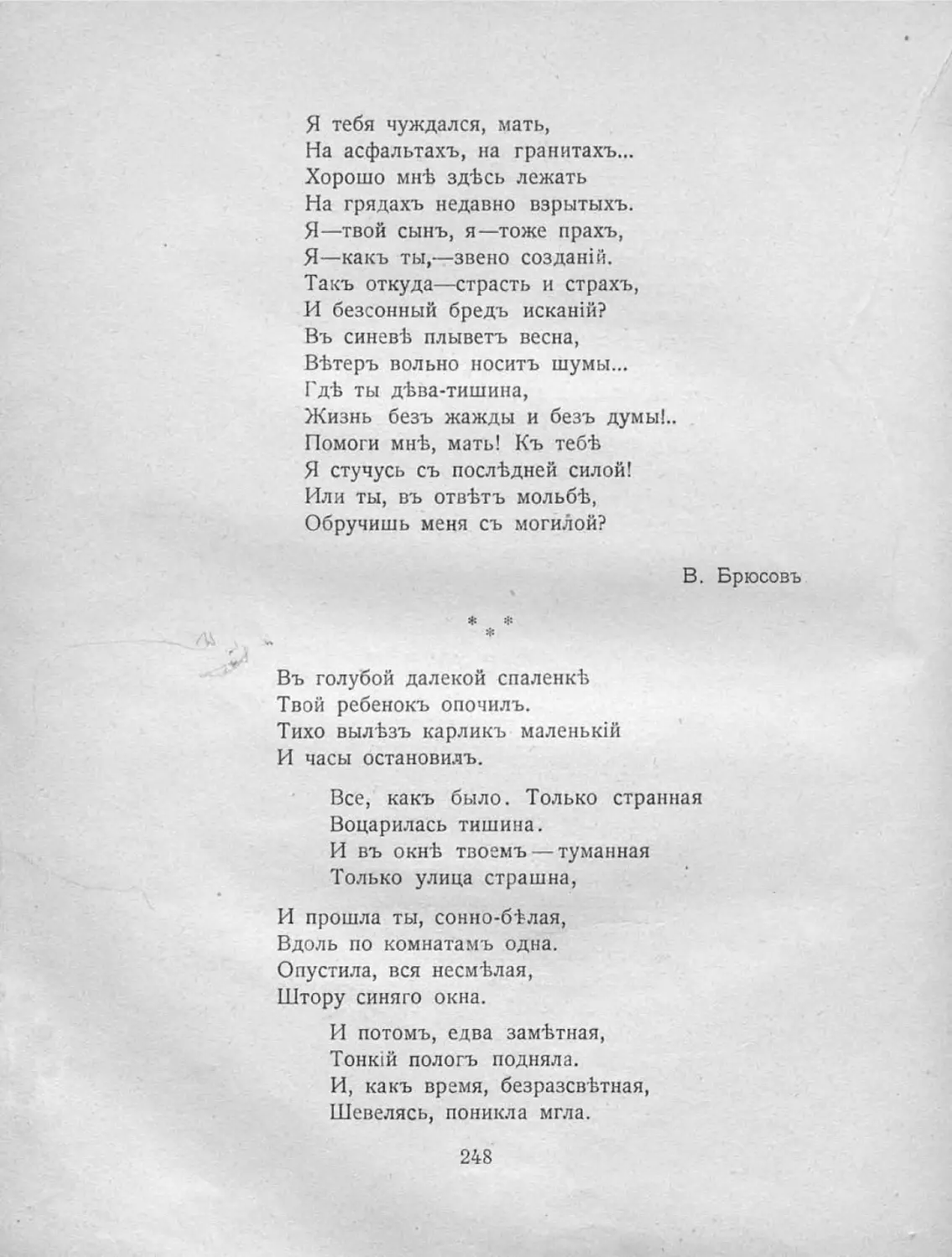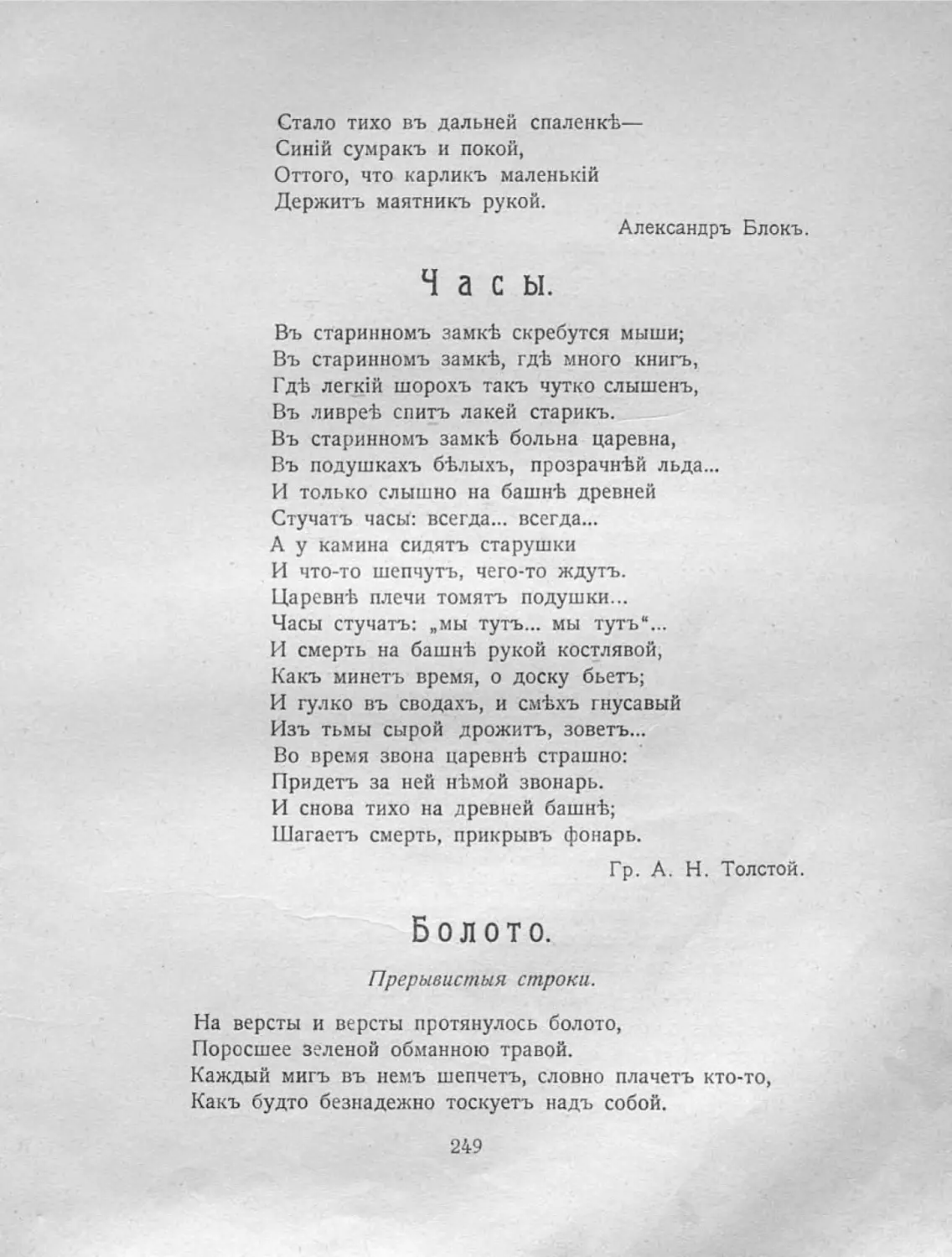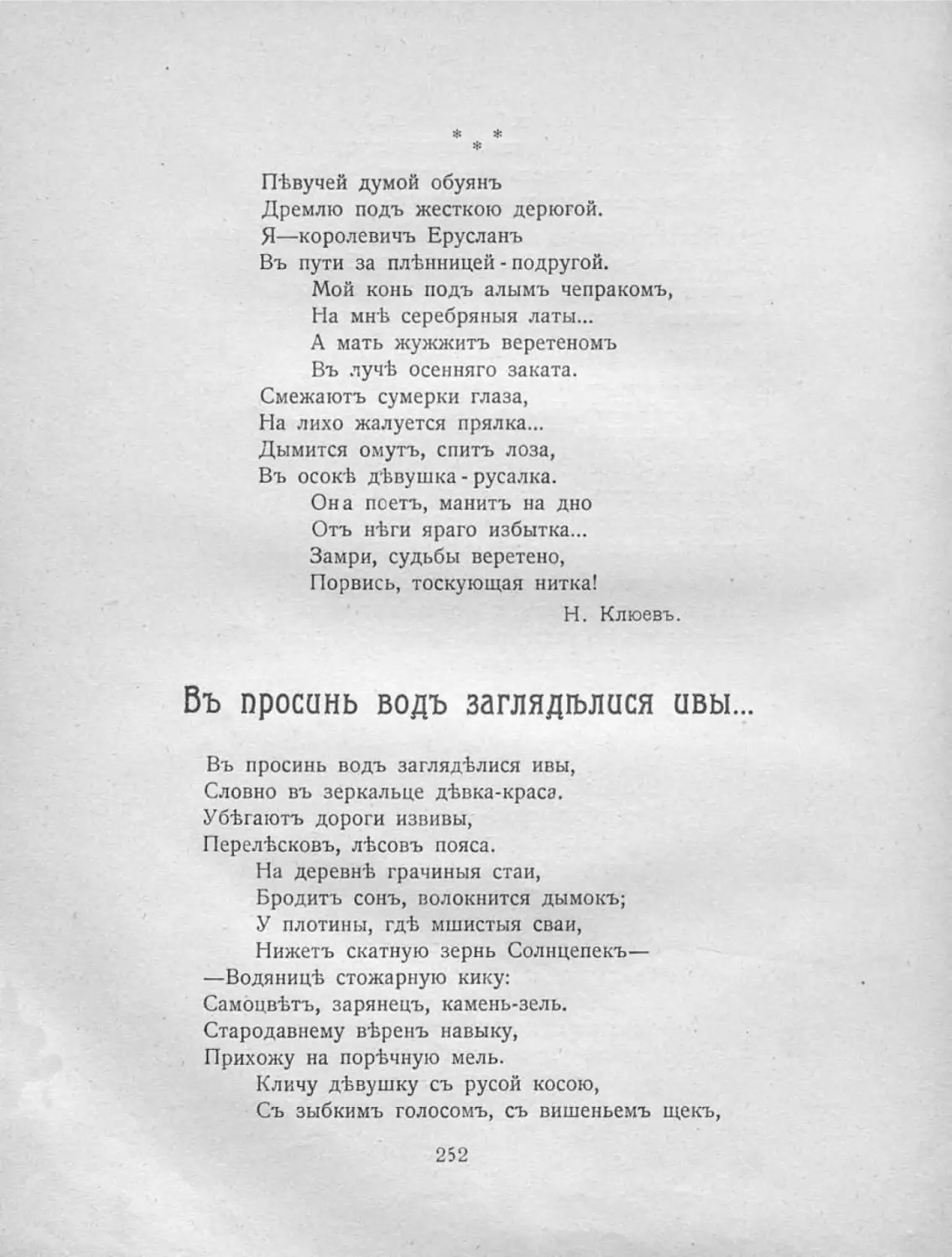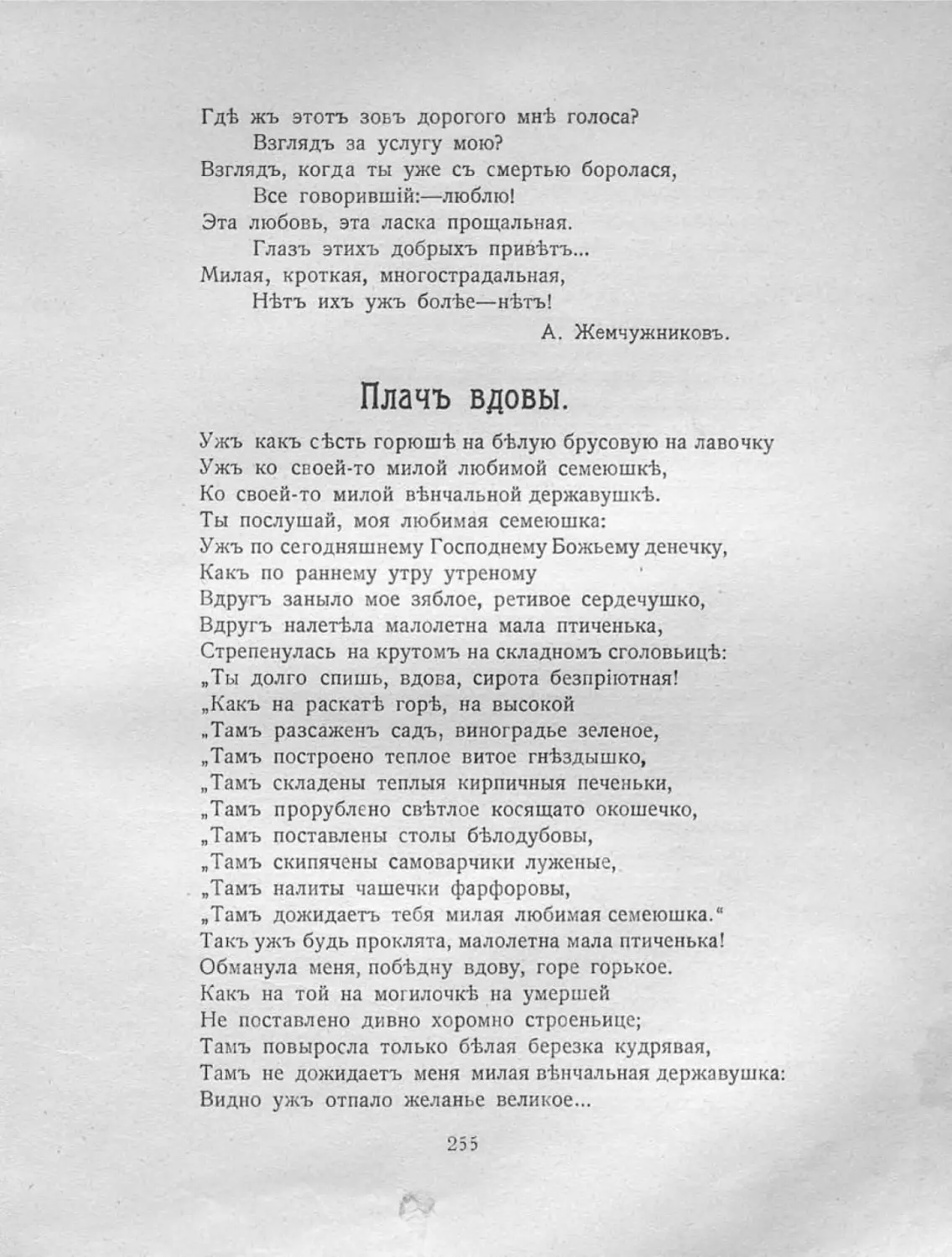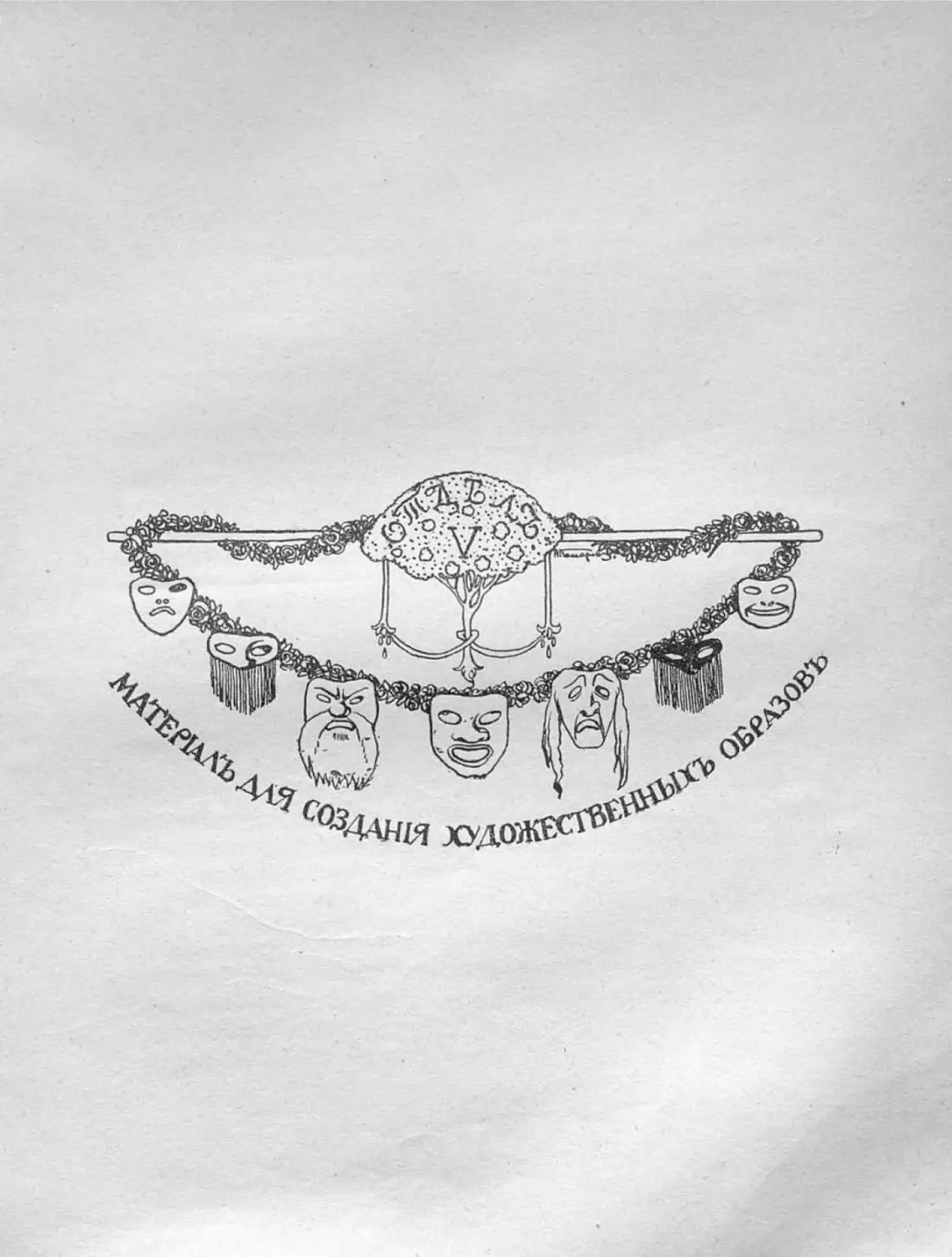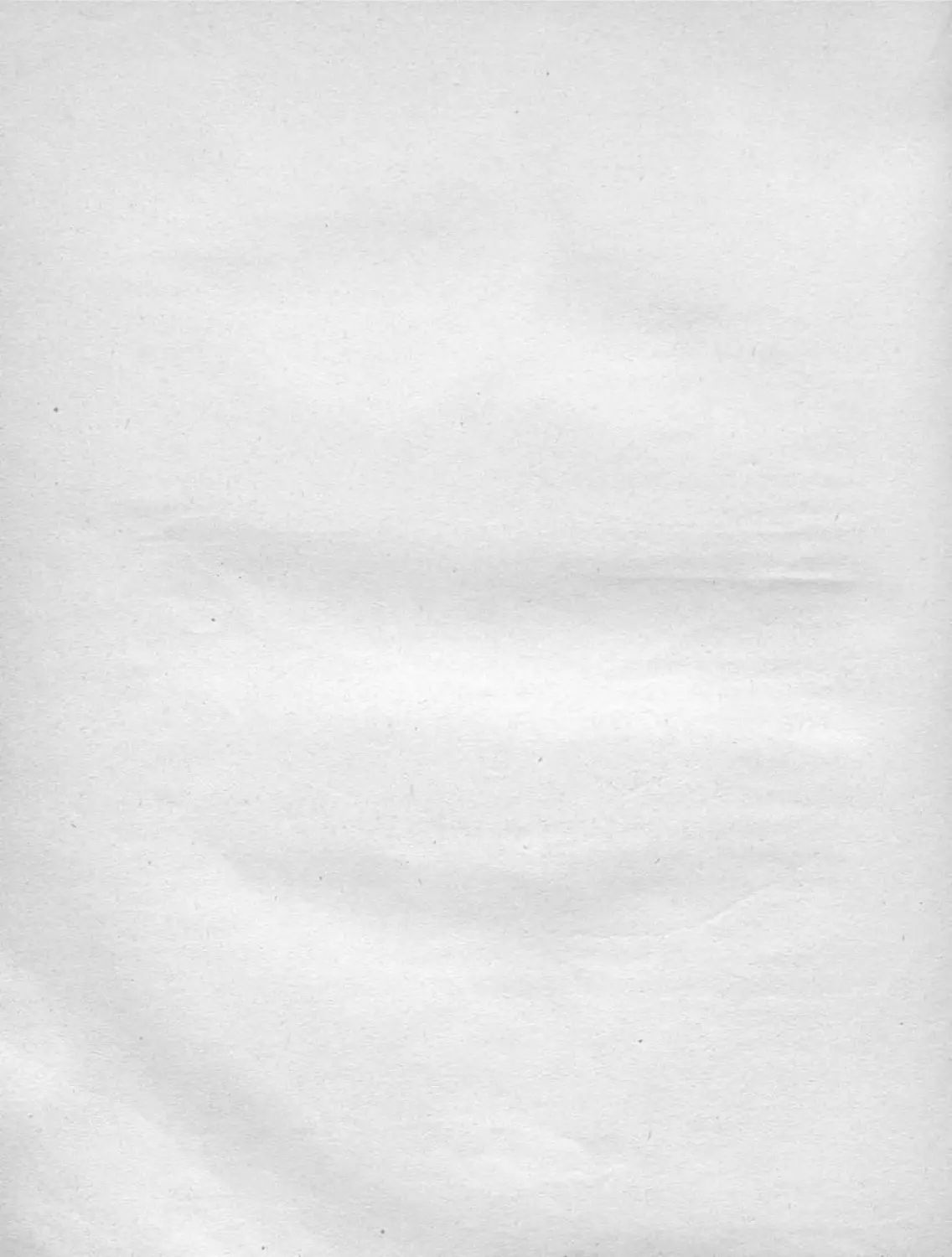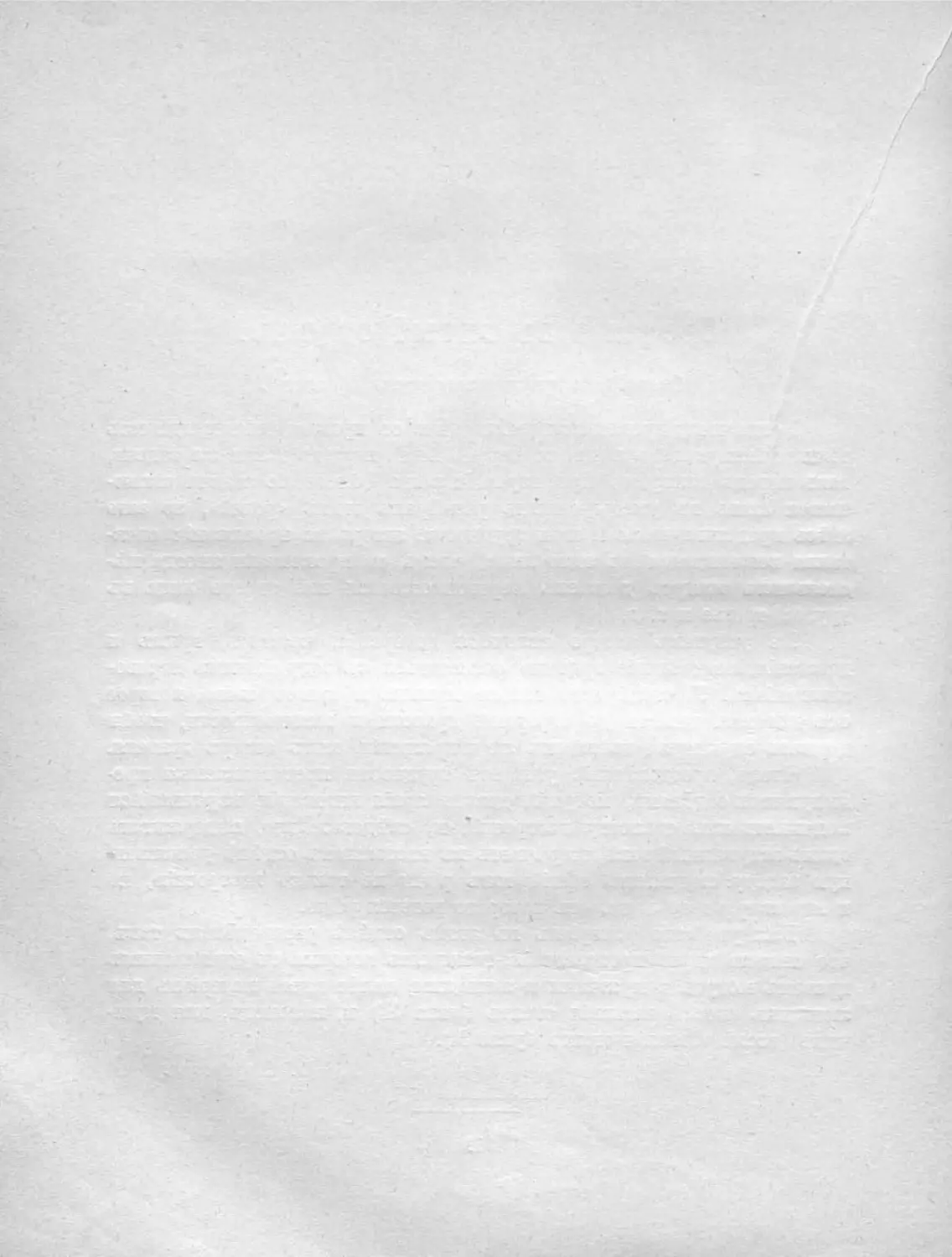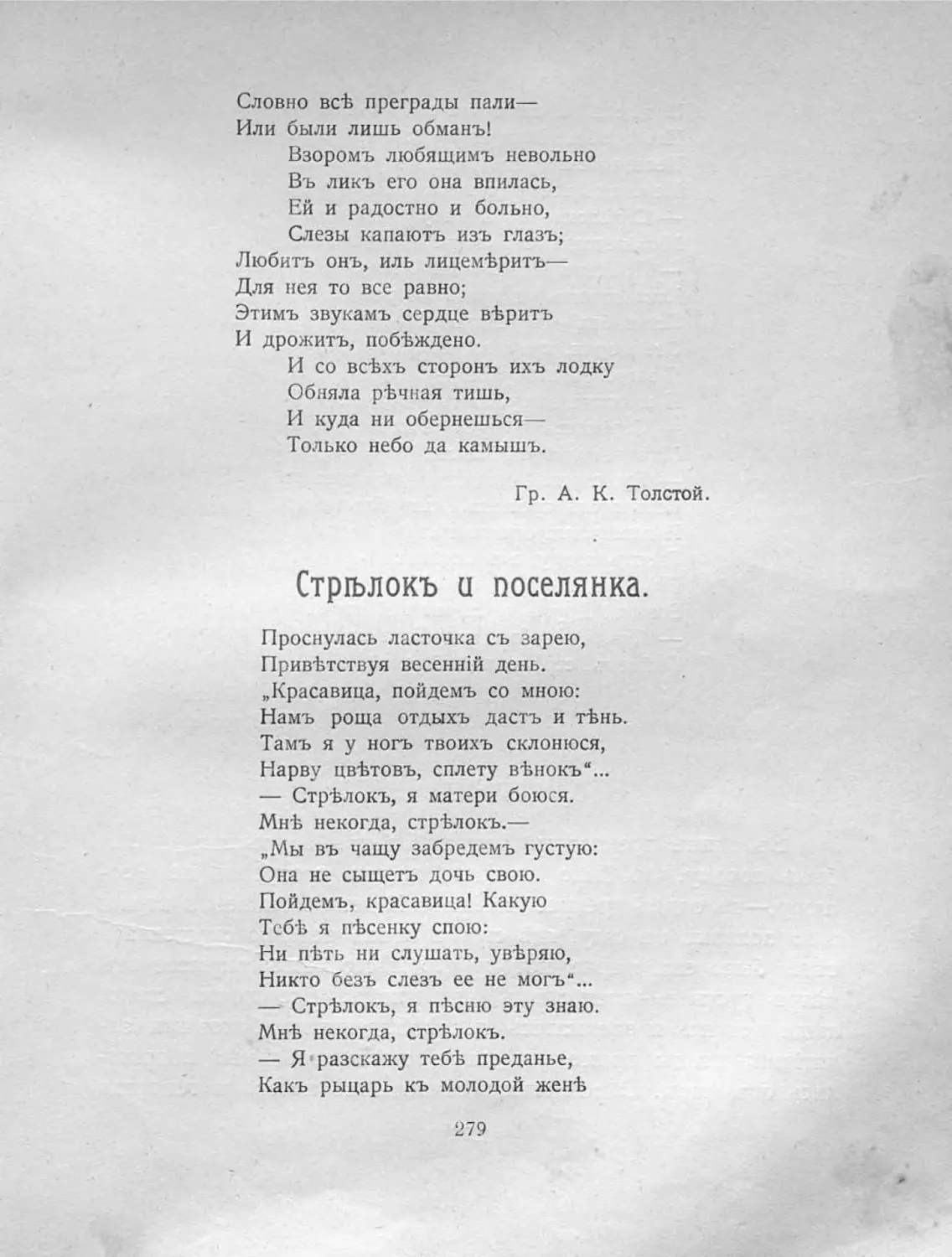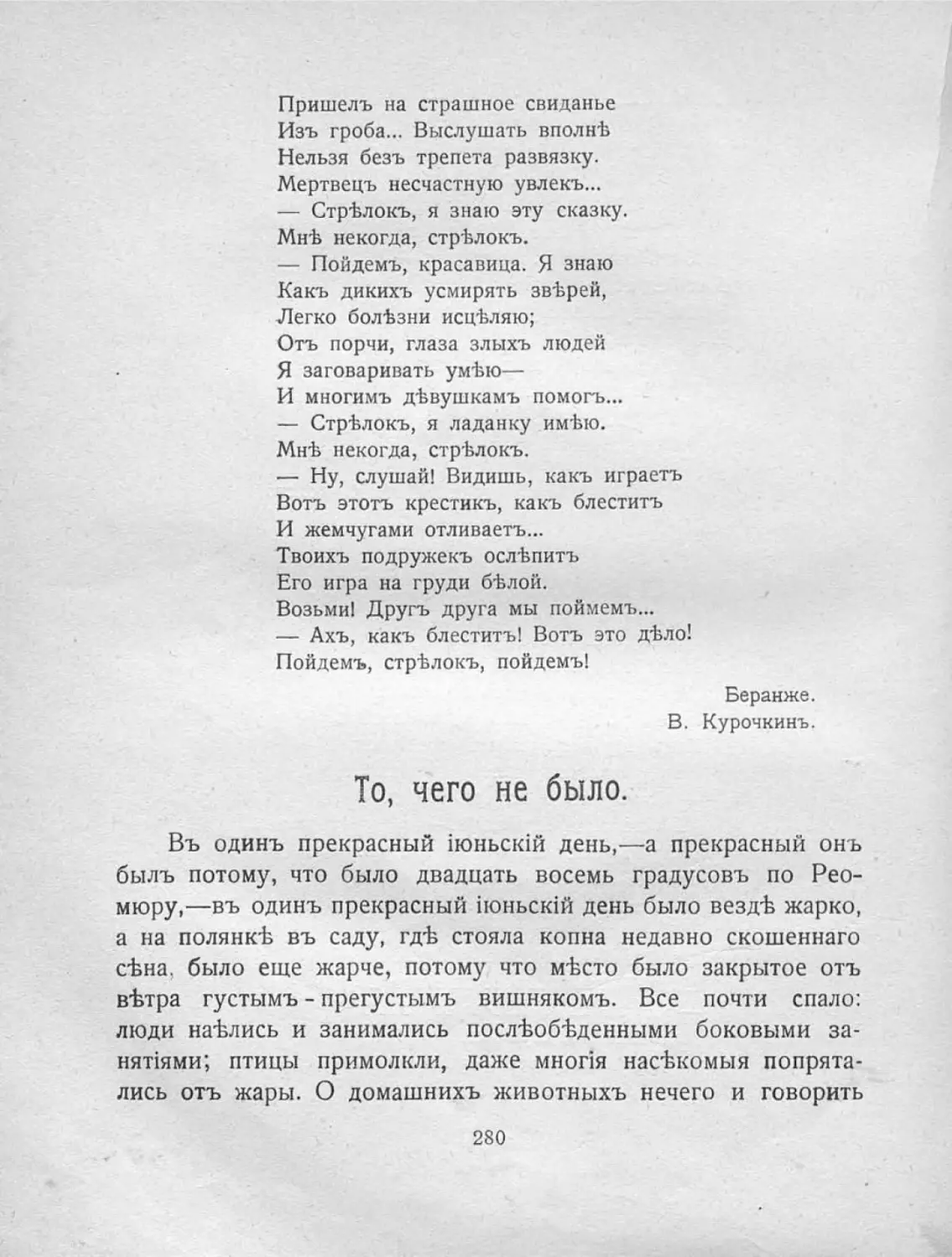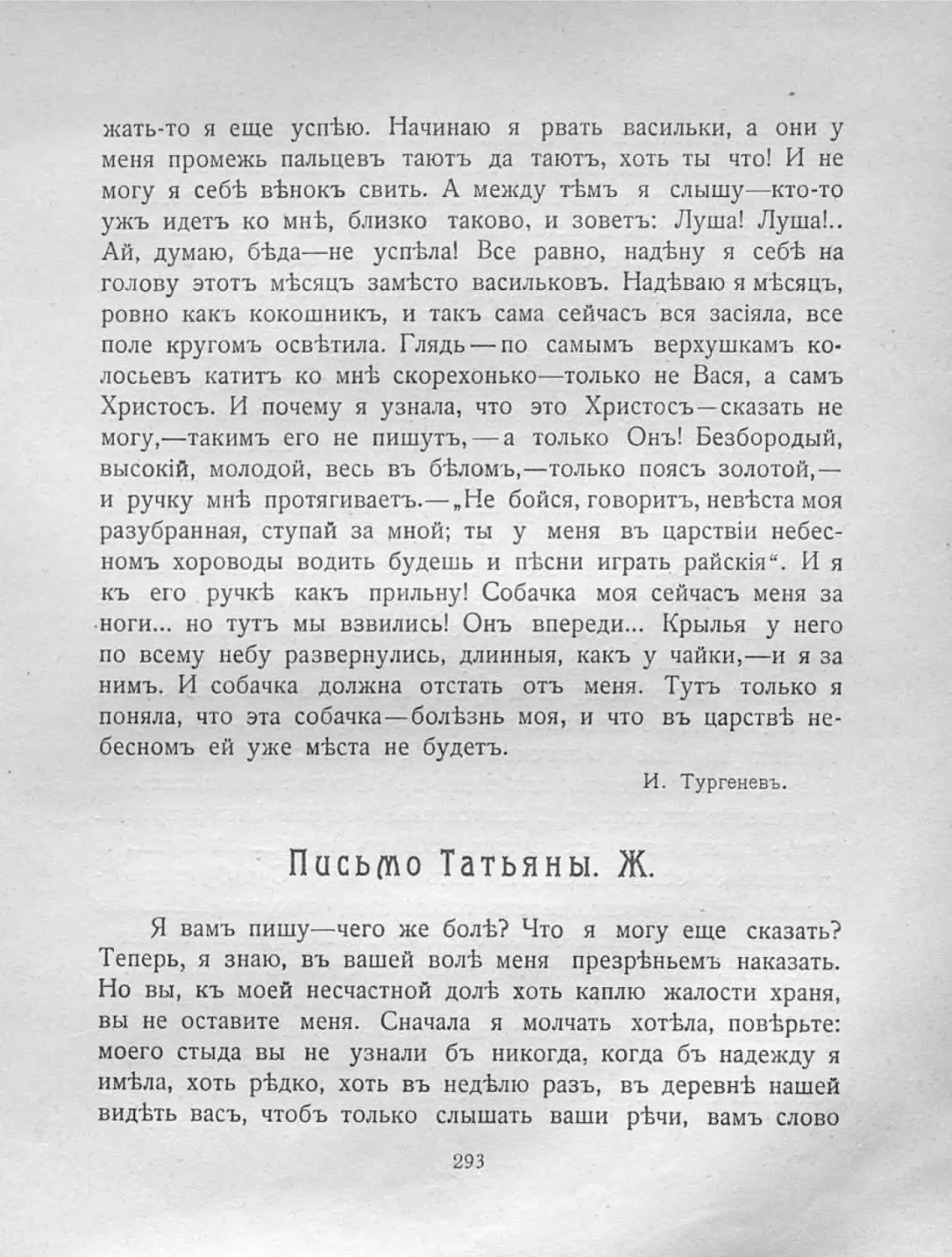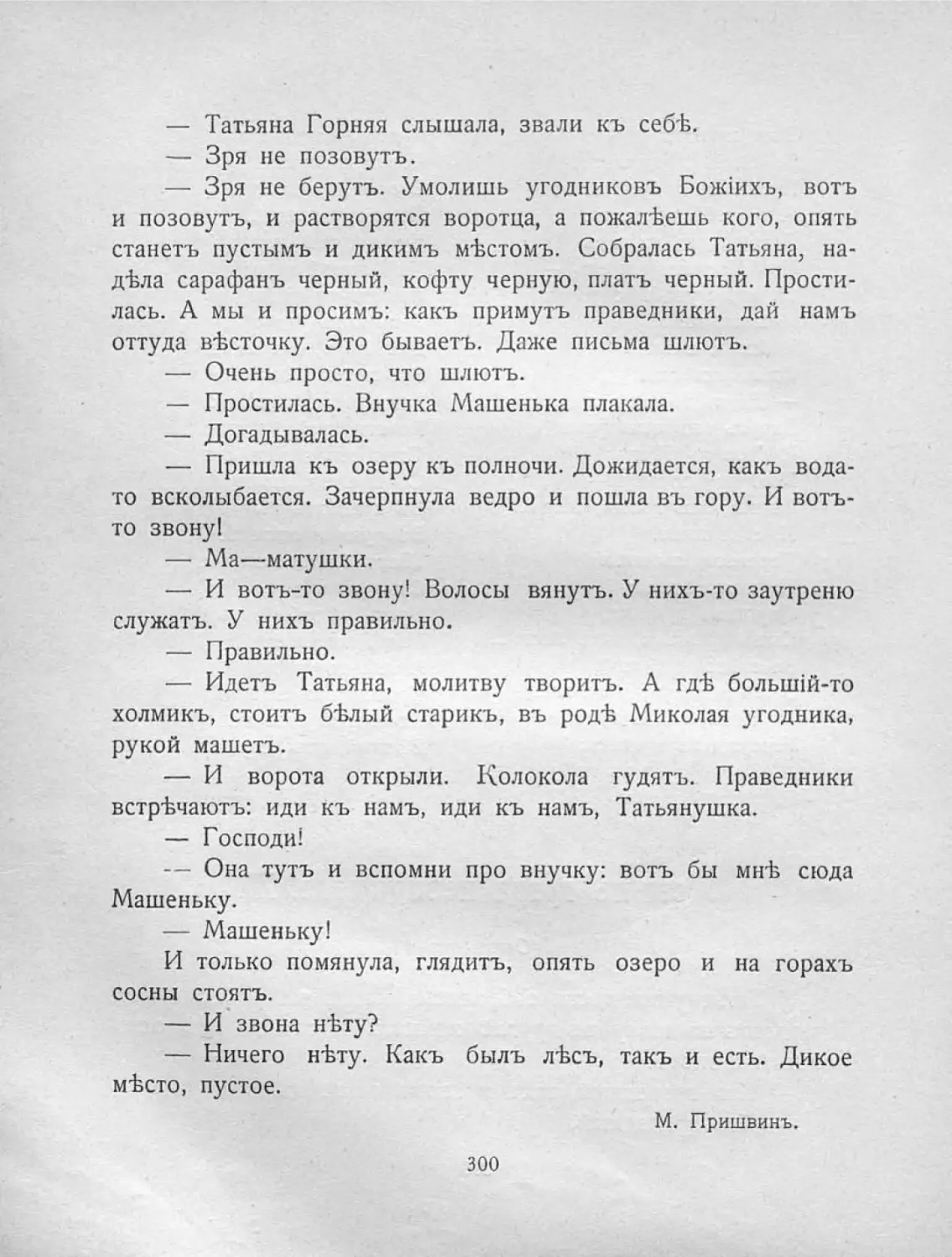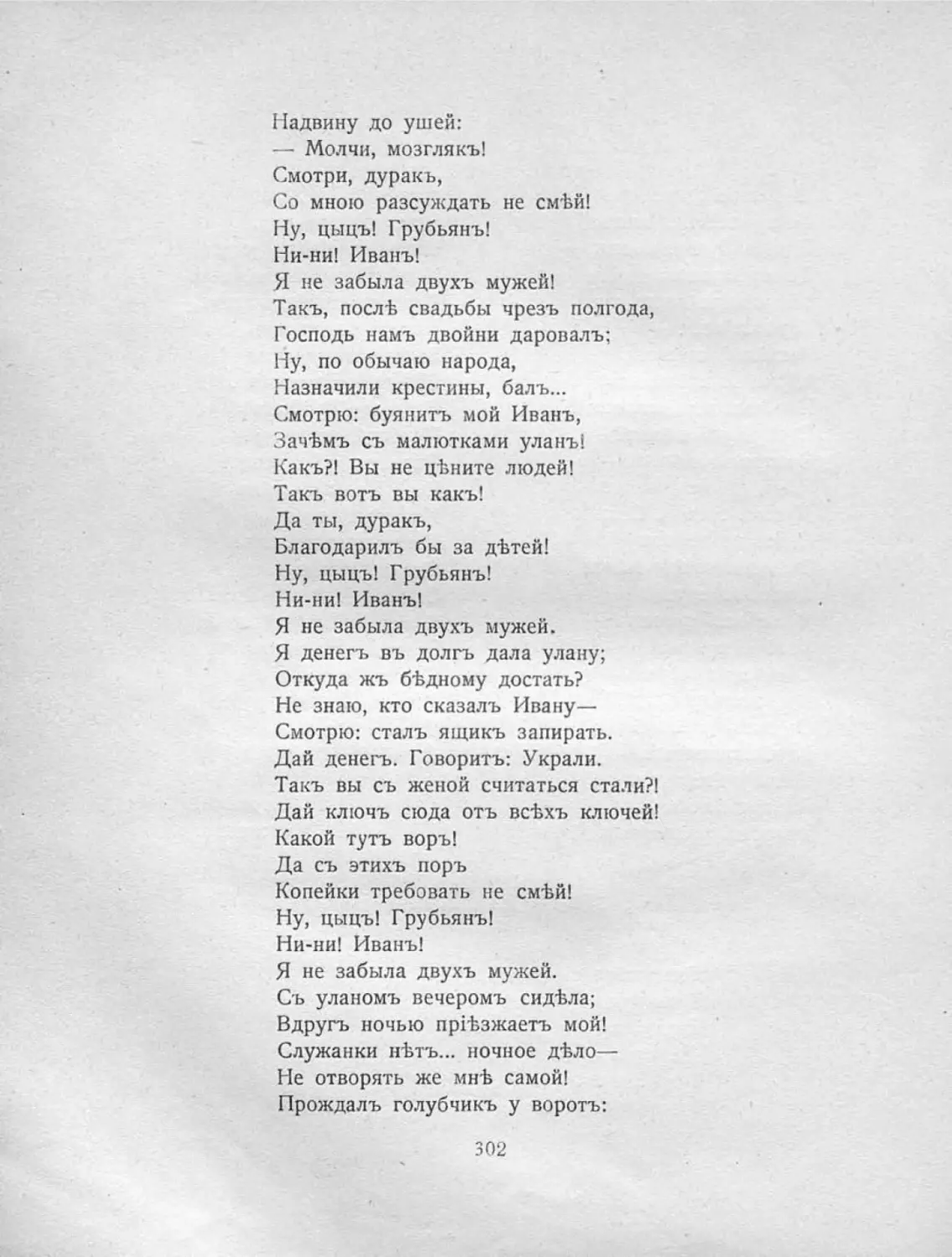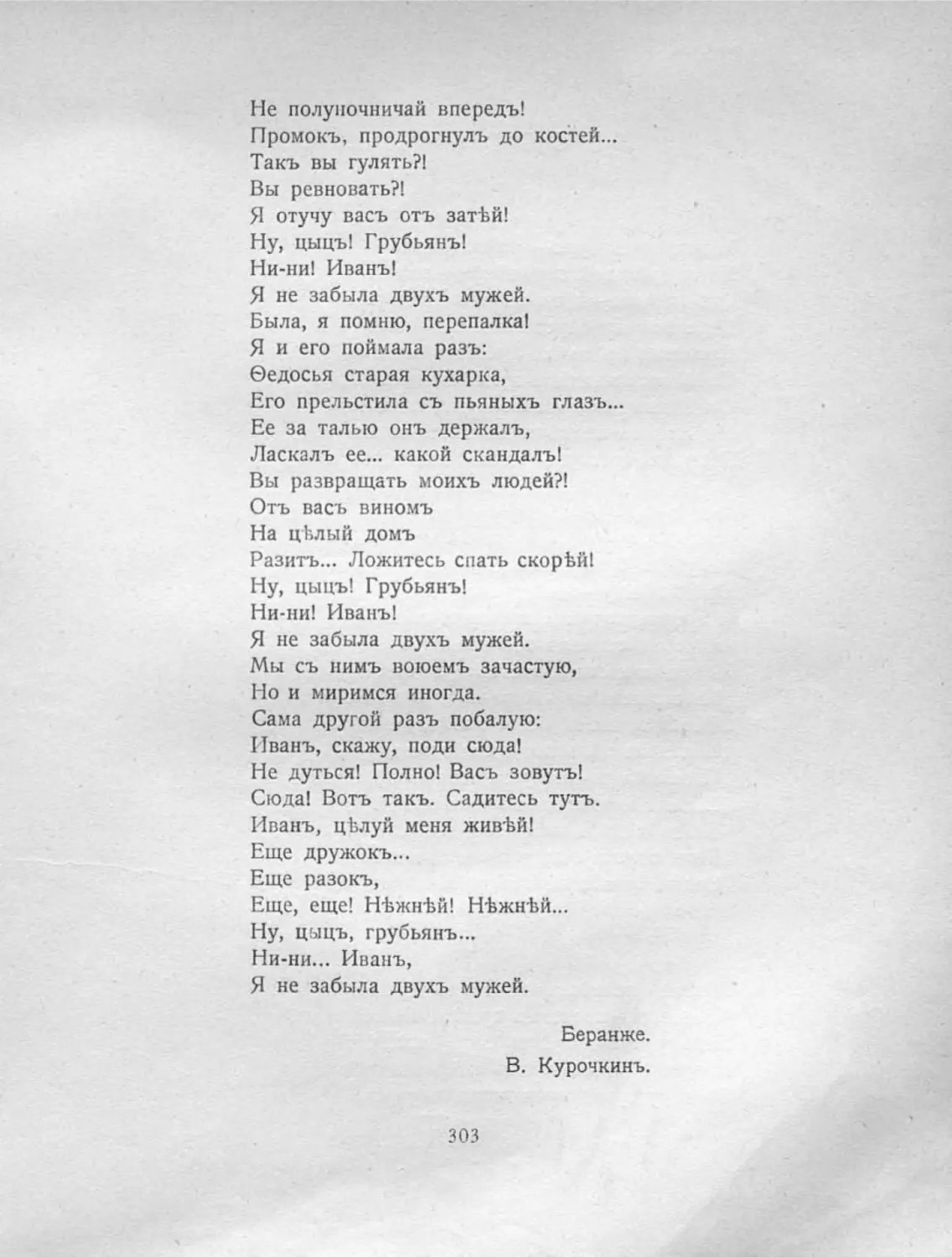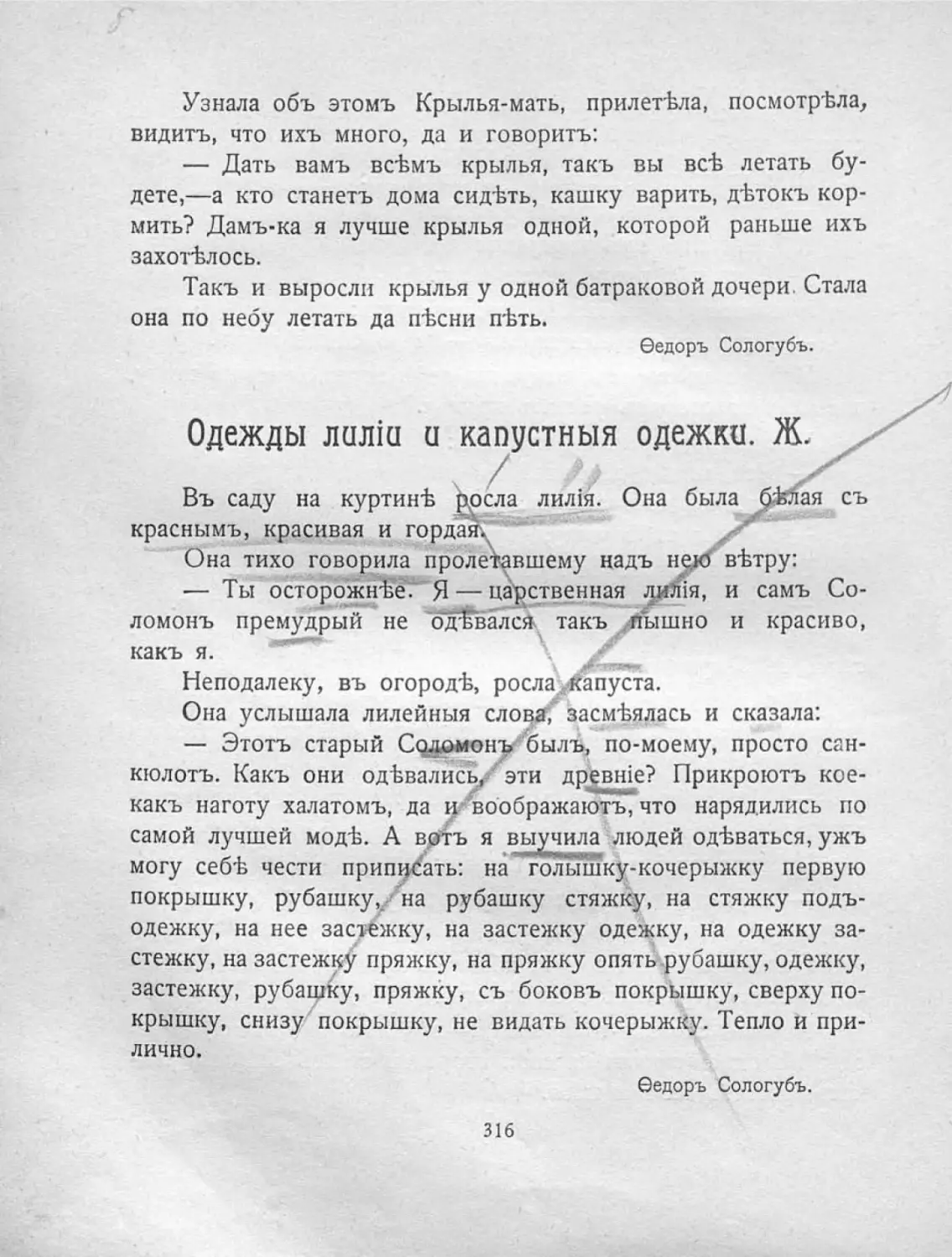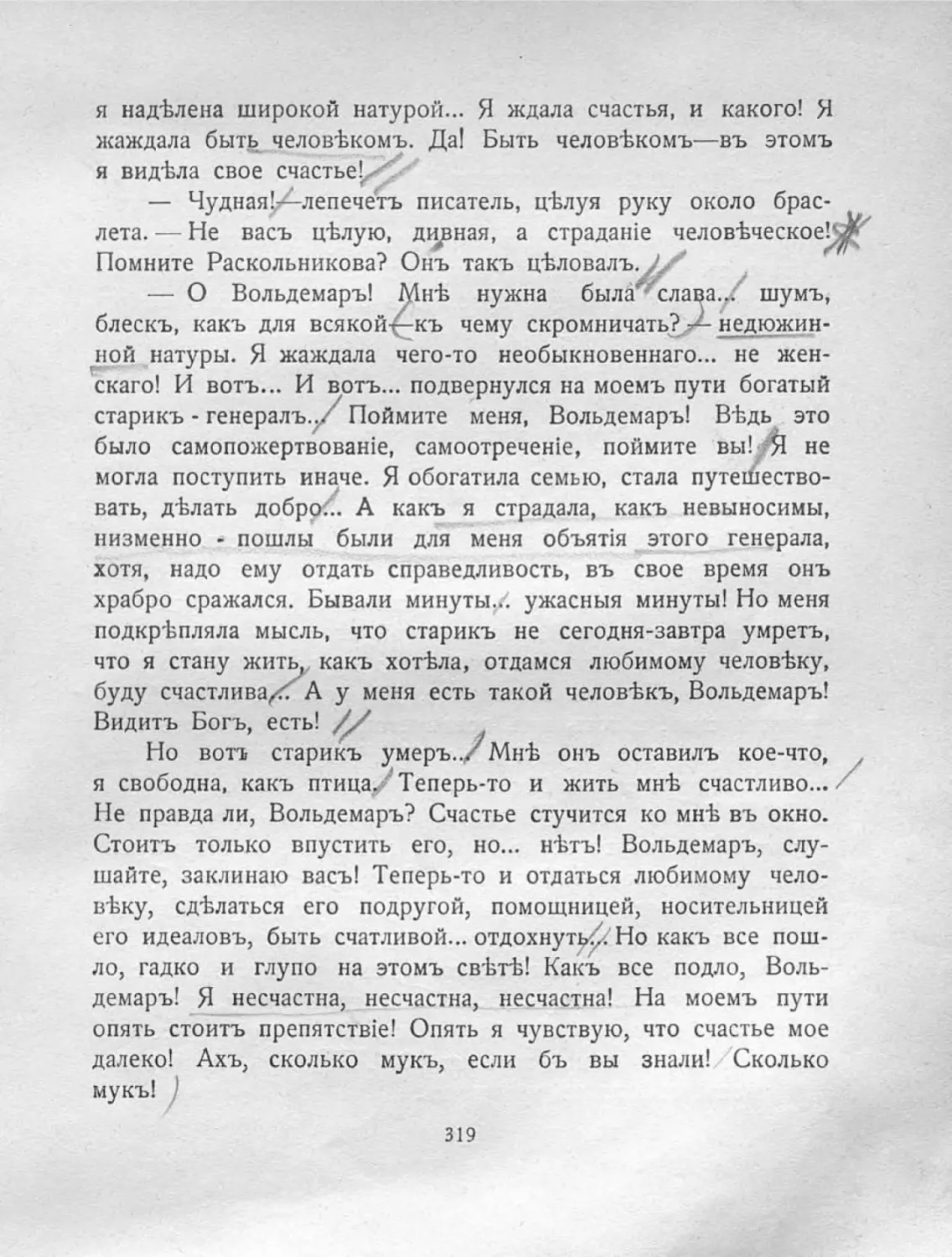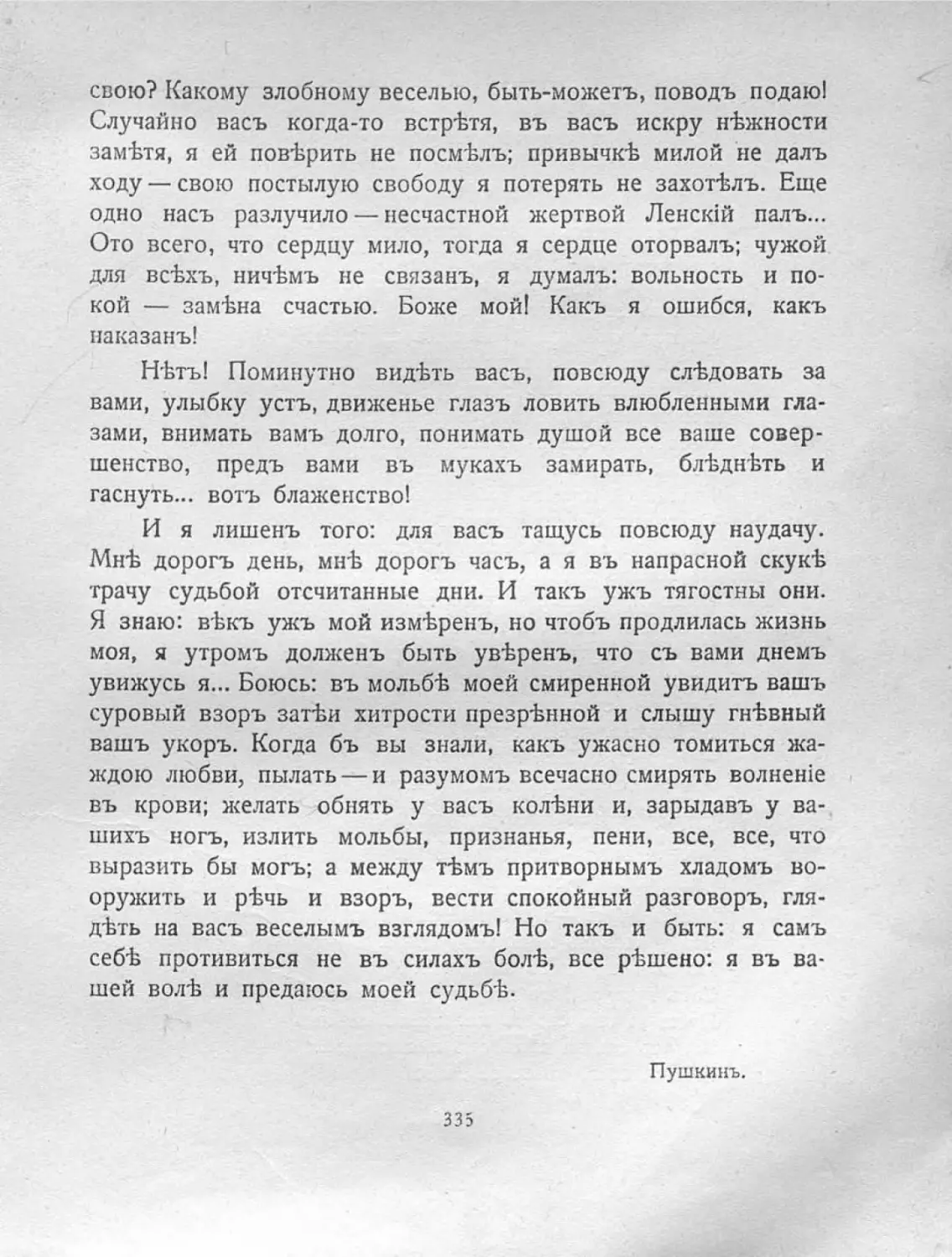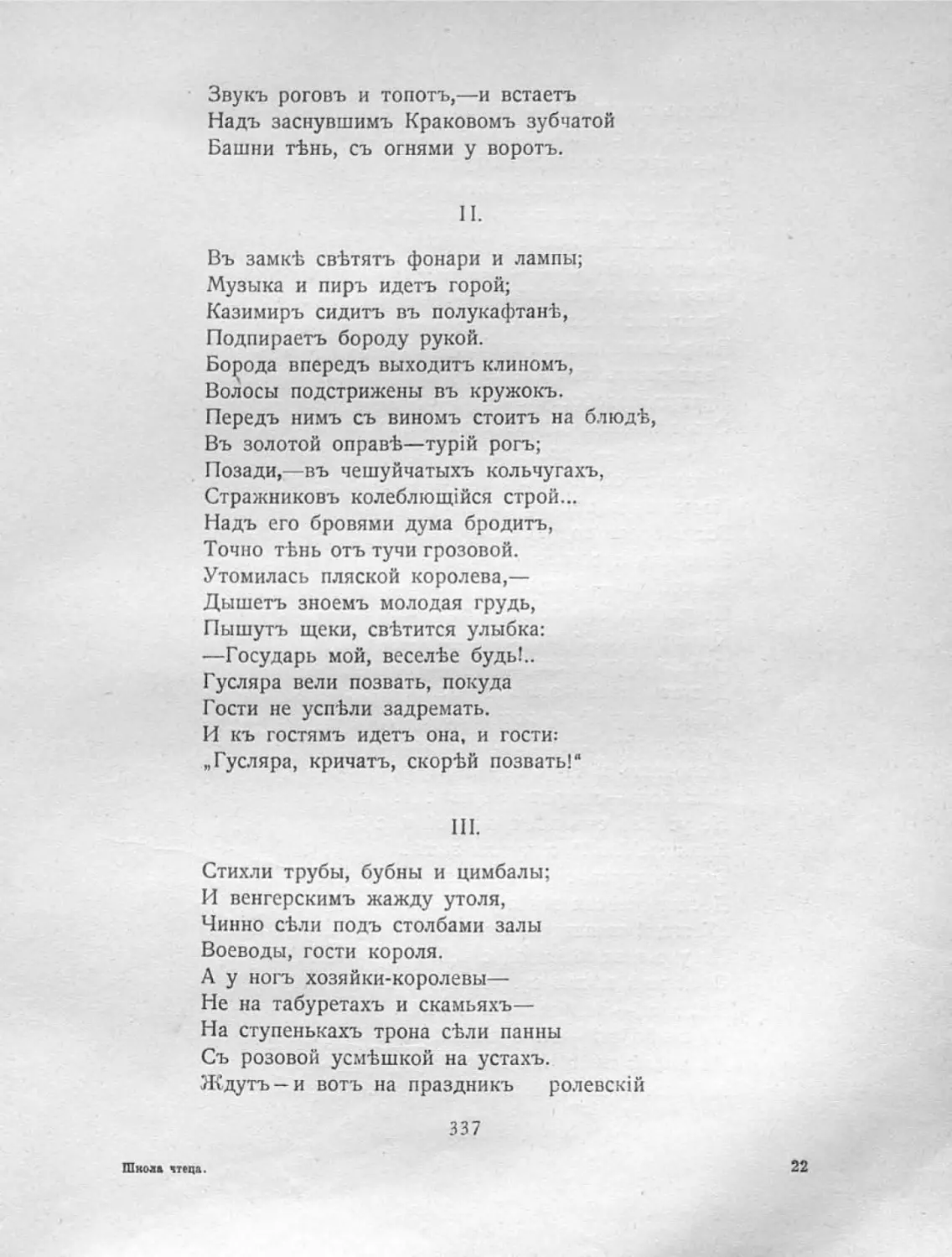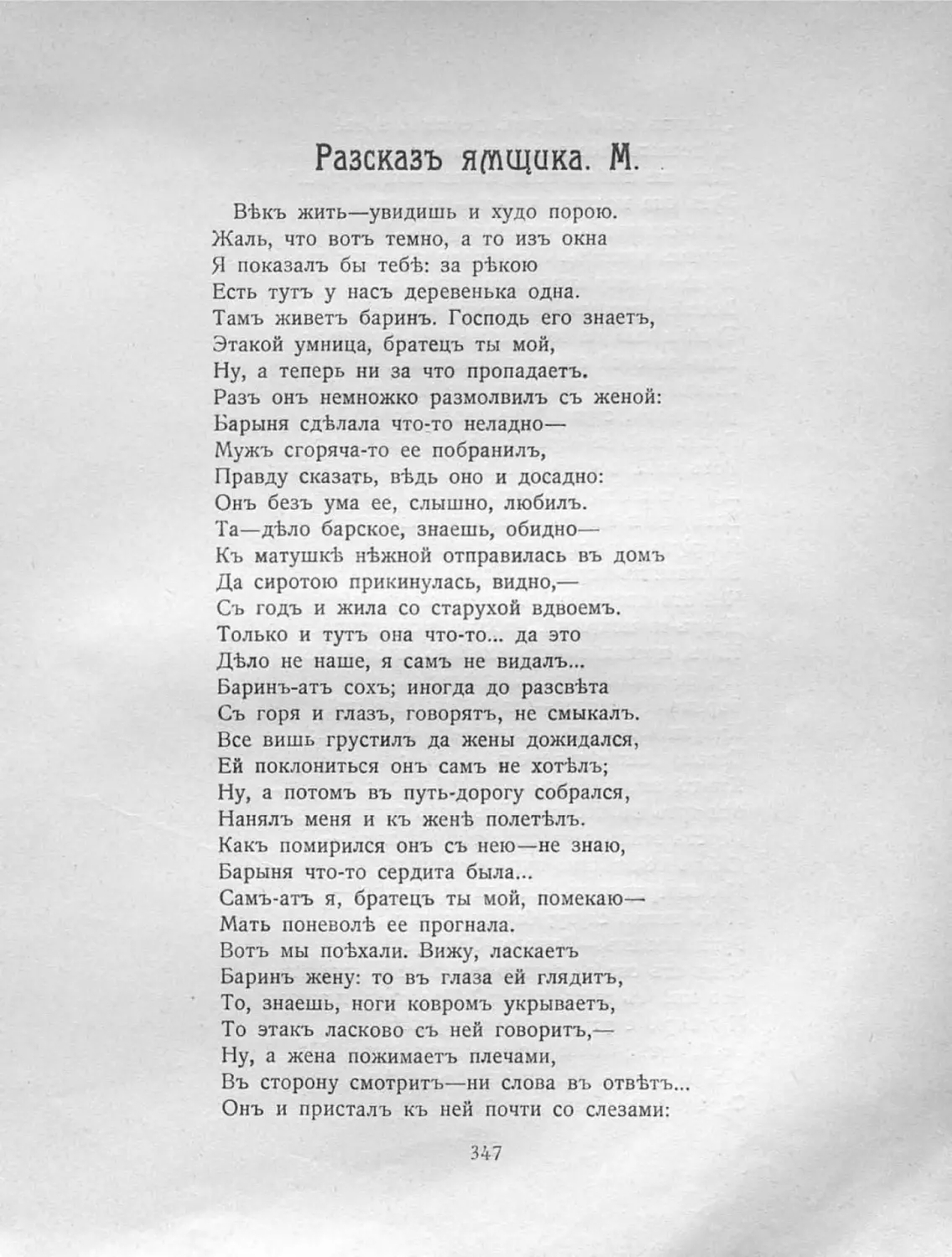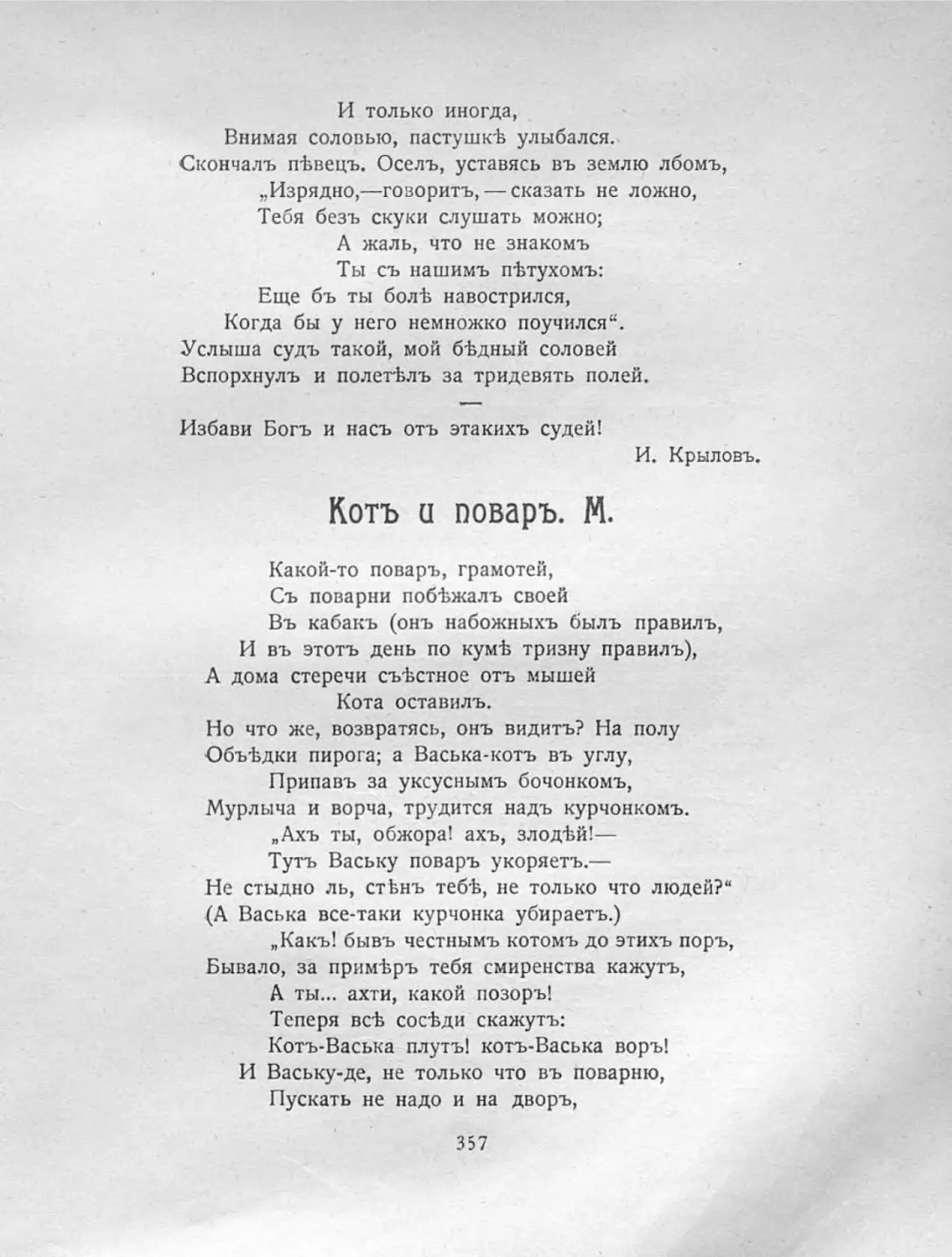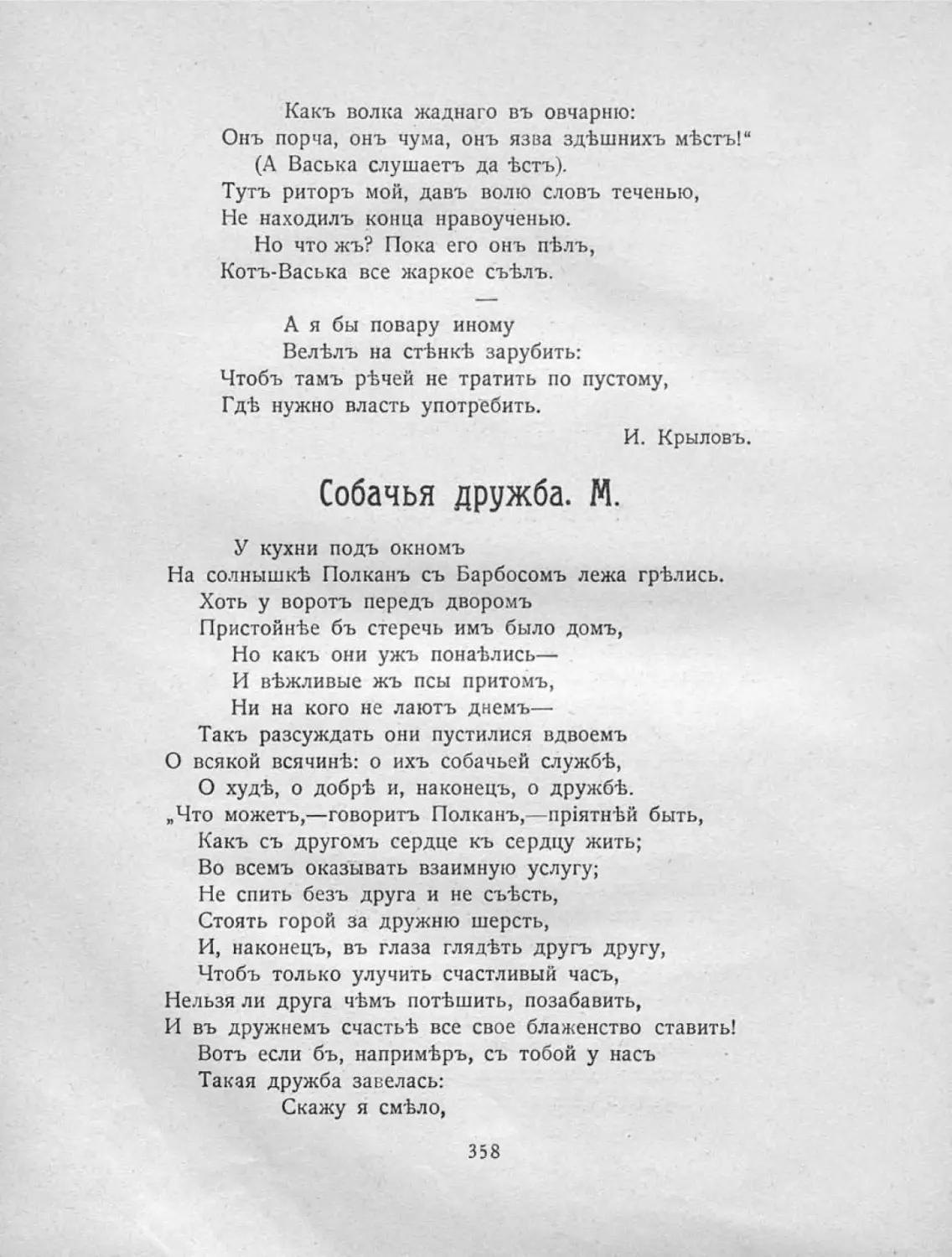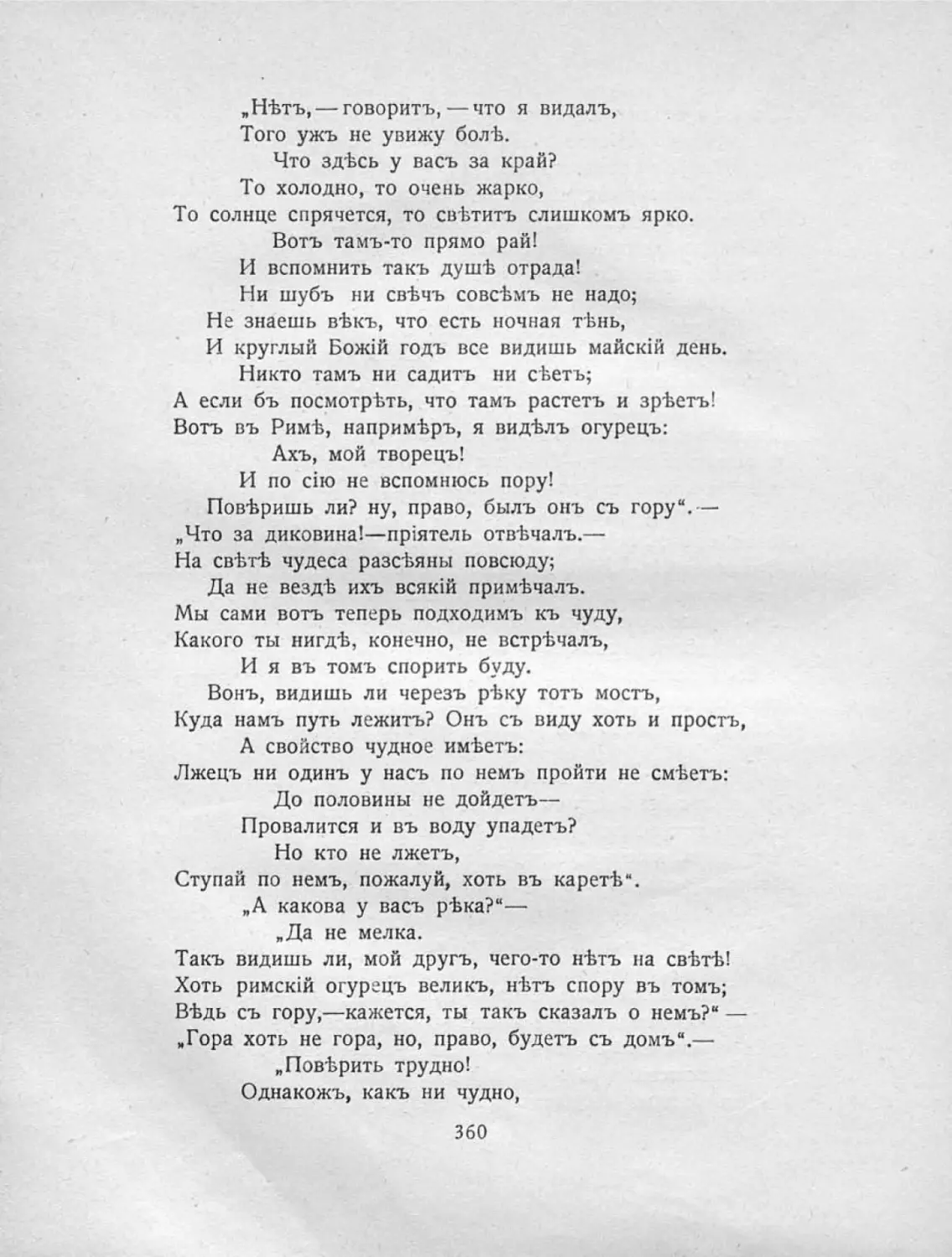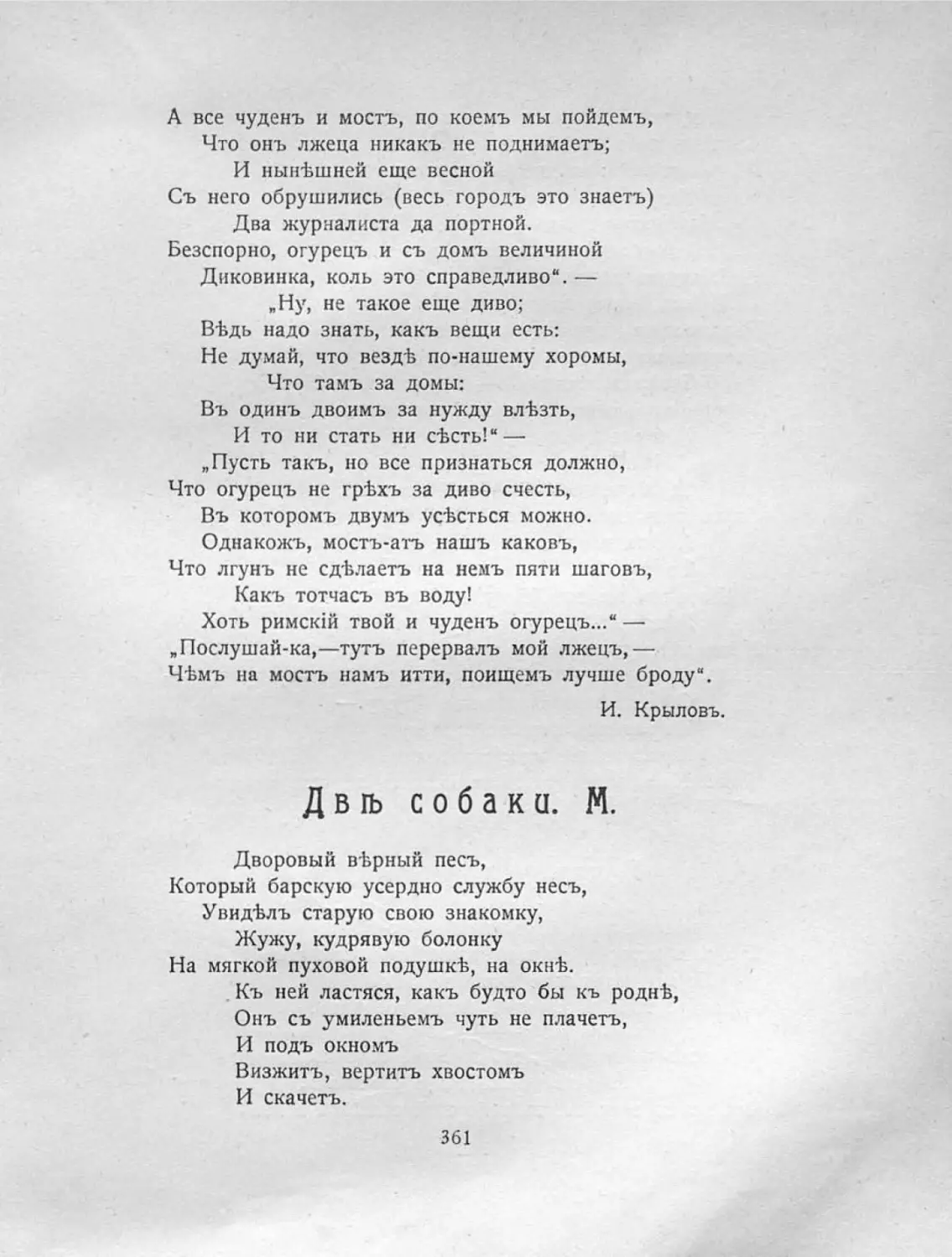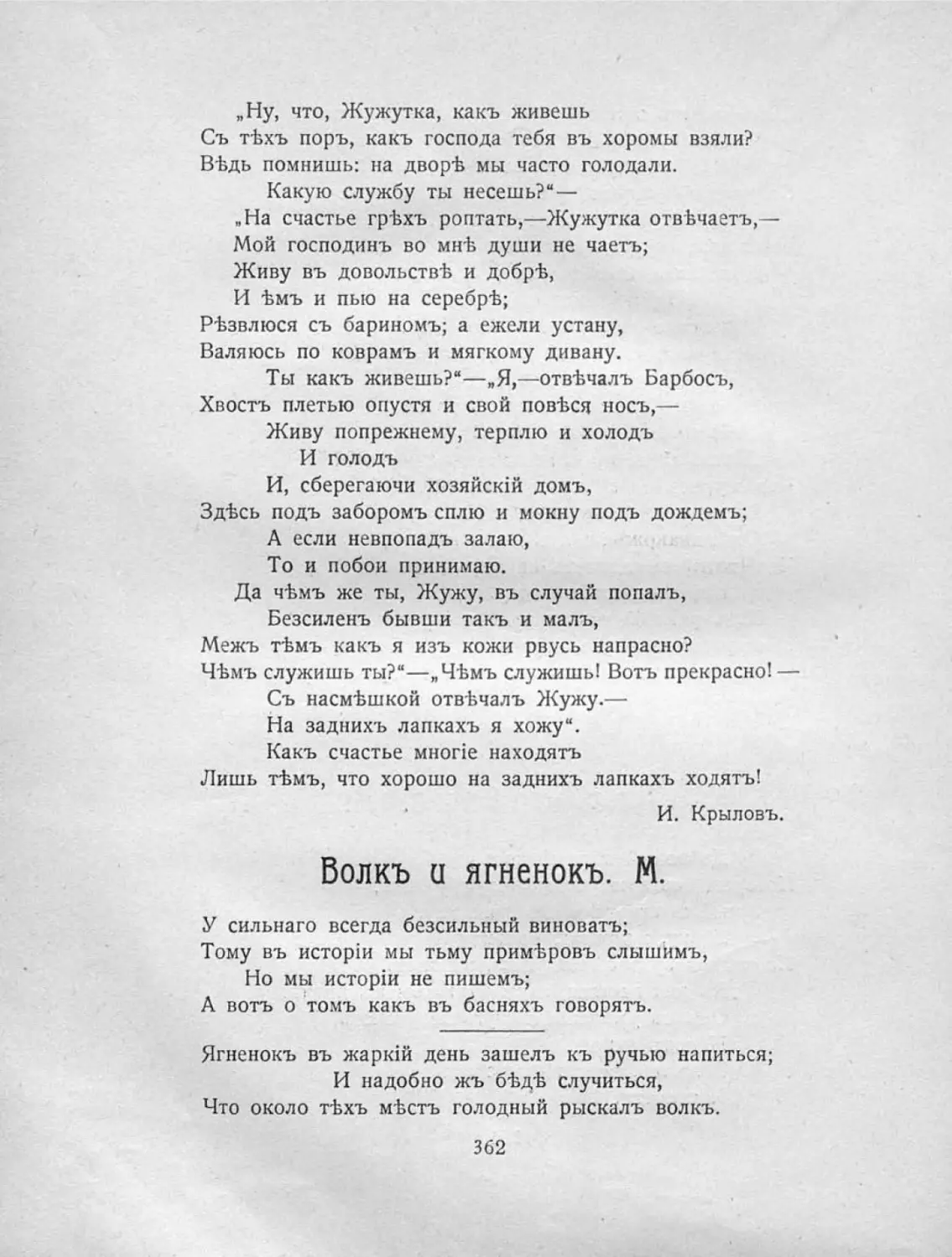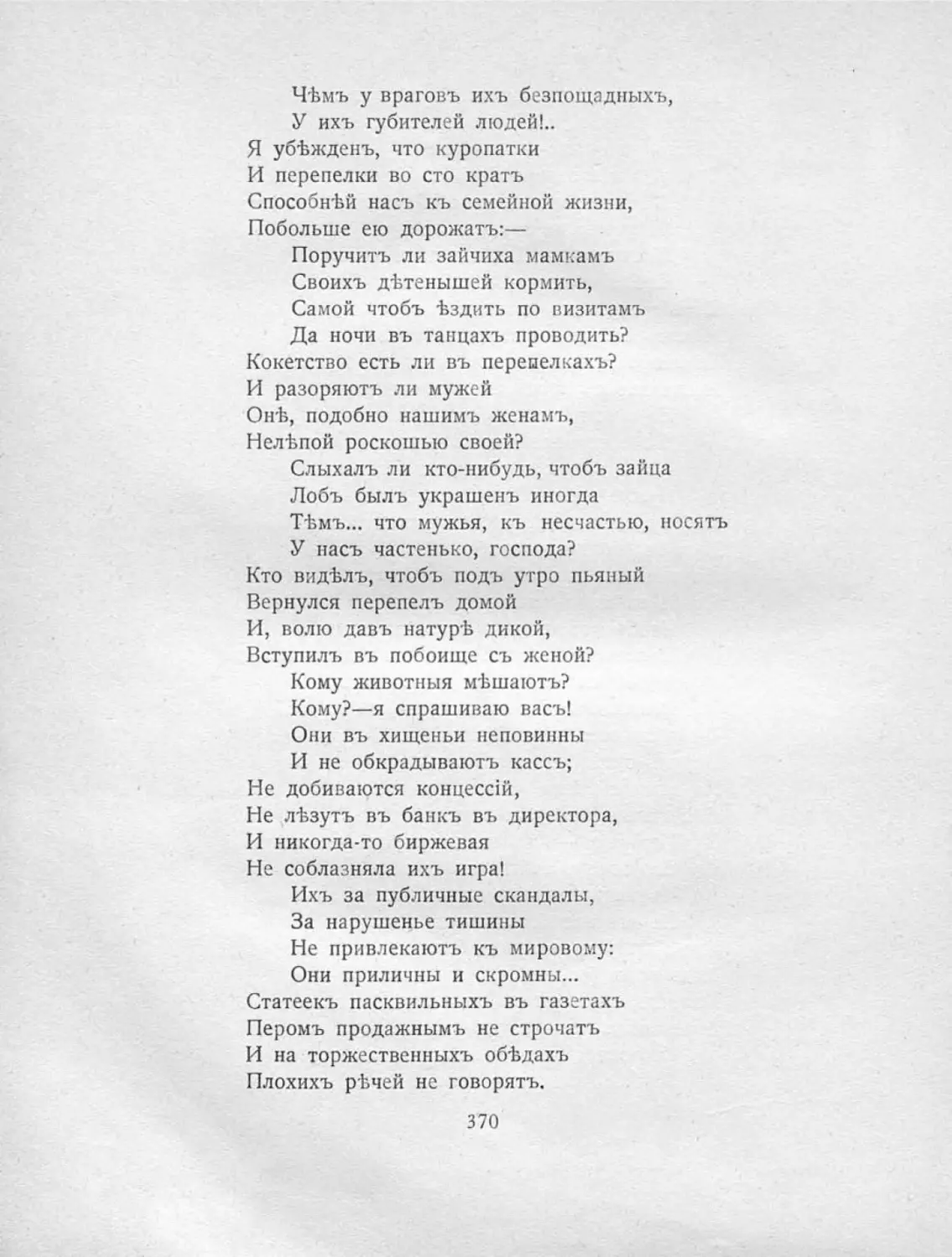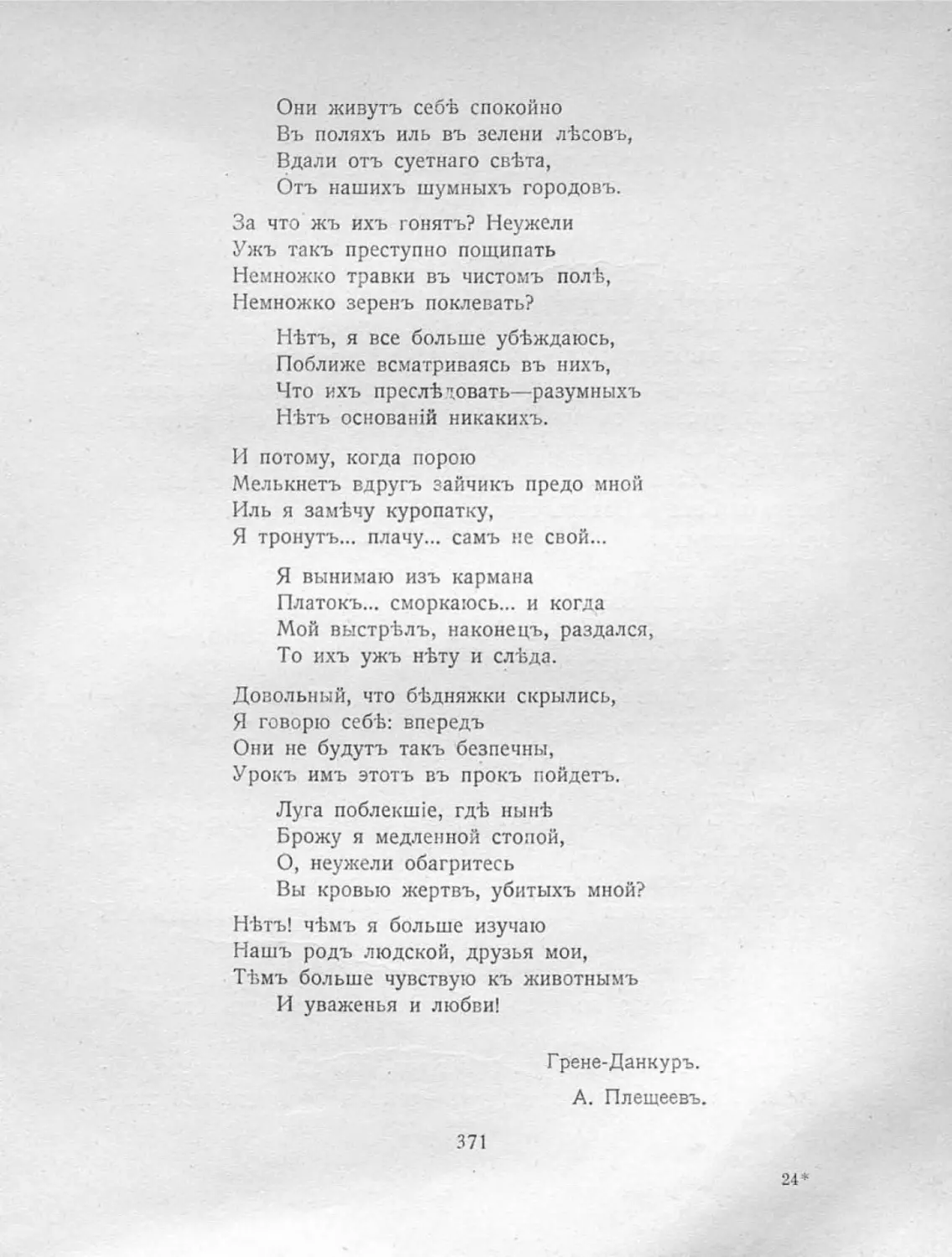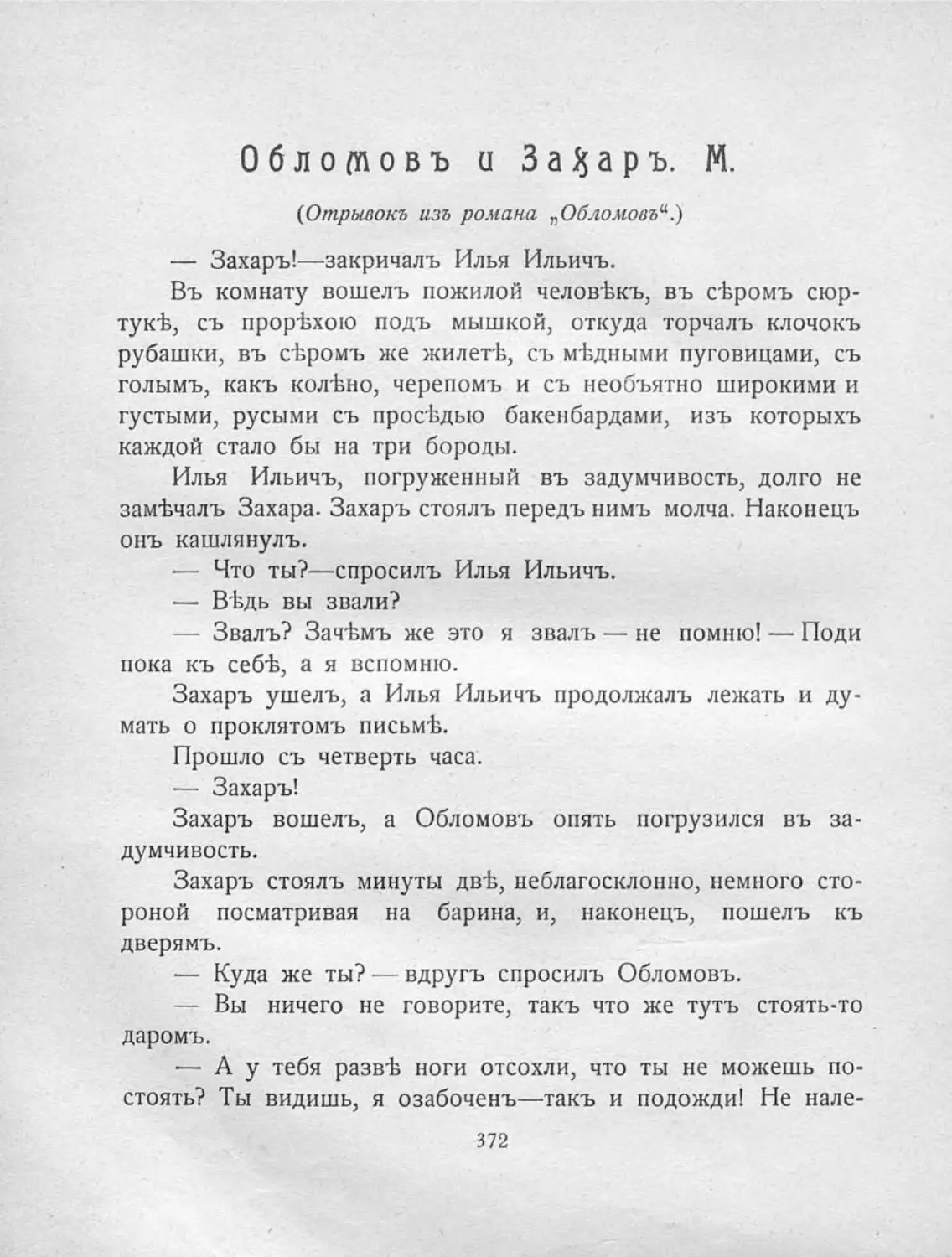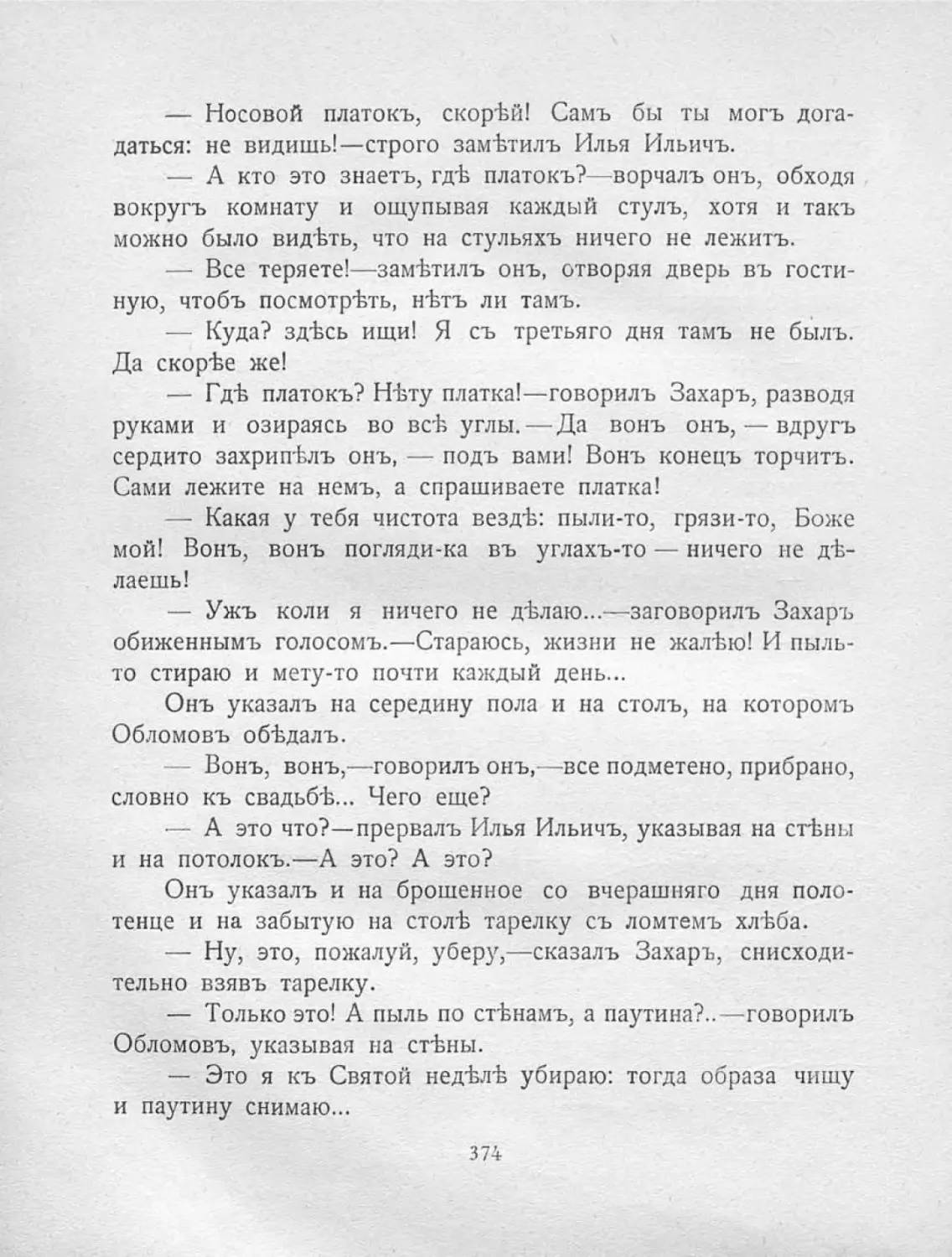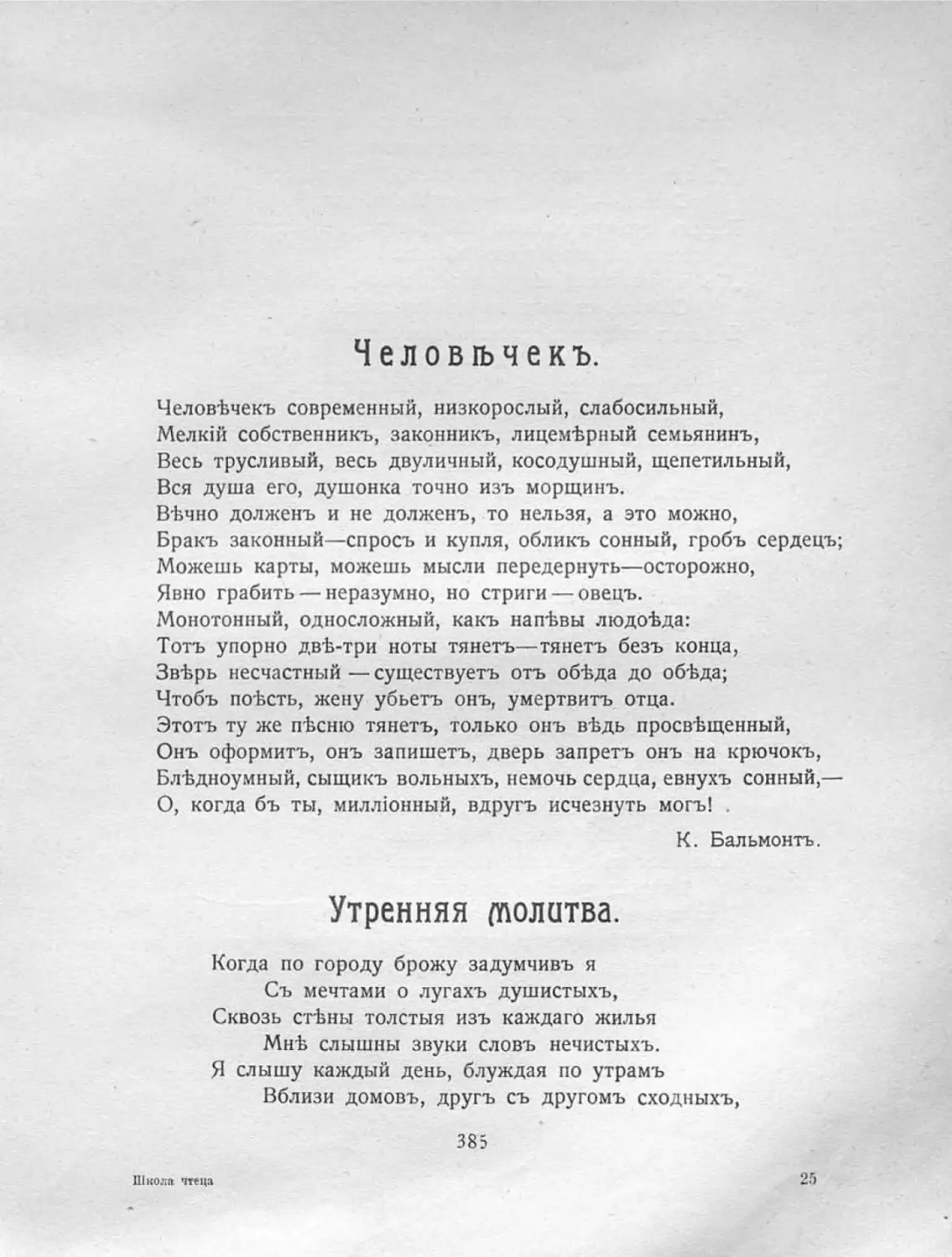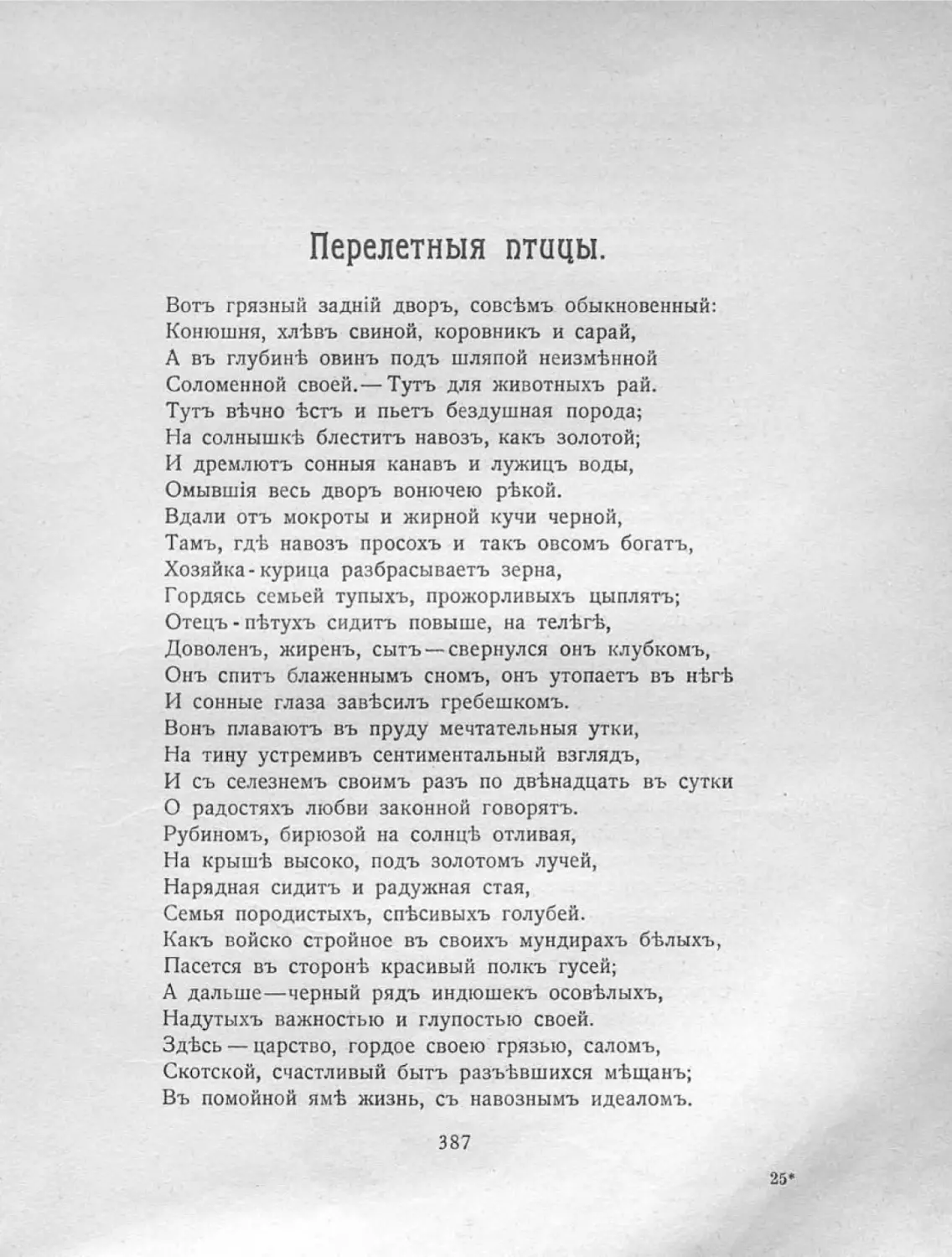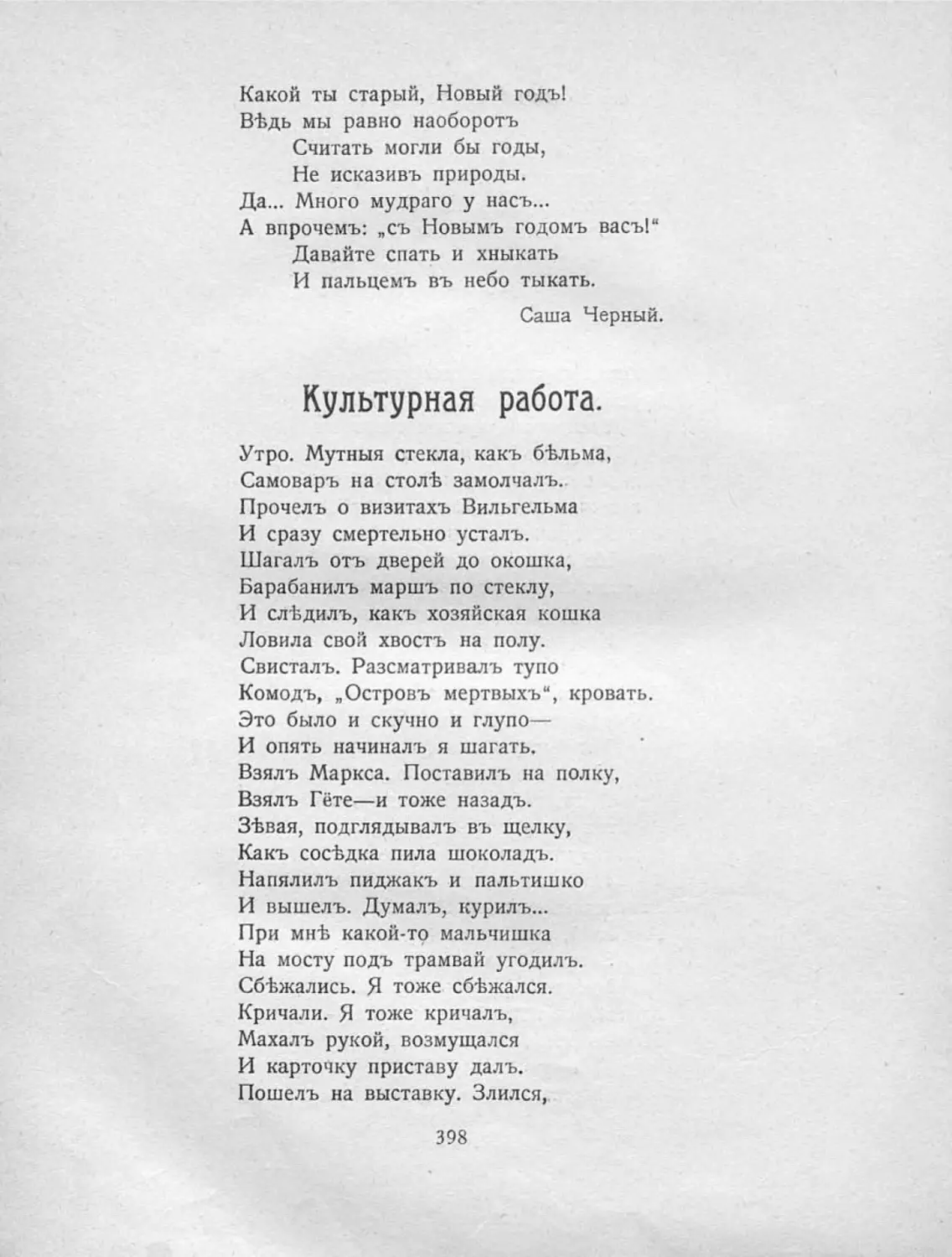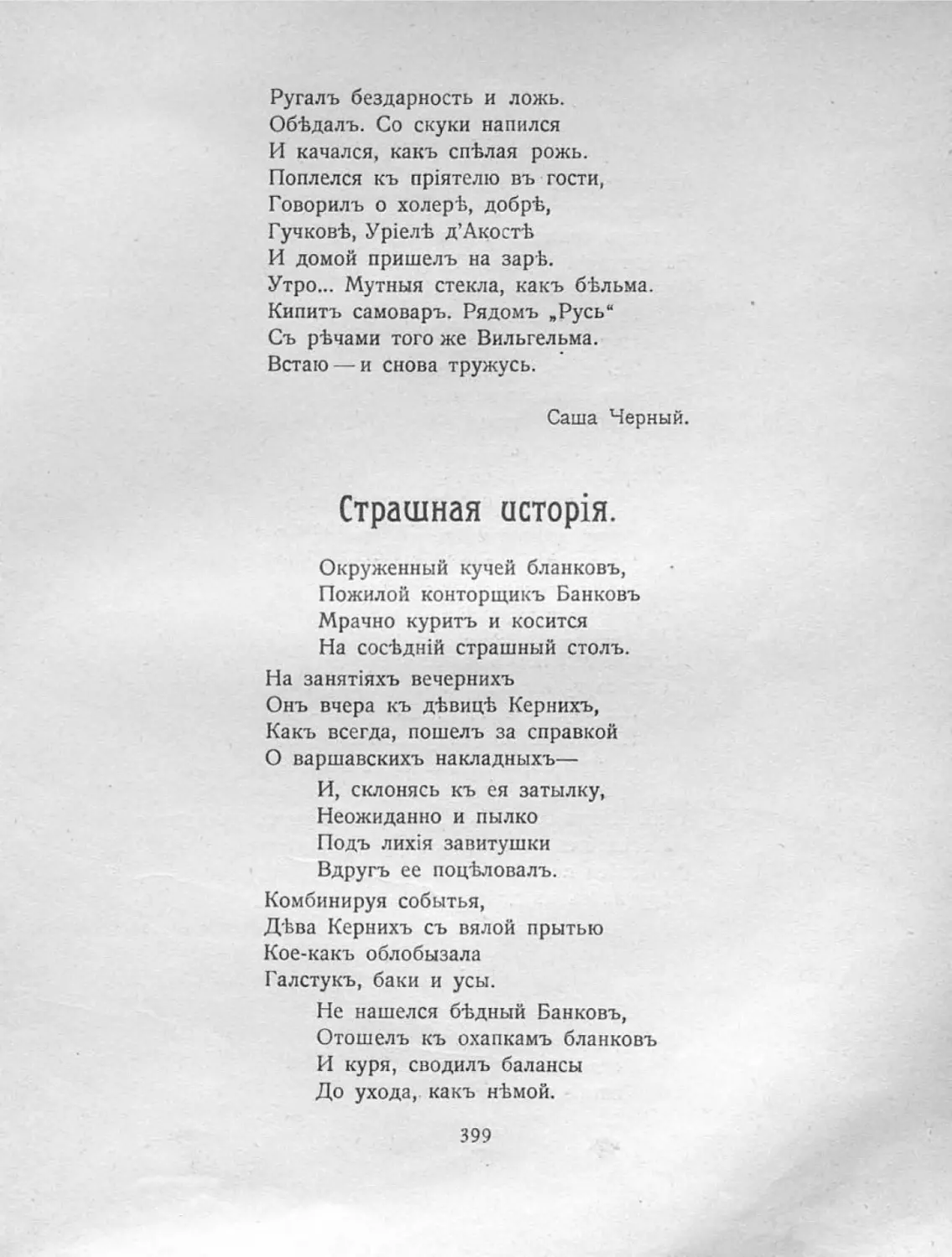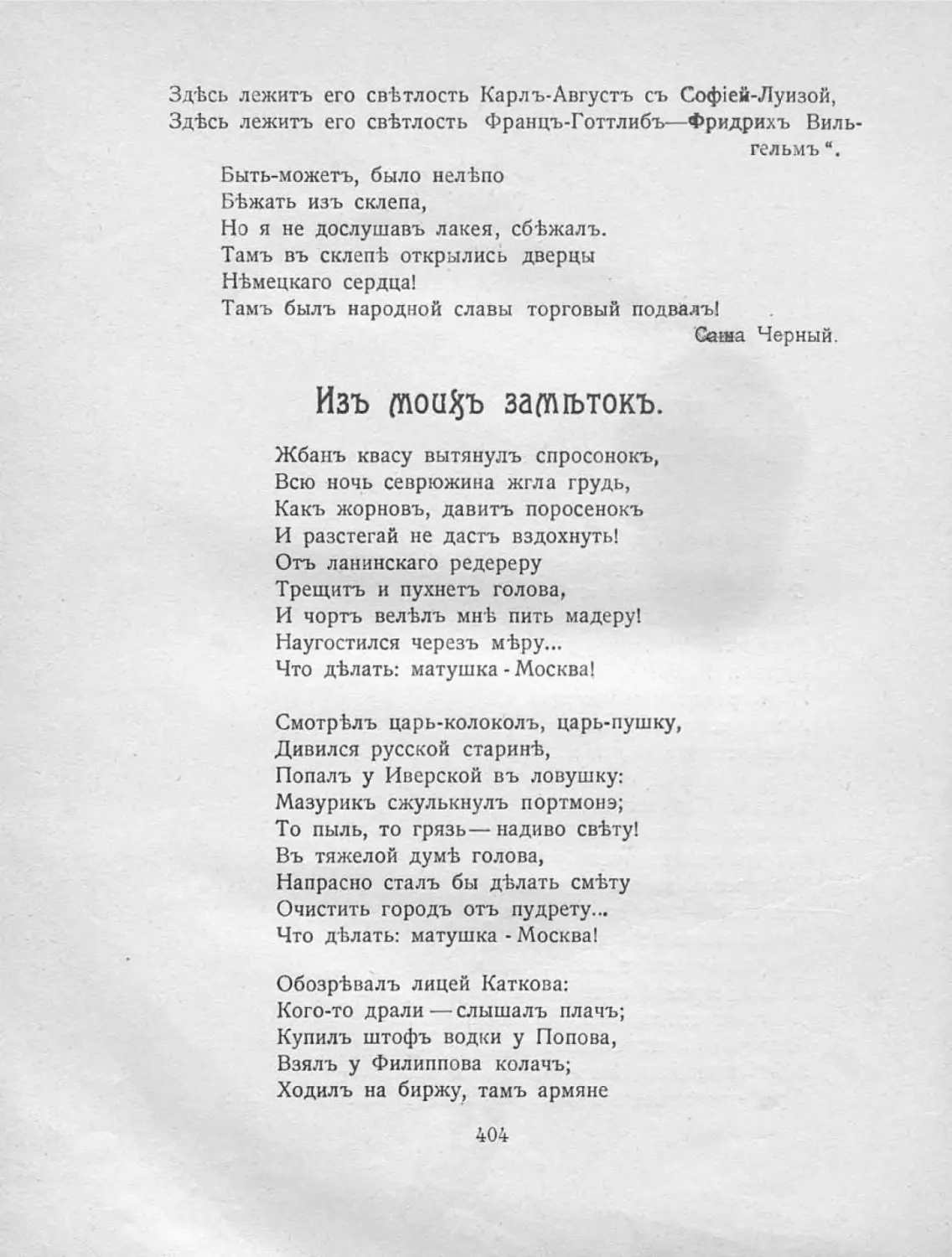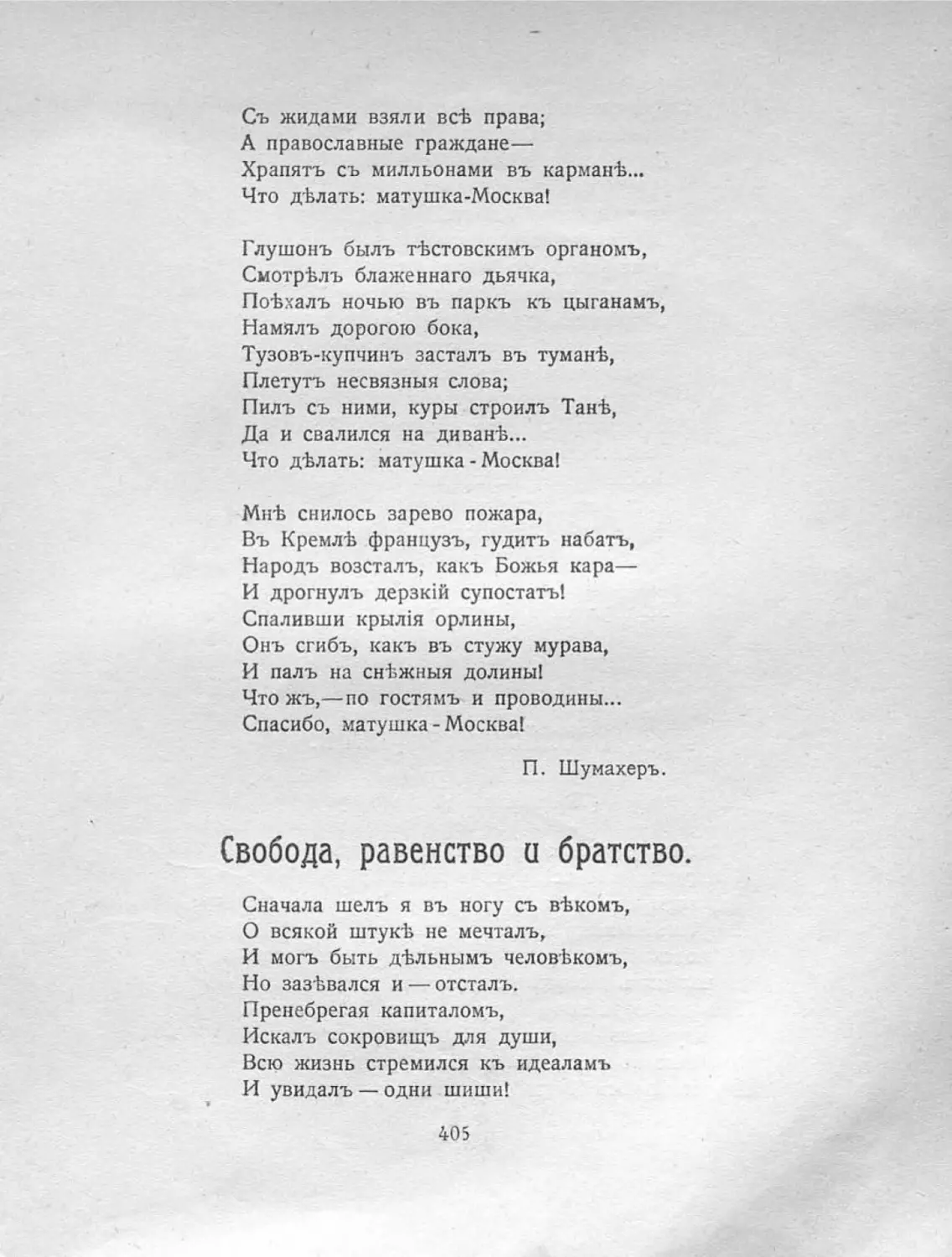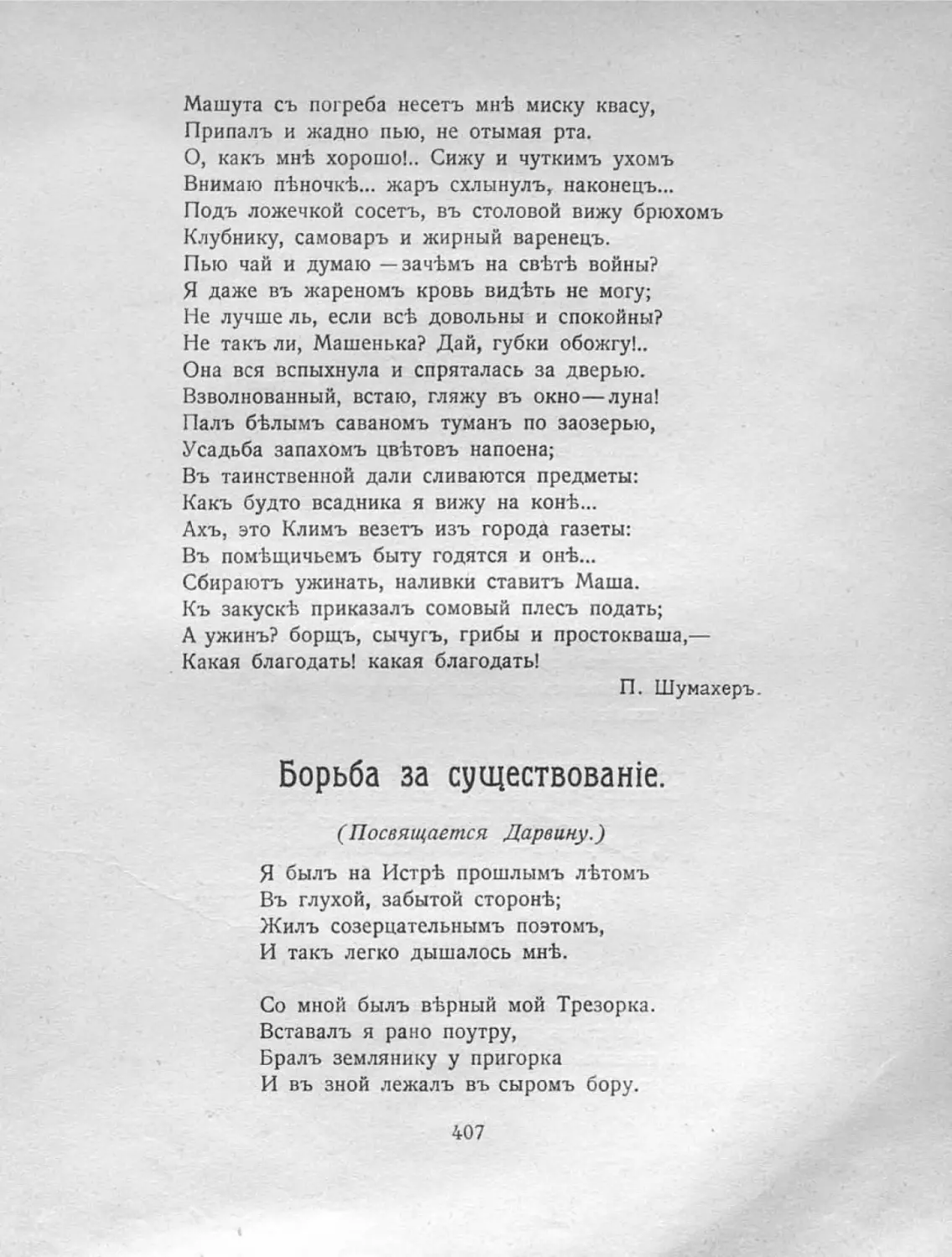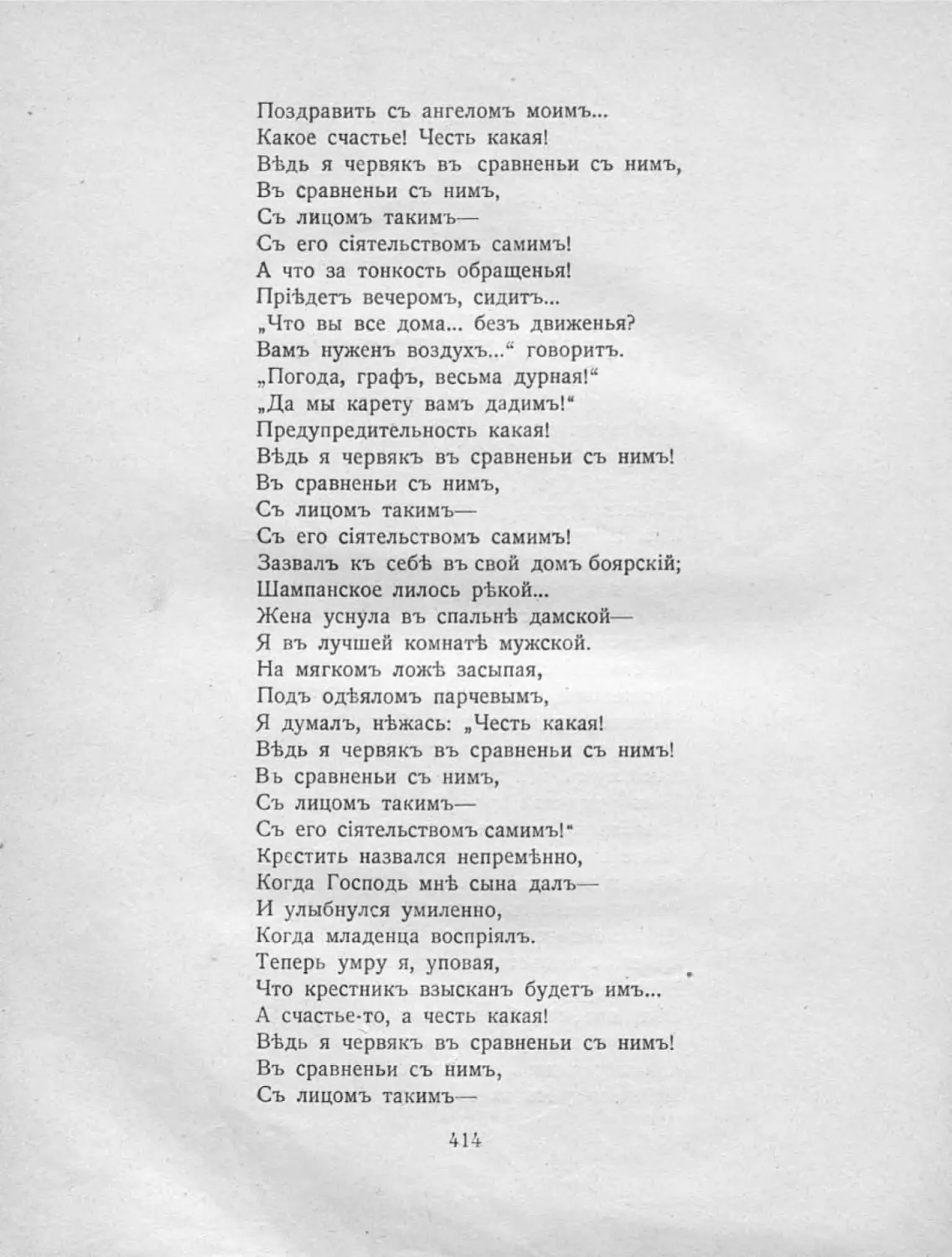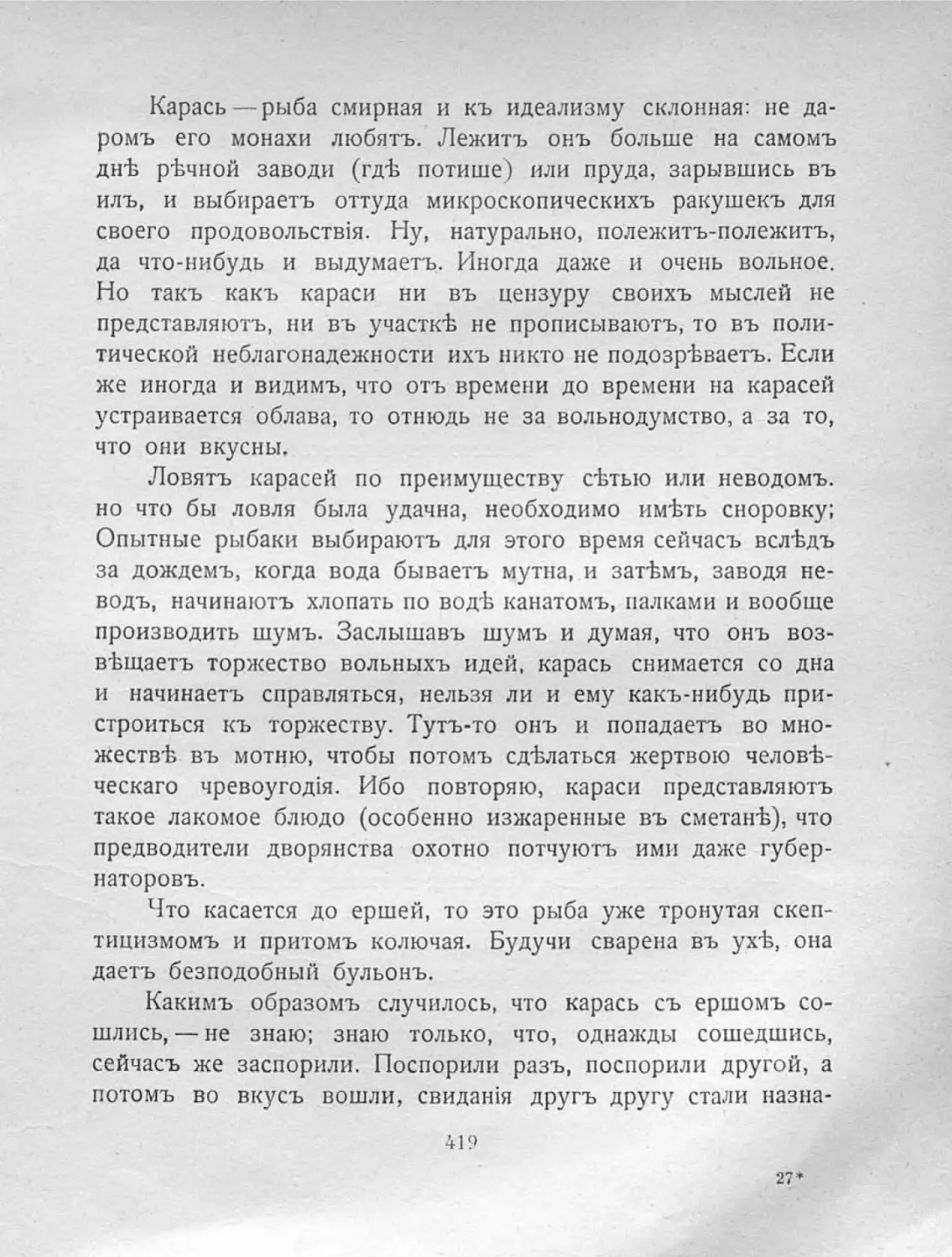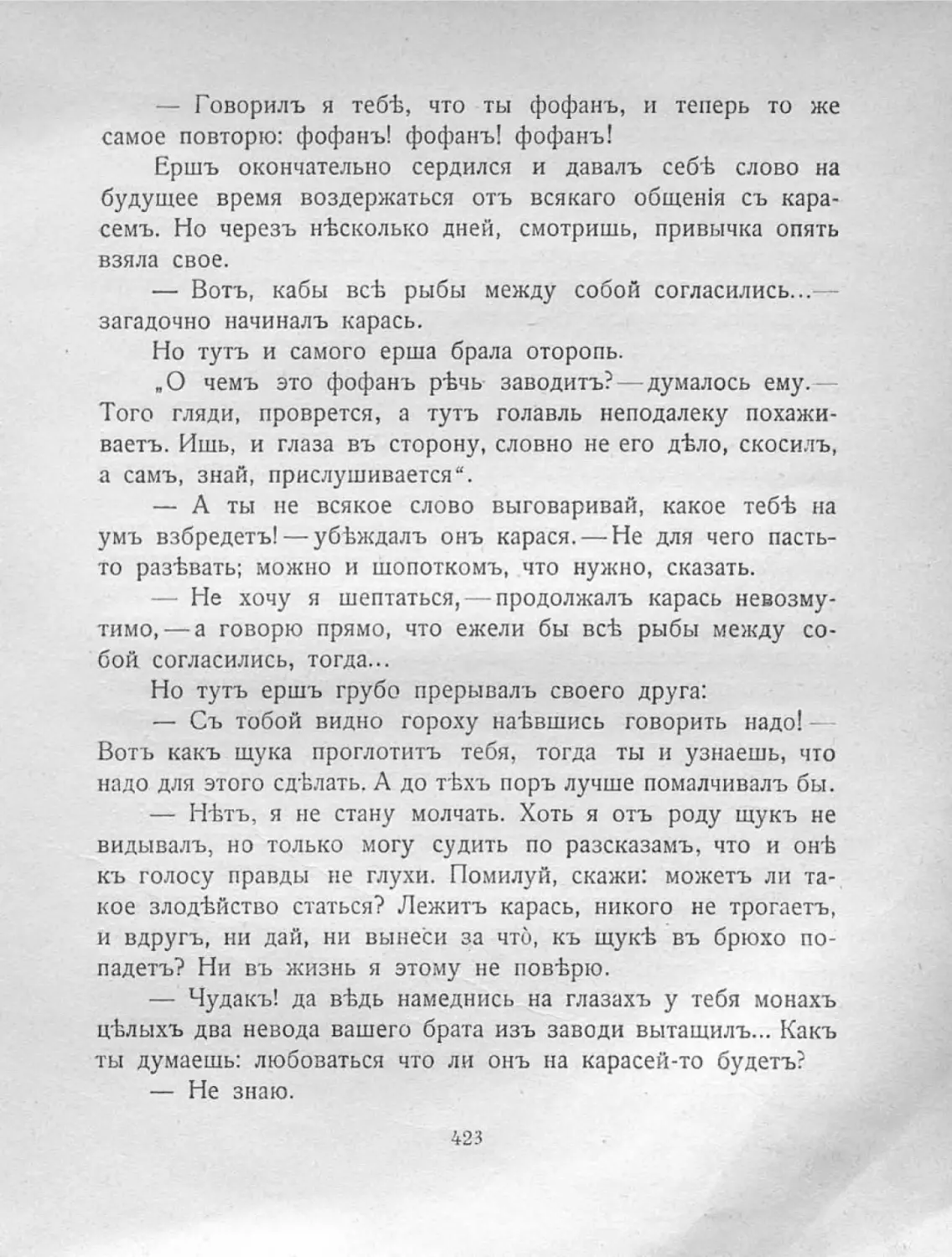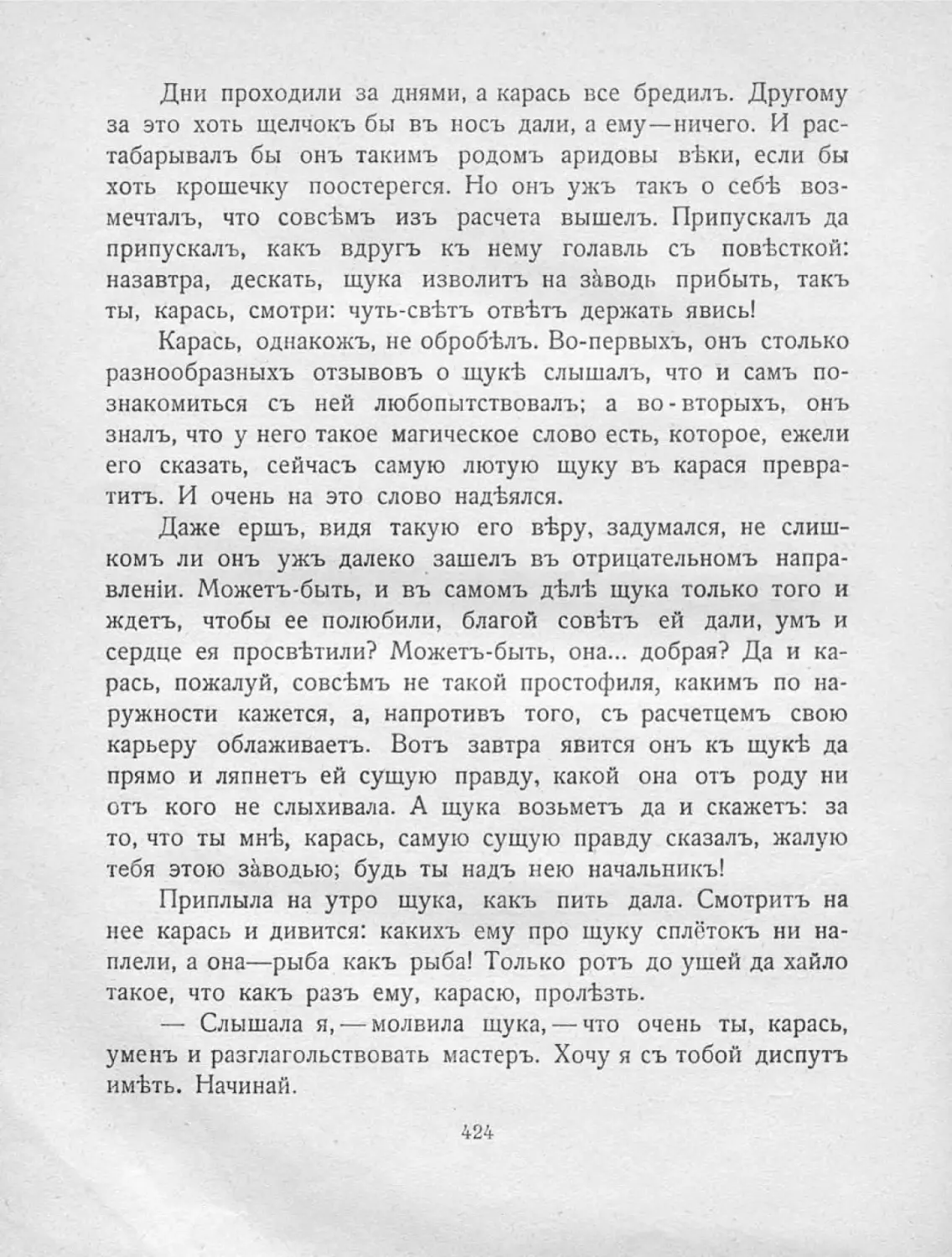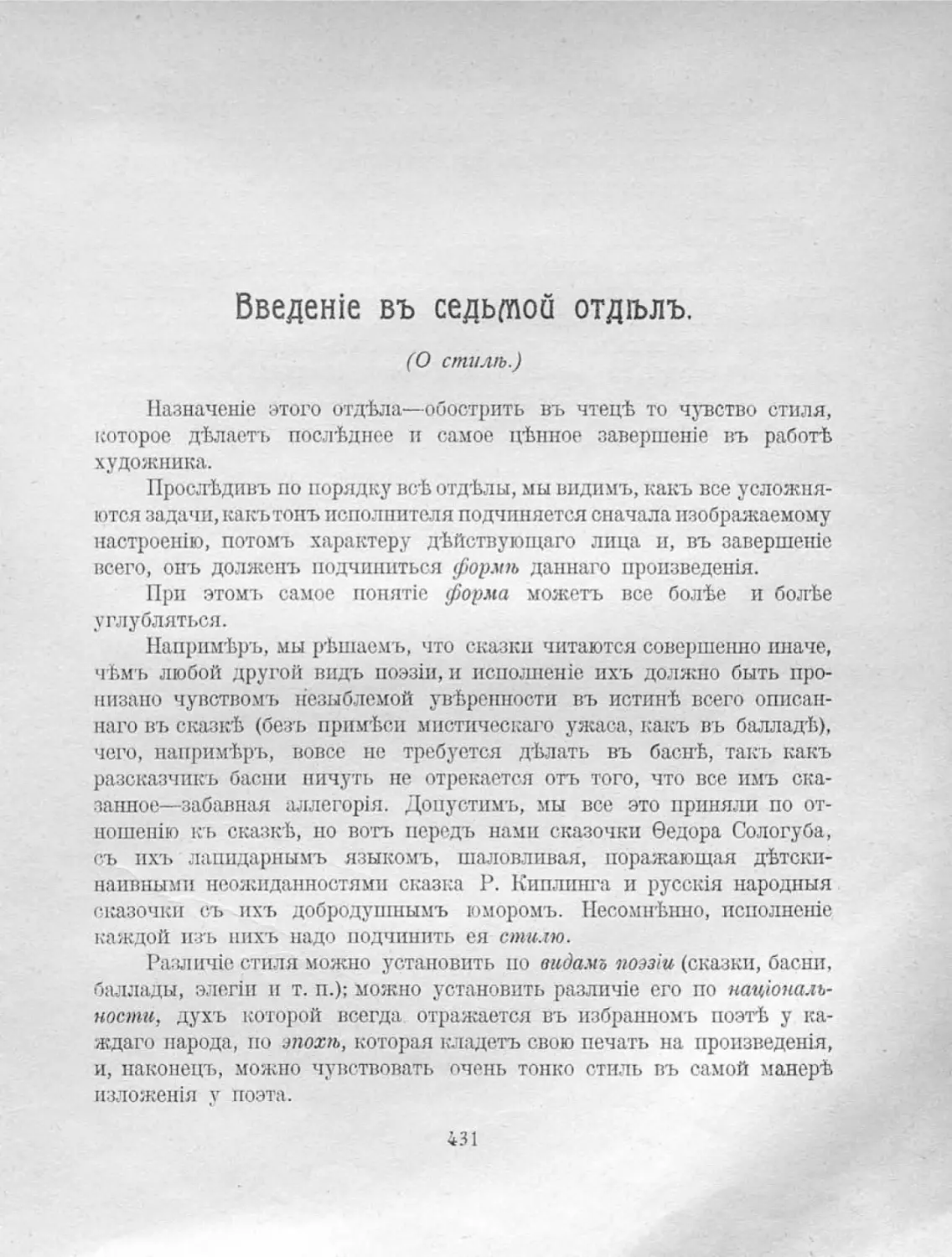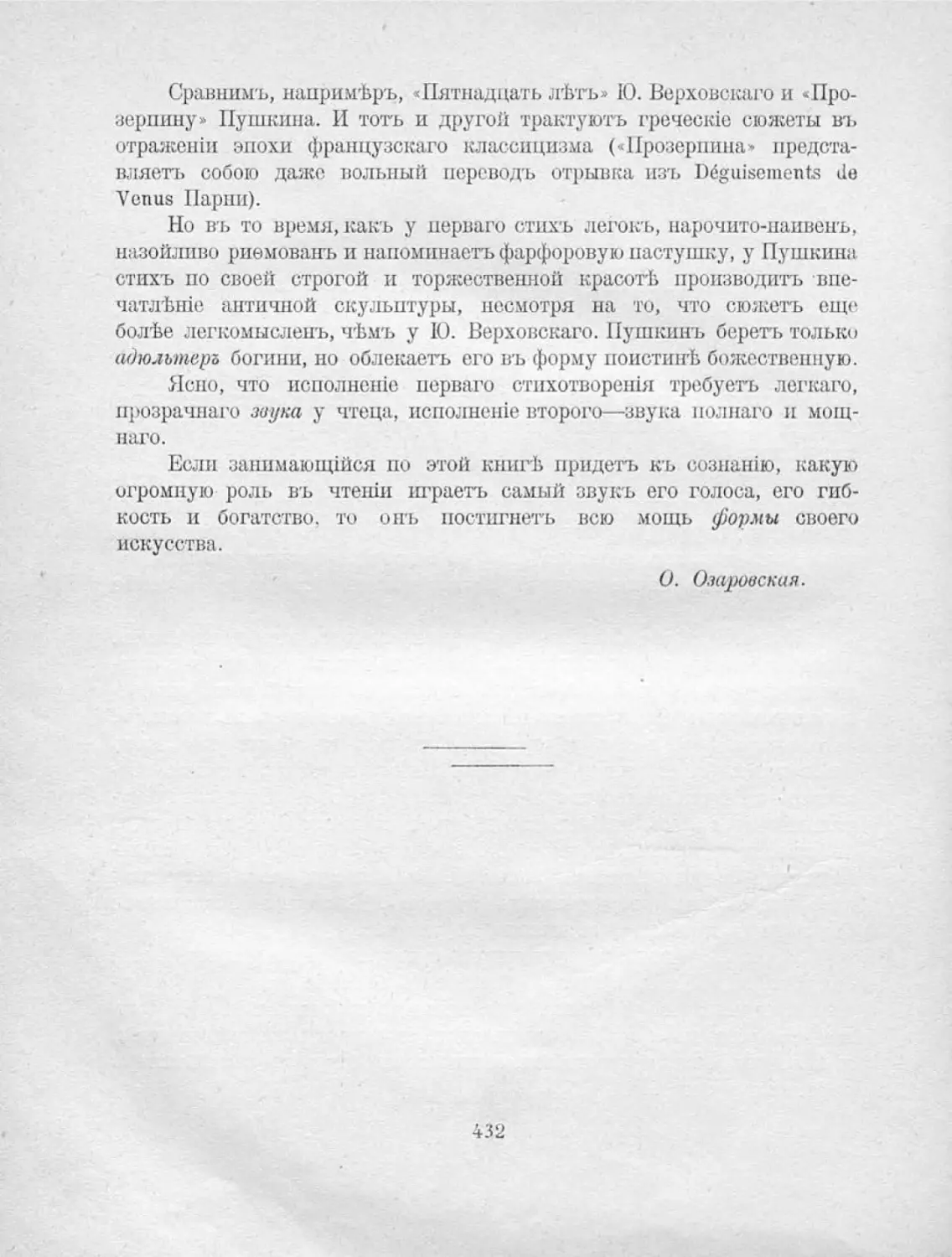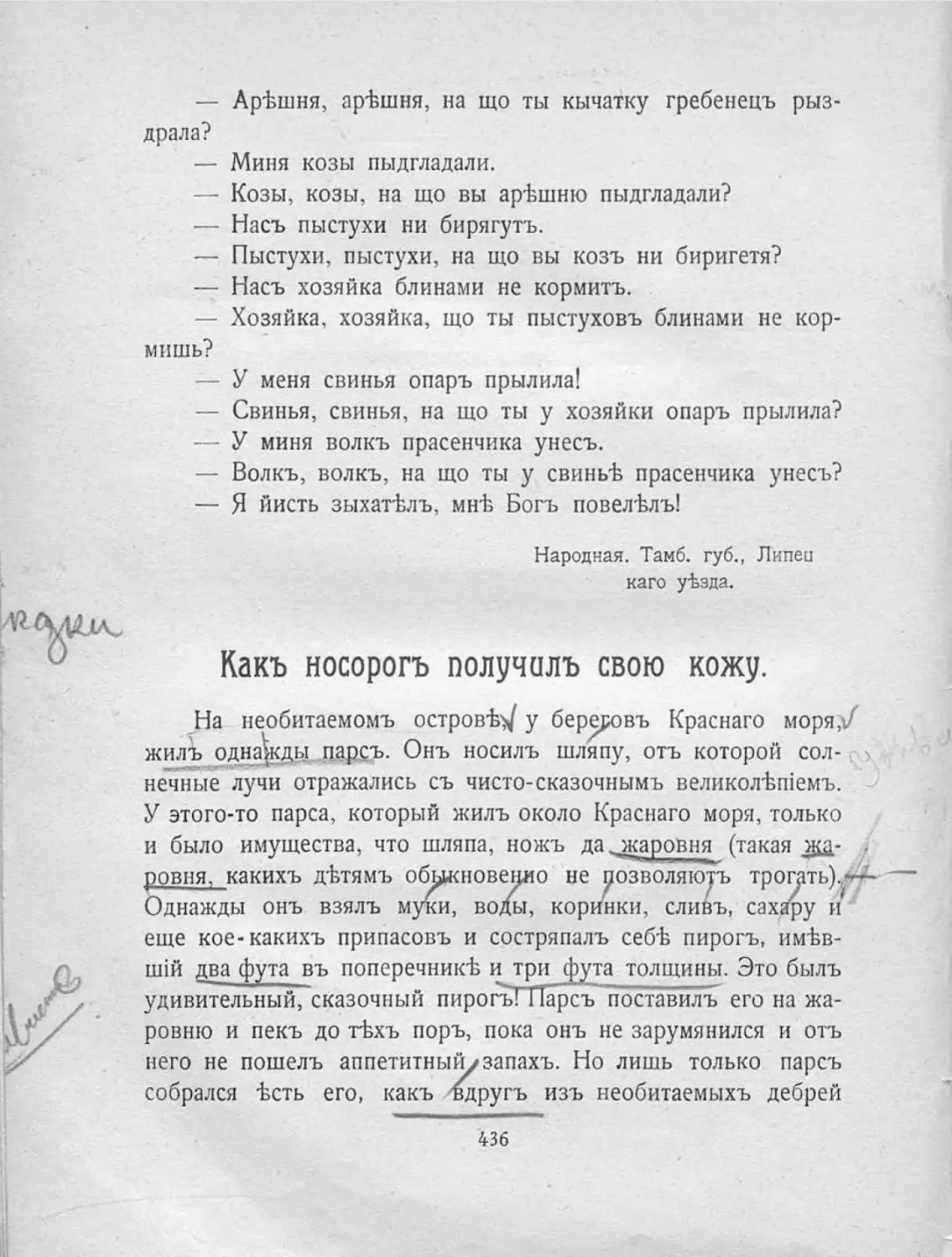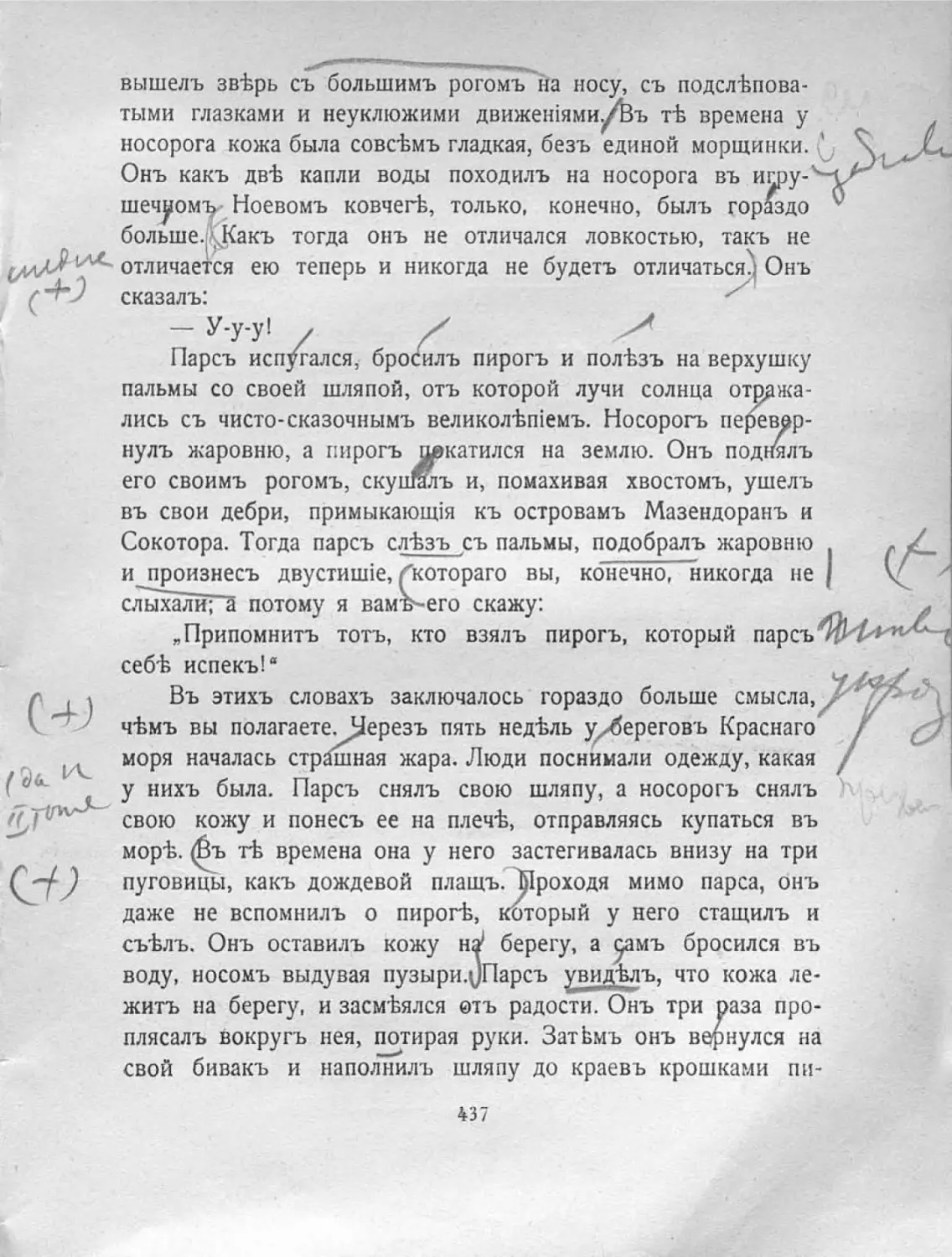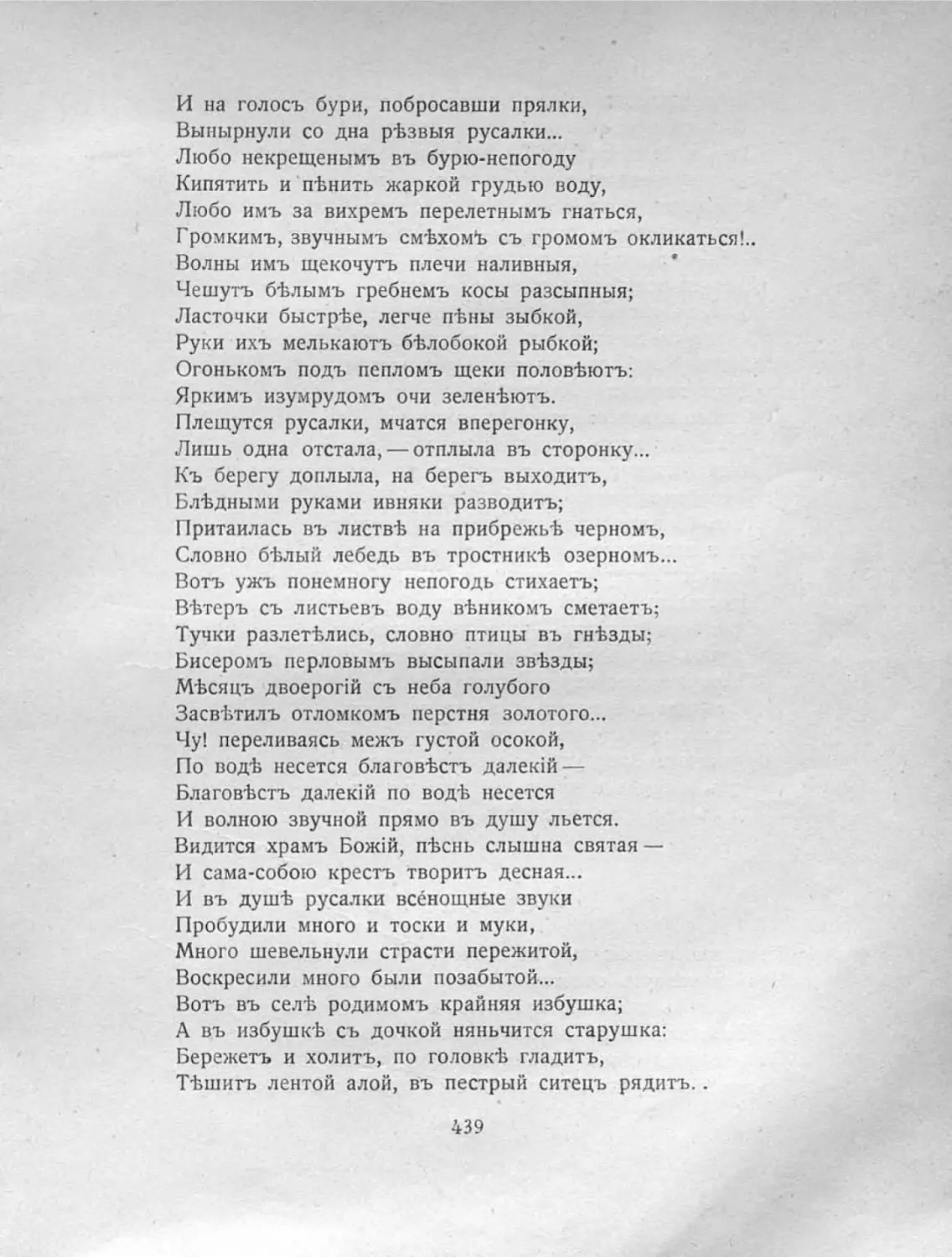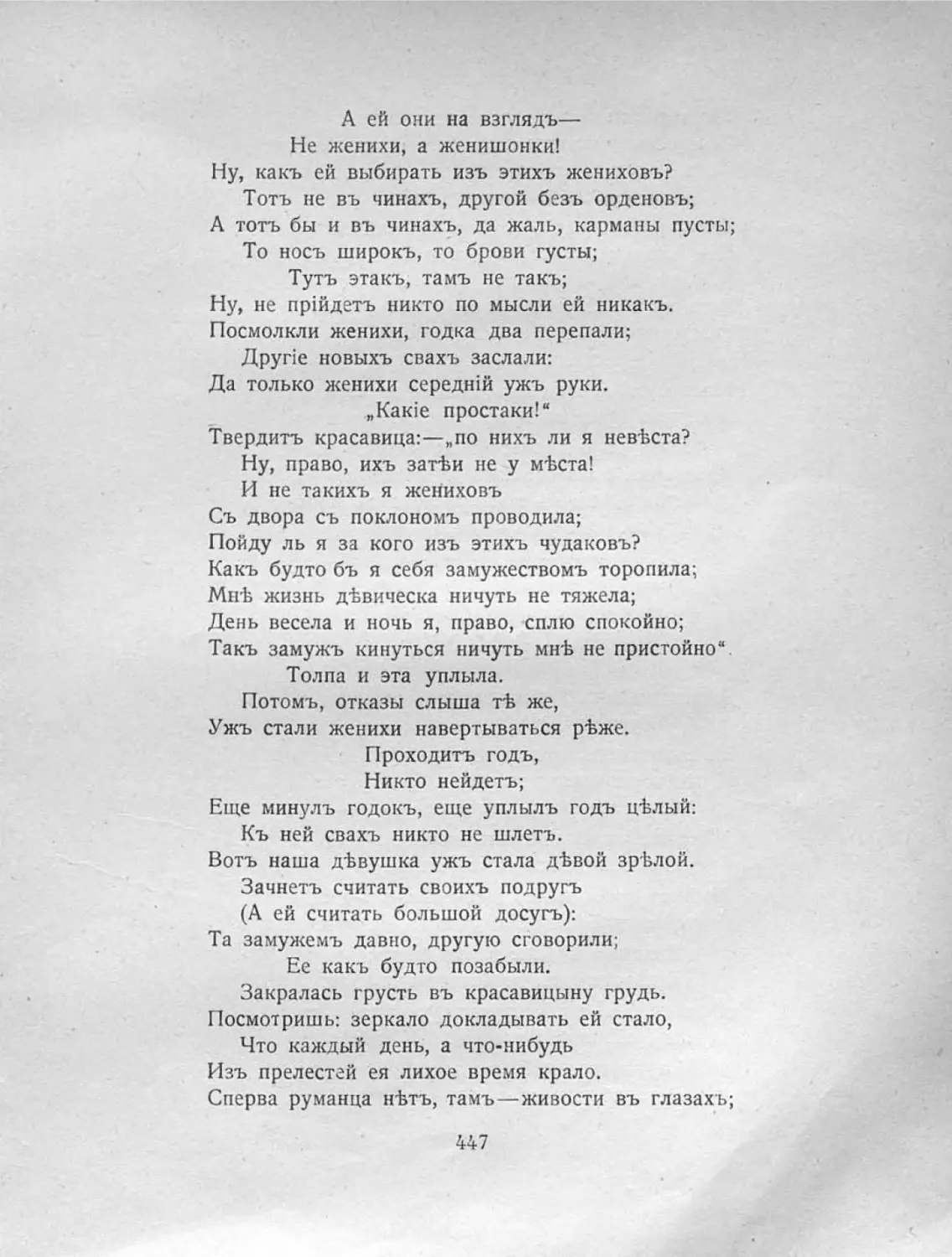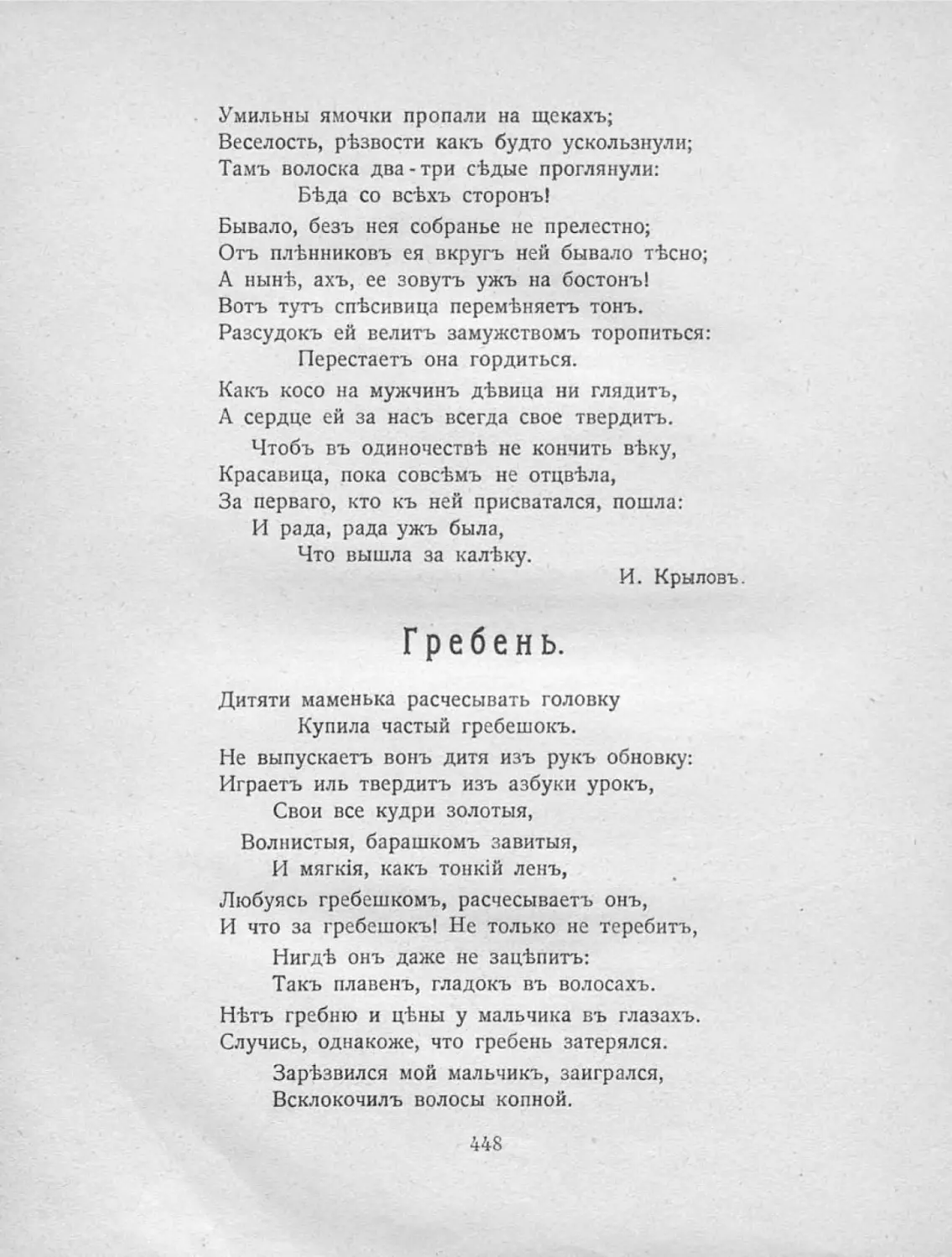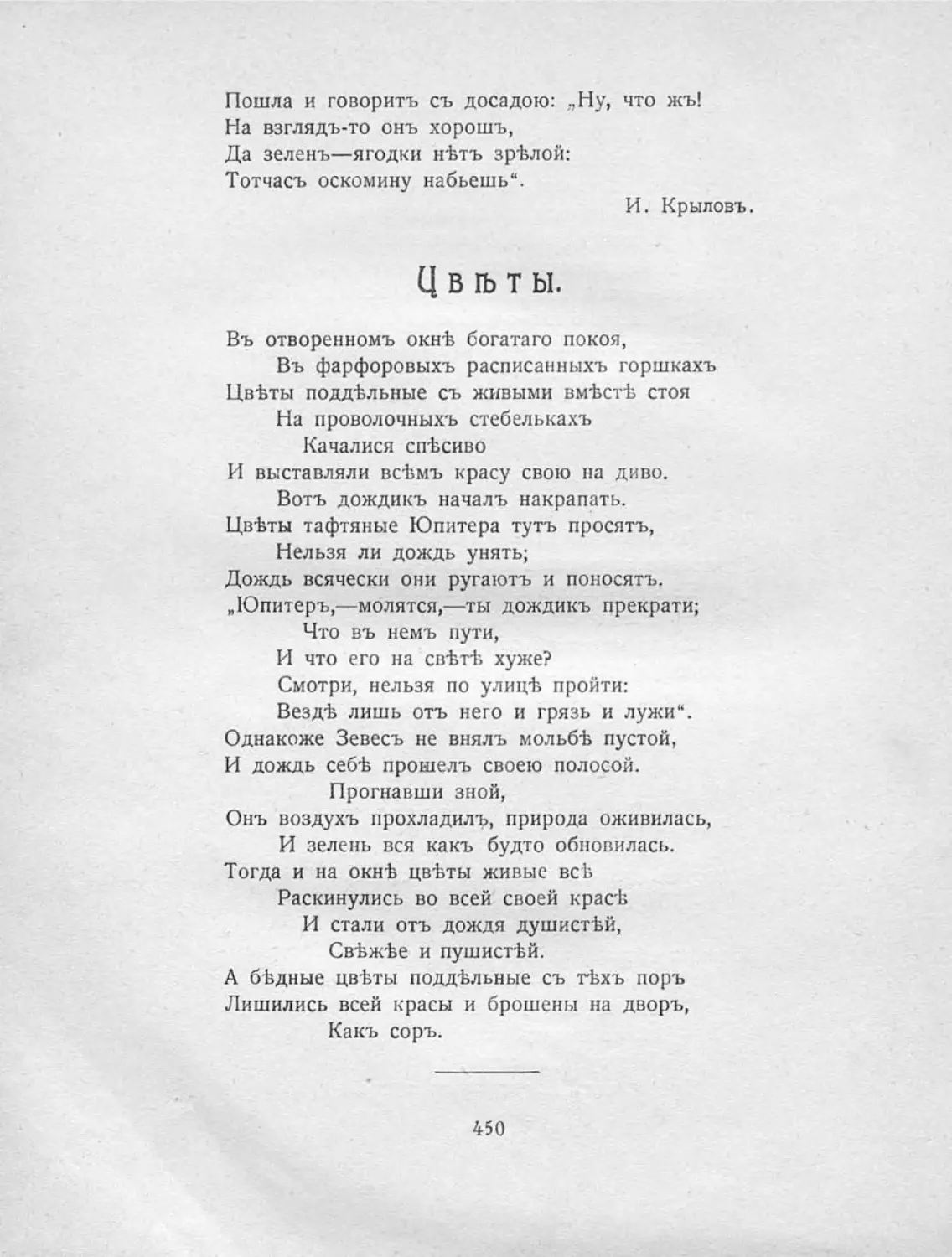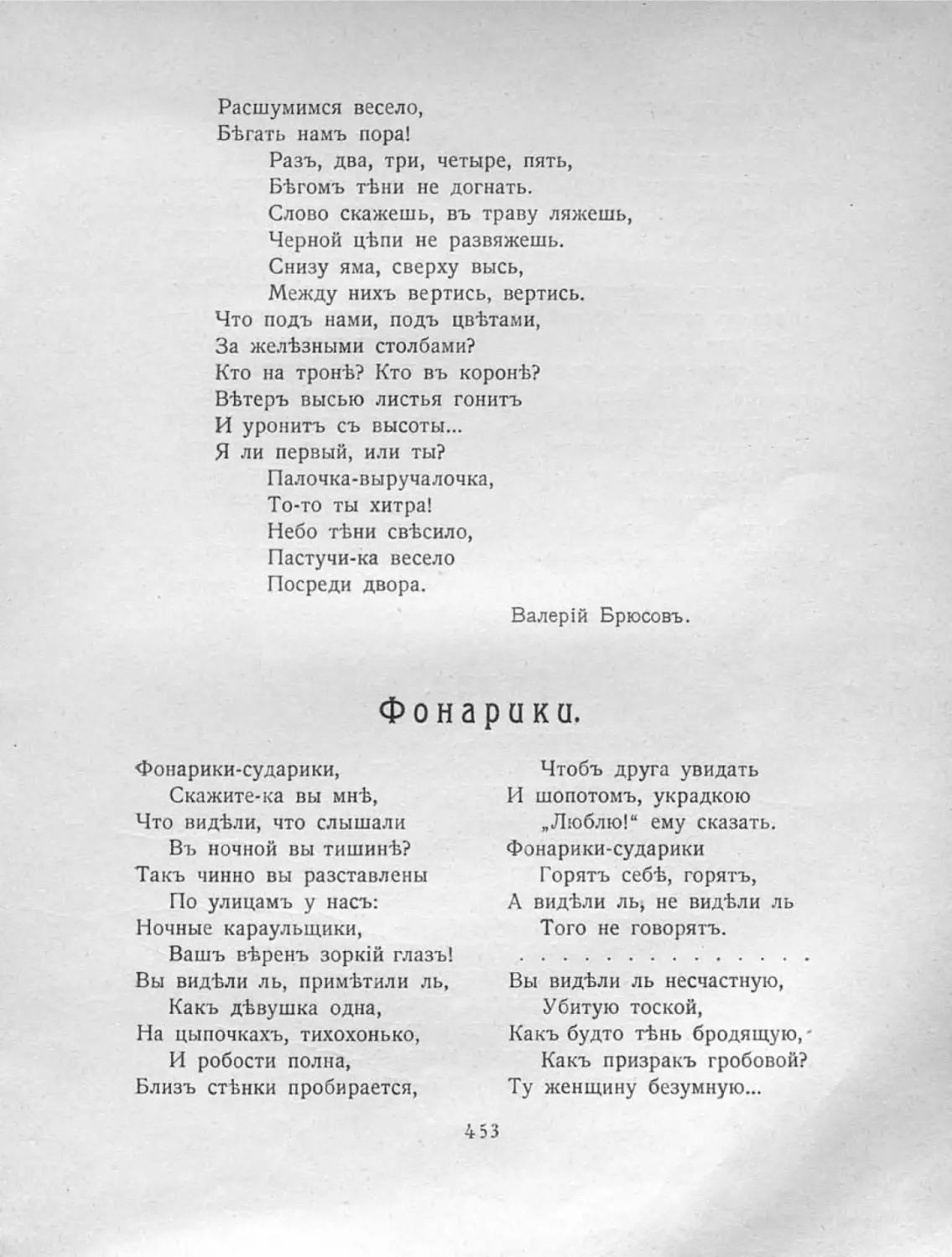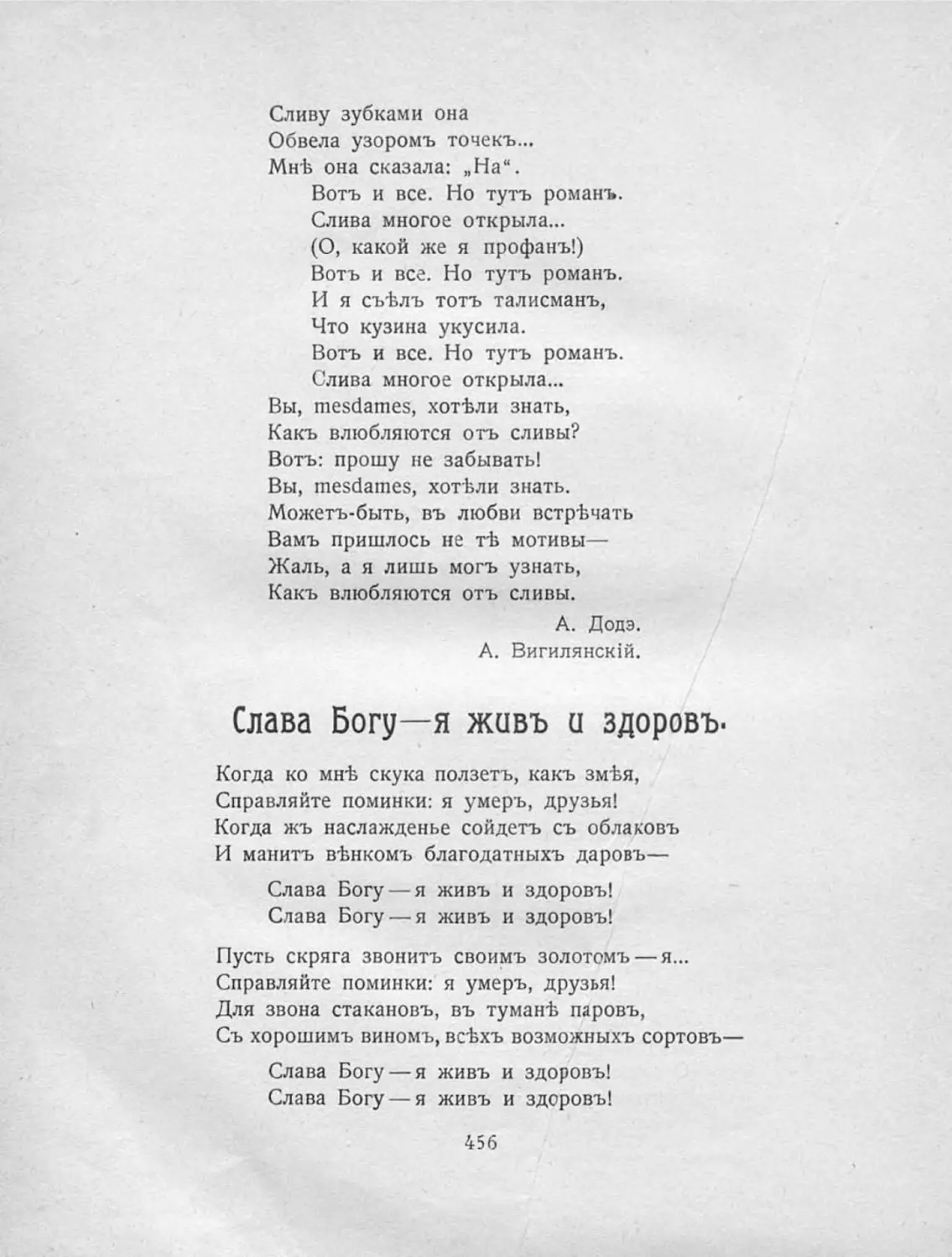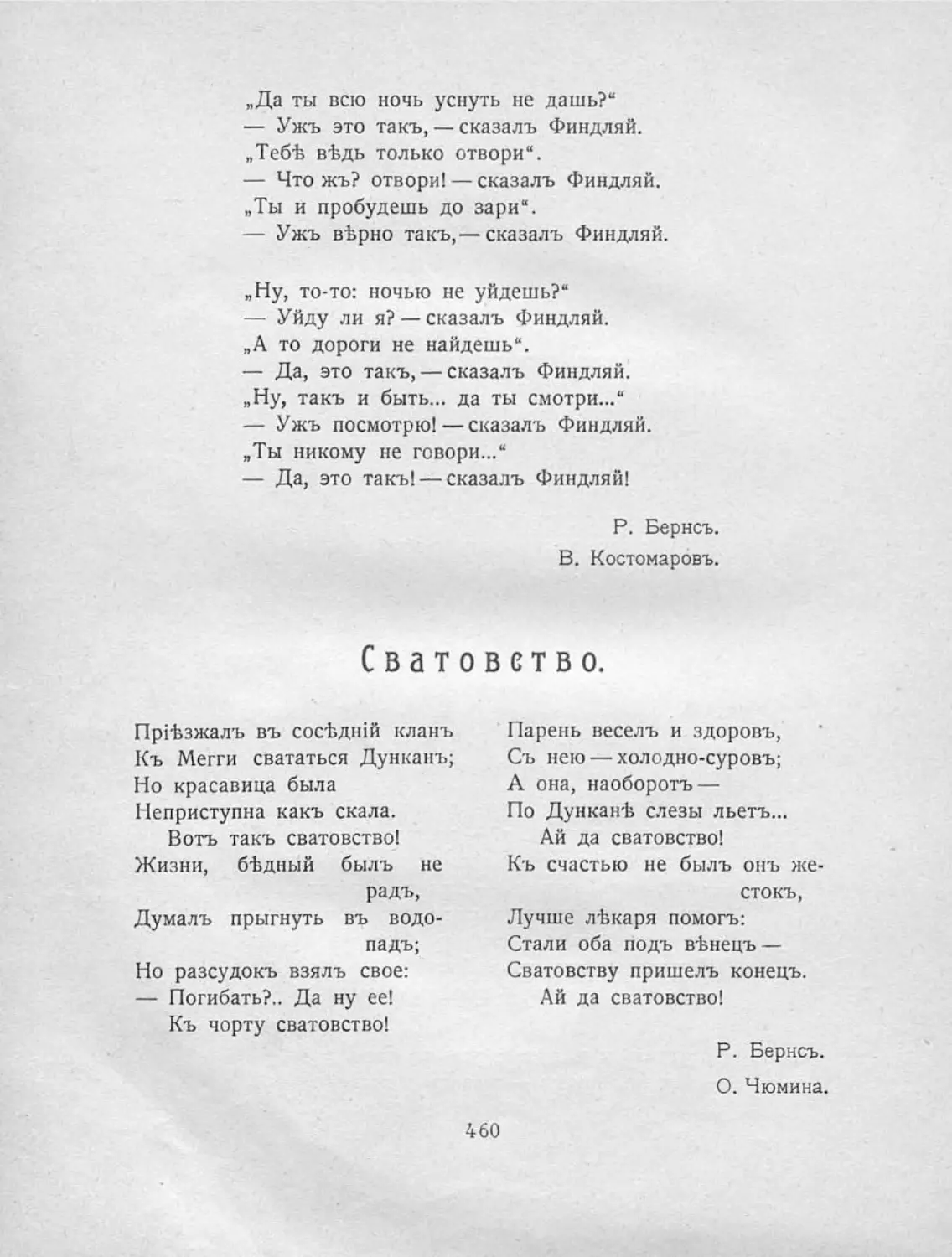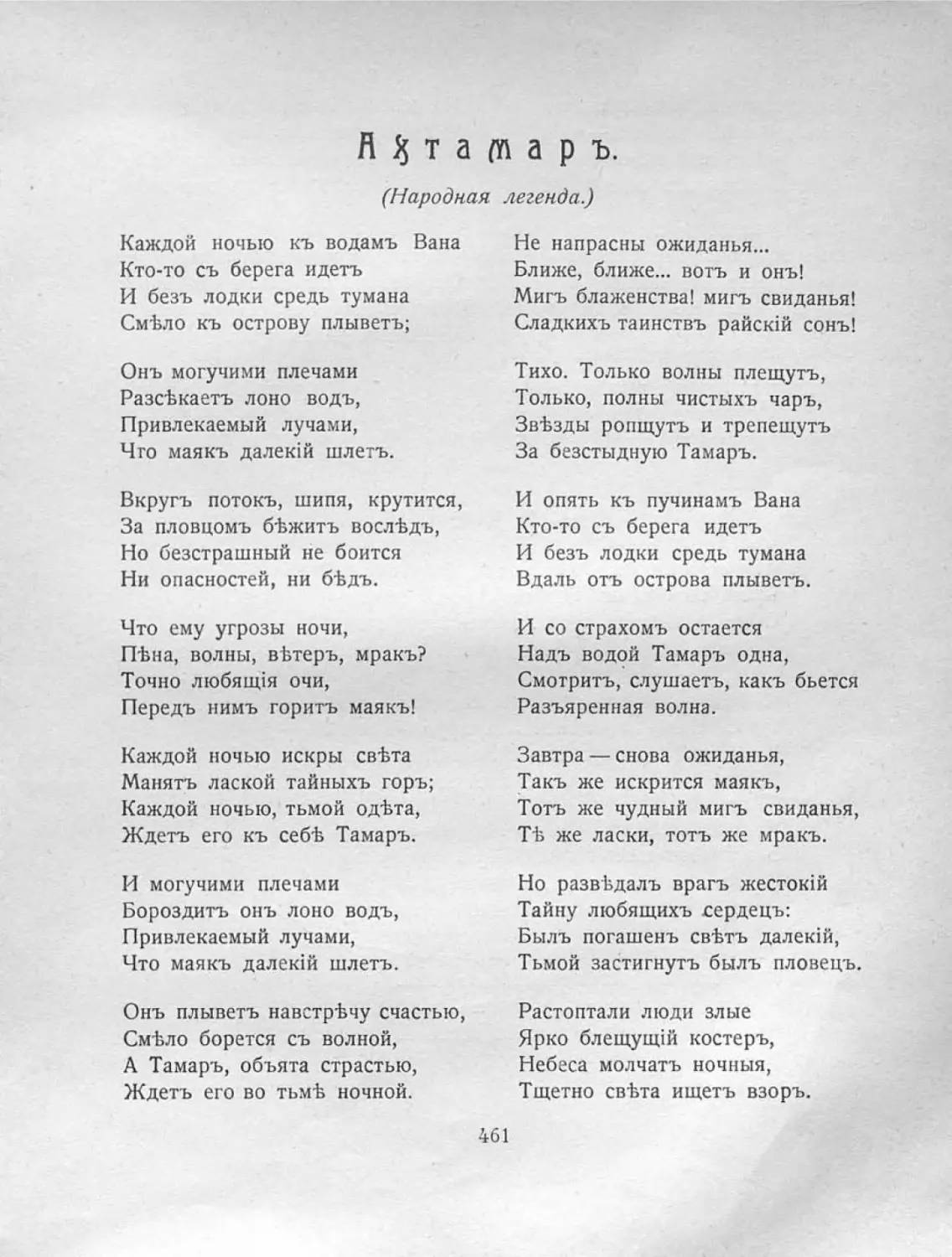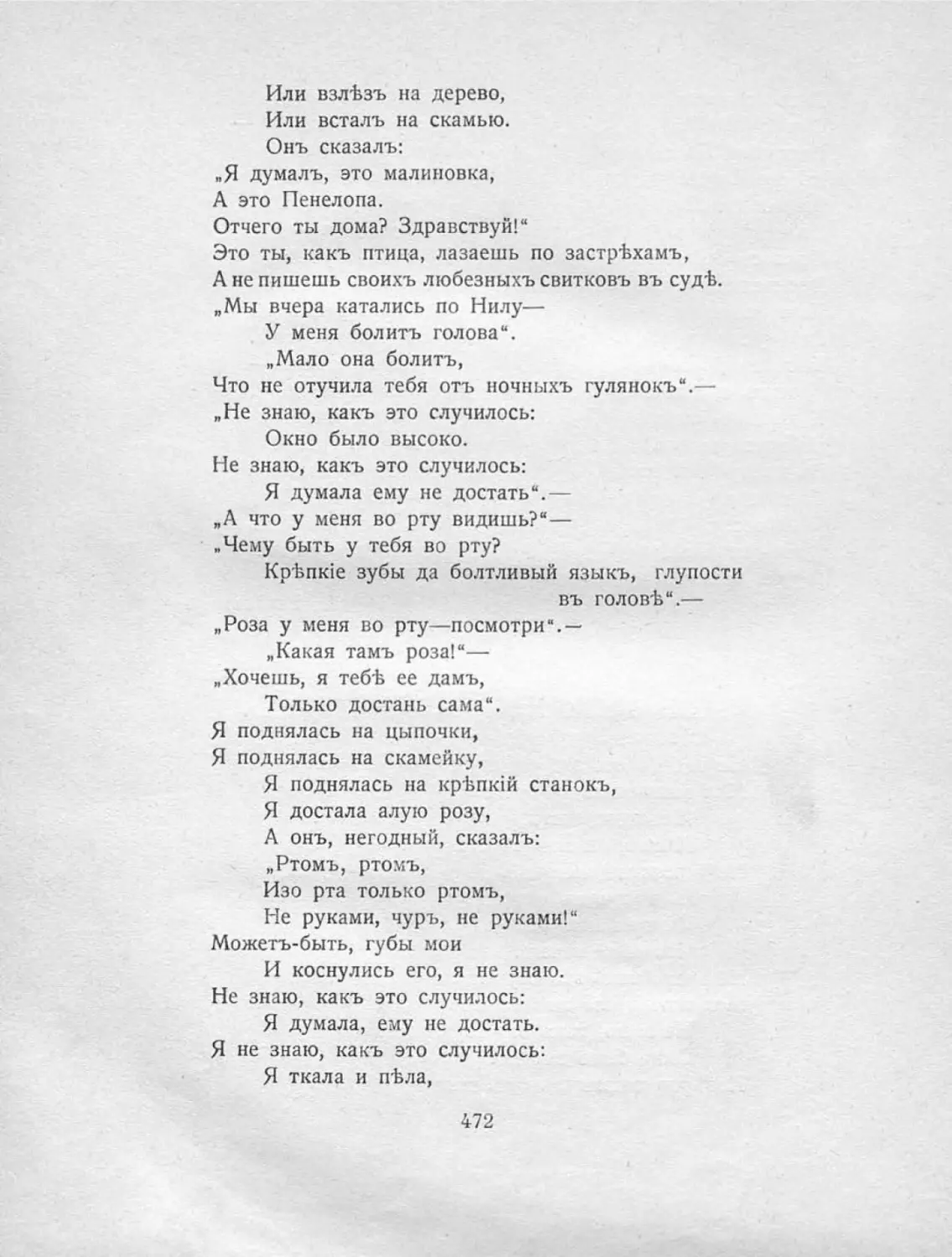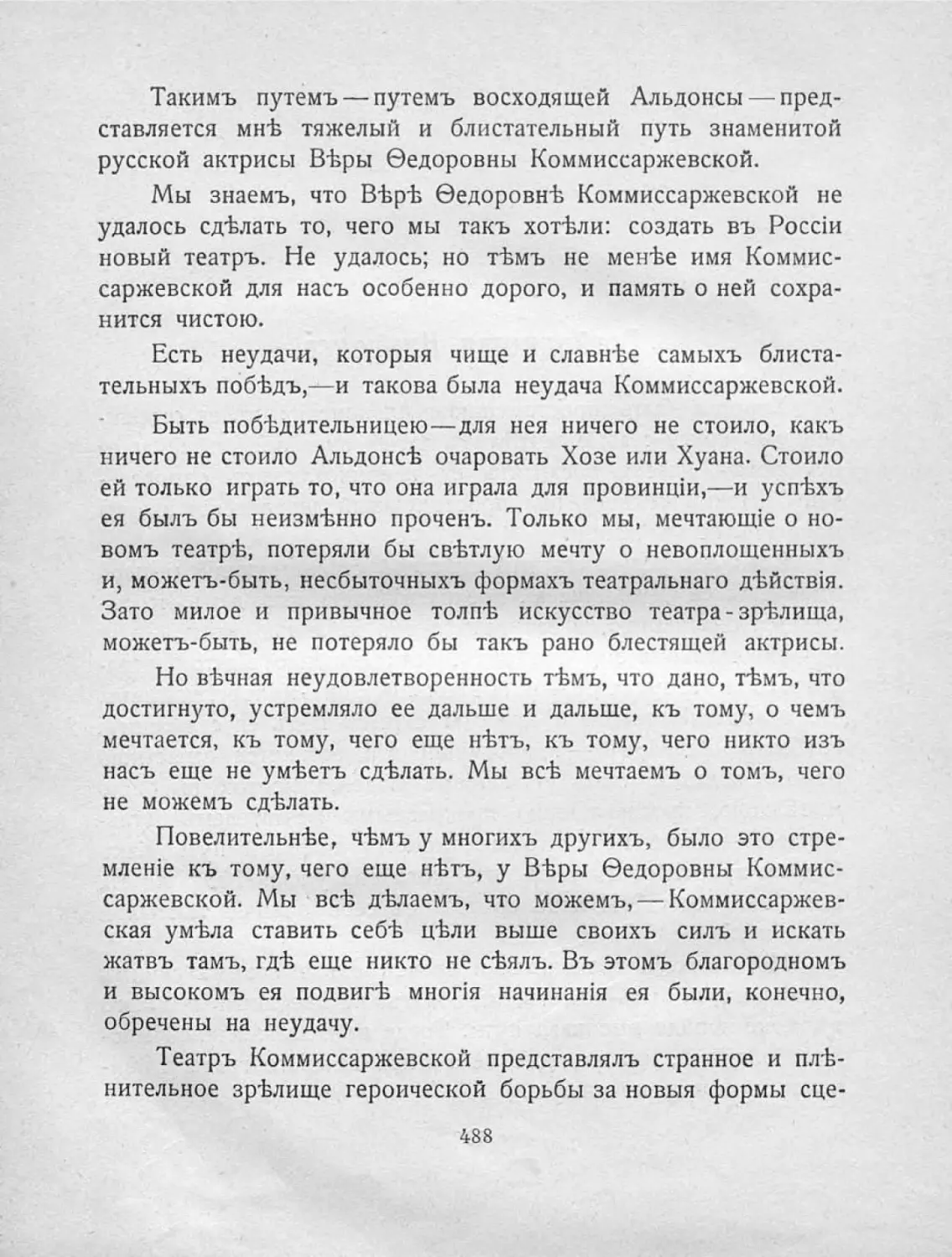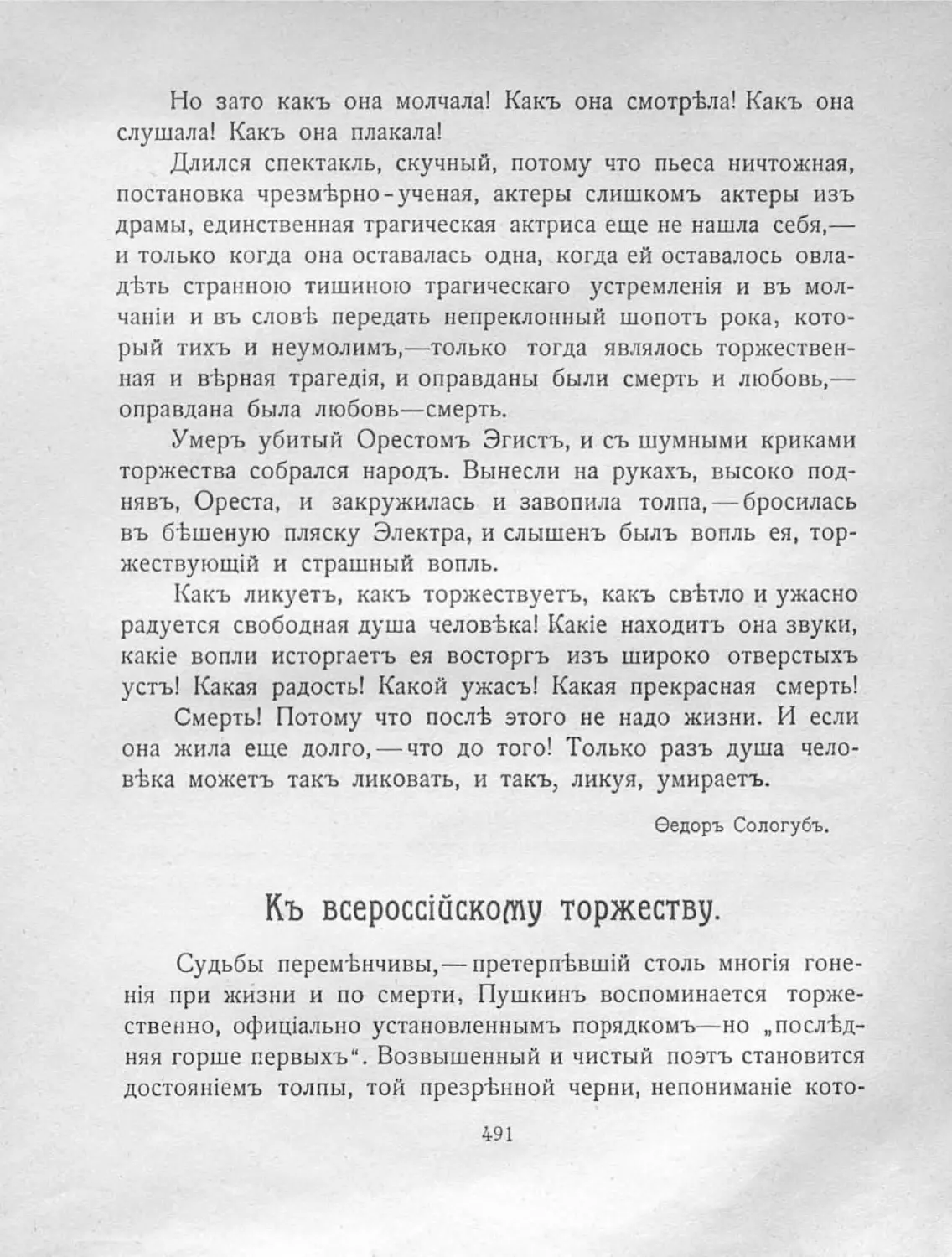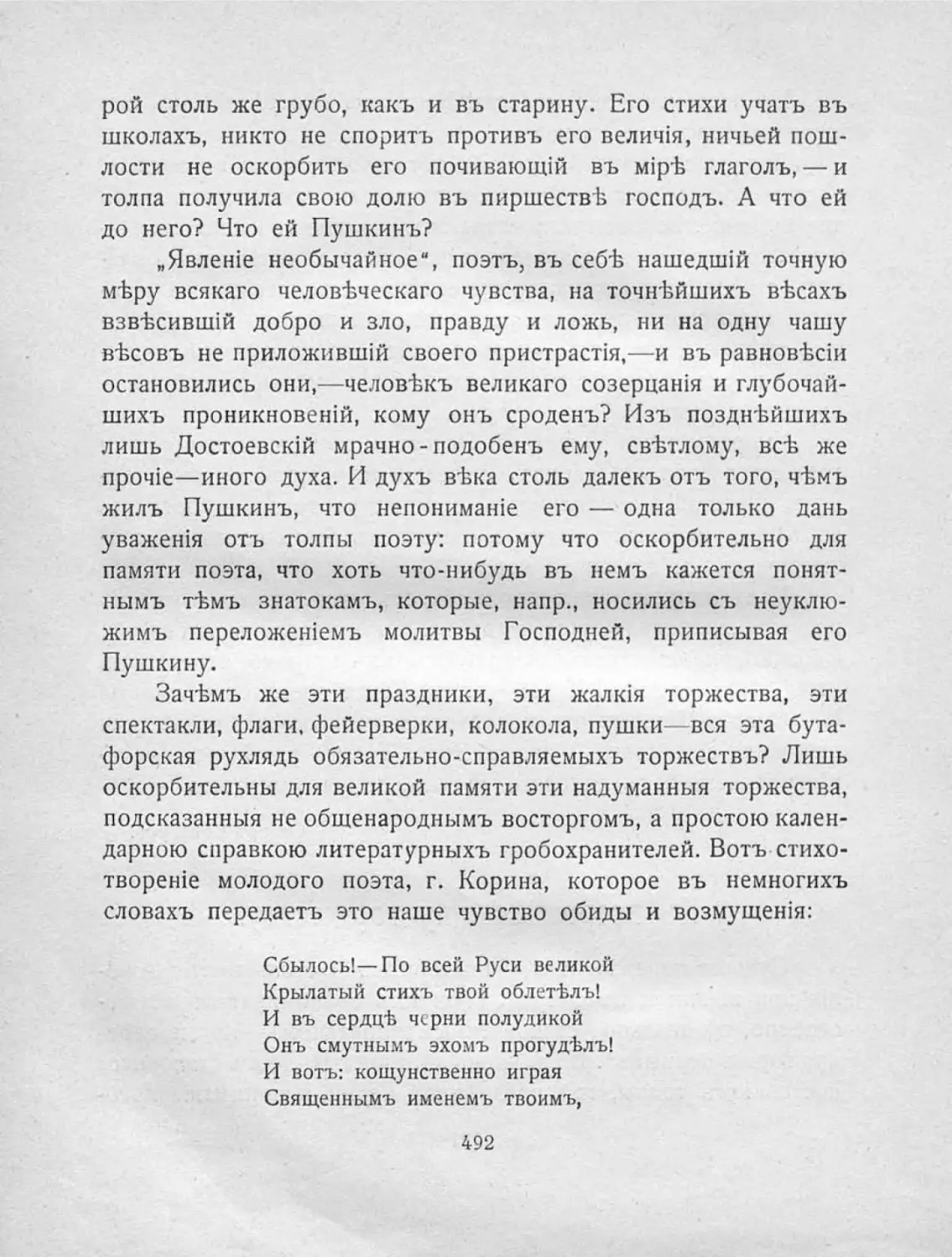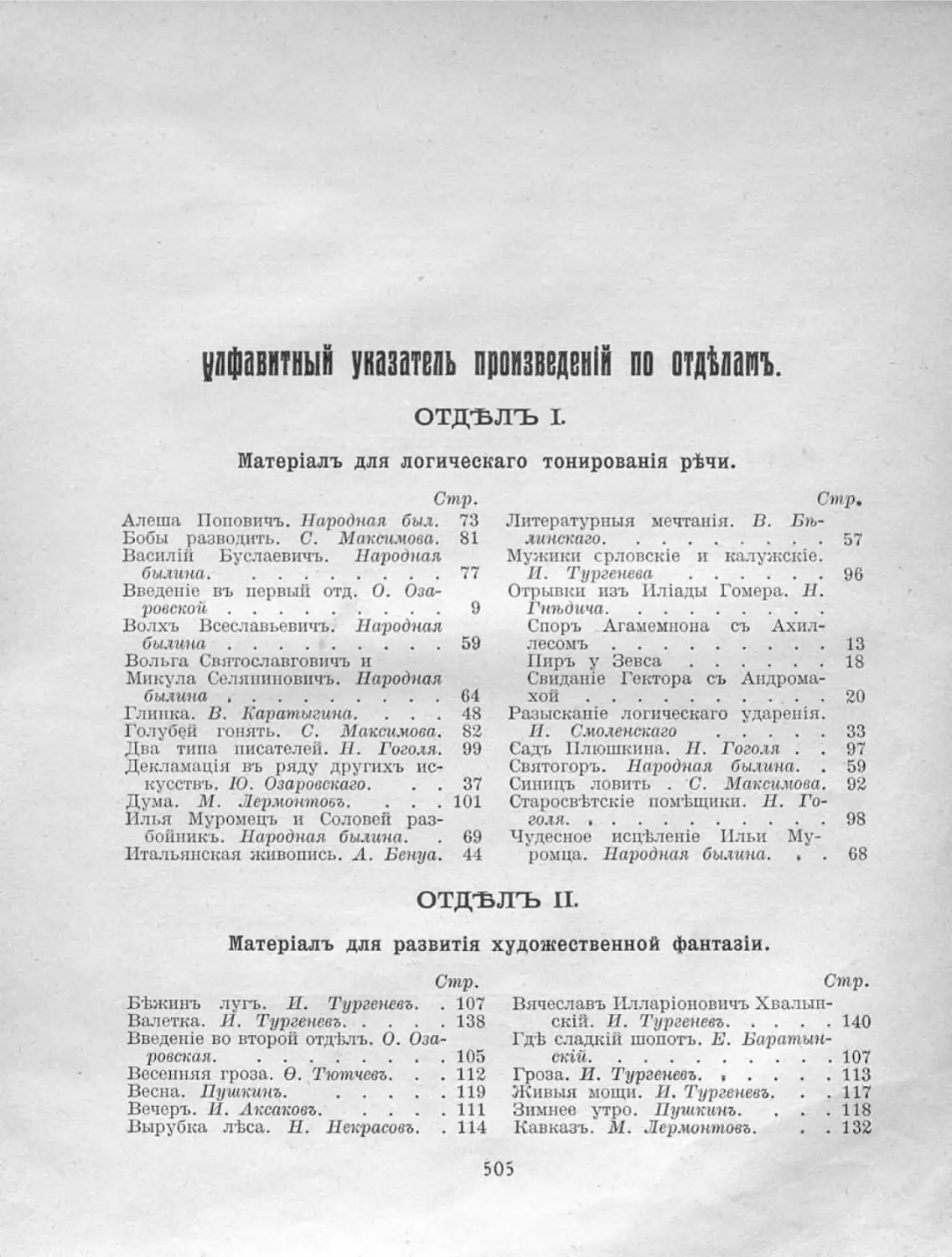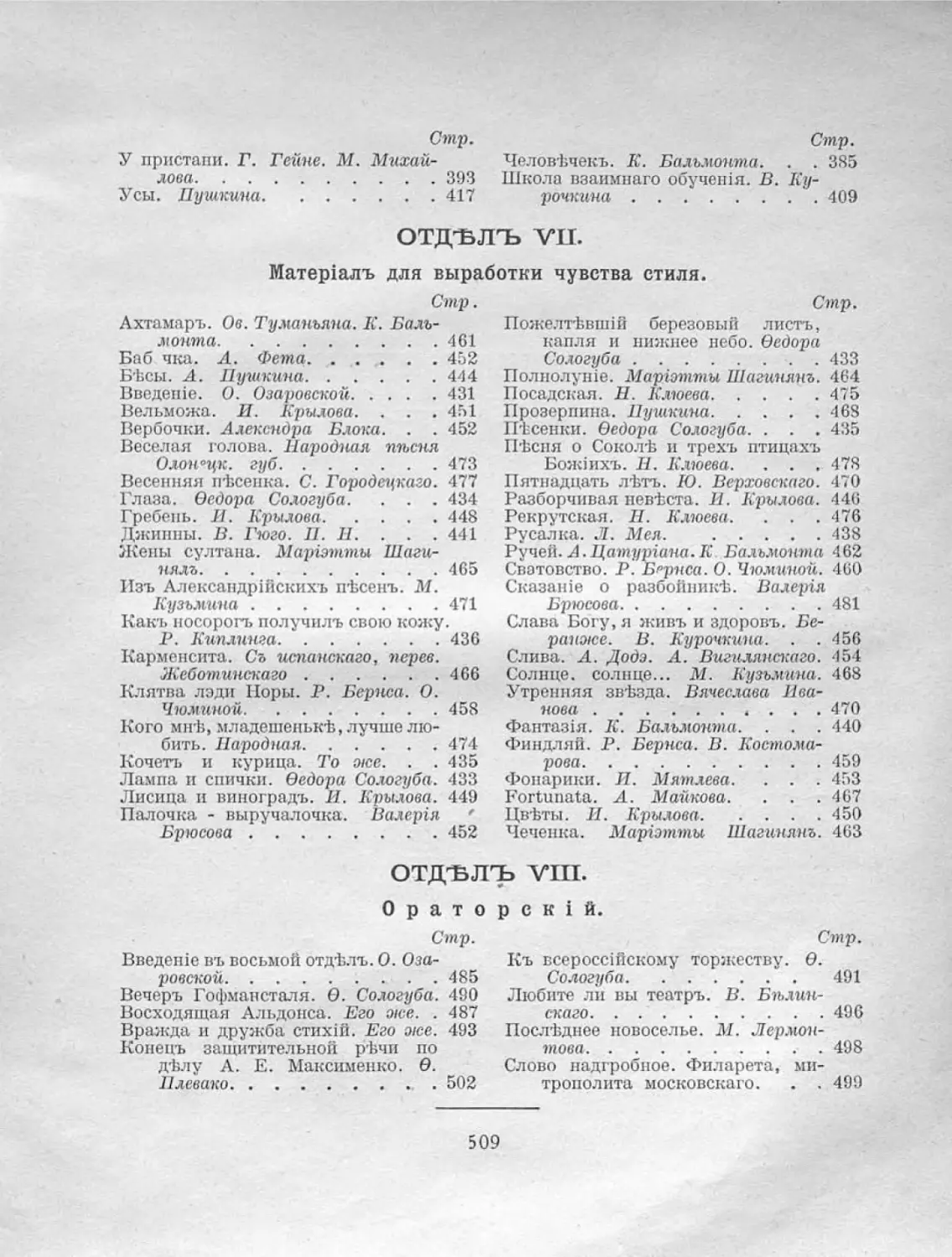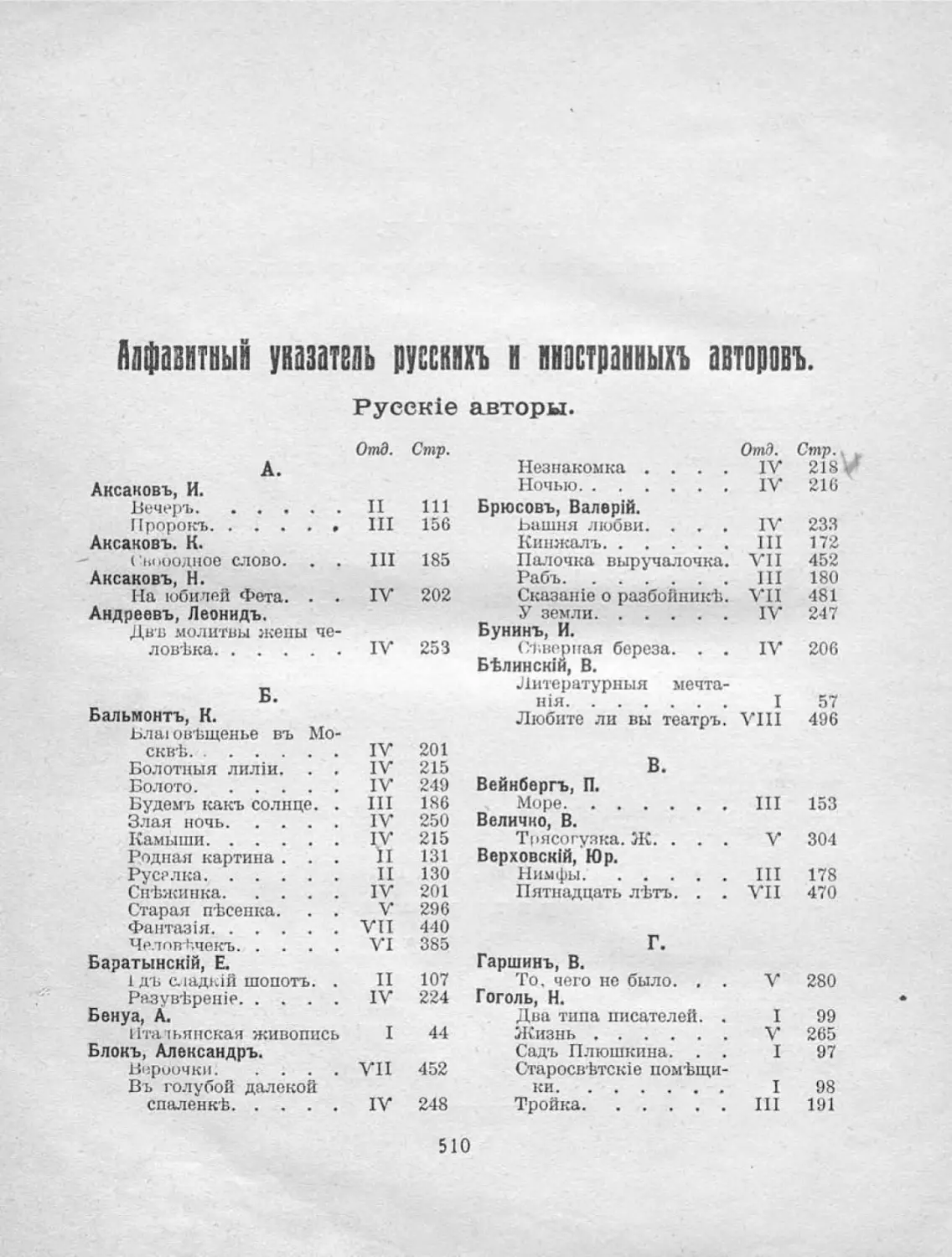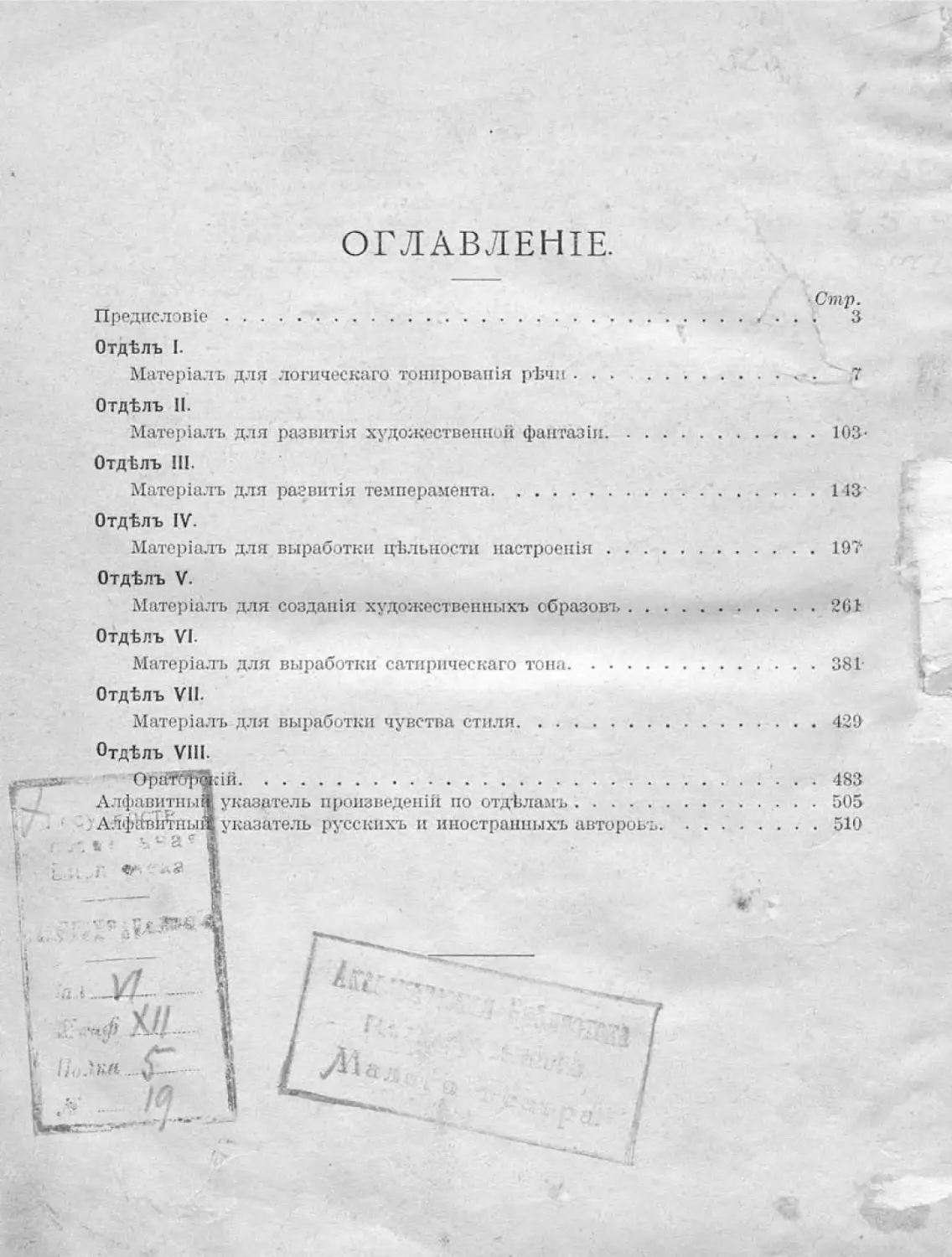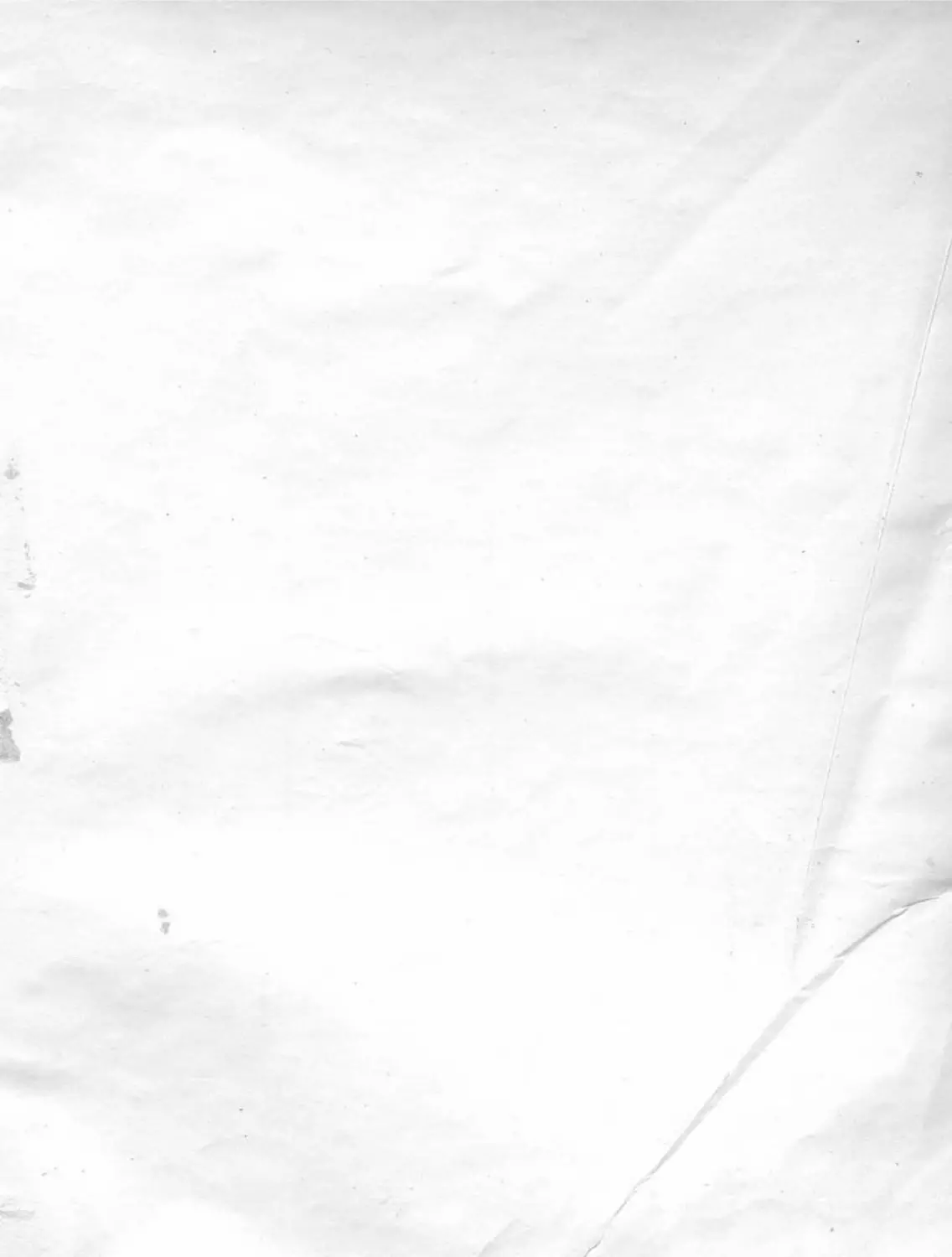Автор: Озаровская О.
Теги: педагогика ораторское искусство хрестоматія краснорѣчіе театръ исторія театра драматургія
Год: 1914
Текст
9Г.98
Ак-ад;.“ччесігая Б«отека
ГОС ЙА?СГ8ЕННОГО
а лого •’Р сафра.
ИЗ БИБЛИОТЕКИ
НЕ ВЫДАЕТСЯ
5^ .и
0-4 &
о.з. озаоовскшс.
1 ипографіл Т-ва И. Д. Сытина, Пятницкая ул., с. д.
МОСКВА,—1911.
ІА
ПРЕДИСЛОВІЕ.
Изучающему художественное чтеніе, какъ самостоятельное
искусство или какъ вспомогательный предметъ въ приложеніи
къ драматическому, необходимо имѣть подъ рукой разнооб-
разный литературный матеріалъ. Въ отвѣтъ на этотъ запросъ
давно уже откликнулись нѣкоторые составители хрестоматій
и дали таковыя, но все же выборъ ихъ не великъ, а методъ
ихъ составленія не вполнѣ удовлетворителенъ.
Составители ихъ словно всегда колебались между двумя
желаніями: дать классическіе образцы изящной словесности
(даже матеріалъ распредѣляется по отдѣламъ, носящимъ на-
званія, согласно требованіямъ теоріи словесности: былины,
описанія, элегіи, басни), и одновременно же — тѣ произведе-
нія, которыя считаются благодарными и эффектными при пу-
бличномъ исполненіи. Нечего и говорить, что послѣднія произ-
веденія въ учебной хрестоматіи являются лишь балластомъ.
Предлагаемая хрестоматія является съ моей стороны по-
пыткой дать въ систематической группировкѣ тотъ матеріалъ,
на которомъ можетъ наивыгоднѣйшимъ образомъ отточить
свое оружіе чтецъ-художникъ. Подразумѣвая подъ его воору-
женіемъ тѣ же данныя, какими долженъ обладать представитель
другого любого искусства (поэтъ, живописецъ, ваятель), т.-е.:
1) художественную фантазію,
2) темпераментъ,
з
3) чувство формы или стиля,
я рѣшила ввести въ своей книгѣ три отдѣла для разви-
тія этихъ сторонъ творчества.
Но помимо этихъ главнѣйшихъ сторонъ, надо воспитать
еще въ чтецѣ особенные, присущіе лишь его искусству,
пріемы.
Такимъ является на первомъ мѣстѣ логическое тониро-
ваніе рѣчи. Въ виду того, что въ настоящее время средняя
школа совершенно не вырабатываетъ мастерства логическаго
чтенія, преподавателю художественнаго чтенія приходится за-
ниматься и этимъ вопросомъ, такъ какъ художественное чте-
ніе должно быть въ то же время и строго логическимъ. По-
этому въ первый отдѣлъ вошелъ матеріалъ для логическаго
тонированія рѣчи. Этотъ же матеріалъ можетъ служить и для
различныхъ техническихъ упражненій при постановкѣ голоса.
Обладающій всѣми вышеуказанными дарами, т.-е. фанта-
зіей, темпераментомъ и чувствомъ формы, давая яркія картины
и вѣрно выражая всѣ эмоціи въ красиво звучащемъ словѣ, за-
частую не можетъ выдержать цѣльности настроенія на протя-
женіи всего произведенія. Для выработки постоянства тона,
въ зависимости отъ изображаемаго настроенія, здѣсь въ со-
отвѣтственномъ отдѣлѣ собранъ надлежащій матеріалъ. Вы-
дѣленъ въ особый отдѣлъ и матеріалъ для созданія художе-
ственныхъ образовъ, какъ матеріалъ для болѣе сложной и
трудной работы, когда учащійся уже достаточно подготовленъ
для нея.
Также я позволила себѣ собрать въ отдѣльную рубрику
сатиры, такъ какъ онѣ требуютъ своеобразной манеры испол-
ненія.
И наконецъ, восьмой отдѣлъ, ораторскій, заключаетъ въ
себѣ матеріалъ для выработки искусства произнесенія рѣчей.
Такое распредѣленіе матеріала, систематизирующее работу
учащагося, а не виды поэзіи, какъ это принято въ большин-
4
ствѣ хрестоматій, кажется мнѣ болѣе удобнымъ и для руко-
водителя и для учащагося.
На основаніи такого распредѣленія, басни, напримѣръ,
частью отнесены мною въ отдѣлъ для развитія чувства стиля,
(„Гребень", „Цвѣты", „Разборчивая невѣста"), частью же въ
отдѣлъ для созданія художественныхъ образовъ: это тѣ изъ
нихъ, въ которыхъ центръ тяжести предстоящей обработки
падаетъ не на языкъ самого автора и мораль, а на рѣчи дѣй-
ствующихъ лицъ („Моръ звѣрей", „Демьянова уха").
Лица, не согласныя съ моимъ распредѣленіемъ матеріала
и не видящія въ такомъ распредѣленіи облегченія для себя,
все же найдутъ въ этой книгѣ большое количество строго
литературныхъ образцовъ какъ старыхъ классиковъ, такъ и
современныхъ поэтовъ.
Каждому отдѣлу я предпосылаю введеніе, болѣе по-
дробно выясняющее цѣли, которыя онъ преслѣдуетъ.
О. Озаровская.
5
длалогИусс
КДГО ТОПИРО
Б4ГІІА РЙИ.
Введеніе въ первый отдіьлъ.
(О логическомъ тонированіи рѣчи.)
Для пользованія настоящимъ отдѣломъ необходимы нѣкоторыя
разъясненія.
Подъ логическимъ тонированіемъ я подразумѣваю тѣ музыкаль-
ныя формы, въ которыя облекается рѣчь при одномъ только желаніи
говорящаго: какъ можно ярче и .понятнѣе передать данную мысль.
Это тонированіе рѣчи зависитъ не только отъ распредѣленія логиче-
скихъ удареніи, но также и отъ знаковъ препинанія, которые помимо
паузъ требуютъ еще повышеній и пониженій тона для наилучшаго
выдѣленія: сочиненности и подчиненности идей, утвержденія, вопроса
и финала рѣчи. Финалъ мысли, обозначаемый въ грамматикѣ точкой,
точкой съ запятой, въ русской рѣчи всегда тонируется пониженіемъ.
Двоеточіе слѣдуетъ тому же закону. Запятыя, выдѣляя обращенія,
придаточныя предложенія, требуютъ: либо чтенія таковыхъ цѣликомъ
въ иной тональности нежели главное, либо, по крайней мѣрѣ, раз-
ности въ тонѣ тѣхъ двухъ словъ, между которыми онѣ стоятъ.
Приложенія всегда и придаточныя опредѣлительныя иногда читаются
на одной высотѣ съ тѣмъ словомъ ’), которое опредѣляютъ. Тире
требуетъ такого же тонированія, какъ и запятыя.
Не всегда, однако, знаки препинанія, поставленные по требованію
грамматики, удовлетворяютъ требованіямъ логики, и при чтеніи вслухъ
•? Говоря о высотѣ тона въ словѣ, я подразумѣваю высоту ударяемаго слога и
оговариваюсь, что считаю грамматическое удареніе въ русскомъ языкѣ не только
экспираторнымъ, но и музыкальнымъ.
9
объ этомъ слѣдуетъ помнить. Такъ, напримѣръ, у Лермонтова:
«и хищный звѣрь, и птица, кружась въ лазурной высотѣ, глаголу
водъ его внимали». Если мы послѣ слова «птица» сдѣлаемъ паузу,
указанную запятой, и пониженіе или повышеніе слѣдующаго предло-
женія, то получимъ безсмыслицу: окажется, что и звѣрь, и птица
оба кружатся въ лазурной высотѣ. Логика велитъ здѣсь пренебречь
запятой и придаточное предложеніе читать на одной высотЬ со сло-
вомъ «птица», безъ паузы послѣ него. Для этихъ случаевъ я пред-
лагаю такой знакъ: (перечеркнутую запятую).
Нельзя такъ же упускать изъ виду, что логика часто требуетъ
знака препинанія, котораго грамматика не хочетъ знать. Объ этомъ
не разъ упоминалось какъ въ трактатахъ по логикѣ, такъ и спеціали-
стами по выразительному чтенію. Его предлагали изображать верти-
кальной чертой и назвать «тактомъ»; пауза, имъ опредѣляемая, иногда
можетъ быть очень значительна. Для уясненія необходимости этого
знака достаточно вспомнить классическій примѣръ:
Опи кормили его мясомъ своихъ собакъ.
Остается неизвѣстнымъ: кормили ли его собачьимъ мясомъ, или
наоборотъ:—его мясомъ кормили своихъ собакъ.
Новый знакъ, поставленный въ двухъ случаяхъ на различныхъ
мѣстахъ, сразу уяснилъ бы дѣло:
Они кормили его | мясомъ своихъ собакъ. Или
Они кормили его мясомъ | своихъ собакъ.
Этотъ знакъ такъ же, какъ и запятая, кромѣ паузы влечетъ за
собой и разницу въ тонѣ рядомъ стоящихъ словъ (въ первомъ случаѣ
его и мясомъ, во-второмъ—мясомъ и своихъ). Новый знакъ * особенно
часто приходится примѣнять послѣ союза и, передъ придаточнымъ
предложеніемъ, а передъ и вставлять новый знакъ такта, чтобы въ
чтеніи приблизиться къ живой рѣчи. Въ самомъ дѣлѣ, мы никогда
въ разговорѣ не дѣлаемъ остановки подобно слѣдующей:
«Мы долго блуждали по рынку и, сдѣлавши всѣ нужныя закупки,
поспѣшили домой».
Но мы говоримъ:
«Мы долго блуждали по рынку | и} сдѣлавши всѣ нужныя за-
купки, поспѣшили домой».
Выраженія въ скобкахъ читаются обыкновенно въ пониженномъ
тонѣ сравнительно съ остальнымъ текстомъ.
10
Вопросительный знакъ требуетъ особеннаго повышенія того слова,
на которое падаетъ логическое удареніе и которое заключаетъ суть
вопроса.
Иль тянетъ тебя изъ земныя неволи
Далекое, свѣтлое небо къ себѣ?
(В. Жуковскій.)
Утвердительный отвѣтъ на вопросъ, если онъ выражается фразой,
начинается пониженнымъ тономъ, идетъ кверху и падаетъ внизъ.
Та же музыкальная мелодія сохраняется иногда и въ одномъ утвер-
дительномъ словѣ, падая на очень растянутую обыкновенно въ этомъ
случаѣ ударяемую гласную.
Остальные знаки: восклицательный и кавычки суть знаки драма-
тическаго характера. Первый выражаетъ эмоцію, второй указываетъ
на принадлежность слѣдующихъ дальше словъ иному дѣйствующему
лицу. Иногда, впрочемъ, кавычки, подобно курсиву, указываютъ
на особенное скрытое значеніе даннаго слова, а потому, строго говоря,
тоже выходятъ изъ круга задачъ логическаго тонированія.
Но для обобщенія введемъ въ логическое чтеніе тонированіе и
этихъ знаковъ.
Восклицательный знакъ требуетъ бблыпей силы въ произношеніи
слова, послѣ котораго стоить. Кавычки, обозначающія вносную рѣчь,
требуютъ новаго начальнаго тона, а кавычки, равносильныя курсиву,
требуютъ особенной значительности или подчеркнутости въ способѣ
произнесенія словъ.
Такъ какъ разысканіе логігческихъ удареній представляетъ зна-
чительныя затрудненія, то мною даны образцы съ обозначеніемъ ло-
гическихъ удареній по способу, предложенному г. Смоленскимъ (см.
его сочиненіе: <0 логическомъ удареніи» Одесса, изд. Распопова).
Такъ какъ логическое удареніе выражается усиленіемъ грамма-
тическаго, то оно и обозначается съ помощью жирной ударяемой
гласной. Въ этихъ же образцахъ разставлены и новые логическіе знаки
препинанія—такты. Называя каждую часть предложенія, заключенную
между двумя знаками препинанія, рѣчевымъ тактомъ, замѣтимъ, что
вь каждомъ такомъ рѣчевомъ тактѣ не можетъ быть больше одного
логическаго ударенія.
Нѣкоторыя фразы бываютъ такъ построены, что въ нихъ съ
полнымъ правомъ логическія ударенія могутъ быть разставлены двоя-
11
кимъ или троякимъ способомъ. Такія ударенія я предлагаю называть
неопредѣленными; это не значитъ, что они дѣлаются неопредѣленно,
наоборотъ: учащійся долженъ очень опредѣленно предпочесть одинъ
способъ разстановки другому и дать очень яркія логическія уда-
ренія. Примѣромъ произведенія со множествомъ неопредѣленныхъ
логическихъ удареній можетъ служить стихотвореніе М. Лермонтова
«Дума».
При чтеніи предлагаемыхъ образцовъ учащійся долженъ хорошо
сознавать, отчего онъ мѣняетъ тонъ въ данномъ словѣ: оттого ли,
что на него падаетъ логическое удареніе, или оттого, что послѣ него
стоитъ знакъ прспипапія, или отъ той и другой причины вмѣстѣ.
Таково въ краткихъ чертахъ логическое тонированіе рѣчи у рус-
скаго образованнаго человѣка, умѣющаго пользоваться музыкальными
формами для яркой, выпуклой лѣпки своихъ собственныхъ или
читаемыхъ въ книгѣ мыслей.
Говорить же о томъ, что такихъ умѣлыхъ людей очень мало,
значитъ повторять старую избитую истину.
Я обращаю особенное вниманіе преподающихъ на статьи С. Ма-
ксимова. Своеобразная красота его изумительнаго языка совершенно
исчезаетъ въ иеумѣломъ сбивчивомъ чтеніи и выступаетъ съ особен-
ной силой при хорошемъ логическомъ тонированіи.
Считаю долгомъ выразить благодарность за помощь въ размѣткѣ
логическихъ удареній (работѣ очень кропотливой) г-жѣ С. С. Ли-
сиціанъ.
О. Озаровская.
12
Отрывки изъ „ИліадьГ-
Споръ Агамемнона | съ Ахиллесомъ.
Гнѣвъ, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына,
Г розный, который Ахеянамъ тысячи бѣдствій содѣлалъ:
Многія души могучія славныхъ героевъ | низринулъ
Въ мрачный Аидъ | и самихъ распростеръ ихъ въ корысть плотояднымъ
Птицамъ окрестнымъ | и псамъ. Совершалася Зевсова воля,
Съ онаго дня, какъ воздвигшіе споръ | воспылали враждою
Пастырь народовъ Атридъ | и герой Ахиллесъ благородный.
Кто жъ отъ боговъ безсмертныхъ подвигъ ихъ къ враждебному спору?
Сынъ Громовержца и Леты, Фебъ, царемъ прогнѣвленный,
Язву на воинство злую навелъ: погибали народы
Въ казнь, что Атридъ обезчестилъ жреца непорочнаго Хриза.
Старецъ, онъ приходилъ къ кораблямъ быстролетнымъ Ахейскимъ
Плѣнную дочь искупить: и принесши безчисленный выкупъ,
И держа въ рукахъ, на жезлѣ золотомъ, Аполлоновъ
Красный вѣнецъ, умолялъ убѣдительно всѣхъ онъ Ахеянъ.
Паче жъ Атридовъ могучихъ, строителей рати Ахейской;
.Чада Атрея | и пышно-поножные мужи, Ахейцы!
„О! да помогутъ вамъ боги, имущіе домы въ Олимпѣ,
.Градъ Пріамовъ разрушить | и счастливо въ домъ возвратиться;
.Вы жъ свободите мнѣ милую дочь | и выкупъ примите,
„Чествуя Зевсова сына, далеко разящаго Феба1*.
Всѣ изъявили согласіе крикомъ всеобщимъ Ахейцы |
Честь жрецу оказать | и принять блистательный выкупъ;
Только царя Агамемнона было то нелюбо сердцу;
Гордо жреца отослалъ и прорекъ ему грозное слово:
.Старецъ, чтобъ я никогда тебя не видалъ предъ судами!
13
.Здѣсь и теперь ты не медли | и впредь не дерзай появляться!
„Или тебя не избавятъ ни скиптръ, ни вѣнецъ Аполлона.
„Дѣвѣ свободы не дамъ я; она обветшаетъ въ неволѣ,
„Въ Аргосѣ, въ нашемъ дому, отъ тебя, отъ отчизны далече,—
„Прочь удались, и меня ты не гнѣвай, да здравъ возвратишься!"
Рѳкъ онъ; и старецъ трепещетъ и, слову царя покоряся,
Идетъ безмолвный по брегу немолчношумящей пучины.
Тамъ, отъ судовъ удалившися, старецъ взмолился печальный
Фебу царю, лѣпокудрыя Леты | могучему сыну:
„Богъ сребролукій, внемли мнѣ; о ты, что хранящій обходишь
„Хризу, священную Киллу, и мощно царишь въ Тенедосѣ,
„Сминѳей! если когда я храмъ твой священный украсилъ,
„Если когда предъ тобой возжигалъ я тучныя бедра
„Козъ и тельцовъ,—услышь и исполни одно мнѣ желанье:
„Слезы мои отомсти Аргивянамъ стрѣлами твоими!"
Такъ вопіялъ онъ, моляся; и внялъ Аполлонъ сребролукій!
Быстро съ Олимпа вершинъ устремился, пышущій гнѣвомъ,
Лукъ за плечами неся | и колчанъ со стрѣлами* отвсюду закрытый;
Громко крылатыя стрѣлы* біясь за плечами* звучали |
Въ шествіи гнѣвнаго бога; онъ шествовалъ ночи подобный.
Сѣвъ, наконецъ, предъ судами, пернатую быструю мечетъ;
Страшный звонъ издаетъ среброблещущій лукъ Аполлоновъ.
Въ самомъ началѣ на месковъ напалъ онъ | и псовъ празднобродныхъ.
Послѣ постигъ и народъ, смертоносными прыща стрѣлами;
Частые труповъ костры непрестанно пылали по стану.
Девять дней на воинство божія стрѣлы летали;
Въ день же десятый | Пелидъ на собраніе созвалъ Ахеянъ.
Въ мысли ему то вложила богиня державная* Гера:
Скорбью терзалась она, погибающихъ видя Ахеянъ.
Быстро сходился народъ, и* когда воедино собрался,
Первый* на сонмѣ возставъ, говорилъ Ахиллесъ быстроногій:
„Должно, Атридъ, какъ вижу, обратно исплававши море,
„Въ домы свои возвратиться, когда лишь отъ смерти спасемся:
„Вдругъ и война | и погибельный моръ истребляютъ Ахеянъ.
„Но испытаемъ, Атридъ, и вопросимъ жреца иль пророка,
„Или гадателя сновъ (и сны отъ Зевеса бываютъ):
„Пусть намъ повѣдаютъ, чѣмъ раздраженъ Аполлонъ небожитель?
„Онъ за обѣтъ несвершенный, за жертву ль стотельчую гнѣвенъ?
14
„Или отъ агнцевъ и избранныхъ козъ благовоннаго тука
„Требуетъ богъ, чтобъ Ахеянъ избавить отъ пагубной язвы?"
Такъ произнесши, возсѣлъ Ахиллесъ; и мгновенно отъ сонма
Калхасъ возсталъ, Ѳесторидъ, верховный птицегадатель.
Мудрый, вѣдалъ онъ все, что минуло, что есть | и что будетъ,
И Ахеянъ суда по морямъ предводилъ къ Иліону
Даромъ предвидѣнья, свыше ему вдохновеннымъ отъ Феба.
Онъ, благомыслія полный, вѣщалъ предъ сонмомъ Ахеянъ:
„Царь Ахиллесъ! возвѣстить повелѣлъ ты, любимецъ Зевеса,
„Праведный гнѣвъ Аполлона, далеко разящаго бога.
„Я возвѣщу; но и ты согласись, поклянись мнѣ, что вѣрно
„Самъ ты меня защитить | и словами готовъ | и руками.
„Я опасаюсь, прогнѣваю мужа, который верховный
„Царь Аргивянъ | и которому всѣ покорны Ахейцы.
„Слишкомъ могущественъ царь^ на мужа подвластнаго гнѣвный:
„Вспыхнувшій гнѣвъ онъ на первую пору хотя и смиряетъ,
„Но сокрытую злобу, доколѣ ея не исполнитъ,
„Въ сердцѣ хранитъ. Разсуди жъ | и отвѣтствуй, заступникъ ли ты мнѣ?“
Быстро ему отвѣчая, вѣщалъ Ахиллесъ благородный:
„Вѣрь и дерзай, возвѣсти намъ оракулъ, какой бы онъ ни былъ!
„Фебомъ клянуся я, Зевса любимцемъ, которому Калхасъ,
„Молишься ты, открывая Данаямъ вѣщанія бога:
„Нѣтъ, предъ судами никто, покуда живу я | и вижу,
„Рукъ на тебя дерзновенныхъ, клянуся, никто не подыметъ
„Въ станѣ Ахеянъ; хотя бы назвалъ самого ты Атрида,
„Властію нынѣ верховной гордящагось въ рати Ахейской".
Рекъ онъ; и сердцемъ дерзнулъ, и вѣщалъ имъ пророкъ не-
порочный:
„Нѣтъ, не за должный обѣтъ, не за жертву стотельчую гнѣвенъ
„Фебъ, но за Хриза жреца, обезчестилъ его Агамемнонъ,
„Дщери не выдалъ ему, и моленье и выкупъ отринулъ.
„Фебъ за него покаралъ и бѣдами еще покараетъ,
„И отъ пагубной язвы | разящей руки не удержитъ
„Прежде, доколѣ къ отцу не отпустятъ^ безъ платы, свободной
„Дщери его черноокой, и къ Хризу святой не приставятъ
„Жертвы стотельчей; тогда лишь мы бога на милость преклонимъ".
Слово скончавши, возсѣлъ Ѳесторидъ; и отъ сонма воздвигся
Мощный герой, пространно-властительный царь Агамемнонъ,
15
Гнѣвомъ волнуемъ; ужасной въ груди его мрачное сердце
Злобой наполнилось; очи его засвѣтились какъ пламень.
Калхасу первому, смотря свирѣпо, вѣщалъ Агамемнонъ:
„Бѣдъ предвѣщатель, пріятнаго ты никогда не сказалъ мнѣ!
„Радостно* вѣрно* тебѣ | человѣкамъ бѣды лишь пророчить:
„Добраго слова еще не измолвилъ ты намъ, не исполнилъ.
„Се, и теперь ты для насъ какъ глаголъ проповѣдуешь Бога,
„Будто народу | бѣды дальномечущій Фебъ устрояетъ,
„Мстя, что блестящихъ даровъ за свободу принять Хризеиды |
„Я не хотѣлъ; но въ душѣ я желалъ черноокую дѣву
„Въ домъ мой ввести; предпочелъ бы ее и самой Клитемнестрѣ,
„Дѣвою взятой въ супруги; ея Хризеида не хуже
„Прелестью вида, пріятствомъ своимъ и умомъ и дѣлами!
„Но соглашаюсь, ее возвращаю, коль требуетъ польза:
„Лучше хочу я спасеніе видѣть, чѣмъ гибель народа.
„Вы жъ мнѣ въ сей день замѣните награду; да въ станѣ Аргивскомъ
„Я безъ награды одинъ не останусь; позорно бъ то было;
„Вы же то видите всѣ; отъ меня отходитъ награда".
Первый ему отвѣчалъ | Пелейонъ Ахиллесъ быстроногій:
„Славою гордый Атридъ, безпредѣльно корыстолюбивый!
„Гдѣ для тебя обрѣсти добродушнымъ Ахеямъ награду?
„Мы не имѣемъ нигдѣ сохраняемыхъ общихъ сокровищъ;
„Что въ городахъ разоренныхъ мы добыли, все раздѣлили;
„Снова жъ, что было дано, отбирать у народа — позорно!
„Лучше свою возврати, въ угожденіе богу. Но послѣ
„Втрое и вчетверо мы, Аргивяне, тебѣ то заплатимъ,
„Если даруетъ Зевсъ | крѣпкостѣнную Трою разрушить".
Быстро, къ нему обратяся, вѣщалъ Агамемнонъ могучій:
„Сколько ни доблестенъ ты, Ахиллесъ, безсмертнымъ подобный,
„Хитро не умствуй; меня ни провесть, ни склонить не успѣешь.
„Хочешь, чтобъ самъ обладалъ ты наградой, а я чтобъ* лишенный*
„Молча сидѣлъ? и совѣтуешь мнѣ ты* чтобъ дѣву я выдалъ?..
„Пусть же меня довольствуютъ новою мздою Ахейцы,
„Столько жъ пріятною сердцу, достоинствомъ равною первой.
„Если жъ откажутъ, предстану я самъ, и изъ кущи исторгну
„Или твою, иль Аяксову мзду, или мзду Одиссея;
„Самъ я исторгну, и горе тому, предъ кого я предстану!
„Но объ этомъ бесѣдовать можемъ еще мы и послѣ.
16
„Нынѣ же черный корабль на священное море ниспустимъ,
„Сильныхъ гребцовъ изберемъ, на корабль гекатомбу поставимъ |
„И сведемъ Хризеиду, румяноланитую дѣву.
„Въ немъ да возсядетъ начальникомъ | мужъ отъ Ахеянъ совѣтныхъ:
„Идоменей, Одиссей Лаертидъ иль Аяксъ Теламонидъ;
„Или ты самъ, Пелейонъ, изъ мужей въ ополченьи страшнѣйшій,
„Шествуй | и къ намъ Аполлона умилости жертвой священной!"
Грозно взглянувъ на него, отвѣчалъ Ахиллесъ быстроногій:
„Царь, облеченный безстыдствомъ, коварный душою мздолюбецъ!
„Кто изъ Ахеянъ захочетъ твои повелѣнія слушать?
„Кто | иль походъ совершитъ, иль съ враждебными храбро сразится?
„Я за себя ли пришелъ, чтобъ Троянъ,, укротителей коней,
„Здѣсь воевать? Предо мною ни въ чемъ неповинны Трояне:
„Мужъ ихъ ни коней моихъ, ни тельцовъ | никогда не похитилъ;
„Въ счастливой Фѳіи моей, многолюдной, плодами обильной,
„Нивъ никогда не топталъ; безпредѣльныя насъ раздѣляютъ
„Горы, покрытыя лѣсомъ, и шумныя волны морскія.
„Нѣтъ, за тебя мы пришли, веселимъ мы тебя, на Троянахъ
„Чести ища Менелаю, служимъ тебѣ, человѣкъ псообразный!
„Ты же, безстыдный, считаешь ничѣмъ то | и все презираешь,
„Ты угрожаешь и мнѣ, что мою ты награду похитишь,
„Подвиговъ тягостныхъ мзду, драгоцѣннѣйшій даръ мнѣ Ахеянъ?..
„Но съ тобой никогда не имѣю награды я равной,
„Если Троянскій цвѣтущій Ахеяне градъ | разгромляютъ.
„Нѣтъ, несмотря, что тягчайшее бремя томительной брани
„Руки мои подымаютъ, всегда, какъ раздѣлъ наступаетъ,
„Даръ богатѣйшій тебѣ, а я и съ малымъ, пріятнымъ
„Въ станъ не ропща возвращаюсь, когда истомленъ ратоборствомъ.
„Нынѣ во Фѳію иду: для меня несравненно пріятнѣй |
„Въ домъ возвратиться на быстрыхъ судахъ; посрамленный тобою,
„Я не намѣренъ тебѣ умножать здѣсь добычъ и сокровищъ".
Быстро воскликнулъ къ нему | повелитель мужей Агамемнонъ:
„Что же, бѣги, если бѣгства ты жаждешь! тебя не прошу я
„Ради меня оставаться; останутся здѣсь и другіе;
„Честь мнѣ окажутъ они, а особенно Зевсъ промыслитель.
„Ты ненавистнѣйшій мнѣ межъ царями, питомцами Зевса!
„Только тебѣ и пріятны споры, раздоры да битвы.
„Храбростью ты знаменитъ, но она дарованіе бога.
17
Школа чтеца.
2
„Въ домъ возвратись, съ кораблями бѣги и съ дружиной своею.
„Властвуй своими Ѳессальцами! Я о тебѣ не забочусь;
„Гнѣвъ твой вмѣняю въ ничто, а напротивъ, грожу тебѣ такъ я:
„Требуетъ богъ Аполлонъ, чтобы я возвратилъ Хризеиду;
„Я возвращу,—и въ моемъ кораблѣ, и съ моею дружиной
„Дѣву пошлю; но къ тебѣ я приду, и изъ кущи твоей Бризеиду
„Самъ увлеку я, награду твою, чтобы ясно ты понялъ,
„Сколько я властію выше тебя, и чтобъ каждый страшился |
„Равнымъ себя мнѣ считать | и дерзко верстаться со мною!"
Пиръ у Зевса.
*
Боги | у Зевса отца, на помостѣ златомъ засѣдая,
Мирно бесѣду вели; посреди ихъ цвѣтущая Геба |
Нектаръ кругомъ разливала; и, кубки пріемля златые,
Чествуютъ боги другъ друга, съ высотъ на Трою взирая.
Вдругъ Олимпіецъ Кроніонъ замыслилъ Геру прогнѣвать
Рѣчью язвительной: онъ, издѣваясь, бесѣдовать началъ:
„Двѣ здѣсь богини, помощницы въ браняхъ царя Менелая:
„Гера Аргивская | и Тритогенія Алалкомена.
„Обѣ,, однако, вдали возсидя | и съ Олимпа взирая,
„Симъ утѣшаются; но съ Александромъ вездѣ Афродита,
„Помощь ему подаетъ, роковыя бѣды отражаетъ,
„И сегодня любимца спасла, трепетавшаго смерти.
„Но побѣда надъ нимъ несомнѣнно царя Менелая.
„Боги, размыслимъ, чѣмъ таковое дѣяніе кончить?
„Паки ли грозную брань | и печальную распрю воздвигнемъ,
„Или возлюбленный миръ межъ двумя племенами положимъ?
„Если сіе божествамъ и желательно всѣмъ | и пріятно,
„Будетъ стоять нерушимою Троя Пріама владыки,
„И съ Еленой Аргивскою | въ домъ Менелай возвратится".
Такъ онъ вѣщалъ; негодуя вздыхали Аѳина и Гера;-
Вмѣстѣ сидѣли онѣ | и Троянамъ бѣды умышляли.
Но Аѳина смолчала, не молвила, гнѣвная, слова
Зевсу отцу, а ее волновала свирѣпая злоба.
Гера же гнѣва въ груди не сдержала, воскликнула Зевсу:
„Сердцемъ жестокій Кроніонъ! какой ты глаголъ произносишь?
„Хочешь ты сдѣлать и трудъ мой ничтожнымъ, и потъ мой безплоднымъ,
18
„Коимъ,, трудясь, обливалася? Я истомила и коней,
„Рать подымая на гибель Пріаму | и чадамъ Пріама.
„Волю твори, но не всѣ отъ безсмертныхъ ее мы одобримъ".
Ей негодующій сердцемъ отвѣтствовалъ Зевсъ тучеводецъ:
„Злобная! старецъ Пріамъ | и Пріамовы чада | какое
„Зло предъ тобой сотворили, что ты непрестанно пылаешь
„Градъ Иліонъ истребить, благолѣпную смертныхъ обитель?
„Если бъ могла ты, войдя во врата и Троянскія стѣны,
„Ты бы пожрала живыхъ | и Пріама, и всѣхъ Пріамидовъ,
„И Троянскій народъ, и тогда бъ лишь насытила злобу!
„Дѣлай, что сердцу угодно; да горькій сей споръ напослѣдокъ
„Грозной вражды навсегда между мной и тобой не положитъ.
„Слово еще изреку я, а ты впечатлѣй его въ сердцѣ:
„Если и я, пылающій гнѣвомъ, когда возжелаю
„Градъ ниспровергнуть, отчизну любезныхъ тебѣ человѣковъ,
„Гнѣва и ты моего не обуздывай, дай мнѣ свободу!
„Градъ сей тебѣ я предать соглашаюсь, душой несогласный.
„Такъ, подъ сіяющимъ солнцемъ и твердью небесною звѣздной
„Сколько ни зрится градовъ, населенныхъ сынами земными,
.Сердцемъ моимъ наиболѣе чтима | священная Троя,
„Трои владыка Пріамъ | и народъ копьеносца Пріама.
„Тамъ никогда мой алтарь не лишался | ни жертвенныхъ пиршествъ,
„Ни возліяній, ни дыма: сія бо намъ честь подобаетъ".
Вновь провѣщала къ нему волоокая Гера богиня:
„Три для меня наипаче любезны Ахейскіе града:
„Аргосъ, холмистая Спарта | и градъ многолюдный Микена.
„Ихъ истреби ты, когда для тебя ненавистными будутъ;
„Я не вступаюсь за нихъ и отнюдь на тебя не враждую.
„Сколько бы въ гнѣвѣ моемъ | ни противилась ихъ истребленью,
„Я не успѣла бъ и гнѣвная: ты на Олимпѣ сильнѣйшій.
„Но труды и мои оставаться должны ли безплодны?
„Я божество, какъ и ты, исхожу отъ единаго рода
„И, богиня старѣйшая, дщерь хитроумнаго Крона,
„Славой сугубой горжусь, что меня и сестрой | и супругой
„Ты нарицаешь, ты, надъ безсмертными всѣми царящій.
„Но оставимъ вражду | и, смиряяся другъ передъ другомъ,
„Оба взаимно уступимъ, да слѣдуютъ намъ и другіе
„Боги безсмертные. Нынѣ, Кронидъ, повели ты Аѳинѣ
19
2*
„Быстро сойти къ истребительной брани Троянъ и Данаевъ;
„Пусть искушаетъ она, чтобъ славою гордыхъ Данаевъ
„Первые Трои сыны оскорбили* разрушивши клятву".
Такъ говорила | и внялъ ей отецъ и безсмертныхъ и смертныхъ;
Рѣчи крылатыя онъ устремилъ къ свѣтлоокой Аѳинѣ:
„Быстро, Аѳина, лети къ ополченью Троянъ | и Данаевъ;
„Тамъ искушай | и успѣй, чтобъ славою гордыхъ Данаевъ
„Первые Трои сыны оскорбили* разрушивши клятву".
Рекъ и подвигнулъ давно пылавшую сердцемъ Аѳину:
Бурно помчалась богиня, съ Олимпа высокаго бросясь.
Словно звѣзда, какую Кроніонъ Зевсъ посылаетъ
Знаменьемъ или пловцамъ, иль воюющимъ ратямъ народовъ,
Яркую, вкругъ изъ нея неисчетныя сыплются искры,—
Въ видѣ такомъ устремляясь на землю, Паллада Аѳина
Пала въ средину полковъ; изумленіе обняло зрящихъ |
Конниковъ храбрыхъ Троянъ | и мѣдянодоспѣшныхъ Данаевъ:
„Снова войнѣ ненавистной, снова сѣчѣ кровавой
„Быть передъ Троей!"............................................
Такъ не одинъ говорилъ въ ополченьяхъ Троянъ и Ахеянъ.
3. Свиданіе Гектора | съ Андромахой.
Скоро достигнулъ герой своего благозданнаго дома,
Но въ дому не нашелъ Андромахи лилейнораменной.
Съ сыномъ она | и съ одною кормилицей пышноодежной
Вышедъ, стояла на башнѣ* печально стеная | и плача.
Гекторъ, въ дому у себя не нашедъ непорочной супруги,
Сталъ на порогѣ | и такъ говорилъ прислужницамъ женамъ:
„Жены прислужницы, вы мнѣ скорѣе повѣдайте правду:
„Гдѣ Андромаха, супруга, куда удалилась изъ дому?
„Вышла ль къ золовкамъ своимъ, иль къ невѣсткамъ пышноодежнымъ,
„Или ко храму Аѳины поборницы, гдѣ и другія
„Жены Троянъ благородныя | грозную молятъ богиню?"
И ему отвѣчала усердная ключница дома:
„Гекторъ, когда повелѣлъ ты, тебЬ я повѣдаю правду.
„Нѣтъ, не къ золовкамъ своимъ, не къ невѣсткамъ пошла Андромаха,
„Или ко храму Аѳины поборницы, гдѣ и другія
„Жены Троянъ благородныя, грозную молятъ богиню,—
20
„Къ башнѣ пошла Иліонской великой: встревожилась вѣстью,
„Будто Троянъ утѣсняетъ могучая сила Ахеянъ,
„И къ стѣнѣ городской, торопливая, ринулась бѣгомъ,
„Словно умомъ изступленная; съ ней и кормилица съ сыномъ*.
Такъ отвѣчала, и Гекторъ стремительно изъ дому вышелъ
Прежней дорогой назадъ, по красивоустроеннымъ стогнамъ.
Онъ приближался уже, протекая обширную Трою,.
Къ Скейскимъ воротамъ (чрезъ нихъ былъ выходъ изъ города въ
поле);
Тамъ Андромаха супруга, бѣгущая ввстрѣчу, предстала,
Отрасль богатаго дома, прекрасная дочь Гетіона.
Сей Гетіонъ обиталъ | при подошвахъ лѣсистаго Плака,
Въ Ѳивахъ Плакійскихъ, мужей Киликіянъ властитель державный;
Онаго дочь | сочеталася съ Гекторомъ мѣднодоспѣшнымъ.
Тамъ предстала супруга: за нею одна изъ прислужницъ
Сына у персей держала, безсловнаго вовсе младенца,
Плодъ ихъ единый, прелестный, подобный звѣздѣ лучезарной.
Гекторъ его называлъ Скамандріемъ, граждане Трои—
Астіапаксомъ: единый бо Гекторъ защитой былъ Трои.
Тихо отецъ улыбнулся, безмолвно взирая на сына.
Подлѣ него Андромаха стояла, ліющая слезы;
Руку пожала ему | и такія слова говорила:
„Мужъ удивительный, губитъ тебя твоя храбрость! ни сына
„Ты не жалѣешь, младенца, ни бѣдной матери; скоро
„Буду вдовой я, несчастная! скоро тебя Аргивяне,
„Вмѣстѣ напавши, убьютъ! а тобою покинутой, Гекторъ,
„Лучше мнѣ въ землю сойти: никакой мнѣ не будетъ отрады,
„Если, постигнутый рокомъ, меня ты оставишь: удѣлъ мой
„Горести! Нѣтъ у меня ни отца, ни матери нѣжной!
„Старца, отца моего, умертвилъ Ахиллесъ быстроногій,
„Въ день; какъ и :радъ разорилъ Киликійскихъ народовъ цвѣтущій,
„Ѳивы высоковоротныя. Самъ онъ убилъ Гетіона,
„Но не смѣлъ обнажить: устрашался нечестія сердцемъ;
„Старца онъ предалъ сожженію вмѣстѣ съ оружіемъ пышнымъ.
„Создалъ надъ прахомъ могилу; и окрестъ могилы той | ульмы
„Нимфы холмовъ насадили, Зевеса великаго дщери.
„Братья мои однокровные—семь оставалось ихъ въ домѣ—
„Всѣ | и въ единый день | пресслились въ обитель Аида:
21
„Всѣхъ злополучныхъ избилъ Ахиллесъ, быстроногій ристатель,
„Въ стадѣ застигнувъ тяжелыхъ тельцовъ | и овецъ бѣлорунныхъ.
„Матерь мою, при долинахъ дубравнаго Плака царицу,
„Плѣнницей въ станъ свой привлекъ онъ съ другими добычами брани,
„Но даровалъ ей свободу, принявъ неисчислимый выкупъ;
„Феба жъ | и матерь мою поразила въ отеческомъ домѣ!
„Гекторъ, ты все мнѣ теперь—и отецъ, и любезная матерь,
„Ты и братъ мой единственный, ты и супругъ мой прекрасный!
„Сжалься же ты надо мною | и съ нами останься на башнѣ,
„Сына не сдѣлай ты сирымъ, супруги не сдѣлай вдовою;
„Воинство наше поставь у смоковницы: тамъ наипаче
„Городъ приступенъ врагамъ и восходъ на твердыню удобенъ.
„Трижды туда приступая, на градъ покушались герои:
„Оба Аякса могучіе, Идоменей знаменитый,
„Оба Атрея сыны | и Тидидъ, дерзновеннѣйшій воинъ.
„Вѣрно,, о томъ имъ сказалъ прорицатель какой-либо мудрый,
„Или, быть можетъ, самихъ устремляло ихъ вѣщее сердце".
Ей отвѣчалъ знаменитый, шеломомъ сверкающій Гекторъ:
„Все и меня то, супруга, не меньше тревожитъ, но страшный
„Стыдъ мнѣ предъ каждымъ Троянцемъ и длинноодежной Троянкой,
„Если, какъ робкій, останусь я здѣсь, удаляясь отъ боя.
„Сердце мнѣ то запретитъ; научился быть я безстрашнымъ,
„Храбро всегда, межъ Троянами первыми, биться на битвахъ,
„Доброй славы отцу | и себѣ самому добывая!
„Твердо я вѣдаю самъ, убѣждаясь и мыслью, и сердцемъ,
„Будетъ нѣкогда день, и погибнетъ священная Троя,
„Съ нею погибнетъ Пріамъ | и народъ копьеносца Пріама.
„Но не столько меня сокрушаетъ грядущее горе
„Трои, Пріама родителя, матери дряхлой, Гекубы,
„Горе тѣхъ братьевъ возлюбленныхъ, юношей многихъ и храбрыхъ,
„Кои полягутъ во прахъ подъ руками враговъ разъяренныхъ,—
„Сколько | твое! какъ тебя Аргивянинъ, мѣдью покрытый,
„Слезы ліющую, въ плѣнъ повлечетъ и похититъ свободу!
.И | невольница, въ Аргосѣ будешь ты ткать чужеземкѣ,
„Воду носить отъ ключей Мессеиса или Гипперея,
„Съ ропотомъ горькимъ въ душѣ; но заставитъ жестокая нужда!
„Льющую слезы | тебя кто-нибудь тамъ увидитъ | и скажетъ:
„Гектора это жена, превышавшаго храбростью въ битвахъ
22
„Всѣхъ конеборцевъ Троянъ* какъ сражалися вкругъ Иліона!
„Скажетъ, и въ сердцѣ твоемъ пробудится новая горесть:
„Вспомнишь ты мужа, который тебя защитилъ бы отъ рабства!
„Но* да погибну | и буду засыпанъ я перстью земною |
„Прежде* чѣмъ плѣнъ твой увижу—и жалобный вопль твой услышу!"
Рекъ | и сына обнять устремился блистательный Гекторъ,
Но младенецъ назадъ, пышноризой кормилицы къ лону
Съ крикомъ припалъ, устрашася любезнаго отчаго вида,
Яркою мѣдью испуганъ | и гривой косматаго гребня,
Грозно надъ шлемомъ отца | всколебавшейся конскою гривой.
Сладко любезный родитель | и нѣжная мать улыбнулись.
Шлемъ съ головы не медля снимаетъ божественный Гекторъ,
Наземь кладетъ его* пышноблестящій, и* на руки взявши
Милаго сына, цѣлуетъ, качаетъ его | и* поднявши*
Такъ говоритъ, умоляя и Зевса | и прочихъ безсмертныхъ:
„Зевсъ | и безсмертные боги! о, сотворите* да будетъ
„Сей мой возлюбленный сынъ* какъ и я, знаменитъ среди гражданъ;
„Такъ же и силою крѣпокъ | и въ Троѣ да царствуетъ мощно.
„Пусть о немъ нѣкогда скажутъ* изъ боя идущаго видя:
„Онъ и отца превосходитъ! И пусть онъ съ кровавой корыстью
„Входитъ, враговъ сокрушитель, и радуетъ матери сердце!"
Рекъ | и супругѣ возлюбленной на руки онъ полагаетъ
Милаго сына; дитя къ благовонному лону прижала
Мать, улыбаясь сквозь слезы. Супругъ умилился душевно,
Обнялъ ее | и* рукою ласкающій, такъ говорилъ ей:
„Добрая! сердце себѣ не круши неумѣренной скорбью.
„Противъ судьбы человѣкъ меня не пошлетъ къ Аидесу,
„Но судьбы* какъ я мню, не избѣгъ ни одинъ земнородный
„Мужъ, ни отважный, ни робкій, какъ скоро на свѣтъ онъ родится.
„Шествуй* любезная* въ домъ, озаботься своими дѣлами;
„Тканьемъ, пряжей займися, приказывай женамъ домашнимъ
„Дѣло свое исправлять, а война—мужей озаботитъ
„Всѣхъ, наиболѣ жъ меня, въ Иліонѣ священномъ рожденныхъ".
Рѣчи окончивши, поднялъ съ земли бронеблещущій Гекторъ
Гривистый шлемъ; и пошла Андромаха безмолвная къ дому,
Часто назадъ озирался, слезы ручьемъ проливая.
Скоро достигла она устроеніемъ славнаго дома
Гектора мужегубителя; въ ономъ служительницъ многихъ*
23
Собранныхъ вмѣстѣ* нашла | и къ плачу ихъ всѣхъ возбудила:
Ими заживо Гекторъ былъ въ своемъ домѣ оплаканъ.
Нѣтъ, онѣ помышляли, ему изъ погибельной брани
Въ домъ не прійти, не избѣгнуть отъ рукъ и свирѣпства Данаевъ.
Единоборство Гектора съ Ахиллесомъ.
Съ ужасомъ въ городъ вбѣжавъ, какъ олени младые Трояне
Потъ прохлаждали, пили и жажау свою утоляли,
Вдоль по стѣнѣ на забрала склоняйся; но Аргивяне
Подъ стѣну прямо неслися, щиты къ раменамъ преклонивши.
Гекторъ же въ оное время, какъ скованный гибельнымъ рокомъ,
Въ полѣ остался одинъ передъ Троей и башнею Скейской.
Богъ Аполлонъ между тѣмъ провѣщалъ къ Пелейону герою:
„Что ты меня, о Пелидъ, уповая на быстрыя ноги,
„Смертный, преслѣдуешь бога безсмертнаго? Или доселѣ
„Бога во мнѣ не узналъ, что безъ отдыха пышешь свирѣпствомъ?
„Ты пренебрегъ и опасность Троянъ, пораженныхъ тобою:
„Скрылись они уже въ стѣны; а ты здѣсь по полю рыщешь.
„Но отступи; не убьешь ты меня: не причастенъ я смерти".
Вспыхнувши гнѣвомъ, ему отвѣчалъ Ахиллесъ быстроногій:
„Такъ, обманулъ ты меня, о зловреднѣйшій между богами!
„Въ поле отвлекъ отъ стѣны! Безъ сомнѣнія, многимъ еще бы
„Землю зубами глодать до того, какъ сокрылися въ Трою.
„Славы прекрасной меня ты лишилъ, а сыновъ Иліона
„Спасъ безъ труда, ничьего не страшася отмщенія послѣ...
„Я отомстилъ бы тебѣ, когда бъ то возможно мнѣ было!"
Такъ произнесъ онъ и къ граду съ рѣшимостью гордой понесся
Бурный; какъ конь въ колесницѣ, всегда побѣдительный въ бѣгѣ,
Быстро несется къ мѣтѣ, разстилаясь по чистому полю,—
Такъ Ахиллесъ оборачивалъ быстро могучія ноги.
Первый старецъ Пріамъ со стѣны Ахиллеса увидѣлъ,
Полемъ летящаго, словно звѣзда, окруженнаго блескомъ;
Словно звѣзда, что подъ осень съ лучами огнистыми всходитъ
И, между звѣздъ неисчетныхъ горящая въ сумракахъ ночи
(Псомъ Оріона ее нарицаютъ сыны человѣковъ),
Всѣхъ свѣтозарнѣе блещетъ, но знаменьемъ грознымъ бываетъ;
Злыя она огневицы наноситъ смертнымъ несчастнымъ,—
24
Такъ у героя бѣгущаго мѣдь вокругъ персей блистала.
Вскрикнулъ Пріамъ, сѣдую главу поражаетъ руками,
Къ небу длани подъемлетъ и горестнымъ голосомъ вопитъ,
Слезно молящій любезнаго сына; но тотъ предъ вратами
Молча стоитъ, безпредѣльно пылая сразиться съ Пелидомъ.
Жалобно старецъ къ нему и слова простираетъ и руки:
„Гекторъ, возлюбленный сынъ мой! Не жди ты сего человѣка
„Въ полѣ одинъ, безъ друзей, да своей не найдешь ты кончины,
„Сыномъ Пелея сраженный: тебя онъ могучѣе въ битвахъ!
„Лютый! когда бы онъ былъ и безсмертнымъ столько жъ любезенъ,
„Сколько мнѣ: о, давно бъ уже трупъ его псы растерзали!
„Тяжкая горесть моя у меня отступила бъ отъ сердца!
„Сколько сыновъ у меня онъ младыхъ и могучихъ похитилъ,
„Или убивъ, иль продавъ племенамъ острововъ отдаленныхъ!..
„Будь же ты съ нами, сынъ милый! Войди въ Иліонъ, да спасешь ты
„Женъ и мужей Иліонскихъ, да славы не даруешь громкой
„Сыну Пелея и жизни сладостной самъ не лишишься!
„О! пожалѣй и о мнѣ ты, пока я дышу еще, бѣдномъ,
„Старцѣ злосчастномъ, котораго Зевсъ предъ дверями могилы
„Казнью ужасной казнитъ, принуждая всѣ бѣдствія видѣть,
„Видѣть сыновъ убиваемыхъ, дщерей, въ неволю влекомыхъ,
„Домы Пергама громимые, самыхъ младенцевъ невинныхъ
„Видѣть объ долъ разбиваемыхъ въ сей разрушительной брани,
„И невѣстокъ, влачимыхъ руками свирѣпыхъ Данаевъ!..
„Самъ я послѣдній паду и меня на порогѣ домашнемъ
„Алчные псы растерзаютъ, когда смертоносною мѣдью
„Кто-либо въ сердце умѣтитъ и душу изъ персей исторгнетъ;
„Псы, что вскормилъ при моихъ я трапезахъ, привратные стражи,
„Кровью упьются моей и, унылые сердцемъ, на прагѣ
„Лягутъ при тѣлѣ моемъ искаженномъ!./
Такъ вопіялъ и своя сребристые волосы старецъ
Рвалъ на главѣ, но у Гектора сына души не подвигнулъ.
Матерь за нимъ на другой сторонѣ возопила, рыдая,
Перси рукой обнаживъ, а другою на грудь указуя,
Сыну, ліющая слезы, крылатую рѣчь устремляла:
„Сынъ мой! почти хоть сіе; пожалѣй хоть матери бѣдной:
„Если я дѣтскій твой плачъ утоляла отрадною грудью,
„Вспомни объ ономъ, любезнѣйшій сынъ, и ужаснаго мужа,
25
„Въ стѣны вошедъ, отражай; передъ нимъ ты не стой одинокій!
„Если неистовый, онъ одолѣетъ тебя, о мой Гекторъ,
„Милую отрасль мою, ни я на одрѣ не оплачу,
„Ни Андромаха супруга; далеко отъ насъ отъ обѣихъ,
„Въ станѣ тебя Мирмидонскомъ свирѣпые псы растерзаютъ!“
Такъ, рыдая, они говорили къ любезному сыну;
Такъ умоляли, но Гектора въ персяхъ души не подвигли:
Онъ ожидалъ Ахиллеса великаго, несшагось прямо.
Словно какъ горный драконъ у пещеры ждетъ человѣка,
Травъ ядовитыхъ нажравшись и черной наполняся злобой,
Въ стороны страшно глядитъ, извивался вкругъ надъ пещерой,—
Гекторъ таковъ, несмиримаго мужества полный, стоялъ тамъ,
Выпукло-свѣтлымъ щитомъ упершись въ основаніе башни;
Мрачно вздохнувъ, наконецъ, говорилъ онъ въ душѣ возвышенной:
„Стыдъ мнѣ, когда я, какъ робкій, въ ворота и стѣны укроюсь!
„Первый Полидамасъ на меня укоризны положитъ:
„Полидамасъ мнѣ совѣтовалъ ввесть ополченія въ городъ,
„Въ оную ночь роковую, какъ вновь Ахиллесъ ополчился.
„Я не послушалъ, но, вѣрно, полезнѣе было бъ послушать!
„Такъ Троянскій народъ погубилъ я своимъ безразсудствомъ
„О! стыжуся Троянъ и Троянокъ длннноодежныхъ!
„Гражданинъ самый послѣдній можетъ сказать въ Иліонѣ:
„Гекторъ народъ погубилъ, на свою понадѣявшись силу!
„Такъ Иліоняне скажутъ. Стократъ благороднѣе будетъ
„Противостать и, Пелеева сына убивъ, возвратиться,
„Или въ сраженіи съ нимъ передъ Троею славно погибнуть!
„Но... и почто же? Если оставлю щитъ свѣтлобляшный,
„Шлемъ тяжелый сложу и, копье прислонивши къ твердынѣ,
„Самъ я пойду и предстану Пелееву славному сыну?
„Если ему обѣщаю Елену и вмѣстѣ богатства
„Всѣ совершенно, какія Парисъ въ корабляхъ глубодонныхъ
„Съ нею привезъ въ Иліонъ (роковое раздора начало!)
„Выдать Атридамъ и вмѣстѣ притомъ раздѣлить Аргивянамъ
„Всѣ остальныя богатства, какія лишь Троя вмѣщаетъ?
„Если съ Троянъ, наконецъ, я потребую клятвы старѣйшинъ:
„Намъ ничего не скрывать, но представить всѣ для раздѣла
„Наши богатства, какія лишь градъ заключаетъ любезный?!.
„Боги! какимъ предаюся я помысламъ? Нѣтъ, къ Ахиллесу
26
„Я не пойду, какъ молитель. Не сжалится онъ надо мною,
„Онъ не уважитъ меня, нападетъ и меня безъ оружій
„Нагло убьетъ онъ, какъ женщину, если доспѣхъ я оставлю.
„Нѣтъ, теперь не година съ зеленаго дуба иль съ камня
„Намъ съ нимъ бесѣдовать мирно, какъ юноша съ сельскою дѣвой.
„Юноша, съ сельскою дѣвою свидясь, бесѣдуютъ мирно,
„Намъ же къ сраженію лучше сойтись! и не медля увидимъ,
„Славу кому между насъ даровать Олимпіецъ разсудитъ!"
Такъ размышляя, стоялъ, а къ нему Ахиллесъ приближался,
Грозенъ, какъ богъ Эніалій, сверкающій шлемомъ по сѣчѣ.
Ясень отцовъ Пеліонскій на правомъ плечѣ колебалъ онъ
Страшный; вокругъ его мѣдь ослѣпительнымъ свѣтомъ сіяла,
Будто огонь распылавшійся, будто всходящее солнце.
Гекторъ увидѣлъ, и страхъ его обнялъ. Больше не могъ онъ
Тамъ оставаться, отъ Скейскихъ воротъ побѣжалъ, устрашенный.
Бросился гнаться Пелидъ, уповая на быстрыя ноги.
Словно соколъ на горахъ, изъ пернатыхъ быстрѣйшая птица,
Вдругъ съ быстротой несказанной за робкой несется голубкой;
Въ стороны вьется она, а соколъ по-надъ нею, и часто
Разомъ онъ крикнетъ и кинется, жадный добычу похитить,—
Такъ онъ за Гекторомъ пламенный гнался, а трепетный Гекторъ
Вдоль подъ стѣной убѣгалъ и быстро оборачивалъ ноги...
......................Всѣ божества на героевъ смотрѣли;
Слово межъ оными началъ отецъ и безсмертныхъ и смертныхъ:
„Горе! любезнаго мужа, гонимаго около града,
„Видятъ очи мои и болѣзнь проходитъ мнѣ сердце!
„Гекторъ, мужъ благодушный, телячія, тучныя бедра
„Мнѣ возжигалъ въ благовоніе часто на Идѣ холмистой,
„Часто на выси Пергамской; а днесь Ахиллесъ градоборецъ
„Гектора около града преслѣдуетъ, бурный ристатель.
„Боги, размыслите вы и совѣтомъ сердецъ положите,
„Гектора мы сохранимъ ли отъ смерти, или напослѣдокъ
„Сыну Пелея дадимъ побѣдить знаменитаго мужа*.
Зевсу не медля рекла свѣтлоокая дѣва Паллада:
„Молніеносный отецъ, чернооблачный! Что ты вѣщаешь?
„Смертнаго мужа, издревле судьбѣ обреченнаго общей,
„Хочешь ты, Зевсъ, разрѣшить совершенно отъ смерти печальной?
„Волю твори, но не всѣ на нее согласимся мы, боги!"
27
Ей не медля отвѣтствовалъ тучегонитель Кроніонъ:
„Бодрствуй, Тритонія, милая дочь! Не съ намѣреньемъ въ сердцѣ
„Я говорю, и съ тобою милостивъ быть я желаю.
„Волю твори п желаніе сердца не медля исполни".
Рекъ и возжегъ еще болѣ пылавшую сердцемъ Аѳину;
Бурно она понеслась, отъ Олимпа высокаго бросясь.
Гектора жъ, въ бѣгствѣ преслѣдуя, гналъ Ахиллесъ непрестанно.
Словно какъ песъ по горамъ молодого гонитъ оленя,
Съ лога поднявъ, и несется за нимъ чрезъ кусты и овраги;
Даже и скрывшагось, если онъ въ страхѣ подъ кустъ припадаетъ,
Чуткій слѣдитъ и бѣжитъ безпрестанно, покуда не сыщетъ,—
Такъ Пріамидъ отъ Пелида не могъ отъ быстраго скрыться.
Сколько онъ разъ ни пытался, у вратъ пробѣгая Дарданскихъ,
Броситься прямо къ стѣнѣ, подъ высоковершинныя башни,
Гдѣ бы Трояне его съ высоты защитили стрѣлами,—
Столько разъ Ахиллесъ, упредивъ, отбивалъ Пріамида
Въ поле, а самъ непрестанно, держася твердыни, летѣлъ онъ.
Словно во снѣ человѣкъ изловить человѣка не можетъ,
Сей убѣжитъ, а другой уловить напрягается тщетно,—
Такъ и герои, ни сей не догонитъ, ни тотъ не уходитъ.
Какъ бы и могь Пріамидъ избѣжать отъ судьбы и отъ смерти,
Если бъ ему и въ послѣдній ужъ разъ, Аполлонъ не явился;
Онъ укрѣплялъ Пріамиду и силы и быстрыя ноги.
Войскамъ межъ тѣмъ помавалъ головою Пелидъ быстроногій,
Имъ запрещая бросать противъ Гектора горькія стрѣлы,
Славы бъ не отнялъ пронзившій, а онъ бы вторымъ не явился.
Но лишь въ четвертый разъ до Скамандра ключей прибѣжали,
Зевсъ распростеръ, промыслитель, вѣсы золотые; на нихъ онъ
Бросилъ два жребія Смерти, въ сонъ погружающей долгій:
Жребій одинъ Ахиллеса, другой—Пріамова сына.
Взялъ по срединѣ и поднялъ: поникнулъ Гектора жребій,
Тяжкій къ Аиду упалъ; Аполлонъ отъ него удалился.
Сыну жъ Пелея, съ сіяющимъ взоромъ, явилась Паллада,
Близко прошла и къ нему провѣщала крылатыя рѣчи:
„Нынѣ, надѣюсь, любимецъ боговъ, Ахиллесъ благородный!
„Славу великую мы принесемъ на суда Мирмидонянъ:
„Гектора мы поразимъ, ненасытнаго боемъ героя.
„Болѣе, мню я, отъ нашей руки не избыть Пріамиду,
28
„Сколько ни будетъ о томъ Аполлонъ стрѣлометный трудиться,
„Распростирающійся предъ могучимъ Отцомъ громовержцемъ.
„Стань и вздохни, Пелейонъ; Пріамида сведу я съ тобою
„И сама преклоню, да противу тебя онъ сразится".
Такъ говорила; Пелидъ покорился и, радости полный,
Сталъ, опершись на сіяющій ясень свой мѣдноконечный.
Зевсова дочь устремилася, Гектора быстро настигла
И, уподобясь Дейфобу и видомъ и голосомъ звучнымъ,
Стала предъ нимъ и крылатыя рѣчи коварно вѣщала:
„Братъ мой почтенный! жестоко тебя Ахиллесъ утѣсняетъ,
„Около града Пріамова бурнымъ преслѣдуя бѣгомъ.
„Но остановимся здѣсь и могучаго встрѣтимъ безстрашно!"
Ей отвѣтствовалъ сильный, шеломомъ сверкающій Гекторъ:
„О Деифобъ! и всегда ты, съ младенчества, былъ мнѣ любезенъ
„Болѣе всѣхъ моихъ братьевъ, Пріама сыновъ и Гекубы;
„Нынѣ жъ и прежняго болѣе долженъ тебя почитать я:
„Ради меня ты отважился, видя единаго въ полѣ,
„Выдти изъ стѣнъ, тогда какъ другіе въ стѣнахъ остаются".
Вновь говорила ему свѣтлоокая дочь Громовержца:
„Гекторъ, меня умоляли отецъ и почтенная матерь,
„Ноги мои обнимая; меня и друзья умоляли
„Съ ними остаться: такимъ они всѣ преисполнены страхомъ;
„Но по тебѣ сокрушалось тоскою глубокою сердце.
„Станемъ надежно теперь и сразимся мы пламенно; копій
„Не къ чему болѣ щадить, и увидимъ теперь Ахиллесъ ли
„Насъ обоихъ умертвитъ и кровавыя наши корысти
„Къ чернымъ судамъ повлечетъ, иля копьемъ онъ твоимъ укро
тится!"
Такъ вѣщая коварно, впередъ выступала Паллада.
Оба героя сошлись, устремленные другъ противъ друга;
Первый къ Пелиду воскликнулъ шеломомъ сверкающій Гекторъ:
„Сынъ Пелеевъ, тебя убѣгать не намѣренъ я болѣ!
„Трижды предъ градомъ Пріамовымъ я пробѣжалъ, не дерзая
„Встрѣтить тебя нападавшаго; нынѣ же сердце велитъ мнѣ
„Стать и сразиться съ тобою, убью, или буду убитъ я!
„Прежде жъ боговъ мы возьмемъ во свидѣтельство; лучшіе будутъ
„Боги свидѣтели клятвъ и хранители нашихъ условій:
„Тѣла тебѣ я не буду безчестить, когда Громовержецъ
29
„Даруетъ мнѣ устоять и оружіемъ духъ твой исторгнуть;
„Славные только доспѣхи съ тебя, Ахиллесъ, совлеку я,
„Тѣло жъ отдамъ Мирмидонцамъ; и ты договоръ сей исполни11.
Грозно взглянулъ на него и вскричалъ Ахиллесъ быстроногій:
„Гекторъ, врагъ ненавистный, не мнѣ предлагай договоры!
„Нѣтъ и не будетъ межъ львовъ и людей никакого союза;
„Волки и агнцы не могутъ дружиться согласіемъ сердца;
„Вѣчно враждебны они, зломышлснны другъ противъ друга,—
„Такъ и межъ насъ невозможна любовь; никакихъ договоровъ
„Быть между нами не можетъ, поколѣ одинъ, распростертый,
„Кровью своей не насытитъ свирѣпаго бога Арея!
„Все ты искусство ратное вспомни! сегодня ты долженъ
„Быть копьеборцемъ отличнымъ и воиномъ неустрашимымъ!
„Бѣгства тебѣ уже нѣтъ; подъ моимъ копьемъ Тритогена
„Скоро тебя укротитъ, и заплатишь ты разомъ за горе
„Друговъ моихъ, которыхъ избилъ ты, свирѣпствуя, мѣдью! “
Рекъ онъ и, мощно сотрясши, послалъ длиннотѣнную пику.
Въ пору завидѣвъ ее, избѣжалъ шлемоблещущій Гекторъ;
Быстро приникъ онъ къ землѣ, и надъ нимъ пролетѣвшая пика
Въ землю вонзилась; но, вырвавъ ее, Ахиллесу Паллада
Вновь подала, невидима Гектору, коннику Трои.
Гекторъ же громко воскликнулъ къ Пелееву славному сыну:
„Праздненъ ударъ! и нимало, Пелидъ, безсмертнымъ по-
добный ,
„Доли моей не узналъ ты отъ Зевса, хотя возвѣщалъ мнѣ;
„Но говорливъ и коваренъ рѣчами ты былъ предо мною
„Съ цѣлью, чтобъ я, оробѣвъ, потерялъ и отважность и силу.
„Нѣтъ, не бѣжать я намѣренъ; копье не въ хребетъ мнѣ вон-
зишь ты;
„Прямо лицомъ на тебя устремленному, грудь прободи мнѣ,
„Ежели богъ то судилъ! Но копья и сего берегися
„Мѣднаго! Если бы, острое, въ тѣло ты все его принялъ!
„Легче была бы кровавая брань для сыновъ Иліона,
„Если бъ тебя сокрушилъ я, тебя, ихъ лютѣйшую гибель!“
Рекъ онъ и, мощно сотрясши, копье длиннотѣнное ринулъ
И не прокинулъ: въ средину щита поразилъ Ахиллеса;
Но далеко оружіе щитъ отразилъ. Огорчился
Гекторъ, узрѣвъ, что копье безполезно изъ рукъ излетѣло,
30
Сталъ и очи потупилъ: копья не имѣлъ онъ другого.
Голосомъ звучнымъ на помощь онъ брата зоветъ Деифоба,
Требуетъ новаго дротика остраго; нѣтъ Деифоба.
Гекторъ постигъ то своею душою, и такъ говорилъ онъ:
„Горе! къ смерти меня всемогущіе боги призвали!
„Я помышлялъ, что со мною мой братъ, Деифобъ нестрашимый,
„Онъ же въ стѣнахъ Иліонскихъ: меня обольстила Паллада.
„Возлѣ меня—лишь смерть! и уже не избыть мнѣ ужасной!
„Нѣтъ избавленія! Такъ, безъ сомнѣнія, боги судили,
„Зевсъ и отъ Зевса родившійся Фебъ; милосердые прежде
„Часто меня избавляли; судьба, наконецъ, постигаетъ!
„Но не безъ дѣла погибну, во прахъ я паду не безъ славы;
„Нѣчто великое сдѣлаю, что и потомки услышатъ!"
Такъ произнесъ и исторгъ изъ влагалища ножъ изощренный,
Съ лѣваго боку висящій, ножъ и огромный и тяжкій;
Съ мѣста, напрягшися, бросился, словно орелъ небопарный,
Если онъ вдругъ изъ-за облаковъ сизыхъ на степь упадаетъ,
Нѣжнаго агнца иль зайца пугливаго жадный похитить,—
Гекторъ таковъ устремился, махая ножомъ смертоноснымъ.
Прянулъ и быстрый Пелидъ, и наполнился духъ его гнѣва
Бурнаго; онъ передъ грудью уставилъ свой щитъ велелѣпный,
Дивно украшенный; шлемъ на главѣ его четверобляшный
Зыблется свѣтлый, волнуется пышная грива златая,
Густо Гефестомъ разлитая окрестъ высокаго гребня.
Но, какъ звѣзда межъ звѣздами въ сумракѣ ночи сіяетъ,
Гесперъ, который на небѣ прекраснѣе всѣхъ и свѣтлѣе,—
Такъ у Пелида сверкало копье изощренное, коимъ
Въ правой рукѣ потрясалъ онъ, на Гектора жизнь умышляя,
Мѣста на тѣлѣ прекрасномъ ища для вѣрныхъ ударовъ.
Но у героя все тѣло доспѣхъ покрывалъ мѣдноковный,
Пышный, который похитилъ онъ, мощь одолѣвши Патрокла;
Тамъ лишь, гдѣ выю ключи съ раменами связуютъ, гортани
Часть обнажалася, мѣсто, гдѣ гибель душѣ неизбѣжна,
Тамъ, налетѣвши, копьемъ Ахиллесъ поразилъ Пріамида.
Прямо сквозь бѣлую выю прошло смертоносное жало;
Только гортани ему не разсѣкъ сокрушительный ясень
Вовсе, чтобъ могъ, умирающій, нѣсколько словъ онъ промолвить.
Грянулся въ прахъ онъ, и громко вскричалъ Ахиллесъ, торжествуя:
31
„Гекторъ Патрокла убилъ ты и думалъ живымъ оставаться!
„Ты и меня не страшился, когда я отъ битвъ удалялся,
„Врагъ безразсудный! Но мститель его, несравненно сильнѣйшій,
«Нежели ты, за судами Ахейскими я оставался,
„Я, и колѣна тебѣ сокрушившій! Тебя для позора
„Птицы и псы разорвутъ, а его погребутъ Аргивяне".
Дышащій томно, ему отвѣчалъ шлемоблещуіцій Гекторъ:
„Жизнью тебя и твоими родными у ногъ заклинаю
„О! не давай ты меня на терзаніе псамъ Мирмидонскимъ;
„Мѣди, цѣннаго злата, сколько желаешь ты, требуй;
„Вышлютъ тебѣ искупленье отецъ и почтенная матерь;
„Тѣло лишь въ домъ возврати, чтобъ Трояне меня и Троянки,
„Честь воздавая послѣднюю, въ домѣ огню пріобщили".
Мрачно смотря на него, говорилъ Ахиллесъ быстроногій:
„Тщетно ты, песъ, обнимаешь мнѣ ноги и молишь родными!
„Въ ярости, если бы могъ, растерзалъ бы тебя я на части,
„Тѣло сырое твое пожиралъ бы я,—то ты мнѣ сдѣлалъ!
„Нѣтъ, человѣческій сынъ отъ твоей головы не отгонитъ
„Псовъ пожирающахъ! Если и въ десять, и въ двадесятъ кратъ
мнѣ
„Пышныхъ даровъ привезутъ и столько жъ еще обѣщаютъ:
„Если тебя самого прикажетъ на золото взвѣсить
„Царь Иліона Пріамъ, и тогда на одрѣ погребальномъ
„Матерь Гекуба тебя, своего не оплачетъ рожденья;
„Птицы твой трупъ и псы Мирмидонскіе весь растерзаютъ!"
Духъ испуская, къ нему провѣщалъ шлемоблещущій Гекторъ:
„Зналъ я тебя, предчувствовалъ я, что моимъ ты моленьемъ
„Тронутъ не будешь: въ груди у тебя желѣзное сердце.
„Но трепещи, да не буду тебѣ я божіимъ гнѣвомъ
„Въ оный день, когда Александръ и Фебъ стрѣловержецъ,
„Какъ ни могучаго, въ Скейскихъ воротахъ тебя ниспровергнутъ!"
Такъ говорящаго, Гектора мрачная смерть осѣняетъ:
Тихо душа, изъ устъ излетѣвши, нисходитъ къ Аиду,
Плачась на долю свою, оставляя и младость и крѣпость.
Но къ нему, и къ умершему, сынъ быстроногій Пелеевъ
Крикнулъ еще: „Умирай! а мою неизбѣжную смерть я
„Встрѣчу, когда ни пошлетъ Громовержецъ и вѣчные боги!"
32
Такъ произнесъ и изъ мертваго вырвалъ убійственный ясень,
Въ сторону бросилъ его и доспѣхъ совлекалъ съ Дарданида,
Кровью облитый. Сбѣжались другіе Ахейскіе мужи.
Всѣ, изумляясь, смотрѣли на ростъ и на образъ чудесный
Гектора и, приближался, каждый пронзалъ его пикой.
Гомеръ.
Н. Гнѣдичъ.
Разысканіе логическаго ударенія *).
Если у насъ въ рукахъ находится какой-нибудь разсказъ
(стихотвореніе), то что мы можемъ съ нимъ сдѣлать? Во-пер-
выхъ, мы можемъ сдѣлать его переложеніе (пересказъ).
Подъ этимъ именемъ обыкновенно понимаютъ передачу раз-
сказа со всѣми его (даже мелкими) подробностями съ по-
мощью своихъ собственныхъ оборотовъ, фразъ и выраженій.
Во-вторыхъ мы можемъ составить конспектъ разсказа. Подъ
конспектомъ обыкновенно понимаютъ передачу съ помощью
своихъ собственныхъ же выраженій только главныхъ мыслей
разсказа. Но, кромѣ этихъ двухъ весьма обыкновенныхъ опе-
рацій, возможна еще нѣкоторая третья операція надъ даннымъ
разсказомъ, операція, которая, сколько мнѣ извѣстно, ни-
когда еще никѣмъ не предлагалась. Операцію эту условимся
называть „скелетированіемъ" и подъ этимъ названіемъ
будемъ разумѣть нахожденіе скелета разсказа. Эта операція
могла бы быть съ неменьшимъ успѣхомъ названа схематизи-
рованіемъ (нахожденіе схемы разсказа) или минимализаціей
(нахожденіе тіпітиш’а словъ въ разсказѣ).
Въ чемъ же заключается скелетированіе даннаго текста
(разсказа, стихотворенія и т. п.)?
Чтобы уяснить себѣ это, обратимся къ примѣру.
і) Разстановка логическихъ удареній принадлежитъ автору статьи. Логическіе
такты не поставлены.
33
Школа птсца.
3
Допустимъ, у насъ есть мысль: я ѣхалъ домой. Мысль
эту, которая состоитъ изъ подлежащаго, сказуемаго и слова
домой, несущаго на себѣ логическій акцентъ, я могу, такъ
сказать, расширить, развить, распространить. Для этой цѣли
я могу вставить въ нее цѣлый рядъ хотя бы, напр., обстоя-
тельственныхъ словъ. Если я это сдѣлаю, то мысль приметъ
слѣдующій видъ: въ коляскѣ я ѣхалъ ночью домой. Приба-
вивши два новыя обстоятельственныя слова (въ коляскѣ, ночью),
какое измѣненіе я внесъ въ фразу? Я только, такъ сказать,
развилъ смыслъ фразы, но главные, существенные признаки
фразы, собственно говоря, остались нетронутыми: какъ прежде
удареніе лежало на словѣ „домой", такъ и теперь; какъ прежде
вся фраза представляла собою одинъ рѣчевой тактъ, такъ и
теперь. Прибавленіемъ нѣсколькихъ новыхъ словъ я только
увеличилъ длину рѣчевого такта, если раньше онъ обладалъ
пятью слогами (я-ѣ-халъ-до-мОй), то теперь онъ обладаетъ
десятью (въ ко-ляс-кѣ-я-ѣ-халъ, ночь-ю-до-мой).
Если мы можемъ съ помощью прибавленія словъ расши-
рять, развивать мысль, то спрашивается: возможенъ ли обрат-
ный процессъ и, если возможенъ, то какъ. Обратный про-
цессъ, конечно, возможенъ. Онъ будетъ заключаться въ томъ,
что мы изъ данной фразы должны будемъ выбро-
сить всѣ тѣ слова, которыя только могутъ быть
выброшены.
Озаровскій по этому поводу говоритъ: „Если выборъ ло-
гическихъ удареній затруднителенъ подчасъ въ прозаической
(по формѣ) рѣчи, тѣмъ затруднительнѣй онъ въ стихотвор-
ной, гдѣ порядокъ словъ ради ритма является иногда чрезвы-
чайно искусственнымъ и запутаннымъ. Чтобы облегчить вы-
боръ логическихъ удареній въ этомъ случаѣ, я бы совѣтовалъ
перекладывать въ прозу особенно трудные въ этомъ
отношеніи тексты. Подъ перекладываніемъ стиховъ въ прозу
я разумѣю вовсе не пересказъ поэтическаго содержанія свои-
34
ми словами, но такую разстановку словъ текста, съ помощью
которой достигался бы прозаическій строй рѣчи. Такая раз-
становка не должна, однако, сопровождаться ни единой при-
бавкой или убавкой слова сравнительно съ текстомъ".
Второй пріемъ, облегчающій нахожденіе логическихъ уда-
реній,—это удаленіе изъ изслѣдуемаго текста всего того, что
имѣетъ только весьма отдаленную логическую связь со смыс-
ломъ изслѣдуемаго текста. Сюда относятся всевозможнаго
рода вводныя предложенія, предложенія и слова, поставлен-
ныя въ скобки, иногда даже придаточныя предложенія и т. п.
Наконецъ третій и самый важный пріемъ, облегчающій
нахожденіе логическихъ удареній, есть скелетированіе.
Пользуясь вышеуказанными тремя практическими пріе-
мами, мы можемъ въ значительной степени облегчить себѣ
задачу нахожденія логическихъ удареній.
Разсмотрѣвши вопросъ о томъ, какъ находить логиче-
скія ударенія, переходимъ теперь къ вопросу о томъ, какъ
ставить ударенія и кому ставить.
На вопросъ „кому ставить", отвѣтъ ясный: ставить ло-
гическія ударенія нужно автору, излагающему письменно свои
мысли.
Что касается вопроса о томъ, какъ ставить ударенія,
то здѣсь можно порекомендовать такое правило, „ставь, какъ
слышишь" (правило, напоминающее собою правило „пиши,
какъ говоришь"). Для успѣшнаго примѣненія этого, очевидно,
необходимо, чтобы пишущій слышалъ свои мысли.
Характерныя мысли по этому поводу мы находимъ у
Ницше.
. Ф. Ни цше говоритъ: „Маколей провѣрялъ чтеніемъ
вслухъ все, что онъ писалъ. Нужно читать книгу, какъ му-
зыкантъ читаетъ партитуру; нужно слышать, что читаешь.
„Нѣмецъ не читаетъ вслухъ, онъ читаетъ для глазъ, а не для
слуха. Онъ прячетъ уши въ ящикъ при чтеніи. Въ Германіи
з*
35
одни только пасторы, произносящіе проповѣди, понимаютъ зна-
ченіе слоговъ и словъ, знаютъ, какъ звукъ фразы ударяется
и отскакиваетъ, какъ слово устремляется впередъ, разливается
и замираетъ; у нихъ есть совѣсть въ ушахъ". („Ф. Ницше,
какъ художникъ и мыслитель". А. Риль, стр. 47). Нельзя не
согласиться съ Ницше, что „нужно слышать, что читаешь".
Но къ этому нужно добавить, что не менѣе необходимо
слышать то, что мыслишь. Если писатель ясно слышитъ
то, что мыслитъ, то для него не будетъ особенно труднымъ
обозначить въ письмѣ всѣ звуковыя варіаціи своего голоса
т.-е. поставить логическія ударенія. Конечно, для этого необ-
ходима нѣкоторая практика, нѣкоторый навыкъ, но не думаю,
чтобы эта практика была труднѣе той практики, которая не-
обходима для правильной постановки знаковъ препинанія.
Вопросы о правильной постановкѣ знаковъ препинанія и о
правильной постановкѣ логическаго ударенія имѣютъ весьма
много общаго:
1) Оба вопроса весьма мало разработаны и ждутъ своей
теоріи;
2) въ обоихъ вопросахъ мы должны руководствоваться
нашимъ „слухомъ". Дѣйствительно, вѣдь вся пунктуація, не-
сомнѣнно, построена на паузахъ и при этомъ построена пре-
скверно. Даже въ школахъ обращается вниманіе учащихся на
то, что когда въ человѣческой рѣчи мы слышимъ паузу, то
въ письмѣ эта пауза обыкновенно обозначается особымъ зна-
комъ. Почему же, спрашивается, не обратить вниманія уча-
щихся и на то, что въ человѣческой рѣчи (и мысли) мы слы-
шимъ, кромѣ паузъ, и особые подъемы и усиленія голоса,
которые также должны быть обозначены въ письмѣ особымъ
знакомъ. Могутъ возразить, что все это не только для школь-
ника, но и для писателя очень трудно. На это мы отвѣтимъ:
попробуйте, вѣдь и первые уроки игры на фортепіано трудны,
и первыя попытки постановки знаковъ препинанія трудны,
36
тѣмъ не менѣе на фортепіано играютъ и знаки препинан.я
ставятъ. Все зависитъ отъ практики.
Могутъ возразить еще съ иной точки зрѣнія (болѣе
существенной), а именно: насколько это необходимо. Отвѣ-
томъ на это возраженіе служитъ весь нашъ трудъ; если намъ
въ немъ удалось показать, что вопросъ о логическомъ уда-
реніи имѣетъ не только теоретическій интересъ (противъ
этого было бы совсѣмъ смѣшно возражать), но даже и прак-
тическій, то мы считали бы себя вполнѣ удовлетворенными.
И. Смоленскій.
Декларація въ ряду другимъ искусствъ.
Когда начинающій, но добросовѣстно подготовившій себя
художникъ выступаетъ, наконецъ, на общественную арену,
онъ, несомнѣнно, полонъ безконечно интересныхъ для него и
въ то же время тревожныхъ вопросовъ объ основныхъ и
наиболѣе сокровенныхъ задачахъ избраннаго имъ искусства.
Что это за вопросы, составляющіе искусъ всякаго начинаю-
щаго художника? Это, мнѣ кажется, конечныя цѣли даннаго
искусства, т.-е. отношеніе его къ основному стимулу худо-
жественной дѣятельности человѣка, стремленіе къ красотѣ, и,
какъ слѣдствіе изъ этого отношенія, вопросъ о мѣстѣ дан-
наго искусства въ ряду другихъ.
Постараемся же опредѣлить эти два основныя условія
относительно интересующей насъ художественной сферы.
Духъ человѣческій, влекущійся къ красотѣ, проявляется
весьма различно и многообразно. Всѣ силы, заключающіяся,
какъ въ самомъ человѣкѣ, такъ и внѣ его, и находящіяся въ
его распоряженіи, служатъ средствами для такого проявленія.
Правда, по настоящее время не всѣ еще средства использо-
37
ваны. Искусство, этотъ реальный результатъ дѣятельности чело-
вѣческаго духа въ сферѣ прекраснаго, имѣетъ свою исторію.
И эта исторія указываетъ намъ, какимъ путемъ и въ ка-
комъ порядкѣ человѣкъ пользовался различными средствами
для воплощенія образовъ, витавшихъ въ его художественномъ
воображеніи.
Исторія указываетъ, что сначала человѣкъ обращался за
этими средствами къ внѣшнему міру, т.-е. къ тому, что пред-
ставляла ему природа, и художественная дѣятельность чело-
вѣка при помощи этихъ средствъ создала группу искусствъ,
которыя можно было бы назвать вещественными, такъ какъ
средствомъ для каждаго изъ нихъ является то или иное ма-
теріальное начало, вещество.
И здѣсь также человѣкъ соблюдаетъ извѣстнаго рода
постепенность и послѣдовательность, выбирая матеріаломъ для
осуществленія своихъ художественныхъ плановъ сначала только
то вещество, которое лежитъ внѣ его (архитектурныя, скульп-
турныя и средства живописи), и обращаясь затѣмъ за этимъ
матеріаломъ къ самому себѣ, т.-е. къ художественному сред-
ству, представляющемуся его собственнымъ существомъ, соб-
ственнымъ тѣломъ (мимика и танцы).
Вторую и, надо думать, болѣе позднюю по своему проис-
хожденію группу искусствъ, которую умѣстно было бы на-
звать группою звуковыхъ искусствъ, создалъ человѣкъ при
помощи чисто механическаго начала—звука, служащаго основ-
нымъ средствомъ для музыки и пѣнія; при чемъ въ этомъ
случаѣ наблюдается та же постепенность въ выборѣ художе-
ственнаго средства. Сначала художникъ пользуется звукомъ,
порождающимся внѣ его (область инструментальной музыки)
и затѣмъ средствомъ музыкальнаго творчества является звукъ,
вырабатываемый собственными силами (пѣніе).
Наконецъ третье мѣсто въ ряду искусствъ занимаетъ
поэзія, которая по своему спеціальному средству можетъ быть
38
названа искусствомъ идеальнымъ, ибо не что иное, какъ
слово, т.-е. идея, служитъ для поэзіи художественнымъ мате-
ріаломъ.
Изъ этой краткой классификаціи искусствъ въ отношеніи
ихъ художественныхъ средствъ можно видѣть: до какой сте-
пени разнообразно можетъ проявляться въ человѣкѣ стремле-
ніе къ красотѣ. Между тѣмъ это стремленіе не исчерпывается
только что перечисленными формами своего выраженія. Оно
заставляетъ человѣка искать все новыхъ и новыхъ формъ. И
въ ряду такихъ новыхъ художественныхъ формъ исторія
искусствъ должна поставить группу искусствъ драматическаго
и декламацію, черпающихъ главный матеріалъ для себя въ
томъ дѣйствительно могучемъ орудіи эстетическаго воздѣй-
ствія, которое составляетъ лучшее достояніе человѣка,—въ
рѣчи, въ живомъ словѣ. Въ своихъ поискахъ новыхъ худо-
жественныхъ формъ человѣчество неизбѣжно должно было
остановить свое вниманіе на этомъ орудіи. Поступательное
развитіе искусствъ имѣетъ въ своемъ основаніи послѣдова-
тельную замѣну неподвижнаго, инертнаго матеріала веще-
ственныхъ искусствъ сначала механическимъ, но все еще чисто
внѣшнимъ матеріаломъ звуковыхъ ощущеній, а затѣмъ вѣчно
колеблющимся, живымъ и уже вполнѣ психологическимъ ма-
теріаломъ идеальныхъ искусствъ, ибо рѣчь человѣка, послѣ
мимики, представляетъ наиболѣе совершенный аппаратъ для
передачи самыхъ тонкихъ и, можно сказать, деликатныхъ ду-
шевныхъ ощущеній.
Къ этому же новому художественному средству необхо-
димо было обратиться еще и въ силу постепеннаго преобла-
данія въ искусствѣ субъективнаго начала. Почти непри-
мѣтное въ архитектурѣ, гдѣ даже трудно бываетъ отличить
геометрію отъ образа, науку отъ искусства, въ нѣсколько бо-
лѣе значительной дозѣ обнаруживается оно въ скульптурѣ,
довольно смѣло и рѣшительно прорывается въ живописи, и
39
наконецъ, могучимъ потокомъ выливается оно въ музыкѣ,
этомъ субъективнѣйшемъ изъ искусствъ. Завоевавъ съ этого
момента видное мѣсто въ сферѣ художественнаго творчества,
субъективное начало становится неотъемлемымъ элементомъ
всякой художественной отрасли. Особенно же широко и сво-
бодно разрабатывается оно въ поэзіи, искусствѣ наиболѣе,
конечно, благопріятномъ для проявленія субъективныхъ стре-
мленій художника.
И это въ области письменной, такъ сказать, дремлющей
поэзіи. Въ какой же значительной степени должно сказаться
проявленіе субъективнаго начала въ области декламаціи, этой
устной, бодрствующей поэзіи, въ распоряженіи которой на-
ходится такое несравненное орудіе, какъ звучащая, живая и
индивидуализированная рѣчь.
Итакъ, психологическія и субъективныя тенденціи въ
искусствѣ, съ одной стороны, и соотвѣтствіе спеціальныхъ
средствъ декламаціи этимъ тенденціямъ — съ другой, вотъ—
условія, опредѣляющія отношенія этого искусства къ основ-
ному стимулу художественной дѣятельности человѣка, т.-е.
къ его стремленію къ красотѣ.
Что же представляетъ собой декламація со стороны своего
художественнаго существа? Чѣмъ воздѣйствуетъ она на душу
воспринимающаго ее субъекта? — Декламація, какъ изящная
рѣчь, съ ея характернѣйшими свойствами, представляетъ собой
соединеніе слова съ интонаціей, т.-е. поэзіи съ музы-
кой, такъ какъ всякое колебаніе тона, наблюдаемое хотя бы
и въ рѣчи, есть уже явленіе музыки. Этою-то тѣсною связью,
какая замѣчается между словомъ и интонаціей, деклами-
рующій способенъ вызвать въ слушателѣ тончайшія на-
строенія.
Изъ такого двойственнаго состава декламаціи явствуетъ
и ея исключительная интенсивность въ отношеніи указанныхъ
свойствъ ,новыхъ" искусствъ. Въ этомъ смыслѣ декламацію
40
можно смѣло назвать искусствомъ не только звуковымъ,
но и идеальнымъ.
Установивъ такой общій взглядъ на художественное зна-
ченіе декламаціи, постараемся опредѣлить теперь мѣсто ея въ
ряду другихъ искусствъ...
Уже изъ того, что я только что говорилъ о точкахъ со-
прикосновенія декламаціи съ поэзіей, можно прійти къ заклю-
ченію о близкомъ сродствѣ этого искусства съ поэзіей. На
это заказываетъ самый терминъ тоническій, прилагающійся
въ теоріи искусствъ къ группѣ искусствъ музыкальнаго и
поэзіи. Очевидно, этимъ терминомъ въ приложеніи къ поэзіи
хотятъ сказать, что свое полное выраженіе она получаетъ
лишь при помощи тона, т.-е. въ моментъ чтенія вслухъ, въ
моментъ декламаціи.
Принимая въ соображеніе музыкальныя средства декла-
маціи, т.-е. явленія звука, мы признали, что декламація близко
граничитъ и съ музыкой. Въ одинъ изъ частныхъ видовъ
музыки, именно пѣніе, декламація входитъ, какъ составной
элементъ.
Близко также соприкасается декламація и съ живописью,
особенно въ тѣхъ своихъ отдѣлахъ, которые вѣдаютъ испол-
неніе произведеній описательной поэзіи, такъ какъ способы,
употребляемые при этомъ декламаціею, ничѣмъ не отличаются
отъ живописныхъ, подчиняясь тѣмъ же законамъ художествен-
ной соразмѣрности частей, перспективы положеній, колорита
и гармоніи красокъ и проч. Отличіе декламаціи лишь въ сред-
ствахъ, но не въ цѣляхъ... Въ этомъ смыслѣ дакламацію можно
смѣло назвать живописью устнаго слова.
Значеніе декламаціи въ ряду искусствъ станетъ для насъ
еще очевиднѣе, если мы обратимъ вниманіе на точки сопри-
косновенія ея съ драматическимъ искусствомъ, въ которое
она входитъ уже какъ составная часть, ибо драматическое
искусство представляетъ не что иное, какъ аггрегатъ различ-
41
ныхъ художественныхъ элементовъ, среди которыхъ элементъ
тона, слѣдовательно, декламація, является наиболѣе важнымъ
и занимаетъ первое мѣсто.
Примѣръ подобнаго соотношенія между художественными
отраслями можно наблюдать не въ одной области тоническихъ
и другихъ сродныхъ съ ними искусствъ, но и въ группѣ
искусствъ пластическихъ. Общее для всѣхъ родовъ живописи,
напримѣръ, это—рисунокъ. Разсматриваемъ ли мы пейзажъ,
портретъ, жанровую картину—прежде всего въ этихъ произ-
веденіяхъ мы наблюдаемъ извѣстное сочетаніе линій и тѣней,
обусловливающихъ собою то, что называется въ живописи
рисункомъ. Рисунокъ—это элементъ изображенія, общій всѣмъ
видамъ живописи. Оттого всякій художникъ-живописецъ, пре-
жде чѣмъ избрать себѣ ту или иную спеціальность, усердно
занимается рисованіемъ, т.-е. искусствомъ простѣйшимъ обра-
зомъ создавать голую форму—рисунокъ.
И насколько легко представить себѣ хорошаго рисоваль-
щика полнымъ господиномъ въ сферѣ своей спеціальности
(рисованія) и въ то же самое время совершеннымъ профа-
номъ въ живописи, положимъ, масляными красками, на-
столько же трудно допустить возможнымъ наличность пре-
краснаго художника - колориста, абсолютно не владѣющаго
карандашомъ... Рисованіе — искусство, не только общее
всѣмъ видамъ живописи, но и существенно необходимое
для нихъ.
Возвращаясь къ декламаціи и искусствамъ, сроднымъ съ
нею, я позволю себѣ установить такого рода аналогію:
У такихъ искусствъ, какъ драматическое, вокальное и
ораторское (о которомъ я не упоминалъ раньше, потому что
не выдѣляю его изъ состава декламаціи, отличающейся отъ
него лишь тѣмъ, что и декламаторъ и авторъ совмѣщаются
въ немъ въ одномъ лицѣ) тоже есть свой общій элементъ—
слово, произносимое, звучащее и потому живое слово.
42
Въ самомъ дѣлѣ, драматическое искусство заключается
въ художественномъ, согласно замыслу драматурга, перево-
площеніи актера въ изображаемое лицо, при чемъ матеріаломъ
для подобнаго перевоплощенія, помимо самого актера съ его
душой и тѣломъ, является еще и роль, т.-е. слово, которое
влагается въ его уста авторомъ и которое по волѣ актера
становится „живымъ“ словомъ.
Пѣніе есть художественно-музыкальное исполненіе, при по-
мощи вокальнаго процесса, опять-таки того же „живого" слова,
которое составляетъ данную пѣсню, романсъ, арію и проч.
Ораторское искусство состоитъ въ художественномъ про-
изнесеніи того живого слова, которое въ видѣ того или иного
сужденія сложилось въ головѣ даннаго общественнаго дѣя-
теля-проповѣдника.
Элементъ произносимаго, звучащаго, элементъ „живого"
слова въ трехъ названныхъ искусствахъ является вполнѣ ана-
логичнымъ элементу рисунка во всѣхъ видахъ живописи.
„Живое" слово въ драматическомъ, вокальномъ и оратор-
скомъ искусствахъ является тѣмъ элементомъ, безъ котораго
каждое изъ нихъ перестаетъ даже бывать самимъ собою, ибо
нельзя же изображеніе роли, лишенной словъ, назвать драма-
тическимъ искусствомъ (въ типическомъ значеніи этого слова)
или исполненіе одного мотива пѣсни — пѣніемъ или рѣчь,
оставленную безъ произнесенія,—произведеніемъ ораторскаго
искусства. Аналогію между упомянутыми элементами сближае-
мыхъ искусствъ можно продолжить до конца. Подобно тому,
какъ трудно представить себѣ сколько-нибудь удовлетвори-
тельнаго живописца, неумѣющаго владѣть карандашомъ, такъ
одинаково трудно представить себѣ сознательно относящагося
къ своему дѣлу актера, пѣвца, лектора или проповѣдника, не-
способныхъ владѣть художественнымъ чтеніемъ.
Вотъ выводы, къ какимъ меня привела попытка обри-
совать мѣсто, занимаемое декламаціей въ ряду другихъ
43
искусствъ. Эти выводы носятъ уже чисто практическій харак-
теръ, такъ какъ касаются профессіональнаго значенія деклама-
ціи для представителей самыхъ различныхъ дѣятельностей.
Ограничусь замѣчаніемъ, что декламація есть художественная
отрасль, имѣющая много точекъ соприкосновенія съ другими
искусствами, зависящая въ своемъ развитіи отъ ихъ собствен-
наго роста и преуспѣянія, и являющаяся въ то же время тѣмъ
связующимъ началомъ, или цементомъ между ними, который
можетъ придать особенную крѣпость и устойчивость всему
зданію современнаго искусства.
ІО. Озаровскій,
Итальянская живопись.
(Изъ путеводителя по картинной галлереѣ Императорскаго
Эрмитажа).
Интересной картиной Леонардовскаго круга является еще
такъ называемая „Петербургская Джоконда" или „Ъа сіоппа
вида" (№ 15). Авторства Леонардо относительно этой картины
никто теперь не отстаиваетъ. Но геній Леонардо все же оду-
хотворяетъ эту картину и даже болѣе яркимъ образомъ, не-
жели технически совершенныя, но мертвенныя картины Мельци
и Луини. Сюда проникла таинственная чувственность мастера
и въ самой идеѣ представить портретъ какой-то куртизанки
нагой на фонѣ мечтательнаго пейзажа обнаружился своеобраз-
ный изгибъ воображенія, свойственный вообще „магу-худож-
нику". Есть что-то зловѣщее, колдовское и въ нашей Джо-
кондѣ. Не является ли она такъ же, какъ и знаменитый, почти
тождественный картонъ въ Шантильи и недавно появившаяся
въ Миланѣ „Мегеігісе" (бывшая нѣкогда въ собраніи Сет-
таллы) произведеніями, навѣянными какимъ-либо приготови-
тельнымъ этюдомъ Леонардо, сдѣланнымъ имъ во время пи-
44
санія портрета Мойны Лизы Джоконды (около 1504 г. во
Флоренціи).
Эрмитажъ не даетъ никакого представленія о второмъ
геніи, озарившемъ вершины итальянскаго искусства—о Микель-
Анджело. Даже отраженія его встрѣчаются лишь въ вещахъ
второстепенныхъ (въ родѣ Мадонны Буджардини) или въ сла-
быхъ копіяхъ съ рисункомъ мастера (№№ 23, 33 и 34), и на
нихъ не стоитъ останавливаться. Зато о третьемъ изъ геніевъ
итальянскаго возрожденія, связавшемъ, согласно старинному
выраженію, въ одно цѣлое „грацію Леонардо и мощь Микель-
Анджело" о Рафаэлѣ, Эрмитажъ даетъ ясное (но, къ сожалѣ-
нію, не исчерпывающее) понятіе. Впрочемъ, это старинное вы-
раженіе очень поверхностно и годно лишь при элементарномъ
знакомствѣ съ творчествомъ трехъ великихъ художниковъ.
Въ самомъ дѣлѣ, странно какъ-то упоминать о „граціи”, когда
говоришь о демоническомъ искусствѣ Леонардо, и недоста-
точно упомянуть о мощи, если захочешь охарактеризовать
трагизмъ Микель-Анджело. Но что Рафаэль дѣйствительно
сумѣлъ связать оба начала, высказавшіяся въ его старшихъ
собратьяхъ, это все же вѣрно. Но только безполая коварная
ласка Леонардо превратилась у него въ здоровую и нѣжную
чувственность, а титаничный порывъ Буонаротти улегся въ
его творчествѣ въ спокойныя и благородныя рамки. Рафаэль,
главнымъ образомъ, декоративный художникъ, и этимъ не
были ни Леонардо ни Микель-Анджело. Роспись Сикстинской
капеллы послѣдняго—является даже нарушеніемъ принциповъ
декоративности, ибо фрески Микель-Анджело не столько укра-
шаютъ храмъ, сколько имѣютъ самодовлѣющее значеніе и
даже подавляютъ все остальное. Напротивъ того, роспись пап-
скихъ комнатъ (станцъ) Рафаэля—высшая точка именно деко-
ративнаго искусства, ибо, несмотря на значительность каждой
части этой стѣнописи, все въ общемъ является прекраснымъ,
стройнымъ архитектурнымъ цѣлымъ.
4$
О декоративной сторонѣ искусства Рафаэля, объ его иа*
стоящей стихіи даютъ въ Эрмитажѣ нѣкоторое понятіе фрески,
вставленныя въ стѣны комнаты, гдѣ хранятся маленькія бронзы.
Но впечатлѣніе, получаемое отъ этихъ картинъ, скорѣе мо-
жетъ сбить представленіе о великолѣпіи декоративнаго генія
великаго художника.—Онѣ достались Эрмитажу въ дурномъ
состояніи (въ 1856 г. фрески были вынуты изъ стѣнъ и пе-
реведены на холстъ), перенесли далекое путешествіе и, нако-
нецъ, помѣщены теперь въ комнатѣ, чопорная, типичная для
середины XIX вѣка, отдѣлка которой не вяжется съ граціоз-
ными вымыслами композицій.
Самъ Рафаэль принималъ лишь минимальное участіе въ
созданіи этихъ фресокъ. И однако можно сказать, что это—
„Рафаэлевскія фрески". Лишь относительно одной изъ нихъ
„Венера и Амуръ" извѣстно, что она исполнена, по крайней
мѣрѣ, съ рисунка мастера, относительно другихъ даже замы-
селъ Рафаэля оспаривается и приписывается ученикамъ его
Джуліо Романо и Дранфранческо Пенни или Фатторе. Но уче-
ники заявили себя въ этихъ работахъ (исполненныхъ или при
жизни или малое время послѣ смерти Рафаэля), такими вѣр-
ными послѣдователями учителя, что смѣло можно говорить о
геніи Рафаэля, какъ объ основѣ этихъ произведеній. Здѣсь
та же полнота формъ, та же спокойная, нѣсколько тяжелая
грація, та же ясная чувственность (безъ тѣни манерности и
чего-либо извращеннаго), которыя свѣтятся и въ оригиналь-
ныхъ произведеніяхъ мастера. Это тѣ самые преображенные
боги Эллады, что открылись Рафаэлю во время созданія имъ
росписи въ виллѣ Фарнезинѣ. Нужно преодолѣть мучительное
чувство, вызываемое дурнымъ состояніемъ этихъ картинъ, во-
образить ихъ себѣ въ свѣжемъ сумракѣ итальянской виллы, окру-
женной фонтанами и густой зеленью, нужно вообразить себѣ игру
архитектурныхъ и орнаментальныхъ формъ вокругъ, чтобы по-
нять то очарованіе, которое производили эти картины на мѣстахъ-
46
Два произведенія Рафаэля въ Эрмитажѣ даютъ намъ пол-
ноту его красоты: скульптура «Мертвый мальчикъ на дель-
финѣ" и „Мадонна Альба" (Л? 38), названная такъ потому, что
она происходитъ изъ собранія испанскихъ герцоговъ Альба-
Картина эта принадлежитъ къ началу „римскаго періода" твор-
чества Рафаэля (1508 г.), т.-е. къ тому времени, когда моло-
дой мастеръ только что покинулъ Флоренцію (гдѣ распустился
его геній) и прибылъ въ папскую резиденцію, находился въ
упоеніи первоначальной работы надъ „Станцами". Картина на-
писана, вѣроятно, собственноручно имъ самимъ, ибо Рафаэль
тогда не былъ еще такъ заваленъ заказами и дѣлами, какъ
впослѣдствіи, когда онъ ограничивался лишь эскизами или
картонами, по которымъ самыя картины исполнялись учени-
ками. Мадонна Альба рядомъ съ „Мадонной (Іеііа 8еЛа“, по-
жалуй, наиболѣе характерный образецъ декоративныхъ исканій
художника въ станковой живописи. „Настроенія" здѣсь мало
или вовсе нѣтъ. Въ ликѣ Мадонны не содержится религіоз-
ной мечты. Все принесено въ жертву формальному принципу,
той складности композиціи, на исканіе которой указали еще
флорентійцы XV вѣка (и главнымъ образомъ Леонардо) и ко-
торую довелъ до послѣдняго совершенства Рафаэль. Изуми-
тельно мастерство, съ которымъ группа включена въ круглую
форму, еще такъ наивно использованную тѣмъ же Рафаэлемъ
десять лѣтъ раньше въ эрмитажной „Мадоннѣ Конестабиле".
Въ Мадоннѣ Альба линіи дѣйствительно „текутъ" и „влива-
ются" однѣ въ другія, дополняютъ другъ друга, массы уравно-
вѣшаны, все разсчитано и все легко.
Эту картину можно уподобить прекрасному зданію, въ
которомъ—все ритмъ, однѣ части несутъ другія, все крѣпко
и все полно радости, потому что отвѣчаетъ какимъ-то зало-
женнымъ въ насъ требованіямъ ліада.
Упомянутая выше „Мадонна Конестабиле" (№ 1667) го-
раздо поэтичнѣе „Мадонны Альба", но все же это юноше-
47
ское, незрѣлое произведеніе Рафаэля (она написана между
1500 и 1502 гг. во время ученичества у Перуджино) и не
говоритъ намъ о настоящей силѣ мастера, о настоящей его
стихіи. „Здѣсь нѣтъ Рафаэля* и содержаніе картины исчер-
пывается вліяніемъ Перуджино (Мадонна написана по рисунку
послѣдняго, хранящемуся въ Берлинскомъ СирЕегзіісІі СаЫ-
пеіі’ѣ). Лишь пейзажъ, весь какой-то хрупкій, печальный и
все же ясный, какъ весеннее утро, со снѣжными горами вдали
и съ полной отъ весеннихъ водъ рѣкой, протекающей наис-
кось по долинѣ, говоритъ о болѣе глубокомъ и чуткомъ
темпераментѣ, нежели темпераментъ Перуджино.
А. Бенуа.
Глинка.
(Отрывокъ изъ статьи „Опера*.)
„Россія признаетъ уже Глинку въ числѣ великихъ сыно-
вей своихъ. Быть-можетъ, немного времени пройдетъ, какъ
и вся Европа станетъ произносить его имя вмѣстѣ съ име-
нами высшихъ художественныхъ натуръ и найдетъ въ его
произведеніяхъ неистощимые источники восторговъ для на-
стоящаго и сѣмена для самаго широкаго развитія искусства
въ будущемъ". Такъ писалъ въ 1857 г. одинъ изъ современ-
никовъ Глинки, восторженный поклонникъ его музыкальнаго
генія, первый біографъ великаго русскаго композитора В. В.
Стасовъ. И поистинѣ нельзя не удивляться критической про-
зорливости такихъ людей, какъ Стасовъ, князь Одоевскій,
Мельгуновъ, которые болѣе полувѣка тому назадъ сумѣли
постичь всю громадность дарованія Глинки, той, можно ска-
зать, критической „вдохновенности", которая помогла этимъ
первымъ „глинкіанцамъ" не только самимъ понять и для себя
48
самихъ утвердить явленіе Глинки, какъ цѣлую эпоху русской
музыки, но и заразить этимъ пониманіемъ, этимъ утвержде-
ніемъ хотя бы небольшую часть тогдашней музыкальной массы,
почти сплошь инертной, невѣжественной, коснѣвшей въ са-
момъ безпросвѣтномъ дилетантизмѣ. Нельзя не изумляться
художественно-исторической проницательности людей, признав-
шихъ музыкальнаго „пророка въ своемъ отечествѣ", давшихъ
творчеству этого пророка еще при жизни его ту оцѣнку, ко-
торая до нашихъ дней почти не подверглась измѣненіямъ.
Вѣдь и мы, люди XX вѣка, уже искушенные дѣятельностью
Мусоргскаго, Бородина, Р.-Корсакова, уже отвѣдавшіе рос-
кошныхъ плодовъ современной русской и западно-европей-
ской изысканности, уже соблазненные чувственными преле-
стями звукового „импрессіонизма", — вѣдь и мы, обращаясь
мыслью къ творчеству Глинки, разсматривая его музыку съ
точки зрѣнія современныхъ, безконечно болѣе сложныхъ и
утонченныхъ, чѣмъ во времена самого Глинки, эстетическихъ
вкусовъ и взглядовъ,—мы приходимъ къ конечнымъ выводамъ,
мало чѣмъ отличающимся отъ мнѣній Стасова. И мы вмѣстѣ
съ однимъ изъ горячихъ современныхъ почитателей творца
„Руслана" Н. Виндейзеномъ видимъ, что „память великаго
основателя русскаго музыкальнаго искусства... ярко блеститъ
на небосклонѣ молодой еще исторіи нашей музыки". И мы
вмѣстѣ съ новѣйшимъ историкомъ русской музыки Н. Паш-
кинымъ должны сказать, что, „быть-можетъ, русская музыка
шагнетъ, а можетъ-быть, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, и шаг-
нула уже дальше своего великаго родоначальника, но никто
для нея не имѣетъ и не будетъ имѣть равныхъ съ нимъ правъ
на безсмертіе". Послѣднія слова для насъ, однако, знамена-
тельны. Я говорилъ выше, что наша оцѣнка глинковской му-
зыкальной дѣятельности почти тождественна съ тѣми отзы-
вами, что давали о ней наиболѣе чуткіе изъ современниковъ
Глинки. Въ чемъ же заключается это „почти"? Въ томъ ли,
49
Школа чтеца.
4
что на фонѣ протекшихъ со дня кончины Глинки 53 лѣтъ
огромная тѣнь композитора еще болѣе выросла передъ из-
умленнымъ взоромъ нашимъ? Въ томъ ли, что дальнѣйшее раз-
витіе русской музыки до Р.-Корсакова, Глазунова, Скрябина
открыло намъ глаза на какія-либо слабыя стороны въ твор-
чествѣ Глинки, что русская музыка дѣйствительно шагнула
уже гораздо „дальше своего великаго родоначальника" и по-
тому невольно заставила насъ внести существенныя оговорки
въ прежнюю оцѣнку его генія? Ни то ни другое предполо-
женіе несправедливы въ отдѣльности. Но, взявъ ихъ въ сово-
купности, даже въ зависимости одно отъ другого, мы, кажется,
нѣсколько приблизимся къ выясненію той трудно-уловимой,
но несомнѣнно существующей разницы, что раздѣляетъ взгляды
на Глинку музыкантовъ, принадлежащихъ разнымъ поколѣ-
ніямъ. Нѣтъ сомнѣнія, что историческая перспектива, по мѣрѣ
ея созданія по отношенію къ Глинкѣ, немало способствовала
все возраставшему и, можетъ-быть, еще возрастающему воз-
величенію его имени. Потому что, чѣмъ больше мы изучаемъ
историческія условія, породившія Глинку, чѣмъ больше мы
знакомимся съ предшествовавшей явленію Глинки эпохой
„просвѣщеннаго дилетантизма", чѣмъ ближе устанавливаемъ
связь между дѣятельностью Алябьева, Верстовскаго, Кавоса и
творчествомъ самого Глинки, тѣмъ острѣе выступаетъ передъ
нами весь внѣшній характеръ этой связи. Намъ ясенъ и по-
нятенъ первый, дилетантскій періодъ дѣятельности Глинки,
но какимъ образомъ на протяженіи одной индивидуальной
жизни осуществилась цѣлая эпоха, какимъ образомъ одинъ
человѣкъ сдѣлалъ чуть не половину всей исторіи нашей му-
зыки, какимъ образомъ въ творческой душѣ Глинки съ вол-
шебной быстротой совершился расцвѣтъ скромныхъ дичковъ
дилетантизма въ благородные цвѣты настоящаго искусства,
высшаго мастерства,—это тайна. Это тайна свободнаго твор-
чества, чудесная власть личнаго, геніальнаго начала надъ „исто-
50
ріей“ и „эволюціей". Здѣсь—такая же побѣдная роль личности
въ исторіи, какую въ другихъ областяхъ русской культуры
сыграли Пушкинъ, Петръ Великій... И мы окружаемъ эту
личную роль Глинки тѣмъ болѣе свѣтлымъ нимбомъ исто-
рической славы и безсмертія, чѣмъ менѣе понятны намъ
истинныя причины внезапнаго возникновенія генія и чѣмъ
болѣе очевидны для насъ огромныя и тоже историческія по-
слѣдствія его творчества. А развѣ не очевидно, что ни
Даргомыжскій, ни „могучая кучка", ни Чайковскій, ни даже
Скрябинъ (въ техникѣ котораго черезъ головы постоянно
вліявшихъ на русскую музыку Шопена, Шумана и Листа
заключается гораздо больше пріемовъ русской школы, чѣмъ
это кажется съ перваго взгляда), что всѣ они, при явной и
яркой самостоятельности каждаго отдѣльнаго музыкально-ху-
дожественнаго лица, корнями своими глубоко уходятъ въ ту
музыкально-культурную почву, которая вспахана Глинкой? Но
въ этомъ же вопросѣ развѣ не заключается уже „ограниченіе"
для творчества Глинки? Быть-можетъ, это ограниченіе даже
почетно и неизбѣжно по отношенію къ людямъ столь исклю-
чительной величины. Но въ то же время оно-то и кладетъ
свой отпечатокъ на современное отношеніе къ Глинкѣ, оно-
то и обусловливаетъ разницу между взглядами на его твор-
чество музыкантовъ разныхъ поколѣній. Вѣрнѣе сказать, здѣсь
не разница между взглядами, а разница между двумя
разницами, между разницей взглядовъ на искусство
Глинки и разницей вкусовъ къ нему. Единственное „огра-
ниченіе" по отношенію къ отцу русской оперы въ томъ и
состоитъ, что въ то время, какъ нашъ взглядъ на Глинку
все болѣе расширялся, въ то время, какъ въ полѣ нашего
музыкально-историческаго зрѣнія фигура Глинки пріобрѣтала
все большіе размѣры, въ то же самое время нашъ непосред-
ственный вкусъ къ музыкѣ Глинки, дѣйствительно, падалъ.
Конечно, не слѣдуетъ это паденіе вкуса понимаіь въ слиш-
51
4*
комъ прямомъ и грубомъ смыслѣ. Я думаю, среди музыкан-
товъ, по крайней мѣрѣ, русскихъ не найдется никого, кто бы
даже слабѣйшія страницы Глинки назвалъ безусловно слабыми,
кто бы не сдѣлалъ къ этой слабости существенныхъ истори-
ческихъ поправокъ. Но вѣдь это уже „рефлексія", а не жи-
вое впечатлѣніе! Та же исторія, та же историческая перспек-
тива, что создала Глинкѣ высшія права на безсмертіе,—она
же создала и эту рефлексію. И эта рефлексія заставляетъ насъ
не только исторически оправдывать слабѣйшія (по нынѣш-
нимъ вкусамъ) мысли Глинки; она же уменьшаетъ силу непо-
средственнаго, „вкусового" воздѣйствія на насъ многихъ, не-
рѣдко даже лучшихъ вдохновеній Глинки. Глинка далъ вели-
чайшій, въ исторіи русской музыки, единственный толчокъ
къ развитію нашей музыки. Но, выражаясь языкомъ физики,
тому же Глинкѣ и какъ разъ благодаря колоссальной энергіи
этого толчка, приходится нынѣ испытывать на себѣ дѣйствіе
музыкально-исторической „отдачи", чего-то въ родѣ „возврат-
наго удара". Ученики Глинки, а сюда въ широкомъ смыслѣ
слова относятся чуть не всѣ позднѣйшіе русскіе композиторы,
такъ развили и усложнили музыку своего великаго учителя,
такъ раффинировали его музыкальные пріемы, такъ отшлифо-
вали и въ такія великолѣпныя оправы вставили всѣ драго-
цѣнности, что щедрой рукой, но нерѣдко еще въ сыроватомъ
видѣ разсыпаны по страницамъ его партитуръ, что музыка
самого Глинки, вопреки условіямъ исторіи, но согласно съ
данными нашего прямого эстетическаго воспріятія, стала про-
изводить впечатлѣніе какъ бы обѣдненной музыки Балаки-
рева, Бородина, Р.-Корсакова. Конечно, это лишь своеобраз-
ная, возвратная иллюзія вкуса. Но эта иллюзія непреоборима,
неизбѣжна; она создается по отношенію ко всѣмъ геніямъ,
порождавшимъ „школы", дѣлавшимъ исторію.
Какіе же выводы изъ сказаннаго, и гдѣ же обѣщанные
мною выходы изъ офиціальнаго уваженія къ памяти вели-
52
каго художника-музыканта въ сторону искренней любви къ
нему? Неужели прекрасное искусство его нынѣ представляется
намъ хотя бы грандіозной, но всего лишь подготовительной
ступенью къ „школѣ" Р.-Корсакова? Нѣтъ. Пусть добрая по-
ловина „Жизни за Царя", дѣйствительно, устарѣла, пусть ро-
мансы Глинки „представляютъ собою переходную ступень отъ
дилетантскихъ произведеній этого рода первыхъ десятилѣтій
XIX в. къ полному расцвѣту формы у композиторовъ позднѣй-
шаго времени" (Кашкинъ). Пусть даже въ совершеннѣйшемъ
твореніи Глинки—въ „Русланѣ", многое кажется намъ нынѣ
устарѣвшимъ и слабымъ, какъ большая часть партіи Людмилы,
танцы 3-го акта. Пусть даже иныя, въ общемъ превосходныя
сцены обѣихъ оперъ Глинки, кажутся намъ слишкомъ прими-
тивны по фактурѣ, а многіе финалы звучатъ слишкомъ фор-
мально. Пусть въ „Жизни за Царя" законченность и симме-
тричность формъ речитатива переходитъ почти въ недостатокъ,
несмотря на всю его мелодическую значительность" (Кашкинъ).
Пусть музыка Глинки, даже въ моментахъ высшей ея вдохно-
венности, часто проигрываетъ на сценѣ изъ-за безобразныхъ
либретто, страдающихъ совершенно недопустимымъ, по ны-
нѣшнимъ временамъ, отсутствіемъ внѣшней логики, литера-
турности („Жизнь за Царя"), драматической связности („Рус-
ланъ “). Развѣ все это можетъ умалить поразительную музы-
кальную красоту и содержательность такихъ перловъ глин-
кинской музыки, какъ „Польскій актъ" или знаменитый „Эпи-
логъ" изъ „Жизни за Царя", какъ знаменитая увертюра,
канонъ, пѣсня Баяна, безподобные хоры, столь восхищавшая
покойнаго Лароша баллада Финна въ „Русланѣ". Да, за вы-
четомъ слабой и устарѣвшей музыки, какъ много еще остается
въ операхъ Глинки (не забудемъ также князя Холмскаго и
„Испанскихъ увертюръ") дивныхъ страницъ, могущихъ еще
на долгіе дни сохранить силу непосредственнаго обаянія надъ
душой музыканта!
53
Но даже „устарѣвшая" музыка Глинки имѣетъ свое зна-
ченіе и не только историческое. Нерѣдко все несчастье уста-
рѣвшихъ вещей только въ томъ, что эта музыка вчерашняго
дня, что она лишь устарѣла, а не стала еще старинной. По-
дождемъ. Пусть пройдетъ еще полвѣка. Пусть Глинка уста-
рѣетъ уже не наполовину, какъ теперь, а весь, нацѣло. Быть-
можетъ, тогда мы замѣтимъ то, о чемъ сейчасъ можно гово-
рить только гадательно. Бетховенъ, Моцартъ, Глюкъ — вѣдь
всѣ эти „безсмертные европейцы" давно потеряли для насъ
всю музыкальную кровь и плоть свою. Вся техника ихъ, всѣ
формы ихъ музыкальнаго мышленія, пріемы ихъ мелодіи, гар-
моніи, оркестровки, вся внѣшняя сторона ихъ музыки без-
возвратно утратила для насъ весь интересъ, все чувственное
содержаніе свое. Осталось—нѣчто безплотное, какъ бы лежа-
щее внѣ матеріальныхъ условій музыкальнаго творчества и
воспріятія. Это нѣчто — великій творческій духъ, невидимо
рѣющій надъ всѣми условностями уже пережитой музыкаль-
ной эпохи, надъ всяческой устарѣлостью и старомодностью.
Сила живого геніальнаго творчества по истинѣ способна тво-
рить чудеса. Она предохраняетъ иную старомодную му-
зыку отъ художественнаго тлѣнія. Она обращаетъ ее съ тече-
ніемъ времени въ музыку старинную, она заставляетъ, ка-
залось бы, окончательно изжитыя условности формы и мысли
внезапно затрепетать трепетомъ новой жизни. Самая старо-
модность получаетъ мало-по-малу въ нашихъ глазахъ то оча-
рованіе, которое связано у насъ съ понятіемъ старой манеры,
стараго стиля. Эта-то стильность уже чувствуется въ уста-
рѣвшихъ и, быть-можетъ, всего болѣе, въ самыхъ устарѣв-
шихъ именно вещахъ Глинки, напр., въ его раннихъ роман-
сахъ. И не будетъ преувеличеніемъ сказать, что если первое
мѣсто Глинки въ Пантеонѣ русскихъ музыкантовъ обезпе-
чено всѣмъ ходомъ нашей музыкальной исторіи и всей сум-
мой яркихъ впечатлѣній отъ тѣхъ созданій Глинки, которыя
54
и понынѣ блещутъ полной яркостью рисунка и красокъ, то
для Европы, для европейскаго безсмертія (о чемъ писалъ Ста-
совъ) надо искать главныхъ залоговъ не въ націонализмѣ
Глинки, не въ исторической роли, до которой Европѣ вре-
менъ Регера, Штрауса и Дебюсси въ сущности мало дѣла,—
но именно въ особой манерѣ глинкинскаго письма, въ осо-
бомъ чрезвычайно законченномъ и въ высокой степени зако-
номѣрномъ стилѣ музыкальнаго мышленія Глинки. Именно въ
освѣщеніи стиля Глинки, притомъ не отвлеченно-стариннаго,
но ярко-личнаго стиля получаютъ художественный смыслъ,
пріобрѣтаютъ новую жизнь и обаяніе, всѣ эти примитивности,
наивности, даже банальности глинкинскаго музыкальнаго языка,
даже извѣстная мозаичность самого стиля, въ смыслѣ смѣше-
нія въ немъ разнородныхъ элементовъ (главнымъ образомъ,
русскихъ и итальянскихъ). Въ чемъ же этотъ стиль Глинки?
Прямой отвѣтъ на этотъ вопросъ крайне затруднителенъ, если
только возможенъ. Будемъ ли мы говорить о свѣтломъ идеа-
лизмѣ, проникающемъ собой все музыкальное міровоззрѣніе
Глинки, напомнимъ ли мы объ искусствѣ Глинки давать мѣт-
кую, хотя очень общую музыкальную характеристику опер-
нымъ персонажамъ, укажемъ ли мы на рѣдкій аристократизмъ
лучшихъ мелодій и гармоній Глинки, на простоту и въ то же
время свѣжесть его полифоническихъ комбинацій, на его анти-
патію ко всему вычурному и преувеличенному, на постоянное
преобладаніе въ сочиненіяхъ Глинки чисто-музыкальнаго инте-
реса надъ всякаго рода условіями музыкально-драматической
„выразительности“ и „изобразительности"; обратимся ли мы,
наконецъ, къ изученію чисто-технической стороны въ произ-
веденіяхъ Глинки, съ цѣлью установить его инстинктивное
влеченіе къ діатоническимъ построеніямъ и церковнымъ ла-
дамъ, т.-е. къ тому, что впослѣдствіи было выдвинуто въ
качествѣ основного принципа русской пѣсни, — все это при-
знаки неопредѣленные, формальные, которые вянутъ, мерк-
55
нутъ при живомъ соприкосновеніи съ настоящими образцами
глинкинскаго стиля, при непосредственномъ слушаніи лучшихъ
страницъ глинкинскихъ оперъ. Истинное, вѣрное пониманіе
глинкинскаго стиля дается яснѣе и проще всего, когда мы
слушаемъ музыку. И мнѣ кажется, съ одной стороны, живая
красота тѣхъ мыслей Глинки, которыя до сихъ поръ не утра-
тили своей свѣжести; съ другой стороны, строгая и плѣни-
тельная стильность той музыки его, которая для насъ, вообще
говоря, уже устарѣла, и которая все больше стилизуется въ
нашемъ художественномъ сознаніи по мѣрѣ ея дальнѣйшаго
устарѣнія—вотъ почва, на которой можетъ разрастись самая
горячая, самая искренняя и непосредственная любовь къ Глинкѣ
со стороны не только русскихъ, но и западно-европейскихъ
поклонниковъ того классически законченнаго, аполлонически-
яснаго искусства, выразителемъ котораго въ Германіи былъ
Моцартъ, въ Россіи—авторъ оперы, ежегодно открывающей
собой сезонъ на казенныхъ сценахъ. Сравненіе съ Моцартомъ
не случайно, ибо Глинка явился не только первой ласточкой
отъ русской музыки въ странахъ Керубини и Моцарта, но и
наоборотъ, привилъ отечественному искусству музыкальную
образованность французскихъ и нѣмецкихъ композиторовъ.
И если никто и никогда не забудетъ имени Глинки, какъ
перваго зачинателя нашей національной музыки, то нельзя
забывать также и о томъ, какими средствами вознесъ Глинка
русское искусство на небывалую ранѣе высоту. Это средство
Глинка нашелъ въ тѣснѣйшемъ единеніи русскаго содержа-
нія съ европейской техникой, въ стильномъ примѣненіи ея
основныхъ, на Западѣ вѣками вырабатывавшихся принциповъ
къ нашему національному, музыкальному матеріалу. Прору-
бивъ музыкальное окно въ Европу, Глинка овѣялъ нашу
древнюю мысль-пѣсню свѣжимъ воздухомъ иныхъ странъ и
культуръ и тѣмъ разбудилъ дремавшія въ ней и, вплоть до
Глинки непочатыя, возможности къ богатѣйшему тематиче-
56
скому и гармоническому ея развитію. И подобно тому, какъ
реформы Петра Великаго, ничуть не нарушая истинной, само-
бытной физіономіи народа, лишь пріобщили его къ формамъ
болѣе высокихъ цивилизацій, точно такъ же оперы Глинки лишь
возвели сырой матеріалъ русской мелодіи въ перлъ высоко-
художественнаго и высоко-культурнаго созданія.
В. Каратыгинъ.
Литературныя мечтанія.
(Отрывокъ.)
Вотъ что, милостивые государи: хотя я не имѣю чести
быть барономъ, но у меня есть своя фантазія, вслѣдствіе ко-
торой я упорно держусь той роковой мысли, что, несмотря
на то, что нашъ Сумароковъ далеко оставилъ за собою въ
трагедіяхъ г-на Корнеля и г-на Расина, а въ притчахъ г-на
Лафонтена: что нашъ Херасковъ, въ прославленіи на лирѣ
громкой славы Россовъ, сравнялся съ Гомеромъ и Виргиліемъ,
и подъ щитомъ Владимира и Іоанна подобру и здорову про-
брался въ храмъ безсмертія, т.-е. во „Всеобщую исторію “
Кайданова; что нашъ Пушкинъ въ самое короткое время успѣлъ
встать на ряду съ Байрономъ и сдѣлаться представителемъ
человѣчества; несмотря на то, что нашъ неистощимый Ѳаддей
Венедиктовичъ Булгаринъ, истинный бичъ и гонитель злыхъ
пороковъ, уже десять лѣтъ доказываетъ въ своихъ сочинені-
яхъ, что не годится плутовать и мошенничать человѣку соттѳ
іі Гаиі, что пьянство и воровство суть грѣхи непроститель-
ные, и который своими нраво-описательными и нравственно-
сатирическими (не правильнѣе ли полицейскими) романами и
народно-юмористическими статейками на цѣлыя столѣтія дви-
нулъ впередъ наше гостепріимное отечество по части нраво-
57
исправленія; несмотря на то, что нашъ юный левъ поэзіи,
нашъ могущественный Кукольникъ съ перваго прыжка догналъ
всеобъемлющаго исполина Гёте и только со второго поотсталъ
немного отъ Крюковскаго; несмотря на то, что нашъ досто-
почтенный Николай Ивановичъ Гречъ (вкупѣ и любѣ съ
Ѳаддеемъ Венедиктовичемъ) разанатомировалъ, разнялъ по
суставамъ нашъ языкъ и представилъ его законы въ своей
тройственной грамматикѣ—этой истинной скиніи завѣта, куда
кромѣ его, Николая Ивановича Греча и друга его Ѳаддея
Венедиктовича, еще доселѣ не ступала нога ни одного про-
фана; тотъ Николай Ивановичъ Гречъ, который во всю жизнь
свою не дѣлалъ грамматическихъ ошибокъ и только въ своемъ
дивномъ поэтическомъ созданіи—„Черная женщина"—еще въ
первый разъ, по уликѣ чувствительнаго князя Шаликова, поссо-
рился съ грамматикой, видно увлекшись слишкомъ разыграв-
шейся фантазіей; несмотря на то, что нашъ Калашниковъ за-
ткнулъ за поясъ Купера въ роскошныхъ описаніяхъ безбреж-
ныхъ пустынь русской Америки—Сибири, и въ изображеніи
ея дикихъ красотъ; несмотря на то, что нашъ геніальный
баронъ Брамбеусъ своей толстой фантастической книгой на-
смерть пришлепнулъ Шамполіона и Кювье, двухъ величайшихъ
шарлатановъ и надувателей, которыхъ невѣжественная Европа
имѣла глупость почитать доселѣ великими учеными, а въ ѣд-
комъ остроуміи смялъ подъ ноги Вольтера, перваго въ мірѣ
остроумца и балагура; несмотря, говорю я, на убѣдительное
и краснорѣчивое опроверженіе нелѣпой мысли, будто у насъ
нѣтъ литературы—опроверженіе такъ умно и сильно провоз-
глашенное въ „ Библіотекѣ для чтенія “ глубокомысленнымъ
азіатскимъ критикомъ Тютюнджи-Оглу, — несмотря на все
это, утверждаю: у насъ нѣтъ литературы!..
В. Бѣлинскій
58
Святогоръ.
Снарядился Святогоръ во чисто поле гуляти,
Засѣдлаетъ своего добра коня
И ѣдетъ по чисту полю.
Не съ кѣмъ Святогору силой помѣриться,
А сила-то по жилочкамъ
Такъ живчикомъ и переливается.
Грузно отъ силушки, какъ отъ тяжелаго беремени.
Вотъ и говоритъ Свягогоръ:
„Какъ бы я тяги нашелъ,
Такъ я бы всю землю поднялъ!“
Наѣзжаетъ Святогоръ въ степи
На маленькую сумочку переметную;
Беретъ погонялку, пощупаетъ сумочку, — она не скрянегся,
Двинетъ перстомъ се, — не сворохнется,
Хватитъ съ копя рукою,—не подымется:
„Много годовъ я по свѣту ѣзживалъ,
А эдакаго чуда не наѣзживалъ,
Такого дива не видывалъ:
Маленькая сумочка переметная
Не скрянется, не сворохнется, не подымется!"
Слѣзаетъ Святогоръ съ добра коня,
Ухватилъ онъ сумочку обѣма рукама,
Поднялъ сумочку повыше колѣнъ —
И по колѣна Святогоръ въ землю угрязъ,
А по бѣлу лицу не слезы, а кровь течетъ.
Гдѣ Святогоръ угрязъ, тутъ и встать не могъ,
Тутъ ему было и кончаніе.
Вол^ъ Всеславьевичъ.
А и на небѣ просвѣти свѣтелъ мѣсицъ
А въ Кіевѣ родился могучъ богатырь,
Какъ бы молодой Волхъ Всеславьевичъ:
Подрожала сыра земля,
Стряслося славно царство Индѣйское,
59
А синее море сколебалося
Для - ради рожденія богатырскаго—
Молода Волха Всеславьевича:
Рыба пошла въ морскую глубину,
Птица полетѣла высоко въ небеса,
Туры да олени за горы пошли,
Зайцы, лисицы по чащицамъ.
А волки, медвѣди по ельникамъ,
Соболи, куницы по островамъ.
А и будетъ Волхъ въ полтора часа,
Волхъ говоритъ, какъ громъ гремитъ:
„А и гой еси, сударыня-матушка,
Молода Марѳа Всеславьевна!
А не пеленай во пеленку червчатую,
А не пояси во поясья шелковые,—
Пеленай меня, матушка,
Въ крѣпки латы булатныя,
А на буйну голову клади златъ шеломъ,
Во праву руку палицу,
А и тяжку палицу свинцовую.
А вѣсомъ та палица триста пудъ“.
А будетъ Волхъ семи годовъ,
Отдавала его матушка грамотѣ учиться,
А грамота Волху въ .наукъ пошла.
Посадила его ужъ перомъ писать,
Письмо ему въ наукъ пошло.
А и будетъ Волхъ десяти годовъ,
Втапоры научился Волхъ ко премудростямъ:
А и первой мудрости учился
Обертываться яснымъ соколомъ;
Ко другой-то мудрости учился онъ, Волхъ,
Обертываться сѣрымъ волкомъ;
Ко третьей-тс мудрости учился Волхъ
Обертываться гнѣдымъ туромъ — золотые рога.
А и будетъ Волхъ во двѣнадцать лѣтъ,
Сталъ себѣ Волхъ онъ дружину прибирать,
Дружину прибиралъ въ три года,
Онъ набралъ дружины себѣ семь тысячей;
60
Самъ онъ, Волхъ, въ пятнадцать лѣтъ
И вся его дружина по пятнадцати лѣтъ.
Прошла та слава великая
Ко стольному городу ко Кіеву:
Индѣйскій царь снаряжается
И хвалится - похваляется,
Хочетъ Кіевъ-градъ за щитомъ весь взятъ,
А Божіи церкви на дымъ спустить
И почестны монастыри въ разоръ разорить.
А втапоры Волхъ онъ догадливъ былъ:
Со всею дружиною хораброю
Ко славному царству Индѣйскому
Тутъ же съ ними во походъ пошелъ;
Дружина спитъ, такъ Волхъ не спитъ;
Онъ обернется сѣрымъ волкомъ,
Бѣгалъ, скакалъ по темнымъ лѣсамъ и по раменью,
А бьетъ онъ звѣри сохатые,
А и волку, медвѣдю спуску нѣтъ,
А и соболи, барсы любимый кусъ,
Онъ зайцамъ, лисицамъ не брезгивалъ.
Волхъ поилъ, кормилъ дружину хорабрую,
Обувалъ, одѣвалъ добрыхъ молодцевъ —
Носили они шубы соболиныя,
Перемѣнныя шубы - то барсовыя,-
Дружина спитъ, такъ Волхъ не спитъ:
Онъ обернется яснымъ соколомъ,
Полетѣлъ онъ далече на сине море,
А бьетъ онъ гусей, бѣлыхъ лебедей.
А и сѣрымъ малымъ уткамъ спуску нѣтъ.
А поилъ - кормилъ дружинушку хорабрую,
А всѣ у него были яства перемѣнныя,
Перемѣнныя яства сахарныя.
А сталъ онъ Волхъ вражбу чинить:
„А и гой еси, вы, удалы добры молодцы;
Не много не мало васъ—семь тысячей,
А и есть ли, братцы, у васъ такой молодецъ.
Кто - бъ обернулся гнѣдымъ туромъ,
А сбѣгалъ бы ко царству Индѣйскому,
61
Провѣдалъ бы про царство Индѣйское.
Про царя Салтыка Ставрульевича,
Про его буйну голову Батыевичу?”
Какъ бы листъ со травою пристилается,
А вся его дружина приклоняется,
Отвѣчаютъ ему удалы добры молодцы:
„Нѣтъ у насъ такого удалого,
Опричь тебя, Волха Всеславьсвича".
А тутъ таковой Всеславьевичъ
Онъ обернулся гнѣдымъ туромъ—золотые рога,
Побѣжалъ онъ ко царству Индѣйскому,
Онъ первый скокъ за цѣлую версту скочилъ,
А другой скокъ не могли найти;
Онъ обернется яснымъ соколомъ,
Полетѣлъ онъ ко царству Индѣйскому —
И сѣлъ на палаты бѣлокаменны,
На тѣ на палаты царскія,
Ко тому царю Индѣйскому,
И на то окошечко косящатое.
А и буйные вѣтры по насту тянутъ,
Царь со царицею въ разговоры говоритъ.
Говорила царица Азвяковна,
Молода Елена Александровна:
„А и гой еси ты, властный Индѣйскій царь,
Изволишь ты наряжаться на Русь воевать,
Про то не знаешь, не вѣдаешь,
А и па небѣ просвѣтя свѣтелъ мѣсяцъ,
А и въ Кіевѣ родился могучъ богатырь,
Тебѣ, царю, сопротивничекъ*1.
А втапоры Волхъ онъ догадливъ былъ:
Сидючи на окошкѣ косящатомъ,
Онъ тѣ-то де рѣчи повыслушалъ,
Онъ обернулся звѣремъ горностаемъ,
Бѣгалъ по подваламъ, по погребамъ,
По тѣмъ по высокимъ теремамъ.
У тугихъ луковъ тетивки накусывалъ,
У каленыхъ стрѣлъ желѣзки повынималъ;
У того ружья вѣдь у огненнаго
62
Кременья и шомполы повыдергалъ,
А все онъ въ землю закапывалъ.
Обернется Волхъ яснымъ соколомъ,
Звился онъ высоко по поднебесью,
Полетѣлъ онъ далече во чисто поле,
Полетѣлъ ко своей ко дружинѣ хорабрыя;
Дружина спитъ, такъ Волхъ не спитъ,
Разбудилъ онъ удалыхъ добрыхъ молодцевъ:
„Гой еси вы, дружина хорабрая!
Не время спать, пора вставать,
Пойдемъ мы ко царству Индѣйскому”.
И пришли они ко стѣнѣ бѣлокаменной:
Крѣпка стѣна бѣлокаменна:
Ворота у города желѣзныя,
Крюки, засовы всѣ мѣдные,
Стоятъ караулы денны, нощны,
Стоитъ подворотня — дорогъ рыбій зубъ.
Мудрены вырѣзы вырѣзаны,
А и только въ вырѣзу мурашу пойти;
И всѣ молодцы закручинилися,
Закручинилися и запечалилися.
Говорятъ таково слово:
„Потерять будетъ головки напрасныя.
А и какъ намъ будетъ стѣна пройти".
Молодой Волхъ онъ догадливъ былъ,
Самъ обернулся мурашикомъ
И всѣхъ добрыхъ молодцевъ мурашками,
Прошли они стѣну бѣлокаменну,
И стали молодцы ужъ на другой сторонѣ
Въ славномъ царствѣ Индѣйскіимъ;
А всѣмъ молодцамъ онъ приказъ отдаетъ:
„Гой еси вы, дружина хорабрая!
Ходите по царству Индѣйскому,
Рубите стараго, малаго.
Не оставьте въ царствѣ на сѣмена;
Оставьте только вы по выбору,
Не много не мало семь тысячей
Душечки красныя дѣвицы".
63
А и ходитъ его дружина по царству Индѣйскому,
А и рубитъ стараго, малаго,
А и только оставляютъ по выбору
Душечки красныя дѣвицы;
А самъ онъ Волхъ во палаты пошелъ,
Во тѣ во палаты во царскія,
Ко тому царю ко Индѣйскому:
Двери были у палатъ желѣзныя,
Крюки, пробои по булату злачены.
Говоритъ тутъ Волхъ Всеславьевичъ:
„Хотя ногу изломить, а двери выставить".
Пнетъ*ногой во двери желѣзныя,
Изломалъ всѣ пробои булатные,
А славнаго царя Индѣйскаго
Салтыка Ставрульевича,
Ухватя его, ударилъ о кирпищатъ полъ,
Расшибъ его въ крохи малыя...
И тутъ Волхъ самъ царемъ насѣлъ,
Взявши царицу Азвяковну,
А и младу Елену Александровну.
А и та-то его дружина хорабрая
И на тѣхъ на дѣвицахъ пережснилася.
Вольга Святославговичъ и Макула Селяни-
новичъ.
Когда возсіяло солнце красное
На это на небушко на ясное,
Тогда зарождался молодой Вольга,
Молодой Вольга Святославговичъ.
Сталъ Вольга растѣть-матереть;
Похотѣлося Вольтѣ много мудрости:
Щукой-рыбой ходить ему въ глубокіихъ моряхъ,
Птицей - соколомъ летать подъ оболока,
Сѣрымъ волкомъ рыскать во чистыхъ поляхъ;
Уходили всѣ рыбы во синія моря,
Улетали всѣ птички за оболока
64
Убѣгали всѣ звѣри во темные лѣса.
Сталъ Вольта растѣть - матерѣть,
Избирать себѣ дружинушку хорабрую,
Тридцать молодцевъ безъ единаго,
Самъ еще Вольга во тридцатыихъ.
Жаловалъ его родной дядюшка,
Ласковый Владимиръ стольно-Кіевскій,
Тремя городами со крестьянами:
Первымъ городомъ—Гурчевцемъ,
Другіимъ городомъ— Орѣховцемъ,
Третіимъ городомъ—Крестьяновцемъ.
Молодой Вольга Святославговичъ
Со своею дружинушкой хораброю
Онъ поѣхалъ къ городамъ за получкою.
Выѣхалъ въ раздолице-чисто поле,
Онъ услышалъ въ чистомъ полѣ ратая;
Оретъ въ полѣ ратай, понукиваетъ,
Сошка у ратая поскрипываетъ,
Омѣшики по камешкамъ почеркиваютъ.
Ѣхалъ Вольга до ратая
День съ утра онъ до вечера,
Со своей дружинушкой хораброей,
А не могъ онъ до ратая доѣхати.
Ѣхалъ Вольга еще другой день,
Другой день съ утра до вечера,
А не могъ онъ до ратая доѣхати.
Оретъ въ полѣ ратай, понукиваетъ,
Сошка у ратая поскрипываетъ,
Омѣшики по камешкамъ почеркиваютъ.
Ѣхалъ Вольга еще третій день,
Третій день съ утра до пабѣдья,
Наѣхалъ онъ въ чистомъ полѣ ратая.
Оретъ въ полѣ ратай, понукиваетъ,
Съ края въ край бороздки пометываетъ;
Въ край онъ уѣдетъ, другого не видать;
Коренья, каменья вывертываетъ,
А великія-то всѣ каменья въ борозду валитъ,
Кобыла у ратая соловая,
65
Шкода чтеца
5
Сошка у ратая кленовая,
Гужики у ратая шелковые.
Говорилъ Вольта таковы слова:
„Божья ти помочь, оратаюшко!
Орать да пахать, да крестьянствовати,
Съ края въ край бороздки пометывати,
Коренья, каменья вывертывати!"
Говорилъ оратай таковы слова:
— Поди-тко, Вольта Святославговичъ,
Со своею дружинушкой хораброю,
Мнѣ-ка надобна Божья помочь крестьянствовати!
Далеко ль, Вольта, ѣдешь, куда путь держишь
Со своею со дружинушкой хораброю?
„Ай же ты, ратаю-ратаюшко!
"Ѣду къ городамъ за получкою:
Ко первому городу ко Гурчевцу,
Ко другому ко городу къ Орѣховцу,
Ко третьему городу ко Крестьяновцу".
Говорилъ оратай таковы слова:
— Ай же, Вольта Святославговичъ!
А не давно я былъ въ Городни, третьеводни,
На своей кобылкѣ соловоей,
Увезъ я оттоль соли только два мѣха,
Два мѣха соли по сороку пудъ.
И живутъ-то мужики все разбойники,
Они просятъ грошевъ подорожныихъ;
А былъ я съ шалыгой подорожною,
Платилъ имъ гроши подорожные:
Который стоя стоитъ, тотъ и сидя сидитъ,
А который сидя сидитъ, тотъ и лежа лежитъ.
Говоритъ Вольта таковы слова:
„Ай же, оратай-оратаюшко,
Поѣдемъ со мною въ товарищахъ!"
Этотъ оратай-оратаюшко
Гужики шелковеньки повыстегнулъ,
Кобылку изъ сошки повывернулъ,
Сѣли на добрыхъ коней, поѣхали.
Говоритъ оратай таковы слова:
66
— Ай же, Вольга Святославговичъ!
Оставилъ я сошку въ бороздочкѣ,
И не дляради прохожаго, проѣзжаго,
А для-ради мужика деревенщины.
Какъ бы сошку съ земельки повыдернути,
Изъ омѣшиковъ земельку повытряхнути,
И бросить бы сошку за ракитовъ кустъ?
Молодой Вольга Святославговичъ
Посылаетъ онъ съ дружинушки хорабрыя
Пять молодцевъ могучіихъ,
Чтобъ сошку съ земельки повыдернули,
Изъ омѣшиковъ земельку повытряхнули,
Бросили бы сошку за ракитовъ кустъ.
Эта дружинушка хорабрая,
Пять молодцевъ могучіихъ,
Пріѣхали къ сошкѣ кленовыя:
Они сошку за обжи вокругъ вертятъ,
А не могутъ сошки съ земельки повыдернуть,
Бросить сошки за ракитовъ кустъ.
Молодой Вольга Святославговичъ
Посылаетъ онъ цѣлыимъ десяточкомъ,
Чтобы сошку съ земельки повыдернули,
Изъ омѣшиковъ земельку повытряхнули,
Бросили бы сошку за ракитовъ кустъ.
Они сошку за обжи вокругъ вертятъ:
Сошки отъ земли поднять нельзя,
Не могутъ изъ омѣшиковъ земельки повытряхнути,
Бросить сошку за ракитовъ кустъ.
Посылалъ онъ всю дружинушку хорабрую:
Они сошку за обжи вокругъ вертятъ,
А не могутъ сошки съ земельки повыдернути,
Изъ омѣшиковъ земельки повытряхнути,
Бросить сошки за ракитовъ кустъ.
Подъѣхалъ оратай-оратаюшко
На своей кобылкѣ соловенькой
Ко этой ко сошкѣ кленовоей;
Бралъ-то онъ сошку одной рукой,
Сошку съ земельки повыдернулъ,
67
б
Изъ омѣшковъ земельку повытряхнулъ,
Бросилъ сошку за ракитовъ кустъ.
Сѣли на добрыхъ коней, поѣхали.
Говорилъ Вольга Святославговичъ:
„Ай же ты, ратаю-ратаюшко!
Какъ-то тебя именемъ зовутъ,
Какъ величаютъ по отчеству?"
Говорилъ оратай таковы слова:
— Ай же, Вольга Святославговичъ,
А я ржи напашу, да во скирды сложу,
Во скирды сложу, домой выволочу,
Домой выволочу, да дома вымолочу,
Драни надеру, да и пива наварю,
Пива наварю, да и мужичковъ напою.
Станутъ мужички меня покликивати:
„Молодой Микулушка Селяниновичъ!"
Чудесное исціьленіе Ильи Муродоца.
Кто бы намъ сказалъ про старое,
Про старое, про бывалое,
Про того Илью про Муромца?
Илья Муромецъ, сынъ Ивановичъ,
Онъ въ сидняхъ сидѣлъ тридцать три года;
Пришли къ нему нища братія,
Самъ Іисусъ Христосъ, два апостола:
„Ты поди, Илья, принеси испить!"
— Нища братія, я безъ рукъ, безъ ногъ!
„Ты вставай, Илья, насъ не обманывай!"
Илья сталъ вставать, ровно встрепаный;
Онъ пошелъ принесъ чашу въ полтора ведра,
Нищей братіи сталъ поднашивать;
Ему нищи отворачиваютъ;
Нища братія у Ильи спрашивали:
„Много ли, Илья, чуешь въ себѣ силушки?"
— Отъ земли столбъ былъ бы до небушки,
68
Ко столбу было золото кольцо,
За кольцо бы взялъ, Святорусску поворотилъ!
„Ты поди, Илья, принеси другу чашу!"
Илья сталъ имъ поднашивать,
Они Ильѣ отворачиваютъ;
Выпивалъ Илья безъ отдыха
Большу чашу въ полтора ведра.
Они у Ильи стали спрашивать:
„Много ли, Илья, чуешь въ себѣ силушки?"
— Во мнѣ силушки половинушка.—
„Проводи, Илья, насъ въ чисто поле,
Во чисто поле, къ высоку бугру,
Къ высоку бугру, ко раскатисту"
На бугрѣ Илья отдохнуть прилегъ,
Богатырскій сонъ на двѣнадцать денъ.
Онъ прославился сильнымъ воиномъ,
Богатыремъ сильнымъ-могучіимъ.
Илья Муромецъ и Соловей разбойникъ.
Снарядился Илья Муромецъ, Ивановичъ,
Поѣхалъ онъ лѣсами Брынскими.
Илья бьетъ коня по крутымъ бедрамъ,
По крутымъ бедрамъ, промежду ушей:
У него конь бѣжитъ, какъ соколъ летитъ,
Рѣки, озера промежъ ногъ беретъ;
Хвостомъ поля устилаются,
Старши богатыри дивуются:
„Нѣтъ краше на поѣздку Ильи Муромца!
У его поѣздка молодецкая,
Вся поступочка богатырская!"
Завидѣлъ его Соловей воръ-разбойничекъ.
Воръ-разбойничекъ да воръ Ахматовичъ:
„Вонъ-де ѣдетъ въ полѣ дѣтина, шатается,
Подъ нимъ конь подтыкается".
Засвисталъ Соловей по-соловьиному,
69
Забилъ въ доломи по-богатырскому,
Заревѣлъ вѣдь онъ по-звѣриному,
Зашипѣлъ воръ по-змѣиному:
Темны лѣса отъ его реву къ землѣ преклонилися;
Мать-рѣка Смородина со пескомъ сомутилася;
Въ то время подъ Ильей конь на колѣни палъ.
Илья бьетъ коня по крутымъ бедрамъ,
Еще самъ онъ коню приговариваетъ:
„Ахъ ты, конь, ты, конь, травяной мѣшокъ,
Травяной мѣшокъ, лошадь добрая!
Будь заступчива, да не уступчива.
Чего ты, лошадь, перепалася?
Не слыхала ли ты экова реву коровьяго,
Писку-верезгу дроздоваго?“
Вынималъ Илья Муромецъ
Изъ кармана изъ лѣваго
Свой тугой лукъ, калены стрѣлы;
Онъ натягивалъ свой тугой лугъ,
Калены стрѣлы да накладывалъ.
Еще самъ стрѣламъ приговаривалъ:
„Полетите, мои стрѣлы каленыя,
Всѣ переныя да начиненыя,
Повыше лѣсу дремучаго,
Пониже облака ходячаго,
Вы падите Соловью вору-разбойнику
Въ тепло гнѣздо да во бубну голову,
И во самый-то во правый глазъ,
И вередите ему сердце ретивое!"
Полетѣли стрѣлы каленыя,
Всѣ переныя да начиненыя,
Повыше лѣсу дремучаго,
Пониже облака ходячаго.
Еще пали Соловью вору-разбойнику
Въ тепло гнѣздо да во буйну голову
И во самый-то во правый глазъ.
Вередили ему сердце ретивое.
И взялъ Илья Муромецъ Соловья
Вора-разбойника да вора-Ахматова
70
И поѣхалъ впередъ подъ восточную сторону,
Во Сибирскія во украины.
Пріѣзжалъ Илья до городу да до Кіеву,
Становилъ коня да середи двора,
Становилъ онъ да не привязывалъ,
Никому держать не приказывалъ;
Онъ пошелъ во гридню во свѣтлую
Къ ласковому князю ко Владимиру,
И молился онъ Спасу со Пречистою,
Поклонился князю со княгинею
И на всѣ на четыре стороны.
У великаго князя у Владимира
Втапоры былъ почестный пиръ;
А и много на пиру было князей и бояръ,
Много сильныхъ и могучихъ богатырей;
И поднесли ему, Ильѣ, чару зелена вина въ полтора ведра:
Принимаетъ Илья единой рукой,
Выпиваетъ чару единымъ духомъ.
Говорилъ ему ласковый Владимиръ князь:
„Ты скажись, молодецъ, какъ именемъ зовутъ,
А по имени тебѣ можно мѣсто дать,
По изотчеству пожаловати».
И отвѣчаетъ Илья Муромецъ Ивановичъ:
— А ты ласковый, стольный Владимиръ князь!
А меня зовутъ Илья Муромецъ, сынъ Ивановичъ;
И проѣхалъ я дорогу прямоѣзжую
Изъ стольнаго города изъ Мурома,
Изъ того села Корачаева.
Говорятъ тутъ могучіе богатыри:
„А ласково солнце, Владимиръ князь,
Въ очахъ дѣтина завирается:
А гдѣ ему проѣхать дорогою прямоѣзжею?
Залегла та дорога тридцать лѣтъ,
Отъ того Соловья разбойника".
Говоритъ Илья Муромецъ:
— Гой еси ты, сударь, Владимиръ князь,
71
Посмотри мою удачу богатырскую,
Вонъ я привезъ Соловья разбойника на дворъ къ тебѣ.
И втапоры Илья Муромецъ
Пошелъ съ великимъ княземъ на широкій дворъ
Смотрѣть его удачи богатырскія.
Выходили туто князи, бояра,
Всѣ русскіе могучіе богатыри:
Самсонъ богатырь Колывановичъ,
Суханъ богатырь, сынъ Домантьевичъ,
Святогоръ богатырь и Полканъ другой,
И семь-то братовъ Зобродовичи,
Еще мужики были Залѣшаны,
А еще два брата Хапиловы,
Только было у князя ихъ тридцать молодцевъ.
Выходилъ Илья на широкій дворъ,
Къ тому Соловью разбойнику,
Онъ Соловья сталъ уговаривать:
— Ты послушай меня, Соловей разбойникъ младъі
Посвисти, Соловей, по-соловьиному,
Пошипи, змѣй, по-змѣиному,
Зрявкай, звѣрь, по-туриному,
И потѣшь князя Владимира.
Засвисталъ Соловей по-соловьиному,
Оглушилъ онъ въ Кіевѣ князей и бояръ;
Зашипѣлъ злодѣй по-змѣиному;
Онъ втретье зрявкаетъ по-туриному,
А и князи и бояра испужалися,
На колѣнкахъ по двору наползалися
И всѣ сильны богатыри могучіе.
И накурилъ онъ бѣды несносныя:
Гостины кони со двора разбѣжалися,
И Владимиръ князь едва живъ стоитъ,
Съ душою княгиней Апраксѣевной.
Говорилъ тутъ ласковый Владимиръ князь:
„А и ты, гой еси, Илья Муромецъ, сынъ Ивановичъ!
Уйми ты Соловья разбойника;
А и эта шутка намъ не надобна
Сталъ Илья унимать его да по-свойскому:
72
Онъ схватилъ его да за черные кудри,
Еще билъ его да о сыру землю о матушку;
Онъ въ подверхъ его кидалъ
Выше башни наугольныя,
Онъ остатки его хлопнулъ о сѣрой камень;
Соловью отъ себя скоро смерть пришла.
Нлеша Поповичъ.
Изъ славнаго Ростова, красна города,
Какъ два ясные сокола вылетывали,
Выѣзжали два могучіе богатыря,
Что по имени Алешенька Поповичъ младъ
А со молодымъ Екимомъ Ивановичемъ.
Они ѣздятъ богатыри плечо о плечо,
Стремяно въ стремяно богатырское;
Они ѣздили, гуляли по чисту полю,
Ничего они въ чистомъ полѣ не наѣзживали,
Не видали птицы перелетныя,
Не видали они звѣря прыскучаго;
Только въ чистомъ полѣ наѣхали:
Лежатъ три дороги широкія,
Промсжу тѣхъ дорогъ лежитъ горючъ камень,
А на камени подпись подписана.
Возговоритъ Алеша Поповичъ младъ:
„А и ты, братецъ Екимъ Ивановичъ!
Въ грамотѣ поученой человѣкъ,
Посмотри на камени подписи,
Что на камени подписано".
И скочилъ Екимъ съ добра коня,
Посмотрѣлъ на камени подписи,
Расписаны дороги широкія:
„Первая дорога въ Муромъ лежитъ,
Другая дорога въ Черниговъ градъ,
Третья—ко городу ко Кіеву,
Ко ласкову князю Владимиру".
Говорилъ тутъ Екимъ Ивановичъ:
73
„А и братецъ Алеша Поповичъ младъ,
Которой дорогой изволишь ѣхати?"
Говорилъ ему Алеша Поповичъ младъ:
—Лучше намъ ѣхать ко городу ко Кіеву,
Ко ласковому князю Владимиру.
Втапоры поворотили добрыхъ коней
И поѣхали они ко городу ко Кіеву;
Не доѣхавши они до Сафатъ-рѣки,
Становились на лугахъ на зеленыихъ.
Надо Алешѣ покормить добрыхъ коней.
Разставили тутъ два бѣла шатра,
Что изволилъ Алеша опочивъ держать.
А и мало время позамѣшкавши,
Молодой Екимъ добрыхъ коней,
Стреножимши, въ зеленъ лугъ пустилъ,
Самъ ложился въ свой шатеръ опочивъ держать.
Прошла та ночь осенняя,
Ото сну пробуждается,
Встаетъ рано, ранешенько,
Утренней зарей умывается,
Бѣлою ширинкою утирается,
На востокъ онъ, Алеша, Богу молится.
Молодой Екимъ, сынъ Ивановичъ,
Скоро сходилъ по добрыхъ коней,
А сводилъ ихъ поить на Сафатъ на рѣку
И приказалъ ему Алеша
Скоро сѣдлать добрыхъ коней;
Наряжаются они ѣхать ко городу ко Кіеву.
Пришелъ тутъ къ нимъ калика перехожій:
Лапотки на немъ семи шелковъ,
Подковырены чистымъ серебромъ,
Личико унизано краснымъ золотомъ,
Шуба соболиная, долгополая,
Шляпа сорочинская, земли Греческой,
Въ тридцать пудъ шелепуга подорожная,
Налита свинцу чебурацкаго.
Говорилъ онъ таково слово:
„Гой вы еси, удалы добры молодцы!
74
Видѣлъ я Тугарина Змѣевича;
Въ вышину ли онъ, Тугаринъ, трехъ саженъ,
Промежъ плечей косая сажень,
Промежу глазъ калена стрѣла;
Конь подъ нимъ, какъ лютой звѣрь,
Изъ хайлища пламя пышетъ жгучее,
Изъ ушей дымъ столбомъ стоитъ".
Привязался Алеша Поповичъ младъ:
— А и ты, братецъ, калика перехожая!
Дай мнѣ платье каличее,
Возьми мое богатырское:
Лапотки свои семи шелковъ,
Подковырены чистымъ серебромъ,
Личико унизано краснымъ золотомъ,
Шубу свою соболиную, долгополую,
Шляпу Сорочинскую, земли Греческой,
Въ тридцать пудъ шелепугу подорожную,
Налиту свинцу чебурацкаго.
Даетъ свое платье калика Алешѣ Поповичу,
Не отказываючи, а на себя надѣвалъ
То платье богатырское.
Скоро Алеша каликою наряжается,
И взялъ шелепугу дорожную,
Котора была въ тридцать пудъ,
И взялъ въ запасъ чингалище булатное,
Пошелъ за Сафатъ-рѣку.
Завидѣлъ тутъ Тугаринъ Змѣевичъ младъ,
Заревѣлъ зычнымъ голосомъ,
Подрожала дубровушка зеленая,
Алеша Поповичъ едва живъ идетъ.
Говорилъ тутъ Тугаринъ Змѣевичъ младъ:
„Гой еси, калика перехожая!
А гдѣ ты слыхалъ и гдѣ видалъ
Про млада Алешу Поповича?
А и я бы Алешу копьемъ закололъ,
Копьемъ закололъ и огнемъ спалилъ".
Говоритъ тутъ Алеша каликою:
— А и ты, гой еси, Тугаринъ Змѣевичъ младъ.
75
Поѣзжай-ка поближе ко мнѣ:
Не слышу я, что ты говоришь.
И подъѣзжалъ къ нему Тугаринъ Змѣевичъ младъ.
Сверстался Алеша Поповичъ младъ
Противъ Тугарина Змѣевича,
Хлеснулъ его шелепугою по буйной головѣ,
Расшибъ ему буйну голову.
И упалъ Тугаринъ на сыру землю,
Вскочилъ ему Алеша на черну грудь.
Втапоры взмолится Тугаринъ Змѣевичъ младъ:
„Гой еси ты, калика перехожая!
Не ты ли Алеша Поповичъ младъ?
Ежли ты Алеша Поповичъ младъ,
Семъ побратаемся съ тобой”.
Втапоры Алеша врагу не вѣровалъ,
Отрѣзалъ тутъ ему голову прочь,
Платье съ него снималъ цвѣтное
На сто тысячей и все платье на себя надѣвалъ,
Садился на его добра коня
И поѣхалъ къ своимъ бѣлымъ шатрамъ.
Втапоры увидѣли Екимъ Ивановичъ
И калика перехожая,
Испугались его, сѣли на добрыхъ коней,
Побѣжали ко городу Ростову.
И постигаетъ ихъ Алеша Поповичъ младъ.
Обернется Екимъ Ивановичъ,
Онъ выдергивалъ палицу боевую въ тридцать пудъ,
Бросилъ назадъ себя:
Показался ему, что Тугаринъ Змѣевичъ младъ.
И угодилъ въ грудь бѣлую Алеши Поповича,
Сшибъ изъ сѣделечка черкасскаго,
И упалъ Алеша на сыру землю.
Втапоры Екимъ Ивановичъ
Скочилъ съ добра коня, сѣлъ на грудь ему,
Хочетъ пороть ему грудь бѣлую,
И увидѣлъ на немъ золотъ чуденъ крестъ,
Самъ заплакалъ, говорилъ каликѣ перехожему:
„По грѣхамъ надо мною, Екимомъ, учинилося,
76
Что убилъ своего братца родимаго".
И стали его оба трясти и качать,
И потомъ подали ему питья заморскаго;
Отъ того питья онъ здравымъ сталъ.
Стали они говорити и между собою платьемъ мѣнятися;
Калика надѣвалъ свое платье наличіе,
А Алеша свое богатырское,
А Тугарина Змѣевича платье цвѣтное
Клали въ чемоданъ къ себѣ.
Сѣли они на добрыхъ коней
И поѣхали всѣ ко городу ко Кіеву,
Ко ласковому князю ко Владимиру.
Василіи Буслаевичъ.
Жилъ Буславыошка—не старился,
Живучись Буславыошка преставился.
Оставалось у Буслава чадо милое,
Милое чадо родимое,
Молодой Васильюшка Буслаевичъ.
Сталъ Васенька на улочку похаживать,
Не легкія шуточки пошучивать:
За руку возьметъ, рука прочь,
За ногу возьметъ, нога прочь,
А котораго ударитъ по горбу,
Тотъ пойдетъ—самъ сутулится.
И говорятъ мужики новгородскіе:
„Ай же ты, Васильюшка БуслаевичъІ
Тебѣ съ эстою удачей молодецкою
Наквасисти рѣка будетъ Волхова".
Идетъ Василій въ широкія улочки,
Не веселъ домой идетъ, нерадошенъ,
И встрѣчаетъ его желанная матушка,
Честная вдова Авдотья Васильевна:
—Ай же ты, мое чадо милое,
Милое чадо родимое,
Молодой Васильюшка Буслаевичъ,
77
Что идешь невеселъ, нерадошенъ?
Кто же тя на улушкѣ пріобидѣлъ?
„А никто меня на улушкѣ не обидѣлъ:
Я кого возьму за руку, рука прочь,
За ногу кого возьму, нога прочь,
А котораго ударю по горбу,
Тотъ пойдетъ—самъ сутулится.
А говорили мужики новогородскіе,
Что мнѣ съ эстою удачей молодецкою
Наквасисти рѣка будетъ Волхова14.
И говоритъ мать таковы слова:
—Ай же ты, Василыошка Буслаевичъ!
Прибирай-ка себѣ дружину хорабрую,
Чтобъ никто тя въ Новѣградѣ не обидѣлъ.
И налилъ Василій чашу зелена вина,
Мѣрой чашу полтора ведра;
Ставилъ чашу середи двора
И самъ ко чашѣ приговаривалъ:
„Кто эту чашу приметъ одной рукой
И выпьетъ чашу за единый духъ,
Тотъ моя будетъ дружина хорабрая!44
И садился на ременчатъ стулъ,
И писалъ ярлыки скорописчатые;
Въ ярлыкахъ Васенька прописывалъ:
„Зоветъ-жалустъ на почестенъ пиръ44.
Ярлычки привязывалъ ко стрѣлочкамъ,
И стрѣлочки стрѣлялъ по Новуграду.
И пошли мужики новогородскіе
Изъ тоя изъ церкви изъ соборныя;
Стали стрѣлочки похаживать,
Господа стали стрѣлочки посматривать:
„Зоветъ-жалуетъ Василій на почестенъ пиръ”.
И собиралися мужики новогородскіе уваламы,
Уваламы собиралися, переваламы,
И пошли къ Василыо на почестенъ пиръ,
На почестенъ пиръ, на широкій дворъ.
И сами говорятъ таковы слова:
„Ай же ты, Василыошка Буслаевичъ!
78
Мы теперь стали на твоемъ дворѣ,
Всю мы у тя ѣству выѣдимъ,
И всѣ напиточки у тя выпіемъ,
Цвѣтно платьице повыносимъ,
Красно золото повытащимъ".
Этыя рѣчи ему не слюбилися.
Выскочилъ Василій на широкій дворъ,
Хваталъ-то Василій черленый вязъ,
И зачалъ Василій по двору похаживати:
Куда махнетъ—туды улочка,
Перемахнетъ—переулочекъ;
И лежатъ-то мужики уваламы,
Уваламы лежатъ, переваламы,
Набило мужиковъ, какъ погодою.
И зашелъ Василій въ терема златоверхіе:
Мало тотъ идетъ, мало новый идетъ
Ко Васильюшкѣ на широкій дворъ.
Идетъ-то Костя Новоторжанинъ
Ко той ко чары зелена вина
И бралъ-то чару одной рукой,
Выпилъ эту чару за единый духъ.
Какъ выскочилъ Василій со новыхъ сѣней,
Хваталъ-то Василій черленый вязъ,
Какъ ударилъ Костю-то по горбу;
Стоитъ-то Костя—не крянется,
На буйной головы кудри не ворохнутся.
„Ай же ты, Костя Новоторжанинъ!
Будь моя дружина хорабрая.
Поди въ мои палаты бѣлокаменны".
Мало тотъ идетъ, мало новой идетъ.
Идетъ-то Потанюшка Хроменькій
Ко Василію на широкій дворъ,
Ко той ко чары зелена вина,
Бралъ тое чару одной рукой
И выпилъ чару за единый духъ.
Какъ выскочитъ Василій со новыхъ сѣней,
Хваталъ Василій черленый вязъ,
Ударитъ Потанюшку по хромымъ ногамъ:
79
Стоитъ Потанюшка—не крянется,
На буйной головы кудри не ворохнутся.
„Ай же ты, Потанюшка Хроменькій!
Будь моя дружина хорабрая,
Поди въ мои палаты бѣлокаменный
Мало тотъ идетъ, мало новой идетъ.
Идетъ-то Хомушка Горбатенькій
Ко той ко чары зелена вина.
Бралъ-то чару одной рукой
И выпилъ чару за единый духъ.
Того и бить не шелъ со новыхъ сѣней:
„Ступай-ка въ палаты бѣлокаменны,
Пить намъ напитки сладкіе,
Яства-то ѣсть сахарныя,
А бояться намъ въ Новѣградѣ некого!“
А бралъ Василій три дружины въ Новѣградѣ.
И завелся у князя новогородскаго почестенъ пиръ
На многихъ князей, на бояръ,
На сильныхъ могучіихъ богатырей,
А молодца Василія не почествовали;
И говоритъ онъ матери таковы слова:
„Ай же ты, государыня-матушка,
Честна Авдотья Васильевна!
Я пойду къ князьямъ на почестенъ пиръ“.
Возговоритъ Авдотья Васильевна:
— Ай же ты, мое чадо милое,
Милое чадо родимое!
Званому гостю мѣсто есть,
А незваному гостю мѣста нѣтъ.
Онъ, Василій, матери не слушался,
А взялъ свою дружину хорабрую
И пошелъ къ князю на почестенъ пиръ.
У воротъ не спрашивалъ приворотниковъ,
И дверей не спрашивалъ придверниковъ,
Прямо шелъ во гридню столовую,
А правой ногой за дубовый столъ,
За дубовый столъ, въ большой уголъ,
И попехнулъ Василій правой рукой,
80
Правой рукой и правой ногой;
Всѣ стали гости на новыхъ сѣняхъ,
Другіе гости перепалися.
Отъ страху по домамъ разбѣжалися.
И зашелъ Василій за дубовый столъ
Со своею дружиною хораброю.
Бобы разводить.
Теперь это значитъ пустяками заниматься, побасенки раз-
сказывать, съ прямымъ желаніемъ подлаживаться, угодничая
находчивымъ, острымъ или веселымъ словомъ. „Иной ходитъ
да походя бобы разводитъ",—какъ подсмѣивается поговорка.
Выраженіе это взято отъ обычнаго не только въ старину, но и
въ наши дни способа ворожбы, по которому раскидывали
бобы (или разводили) и гадали по условнымъ знакамъ, какъ
ложились эти продолговатыя плоскія зернышки обыкновеннаго
огородного стручковаго боба. Повезло ему счастье избранія
съ древнѣйшихъ временъ. Искусство разумѣнія предсказатель-
ной силы въ будущемъ пріобрѣталось наукою, передавалось
за особую высокую плату не всякому встрѣчному, но каждому
втайнѣ. Опытныхъ мастеровъ выписывали, напримѣръ, въ
Москву изъ далекихъ странъ, какова Персія, доискивались
ихъ въ глухихъ лѣсныхъ и болотистыхъ трущобахъ, какова
наша озерная Корелія. Прятали ихъ самымъ тщательнымъ обра-
зомъ, потому что уличенныхъ и сознавшихся въ колдовствѣ,
по стариннымъ московскимъ законамъ, предавали лютымъ
казнямъ. Въ старину наукѣ волхованія—искусству разводить
нужду-бѣду бобами, обучали всякихъ чиновъ досужіе люди,
но больше всего простолюдины. Чаще всѣхъ владѣли тайнами
ворожбы и гаданій коновалы, среди которыхъ это искусство
уберегается и до сихъ поръ наравнѣ съ цыганами. Въ такихъ
же кожаныхъ сумкахъ хранятся у нихъ бобы, травы и росной
81
Школа чтеца.
6
ладонъ. Бобами гадальщикъ разводитъ и угадываетъ; ладономъ
оберегаетъ на свадьбахъ жениховъ и невѣстъ отъ лихихъ
людей, отъ вѣдуновъ. Умѣя ворожить бобами, умѣлъ онъ на
руку людей смотрѣть и внутреннія болѣзни взрослыхъ и
младенцевъ узнавать и лѣчить шептами. Траву богородскую
даетъ пить людямъ отъ сердечныя болѣзни безъ шептовъ;
коричную траву даетъ лошадямъ. И зубную болѣзнь лѣчитъ,
и щепоту и ломоту уговариваетъ, и руду (кровь) заговари-
ваетъ, и тому подобное.
Не одного изъ такихъ знахарей въ строгія времена за-
стѣнокъ и пытокъ сжигали живыми въ срубахъ съ сумками
и съ наколдованными въ нихъ травами и бобами всенародно,
въ Москвѣ, на Болотѣ.
Изъ „розыскныхъ дѣлъ о Федорѣ Щегловитомъ и его
сообщникахъ", изд. Археографическою комиссіею, видно,
между прочимъ, слѣдующее: „Царевна Софья узнала, что по-
стельничій Гав. Ив. Головкинъ водилъ въ Верхъ, въ комнату
царя Петра Алексѣевича, мурзу князя Долоткозина и татарина
Кодоралея. Они тамъ ворожили по гадательной книгѣ и на
письмахъ предсказали, что царю Петру быть на царствѣ
одному. За такое предсказаніе ихъ обоихъ отвели въ застѣ-
нокъ, пытали, и, въ заключеніе сожгли на ихъ спинахъ гада-
тельную книгу и письма" Здѣсь родилась и пословица: „чу-
жую бѣду на бобахъ разведу, а къ своей ума не приложу".
С. Максимовъ.
Голубей гонять.
Для иныхъ эта работа—и забава и шалость, за которую
вообще не хвалятъ, а городскихъ ребятъ родители ихъ счи-
таютъ непремѣнной обязанностью награждать волосяной вы-
волочкой. Для другихъ, не только взрослыхъ, но даже старыхъ—
82
легкая забава переходитъ въ серьзное занятіе, требуетъ осо-
бой науки и доводитъ до любительской страсти со всѣми
неудобными послѣдствіями.
Какъ всякое безотчетное влеченіе, эта страсть также не-
удержима, необуздана и разорительна. Ею заболѣваютъ цѣлые
города и въ нихъ такіе умные люди, какъ дѣдушка Крыловъ
(баснописецъ), и такіе могущественные, богатые, сильные люди,
какъ братья Орловы-Чесменскіе. Однако какъ не дающая ни-
какихъ практическихъ результатовъ, она все-таки у насъ не
пользуется уваженіемъ и вызываетъ насмѣшки. Думаютъ
даже, что нѣтъ позорнѣе несчастія, какъ свалиться съ голу-
бятни и убиться до смерти въ безумномъ увлеченіи при на-
пускѣ и подъемѣ голубей. Слово же „голубятникъ" обрати-
лось въ презрительное и бранное: „въ голубятникахъ да
въ кобылятникахъ споконъ вѣку пути не бывало"—увѣ-
ряетъ народная пословица.
О городскихъ ребятахъ выговаривалось слово неспуста,
именно потому, что серьезно поставленная гоньба голубей,
съ соперничествомъ на пари, какъ игра азартная, укрѣпилась
исключительно въ нашихъ городахъ и преимущественно въ
торговыхъ. Въ деревняхъ такими пустяками заниматься не-
когда, развѣ воспитывая голубей лишь на продажу. Однако
и здѣсь голубей замѣняютъ скворцы. Тѣмъ не менѣе, здѣсь
твердо вѣрятъ, что «сегодня гули да завтра гули, анъ и въ
лапти обули", зато невозможно представить себѣ ни одного
мало-мальски порядочнаго города, въ особенности стариннаго,
гдѣ не было бы настоящихъ голубятниковъ - любителей.
Правда, что нынѣшнее строгое время, перевернувшее многое
наизнанку, а, главное, потребовавшее строгаго и сторожли-
ваго взгляда на жизнь, въ значительной степени ослабило
эту купеческую страсть и городскую забаву. Въ нѣкоторыхъ
городахъ она достигала до крайнихъ предѣловъ, не больше
25—30 лѣтъ тому назадъ. Городъ Тула выдѣлялся даже болѣе
83
6*
всѣхъ другихъ и почитался столицею всякихъ забавъ съ пѣ-
вучими и непѣвучими птицами. Онъ сдѣлался какъ бы прит-
чею во языцѣхъ и предметомъ народныхъ насмѣшекъ. Москва,
совмѣстившая въ себѣ нѣсколько городовъ разомъ, конечно,
оказалась не въ силахъ отстать отъ повальной страсти къ ко-
зырнымъ голубямъ, говорящимъ скворцамъ, драчливымъ пѣ-
тухамъ и т. д. Она прославила курскихъ соловьевъ и заста-
вила завести для себя заводы канареекъ въ Медынскомъ
уѣздѣ Калужской губерніи, на такъ называемомъ Полотняномъ
заводѣ и прочее. Голуби дались легче прочихъ птицъ, потому
что оказались болѣе повадливыми къ людямъ и ихъ жилищамъ,
болѣе забавными и послушными.
Въ самомъ дѣлѣ, найдется ли на Руси такой городъ съ
мучными рядами и лавками, гдѣ не шумѣли бы сильными и
громкими взмахами сизяки (одичалые голуби) на длинныхъ
заостренныхъ крыльяхъ, помогающихъ быстрому, граціозному
и продолжительному полету. Они либо нѣжно цѣлуются, сидя
на крышахъ, и томно, громко и пріятно для уха воркуя,
то хлопочутъ и суетятся около налитой дождемъ лужи или
на водопойной колодѣ и притопываютъ проворными и нѣж-
ными лапками, на которыхъ задній палецъ касается земли.
Они въ кучкѣ клюютъ выброшенное изъ лавки цѣлою горстью
зерно, а самчикъ въ густомъ и красивомъ мундирѣ, какъ
гусаръ былыхъ временъ на балу, ходитъ вокругъ своихъ
дамъ, растопыривъ шейныя перья. Такими голубиными про-
дѣлками можно любоваться, и вообще не ошиблись люди,
признавая эту птичью породу за идеалъ кротости, цѣломудрія,
невинности и любви (но не ума, которымъ голуби всѣхъ по-
родъ вообще не отличаются). Понятна городская любовь къ
нимъ, особенно если припомнимъ, что на любителей имѣются
въ природѣ до 200 различныхъ видовъ, и между ними такіе
занимательные, какъ воркунъ или бормотунъ (онъ же зо-
бастый): большой, глинистаго цвѣта, когда воркуетъ, то взду-
84
ваетъ зобъ пузыремъ, за что зовется еще дутышемъ. Тру-
бастый распускаетъ хвостъ подобно павлину, колесомъ или
опахаломъ; плюмажный ерошитъ свой воротникъ изъ перьевъ.
У хохлатаго или козырного хорошенькій чепчикъ и мохны на
ногахъ, дѣлающія его похожимъ на одѣтую по парижской модѣ
богатую городскую дѣвочку; иногда у него этихъ чепцовъ
нѣтъ. Бѣлый „чистякъ" съ черными крыльями носитъ на нихъ
повязки и ходитъ въ кругахъ. По привычкѣ ходить на кру-
гахъ—ему особенно предпочтеніе передъ другими породами, а
по масти—особая кличка: скобунъ, если черное пятно прихо-
дится на спинѣ, одноплечій съ пятномъ на одномъ боку; у боро-
дача—на шейкѣ, у стрѣлуна—въ хвостѣ; бываютъ еще лобачи
и усачи „со щекой и съ бровкой, съ ухомъ и съ лысиной". Огни-
стый—носитъ на груди манжеты. Рыжій турманъ, всегда голоно-
гій и изрѣдка хохлатый, на лету вертится кубаремъ черезъ
голову, черезъ какое-нибудь крыло бокомъ или черезъ хвостъ
ничкомъ. Онъ такъ иногда усердствуетъ править свое дѣло,
„катается въ разнобой", что, не расчитавъ мѣста, разбивается
головой о крышу своей голубятни. Египетскій голубь, когда
воркуетъ, заливается хохотомъ, сидя и покачиваясь на стрѣ-
хахъ и на сучьяхъ, — словомъ, всякій видъ голубей очень
красивъ и всѣ чистоплотны, кротки, обходительны (голубчикъ
и голубка обратились въ самыя нѣжныя и сердечныя лас-
кательныя привѣтствія). Голуби привязаны къ своимъ жили-
щамъ, кормятъ другихъ птицъ своимъ кормомъ и насчетъ
времени очень аккуратны. Этими послѣдними свойствами и
воспользовались люди, чтобы сдѣлать изъ этихъ птицъ серь-
езную для себя забаву.
Она у солидныхъ людей искала досуга и знала свое время.
Въ праздничный день и во всякое воскресенье, теплой, лѣт-
ней порой горожанинъ-любитель поднялся съ постели рано,
сходилъ помолиться къ заутренѣ отстоялъ обѣдню. Вернувшись
домой, сейчасъ горячаго пирожка поѣлъ, щей похлебалъ,
85
соснулъ немного, наверставши то время, что израсходовалъ
раннимъ утромъ; попилъ кваску и, какъ былъ въ халатѣ или
въ рубахѣ при жилетѣ, такъ и полѣзъ на голубятню и на
крышу. Взялъ онъ въ руки длинную мочальную веревку съ
хвостомъ, спустилъ голубей и замахалъ въ круги; чѣмъ дальше,
тѣмъ больше. Дошло, наконецъ, дѣло до подпояски, а у азарт-
наго человѣка — до халатной полы. Тогда трудно бываетъ
представить себѣ что-либо смѣшнѣе этой бородатой фигуры,
которая къ тому же и присвистываетъ и хлопаетъ въ ла-
доши, пристукиваетъ палкой, прикрикивая на голубей „кысь—
кысь!“ пока они ходятъ въ кругахъ, онъ вскинулъ сначала
ободистаго или кладного, которые больше любятъ летать
одинцами и не могутъ подолгу тѣшить хозяина въ жаркіе
и тихіе дни. Онъ молодой, на этой голубятни родился и
здѣсь выхоленъ: теперь ему проба.
Поднялся онъ хорошо, взлетѣлъ весело: то прито-
нетъ, какъ будто бы въ воду припустится, то немного
подастся на низъ, то опять полетитъ крѣпко. Сталъ онъ
спускаться, выкруживать книзу: потягивается, вертитъ шеей
на ту и другую сторону. Хозяинъ доволенъ: будетъ хо-
рошій летальщикъ на все лѣто, въ жаркіе дни станетъ ле-
тать мягко.
Вотъ и испытанные „повивные" или „налетные", выпу-
щенные парами и всѣмъ гнѣздомъ. Не торопятся, круги
словно рисуютъ на бумагѣ: выходятъ гибкіе, совершенно
круглые. Всѣмъ кажется, что стоитъ тамъ для нихъ въ воз-
духѣ прямой шестъ, и они его видятъ во всей прямизнѣ и
стараются выводить около него спиральные круги, точно ча-
совую пружину тянутъ, чѣмъ выше, тѣмъ завивистѣй и про-
ворнѣй. И все еще летаютъ на виду. Видитъ глазъ и чув-
ствуетъ любительское сердце, что тамъ, въ воздушныхъ кру-
гахъ, голуби „сплывутся или даже вскипятся" всѣ въ кучу и
прямо надъ головой, затѣмъ исчезнутъ.
86
Въ это время ужъ чуть не половина небольшого старин-
наго города навострила глаза и, не спуская ихъ, любуется и
утѣшается чужой радостью, которая на этотъ день и разъ
какъ будто своя, домашняя и даже отчасти общая городская
гордость. Ребятишки, побросавши городки и бабки, собрались
со всѣхъ улицъ и сгрудились тѣсной кучей около того мѣста,
гдѣ хозяинъ голубей провѣряетъ число круговъ, какое сдѣ-
лали птицы до исчезновенія изъ глазъ. Считаютъ съ нимъ
вмѣстѣ и всѣ тѣ, кто любуется; при этомъ, конечно, просчи-
тываются, заводятъ споры, ребята ссорятся и дерутся. Сто
круговъ полагается обязательными для лучшихъ повивныхъ;
послѣ 20 исчезаютъ изъ глазъ, „теряютсяи „летальщики", и
т. д. Въ особенности оживляются группы зрителей, когда съ
двухъ разныхъ голубятенъ вскинули по парѣ и обѣ, на даль-
ней высотѣ, сплылись и исчезли. Вопросъ о томъ, въ чьей
будкѣ очутятся, куда обѣ пары выкружатъ,—настолько живой
и горячій, что дѣлаются заклады и пари. Споръ идетъ о томъ,
чья голубка переманитъ; одинъ продалъ голубя, другой ку-
пилъ его, подсадилъ къ голубкѣ, кормилъ пшеницей, держалъ
ихъ въ одной клѣткѣ нѣсколько недѣль, не выпускалъ на
волю. Голуби совыкались: голубка привязчива, а голубь всегда
обходителенъ и ловокъ. Придетъ пора, что можно на него и
понадѣяться, спустить его на свиданіе и для встрѣчи съ преж-
ней голубкой. Теперь чья-то возьметъ. Вотъ они всѣ четыре
выкружили; книзу идутъ твердо, все шибче и рѣзвѣе, не
измѣняя взлетовъ, не ломая круговъ. Въ самомъ низу кру-
жатъ очень сильно. Но не въ этомъ дѣло, а куда повернутъ.
Повернулъ голубь за старой подругой, а за нимъ потянула
въ чужую будку и новая, разомъ всѣ, какъ по командѣ,
усѣлись въ рядъ на гребнѣ крыши. Побѣжденная пара, безъ
ссоръ и дальнихъ споровъ, остается собственностью того, къ
кому прилетѣла. Былъ чужакъ, теперь сталъ своякъ, „при-
шатился “.
87
Хорошо выдержанныхъ въ жаркій и тихій день можно
смѣло вскидывать раза четыре, — они нимало не ослабнутъ.
Летанье отмѣнно, „сплывка" веселая. На Таганкѣ, на Полянкѣ
и въ Рогожской у Андроникова монастыря, это хорошо по-
нимаютъ и высоко цѣнятъ, гуломъ и выкриками дѣлая насто-
ящій базаръ. На это твердо разсчитывали и сами владѣльцы -
любители. Голубя любить—надо его и холить и все преду-
смотрѣть.
Съ осени самыхъ лучшихъ отсаживаютъ. Кормятъ только
одинъ разъ въ день. Съ ноября по февраль на десять паръ
прибавляютъ двѣ горсти гороху и, когда его подклюютъ,
бросаютъ немного пшеницы и потомъ вскорѣ также немного
конопляного сѣмени. Впрочемъ, такъ сытно кормятъ только
въ морозы; отъ излишка пищи птица наживаетъ типуны.
Настоящій любитель не оставляетъ имъ ни зерна на ночь, не
даетъ пить до корму. Присыпаетъ мелкій толченый кирпичъ
и землю, смоченную не очень соленой водой. Въ стѣнѣ го-
лубятни прорубаютъ два окошка вершка въ три, наравнѣ съ
поломъ на тотъ случай, когда при испугѣ голуби взбѣсятся:
полетятъ въ запертую дверь и начнутъ убивать другъ дружку,
дѣлаются косокрылыми, а иные начнутъ сохнуть.
Сбереженный голубь и на рукѣ сказывается статьями:
крылья твердыя, перья широкія какъ въ хвостѣ, такъ и въ
крыльяхъ, тѣло сухое, глаза навыкатѣ, брови самыя тонкія,
шея гордая, какъ у коня, головка маленькая и воркуетъ такъ,
что въ избѣ сквозь потолокъ слышно. И притомъ красавецъ
станомъ, мундиръ голубоватый, каждое перышко къ краямъ
будто серебряный пятачекъ, а въ середкѣ усыпанъ синимъ пе-
скомъ, и никогда не жирѣетъ; зимой не заѣдается и голубка не
тратитъ силъ на частый выводъ дѣтенышей. Яйца отъ такихъ
голубей продаются не дешево, и потому смотрятъ въ оба за
каждой кладкой, чтобы не появлялись съ тонкой скорлупой, иначе
птица можетъ скоро „объяишнять". При покупкѣ яицъ цѣна
88
поднимается, если покупатель пріобрѣтаетъ съ тѣмъ, чтобы
подсадить подъ хорошую голубку. Продавецъ видитъ и знаетъ,
что у него голуби не ведутся: выходятъ статьями не хороши;
въ плечахъ долги, глаза малы, темны и закрыты толстыми
бровями толсты тѣломъ и простоваты нравомъ. Отсюда из-
давна ужъ выродилась пословица, которая говоритъ, что
„деньги прахъ, а животы (т. е. имущество, всякое домашнее
хозяйство, рабочій скотъ и проч.) что голуби: гдѣ по-
ведутся “.
Твердо знаютъ и время, когда ихъ можно гонять. Охот-
ники смотрятъ на небо и замѣчаютъ форму облаковъ. Ни за
что не пустятъ птицъ съ голубятни, если облака вырисовы-
ваются на небесной синевѣ подобіемъ четъ и двигаются кверху,
надо ждать крѣпкаго вѣтра, голубямъ не сладить, они про-
падутъ. Если идетъ дѣло на закладъ, а облака на небѣ двой-
ныя, нижнія бѣлыя тянутъ на восходъ солнца, а верхнія тем-
ныя идутъ поперекъ, — голуби хотя и пролетаютъ нижнія
облака, но ужъ не въ силахъ выкруживать. Когда же летитъ
паутина по воздуху да при этомъ поднимается кверху, — для
голубиной прогулки настоящая пора. День жаркій, воздухъ
тихій, вороны и галки играютъ высоко, частыя и бѣлыя
облака движутся потихоньку: спускай гнѣздо смѣло,—слетаетъ
до трехъ разъ правильно и легко, и не ослабнетъ. День
такой же жаркій и въ воздухѣ очень тихо, да брошенное изъ
рукъ перышко упало на-кось: бросай затѣю, не спускай
голубей. Пускай закладчикъ дразнится и смѣется, — птица на
полетѣ противъ яркихъ солнечныхъ лучей наживаетъ на гла-
захъ сильную восцу—такой упорный лишай, что съ нимъ и
не сладить потомъ. Таковы наши свѣдѣнія, полученныя отъ
настоящихъ любителей и охотниковъ.
Переманка голубей у охотниковъ почитается дѣломъ за-
коннымъ и справедливымъ; голое воровство наказывается су-
ровымъ самосудомъ, какъ одно изъ тяжкихъ преступленій.
89
Молодыхъ ребятъ поколотятъ родители само по себѣ, а сверст-
ники прибавятъ недополученное.
Одинъ такой-то виновный сознавался, черезъ всю улицу,
стоя на подмосткахъ своей голубятни и переговариваясь съ
сосѣдомъ:
— Ну, ловко же меня вчера отбуцовали: кажись, кровью
истекъ бы; вся кожа отъ тѣла отстала.
Другой его утѣшалъ:
— Эка! Гришкѣ Зюкину голову проломили. Кулаками—то
ворочали-ворочали, да въ метлы приняли... Ну, тутъ спокаялся.
Этимъ „стальнымъ носамъ", тульскимъ „казюкамъ"—ору-
жейникамъ, кулачные бои и волосяная расправа — за при-
вычку, а ловля всякихъ птицъ, въ средѣ ихъ,—старинный
обычай.
Когда изъ разныхъ губерній, по указу Петра I, собрали
сюда „молодыхъ" ребятъ и учили ихъ оружейному дѣлу, а
надсматривалъ за мастерами стольникъ Чулковъ, онъ созна-
вался самъ: „По твоимъ, государь, письмамъ истинно, ей-ей
всеусердно радѣю, какъ пуще того быть невозможно, что
каждаго дни человѣкъ по десяти бью батоги: приботщиковъ
и замочниковъ зѣло понуждаю въ дѣлѣ, не только что въ
день дать отдохнуть, но и ночи спать не даю". Измученные,
избитые и озлобленные оставили послѣ себя потомкамъ
сердитое прозвище „стальная душа", а ближніе сосѣди
стали поговаривать (да и разславили): „хорошъ заяцъ — да
тумакъ, хорошъ человѣкъ—да тулякъ".
Острые на языкѣ, находчивые на отвѣтъ, сорви голова —
оружейники, изнемогая около горновъ шесть дней въ недѣлю,
на досужій часъ праздничныхъ отдыховъ умѣютъ превра-
щаться изъ оборванцевъ, пропитанныхъ кузнечнымъ и мѣ-
дянымъ запахомъ, въ добрыхъ молодцовъ. Не изъ одной
только корысти на веселую выпивку облюбили они всякую
Божью птицу, гоняются за ней, водятся съ ней, холятъ и
90
воспитываютъ. Птицеловъ Перова, въ картинѣ всѣмъ извѣст-
ной, художественно изображаетъ то состояніе духа, какимъ
проникается подобный любитель.
— Присядь, бачка, чижи летятъ,—упрашивалъ въ ино
время проходящаго человѣка тотъ „казюкъ", просьбу кото-
раго обратили теперь въ насмѣшливое присловье всѣмъ ту-
лякамъ.
Онъ на тотъ, какъ и на этотъ разъ, приладилъ западню,
а самъ пустивъ заводного чижа, припалъ за кустъ, да тамъ
и замеръ. Старательно онъ самъ выбиралъ; все присматривался;
задолго до охоты отсаживалъ, а теперь на него уже вполнѣ
понадѣялся.
По сучьямъ березы бѣгаютъ эти зелененькіе чижи, воль-
ные и беззаботные, и чирикаютъ. Заводной, какъ только вы-
пустили его на точокъ и услышалъ онъ чириканье, такъ
и сталъ тотчасъ же „мастерить"—заманивать. Одинъ чижъ
прилетѣлъ на западню—и заморозилъ охотнику сердце. Хлоп-
нулъ западокъ,— такъ словно изъ ружья выпалилъ и расто-
пилъ сердце: первый чижъ попался.
А заводной все зазываетъ: призоветъ—обойдется, да такъ,
что не знаешь: дивиться ли тому, какъ это умѣетъ оказывать
такую ласку такая маленькая пичужка, или свое сердце сдер-
живать,—не мѣшать заводному обманывать. Иной мастеритъ
на всѣ девять позывовъ, а вольныя самки такъ коломъ къ
нему и бросаются. Начинаютъ чижи драться между собою и
пищать. Отъ удовольствія и нислажденія у охотника дыханіе
спирается въ горлѣ,—цѣлый день сидѣлъ бы да смотрѣлъ на
птичьи продѣлки.
На сосѣдней липкѣ тѣмъ временемъ проявился зеленый
молодецъ покрупнѣе заводного. Привелъ этотъ съ собой
своихъ цѣлую стаю и всѣхъ при себѣ держитъ. Западню ви-
дитъ, а къ ней нейдетъ. Разъ подскочилъ, да тотчасъ же
приподнялъ и взъерошилъ затылокъ, затрещалъ,—да и прочь.
91
Точокъ опустѣлъ весь, только одинъ вѣрный домашній другъ
и остался на немъ.
— Провалиться бы этому самцу сквозь землю! Не до-
рогъ конь—дорогъ заяцъ.
Надо теперь новый точокъ розыскать, опять начинать
охоту съ начала:
—Тю—пикъ!
Это красноголовый щегленокъ некстати прилетѣлъ надъ
охотничьей неудачей посмѣяться.
Туляки, впрочемъ, и щеглятники (ихъ же дразнятъ:
„щеголъ щаглуя на дубочьку"). Не даютъ они спуску и си-
ницамъ: одна какая-нибудь махнетъ, какъ колокольчикомъ,—
казюкъ и замлѣлъ. Опять присѣлъ, сталъ прислушиваться,
измучился,—до того хороша эта синичка: въ пѣніи сильна
и полна, и многословна.
— Ти—по—динь!—и разстановочку сдѣлаетъ необыкно-
венную.
Завтра и на синичьи стаи напуститъ казюкъ заводного.
Одинъ такой у него ужъ отсаженъ.
С. Максимовъ.
Синицъ ловить.
Въ густыхъ кустахъ, а еще того чаще, на опушкахъ
хвойныхъ рощъ, если только онѣ, подобно сосновымъ, не
растутъ быстро, какъ грибы, вьютъ себѣ гнѣзда эти пташки—
синички — однѣ изъ самыхъ маленькихъ въ разнородномъ
пернатомъ царствѣ. За это онѣ и преслѣдуются неотвязчиво
въ народныхъ пословицахъ: говорятъ, если прапорщикъ не
офицеръ, то синица не птица, хотя, въ самомъ дѣлѣ: „неве-
личка-синичка, да та же птичка“. Не великъ человѣкъ чи-
номъ, званіемъ или заслугами, да кстати и ростомъ не высокъ,
но сметливъ и способенъ къ большимъ дѣламъ, можетъ и за
92
себя постоять, отъ нападокъ отбиться и нагрубить, и при
случаѣ больно уязвить: это, благодаря тому, что у него, какъ
у синицы, „ноготокъ востеръ". Эта же птица собиралась
когда-то зажигать море въ посмѣяніе и поученіе тѣмъ, которые,
при своемъ нравственномъ ничтожествѣ или физическомъ
безсиліи, хвастливы на дѣла чрезвычайныя. На тонкихъ и
слабыхъ синичьихъ ногахъ они собираются лѣзть на крутыя
горы и брать крѣпкіе города,—
„Не съ вѣнцами и не съ лаврами.
Но съ ушами,—ахъ,—ослиными",—
какъ нѣкогда благодушно подсмѣивался Н. М. Карамзинъ.
Въ сказкахъ сказывается: „полетѣла птица — синица за
тридевять земель, за сине - море океанъ, въ тридесято цар-
ство, въ тридевято государство", что бываетъ обыкновенно
раннею осенью. Въ теплыхъ странахъ за моремъ, — хотя бы
даже для насъ за Аральскимъ и Каспійскимъ, гдѣ (опять таки,
по пословицѣ) синица — птица уже просто, по всенародному
убѣжденію, что за моремъ все ѣдятъ, — синица дожидается
лѣтняго времени нашихъ странъ. Тогда она, вслѣдъ за дру-
гими, въ своихъ стаяхъ летитъ подвѣсить на елкѣ свое теп-
лое гнѣздышко, обыкновенно похожее съ виду на вязаный
денежный кошелекъ.
Лѣтомъ синица изъ Сокольниковъ, Нескучнаго сада или
Марьиной рощи вылетаетъ въ самый городъ Москву цѣлыми
стаями и разгуливаетъ, видимо, беззаботно по песчанымъ ко-
самъ и на отмеляхъ несчастныхъ рѣкъ счастливаго города:
на Москвѣ и Яузѣ. Впрочемъ, для нея тамъ есть и такая рѣ-
чушка, которая обезславлена именемъ этой самой невеликой
птички. Въ синичьихъ стаяхъ все свои и ближайшіе родные
въ нисходящемъ потомствѣ, потому что у этой птицы особый
отъ другихъ обычай — воспитывать птенцовъ при себѣ до
поздняго возраста.
93
Прилетаютъ синицы въ богатый городъ и, съ своей сто-
роны, пощеголять голубымъ темечкомъ на веселой головкѣ,
при бѣленькихъ щечкахъ, и оживятъ эти отравленныя фаб-
ричными отбросами мѣстности веселыми движеніями и без-
покойной суетней. То, какъ маленькіе стрѣлки, онѣ перепар-
хиваютъ съ лужайки на песокъ, то бѣгаютъ по вѣткамъ, по
бревнамъ, по палкѣ, брошенной и забытой уличными ребя-
тишками. Синицѣ все равно: обращена ли на бѣгу ея верт-
лявая и живая головка, какъ у всѣхъ, кверху, или на верху
очутилась спинка, или зобокъ, или шаловливый хвостикъ:
словно она не ощущаетъ въ себѣ никакой тягости, какъ ком-
натныя мухи, которыя бродятъ по оконнымъ стекламъ вверхъ
и внизъ, сюда и туда и не затрудняются ходить по по-
толкамъ.
Утромъ просыпаются синицы раньше всѣхъ—гдѣ еще до
воробьевъ. Андрей-воробей еще и не собирается вылетать
на рѣку, поклевать песку, потупить носку, — синицы уже на-
бѣгались, напорхались, наклевались, когда у нихъ, что не кле-
вокъ, то и глотокъ. Иную личинку или яичко и въ микроскопъ
не разглядишь, а синичка ее увидитъ и съѣстъ. Глазъ не
поспѣетъ слѣдить за каждымъ ударомъ ея клюва, остраго и
коротенькаго, какъ шило: до того они быстры и чисты. Все
это продѣлываютъ синицы съ полной беззаботностію и оче-
видною довѣрчивостью, школьники-де пока еще спятъ самымъ
крѣпкимъ остаточнымъ сномъ, съ которымъ обыкновенно они
разстаются сердито и ворчливо. Да и домовые, и фабричные
сторожа также спятъ, такъ какъ въ этихъ мѣстахъ на такія ихъ
дѣла булочники совсѣмъ не взираютъ. Куда на ту пору дѣ-
вались, столь присущія этимъ птицамъ, ихъ прирожденная
робость и чуткость?
Да вотъ и онѣ обѣ вмѣстѣ: лишь только поднялось
повыше солнышко и взыграло разомъ на крестѣ Ивана
Великаго и на орлѣ Сухаревой башни, синицы не узнать:
94
она позволяла до тѣхъ поръ свободно наблюдать за всѣми
своими игривыми продѣлками,—теперь къ ней и не подсту-
пайся. Даже такъ, что сама наступитъ на кончикъ соломенки,
а другой въ то же время приподымется,—она ужъ и испуга-
лась до-смерти и стрекнула прочь, какъ искорка. За одной
полетѣли и другія, какъ пульки: только мы ихъ и видѣли.
„Пыркъ—пыркъ—пыркъ" и исчезли.
Раннимъ утромъ, когда синица обнаруживаетъ откровен-
ную и любознательную довѣрчивость, ловятъ ее въ сѣти
только неумѣлые и лѣнивые птицеловы, или тѣ, которые
продаютъ пѣвчихъ—птицъ въ знаменитомъ Охотномъ ряду.
Для нихъ съ древнѣйшихъ временъ держится въ Москвѣ
спеціальный торгъ пѣвчими птицами и собаками на Собачьей
площадкѣ, которая въ послѣднее время стала кочевать по
Москвѣ и никакъ не найдетъ себѣ новаго, облюбленнаго и
насиженнаго мѣста. Торгъ бываетъ въ сборное воскресенье,
т. е. первое въ Великомъ посту (недѣля православія).
Кочевало торжище сборнаго воскресенья даже и по самой
площади Охотнаго ряда: было оно сначала на площади Охот-
наго ряда: было оно на площадкѣ у Мясныхъ рядовъ, потомъ
перевели его къ самой церкви Параскевы—Пятницы, затѣмъ—
къ дому Бронникова, а отсюда, спустя немного времени, къ
дому Челышова. Теперь оно не то на Лубянкѣ, не то въ Зо-
ологическомъ саду, но тутъ и тамъ обезличенное и осла-
бѣвшее. Не такъ давно богачи и даже титулованная знать, а
съ ними всякіе любители и особенно псовые охотники, явля-
лись на этотъ день обязательно со своими выкормками и
и воспитанниками: поискать лучшихъ, похвастаться собствен-
ными. Это была настоящая выставка и говорящихъ скворцовъ и
умнѣйшихъ собакъ. Съѣзжались очень издалека, а въ особен-
ности изъ Коломны и Тулы. Охотники были здѣсь всѣ
налицо.
С. Максимовъ.
95
Мужики орловскіе и калужскіе.
(Отрывокъ изъ разсказа «Хоръ иКалинычъ*.)
Кому случалось изъ болховскаго уѣзда перебираться въ
жиздринскій, того, вѣроятно, поражала рѣзкая разница между
породой людей въ Орловской губерніи и калужской породой.
Орловскій мужикъ невеликъ ростомъ, сутуловатъ, угрюмъ,
глядитъ исподлобья, живетъ въ дрянныхъ осиновыхъ избен-
кахъ, ходитъ на барщину, торговлей не занимается, ѣстъ
плохо, носитъ лапти; калужскій оброчный мужикъ обитаетъ
въ просторныхъ сосновыхъ избахъ, высокъ ростомъ, глядитъ
смѣло и весело, лицомъ чистъ и бѣлъ, торгуетъ масломъ и
дегтемъ и по праздникамъ ходитъ въ сапогахъ. Орловская
деревня (мы говоримъ о восточной части Орловской губерніи)
обыкновенно расположена среди распаханныхъ полей, близъ
оврага, кое-какъ превращеннаго въ грязный прудъ. Кромѣ
немногихъ ракитъ, всегда готовыхъ къ услугамъ, да двухъ —
трехъ тощихъ березъ, деревца на версту кругомъ не увидишь;
изба лѣпится къ избѣ, крыши закиданы гнилой соломой...
Калужская деревня, напротивъ, большею частью окружена
лѣсомъ, избы стоятъ вольнѣй и прямѣй, крыты тесомъ; во-
рота плотно запираются, плетень на задворкѣ не расшатанъ
и не вываливается наружу, не зоветъ въ гости всякую про-
хожую свинью... И для охотника въ Калужской губерніи лучше.
Въ Орловской губерніи послѣдніе лѣса и площадя исчезнутъ
лѣтъ черезъ пять, а болотъ и въ поминѣ нѣтъ; въ Калужской,
напротивъ, засѣки тянутся на сотни, болота на десятки верстъ,
и не перевелась еще благородная птица — тетеревъ, водится
добродушный дупель, и хлопотунья куропатка своимъ поры-
вистымъ взлетомъ веселитъ и пугаетъ стрѣлка и собаку.
И. Тургеневъ.
96
Садъ Плюшкина.
Старый, обширный, тянувшійся позади дома садъ, выхо-
дившій за село и потомъ пропадавшій въ полѣ, заросшій и за-
глохшій, былъ вполнѣ живописенъ въ своемъ картинномъ
опустѣніи. Зелеными облаками и неправильными, трепетолист-
ными купдлами лежали на ^ебесномъ горизонтѣ соединенныя
вершины разросшихся на свободѣ дереву. Бѣлый колоссальный
стволъ березы, лишенный верхушки, отломленной бурею или
грозою, подымался изъ этой зеленой гущи и круглился на
воздухѣ, какъ правильная мраморная, сверкающая колонна;
косой остроконечный изломъ его, которымъ онъ оканчивался
кверху вмѣсто капители, темнѣлъ на снѣжной бѣлизнѣ его,
какъ шапка или черная птица. Хмель, глушившій внизу кусты
бузины, рябины и лѣсного орѣшника и пробѣжавшій потомъ
по верхушкѣ всего частокола, взбѣгалъ, наконецъ, вверхъ и
обвивалъ до половины сломленную березу/Достигнувъ сере-
дины ея, онъ оттуда свѣшивался внизъ и начиналъ уже цѣ-
плять вершины другихъ деревъ, или же висѣлъ на воздухѣ,
завязавши кольцами свои тонкіе, цѣпкіе крючья, легко коле-
блемые воздухомъ. Мѣстами расходились зеленыя чащи, оза-
ренныя солнцемъ, и показывали неосвященное между нихъ
углубленіе, зіявшее какъ темная пасть. Оно было все окинуто
тѣнью, и чуть-чуть мелькали въ черной глубинѣ его—бѣжав-
шая узкая дорожка, обрушенныя перила, пошатнувшаяся
бесѣдка, дуплистый дряхлый стволъ ивы, сѣдой чапыжникъ,
густою щетиною вытыкавшій изъ-за ивы, изсохшіе отъ страш-
ной глушины, перепутавшіеся и скрестившіеся листья и сучья,
и, наконецъ, молодая вѣтвь клена, протянувшая съ боку свои
зеленые лапы-листы, подъ одинъ изъ которыхъ забравшись,
Богъ вѣсть какимъ образомъ, солнце превращало его вдругъ
въ прозрачный и огненный, чудно сіявшій въ этой густой
97
Школа мтеца
темнотѣ. Въ сторонѣ, у самаго края сада, нѣсколько высоко-
рослыхъ, не вровень другимъ, осинъ подымали огромныя во-
роньи гнѣзда на трепетныя свои вершины. У иныхъ изъ нихъ
отдернутыя и не вполнѣ отдѣленныя вѣтви висѣли внизъ
вмѣстѣ съ изсохшими листьями. Словомъ, все было хорошо,
какъ не выдумать ни природѣ ни искусству, но какъ бываетъ
только тогда, когда они соединятся вмѣстѣ, когда по нагро-
можденному, часто безъ толку, труду человѣка пройдетъ
окончательнымъ рѣзцомъ своимъ природа, облегчитъ тяжелыя
массы, уничтожитъ грубоощутительную правильность и ни-
щенскія прорѣхи, сквозь которыя проглядываетъ нескрытый,
нагой планъ, и дастъ чудную теплоту всему, что создалось
въ хладѣ размѣренной чистоты и опрятности.
Н. Гоголь.
Старосвѣтскіе подоіьщиксі.
Афанасій Ивановичъ очень мало занимался хозяйствомъ,
хотя, впрочемъ, ѣздилъ иногда къ косарямъ и жнецамъ, и смо-
трѣлъ довольно пристально на ихъ работу; все бремя пра-
вленія лежало на Пульхеріи Ивановнѣ. Хозяйство Пульхеріи
Ивановны состояло въ безпрестанномъ отпираніи и запираніи
кладовой, въ соленіи, сушеніи, вареніи безчисленнаго мно-
жества фруктовъ и растеній. Ея домъ былъ совершенно по-
хожъ на химическую лабораторію. Подъ яблонею вѣчно былъ
разложенъ огонь, и никогда почти не снимался съ желѣзнаго
треножника котелъ или мѣдный тазъ съ вареньемъ, желе,
пастилою, дѣланными на меду, на сахарѣ, и не помню еще
на чемъ. Подъ другимъ деревомъ кучеръ вѣчно перегонялъ
въ мѣдномъ лембикѣ водку на персиковые листья, на чере-
муховый цвѣтъ, на золототысячникъ, на вишневыя косточки,
и къ концу этого процесса совершенно не былъ въ состояніи
98
поворотить языкомъ, болталъ такой вздоръ, что Пульхерія
Ивановна ничего не могла понять, и отправлялся на кухню
спать. Всей этой дряни наваривалось, насаливалось, насуши-
валось такое множество, что, вѣроятно, она потопила бы, на-
конецъ, весь дворъ (потому что Пульхерія Ивановна всегда,
сверхъ расчисленнаго на потребленіе, любила приготовлять
еще на запасъ), если бы большая половина не съѣдалась дво-
ровыми дѣвками, которыя, забираясь въ кладовую, такъ
ужасно тамъ объѣдались, что цѣлый день стонали и жалова-
лись на животы свои.—Въ хлѣбопашество и прочія хозяй-
ственныя статьи внѣ двора Пульхерія Ивановна мало имѣла
возможности входить. Приказчикъ, соединившсь съ войтомъ,
обкрадывали немилосерднымъ образомъ... Но сколько ни об-
крадывали приказчикъ и войтъ; какъ ни ужасно жрали всѣ
во дворѣ, начиная отъ ключницы до свиней, которыя истре-
бляли страшное множество сливъ и яблокъ и часто собствен-
ными мордами толкали дерево, чтобы стряхнуть съ него цѣлый
дождь фруктовъ; сколько ни клевали ихъ воробьи и вороны;
сколько вся дворня ни носила гостинцевъ своимъ кумовьямъ
въ другія деревни и даже таскала изъ амбаровъ старыя по-
лотна и пряжу, что все обращалось ко всемирному источнику,
т.-е. къ Шинку; сколько ни крали гости, флегматическіе ку-
чера и лакеи,—но благословенная земля производила всего въ
такомъ множествѣ, Афанасію Ивановичу и Пульхеріи Ива-
новнѣ такъ мало было нужно, что всѣ эти страшныя хищенія
казались вовсе незамѣтными въ ихъ хозяйствѣ.
Н. Гоголь.
Два типа писателей.
Счастливъ путникъ, который послѣ длинной, скучной дороги
съ ея холодами, слякотью, грязью, невыспавшимися станціонными
смотрителями, бряканьями колокольчиковъ, починками, пере-
99
бранками, ямщиками, кузнецами и всякаго рода дорожными
подлецами, видитъ, наконецъ, знакомую крышу съ несущи-
мися навстрѣчу огоньками, — и предстанутъ передъ нимъ
знакомыя комнаты, радостный крикъ выбѣжавшихъ навстрѣчу
людей, шумъ и бѣготня дѣтей, и успокоительныя тихія рѣчи,
прерываемыя пылающими лобзаніями, властными истребить
все печальное изъ памяти! Счастливъ семьянинъ, у кого есть
такой уголъ, но горе холостяку!
Счастливъ писатель, который мимо характеровъ скучныхъ,
противныхъ, порождающихъ печальною своею дѣйствительно-
стью, приближается къ характерамъ, являющимъ высокое
достоинство человѣка, который изъ великаго омута ежедневно
вращающихся образовъ избралъ одни немногія исключенія;
который не измѣнялъ ни разу возвышеннаго строя своей
лиры, не ниспускался съ вершины своей къ бѣднымъ, ни-
чтожнымъ своимъ собратьямъ и, не касаясь земли, весь повер-
гался въ свои далеко отторгнутые отъ нея и возвеличенные
образы! Вдвойнѣ завиденъ прекрасный удѣлъ его: онъ среди
ихъ—какъ въ родной семьѣ; а между тѣмъ, далеко и громко
разносится его слава. Онъ окурилъ упоительнымъ куревомъ
людскія очи; онъ чудно польстилъ имъ, сокрывъ печальное
въ жизни, показавъ имъ прекраснаго человѣка. Все, руко-
плеща, несется за нимъ и мчится вслѣдъ за торжественной
его колесницей... Но не таковъ удѣлъ, и другая судьба пи-
сателя, дерзнувшаго вызвать наружу все, что ежеминутно
предъ очами и чего не зрятъ равнодушныя очи—всю страш-
ную, потрясающую тину мелочей, опутавшихъ нашу жизнь,
всю глубину холодныхъ, раздробленныхъ, повседневныхъ ха-
рактеровъ, которыми кишитъ наша земная, подчасъ горькая
и скучная дорога,— и крѣпкою силою неумолимаго рѣзца,
дерзнувшаго выставить ихъ выпукло и ярко на всенародныя
очи! Ему не собрать народныхъ рукоплесканій, ему не зрѣть
признательныхъ слезъ и единодушнаго восторга взволнован-
100
ныхъ имъ душъ; ему не позабыться въ сладкомъ обаяніи имъ
же исторгнутыхъ звуковъ; ему не избѣжать, наконецъ, совре-
меннаго суда, который назоветъ ничтожными и низкими имъ
лелѣянныя созданья, отведетъ ему презрѣнный уголъ въ ряду
писателей, оскорбляющихъ человѣчество, придастъ ему каче-
ства имъ же изображенныхъ героевъ, отниметъ отъ него и
сердце, и душу, и божественное пламя таланта: ибо не при-
знаетъ современный судъ, что равно чудны стекла, озаряющія
солнцы и передающія движенья незамѣченныхъ насѣкомыхъ;
ибо не признаетъ современный судъ, что много нужно глу-
бины душевной, дабы озарить картину, взятую изъ презрѣн-
ной жизни, и возвести ее въ перлъ созданья; ибо не при-
знаетъ современный судъ, что высокій восторженный смѣхъ
достоинъ стать рядомъ съ высокимъ лирическимъ движеніемъ,
и что цѣлая пропасть между нимъ и кривляньемъ балаганнаго
скомороха! Не признаетъ сего современный судъ — и все
обратитъ въ упрекъ и поношенье непризнанному писателю:
безъ раздѣленья, безъ отвѣта, безъ участья, какъ безсемейный
путникъ, останется онъ одинъ посреди дороги. Сурово его
поприще, и горько чувствуетъ онъ свое одиночество.
Н. Гоголь.
Д У (П а.
Печально я гляжу на наше поколѣнье!
Его грядущее—иль пусто, иль темно;
Межъ тѣмъ подъ бременемъ познанья и сомнѣнья,
Въ бездѣйствіи состарится оно.
Богаты мы, едва изъ колыбели,
Ошибками отцовъ и позднимъ ихъ умомъ,
И жизнь ужъ насъ томитъ, какъ ровный путь безъ цѣли,
Какъ пиръ на праздникѣ чужомъ.
Къ добру и злу постыдно равнодушны,
101
Въ началѣ поприща мы вянемъ безъ борьбы;
Передъ опасностью позорно малодушны,
И передъ властію презрѣнные рабы.
Такъ тощій плодъ, до времени созрѣлый,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глазъ,
Виситъ между цвѣтовъ пришлецъ осиротѣлый,
И часъ ихъ красоты—его паденья часъ.
Мы изсушили умъ наукою безплодной,
Тая завистливо отъ ближнихъ и друзей
Надежды лучшія и голосъ благородный
Невѣріемъ осмѣянныхъ страстей.
Едва касались мы до чаши наслажденья,
Но юныхъ силъ мы тѣмъ не сберегли;
Изъ каждой радости, бояся пресыщенья,
Мы лучшій сокъ навѣки извлекли.
Мечты поэзіи, созданія искусства,
Восторгомъ сладостнымъ нашъ умъ не шевелятъ;
Мы жадно бережемъ въ груди остатокъ чувства—
Зарытый скупостью и безполезный кладъ.
И ненавидимъ мы, и любимъ мы случайно,
Ничѣмъ не жертвуя ни злобѣ, ни любви,
И царствуетъ въ душѣ какой-то холодъ тайный,
Когда огонь кипитъ въ крови.
И предковъ скучны намъ роскошныя забавы,
Ихъ добросовѣстный, ребяческій развратъ;
И къ гробу мы спѣшимъ безъ счастья и безъ славы,
Глядя насмѣшливо назадъ.
Толпой угрюмою и скоро позабытой,
Надъ міромъ мы пройдемъ безъ шума и слѣда,
Не бросивши вѣкамъ ни мысли плодовитой,
Ни геніемъ начатаго труда.
И прахъ нашъ, съ строгостью судьи и гражданина,
Потомокъ оскорбитъ презрительнымъ стихомъ,
Насмѣшкой горькою обманутаго сына
Надъ промотавшимся отцомъ.
М. Лермонтовъ.
102
Введеніе во второй отдіьлъ.
(О художественной фантазіи).
Если мы прислушаемся къ рѣчи ребенка или простолюдина и
рѣчи взрослаго образованнаго человѣка, то замѣтимъ, что рѣчь двухъ
первыхъ будетъ изобразительнѣе, живѣе, красивѣе и разнообразнѣе
по интонаціямъ, чѣмъ рѣчь послѣдняго, болѣе сильная въ логиче-
скомъ отношеніи. Отчего это происходитъ? Оттого что первые два
видятъ то, о чемъ разсказываютъ, опи мыслятъ образами, а послѣдній,
привыкшій къ отвлеченному мышленію, произноситъ рядъ понятій,
давно утративъ эту безцѣнную для художника способность внутренняго
видѣнія. Наше образованіе съ огромнымъ количествомъ познаній не-
сомнѣнно ведетъ вѣчную войну съ образами, а потому способность
фантазировать и тѣмъ болѣе подчиняться чужой фантазіи, понижена
чрезвычайно у человѣка, умѣющаго мыслить логически и много
знающаго. А между тѣмъ актеру и чтецу необходимо, чтобы его
фантазія летѣла навстрѣчу фантазіи поэта, чтобы всѣ образы, волно-
вавшіе поэта, возникли и въ мозгу чтеца, чтобы чувства, наполнявшіе
поэта, зародились и въ душѣ чтеца. Эту утраченную съ дѣтства спо-
собность внутренняго видѣнія нужно воскресить и развить.
Въ предлагаемомъ отдѣлѣ матеріалъ подобранъ съ цѣлью развить
художественную фантазію. Имѣя въ виду слабыя силы начинающихъ,
я выбрала произведенья, требующія большой работы воображенія, но
не затрудняющія дѣла изображеніемъ сложныхъ настроеній или бур-
ныхъ чувствъ. Въ этомъ отдѣлѣ многія стихотворенія отпечатаны въ
формѣ прозаическаго текста. 10. Э. Озаровскій, опытный преподаватель
драматическаго искусства вообще и декламаціи въ частности, совѣ-
105
товалъ мнѣ поступить такъ на протяженіи всей книги. Но совѣтъ
его я приняла лишь отчасти, 'поступивъ такъ изъ-за слѣдующихъ
соображеній: отучившись на образцахъ, гдѣ стихотворныя строчки
отсутствуютъ, отъ искусственнаго и безсмысленнаго отбиванія конца
строчки, что многими ошибочно принимается за соблюденіе ритма,
ученикъ долженъ въ своемъ же учебникѣ найти образцы, напечатан-
ные по принятому обычаю и преодолѣть связанныя съ этимъ труд-
ности. Поэтому въ слѣдующихъ отдѣлахъ такое начертаніе стихотвор-
ныхъ произведеній встрѣчается рѣдко, лишь для произведеній, очень
испорченныхъ плохимъ чтеніемъ въ средней школъ.
О. Озаровская.
106
Гдгь сладкій шопотъ.
Гдѣ сладкій шопотъ моихъ лѣсовъ? Потоковъ ропотъ,
цвѣты луговъ? Деревья голы; коверъ зимы покрылъ холмы,
луга и долы. Подъ ледяной своей корой ручей нѣмѣетъ; все
цѣпенѣетъ. Лишь вѣтеръ злой, бушуя, воетъ и небо кроетъ
сѣдою мглой...
Е. Баратынскій.
Біьжинъ лугъ.
(Отрывокъ).
Былъ прекрасный іюльскій день, одинъ изъ тѣхъ дней,
которые случаются только тогда, когда погода установилась
надолго. Съ самаго ранняго утра небо ясно; утренняя заря не
пылаетъ пожаромъ: она разливается кроткимъ румянцемъ.
Солнце не огнистое, не раскаленное, какъ во время знойной
засухи, не тускло-багровое, какъ передъ бурей, но свѣтлое и
привѣтно-лучезарное мирно всплываетъ подъ узкой и длин-
ной тучкой, свѣжо просіяетъ и погрузится въ лиловый ея
туманъ. Верхній, тонкій край растянутаго облачка засверкаетъ
змѣйками; блескъ ихъ подобенъ блеску кованаго серебра...
Но вотъ опять хлынули играющіе лучи, и весело, и величаво,
словно взлетая, поднимается могучее свѣтило. Около полудня
обыкновенно появляется множество круглыхъ высокихъ обла-
ковъ, золотисто-сѣрыхъ, съ нѣжными бѣлыми краями. По-
добно островамъ, разбросаннымъ по безконечно-разлившейся
107
рѣкѣ, обтекающей ихъ глубоко-прозрачными рукавами ровной
синевы, они почти не трогаются съ мѣста; далѣе, къ небо-
склону, они сдвигаются, тѣснятся, синевы между ними уже
не видать; но сами они такъ же лазурны, какъ небо: они всѣ
насквозь проникнуты свѣтомъ и теплотой. Цвѣтъ небосклона,
легкій, блѣдно-лиловый, не измѣняется во весь день и кру-
гомъ одинаковъ; нигдѣ не темнѣетъ, не густѣетъ гроза; развѣ,
кое-гдѣ, протянутся сверху внизъ голубоватыя полосы: — то
сѣется едва замѣтный дождь. Къ вечеру эти облака исче-
заютъ; послѣднія изъ нихъ, черноватыя и неопредѣленныя,
какъ дымъ, ложатся розовыми клубами напротивъ заходя-
щаго солнца; на мѣстѣ, гдѣ оно закатилось такъ же спокойно,
какъ спокойно взошло на небо, алое сіянье стоитъ недолгое
время надъ потемнѣвшей землей, и, тихо мигая, какъ бережно
несомая свѣчка, затеплится на немъ вечерняя звѣзда. Въ та-
кіе дни краски всѣ смягчены; свѣтлы, но не ярки; на всемъ
лежитъ печать какой-то трогательной кротости. Въ такіе дни
жаръ бываетъ иногда весьма силенъ, иногда даже „паритъ“
по скатамъ полей; но вѣтеръ разгоняетъ, раздвигаетъ нако-
пившійся зной, и вихри-круговороты—несомнѣнный признакъ
постоянной погоды—высокими бѣлыми столбами гуляютъ по
дорогамъ черезъ пашню. Въ сухомъ и чистомъ воздухѣ пах-
нетъ полынью, сжатой рожью, гречихой; даже за часъ до
ночи вы не чувствуете сырости. Подобной погоды желаетъ
земледѣлецъ для уборки хлѣба.
И. Тургеневъ.
„Рыцарь на часъ'1.
(Отрывокъ).
Даль глубоко прозрачна, чиста, мѣсяцъ полный плыветъ
надъ дубравой, и господствуютъ въ небѣ цвѣта — голубой,
бѣловатый, лиловый. Воды ярко блестятъ средь полей, а
108
земля прихотливо одѣта въ волны бѣлаго луннаго свѣта и
узорчатыхъ, странныхъ тѣней. Отъ большихъ очертаній кар-
тины до тончайшихъ сѣтей паутины, что, какъ иней, къ землѣ
прилегли — все отчетливо видно: далече протянулися полосы
гречи, красной лентой по скату прошли; замыкающій сонныя
нивы, лѣсъ сквозитъ, весь усыпанъ листвой; чудны красокъ
его переливы подъ играющей ясной луной! Дубъ ли пасмур-
ный, кленъ ли веселый — въ немъ легко отличишь издали;
грудью къ сѣверу, воронъ тяжелый — видишь-—дремлетъ на
старой ели... Все, чѣмъ можетъ порадовать сына поздней
осенью родина-мать: зеленѣющей озими гладь, подо льномъ—
золотая долина, посреди освѣщенныхъ луговъ величавое войско
стоговъ,—все доступно довольному взору... Не сожмется му-
чительно грудь, если бъ даже пришлось въ эту пору на род-
ную деревню взглянуть: не видна ея бѣдность нагая! Запас-
лася скирдами, родная, окружилася ими она и стоитъ, словно
полная чаша. Пожелай ей покойнаго сна — утомилась, корми-
лица наша!..
Н. Некрасовъ.
Роща осенью.
(Отрывокъ изъ разск. „Свиданіе").
Я сидѣлъ въ березовой рощѣ осенью, около половины
сентября. Съ самаго утра перепадалъ мелкій дождикъ, смѣ-
няемый по временамъ теплымъ солнечнымъ сіяніемъ; была
непостоянная погода. Небо то все заволакивалось бѣлыми
облаками, то вдругъ мѣстами расчищалось на мгновенье, и
тогда изъ-за раздвинутыхъ тучъ показывалась лазурь ясная и
ласковая, какъ прекрасный глазъ. Я сидѣлъ, и глядѣлъ кру-
гомъ, и слушалъ. Листья чуть шумѣли надъ моей головой;
по одному ихъ шуму можно было узнать, какое тогда стояло
время года. То былъ не веселый, смѣющійся трепетъ весны,
109
не мягкое шушуканье, не долгій говоръ лѣта, не робкое и
холодное лепетанье поздней осени, а едва слышная, дремотная
болтовня. Слабый вѣтеръ чуть-чуть тянулъ по верхушкамъ.
Внутренность рощи, влажной отъ дождя, безпрестанно измѣ-
нялась, смотря по тому, свѣтило ли солнце или закрывалось
облакомъ; она то озарялась вся, словно вдругъ въ ней все
улыбнулось: тонкіе стволы не слишкомъ частыхъ березъ вне-
запно принимали нѣжный отблескъ бѣлаго шелка, лежавшіе
на землѣ мелкіе листья вдругъ пестрѣли и загорались червон-
нымъ золотомъ, а красивые стебли высокихъ, кудрявыхъ па-
поротниковъ, уже окрашенныхъ въ свой осенній цвѣтъ, по-
добный цвѣту переспѣлаго винограда, такъ и сквозили, без-
конечно путаясь и пересѣкаясь передъ глазами; то вдругъ
опять все кругомъ слегка синѣло: яркія краски мгновенно
гасли, березы стояли всѣ бѣлыя, безъ блеску, бѣлыя, какъ
только что выпавшій снѣгъ, до котораго еще не коснулся
холодно играющій лучъ зимняго солнца; и украдкой, лукаво,
начиналъ сѣяться и шептать по лѣсу мельчайшій дождь. Ли-
ства на березахъ была еще почти вся зелена, хотя замѣтно
поблѣднѣла; лишь кое-гдѣ стояла одна, молоденькая, вся крас-
ная или вся золотая, и надобно было видѣть, какъ она ярко
вспыхивала на солнцѣ, когда его лучи внезапно пробивались,
скользя и пестрѣя, сквозь частую сѣтку тонкихъ вѣтокъ,
только что смытыхъ сверкающимъ дождемъ. Ни одной птицы
не было слышно: всѣ пріютились и замолкли; лишь изрѣдка
звенѣлъ стальнымъ колокольчикомъ насмѣшливый голосокъ
синицы. Прежде чѣмъ я остановился въ этомъ березовомъ
лѣску, я съ своей собакой прошелъ черезъ высокую осино-
вую рощу. Я, признаюсь, не слишкомъ люблю это дерево-
осину— съ ея блѣднолиловымъ стволомъ и сѣрозеленой,
металлической листвой, которую она вздымаетъ какъ можно
выше и дрожащимъ вѣеромъ раскидываетъ на воздухѣ; не
люблю я вѣчное качанье ея круглыхъ, неопрятныхъ листьевъ,
по
неловко прицѣпленныхъ къ длиннымъ стебелькамъ. Она бы-
ваетъ хороша только въ иные лѣтніе вечера, когда, возвы-
шаясь отдѣльно среди низкаго кустарника, приходится въ
упоръ рдѣющимъ лучамъ заходящаго солнца и блеститъ и
дрожитъ, съ корней до верхушки облитая одинаковымъ жел-
тымъ багрянцемъ, или когда въ ясный вѣтренный день она
вся шумно струится и лепечетъ на синемъ небѣ, и каждый
листъ ея, подхваченный стремленьемъ, какъ-будто хочетъ сор-
ваться, слетѣть и умчаться въ даль. Но вообще я не люблю
этого дерева.
И. Тургеневъ.
Вечеръ.
Жаръ свалилъ. Повѣяла прохлада. Длинный день покон-
чилъ рядъ заботъ: по дворамъ давно загнали стадо, и косцы
вернулися съ работъ. Потемнѣть заря уже готова, тихо все.
Часъ ночи недалекъ. Поднимался и улегся снова на закатѣ
легкій вѣтерокъ. Говоръ смолкъ; лишь изрѣдка собачій слы-
шенъ лай; промолвятъ голоса... Пыль слеглась; остылъ песокъ
горячій, пала сильно на землю роса. По краямъ темнѣющаго
свода тѣни всѣ широкія слились; встрѣтить ночь готовится
природа—запахи отвсюду понеслись. Въ тишинѣ жизнь новая
творится: зрячею проснулася сова, и встаетъ, и будто шеве-
лится, и растетъ, и шепчется трава...
И. Аксаковъ.
На вырубіъ.
(Отрывокъ изъ разск. „Касьянъ съ Красивой Мечии).
Молодые отпрыски, еще не успѣвшіе вытянуться выше
аршина, окружали своими тонкими, гладкими стебельками
почернѣвшіе, низкіе пни; круглые губчатые наросты съ сѣ-
111
рыми каймами, тѣ самые наросты, изъ которыхъ вывариваютъ
трутъ, лѣпились къ этимъ пнямъ; земляника пускала по нимъ
свои розовые усики; грибы тутъ же тѣсно сидѣли семьями.
Ноги безпрестанно путались и цѣплялись въ длинной травѣ,
пресыщенной горячимъ солнцемъ; всюду рябило въ глазахъ
отъ рѣзкаго металлическаго сверканія молодыхъ, красноватыхъ
листьевъ на деревцахъ; всюду пестрѣли голубые гроздья жу-
равлинаго гороху; золотыя чашечки куриной слѣпоты, на по-
ловину лиловые, на половину желтые цвѣты Ивана-да-Марьи;
кое-гдѣ, возлѣ заброшенныхъ дорожекъ, на которыхъ слѣды
колесъ обозначались полосами красной, мелкой травки, воз-
вышались кучки дровъ, потемнѣвшихъ отъ вѣтра и дождя,
сложенныя саженями; слабая тѣнь падала отъ нихъ косыми
четвероугольниками,—другой тѣни не было нигдѣ. Легкій вѣ-
терокъ то просыпался, то утихалъ: подуетъ вдругъ прямо въ
лицо и какъ будто разыграется,—все весело зашумитъ, заки-
ваетъ и задвижется кругомъ, граціозно закачаются гибкіе
концы папоротниковъ,—обрадуешься ему... но вотъ, ужъ онъ
опять замеръ, и все опять стихло. Одни кузнечики дружно
трещатъ, словно озлобленные, и утомителенъ этотъ непре-
станный, кислый и сухой звукъ. Онъ идетъ къ неотступному
жару полудня; онъ словно рожденъ имъ, словно вызванъ имъ
изъ раскаленной земли.
И. Тургеневъ.
Весенняя гроза.
Люблю грозу въ началѣ мая, когда весенній первый громъ,
какъ бы рѣзвяся и играя, грохочетъ въ небѣ голубомъ. Гре-
мятъ раскаты молодые, вотъ дождикъ брызнулъ, пыль летитъ...
Повисли перлы дождевые и солнце нити золотитъ. Съ горы
бѣжитъ потокъ проворный, въ лѣсу не молкнетъ птичій гамъ;
112
и гамъ лѣсной, и шумъ нагорный все вторитъ весело громамъ.
Ты скажешь: вѣтреная Геба, кормя Зевесова орла, громоки-
пящій кубокъ съ неба, смѣясь, на землю пролила!..
Ѳ. Тютчевъ.
Гроза.
(Отрывокъ изъ разск. пБирюкъи.)
Я ѣхалъ съ охоты, вечеромъ, одинъ, на бѣговыхъ дрож-
кахъ. До дому было верстъ восемь; моя добрая рысистая ко-
была бодро бѣжала по пыльной дорогѣ, изрѣдка похрапывая
и шевеля ушами; усталая собака, словно привязанная, ни на
шагъ не оіставала отъ заднихъ колесъ. Гроза надвигалась.
Впереди огромная лиловая туча медленно поднималась изъ-за
лѣса; надо мною и мнѣ навстрѣчу неслись длинныя, сѣрыя
облака: ракиты тревожно шевелились и лепетали. Душный
жаръ внезапно смѣнился влажнымъ холодомъ; тѣни быстро
густѣли. Я ударилъ вожжей по лошади, спустился въ оврагъ,
перебрался черезъ сухой ручей, весь заросшій лозниками,
поднялся въ гору и въѣхалъ въ лѣсъ. Дорога вилась передо
мною, между густыми кустами орѣшника, уже залитыми мра-
комъ; я подвигался впередъ съ трудомъ. Дрожки прыгали по
твердымъ корнямъ столѣтнихъ дубовъ и липъ, безпрестанно
пересѣкавшихъ глубокія продольныя рытвины—слѣды телѣж-
ныхъ колесъ; лошадь моя начала спотыкаться. Сильный вѣ-
теръ внезапно загудѣлъ въ вышинѣ, деревья забушевали,
крупныя капли дождя рѣзко застучали, зашлепали по ли-
стьямъ, сверкнула молнія, и гроза разразилась. Дождь полилъ
ручьями. Я поѣхалъ шагомъ и скоро принужденъ былъ оста-
новиться: лошадь моя вязла, я не видѣлъ ни зги. Кое-какъ
пріютился я къ широкому кусту. Сгорбившись и закутавши
лицо, ожидалъ я терпѣливо конца ненастья, какъ вдругъ, при
113
Школа чтеца
8
блескѣ молніи, на дорогѣ почудилась мнѣ высокая фигура. Я
сталъ пристально глядѣть въ ту сторону—та же фигура словно
выросла изъ земли подлѣ моихъ дрожекъ.
И. Тургеневъ.
Вырубка ліьса.
(Изъ поэмы „Саіиа'.)
Сколько тутъ было кудрявыхъ березъ!.. Тамъ изъ-за ста-
рой нахмуренной ели красныя грозды калины глядѣли, тамъ
поднимался дубокъ молодой, птицы царили въ вершинѣ лѣс-
ной, понизу всякіе звѣри таились... Вдругъ мужики съ то-
порами явились! Лѣсъ зазвенѣлъ, застоналъ, затрещалъ; заяцъ
послушалъ—и вонъ побѣжалъ; въ темную нору забилась ли-
сица; машетъ крыломъ осторожнѣе птица; въ недоумѣньи та-
щатъ муравьи, что ни попало, въ жилища свои. Съ пѣснями
трудъ человѣка спорился: словно подкошенъ, осинникъ ва-
лился, съ трескомъ ломали сухой березнякъ, корчили съ кор-
немъ упорный дубнякъ, старую сосну сперва подрубали, послѣ
арканомъ ее нагибали и, поваливши, плясали на ней, чтобы
къ землѣ прилегла поплотнѣй. Такъ, побѣдивъ послѣ долгаго
боя, врагъ уже мертваго топчетъ героя. Много тутъ было пе-
чальныхъ картинъ: стономъ-стонали верхушки осинъ; изъ
перерубленной старой березы градомъ лилися прощальныя
слезы и пропадали, одна за другой, данью послѣдней на
почвѣ родной. Кончились поздно труды роковые: вышли на
небо свѣтила ночныя, и надъ поверженнымъ лѣсомъ луна
остановилась, кругла и ясна. Трупы деревьевъ недвижно ле-
жали; сучья ломались, скрипѣли, трещали, жалобно листья
шумѣли кругомъ. Такъ, послѣ битвы, во мракѣ ночномъ ра-
неный стонетъ, зоветъ, проклинаетъ... Вѣтеръ надъ полемъ
кровавымъ летаетъ — праздно лежащимъ оружьемъ звенитъ
114
волосы мертвыхъ бойцовъ шевелитъ! Тѣни ходили по пнямъ
бѣловатымъ, жидкимъ осинамъ, березамъ косматымъ; низко
летали, вились колесомъ совы, шарахаясь о земь крыломъ;
звонко кукушка вдали куковала, да, какъ безумная, галка
кричала, шумно летая надъ лѣсомъ... Но ей не отыскать не-
разумныхъ дѣтей! Съ дерева комомъ галчата упали, желтые
рты широко разѣвали, прыгали, злились... Наскучилъ ихъ
крикъ, и придавилъ ихъ ногою М}ЖИКЪ.
Н. Некрасовъ.
Л іь с ъ.
(Отрывокъ изъ разсказа „Смерть*.)
Весь этотъ лѣсъ состоялъ изъ какихъ-нибудь двухъ или
трехъ сотъ огромныхъ дубовъ и ясеней. Ихъ статные, могучіе
стволы великолѣпно чернѣли на золотисто-прозрачной зелени
орѣшниковъ и рябинъ; поднимаясь выше, стройно рисовались
на ясной лазури и тамъ уже раскидывали шатромъ свои ши-
рокіе, узловатые сучья; ястреба, кобчики, пустельги со сви-
стомъ носились подъ неподвижными верхушками; пестрые
дятлы крѣпко стучали по толстой корѣ; звучный напѣвъ чер-
наго дрсзда внезапно раздавался въ густой листвѣ въ слѣдъ
за переливчатымъ крикомъ иволги; внизу, въ кустахъ, чири-
кали и пѣли малиновки, чижи и пѣночки; зяблики проворно
бѣгали по дорожкамъ; бѣлякъ прокрадывался вдоль опушки,
осторожно „костыляя"; красно-бурая бѣлка рѣзво прыгала отъ
дерева къ дереву и вдругъ садилась, поднявши хвостъ надъ
головой. Въ травѣ, около высокихъ муравейниковъ, подъ
легкой тѣнью вырѣзныхъ, красивыхъ листьевъ папоротника,
цвѣли фіалки и ландыши, росли сыроѣшки, волвянки, грузди,
дубовики, красные мухоморы; на лужайкахъ, между широкими
115
8’
кустами, алѣла земляника... А что въ лѣсу за тѣнь была! Въ
самый жаръ, въ полдень — ночь настоящая: тишина, запахъ,
свѣжесть...
И. Тургеневъ.
Свиданіе.
I •
(Отрывокъ.)
Не могу сказать, сколько я времени проспалъ, но когда
я открылъ глаза, вся внутренность лѣса была наполнена солн-
цемъ, и во всѣ направленья, сквозь радостно шумѣвшую
листву, сквозило и какъ бы искрилось ярко-голубое небо:
облака скрылись, разогнанныя взыгравшимъ вѣтромъ; погода
расчистилась, и въ воздухѣ чувствовалась та особенная, сухая
свѣжесть, которая, наполняя сердце какимъ-то бодрымъ ощу-
щеньемъ, почти всегда предсказываетъ мирный и ясный вечеръ
послѣ ненастнаго дня. Я собрался было встать и снова попы-
тать счастья, какъ вдругъ глаза мои остановились на непо-
движномъ человѣческомъ образѣ. Я вглядѣлся: то была моло-
дая крестьянская дѣвушка. Она сидѣла въ двадцати шагахъ
отъ меня, задумчиво потупивъ голову и уронивъ обѣ руки
на колѣни; на одной изъ нихъ, до половины раскрытой, лежалъ
густой пучокъ полевыхъ цвѣтовъ и при каждомъ ея дыханьи
тихо скользилъ на клѣтчатую юбку. Я не могъ видѣть ея
глазъ—она ихъ не поднимала: но я видѣлъ ея тонкія, высокія
брови, ея длинныя рѣсницы: онѣ были вдажны, и на одной
изъ ея щекъ блисталъ на солнцѣ высохшій слѣдъ слезы,
остановившійся у самыхъ губъ, слегка поблѣднѣвшихъ. Мнѣ
особенно нравилось выраженіе ея лица: такъ оно было просто
и кротко, такъ грустно и такъ полно дѣтскаго недоумѣнья
передъ собственной грустью. Она видимо ждала кого-то; въ
лѣсу что-то слабо хрустнуло. Она тотчасъ подняла голову и
оглянулась; нѣсколько мгновеній прислушивалась она, не сводя
116
широко раскрытыхъ глазъ съ мѣста, гдѣ раздался слабый
звукъ, вздохнула, повернула тихонько голову, еще ниже на-
клонилась и принялась медленно перебирать цвѣтц. Такъ про-
шло довольно много времени; бѣдная дѣвушка не шевелилась,
лишь изрѣдка тоскливо поводила руками и слушала, все
слушала...
И. Тургеневъ.
Ж и'В ы я /по щ и.
(Первый отрывокъ.)
Пока мнѣ закладывали таратайку, я пошелъ побродить
по небольшому, нѣкогда фруктовому, теперь одичалому саду,
со всѣхъ сторонъ обступившему флигелекъ своей пахучей,
сочной глушью. Ахъ, какъ было хорошо на вольномъ воздухѣ,
подъ яснымъ небомъ, гдѣ трепетали жаворонки, откуда сы-
пался серебряный бисеръ ихъ звонкихъ голосовъ! На крыльяхъ
своихъ они, навѣрно, унесли капли росы, и пѣсни ихъ каза-
лись орошенными росою.
Я даже шапку снялъ съ головы и дышалъ радостно—всею
грудью... На склонѣ неглубокаго оврага, возлѣ самаго плетня,
виднѣлася пасѣка; узенькая тропинка вела къ ней, извиваясь
змѣйкой между сплошными стѣнами бурьяна и кропивы, надъ
которыми высились, Богъ вѣдаетъ откуда, занесенные остро-
конечные стебли темно-зеленой конопли.
Я отправился по этой тропинкѣ; дошелъ до пасѣки. Ря-
домъ съ нею стоялъ плетеный сарайчикъ, такъ называемый
амшанникъ, куда ставятъ улья на зиму. Я заглянулъ въ полу-
открытую дверь: темно, тихо, сухо; пахнетъ мятой, мелиссой.
Въ углу приспособлены подмостки, и на нихъ, прикрытая
одѣяломъ, какая-то маленькая фигурка... Я приблизился — и
остолбенѣлъ отъ удивленія. Предо мною лежало живое чело-
вѣческое существо; но что это было такое? Голова совершенно
117
высохшая; одноцвѣтная, бронзовая, ни дать ни взять—икона
стариннаго письма; носъ узкій, какъ лезвее ножа; губъ почти
не видать, только зубы бѣлѣютъ и глаза да изъ-подъ платка
выбиваются на лобъ жидкія пряди желтыхъ волосъ. У подбо-
родка, на складкѣ одѣяла, движутся, медленно перебирая
пальцами, какъ палочками, двѣ крошечныхъ руки, тоже брон-
зоваго цвѣта. Я вглядываюсь попристальнѣе: лицо не только
не безобразное, даже красивое,—но страшное, необычайное. И
тѣмъ страшнѣе кажется мнѣ это лицо, что по немъ, по ме-
таллическимъ его щекамъ, я вижу — силится... силится и не
можетъ расплыться улыбка.
И. Тургеневъ.
Ліьтнія картинки.
Даль темнѣетъ; аромата полонъ воздухъ; стынетъ жаръ...
Вотъ и перваго раската освѣжающій ударъ. Пыль взметну-
лась по дорогѣ, листья шепчутся въ тревогѣ и, кружась, ле-
тятъ въ потокъ. Вновь ударъ! То, раздвигая кущи радужнаго
рая, мчится по небу пророкъ на пурпурной колесницѣ въ
парѣ огненныхъ коней; въ золотыхъ рукахъ возницы змѣи—
бѣлыя зарницы вмѣсто шелковыхъ вожжей...
Громъ умолкъ—и снова ярко блещетъ солнце на луга и
горитъ на небѣ арка — семицвѣтная дуга. Даль лазурна и
багряна... Въ урнѣ пышнаго тюльпана серебрятся капли слезъ.
Весь заплаканъ садъ зеленый; слезы смигиваютъ клены на
подушки алыхъ розъ; порвана послѣдней тучкѣ легко-дымча-
тая ткань...
К. Фофановъ.
Зимнее утро.
Морозъ и солнце — день чудесный! Еще ты дремлешь,
другъ прелестный, пора, красавица, проснись: открой сомкнуты
нѣгой взоры, навстрѣчу сѣверной Авроры звѣздою сѣвера
118
явись! Вечоръ, ты помнишь, вьюга злилась, на мутномъ небѣ
мгла носилась; луна, какъ блѣдное пятно, сквозь тучи мрачныя
желтѣла, и ты печальная сидѣла—а нынче... погляди въ окно:
подъ голубыми небесами великолѣпными коврами, блестя на
солнцѣ, снѣгъ лежитъ, прозрачный лѣсъ одинъ чернѣетъ, и
ель сквозь иней зеленѣетъ, и рѣчка подо льдомъ блеститъ.
Вся комната янтарнымъ блескомъ озарена. Веселымъ трескомъ
трещитъ затопленная печь, пріятно думать у лежанки. Но,
знаешь: не велѣть ли въ санки кобылку бурую запречь?
Скользя по утреннему снѣгу, другъ милый, предадимся бѣгу
нетерпѣливаго коня и навѣстимъ поля пустыя, лѣса, недавно
столь густые, и берегъ, милый для меня.
Пушкинъ.
Весна.
Гонимы вешними лучами, съ окрестныхъ горъ уже снѣга
сбѣжали мутными ручьями на потопленные луга. Улыбкой
ясною природа сквозь сонъ встрѣчаетъ утро года; синѣя, бле-
щутъ небеса; еще прозрачные, лѣса какъ будто пухомъ зеле-
нѣютъ; пчела за данью полевой летитъ изъ кельи восковой;
долины сохнутъ и пестрѣютъ; стада шумятъ, и соловей ужъ
пѣлъ въ безмолвіи ночей.
Пушкинъ.
Мальчикъ съ пальчикъ.
Жилъ маленькій мальчикъ: былъ ростомъ онъ съ паль-
чикъ, лицомъ былъ красавчикъ — какъ искры глазенки, какъ
пухъ волосенки... Онъ жилъ межъ цвѣточковъ; въ тѣни ихъ
листочковъ въ жары отдыхалъ онъ, и ночью тамъ спалъ онъ.
Съ зарей просыпался, живой умывался росой, наряжался въ
листочекъ атласный лилеи прекрасной; проворную пчелку въ
свою одноколку изъ легкой скорлупки потомъ запрягалъ онъ,
и съ пчелкой леталъ онъ, и жадныя губки съ ней вмѣстѣ
119
впивалъ онъ въ цвѣты луговые. Къ нему золотыя цикады
слетались и съ нимъ забавлялись, кружась съ мотыльками,
жужжа и порхая и ярко сверкая на солнцѣ крылами. Ночною жъ
порою, когда темнотою земля покрывалась, и въ небѣ съ
луною одна за другою звѣзда зажигалась,—на лугъ благовон-
ный съ лампадой зажженной лазурно-блестящій къ малюткѣ
явился свѣтлякъ; и собирался къ нему въ круговую на пляску
ночную рой эльфовъ летучій; они, какъ бѣгучій источникъ
волнами, шумѣли крылами, сливались, сплетались, проворно
качались на тонкихъ былинкахъ, въ перловыхъ купались на
травкѣ росинкахъ, какъ искры сверкали и шумно плясали
предъ нимъ до полночи. Когда же на очи ему усыпленье, подъ
пляску, подъ пѣнье, сходило — смолкали и вмигъ исчезали
плясуньи ночныя... Тогда, подъ живые цвѣты угнѣздившись
и въ сонъ погрузившись, онъ спалъ подъ защитой ихъ кровли,
омытой росой, до восхода зари лучезарной съ границы ян-
тарной небеснаго свода. Такъ милый красавчикъ жилъ маль-
чикъ нашъ съ пальчикъ...
В. Жуковскій.
Контора.
(Отрывокъ.)
Я оглянулся: вдоль перегородки, отдѣлявшей мою ком-
нату отъ конторы, стоялъ огромный кожаный диванъ; два
стула, тоже кожаныхъ, съ высочайшими спинками, торчали по
обѣимъ сторонамъ единственнаго окна, выходившаго на улицу.
На стѣнахъ, оклеенныхъ зелеными обоями съ розовыми раз-
водами, висѣли три огромныя картины, писанныя масляными
красками. На одной изображена была легавая собака съ голу-
бымъ ошейникомъ и надписью: „Вотъ моя отрада": у ногъ
собаки текла рѣка, а на противоположномъ берегу рѣки, подъ
сосною, сидѣлъ заяцъ непомѣрной величины, съ приподнятымъ
120
ухомъ. На другой картинѣ два старика ѣли арбузъ: изъ - за
арбуза виднѣлся въ отдаленіи греческій портикъ съ надписью:
„Храмъ удовлетворенья На третьей картинѣ представлена
была полунагая женщина въ лежачемъ положеніи еп гассоигсі,
съ красными колѣнями и очень толстыми пятками. Собака
моя, нимало не медля, съ сверхъестественными усиліями за-
лѣзла подъ диванъ и, повидимому, нашла тамъ много пыли,
потому что расчихалась страшно. Я подошелъ къ окну. Черезъ
улицу отъ господскаго дома до конторы, въ косвенномъ на-
правленіи, лежали доски: предосторожность весьма полезная,
потому что кругомъ, благодаря нашей черноземной почвѣ и
продолжительному дождю, грязь была страшная. Около го-
сподской усадьбы, стоявшей къ улицѣ задомъ, происходило,
что обыкновенно происходитъ около господскихъ усадебъ;
дѣвки въ полинялыхъ ситцевыхъ платьяхъ шныряли взадъ и
впередъ; дворовые люди брели по грязи, останавливались и
задумчиво чесали свои спины; привязанная лошадь десятскаго
лѣниво махала хвостомъ и, высоко задравши морду, глодала
заборъ; курицы кудахтали, чахоточныя индѣйки безпрестанно
переклинивались. На крылечкѣ темнаго и гнилого строенія,
вѣроятно бани, сидѣлъ дюжій парень съ гитарой и не безъ
удали напѣвалъ извѣстный романсъ:
„Э я фа пасатыню удаляюсь
„Ата прекрасаныхъ седѣшенѣха мѣсть“
И. Тургеневъ.
Ярдоарка.
(Отрывокъ изъ разсказа „Лебедянь*.)
Въ улицахъ, образованныхъ телѣгами, толпились люди
всякаго званія, возраста и вида: барышники, въ синихъ каф-
танахъ и высокихъ шапкахъ, лукаво высматривали и выжи-
дали покупщиковъ; лупоглазые, кудрявые цыгане метались
121
взадъ и впередъ, какъ угорѣлые, глядѣли лошадямъ въ зубы,
поднимали имъ ноги и хвосты, кричали, бранились, служили
посредниками, метали жребій или увивались около какого-
нибудь ремонтера въ фуражкѣ и военной шинели съ бобромъ.
Дюжій казакъ торчалъ верхомъ на тощемъ меринѣ съ оленьей
шеей и продавалъ его „совсимъ", т.-е. съ сѣдломъ и уздеч-
кой. Мужики, въ изорванныхъ подъ мышками тулупахъ, отча-
янно продирались сквозь толпу, наваливались десятками на
телѣгу, запряженною лошадью, которую слѣдовало „спробо-
вать“, или гдѣ-нибудь въ сторонѣ, при помощи увертливаго
цыгана, торговались до изнеможенія, сто разъ сряду хлопали
другъ друга по рукамъ, настаивая каждый на своей цѣнѣ,
между тѣмъ какъ предметъ ихъ спора, дрянная лошаденка,
покрытая покоробленной рогожей, только что глазами помар-
гивала, какъ будто дѣло шло не о ней... И въ самомъ дѣлѣ,
не все ли ей равно, кто ее бить будетъ! Широколобые по-
мѣщики съ крашеными усами и выраженіемъ достоинства
на лицѣ, въ конфедераткахъ и камлотовыхъ чуйкахъ, надѣ-
тыхъ на одинъ рукавъ, снисходительно заговаривали съ пуза-
тыми купцами въ пуховыхъ шляпахъ и зеленыхъ перчаткахъ.
Офицеры различныхъ полковъ толкались тутъ же; необыкно-
венно длинный кирасиръ, нѣмецкаго происхожденія, хладно-
кровно спрашивалъ у хромого барышника; „Сколько онъ
желаетъ получить за сію рыжую лошадь?" Бѣлокурый гусар-
чикъ, лѣтъ девятнадцати, подбиралъ пристяжную къ поджа-
рому иноходцу; ямщикъ, въ низкой шляпѣ, обвитой павлиньимъ
перомъ, въ буромъ армякѣ и съ кожаными рукавицами, за-
сунутыми за узкій зелененькій кушакъ, искалъ коренника.
Кучера заплетали лошадямъ своимъ хвосты, мочили гривы и
давали почтительные совѣты господамъ. Окончившіе сдѣлку
спѣшили въ трактиръ или въ кабакъ, смотря по состоянію... И
все это возилось, кричало, копошилось, ссорилось и мирилось,
бранилось и смѣялось въ грязи по колѣни’.
И. Тургеневъ.
122
Поіъздка въ усадьбу.
(Отрывокъ изъ разск. .Татьяна Борисовна и ея племянникъ*.)
Дайте мнѣ руку, любезный читатель, и поѣдемте вмѣстѣ
со мной. Погода прекрасная; кротко синѣетъ майское небо;
гладкіе молодые листья ракитъ блестятъ, словно вымытые;
широкая ровная дорога вся покрыта той мелкой травой съ
красноватымъ стебелькомъ, которую такъ охотно щиплютъ
овцы; направо и налѣво, по длиннымъ скатамъ пологихъ хол-
мовъ, тихо зыблется зеленая рожь; жидкими пятнами сколь-
зятъ по ней тѣни небольшихъ тучекъ. Въ отдаленьи темнѣютъ
лѣса, сверкаютъ пруды, желтѣютъ деревни; жаворонки сотнями
поднимаются, поютъ, падаютъ стремглавъ, вытянувъ шейки,
торчатъ на глыбочкахъ; грачи на дорогѣ останавливаются, гля-
дятъ на васъ, приникаютъ къ землѣ; даютъ вамъ проѣхать и,
подпрыгнувъ раза два, тяжко отлетаютъ въ сторону; на горѣ,
за оврагомъ, мужикъ пашетъ; пѣгій жеребенокъ, съ куцымъ
хвостикомъ и взъерошенной гривкой, бѣжитъ на невѣрныхъ
ножкахъ въ слѣдъ за матерью; слышится его тонкое ржанье.
Мы въѣзжаемъ въ березовую рощу; крѣпкій, свѣжій запасъ
пріятно стѣсняетъ дыханіе. Вотъ околица. Кучеръ слѣзаетъ,
лошади фыркаютъ, пристяжныя оглядываются, коренная пома-
хиваетъ хвостомъ и прислоняетъ голову къ дугѣ... со скри-
помъ отворяется воротище. Кучеръ садится... Трогай! передъ
нами деревня. Миновавъ дворовъ пять, мы сворачиваемъ
вправо, спускаемся въ лощинку, въѣзжаемъ на плотину. За
небольшимъ прудомъ, изъ-за круглыхъ вершинъ яблонь и
сиреней, виднѣется тесовая крыша, нѣкогда красная, съ двумя
трубами; кучеръ беретъ вдоль забора налѣво и, при визгли-
вомъ и сипломъ лаѣ трехъ престарѣлыхъ шавокъ, въѣзжаетъ
въ настежь раскрытыя ворота, легко мчится кругомъ по ши-
123
рокому двору, мимо конюшни и сарая, молодецки кланяется
старухѣ-ключницѣ, шагнувшей бокомъ черезъ высокій порогъ
въ раскрытую дверь кладовой, и останавливается, наконецъ,
передъ крылечкомъ темнаго домика съ свѣтлыми окнами...
И. Тургеневъ.
Колотовка.
(Отрывокъ изъ разск. „Пѣвцы*.)
Былъ невыносимо-жаркій іюльскій день, когда я, медленно
передвигая ноги, вмѣстѣ съ моей собакой поднимался вдоль
Колотовскаго оврага въ направленіи Притыннаго Кабачка.
Солнце разгоралось на небѣ, какъ бы свирѣпѣя; парило и
пекло неотступно; воздухъ былъ весь пропитанъ душной пылью.
Покрытые лоскомъ грачи и вороны, разинувъ носы, жалобно
глядѣли на проходящихъ, словно прося ихъ участья; одни
воробьи не горевали и, распуша перышки, еще яростнѣе преж-
няго чирикали и дрались по заборамъ, дружно взлетали съ
пыльной дороги, сѣрыми тучами носились надъ зелеными
коноплянниками. Жажда меня мучила. Воды не было близко:
въ Колотовкѣ, какъ и во многихъ другихъ степныхъ дерев-
няхъ, мужики, за неимѣньемъ ключей и колодцевъ, пьютъ
какую-то жидкую грязцу изъ пруда... Но кто же назоветъ
это отвратительное пойло водой? Признаться сказать, ни въ
какое время года Колотовка не представляетъ отраднаго зрѣ-
лища; но особенно грустное чувство возбуждаетъ она, когда
іюльское сверкающее солнце своими неумолимыми лучами за-
топляетъ и бурыя, полуразметанныя крыши домовъ, и этотъ
глубокій оврагъ, и выжженный, запыленный выгонъ, по кото-
рому безнадежно скитаются худыя, длинноногія курицы, и
сѣрый осиновый срубъ съ дырами, вмѣсто оконъ, остатокъ
прежняго барскаго дома, кругомъ заросшій кропивой, бурья-
124
номъ и полынью и покрытый гусинымъ пухомъ, черный,
словно раскаленный прудъ, съ каймой изъ полувысохшей
грязи и сбитой на бокъ плотиной, возлѣ которой, на мелко
истоптанной, пепеловидной землѣ, овцы, едва дыша и чихая
отъ жара, печально тѣснятся другъ къ дружкѣ и съ унылымъ
терпѣньемъ наклоняютъ головы какъ можно ниже, какъ будто
выжидая, когда жъ пройдетъ, наконецъ, этотъ невыносимый
зной.
И. Тургеневъ.
Пустыня-
Широко разметалась пустыня на горячемъ ложѣ своемъ,
вся залитая палящими лучами солнца... Зной и свѣтъ, ослѣ-
пительный свѣтъ... Небо словно тонетъ въ расплавленномъ
золотѣ, посылая на землю потоки блеска и огня. Далеко-да-
леко въ золотистомъ маревѣ дали чуть видны слабыя очерта-
нія горъ. Величаво и безмолвно въ пустынѣ. Отдыхающей
львицей разлеглась она на желтомъ зыбучемъ пескѣ, смеживъ
царственныя очи, и грезитъ миражами, зноемъ дыша. Ни одно
растеніе ни одно живое существо не нарушаетъ безотраднаго
однообразія ея песковъ. Песокъ и камни, камни и песокъ...
Только кости и скелеты павшихъ людей и животныхъ попа-
даются на дорогѣ, проложенной между песчаныхъ холмовъ и
дюнъ и, бѣлѣя, какъ вѣхи въ морѣ, указываютъ путь. Нѣмымъ
укоромъ и предостереженіемъ глядятъ пустыя впадины глаз-
ныхъ орбитъ ихъ, а оскаленные зубы смѣются усмѣшкой
стыда и проклятья.
Грезитъ миражами пустыня, смеживъ царственныя очи и
разметавшись на желтыхъ пескахъ, въ голубомъ сіяніи без-
облачнаго неба, вся сверкающая, яркая, какъ восточная краса-
вица на роскошномъ ложѣ, покрытомъ янтаремъ, перламутромъ
и яшмою. Неотразимой красотой манитъ она очарованные
взоры, но... смертельно объятье ея.
125
Грозенъ и могучъ взоръ ея открытыхъ очей, когда вста-
нетъ она, разбуженная, съ раскаленнаго ложа своего въ вихрѣ
пыли, блеска и огня и, клубясь, совьется въ столбъ, достигая
неба, неодолимая, страшная... и, вздохнувъ, ринется бѣшенымъ
ураганомъ навстрѣчу обезумѣвшимъ путникамъ, въ слѣпой
ярости опрокидывая и сметая все на своемъ пути. Меркнетъ
солнце, испуганно прячась за густую мглу; въ страхѣ и въ
ужасѣ падаютъ люди и животныя, склонясь передъ великой
пустыней, жалкіе, трепещущіе, и презрительно проносится
надъ ними убійственный вздохъ гнѣва ея.—Но вотъ воздухъ
снова становится чистъ, радостно выбѣгаетъ солнце, разсѣи-
вая мглу,—и успокоенная ложится пустыня, какъ львица, раз-
метавшись на горячемъ, желтомъ пескѣ, и снова грезитъ,
смеживъ царственныя очи, въ голубомъ сіяніи безоблачнаго
неба, вся сверкающая, яркая, словно восточная красавица
на золотомъ ложѣ, покрытомъ янтаремъ, перламутромъ и
яшмою.
Д. Паткановъ.
Три пальбы.
Въ песчаныхъ степяхъ Аравійской земли три гордыя
пальмы высоко росли. Родникъ между ними изъ почвы без-
плодной, журча, пробивался волною холодной, хранимый, подъ
сѣнью зеленыхъ листовъ, отъ знойныхъ лучей и летучихъ
песковъ.
И многіе годы неслышно прошли; но странникъ усталый
изъ чуждой земли пылающей грудью ко влагѣ студеной еще
не склонялся подъ кущей зеленой, и стали ужъ сохнуть отъ
знойныхъ лучей роскошные листья и звучный ручей. И стали
три пальмы на Бога роптать: „На то ль мы родились, чтобъ
здѣсь увядать? Безъ пользы въ пустынѣ росли и цвѣли мы,
колеблемы вихремъ и зноемъ палимы, ничей благосклонный
126
не радуя взоръ... Неправъ твой, о небо, святой приговоръ!"
И только замолкли—въ дали голубой столбомъ ужъ крутился
песокъ золотой, звонковъ раздавались нестройные звуки, пе-
стрѣли коврами покрытые вьюки, и шелъ, колыхаясь, какъ
въ морѣ челнокъ, верблюдъ за верблюдомъ, взрывая песокъ.
Мотаясь, висѣли межъ твердыхъ горбовъ узорныя полы по-
ходныхъ шатровъ; ихъ смуглыя ручки порой подымали, и
черныя очи оттуда сверкали... И, станъ худощавый къ лукѣ
наклоня, арабъ горячилъ вороного коня. И конь на дыбы по-
дымался порой и прыгалъ, какъ барсъ, пораженный стрѣлой;
и бѣлой одежды красивыя складки по плечамъ фариса вились
въ безпорядкѣ; и съ крикомъ и свистомъ несясь по песку,
бросалъ и ловилъ онъ копье на скаку.
Вотъ къ пальмамъ подходитъ, шумя, караванъ. Въ тѣни
ихъ веселый раскинулся станъ. Кувшины, звуча, налилися
водой, и, гордо кивая махровой главой, привѣтствуютъ
пальмы нежданныхъ гостей, и щедро поитъ ихъ студе-
ный ручей.
Но только что сумракъ на землю упалъ, по корнямъ
упругимъ топоръ застучалъ, — и пали безъ жизни питомцы
столѣтій! Одежду ихъ сорвали малыя дѣти; изрублены были
тѣла ихъ потомъ, и медленно жгли ихъ до утра огнемъ.
Когда же на западъ умчался туманъ, урочный свой путь
совершалъ караванъ; и слѣдомъ печальнымъ на почвѣ без-
плодной виднѣлся лишь пепелъ сѣдой и холодный; и солнце
остатки сухіе дожгло, а вѣтромъ ихъ въ степи потомъ
разнесло.
И нынѣ все дико и пусто кругомъ—не шепчутся листья
съ гремучимъ ключомъ: напрасно пророка о тѣни онъ про-
ситъ— его лишь песокъ раскаленный заноситъ да коршунъ
хохлатый, степной нелюдимъ, добычу терзаетъ и щиплетъ
надъ нимъ.
М. Лермонтовъ.
127
Лондонъ утромъ.
(Отрывокъ изъ разск. „Преступленіе лорда Артура Сэвиля*.)
По дорогѣ домой на Бельгревъ-Скверъ онъ встрѣтилъ
большіе возы, направлявшіеся въ Ковэнтъ-Гарденъ. Возчики
въ бѣлыхъ блузахъ съ пріятными загорѣлыми лицами и гру-
быми вьющимися волосами шли рядомъ съ возами, хло-
пали бичами и изрѣдка перекликались между собой; на спинѣ
огромной сѣрой лошади, во главѣ цѣлаго цуга, сидѣлъ полно-
щекій мальчуганъ съ букетомъ буквицы, въ изодранной шляпѣ,
хохоча и держась крѣпко маленькими ручками за гриву. Огром-
ныя горы овощей были похожи на скалы нефрита на фонѣ
утренняго неба, на скалы зеленаго нефрита на фонѣ лепест-
ковъ какой-то чудесной розы. Лордъ Артуръ былъ странно
тронутъ этимъ, самъ не зная почему. Что-то въ нѣжной кра-
сотѣ разсвѣта казалось ему удивительно трогательнымъ, и онъ
подумалъ о всѣхъ дняхъ, которые начинаются красотой и
кончаются бурей. И эти крестьяне съ ихъ грубыми, добро-
душными голосами и непринужденными манерами, какой стран-
ный Лондонъ раскрывался передъ нимъ! Лондонъ, освобо-
жденный отъ пороковъ ночи и отъ дыма дня, блѣдный,
призрачный городъ, пустынный городъ могилъ! Чтб они ду-
мали о немъ и знали ли они что-нибудь о красотѣ и позорѣ
этого города, о его дикихъ красочныхъ радостяхъ, объ ужас-
номъ голодѣ, царящемъ въ немъ, о всемъ, что рождается и
умираетъ въ немъ въ теченіе краткаго дня? По всей вѣроят-
ности онъ былъ для нихъ лишь рынкомъ, куда они привозили
продавать свои овощи и гдѣ они оставались лишь нѣсколько
часовъ, снова покидая улицы все еще молчаливыми, дома
спящими. Ему было пріятно глядѣть на этихъ людей, когда
они проходили мимо. Грубые, въ тяжелыхъ, обитыхъ гвоздями
сапогахъ, съ неуклюжей походкой, они внесли съ собой ку-
128
сочекъ Аркадіи. Онъ почувствовалъ, что они живутъ рядомъ
съ природой и что она научила ихъ миру. И онъ позавидо-
валъ всему ихъ невѣдѣнію. Когда онъ дошелъ до Бельгрэвъ-
Скверъ, небо окрасилось въ блѣдно-голубой цвѣтъ, и птицы
начали чирикать въ садахъ.
Оскаръ Уайльдъ.
Ликіардопуло.
„Псковитянк а“.
(Монологъ Вѣры).
Давно ужъ это было,
А какъ теперь гляжу на этотъ лѣсъ:
Уютъ, прохлада; солнышко, какъ зайчикъ,
По молодымъ кустамъ перебѣгаетъ;
Мохъ, что коверъ шелковый подъ ногами...
А впереди деревья гуще, гуще,
Темнѣй-темнѣе: такъ къ себѣ и манятъ...
Иду... кругомъ грибовъ и ягодъ вдоволь:
Тутъ боровикъ, волнянка, подъорѣшникъ,
Тутъ земляника... Тишь въ лѣсу такая,
Что ни одинъ листокъ не шелохнется...
Вотъ и иду... кустарникъ чаще-чаще,—
Все жимолость, да цѣпкая такая:
То тамъ, то здѣсь лѣтникъ сучкомъ прихватитъ...
На ту бѣду моя кукушка смолкла;
Куда итти,—не знаю, да и полно...
Остановилась, духъ перевела,
Подумала: „заблудишься, пожалуй!*
Пошла назадъ тихонько, а сама
По сторонамъ гляжу, ищу дороги...
Кажися, здѣсь? Прошла шаговъ десятокъ—
Нѣтъ, здѣсь не шла; свернула полѣвѣе—
Опять не то; взяла направо—топь:—
По щиколодку ушла нога въ болото,
Я крикнула—никто не отвѣчаетъ;
129
Школа чтеца.
Еще, еще—опять отвѣту нѣтъ...
Я не сробѣла, крикнула погромче,
Прислушалась: чу, кто-то отозвался...
Я на голосъ бѣжать, бѣжать, бѣжать
Все цѣликомъ, по хворосту, по кочкамъ,
Изорвала лѣтникъ, каптуръ сронила,
Валежникомъ всѣ ноги исколола,
Всѣ руки исцарапала—задаромъ:
Не изъ лѣсу бѣгу, а прямо въ лѣсъ!
Трущоба, глушь. А сучья, словно руки,
Такъ вотъ тебя за полы и хватаютъ...
Страхъ обуялъ: я побѣжала шибче,
Куда глаза глядѣли, безъ пути,
Безъ памяти, бѣжала и кричала,
Пока языкъ и ноги не отнялись:
Споткнулася о что-то и упала—
Тутъ изъ очей и выкатился свѣтъ...
Л. Мей.
Русалка.
Въ лазоревой водѣ, въ жемчужныхъ берегахъ,
Плыла русалка въ блескѣ чудномъ.
Она глядѣла вдаль, скользила въ тростникахъ,
Была въ нарядѣ изумрудномъ.
На берегахъ рѣки, изъ цѣльныхъ жемчуговъ,
Не возникало травъ на склонахъ.
Но нѣжный изумрудъ былъ весь ея покровъ,
И нѣженъ цвѣтъ очей зеленыхъ.
Надъ нею догоралъ оранжевый закатъ,
Уже зажглась луна опаломъ.
Но устремляла вдаль она лучистый взглядъ,
Плывя въ теченіи усталомъ.
Предъ ней звѣзда была межъ дымныхъ облаковъ,
И вотъ она туда глядѣла.
И всѣ роскошества жемчужныхъ береговъ
За ту звѣзду отдать хотѣла.
К. Бальмонтъ.
130
Родная картина.
Стаи птицъ. Дороги лента.
Повалившійся плетень.
Съ отуманеннаго неба
Грустно смотритъ тусклый день.
Рядъ березъ, и видъ унылый
Придорожнаго столба.
Какъ подъ гнетомъ тяжкой скорби
Покачнулася изба.
Полусвѣтъ и полумракъ,—
И невольно рвешься въ даль,
И невольно давитъ душу
Безконечная печаль.
К. Бальмонтъ.
Кавказъ.
Кавказъ поа.о мною. Одинъ въ вышинѣ
Стою надъ снѣгами у края стремнины:
Орелъ, съ отдаленной поднявшись вершины,
Паритъ неподвижно со мной наравнѣ.
Отселѣ я вижу потоковъ рожденье
И первое грозныхъ обваловъ движенье.
Здѣсь тучи смиренно идутъ подо мной;
Сквозь нихъ низвергаясь, шумятъ водопады;
Подъ ними утесовъ нагія громады;
Тамъ, ниже, мохъ тощій, кустарникъ сухой:
А тамъ уже рощи, зеленыя сѣни,
Гдѣ птицы щебечутъ, гдѣ скачутъ олени.
А тамъ ужъ и люди гнѣздятся въ горахъ,
И ползаютъ овцы по злачнымъ стремнинамъ,
И пастырь нисходитъ къ веселымъ долинамъ,
Гдѣ мчится Арагва въ тѣнистыхъ брегахъ,
131
9»
И нищій наѣздникъ таится въ ущельи,
Гдѣ Терекъ играетъ въ свирѣпомъ весельи;
Играетъ и воетъ, какъ звѣрь молодой,
Завидѣвшій пищу изъ клѣтки желѣзной,
И бьется о берегъ въ враждѣ безполезной,
И лижетъ утесы голодной волной...
Вотще! Нѣтъ ни пищи ему, ни отрады:
Тѣснятъ его грозно нѣмыя громады.
Пушкинъ.
Кавказъ.
И надъ вершинами Кавказа
Изгнанникъ рая пролеталъ.
Подъ нимъ Казбекъ, какъ грань алмаза,
Снѣгами вѣчными сіялъ,
И, глубоко внизу чернѣя,
Какъ трещина, жилище змѣя,
Вился излучистый Дарьялъ,
И Терекъ, прыгая, какъ львица
Съ косматой гривой на хребтѣ,
Ревѣлъ, и хищный звѣрь, и птица,
Кружась въ лазурной высотѣ,
Глаголу водъ его внимали,
И золотыя облака
Изъ южныхь странъ, издалека,
Его на сѣверъ провожали;
И скалы тѣсною толпой,
Таинственной дремоты полны,
Надъ нимъ склонились головой,
Слѣдя мелькающія волны;
И башни замковъ на скалахъ
Смотрѣли грозно сквозь туманы:
У вратъ Кавказа на часахъ
Сторожевые великаны!
И дикъ, и чуденъ былъ вокругъ
132
Весь Божій міръ, но гордый духъ
Презрительнымъ окинулъ окомъ
Творенье Бога своего,
И на челѣ его высокомъ
Не отразилось ничего.
И передъ нимъ иной картины
Красы живыя расцвѣли:
Роскошной Грузіи долины
Ковромъ раскинулись вдали.
Счастливый, пышный край земли!
Столпообразныя руины,
Звонко-бѣгущіе ручьи
По дну изъ камней разноцвѣтныхъ,
И кущи розъ, гдѣ соловьи
Поютъ красавицъ, безотвѣтныхъ
На сладкій голосъ ихъ любви;
Чинаръ развѣсистыя сѣни,
Густымъ вѣнчанныя плюшемъ;
Пещеры, гдЬ палящимъ днемъ
Таятся робкіе олени;
И блескъ, и жизнь, и шумъ листовъ,
Стозвучный говоръ голосовъ,
Дыханье тысячи растеній,
И полдня сладострастный зной,
И ароматною росой
Всегда увлаженныя ночи,
И звѣзды яркія, какъ очи,
Какъ взоръ грузинки молодой.
Но, кромѣ зависти холодной,
Природы блескъ не возбудилъ
Въ груди изгнанника безплотной
Ни новыхъ чувствъ, ни новыхъ силъ—
И все, что предъ собой онъ видѣлъ,
Онъ презиралъ, иль ненавидѣлъ.
М. Лермонтовъ.
1 33
Старые часы.
Межъ старой рухляди въ лавчонкѣ у еврея,
Гдѣ дремлетъ роскошь баръ, сгнивая и темнѣя,
Гдѣ между пыльныхъ вазъ, заплѣснившихся лампъ,
Мерцаетъ рамою весь выцвѣтшій эстампъ,
Гдѣ блѣдный купидонъ съ отбитою рученкой
Подъ паутиною, какъ подъ фатою тонкой,
Лукаво щурится въ мечтательной тоскѣ,
Гдѣ зелень плѣсени на яркомъ завиткѣ
Узорныхъ канделябръ ложится изумрудомъ,
Гдѣ въ томной нѣжности, надъ золоченымъ блюдомъ,
Изъ рамы смотритъ ликъ напудренной красы,—
Стоятъ, безмолвствуя, старинные часы...
Ихъ маятникъ молчитъ, ихъ стрѣлки безъ движенья...
И мнится—давнія слетаютъ къ нимъ видѣнья,
И старые часы упраздненныхъ палатъ
Припоминаютъ вновь событій длинный рядъ,
Тотъ долгій, смутный сонъ, ушедшій безъ возврата,
Когда двѣ стрѣлки ихъ по кругу циферблата
Ползли,—минуты, дни, года разя съ плеча,
Какъ два холодные, безстрастные меча.
Суровой вѣчности...
Бывало, въ сумракъ томный,
Когда дремалъ угрюмо залъ огромный,
И алый свѣть, колебля, лилъ каминъ,
И вѣтки тощія расшатанныхъ вершинъ
Изъ сада темнаго стучались въ окна зала,
И ночь осенняя, какъ грѣшница, рыдала—
Тогда задумчивый владѣлецъ тѣхъ часовъ
Печально вспоминалъ утраченныхъ годовъ
Разгуломъ и стыдомъ запятнанную повѣсть,
И плакала его встревоженная совѣсть,
И теплая, никѣмъ незримая слеза,
Слеза раскаянья, туманила глаза.
А маятникъ часовъ спѣшилъ безъ содроганья
Спугнуть въ мракъ вѣчности минуты покаянья.
134
И зимней полночью, когда въ покояхъ шумныхъ
Гремѣло пиршество, и гамъ рѣчей безумныхъ
Заздравнымъ звономъ чашъ былъ дружно заглушенъ,
Вдругъ дерзко слышался часовъ докучный звонь,
Какъ жизнь—томительный, какъ старость—монотонный,
Напоминая сонъ толпѣ неугомонной.
И кубки медленнѣй ходили по рукамъ,
И гости блѣдные, поднявши къ небесамъ
Свой утомленный взоръ, зѣвая, различали
Сіяніе утра въ посеребренной дали...
А сколько чудныхъ тайнъ подслушали они
У нѣжной юности въ тѣ ночи и въ тѣ дни,
Когда, довѣрившись безстрастному ихъ лику,
Влюбленная чета на нихъ, какъ на владыку,
Свиданья краткаго, смотрѣла, торопясь
Послѣдній поцѣлуй продлить въ прощальный часъ...
И что жъ!.. Прошли года, которые такъ рано,
Съ такой ироніей, такъ зло и хладнокровно
Спѣшили погубить безстрастные часы...
И вотъ—наперсники сатурниной косы—
Они забытые, какъ памятникъ могильный,
Стоятъ межъ рухляди, и циферблатъ ихъ пыльный,
Какъ инвалидъ слѣпой, нестрашный никому,
Глядитъ безсмысленно въ таинственную тьму
Недвижной вѣчности. И грозный геній тлѣнья
Надъ ними празднуетъ побѣду разрушенья...
К. Фофановъ
Фонтаны.
V.
Устремляясь въ лазурь, ниспадаютъ
Другъ на друга фонтана струи,
Онъ, какъ юноша нѣжный, ласкаетъ
Золотистыя кудри свои.
135
Въ упоеньи любуясь собою,
Онъ глядится въ бассейнъ, какъ Нарциссъ,
И игривой, волнистой струею
Пышно кудри его завились.
И звенитъ его смѣхъ серебристый,
Онъ, готовясь къ полету, дрожитъ,
За струею прохладной и чистой
Вновь струя свѣжей влаги бѣжитъ.
И ликуетъ фонтанъ въ упоеньи,
Что высоко сумѣлъ онъ взлетѣть,
А потомъ, какъ прозрачная сѣть,
Вдругъ повиснетъ въ свободномъ движеньи.
То, смѣясь, какъ Нарциссъ молодой,
Будто складки одежды воздушной,
Разбросаетъ потокъ струевой
И, желаніямъ легкимъ послушный,
Засверкаетъ своей наготой!
VII.
Фонтаны кружатся, какъ будто веретена,
То нѣжный шелкъ прядугъ незримые персты,
Межъ тѣмъ заботливо съ ночного небосклона
Луна склоняется въ сіяньи красоты...
Фонтаны нѣжный шелкъ безъ устали мотаютъ
И морщатъ, и опять такъ нѣжно расправляютъ,
То въ пряди соберутъ вокругъ веретена...
О, пряха нѣжныхъ струй, печальная луна!
Ты нить тончайшую свиваешь, развиваешь,
И кажется, не шелкъ, а легкій ѳиміамъ
Дано свивать твоимъ невидимымъ перстамъ...
Ты колокольный звонъ мечтательно мотаешь
Средь чуткой тишины вокругъ веретена.
О, пряха нѣжныхъ струй, печальная луна!..
136
Въ фонтанахъ каждый мигъ иное отраженье
Находятъ небеса, въ нихъ каждое мгновенье
Играетъ новый лучъ, и, восхищая взоръ,
Въ нихъ призма вѣчная смѣняетъ свой узоръ.
Фонтаны кружатся, какъ будто веретена,
Свивая радугу, царицу небосклона...
О, пряха нѣжныхъ струй, печальная луна!
Съ небесъ внимательный и грустный взоръ склоняя
И за работою фонтановъ наблюдая,
Съ очами тихими, спокойна и ясна,
Вся въ бѣломъ ты прядешь съ заботою унылой
Увы!—волну кудрей надъ раннею могилой,
О, пряха нѣжныхъ струй, печальная луна!..
Ж. Роденбахъ.
Эллисъ.
Клавикорды,
ЛС Роденбаху.
То были древнія, глухія клавикорды;
Вещами старыми заставленныя вкругъ,
Гдѣ длинные персты патриціанскихъ рукъ
Срывали нѣкогда унылые аккорды!
Гирляндой черною надъ ними здѣсь и тамъ
Бѣжитъ узоръ цвѣтовъ, надъ нимъ подъ шопотъ нѣжный,
Окутанъ въ кружева, учтивый и небрежный,
Съ улыбкой тонкою склонялся Букингэмъ!
Давно забытый міръ, печальный, но прелестный,
Внутри за стѣнками дремалъ въ могилкѣ тѣсной
Въ мечтаньяхъ сладостныхъ о прежнихъ дняхъ, но вотъ
Раскрыты клавиши, дрожатъ подъ легкой лаской,
И душу Луллія плѣнивъ старинной сказкой,
Звучитъ торжественно медлительный гавотъ!
А. Жиро.
Эллисъ.
137
Балетка.
(Отрывокъ изъ „Ермолай и Мельничиха".)
Балетка поражалъ даже равнодушнаго прохожаго своей
чрезмѣрной худобой, но жилъ, и долго жилъ; даже, несмотря
на свое бѣдственное положеніе, ни разу не пропадалъ и не
изъявлялъ желанья покинуть своего хозяина. Разъ какъ-то,
въ юные годы, онъ отлучился на два дня, увлеченный любовью,
но эта дурь скоро съ него соскочила. Замѣчательнѣйшимъ
свойствомъ Балетки было его непостижимое равнодушіе ко
всему на свѣтѣ... Если бъ рѣчь шла не о собакѣ, я бы упо-
требилъ слово разочарованность. Онъ обыкновенно сидѣлъ,
подвернувши подъ себя свой куцый хвостъ, хмурился, вздра-
гивалъ по временамъ и никогда не улыбался. (Извѣстно, что
собаки имѣютъ способность улыбаться и даже очень мило
улыбаться.) Онъ былъ крайне безобразенъ, и ни одинъ празд-
ный дворовый человѣкъ не упускалъ случая ядовито насмѣяться
надъ его наружностью, но всѣ эти насмѣшки и даже удары
Балетка переносилъ съ удивительнымъ хладнокровіемъ. Осо-
бенное удовольствіе доставлялъ онъ поварамъ, которые тот-
часъ отрывались отъ дѣла и съ крикомъ и бранью пускались
за нимъ въ погоню, когда онъ, по слабости, свойственной не
однѣмъ собакамъ, просовывалъ свое голодное рыло въ полу-
растворенную дверь соблазнительно теплой и благовонной
кухни. На охотѣ онъ отличался неутомимостью и чутье имѣлъ
порядочное; но если случайно догонялъ подраненнаго зайца,
то ужъ и съѣдалъ его съ наслажденьемъ всего, до послѣдней
косточки, гдѣ-нибудь въ прохладной тѣни, подъ зеленымъ
кустомъ, въ почтительномъ отдаленіи отъ Ермолая, ругавша-
гося на всѣхъ извѣстныхъ и неизвѣстныхъ діалектахъ.
И. Тургеневъ.
138
Ціьнители искусствъ.
(Отрывокъ изъ разск. „Татьяна Борисовна и ея племянникъ".)
Любовь къ художеству и художникамъ придаетъ этимъ г.
людямъ приторность неизъяснимую; знаться съ ними, съ ними цу
разговаривать — мучительно; настоящія дубины, вымазанныя
медомъ. Они, напримѣръ, никогда не называютъ Рафаэля—
Рафаэлемъ, Корреджіо—Корреджіемъ: „божественный Санцір,
неподражаемый де-Аллегрисъ“—говорятъ они, и говорятъ не-
премѣнно на 6. Всякій до*морощенный^амолюбивый, пере-
хитренный и посредственный талантъ величаютъ онц геніемъ^
или, правильнѣе, „хэніемъ"; синее небо Италіи, южный ли- ..
монъ, душистые пары береговъ Бренты не сходятъ у нихъ ' '
съ языка. „Эхъ, Ваня, Ваня", или „Эхъ, Саша, Саша", съ
чувствомъ говорятъ они друъ другу, „на іуъ бы ламъ, на '
югъ... вѣдь мы съ тобою рреки душою, дрёвніе греки!" На- ' -
блюдать ихъ можно на выставкахъ, передъ иными произведе-
ніями иныхъ россійскихъ живописцевъ. (Должно замѣтить,' і
что по бдлыдей части всѣ эти господа — патріоты страшные.)1
То отступятъ/\ни шага на два и закинутъ голову, то снова
придвинутсямъ картинѣ; глазки ихъ покрываются масляни-
стою влагой..? „Фу, ты, Боже мой",—говорятъ они, наконецъ,
разбитымъ отъ волненія голосомъ, — „души-то, души-то что!
эка, сердца-то, сердца! эка?души-то напустилъ! тьма души!.. -
А задумано-то какъ! мастерски задумано!^—А что у нихъ са^
михъ въ гостиныхъ за картины! Что за художники ходятъ
къ нимъ по вечерамъ, пьютъ у нихъ чай, слушаютъ ихъ раз-
говоры! Какіе они имъ подносятъ перспективные виды соб-
ственныхъ комнатъ, съ_ щеткой на первомъ планѣ, грядкой /
сору на вылощенномъ полу, желтымъ самоваромъ на столѣ г
возлѣ окна и самимъ хозяиномъ, Въ халатѣ и ермолкѣ, съ
139
яркимъ бликомъ свѣта на щекѣ! Что за длинноволосые пи-
томцы музъ, съ лихорадочно-презрительной улыбкой ихъ по-
сѣщаютъГ Что за .блѣднозеленыя барышни взвизгиваютъ у
нихъ за фортепіанами! Ибо у" насъ уже такъ на Руси заве-
дено: одному искусству человѣкъ предаваться не можетъ—
подавай ему всѣ. И потому нисколько не удивительно, что
эти господа-любители также оказываютъ сильное покрови-
тельство русской литературѣ, особенно драматической...
И. Тургеневъ.
Вячеславъ Иларіоновичъ Хвалынскѣ.
{Отрывокъ изъ разск. „Два помѣщика* )
Опишу вамъ отставного генералъ-майора Вячеслава Ила-
ріоновича Хвалынскаго. Представьте себѣ человѣка высокаго
и когда-то стройнаго, теперь же нѣсколько обрюзглаго, но
вовсе не дряхлаго, даже не устарѣлаго, человѣка въ зрѣломъ
возрастѣ, въ самой, какъ говорится, порѣ. Правда, нѣкогда
правильныя и теперь еще пріятныя черты лица его немного
измѣнились, щеки повисли, частыя морщины лучеобразно рас-
положились около глазъ, иныхъ зубовъ уже нѣтъ, какъ ска-
залъ Саади, по увѣренію Пушкина; русые волосы, по край-
ней мѣрѣ, всѣ тѣ, которые остались въ цѣлости, превратились
въ лиловые, благодаря составу, купленному на Роменской
конной ярмаркѣ у жида, выдававшаго себя за армянина; но
Вячеславъ Иларіоновичъ выступаетъ бойко, смѣется звонко,
позвякиваетъ шпорами, крутитъ усы, наконецъ, называетъ
себя старымъ кавалеристомъ, между тѣмъ какъ извѣстно, что
настоящіе старики сами никогда не называютъ себя стариками.
Носитъ онъ обыкновенно сюртукъ, застегнутый доверху, вы-
сокій галстухъ съ накрахмаленными воротничками и панталоны
140
сѣрыя съ искрой, военнаго покроя; шляпу же надѣваетъ прямо
на лобъ, оставляя весь затылокъ наружи. Человѣкъ онъ очень
добрый, но съ понятіями и привычками довольно странными.
Напримѣръ: онъ никакъ не можетъ обращаться съ дворянами
небогатыми или нечиновными, какъ съ равными себѣ людьми.
Разговаривая съ ними, онъ обыкновенно глядитъ на нихъ
сбоку, сильно опираясь щекою въ твердый и бѣлый воротникъ,
или вдругъ возьметъ да озаритъ ихъ яснымъ и неподвижнымъ
взоромъ, помолчитъ и двинетъ всею кожей подъ волосами на
головѣ; даже слова иначе произноситъ и не говоритъ напри-
мѣръ: „благодарю, Павелъ Васильичъ", или: „пожалуйте сюда,
Михайло Иванычъ", а: „боллдарю, Паллъ Асиличъ", или: „по-
ажалте сюда, Михалъ Ванычъ". Вячеславъ Иларіоновичъ ужас-
ный охотникъ до прекраснаго пола, и какъ только увидитъ у
себя въ уѣздномъ городѣ, на бульварѣ, хорошенькую особу,
немедленно пустится за нею вслѣдъ, но тотчасъ же и за-
хромаетъ,—вотъ что замѣчательное обстоятельство. Въ карты
играть онъ любитъ, но только съ людьми званія низшаго;
они-то ему: „ваше превосходительство", а онъ-то ихъ пушитъ
и распекаетъ, сколько душѣ его угодно. Когда жъ ему слу-
чится играть съ губернаторомъ или съ какимъ-нибудь чинов-
нымъ лицомъ,—удивительная происходитъ въ немъ перемѣна:
и улыбается-то онъ, и головой киваетъ, и въ глаза-то имъ
глядитъ — медомъ такъ отъ него и несетъ... Даже проигры-
ваетъ и не жалуется. Читаетъ Вячеславъ Иларіоновичъ мало,
при чтеніи безпрестанно поводитъ усами и бровями, словно
волну снизу вверхъ по лицу пускаетъ. Особенно замѣчательно
это волнообразное движеніе на лицѣ Вячеслава Иларіоновича,
когда ему случается (при гостяхъ, разумѣется) пробѣгать
столбцы Доигпаі Зез ВёЬаіз". Хорошъ бываетъ Вячеславъ
Иларіоновичъ на большихъ званыхъ обѣдахъ, даваемыхъ по-
мѣщиками въ честь губернаторовъ и другихъ властей; тутъ
онъ, можно сказать, совершенно въ своей тарелкѣ. Сидитъ
141
онъ обыкновенно въ такихъ случаяхъ если не по правую
руку губернатора, то и не въ далекомъ отъ него разстояніи;
въ началѣ обѣда болѣе придерживается чувства собственнаго
достоинства и, закинувшись назадъ, но не оборачивая головы,
сбоку пускаетъ взоръ внизъ по круглымъ затылкамъ и
стоячимъ воротникамъ гостей; за то къ концу стола развесе-
ляется, начинаетъ улыбаться во всѣ стороны (въ направленіи
губернатора онъ съ начала обѣда улыбается), а иногда даже
предлагаетъ тостъ въ честь прекраснаго пола, украшенія на-
шей планеты, по его словамъ.
И. Тургеневъ.
142
< >>
° III *
А-Ю
МАТЕРІАЛЪ
ДЛЯ
Введеніе въ третій отдіьлъ.
(О темпераментѣ).
Какъ образованіе и связанное съ нимъ количество «знаній» ско-
вываетъ фантазію, точно такъ же воспитаніе, вырабатывающее въ чело-
вѣкѣ качества, цѣнныя для общежитія, понижаютъ въ воспитанномъ
человѣкѣ способность ярко безъ стѣсненія выражать волнующія его
чувства. Воспитанность въ культурномъ человѣкѣ почти синонимъ
сдержанности, а сдержанность легко переходитъ въ связанность. Въ
искусствѣ же необходима извѣстная свобода для выявленія душев-
ныхъ движеній, свобода далеісая отъ «развязности*, но доходящая
иногда до дерзости. Эту цѣнную способность въ художникѣ, смѣло и
опредѣленно отдаваться волнующимъ его чувствамъ, мы называемъ
«темпераментомъ». Терминъ—условный и [понимаемый въ области
искусства именно такъ.
Каждому изъ пасъ, преподающихъ выразительное чтеніе или
драматическое искусство, приходится наталкиваться въ способномъ
ученикѣ на эту сдержанность и боязнь показаться смѣшнымъ, (чѣмъ
интеллигентнѣе ученикъ, тѣмъ сильнѣе эта боязнь), а потому нужны
спеціальныя работы для борьбы съ закованностью исполнителя и для
развитія того, что мы называемъ однимъ словомъ «темпераментъ*.
Въ этихъ цѣляхъ собраны произведенія настоящаго отдѣла. Этой
задачей объединены такія далекія другъ отъ друга по настроеніямъ
и формамъ произведенія, какъ «Насмерть Пушкина» Лермонтова или
«Тарантелла» Майкова. Въ первомъ произведеніи огромная глубина
скорби и жаръ негодованія, доходящій до экстаза, во второмъ радость
головокружительной пляски, но для исполненія того и другого про-
изведеній необходима наличность темперамента у чтеца.
О. Озаровская.
Школа чтеца.
10
145
Море.
Безмолвное море, лазурное море,
Стою очарованъ надъ бездной твоей.
Ты живо, ты дышишь; смятенной любовью,
Тревожною думой наполнено ты.
Безмолвное море, лазурное море,
Открой мнѣ глубокую тайну твою:
Что движетъ твое необъятное лоно?
Чѣмъ дышитъ твоя напряженная грудь?
Иль тянетъ тебя изъ земныя неволи
Далекое, свѣтлое небо къ себѣ?..
Таинственной, сладостной полное жизни,
Ты чисто въ присутствіи чистомъ его;
Ты льешься его свѣтозарной лазурью,
Вечернимъ и утреннимъ свѣтомъ горишь,
Ласкаешь его облака золотыя
И радостно блещешь звѣздами его.
Когда же сбираются темныя тучи,
Чтобъ ясное небо отнять у тебя —
Ты бьешься, ты воешь, ты волны подъемлешь,
Ты рвешь и терзаешь враждебную мглу...
И мгла исчезаетъ, и тучи уходятъ;
Но, полное прошлой тревоги своей,
Ты долго вздымаешь испуганны волны,
И сладостный блескъ возвращенныхъ небесъ
Не вовсе тебѣ тишину возвращаетъ;
Обманчивъ твоей неподвижности видъ:
Ты въ безднѣ покойной скрываешь смятенье,
Ты, небомъ любуясь, дрожишь за него.
В. Жуковскій.
147
10
В а
При дорогѣ нива...
Доня—смуглоличка
День-деньской трудится—
Неустанно жнетъ:
Видно не лѣнива,
А—что Божья птичка—
На зарѣ ложится,
На зарѣ встаетъ.
Противъ нашей Дони
Поискать красотки—
Развѣ—что далеко,
А въ сосѣдствѣ нѣтъ...
Косы по ладони;
Грудь какъ у лебедки;
Очи съ поволокой;
Щеки—маковъ цвѣтъ.
Солнце такъ и жаритъ,
Колетъ, какъ иглою;
Стелется на полѣ
Дымъ, не то туманъ;
Съ самой зорьки паритъ—
Знать передъ грозою;
Скинешь поневолѣ
Душный сарафанъ.
Разгорѣлась жница:
Жнетъ да жнетъ, да вяжетъ,
Вяжетъ безъ подмоги
Полные снопы...
А въ дали зарница
Красный пологъ кажетъ...
Ходятъ вдоль дороги
Пыльные столпы...
§ о р ь.
Ходятъ вихри, ходятъ,
Вертятся воронкой—
Все по-одиночкѣ:
Этотъ, тотъ и тотъ—
Очередь заводятъ...
А одинъ, сторонкой,
Къ Дониной сорочкѣ
Такъ—себѣ и льнетъ.
Оглянулась дѣвка—
И сама не рада:
Кто-то за спиною...
Выросъ изъ земли...
На губахъ издѣвка,
А глаза безъ взгляда;
Волосы копною,
Борода въ пыли.
Сѣрый-сѣрый, зыбкой,—
Онъ по вѣтру гнется,
Бьется въ жгутъ и пляшетъ
Пляшетъ и дрожитъ,
Словно бы съ улыбкой,
Словно бы смѣется,
Головою машетъ—
Донѣ говоритъ:
„Вѣтерокъ поднялся,—
Славная погодка!
Свѣтится зарница
Среди—бѣла дня:
Я и разыгралася...
Бѣлая лебедка,
Красная дѣвица,
Полюби меня!”
148
Отскочила Доня—
Ей неймется вѣры—
За снопами кроясь,
Силится уйти;
А за ней погоня—
Настигаетъ сѣрый,
Кланяется въ поясъ,
Сталъ ей на пути:
„Что жъ не молвишь слова,
Что не приголубишь?
Аль—еще не знаешь—
Что за зелье страсть?
Полюби сѣдого:—
Если не полюбишь,
И его сконаешь,
И тебѣ пропасть..."
Самъ по полю рыщетъ,
Къ Донѣ бокомъ-бокомъ—
Тѣсными кругами
Хочетъ закружить:
Будто въ жмуркахъ ищетъ,
Будто ненарокомъ
Пыльными руками
Тянется схватить.
Вотъ схватилъ и стиснулъ...
Да она рванулась:
„Аль серпа хотѣлось?
На тебѣ ловиН
Серпъ блеснулъ и свистнулъ...
Пыль слегка шатнулась,
Да и разлетѣлась...
Только серпъ въ крови...
Съ призракомъ пропали,
Словно вихорь шаткій,
И дѣвичьи грезы...
Отчего жъ потомъ
Мать съ отцомъ видали,
Какъ она украдкой
Утирала слезы
Бѣлымъ рукавомъ?
Отчего гурьбою
Сватовъ засылали,
А смотринъ ни разу
Не пришлось запить?..
Думали семьею,
Думали-гадали
И рѣшили: „съ глазу!"—
Такъ тому и быть...
Зимка проскрипѣла
И весной запахло;
Зеленя пробили
Черный слой земли...
Доня все хирѣла,
Сохнула и чахла...
Знахари ходили,
Только не дошли.
Рожь поспѣла снова...
Свѣтится зарница...
Ходятъ вдоль дороги
Пыльные столпы...
Только нѣтъ Сѣдого,
И другая жница
Вяжетъ безъ помоги
Полные снопы.
—„Эхма! жалко Домны!"—
Всѣмъ селомъ рѣшили:
Эдакой напасти
Гдѣ избыть серпомъ!
Старики-то скромны—
Видно не учили:
—„Отъ бѣды да страсти
Оградись крестомъ^.
• Л. Мей.
149
Пловецъ.
Нелюдимо наше море,
День и ночь шумитъ оно;
Въ роковомъ его просторѣ
Много бѣдъ погребено.
Смѣло, братья! Вѣтромъ полный
Парусъ мой направилъ я:
Полетитъ на скользки волны
Быстрокрылая ладья!
Облака бѣгутъ надъ моремъ,
Крѣпнетъ вѣтеръ, зыбь чернѣй,
Будетъ буря: мы поспоримъ
И помужествуемъ съ ней!
Смѣло, братья! Туча грянетъ,
Закипитъ громада водъ,
Выше валъ сердитый встанетъ,
Глубже бездна упадетъ?
Тамъ, за далью непогоды,
Есть блаженная страна:
Не темнѣютъ неба своды,
Не проходитъ тишина.
Но туда выносятъ волны
Только сильнаго душой...
Смѣло, братья, бурей полный
Прямъ и крѣпокъ парусъ мой!
Н. Языковъ.
Колокольчики и колокола.
і.
Слышишь, сани мчатся въ рядъ,
Мчатся въ рядъ!
Колокольчики звенятъ,
Серебристымъ легкимъ звономъ слухъ нашъ сладостно томятъ
Этимъ пѣньемъ и гудѣньемъ о забвеньи говорятъ.
150
О, какъ звонко, звонко, звонко,
Точно звучный смѣхъ ребенка,
Въ ясномъ воздухѣ ночномъ
Говорятъ они о томъ,
Что за днями заблужденья
Наступаетъ возрожденье,
Что волшебно наслажденье—наслажденье нѣжнымъ сномъ.
Сани мчатся, мчатся въ рядъ,
Колокольчики звенятъ,
Звѣзды слушаютъ, какъ сани, убѣгая, говорятъ,
И, внимая имъ, горятъ,
И мечтая и блистая, въ небѣ духами парятъ;
И измѣнчивымъ сіяньемъ,
Молчаливымъ обаяньемъ,
Вмѣстѣ съ звономъ, вмѣстѣ съ пѣньемъ, о забвеньи говорятъ.
II.
Слышишь къ свадьбѣ зовъ святой,
Золотой!
Сколько нѣжнаго блаженства въ этой пѣснѣ молодой!
Сквозь спокойный воздухъ ночи
Словно смотрятъ чьи-то очи
И блестятъ,
Изъ волны пѣвучихъ звуковъ на луну они глядятъ,
Изъ призывныхъ дивныхъ келій,
Полны сказочныхъ веселій,
Наростая, упадая, брызги свѣтлыя летятъ.
Вновь потухнутъ, вновь блестятъ,
И роняютъ свѣтлый взглядъ
На грядущее, гдѣ дремлетъ безмятежность нѣжныхъ сновъ,
Возвѣщаемыхъ согласьемъ золотыхъ колоколовъ!
III
Слышишь воющій набатъ,
Точно стонетъ мѣдный адъ!
Эти звуки, въ дикой мукѣ, сказку ужасовъ твердятъ.
151
Точно молятъ имъ помочь,
Крикъ кидаютъ прямо въ ночь,
Прямо въ уши темной ночи.
Каждый звукъ,
То длиннѣе, то короче,
Выкликаетъ свой испугъ,
И испугъ ихъ такъ великъ,—
Такъ безуменъ каждый крикъ,
Что разорванные звоны, неспособные звучать,
Могутъ только биться, виться, и кричать, кричать, кри-
чать 1
Только плакать о пощадѣ,
И къ пылающей громадѣ
Вопли скорби обращать!
А межъ тѣмъ огонь безумный,
И глухой и многошумный,
Все горитъ,
То изъ оконъ, то по крышѣ,
Мчится выше, выше, выше,
И какъ будто говоритъ:
— Я хочу
Выше мчаться, разгораться, встрѣчу лунному лучу,
Иль умру, иль тотчасъ-тотчасъ вплоть до мѣсяца взлечу!
О, набатъ, набатъ, набатъ,
Если бъ ты вернулъ назадъ.
Этотъ ужасъ, это пламя, эту искру, этотъ взглядъ,
Этотъ первый взглядъ огня,
О которомъ ты вѣщаешь, съ плачемъ, съ воплемъ, и
звеня!
А теперь намъ нѣтъ спасенья,
Всюду пламя и кипѣнье,
Всюду страхъ и возмущенье!
Твой призывъ,
Дикихъ звуковъ несогласность
Возвѣщаетъ намъ опасность!
То растетъ бѣда глухая, то спадаетъ, какъ приливъ.
Слухъ нашъ чутко ловитъ волны въ перемѣнѣ звуковой,
Вновь спадаетъ, вновь рыдаетъ, мѣдно стонущій прибой!
152
IV.
Похоронный слышенъ звонъ,
Долгій звонъ!
Горькой скорби слышны звуки, горькой жизни конченъ сонъ.
Звукъ желѣзный возвѣщаетъ о печали похоронъ!
И невольно мы дрожимъ,
Отъ забавъ своихъ спѣшимъ,
И рыдаемъ, вспоминаемъ, что и мы глаза смежимъ.
Неизмѣнно—монотонный,
Этотъ возгласъ отдаленный,
Похоронный тяжкій звонъ,
Точно стонъ,
Скорбный, гнѣвный
И плачевный,
Выростаетъ въ долгій гулъ,
Возвѣщаетъ, что страдалецъ непробуднымъ сномъ уснулъ.
Въ колокольныхъ кельяхъ ржавыхъ,
Онъ для правыхъ и неправыхъ
Грозно вторитъ объ одномъ:
Что на сердцѣ будетъ камень, что глаза сомкнутся сномъ.
Факелъ траурный горитъ.
Съ колокольни кто-то крикнулъ, кто-то громко говоритъ,
Кто-то черный тамъ стоитъ,
И хохочетъ и гремитъ,
И гудитъ, гудитъ, гудитъ,
Къ колокольнѣ припадаетъ,
Гулкій колоколъ качаетъ.
Гулкій колоколъ рыдаетъ,
Стонетъ въ воздухѣ нѣмомъ
И протяжно возвѣщаетъ о покоѣ гробовомъ.
Эдгаръ Поэ.
К. Бальмонтъ.
Море.
Безконечной пеленою
Развернулось предо мною—
Старый другъ мой—море.
Сколько власти благодатной
Въ этой шири необъятной,
Въ царственномъ просторѣ!
153
Я пришелъ на берегъ милый,
Истомленный и унылый,
Съ ношею старинной—
Всѣхъ надеждъ моихъ разбитыхъ,
Всѣхъ сомнѣній ядовитыхъ,
Всей тоски змѣиной.
Я пришелъ повѣдать морю,
Что съ судьбой ужъ я не спорю,
Что бороться болѣ
Силы нѣтъ, что я смирился
И позорно покорился
Безобразной долѣ.
Но когда передо мною
Безконечной пеленою
Развернулось море,
И, отваги львиной полны,
Вдругъ запѣли пѣсню волны
Въ исполинскомъ хорѣ—
Пѣсню мощи и свободы,
Пѣсню грозную природы,
Жизнь берущей съ бою—
Все во мнѣ затрепетало,
И такъ стыдно, стыдно стало
Предъ самимъ собою—
За унынье, за усталость,
За болѣзненную вялость,
За потерю силы
Ни предъ чѣмъ не преклоняться
И съ врагомъ-судьбой сражаться
Смѣло до могилы.
Отряхнулъ съ себя я снова
Малодушія пустого
Пагубное бремя.
И врагу съ отвагой твердой,
Снова кинулъ вызовъ гордый,
Какъ въ былое время...
А сѣдыя волны моря,
Пробужденью духа вторя
Откликомъ природы,
Все быстрѣй впередъ летѣли,
Все грознѣе пѣсню пѣли
Жизни и свободы...
П. Вейнбергъ
Буревіъстникъ.
Надъ сѣдой равниной моря
Вѣтеръ тучи собираетъ.
Между тучами и моремъ
Гордо рѣетъ Буревѣстникъ,
Черной молніи подобный.
То волны крыломъ касаясь,
То стрѣлой взмывая къ тучамъ,
Онъ кричитъ,—и тучи слышатъ
Радость въ смѣломъ крикѣ птицы.
Въ крикѣ этомъ—жажда бури.
Силу гнѣва, пламя страсти
И увѣренность въ побѣдѣ
Слышатъ тучи въ этомъ крикѣ.
Чайки стонутъ передъ бурей—
Стонутъ, мечутся надъ моремъ
И на дно его готовы
Спрятать ужасъ свой предъ бурей.
И гагары тоже стонутъ,—
Имъ, гагарамъ, недоступно
Наслажденье битвой жизни:
Громъ ударовъ ихъ пугаетъ.
Глупый пингвинъ робко прячетъ
Тѣло жирное въ утесахъ...
Только гордый Буревѣстникъ
154
Рѣетъ смѣло и свободно
Надъ сѣдымъ отъ пѣны моремъ.
Все мрачнѣй и ниже тучи
Опускаются надъ моремъ,
И поютъ и пляшутъ волны
Къ высотѣ навстрѣчу грому.
Громъ грохочетъ. Въ пѣнѣ гнѣва
Стонутъ волны, съ вѣтромъ споря.
Вотъ охватываетъ вѣтеръ
Стаи волнъ объятьемъ крѣпкимъ
И бросаетъ ихъ съ размаха
Въ дикой злобѣ на утесы,
Разбивая въ пыль и брызги
Изумрудныя громады.
Буревѣстникъ съ крикомъ рѣетъ,
Черной молніи подобный,
Какъ стрѣла, пронзаетъ тучи,
Пѣну волнъ крыломъ срываетъ,
Вотъ онъ носится, какъ демонъ,—
Гордый, черный демонъ бури,—
И смѣется и рыдаетъ...
Онъ надъ тучами смѣется,
Онъ отъ радости рыдаетъ.
Въ гнѣвѣ грома,—чуткій демонъ,—
Онъ давно усталость слышитъ,
Онъ увѣренъ, что не скроютъ
Тучи солнца, нѣтъ не скроютъ.
Вѣтеръ воетъ... Г ромъ грохочетъ...
Синимъ пламенемъ пылаютъ
Стаи тучъ надъ бездной моря.
Море ловитъ стрѣлы молній
И въ своей пучинѣ гаситъ.
Точно огненныя змѣи
Вьются въ море, исчезая,
Отраженья этихъ молній.
—Буря. Скоро грянетъ буря.
Это смѣлый Буревѣстникъ
Гордо рѣетъ между молній
Надъ ревущимъ гнѣвно моремъ.
То кричитъ пророкъ побѣды:
—Пусть сильнѣе грянетъ буря...
М. Горькій.
Изъ „Монологовъ".
Чего хочу?.. Чего?.. О! такъ желаній много,
Такъ къ выходу ихъ силѣ нуженъ путь,
Что, кажется, порой—ихъ внутренней тревогой
Сожжется мозгъ и разорвется грудь.
Чего хочу? Всего со всею полнотою!
Я жажду знать, я подвиговъ хочу,
Еще хочу любить съ безумною тоскою,
Весь трепетъ жизни чувствовать хочу!
А втайнѣ чувствую, что всѣ желанья тщетны,
И жизнь скупа, и внутренно я хилъ;
Мои стремленія замолкнутъ, безотвѣтны,
Въ попыткахъ я запасъ растрачу силъ.
Я самъ себѣ кажусь подавленный страданьемъ,
155
Какимъ-то жалкимъ, маленькимъ глупцомъ,
Среди безбрежности затеряннымъ созданьемъ,
Томящимся въ броженіи пустомъ...
Духъ вѣчности обнять за разъ не въ нашей долѣ,
А чашу жизни пьемъ мы по глоткамъ;
О томъ, что выпито, мы все жалѣемъ болѣ,
Пустое дно все больше видно намъ.
И съ каждымъ днемъ душѣ тяжелѣ устарѣлость,
Больнѣе помнить и страшнѣй желать,
И кажется, что жить—отчаянная смѣлость;
Но биться пульсъ не можетъ перестать.
И дальше я живу въ стремленьи безотрадномъ,
И жизни крестъ беру я на себя,
И весь душевный жаръ несу въ движеньи жадномъ,
За мигомъ мигъ хватая и губя.
И все хочу... Чего? О! такъ желаній много.
Такъ къ выходу ихъ силѣ нуженъ путь,
Что, кажется, порой—ихъ внутренней тревогой
Сожжется мозгъ и разорвется грудь.
Н. Огаревъ.
Пророкъ.
Навстрѣчу вѣщаго пророка
И съ нимъ грядущаго суда,
Еще въ ночи,—еще востока
Дрожала яркая звѣзда,—
Онъ вышелъ, градъ покинувъ сонный,
Не взялъ ни пищи, ни одеждъ,
Въ тоскѣ святой, неугомонной,
Свершенья чающій надеждъ!
Кругомъ лишь темь да влага ночи.
Не скоро свѣтлый день взойдетъ...
Но онъ, во мракъ вонзая очи,
Стоитъ и ждетъ, стоитъ и ждетъ.
И мыслитъ: „Чаемый, молимый
День наступаетъ. Близокъ срокъ.
156
Узрю тебя, досель гонимый,
Но нынѣ судящій пророкъ!
Не призракъ ты: съ костьми и кровью,
Какъ мы, въ плоти идешь ты къ намъ...
Съ какимъ стенаньемъ и любовью
Я припаду къ твоимъ ногамъ!
И все, что въ эти дни и годы
Терзаній, мукъ извѣдалъ я,—
Все въ этотъ мигъ, пророкъ свободы,
Благословитъ душа моя!
Какое утро міру встанетъ!
Какая вѣра вспыхнетъ въ немъ!
Съ какимъ позоромъ зло отпрянетъ
Передъ святымъ твоимъ челомъ!
Свершишь ты жертвы очищенья,—
И въ жизнь одѣнутся слова:
Освобожденья, обновленья,
Любви и правды торжества!..
Оттуда путь ему, съ востока...
Придетъ смирененъ и могучъ,
Подъ пыльнымъ рубищемъ пророка
Скрывая слова острый лучъ!
О, эту пыль одежды бѣдной
Какъ я слезами орошу!
Какою праздничной, побѣдной
Я пѣснью воздухъ оглашу!
Но близко, Боже!.. Нынѣ, нынѣ!..
Вся кровь отхлынула въ груди;
Ужасенъ ты въ своей святынѣ,
Великій Богъ!.. Гряди, гряди,
О, жизни новое начало,
О, царства новаго разсвѣтъ!..”
Заря пылаетъ. Солнце встало,
Проснулся долъ. Пророка нѣтъ.
«Нѣтъ! но придетъ онъ въ срокѣ скоромъ,
Я вѣрю, знаю—онъ придетъ!"
И смотритъ, даль пытая взоромъ...
157
Смѣнился день. Пророкъ нейдетъ.
Но, сердцемъ скорбь принявъ покорнымъ,
Онъ все зоветъ, онъ все глядитъ;
Все тѣмъ же гордымъ и упорнымъ
Въ немъ вѣра пламенемъ горитъ.
И дни бѣгутъ,—за днями годы
Неудержимой чередой;
Надъ нимъ бушуютъ непогоды,
Его сжигаетъ солнца зной;
Онъ мигъ за мигомъ время мѣритъ,
Мольбу призывную твердя,
И съ каждымъ мигомъ ждетъ и вѣритъ,
Очей съ востока не сводя.
И лѣтъ несчетныхъ рядъ промчался...
Онъ старцемъ сталъ. Отъ мужа силъ
Одинъ лишь остовъ воздвигался.
Какъ тѣнь, какъ выходецъ могилъ,
Снѣдаемъ тайною тоскою—
Видали странники — порой
Дрожащей, старческой рукою
Онъ тусклый взоръ прикроетъ свой.
Но вѣры пламенной гордыни
Душа не свергнула его:
Стоитъ до днесь онъ средь пустыни
И ждетъ пророка своего!
И. Аксаковъ.
Похоронный звонъ.
О, звонъ тяжелый, монотонный,
Звонъ отдаленный
Похоронный!
О, тихій звонъ по днямъ унылымъ,
По днямъ проклятымъ,
Днямъ постылымъ,
О, звонъ желѣзный, звонъ печальный,
Тревожный, слезный,
Погребальный!..
158
О, звонъ, несущій въ часъ молитвы
Раскаты битвы,
Стоны битвы!!..
Печальный звонъ, греми, гуди же
И внятнѣе и ближе,
Ближе!
Пусть звонъ вѣщаетъ погребальный,
Что близокъ, близокъ мракъ печальный,
Мракъ печальный!
Пусть внемлетъ воздухъ потрясенный
Звонъ похоронный,
Монотонный!
Греми жъ надъ нами суднымъ громомъ,
Какъ надъ Содомомъ,
Надъ Содомомъ!
Пусть рухнетъ городъ нашъ проклятый,
Огнемъ объятый,
Весь объятый!
Греми карающимъ набатомъ
Надъ каждымъ ложемъ, надъ развратомъ,
Надъ развратомъ!
Надъ каждымъ мерзостнымъ притономъ
Раздайся стономъ,
Перезвономъ!
Надъ башней, молніей спаленной,
Испепеленной,
Опаленной!
Да не сквернятъ Дары святые
Во храмѣ духи проклятые
Въ часъ литургіи!..
И надъ убійствомъ и надъ тьмою
Греми проклятьемъ и чумою
И чумою!
Рази невѣрныхъ, словно молотъ,
Зови къ нимъ голодъ
Смерть и голодъ!
159
Надъ страшной бездной, злобной бездной,
Греми, какъ кличъ войны желѣзной,
Кличъ желѣзный!
Но нѣтъ отвѣта на упреки,
О, звонъ далекій,
Одинокій!
Не такъ ли я зову всечасно,
Звоню всечасно,
И напрасно!..
Иванъ Жилькэнъ.
Эллисъ.
Трепакъ.
Лѣсъ да поляны. Безлюдье кругомъ.
Вьюга и плачетъ и стонетъ,
Чудится, будто во мракѣ ночномъ,
Злая кого-то хоронитъ,
Глядь—такъ и есть! Въ темнотѣ мужика
Смерть обнимаетъ, ласкаетъ,
Съ пьяненькимъ пляшетъ вдвоемъ трепака,
На ухо пѣснь напѣваетъ.
Любо съ подругою бѣлой плясать!
Любо лихой ея пѣснѣ внимать!
Охъ, мужичокъ,
Старичокъ
Убогой,
Пьянъ напился,
Поплелся
Дорогой,
А метель-то, вѣдьма, поднялась,
Взыграла!
Съ поля—въ лѣсъ, дремучій невзначай
Загнала!
Горемъ, тоской
Да нуждой
Томимый,
160
Лягъ, отдохни
Да усни,
Родимый!
Я тебя, голубчикъ мой, снѣжкомъ
Согрѣю;
Вкругъ тебя великую игру
Затѣю.
Взбей-ка постель,
Ты, метель
Лебедка!
Ну, начинай,
Запѣвай,
Погодка,
Сказку, да такую, чтобъ всю ночь
Тянулась,
Чтобъ пьянчугѣ крѣпко подъ нее
Уснулось!
Гой, вы, лѣса,
Небеса,
Да тучи!
Темь, вѣтерокъ,
Да снѣжокъ
Летучій!
Станемъ-ка въ кружки да удалой
Толпою
Въ пляску развеселую дружнѣй
За мною!
Глядь-ка, дружокъ,
Мужичокъ
Счастливый;
Лѣто пришло,
Разсвѣло!
Надъ нивой
Солнышко смѣется да жнецы
Гуляютъ,
Снопики на сжатыхъ полоскахъ
Считаютъ.
161
Шкыш тгец*.
11
Лѣсъ да поляны, безлюдье кругомъ.
Стихла недобрая сила,
Горькаго пьяницу въ мракѣ ночномъ
Съ плачемъ метель схоронила.
Знать, утомился плясать трепака,
Пѣсни пѣть съ бѣлой подругой—
Спитъ, не проснется... Могила мягка
И ужъ засыпана вьюгой!
А. Голенищевъ-Кутузовъ.
Торжество стерта.
День цѣлый бой не умолкаетъ,
Въ дыму затмился солнца свѣтъ,
Окрестность стонетъ и пылаетъ,
Холмы ревутъ—побѣды нѣтъ!
И пала ночь на поле брани;
Дружины въ мракѣ разошлись;
Все стихло—и въ ночномъ туманѣ
Стенанья къ небу поднялись.
Тогда, озарена луною,
На боевомъ своемъ конѣ,
Костей сверкая бѣлизною,
Явилась смерть... и въ тишинѣ,
Внимая вопли и молитвы,
Довольства гордаго полна,
Какъ полководецъ, мѣсто битвы
Кругомъ объѣхала она;
На холмъ поднявшись, оглянулась,
Остановилась... улыбнулась...
И надъ равниной боевой
Пронесся голосъ роковой:
«Кончена битва—я всѣхъ побѣдила!
Всѣ предо мной вы склонились, бойцы,
Жизнь васъ поссорила—я помирила.
Дружно вставайте на смотръ, мертвецы!
162
Маршемъ торжественнымъ мимо пройдите,—
Войско свое я хочу сосчитать.
Въ землю потомъ свои кости сложите,
Сладко отъ жизни въ землѣ отдыхать.
Годы незримо пройдутъ за годами,
Въ людяхъ исчезнетъ и память о васъ—
Я не забуду, и вѣчно надъ вами
Пиръ буду править въ полуночный часъ!
Пляской тяжелою землю сырую
Я притопчу, чтобъ сѣнь гробовую
Кости покинуть во вѣкъ не могли,
Чтобъ никогда вамъ не встать изъ земли!"
А. Голенищевъ-Кутузовъ.
Послѣдняя жертва.
Вкругъ Африки мрачной, по бурной равнинѣ
Безбрежныхъ тропическихъ водъ,
Къ далекой странѣ Восходящаго Солнца
Семья броненосцевъ плыветъ. /
Прекрасны и грозны стальные гиганты,—
Окрашены въ цвѣтъ боевой
И жерлами сотенъ орудій зіяютъ,
Готовые ринуться въ бой. '
Но странно—безмолвны они, какъ гробницы;
Ни кликовъ ни пѣсенъ живыхъ;
Недвижнѣе статуй, угрюмые люди
Стоятъ у лафетовъ стальныхъ.
Такъ узникъ стоитъ передъ плахой кровавой...
„Погибель вѣрна впереди,
И тѣ, кто послалъ насъ на подвигъ ужасный,—
Безъ сердца въ желѣзной груди! /
Мы жертвы... Мы гнѣвнымъ отмѣчены рокомъ...
Но бьетъ искупленія часъ—
И рушатся своды отжившаго міра,
Опорой избравшаго насъ. /
163
И
О, день лучезарный, свободы родимой,
Не мы твой увидимъ восходъ,
Но если такъ нужно—возьми націи жизни...
Впередъ на погибель! Впередъ!14
И вотъ зашумѣли восточныя воды,
Сѣдой буревѣстникъ кричитъ...
Привѣтъ тебѣ, грозное Желтое море!
Чу! Выстрѣлъ далекій гремитъ...
„Не флотъ ли Артура?.. Взгляни: Петропавловскъ,
Полтава, Побѣда, Баянъ...
То старый Макаровъ къ намъ ѣдетъ навстрѣчу,
Салютъ отдаетъ „Ретвизанъ14...
Безумная греза!.. Ужъ гордо не грянетъ
Огонь изъ его амбразуръ;
Въ развалинахъ дымныхъ, кровавою раной
Зіяетъ погибшій Артуръ!
И путь туда русскому флагу заказанъ...
—Смѣлѣе жъ направо! Впередъ—
Къ безвѣстнымъ утесамъ враждебной Цусимы
Въ зловѣщій Корейскій проходъ!
„Ты сжалишься, сжалишься, праведный Боже,
И волю измѣнишь свою:
Пусть чудо, великое чудо свершится—
Врага поразимъ мы въ бою!44
Свершилось! На днѣ ледяномъ океана
Стальные красавцы лежатъ,
И чуда морскія, акулы и спруты,
На нихъ въ изумленьи глядятъ.
Разбиты, истерзаны, кровью залиты
Гротъ-мачты, лафеты, рули...
Ни стона ни звука... Въ могильномъ покоѣ
Недвижимо спятъ корабли...
П. Якубовичъ.
164
На смерть Пушкина.
Погибъ поэтъ, невольникъ чести, палъ, оклеветанный
молвой, съ свинцомъ въ груди и съ жаждой мести, поник-
нувъ гордой головой. Не вынесла душа поэта позора мелоч-
ныхъ обидъ: возсталъ онъ противъ мнѣній свѣта, одинъ, какъ
прежде,—и убитъ! Убитъ!... Къ чему теперь рыданья, похвалъ
и слезъ ненужный хоръ, и жалкій лепетъ оправданья—судьбы
свершился приговоръ!
Не вы ль сперва такъ долго гнали его свободный, чуд-
ный даръ и для потѣхи возбуждали чуть затаившійся пожаръ?
Что жъ, веселитесь!.. Онъ мученій послѣднихъ перенесть не
могъ. Угасъ, какъ свѣточъ, дивный геній, увялъ торжествен-
ный вѣнокъ!.. Его убійца хладнокровно навелъ ударъ — спа-
сенья нѣтъ: пустое сердце бьется ровно, въ рукѣ не дрогнетъ
пистолетъ. И что за диво?.. Издалека, подобно сотнямъ бѣг-
лецовъ, на ловлю счастья и чиновъ заброшенъ къ намъ по
волѣ рока, смѣясь, онъ дерзко презиралъ земли чужой языкъ
и нравы: не могъ щадить онъ нашей славы, не могъ понять
въ сей мигъ кровавый, на что онъ руку подымалъ!
И онъ погибъ и взятъ могилой, какъ тотъ пѣвецъ, не-
вѣдомый, но милый, добыча ревности нѣмой, воспѣтый имъ
съ такою чудной силой, сраженный, какъ и онъ, безжалост-
ной рукой. Зачѣмъ отъ мирныхъ нѣгъ и дружбы простодуш-
ной вступилъ онъ въ этотъ свѣтъ завистливый и душный
для сердца вольнаго и пламенныхъ страстей? Зачѣмъ онъ
руку далъ клеветникамъ безбожнымъ, зачѣмъ повѣрилъ онъ
словамъ и клятвамъ ложнымъ, онъ, съ юныхъ лѣтъ постиг-
нувшій людей! И прежній снявъ вѣнокъ, они вѣнецъ терно-
вый, увитый лаврами, надѣли на него; но иглы тайныя сурово
язвили славное чело... Отравлены его послѣднія мгновенья
коварнымъ шопотомъ безчувственныхъ невѣждъ, и умеръ
165
онъ, съ глубокой жаждой мщенья, съ досадой тайною обма-
нутыхъ надеждъ... Замолкли звуки дивныхъ пѣсенъ, не раз-
даваться имъ опять: пріютъ пѣвца угрюмъ и тѣсенъ, и на
устахъ его печать!
А вы, надменные потомки извѣстной подлостью просла-
вленныхъ отцовъ, пятою рабскою поправшіе обломки игрою
счастія обиженныхъ родовъ!
Вы, жадною толпою стоящіе у трона, свободы, генія и
славы палачи! Таитесь вы подъ сѣнію закона, предъ вами
судъ и правда—все молчи! Но есть, есть Божій судъ, наперс-
ники разврата, есть грозный Судія,—Онъ ждетъ, онъ недо-
ступенъ звону злата, и мысли и дѣла Онъ знаетъ напередъ.
Тогда напрасно вы прибѣгнете къ злословью: оно вамъ не
поможетъ вновь, и вы не смоете всей вашей черной кровью
поэта праведную кровь!
М. Лермонтовъ.
Россіи.
Тебя призвалъ на брань святую,
Тебя Господь нашъ полюбилъ,
Тебѣ далъ силу роковую,
Да сокрушишь ты волю злую
Слѣпыхъ, безумныхъ, буйныхъ силъ.
Вставай, страна моя родная,
За братьевъ! Богъ тебя зоветъ
Чрезъ волны гнѣвнаго Дуная
Туда, гдѣ, землю огибая,
Шумятъ струи Эгейскихъ водъ!
Но помни: быть орудьемъ Бога
Земнымъ созданьямъ тяжело.
Своихъ рабовъ Онъ судитъ строго:
А на тебя, увы! какъ много
Грѣховъ ужасныхъ налегло!
Въ судахъ черна неправдой черной,
166
И игомъ рабства клеймлена:
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лѣни мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!
О, недостойная избранья,
Ты избрана! Скорѣй омой
Себя водою покаянья,
Да громъ двойного наказанья
Не грянетъ надъ твоей главой!
Съ душой колѣнопреклоненной,
Съ главой, лежащею въ пыли,
Молись молитвою смиренной,
И раны совѣсти растлѣнной
Елеемъ плача исцѣли!
И встань потомъ, вѣрна призванью,
И бросься въ пылъ кровавыхъ сѣчъ!
Борись за братство крѣпкой бранью,
Держи стягъ Божій крѣпкой дланью,
Рази мечомъ—то Божій мечъ!
А. Хомяковъ.
Пророкъ Исаія.
Господь мнѣ говоритъ: „Довольно я смотрѣлъ,
Какъ надъ свободою глумились лицемѣры,
Какъ человѣкъ ярмо позорное терпѣлъ:
Не отъ вина, не отъ сѣкиры—
Онъ отъ страданій опьянѣлъ.
Князья народу говорили:
„Поди предъ нами ницъ!* и онъ лежалъ въ пыли,
Они, смѣясь, ему на шею наступили,
И по хребту его властители прошли.
Но Я приду, Я покараю
Того, кто слабаго гнететъ.
Князья Ваала, какъ пометъ,
Я ваши трупы разбросаю!
Вы всѣ передо Мной разсѣетесь, какъ прахъ.
167
Что для Меня вашъ скиптръ надменный!
Вы капля изъ ведра, пылинка на вѣсахъ
У повелителя вселенной!
Земля о мщеньи вопіетъ.
И ни корона, ни порфира—
Ничто отъ казни не спасетъ,
Когда тяжелая сѣкира
На корень дерева падетъ.
О, скоро Я войду, войду въ мое точило,
Чтобъ гроздья спѣлыя ногами растоптать,
И въ ярости князей и сильныхъ попирать,
Чтобъ кровь ихъ алая Мнѣ ризы омочила,
Я царства разобью, какъ глиняный сосудъ,
И пышные дворцы кропивой порастутъ.
И поселится змѣй въ покинутыхъ чертогахъ,
Тамъ будетъ выть шакалъ и страусъ яйца класть,
И вырастетъ ковыль на мраморныхъ порогахъ:
Такъ предъ лицомъ Моимъ падетъ земная власть!
Утѣшься, Мой народъ, Мой первенецъ любимый,
Какъ мать свое дитя не можетъ разлюбить,
Тебя измученный, гонимый,
Я не могу покинуть и забыть,
Я внялъ смиренному моленью,
Я васъ отъ огненныхъ лучей
Покрою скиніей Моей,
Покрою сладостною тѣнью.
Мое святилище—не въ дальнихъ небесахъ,
А здѣсь—въ душѣ твоей, скорбями удрученной,
И одинокой, и смущенной
Въ смиренныхъ и простыхъ, но любящихъ сердцахъ.
Какъ нѣжная голубка осѣняетъ
Неоперившихся птенцовъ,
Моя десница покрываетъ
Больныхъ, и нищихъ, и рабовъ.
Она спасетъ ихъ отъ ненастья
И напитаетъ отъ сосцовъ
Неизсякаемаго счастья.
Миръ, миръ Моей землѣ!.. Кропите небеса,
168
Отраду тихую весенняго покоя.
Я къ вамъ сойду, какъ дождь, какъ свѣтлая роса
Среди полуденнаго зноя/
Д. Мережковскій.
Исаія, глава 60.
Вы, сильные! вы, именитые!
Для слабыхъ—что сдѣлали вы?
Сплетали силки ядовитые?
—О, слуги лукавой молвы!
Не въ пору вамъ крылья орлиныя!
Вамъ любо въ родимомъ краю,
Высиживать яйца змѣиныя
И ткать паутину свою!
Но близится мщенье великое,
Падетъ въ ваши гнѣзда огнемъ,
И чаща терновника дикая
Вся полымемъ вспыхнетъ кругомъ!
Какъ свитокъ, добычею тлѣнія
Поблекнувъ, совьется лазурь,
И звѣзды, какъ листья осенніе,
Спадутъ подъ дыханіемъ бурь!..
И. Тхоржевскій.
Проклятіе Художника.
Свой ликъ запечатлѣлъ на твердомъ я металлѣ,
Гдѣ волю начерталъ свою я навсегда,
Чтобъ трепетной землѣ въ грядущіе года
Передались мои смертельныя скрижали.
О попранномъ добрѣ, гонимомъ идеалѣ,
Поруганной любви узнаютъ всѣ тогда,—
И знакомъ вѣчнаго позора и стыда
Имъ лягутъ на душу мои слова изъ стали.
169
Прощенья больше нѣтъ! Суда наступитъ часъ!
Искусство—богъ, что мститъ за своего пророка;
За муки, что терплю, я отплачу жестоко,—
И вашихъ сыновей казню я, вмѣсто васъ.
Въ искусствѣ опытный, какъ магъ, причастный чарамъ,
Сердца ихъ поражу заочнымъ я ударомъ.
Иванъ Жилькэнъ.
С. Головачевскій.
Пророкъ.
Духовной жаждою томимъ,
Въ пустынѣ мрачной я влачился,
И шестикрылый серафимъ
Ни перепутьи мнѣ явился.
Перстами, легкими какъ сонъ,
Моихъ зѣницъ коснулся онъ:
Отверзлись вѣщія зѣницы,
Какъ у испуганной орлицы...
Моихъ ушей коснулся онъ,
И ихъ наполнилъ шумъ и звонъ:
И внялъ я неба содроганье,
И горній ангеловъ полетъ,
И гадъ морскихъ подводный ходъ,
И дольней лозы прозябанье.
И онъ къ устамъ моимъ приникъ
И вырвалъ грѣшный мой языкъ,
И празднословный, и лукавый,
И жало мудрыя змѣи
Въ уста замершія мои
Вложилъ десницею кровавой.
И онъ мнѣ грудь разсѣкъ мечомъ,
И сердце трепетное вынулъ,
И угль пылающимъ огнемъ,
Во грудь, отверстую, водвинулъ...
170
Какъ трупъ, въ пустынѣ я лежалъ.
И Бога гласъ ко мнѣ воззвалъ:
„Возстань, пророкъ, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей
И, обходя моря и земли,
Глаголомъ жги сердца людей!"
Пушкинъ.
Прометей.
Прочь коршунъ! Больно, подлый рабъ,
Палачъ Зевеса!.. О когда бъ
Мнѣ эти цѣпи не мѣшали,
Какъ безпощадно бъ руки сжали
Тебя за горло! Но безъ силъ,
Къ скалѣ прикованный, безъ воли,
Я грудь мою тебѣ открылъ.
И каждый мигъ кричу отъ боли,
И замираю каждый мигъ...
На мой безумно-жалкій крикъ
Проснулся отголосокъ дальній,
И вѣтеръ жалобно завылъ
И прочь рванулся, что есть силъ,
И закачался лѣсъ печальный;
Испуга барсъ не превозмогъ—
Сверкая желтыми глазами,
Онъ въ чащу кинулся прыжками;
Туманъ сѣдой на горы легъ,
И море дальнее о скалы
Дробяся, глухо застонало...
Одинъ спокоенъ царь небесъ—
Ничѣмъ не тронулся Зевесъ!
Завистникъ! Онъ забыть не можетъ,
Что я творецъ, что онъ моихъ
Созданій ввѣкъ не уничтожитъ;
Что я съ небесъ его для нихъ
Унесъ огонь неугасимый...
171
/
Ну, что же, Богъ неумолимый,
Ну, мучь меня! Еще ко мнѣ
Пошли хоть двадцать птицъ голодныхъ,
Неутомимыхъ, безотходныхъ,
Чтобъ рвали сердце мнѣ онѣ—
А все жъ людей я создалъ!—Твердый,
Смѣясь надъ злобою твоей,
Смотрю я, непокорный, гордый,
На красоту моихъ людей.
О! Хорошо ихъ сотворилъ я,
Во всемъ подобными себѣ:
Огонь небесный въ нихъ вселилъ я
Съ враждою вѣчною къ тебѣ,
Съ гордыней вольною Титана
И непокорностью судьбѣ.
Рви, коршунъ, глубже въ сердцѣ рану—
Она Зевесу лишь позоръ!
Мой крикъ пронзительный—укоръ
Родитъ въ душахъ моихъ созданій;
За даръ томительный страданій
Дойдутъ проклятья до небесъ—
Къ тебѣ, завистливый Зевесъ!
А я, на вѣчное мученье
Тобой прикованный къ скалѣ,
Найду повсюду сожалѣнье,
Найду любовь по всей землѣ,
И въ людяхъ, гордый самъ собою,
Я надругаюсь надъ тобою.
Н. Огаревъ.
Кинжалъ.
Онъ вырванъ изъ ноженъ и блещетъ вамъ въ глаза,
Какъ и въ былые дни—отточенный и острый—
Поэзія съ людьми, когда шумитъ гроза,
И пѣсня съ бурей—вѣчно сестры.
172
Когда не видѣлъ я ни дерзости, ни силъ,
Когда всѣ подъ ярмомъ клонили молча выи,
Я уходилъ въ страну молчанья и могилъ,
Въ вѣка загадочно былые.
Какъ ненавидѣлъ я всей этой жизни строй,
Позорно-мелочный, неправый, некрасивый,
Надъ зовами къ борьбѣ я хохоталъ порой,
Не вѣря въ робкіе призывы.
Но чуть заслышавши призывный первый громъ,
Я отзывъ вамъ кричу, я вамъ слуга сегодня;
И чѣмъ опаснѣй часъ, и чѣмъ темнѣй кругомъ,
Тѣмъ въ пѣсняхъ я свободнѣй.
Кинжалъ поэзіи. Кровавый молній свѣтъ
Нежданно пробѣжалъ по этой вѣрной стали;
И снова я съ людьми—затѣмъ, что я поэтъ,
Затѣмъ, что молніи сверкали.
Валерій Брюсовъ.
Собачій пиръ.
Когда взошла заря и страшный пиръ багровый,
Народный день насталъ,
Когда гудѣлъ набатъ, и крупный дождь свинцовый
По улицамъ хлесталъ,
Конечно, не было тамъ видно ловко сшитыхъ
Мундировъ нашихъ дней—
Тамъ дѣйствовалъ напоръ лохмотьями прикрытыхъ,
Запачканныхъ людей.
Чернь грязною рукой тамъ ружья заряжала
И закопченнымъ ртомъ,
Въ пороховомъ дыму, тамъ сволочь восклицала:
„Ну, къ чорту все, умремъ!
А эти баловни въ натянутыхъ перчаткахъ,
Съ батистовымъ бѣльемъ,
173
Женоподобные, въ корсетахъ, на подкладкахъ,
Тамъ были ль подъ ружьемъ?14
Нѣтъ! ихъ тамъ не было, когда все низвергая
И сквозь картечь стремясь,
Та чернь великая и сволочь та святая
Къ безсмертію неслась.
А тѣ господчики, боясь громовъ и блеску
И слыша грозный ревъ,
Дрожали гдѣ-нибудь вдали, за занавѣску
На корточки присѣвъ.
Ихъ не было въ виду, ихъ не было въ поминѣ
Средь общей свалки тамъ,
Затѣмъ, что—видите ль—свобода не графиня
И не изъ модныхъ дамъ,
Которыя, нося на истощенномъ ликѣ
Румянъ карминныхъ слой,
Готовы въ обморокъ упасть при первомъ крикѣ,
Подъ первою пальбой:
Свобода—женщина съ упругой, мощной грудью,
Съ загаромъ на щекѣ,
Съ зажженнымъ фитилемъ, приложеннымъ къ орудью,
Въ дымящейся рукѣ;
Свобода—женщина съ широкимъ, твердымъ шагомъ,
Со взоромъ огневымъ,
Подъ гордо вѣющимъ по вѣтру краснымъ флагомъ,
Подъ дымомъ боевымъ;
И голосъ у нея не женственный сопрано:
Ни жерлъ чугунныхъ рядъ,
Ни мѣдь колоколовъ, ни шкура барабана
Его не заглушатъ.
Свобода—женщина; но въ сладострастьи щедромъ
Избранникамъ вѣрна,
Могучихъ лишь однихъ къ своимъ пріемлетъ нѣдрамъ
Могучая жена.
Ей нравится плебей, окрѣпнувшій въ проклятьяхъ,
А не гнилая знать,
И въ свѣжей кровію дымящихся объятьяхъ
Ей любо трепетать.
174
Когда-то ярая, какъ бѣшеная дѣва,
Явилась вдругъ она,
Готовая дать плодъ отъ дѣвственнаго чрева,
Грядущая жена!
И гордо вдаль она, при кликахъ изступленья
Свой простирала ходъ.
И цѣлыя пять лѣтъ горячкой вожделѣнья
Сжигала весь народъ;
А послѣ кинулась вдругъ къ палкамъ, къ барабану,
И маркитанткой въ станъ
Къ двадцатилѣтнему явилась капитану:
„Здорово капитанъ!"
Да, это все она! Она, съ отрадной рѣчью,
Являлась намъ въ стѣнахъ,
Избитыхъ ядрами, испятнанныхъ картечью,
Съ улыбкой на устахъ;
Она—огонь въ зрачкахъ, въ ланитахъ жизни краска,
Дыханье горячо,
Лохмотья, нагота, трехцвѣтная повязка
Чрезъ голое плечо.
Она—въ трехдневный срокъ французовъ жребій вынутъ,
Она—вѣнецъ долой!
Измята армія, тронъ скомканъ, опрокинутъ
Кремнемъ изъ мостовой!
И что же? о, позоръ! Парижъ сталъ благородный
Въ кипѣньи гнѣвныхъ силъ,
Парижъ, гдѣ нѣкогда великій вихрь народный
Власть львиную сломилъ,
Парижъ, который весь гробницами уставленъ
Величій всѣхъ временъ,
Парижъ, гдѣ камень стѣнъ пальбою продырявленъ,
Какъ рубище знаменъ,
Парижъ, отъявленный сынъ хартій, прокламацій,
Отъ головы до ногъ
Обвитый лаврами, апостолъ въ дѣлѣ націй,
Народовъ полубогъ,
Парижъ, что нѣкогда какъ свѣтлый куполъ храма
Всемірнаго блисталъ,
175
Сталъ нынѣ скопищемъ нечистоты и срама,
Помойной ямой сталъ,
Вертепомъ подлыхъ душъ, мѣстъ ищущихъ въ лакеи,
Паркетныхъ шаркуновъ,
Просящихъ нищенски для рабской ихъ ливреи
Мишурныхъ галуновъ,
Бродягъ, которые рвутъ Францію на части,
И сквозь щелчки, толчки,
Визжа, зубами рвутъ издохшей тронной власти
Кровавые клочки.
Такъ вепрь израненный, сраженный смертнымъ боемъ,
Чуть дышетъ въ злой тоскѣ,
Покрытый язвами, палимый солнца зноемъ,
Простертый на пескѣ;
Кровавые глаза померкли; обезсиленъ—
Свирѣпый звѣрь поникъ,
Раскрытый зѣвъ его шипучей пѣной взмыленъ
И высунутъ языкъ;
Вдругъ рогъ охотничій пустыннаго простора
Всю площадь огласилъ,
И спущенныхъ собакъ неистовая свора
Со всѣхъ рванулась силъ.
Завыли жадныя, послѣдній песъ дворовый
Оскалилъ острый зубъ,
И съ лаемъ ринулся на пиръ ему готовый,
На неподвижный трупъ.
Борзыя, гончія, легавыя, бульдоги;
Пойдемъ!—и всѣ пошли;
Нѣтъ вепря—короля! возвеселитесь боги.
Собаки—короли!
Пойдемъ! свободны мы—насъ не удержатъ сѣтью,
Веревкой не скрутятъ,
Суровый старецъ насъ не пріударитъ плетью,
Не крикнетъ: „Песъ назадъ!"
За тѣ щелчки, толчки, хоть мертвому отплатимъ;
Коль не въ кровавый сокъ
Запустимъ морду мы, такъ падали ухватимъ
Хоть нищенскій кусокъ!
176
Пойдемъ! и начали, изъ всей собачьей злости,
Трудиться, что есть силъ:
Тотъ песъ—щетины клокъ, другой обглодокъ кости
Клыками захватилъ,
И радъ бѣжать домой, вертя хвостомъ мохнатымъ.
Чадолюбивый песъ
Ревнивой сукѣ въ даръ и въ кормъ своимъ щенятамъ
Хоть что-нибудь принесъ,
И бросивъ изъ своей окровавленной пасти
Добычу, говоритъ:
„Вотъ ѣшьте: эта кость—урывокъ царской власти,
Пируйте—вепрь убитъ!*
Барбье.
В. Бенедиктовъ ’).
По прочтеніи Байронова Каина.
Я здѣсь одинъ,—меня отвергли братья,
Имъ непонятна скорбь души моей;
Пугаетъ ихъ на мнѣ печать проклятья,
А мнѣ противны звуки ихъ цѣпей.
Кляну ихъ рай, подножный кормъ природы,
Кляну твой бичъ, безумная судьба!
Кляну свой умъ—рычагъ моей свободы,
Свободы жалкой бѣглаго раба.
Кляну любовь мою, кляну святыню,
Слѣпой мечты безчувственный кумиръ,
Кляну тебя, безплодную пустыню,
Въ зачатіи Творцомъ проклятый міръ!
Приписывается А. С. Пушкину.
О Мною взятъ переводъ В. Венедиктова, какъ болѣе полный и поздній, чѣмъ
переводъ В. Курочкина, по слѣдуетъ замѣтить, что г. Бенедиктовъ пользовался пере-
водомъ В. Курочкина въ полной мѣрѣ, лишь дополняя пропущенныя строки и измѣняя
очень немногія. Прим. составит.
177
Шкода чтеца.
12
Н (і до ф ы.
Сестры, сестры! Быстро, быстро—вмѣстѣ, вмѣстѣ вслѣдъ за нимъ!
Вкрадчивымъ топотомъ, ласковымъ шопотомъ, сладостнымъ ропотомъ
вдругъ опьянимъ.
Душенъ шелестъ листьевъ сонныхъ, рощъ лимонныхъ сладкій бредъ.
Путникъ взволнованный, сномъ очарованный, нѣгой окованный, грезой
согрѣтъ.
Ахъ, кружитесь, мчитесь мимо, вдругъ—незримо вновь къ нему,
Страхи задушите, вздохи потушите; пѣсню обрушите въ тихую тьму.
Путникъ милый, о, внемли же! Ближе, ближе тайный мигъ!
Развѣ ты радости, ласковой сладости, пламенной младости въ насъ
не постигъ?
Крики, плески далеко
Мы бросимъ въ пляскѣ горячо,
Въ кругъ сплетемся такъ легко—
Рука съ рукой, къ плечу плечо.
Крикнетъ нимфа на бѣгу:
„Сирены, фавны, васъ зову!"
Спляшемъ съ ними на лугу,
Во снѣ хмельномъ—иль наяву.
Братъ! И ты къ хмельной толпѣ
Не устремишьсяль по росѣ?
Легокъ бѣгъ босой стопѣ:
Эй люди! къ намъ бѣгите всѣ!
Послѣ плясокъ насъ въ тиши
Лелѣютъ пирные огни.
Сестры, всѣ мы хороши,
Къ любой груди чело склони!
Путникъ милый, о внемли же! Ближе, ближе тайный срокъ!
Развѣ ты радости, ласковой сладости, пламенной младости намъ не
сберегъ?
Да, ты съ нами! Да, ты слышишь! Грезой дышишь и горишь!
Ночь благодатная! Тьма ароматная, ширь необъятная, нѣжная тишь!
Звуки, лейтесь! Вейтесь, дѣвы,—какъ напѣвы знойныхъ чаръ!
178
Вами посѣянный, ночью взлелѣянный, вихрями взвѣянный, буенъ
пожаръ!
Сестры, сестры! Быстро, быстро! Съ нами, съ нами—вотъ же онъ!
Тающимъ топотомъ, плещущимъ шопотомъ, радостнымъ ропотомъ онъ
опьяненъ!
Юр. Верховскій.
Леда.
і.
„Я—Леда, я—бѣлая Леда, я—мать красоты,
Я сонныя воды люблю и ночные цвѣты.
Каждый вечеръ, жена соблазненная,
Я ложусь у пруда, тамъ, гдѣ пахнетъ водой,—
Въ душной тьмѣ грозовой,
Вся преступная, вся обнаженная,—
Тамъ, гдѣ сырость, и нѣга, и зной,
Тамъ, гдѣ пахнетъ водой и купавами,
Влажными, блѣдными травами
И таинственнымъ иломъ въ пруду,—
Тамъ я жду.
Вся преступная, вся обнаженная,
Изнеможенная,
Въ сырость теплую, въ мягкія травы ложусь
И горю, и томлюсь.
Въ душной тьмѣ грозовой,
Тамъ, гдѣ пахнетъ водой,
Жду—и въ страстномъ безсиліи,
Я блѣднѣе, прозрачнѣе сломанной лиліи.
Тамъ я жду, а въ пруду только звѣзды блестятъ,
И въ тиши камыши шелестятъ, шелестятъ.
II.
„Вотъ и крикъ, и шумъ пронзительный,
Словно плескъ могучихъ рукъ:
Это—Лебедь ослѣпительный,
Бѣлый Лебедь-г-м й супругъ!
179
12'
Съ грозной нѣжностью змѣиною,
Онъ, обвивъ меня, ласкалъ,
Тонкой шеей лебединою,—
Влажныхъ губъ моихъ искалъ.
Крылья воду бьютъ,
Грозенъ темный прудъ.
На спинѣ его щетиною
Перья блѣдныя встаютъ,—
Такъ онъ гордъ своей побѣдою.
Гдѣ я, что со мной—не вѣдаю:
Это—смерть, но не боюсь.
Вся блѣднѣя,
Страстно млѣя,
Какъ въ ночной грозѣ лилея,
Ласкамъ бога предаюсь,
Гдѣ я, что со мной,—не вѣдаю".
Все покрыто тьмой,
Только надъ водой—
Бѣлый Лебедь съ бѣлой Ледою.
Д. Мережковскій.
Рабъ.
Я рабъ. И былъ рабомъ покорнымъ
Прекраснѣйшей изъ всѣхъ царицъ.
Предъ взоромъ пламеннымъ и чернымъ
Я молча повергался ницъ.
Я цѣловалъ ея сандалій
Слѣды на утреннемъ пескѣ,
Меня мечтанья опьяняли,
Когда царица шла къ рѣкѣ.
И разъ мой взоръ сухой и страстный
Я удержать въ пылу не могъ,
И онъ сверкнулъ къ лицу прекрасной
И бѣгло очи ей обжегъ.
И вздрогнула она отъ гнѣва:
„Казнь оскорбителямъ святынь!"
180
И вдаль пошла среди напѣва
За ней толпившихся рабынь.
И въ ту же ночь я былъ прикованъ
У ложа царскаго какъ песъ,
И весь дрожалъ я очарованъ
Отъ сладкихъ мукъ и сладкихъ грезъ.-
Она вошла стопой неспѣшной,
Какъ только жрицы входятъ въ храмъ,
Такой прекрасной и безгрѣшной,
Что было тягостно очамъ.
И падали ея одежды
До ткани покрывавшей грудь,
И въ ужасѣ закрылъ я вѣжды,
Но долженъ былъ опять взглянуть.
Вошелъ къ ней юноша и встрѣчи
Она, покорная, ждала... і
Погасли факелы и свѣчи,
Настала тишина и мгла.
Ц было все на бредъ похоже,
Я былъ свидѣтель чаръ ночныхъ,
Всего, что тайно кроетъ ложе,
Ихъ содроганій, стоновъ ихъ.
Я утромъ увидалъ ихъ рядомъ,
Еще дрожащихъ въ смѣнѣ грезъ,
И вплоть до дня впивался взглядомъ,
Прикованъ къ ложу ихъ какъ песъ! \
И вотъ теперь сосланъ въ каменоломню,
Дроблю гранитъ, стирая кровь,
Но эту ночь я помню... помню...
О, если бъ пережить все вновь.
Валерій Брюсовъ.
Люблю глаза твои.
Люблю глаза твои, мой другъ,
Съ игрой ихъ пламенно-чудесной,
Когда ихъ приподымешь вдругъ
И, словно молніей небесной,
181
Окинешь бѣгло цѣлый кругъ...
Но есть сильнѣй очарованье:
Глаза потупленные ницъ
Въ минуту страстнаго лобзанья,
И сквозь опущенныхъ рѣсницъ
Угрюмый, тусклый огнь желанья...
Ѳ. Тютчевъ.
Прологъ.
Снова я въ сказочномъ старомъ лѣсу:
Липы осыпаны цвѣтомъ;
Мѣсяцъ, чаруя мнѣ душу, глядитъ
Съ неба таинственнымъ свѣтомъ.
Лѣсомъ иду я. Изъ чащи вѣтвей
Слышатся чудные звуки:
Это поетъ соловей про любовь
И про любовныя муки.
Муки любовной та пѣсня полна:
Слышны и смѣхъ въ ней, и слезы,
Темная радость и свѣтлая грусть...
Встали забытыя грезы.
Дальше иду я. Поляна въ лѣсу;
Замокъ стоитъ на полянѣ.
Старыя, круглыя башни его
Спятъ въ серебристомъ туманѣ.
Заперты окна; унынье и мракъ,
И гробовое молчанье...
Словно безмолвная смерть обошла
Это заглохшее зданье.
Сфинксъ, и роскошенъ, и страшенъ, лежалъ
Въ мѣстѣ, гдѣ вымерли люди:
Львиныя лапы, спина, а лицо
Женское, женск;я груди.
Дивная женщина! Въ бѣлыхъ очахъ
Дико свѣтилось желанье;
Страстной улыбкой нѣмыя уста
182
Страстное звали лобзанье.
Сладостно пѣлъ и рыдалъ соловей...
И вожделѣньемъ волнуемъ,
Весь задрожалъ я—и къ бѣлымъ устамъ
Жаркимъ прильнулъ поцѣлуемъ.
Камень холодный вдругъ началъ дышать...
Груди со стономъ вздымались,
Жадно огнемъ поцѣлуевъ моихъ
Губы, дрожа, упивались.’*
Душу хотѣла мнѣ выпить она,
Въ нѣгѣ и млѣя, и тая...
Вотъ замерла—и меня обняла,
Когти мнѣ въ тѣло вонзая.
Сладкая мука! Блаженная боль!
Нѣга и скорбь безъ предѣла!
Райскимъ блаженствомъ поитъ поцѣлуй,
Когти терзаютъ мнѣ тѣло.
„Эту загадку, о сфинксъ, о любовь,—
Пѣлъ соловей,—разрѣши ты:
Какъ въ тебѣ счастье и смертная скорбь,
Горе и радости слиты?
„Сфинксъ, надъ разгадкою тайны твоей
Мучусь я многія лѣта...
Или загадкою будетъ она
И до скончанія свѣта?"
Г. Гейне.
М. Михайловъ.
У Н с п а з і и.
Гость.
Чтобъ это значило? Вижу, сегодня ты
Домъ свой, какъ храмъ, убрала:
Между колоннъ занавѣсы приподняты;
Благоухаетъ смола;
Цитра настроена, свитки разбросаны;
У посыпающихъ полъ
183
Смуглыхъ рабынь твоихъ косы расчесаны:
Ставятъ амфоры на столъ.
Ты же блѣдна,—словно всѣми забытая,
Молча стоишь у дверей?
Аспазія.
Площадь отсюда видна мнѣ, покрытая
Тѣнью сквозныхъ галлерей:
Шумъ ея замеръ, и—это молчаніе
Въ полдень такъ странно, что вновь
Сердце мнѣ мучитъ тоска ожиданія,
Радость, тревога, любовь.
Буйныхъ Аѳинъ тишину изучила я:
Это—Периклъ говоритъ...
Если блѣдна и молчитъ его милая,
Значитъ—весь городъ молчитъ!..
Чу! шумъ на площади... рукоплесканія...
Друга вѣнчаетъ народъ!..
Но и въ лавровомъ вѣнкѣ изъ собранія
Онъ къ этой двери придетъ...
Я. Полонскій.
Коль любить...
Коль любить, такъ безъ разсудку,
Коль грозить, такъ не на шутку,
Коль ругнуть, такъ сгоряча,
Коль рубнуть, такъ ужъ сплеча!
Коли спорить, такъ ужъ смѣло,
Коль карать, такъ ужъ за дѣло,
Коль простить, такъ всей душой,
Коли пиръ, такъ пиръ горой!
Гр. А. К. Толстой.
184
Желаніе.
Отворите мнѣ темницу,
Дайте мнѣ сіянье дня,
Черноглазую дѣвицу,
Черногриваго коня!
Дайте разъ по синю полю
Проскакать на томъ конѣ;
Дайте разъ на жизнь и волю,
Какъ на чуждую мнѣ долю,
Посмотрѣть поближе мнѣ.
Дайте мнѣ челнокъ досчатый
Съ полусгнившею скамьей,
Парусъ сѣрый и косматый,
Ознакомленный съ грозой.
Я тогда пуіцуся въ море,
Беззаботенъ и одинъ;
Разгуляюсь на просторѣ
И натѣшусь въ буйномъ спорѣ
Съ дикой прихотью пучинъ.
Дайте мнѣ дворецъ высокій
И кругомъ зеленый садъ,
Чтобъ въ тѣни его широкой
Зрѣлъ янтарный виноградъ,
Чтобъ фонтанъ не умолкая
Въ залѣ мраморномъ журчалъ
И меня, въ мечтаньяхъ рая,
Хладной пылью орошая,
Усыплялъ и пробуждалъ...
М. Лермонтовъ.
Свободное слово.
Ты—чудо изъ божьихъ чудесъ,
Ты мысли свѣтильникъ и пламя,
Ты лучъ намъ на землю съ небесъ,
Ты намъ человѣчества знамя.
Ты гонишь невѣжества ложь,
Ты вѣчною жизнію ново,
Ты къ свѣту, ты къ правдѣ ведешь,
Свободное слово!
Лишь духу власть духа дана,
Въ животной же силѣ нѣтъ прока:
Для истины—гибель она,
Спасенье для лжи и порока.
Враждуетъ ли съ ложью—равно
Живитъ его жизнію новой...
Неправдѣ опасно одно
Свободное слово!
185
Ограды властямъ никогда
Не зижди на рабствѣ народа!
Гдѣ рабство—тамъ бунтъ и бѣда,
Защита отъ бунта—свобода.
Рабъ въ бунтѣ опаснѣй звѣрей —
На ножъ онъ мѣняетъ оковы...
Оружье свободныхъ людей—
Свободное слово!
О, слово, даръ Бога святой!
Кто слово, даръ божескій, свяжетъ.
Тотъ путь человѣку иной—
Путь рабства преступный укажетъ
На козни, на вредную рѣчь;
Въ тебѣ жъ и цѣленье готово,
О духа единственный мечъ,
Свободное слово!
К. Аксаковъ.
Будемъ какъ солнце...
Будемъ какъ солнце! Забудемъ о томъ,
Кто насъ ведетъ по пути золотому,
Будемъ лишь помнить, что вѣчно къ иному,
Къ новому, къ сильному, къ доброму, къ злому,
Ярко стремимся мы въ снѣ золотомъ,
Будемъ молиться всегда неземному,
Въ нашемъ хотѣньи земномъ.
Будемъ какъ солнце—всегда молодое,
Нѣжно ласкать огневые цвЬты,
Воздухъ прозрачный и все золотое;
Счастливъ ты? Будь же счастливѣе вдвое,
Будь воплощеньемъ внезапной мечты.
Только не медлить въ недвижномъ покоѣ,
Дальше, еще, до завѣтной черты,
Дальше, насъ манитъ число роковое
186
Въ вѣчность, гдѣ новые вспыхнутъ цвѣты.
Будемъ какъ солнце, оно—молодое.
Въ этомъ завѣтъ Красоты.
К. Бальмонтъ.
Ода солнцу.
(Изъ Шантеклера.)
О, ты, что слезы травъ съ любовью осушаешь
И въ мотыльковъ живыхъ волшебно превращаешь
Умершаго цвѣтка воздушную печаль,
Когда, какъ легкій сонъ, рой лепестковъ развѣявъ,
Душистый вѣтеръ Пиренеевъ
Колышетъ розовый миндаль.
О, солнце... Я пою твое прикосновенье,
Что каждому челу несетъ благословенье,
Цвѣты и въ сотахъ медъ пахучій золотя;
Дробясь и все одинъ, твой лучъ равно всѣхъ грѣетъ,
Какъ сердце матери лелѣетъ
И любитъ каждое дитя.
Пою тебЬ—твой жрецъ: пою тебѣ смиренно...
Я знаю, для тебя ничто вѣдь не презрѣнно:
Ты въ мыльномъ пузырѣ свой отражаешь свѣтъ,
Порой избравъ стекло убогаго оконца,
Чтобы послать на землю—Солнца
Прощальный ласковый привѣтъ.
Къ тебѣ подсолнечникъ стремится желтой чашей;
Подъ ласкою твоей—на колокольнѣ нашей
Мой братъ становится блестяще-золотымъ;
А тамъ, гдѣ тѣнь отъ липъ густа и ароматна,
Кидаешь ты такія пятна,
Что жалко мнѣ ступать по нимъ.
На кружкѣ глиняной ты зажигаешь пламя
Эмали дорогой; сіяющее знамя
Умѣешь сдѣлать ты изъ стараго тряпья.
Вѣнчаешь золотомъ ты мельницу-старушку
187
И красишь въ золото верхушку
У золотистаго улья.
Хвала тебѣ въ поляхъ, хвала на лозахъ алыхъ,
На бархатѣ травы, на каменныхъ порталахъ,
Въ глазахъ у ящерицъ, на крыльяхъ бѣлыхъ птицъ,
Вездѣ твои лучи волшебные блистали,
Чертя мельчайшія детали,
Рисуя дали безъ границъ.
Ты свѣту далъ сестру, чьи гибкіе извивы
Ложатся съ ласкою, темны и молчаливы,
У ногъ всего, что освѣщаетъ день;
Чтобъ больше сладости прибавить наслажденью,
Ты въ мірѣ все удвоилъ тѣнью...
И часто намъ милѣе—тѣнь.
О, Солнце... Ты на землѣ несешь апофеозы,
Даришь огни—ручью, а въ небо сыплешь розы
И каждому кусту даруешь божество...
Явись, явись скорѣй... Снопами свѣта брызни...
О, Солнце, безъ тебя не стало бъ въ мірѣ жизни,
Не стало бъ міра самого.
Ростанъ.
Т. Щепкина-Куперникъ.
П л я с е я.
(Дѣвка-запѣвало.)
Я вечоръ, млада, во пиру была,
Хмеленъ медъ пила, сахаръ кушала;
Во хмелю, млада, похвалялася
Не житьемъ-бытьемъ—красной удалью.
Не сосна въ бору дрожмя-дрогнула,
Топоромъ-пилой насмерть ранена,
Не изъ невода рыба шалая,
Извиваючись, въ омутъ просится,—
Это я пошла въ пляску походомъ:
Гости-бражники рты разинули,
Домовой завылъ —крякнулъ подъ поломъ;
На запечьи котъ искры выбрызнулъ:
188
Вотъ я—
Плясея—
Вихорь, прахъ летучій,
Сарафанъ—
Синь-туманъ,
Косы—боръ дремучій!
Плясъ—громъ,
Буреломъ,
Лѣшева погудка,
Подъ косой—
Луговой
Цвѣтикъ незабудка!
{Парень припѣвало)-.
Ой, пляска приворотная,
Любовь—краса залетная,
Чѣмъ вчужѣ вами маяться,
На плахѣ бѣлолиповой
Срубить бы легче голову!
Не уголь жжетъ мнѣ пазуху,
Не воскъ—утроба топится,
О камень—тѣло жаркое,
На плясъ—красу орлиную
Разбойный ножикъ точится!
Н. Клюевъ.
Чортовы качели.
Въ тѣни косматой ели,
Надъ шумною рѣкой
Качаетъ чортъ качели
Мохнатою рукой.
Качаетъ и смѣется,
Впередъ,—назадъ—
Впередъ,—назадъ—
Доска скрипитъ и гнется,
О сукъ тяжелый трется
Натянутый канатъ.
Снуетъ съ протяжнымъ скрипомъ
Шатучая доска,
И чортъ хохочетъ съ хрипомъ,
Хватаясь за бока.
Держусь, томлюсь, качаюсь,
Впередъ,—назадъ,—
Впередъ,—назадъ,—
Хватаюсь и мотаюсь,
189
И отвести стараюсь
Отъ чорта темный взглядъ.
Надъ верхомъ темной ели
Хохочетъ голубой:
— Попался на качели,
Качайся,—чортъ съ тобой!
Въ тѣни косматой ели
Визжатъ, кружась гурьбой:
— Попался на качели,
Качайся,—чортъ съ тобой.
Я знаю, чортъ не броситъ
Стремительной доски,
Пока меня не скоситъ
Грозящій взмахъ руки,
Пока не перетрется,
Крутяся, конопля,
Пока не подвернется
Ко мнѣ моя земля.
Взлечу я выше ели
И лбомъ о землю—трахъ.
Качай же, чортъ, качели,
Все выше,—выше,—ахъ!
Ѳедоръ Сологубъ.
Узникъ.
Сижу за рѣшеткой въ темницѣ сырой.
Вскормленный на волѣ орелъ молодой,
Мой грустный товарищъ, махая крыломъ,
Кровавую пищу клюетъ подъ окномъ.
Клюетъ и бросаетъ, и смотритъ въ окно,
Какъ будто со мною задумалъ одно;
Зоветъ меня взглядомъ и крикомъ своимъ,
И вымолвить хочетъ: „давай, улетимъ!
„Мы вольныя птицы; пора, братъ, пора!
Туда, гдѣ за тучей бѣлѣетъ гора,
Туда, гдѣ синѣютъ морскіе края,
Туда, гдѣ гуляемъ... лишь вѣтеръ да я!..“
Пушкинъ.
На санкамъ съ горъ.
Пятки рѣзво бьютъ о снѣгъ,
Встрѣчный вѣтеръ рѣжетъ щеки,
Все порывистѣе бѣгъ,
Ели мчатся, какъ намеки.
Дальше, дальше, мимо, мимо...
190
Бѣлой пылью бьетъ въ глаза,
Хохочу неудержимо
И, какъ горная коза,
Въ сизый сумракъ окунаюсь.
Острый воздухъ жгучъ, какъ ледъ
Озираюсь, содрогаюсь—
И безшумно мчусь впередъ...
Слѣва лѣсъ и крутизна
Сторожатъ гостепріимно,
Голубая бѣлизна
Полускрыта мглою дымной—•
Оплошалъ и вмигъ слетишь
Къ мерзлымъ соснамъ величавымъ,
Гулко черепъ раскроишь,
И конецъ твоей забавѣ...
Кто-то сзади нагоняетъ.
Пискъ полозьевъ, рѣзкій свистъ.
Мимо, мимо... Вонъ мелькаетъ
За бугромъ, какъ бѣлый листъ.
Колокольчикъ выбиваетъ
Тонко-звонкій плескъ стекла.
Въ фонарѣ огонь мигаетъ,
На дорогу тьма стекла.
Дальше, дальше... Все смѣшалось
Въ снѣгомъ скованныхъ глазахъ.
Мутно море взволновалось
Въ убѣжавшихъ берегахъ...
Скрипъ и тьма. Колючій холодъ,
Сумасшедшій плавный бѣгъ
Я безпеченъ, чистъ и молодъ,
Какъ сейчасъ упавшій снѣгъ.
Саша Черный.
Тройка.
И какой же русскій не любитъ быстрой ѣзды? Его ли
душѣ, стремящейся закружиться, загуляться, ни сказать иногда:
„Чортъ побери все!“ Его ли душѣ не любить ее? Ее ли не
191
любить, когда въ ней слышится что-то восторженно-чудное?
Кажись, невѣдомая сила подхватила тебя на крыло къ себѣ,
и самъ летитъ, и все летитъ: летятъ версты, летятъ навстрѣчу
купцы на облучкахъ своихъ кибитокъ, летитъ съ обѣихъ сто-
ронъ лѣсъ съ темными строями елей и сосенъ, съ топорнымъ
стукомъ и вороньимъ крикомъ; летитъ вся дорога нивѣсть
куда, въ пропадающую даль; и что-то страшное заключено
въ семъ быстромъ мельканіи, гдѣ не успѣваетъ означиться
пропадающій предметъ; только небо надъ головою, да легкія
тучи, да продирающійся мѣсяцъ — одни кажутся недвижны...
Эхъ, тройка, птица-тройка! кто тебя выдумалъ? Знать, у
бойкаго народа ты могла только родиться, въ той землѣ, что
не любитъ шутить, а ровнемъ-гладнемъ разметнулась на полъ-
свѣта, да и ступай считать версты, пока не зарябитъ тебѣ въ
очи. И не хитрый, кажись, дорожный снарядъ, не желѣзнымъ
схваченъ винтомъ, а наскоро, живьемъ, съ однимъ топоромъ
да долотомъ, снарядилъ и собралъ тебя ярославскій растороп-
ный мужикъ. Не въ нѣмецкихъ ботфортахъ ямщикъ: борода
да рукавицы, и сидитъ, чортъ знаетъ на чемъ; а привсталъ,
да замахнулся, да затянулъ пѣсню—кони вихремъ, спицы въ
колесахъ смѣшались въ одинъ гладкій кругъ, только дрогнула
дорога, да вскрикнулъ въ испугѣ остановившійся пѣшеходъ—
и вотъ она понеслась, понеслась, понеслась'.,. И вонъ ужъ
видно вдали, какъ что-то пылитъ и сверлитъ воздухъ...
Н. Гоголь.
Б ІЬ Г 0 № ъ.
Страсть — сильнѣе! Страсть — сильнѣе!
Мысль — быстрѣе! Мысль — быстрѣе!
Все бѣжитъ, бѣжитъ кругомъ, и бѣгомъ, бѣгомъ, бѣгомъ!
Безъ оглядки—
О, какъ кратки Рысью съ самаго разсвѣта!
Наслажденія во всемъ! Чтобъ съ утра пропалъ и слѣдъ.
192
Нѣтъ для мудрости отвѣта,
Для любви — пощады нѣтъ!
Наши призраки, мечтанья
Осѣдлаемъ, и на нихъ,
Дѣти, вѣчность мірозданья
Схватимъ всю въ единый мигъ.
Страсть — сильнѣе!
Мысль — быстрѣе!
Все бѣжитъ, бѣжитъ кругомъ,
Безъ оглядки—
О, какъ кратки
Наслажденія во всемъ!
Страсть — сильнѣе!
Мысль — быстрѣе!
И бѣгомъ, бѣгомъ, бѣгомъ!
Вѣкъ съ нуждою да съ заботой,
Съ искушеньями борьба...
Дай мнѣ золота! „Работай!"
Отвѣчаетъ мнѣ судьба.
Хорошо. Въ трудѣ свобода—
И условіе впередъ:
Чтобъ нажиться дай полгода:
Чтобъ пожить—давай мнѣ годъ.
Страсть — сильнѣе!
Мысль — быстрѣе!
Все бѣжитъ, бѣжитъ кругбмъ
Безъ оглядки—
О, какъ кратки
Наслажденія во всемъ!
Страсть сильнѣе!
Мысль — быстрѣе!
И бѣгомъ, бѣгомъ, бѣгомъ!
Изъ любви я создалъ бога.
„Жди!" красавицы отвѣтъ.
Много? „Мѣсяцъ". Мѣсяцъ—много.
„Стой!" Другая мнѣ вослѣдъ.
„Я люблю; насъ свѣтъ осудитъ,
Но увѣрена ли я,
Что послѣднею не будетъ
Ласка первая моя?"
Страсть — сильнѣе!
Мысль — быстрѣе!
Все бѣжитъ, бѣжитъ кругбмъ
Безъ оглядки—
О, какъ кратки
Наслажденія во всемъ!
Страсть — сильнѣе!
Мысль — быстрѣе!
И бѣгомъ, бѣгомъ, бѣгомъ!
Слава удочку кидала
Мнѣ дорогою; но съ ней
Думъ, труда, заботъ не мало...
Пѣсня проще и вольнѣй.
Что мнѣ въ славѣ? Надъ костями
Надпись вырѣжутъ—да такъ
И сотрется подъ ногами
У безсмысленныхъ зѣвакъ.
Страсть — сильнѣе!
Мысль —/быстрѣе!
Все бѣжитъ, бѣжитъ кругомъ
Безъ оглядки —
О, какъ кратки
Наслажденія во всемъ!
Страсть сильнѣе!
Мысль — быстрѣе!
И, бѣгомъ, бѣгомъ, бѣгомъ.
Крупной рысью все несется,
До тѣхъ поръ, пока лицомъ
На хаосъ не натолкнется
Міръ, пустившійся бѣгомъ.
193
Шкодж. чтеца.
13
Такъ, бѣгомъ, друзья, безпечно,
Сто разъ въ день, не тратя словъ,
Отъ любви, все къ мысли вѣчной.
И къ любви отъ мысли вновь!
Страсть — сильнѣе!
Мысль — быстрѣе!
Все бѣжитъ, бѣжитъ кругомъ
Безъ оглядки—
О, какъ кратки
Наслажденія во всемъ!
Страсть — сильнѣе!
Мысль — быстрѣе!
И бѣгомъ, бѣгомъ, бѣгомъ!
Беранже.
В. Курочкинъ.
Тарантелла.
Нина, Нина, тарантелла!
Старый Чьеко ужъ идетъ!
Вотъ ужъ скрипка загудѣла!
Въ кругъ становится народъ!
Пріударилъ Чьеко старый...
Точно птички на зерно,
Отовсюду мчатся пары!..
Вотъ ужъ кружатся давно!
Какъ стройна, гляди, Аглая!
Вотъ помчалась въ кругъ живой—
Очи долу, ударяя
Въ тамбуринъ надъ головой!
Ловокъ съ нею и Дженнаро!..
Вслѣдъ за ними намъ—смотри!
Послѣ тотчасъ третья пара...
Ну, Нинета... разъ, два, три...
Завязалась, закипѣла,
Все идетъ живѣй, живѣй,
Обуяла тарантелла
Всѣхъ отвагою своей...
Эй, простору! шибче скрипки!
Юность мчится! съ ней цвѣты,
Беззаботныя улыбки,
Беззавѣтныя мечты!
194
Эй, синьоръ, синьоръ! угодно
Вамъ въ кружокъ нашъ, можетъ-быть?
Иль свой санъ въ толпѣ народной
Вы боитесь уронить?
Ну, такъ мимо!., шибче скрипки!
Юность мчится! съ ней цвѣты,
Беззаботныя улыбки,
Беззавѣтныя мечты!
Вы, синьора! Вы бъ и рады,
Къ намъ сердечко васъ зоветъ...
Да снуровка безъ пощады
Вашу грудь больную жметъ...
Ну, такъ мимо!., шибче скрипки!
Юность мчится! съ ней цвѣты,
Беззаботныя улыбки,
Беззавѣтныя мечты!
Вы, философъ! дайте руки!
Не угодно ль къ намъ сюда!
Иль кто разъ вкусилъ науки—
Не смѣется никогда?
Ну, такъ мимо!., шибче скрипки!
Юность мчится! съ ней цвѣты,
Беззаботныя улыбки.
Беззавѣтныя мечты!
Ты что смотришь такъ сурово,
Босоногій капуцинъ?
Въ сердцѣ памятью былого,
Чай, отдался тамбуринъ?
Ну—такъ къ намъ—и шибче скрипки!
Юность мчится! съ ней цвѣты,
Беззаботныя улыбки,
Беззавѣтныя мечты!
Словно въ вихрѣ мчатся пары,
Не сидится старикамъ...
Расходился Чьеко старый
И подплясываетъ самъ...
!95
13*
Мудрено ль! вкругъ старой скрипки
Такъ и носятся цвѣты,
Беззаботныя улыбки,
Беззавѣтныя мечты!
Не робѣйте! смѣйтесь дружно!
Пусть дѣтьми мы будемъ вѣкъ!
Человѣку знать не нужно,
Что такое человѣкъ!..
Что тутъ думать!., шибче скрипки!
Наши—юность и цвѣты,
Беззаботныя улыбки,
Беззавѣтныя мечты!
А. Майковъ.
196
іЪч &мра^о]ки
насДроенуі
Введеніе въ четвертый отдіълъ.
(О цѣльности настроенія).
Какъ въ живописи разнообразныя краски на картинѣ все же
слагаются въ общій тонъ, передающій намъ настроеніе художника,
такъ и у чтеца его различныя яркія интонаціи должны сцементиро-
ваться въ одинъ общій тонъ, наилучшимъ и вѣрнѣйшимъ способомъ
передающій настроеніе поэта.
Здѣсь собранъ матеріалъ именно съ цѣлью выработать въ уча-
щемся умѣнье проникаться общимъ настроеніемъ автора и охранить
его отъ той манеры,—«рвать» произведеніе въ погонѣ за благодарными
деталями, манеры, которая сильно даетъ себя знать у новичка.
Изъ собранныхъ здѣсь произведеній особенно характернымъ при-
мѣромъ можетъ служить стихотвореніе Н. Клюева: «Лѣсная быль»,
гдѣ яркое описаніе веселаго, любовно описаннаго гульбища, должно
быть пропущено сквозь кипящую страданьемъ душу той молодицы,
отъ лица которой ведется «быль». Поэтому чтецъ, соблазненный
яркимъ описаніемъ гульбища, долженъ смягчить свои интонаціи и
дать во всемъ произведеніи ту выдержанность тона, которое отли-
чаетъ благородное исполненіе отъ безвкуснаго.
О. Озаровская.
199
С н іь ж о н к а.
Свѣтло-пушистая, Снѣжинка бѣлая, Какая чистая, Какая смѣлая! Подъ вѣтромъ вѣющимъ Дрожитъ, взметается, На немъ лелѣющемъ, Свѣтло качается.
Дорогой бурною Легко проносится, Не въ высь лазурную, На землю просится. Его качелями Она утѣшена, Съ его мятелями Крутится бѣшено.
Лазурь чудесную Она покинула, Себя въ безвѣстную Страну низринула. Но вотъ кончается Дорога дальняя, Земли касается Звѣзда кристальная.
Въ лучахъ блистающихъ Скользитъ, умѣлая, Средь хлопьевъ тающихъ Сохранно-бѣлая. Лежитъ пушистая, Снѣжинка смѣлая. Какая чистая, Какая бѣлая! К. Бальмонтъ.
Благовгьщенье въ Москвіь.
Благовѣщенье и свѣтъ, Вербы забѣлѣли. Или точно горя нѣтъ, Право, въ самомъ дѣлѣ? Благовѣстіе и смѣхъ, Закраснѣлись почки. И на улицахъ у всѣхъ Синіе цвѣточки.
201
Сколько синенькихъ цвѣтковъ,
Отнятыхъ у снѣга.
Снова міръ и свѣжъ и новъ,
И повсюду нѣга.
Вижу старую Москву
Въ молодомъ уборѣ.
Я смѣюсь и я живу,
Солнце въ каждомъ взорѣ.
Отъ стариннаго Кремля
Звонъ плыветъ волною.
А во рвахъ живетъ земля
Молодой травою.
Въ чуть пробившейся травѣ
Сонъ весны и лѣта.
Благовѣщенье въ Москвѣ
Это праздникъ свѣта!
К. Бальмонтъ.
На юбилей Фета.
Ея сегодня нѣтъ на праздникѣ твоемъ,
Главнѣйшей гостьи нѣтъ... Лучами не согрѣта,
Закована во мглѣ морозами и льдомъ,
Сегодня не пришла привѣтствовать поэта
Любимица его — красавица весна...
И тщетно, можетъ-быть, трясетъ она цѣпями,
Стремится толстый ледъ поднять на рамена,
И тщетно борется съ морозомъ и снѣгами...
Властна еще зима, могучъ и крѣпокъ ледъ,
Метели носятся и буйно и сурово...
Ея сегодня нѣтъ... Но часъ ея придетъ...
Она сломаетъ ледъ, сорветъ съ себя оковы,
Съ веселымъ рокотомъ помчатся съ горъ ручьи,
Лѣса одѣнутся въ зеленые наряды,
Поднимется трава, засвищутъ соловьи,
Пришествію весны-живительницы рады,
И съ первымъ пѣньемъ птицъ, съ дыханіемъ цвѣтовъ,
И съ первой зелени волшебнымъ ароматомъ
Взовьются въ воздухѣ гирлянды мотыльковъ
Въ убранствѣ блещущемъ и пестромъ и богатомъ...
Тогда уже весна, вступивъ въ свои права,
Почтитъ тебя, пѣвецъ, улыбкою привѣта:
Листы зашелестятъ, зашепчется трава
И въ рощахъ прошумитъ, промчится имя Фета.
202
Ея сегодня нѣтъ... Въ цѣпяхъ она... Но вѣрьі
Она ужъ борется съ морозомъ и снѣгами...
Она уже спѣшитъ... Она стучится въ дверь
Привѣтствовать тебя и пѣньемъ и цвѣтами.
Н. Аксаковъ.
Віьстники весны.
Посмотри, въ лазури ясной,
Шумной радости полны,
Снова стаей суетливой
Рѣютъ вѣстники весны.
Суетливой стаей вьются
И щебечутъ и шумятъ;
Снѣгъ послѣдній быстро таетъ,
Громы первые гремятъ.
Чьи-то звуки, чьи-то пѣсни
Льются съ радужныхъ высотъ;
Чей-то голосъ, нѣжный, милый,
Въ даль звенящую зоветъ...
Слушай, слушай... Эти звуки
Съ нивъ, долинъ, лѣсовъ и горъ...
Ахъ, уйти, уйти бы въ поле,
Въ степь, на волю, на просторъ!
Сны послѣдніе развѣять,
Цѣпь послѣднюю порвать...
Крикнуть, свистнуть, грянуть пѣсней,
Засмѣяться... зарыдать!..
С. Фругъ.
*
У царицы моей есть высокій дворецъ,
О семи онъ столбахъ золотыхъ,
У царицы моей—семигранный вѣнецъ,
Въ немъ безъ счету камней дорогихъ.
203
И въ зеленомъ саду у царицы моей
Розъ и лилій краса расцвѣла,
И въ прозрачной волнѣ серебристый ручей
Ловитъ отблескъ кудрей и чела.
Но не слышитъ царица, что шепчетъ ручей,
На цвѣты и не взглянетъ она:
Ей туманитъ печаль свѣтъ лазурныхъ очей,
И мечта ея скорби полна.
Она видитъ: далеко, въ полночномъ краю,
Средь морозныхъ тумановъ и вьюгъ,
Съ злою силою тьмы въ одиночномъ бою
Гибнетъ ею покинутый другъ.
В. Соловьевъ.
Весенній дождь.
Я узналъ весну по блеску голубому
Томныхъ, какъ мечта, задумчивыхъ ночей;
Но въ душѣ лелѣя тайную истому,
Я боюсь весны болѣзненныхъ очей;
Отъ ея безмолвныхъ и пытливыхъ взоровъ
Въ сердцѣ, подымаясь, воскресаютъ вновь
Тѣнь былыхъ обидъ и боль былыхъ укоровъ,—
Все, что сердце жгло, что волновало кровь.
Я завѣсилъ окна темной пеленою,
Растопилъ каминъ и свѣчи я зажегъ,
Чтобъ спугнуть весну обманчивой мечтою,
Зиму залучая въ теплый уголокъ.
Надъ весной побѣду торжествуя, грезы
Снова рисовали сердцу моему
Въ инеѣ пушистомъ бѣлыя березы
И морозной ночи сумрачную тьму,
Скрипъ саней по снѣгу и на снѣгѣ тѣни,
Дымъ, изъ трубъ бѣгущій медленнымъ столбомъ,
И недвижный воздухъ, полный мертвой лѣни,—
Но не долго былъ я очарованъ сномъ.
204
За окномъ шумливо что-то зазвенѣло,
Точно кто-то юный крылья развернулъ,
И ворвался въ сердце празднично и смѣло
Пробужденной ночи благозвучный гулъ.
Я узналъ, что это за окномъ рокочетъ,
Чтб стучится въ стекла: это дождь весны!
Онъ звенитъ и плачетъ, онъ поетъ и хочетъ
Властно развѣнчать обманчивые сны.
О, какъ страстно сердце сжалось болью жгучей,
И какъ тускло пламя вкрадчивыхъ свѣчей!
Я открылъ окно: за розовою тучей
Теплилось мерцанье утреннихъ лучей,
За плетнемъ осины подъ дождемъ блестѣли...
Жгучей влагой слезъ туманились глаза.
Струны порвались, рыданья зазвенѣли
И весенней каплей канула слеза...
К. Фофановъ.
Листья.
Пусть сосны и ели
Всю зиму торчатъ,
Въ снѣга и метели
Закутавшись спятъ.
Ихъ тощая зелень,
Какъ иглы ежа,
Хоть въ вѣкъ не желтѣетъ,
Но въ вѣкъ несвѣжа.
Мы жъ, легкое племя,
Цвѣтемъ и блестимъ,
И краткое время
На сучьяхъ гостимъ.
Все красное лѣто
Мы были въ красѣ,
Играли съ лучами
Купались въ росѣ!..
205
Но птички отпѣли,
Цвѣты отцвѣли,
Луга поблѣднѣли,
Зефиры ушли.
Такъ что же намъ даромъ
Висѣть и желтѣть?
Не лучше ль за ними
И намъ улетѣть?
О, буйные вѣтры,
Скорѣе, скорѣй!
Скорѣй насъ сорвите
Съ докучныхъ вѣтвей.
Сорвите, умчите,
Мы ждать не хотимъ,—
Летите, летите!
Мы съ вами летимъ!
Ѳ. Тютчевъ.
Сіьверная береза.
Надъ озеромъ, надъ заводью лѣсной—
Нарядная зеленая береза.
— „О дѣвушки! Какъ холодно весной:
Я вся дрожу отъ вѣтра и мороза!"
То дождь, то градъ, то снѣгъ, какъ бѣлый пухъ,
То солнце, блескъ, лазурь и водопады.
— „О дѣвушки! Какъ веселъ лѣсъ и лугъ!
Какъ радостны весенніе наряды!"
Опять, опять нахмурилось,—опять
Мелькаетъ снѣгъ и боръ гудитъ сурово.
— „Я вся дрожу. Но только бъ не измять
Зеленыхъ лентъ! Вѣдь солнце будетъ снова".
И. Бунинъ.
206
Фантазія.
Мы одни: изъ сада въ стекла оконъ
Свѣтитъ мѣсяцъ: тусклы наши свѣчи;
Твой душистый, твой послушный локонъ,
Развиваясь, падаетъ на плечи.
Что жъ молчимъ мы?.. Или самовластно
Царство тихой, свѣтлой ночи мая?
Иль поетъ и ярко такъ и страстно
Соловей, надъ розой изнывая?
Иль проснулись птички за кустами,
Тамъ, гдѣ вѣтеръ колыхалъ ихъ гнѣзды,
И, дрожа ревнивыми лучами,
Ближе, ближе къ намъ нисходятъ звѣзды.
На суку извилистомъ и чудномъ,
Пестрыхъ сказокъ пышная жилица,
Вся въ огнѣ, въ сіяньи изумрудномъ,
Надъ водой качается жаръ-птица,
Расписныя раковины блещутъ
Въ переливахъ чудной позолоты,
До луны жемчужной пѣной мещутъ
И алмазной пылью водометы;
Листья полны свѣтлыхъ насѣкомыхъ;
Все растетъ и рвется вонъ изъ мѣры...
Много сновъ проносится знакомыхъ,
И на сердцѣ много сладкой вѣры.
Переходятъ радужныя краски,
Раздражая око свѣтомъ ложнымъ;
Мигъ еще—и нѣтъ волшебной сказки
И душа опять полна возможнымъ.
Мы одни: изъ сада въ стекла оконъ
Свѣтить мѣсяцъ: тусклы наши свѣчи;
Твой душистый, твой послушный локонъ,
Развиваясь, падаетъ на плечи.
А. Фетъ.
207
* *
*
Какая ночь! на всемъ какая нѣга!
Благодарю, родной, полночный край!
Изъ царства льдовъ, изъ царства вьюгъ и снѣга
Какъ свѣжъ и чистъ твой вылетаетъ май.
Какая ночь! всѣ звѣзды до единой
Тепло и кротко въ душу смотрятъ вновь,
И въ воздухѣ за пѣснью соловьиной
Разносится тревога и любовь.
Березы ждутъ. Ихъ листъ полупрозрачный
Застѣнчиво манитъ и тѣшитъ взоръ;
Онѣ дрожатъ. Такъ, дѣвѣ новобрачной
И радостенъ и чуждъ ея уборъ.
Нѣтъ, никогда нѣжнѣй и безтѣлеснѣй
Твой ликъ, о ночь, не могъ меня томить;
Опять къ тебѣ иду съ невольной пѣсней,
Невольной и послѣдней, можетъ-быть.
А. Фетъ.
Колыбельная.
Я не знаю многихъ пѣсенъ, знаю пѣсенку одну,
Я спою ее младенцу, отходящему ко сну.
Колыбельку я рукою осторожною качну,
Пѣсенку спою младенцу, отходящему ко сну.
Тихій ангелъ встрепенется, улыбнется, погрозится шалуну,
И шалунъ ему отвѣтитъ: „Ты не бойся, ты не дуйся,—я засну”.
Ангелъ сядетъ къ изголовью, улыбаясь шалуну,
Сказки тихія разскажетъ отходящему ко сну.
Онъ про звѣздочки разскажетъ, онъ разскажетъ про луну,
Про цвѣты въ раю высокомъ, про небесную весну.
Промолчитъ про тѣхъ, кто плачетъ, кто томится въ полону,
Кто закованъ, зачарованъ, кто влюбился въ тишину,
Кто томится, не ложится, долго смотритъ на луну,
Тихо сидя у окошка, долго смотритъ въ вышину,—
Тотъ поникнетъ, и не крикнетъ, и не пикнетъ, и проникнетъ въ глубину
208
И на рѣчкѣ съ легкимъ плескомъ кругъ за кругомъ пробѣжитъ волна
Я не знаю много пѣсенъ, знаю пѣсенку одну, [волну].
Я спою ее младенцу, отходящему ко сну,
Я на ротикъ розъ раскрытыхъ росы тихія стряхну,
Глазки-цвѣтики-цвѣточки пѣсней тихою сомкну.
Ѳ. Сологубъ.
П іь в ц ы.
{Отрывокъ.)
Яковъ глубоко вздохнулъ и запѣлъ... Первый звукъ его
голоса былъ слабъ и неровенъ и, казалось, не выходилъ изъ
его груди, но принесся откуда-то издалека, словно залетѣлъ
случайно въ комнату. Странно подѣйствовалъ этотъ трепещу-
щій, звенящій звукъ на всѣхъ насъ; мы взглянули другъ на
друга, а жена Николая Иваныча такъ и выпрямилась. За
этимъ первымъ звукомъ послѣдовалъ другой, болѣе твердый
и протяжный, но все еще видимо дрожащій, какъ струна,
когда, внезапно прозвенѣвъ подъ сильнымъ пальцемъ, она
колеблется послѣднимъ, быстро замирающимъ колебаньемъ,
за вторымъ — третій, и, понемногу разгорячась и расширяясь,
полилась заунывная пѣсня. „Не одна во полѣ дороженька проле-
гала “— пѣлъ онъ, и всѣмъ намъ сладко становилось и жутко.
Я, признаюсь, рѣдко слыхивалъ подобный голосъ: онъ былъ
слегка разбитъ и звенѣлъ какъ надтреснутый; онъ даже сна-
чала отзывался чѣмъ-то болѣзненнымъ; но въ немъ была и
неподдѣльная, глубокая страсть, и молодость, и сила, и сла-
дость, и какая-то увлекательно — безпечная, грустная скорбь.
Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала въ немъ,
и такъ и хватала васъ за сердце, хватала прямо за его рус-
скія струны. Пѣснь росла, разливалась. Яковомъ видимо
овладѣвало упоеніе; онъ уже не робѣлъ, онъ отдавался весь
своему счастью; голосъ его не трепеталъ болѣе—онъ дрожалъ,
но той едва замѣтной внутренней дрожью страсти, которая
209
Школа чтеца.
14
стрѣлой вонзается въ душу слушателя, и безпрестанно крѣп-
чалъ, твердѣлъ и расширялся. Помнится, я видѣлъ однажды,
вечеромъ, во время отлива, на плоскомъ песчаномъ берегу
моря, грозно и тяжко шумѣвшаго вдали, большую бѣлую
чайку: она сидѣла неподвижно, подставивъ шелковистую грудь
алому сіянью зари, и только изрѣдка медленно расширяла
свои длинныя крылья навстрѣчу знакомому морю, навстрѣчу
низкому, багровому солнцу; я вспомнилъ о ней, слушая Якова.
Онъ пѣлъ, совершенно позабывъ и своего соперника, и всѣхъ
насъ, но видимо поднимаемый, какъ бурный пловецъ волнами,
нашимъ молчаливымъ, страстнымъ участьемъ. Онъ пѣлъ, и
отъ каждаго звука его голоса вѣяло чѣмъ-то роднымъ и не-
обозримо широкимъ, словно знакомая степь раскрывалась
передъ вами, уходя въ безконечную даль. У меня, я чувствовалъ,
закипали на сердцѣ и поднимались къ глазамъ слезы; глухія,
сдержанныя рыданья внезапно поразили меня... я оглянулся—
жена цѣловальника плакала, припавъ грудью къ окну. Яковъ
бросилъ на нее быстрый взглядъ и залился еще звонче, еще
слаще прежняго; Николай Иванычъ потупился; Моргачъ от-
вернулся; Обалдуй весь разнѣженный стоялъ, глупо разинувъ
ротъ; сѣрый мужичокъ тихонько всхлипывалъ въ уголку,
съ горькимъ шопотомъ покачивая головой; и по желѣзному
лицу Дикаго Барина, изъ-подъ совершенно надвинувшихся
бровей, медленно прокатилась тяжелая слеза; рядчикъ под-
несъ сжатый кулакъ ко лбу и не шевелился... Не знаю, чѣмъ
бы разрѣшилось всеобщее томленье, если бъ Яковъ вдругъ не
кончилъ на высокомъ, необыкновенно тонкомъ звукѣ—словно
голосъ у него оборвался. Никто не крикнулъ, даже не ше-
вельнулся; всѣ какъ будто ждали, не будетъ ли онъ еще
пѣть; но онъ раскрылъ глаза, словно удивленный нашимъ
молчаньемъ, вопрошающимъ взоромъ обвелъ всѣхъ кругомъ
и увидалъ, что побѣда была его...
И. Тургеневъ.
210
*
* *
Когда нянюшка, бывало,
На колѣняхъ усыпляла
Юнаго меня,—
Безъ конца старушка врала:
Чинъ сулила генерала,
Стройнаго коня.
Про красотокъ говорила,
И всегда такъ выходило,
Что красавицъ рой
Мною страстно увлекался
И въ любви мнѣ признавался
Съ милой простотой...
Годы мчались, какъ въ туманѣ...
Вопреки сказаньямъ няни,
Я не генералъ.
Никого не покоряю
И, по милой изнывая,
Самъ къ ней въ плѣнъ попалъ...
Гдѣ жъ ты, няня? Какъ бывало,
Ты бы снова укачала,
Бѣднаго меня,
Снова бъ сказкой обманула...
Можетъ, сердце бъ и уснуло,
Горе схороня...
Но давно ужъ на погостѣ
Отдыхаютъ няни кости,
Конченъ бѣдный путь.
Кто—жъ поплачетъ надо мною,
Сможетъ сердце мнѣ больное
Сказкой обмануть?
С. Потресовъ.
♦
* *
Мнѣ все равно, куда направить путь—
Въ геенну золъ иль къ небу голубому;
Такъ облачко спѣшитъ куда-нибудь,
211
14
Подъ солнцемъ золотя кочующую грудь,
Не зная пристани и дому!
Его волна морская родила
Въ палящій зной, лобзаяся съ лучами,
И, въ часъ утра, туманомъ вознесла
На небеса—слѣдить полетъ орла
И воздухъ ткать вечерними тѣнями.
Надъ гладью нивъ, надъ зеркаломъ озеръ
Оно равно растаетъ и прольется,
И окропитъ волнующійся боръ,
И побѣжитъ ручьемъ со скатовъ горъ,
И вновь съ морской волной сольется!
И я плыву невѣдомо куда!
Я, вѣчностью заброшенный случайно
Въ нашъ гнѣвный міръ, въ міръ скорби и стыда,
Какъ облако, растаю безъ слѣда
И съ вѣчностью опять сольюсь, какъ тайна.
К. Фофановъ.
Въ златотканные дни сентября...
Въ златотканные дни сентября—
Мнится папертью бора опушка.
Сосны молятся, ладонъ куря,
Надъ твоей опустѣлой избушкой.
Вѣтеръ-сторожъ слѣды старины
Заметаетъ листвой шелестящей.
Изъ-за полога выглянь сосны,
Промелькни за березовой чащей.
Я узнаю косынки койму,
Грудь и профиль задумчиво кроткій.
Сосны шепчутъ про мракъ и тюрьму,
Про мерцаніе звѣздъ за рѣшеткой,
Про бубенчикъ, въ изгнанья пути,
Про бѣгущія родины дали.
Миръ вамъ, сосны, вы думы мои,
Какъ родимая мать—разгадали.
212
Въ поминальные дни сентября,
Вы сыновнюю тайну узнайте,
И о той, что погибла любя,
Небесамъ и землѣ предайте.
Н. Клюевъ.
Дождь.
Сквозь распластанныя вѣтки
Мокрыхъ, никнущихъ березъ
Густозатканныя сѣтки
Нижутъ нити частыхъ слезъ.
На трепещущіе листья
Капли крупныя летятъ,
И печальныхъ сосенъ кисти
Чуть киваютъ вѣтру въ ладъ.
А въ просвѣтахъ, гдѣ вершины
Одиноко смотрятъ въ высь,
Однотонной паутиной
Тучи тусклыя сплелись.
Острый вѣтеръ бродитъ въ чащѣ,
Хлещетъ каплями въ окно
Дождь ровнѣй, скучнѣй и чаще
Раскружилъ веретено.
Закрываешь тихо вѣки—
Но далекій плачъ не стихъ:
Небу скорбному во вѣки
Слезъ не выплакать своихъ.
Саша Черный.
Несжатая полоса.
Поздняя осень. Грачи улетѣли, лѣсъ обнажился, поля
опустѣли, только не сжата полоска одна... Грустную думу на-
водитъ она: кажется шепчутъ колосья другъ другу: „Скучно
намъ слушать осеннюю вьюгу, скучно склоняться до самой
213
земли, тучныя зерна купая въ пыли! Насъ, что ни ночь, ра-
зоряютъ станицы всякой пролетной прожорливой птицы,
заяцъ насъ топчетъ и буря насъ бьетъ... Гдѣ же нашъ пахарь?
Чего еще ждетъ? Или мы хуже другихъ уродились? Или не
дружно цвѣли—колосились? Нѣтъ! мы .не хуже другихъ—и
давно въ насъ налилось и созрѣло зерно. Не для того же
пахалъ онъ и сѣялъ, чтобы насъ вѣтеръ осенній развѣялъ?."
Вѣтеръ несетъ имъ печальный отвѣтъ: вашему пахарю мо-
ченьки нѣтъ. Зналъ для чего и пахалъ онъ и сѣялъ, да не по
силамъ работу затѣялъ. Плохо бѣднягѣ—не ѣстъ и не пьетъ,
червь ему сердце больное сосетъ; руки, что вывели борозды
эти, высохли въ щепку, повисли какъ плети, очи потускли и
голосъ пропалъ, что заунывную пѣсню пѣвалъ, какъ, на соху
налегая рукою, пахарь задумчиво шелъ полосою...
Н. Некрасовъ.
♦
* *
Косогоры, низины, болота,
Надъ болотами ржавая марь,
Осыпается рощъ позолота,
Въ блѣдномъ воздухѣ ладана гарь.
На прогалинѣ теплятся свѣчи,
Озаряя узорчатый гробъ,
Бездыханныя дѣвичьи плечи,
И молитвенный, съ вѣнчикомъ, лобъ.
Осень—съ блѣднымъ челомъ инокиня —
Надъ покойницей правитъ обрядъ.
Даль мутна, рѣчка призрачна синя,
Въ рощѣ дятлы зловѣще стучатъ.
Н. Клюевъ.
*
* *
Мнѣ сказали, что ты умерла
Заодно съ золотымъ листопадомъ,
И теперь, лучезарно свѣтла,
Правишь горнимъ, невѣдомымъ градомъ.
214
Я нездѣшнимъ забыться готовъ,
Ты всегда баснословной казалась,
И багрянцемъ осеннихъ листовъ
Не однажды со мной любовалась.
Говорятъ, что не стало тебя,
Но любви изсякаемы ль струи:
Развѣ вѣтеръ—не ласка твоя,
И лучи—не твои поцѣлуи?
Н. Клюевъ.
Болотныя лиліи.
Поблѣднѣвшіе, нѣжно-стыдливые,
Распустились въ болотной глуши
Бѣлыхъ лилій цвѣты молчаливые,
И вкругъ нихъ шелестятъ камыши.
Бѣлыхъ лилій цвѣты серебристые
Выростаютъ съ глубокаго дна,
Гдѣ не свѣтятъ лучи золотистые,
Гдѣ вода холодна и темна.
Проникаясь рѣшимостью твердою
Жить мечтой и достичь высоты,
Распускаются съ пышностью гордою
Бѣлыхъ лилій нѣмые цвѣты.
Расцвѣтутъ и поблекнутъ безстрастные,
Далеко отъ владѣній людскихъ,
И распустятся снова, прекрасные,—
И никто не узнаетъ о нихъ.
К. Бальмонтъ.
Камыши.
Полночной порою въ болотной глуши
Чуть слышно, безшумно, шуршатъ камыши.
О чемъ они шепчутъ? О чемъ говорятъ?
Зачѣмъ огоньки между ними горятъ?
215
Мелькаютъ, мигаютъ, и снова ихъ нѣтъ.
И снова забрезжилъ блуждающій свѣтъ.
Полночной порой камыши шелестятъ.
Въ нихъ жабы гнѣздятся, въ нихъ змѣи свистятъ.
Въ болотѣ дрожитъ умирающій ликъ:
То мѣсяцъ багровый печально поникъ.
И тиной запахло. И сырость ползетъ.
Трясина заманитъ, сожметъ, засосетъ.
„Кого? Для чего?"—камыши говорятъ.
„Зачѣмъ огоньки между нами горятъ?*
Но мѣсяцъ печальный безмолвно поникъ.
Не знаетъ. Склоняетъ все ниже свой ликъ.
И, вздохъ повторяя погибшей души,
Тоскливо, безшумно шуршатъ камыши.
В. Бальмонтъ.
Ночью.
Полный мѣсяцъ всталъ надъ лугомъ
Неизмѣннымъ дивнымъ кругомъ:
Свѣтитъ и молчитъ.
Блѣдный, блѣдный лугъ цвѣтущій,
Мракъ ночной, по немъ ползущій,
Отдыхаетъ, спитъ.
Жутко выйти на дорогу:
Непонятная тревога
Подъ луной царитъ...
Хоть и знаешь: утромъ рано
Солнце выйдетъ изъ тумана,
Поле озаритъ,
И тогда пройдешь тропинкой,
Гдѣ подъ каждою былинкой
Жизнь кипитъ.
Александръ Блокъ.
216
Не остывшая отъ зною...
Не остывшая отъ зною,
Ночь іюльская блистала,
И надъ тусклою землею
Небо, полное грозою,
Отъ зарницъ все трепетало...
Словно тяжкія рѣсницы
Разверзалися порою,
И сквозь бѣглыя зарницы
Чьи-то грозныя зѣницы
Загорались надъ землею...
Ѳ. Тютчевъ..
* *
На пѣсню, на сказку разсудокъ молчитъ,
Но сердцу такъ странно правдиво,—
И плачетъ оно, непонятно груститъ,
О чемъ?—знаютъ вѣтеръ да ивы.
О томъ ли, что юность безслѣдно прошла,
Что поле заплаканно нище?
Вонъ сѣрыя избы родного села,
Луга, перелѣски, кладбище.
Вглядись въ эту дымно-лиловую даль,
Въ болотъ и овраговъ пологость,
И сердцу-дитяти утѣшной едва ль
Почуется правды суровость.
Потянетъ къ загадкѣ, къ туманной мечтѣ,
Вздохнуть, улыбнуться украдкой—
Задумчиво-нѣжной небесъ высотѣ
И ивамъ лепечущимъ сладко.
Примнится чертогомъ—покровъ шалаша,
Колдуньей лѣсной—незабудка,
И горько въ себѣ посмѣется душа
Надъ правдой слѣпою разсудка.
Н. Клюевъ.
217
Незнакомка.
По вечерамъ надъ ресторанами
Горячій воздухъ дикъ и глухъ,
И правитъ окриками пьяными
Весенній и тлетворный духъ.
Вдали надъ пылью переулочной,
Надъ скукой загородныхъ дачъ,
Чуть золотится крендель булочной,
И раздается дѣтскій плачъ.
И каждый вечеръ, за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канавъ гуляютъ съ дамами
Испытанные остряки.
Надъ озеромъ скрипятъ уключины,
И раздается женскій визгъ,
А въ небѣ, ко всему пріученный—
Безсмысленно кривится дискъ.
И каждый вечеръ другъ единственный
Въ моемъ стаканѣ отраженъ
И влагой терпкой и таинственной,
Какъ я, смиренъ и оглушенъ.
А рядомъ у сосѣднихъ столиковъ
Лакеи сонные торчатъ,
И пьяницы, съ глазами кроликовъ,
„Дп ѵіпа ѵегііаз!" кричатъ.
И каждый вечеръ въ часъ назначенный
(Иль это только снится мнѣ),
Дѣвичій станъ, шелками схваченный,
Въ туманномъ движется окнѣ.
И медленно пройдя межъ пьяными,
Всегда безъ спутниковъ, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.
И вѣютъ древними повѣрьями
Ея упругіе шелка,
218
И шляпа съ траурными перьями,
И въ кольцахъ узкая рука.
И странной близостью закованный
Смотрю за- темную вуаль,
И вижу берегъ очарованный
И очарованную даль.
Глухія тайны мнѣ поручены,
Мнѣ чье-то солнце вручено,
И всѣ души моей излучины
Пронзило терпкое вино.
И перья страуса склоненныя
Въ моемъ качаются мозгу,
И очи синія бездонныя
Цвѣтутъ на дальнемъ берегу.
Въ моей душѣ лежитъ сокровище,
И ключъ порученъ только мнѣ!
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина въ винѣ.
Александръ Блокъ.
Любви начало было ліьтодоъ.
Любви начало было лѣтомъ,
Конецъ осеннимъ сентябремъ.
Ты подошла ко мнѣ съ привѣтомъ
Въ нарядѣ дѣвичьи простомъ.
Вручила красное яичко,
Какъ символъ крови и любви:
Не торопись на Сѣверъ, птичка,
Весну на югѣ обожди!
Синѣютъ дымно перелѣски,
Насторожены и нѣмы,
Сквозь паутину занавѣски
Не видно тающей зимы.
219
Но сердце чуетъ: есть туманы,
Движенье смутное лѣсовъ,
Неотвратимые обманы,
Лилово-сизыхъ вечеровъ.
О, не лети въ туманы пташкой!
Года уйдутъ въ сѣдую мглу—
Ты будешь нищею монашкой
Стоять на паперти въ углу.
И, можетъ-быть, пройду я мимо,
Такой же нищій и худой...
О, дай мнѣ крылья херувима
Летѣть незримо за тобой!
Не обойти тебя привѣтомъ,
И не раскаяться потомъ...
Любви начало было лѣтомъ,—
Конецъ осеннимъ сентябремъ.
Н. Клюевъ.
Погасло дневное свіьтило.
Подражаніе Байрону.
Погасло дневное свѣтило;
На море синее вечерній палъ туманъ.
Шуми, шуми, послушное вѣтрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океанъ.
Я вижу берегъ отдаленный,
Земли полуденной волшебные края:
Съ волненьемъ и тоской туда стремлюся я,
Воспоминаньемъ упоенный...
И чувствую: въ очахъ родились слезы вновь:
Душа кипитъ и замираетъ;
Мечта знакомая вокругъ меня летаетъ...
И вспомнилъ прежнихъ лѣтъ безумную любовь,
И все, чѣмъ я страдалъ, и все, что сердцу мило,
Желаній и надеждъ томительный обманъ...
220
Шуми, шуми, послушное вѣтрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океанъ,
Лети, корабль, неси меня къ предѣламъ’ дальнимъ
По грозной прихоти обманчивыхъ морей,
Но только не къ брегамъ печальнымъ
Туманной родины моей,
Страны, гдѣ пламенемъ страстей
Впервые чувства разгорались,
Гдѣ музы нѣжныя мнѣ тайно улыбались,
Гдѣ рано въ буряхъ отцвѣла
Моя потерянная младость,
Гдѣ легкокрылая мнѣ измѣнила радость
И сердце хладное страданью предала.
Искатель новыхъ впечатлѣній
Я васъ бѣжалъ,—отечески края;
Я васъ бѣжалъ, питомцы наслажденій,
Минутной младости минутные друзья;
И вы, наперсницы порочныхъ заблужденій,
Которымъ безъ любви я жертвовалъ собой,
Покоемъ, славою, свободой и душой,
И вы забыты мной, измѣнницы младыя,
Подруги тайныя моей весны златыя,
И вы забыты мной... Но прежнихъ сердца ранъ,
Глубокихъ ранъ любви, ничто не излѣчило...
Шуми, шуми, послушное вѣтрило
Волнуйся подо мной, угрюмый океанъ...
Пушкинъ.
Пятнадцать піьсенъ.
и.
— А если онъ вернется,
Что я сказать должна?
„Скажи: его ждала я,
Пока не умерла!"...
— А если бъ, какъ чужую,
Разспрашивать онъ сталъ?
221
„Отвѣть ему, какъ брату,
Быть-можетъ, онъ страдалъ".
— А если спроситъ: гдѣ ты?
Какой я дамъ отвѣтъ?
„Кольцо мое безмолвно
Отдай ему въ отвѣтъ".
— А если онъ увидитъ,
Что комната пуста?
„Скажи: угасла лампа
И дверь не заперта".
— А если о послѣднихъ
Минутахъ спроситъ онъ?
„Скажи: я улыбалась,
Чтобъ не заплакалъ онъ".
VI.
Кто-то мнѣ сказалъ
(О, дитя, мнѣ страшно!).
Кто-то мнѣ сказалъ:
Часъ его насталъ.
Лампу я зажгла
(О, дитя, мнѣ страшно!).
Лампу я зажгла,
Близко подошла.
Въ первыхъ же дверяхъ,
(О, дитя, мнѣ страшно!)
Въ первыхъ же дверяхъ,
Пламень задрожалъ.
У вторыхъ дверей
(О, дитя, мнѣ страшно!),
У вторыхъ дверей
Пламень зашепталъ,
У дверей послѣднихъ
(О, дитя, мнѣ страшно!),
Вспыхнувъ только разъ,
Огонекъ угасъ.
222
VII.
Когда умерла Орламонда,
Семь дочерей
Волшебной жены Орламонды
Искали дверей.
Лампады свои засвѣтили,
На башню взошли,
Четыреста залъ отворили,
Но свѣта онѣ не нашли.
Проникли подъ гулкіе своды,
Спустилися съ кручъ,
Нашли подъ закрытою дверью
Изъ золота ключъ.
Сквозь щели имъ видится море,
Боятся онѣ умереть,
Стучатся у запертой двери,
Не смѣя ее отпереть.
XIII.
Тридцать лѣтъ ищу я, сестры,
Гдѣ же скрылся онъ?
Тридцать лѣтъ хожу я, сестры,
Но не ближе онъ.
И въ пути устала, сестры,
Шла я тридцать лѣтъ,
Онъ повсюду былъ,—о, сестры!—
И его все нѣтъ.
Обувь я снимаю, сестры,
Скорбь и тишина.
Вечеръ также гаснетъ, сестры,
И душа больна.
Вамъ шестнадцать лѣтъ,—о, сестры,—
Съ посохомъ моимъ
Далеко идите, сестры,
Въ поиски за нимъ.
Морисъ Метерлинкъ.
О. Чюмина.
223
Разувіьреніе.
Не искушай меня безъ нужды
Возвратомъ нѣжности твоей:
Разочарованному чужды
Всѣ обольщенья прежнихъ дней!
Ужъ я не вѣрю увѣреньямъ,
Ужъ я не вѣрую въ любовь,
И не могу предаться вновь
Разъ измѣнившимъ сновидѣньямъ!
Слѣпой тоски моей не множь,
Не заводи о прежнемъ слова,
И другъ заботливый—больного
Въ его дремотѣ не тревожь!
Я сплю, мнѣ сладко усыпленье.
Забудь бывалыя мечты:
Въ душѣ моей одно волненье,
А не любовь пробудешь ты.
Е. Баратынскій.
Не думала ли ты...
Не думала ли ты, что блѣдный и безмолвный,
Я вновь къ тебѣ приду, какъ нищій, умолять,
Тобой отвергнутый, тобою вѣчно полный,
Чтобъ ты позволила у ногъ твоихъ рыдать?
Напрасная мечта! Слыхала ль ты порою,
Что въ милой праздности не всѣ, какъ ты, живутъ,
Что гдѣ-то есть борьба, и мысль, и честный трудъ,
И что предъ ними ты—ничто съ твоей красою?
Смотри,—меня зоветъ огромный, свѣтлый міръ:
Есть у меня безсмертная природа,
И молодость, и гордая свобода,
И Рафаэль, и Данте, и Шекспиръ!
И думать ты могла, что я томиться буду,
224
Или у ногъ твоихъ безпомощно рыдать?
Нѣтъ, стыдно предъ тобой мнѣ слезы расточать,—
Забудь меня скорѣй, какъ я тебя забуду!
О, неразумное, прелестное дитя,
Ты гнѣва моего, повѣрь, не заслужила,—
Но если бъ ты могла понять, какая сила
Была у ногъ твоихъ, когда со мной, шутя,
Играла ты въ любовь, и все потомъ разбила,—
Тогда лицо твое зардѣлось бы стыдомъ,
И надъ поруганной любовью, надъ мечтами,
Что ты разрушила своими же руками,
Не я, а ты въ отчаяньи нѣмомъ
Рыдала бы теперь горючими слезами.
Д. Мережковскій.
Борзая.
Вся въ бурыхъ локонахъ, шотландская борзая
Выходитъ съ госпожей своею утромъ въ садъ.
Подъ лаской нѣжныхъ рукъ ея покорный взглядъ
Туманится слезой, мечты любви скрывая.
Лѣниво на коврѣ богатомъ отдыхая,
Проводитъ вечеръ песъ, истомою объятъ.
Онъ нѣжится у ногъ своей царицы, рабъ,
И лижетъ ей каблукъ, рыча и замирая.
Со взглядомъ жалобнымъ и полнымъ плѣнныхъ грезъ
Печалью долгою томится тайно песъ,—
Безмолвіе навѣкъ мечты его сковало.
Поэтовъ въ ихъ любви удѣлъ всегда таковъ:
Несбыточнымъ плѣнясь и свѣтомъ идеала,
Въ нихъ страждетъ духъ тоской неизреченныхъ словъ.
Иванъ Жилькэнъ.
С. Головачевскій.
225
Школа чтеца.
15
Красная лилія.
Не серебристо-нѣжной бѣлизною,
Не нѣжнымъ золотомъ у тонкаго стебля,
Она прельщаетъ свѣтлою весною,
Сорвать маня,—щадить моля...
Пылая алымъ пламенемъ сурово
И яркой искрой вспыхнувъ межъ камней,
Она укрыта порослью кедровой,
Въ ея тѣни лишь кажется темнѣй;
И смотритъ мрачно въ очи пѣшеходу
Своей сурово-смѣлой красотой.
„Сорви меня!—твердитъ она народу,
Идущему тяжелою стопой:
Сорви меня рукою, въ подземельѣ
Копавшей золота тяжелое зерно.
Сорви меня: мнѣ въ сѣверномъ ущельѣ,
Какъ въ шахтѣ вамъ,—исчахнуть суждено;
Сорви меия: изнѣженные пальцы
Мнѣ не придется пылью осыпать,
И не къ кому, таежные скитальцы,
Таежную красу вамъ ревновать;
Сорви меня подъ пьяную хоть руку
И изъ гармоники рыданье извлеки,
И пьяную слезу, оплакавъ жизни муку,
Ты урони ко мнѣ на лепестки!—
И брось меня; не злая незнакомка—
Мой блеклый прахъ возьметъ твоя тайга... “
И гнется пѣшеходъ подъ рваною котомкой,
И давитъ лилію подковой сапога...
В. Михѣевъ.
Первый отрывокъ изъ „Пана“.
Первая желѣзная ночь.
Въ девять часовъ солнце заходитъ. На землю ложится
бѣлесоватая мгла. Мерцаютъ нѣсколько звѣздъ. Черезъ два
226
часа показывается серпъ луныДЯ бреду въ лѣсъ съ ружьемъ
и собакой, я развожу огонь, и свѣтъ моего костра поблески-
ваетъ среди сосновыхъ стволовъ. Мороза нѣтъ.
„Первая желѣзная ночь!"—говорю я. И безумная страст-
ная радость пронизываетъ меня страннымъ трепетомъ при
мысли о мѣстѣ и времени.
Вы, люди, звѣри и птицы! Я поднимаю стаканъ за оди-
нокую ночь въ лѣсу,—въ лѣсу! За тьму и шопотъ Бога среди
деревьевъ, за простыя, нѣжныя созвучія безмолвія, звенящія
въ моихъ ушахъ! За зеленую листву и за желтую листву! Я
пыо за звукъ жизни, который слышу, за морду, фыркающую
въ травѣ, за собаку, обнюхивающую землю! Бурный тостъ—
за дикую кошку, припавшую грудью къ землѣ и готовую ри-
нуться на воробья во мракѣ,—во мракѣ! За кроткую тишину
въ земномъ царствѣ, за звѣзды и за полумѣсяцъ, да,—за нихъ
и за него!
Я встаю и прислушиваюсь. Никто не слыхалъ меня. Я
снова сажусь. Благодареніе за одинокую ночь, за горы, мракъ
и шорохъ моря,—онъ звучитъ въ моемъ сердцѣ! Благодаре-
ніе за мою жизнь, за мое дыханіе, за счастье, что я живу
этой ночью, я благодарю за это отъ всего сердца! Послушай
на востокъ и послушай на западъ, — нѣтъ, послушай! Это
вѣчный Богъ. Эта тишина, что шепчетъ мнѣ на ухо—это ки-
пучая кровь самой великой природы, Богъ, дыханьемъ своимъ
обвѣвающій міръ и меня! При свѣтѣ своего костра я вижу
блестящую паутину, слышу плывущую по морю лодку, от-
блескъ сѣвернаго сіянія скользитъ вверхъ по небу на сѣверѣ.
О, клянусь безсмертной душой моей, я благодаренъ и за
то, что это я сижу здѣсь!..--
Тихо. Сосновая шишка глухо ударяется о землю. „Упала
сосновая шишка!"—думаю я. Луна высоко, огонь вспыхиваетъ
на полуобгорѣвшихъ головешкахъ и собирается погаснуть.
Поздно ночью я отправляюсь домой. ,, „
К. Гамсунъ.
227
15*
Второй отрывокъ изъ „Пана“.
Третья желѣзная ночь, ночь, проведенная въ величайшемъ
волненіи. Хоть бы какой-нибудь морозъ! Вмѣсто мороза—
неподвижное тепло послѣ дневного солнца. Ночь была словно
парное болото. Я развелъ костеръ...
Иногда есть наслажденіе въ томъ, что тебя тянутъ за
волосы. До какого извращенія могутъ дойти человѣческія
чувства. Тебя будутъ тащить за волосы вверхъ и внизъ, по
горамъ и долинамъ, и если спроситъ кто-нибудь, что же это,
собственно, происходитъ, то отвѣтишь въ полномъ восторгѣ:
„Меня тащатъ за волосы". И если спросятъ:—„Не помочь ли,
не освободить ли тебя?"—отвѣчаешь: „Да, я выдержу, потому
что люблю руку, которая тащитъ меня..."
Это третья желѣзная ночь. Я обѣщаю тебѣ стать завтра
другимъ человѣкомъ, Ева. Ты не узнаешь меня завтра, когда
я приду къ тебѣ, я буду смѣяться и цѣловать тебя, милая
моя, моя красавица. Подумай, у меня остается одна только
эта ночь, а потомъ я стану другимъ человѣкомъ, еще нѣ-
сколько часовъ—я буду другимъ.
Я ложусь ближе къ костру и разсматриваю пламя. Ело-
вая шишка падаетъ на меня, за нею падаетъ одна — другая
сухая вѣтка. Ночь — словно бездонная пучина. Я закрываю
глаза. Черезъ часъ чувства мои начинаютъ колебаться въ
опредѣленномъ ритмѣ, я звучу въ унисонъ съ безграничной
тишиной, звучу въ унисонъ. Я смотрю на мѣсяцъ, онъ стоитъ
на небѣ, какъ бѣлая скорлупка, и мнѣ кажется, что я люблю
его, чувствую, какъ я краснѣю. „Это мѣсяцъ,- говорю я тихо
и страстно—это мѣсяцъ!" И сердце мое рвется къ нему сла-
быми толчками. Такъ продолжается нѣсколько минутъ. Лег-
кое дуновеніе, незнакомый вѣтеръ доносится до меня, какое-то
странное движеніе воздуха. Что это? Я оглядываюсь и никого
228
не вижу. Вѣтеръ зоветъ меня, и душа моя съ готовностью
склоняется на призывъ. Я чувствую, какъ меня поднимаетъ,
словно я отдѣляюсь отъ себя самого, прижимаетъ къ чьей-то
невидимой груди. Глаза мои влажны, я трепещу,—Богъ стоитъ
невдалекѣ и смотритъ на меня. Это длится тоже нѣсколько
минутъ. Я поворачиваю голову. Невѣдомое дуновеніе исче-
заетъ, и я вижу нѣчто въ родѣ спины духа, беззвучно уда-
ляющагося вглубь лѣса...
Нѣсколько минутъ я борюсь съ тяжелымъ оцѣпенѣніемъ.
Я изнемогъ отъ душевнаго потрясенія, испытываю смертель-
ную усталость и засыпаю.
К. Гамсунъ.
8 і I е п і і и т.
Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои!
Пускай въ душевной глубинѣ
И всходятъ и зайдутъ онѣ,
Какъ звѣзды ясныя въ ночи:
Любуйся ими и молчи.
Какъ сердцу высказать себя?
Другому какъ понять тебя?
Пойметъ ли онъ, чѣмъ ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая возмутишь ключи:
Питайся ими и молчи!
Лишь жить въ самомъ себѣ умѣй!
Есть цѣлый міръ въ душѣ твоей
Таинственно волшебныхъ думъ;
Ихъ заглушитъ наружный шумъ,
Дневные ослѣпятъ лучи:
Внимай ихъ пѣнью и молчи.
Ѳ. Тютчевъ.
229
Странное сказаніе.
Одна дѣвушка была заключена въ башню съ крѣпкими
стѣнами. Она любила знатнаго человѣка. Почему? Спроси вѣ-
теръ и звѣзды, спроси бога жизни ибо никто другой не
знаетъ этого. А знатный человѣкъ былъ ея другомъ и воз-
любленнымъ; но время шло, и въ одинъ прекрасный день онъ
увидалъ другую, и чувства его измѣнились.
Какъ юноша любилъ онъ свою дѣвушку. Часто называлъ
онъ ее своимъ благословеніемъ и своей голубкой, и у нея
было горячее сердце и волнующаяся грудь. Онъ сказалъ:
Отдай мнѣ твое сердце! И она это сдѣлала... Она отдала ему
все, а онъ даже не поблагодарилъ ее.
Другую онъ любилъ, какъ рабъ, какъ безумецъ и какъ
нищій. Почему? Спроси пыль на дорогѣ и листья, которые
опадаютъ, спроси загадочнаго бога жизни; ибо никто другой
не знаетъ этого. Она ничего не дала ему, нѣтъ, ничего не
дала, и онъ все-таки благодарилъ ее. Она сказала: Отдай мнѣ
твой душевный покой и разумъ! И онъ скорбѣлъ лишь о
томъ, что она не попросила у него жизни.
А его дѣвушку заключили въ башню...
Что ты дѣлаешь, дѣвушка? Ты сидишь и улыбаешься?
Я думаю о томъ, что было десять лѣтъ тому назадъ.
Тогда я встрѣтила его.
Ты еще помнишь его?
Да, я его еще помню.
А время идетъ...
Что ты дѣлаешь, дѣвушка? И почему ты улыбаешься?
Я вышиваю его имя на платкѣ.
Чье имя? Того, кто заключилъ тебя здѣсь?
Да, того, кого я встрѣтила двадцать лѣтъ тому назадъ.
230
Ты все еще его помнишь?
Я помню его, какъ прежде.
А время идетъ...
Что ты дѣлаешь, узница?
Я старѣю, зрѣніе мое слабѣетъ, и я не могу больше шить,
я выскребаю известь изъ стѣны. Изъ извести я вылѣплю
кувшинъ для него, это будетъ маленькій даръ отъ меня.
О комъ ты говоришь?
О своемъ возлюбленномъ, который заключилъ меня въ
башню.
И ты улыбаешься тому, что онъ заперъ тебя здѣсь?
Я думаю о томъ, что онъ теперь скажетъ. Посмотри-ка,
скажетъ онъ, моя дѣвушка прислала мнѣ кувшинчикъ, она не
забыла меня за эти тридцать лѣтъ.
А время идетъ...
Что съ тобой, узница? Ты сидишь и ничего не дѣлаешь
и ты улыбаешься?
Я старѣю, старѣю, глаза мои ослѣпли, и я только
думаю...
О немъ, о томъ, кого ты встрѣтила сорокъ лѣтъ тому
назадъ?
О томъ, кого я встрѣтила, когда была молода. Быть-
можетъ, это было сорокъ лѣтъ тому назадъ.
Но развѣ ты не знаешь, что онъ умеръ? Ты блѣднѣешь,
старая, ты ничего не отвѣчаешь, твои губы побѣлѣли, ты не
дышишь больше... К. Гамсунъ.
М. Благовѣщенская.
Кольцо.
Я видѣлъ разъ въ одномъ обществѣ влюбленную моло-
дую женщину. Ея глаза отъ того еще больше поголубѣли и
еще болѣе было въ нихъ блеска, и она никакъ не могла
скрывать своихъ чувствъ. Кого она любила? Вонъ того мо-
231
лодого господина, что у окна, хозяйскаго сына, человѣка въ
мундирѣ и съ львинымъ голосомъ. И, Боже мой, съ какой
любовью ея глаза смотрѣли на молодого человѣка, и какъ
неспокойно она сидѣла!
Я зналъ ее очень хорошо, и когда мы возвращались
ночью домой, я сказалъ ей:
— Какая ясная и великолѣпная погода! Веселилась ты
нынче вечеромъ?—И чтобы итти навстрѣчу ея желанію, я
снялъ свое обручальное кольцо и продолжалъ:
— Посмотри, твое кольцо сдѣлалось мнѣ слишкомъ узко,
оно жметъ мнѣ. Что если бъ ты отдала его сдѣлать пошире?
Она протянула руку и прошептала:
— Дай мнѣ его, я велю сдѣлать его пошире.
И я отдалъ ей кольцо.
Мѣсяцъ спустя я встрѣчаю ее опять. Я хотѣлъ спросить
о кольцѣ, но не сдѣлалъ этого. „Не къ спѣху,—подумалъ я,—
пусть пройдетъ побольше мѣсяца".
И вотъ она смотритъ вдоль по улицѣ и говоритъ: „Ахъ,
да, относительно кольца! Какое-то несчастье мнѣ съ нимъ, я
положила его куда-то, я его потеряла". И ждетъ моего от-
вѣта. „Ты не сердишься?" спрашиваетъ она съ безпокой-
ствомъ.
— Нѣтъ,—отвѣчалъ я.
И Боже мой, съ какимъ легкимъ сердцемъ ушла она,
такъ какъ я не сердился па нее за это!
И вотъ прошелъ цѣлый годъ. Я снова былъ на старомъ
пепелищѣ и бродилъ какъ-то вечеромъ по знакомой, знако-
мой дорогѣ.
Вдругъ она идетъ ко мнѣ навстрѣчу, и у ней глаза еще
и еще болѣе поголубѣли и еще, еще болѣе было въ нихъ
232
блеска, но ея ротъ какъ-то увеличился и губы ея по-
блѣднѣли.
— Вотъ твое кольцо,—воскликнула она,—твое обручаль-
ное кольцо. Я нашла его снова, мой милый, и отдала его
сдѣлать пошире. Теперь оно не будетъ жать тебѣ.
Я посмотрѣлъ на покинутую женщину и на ея большой
ротъ и блѣдныя губы. Посмотрѣлъ также и на кольцо.
— Ахъ!—сказалъ я и поклонился низко-пренизко:—что за
несчастье у насъ съ кольцомъ. Теперь оно стало мнѣ слишкомъ
просторно.
Кнутъ Гамсунъ.
С. Поляковъ.
У меня для тебя столько ласковыхъ словъ и созвучій,
Ихъ одинъ только я для тебя могъ придумать, любя
Ихъ пѣвучей волной, то нежданно—крутой, то ползучей,—
Хочешь, я заласкаю тебя?
У меня для тебя столько есть прихотливыхъ сравненій,
Но возможно ль твою уловить хоть мгновенно красу?
У меня есть причудливый міръ серебристыхъ видѣній—
Хочешь, къ нимъ я тебя унесу?
Видишь, сколько любви въ этомъ нѣжномъ, взволнованномъ взорѣ.
Я такъ долго таилъ, какъ тебя я любилъ и люблю.
У меня для тебя поцѣлуевъ дрожащее море,—
Хочешь, въ немъ я тебя утоплю?
В. Гофманъ.
Башня любви.
Мнѣ грустно оттого, что мы съ тобой не двое,
Что мѣсяцъ, гость небесъ, заглянетъ къ намъ въ окно,
Что грохотъ города нарушитъ все ночное,
И будетъ счастье тьмы межъ зорь заключено.
Мнѣ грустно оттого, что завтра ты съ другими
Смѣшаешься въ одной вскипающей волнѣ,
233
И будешь между нихъ, и будешь вмѣстѣ съ ними,
И хоть на краткій мигъ забудешь обо мнѣ.
О, если бъ быть вдвоемъ въ высокой, узкой башнѣ,
Гдѣ лампъ кровавыхъ свѣтъ затепленъ навсегда,
Гдѣ вѣчно—только ночь, какъ завтра—день вчерашній,
И гдѣ-то безъ конца шумитъ, шумитъ вода.
Отторгнуты отъ всѣхъ, отъяты отъ вселенной,
Мы были бъ лишь вдвоемъ, я—твой, ты—для меня,
Мы были бъ какъ цари надъ вѣчностью мгновенной,
И годъ смѣнялъ бы годъ, какъ продолженье дня.
В. Брюсовъ.
Зеленый Шудоъ.
Идетъ-гудетъ Зеленый Шумъ,
Зеленый Шумъ, весенній шумъ!
Играючи расходится
Вдругъ вѣтеръ верховой:
Качнетъ кусты ольховые,
Подниметъ пыль цвѣточную,
Какъ облако: все зелено,
И воздухъ, и вода!
Идетъ-гудетъ Зеленый Шумъ,
Зеленый Шумъ, весенній шумъ!
Скромна моя хозяюшка
Наталья Патрикѣевна,
Воды не замутитъ!
Да съ ней бѣда случилася,
Какъ лѣто жилъ я въ Питерѣ...
Сама сказала, глупая,
Типунъ ей на языкъ!
Въ избѣ самъ-другъ съ обманщицей
Зима насъ заперла,
Въ мон глаза суровые
Гляди гъ-молчитъ жена.
Молчу... а дума лютая
234
Покоя не даетъ:
Убить... такъ жаль сердечную!
Стерпѣть—такъ силы нѣтъ!
А тутъ зима косматая
Реветъ и день и ночь:
„Убей, убей измѣнницу!
„Злодѣя изведи!
„Не то весь вѣкъ промаешься,
„Ни днемъ, ни долгой ноченькой
„Покоя не найдешь.
„Въ глаза твои безстыжіе
„Сосѣди наплюютъ!.."
Подъ пѣсню—вьюгу зимнюю
Окрѣпла дума лютая—
Припасъ я вострый ножъ...
Да вдругъ весна подкралася...
Идетъ-гудетъ Зеленый Шумъ,
Зеленый Шумъ, весенній шумъ!
Какъ молокомъ облитые,
Стоятъ сады вишневые,
Тихохонько шумятъ;
Пригрѣты теплымъ солнышкомъ,
Шумятъ повеселѣлые
Сосновые лѣса;
А рядомъ новой зеленью
Лепечутъ пѣсню новую
И липа блѣднолистая,
И бѣлая березонька
Съ зеленою косой!
Шумитъ тростинка малая,
Шумитъ высокій кленъ...
Шумятъ они по-новому,
По-новому, весеннему...
Идетъ-гудетъ Зеленый Шумъ,
Зеленый Шумъ, весенній шумъ!
235
Слабѣетъ дума лютая,
Ножъ валится изъ рукъ,
И все мнѣ пѣсня слышится
Одна—въ лѣсу, въ лугу;
„Люби покуда любится,
Терпи покуда терпится,
Прощай, пока прощается,
И—Богъ тебѣ судья!"
Н. Некрасовъ.
Ожиданіе.
Кто-то стучится въ окно:
Буря ли, сучья ль ракитъ?
Въ звукахъ текущихъ ровно,—
Топотъ поспѣшныхъ копытъ.
Хижина наша мала,
Некуда гостю пройти,
Ночи зловѣщая мгла
Звѣремъ лежитъ на пути.
Кто онъ? Сѣдой пилигримъ?
Смерти ль костлявая тѣнь?
Или съ мечомъ серафимъ,
Въ ризахъ огнистыхъ, какъ день?
Никнутъ ракиты, шурша,
Топотъ, какъ буря растетъ,
Встань, пробудися душа—
Свѣтлый ѣздокъ у воротъ.
Н. Клюевъ.
Степь.
{Отрывокъ.)
Въ іюльскіе вечера и ночи не кричатъ перепела и ко-
ростели, не поютъ въ лѣсныхъ балочкахъ соловьи, не пахнетъ
цвѣтами, но степь все еше прекрасна и полна жизни. Едва
236
зайдетъ солнце, и землю окутаетъ мгла, какъ дневная тоска
забыта, все прощено, и степь легко вздыхаетъ широкой
Ѵгрудыо. Какъ будто оттого, что травѣ не видно въ потемкахъ
своей старости, въ ней поднимается веселая, молодая трескот-
няѴкакой не бываетъ днемъ; трескъ^ подсвистываньеуцара-
паньеу степные басы^тёнора, и дисканты — все сливается въ
непрерывный, монотонный гулъ, подъ который хорошо вспо-
минать и грустить.
Однообразная трескотня убаюкиваетъ, какъ колыбельная
пѣсня; ѣдешь и чувствуешь, что засыпаешь, но вотъ откуда-
то доносится отрывистый, тревожный звукъ, похожій на чей-
то голосъ, въ родѣ удивленнаго „а-а!“—и дремота опускаетъ
вѣки. А то, бывало, ѣдешь мимо балочки, гдѣ есть кусты, и
слышишь, какъ птица, которую степняки зовутъ сплюкомъ,
кому-то кричитъ: „сплю! сплю! сплю!", а другая хохочетъ
или заливается истерическимъ плачемъ—это сова. Для кого
онѣ кричатъ, и кто ихъ слушаетъ на этой равнинѣ,—Богъ ихъ
знаетъ, но въ крикѣ ихъ много грусти и жалобы... -+~
Пахнетъ сѣномъ,^высушенной травой^и"запоздалыми цвѣ-
тами^ Ію запахъ густъ, сладко-приторенъ и нѣженъ. Сквозь
мглу видно все, но трудно разобрать цвѣтъ и очертанія
предметовъ.
Все представляется не тѣмъ, что оно есть.
Ъдешь ишдругъ видишь, впереди у самой дороги стоитъ
силуэтъ, похожій на монаха; онъ не шевелитсяяждетъѴи что-
то держитъвъ рукакъ^т-Не разбойникъ ли это? Фигура при-
ближаетсяіЗрастетъм вотъ она поравнялась съ бричкой, и вы
видите, что это не человѣкъ, а одинокій кустъ или большой
камень. Такія неподвижныя, кого-то поджидающія фигуры
стоятъ на холмахъ, прячутся за курганами, выглядываютъ изъ
бурьяна, и всѣ онѣ походятъ на людей и внушаютъ подозрѣніе..
А когда восходитъ луна, ночь становится блѣдной и
томной. Мглы какъ не бывало. Воздухъ прозраченъ, свѣжъ
237
и тепелъ, всюду хорошо видно, и даже можно различить у
дороги отдѣльные стебли бурьяна.
На далекое пространство видны черепа и камни. Подо-
зрительныя фигуры, похожія на монаховъ, на свѣтломъ фонѣ
ночи кажутся чернѣе и смотрятъ угрюмѣе. Чаще и чаще
среди монотонной трескотни, тревожа неподвижный воздухъ,
раздается чье-то удивленное „а-а!“, и слышится крикъ не
уснувшей или бредящей птицы. Широкія тѣни ходятъ по
равнинѣ, какъ облака по небу, а въ непонятной дали, если
долго всматриваться въ нее, вьются и громоздятся другъ на
друга туманные, причудливые образы. Немножко жутко.
А взглянешь на блѣдно-зеленое, усыпанное звѣздами
небо, на которомъ ни облачка ни пятна, и поймешь, почему
природа насторожѣ и боится шевельнуться: ей жутко и
жаль утерять хоть одно мгновеніе жизни. О необъятной глу-
бинѣ и безграничности неба можно судить только на морѣ
да въ степи ночью, когда свѣтитъ луна. Оно страшно, кра-
сиво и ласково, глядитъ томно и манитъ къ себѣ, а отъ
ласки его кружится голова. Ъдешь часъ—другой... Попадается
на пути молчаливый старикъ-курганъ или каменная баба, по-
ставленная Богъ вѣдаетъ кѣмъ и когда, безшумно пролетитъ
надъ землею ночная птица, и мало-по-малу на память прихо-
дятъ степныя легенды, разсказы встрѣчныхъ, сказки няньки-
степнячки, и все то, что самъ сумѣлъ увидѣть и постичь
душой. И тогда въ трескотнѣ насѣкомыхъ, въ подозритель-
ныхъ фигурахъ и курганахъ, въ голубомъ небѣ, въ лунномъ
свѣтѣ, въ полетѣ ночной птицы, во всемъ, что видишь и
слышишь, начинаютъ чудиться торжество красоты, молодость,
расцвѣтъ силъ и страстная жажда жизни; душа даетъ откликъ
прекрасной, суровой родинѣ, и хочется летѣть надъ степью
вмѣстѣ съ ночной птицей. И въ торжествѣ красоты, въ
излишкѣ счастья чувствуешь напряженіе и тоску, какъ будто
степь сознаетъ, что она одинока, что богатство ея и вдохно-
238
веніе гибнутъ даромъ для міра, никѣмъ не воспѣтыя и ни-
кому ненужныя, и сквозь радостный гулъ слышишь ея то-
скливый, безнадежный призывъ: пѣвца! пѣвца!
А. Чеховъ.
Къ родин іь.
Въ морозной мглѣ, какъ око сычье,
Луна-дозорщица глядитъ,
Какое свѣтлое величье,
Въ природѣ мертвенной сквозитъ.
Какъ будто въ полѣ, мглой объятомъ,
Для правыхъ подвиговъ и силъ,
Подъ сребротканымъ, снѣжнымъ платомъ,
Прекрасный витязь опочилъ.
О, кто ты родина? Старуха?
Иль властноокая жена?
Для поэтическаго слуха,
Ты полнозвучна и ясна.
Твои черты январь-волшебникъ
Туманитъ вьюгой снѣговой,
И схимникъ-боръ читаетъ требникъ,
Какъ надъ умершею тобой.
Но ты во вѣкъ неуязвима,
Для смерти яростныхъ зубовъ,
Какъ мать, какъ женщина любима,
Семьей отверженныхъ сыновъ.
На ихъ любовь въ плѣну угрюмомъ,
На воли пламенный недугъ,
Ты отвѣчаешь бора шумомъ,
Мерцаньемъ звѣздъ да свистомъ вьюгъ.
О, изреки: какія боли,
Ярмо какое изнести,
Чтобъ въ тайники твоихъ раздолій
Открылись торные пути?
239
Чтобъ, неизбывная доселѣ,
Родная сгинула тоска,
И легкозвоннѣе метели,
Слетала пѣсня съ языка?
Н. Клюевъ.
Ліьсная быль.
Въ красовитый лѣтній праздничекъ,
На раскатъ-широкой улицѣ,
Будетъ гульное-гуляньице—
Пиръ—мірское столованьице.
Какъ у дѣвушекъ согрѣвушекъ
Будутъ поднизи плетеныя,
Сарафаны золоченые.
У дородныхъ добрыхъ молодцевъ,—
Мигачей и залихватчиковъ,
Перелетныхъ зоркихъ кречетовъ,
Будутъ шапки съ кистью до уха,
Опояски соловецкія
Изъ семи шелковъ плетеныя.
Только я, млада, на гульбище
Выйду въ старо-старомъ рубищѣ,
Нищемъ, лыкомъ опоясана...
Сгомонятся красны дѣвушки—
Бѣлолицыя согрѣвушки,
Какъ отъ торопа повальнаго
Отшатятся на сторонушку.
Парни ражіе, удалые
За куветы встанутъ талые.
Притулятся па завалины
Старики, ребята малые—
Диво-дивное увидючи,
Промежду себя толкуючи:
Чья здѣсь вѣдьма захудалая
Ходитъ въ землю носомъ клюючи?
Ужъ не горе ли голодное,
240
Лихо злое, подколодное,
Забѣжало частой рощею,
Корбой темною, дремучею,—
Черезъ лягу—грязь топучую,
Во селенье домовитое
На гулянье круговитое?
У насъ время не догуляно,
Зелено вино не допито,
Дѣвицы не доцѣлованы,
Молодцы не долюбованы,
Сладки пряники не съѣдены,
Серебрушки не домѣнены...
Тутъ я голосомъ, какъ молотомъ
Выбью звоны колокольные:
Не дарите меня золотомъ,
Только слухайте крещеные:
Мнѣ не спалось ночкой синею
Передъ Спасовой заутреней,
Вышла къ озеру по инею,
По росѣ медвянной утренней.
Стала озеро выспрашивать,
Оно стало мнѣ разсказывать
Тайну тихую поддонную
Про святую Русь крещеную.
Отъ озерной прибауточки,
Водяной потайной басенки,
Понабережье насупилось,
Пѣной саваномъ окуталось.
Тучка сизая проплакала—
Зернью горькою прокапала,
Рыба въ заводяхъ повытухла,
На лугахъ трава повызябла...
Я повѣдаю на гульбищѣ
Праздничанамъ-залихватчикамъ,
Что мнѣ видѣлось въ озерышкѣ
Во глуби на самомъ донышкѣ.
241
Школа чтеца.
1*5
Изъ конца въ конецъ я видѣла
Царство бѣлое, кручинное
Все столбами огорожено...
Оттого въ завѣтный праздничекъ,
На широкое гуляньице,
Выйду я, млада, непутною,
Стану вотдаль немогутною
Какъ кручинная кручинушка,
Та пугливая осинушка,
Что шумитъ-поетъ по осени
Пѣсню жалкую свирѣльную,
Ронитъ листья—слезы желтыя
На могилу безымянную.
Н. Клюевъ.
Ніьтъ больше шьсенъ!
Нѣтъ больше пѣсенъ—нѣтъ! Къ чему стремленье?
Отъ старика искусство прочь бѣжитъ.
У новичка моложе вдохновенье
И бойкій стихъ онъ ловче закруглитъ.
Когда съ душой своей предъ небесами
Я говорю одинъ въ тиши лѣсовъ,
Мнѣ вторитъ эхо прозой, не стихами—
Богъ не даетъ мнѣ болѣе стиховъ.
Богъ не даетъ! Какъ осенью суровой
Поселянинъ въ свой темный садъ придетъ,
И дерево сто разъ осмотритъ снова:
Авось на немъ виситъ забытый плодъ,—
Такъ я ищу, такъ я тревожусь нынѣ—
Но дерево мертво отъ холодовъ...
О, сколькихъ нѣтъ плодовъ въ моей корзинѣ!
Богъ не даетъ мнѣ болѣе стиховъ.
242
Богъ не даетъ! Но все въ душѣ тревога;
Тебя, народъ, запуганный въ борьбѣ,
Поднять хочу и слышу голосъ Бога:
Народъ, проснись! Вѣнецъ готовъ тебѣ.
Когда жъ въ душѣ почувствовавъ отвагу
Я пѣть хочу—и сбросивъ гнетъ годовъ,
Народъ — Дофинъ! вести тебя ко благу,—
Богъ не даетъ мнѣ болѣе стиховъ.
Беранже.
В. Курочкинъ.
Задняя дорога.
Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальныя поляны
Льетъ печально свѣтъ она.
По дорогѣ зимней скучной,
Тройка борзая бѣжитъ.
Колокольчикъ однозвучный
Утомительно гремитъ.
Что-то слышится родное
Въ долгихъ пѣсняхъ ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска...
Ни огня, ни черной хаты...
Глушь и снѣгъ... Навстрѣчу мнѣ
Только версты полосаты
Попадаются однѣ.
Скучно, грустно... Завтра, Нина,
Завтра къ милой возвратясь,
Я забудусь у камина,
Загляжусь, не наглядясь.
Звучно стрѣлка часовая
Мѣрный кругъ свой совершитъ,
И, докучныхъ удаляя,
Полночь насъ не разлучитъ.
243
16
Грустно, Нина; путь мой скученъ,
Дремля смолкнулъ мой ямщикъ,
Колокольчикъ однозвученъ,
Отуманенъ лунный ликъ.
Пушкинъ.
Хандра.
Бываютъ дни, когда душа пуста:
Ни мыслей нѣтъ, ни чувствъ, молчатъ уста,
Равно печаль и радости постылы,
И въ тѣлѣ лѣнь и двигаться нѣтъ силы.
Напрасно ищешь чѣмъ бы умъ занять—
Противно видѣть, слышать, понимать,
И только безконечно давитъ скука,
И кажется, что жить такая мука!
Куда бѣжать? чѣмъ облегчить бы грудь?
Вотъ ночи ждешь — въ постель! скорѣй заснуть!
И хорошо, что стало все беззвучно...
А сонъ нейдетъ, а тьма томитъ докучно!
Н. Огаревъ.
Сосна.
На сѣверѣ дикомъ стоитъ одиноко
На голой вершинѣ сосна,
И дремлетъ, качаясь, и снѣгомъ сыпучимъ
Одѣта, какъ ризой, она.
И снится ей все, что въ пустынѣ далекой,
Въ томъ краѣ, гдѣ солнца восходъ,
Одна и грустна на утесѣ горючемъ
Прекрасная пальма растетъ.
Г. Гейне.
М. Лермонтовъ.
244
Даръ напрасный, даръ случайной ')•
(26 Мая 1828).
Даръ напрасный, даръ случайный,
Жизнь, зачѣмъ ты мнѣ дана?
Иль зачѣмъ судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Изъ ничтожества воззвалъ,
Душу мнѣ наполнилъ страстью,
Умъ сомнѣньемъ взволновалъ?..
Цѣли нѣтъ передо мною:
Сердце пусто, празденъ умъ,
И томитъ меня тоскою
Однозвучный жизни шумъ.
Пушкинъ.
Минувшіе дни.
Какъ тѣнь дорогая умершаго друга—
Минувшіе дни.
Цвѣты—невозвратно отцвѣтшаго луга,
Мечты—чьи навѣки угасли огни,
Любовь — съ беззавѣтною жаждой другъ друга —
Минувшіе дни.
Насъ нѣжно ласкали тогда сновидѣнья,
Минувшіе дни.
Была ли въ нихъ радость, иль было мученье,
Намъ были такъ сладко желанны они,
Мы ждали еще, о, еще упоенья,
Въ минувшіе дни.
Намъ грустно, намъ больно, когда вспоминаемъ
Минувшіе дни.
*.) Написано въ день рожденія поэта.
245
И какъ надъ трупомъ ребенка рыдаемъ,
И мукѣ сказать не умѣемъ: „Усни",
Такъ въ скорбную мы красоту обращаемъ
Минувшіе дни.
П. Шелли.
К. Бальмонтъ.
Еврейская мелодія.
Душа моя мрачна. Скорѣй, пѣвецъ, скорѣй!
Вотъ арфа золотая:
Пускай персты твои, промчавшися по ней,
Пробудятъ въ струнахъ звуки рая.
И если не навѣкъ надежды рокъ унесъ,
Онѣ въ груди моей проснутся,
И если есть въ очахъ застывшихъ капля слезъ—
Онѣ растаютъ и прольются.
Пусть будетъ пѣснь твоя дика... Какъ мой вѣнецъ,
Мнѣ тягостны веселья звуки!
Я говорю тебѣ: я слезъ хочу, пѣвецъ,
Иль разорвется грудь отъ муки,
Страданьями была упитана она,
Томилась долго и безмолвно;
И грозный часъ насталъ—теперь она полна,
Какъ кубокъ смерти, яда полный!
Байронъ.
М. Лермонтовъ..
Люблю блуждать я надъ трясиной...
Люблю блуждать я надъ трясиной
Дрожащимъ огонькомъ,
Люблю за липкой паутиной
Таиться паукомъ,
Люблю летать я въ полѣ оводомъ
И жалить лошадей.
Люблю быть явнымъ, тайнымъ поводомъ
246
Къ мученію людей.
Я злой, больной, безумно-мстительный,
За то томлюсь я самъ.
Мой тихій стонъ, мой вопль медлительный,-
Упреки небесамъ.
Судьба дала мнѣ плоть растлѣнную,
Отравленную кровь.
Я возлюбилъ мечтою плѣнною
Безумную любовь.
Мои порочныя томленія,
Все то, чѣмъ я прельщенъ,—
Въ могучихъ чарахъ навожденія
Многообразный сонъ.
Но онъ томитъ больной обидою.
Итти путемъ однимъ
Мнѣ тѣсно. Всѣмъ во всемъ завидую,
И стать хочу инымъ.
Ѳ. Сологубъ.
У з е до л и.
Помоги мнѣ, мать земля!
Съ тишиной меня сосватай!
Глыбы черныя дѣля,
Я стучусь къ тебѣ лопатой.
Ты всему живому—мать,
Ты всему живому—сваха!
Перстень свадебный сыскать
Помоги мнѣ въ комьяхъ праха!
Мать, мольбу мою услышь,
Осчастливь послѣднимъ бракомъ!
Ты вѣнчаешь съ вѣтромъ тишь,
Лугъ съ росой, зорю со мракомъ.
Помоги сыскать кольцо!..
Я объ немъ безъ слезъ тоскую
И, упавъ, твое лицо
Въ губы черныя цѣлую.
247
Я тебя чуждался, мать,
На асфальтахъ, на гранитахъ...
Хорошо мнѣ здѣсь лежать
На грядахъ недавно взрытыхъ.
Я—твой сынъ, я—тоже прахъ,
Я—какъ ты,—звено созданій.
Такъ откуда—страсть и страхъ,
И безсонный бредъ исканій?
Въ синевѣ плыветъ весна,
Вѣтеръ вольно носитъ шумы...
І'дѣ ты дѣва-тишина,
Жизнь безъ жажды и безъ думы!..
Помоги мнѣ, мать! Къ тебѣ
Я стучусь съ послѣдней силой!
Или ты, въ отвѣтъ мольбѣ,
Обручишь меня съ могилой?
В. Брюсовъ
♦ *
*
Въ голубой далекой спаленкѣ
Твой ребенокъ опочилъ.
Тихо вылѣзъ карликъ маленькій
И часы остановилъ.
Все, какъ было. Только странная
Воцарилась тишина.
И въ окнѣ твоемъ — туманная
Только улица страшна,
И прошла ты, сонно-бѣлая,
Вдоль по комнатамъ одна.
Опустила, вся несмѣлая,
Штору синяго окна.
И потомъ, едва замѣтная,
Тонкій пологъ подняла.
И, какъ время, безразсвѣтная,
Шевелясь, поникла мгла.
248
Стало тихо въ дальней спаленкѣ—
Синій сумракъ и покой,
Оттого, что карликъ маленькій
Держитъ маятникъ рукой.
Александръ Блокъ.
Часы.
Въ старинномъ замкѣ скребутся мыши;
Въ старинномъ замкѣ, гдѣ много книгъ,
Гдѣ легкій шорохъ такъ чутко слышенъ,
Въ ливреѣ спитъ лакей старикъ.
Въ старинномъ замкѣ больна царевна,
Въ подушкахъ бѣлыхъ, прозрачнѣй льда...
И только слышно на башнѣ древней
Стучатъ часы: всегда... всегда...
А у камина сидятъ старушки
И что-то шепчутъ, чего-то ждутъ.
Царевнѣ плечи томятъ подушки...
Часы стучатъ: „мы тутъ... мы тутъ"...
И смерть на башнѣ рукой костлявой,
Какъ минетъ время, о доску бьетъ;
И гулко въ сводахъ, и смѣхъ гнусавый
Изъ тьмы сырой дрожитъ, зоветъ...
Во время звона царевнѣ страшно:
Придетъ за ней нѣмой звонарь.
И снова тихо на древней башнѣ;
Шагаетъ смерть, прикрывъ фонарь.
Гр. А. Н. Толстой.
Болото.
Прерывистыя строки.
На версты и версты протянулось болото,
Поросшее зеленой обманною травой.
Каждый мигъ въ немъ шепчетъ, словно плачетъ кто-то,
Какъ будто безнадежно тоскуетъ надъ собой.
249
На версты и версты шелестящая осока,
Незабудки, кувшинки, кувшинки, камыши
Болото раскинулось властно и широко,
Шепчутся стебли въ изумрудной тиши.
На самомъ зеленомъ изумрудномъ мѣстѣ
Кто-то когда-то погибъ навсегда.
Шелъ женихъ влюбленный къ любящей невѣстѣ,
Болото заманило, въ болотѣ нѣтъ слѣда.
И многихъ манитъ къ обманнымъ изумрудамъ,
Каждому хочется надъ бездонностью побыть.
Каждый, утомившись, ярко грезитъ чудомъ,
И только тотъ живетъ, кто можетъ все забыть.
О, какъ грустно шепчутъ камыши безъ счета,
Шелестящими шуршащими стеблями говорятъ.
Болото, болото, ты мнѣ нравишься, болото,
Я вѣрю, что божествененъ предсмертный взглядъ.
К. Бальмонтъ.
Злая ночь.
Нѣтъ, Ночь! Когда душа, мечтая,
Еще невинно молодая,
Блуждала—явное любя,
Казалось мнѣ, что ты—святая,
Но блекнутъ чары, отпадая,—
Старуха, страшная, сѣдая,
Я отрекаюсь отъ тебя!
Ты вся — въ кошмарностяхъ, въ разорванныхъ мечтаньяхъ,
Въ стихійныхъ шорохахъ, въ лохмотьяхъ, въ бормотаньяхъ.
Шпіоновъ любишь ты, и шепчетъ съ Ночью рабъ,
Твои доносчики—шуршанья змѣй и жабъ.
Ты рѣчь окольную съ больной душой заводишь,
И по трясинамъ съ ней, и по тоскѣ съ ней бродишь.
Распространяешь чадъ, зловѣщій сонъ и тишь,
Луну ущербную и ту гасить спѣшишь.
230
Проклятіе душѣ, коли тебѣ повѣритъ,
Всѣ разстоянья Ночь рукою черной мѣритъ.
Рукою мертвою мѣшаетъ все, мутитъ,
Пугаетъ, мучаетъ, удавно шелеститъ.
Всю грязь душевную взмѣсивъ, какъ слизь въ болотѣ,
Въ Раскаянье ведетъ, велитъ хлестать Заботѣ.
Прикинется, что другъ, заманитъ въ разговоръ,
И скажешь тѣ слова, въ которыхъ—смерть, позоръ,
Незабываемо-ужасныя признанья,
Что ждали искры лишь, толчка, упоминанья,
Чтобы проснуться вдругъ, и, раны теребя,
Когтистой кошкою нависнуть на тебя.
Ты хочешь сбросить гнетъ, не чувствовать, не видѣть,
Но для существъ иныхъ, все въ томъ, чтобъ ненавидѣть.
Качаться страхами, силками изловить,
Дѣтоубійствовать, не отпускать, давить.
Что было точкою—гора, не опрокинешь,
И лапы чудища лежатъ, и ихъ не сдвинешь.
Глаза глядятъ въ глаза, ротъ близокъ, жаденъ... Прочь!
О, ненавистная, мучительная Ночь!
К. Бальмонтъ.
* *
*
Въ полѣ не видно ни зги,
Кто-то кричитъ:—помоги!
Какъ помогу?
Самъ я и бѣденъ и малъ,
Самъ я смертельно усталъ,
Какъ помогу?
Голосъ звучитъ въ тишинѣ:
Братъ мой, приблизься ко мнѣ,
Легче вдвоемъ.
Если не сможешь итти
Вмѣстѣ умремъ на пути,
Вмѣстѣ умремъ...
Ѳедоръ Сологубъ.
251
*
*
*
Пѣвучей думой обуянъ
Дремлю подъ жесткою дерюгой.
Я—королевичъ Ерусланъ
Въ пути за плѣнницей - подругой.
Мой конь подъ алымъ чепракомъ,
На мнѣ серебряныя латы...
А мать жужжитъ веретеномъ
Въ лучѣ осенняго заката.
Смежаютъ сумерки глаза,
На лихо жалуется прялка...
Дымится омутъ, спитъ лоза,
Въ осокѣ дѣвушка - русалка.
Она поетъ, манитъ на дно
Отъ нѣги яраго избытка...
Замри, судьбы веретено,
Порвись, тоскующая нитка!
Н. Клюевъ.
Въ просинь водъ заглядіьлися ивы...
Въ просинь водъ заглядѣлися ивы,
Словно въ зеркальце дѣвка-краса.
Убѣгаютъ дороги извивы,
Перелѣсковъ, лѣсовъ пояса.
На деревнѣ грачиныя стаи,
Бродитъ сонъ, волокнится дымокъ;
У плотины, гдѣ мшистыя сваи,
Нижетъ скатную зернь Солнцепекъ—
—Водяницѣ стожарную кику:
Самоцвѣтъ, зарянецъ, камень-зель.
Стародавнему вѣренъ навыку,
Прихожу на порѣчную мель.
Кличу дѣвушку съ русой косою,
Съ зыбкимъ голосомъ, съ вишеньемъ щекъ,
252
Ивы шепчутъ: „сегодня съ красою
Помѣнялся кольцомъ Солнцепекъ.
Подарилъ ее зарною кикой,
Заголубилъ въ рѣчномъ терему”...
Съ рощи тянетъ смолой, земляникой,
Даль и воды въ лазурномъ дыму.
Н. Клюевъ.
Двіь деолитвы жены человѣка.
Молитва въ молодости.
Господи Боже! Будь намъ милосерднымъ и добрымъ
отцомъ. Вѣдь у тебя такъ много всего: и хлѣба, и работы,
и денегъ.
Твоя земля такъ богата: она родитъ плоды и колосья на
полѣ, она покрываетъ цвѣтами луга, изъ темной глубины
своей шлетъ она людямъ золото и драгоцѣнные красивые
камни. И такъ много тепла у твоего солнца, и у твоихъ за-
думчивыхъ звѣздъ такъ много тихой радости.
Дай намъ немного изъ своей кошницы, совсѣмъ немного,
столько, сколько даешь ты птицамъ своимъ. Немного хлѣба,
чтобы не былъ голоденъ мой милый, хорошій мужъ. Немного
тепла, чтобы не было холодно ему, и немного работы, чтобы
поднялъ онъ гордо свою красивую голову. И, пожалуйста,
не гнѣвайся на моего мужа, что онъ такъ ругается, и смѣется,
и даже поетъ, заставляя меня танцовать: онъ такъ молодъ и
совершенно не серьезенъ.
Молитва въ старости.
— Боже, я прошу тебя, оставь жизнь моему сыну.
Только одно я понимаю, только одно могу я сказать,
только одно: „Боже, оставь жизнь моему сыну". Нѣтъ у меня
253
другихъ словъ, все темно вокругъ меня, все падаетъ, я ни-
чего не понимаю, и такой ужасъ у меня въ душѣ, Господи,
что только одно могу я сказать: „Боже, оставь жизнь моему
сыну! Оставь жизнь моему сыну! Оставь!" Прости, что такъ
плохо молюсь я, но я не могу, Господи, ты понимаешь, не
могу. Ты только посмотри на меня —видишь? Видишь, какъ
трясется голова, видишь, какъ трясутся руки, да что руки
мои, Господи! Пожалѣй его, вѣдь онъ такой молоденькій, у
него родинка на правой ручкѣ. Дай ему пожить хоть не-
множко, хоть немножко. Вѣдь онъ такой молоденькій, такой
глупый—онъ еще любитъ сладкое, и я купила ему винограду.
Пожалѣй, пожалѣй!
Леонидъ Андреевъ.
♦ *
*
Кончено. Нѣтъ ея. Время тревожное,
Время безсонныхъ ночей,
Трепетъ надежды, печаль безнадежная,
Страхъ и забота о ней;
Каждый уходъ за больной моей милою,
Думы и ночи и дня...
Кончено! Все это взято могилою;
Больше не нужно меня.
О, вспоминать, одинокій, я стану ли
Ночи послѣднихъ заботъ—
Сердце изъ бездны, куда онѣ канули,
Снова ихъ, плача, зоветъ,
Ночь бы одну еще скорбно-отрадную!
Я бы, склонясь на кровать,
Могъ поглядѣть на тебя, ненаглядную,
Руки твои цѣловать...
Другъ мой, сама ты помедлить желала бы,
Лишь бы я былъ близъ тебя,
Ты бы еще пострадала безъ жалобы,
Только пожить бы, любя.
254
Гдѣ жъ этотъ зобъ дорогого мнѣ голоса?
Взглядъ за услугу мою?
Взглядъ, когда ты уже съ смертью боролася,
Все говорившій:—люблю!
Эта любовь, эта ласка прощальная.
Глазъ этихъ добрыхъ привѣтъ...
Милая, кроткая, многострадальная,
Нѣтъ ихъ ужъ болѣе—нѣтъ!
А. Жемчужниковъ.
Плачъ вдовы.
Ужъ какъ сѣсть горюшѣ на бѣлую брусовую на лавочку
Ужъ ко своей-то милой любимой семеюшкѣ,
Ко своей-то милой вѣнчальной державушкѣ.
Ты послушай, моя любимая семеюшка:
Ужъ по сегодняшнему Господнему Божьему денечку,
Какъ по раннему утру утреному
Вдругъ заныло мое зяблое, ретивое сердечушко,
Вдругъ налетѣла малолетна мала птиченька,
Стрепенулась на крутомъ на складномъ сголовьицѣ:
„Ты долго спишь, вдова, сирота безпріютная!
„Какъ на раскатѣ горѣ, на высокой
„Тамъ разсаженъ садъ, виноградье зеленое,
„Тамъ построено теплое витое гнѣздышко,
„Тамъ складены теплыя кирпичныя печеньки,
„Тамъ прорублено свѣтлое косящато окошечко,
„Тамъ поставлены столы бѣлодубовы,
„Тамъ скипячены самоварчики луженые,
„Тамъ налиты чашечки фарфоровы,
„Тамъ дожидаетъ тебя милая любимая семеюшка."
Такъ ужъ будь проклята, малолетна мала птиченька!
Обманула меня, побѣдну вдову, горе горькое.
Какъ на той на могилочкѣ на умершей
Не поставлено дивно хоромно строеньице;
Тамъ повыросла только бѣлая березка кудрявая,
Тамъ не дожидаетъ меня милая вѣнчальная державушка:
Видно ужъ отпало желанье великое...
255
* *
*
Да ужъ какъ я подумаю вдова-сирота безпріютная:
Ужъ какъ порозольются быстрыя, струистыя рѣченьки,
Ужъ пробѣгутъ эти мелки, мелки ручееченьки,
Ужъ какъ порозольется славно широко озерушко,
Ужъ какъ повыйдутъ эти мелкіе бѣлые снѣжечеки,
Я проторю путь, торну широку дороженьку,
Я на раскатъ на гору, на широкую
Да ко той-то милой умершей семеюшкѣ.
Ужъ вы завійте тонкіе сильные вѣтрушки,
Ужъ разнесите эти мелкіе желтые песочики,
Расколись и эта нова гробова доска,
Расколитесь, распахнитесь бѣлы саваны,
Ужъ покажись моя милая любимая семеюшка!
Ужъ ты заговори со мной тайное единое словечушко,
Ужъ поразбавь, поразговори, самоцвѣтный лазуревый камешекъ.
Ужъ какъ придетъ темная зимняя ноченька,
Ужъ я заберу моихъ милыхъ сердечныхъ дѣтушекъ,
Ужъ какъ закутаю теплымъ собольимъ одѣялышкомъ,
Ужъ какъ погляжу на это умноженное стадо дѣтиное,
Пуще злѣе досаждаетъ, одоляетъ тоска кручина великая,
Погляжу я въ это свѣтло косящаго окошечко,
Какъ на эту раскатну гору на высокую:
Ужъ нейдетъ, не катится моя милая любимая семеюшка,
Ужъ видно такъ мнѣ проживать коротать свою молодость,
Не порой пройдетъ, да не времечкомъ,
А пройдетъ молодость горючими слезьми.
Вэпленница Олонец. губ. Запись М. Пришвина
„Какъ Дороши, какъ свіьжи были розьГ.
Гдѣ-то, когда-то, давно-давно тому назадъ я прочелъ одно
стихотвореніе. Оно скоро позабылось мною... Но первый стихъ
остался у меня въ памяти:
„Какъ хороши, какъ свѣжи были розы“...
256
Теперь зима; морозъ запушилъ стекла оконъ; въ темной
комнатѣ горитъ одна свѣча. Я сижу, забившись въ уголъ; а
въ головѣ все звенитъ да звенитъ:
„Какъ хороши, какъ свѣжи были розы"...
II вижу я себя передъ низкимъ окномъ загороднаго рус-
скаго дома. Лѣтній вечеръ тихо таетъ и переходитъ въ ночь,
въ тепломъ воздухѣ пахнетъ резедой и липой; — а на окнѣ,
опершись на выпрямленную руку и склонивъ голову къ плечу,
сидитъ дѣвушка—и безмолвно и пристально смотритъ на
небо, какъ бы выжидая появленія первыхъ звѣздъ. Какъ про-
стодушно вдохновенны задумчивые глаза, какъ трогательно-
невинны раскрытыя, вопрошающія губы, какъ ровно дышитъ
еще не вполнѣ расцвѣтшая, еще ничѣмъ не взволнованная
грудь, какъ чистъ и нѣженъ обликъ юнаго лица! Я не дер-
заю заговорить съ нею, но какъ она мнѣ дорога, какъ бьется
мое сердце!
„Какъ хороши, какъ свѣжи были розы“...
А въ комнатѣ все темнѣй да темнѣй... Нагорѣвшая свѣча
трещитъ, бѣглыя тѣни колеблются на низкомъ потолкѣ, мо-
розъ скрипитъ и злится за стѣною—и чудится скучный, стар-
ческій шопотъ...
„Какъ хороши, какъ свѣжи были розы“...
Встаютъ передо мною другіе образы... Слышится веселый
шумъ семейной, деревенской жизни. Двѣ русыя головки,
прислонясь другъ къ дружкѣ, бойко смотрятъ на меня своими
свѣтлыми глазками, алыя щеки трепещутъ сдержаннымъ смѣ-
хомъ, руки ласково сплелись, въ перебивку звучатъ молодые,
добрые голоса; а немного подальше, въ глубинѣ уютной ком-
наты, другія, тоже молодыя руки бѣгаютъ, путаясь пальцами,
по клавишамъ старенькаго піанино, и Ланнеровскій вальсъ не
можетъ заглушить воркотню патріархальнаго самовара...
„Какъ хороши, какъ свѣжи были розы“...
257
Школа чтеца.
17
Свѣча меркнетъ и гаснетъ... Кто это кашляетъ тамъ такъ
хрипло и глухо? Свернувшись въ калачикъ, жмется и вздра-
гиваетъ у ногъ моихъ старый песъ, мой единственный това-
рищъ... Мнѣ холодно... Я зябну... И всѣ онѣ умерли... умерли...
„Какъ хороши, какъ свѣжи были розы"...
И. Тургеневъ.
Пгьснь погибающаго пловца.
Вотъ мрачится
Сводъ лазурный,
Вотъ крутится
Вихорь бурный!
Вѣтръ свиститъ,
Громъ гремитъ;
Море стонетъ—
Путь далекъ...
Тонетъ, тонетъ
Мой челнокъ!..
Все чернѣе
Сводъ надзвѣздный;
Все страшнѣе
Воютъ бездны.
Глубь безъ дна—
Смерть вѣрна!
Какъ заклятый
Врагъ грозитъ,
Вотъ—девятый
Валъ бѣжитъ!..
Горе, горе!
Онъ настигнетъ:
Въ шумномъ морѣ
Челнъ погибнетъ...
Гробъ готовъ!..
Трескъ громовъ
Надъ пучиной
Ярыхъ водъ—
Вздохъ пустынный
Разнесетъ!..
Сокровенный
Сынъ природы,
Неизмѣнный
Другъ свободы —
Съ юныхъ лѣтъ
Въ море бѣдъ
Я направилъ
Быстрый бѣгъ
И оставилъ
Мирный брегъ.
На равнинахъ
Водъ зеркальныхъ,
На пучинахъ
Погребальныхъ
Я скользилъ;
Я шутилъ
Грозной влагой;
Смертный валъ
Я отвагой
Побѣждалъ.
Какъ минутный
Прахъ въ эфирѣ,
Безпріютный
Странникъ въ мірѣ
258
Одинокъ,
Какъ челнокъ,
Узъ любви
Я не зналъ,
Жаждой крови
Не сгоралъ.
Парусъ бѣлый
Перелетный;
Якорь смѣлый,
Беззаботный;
Тусклый лучъ
Изъ-за тучъ,
Проблескъ дали
Въ тьмѣ ночей—
Замѣняли мнѣ друзей.
Что жъ мнѣ въ жизни
Безызвѣстной?
Что въ отчизнѣ
Повсемѣстной?
Чѣмъ страшна
Мнѣ волна?
Пусть настигнетъ
Съ вѣчной мглой—
И погибнетъ
Трупъ живой!..
Все чернѣе
Сводъ надзвѣздный;
Все страшнѣе
Воютъ бездны.
Вѣтръ свиститъ,
Громъ гремитъ;
Море стонетъ—
Путь далекъ...
Тонетъ, тонетъ
Мой челнокъ!
А. Полежаевъ,
Театръ одной воли.
(Отрывокъ).
А почему же, однако, и не быть актеру, какъ маріонетка?
Для человѣка это не обидно. Таковъ незыблемый законъ
всемірной игры, чтобы человѣкъ былъ, какъ дивно устроен-
ная маріонетка. И нельзя ему уйти отъ этого, и даже нельзя
ему забыть это.
Настанетъ назначенный для каждаго часъ, и каждый изъ
насъ, зримо для всѣхъ, обратится въ неподвижную и безды-
ханную куклу, уже неспособную болѣе никакой исполнить
роли...
Вотъ она, кукла изжитая и уже никому ненужная, ле-
житъ на холстѣ для послѣдняго омовенія,—и руки у нея сло-
жены, какъ ихъ сложили, и ноги у нея протянуты, какъ ихъ
259
17*
протянули,—и глаза у нея закрыты, какъ ихъ закрыли,—бѣд-
ная маріонетка для одной только трагической игры! Оттуда
изъ-за кулисъ, кто-то равнодушный дергалъ тебя за незри-
мую веревочку, кто-то жестокій пыталъ тебя огненною мукой
страданія, кто-то злой пыталъ тебя блѣдными ужасами нена-
вистной жизни, къ кому-то безлошадному обращала ты въ
предсмертномъ томленіи тоскующіе взоры. А здѣсь, въ пар-
терѣ, кого-то забавляли твои неловкія движенія,—подъ подер-
гиванія страшной веревочки, — твои сбивчивыя слова,—такъ
тихо подсказывалъ притаившійся суфлеръ,—и твои ненужныя
слезы, и твой одинокій, какъ и слезы, жалкій смѣхъ. До-
вольно,—всѣ слова твоей роли какъ-нибудь сказаны, всѣ ре-
марки исполнены довольно точно,—сматывается веревочка,—
и напрасно твои изсохнувшія губы хотятъ сказать новое
слово, — разомкнулись, сомкнулись механически,—и затихли
навѣки. Спрячутъ, зароютъ, забудутъ...
Ѳедоръ Сологубъ.
260
Введеніе въ пятый отдіълъ.
(О созданіи художественныхъ образовъ).
Когда чтецу приходится имѣть дѣло съ произведеніями, гдѣ есть
рѣчи дѣйствующихъ лицъ, то передъ нимъ встаетъ такая же задача,
какъ передъ актеромъ при изученіи роли. Облегченіе задачи заклю-
чается лишь въ уменьшенныхъ размѣрахъ этихъ «ролей», по зато
здѣсь представляются и свои трудности: актеръ на протяженіи спек- ’
такля воплощается въ одно лицо, чтецъ па протяженіи иногда нѣ-
сколькихъ минутъ долженъ перевоплощаться изъ одного лица въ
другое, третье и т. д.
Къ услугамъ актера являются декорація, костюмъ, гримъ и
движенія, помогающіе зрителю согласиться съ задуманнымъ перево-
площеніемъ. У чтеца есть только мимика и живое слово, которое
онъ долженъ довести до огромной яркости и законченности, чтобы
держать слушателя въ такомъ же напряженіи, какъ актеръ зрителя.
Чтецъ, преодолѣвшій уже всѣ трудности, представляемыя пре-
дыдущими отдѣлами, могущій давать яркія интонаціп, научившійся
подчинять ихъ единству настроенія и, слѣдовательно, выдерживать
одішъ задуманный топъ, встрѣчаетъ въ настоящемъ отдѣлѣ усложнен-
ную задачу: подчинить общій тонъ рѣчи не только настроенію, но
и характеру того лица, отъ котораго ведется рѣчь.
Для удобства матеріалъ въ этомъ отдѣлѣ распредѣленъ такъ,
что сначала идутъ произведенія, исполнять которыя съ одинаковымъ
правомъ могутъ и мужчины и женщины, далѣе идетъ матеріалъ для
женщинъ (послѣ заглавія стоитъ буква Ж) и, наконецъ, для муж-
чинъ (послѣ заглавія стоитъ буква М).
О. Озаровская.
263
Жизнь.
Бѣдному сыну пустыни снился сонъ.
Лежитъ и растилается великое Средиземное море, и съ
трехъ разныхъ сторонъ глядятъ въ него палящіе берега Аф-
рики съ тонкими пальмами, сирійскія голыя пустыни и много-
людный, весь изрытый моремъ, берегъ Европы.
Стоитъ въ углу надъ неподвижнымъ моремъ древній
Египетъ. Пирамида надъ пирамидою: граниты глядятъ сѣрыми
очами, обтесанные въ сфинксовъ; идутъ безчисленныя ступени.
Стоитъ онъ величавый, питаемый великимъ Ниломъ, весь
убранный таинственными знаками и священными звѣрями.
Стоитъ и неподвиженъ, какъ очарованный, какъ мумія, не-
сокрушаемая тлѣніемъ.
Раскинула вольныя колоніи веселая Греція. Кишатъ на
Средиземномъ морѣ острова, потопленные зелеными рощами;
кинамонъ, виноградныя лозы, смоковницы помаваютъ обли-
тыми медомъ вѣтвями; колонны, бѣлыя какъ перси дѣвы,
круглятся въ роскошномъ мракѣ древесномъ; мраморъ страст-
ный дышитъ, зажженный чуднымъ рѣзцомъ, и стыдливо лю-
буется своею прекрасною наготою; увитый гроздіями, съ
тирсами и чашами въ рукахъ, народъ остановился въ шумной
пляскѣ. Жрицы, молодыя и стройныя, съ разметанными
кудрями, вдохновенно вонзили свои черныя очи. Тростникъ,
связанный въ цѣвницу, тимпаны, мусикійскія орудія мель-
265
каютъ, перевитыя плюшемъ. Корабли, какъ мухи, толпятся
близъ Родоса и Корциры, подставляя сладострастно выгибаю-
щійся флагъ дыханію вѣтра. И все стоитъ неподвижно, какъ
бы въ окаменѣломъ величіи.
Стоитъ и распростирается желѣзный Римъ, устремляя
лѣсъ копій и сверкая грозною сталью мечей, вперивъ на все
завистливые очи и протянувши свою жилистую десницу. Но
онъ неподвиженъ, какъ и все, и не тронется львиными
членами.
Весь воздухъ небеснаго океана висѣлъ сжатый и душный.
Великое Средиземное море не шелохнетъ, какъ будто бы
царства предстали всѣ на страшный судъ передъ кончиною
міра.
И говоритъ Египетъ, помавая тонкими пальмами, жили-
цами его равнинъ, и устремляя иглы своихъ обелисковъ:
„Народы, слушайте! Я одинъ постигъ и проникъ тайну жизни
и тайну человѣка. Все тлѣнъ. Низки искусства, жалки насла-
жденія, еше жалче слава и подвиги. Смерть, смерть власт-
вуетъ надъ міромъ и человѣкомъ! Все пожираетъ смерть, все
живетъ для смерти. Далеко, далеко до воскресенія! Да и
будетъ ли когда воскресеніе? Прочь желанія и наслажденія!
Выше строй пирамиду, бѣдный человѣкъ, чтобы хоть сколько-
нибудь продлить свое бѣдное существованіе".
И говоритъ ясный, какъ небо, какъ утро, какъ юность,
свѣтлый міръ грековъ, и, казалось, вмѣсто словъ, слышалось
дыханіе цѣвницы: „Жизнь сотворена для жизни. Развивай
жизнь свою и развивай вмѣстѣ съ нею ея наслажденія. Все
неси ему. Гляди, какъ выпукло и прекрасно все въ природѣ,
какъ дышетъ все согласіемъ. Все въ мірѣ; все, чѣмъ ни вла-
дѣютъ боги, все въ немъ; умѣй находить его. Наслаждайся,
богоподобный и гордый обладатель міра, вѣнчай дубомъ и
лавромъ прекрасное чело свое! мчись на колесницѣ, искусно
правя конями, на блистательныхъ играхъ! Далѣе корысть и
266
жадность отъ вольной и гордой души! Рѣзецъ, палитра и
цѣвница созданы быть властелинами міра, а властительницею
ихъ—красота. Увивай плюшемъ и гроздіемъ свою благовон-
ную главу и прекрасную главу стыдливой подруги! Жизнь
создана для жизни, для наслажденія—умѣй быть достойнымъ
наслажденія!*
И говоритъ покрытый желѣзомъ Римъ, потрясая блестя-
щимъ лѣсомъ копій: „Я постигнулъ тайну жизни человѣка.
Низко спокойствіе для человѣка: оно уничтожаетъ его въ
самомъ себѣ. Малъ для души размѣръ искусствъ и наслажде-
ній. Наслажденіе—въ гигантскомъ желаніи. Презрѣнна жизнь
народовъ и человѣка безъ громкихъ подвиговъ. Славы, славы
жаждай, человѣкъ! Въ порывѣ неразсказаннаго веселія, оглу-
шенный звукомъ желѣза, несись на сомкнутыхъ щитахъ
бранноносныхъ легіоновъ! Слышишь ли, какъ у ногъ твоихъ
собрался весь міръ и, потрясая копьями, слился въ одно вос-
клицаніе? Слышишь ли, какъ твое имя замираетъ страхомъ
на устахъ племенъ, живущихъ на краяхъ міра? Все что ни
объемлетъ взоръ твой, наполняй своимъ именемъ. Стремись
вѣчно: нѣтъ границъ міру—нѣтъ границъ желанію. Дикій и
суровый, далѣе и далѣе захватывай міръ — ты завоюешь, на-
конецъ, небо".
Но остановился Римъ и вперилъ орлиныя очи свои на
востокъ. Къ востоку обратила и Греція свои влажныя отъ
наслажденія, прекрасныя очи; къ востоку обратилъ Египетъ
свои мутныя, безцвѣтныя очи.
Камениста земля; презрѣненъ народъ; немноголюдная весь
прислонилась къ обнаженнымъ холмамъ, изрѣдка неровно
оттѣненымъ изсохшею смоковницею. За низкою и ветхою
оградою стоитъ ослица. Въ деревянныхъ ясляхъ лежитъ мла-
денецъ; надъ нимъ склонилась непорочная мать и глядитъ на
него исполненными слезъ очами; надъ нимъ высоко въ небѣ
стоитъ звѣзда и весь міръ осіяла чуднымъ свѣтомъ.
267
Задумался древній Египетъ, увитый іероглифами, понижая
ниже свои пирамиды; безпокойно глянула прекрасная Греція;
опустилъ очи Римъ на желѣзныя свои копья; приникла ухомъ
великая Азія съ народами-пастырями; нагнулся Араратъ,
древній прапращуръ земли...
Н. Гоголь.
Древне-шотландская баллада.
— Эдгардъ, мой милый сынъ! Я вижу кровь на платьѣ;
Скажи мнѣ, кто тебя могъ запятнать?
— Я сокола убилъ,—о, горе мнѣ, проклятье!
Я сокола убилъ, возлюбленная мать.
— Эдгардъ, мой милый сынъ! Въ крови и плащъ широкій,—
Едва ли птицы кровь струитьса такъ могла!
— Коня я закололъ... Свершая путь далекій,
Онъ утомленный палъ и смерть его ждала.
— Эдгардъ, мой милый сынъ! Къ словамъ твоимъ нѣтъ вѣры,—
Нѣтъ, не коня здѣсь кровь, пролитая тобой!
— Права ты, мать моя!—Пусть гибнутъ лицемѣры!
Не соколъ и не конь,—отецъ зарѣзанъ мной.
— Какъ смѣлъ ты посягнуть на жизнь отца, несчастный?
Чѣмъ успокоишь ты страдальческую тѣнь?
— Гонимый совѣстью, подъ пыткой ежечасной,
Безъ цѣли буду я скитаться день и ночь.
— Судъ строгій надъ собой въ твоей, конечно, волѣ,
Но бросить не дерзай жилище и поля!
— Пусть рушатся мой домъ и оскудѣетъ поле,
Бурьяномъ порастетъ, гдѣ злаки сѣялъ я.
— Подумай о семьѣ... Что станется съ женою?
Кто защититъ дѣтей-сиротокъ безъ тебя?
— Господень свѣтъ великъ... Съ протянутой рукою
Пусть по міру идетъ преступника семья.
268
— А матери родной что, сынъ мой, оставляешь?
— И въ жизни будущей, и въ этой, до конца,—
Проклятье, мать моя. Проклятье... Вѣдь ты знаешь,
Кто ножъ мой наточилъ на бѣднаго отца!
Н. Гельшертъ.
Разговоръ въ дубравгь.
„Слышишь, къ намъ несутся звуки
Контрабаса, флейты, скрипки?
Это пляшутъ поселянки
На лугу подъ тѣнью липки."
Контрабасы, флейты, скрипки!
Ужъ не спятилъ ли съ ума ты?
Это хрюканью свиному
Вторятъ визгомъ поросята.—
„Слышишь, какъ трубитъ охотникъ,
Въ мѣдный рогъ свой, въ чащѣ темной?
Слышишь, какъ ягнятъ сзываетъ
Пастушекъ волынкой скромной?"
Я не слышу ни волынки,
Ни охотничьяго рога:
Вижу только свинопаса,
Что идетъ своей дорогой.—
„Слышишь пѣнье? Сладко въ душу
Льется пѣсня неземная;
Вѣютъ бѣлыми крылами
Херувимы, ей внимая."
Бредишь ты! какое пѣнье
И какіе херувимы!
То гусей своихъ мальчишки,
Распѣвая, гонятъ мимо.—
„Колокольный звонъ протяжный
Раздается въ отдаленьи;
Въ бѣдной храмъ свой поселяне
Идутъ полны умиленья."
269
Ошибаешься, мой милый!
И степенны и суровы,
Съ колокольчиками идутъ
Въ стойло темное коровы.—
„Посмотри, между вѣтвями,
Платье бѣлое мелькаетъ.
То идетъ моя подруга:
Страстью взоръ ея блистаетъ! “
Вотъ потѣха! Иль не знаешь
Ты лѣсничихи старушки?
Цѣлый день съ клюкою бродитъ
У лѣсной она опушки."
„Всѣ вопросы фантазера
Осмѣялъ ты ядовито;
Одного ты не разрушишь,
Что глубоко въ сердцѣ скрыто."
Г. Гейне.
А. Плещеевъ.
Сказка весны.
Какъ причастница, нарядна
Въ бѣлоснѣжной, чистой шали
Дремлетъ липа молодая,
Устремивъ вершину къ дали.
Передъ нею дубъ, какъ старецъ,
Убѣленный сѣдинами,
Наклонился и колышетъ
Оснѣженными вѣтвями...
А вокругъ все бездыханно,
Мертвы снѣжныя поляны,
И въ лѣсу по мерзлымъ вѣткамъ
Бродятъ зимніе туманы.
И, дремля въ волшебной грезѣ,
Липа дубу шепчетъ тайно:
270
— Посмотри, какъ въ чащѣ лѣса
Хорошо необычайно!
Посмотри, вдали алѣетъ
Зорь румяныхъ позолота;
Слышишь шорохъ звонкихъ капель?
Это юный бродитъ кто-то!
Не весна ли это бродитъ,
Отряхая иней бѣлый?..
— „Полно вздоръ болтать, малютка,—
Дубъ промолвилъ престарѣлый.—
Это западъ остываетъ,
Алымъ пламенемъ истекши,
Этотъ шорохъ торопливый—
Отъ прыжковъ неловкой векши...
До весны еще далеко,
Да и много ли въ ней толку...
Поучись терпѣнью, глядя
На выносливую елку!"
И замолкъ сурово старецъ
Подъ своею ризой снѣжной,
И задумалася липа
О веснѣ въ тоскѣ мятежной...
Дни идутъ, теплѣе солнце,
Съ каждымъ днемъ лазурь восходитъ,
И проталины по снѣгу
Тѣнью легкою обводитъ.
Липа къ дубу снова съ рѣчью:
— „Что задумался такъ, старче?
Посмотри, весна приходитъ,
Воздухъ сталъ звучнѣй и ярче...
Слышу я, какъ надо мною
Разогрѣтый снѣгъ сочится,
271
Какъ по утру пробуждаясь,
Лѣсъ чернѣетъ и дымится!"
Но на рѣчь веселой липы
Грустно шепчетъ дубъ унылый:
„Какъ землею нынче пахнетъ,
Точно вырытой могилой!.."
Дни идутъ; апрѣль румяный
Изъ вѣтвей глядитъ лукаво,
Сыплетъ свѣтомъ цвѣтоноснымъ
И налѣво и направо.
Дубъ нахмурился сердито,
Липа юная ликуетъ,
У нея въ вѣтвяхъ сегодня
Тайно ласточка ночуетъ.
И въ восторгѣ липа шепчетъ
Сквозь весеннюю истому:
— „Посмотри, какъ ходятъ тучи
По эфиру голубому,
Точно лебеди по морю...
Видишь—май идетъ лѣсами,
Раздвигая мокрый ельникъ
Лучезарными перстами...
Какъ свѣжо зеленымъ вѣткамъ
Какъ тепло пригрѣты корни;
Мотылекъ сегодня утромъ
Перепархивалъ на дернѣ.
Я за нимъ слѣдила долго,
Онъ весь бѣлый былъ, какъ иней.
Наряжается фіалка
Для него въ кокошникъ синій!"
Но печально дубъ косматый
Слышитъ юной липы шелестъ,
272
Не влечетъ его, какъ прежде.
Мая дѣвственная прелесть.
И нѣжнѣе шепчетъ липа:
— „Посмотри, какъ ярки почки,
Сколько тайны молчаливой
Въ ароматахъ этой ночки...
Какъ стекло прозрачно небо!..
Будитъ эхо въ борѣ дальнемъ
Сиротливая кукушка
Кукованіемъ печальнымъ...
Отъ избытка чаръ и страсти
Я сама запѣть готова!”
Но на лепетъ нѣжный липы
Дубъ нахмурился сурово...
Онъ дрожащею вершиной
Все глядитъ къ востоку жадно,
И, вдыхая душный воздухъ,
Что-то шепчетъ безотрадно...
Тамъ, вдали, какъ темнымъ флеромъ
Омрачилось небо тучей,
И порой въ немъ пробѣгала
Искра молніи летучей.
Зашатался дубъ косматый,
Испугался тучи черной,
И поплылъ въ его вершинахъ
Ропотъ гнѣвный и проворный...
Въ небѣ звучно и протяжно
Рокотанье пронеслося,
И вдали дрожащей сѣткой
Дождь упалъ, волнуясь косо...
Ближе... ближе влажный рокотъ!..
Шумно рвется въ лѣсъ прохлада,
273
Школа чтеца.
18
И разсыпались по листьямъ,
Барабаня, капли града...
Въ тучѣ молнія сверкнула,
Небо громъ потрясъ сердито,—
Точно рухнули тамъ скалы
Изъ тяжелаго гранита...
Пошатнулся дубъ маститый,
Наклонился головою,
И упалъ грозой спаленный
Передъ липой молодою.
Туча медленно промчалась,
И, смотря на жатву бури,
Мирно радуга сіяла
На безоблачной лазури.
И, смотря на остовъ дуба,
Липа сумрачно вздыхала,
Поняла она, что старца
Такъ тревожно волновало...
К. Фофановъ.
Три души.
Три блѣдныхъ тѣни чередой
Стучатся робко въ двери рая,
Съ мольбой пугливою взывая:
— „Открой, открой, ключарь святойі*
И вопрошающій вдали
Онѣ внимаютъ голосъ:—Кто вы,
Во тьмѣ грядущіе съ земли
Подъ эти благостные кровы?
Чѣмъ были вы? Въ какой борьбѣ
Какіе подвиги свершали?
Какъ жили вы и чѣмъ себѣ
274
Блаженство райское стяжали?—
И говоритъ изъ нихъ одна:
— „Мнѣ чуждъ былъ громъ житейской битвы;
„Вся жизнь моя была полна
„Благоговѣнья и молитвы.
„Жрецомъ я былъ всю жизнь, людей
„Добру и правдѣ поучая,
„Гася постыдный пылъ страстей
„И свѣточъ вѣры возжигая"...
— „Съ мечомъ въ рукѣ я міръ земной
„Прошелъ—отвѣтила вторая—
„Широкой, пламенной волной,
„И страхъ, и гибель разливая.
„Вся жизнь прошла средь буйныхъ сѣчъ,
„Но лишь за немощныхъ и правыхъ
„Я поднималъ и стягъ и мечъ
„Въ бояхъ свирѣпыхъ и кровавыхъ"...
— А твой путь чѣмъ былъ озаренъ?—
Апостолъ третью вопрошаетъ.
Глубокій, долгій, тяжкій стонъ
Звучитъ въ тиши и замираетъ.
И голосъ робкій и больной
Пугливо шепчетъ:—„Я? Не знаю,
„Не помню... Что-то... мракъ сырой,
„Пустыня, холодъ, ночь нѣмая...
„Чужія окна—въ нихъ огни,
„Чужія двери на запорѣ...
„И такъ—вся жизнь, вся жизнь... И дни
„И ночи—голодъ, мракъ и горе...
„Молилась? Нѣтъ! я не могла,
„Я не умѣла... Богъ? Не знаю,
„Не помню .. Голодъ, стужа, мгла...
„О посмотря, какъ я страдаю!..
„Какъ страстно жаждала я дня
„И часа благостной кончины!
„Открой, открой, впусти меня...
„Прилечь, согрѣться разъ единый,
„Уснуть... уснуть... А тамъ — конецъ,
275
18
„Покой и миръ, и тишина нѣмая"...
— Посторонитесь, вождь и жрецъ!—
Раздался гласъ у двери рая.
С. Фругъ.
Ялеша Поповичъ.
Кто весломъ такъ ловко правитъ
Черезъ аиръ и купырь?
Это тотъ Поповичъ славный,
Тотъ Алеша-богатырь.
За плечами видны гусли,
А въ ногахъ червленный щитъ;
Супротивъ его царевна
Полоненная сидитъ.
Подъ себя поджала ножки,
Лѣтникъ свой подобрала,
И считаетъ робко взмахи,
Богатырскаго весла.
— Ты почто меня, Алеша,
Въ лодку пѣсней заманилъ?
У меня женихъ есть дома,
Ты жъ, похитчикъ, мнѣ не милъ!
Но, смѣясь, Поповичъ молвитъ;
— Не похитчикъ я тебѣ,
Ты вошла своею волей,
Покорись своей судьбѣ!
Ты не первая попалась
Въ лодку, дѣвица, мою;
Знаменитымъ птицеловомъ
Я слыву въ моемъ краю;
Безъ силковъ и безъ приманокъ
Я не разъ межъ камышей
Голубыхъ очеретянокъ
Пѣсней лавливалъ моей;
Но въ плѣну, кого, поймаю,
Безъ нужды я не морю —
276
Покорися же, царевна,
Сдайся мнѣ, богатырю!
Но она къ нему: — Алеша,
Тѣсно въ лодкѣ намъ вдвоемъ,
Тяжела ей будетъ ноша,
Вмѣстѣ ко-дну мы пойдемъ!
Онъ же къ ней: — Смотри, царевна,
Видишь, тамъ, гдѣ тотъ откосъ,
Какъ на солнцѣ быстро блещутъ
Стаи легкія стрекозъ?
На лозу когда бы сѣли,
Не погнули бы лозы,
Ты же въ лодкѣ не тяжелѣ
Легкокрылой стрекозы!
И душистый гнетъ онъ аиръ,
И, скользя очеретомъ,
Стебли длинные купавокъ
Рветъ сверкающимъ весломъ.
Много пѣвниковъ нарядныхъ
Въ лодку съ берега глядитъ,
Но Поповичу царевна,
Озираясь, говоритъ:
— Птицеловъ ты безпощадный,
Иль тебѣ меня не жаль?
Отпусти меня на волю,
Лодку къ берегу причаль!
Онъ же въ берегъ упираясь
И осокою шурша,
Повторяетъ только:—Сдайся,
Сдайся, дѣвица-душа!
Я люблю тебя, царевна,
Я хочу тебя добыть,
Вольной волей, иль неволей,
Ты должна меня любить.
Онъ весло свое бросаетъ,
Гусли звонкія беретъ—
Дивнымъ пѣніемъ дрожащій
Огласился очеретъ...
277
Звуки льются, звуки таютъ:
То не вѣтеръ ли во ржи?
Не крылами ль задѣваютъ
Мѣдный колоколъ стрижи?
Иль въ тѣни журчатъ дубравной
Однозвучные ключи?
Иль ковшей то звонъ заздравный?
Иль мечи бьютъ о мечи?
Пламя ль блещетъ? Дождь ли льется?
Буря ль встала, пыль крутя?
Конь ли по-полю несется?
Мать ли пѣстуетъ дитя?
Или то воспоминанье,
Отголосокъ давнихъ лѣтъ?
Или счастья обѣщанье?
Или смерти то привѣтъ?
Пѣсню кто уразумѣетъ?
Кто пойметъ ея слова?
Но отъ звуковъ сердце млѣетъ,
И кружится голова.
Ихъ, услыша, присмирѣли
Пташекъ рѣзвыя четы,
На тростникъ стрекозы сѣли,
Преклонилися цвѣты:
Погремокъ, пестрецъ и шильникъ
И болотная заря,
Къ лодкѣ съ берега нагнулись
Слушать пѣснь богатыря.
Такъ съ царевной по теченью
Онъ уносится межъ травъ,
И она внимаетъ пѣнью,
Руку бѣлую поднявъ.
Что внезапно въ ней свершилось?
Тоскованье улеглось?
Сокровенное ль открылось?
Невозможное ль сбылось?
Словно давнія печали
Разошлися какъ туманъ,
278
Словно всѣ преграды пали—
Или были лишь обманъ!
Взоромъ любящимъ невольно
Въ ликъ его она впилась,
Ей и радостно и больно,
Слезы капаютъ изъ глазъ;
Любитъ онъ, иль лицемѣритъ—
Для нея то все равно;
Этимъ звукамъ сердце вѣритъ
И дрожитъ, побѣждено.
И со всѣхъ сторонъ ихъ лодку
Обняла рѣчная тишь,
И куда ни обернешься—
Только небо да камышъ.
Гр. А. К. Толстой.
Стріьлокъ и поселянка.
Проснулась ласточка съ зарею,
Привѣтствуя весенній день.
„Красавица, пойдемъ со мною:
Намъ роща отдыхъ дастъ и тѣнь.
Тамъ я у ногъ твоихъ склонюся,
Нарву цвѣтовъ, сплету вѣнокъ"...
— Стрѣлокъ, я матери боюся.
Мнѣ некогда, стрѣлокъ.—
„Мы въ чащу забредемъ густую:
Она не сыщетъ дочь свою.
Пойдемъ, красавица! Какую
Тебѣ я пѣсенку спою:
Ни пѣть ни слушать, увѣряю,
Никто безъ слезъ ее не могъ“...
— Стрѣлокъ, я пѣсню эту знаю.
Мнѣ некогда, стрѣлокъ.
— Я разскажу тебѣ преданье,
Какъ рыцарь къ молодой женѣ
279
Пришелъ на страшное свиданье
Изъ гроба... Выслушать вполнѣ
Нельзя безъ трепета развязку.
Мертвецъ несчастную увлекъ...
— Стрѣлокъ, я знаю эту сказку.
Мнѣ некогда, стрѣлокъ.
— Пойдемъ, красавица. Я знаю
Какъ дикихъ усмирять звѣрей,
Легко болѣзни исцѣляю;
Отъ порчи, глаза злыхъ людей
Я заговаривать умѣю—
И многимъ дѣвушкамъ помогъ...
— Стрѣлокъ, я ладанку имѣю.
Мнѣ некогда, стрѣлокъ.
— Ну, слушай! Видишь, какъ играетъ
Вотъ этотъ крестикъ, какъ блеститъ
И жемчугами отливаетъ...
Твоихъ подружекъ ослѣпитъ
Его игра на груди бѣлой.
Возьми! Другъ друга мы поймемъ...
— Ахъ, какъ блеститъ! Вотъ это дѣло!
Пойдемъ, стрѣлокъ, пойдемъ!
Беранже.
В. Курочкинъ.
То, чего не было.
Въ одинъ прекрасный іюньскій день,—а прекрасный онъ
былъ потому, что было двадцать восемь градусовъ по Рео-
мюру,—въ одинъ прекрасный іюньскій день было вездѣ жарко,
а на полянкѣ въ саду, гдѣ стояла копна недавно скошеннаго
сѣна, было еще жарче, потому что мѣсто было закрытое отъ
вѣтра густымъ - прегустымъ вишнякомъ. Все почти спало:
люди наѣлись и занимались послѣобѣденными боковыми за-
нятіями; птицы примолкли, даже многія насѣкомыя попрята-
лись отъ жары. О домашнихъ животныхъ нечего и говорить
280
скотъ крупный и мелкій прятался подъ навѣсъ; собака, вы-
рывъ себѣ подъ амбаромъ яму, улеглась туда, и полузакрывъ
глаза, прерывисто дышала, высунувъ розовый языкъ чуть не
на поларшина; иногда она, очевидно, отъ тоски, происходя-
щей отъ смертельной жары, такъ зѣвала, что при этомъ даже
раздавался тоненькій визгъ; свиньи, маменька съ тринадцатью
дѣтками, отправились на берегъ и улеглись въ черную жир-
ную грязь, при чемъ изъ грязи видны были только сопѣвшіе
и храпѣвшіе свиные пятачки съ двумя дырочками, продолго-
ватыя, облитыя грязью спины, да огромныя повислыя уши.
Однѣ куры, не боясь жары, кое-какъ убивали время, разгре-
бая лапами сухую землю противъ кухоннаго крыльца, въ ко-
торой, какъ онѣ отлично знали, не было уже ни одного зер-
нышка; да и то пѣтуху, должно-быть, приходилось плохо,
потому что иногда онъ принималъ глупый видъ и во все
горло кричалъ: „какой скандалъ!"
Вотъ мы ушли съ полянки, на которой жарче всего, а на
этой-то полянкѣ и сидѣло цѣлое общество неспавшихъ гос-
подъ. То есть, сидѣли-то не всѣ; старый Гнѣдой, напримѣръ,
разгребавшій копну сѣна, будучи лошадью, вовсе и сидѣть
не умѣлъ; гусеница какой-то бабочки тоже не сидѣла, а ско-
рѣе лежала на животѣ; но дѣло вѣдь не въ словѣ. Подъ
вишнею собралась маленькая, но очень серьезная компанія:
улитка, навозный жукъ, ящерица, вышеупомянутая гусеница;
прискакалъ кузнечикъ. Возлѣ стоялъ и старый Гнѣдой, при-
слушиваясь къ ихъ рѣчамъ однимъ, гнѣдымъ ухомъ, а на
Гнѣдомъ сидѣли двѣ мухи.
Компанія вѣжливо, но довольно одушевленно спорила,
при чемъ, какъ и слѣдуетъ быть, никто ни съ кѣмъ не со-
глашался, такъ какъ каждый дорожилъ независимостью своего
мнѣнія и характера.
— По-моему, — говорилъ навозный жукъ, — порядочное
животное прежде всего должно заботиться о своемъ потом-
281
ствѣ. Жизнь есть трудъ для будущаго поколѣнія. Тотъ, кто
сознательно исполняетъ свои обязанности, возложенныя на
него природой, тотъ стоитъ на твердой почвѣ: онъ знаетъ
свое дѣло, и, чтобы ни случилось, онъ не будетъ въ отвѣтѣ.
Посмотрите на меня: кто трудится больше моего? Кто цѣлые
дни безъ отдыха катаетъ такой тяжелый шаръ — шаръ, мною
же столь искусно созданный изъ навоза, съ великой цѣлью
дать возможность вырасти новымъ, подобнымъ мнѣ, навоз-
нымъ жукамъ? Но зато не думаю, чтобы кто-нибудь былъ
такъ спокоенъ совѣстью и съ чистымъ сердцемъ могъ бы
сказать: „да, я сдѣлалъ все, что могъ и долженъ былъ сдѣ-
лать", какъ скажу я, какъ на свѣтъ явятся новые навозные
жуки. Вотъ что значитъ трудъ!
— Поди ты, братецъ, съ твоимъ трудомъ!—сказалъ мура-
вей, притащившій во время рѣчи навознаго жука, несмотря
на жару, чудовищный кусокъ сухого стебелька. Онъ на ми-
нуту остановился, присѣлъ на четыре заднія ножки, а двумя
передними отеръ потъ съ своего измученнаго лица. — И я,
вѣдь, тружусь, и побольше твоего! Но ты работаешь для себя,
или, все равно, для своихъ жученятъ; не всѣ такъ счастливы...
Попробовалъ бы ты потаскать бревна для казны, вотъ какъ я.
Я и самъ не знаю, что заставляетъ меня работать, выбиваясь
изъ силъ, даже и въ такую жару. Никто за это и спасибо не
скажетъ. Мы, несчастные рабочіе муравьи, всѣ трудимся, а
чѣмъ красна наша жизнь? Судьба!..
— Вы, навозный жукъ, слишкомъ сухо, а вы, муравей,
слишкомъ мрачно смотрите на жизнь,—возразилъ имъ кузне-
чикъ.—Нѣтъ, жукъ, я люблю-таки потрещать и попрыгать, и
ничего! Совѣсть не мучитъ! Да при томъ вы нисколько не
коснулись вопроса, поставленнаго г-жей ящерицей: она спро-
сила, „что есть міръ", а вы говорите о своемъ навозномъ
шарѣ; это даже невѣжливо. Міръ—міръ, по-моему, очень хо-
рошая вещь уже потому, что въ немъ есть для насъ молодая
282
травка, солнце и вѣтерокъ. Да и великъ же онъ! Вы здѣсь,
между этими деревьями, не можете имѣть никакого понятія о
томъ, какъ онъ великъ. Когда я бываю въ полѣ, я иногда
вспрыгиваю, какъ только могу вверхъ и, увѣряю васъ, дости-
гаю огромной высоты. И съ нея-то я вижу, что міру нѣтъ
конца.
— Вѣрно, — глубокомысленно подтвердилъ Гнѣдой. — Но
всѣмъ вамъ все-таки не увидѣть и сотой части того, что ви-
дѣлъ на своемъ вѣку я. Жаль, что вы не можете понять, что
такое верста... За версту отсюда есть деревня Лупаревка: туда
я каждый день ѣзжу съ бочкой за водой. Но тамъ меня ни-
когда не кормятъ. А съ другой стороны Ефимовка, Кисля-
ковка; въ ней церковь съ колоколами. А потомъ Свято-
Троицкое, а потомъ Богоявленскъ. Въ Богоявленскѣ мнѣ
всегда даютъ сѣна, но сѣно тамъ плохое. А вотъ въ Нико-
лаевѣ—это такой городъ, двадцать восемь верстъ отсюда, такъ
тамъ сѣно лучше и овесъ даютъ; только я не люблю туда
ѣздить: туда ѣздитъ на насъ баринъ и велитъ кучеру пого-
нять, а кучеръ больно стегаетъ насъ кнутомъ... А то есть
еще Александровка, Бѣлозерка, Херсонъ — городъ тоже... Да
только куда вамъ понять все это!.. Вотъ это-то и есть міръ;
не весь, положимъ, ну, да все-таки значительная часть.
И Гнѣдой замолчалъ, но нижняя губа у него все еще
шевелилась, точно онъ что-нибудь шепталъ. Это происходило
отъ старости: ему былъ уже семнадцатый годъ, а для лошади
это все равно, что для человѣка семьдесятъ седьмой.
— Я не понимаю вашихъ мудреныхъ лошадиныхъ словъ,
да, признаться, я и не гонюсь за ними, — сказала улитка.—
Мнѣ былъ бы лопухъ, а его довольно: вотъ уже я четыре
дня ползу, а онъ все еще не кончается. А за этимъ лопухомъ
есть еще лопухъ, а въ томъ лопухѣ, навѣрно, сидитъ еще
улитка. Вотъ вамъ и все. И прыгать никуда не нужно — все
это выдумки и пустяки; сиди себѣ да ѣшь листъ, на кото-
283
ромъ сидишь. Если бы не лѣнь ползти, давно бы ушла отъ
васъ съ вашими разговорами: отъ нихъ голова болитъ, и
больше ничего.
— Нѣтъ, позвольте, отчего же?—перебилъ кузнечикъ,—
потрещать очень пріятно, особенно о такихъ хорошихъ предме-
тахъ, какъ безконечность и прочее такое. Конечно, есть прак-
тическія натуры, которыя только заботятся о томъ, какъ бы
набить себѣ животъ, какъ вы или вотъ эта прелестная гусе-
ница...
— Ахъ, нѣтъ, оставьте меня, прошу васъ, оставьте, не
троньте меня!—жалобно воскликнула гусеница,—я дѣлаю это
для будущей жизни, только для будущей жизни.
— Для какой тамъ еще будущей жизни? — спросилъ
Гнѣдой.
— Развѣ вы не знаете, что я послѣ смерти сдѣлаюсь
бабочкой съ разноцвѣтными крыльями?
Гнѣдой, ящерица и улитка этого не знали, но насѣкомыя
имѣли кое-какое понятіе. И всѣ немного помолчали, потому
что никто не умѣлъ сказать ничего путнаго о будущей жизни.
— Къ твердымъ убѣжденіямъ нужно относиться съ ува-
женіемъ, — затрещалъ, наконецъ, кузнечикъ.— Не желаетъ ли
кто сказать еще что-нибудь? Можетъ-быть, вы? — обратился
онъ къ мухамъ, и старшая изъ нихъ отвѣтила:
— Мы не можемъ сказать, что бы намъ было худо. Мы
сейчасъ только изъ комнатъ; барыня разставила въ мискахъ
наваренное варенье, и мы забрались подъ крышку и наѣлись.
Мы довольны. Наша маменька увязла въ вареньѣ, но что жъ
дѣлать? Она уже довольно пожила на свѣтѣ. А мы довольны.
— Господа,—сказала ящерица,—я думаю, что всѣ вы со-
вершенно правы! Но, съ другой стороны...
Но ящерица такъ и не сказала, что было съ другой сто-
роны, потому что почувствовала, какъ что-то крѣпко при-
жало ея хвостъ къ землѣ.
284
Это пришелъ за Гнѣдымъ проснувшійся кучеръ Антонъ;
онъ нечаянно наступилъ своимъ сапожищемъ на компанію и
раздавилъ ее. Однѣ мухи улетѣли обсасывать свою мертвую,
обмазанную вареньемъ маменьку, да ящерица убѣжала съ
оторваннымъ хвостомъ. Антонъ взялъ Гнѣдого за чубъ и по-
велъ его изъ сада, чтобы запрячь въ бочку и ѣхать за водой,
при чемъ приговаривалъ: „ну, иди, ты, хвостяка!" на что Гнѣ-
дой отвѣчалъ только шептаньемъ.
А ящерица осталась безъ хвоста, правда черезъ нѣсколько
времени онъ выросъ, но навсегда остался какимъ-то тупымъ
и черноватымъ. И когда ящерицу спрашивали, какъ она по-
вредила себѣ хвостъ, то она скромно отвѣчала:
— Мнѣ оторвали его за то, что я рѣшилась высказать
свои убѣжденія.
И она была совершенно права.
В. Гаршинъ.
* *
*
Я гляжу, сижу подъ окошечкомъ,
Я гляжу, гляжу на Дунай-рѣку.
По Дунай-рѣкѣ бѣжатъ два волка,
Оба сѣрые, хвосты бѣлые.
„Вы куда, волки, призадумали,
„Куда, сѣрые, призамыслили?"
— Мы бѣжимъ, волки, по Дунай-рѣкѣ,
Ко мосточку, ко калинову,
Ко кусточку, ко ракитову;
Тамъ лежитъ убита твоя матушка,
Баска хороша, свѣтъ-Михайловна,
Рѣзвыми ножками ко Дунай-рѣкѣ,
Буйной головой во ракитовъ кустъ.
Пометалась княжая дочь
Ко батюшку въ новъ высокъ теремъ:
„Ты скажи, скажи, сударь-батюшка!
Ты куда дѣвалъ мою матушку
Баску хорошу свѣтъ-Михайловну?“
285
— „А ушла, ушла твоя матушка
Что ль во погреба глубокіе
Да за двери за тяжелыя,
Разводить квасы медовые
И поить гостей не кормленыхъ".
Пометалась княжая дочь
Что ль во погреба глубокіе
Да за двери за тяжелыя:
Тамъ стоятъ квасы не развожены,
Гости тамъ сидятъ не поены.
Пометалась княжая дочь
Ко батюшку въ новъ высокъ теремъ:
„Ты скажи, скажи, сударь-батюшка,
Ты куда дѣвалъ мою матушку,
Баску хорошу свѣтъ-Михайловну?"
— „А ушла, ушла твоя матушка
Что ль во горницу во новую:
Тамъ румянечки по скляночкамъ,
Цвѣтно платьице по грядочкамъ".
Пометалась княжая дочь
Что ль во горницу во новую:
Тамъ румянечки по скляночкамъ,
Цвѣтно платьице по грядочкамъ...
Пометалась княжая дочь
Ко батюшку въ новъ высокъ теремъ:
„Ты скажи, скажи, сударь-батюшка,
Ты куда дѣвалъ мою матушку,
Баску хорошу свѣтъ-Михайловну?"
—„Ты не плачь, не плачь, мое дитятко,—
Я сострою тебѣ келью новую,
Я куплю тебѣ золотую цѣпь,
Приведу къ тебѣ молодую мать".
— „Ты сгори, сгори, келья новая,
Ты растай, растай, золотая цѣпь,
Ты умри, умри, нова матушка,
Ты возстань, возстань, стара матушка,
Баска хороша, свѣтъ-Михайловна!"
Народная пѣсня Олонецкой губерніи.
286
Разсказъ Нелли. Ж.
{Отрывокъ изъ романа „Униженные и оскорбленные^).
— Когда мы пріѣхали, то долго отыскивали дѣдушку,—
но никакъ не могли отыскать.
Мамаша мнѣ и сказала тогда, что дѣдушка былъ прежде
очень богатый и фабрику хотѣлъ строить, а что теперь онъ
очень бѣдный, потому что тотъ, съ кѣмъ мамаша уѣхала,
взялъ у ней всѣ дѣдушкины деньги и не отдалъ ей. Она мнѣ
это сама сказала.
— И она говорила мнѣ еще, что дѣдушка на нее очень
сердитъ и что она сама во всемъ передъ нимъ виновата, и
что нѣтъ у ней теперь на всей землѣ никого кромѣ дѣдушки.
И когда говорила мнѣ, то плакала... „Онъ меня не проститъ“,
говорила она, еще когда мы сюда ѣхали,—„но, можетъ-быть,
тебя увидитъ и тебя полюбитъ, а за тебя и меня проститъ".
Мамаша очень любила меня и когда это говорила, то всегда
меня цѣловала, а къ дѣдушкѣ итти очень боялась. Меня же
учила молиться за дѣдушку и сама молилась и много мнѣ
еще разсказывала, какъ она прежде жила съ дѣдушкой и какъ
дѣдушка ее очень любилъ, больше всѣхъ. Она ему на фор-
тепьяно играла и книги читала по вечерамъ, а дѣдушка ее
цѣловалъ и много ей дарилъ... все дарилъ, такъ что одинъ
разъ они и поссорились, въ мамашины именины, потому что
дѣдушка думалъ, что мамаша еще не знаетъ, какой будетъ
подарокъ, а мамаша уже давно узнала какой. Мамашѣ хотѣ-
лось серьги, а дѣдушка все нарочно обманывалъ ее и гово-
рилъ, что подаритъ не серьги, а брошку; и когда онъ при-
несъ серьги и какъ увидѣлъ, что мамаша ужъ знаетъ, что
будутъ серьги, а не брошка, то разсердился за то, что мамаша
узнала, и половину дня не говорилъ съ ней, а потомъ самъ
пришелъ ее цѣловать и прощенья просить...
287
Мамаша пріѣхала сюда очень больная, потомъ ей стало
еще хуже, и она уже рѣдко вставала съ постели; денегъ у
насъ ужъ ничего больше не было, я и стала ходить съ капи-
таншей. А капитанша по домамъ ходила, тоже и на улицѣ
людей хорошихъ останавливала и просила, тѣмъ и жила. Она
говорила мнѣ, что она не нищая, а что у ней бумаги есть,
гдѣ ея чинъ написанъ и написано тоже, что она бѣдная.
Эти бумаги она и показывала, и ей за это деньги давали.
Она и говорила мнѣ, что у всѣхъ просить не стыдно. Я и
ходила съ ней, и намъ подавали, тѣмъ мы и жили. Мамаша
узнала про это, потому что жильцы стали попрекать, что она
нищая, а Бубнова сама приходила къ мамашѣ и говорила, что
лучше бъ она меня къ ней отпустила, а не просить милостыню.
Она и прежде къ мамашѣ приходила и ей денегъ носила; а
когда мамаша не брала отъ нея, то Бубнова говорила: „Зачѣмъ
вы такія гордыя?" и кушанье присылала. А какъ сказала она
это теперь про меня, то мамаша заплакала, испугалась, а Буб-
нова начала ее бранить, потому что была пьяна, и сказала,
что я и безъ того нищая и съ капитаншей хожу, и въ тотъ
же вечеръ выгнала капитаншу изъ дому. Мамаша, какъ узнала
про все, то стала плакать, потомъ вдругъ встала съ постели,
одѣлась, схватила меня за руку и повела за собой. Иванъ
Александрычъ сталъ ее останавливать, но она не слушала, и
мы вышли. Мамаша едва могла ходить и каждую минуту са-
дилась на улипѣ, а я ее придерживала. Мамаша все говорила,
что идетъ къ дѣдушкѣ и чтобъ я вела ее, а ужъ давно стала
ночь. Вдругъ мы пришли въ большую улицу; тутъ передъ
однимъ домомъ останавливались кареты и много выходило
народу, а въ окнахъ вездѣ былъ свѣтъ и слышна была му-
зыка. Мамаша остановилась, схватила меня и сказала мнѣ
тогда: „Нелли, будь бѣдная, будь всю жизнь бѣдная, не ходи
къ нимъ, кто бы тебя ни позвалъ, кто бы ни пришелъ. И ты
бы могла тамъ быть, богатая и въ хорошемъ платьѣ, да я
288
этого не хочу. Они злые и жестокіе, и вотъ тебѣ мое при-
казаніе: оставайся бѣдной, работай и милостыню проси, а если
кто придетъ за тобой, скажи: не хочу къ вамъ!..“
Это мнѣ говорила мамаша, когда больна была, и я всю
жизнь хочу ее слушаться,—и всю жизнь буду служить и ра-
ботать, и къ вамъ пришла тоже служить и работать, а не хочу
быть какъ дочь...
Ѳ. Достоевскій.
Бахчисарайскій фонтанъ. Ж.
(Отрывокъ).
...... Я шла къ тебѣ;
Спаси меня; въ моей судьбѣ
Одна надежда мнѣ осталась...
Я долго счастьемъ наслаждалась,
Была безпечнѣй день отъ дня...
И тѣнь блаженства миновалась;
Я гибну. Выслушай меня.
Родилась я не здѣсь, далеко,
Далеко... но минувшихъ дней
Предметы въ памяти моей
Донынѣ врѣзаны глубоко.
Я помню горы въ небесахъ,
Потоки жаркіе въ горахъ,
Непроходимыя дубравы,
Другой законъ, другіе нравы,
Но почему, какой судьбой
Я край оставила родной,
Не знаю; помню только море
И человѣка въ вышинѣ
Надъ парусами...
Страхъ и горе
Донынѣ чужды были мнѣ;
Я въ безмятежной тишинѣ
289
Школа чтеца.
19
Въ тѣни гарема расцвѣтала
И первыхъ опытовъ любви
Послушнымъ сердцемъ ожидала.
Желанья тайныя мои
Сбылись. Гирей для мирной нѣги
Войну кровавую презрѣлъ,
Пресѣкъ ужасные набѣги
И свой гаремъ опять узрѣлъ.
Предъ хана въ смутномъ ожиданьи
Предстали мы. Онъ свѣтлый взоръ
Остановилъ на мнѣ въ молчаньи,
Позвалъ меня... и съ этихъ поръ
Мы въ безпрерывномъ упоеньи,
Дышали счастьемъ; и не разъ
Ни клевета, ни подозрѣнье,
Ни злобной вѣрности мученье,
Ни скука не смущала насъ.
Марія, ты предъ нимъ явилась...
Увы, съ тѣхъ поръ его душа
Преступной думой омрачилась!
Гирей, измѣною дыша,
Моихъ не слушаетъ укоровъ;
Ему докученъ сердца стонъ;
Ни прежнихъ чувствъ, ни разговоровъ
Со мною не находитъ онъ.
Ты приступленью не причастна;
Я знаю, не твоя вина...
И такъ послушай: я прекрасна;
Во всемъ гаремѣ ты одна
Могла бъ еще мнѣ быть опасна;
Но я для страсти рождена,
Но ты любить, какъ я, не можешь;
Зачѣмъ же хладной красотой
Ты сердце слабое тревожишь?
Оставь Гирея мнѣ: онъ мой;
На мнѣ горятъ его лобзанья,
Онъ клятвы страшныя мнѣ далъ,
Давно всѣ думы, всѣ желанья
290
Гирей съ моими сочеталъ;
Меня убьетъ его измѣна...
Я плачу видишь, и колѣна
Теперь склоняю предъ тобой,
Молю, винить тебя не смѣя,
Отдай мнѣ радость и покой,
Отдай мнѣ прежняго Гирея...
Не возражай мнѣ ничего;
Онъ мой; онъ ослѣпленъ тобою.
Презрѣньемъ, просьбою, тоскою,
Чѣмъ хочешь, отврати его,
Клянись... (хоть я для Алкорана,
Между невольницами хана,
Забыла вѣру прежнихъ дней,
Но вѣра матери моей
Была твоя) клянись мнѣ ею
Зарему возвратить Гирею...
Но слушай: если я должна
Тебѣ... кинжаломъ я владѣю,
Я близъ Кавказа рождена".
Пушкинъ.
Живыя тощи. Ж.
{Второй отрывокъ).
Спать-то я не всегда могу. Хоть и большихъ болей у
меня нѣтъ, а ноетъ у меня тамъ, въ самомъ нутрѣ, и въ ко-
стяхъ тоже; не даетъ спать, какъ слѣдуетъ. Нѣтъ... а такъ,
лежу я себѣ, лежу—полеживаю—и не думаю; чую, что жива,
дышу—и вся я тутъ. Смотрю, слушаю. Пчелы на пасѣкѣ жуж-
жатъ да гудятъ; голубь на крышу сядетъ и заворкуетъ; ку-
рочка-насѣдочка зайдетъ съ цыплятами крошекъ поклевать; а
то воробей залетитъ или бабочка—мнѣ очень пріятно. Въ по-
запрошломъ году такъ даже ласточки вонъ тамъ, въ углу,
гнѣздо себѣ свили и дѣтей вывели. Ужъ какъ же оно было
291
19*
занятно!—Одна влетитъ къ гнѣздышку — припадетъ, дѣтокъ
накормитъ—и вонъ. Глядишь—ужъ на смѣну ей другая. Иногда
не влетитъ, только мимо раскрытой двери пронесется — а
дѣтки тотчасъ—ну пищать да клювы разѣвать... Я ихъ и на
слѣдующій годъ поджидала, да ихъ, говорятъ, одинъ здѣшній
охотникъ изъ ружья застрѣлилъ. И на что покорыстился?
Вся-то она, ласточка, не больше жука... Какіе вы, господа
охотники, злые!
— А то разъ, — начала опять Лукерья, — вотъ смѣху-то
было! Заяцъ забѣжалъ, право! Собаки, что ли, за нимъ гна-
лись, — только онъ прямо въ дверь какъ прикатитъ!.. Сѣлъ
близехонько — и долго-таки сидѣлъ, — все носомъ водилъ и
усами дергалъ — настоящій офицеръ! И на меня смотрѣлъ.
Понялъ, значитъ, что я ему не страшна. Наконецъ, всталъ,
прыгъ-прыгъ къ двери, на порогѣ оглянулся, да и былъ таковъ!
Смѣшной такой!
— Вотъ, вы, баринъ, спрашивали меня, — сплю ли я?
Сплю я, точно, рѣдко, но всякій разъ сны вижу, — хорошіе
сны! Никогда больной я себя не вижу: такая я всегда во снѣ
здоровая да молодая... Одно горе: проснусь я—потянуться
хочу хорошенько—анъ я вся, какъ скованная. Разъ мнѣ какой
чудной сонъ приснился! Хотите, разскажу вамъ? Ну, слу-
шайте.—Вижу я, будто стою я въ полѣ, а кругомъ рожь,
такая высокая, спѣлая, какъ золотая!.. И будто со мной со-
бачка рыженькая, злющая—презлющая—все укусить меня хо-
четъ. И будто въ рукахъ у меня серпъ, и не простой серпъ,
а самый какъ есть мѣсяцъ, вотъ, когда онъ на серпъ похожъ
бываетъ. И этимъ самымъ мѣсяцемъ должна я эту самую рожь
сжать до-чиста. Только очень меня отъ жары растомило, и
мѣсяцъ меня слѣпитъ, и лѣнь на меня нашла; а кругомъ ва-
сильки растутъ, да такіе крупные! И всѣ ко мнѣ головками
повернулись. И думаю я: нарву я этихъ васильковъ; Вася
притти обѣщался — такъ вотъ я себѣ вѣнокъ сперва совью;
292
жать-то я еще успѣю. Начинаю я рвать васильки, а они у
меня промежь пальцевъ таютъ да таютъ, хоть ты что! И не
могу я себѣ вѣнокъ свить. А между тѣмъ я слышу—кто-то
ужъ идетъ ко мнѣ, близко таково, и зоветъ: Луша! Луша!..
Ай, думаю, бѣда—не успѣла! Все равно, надѣну я себѣ на
голову этотъ мѣсяцъ замѣсто васильковъ. Надѣваю я мѣсяцъ,
ровно какъ кокошникъ, и такъ сама сейчасъ вся засіяла, все
поле кругомъ освѣтила. Глядь — по самымъ верхушкамъ ко-
лосьевъ катитъ ко мнѣ скорехонько—только не Вася, а самъ
Христосъ. И почему я узнала, что это Христосъ —сказать не
могу,—такимъ его не пишутъ, — а только Онъ! Безбородый,
высокій, молодой, весь въ бѣломъ,—только поясъ золотой,—
и ручку мнѣ протягиваетъ.—„Не бойся, говоритъ, невѣста моя
разубранная, ступай за мной; ты у меня въ царствіи небес-
номъ хороводы водить будешь и пѣсни играть райскія“. И я
къ его ручкѣ какъ прильну! Собачка моя сейчасъ меня за
ноги... но тутъ мы взвились! Онъ впереди... Крылья у него
по всему небу развернулись, длинныя, какъ у чайки,—и я за
нимъ. И собачка должна отстать отъ меня. Тутъ только я
поняла, что эта собачка—болѣзнь моя, и что въ царствѣ не-
бесномъ ей уже мѣста не будетъ.
И. Тургеневъ.
Письмо Татьяны. Ж.
Я вамъ пишу—чего же болѣ? Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, въ вашей волѣ меня презрѣньемъ наказать.
Но вы, къ моей несчастной долѣ хоть каплю жалости храня,
вы не оставите меня. Сначала я молчать хотѣла, повѣрьте:
моего стыда вы не узнали бъ никогда, когда бъ надежду я
имѣла, хоть рѣдко, хоть въ недѣлю разъ, въ деревнѣ нашей
видѣть васъ, чтобъ только слышать ваши рѣчи, вамъ слово
293
молвить, и потомъ все думать, думать объ одномъ и день и
ночь до новой встрѣчи! Но, говорятъ, вы нелюдимъ; въ глуши,
въ деревнѣ, все вамъ скучно; а мы... ничѣмъ мы не блестимъ,
хоть вамъ и рады простодушно. Зачѣмъ вы посѣтили насъ?
Въ глуши забытаго селенья я никогда не знала бъ васъ, не
знала бъ горькаго мученья. Души неопытной волненья сми-
ривъ со временемъ (какъ знать?), по сердцу я нашла бы
друга, была бы вѣрная супруга и добродѣтельная маты
Другой! Нѣтъ, никому на свѣтѣ не отдала бы сердца я!
То въ высшемъ суждено совѣтѣ... то воля неба—я твоя; вся
жизнь моя была залогомъ свиданья вѣрнаго съ тобой; я знаю,
ты мнѣ посланъ Богомъ, до гроба ты хранитель мой... Ты въ
сновидѣньяхъ мнѣ являлся, незримый, ты мнѣ былъ ужъ милъ;
твой чудный взглядъ меня томилъ, въ душѣ твой голосъ раз-
давался давно... Нѣтъ, это былъ не сонъ! Ты чуть вошелъ, я
вмигъ узнала, вся обомлѣла, запылала и въ мысляхъ молвила:
вотъ онъ! Не правда ль? Я тебя слыхала: ты говорилъ со
мной въ тиши, когда я бѣднымъ помогала, или молитвой
услаждала тоску волнуемой души? И въ это самое мгновенье
не ты ли, милое видѣнье, въ прозрачной темнотѣ мелькнулъ,
приникнувъ тихо къ изголовью? Не ты ль, съ отрадой и лю-
бовью, слова надежды мнѣ шепнулъ? Кто ты: мой ангелъ ли
хранитель, или коварный искуситель? Мои сомнѣнья разрѣши.
Быть-можетъ, это все пустое, обманъ неопытной души! И
суждено совсѣмъ иное... Но такъ и быть! Судьбу мою от-
нынѣ я тебѣ вручаю, передъ тобою слезы лью, твоей защиты
умоляю... вообрази: я здѣсь одна, никто меня не понимаетъ,
разсудокъ мой изнемогаетъ, и молча гибнуть я должна. Я
жду тебя: единымъ взоромъ надежды сердца оживи, иль сонъ
тяжелый перерви, увы, заслуженнымъ укоромъ!
Кончаю! Страшно перечесть... стыдомъ и страхомъ зами-
раю... но мнѣ порукой ваша честь, и смѣло ей себя ввѣряю...
Пушкинъ.
294
Отвіътъ Татьяны. Ж.
... Довольно... Встаньте! Я должна вамъ объясниться от-
кровенно. Онѣгинъ, помните ль тотъ часъ, когда въ саду, въ
аллеѣ, насъ судьба свела и такъ смиренно урокъ вашъ вы-
слушала я? Сегодня очередь моя.
Онѣгинъ, я тогда моложе, и лучше, кажется, была, и я
любила васъ. И что же? Что въ сердцѣ вашемъ я нашла,
какой отвѣтъ? Одну суровость. Не правда ль? Вамъ была не
новость смиренной дѣвочки любовь? И нынче, Боже!—стынетъ
кровь, какъ только вспомню взглядъ холодный и эту пропо-
вѣдь... Но васъ я не виню: въ тотъ страшный часъ вы по-
ступили благородно, вы были правы предо мной; я благо-
дарна всей душой...
Тогда — не правда ли?—въ пустынѣ, вдали отъ суетной
молвы, я вамъ не нравилась... Что жъ нынѣ меня преслѣ-
дуете вы? Зачѣмъ у васъ я на примѣтѣ? Не потому ль, что
въ высшемъ свѣтѣ теперь являться я должна, что я богата и
знатна, что мужъ въ сраженьяхъ изувѣченъ; что насъ за то
ласкаетъ дворъ? Не потому ль, что мой позоръ теперь бы
всѣми былъ замѣченъ и могъ бы въ обществѣ принесть вамъ
соблазнительную честь.
Я плачу... Если вашей Тани вы не забыли до сихъ поръ,
то знайте: колкость вашей брани, холодный, строгій разго-
воръ, когда бъ въ моей лишь было власти, я предпочла бъ
обидной страсти, и этимъ письмамъ, и слезамъ. Къ моимъ
младенческимъ мечтамъ тогда имѣли вы хоть жалость, хоть
уваженіе къ лѣтамъ... А нынче!.. Что къ моимъ ногамъ васъ
привело? Какая жалость! Какъ съ вашимъ сердцемъ и умомъ
быть чувства мелкаго рабомъ?
А мнѣ, Онѣгинъ, пышность эта — постылой жизни ми-
шура, мои успѣхи въ вихрѣ свѣта, мой модный домъ и ве-
295
чера, что въ нихъ! Сейчасъ отдать я рада всю эту ветошь
маскарада, весь этотъ блескъ, и шумъ, и чадъ за полку книгъ,
за дикій садъ, за наше бѣдное жилище, за тѣ мѣста, гдѣ въ
первый разъ, Онѣгинъ, видѣла я васъ, да за смиренное клад-
бище, гдѣ нынче крестъ и тѣнь вѣтвей надъ бѣдной нянею
моей...
А счастье было такъ возможно, такъ близко!.. Но судьба
моя ужъ рѣшена. Неосторожно, быть-можетъ, поступила я:
меня съ слезами заклинаній молила мать; для бѣдной Тани
всѣ были жребіи равны... Я вышла замужъ... Вы должны, я
васъ прошу, меня оставить; я знаю: въ вашемъ сердцѣ есть
и гордость и прямая честь. Я васъ люблю (къ чему лукавить?),
но я другому отдана—и буду вѣкъ ему вѣрна.
Пушкинъ.
Старая шьсенка. Ж.
Матта, татта! регсЪё Іо сіісезЬі,
— Рі^ііа, Гідііа! регсЬё іо ГасезН?
Изъ ‘неумирающихъ разговоровъ.
Жили въ мірѣ дочь и мать. .
„Гдѣ бы денегъ намъ достать?"
Говорила это дочь.
А сама—темнѣй, чѣмъ ночь.
„Будь теперь я молода,
Не спросила бъ я тогда.
Я бъ сумѣла ихъ достать"
Говорила это—мать.
Такъ промолвила со зла,
На минуту отошла.
Но на цѣлый вечеръ прочь,
Прочь ушла куда-то дочь.
296
„Дочка, дочка—Боже мой!—
Что ты дѣлаешь со мной?"
Испугалась, плачетъ мать.
Долго будетъ дочку ждать.
Много времени прошло.
Быстро въ мірѣ ходитъ зло.
Мать обмолвилась со зла.
Дочь ей денегъ принесла.
Помертвѣла, смотритъ мать.
„Хочешь деньги сосчитать?"
„Дочка, дочка—Боже мой!—
Что ты сдѣлала съ собой?"
„Ты сказала—я пошла".—
„Я обмолвилась со зла".—
„Ты обмолвилась, а я
„Оступилась, мать моя".
К. Бальмонтъ.
Жена ядощика. Ж.
Жгучъ морозъ трескучій;
На дворѣ темно;
Серебристый иней
Запушилъ окно.
Тяжело и скучно,
Тишина въ избѣ;
Только вѣтеръ воетъ
Жалобно въ трубѣ,
И горитъ лучина,
Издавая трескъ,
На полати, стѣны
Разливая блескъ.
Дремлетъ подлѣ печки,
Прислонясь къ стѣнѣ,
Мальчуганъ кудрявый
Въ старомъ зипунѣ.
Слабо освѣщаетъ
Блѣдный огонекъ
Дѣтскую головку
И румянецъ щекъ.
Тѣнь его головки
На стѣнѣ лежитъ;
На скамьѣ, за прялкой,
Мать его сидитъ.
Ей недаромъ снился
Страшный сонъ вчера:
Вся душа изныла
Съ ранняго утра.
Пятая недѣля
Вотъ къ концу идетъ,
297
Мужъ, что въ воду канулъ,
Вѣсточки не шлетъ.
„Ну, Господь помилуй,
Если съ мужикомъ
Грѣхъ какой случился
На пути глухомъ!..
Дѣло мое бабье,
Цѣлый вѣкъ больна,
Что я буду дѣлать
Одиной-одна!
Сынъ еще ребенокъ,
Скоро ль подрастетъ?
Бѣдный!., все гостинца
Отъ отца онъ ждетъ!..
И глядитъ на сына
Горемыка-мать:
„Ты бы легъ, касатикъ,
Перестань дремать!"
— А зачѣмъ же, мама,
Ты сама не спишь,—
И вечоръ все пряла,
И теперь сидишь?
„Охъ, мой ненаглядный,
Прясть-то нѣтъ ужъ силъ:
Что-то такъ мнѣ грустно,
Божій свѣтъ не милъ!"
— Полно плакать, мама!
Мальчуганъ сказалъ
И къ плечу родимой
Головой припалъ.
„Я не стану плакать.
Лягъ, усни, дружокъ;
Я тебѣ соломки
Принесу снопокъ,
Постелю постельку,
И Господь пошлетъ—
Твой отецъ гостинецъ
Скоро привезетъ;
Новыя салазки
Сдѣлаетъ опять;
Будетъ въ нихъ сыночка
По двору катать..."
И дитя забылось.
Ночь длинна-длинна...
Мѣрно раздается
Звукъ веретена.
Дымная лучина
Чуть въ свѣтцѣ горитъ,
Только вьюга какъ-то
Жалобно шумитъ.
Мнится, будто стонетъ
Кто-то у крыльца,
Словно провожаетъ
Съ плачемъ мертвеца...
Вотъ въ сѣняхъ избушки
Кто-то застучалъ.
„Батюшка пріѣхалъ!"
Мальчуганъ сказалъ...
И вскочилъ съ постели,
Щеки ярче розъ:
„Батюшка пріѣхалъ,
Калачей привезъ!.."
— Вишь морозъ какъ крѣпко
Дверь-то прихватилъ!—
Грубо гость знакомый
Вдругъ заговорилъ...
И мужикъ плечистый
Сильно дверь рванулъ,
На порогѣ съ шапки
Иней отряхнулъ,
Осѣнилъ три раза
Грудь свою крестомъ,
Почесалъ затылокъ
И сказалъ потомъ:
— Здравствуешь, сосѣдка!
Какъ живешь, мой свѣтъ?..
298
Экая погодка,
Въ полѣ слѣду нѣтъ!
Ну, не съ доброй вѣстью
Я къ тебѣ пришелъ:
Я лошадокъ вашихъ
Изъ Москвы привелъ.—
„А мой мужъ?!" спросила
Ямщика жена,
И бѣлѣе снѣга
Сдѣлалась она.
— Да въ Москву пріѣхавъ,
Вдругъ онъ захворалъ,
И Господь бѣднягѣ
По душу послалъ.—
Вѣсть, какъ громъ, упала...
И, едва жива,
Перевесть дыханья
Не могла вдова;
Опустивъ рученки,
Сынъ дрожалъ, какъ листъ...
За стѣной избушки
Былъ и плачъ, и свистъ.
— Вишь, какая притча!
Разсуждалъ мужикъ:
— Вѣрно я не въ пору
Развязалъ языкъ.
А вѣдь жалко бабу,
Что и говорить!
Скоро ей придется
По міру ходить!..
Ну, прощай покуда,
Мнѣ домой пора;
Лошади-то ваши
Тутъ вотъ у двора.
Да!., вѣдь, эка память,
Все сталъ забывать:
Вотъ отецъ сынишкѣ
Крестъ велѣлъ отдать.
Самъ онъ черезъ силу
Съ шеи его снялъ,
Въ грамоткѣ мнѣ отдалъ
Въ руки и сказалъ:
„Вотъ благословленье
Сыну моему;
Пусть не забываетъ
Мать, скажи ему!“
А тебя-то видно,
Крѣпко онъ любилъ!
По-смерть твое имя,
Бѣдный, онъ твердилъ.
И. Никитинъ.
У стіьнъ града невидимаго. Ж.
(Отрывокъ).
У Татьянушки гости собрались. Пьютъ чай и бесѣдуютъ.
Я прилегъ на лавку въ другой комнатѣ и слышу ихъ осто-
рожный шопотъ:
— Кто праведный, такъ и звонъ слышитъ.
— Кто праведный.
299
— Татьяна Горняя слышала, звали къ себѣ.
— Зря не позовутъ.
— Зря не берутъ. Умолишь угодниковъ Божіихъ, вотъ
и позовутъ, и растворятся воротца, а пожалѣешь кого, опять
станетъ пустымъ и дикимъ мѣстомъ. Собралась Татьяна, на-
дѣла сарафанъ черный, кофту черную, платъ черный. Прости-
лась. А мы и просимъ: какъ примутъ праведники, дай намъ
оттуда вѣсточку. Это бываетъ. Даже письма шлютъ.
— Очень просто, что шлютъ.
— Простилась. Внучка Машенька плакала.
— Догадывалась.
— Пришла къ озеру къ полночи. Дожидается, какъ вода-
то всколыбается. Зачерпнула ведро и пошла въ гору. И вотъ-
то звону!
— Ма—матушки.
— И вотъ-то звону! Волосы вянутъ. У нихъ-то заутреню
служатъ. У нихъ правильно.
— Правильно.
— Идетъ Татьяна, молитву творитъ. А гдѣ большій-то
холмикъ, стоитъ бѣлый старикъ, въ родѣ Миколая угодника,
рукой машетъ.
— И ворота открыли. Колокола гудятъ. Праведники
встрѣчаютъ: иди къ намъ, иди къ намъ, Татьянушка.
— Господи!
— Она тутъ и вспомни про внучку: вотъ бы мнѣ сюда
Машеньку.
— Машеньку!
И только помянула, глядитъ, опять озеро и на горахъ
сосны стоятъ.
— И звона нѣту?
— Ничего нѣту. Какъ былъ лѣсъ, такъ и есть. Дикое
мѣсто, пустое.
М. Пришвинъ.
300
С л іь о а я
За шитье садись-ка!
Да прилежнѣй шить;
Локоть будетъ близко—
Да не укусить!
Милый для вострухи
Хорошо поетъ—
А слѣпой старухи,
Нѣтъ, не проведетъ!
Имъ позволь немножко...
Стой! Куда идешь?
Отворять окошко?—
Лиза, ты не шьешь.
Душно стало?.. Сказки!
Вовсе не къ тому
Ты въ окошко глазки
Дѣлаешь ему.
Я, небось, сварлива—
Эхъ! И я была
Смолоду красива;
Все сама прошла...
Съ этою работой
Горе наживешь...
Тамъ у двери кто-то?—
Лиза, ты не шьешь.
Вѣтромъ растворилась?
тать. Ж.
Ишь вѣдь чудеса!
А зачѣмъ явилась
Кость въ зубахъ у пса?
Мать вѣдь все смекаетъ,
Даромъ что безъ глазъ—
Вѣтеръ-то гуляетъ
Въ головѣ у васъ!
Больно разгулялся...
Это что? Грабежъ!
Поцѣлуй раздался!—
Лиза, ты не шьешь.
Что? Пришла охота
Птичку цѣловать?
Лиза, стыдно лгать.
Сладко цѣловаться
Съ милымъ голубкомъ...
А надъ кѣмъ смѣяться
Будетъ онъ потомъ?
Красоту размоетъ
Горькихъ слезъ ручей...
Сердце все изноетъ...
Лиза, Лиза шей!
Беранже.
В. Курочкинъ.
Третій тужъ. Ж.
Несчастная съ двумя мужьями,
Я въ руки третьяго взяла.
Иванъ ворчитъ, но между нами
Какъ разъ кончаются дѣла.
Чуть Ваня что-нибудь не такъ—
Я тотчасъ же ему колпакъ
301
Надвину до ушей:
— Молчи, мозглякъ!
Смотри, дуракъ,
Со мною разсуждать не смѣй!
Ну, цыцъ! Грубьянъ!
Ни-ни! Иванъ!
Я не забыла двухъ мужей!
Такъ, послѣ свадьбы чрезъ полгода,
Господь намъ двойни даровалъ;
Ну, по обычаю народа,
Назначили крестины, балъ...
Смотрю: буянитъ мой Иванъ,
Зачѣмъ съ малютками уланъ!
Какъ?! Вы не цѣните людей!
Такъ вотъ вы какъ!
Да ты, дуракъ,
Благодарилъ бы за дѣтей!
Ну, цыцъ! Грубьянъ!
Ни-ни! Иванъ!
Я не забыла двухъ мужей.
Я денегъ въ долгъ дала улану;
Откуда жъ бѣдному достать?
Не знаю, кто сказалъ Ивану—
Смотрю: сталъ ящикъ запирать.
Дай денегъ. Говоритъ: Украли.
Такъ вы съ женой считаться стали?!
Дай ключъ сюда отъ всѣхъ ключей!
Какой тутъ воръ!
Да съ этихъ поръ
Копейки требовать не смѣй!
Ну, цыцъ! Грубьянъ!
Ни-ни! Иванъ!
Я не забыла двухъ мужей.
Съ уланомъ вечеромъ сидѣла;
Вдругъ ночью пріѣзжаетъ мой!
Служанки нѣтъ... ночное дѣло—
Не отворять же мнѣ самой!
Прождалъ голубчикъ у воротъ:
302
Не полуночничай впередъ!
Промокъ, продрогнулъ до костей...
Такъ вы гулять?!
Вы ревновать?!
Я отучу васъ отъ затѣй!
Ну, цыцъ! Грубьянъ!
Ни-ни! Иванъ!
Я не забыла двухъ мужей.
Была, я помню, перепалка!
Я и его поймала разъ:
Ѳедосья старая кухарка,
Его прельстила съ пьяныхъ глазъ...
Ее за талью онъ держалъ,
Ласкалъ ее... какой скандалъ!
Вы развращать моихъ людей?!
Отъ васъ виномъ
На цѣлый домъ
Разитъ... Ложитесь спать скорѣй!
Ну, цыцъ! Грубьянъ!
Ни-ни! Иванъ!
Я не забыла двухъ мужей.
Мы съ нимъ воюемъ зачастую,
Но и миримся иногда.
Сама другой разъ побалую:
Иванъ, скажу, поди сюда!
Не дуться! Полно! Васъ зовутъ!
Сюда! Вотъ такъ. Садитесь тутъ.
Иванъ, цѣлуй меня живѣй!
Еще дружокъ...
Еще разокъ,
Еще, еще! Нѣжнѣй! Нѣжнѣй...
Ну, цыцъ, грубьянъ...
Ни-ни... Иванъ,
Я не забыла двухъ мужей.
Беранже.
В. Курочкинъ.
303
Трясогузка. Ж.
Разыгралась буря—непогодушка,
Надъ дубравой темной разразилася.
Гдѣ прошла—дубы лежатъ столѣтніе,
Переломлены березоньки кудрявыя,
Прилегли къ землѣ кусты орѣшины...
По башкѣ медвѣдя громомъ треснуло:
Опоздавши быль съ охоты Мишенька,
Не дошелъ медвѣдь до мѣстожительства,
Громомъ треснуло—хоть панихиду правь!..
II.
Не убила буря трясогузочку,
Бѣлобрюшку—птичку полосатую;
И сперва пичужка пріужахнулась,
А потомъ гораздо возгордилася —
И пошла нести—хвостомъ трясти:
„Не страшна мнѣ буря—хлябь небесная!,
„Сколько, вишь, бѣды въ лѣсу надѣлала!
„Повалила цѣльнаго медвѣдища,
„Повалило во—каку огромину,—
„А меня и тронуть побоялася!..
„Знать, судьба мнѣ быть великой барыней,
„Безъ опаски всюду проклажатися!
„Знать, судьба мнѣ міру быть заступницей!..“
III.
А пока она несла—хвостомъ трясла,
Что несла —хвостомъ трясла, бахвалилась,
Надъ ручьемъ гулять себѣ изволила,—
Вдругъ настала темень непроглядная:
То вдругорядь тучи понадвинулись,
304
Наливныя, черныя, косматыя!..
Понависли низко надъ дубравушкой:
Ну, вотъ-вотъ за сосны суховерхія
Наливныя тученьки зацѣпятся,
Ну, вотъ-вотъ все небо наземь брякнется,—
А какъ брякнется—тогда аминь всему!..
Тутъ за міръ вступилась трясогузочка,
Возлегла на спинку полосатую,
Ножки-крошки къ небу оттопырила:
Значитъ, нѣтъ на то ея согласія,
Чтобы зря на землю небо падало!
Не попуститъ, вверхъ упрется ножками!..
IV.
Услыхалъ тѣ рѣчи старый воробей,
Сидючи въ кустѣ большомъ, напыжившись,
Воробушко пуганый да стрѣляный...
Слово птичкѣ молвилъ онъ степенное:
„Эхъ, напрасно, тетка, ты куражишься,
Задираешь носикъ понапрасному,
Искушаешь ты свово Создателя!
Небеса-то на землю не свалятся,—
А вотъ крыса изъ ручья повылѣзетъ,
Водяная крыса, темно-бурая!
У нея вѣдь носъ—что у подьячаго,
Злые буркалы—что у сыскныхъ людей,
А ужъ брюхо—безо всякой совѣсти:
Что завидитъ—безпремѣнно слопаетъ!.."
V.
Какъ тутъ вскочитъ птичка-трясогузочка!
Ну бѣжать скорѣй, куда глаза глядятъ,
Утекаючи несетъ—хвостомъ трясетъ:
„Тридцать разъ пусть наземь небо свалится!
Пропадайте всѣ тутъ вмѣстѣ пропадомъ,—
Лишь бы крыса-то меня не слопала!.."
В. Величко.
305
Школа тгегр
20
Два голубя. Ж.
Два голубя, какъ два родные брата жили;
Другъ безъ друга они не ѣли и не пили;
Гдѣ видишь одного, другой ужъ, вѣрно, тамъ;
И радость и печаль—все было пополамъ.
Не видѣли они, какъ время пролетало:
Бывало грустно имъ, а скучно не бывало.
Ну, кажется, куда бъ хотѣть
Или отъ милой иль отъ друга?
Нѣтъ, вздумалъ странствовать одинъ изъ нихъ летѣть:
Увидѣть, осмотрѣть
Диковинки земного круга,
Ложь съ истиной сличить, повѣрить быль съ молвой.
«Куда ты?—говоритъ сквозь слезъ другой.—
Что пользы по свѣту таскаться?
Иль съ другомъ хочешь ты разстаться?
Безсовѣстный! когда тебѣ меня не жаль,
Такъ вспомни хищныхъ птицъ, силки, грозы ужасны,
И все, чѣмъ странствія опасны.
Хоть подожди весны летѣть въ такую даль:
Ужъ я тебя тогда удерживать не буду.
Теперь еще и кормъ и скуденъ такъ и малъ;
Да, чу! и воронъ прокричалъ:
Вѣдь это вѣрно къ худу.
Останься дома, милый мой!
Ну, намъ вѣдь весело съ тобой!
Куда жъ еще тебѣ летѣть, не разумѣю;
А я такъ безъ тебя совсѣмъ осиротѣю.
Силки да коршуны да громы только мнѣ
Казаться будутъ и во снѣ;
Все стану надъ тобой бояться я несчастья;
Чуть тучка лишь надъ головой,
Я буду говорить: Ахъ! гдѣ-то братецъ мой?
Здоровъ ли, сытъ ли онъ, укрыгъ ли отъ ненастья’“
Растрогала рѣчь эта голѵбка:
306
Жаль братца, да летѣть охота велика:
Она и разсуждать и чувствовать мѣшаетъ.
„Не плачь, мой милый, — такъ онъ друга утѣшаетъ,—
Я на три дня съ тобой, не больше, разлучусь;
Все наскоро въ пути замѣчу на полетѣ,
И, осмотрѣвъ, что есть диковиннѣй па свѣтѣ,
Подъ крылышко къ дружку назадъ я ворочусь.
Тогда-то будетъ намъ о чемъ повесть словечко!
Я вспомню каждый часъ и каждое мѣстечко;
Все разскажу, дѣла ль, обычай ли какой,
Иль гдѣ какое видѣлъ диво.
Ты, слушая меня, представишь все такъ живо,
Какъ будто бъ самъ леталъ ты по свѣту со мной*.
Тутъ—дѣлать нечего—друзья поцѣловались,
Простились и разстались.
Вотъ странникъ нашъ летитъ; вдругъ въ встрѣчу дождь и громъ
Подъ нимъ, какъ океанъ, синѣетъ степь кругомъ.
Гдѣ дѣться? Къ счастью дубъ сухой въ глаза попался;
Кой-какъ угнѣздился, прижался
Къ нему нашъ голубокъ;
Но ни отъ вѣтра онъ укрыться тутъ не могъ,
Ни отъ дождя спастись: весь вымокъ и продрогъ.
Утихъ по малу громъ. Чуть солнце просіяло,
Желанье позывать бѣдняжку далѣ стало.
Встряхнулся и летитъ,—летитъ и видитъ онъ:
Въ заглушьи подъ лѣскомъ разсыпана пшеничка.
Спустился—въ сѣти тутъ попалась наша птичка!
Бѣды со всѣхъ сторонъ!
Трепещется онъ, рвется, бьется.
По счастью, сѣть стара: кой-какъ ее прорвалъ,
Лишь ножку вывихнулъ да крылышко помялъ!
Но не до нихъ: онъ прочь безъ памяти несется.
Вотъ, пуще той бѣды, бѣда надъ головой:
Отколь ни взялся ястребъ злой;
Не взвидѣлъ свѣта голубь мой!
Огь ястреба изъ силъ послѣднихъ машетъ.
Ахъ, силы вкороткѣ, совсѣмъ истошены!
Ужъ когти хищные надъ нимъ распущены;
307
20
Ужъ холодомъ въ него съ широкихъ крыльевъ пашетъ.
Тогда орелъ, съ небесъ направя свой полетъ,
Ударилъ въ ястреба всей силой—
И хищникъ хищнику достался на обѣдъ.
Межъ тѣмъ нашъ голубь милый,
Внизъ камнемъ ринувшись, прижался подъ плетнемъ.
Но тѣмъ еще не кончилось на нсмъ:
Одна бѣда всегда другую накликаетъ.
Ребенокъ, черепкомъ наметя въ голубка,—
Сей возрастъ жалости не знаетъ—
Швырнулъ и раскроилъ високъ у бѣдняка.
Тогда-то странникъ нашъ, съ разбитой головою,
Съ попорченнымъ крыломъ, съ повихнутой ногою,
Кляня охоту видѣть свѣтъ,
Поплелся кое-какъ домой безъ новыхъ бѣдъ.
Счастливъ еще: его тамъ дружба ожидаетъ!
Къ отрадѣ онъ своей,
Услуги, лѣкаря и помощь видитъ въ ней:
Съ ней скоро всѣ бѣды и горе забываетъ.
О вы, которые объѣхать свѣтъ вокругъ
Желаніемъ горите!
Вы эту басенку прочтите,
И въ дальній путь пускайтеся не вдругъ,
Чтобъ ни сулило вамъ воображенье ваше;
Но вѣрьте, той земли не сыщете вы краше:
Гдѣ ваша милая иль гдѣ живетъ вашъ другъ.
И. Крыловъ.
Ворона и лисица. Ж.
Ужъ сколько разъ твердили міру,
Что лесть гнусна, вредна; но только все не въ прокъ,
И въ сердцѣ льстецъ всегда отыщетъ уголокъ.
Воронѣ гдѣ-то Богъ послалъ кусочекъ сыру.
На ель ворона взгромоздясь,
Позавтракать было совсѣмъ ужъ собралась,
308
Да позадумалась, а сыръ во рту держала.
На ту бѣду лиса близехонько бѣжала.
Вдругъ сырный духъ лису остановилъ:
Лисица видитъ сыръ—лисицу сыръ плѣнилъ.
Плутовка къ дереву на цыпочкахъ подходитъ,
Вертитъ хвостомъ, съ вороны глазъ не сводитъ
И говоритъ такъ сладко, чуть дыша:
„Голубушка, какъ хороша!
Ну, что за шейка, что за глазки!
Разсказывать—такъ, право, сказки!
Какія перышки! Какой носокъ!
И вѣрно, ангельскій быть долженъ голосокъ!
Спой, свѣтикъ, не стыдись! Что ежели, сестрица,
При красотѣ такой и пѣть ты мастерица,
Вѣдь ты бъ у насъ была царь-птица!“
Вѣщуньина съ похвалъ вскружилась голова,
Отъ радости въ зобу дыханье сперло.—
И на привѣтливы Лисицыны слова
Ворона каркнула во все воронье горло:
Сыръ выпалъ,—съ нимъ была плутовка такова.
И. Крыловъ.
Ворона и курица- Ж.
Когда Смоленскій князь,
Противу дерзости искусствомъ воружась,
Вандаламъ новымъ сѣть поставилъ
И на погибель имъ Москву оставилъ,—
Тогда всѣ жители, и малый и большой,
Часа не тратя, собралися,
И вонъ изъ стѣнъ московскихъ поднялися,
Какъ изъ улья пчелиный рой.
Ворона съ кровли тутъ на эту всю тревогу
Спокойно, чистя носъ, глядитъ.
„А ты что жъ, кумушка, въ дорогу?—
Ей съ возу курица кричитъ.—
.Вѣдь, говорятъ, что у порогу
Нашъ супостатъ “.
309
— Мнѣ что до этого за дѣло?—
Вѣщунья ей въ отвѣтъ.—Я здѣсь останусь смѣло.
Вотъ ваши сестры какъ хотятъ;
А вѣдь воронъ ни жарятъ, ни варятъ;
Такъ мнѣ съ гостьми не мудрено ужиться;
А можетъ-быть, еще удастся поживиться
Сыркомъ иль косточкой, иль чѣмъ-нибудь.
Прощай, хохлаточка, счастливый путь!14
Ворона подлинно осталась;
Но, вмѣсто всѣхъ поживокъ ей,
Какъ голодомъ морить Смоленскій сталъ гостей,
Она сама къ нимъ въ супъ попалась.
Такъ часто человѣкъ въ расчетахъ слѣпъ и глупъ:
За счастьемъ, кажется, ты по пятамъ несешься;
А какъ на дѣлѣ съ нимъ сочтешься—
Попался, какъ ворона въ супъ!
И. Крыловъ.
Му^а и пчела. Ж.
Въ саду весной, при легкомъ вѣтеркѣ,
На тонкомъ стебелькѣ
Качалась муха, сидя,
И, на цвѣткѣ пчелу увидя,
Спѣсиво говоритъ: пУжъ какъ тебѣ не лѣнь
Съ утра до вечера трудиться цѣлый день!
На мѣстѣ бы твоемъ я въ сутки захирѣла.
Вотъ, напримѣръ, мое
Такъ, право, райское житье!
За мною только лишь и дѣла—
Летать по баламъ, по гостямъ:
И молвить, не хвалясь, мнѣ въ городѣ знакомы
Вельможъ и богачей всѣ домы.
Когда бъ ты видѣла, какъ я пирую тамъ!
Гдѣ только свадьба, именины—
Изъ первыхъ я ужъ вѣрно тутъ,
310
И ѣмъ съ фарфоровыхъ богатыхъ блюдъ,
И пыо изъ хрусталей блестящихъ сладки вина,
И прежде всѣхъ гостей
Беру, что вздумаю, изъ лакомыхъ сластей;
При томъ же, жалуя полъ нѣжной,
Вкругъ молодыхъ красавицъ вьюсь
И отдыхать у нихъ сажусь
На щечкѣ розовой иль шейкѣ бѣлоснѣжной04.
— Все это знаю я,—отвѣтствуетъ пчела,—
Но и о томъ дошли мнѣ слухи,
Что никому ты не мила,
Что на пирахъ лишь морщатся отъ мухи,
Что даже часто, гдѣ покажешься ты въ домъ,
Тебя гоняютъ со стыдомъ".
„Вотъ,—муха говоритъ,—гоняютъ!—что жъ такое?
Коль выгонятъ въ окно, такъ я влечу въ другое44.
И. Крыловъ.
Стрекоза и дауравей. Ж.
Попрыгунья стрекоза
Лѣто красное пропѣла;
Оглянуться не успѣла,
Какъ зима катитъ въ глаза.
Помертвѣло чисто поле;
Нѣтъ ужъ дней тѣхъ свѣтлыхъ болѣ,
Какъ подъ каждымъ ей листкомъ
Былъ готовъ и столъ и домъ.
Все прошло: съ зимой холодной
Нужда, голодъ настаетъ;
Стрекоза ужъ не поетъ;
И кому же въ умъ пойдетъ
На желудокъ пѣть голодный!
Злой тоской удручена,
Къ муравью ползетъ она:
„Не оставь меня, кумъ милый!
Дай ты мнѣ собраться съ силой,
311
И до вешнихъ только дней
Прокорми и обогрѣй!14
— Кумушка, мнѣ странно это;—
Да работала ль ты въ лѣто?—
Говоритъ ей муравей.
пДо того ль, голубчикъ, было?
Въ мягкихъ муравахъ у насъ
Пѣсни, рѣ?во:ть всякій часъ,
Такъ что голову вскружило14.
— А, такъ ты...—ПЯ безъ души
Лѣто цѣлое все пѣла44.
— Ты все пѣла? Это дѣло:
Такъ поди же попляши!
И. Крыловъ
Кукушка и горлинка. Ж.
Кукушка на суку печально куковала.
пЧто, кумушка, ты такъ грустна?—
Ей съ вѣтки ласково голубка ворковала:—
Или о томъ, что миновала
У насъ весна,
И съ ней любовь, спустилось солнце ниже,
И что къ зимѣ мы стали ближе?44
— Какъ, бѣдной, мнѣ не горевать?—
Кукушка говоритъ.—Будь ты сама судьею:
Любила счастливо я нынѣшней весною,
И, наконецъ, я стала мать;
Но дѣти не хотятъ совсѣмъ меня и знать:
Такой ли чаяла отъ нихъ я платы!
И не завидно ли, когда я погляжу,
Какъ увиваются вкругъ матери утяты,
Какъ сыплютъ къ курицѣ дождемъ по зву цыпляты;
А я, какъ сирота, однимъ-одна сижу
И, что есть дѣтская привѣтливость, не знаю.
312
„Бѣдняжка! о тебѣ сердечно я страдаю;
Меня бы нелюбовь дѣтей могла убить,
Хотя примѣръ такой не рѣдокъ;
Скажи жъ: такъ, стало, ты ужъ вывела и дѣтокъ?
Когда же ты гнѣздо успѣла свить?
Я этого и не видала:
Ты все порхала да летала".
— Вотъ вздоръ, чтобъ столько красныхъ дней,
Въ гнѣздѣ я сидя, растеряла:
Ужъ это было бы всего глупѣй!
Я яйца всегда въ чужія гнѣзда клала.—
— Какой же хочешь ты и ласки отъ дѣтей?—
Ей горлинка на то сказала.
Отцы и матери! вамъ басни сей урокъ.
Я разсказалъ ее не дѣтямъ въ извиненье,
Къ родителямъ въ нихъ непочтенье
И нелюбовь—всегда порокъ;
Но если выросли они въ разлукѣ съ вами,
И вы ихъ ввѣрили наемничьимъ рукамъ,
Не вы ли виноваты сами,
Что въ старости отъ нихъ утѣхи мало вамъ?
И. Крыловъ.
Двіь дгьвочксі о песокъ. Ж.
Жили-были двѣ дѣвочки: знатная и простая.
Знатную звали принцесса Эльза. У нея косы были золоти-
стыя, ручки серебристыя, чулочки шелковые, башмачки атласные.
А простую дѣвочку звали Машка-замарашка. Она ходила
въ лохмотьяхъ, руки и ноги у нея были исцарапанныя. Только
она веселая была.
Разъ она сидѣла на мокромъ пескѣ и руками изъ него
башни лѣпила и хлѣбы стряпала. Шла мимо принцесса Эльза.
Машка-замарашка кричитъ ей:
313
— Садись, поиграемъ.
Принцесса Эльза усмѣхнулась и сказала:
— Знатныя дѣвочки не играютъ мокрымъ простымъ пес-
комъ. У знатныхъ дѣвочекъ есть сухой золотой песокъ. Знат-
ныя дѣвочки даже и не говорятъ съ босыми дѣвчонками.
Пошла къ себѣ въ садъ принцесса Эльза и стала сыпать зо-
лотой песокъ въ золотыя чаши да опрокидывать, но песокъ
разсыпался, и башни не выходили. Взяла принцесса Эльза
горсть песку, сжала его въ кулакъ, — а песокъ между паль-
цами вытекъ.
Разсердилась принцесса Эльза, повалилась на землю и
закричала:
— Замарашкинъ песокъ скверный, а мой еще хуже.
Ѳедоръ Сологубъ.
Крылья. Ж.
Пасла дѣвочка гусей, а сама плакала. Пришла хозяйкина
дочь, спросила:
— Чего, дура, ревешь?
Дѣвочка сказала:
— Отчего у меня крыльевъ нѣтъ? Я хочу, чтобы у меня
крылья выросли.
Хозяйкина дочь сказала:
— Вотъ дура,—ни у кого нѣтъ крыльевъ; на что тебѣ
крылья?
А дѣвочка отвѣчала:
— Я бы все по небу летала да во весь бы голосъ пѣсни
пѣла.
Хозяйкина дочь сказала:
— Дура, какія у тебя могутъ вырости крылья, коли у
тебя отецъ батракъ! Вотъ у меня, пожалуй, вырастутъ.
314
Облилась водой изъ колодца и стоитъ на грядкѣ на
солнцѣ, чтобъ крылья лучше росли.
Шла мимо купеческая дочь, спросила:
— Чего стоишь, красна дѣвица?
А хозяйкина дочь говоритъ:
— А крылья рощу, летать хочу.
Купеческая дочь засмѣялась, говоритъ:
— Мужичкѣ да еще крылья,—не по спинѣ грузъ.
Пришла въ городъ, накупила себѣ масла, намазала спину,
и вышла на огородъ растить крылья.
Шла мимо барышня, спросила:
— Что, милая, дѣлаешь?
Купеческая дочь сказала:
— Крылья себѣ рощу, барышня.
Барышня покраснѣла, разсердилась.
— Это, говоритъ, не купеческое, а дворянское дѣло.
Пришла домой, облилась молокомъ, стала на огородѣ ра-
ститъ себѣ крылья.
Шла мимо царевна, увидѣла барышню на грядкахъ, по-
слала своихъ служанокъ узнать, для чего она стоитъ. Пошли
служанки, узнали, приходятъ, говорятъ:
— Молокомъ облилась, крылья раститъ, высоко летать
хочетъ.
Царевна усмѣхнулась и сказала:
— Глупая,—даромъ себя мучитъ—у простой барышни не
могутъ вырасти крылья.
Пришла царевна домой, облилась духами, пошла на ого-
родъ, стоитъ, раститъ себѣ крылья.
Прошло сколько-то времени,—всѣ дѣвушки въ той землѣ
одна по одной пошли на свои огороды, стоятъ себѣ на гряд-
кахъ, растятъ себѣ крылья.
315
Узнала объ этомъ Крылья-мать, прилетѣла, посмотрѣла,
видитъ, что ихъ много, да и говоритъ:
— Дать вамъ всѣмъ крылья, такъ вы всѣ летать бу-
дете,—а кто станетъ дома сидѣть, кашку варить, дѣтокъ кор-
мить? Дамъ-ка я лучше крылья одной, которой раньше ихъ
захотѣлось.
Такъ и выросли крылья у одной батраковой дочери. Стала
она по небу летать да пѣсни пѣть.
Ѳедоръ Сологубъ.
Одежды лиліи и капустныя одежки. Ж. х
Въ саду на куртинѣ ^сла лилія. Она была бѣлая съ
краснымъ, красивая и горда#'.
Она тихо говорила пролетавшему надъ не.Ю вѣтру:
— Ты осторожнѣе. Я — царственная лилія, и самъ Со-
ломонъ премудрый не одѣвался такъ пышно и красиво,
какъ я. \
Неподалеку, въ огородѣ, росла, капуста.
Она услышала лилейныя слова, засмѣялась и сказала:
— Этотъ старый Соломонъ былъ, по-моему, просто сан-
кюлотъ. Какъ они одѣвались, эти древніе? Прикроютъ кое-
какъ наготу халатомъ, да и воображаютъ, что нарядились по
самой лучшей модѣ. А вотъ я выучила людей одѣваться, ужъ
могу себѣ чести приписать: на голышку-кочерыжку первую
покрышку, рубашку, на рубашку стяжку, на стяжку подъ-
одежку, на нее застежку, на застежку одежку, на одежку за-
стежку, на застежку пряжку, на пряжку опять рубашку, одежку,
застежку, рубашку, пряжку, съ боковъ покрышку, сверху по-
крышку, снизу покрышку, не видать кочерыжку. Тепло и при-
лично.
Ѳедоръ Сологубъ.
316
Кукушкинъ флиртъ. Ж.
У одной кукушки птенцы воспитывались на казенный
счетъ въ Воздушномъ кадетскомъ корпусѣ, а сама кукушка
занималась флиртомъ съ тремя птицами разомъ: Дятломъ,
Филиномъ и Дроздомъ.
Дятелъ былъ настойчивъ и положителенъ, Филинъ—со-
лиденъ, и онъ любилъ уединенную жизнь и ночныя поэтиче-
скія прогулки; оба были скромные.
Дроздъ же блисталъ свѣтскими талантами, былъ тщесла-
венъ, завидовалъ Соловью, любилъ прихвастнуть и расщел-
калъ про свои любовныя похожденія.
Положимъ, по секрету—компаніи молодыхъ Воробьевъ,
но тѣ разболтали по всему лѣсу.
Всѣ птицы были возмущены такимъ безстыднымъ пове-
деніемъ Кукушки и рѣшили съ нею не кланяться. Тогда
Кукушка прилетѣла къ старому Воробью, призналась ему въ
любви и сказала:
— А съ тѣми тремя я занимаюсь такъ только, для отвода
глазъ, чтобы ваша старая Воробьиха не узнала, а также для
упражненія, чтобы не быть вамъ скучною.
Старый Воробей сказалъ:
— Это другое дѣло.
И увѣрилъ всѣхъ птицъ, что на Кукушку наклеветали.
Такъ возстановила Кукушка свою честь.
Ѳедоръ Сологѵбъ.
Загадочная натура. Ж.
Купе перваго класса. Ту
На диванѣ, обитомъ малиновымъ бархатомъ, полулежитъ
хорошенькая дамочка. Дорогой бахромчатый вѣеръ трещитъ
317
въ
съ
ея судорожно сжатой рукѣ, ріпсе-пея то и дѣло спадаетъ
ея хорошенькаго носика, брошка на груди то поднимается.,
то опускается, точно ладья среди волнъ. Она взволнована.Ѣ
Противъ нея на диванчикѣ сидитъ губернаторскій чинов-
никъ особыхъ порученій, молодой начинающій писатель, по-
мѣщающій въ губернскихъ вѣдомостяхъ небольшіе разсказы
или, какъ самъ онъ называетъ, „новеллы" изъ великосвѣт-
ской жизни.:. Онъ глядитъ ей въ лицо, глядитъ въ упоръ,
съ видомъ знатока. Онъ наблюдаетъ, изучаетъ, улавливаетъ
эту эксцентрическую, загадочную натуру, понимаетъ ее, по-
стигаетъ... Душа ея, вся ея психологія у него какъ на
ладони. //
— О, я постигаю васъ!—Ваша чуткая, отзывчивая душа
ищетъ выхода изъ лабиринта... Да! Борьба страшная, чудо-
вищная, но... не унывайте! Вы будете побѣдительницей! Да!
— Опишите меня, Вольдемаръ! Жизнь моя такъ полна,
такъ разнообразна, такъ пестра.уС Но главное—я несчастна!
Я страдалица во вкусѣ Достоевскаго./^ Покажите міру мою
душу, Вольдемаръ, покажите эту бѣдную душу! Вы—психо-
логъ. Не прошло и часа, какъ мы сидимъ въ купе и говоримъ,
а вы уже постигли меня всю, всю! //
— Говорите! Умоляю васъ, говорите!
— Слушайте. Годилась я въ бѣдной чиновничьей семьѣ.
Отецъ добрый малый, умный, но... духъ времени и среды...
ѵоиз сотргепег?-^Я не виню моего бѣднаго отца. Онъ пилъ,
игралъ въ карты... бралъ взятки... Мать же... Да что говорить!
Нужда, борьба за кусокъ хлѣба, сознаніе ничтожествѣ Ахъ,
не заставляйте меня вспоминать! Мнѣ нужно было самой
пробивать себѣ путь... Уродливое институтское воспитаніе,
чтеніе глупыхъ романовъ, ошибка молодости, первая робкая
любовь... А борьба со средой? Ужасно! А сомнѣнія? А муки
зарождающагося невѣрія въ жизнь, въ себя?ѣ Ахъ! Вы пи-
сатель и знаете насъ женщинъ. Вы поймете./ Къ несчастью,
318
я надѣлена широкой натурой... Я ждала счастья, и какого! Я
жаждала быть человѣкомъ. Да! Быть человѣкомъ—въ этомъ
я видѣла свое счастьеіл
— Чудная!,/-лепечетъ писатель, цѣлуя руку около брас-
лета. — Не васъ цѣлую, дурная, а страданіе человѣческое!^.
Помните Раскольникова? Онъ такъ цѣловалъ./, '
— О Вольдемаръ! Мнѣ нужна была" ’слава... шумъ,
блескъ, какъ для всякой-^-къ чему скромничать? Д- недюжин-
ной натуры. Я жаждала чего-то необыкновеннаго... не жен-
скаго! И вотъ... И вотъ... подвернулся на моемъ пути богатый
старикъ - генералъ../ Поймите меня, Вольдемаръ! Вѣдь это
было самопожертвованіе, самоотреченіе, поймите вы! Я не
могла поступить иначе. Я обогатила семью, стала путешество-
вать, дѣлать добро.'.. А какъ я страдала, какъ невыносимы,
низменно - пошлы были для меня объятія этого генерала,
хотя, надо ему отдать справедливость, въ свое время онъ
храбро сражался. Бывали минуты... ужасныя минуты! Но меня
подкрѣпляла мысль, что старикъ не сегодня-завтра умретъ,
что я стану жить какъ хотѣла, отдамся любимому человѣку,
буду счастлива/Г А у меня есть такой человѣкъ, Вольдемаръ!
Видитъ Богъ, есть! /7
Но вотъ старикъ умеръ../ Мнѣ онъ оставилъ кое-что,
я свободна, какъ птица. Теперь-то и жить мнѣ счастливо...,
Не правда ли, Вольдемаръ? Счастье стучится ко мнѣ въ окно.
Стоитъ только впустить его, но... нѣтъ! Вольдемаръ, слу-
шайте, заклинаю васъ! Теперь-то и отдаться любимому чело-
вѣку, сдѣлаться его подругой, помощницей, носительницей
его идеаловъ, быть счатливой... отдохнуть^. Но какъ все пош-
ло, гадко и глупо на этомъ свѣтѣ! Какъ все подло, Воль-
демаръ! Я несчастна, несчастна, несчастна! На моемъ пути
опять стоитъ препятствіе! Опять я чувствую, что счастье мое
далеко! Ахъ, сколько мукъ, если бъ вы знали! Сколько
мукъ! '
319
— Но что же? Что стало на вашемъ пути? Умоляю васъ,
говорите! Что же?
— Другой богатый старикъ..,/
Изломанный вѣеръ закрываетъ хорошенькое личико. Пи-
сатель подпираетъ кулакомъ свою многодумную голову, взды-
хаетъ и съ видомъ знатока-психолога задумывается. Локомо-
тивъ свищетъ и шикаетъ, краснѣютъ отъ заходящаго солнца
оконныя занавѣсочки...
А. Чеховъ.
Воительница. Ж.
(Отрывокъ.)
— Ты только самъ, помилуй, скажи, хитростенъ всякихъ
сколько настало? Тотъ летитъ по воздуху, что птицѣ одной
назначено; тотъ рыбою плаваетъ и на дно морское опускается;
тотъ теперь—какъ на Адмиралтейской площади — огонь сѣр-
ный ѣстъ; этотъ животомъ говоритъ; другой еще что дру-
гое, что человѣку не показанное, дѣлаетъ... Господи! бѣсъ,
лукавый самъ, и тотъ имъ повинуется, и все опять же таки
не къ пользѣ, а ко вреду. Со мной вѣдь одинъ разъ было
же, что была я отдана бѣсамъ на поруганіе! Было.
Давно это, лѣтъ, можетъ, двѣнадцать тому назадъ,
молода я еще въ тѣ поры была и неопытна, и задумала я,
овдовѣвши, торговать. Ну, чѣмъ, думаю, торговать?—Лучше
нечѣмъ, по женскому дѣлу, какъ холстомъ, потому—женщина
больше въ этомъ понимаетъ, что къ чему принадлежитъ. На-
куплю, думаю, на ярманкѣ холста и сяду у воротъ на ска-
меечкѣ и буду продавать. Поѣхала я на ярманку, накупила
холста, и надо мнѣ домой ворочаться. Какъ, думаю, теперь
мнѣ съ холстомъ домой ворочаться? А на дворъ, на постоя-
лый, хлопъ, въѣзжаетъ троечникъ.
320
— Откуда же,—пытаюсь,—изъ какихъ мѣстовъ ты самъ?
„А я куракинскій, — говоритъ, — изъ села изъ Кура-
лина".
— Какъ разъ это мнѣ къ своему мѣсту. Вотъ,—говорю,—
я тебѣ одна сѣдачка готовая.
Поговорили мы съ нимъ и на рублѣ серебра порѣшили,
что пойдетъ онъ по дворамъ, чтобъ еще сѣдоковъ собрать, а
завтра чтобъ въ ранній обѣдъ и ѣхать.
Смотрю; завтра это вдругъ валитъ къ намъ на дворъ
одинъ человѣкъ, другой, пятый, восьмой, и все мужчины изъ
торговцевъ и красики такіе полные. Вижу, у одного—мѣшокъ,
у другого — сумка, у третьяго — чемоданъ, да еще ружье у
одного.
— Куда жъ, — говорю извозчику, — ты это насъ всѣхь
запихаешь?
„Ничего, — говоритъ, — улѣзете — повозка большая, сто
пудовъ возимъ".
Я, признаться, было хоть и остаться рада, да рупь-то ему
отданъ и ѣхать опять не съ кѣмъ.
Съ горемъ съ такимъ и съ неудовольствіемъ, ну, однако,
поѣхала. Только что за заставу мы выѣхали, сейчасъ одинъ
изъ этихъ сѣдоковъ говоритъ: „Стой у кабака"! Пили они
тутъ много и извозчика поятъ. Поѣхали. Опять съ версту от-
ѣхали, гляжу—другой кричитъ: „Стой, — говоритъ, — здѣсь
Ивановичъ Елкинъ живетъ, никакъ,—говоритъ,—его миновать
Иванъ не должно".
Разъ они съ десять этакъ останавливались все у своего
Ивана Ивановича Елкина.
Вижу я, что дѣло этакъ ужъ къ ночи, и что извозчикъ
нашъ распьянымъ-пьяно-пьянъ сдѣлался.
Телѣга-то такъ и подскакиваетъ. Того только и смотрю,
что сейчасъ опрокинемся, и жизни нашей конецъ. А тѣ пья-
ные всѣ заливаются. Одинъ гармонію вынулъ, другой пѣсню
321
Школа чтеіи-
21
оретъ, третій изъ ружья стрѣляетъ. Я только молюсь: „Пят-
ница Прасковея, спаси и помилуй! “
Неслись мы, неслись во весь кульеръ, и стали кони наши,
наконецъ, приставать, и поѣхали мы опять шагомъ; ужъ я
рада-радешенька, что, наконецъ, мы ѣдемъ тихо, сижу ужъ
и голосу не подаю. А у тѣхъ, тѣмъ часомъ слышу, разговоръ
пошелъ; одинъ сказываетъ, что разбойники тутъ по дорогѣ
шляются, а другой отвѣчаетъ ему, что онъ разбойниковъ не
боится, потому что у него ружье два раза стрѣлять можетъ.
Опять еще какой-то о мертвецахъ заговорилъ: „Я,—разсказы-
ваетъ,—мертвую кость имѣю, кого,—говоритъ,—этою костью
обведу, тотъ сейчасъ мертвымъ сномъ заснетъ и не поды-
мется”. А другой хвастается, что у него есть свѣча изъ мер-
тваго сала. Я это все слушала; и вдругъ все словно кто меня
сталъ за носъ водить, и ударилъ на меня сонъ, и въ одну
минуту я заснула. Только крѣпко я заснуть никакъ не могла,
потому что все насъ словно орѣхи въ рѣшетѣ потряхивало,
и во снѣ мнѣ слышится, какъ будто кто-то говоритъ: „Какъ
бы,—говоритъ,—намъ эту чортову бабу отъ себя вонъ выки-
нуть, а то ногъ некуда протянуть". Но я все сплю. Вдругъ,
сударь ты мой, слышу визгъ, крикъ, гамъ. Что такое? Гля-
жу—ночь, повозка наша стоитъ, и около нея все вертятся
да кричатъ, а что кричатъ—не разобрать.
„Шурле-мурле, шире-мире кравермиръ",—оретъ одинъ.
Нашъ это, что съ ружьемъ-то ѣхалъ, бацъ изъ одного
ружья—пистолетъ лопнулъ, а стрѣльбы нѣтъ; бацъ изъ дру-
гого — пистолетъ опять лопнулъ, а стрѣльбы опять нѣтъ.
Вдругъ этотъ, что кричалъ-то, опять какъ заоретъ шире-мире-
кравермиръ! да съ этимъ словомъ хапъ меня подъ руки-то
изъ телѣги да на поле, да ну вертѣть, ну крутить. Боже мой,
думаю, что жъ это такое! Гляну, гляну вокругъ себя— все рожи
такія темныя, да все вертятся и меня крутятъ, да кричатъ
„шире-мире" да за ноги меня, да ну раскачивать.
322
свою? Какому злобному веселью, быть-можетъ, поводъ подаю!
Случайно васъ когда-то встрѣтя, въ васъ искру нѣжности
замѣтя, я ей повѣрить не посмѣлъ; привычкѣ милой не далъ
ходу — свою постылую свободу я потерять не захотѣлъ. Еще
одно насъ разлучило — несчастной жертвой «Ленскій палъ...
Ото всего, что сердцу мило, тогда я сердце оторвалъ; чужой
для всѣхъ, ничѣмъ не связанъ, я думалъ: вольность и по-
кой — замѣна счастью. Боже мой! Какъ я ошибся, какъ
наказанъ!
Нѣтъ! Поминутно видѣть васъ, повсюду слѣдовать за
вами, улыбку устъ, движенье глазъ ловить влюбленными гла-
зами, внимать вамъ долго, понимать душой все ваше совер-
шенство, предъ вами въ мукахъ замирать, блѣднѣть и
гаснуть... вотъ блаженство!
И я лишенъ того: для васъ тащусь повсюду наудачу.
Мнѣ дорогъ день, мнѣ дорогъ часъ, а я въ напрасной скукѣ
трачу судьбой отсчитанные дни. И такъ ужъ тягостны они.
Я знаю: вѣкъ ужъ мой измѣренъ, но чтобъ продлилась жизнь
моя, я утромъ долженъ быть увѣренъ, что съ вами днемъ
увижусь я... Боюсь: въ мольбѣ моей смиренной увидитъ вашъ
суровый взоръ затѣи хитрости презрѣнной и слышу гнѣвный
вашъ укоръ. Когда бъ вы знали, какъ ужасно томиться жа-
ждою любви, пылать — и разумомъ всечасно смирять волненіе
въ крови; желать обнять у васъ колѣни и, зарыдавъ у ва-
шихъ ногъ, излить мольбы, признанья, пени, все, все, что
выразить бы могъ; а между тѣмъ притворнымъ хладомъ во-
оружить и рѣчь и взоръ, вести спокойный разговоръ, гля-
дѣть на васъ веселымъ взглядомъ! Но такъ и быть: я самъ
себѣ противиться не въ силахъ болѣ, все рѣшено: я въ ва-
шей волѣ и предаюсь моей судьбѣ.
Пушкинъ.
335
Казидоиръ Великій. М.
і.
Въ расписныхъ саняхъ, ковромъ покрытыхъ,
Нараспашку, въ буркѣ боевой,
Казимиръ, круль польскій, мчится въ Краковъ
Съ молодой, веселою женою.
Къ ночи онъ домой спѣшитъ съ охоты;
Позвонки бренчатъ на хомутахъ;
Впереди, на всемъ скаку, не видно,
Кто трубитъ, вздымая снѣжный прахъ;
Позади, въ саняхъ несется свита...
Ясный мѣсяцъ выглянулъ едва...
Изъ саней торчатъ собачьи морды,
Свѣсилась оленья голова...
Казимиръ на пиръ спѣшитъ съ охоты;
Въ новомъ замкѣ ждутъ его давно
Воеводы, шляхта, краковянки,
Музыка и танцы, и вино.
Но не въ духѣ круль: насупилъ брови,
На морозѣ дышитъ горячо.—
Королева съ ласкою склонилась
На его могучее плечо...
— Что съ тобою, государь мой?! другъ мой!?
У тебя такой сердитый видъ...
Или ты охотой недоволенъ?
Или мною?—на меня сердитъ?..
„Хороши мы!—молвилъ онъ съ досадой—
Хороши мы! Голодаетъ край,
Хлопы мрутъ,—а мы и не слыхали,
Что у насъ въ краю неурожай!..
Погляди-ка, ѣдетъ ли за нами
Тотъ гусляръ, что встрѣтили мы тамъ...
Пусть-ка онъ споетъ магнатамъ нашимъ
То, что спьяна пѣлъ онъ лѣсникамъ!..*
Мчатся кони, рѣзче раздается
336
Звукъ роговъ и топотъ,—и встаетъ
Надъ заснувшимъ Краковомъ зубчатой
Башни тѣнь, съ огнями у воротъ.
И.
Въ замкѣ свѣтятъ фонари и лампы;
Музыка и пиръ идетъ горой;
Казимиръ сидитъ въ полукафтанѣ,
Подпираетъ бороду рукой.
Борода впередъ выходитъ клиномъ,
Волосы подстрижены въ кружокъ.
Передъ нимъ съ виномъ стоитъ на блюдѣ,
Въ золотой оправѣ—турій рогъ;
Позади,—въ чешуйчатыхъ кольчугахъ,
Стражниковъ колеблющійся строй...
Надъ его бровями дума бродитъ,
Точно тѣнь отъ тучи грозовой.
Утомилась пляской королева,—
Дышетъ зноемъ молодая грудь,
Пышутъ щеки, свѣтится улыбка:
•—Государь мой, веселѣе будь!..
Гусляра вели позвать, покуда
Гости не успѣли задремать.
И къ гостямъ идетъ она, и гости:
„Гусляра, кричатъ, скорѣй позвать!"
III.
Стихли трубы, бубны и цимбалы;
И венгерскимъ жажду утоля,
Чинно сѣли подъ столбами залы
Воеводы, гости короля.
А у ногъ хозяйки-королевы—
Не на табуретахъ и скамьяхъ—
На ступенькахъ трона сѣли панны
Съ розовой усмѣшкой на устахъ.
Ждутъ —и вотъ на праздникъ ролевскій
337
Школа чтеца.
22
Сквозь толпу идетъ какъ на базаръ,
Въ сѣрой свиткѣ, въ обуви ремянной,
Изъ народа вызванный гусляръ.
Отъ него надворной вѣетъ стужей,
Искры снѣга таютъ въ волосахъ,
И, какъ тѣнь, лежитъ румянецъ сизый
На его обвѣтренныхъ щекахъ.
Низко передъ царственной четою
Преклонясь косматой головой,
На ремняхъ повиснувшія гусли
Поддержалъ онъ лѣвою рукой,
Правую подобострастно къ сердцу
Онъ прижалъ, отдавъ поклонъ гостямъ...
„Начинай1/—и дрогнувшіе пальцы
Звонко пробѣжали по струнамъ.
Подмигнулъ король своей супругѣ,
Гости брови подняли... гусляръ
Затянулъ про славные походы
На сосѣдей—нѣмцевъ и татаръ...
Не успѣлъ онъ кончить этой пѣсни,
Крики: „Ѵіѵаі!” огласили залъ:
Только круль махнулъ рукой, нахмурясь:
Дескать, пѣсни эти я слыхалъ!
„Пой другую!” и, потупивъ очи,
Прославлять сталъ молодой пѣвецъ
Молодость и чары королевы
И любовь—щедротъ ея вѣнецъ.
Не успѣлъ онъ кончить этой пѣсни,
Крики: „Ѵіѵаі!" огласили залъ...
Только круль сердито сдвинулъ брови:
Дескать, пѣсни эти я слыхалъ!
„Каждый шляхтичъ,—молвилъ онъ,—поетъ ихъ
На ухо возлюбленной своей;
Спой мнѣ пѣсню ту, что пѣлъ ты въ хатѣ
Лѣсника,—та будетъ поновѣй...
Да не бойся!"—Но гусляръ, какъ будто
Къ пыткѣ присужденной, поблѣднѣлъ...
И, какъ плѣнникъ, дико озираясь,
338
Заунывнымъ голосомъ запѣлъ:
„Ой вы, хлопы, ой вы, Божьи люди!
Не враги трубятъ въ побѣдный рогъ,—
По пустымъ полямъ шагаетъ голодъ
И, кого ни встрѣтитъ, валитъ съ ногъ.
Продаетъ за пудъ муки корову,
Продаетъ послѣдняго конька...
Ой не плачь, родная, по ребенкѣ!—
Грудь твоя давно безъ молока.
Ой не плачь ты, хлопецъ, по дѣвчинѣ!—
По веснѣ, авось, помрешь и ты...
Ужъ растутъ—должно быть, къ урожаю—
На кладбищахъ новые кресты...
Ужъ на хлѣбъ,—должно быть къ урожаю,—
Цѣны, что ни день, растутъ, растутъ...
Только паны потираютъ руки:
Выгодно свой хлѣбецъ продаютъ..."
Не успѣлъ онъ кончить этой пѣсни:
„Правда ли?!“ вдругъ вскрикнулъ Казимиръ
И привсталъ, и, въ гнѣвѣ весь багровый,
Озираетъ онѣмѣвшій пиръ.
Поднялись... дрожатъ... блѣднѣютъ гости.
„Что же вы не славите пѣвца?!
Божья правда шла съ нимъ изъ народа
И дошла до нашего лица...
Завтра же, въ подрывъ корысти вашей,
Я мои амбары отопру...
Вы... лжецы! глядите: я, король вашъ,
Кланяюсь за правду гусляру..."
И. пѣвцу поклонъ отвѣсивъ, вышелъ
Казимиръ; и пиръ его притихъ...
„Хлопскій круль!" въ сѣняхъ бормочутъ паны...
„Хлопскій круль!" лепечутъ жены ихъ.
Онѣмѣлъ гусляръ, поникъ, не слышитъ
Ни угрозъ, ни ропота кругомъ...
Гнѣвъ Великаго великъ былъ, страшенъ—
И отраденъ, какъ въ засуху громъ!
Я. Полонскій.
339
22
У гробовщика. М.
Горькое дѣло! ужасное дѣло!
Ляжетъ въ доскахъ этихъ мертвое тѣло!
„Вотъ еіЦе выдумалъ горе какое!
Намъ что за дѣло? Не наше—чужое!"
— Полно бранить: развѣ я виноватъ?
Первый вѣдь гробъ я работаю, братъ!
„Первый, послѣдній ли—что за забота?
Пой: веселѣе подъ пѣсни работа/
Доски распилишь—отмѣрь же, смотри!
Выстругай глаже и стружки сбери!
Доску къ доскѣ пригони поплотнѣе:
Тѣсно лежать, такъ чтобъ было теплѣе.
Выкрасить дно и бока уложить
Стружками надо, а сверху обить,
Стружки приличнѣй, чѣмъ пухъ или перья:
Это старинное наше повѣрье.' '
Гробъ ты снесешь, а какъ мертвый ужъ въ немъ,
Крышку захлопнулъ—и дѣло съ концомъ}"
— Все это знаю я! Доски исправно
Я распилилъ и ихъ выстругалъ славно;
Только все дрожь не проходитъ въ рукахъ,
Только все слезы стоятъ на глазахъ.
Стругъ ли, пилу ли рука моя водитъ,
Сердце все мретъ, словно кровью исходитъ.
Горькое дѣло! ужасное дѣло!
Ляжетъ въ доскахъ этихъ мертвое тѣло.
Фрейлигратъ.
М. М.
Бурлакъ. М.
Эхъ, пріятель, и ты, видно, горе видалъ,
Коли плачешь отъ пѣсни веселой!
Нѣтъ, послушай-ка ты, что вотъ я испыталъ,
Такъ узнаешь о жизни тяжелой!
340
Девятнадцати лѣтъ, послѣ смерти отца,
Я остался одинъ сиротою;
Дочь сосѣда любила меня, молодца.
Я женился—и зажилъ съ женою!
Словно счастье на дворъ мнѣ она принесла,—
Дай Богъ царство небесное бѣдной!—
Ужъ такая-то, братецъ, хозяйка была—
Дорожила полушкою мѣдной!
Въ зимній вечеръ, бывало, лучину зажжетъ
И прядетъ себѣ, глазъ не смыкаетъ;
Пѣтухи пропоютъ,—ну, тогда отдохнетъ,
И приляжетъ; а чуть разсвѣтаетъ,—
Ужъ она на ногахъ: поглядишь—побѣжитъ
И овцамъ и коровамъ дастъ корму,
Печь истопитъ, и снова за прялкой сидитъ,
Или что прибираетъ по дому;
Лѣтомъ рожь станетъ жать, иль снопы подавать
Съ земи на возъ—и горе ей мало.
Я, бывало, скажу: „Не пора ль отдыхать?"
—„Ничего,—говоритъ,—не устала".
Иногда ей случится обновку купить
Для утѣхи, такъ скажетъ: „Напрасно!
Мы безъ этого будемъ другъ друга любить,
Что ты тратишься, соколъ мой ясный!"
Какъ въ раю съ нею жилъ... да не намъ, вѣрно, знать,
Гдѣ и какъ насъ кручина застанетъ!
Улеглася жена въ землю навѣки спать...
Вспомнишь—жизнь не мила тебѣ станетъ!
Вся надежда была,—словно вылитый въ мать,
Темно-русый красавецъ-сынишка.
По складамъ ужъ Псалтирь было началъ читать...
Думалъ: „Выйдетъ, молъ, въ люди мальчишка!"
Да не то ему Богъ на роду написалъ:
Заболѣлъ отъ чего-то весною,—
Я и бабокъ къ нему, знахарей призывалъ
И поилъ наговорной водою,
Обѣщался рублевую свѣчку купить—
Предъ иконою въ церкви поставить,—
341
Не услышалъ Господь... и пришлось положить
Сына въ гробъ, на кладбище отправить...
Было горько мнѣ, другъ, въ эти черные дни!
Опустились совсѣмъ мои руки!
Стали хлѣбъ убирать,—въ полѣ пѣсни, огни;
А я сохну отъ горя и скуки!
Снѣга перваго ждалъ: я продамъ, молъ, вотъ рожь,
Справлю сани, извозничать буду,—
Вдругъ—бѣда за бѣдой—на скотину падежъ...
Чай по гробъ этотъ годъ не забуду!
Кой-какъ зиму провелъ; вижу—честь мнѣ не та:
То на сходкѣ иной посмѣется:
„Дескать—всякая вотъ что нн есть мелкота
Тоже въ дѣло мірское суется!“
То бранятъ за глаза: „Не съ его-де умомъ
Жить въ нуждѣ: видишь, какъ онъ лѣнится;
Нѣтъ, по-нашему такъ: коли быть молодцомъ,
Не тужи, хоть и горе случится!"
Образумилъ меня людской смѣхъ, разговоръ:
Видно, Богъ свою помощь мнѣ подалъ!
Запросилась душа на широкій просторъ...
Взялъ я паспортъ, подушное отдалъ...
И пошелъ въ бурлаки. Разгуляли тоску
Волги-матушки синія волны!..
Коли отдыхъ придетъ,—на крутомъ бережку
Разведешь огонекъ въ вечеръ темный,
Изъ товарищей пѣсню одинъ заведетъ,
Тѣ подхватятъ,—и вмигъ встрепенешься,
Съ головы и до ногъ жаръ и холодъ пойдетъ,
Слезы сдержишь,—и самъ тутъ зальешься!
Непогода ль случится, и вдругъ посѣтитъ
Мою душу забытое горе,—
Есть разгулъ молодцу: Волга съ шумомъ бѣжитъ
И про волю поетъ на просторѣ;
Ретивое забьется,—и вспыхнешь огнемъ!
Осень, холодъ,—не надобна шуба!
Сядешь въ лодку—гуляй! Размахнешься весломъ,
Силой съ бурей помѣриться любо!
342
И летишь по волнамъ, только брызги кругомъ...
Крикнешь: „Ну, теперь Божія воля!
Коли жить,—будемъ жить, умереть—такъ умремъ!"
И въ душѣ словно не было горя!
И. Никитинъ.
Ссора. М.
„Не пора ль, Пантелей, постыдиться людей
И опять за работу приняться!
Промоталъ хомуты, промоталъ лошадей—
Вѣрно, по міру хочешь таскаться?
Вѣдь и такъ отъ сосѣдей мнѣ нѣту житья,
Показаться на улицу стыдно;
Словно въ трубы трубятъ: что, родная моя,
Твоего Пантелея не видно?
А ты думаешь: гдѣ же опричь ему быть,
Чай, опять загулялъ съ бурлаками...
И сердечко въ груди закипитъ, закипитъ,
И, вздохнувши, зальешься слезами!"
Не дурачь ты меня,—мужъ женѣ отвѣчалъ,—
Я не первый денекъ тебя знаю:
Да по чьей же я милости пьяницей сталъ
И теперь ни за что пропадаю!
Не вино съ бурлаками- я кровь свою пыо,
Ею горе мое заливаю,
Да за чаркой тебя проклинаю, змѣю,
И тебя и себя проклинаю!
Ахъ, ты, время мое, золотая пора,
Не видать ужъ тебя вѣрно болѣ!..
Какъ, бывало, съ зарей, на телѣгѣ съ двора
"Идешь рожь убирать свое поле:—
Сбруя вся на заказъ, кони—любо взглянуть,
Словно звѣри изъ упряжи рвутся;
Не успѣешь, бывало, вожжей шевельнуть,—
Ужъ, голубчики, вихремъ несутся.
Пашешь—пѣсню поешь, косишь—устали нѣтъ;
Придетъ праздникъ—помолишься Богу,
343
По деревнѣ идешь—и почетъ и привѣтъ:
Старики уступаютъ дорогу!
А теперь... Одного я вотъ въ толкъ не возьму:
Въ закромахъ у насъ чисто и пусто;
Ину пору и нѣту соломы въ дому,
Въ кошелѣ и подавно не густо;
На тебя поглядишь,—что откуда идетъ!..
Что ни праздникъ,—иная обновка...
Оно, можетъ, тебѣ и Господь подаетъ,
Да не вѣрится... что-то не ловко...
„Не велишь ли ты мнѣ въ старыхъ тряпкахъ ходить?—
Покраснѣвши, жена отвѣчала.—
Кажись, было на что мнѣ обновки купить:
Я вѣдь цѣлую зимушку пряла,
Вотъ тебѣ-то, неряхѣ, великая честь!
Вишь онъ рѣчи какія заводитъ!..
Самому же лаптишекъ не хочется сплесть,
А зипунъ-то онучи не стоитъ!"
— Поистерся немного—не всѣмъ щеголять!..
Бѣдняку что Богъ далъ, то и ладно.
А ты любишь гостей-то по платью встрѣчать?
Сосѣдъ ходитъ не даромъ нарядно.
„Ахъ, родные мои,—закричала жена,—
Ужъ и гостя привѣтить нѣтъ воли!
Ну, хорошъ муженекъ, хороши времена:
Не води съ людьми хлѣба и соли!
Да вотъ на-ка тебѣ! Не по-твоему быть!
Я не больно тебя испугалась!
Таки будетъ сосѣдъ ко мнѣ въ гости ходить,
Чтобъ сердечко твое надрывалось!"
— Коли такъ, ну и такъ!—мужъ женѣ отвѣчалъ.—
Мнѣ тебя переучивать поздно;
Ужъ и то я грѣха много на душу взялъ,
А сосѣда попробовать можно...
Перестанемъ кричать! Собери-ка поѣсть:
Я и то другой день безъ обѣда,
Дай хоть хлѣба ломоть да влей щей, коли есть,
Молоко-то оставь для сосѣда...
344
„Да вотъ хлѣба-то я не успѣла испечь!—
Жена, съ лавки вскочивши, сказала.—
Коли хочешь поѣсть, почини прежде печь...“
И на печку она указала.
Мужъ ни слова на это женѣ не сказалъ,
Взялъ зипунъ свой и шапку съ постели,
Постоялъ у окна, головой покачалъ
И пошелъ, куда очи глядѣли.
Только онъ изъ воротъ, сосѣдъ—вотъ онъ—идетъ,
Шляпа на бокъ, халатъ нараспашку,
Отъ коневьихъ сапогъ чистымъ дегтемъ несетъ,
И застегнута лентой рубашка.
„Будь здоровъ, Пантелей! Что повѣсилъ, братъ, носъ?—
Аль запала въ головушку дума?"
—Видишь, бойкій какой! А ты что мнѣ за спросъ?..
Пантелей ему молвилъ угрюмо.
„Что такъ больно сердитъ? Знать, болитъ голова
Или просто некстати зазнался?.."
Пантелей второпяхъ засучилъ рукава,
Исподлобья кругомъ озирался...
—Эхъ, была, не была!.. Ну, держися, дружокъ!..
И мужикъ во всю мочь развернулся,
Да какъ хватитъ сосѣда съ размаху въ високъ,
И не охнулъ бѣднякъ—протянулся...
Ввечеру Пантелей ужъ сидѣлъ въ кабакѣ,
И, слегка подгульнувъ съ бурлаками,
Крѣпко руку свою прислонивши къ щекѣ,
Пѣсни пѣлъ, заливаясь слезами.
И. Никитинъ.
Выіьздъ ядощика. М.
Ну, кажись, я готовъ:
Вотъ мой кафтанишко,
Рукавицы на мнѣ,
Новый кнутъ подъ мышкой...
Въ головѣ-то шумитъ...
Вотъ что мнѣ досадно!
Правда, хмель вѣдь не дурь,—
Выспался—и ладно.
345
Ты, жена, замолчи:
Безъ тебя все знаю;
Ѣду съ бариномъ... да!
Ухъ, какъ погуляю!
Да и баринъ!., поди,—
У родного сына
Онъ невѣсту отбилъ,—
Стало молодчина!
Схоронилъ двѣ жены,
Вотъ нашелъ и третью...
А сердитъ... чуть не такъ,
Заколотитъ плетью!
Ну, ништо... говорятъ,
Эта-то невѣста
И сама дастъ отпоръ,—
Не отыщешь мѣста.
За богатство идетъ,—
Вѣтрогонка, значитъ:
Сына пуститъ съ сумой,
Мужа одурачитъ...
Сынъ, къ примѣру, не глупъ,
Да запуганъ вѣрно:
Все глядитъ сиротой...
Смиренъ непомѣрно!..
Ну, да пусть судитъ Богъ,
Что черно и бѣло...
Вотъ лошадокъ запрячь—
Это наше дѣло!
Слышь, жена, погляди—
Каковы уздечки?
Вишь, вотъ мѣдный наборъ,
Вотъ махры, колечки.
А дуга-то, дуга,
Въ золотѣ сіяетъ...
Прр... шалишь, коренной!
Знай песокъ копаетъ!
Ты, дружокъ, не блажи!..
Старость твою жалко!..
Такъ кнутомъ проучу—
Станетъ небу жарко!..
Сидоръ вожжи возьметъ—
Чорта не боится!
Пролетитъ,—на него
Облачко дивится!
Только крикнешь: „Ну, ну!
Эхъ, ты, беззаботный!"
Отстаетъ позади
Вѣтеръ перелетный!
А сѣдокъ-атъ мнѣ—тьфу!
Коли скажетъ: „Легче!"
Нѣтъ, молъ, сѣлъ, такъ сиди,
Да держись покрѣпче.
Ужъ у насъ коли лѣнь—
День и ночь спимъ сряду;
Коли пиръ—наповалъ,
Трудъ—такъ до упаду;
Коли ѣхать—катай!
Головы не жалко!..
Намъ безъ свѣта свѣтло,
Безъ дороги гладко!..
Ну, Матрена, прощай!
Оставайся съ Богомъ;
Жди обновки себѣ,
Да гляди за домомъ.
Да! кобылѣ больной
Парь трухою ногу...
Не забудь!.. А воды
Не давай помногу.
Ну-ка, въ путь! Шевелись!
Эхъ, какъ понеслися!
Берегись, ты, мужикъ,
Глухъ, что ль?., берегися!..
И. Никитинъ.
346
Разсказъ ямщика. М.
Вѣкъ жить—увидишь и худо порою.
Жаль, что вотъ темно, а то изъ окна
Я показалъ бы тебѣ: за рѣкою
Есть тутъ у насъ деревенька одна.
Тамъ живетъ баринъ. Господь его знаетъ,
Этакой умница, братецъ ты мой,
Ну, а теперь ни за что пропадаетъ.
Разъ онъ немножко размолвилъ съ женой:
Барыня сдѣлала что-то неладно—
Мужъ сгоряча-то ее побранилъ,
Правду сказать, вѣдь оно и досадно:
Онъ безъ ума ее, слышно, любилъ.
Та—дѣло барское, знаешь, обидно—
Къ матушкѣ нѣжной отправилась въ домъ
Да сиротою прикинулась, видно,—
Съ годъ и жила со старухой вдвоемъ.
Только и тутъ она что-то... да это
Дѣло не наше, я самъ не видалъ...
Баринъ-атъ сохъ; иногда до разсвѣта
Съ горя и глазъ, говорятъ, не смыкалъ.
Все вишь грустилъ да жены дожидался,
Ей поклониться онъ самъ не хотѣлъ;
Ну, а потомъ въ путь-дорогу собрался,
Нанялъ меня и къ женѣ полетѣлъ.
Какъ помирился онъ съ нею—не знаю,
Барыня что-то сердита была...
Самъ-атъ я, братецъ ты мой, помекаю—
Мать поневолѣ ее прогнала.
Вотъ мы поѣхали. Вижу, ласкаетъ
Баринъ жену: то въ глаза ей глядитъ,
То, знаешь, ноги ковромъ укрываетъ,
То этакъ ласково съ ней говоритъ,—
Ну, а жена пожимаетъ плечами,
Въ сторону смотритъ—ни слова въ отвѣтъ...
Онъ и присталъ къ ней почти со слезами:
347
„Или въ тебѣ и души, дескать, нѣтъ?
Я, дескать, все забываю, прощаю...
Такъ же люблю тебя, милый мой другъ..."
Тутъ она молвила что-то—не знаю,
И покатилась со смѣху вдругъ...
Баринъ притихъ. Ужъ и зло жъ меня взяло!
Я какъ хвачу коренного кнутомъ...
Послѣ одумался—совѣстно стало:
Тройка шла на гору, шла-то съ трудомъ;
Конь головой обернулся немного,
Этакъ глядитъ на меня, все глядитъ...
„Ну, молъ, ступай ужъ своею дорогой.
Грѣхъ мой на барынѣ, видно, лежитъ..."
Вотъ мы... о чемъ, бишь, я рѣчь велъ сначала?
Да, я сказалъ, что тутъ баринъ притихъ.
Вотъ мы и ѣдемъ. Ужъ ночь наступала.
Я пріударилъ лошадокъ лихихъ.
Въѣхали въ городъ... Эхъ-ма! забываю,
Чей это дворъ, гдѣ коней я кормилъ?
Дворъ-то мощеный... постой, вспоминаю...
Нѣтъ, провались онъ совсѣмъ, позабылъ!
Ну, ночевали Заря занималась...
Баринъ проснулся—глядь барыни нѣтъ!
Кинулись шарить, искать,—не сыскалась;
Только нашли у воротъ одинъ слѣдъ,
Кто-то, знать, былъ съ подрѣзными санями...
Мы тутъ въ погоню. Ужъ день разсвѣталъ;
Верстъ этакъ семь пролетѣли полями,—
Слѣдъ неизвѣстно куда и пропалъ.
Мы завернули въ село да въ другое,—
Нѣтъ нигдѣ слуху; баринъ сидитъ,
Руки ломаетъ.—Лицо-то больное,
Самъ-атъ озябъ, словно листъ весь дрожитъ...
Что мнѣ съ нимъ дѣлать? Проѣхалъ немного,
И говорю ему: „Слѣду, молъ, нѣтъ,
Этой, вотъ, что ли держать намъ дорогой?"
Онъ и понесъ чепуху мнѣ въ отвѣтъ.
Сердце мое облилось тогда кровью!
348
„Эхъ, погубилъ, молъ, сердечный ты мой,
Жизнь и здоровье горячей любовью!"
Ну, и привезъ его къ ночи домой.
Жаль горемычнаго! Вчужѣ сгрустнется:
Въ годъ онъ согнулся и весь посѣдѣлъ.
Нынче надъ нимъ ужъ и дворня смѣется:
„Баринъ-атъ нашъ, молъ, совсѣмъ одурѣлъ..."
Диво мнѣ! Какъ онъ жену не забудетъ!
Нѣтъ, вотъ поди! коротаетъ свой вѣкъ!
Хлѣба не ѣстъ, все по ней вишь тоскуетъ...
Этакой, братецъ ты мой, человѣкъ!
И. Никитинъ.
Пётрушко. М.
(У стѣнъ града Невидимаго.)
Курится костеръ, свивается дымъ огромнымъ хвостомъ.
Отдѣлился отъ сосны пустынникъ въ синей самотканной оде-
ждѣ, въ берестовыхъ лаптяхъ. Шагаетъ неровно, будто только
что учится ходить поверхъ земли. Тихо крадется къ костру,
озирается. Сѣлъ на лавку, окунулъ голову въ дымъ, исчезъ
въ немъ.
— Пётрушко!
Дрожитъ большой рыжій человѣкъ. Глаза у него малень-
кіе, на лицо человѣка смотрятъ съ ужасомъ.
— Пётрушко!
— Я не Пётрушко.
— Пётрушко, мы не кусаемся. Мы пришли поговорить
съ тобой по душѣ. Теперь свобода, никто тебя не смѣетъ
тронуть. Живи себѣ поверхъ земли съ миромъ.
И еще два-три ласковыхъ слова и немного мелочи на
свѣчи. Маленькіе глазки нашли гдѣ-то опору.
— Хорошо на землѣ. Прытко хорошо. Дождя Богъ далъ,
грибы родились. И ягоды много... малина будетъ и всякая
ягода. Сѣно хорошее. Прытко хорошо на землѣ.
349
— А тамъ, подъ землей?
— И подъ землей хорошо. Христолюбецъ рылъ ямы про-
сторныя. Сперва боялся: искали, прытко искали. Слышно, какъ
ходили въ лѣсу. И по ямѣ ходили, доски стучали. Зимой снѣгу
навалитъ — дышать трудно. Лампада меркнетъ. Книгу читать
нельзя. Тутъ надо костеръ развести — протянетъ и лампада
разгорается, и опять книгу читать можно. Прытко искали.
Народъ въ деревнѣ слабый, охота съ христолюбца деньги со-
рвать. Прослѣдятъ куда ночью хлѣбъ носитъ. А, скажутъ,
душу свою спасать задумалъ. Давай, а то донесу. Много
стоило Павлу Ивановичу, не сосчитать сколько, разорился бы,
да лѣсничій помогъ. Хорошій человѣкъ. Христолюбецъ про-
ситъ: „Ваше благородіе, дозвольте въ лѣсу ямку вырыть, у
меня человѣкъ".—„Замерзнетъ, водой зальетъ."—„Только до-
звольте, не замерзнетъ, не зальетъ. Мнѣ душу спасти охота".
„Рой", дозволилъ лѣсничій. А христолюбецъ вырылъ семь ямъ
въ лѣсу, чуть что, бывало, сейчасъ въ лѣсъ и переведетъ въ
иную яму.
Курится костеръ. Пустынникъ разсказываетъ, не подни-
мая глазъ. Будто и здѣсь на землѣ онъ видитъ гдѣ-то ого-
некъ своей лампады, свою защиту.
— Искали, прытко искали.
— Кому ты нуженъ, зачѣмъ тебя искали?
— Имъ не любо. У нихъ жизнь пространная и широкая,
а моя узкая. Имъ не любо.
М. Пришвинъ.
Гусаръ. М.
Скребницей чистилъ онъ коня,
А самъ ворчалъ, сердясь не въ мѣру:
„Занесъ же вражій духъ меня
На распроклятую квартеру!
350
Здѣсь человѣка берегутъ,
Какъ на турецкой перестрѣлкѣ;
Насилу щей пустыхъ дадутъ,
А ужъ не думай о горѣлкѣ.
Здѣсь на тебя, какъ лютый звѣрь,
Глядитъ хозяинъ, а съ хозяйкой...
Небось, не выманишь за дверь
Ее ни честью ни нагайкой.
То ль дѣло Кіевъ! Что за край!
Валятся сами въ ротъ галушки,
Виномъ хоть пару поддавай,
А молодицы, молодушки!
Ей-ей, не жаль отдать души
За взглядъ красотки чернобривой.
Однимъ, однимъ не хороши^...
— А чѣмъ же? разскажи, служивый!
Онъ сталъ крутить свой длинный усъ
И началъ: „Молвить безъ обиды,
Ты, хлопецъ, можетъ-быть, не трусъ,
Да глупъ, а мы видали виды.
Ну, слушай: около Днѣпра
Стоялъ нашъ полкъ; моя хозяйка
Была пригожа и добра,
А мужъ-то померъ, замѣчай-ка.
Вотъ съ ней и подружился я;
Живемъ согласно, такъ что любо:
Прибью — Марусенька моя
Словечко не промолвитъ грубо;
Напьюсь — уложитъ и сама
Опохмелиться приготовитъ;
Мигну, бывало: „Эй, кума!“—
Кума ни въ чемъ не прекословитъ.
Кажись, о чемъ бы горевать?
Живи въ довольствѣ, безобидно!
Да нѣтъ: я вздумалъ ревновать.
Что дѣлать? Врагъ попуталъ, видно.
„Зачѣмъ бы ей,—сталъ думать я,—
Вставать до пѣтуховъ? Кто проситъ?
351
Шалитъ Марусенька моя;
Куда ее лукавый носитъ?"
Я сталъ присматривать за ней.
Разъ я лежу, глаза прищуря
(А ночь была тюрьмы чернѣй,
И на дворѣ шумѣла буря),—
И слышу; кумушка моя
Съ печи тихохонько спрыгнула,
Слегка обшарила меня,
Присѣла къ печкѣ, уголь вздула,
И свѣчку тонкую зажгла,
Да въ уголокъ пошла со свѣчкой:
Тамъ съ полки сткляночку взяла
И, сѣвъ на вѣникъ передъ печкой,
Раздѣлась донага; потомъ
Изъ стклянки три разъ хлебнула,
И вдругъ на вѣникѣ верхомъ
Взвилась въ трубу и улизнула.
„Эге!—смекнулъ въ минуту я:—
Кума-то, видно, басурманка!
Постой, голубушка моя!.."
И съ печки слѣзъ и вижу: стклянка.
Понюхалъ: кисло... Что за дрянь!
Плеснулъ я на полъ: что за чудо?
Прыгнулъ ухватъ, за нимъ лахань.
И оба въ печь. Я вижу худо!
Гляжу: подъ лавкой дремлетъ котъ,
И на него я брызнулъ стклянкой —
Какъ фыркнетъ онъ! я: брысь!.. И вотъ—
И онъ туда же за лаханкой.
Я—ну кропить во всѣ углы
Съ плеча, во что ужъ ни попало;
И все: горшки, скамьи, столы—
Маршъ-маршъ! Все въ печку поскакало,
„Кой чортъ,— подумалъ я:—теперь
И мы попробуемъ!" И духомъ
Всю стклянку выпилъ: вѣрь не вѣрь—
Но кверху вдругъ я взвился пухомъ.
352
Стремглавъ лечу, лечу, лечу,
Куда, не помню и не знаю;
Лишь встрѣчнымъ звѣздочкамъ кричу:
Правѣй!.. И наземь упадаю.
Гляжу: гора. На той горѣ
Кипятъ котлы; поютъ, играютъ,
Свистятъ и въ мерзостной игрѣ
Жида съ лягушкою вѣнчаютъ.
Я плюнулъ и сказать хотѣлъ...
Какъ вдругъ бѣжитъ моя Маруся:
„Домой! Кто звалъ тебя, пострѣлъ?
Тебя съѣдятъ!" Но я не струся:
„Домой? Да! Чорта съ два! Почемъ
Мнѣ знать дорогу!14 — „Ахъ, онъ странный!
Вотъ кочерга, садись верхомъ
И убирайся, окаянный!"
„Чтобъ я... я сѣлъ на кочергу,
Гусаръ присяжный? Ахъ ты, дура!
Или предался я врагу?
Иль у тебя двойная шкура?
Коня!"—„На, дурень, вотъ и конь".
И точно: конь передо мною —
Скребетъ копытомъ, весь огонь,
Дугою шея, хвостъ трубою.
„Садись". Вотъ сѣлъ я на коня,
Ищу уздечки—нѣтъ уздечки.
Какъ взвился, какъ понесъ меня—
И очутились мы у печки.
Гляжу: все такъ же; самъ же я
Сижу верхомъ, и подо мною
Не конь, а старая скамья:
Вотъ что случается порою!"
И сталъ крутить свой длинный усъ,
Прибавя: „Молвить безъ обиды,
Ты, хлопецъ, можетъ-быть, не трусъ,
Да глупъ, а мы видали виды".
Пушкинъ.
353
Школа чтеца.
23
Моръ звіьрей. М.
Лютѣйшій бичъ небесъ, природы ужасъ — моръ
Свирѣпствуетъ въ лѣсахъ. Уныли звѣри.
Въ адъ распахнулись настежь двери;
Смерть рыщетъ по полямъ, по рвамъ, по высямъ горъ:
Вездѣ разметаны ея свирѣпства жертвы;
Неумолимая, какъ сѣно, коситъ ихъ;
А тѣ, которые въ живыхъ,
Смерть видя на носу, чуть бродятъ полумертвы:
Перевернулъ совсѣмъ ихъ страхъ;
Тѣ жъ звѣри, да не тѣ въ великихъ столь бѣдахъ:
Не давитъ волкъ овецъ и смиренъ, какъ монахъ;
Миръ курамъ давъ, лиса постится въ подземельѣ:
Имъ и ѣда на умъ нейдетъ.
Съ голубкой голубь врозь живетъ,
Любви въ поминѣ больше нѣтъ:
А безъ любви какое ужъ веселье?
Въ семъ горѣ на совѣтъ звѣрей сзываетъ левъ,
Тащатся шагъ за шагомъ, чуть держатся въ нихъ души.
Сбрелись, и въ тишинѣ, царя вокругъ обсѣвъ,
Уставили глаза и приложили уши.
„О, други!—началъ левъ.—По множеству грѣховъ
Подпали мы подъ сильный гнѣвъ боговъ;
Такъ тотъ изъ насъ, кто всѣхъ виновенъ болѣ,
Пускай по доброй волѣ
Отдастъ себя на жертву имъ!
Быть-можетъ, что богамъ мы этимъ угодимъ,
И теплое усердье нашей вѣры
Смягчитъ жестокость гнѣва ихъ.
Кому не вѣдомо изъ васъ, друзей моихъ,
Что добровольныхъ жертвъ такихъ
Бывали многіе въ исторіи примѣры?
Итакъ, смиря свой духъ,
Пусть исповѣдуетъ здѣсь всякій вслухъ,
Въ чемъ погрѣшилъ когда онъ вольно иль невольно.
Покаемся, мои друзья!
354
Охъ, признаюсь — хоть это мнѣ и больно —
Не правъ и я!
Овечекъ бѣдненькихъ — за что? — совсѣмъ безвинно
Диралъ безчинно;
А иногда — кто безъ грѣха?—
Случалось, дралъ и пастуха;
И въ жертву предаюсь охотно;
Но лучше бъ намъ сперва всѣмъ вмѣстѣ перечесть
Свои грѣхи: на комъ ихъ болѣ есть,
Того бы въ жертву и принесть,—
И было бы богамъ то болѣе угодно*.
„О царь нашъ, добрый царь! Отъ лишней доброты,—
Лисица говоритъ, — въ грѣхъ это ставишь ты.
Коль робкой совѣсти во всемъ мы станемъ слушать,
То придется съ голоду пропасть намъ, наконецъ;
Притомъ же, нашъ отецъ,
Повѣрь, что это честь большая для овецъ,
Когда ты ихъ изволишь кушать.
А что до пастуховъ, мы всѣ здѣсь бьемъ челомъ
Ихъ чаще такъ учить—имъ это подѣломъ;
Безхвостый этотъ родъ лишь глупой спѣсью дышитъ
И нашими себя вездѣ царями пишетъ*.
Окончила лиса; за ней, на тотъ же ладъ,
Льстецы льву то же говорятъ,
И всякій доказать спѣшитъ наперехватъ,
Что даже не въ чемъ льву просить и отпущенья.
За львомъ медвѣдь, и тигръ, и волки, въ свой чередъ,
Во весь народъ
Повѣдали свои смиренно погрѣшенья;
Но ихъ безбожныхъ самыхъ дѣлъ
Никто и шевелить не смѣлъ;
И всѣ, кто были тутъ богаты
Иль когтемъ иль зубкомъ, тѣ вышли вонъ
Со всѣхъ сторонъ
Не только правы, чуть не святы.
Въ свой рядъ смиренный волъ имъ такъ мычитъ: „И мы
Грѣшны. Тому лѣтъ пять, когда зимой кормы
Намъ были худы,
355
23
На грѣхъ меня лукавый натолкнулъ:
Ни отъ кого себѣ найти не могши ссуды,
Изъ стога у попа я клокъ сѣнца стянулъ".
При сихъ словахъ поднялся шумъ и толки;
Кричатъ медвѣди, тигры, волки:
„Смотри, злодѣй какой!
Чужое сѣно ѣсть! Ну, диво ли, что боги
За беззаконіе его къ намъ столько строги?
Его, безчинника, съ рогатой головой,
Его принесть богамъ за всѣ его проказы.
Чтобъ и тѣла намъ спасть и нравы отъ заразы!
Такъ по его грѣхамъ у насъ и моръ такой!"
Приговорили —
И на костеръ вола взвалили.
И въ людяхъ также говорятъ:
Кто посмирнѣй, такъ тотъ и виноватъ.
И. Крыловъ.
Оселъ и соловей. М.
Оселъ увидѣлъ соловья
И говоритъ ему: „Послушай-ка, дружище!
Ты, сказываютъ, пѣть великій мастерище:
Хотѣлъ бы очень я
Самъ посудить, твое услышавъ пѣнье:
Велико ль подлинно твое умѣнье?"
Тутъ соловей являть свое искусство сталъ:
Защелкалъ, засвисталъ
На тысячу ладовъ, тянулъ, переливался;
То нѣжно онъ ослабѣвалъ,
И томной вдалекѣ свирѣлью отдавался,
То мелкой дробью вдругъ по рощѣ разсыпался.
Внимало все тогда
Любимцу и пѣвцу Авроры:
Затихли вѣтерки, замолкли птичекъ хоры,
И прилегли стада.
Чуть-чуть дыша, пастухъ имъ любовался
356
И только иногда,
Внимая соловью, пастушкѣ улыбался.
Скончалъ пѣвецъ. Оселъ, уставясь въ землю лбомъ,
„Изрядно,—говоритъ, — сказать не ложно,
Тебя безъ скуки слушать можно;
А жаль, что не знакомъ
Ты съ нашимъ пѣтухомъ:
Еще бъ ты болѣ навострился,
Когда бы у него немножко поучился*.
Услыша судъ такой, мой бѣдный соловей
Вспорхнулъ и полетѣлъ за тридевять полей.
Избави Богъ и насъ отъ этакихъ судей!
И. Крыловъ.
Котъ и поваръ. М.
Какой-то поваръ, грамотей,
Съ поварни побѣжалъ своей
Въ кабакъ (онъ набожныхъ былъ правилъ,
И въ этотъ день по кумѣ тризну правилъ),
А дома стеречи съѣстное отъ мышей
Кота оставилъ.
Но что же, возвратясь, онъ видитъ? На полу
Объѣдки пирога; а Васька-котъ въ углу,
Припавъ за уксуснымъ бочонкомъ,
Мурлыча и ворча, трудится надъ курчонкомъ.
„Ахъ ты, обжора! ахъ, злодѣй!—
Тутъ Ваську поваръ укоряетъ.—
Не стыдно ль, стѣнъ тебѣ, не только что людей?"
(А Васька все-таки курчонка убираетъ.)
„Какъ! бывъ честнымъ котомъ до этихъ поръ,
Бывало, за примѣръ тебя смиренства кажутъ,
А ты... ахти, какой позоръ!
Теперя всѣ сосѣди скажутъ:
Котъ-Васька плутъ! котъ-Васька воръ!
И Ваську-де, не только что въ поварню,
Пускать не надо и на дворъ,
357
Какъ волка жаднаго въ овчарню:
Онъ порча, онъ чума, онъ язва здѣшнихъ мѣстъ!41
(А Васька слушаетъ да ѣстъ).
Тутъ риторъ мой, давъ волю словъ теченью,
Не находилъ конца нравоученью.
Но что жъ? Пока его онъ пѣлъ,
Котъ-Васька все жаркое съѣлъ.
А я бы повару иному
Велѣлъ на стѣнкѣ зарубить:
Чтобъ тамъ рѣчей не тратить по пустому,
Гдѣ нужно власть употребить.
И. Крыловъ.
Собачья дружба. М.
У кухни подъ окномъ
На солнышкѣ Полканъ съ Барбосомъ лежа грѣлись.
Хоть у воротъ передъ дворомъ
Пристойнѣе бъ стеречь имъ было домъ,
Но какъ они ужъ понаѣлись—
И вѣжливые жъ псы притомъ,
Ни на кого не лаютъ днемъ—
Такъ разсуждать они пустилися вдвоемъ
О всякой всячинѣ: о ихъ собачьей службѣ,
О худѣ, о добрѣ и, наконецъ, о дружбѣ.
„Что можетъ,—говоритъ Полканъ,—пріятнѣй быть,
Какъ съ другомъ сердце къ сердцу жить;
Во всемъ оказывать взаимную услугу;
Не спить безъ друга и не съѣсть,
Стоять горой за дружню шерсть,
И, наконецъ, въ глаза глядѣть другъ другу,
Чтобъ только улучить счастливый часъ,
Нельзя ли друга чѣмъ потѣшить, позабавить,
И въ дружнемъ счастьѣ все свое блаженство ставить!
Вотъ если бъ, напримѣръ, съ тобой у насъ
Такая дружба завелась:
Скажу я смѣло,
358
Мы бъ и не видѣли, какъ время бы летѣло".—
„А что же? это дѣло! —
Барбосъ отвѣтствуетъ ему.—
Давно, Полканушка, мнѣ больно самому,
Что, бывши одного двора съ тобой собаки,
Мы дня не проживемъ безъ драки;
И изъ чего? Спасибо господамъ:
Ни голодно ни тѣсно намъ!
Притомъ же, право, стыдно:
Песъ дружества слыветъ примѣромъ съ давнихъ дней,
А дружбы между псовъ, какъ будто межъ людей,
Почти совсѣмъ не видно". —
„Явимъ же въ ней примѣръ мы въ наши времена!—
Вскричалъ Полканъ.—Дай лапу!"—„Вотъ она!"
И новые друзья ну обниматься,
Ну цѣловаться;
Не знаютъ съ радости къ кому и приравняться:
„Орестъ мой!"—„Мой Пиладъ! Прочь свары, зависть, злость!"
Тутъ поваръ на бѣду изъ кухни кинулъ кость.
Вотъ новые друзья къ ней взапуски несутся:
Гдѣ дѣлся и совѣтъ и ладъ?
Съ Пилатомъ мой Орестъ грызутся,
Лишь только клочья вверхъ летятъ;
Насилу, наконецъ, ихъ розлили водою.
Свѣтъ полонъ дружбою такою.
Про нынѣшнихъ друзей льзя молвить не грѣша.
Что въ дружбѣ всѣ они едва ль не одинаки:
Послушать, кажется, одна у нихъ душа,
А только кинь имъ кость, такъ что твои собаки!
И. Крыловъ.
Лжецъ. М.
Изъ дальныхъ странствій возвратясь,
Какой-то дворянинъ (а можетъ-быть, и князь),
Съ пріятелемъ своимъ пѣшкомъ гуляя въ полѣ,
Расхвастался о томъ, гдѣ онъ бывалъ,
И къ былямъ небылицъ безъ счету прилыгалъ.
359
„Нѣтъ, — говоритъ,—что я видалъ,
Того ужъ не увижу болѣ.
Что здѣсь у васъ за край?
То холодно, то очень жарко,
То солнце спрячется, то свѣтитъ слишкомъ ярко.
Вотъ тамъ-то прямо рай!
И вспомнить такъ душѣ отрада!
Ни шубъ ни свѣчъ совсѣмъ не надо;
Не знаешь вѣкъ, что есть ночная тѣнь,
И круглый Божій годъ все видишь майскій день.
Никто тамъ ни садитъ ни сѣетъ;
А если бъ посмотрѣть, что тамъ растетъ и зрѣетъ!
Вотъ въ Римѣ, напримѣръ, я видѣлъ огурецъ:
Ахъ, мой творецъ!
И по сію не вспомнюсь пору!
Повѣришь ли? ну, право, былъ онъ съ гору".—
„Что за диковина!—пріятель отвѣчалъ.—
На свѣтѣ чудеса разсѣяны повсюду;
Да не вездѣ ихъ всякій примѣчалъ.
Мы сами вотъ теперь подходимъ къ чуду,
Какого ты нигдѣ, конечно, не встрѣчалъ,
И я въ томъ спорить буду.
Вонъ, видишь ли черезъ рѣку тотъ мостъ,
Куда намъ путь лежитъ? Онъ съ виду хоть и простъ,
А свойство чудное имѣетъ:
Лжецъ ни одинъ у насъ по немъ пройти не смѣетъ:
До половины не дойдетъ—
Провалится и въ воду упадетъ?
Но кто не лжетъ,
Ступай по немъ, пожалуй, хоть въ каретѣ”.
„А какова у васъ рѣка?"—
„Да не мелка.
Такъ видишь ли, мой другъ, чего-то нѣтъ на свѣтѣ!
Хоть римскій огурецъ великъ, нѣтъ спору въ томъ;
Вѣдь съ гору,—кажется, ты такъ сказалъ о немъ?" —
„Гора хоть не гора, но, право, будетъ съ домъ".—
„Повѣрить трудно!
Однакожъ, какъ ни чудно,
360
А все чуденъ и мостъ, по коемъ мы пойдемъ,
Что онъ лжеца никакъ не поднимаетъ;
И нынѣшней еще весной
Съ него обрушились (весь городъ это знаетъ)
Два журналиста да портной.
Безспорно, огурецъ и съ домъ величиной
Диковинка, коль это справедливо".—
„Ну, не такое еще диво;
Вѣдь надо знать, какъ вещи есть:
Не думай, что вездѣ по-нашему хоромы,
Что тамъ за домы:
Въ одинъ двоимъ за нужду влѣзть,
И то ни стать ни сѣсть!" —
„Пусть такъ, но все признаться должно,
Что огурецъ не грѣхъ за диво счесть,
Въ которомъ двумъ усѣсться можно.
Однакожъ, мостъ-атъ нашъ каковъ,
Что лгунъ не сдѣлаетъ на немъ пяти шаговъ,
Какъ тотчасъ въ воду!
Хоть римскій твой и чуденъ огурецъ..." —
„Послушай-ка,—тутъ перервалъ мой лжецъ,—
Чѣмъ на мостъ намъ итти, поищемъ лучше броду".
И. Крыловъ.
Двіь собаки. М.
Дворовый вѣрный песъ,
Который барскую усердно службу несъ,
Увидѣлъ старую свою знакомку,
Жужу, кудрявую болонку
На мягкой пуховой подушкѣ, на окнѣ.
Къ ней ластяся, какъ будто бы къ роднѣ,
Онъ съ умиленьемъ чуть не плачетъ,
И подъ окномъ
Визжитъ, вертитъ хвостомъ
И скачетъ.
361
„Ну, что, Жужутка, какъ живешь
Съ тѣхъ поръ, какъ господа тебя въ хоромы взяли?
Вѣдь помнишь: на дворѣ мы часто голодали.
Какую службу ты несешь?" —
„На счастье грѣхъ роптать,—Жужутка отвѣчаетъ,—
Мой господинъ во мнѣ души не чаетъ;
Живу въ довольствѣ и добрѣ,
И ѣмъ и пыо на серебрѣ;
Рѣзвлюся съ бариномъ; а ежели устану,
Валяюсь по коврамъ и мягкому дивану.
Ты какъ живешь?"—„Я,—отвѣчалъ Барбосъ,
Хвостъ плетью опустя и свой повѣся носъ,—
Живу попрежнему, терплю и холодъ
И голодъ
И, сберегаючи хозяйскій домъ,
Здѣсь подъ заборомъ сплю и мокну подъ дождемъ;
А если невпопадъ залаю,
То и побои принимаю.
Да чѣмъ же ты, Жужу, въ случай попалъ,
Безсиленъ бывши такъ и малъ,
Межъ тѣмъ какъ я изъ кожи рвусь напрасно?
Чѣмъ служишь ты?"—„Чѣмъ служишь! Вотъ прекрасно! —
Съ насмѣшкой отвѣчалъ Жужу.—
На заднихъ лапкахъ я хожу".
Какъ счастье многіе находятъ
Лишь тѣмъ, что хорошо на заднихъ лапкахъ ходятъ!
И. Крыловъ.
Волкъ и ягненокъ. М.
У сильнаго всегда безсильный виноватъ;
Тому въ исторіи мы тьму примѣровъ слышимъ,
Но мы исторіи не пишемъ;
А вотъ о томъ какъ въ басняхъ говорятъ.
Ягненокъ въ жаркій день зашелъ къ ручью напиться;
И надобно жъ бѣдѣ случиться,
Что около тѣхъ мѣстъ голодный рыскалъ волкъ.
362
Ягненка видитъ онъ, на добычу стремится;
Но, дѣлу дать хотя законный видъ и толкъ,
Кричитъ: „Какъ смѣешь ты, наглецъ, нечистымъ рыломъ
Здѣсь чистое мутить питье
Мое
Съ пескомъ и съ иломъ?
За дерзость такову
Я голову съ тебя сорву! “—
„Когда свѣтлѣйшій волкъ позволитъ.
Осмѣлюсь я донесть, что ниже по ручью
Отъ свѣтлости его шаговъ я на сто пью;
И гнѣваться напрасно онъ изволитъ:
Питья мутить его никакъ я не могу".
„Поэтому я лгу!
Негодный! слыхана ль такая дерзость въ свѣтѣ!
Да, помнится, что ты еще въ запрошломъ лѣтѣ
Мнѣ здѣсь же какъ-то нагрубилъ:
Я этого, пріятель, не забылъ!" —
„Помилуй, мнѣ еще и отроду нѣтъ году",
Ягненокъ говоритъ.—„Такъ это былъ твой братъ".—
„Нѣтъ братьевъ у меня." — „Такъ это кумъ иль сватъ,
И, словомъ, кто-нибудь изъ вашего же роду.
Вы сами, ваши псы и ваши пастухи—
Вы всѣ мнѣ зла хотите,
И если можете, то мнѣ всегда вредите:
Но я съ тобой за ихъ развѣдаюсь грѣхи".
„Ахъ, я чѣмъ виноватъ?" — „Молчи! усталъ я слушать.
Досугъ мнѣ разбирать вины твои, щенокъ!
Ты виноватъ ужъ тѣмъ, что хочется мнѣ кушать".
Сказалъ—и въ темный лѣсъ ягненка поволокъ,
И. Крыловъ.
Любопытный. М.
„Пріятель, дорогой, здорово! гдѣ ты былъ?"
— „Въ кунсткамерѣ, мой другъ! Часа тамъ три ходилъ;
Все видѣлъ, высмотрѣлъ; отъ удивленья,
363
Повѣришь ли, не станетъ ни умѣнья
Пересказать тебѣ ни силъ.
Ужъ подлинно, что тамъ чудесъ палата!
Куда на выдумки природа таровата!
Какихъ звѣрей, какихъ тамъ птицъ я не видалъ!
Какія бабочки, букашки,
Козявки, мушки, таракашки!
Однѣ какъ изумрудъ, другія какъ кораллъ!
Какія крохотны коровки!
Есть, право, менѣе булавочной головки’"—
„А видилъ ли слона? Каковъ собой на взглядъ!
Я чай, подумалъ ты, что гору встрѣтилъ?"
„Да развѣ тамъ онъ?"—„Тамъ".—
„Ну, братецъ, виноватъ:
Слона-то я и не примѣтилъ".
И. Крыловъ.
Демьянова у 5$ а. М.
„Сосѣдушка, мой свѣтъ!
Пожалуйста, покушай".—
„Сосѣдушка, я сытъ по горло".—
„Нужды нѣтъ,
Еще тарелочку; послушай:
Ушица, ей-же-ей, на славу сварена!"—
„Я три тарелки съѣлъ".—„И полно, что за счеты;
Лишь стало бы охоты,
А то во здравье: ѣшь до дна!
Что за уха! Да какъ жирна:
Какъ будто янтаремъ подернулась она.
Потѣшь же, миленькій дружочекъ!
Вотъ лещикъ, потроха, вотъ стерляди кусочекъ!
Еще хоть ложечку! Да кланяйся, жена!"
Такъ потчевалъ сосѣдъ-Демьянъ сосѣда-Фоку.
И не давалъ ему ни отдыха ни сроку;
А съ Фоки ужъ давно катился градомъ потъ.
Однакоже еще тарелку онъ беретъ,
Сбирается съ послѣдней силой,
364
И очищаетъ всю. „Вотъ друга я люблю!—
Вскричалъ Демьянъ.—Зато ужъ чванныхъ не терплю.
Ну, скушай же еще тарелочку, мой милый!"
Тутъ бѣдный Фока мой,
Какъ ни любилъ уху, но отъ бѣды такой,
Схватя въ охапку
Кушакъ и шапку,
Скорѣй безъ памяти домой,
И съ той поры къ Демьяну ни ногой.
Писатель, счастливъ ты, коль даръ прямой имѣешь;
Но если помолчать во время не умѣешь
И ближняго ушей ты не жалѣешь,
То вѣдай, что твои и проза и стихи
Тошнѣе будутъ всѣмъ Демьяновой ухи.
И. Крыловъ.
Споръ о согласіи. М.
(„У стѣнъ града Невидимагои.)
Опять хлынулъ нежданный лѣтній дождь, загасилъ огни
въ лѣсу. Встревожилъ людей на холмѣ.
— Подъ большія сосны, подъ большія сосны,—зашумѣли
на холмѣ. Женщины укрываются верхними юбками, какъ зон-
тиками, начетчики прячутъ скорѣе въ котомки старинныя
книги. Бѣгутъ всѣ наверхъ, подъ деревья. Устраиваются тамъ.
Подъ каждой сосной и елью въ лѣсу вырастаетъ большой
грибъ съ человѣческими глазами.
— Други!—кричить теперь еще громче пустынникъ.—Бра-
тіе, научите меня: звѣрь теперь царствуетъ или кто?
— Звѣрь, звѣрь, звѣрь, — перекликаются грибы подъ
соснами.
— А тысячу лѣтъ въ глубину? Все звѣрь?
— Звѣрь,—отзывается лѣсъ.
365
— А еще дальше. Звѣрь?
— Все звѣрь,—гудитъ лѣсъ.
— Глубина, братіе, научите меня! когда связанъ-то былъ,
цари были праведные?
— Праведные.
— Отчего же гоненіе было? Нероново и всякое?
— Оттого, что сатана былъ связанъ, а слуги развязаны.
— Можетъ ли это быть: сатана связанъ, а слуги раз-
вязаны?
— Здѣсь мудрость. Кто имѣетъ умъ, сочти число звѣря,
ибо это число человѣческое: число его шестьсотъ шестьдесятъ
шесть.
— Вотъ то-то, братіе, тутъ глубина, едва ли мы всю
глубину-то найдемъ.
— Здѣсь мудрость: въ глубинѣ звѣрь, а впереди звѣря
не будетъ, и побѣдившіе его станутъ на стеклянное море и
заиграють въ гусли. И будутъ тамъ поля, вертограды зеленые
и сады безъ числа.
„Нѣтъ, думаю я, это не грибы съ человѣческими глазами
выросли тамъ, подъ соснами, это праведники града невидимаго
высунули изъ-подъ земли свои косматыя, бородатыя головы".
— И будетъ знаменіе на небѣ, градъ Ерусалимъ, новый,
сходящій отъ Бога съ неба, приготовленный яко невѣста,
украшенная для мужа своего.
— Праведники, праведники, праведники, — чучь-чуть пе-
решептываются сосны, березки и ели, роняя большія лѣтнія
капли,—праведники.
— Дураки! — кричитъ учитель. — Никакого знаменія не
было и не будетъ. Это комета или осколки огненные, іерог-
лифы летающіе и больше ничего. Вы неучи, вамъ географію
нужно знать.
— Отвѣтъ, дайте ему отвѣтъ!
Читаетъ прислонившись къ соснѣ, сѣдой упрямый дѣдъ:
366
— Обходитъ солнце землю и небо...
— Дураки,—перебиваетъ учитель—это земля вертится, а
солнце стоитъ.
И подмигиваетъ мнѣ, ученому собрату.
— Баринъ, — просятъ меня мудрецы, — дай ему отвѣтъ,
скажи ему: солнце ходитъ, а земля стоитъ, тебѣ онъ по-
вѣритъ.
Хочу, всей душой хочу, чтобъ земля стояла, а солнце
ходило. Хочу помочь старикамъ, но не могу.
— Нѣтъ, дѣдушка, учитель правъ.
— Гадали мы, — хоромъ отвѣчаютъ старики,—гадали, да
не выходитъ: мысленное ли дѣло, чтобы земля вертѣлась.
— Въ какомъ я вѣкѣ? — спрашиваю себя. Попробовать
развѣ доказать имъ. Припоминаю гимназическіе уроки. И вдругъ
сомнѣнія. Самыя постыдныя: не докажу, забылъ доказательства.
А потомъ такое неожиданное разсужденіе: почему то дока-
зательство было всю жизнь не нужно. На чемъ же основана
это моя гордость? Почему мнѣ нужно доказывать этимъ
лѣснымъ старикамъ то, что меня не интересовало. И, быть-
можетъ, въ ихъ пониманіи, въ особомъ духовномъ смыслѣ,
и вправду земля плоская, а солнце ходитъ. Нужно разобраться
въ томъ, какъ они вѣрятъ, что значатъ эти огромныя книги;
я ихъ никогда не читалъ.
— Гадали мы, гадали,—говорятъ старики, — да не выхо-
дитъ. Какая же она круглая: рѣка Обь на 800 верстъ внизъ
бѣжитъ, Енисей на четыреста, Лена, и всѣ въ одну сторону,
къ океану.
— Мѣрили мы разумомъ,—не выходитъ.
— Потому—рѣки въ одну сторону.
Баяли бы, не круглая, а въ родѣ корыта.
И еще и еще доказательства. Кончено: земля покатая,
стоитъ.
367
Смотрятъ на меня лѣсные мудрецы, ждутъ моего согласія.
Я погружаюсь мысленно, въ глубину среднихъ вѣковъ... Но
тутъ мгновенно воскресаютъ тѣни Колумба, Коперника и
Галилея...
— Нѣтъ, — рѣшительно говорю я, — нѣтъ, земля круглая,
вертится. И мѣсяцъ круглый...
— Ну, мѣсяцъ, — подхватываютъ, — извѣстное дѣло,
круглый.
— Про мѣсяцъ не говорю.
— И земля круглая,—помогаетъ мнѣ учитель.
— Врешь,—набрасываются на него,—врешь, не круглая.
Вода Богу служитъ: рыбу творитъ; лѣсъ служитъ: ягоду
раститъ, звѣрь служитъ, всякая тварь служитъ, а какъ же
земля?
— Дураки, вамъ географію нужно, тутъ атмосфера, тутъ
воздухъ.
— Врешь, врешь. Тысячу разъ врешь. Не вѣрю, что
круглая!—кричитъ чистый старикъ.
— Въ географію не очень вѣрю, — сочувствуетъ путе-
шественникъ.
— И въ воздухъ не вѣрю, — соглашается съ нимъ пу-
стынникъ.
М. Пришвинъ.
Охотникъ. М.
Пора настала; раздается
Собакъ веселый лай въ поляхъ,—
Сердца дрожатъ у куропатокъ,
Напалъ на зайцевъ прыткихъ страхъ.
Съ ружьемъ я цѣлыхъ двѣ недѣли
Съ утра до вечера бродилъ
И, хоть встрѣчалъ я массу дичи,
Но ничего не подстрѣлилъ.
368
Конечно, мнѣ съ усмѣшкой скажутъ:
„Въ стрѣльбѣ вы вѣрно новичокъ?"—
„Нѣтъ, извините—я извѣстенъ
Всѣмъ, какъ отличнѣйшій стрѣлокъ!" —
„Такъ что жъ за вздоръ вы говорите?" —
„Клянусь, не лгу я, господа:
Животныхъ всѣхъ до обожанья
Люблю я—вотъ моя бѣда!"
Какъ разсуждать я ни старался
И какъ себя я ни стыдилъ
За непростительную слабость,
А сладить съ сердцемъ нѣту силъ!
Но каждый день себѣ, однакожъ,
Я говорю, возставъ отъ сна:
Нѣтъ, ужъ сегодня непремѣнно
Нужна мнѣ жертва... хоть одна.
Я буду твердъ, не промахнуся
И зайца принесу домой;
Но только... какъ бы это сдѣлать,
Чтобъ заяцъ былъ... не молодой?
Чтобъ это старецъ былъ маститый,
Прожившій лѣтъ... такъ двадцать пять,
А въ молодого—преступленьемъ
Большимъ считаю я стрѣлять.
Вы посудите: могутъ дѣти
Вдругъ оказаться у него...
Но вамъ смѣшно? Убитый заяцъ
Для васъ не значитъ ничего!
Изъ васъ—я въ томъ увѣренъ—каждый
Его готовъ зажарить самъ...
Въ васъ нѣтъ ни капли состраданья
Къ его несчастнымъ сиротамъ!
Когда бъ у васъ отца убили,
Вѣдь вамъ бы не было смѣшно?
Конечно, вашъ отецъ не заяцъ,
А человѣкъ, но все равно.
Кто знаетъ: можетъ-быть, у зайцевъ
Любовь къ родителямъ сильнѣй,
369
Школа чтеца.
24
Чѣмъ у враговъ ихъ безпощадныхъ,
У ихъ губителей людей!..
Я убѣжденъ, что куропатки
И перепелки во сто кратъ
Способнѣй насъ къ семейной жизни,
Побольше ею дорожатъ:—
Поручитъ ли зайчиха мамкамъ
Своихъ дѣтенышей кормить,
Самой чтобъ ѣздить по визитамъ
Да ночи въ танцахъ проводить?
Кокетство есть ли въ перепелкахъ?
И разоряютъ ли мужей
Онѣ, подобно нашимъ женамъ,
Нелѣпой роскошью своей?
Слыхалъ ли кто-нибудь, чтобъ зайца
Лобъ былъ украшенъ иногда
Тѣмъ... что мужья, къ несчастью, носятъ
У насъ частенько, господа?
Кто видѣлъ, чтобъ подъ утро пьяный
Вернулся перепелъ домой
И, волю давъ натурѣ дикой,
Вступилъ въ побоище съ женой?
Кому животныя мѣшаютъ?
Кому?—я спрашиваю васъ!
Они въ хищеньи неповинны
И не обкрадываютъ кассъ;
Не добиваются концессій,
Не лѣзутъ въ банкъ въ директора,
И никогда-то биржевая
Не соблазняла ихъ игра!
Ихъ за публичные скандалы,
За нарушенье тишины
Не привлекаютъ къ мировому:
Они приличны и скромны...
Статеекъ пасквильныхъ въ газетахъ
Перомъ продажнымъ не строчатъ
И на торжественныхъ обѣдахъ
Плохихъ рѣчей не говорятъ.
370
Они живутъ себѣ спокойно
Въ поляхъ иль въ зелени лѣсовъ,
Вдали отъ суетнаго свѣта,
Отъ нашихъ шумныхъ городовъ.
За что жъ ихъ гонятъ? Неужели
Ужъ такъ преступно пощипать
Немножко травки въ чистомъ полѣ,
Немножко зеренъ поклевать?
Нѣтъ, я все больше убѣждаюсь,
Поближе всматриваясь въ нихъ,
Что ихъ преслѣдовать—разумныхъ
Нѣтъ основаній никакихъ.
И потому, когда порою
Мелькнетъ вдругъ зайчикъ предо мной
Иль я замѣчу куропатку,
Я тронутъ... плачу... самъ не свой...
Я вынимаю изъ кармана
Платокъ... сморкаюсь... и когда
Мой выстрѣлъ, наконецъ, раздался,
То ихъ ужъ нѣту и слѣда.
Довольный, что бѣдняжки скрылись,
Я говорю себѣ: впередъ
Они не будутъ такъ безпечны,
Урокъ имъ этотъ въ прокъ пойдетъ.
Луга поблекшіе, гдѣ нынѣ
Брожу я медленной стопой,
О, неужели обагритесь
Вы кровью жертвъ, убитыхъ мной?
Нѣтъ! чѣмъ я больше изучаю
Нашъ родъ людской, друзья мои,
Тѣмъ больше чувствую къ животнымъ
И уваженья и любви!
Грене-Данкуръ.
А. Плещеевъ.
371
24*
Облодоовъ и Захаръ. М.
(Отрывокъ изъ романа „Обломовъ11.)
— Захаръ!—закричалъ Илья Ильичъ.
Въ комнату вошелъ пожилой человѣкъ, въ сѣромъ сюр-
тукѣ, съ прорѣхою подъ мышкой, откуда торчалъ клочокъ
рубашки, въ сѣромъ же жилетѣ, съ мѣдными пуговицами, съ
голымъ, какъ колѣно, черепомъ и съ необъятно широкими и
густыми, русыми съ просѣдью бакенбардами, изъ которыхъ
каждой стало бы на три бороды.
Илья Ильичъ, погруженный въ задумчивость, долго не
замѣчалъ Захара. Захаръ стоялъ передъ нимъ молча. Наконецъ
онъ кашлянулъ.
— Что ты?—спросилъ Илья Ильичъ.
— Вѣдь вы звали?
— Звалъ? Зачѣмъ же это я звалъ — не помню! — Поди
пока къ себѣ, а я вспомню.
Захаръ ушелъ, а Илья Ильичъ продолжалъ лежать и ду-
мать о проклятомъ письмѣ.
Прошло съ четверть часа.
— Захаръ!
Захаръ вошелъ, а Обломовъ опять погрузился въ за-
думчивость.
Захаръ стоялъ минуты двѣ, неблагосклонно, немного сто-
роной посматривая на барина, и, наконецъ, пошелъ къ
дверямъ.
— Куда же ты? — вдругъ спросилъ Обломовъ.
Вы ничего не говорите, такъ что же тутъ стоять-то
даромъ.
— Ау тебя развѣ ноги отсохли, что ты не можешь по-
стоять? Ты видишь, я озабоченъ—такъ и подожди! Не нале-
372
жался еще тамъ? Сыщи письмо, что я вчера отъ старосты
получилъ. Куда ты его дѣлъ?
— Какое письмо? Я никакого письма не видалъ,—сказалъ
Захаръ.
— Ты же отъ почтальона принялъ его: грязное такое!
— Куда жъ его положили—почему мнѣ знать?—говорилъ
Захаръ, похлопывая рукой по бумагамъ и по разнымъ вещамъ,
лежавшимъ на столѣ.
— Ты никогда ничего не знаешь. Тамъ, въ корзинѣ по-
смотри! Или не завалилось ли за диванъ? Вотъ спинка-то у
дивана до сихъ поръ не починена; чтобъ тебѣ призвать сто-
ляра да починить? Вѣдь ты же изломалъ. Ни о чемъ не
подумаешь!
— Я не ломалъ,—отвѣчалъ Захаръ;—она сама изломалась,
не вѣкъ же ей быть: надо когда-нибудь изломаться.
— Нашелъ, что ли?
— Вотъ какія-то письма.
— Не тѣ.
— Ну, такъ нѣтъ больше.
— Ну, хорошо, поди! Я встану, самъ найду.
Захаръ пошелъ къ себѣ, но только онъ уперся было
руками о лежанку, чтобъ прыгнуть на нее, какъ опять послы-
шался торопливый крикъ:
— Захаръ, Захаръ!
— Ахъ, ты, Господи!—ворчалъ Захаръ, отправляясь опять
въ кабинетъ. — Что это за мученье? Хоть бы смерть скорѣе
пришла!
Чего вамъ?—сказалъ онъ, придерживаясь одной рукой
за дверь кабинета и глядя на Обломова, въ знакъ неблаго-
воленія, до того стороной, что ему приходилось видѣть ба-
рина вполглаза, а барину видна была только одна необъятная
бакенбарда, изъ которой такъ и ждешь, что вылетятъ двѣ-
три птицы.
373
— Носовой платокъ, скорѣй! Самъ бы ты могъ дога-
даться: не видишь!—строго замѣтилъ Илья Ильичъ.
— А кто это знаетъ, гдѣ платокъ? -ворчалъ онъ, обходя
вокругъ комнату и ощупывая каждый стулъ, хотя и такъ
можно было видѣть, что на стульяхъ ничего не лежитъ.
— Все теряете!—замѣтилъ онъ, отворяя дверь въ гости-
ную, чтобъ посмотрѣть, нѣтъ ли тамъ.
- Куда? здѣсь ищи! Я съ третьяго дня тамъ не былъ.
Да скорѣе же!
— Гдѣ платокъ? Нѣту платка!—говорилъ Захаръ, разводя
руками и озираясь во всѣ углы.—Да вонъ онъ, — вдругъ
сердито захрипѣлъ онъ, — подъ вами! Вонъ конецъ торчитъ.
Сами лежите на немъ, а спрашиваете платка!
— Какая у тебя чистота вездѣ: пыли-то, грязи-то, Боже
мой! Вонъ, вонъ погляди-ка въ углахъ-то — ничего не дѣ-
лаешь!
— Ужъ коли я ничего не дѣлаю...—заговорилъ Захаръ
обиженнымъ голосомъ.—Стараюсь, жизни не жалѣю! И пыль-
то стираю и мету-то почти каждый день...
Онъ указалъ на середину пола и на столъ, на которомъ
Обломовъ обѣдалъ.
Вонъ, вонъ,—говорилъ онъ,—все подметено, прибрано,
словно къ свадьбѣ... Чего еще?
А это что?—прервалъ Илья Ильичъ, указывая на стѣны
и на потолокъ.—А это? А это?
Онъ указалъ и на брошенное со вчерашняго дня поло-
тенце и на забытую на столѣ тарелку съ ломтемъ хлѣба.
— Ну, это, пожалуй, уберу,—сказалъ Захаръ, снисходи-
тельно взявъ тарелку.
— Только это! А пыль по стѣнамъ, а паутина?., -говорилъ
Обломовъ, указывая на стѣны.
— Это я къ Святой недѣлѣ убираю: тогда образа чищу
и паутину снимаю...
374
— А книги, картины обмести?..
Книги и картины передъ Рождествомъ: тогда съ
Анисьей всѣ шкапы переберемъ. А теперь, когда станешь
убирать? Вы все дома сидите.
Я иногда въ театръ хожу да въ гости: вотъ бы...
— Что за уборка ночью!
Обломовъ съ упрекомъ поглядѣлъ на него, покачалъ
головой и вздохнулъ, а Захаръ равнодушно поглядѣлъ въ
окно и тоже вздохнулъ. Баринъ, кажется, думалъ: „Ну, братъ,
ты еще больше Обломовъ, нежели я самъ", а Захаръ чуть ли
не подумалъ: „Врешь! ты только мастеръ говорить мудреныя
да жалкія слова, а до пыли и до паутины тебѣ и дѣла нѣтъ".
Понимаешь ли ты,—сказалъ Илья Ильичъ; — что отъ
пыли заводится моль? Я иногда даже вижу клопа на стѣнѣ!
— Уменя и блохи есть!—равнодушно отозвался Захаръ.
Развѣ это хорошо? Вѣдь это гадость! — замѣтилъ
Обломовъ.
Захаръ усмѣхнулся во все лицо, такъ что усмѣшка охва-
тила даже брови и бакенбарды, которыя отъ этого раздвину-
лись въ стороны, и по всему лицу до самаго лба расплылось
красное пятно.
Чѣмъ же я виноватъ, что клопы на свѣтѣ есть?—ска-
залъ онъ съ наивнымъ удивленіемъ.—Развѣ я ихъ выдумалъ?
— Это отъ нечистоты, — перебилъ Обломовъ. — Что ты
все врешь!
— И нечистоту не я выдумалъ.
У тебя вотъ тамъ мыши бѣгаютъ по ночамъ — я
слышу.
— И мышей не я выдумалъ. Этой твари, что мышей,
что кошекъ, что клоповъ, вездѣ много.
— Какъ же у другихъ не бываетъ ни моли ни клоповъ?
На лицѣ Захара выразилась недовѣрчивость, или, лучше
сказать, покойная увѣренность, что этого не бываетъ.
375
— У меня всего много,—сказалъ онъ упрямо;—за всякимъ
клопомъ не усмотришь, въ щелку къ нему не влѣзешь.
А самъ, кажется, думалъ: „Да и что за спанье безъ клопа?"
— Ты мети, выбирай соръ изъ угловъ и не будетъ ни-
чего, училъ Обломовъ.
— Уберешь, а завтра опять наберется,—говорилъ Захаръ.
— Не наберется,—перебилъ баринъ:—не должно.
— Наберется—я знаю,—твердилъ слуга.
— А наберется, такъ опять вымети.
— Какъ это? Всякій день перебирай всѣ углы? Да что
это за жизнь? Лучше Богъ по душу пошли!
— Отчего же у другихъ чисто?—возразилъ Обломовъ.—
Посмотри напротивъ у настройщика: любо взглянуть, а всего
одна дѣвка...
— А гдѣ нѣмцы сору возьмутъ, — вдругъ возразилъ
Захаръ. Вотъ поглядите-ка, какъ они живутъ! Вся семья
цѣлую недѣлю кость гложетъ. Гдѣ имъ сору взять? У нихъ
и корки зря не валяется: надѣлаютъ сухариковъ да съ пивомъ
и выпьютъ!
Захаръ даже сквозь зубы плюнулъ, разсуждая о такомъ
скаредномъ житьѣ.
— Нечего разговаривать!—возразилъ Илья Ильичъ. — Ты
лучше убирай.
— Иной разъ и убралъ бы, да вы же сами не даете,—
сказалъ Захаръ.
— Пошелъ свое! Все, видишь, я мѣшаю.
— Конечно вы: все дома сидите: какъ при васъ станешь
убирать? Уйдите на цѣлый день, такъ и уберу.
— Вотъ еще выдумалъ что — уйти! Пойди-ка ты лучше
къ себѣ.
— Да право!—настаивалъ Захаръ.—Вотъ, хоть бы сегодня
ушли, мы бы съ Анисьей и убрали все. И то не управимся
вдвоемъ-то: надо еще бабъ нанять, перемыть все.
376
— Э, какія затѣи—бабъ! Ступай себѣ, — говорилъ Илья
Ильичъ.
Онъ уже былъ не радъ, что вызвалъ Захара на этотъ
разговоръ. Онъ все забывалъ, что чуть тронешь этотъ дели-
катный предметъ, такъ и не оберешься хлопотъ.
Обломову и хотѣлось бы, чтобъ было чисто, да онъ бы
желалъ, чтобъ это сдѣлалось какъ-нибудь такъ, незамѣтно, само
собой; а Захаръ всегда заводитъ тяжбу, лишь только начинали
требовать отъ него сметанія пыли, мытья половъ и т. п. Онъ
въ такомъ случаѣ станетъ доказывать необходимость громад-
ной возни въ домѣ, зная очень хорошо, что одна мысль объ
этомъ приводила барина его въ ужасъ.
Захаръ ушелъ, а Обломовъ погрузился въ размышленія.
Черезъ нѣсколько минутъ пробило еще полчаса.
— Что это?—почти съ ужасомъ сказалъ Илья Ильичъ.—
Одиннадцать часовъ скоро, а я еще не всталъ, не умылся до
сихъ поръ? Захаръ, Захаръ!
— Ахъ, ты, Боже мой! Ну!
— Умыться готово?—спросилъ Обломовъ.
Готово давно!—отвѣчалъ Захаръ.—Чего вы не встаете?
— Что жъ ты не скажешь, что готово? Я бы ужъ и
всталъ давно. Поди же, я сейчасъ иду, вслѣдъ за тобой. Мнѣ
надо заниматься, я сяду писать.
Захаръ ушелъ, но черезъ минуту воротился съ исписан-
ной и замаслянной тетрадкой и клочками бумаги.
Вотъ, коли будете писать, такъ ужъ кстати извольте
и счеты провѣрить: надо деньги заплатить.
— Какіе счеты? Какія деньги?—съ неудовольствіемъ спро-
силъ Илья Ильичъ.
Отъ мясника, отъ зеленщика, отъ прачки, отъ хлѣбника:
всѣ денегъ просятъ.
— Только о деньгахъ и забота!—ворчалъ Илья Ильичъ.—
А ты что понемногу не подаешь счеты, всѣ вдругъ?
377
— Вы же вѣдь все прогоняли меня: завтра да завтра.
— Ну, такъ и теперь развѣ нельзя до завтра?
— Нѣтъ! Ужъ очень пристаютъ: больше не даютъ въ
долгъ. Нынче первое число.
— Ахъ, — съ тоской сказалъ Обломовъ: — новая забота!
Ну что стоишь? Положи на столъ. Я сейчасъ встану, умоюсь
и посмотрю, — сказалъ Илья Ильичъ.—Такъ умыться-то
готово?
— Готово,—сказалъ Захаръ.
— Ну, теперь...
— Я забылъ вамъ сказать: давеча, какъ вы еще почи-
вали, управляющій дворника прислалъ: говоритъ, что непре-
мѣнно надо съѣхать... квартира нужна.
Ну, что жъ такое. Если нужно, такъ, разумѣется,
съѣдемъ. Что ты пристаешь ко мнѣ? Ужъ ты третій разъ
говоришь мнѣ объ этомъ.
— Ко мнѣ пристаютъ тоже.
— Скажи, что съѣдемъ.
— Они говорятъ: вы ужъ съ мѣсяцъ, говорятъ, обѣщали,
а все не съѣзжаете: мы, говорятъ, полиціи дадимъ знать.
— Пусть даютъ знать!—сказалъ рѣшительно Обломовъ.
Мы и сами переѣдемъ, какъ потеплѣе будетъ, недѣли че-
резъ три.
Куда недѣли черезъ три! Управляющій говоритъ, что
черезъ двѣ недѣли рабочіе придутъ: ломать все будутъ...
„Съѣзжайте, — говоритъ, — завтра или послѣзавтра...
— Э-э-э! слишкомъ проворно! Видишь, еще что! Не сей-
часъ ли прикажете? А ты мнѣ не смѣй и напоминать о
квартирѣ. Я ужъ тебѣ запретилъ разъ; а ты опять. Смотри!
Что жъ мнѣ дѣлать-то!—отозвался Захаръ.
Что жъ дѣлать? — вотъ онъ чѣмъ отдѣлывается отъ
меня!—отвѣчалъ Илья Ильичъ.—Онъ меня спрашиваетъ! мнѣ
что за дѣло? Ты не безпокой меня, а тамъ, какъ хочешь, такъ
378
и распорядись, только чтобъ не переѣзжать. Не можетъ по-
стараться для барина!
— Да какъ же, батюшка Илья Ильичъ, я распоряжусь?—
началъ мягкимъ сипѣньемъ Захаръ. — Домъ-то не мой: какъ
же изъ чужого дома не переѣзжать, коли гонятъ? Кабы мой
домъ былъ, такъ я бы съ великимъ моимъ удовольствіемъ...
— Нельзя ли ихъ уговорить какъ-нибудь. „Мы, дескать,
живемъ давно, платимъ исправно".
— Говорилъ,—сказалъ Захаръ.
— Ну, что же они?
Что! Наладили свое: „Переѣзжайте,—говорятъ,—намъ
нужно квартиру передѣлывать". Хотятъ изъ докторской и
изъ этой одну большую квартиру сдѣлать, къ свадьбѣ хо-
зяйскаго сына.
— Ахъ, ты Боже мой!—съ досадой сказалъ Обломовъ.—
Вѣдь есть же этакіе ослы, что женятся!
Онъ повернулся на спину.
— Вы бы написали, сударь, къ хозяину,—сказалъ Захаръ,—
такъ, можетъ-быть, онъ бы васъ не тронулъ, а велѣлъ бы
сначала вонъ ту квартиру ломать.
Захаръ при этомъ показалъ рукой куда-то направо.
— Ну, хорошо, какъ встану, напишу... Ты ступай къ себѣ,
а я подумаю. Ничего ты не умѣешь сдѣлать, — добавилъ
онъ,—мнѣ и объ этой дряни надо самому хлопотать.
Захаръ ушелъ, а Обломовъ сталъ думать. Но онъ былъ
въ затрудненіи, о чемъ думать: о письмѣ ли старосты, о пе-
реѣздѣ ли на новую квартиру, приняться ли сводить счеты?
онъ терялся въ приливѣ житейскихъ заботъ и все лежалъ,
ворочаясь съ боку на бокъ. По временамъ только слышались
отрывистыя восклицанія:
Ахъ, Боже мой! Трогаетъ жизнь, вездѣ достаетъ.
И. Гончаровъ.
379
МАТЕРІАЛАМИ ВЫРАБОТКИ
САТИРИЧЕСКАГО ТОНА.
Введеніе въ шестой отдіьлъ.
(О сатирическомъ піонѣ.)
•
Выдѣленіемъ сатиръ въ особый отдѣлъ мнѣ хотѣлось указать
па то, что произведенія эти, подчиняясь всѣмъ основнымъ законамъ
чтенія, требуютъ еще особого, имъ однимъ присущаго, тона въ испол-
неніи. Сатира въ исполненіи чтеца не должна сбиваться на басню
съ ея мягкимъ юморомъ и добродушіемъ; смѣхъ сатиры золъ, а
сквозь смѣхъ проглядываетъ искренняя скорбь. Надо не забывать,
что тамъ, гдѣ лирикъ заплачетъ,—сатирикъ засмѣется и засмѣется
потому лишь, что привыкъ глубоко прятать слезы.
Конечно, когда сатира отъ темъ болѣе глубокихъ обращается къ
явленіямъ меньшей значительности, въ ней меньше горечи и больше
простого высмѣиванія. По все же это высмѣиваніе рѣзче, чѣмъ въ
баснѣ или иномъ юмористическомъ произведеніи.
О. Озаровская.
383
Человіьчекъ.
Человѣчекъ современный, низкорослый, слабосильный,
Мелкій собственникъ, законникъ, лицемѣрный семьянинъ,
Весь трусливый, весь двуличный, косодушный, щепетильный,
Вся душа его, душонка точно изъ морщинъ.
Вѣчно долженъ и не долженъ, то нельзя, а это можно,
Бракъ законный—спросъ и купля, обликъ сонный, гробъ сердецъ;
Можешь карты, можешь мысли передернуть—осторожно,
Явно грабить — неразумно, но стриги — овецъ.
Монотонный, односложный, какъ напѣвы людоѣда:
Тотъ упорно двѣ-три ноты тянетъ—тянетъ безъ конца,
Звѣрь несчастный—существуетъ отъ обѣда до обѣда;
Чтобъ поѣсть, жену убьетъ онъ, умертвитъ отца.
Этотъ ту же пѣсню тянетъ, только онъ вѣдь просвѣщенный,
Онъ оформитъ, онъ запишетъ, дверь запретъ онъ на крючокъ,
Блѣдноумный, сыщикъ вольныхъ, немочь сердца, евнухъ сонный,—
О, когда бъ ты, милліонный, вдругъ исчезнуть могъ! .
К. Бальмонтъ.
Утренняя доолитва.
Когда по городу брожу задумчивъ я
Съ мечтами о лугахъ душистыхъ,
Сквозь стѣны толстыя изъ каждаго жилья
Мнѣ слышны звуки словъ нечистыхъ.
Я слышу каждый день, блуждая по утрамъ
Вблизи домовъ, другъ съ другомъ сходныхъ,
385
Школа чтеца
25
Какъ возсылаютъ въ нихъ молитвы къ небесамъ
Уста смиренныхъ земнородныхъ.
„Сегодня обобрать дозволь мнѣ, Царь небесъ,
Сосѣда!—Самъ онъ—воръ безбожный.
Передъ судомъ съ него дай выиграть процессъ,
Хотя бы и съ присягой ложной!
„Съ вдовы послѣдній грошъ дозволь, о Боже, мнѣ
Собрать съ лихвою безъ пощады!
Я денегъ обѣщалъ достать своей женѣ,
Чтобъ оплатить ея наряды.
„Враги есть у меня.— У всѣхъ вѣдь есть враги.—
Не Ты ли преданъ былъ лобзаньемъ?
Моихъ Іудъ подъ судъ отдать мнѣ помоги,
Воздать имъ должнымъ наказаньемъ!
„И, если скрыть слѣды возможность только есть,
То даже и суда не надо,
Чтобъ тайно ото всѣхъ насытить месть,
Довольно будетъ капли яда.
„На тѣлѣ, наконецъ, прекрасномъ дай, Господь,
Скорѣе случай мнѣ счастливый
Пріятнѣй, чѣмъ всегда, свою потѣшить плоть,
Упившись лаской похотливой!
„Но болѣе всего молю я объ одномъ:
Дай скрыть мои всѣ прегрѣшенья,
Чтобъ въ клубѣ и въ гостяхъ, на биржѣ, за столомъ
Я сохранилъ къ себѣ почтенье!
„За милости Твои, за даръ Твоихъ щедротъ
Даю Тебѣ обѣтъ, мой Боже,
Покаяться въ грѣхахъ, когда мой часъ придетъ,
Духовнику на смертномъ ложѣ".
Такъ изо всѣхъ домовъ по городу, какъ дымъ,
Заразой гнусною вставая,
Восходитъ къ небесамъ безсмертнымъ, всеблагимъ,
Молитва общая, мірская.
Иванъ Жилькэнъ.
С. Головачевскій.
386
Перелетныя птицы.
Вотъ грязный задній дворъ, совсѣмъ обыкновенный:
Конюшня, хлѣвъ свиной, коровникъ и сарай,
А въ глубинѣ овинъ подъ шляпой неизмѣнной
Соломенной своей.— Тутъ для животныхъ рай.
Тутъ вѣчно ѣстъ и пьетъ бездушная порода;
На солнышкѣ блеститъ навозъ, какъ золотой;
И дремлютъ сонныя канавъ и лужицъ воды,
Омывшія весь дворъ вонючею рѣкой.
Вдали отъ мокроты и жирной кучи черной,
Тамъ, гдѣ навозъ просохъ и такъ овсомъ богатъ,
Хозяйка-курица разбрасываетъ зерна,
Гордясь семьей тупыхъ, прожорливыхъ цыплятъ;
Отецъ - пѣтухъ сидитъ повыше, на телѣгѣ,
Доволенъ, жиренъ, сытъ — свернулся онъ клубкомъ,
Онъ спитъ блаженнымъ сномъ, онъ утопаетъ въ нѣгѣ
И сонные глаза завѣсилъ гребешкомъ.
Вонъ плаваютъ въ пруду мечтательныя утки,
На тину устремивъ сентиментальный взглядъ,
И съ селезнемъ своимъ разъ по двѣнадцать въ сутки
О радостяхъ любви законной говорятъ.
Рубиномъ, бирюзой на солнцѣ отливая,
На крышѣ высоко, подъ золотомъ лучей,
Нарядная сидитъ и радужная стая,
Семья породистыхъ, спѣсивыхъ голубей.
Какъ войско стройное въ своихъ мундирахъ бѣлыхъ,
Пасется въ сторонѣ красивый полкъ гусей;
А дальше—черный рядъ индюшекъ осовѣлыхъ,
Надутыхъ важностью и глупостью своей.
Здѣсь — царство, гордое своею грязью, саломъ,
Скотской, счастливый бытъ разъѣвшихся мѣщанъ;
Въ помойной ямѣ жизнь, съ навознымъ идеаломъ.
387
25*
Здѣсь щедрою рукой удѣлъ блаженства данъ!
Да! счастливъ ты, индюкъ! И ты, мамаша-утка!
Утятамъ скажешь ты навѣрно въ смертный часъ:
„Живите такъ, какъ я... Не портите желудка...
Я — исполняла долгъ... Я — расплодила васъ!..“
Ты исполняла долгъ?.. Что значитъ „долгъ" для утки?
Не то ли, что она весь вѣкъ въ грязи жила,
Да, выйдя на траву, топтала незабудки
И крылья мотылькамъ со злобою рвала?
Не то ль, что никогда порыва вдохновенья
Не грезилося ей въ тупомъ, тяжеломъ снѣ,
Что не было у ней неяснаго стремленья
На волѣ полетать при звѣздахъ, при лунѣ?
Что подъ перомъ у ней ни разу лихорадка
Не растопила жиръ, не разбудила кровь,
Не родила мечты — уйти изъ лужи гадкой
Туда, гдѣ свѣтъ, и жизнь, и чистая любовь...
Да! счастливы они! Не трогаетъ нимало
Ихъ ни одинъ живой, мучительный вопросъ,
И въ голову гусей отнюдь не забредало
Желанія — имѣть другого цвѣта носъ...
Течетъ въ ихъ жилахъ кровь такъ плавно, тихо, мѣрно;
И гдѣ жъ волненьямъ быть, когда въ нихъ сердца нѣтъ?
Чтобъ знать, который часъ и скоро ли обѣдъ?..
Да! счастливы они!.. Живетъ патріархально,
Спокойно, весело и сыто пошлый родъ...
Онъ у помойныхъ ямъ блаженствуетъ нахально,
По маковку въ грязи, набитъ навозомъ ротъ.
Да! счастливъ задній дворъ!.. Но вотъ надъ нимъ взвилася
Большая стая птицъ, какъ точка въ небесахъ...
Приблизилась... Растетъ, плыветъ и пронеслася,
Нагнавъ на птичникъ весь непобѣдимый страхъ.
Вспорхнули голубки съ своей высокой крыши,
Испуганы они, валятся кувыркомъ,
Увидя, что полетъ тѣхъ птицъ гораздо выше,
Усѣлися въ пыли съ цыплятами рядкомъ...
Вотъ куры отъ земли приподняли головки;
Пѣтухъ со сна вскочилъ и съ гребнемъ на боку
388
Застукалъ шпорами, какъ офицерикъ ловкій,
Воинственно крича свое: „кукуреку!"
Что съ вами, господа?.. Да будьте же спокойны!
Чего орешь, пѣтухъ? Не докричишь до нихъ!..
Молчи... Они летятъ на берегъ дальній, знойный,
Не соблазнитъ ихъ видъ навозныхъ кучъ твоихъ.
Смотрите! Въ синевѣ прозрачной утопая,
Далеко отъ земли, отъ рабства и цѣпей,
Летятъ они стрѣлой, ни горъ не замѣчая,
Ни шума грозныхъ волнъ бушующихъ морей;
На эту вышину вамъ и глядѣть опасно.
Да... многіе изъ нихъ погибнутъ на пути
И не увидятъ край свободный и прекрасный,
Гдѣ грезилося имъ свой рай земной найти.
У нихъ, какъ и у васъ, есть также жены, дѣти...
Могли бы жить они въ курятникѣ, какъ вы,
Блаженствовать... Но имъ милѣй всего на свѣтѣ
Мечты—безумный бредъ ихъ гордой головы...
Истерзаны они, и худы и усталы...
За то имъ наверху какъ дышится легко!
И дикій ревъ стихій не страшенъ имъ нимало...
Ихъ крылья всѣмъ вѣтрамъ раскрыты широко!
Пусть буря перья рветъ, пусть злятся непогоды,
Пусть ливень мочитъ ихъ, сѣчетъ холодный градъ,
Согрѣтые лучомъ живительнымъ свободы,
Въ волшебный, свѣтлый край отважные летятъ.
Летятъ къ странѣ чудесъ, къ странѣ обѣтованной,
Гдѣ солнце золотитъ лазури вѣчной гладь,
Гдѣ вѣчная весна, гдѣ берегъ тотъ желанный,
Къ которому вовѣкъ вамъ, пошлымъ, не пристать!
Смотрите, пѣтухи, индюшки, гуси, утки!
Смотрите—дураки, да разѣвайте ротъ...
И, можетъ-быть, судьба, въ насмѣшку, ради шутки,
На плоскіе носы швырнетъ вамъ ихъ пометъ!
Жанъ Ришпенъ.
А. Барыкова.
389
Ѳедору шка.
„Барыня-сударыня, матушка Ѳедорушка,
Что сидишь невесело,
Голову повѣсила?"
— Охъ, отстань, родименькій; отвяжись, невпорушка;
Безъ тебя тошнехонько,
Безъ тебя больнехонько;
Не мѣшай мнѣ морщиться,
Не мѣшай мнѣ корчиться!
„Не пригоже, матушка; не идетъ, сударушка,
Ты вѣдь дама важная,
Барыня вальяжная!"
— Ахъ, была, родименькій, охъ, слыла, невпорушка,
Дамою я знатною,
Оченно пріятною,
Сытою, богатою,
Къ людямъ тароватою!
„Знамо дѣло, матушка, вѣдомо, Ѳедорушка;
Златомъ, серебромъ, поди,
У тебя хоть прудъ пруди".
— Было все, родименькій; было все, невпорушка,
Нынѣ же съ натяжками
Я живу бумажками
Пестрыми, красивыми,
Заурядъ фальшивыми.
„Какъ же такъ, сударыня? Какъ же такъ, Ѳедорушка?
Гдѣ жь твои рублевики,
Звонкіе цѣлковики?"
Вышли всѣ, родименькій, вышли всѣ, невпорушка,
На бумаги новыя,
Въ кабаки дешевые,
Нѣмцамъ за границею,
Дома—на полицію.
„Поищи, сударыня; поищи, Ѳедорушка!
Ты хоть не опаслива,
Встарь была запаслива".
390
— Не найти, родименькій, не сыскать, невпорушка,
Въ небѣ ясна сокола;
Обнищала до-гола,
Пропилась, прокралася,
Вся изворовалася!
„Дрянь ты стала, матушка; дрянь совсѣмъ, Ѳедорушка.
Надо бы, красавица,
Намъ съ тобой поправиться".
— Поправляюсь, родненькій, дѣйствую, невпорушка:
Отдаю юстицію
Подъ надзоръ въ полицію,
Обрываю армію,
Завожу жандармію!
„На кого же, матушка, на кого жъ, Ѳедорушка,
Рать тебѣ татарская,
Силища жандармская?"
— На себя, родименькій, на себя, невпорушка,
Чтобы я приникнула,
Чтобы я не пикнула,
Чтобъ не ныла жалобой,
Чтобъ ура кричала бы!
„Дѣло дрянь, сударыня; дѣло дрянь, Ѳедорушка;
Что объ насъ повѣдаютъ,
Коль сосѣди свѣдаютъ?"
— Свѣдали, родименькій, свѣдали, невпорушка;
Плачутъ всѣ отъ радости,
Дѣлаютъ мнѣ гадости;
Плюютъ, да ругаются,
Вздуть меня сбираются.
„Ты сама бы, матушка, ты бъ сама, Ѳедорушка,
Помянувъ родителей,
Въ морду бы хулителей!"
— Не молчу, родименькій, не молчу, невпорушка;
Я и обижаюся;
Плюютъ—утираюся,
И прошу прощенія
За свое смиреніе.
Гр. А. К. Толстой.
391
Добрая фея.
Нѣкогда, милыя дѣти,
Фея Урганда жила,
Маленькой палочкой въ свѣтѣ
Дѣлавъ большія дѣла.
Только махнетъ ею—мигомъ
Счастье прольется вездѣ...
Добрая фея, скажи намъ,
Гдѣ твоя палочка, гдѣ?
Ростомъ—вершокъ съ половиной;
Только, когда съ облаковъ
Фею въ коляскѣ сапфирной
Восемь везли мотыльковъ —
Зрѣлъ виноградъ по долинамъ,
Жатвы виднѣлись вездѣ...
Добрая фея, скажи намъ,
Гдѣ твоя палочка, гдѣ?
Царь былъ ей крестникъ; заботы
Царства лежали на ней—
Ну, и министровъ отчеты
Были, конечно, вѣрнѣй:
Средствъ не имѣлось къ пожи-
вамъ
Рыбкою въ мутной водѣ...
Добрая фея, скажи намъ,
Гдѣ твоя палочка, гдѣ?
Передъ зерцаломъ глядѣла
Фея въ судейскій уставъ:
Бѣдный выигрывалъ дѣло,
Если по дѣлу былъ правъ;
Плутъ, не спасаясь и чиномъ,
Названъ былъ плутомъ въ судѣ—
Добрая фея, скажи намъ,
Гдѣ твоя палочка, гдѣ?
Матерью крестной хранимый,
Царь былъ примѣромъ царямъ,
Сильнымъ народомъ любимый.
Страшенъ заморскимъ врагамъ,
Фею, съ ея крестнымъ сыномъ,
Благословляли вездѣ—
Добрая фея, скажи намъ,
Гдѣ твоя палочка, гдѣ?
Добрая фея пропала...
Гдѣ она—нѣтъ и слѣда:
Плохо въ Америкѣ стало—
Въ Азіи плохо всегда.
Насъ въ нашемъ царствѣ орли-
номъ
Холятъ какъ птичекъ въ гнѣздѣ—
Все-таки, фея, скажи намъ,
Гдѣ твоя палочка, гдѣ?
Беранже.
В. Курочкинъ.
Въ прусскомъ вагоніъ.
По чугуннымъ рельсамъ
"Ѣдетъ поѣздъ длинный;
Не свернетъ ни разу
Съ колеи рутинной.
Часомъ въ часъ разсчитанъ
Путь его помильно:
Воля моя, воля!
Какъ ты здѣсь безсильна!
392
То ли дѣло съ тройкой!
Мчусь, куда хочу я,
Безъ нужды, безъ цѣли
Землю полосуя.
Не хочу я прямо—
Забирай налѣво,
По лугамъ направо,
Взадъ черезъ посѣвы...
Но увы! ужъ скоро
Мертвая машина
Стянетъ и раздолье
Руси-исполина.
Сыплютъ иностранцы
Русскіе мильоны,
Чтобы русской волѣ
Положить препоны.
Но не поддадимся
Мы слѣпой рутинѣ:
Мы дадимъ духъ жизни
И самой машинѣ.
Не пойдетъ нашъ поѣздъ,
Какъ идетъ нѣмецкій:
То соскочитъ съ рельсовъ
Съ силой молодецкой,
То обвалитъ насыпь,
То мостокъ продавитъ,
То на встрѣчный поѣздъ
Ухарски направитъ.
То пойдетъ потише,
Опоздаетъ вволю,
За метелью станетъ
Сутки трое въ полѣ.
А иной разъ просто
Часика четыре
Подождетъ особу
Сильную въ семъ мірѣ.
Да, я вѣрю твердо:
Мертвая машина
Произволъ не свяжетъ
Руси - исполина.
Вѣрю: всѣ машины
Съ русскою природой
Сами оживятся
Духомъ и свободой.
Н. Добролюбовъ.
У пристани.
Счастливъ, кто мирно
Въ пристань вступилъ,
И за собою оставилъ море и бури,
И тепло и спокойно
Въ уютномъ сидитъ погребкѣ
Въ городѣ Бременѣ.
Какъ пріятно и ясно
Въ рюмкѣ зеленой
Весь міръ отражается!
Какъ отрадно,
Солнечно грѣя, вливается
Микрокосмъ струистый
Въ жаждой томимое сердце!
Все въ своей рюмкѣ я вижу:
Исторію древнихъ и новыхъ народовъ,
Турокъ и грековъ, Ганса и Гегеля,
Лимонныя рощи и вахтпарады,
Берлинъ и Шульду,
Тунисъ и Гамбургъ...
А главное—образъ милой моей...
Херувимское личико
Въ золотистомъ сіяньи рейнвейна.
О милая! какъ ты прекрасна!
Какъ ты прекрасна! Ты—роза...
Только не роза шнрасская,
Гафизомъ воспѣтая,
Соловью обрученная!..
Не роза шаройская,
Священно-пурпурная,
Пророками славимая...
Но роза ты погреба
Въ городѣ Бременѣ...
О! это роза изъ розъ!
Чѣмъ старше она,
Тѣмъ пышнѣе цвѣтетъ,
И я упоенъ
Ея ароматомъ небеснымъ;
Упоенъ... вдохновленъ... охмеленъ...
И не схвати меня
За вихоръ погребщикъ,
Я навѣрно подъ столъ бы свалился!
Славный малый! мы вмѣстѣ сидѣли
И пили, какъ братья.
Мы говорили о важныхъ,
Тайныхъ предметахъ,
Вздыхали и крѣпко другъ друга
Сжимали въ объятьяхъ,
И онъ обратилъ меня
На истинный путь... Я съ нимъ пилъ
394
За здравіе злѣйшихъ враговъ,
И всѣмъ поэтамъ .простилъ,
Какъ и мнѣ простится современемъ...
Я въ умиленіи плакалъ, и вотъ, наконецъ
Предо мною отверзлись
Врата спасенья...
Слава! Слава! Какъ сладостно вѣютъ
Вокругъ меня пальмы вефильскія!
Какъ благовонно Дышатъ
Мирты хевронскія!
Какъ шумитъ священный потокъ
И кружится отъ радости!
И самъ я кружусь... и меня
Выводитъ скорѣе на воздухъ,
На бѣлый свѣтъ — освѣжиться —
Мой другъ, погребщикъ, гражданинъ
Города Бремена.
Ахъ, мой другъ, погребщикъ! погляди:
На кровляхъ домовъ все стоятъ
Малютки крылатыя...
Пьяны онѣ — и поютъ!..
А тамъ — это яркое солнце—
Не красный ли спьяну то носъ—
Властителя міра, Зевеса,
И около этого краснаго носа
Не спьяну ли міръ весь кружится?
Гейне.
М. Михайловъ.
1861 ГОДЪ.
Семь тысячъ триста шестьдесятъ
Девятый годъ,
Какъ человѣкъ ползетъ назадъ,
Бѣжитъ впередъ;
Семь тысячъ триста слишкомъ лѣтъ
Тому назадъ
395
Изображалъ весь бѣлый свѣтъ
Фруктовый садъ.
Мы, господа, ведемъ свой счетъ
Съ того числа,
Когда Адамъ отвѣдалъ плодъ
Добра и зла.
Семь тысячъ лѣтъ пошли ко дну
Съ того утра,
Какъ человѣкъ нашелъ жену,
Лишась ребра.
Съ тѣхъ поръ счетъ ребрамъ у друзей
Мужья ведутъ,
Когда въ наивности своей
Ихъ жены лгутъ.
Потомъ мудрецъ на свѣтѣ жилъ,—
Гласитъ молва,—
За супъ онъ брату уступилъ
Свои права.
Потомъ заспорилъ родъ людской,
Забывъ урокъ,
За призракъ власти, за дрянной
Земли клочокъ;
За око око, зубъ за зубъ,
Ведетъ войну—
За тотъ же чечевичный супъ,
Какъ въ старину.
Прошли вѣка; воюетъ міръ,
И льется кровь...
И спорятъ гордые умы
Родной земли:
„Что нужно намъ? Откуда мы?
Куда пришли?
Должны ли мы на общій судъ
Тащить все зло?
Иль чтобъ, по-старому, подъ спудъ
Оно легло?
Крестьянамъ грамотность—вредна
Или добро?
396
Въ семействѣ женщина — жена
Или ребро?
Созрѣлъ ли къ пищѣ каждый ротъ?
Бить или нѣтъ?"
Такъ вопрошаютъ Новый годъ
Семь тысячъ лѣтъ.
В. Курочкинъ.
1909.
Родился карликъ Новый годъ.
Горбатый, сморщенный уродъ,
Тоскливый шутъ и скептикъ,
Мудрецъ и эпилептикъ.
„Такъ вотъ онъ милый Божій свѣтъ!
А гдѣ же солнце? Солнца нѣтъ!
А, прочемъ, я не первый,
Не стоитъ портить нервы".
И люди людямъ въ этотъ часъ
Бросали: „съ Новымъ годомъ васъ!"
Кто честно заикаясь,
Кто кисло ухмыляясь...
Ну, какъ же тутъ не поздравлять?
Двѣнадцать мѣсяцевъ опять
Мы будемъ спать и хныкать
И пальцемъ въ небо тыкать.
Отъ мудрыхъ, среднихъ и ословъ
Родятся рѣки старыхъ словъ,
Но кто еще, какъ прежде,
Пойдетъ кутить къ надеждѣ?
Ахъ, милый, хилый Новый годъ,
Горбатый, сморщенный уродъ!
Зажги среди тумана
Цвѣтной фонарь обмана.
Зажги! Мы ждали много лѣтъ—
Быть-можетъ, солнца вовсе нѣтъ?
Дай чуда! Вѣдь бывало
Чудесъ въ вѣкахъ немало...
397
Какой ты старый, Новый годъ!
Вѣдь мы равно наоборотъ
Считать могли бы годы,
Не исказивъ природы.
Да... Много мудраго у насъ...
А впрочемъ: „съ Новымъ годомъ васъ!"
Давайте спать и хныкать
И пальцемъ въ небо тыкать.
Саша Черный.
Культурная работа.
Утро. Мутныя стекла, какъ бѣльма,
Самоваръ на столѣ замолчалъ.
Прочелъ о визитахъ Вильгельма
И сразу смертельно усталъ.
Шагалъ отъ дверей до окошка,
Барабанилъ маршъ по стеклу,
И слѣдилъ, какъ хозяйская кошка
Ловила свой хвостъ на полу.
Свисталъ. Разсматривалъ тупо
Комодъ, „Островъ мертвыхъ", кровать.
Это было и скучно и глупо—
И опять начиналъ я шагать.
Взялъ Маркса. Поставилъ на полку,
Взялъ Гёте—и тоже назадъ.
Зѣвая, подглядывалъ въ щелку,
Какъ сосѣдка пила шоколадъ.
Напялилъ пиджакъ и пальтишко
И вышелъ. Думалъ, курилъ...
При мнѣ какой-то мальчишка
На мосту подъ трамвай угодилъ.
Сбѣжались. Я тоже сбѣжался.
Кричали. Я тоже кричалъ,
Махалъ рукой, возмущался
И карточку приставу далъ.
Пошелъ на выставку. Злился,
398
Ругалъ бездарность и ложь.
Обѣдалъ. Со скуки напился
И качался, какъ спѣлая рожь.
Поплелся къ пріятелю въ гости,
Говорилъ о холерѣ, добрѣ,
Гучковѣ, Уріелѣ д’Акостѣ
И домой пришелъ на зарѣ.
Утро... Мутныя стекла, какъ бѣльма.
Кипитъ самоваръ. Рядомъ „Русь"
Съ рѣчами того же Вильгельма.
Встаю — и снова тружусь.
Саша Черный.
Страшная исторія.
Окруженный кучей бланковъ,
Пожилой конторщикъ Банковъ
Мрачно куритъ и косится
На сосѣдній страшный столъ.
На занятіяхъ вечернихъ
Онъ вчера къ дѣвицѣ Кернихъ,
Какъ всегда, пошелъ за справкой
О варшавскихъ накладныхъ—
И, склонясь къ ея затылку,
Неожиданно и пылко
Подъ лихія завитушки
Вдругъ ее поцѣловалъ.
Комбинируя событья,
Дѣва Кернихъ съ вялой прытью
Кое-какъ облобызала
Галстукъ, баки и усы.
Не нашелся бѣдный Банковъ,
Отошелъ къ охапкамъ бланковъ
И куря, сводилъ балансы
До ухода, какъ нѣмой.
399
II.
Ахъ, вчера не сладко было!
Но сегодня, какъ могила,
Мраченъ Банковъ и косится
На сосѣдній страшный столъ.
Но спокойна дѣва Кернихъ:
На занятіяхъ вечернихъ
Подъ лихія завитушки
Не ее ль онъ цѣловалъ?
Подошла какъ по наитью,
И муссируя событье,
Сѣла рядомъ и солидно
Зашептала, не спѣша:
„Мой окладъ полсотни въ мѣсяцъ,
Вашъ окладъ полсотни въ мѣсяцъ,—
На сто въ мѣсяцъ въ Петербургѣ
Можно очень мило жить.
„Наградныя и прибавки
Я считаю на булавки,
На народный домъ и пиво,
На прислугу и табакъ".
Улыбнулся мрачный Банковъ—
На одномъ изъ старыхъ бланковъ
Быстро свелъ бюджетъ ихъ общій
И невѣсту ущипнулъ.
Такъ Петръ Банковъ съ Кларой Кернихъ
На занятіяхъ вечернихъ,
Экономіей прельстившись
Обручились въ добрый часъ.
III.
Проползло четыре года.
Три у Банковыхъ урода
Родилось за это время
Неизвѣстно для чего.
400
Время шло. Въ углу гостиной
Завелось ужъ піанино
И въ большомъ недоумѣньи
Мирно спало подъ ключомъ.
На стѣнахъ висѣлъ самъ Банковъ,
Достоевскій и испанка.
Двѣ искусственныя пальмы
Скучно сохли по угламъ.
Сотни лицъ различной масти
Называли это счастьемъ...
Сотни съ завистью открытой
Повторяли это вслухъ!
* *
*
Это ново? Такъ же ново,
Какъ фамилія Попова,
Какъ холера и проказа,
Какъ чума и плачъ дѣтей.
Для чего же повѣсть эту
Разсказалъ ты снова свѣту?
Оттого лишь, что на свѣтѣ
Нѣтъ страшнѣе ничего.
Саша Черный.
На Рейніь-
Размокшія отъ восклицаній самки,
Облизываясь, пялятся на Рейнъ:
„Ахъ, волны! Ахъ, туманъ! Ахъ, берега! Ахъ, замки!"
И тянутъ какъ сапожники, рейнвейнъ.
Мужья въ патріотическомъ азартѣ
На иностранцевъ пыжатся окрестъ
И карандашиками чиркаютъ по картѣ
Названія особо пышныхъ мѣстъ.
Гремитъ посуда. Носятся лакеи.
Сюсюкаютъ глухіе старички.
Перегрузившись лососиной, Лорелеи
Разстегиваютъ медленно крючки...
401
Шлола чтеца.
26
Пловучая конюшня раздражаетъ!
Отворотясь смотрю на берега.
Зелено-желтая вода поетъ и таетъ,
И въ пѣнѣ волнъ танцуютъ жемчуга.
Ползетъ туманъ задумчиво невинный,
И вдругъ въ разрывѣ — кручи буйныхъ скалъ,
Темнѣющихъ лѣсовъ безумныя лавины,
Далекихъ облаковъ янтарно-свѣтлый валъ...
Волна поетъ... за новымъ поворотомъ
Сбѣжались виноградники къ рѣкѣ,
На голову скалы взлетѣвшій мощнымъ взлетомъ
Сѣрѣетъ замокъ-коршунъ вдалекѣ.
Кто тамъ живетъ? Пунцовыя перины
Отчетливо видны въ морской бинокль.
Провѣтриваютъ... Въ креслѣ—нѣмецъ длинный.
На Рейнъ, должно-быть, смотритъ сквозь монокль...
Волна поетъ... А за спиной крикливо
Шумитъ упитанный восторженный шаблонъ.
Вашъ Рейнъ? Нѣмецкій Рейнъ? Но развѣ онъ изъ пива,
Но развѣ изъ колбасъ прибрежный смѣлый склонъ?
Вашъ Рейнъ? Но отчего онъ такъ свѣтло-прекрасенъ,
Измѣнчивъ и пѣвучъ, свободенъ и тоскливъ,
Неясенъ и кипучъ, мечтательно опасенъ,
И весь туманный крикъ, и весь глухой порывъ!
Нѣтъ, Рейнъ не вашъ! И вы лишь тли на розѣ—
Сосутъ и говорятъ: „Ахъ, это нашъ цвѣтокъ!"
Отъ вашихъ плоскихъ словъ, отъ вашей гадкой прозы
Исчезъ мой дикій лѣсъ, поблекъ цвѣтной потокъ...
Стаканы. Смѣхъ. Кружась, бѣгутъ опушки,
Растутъ и уплываютъ города.
Артиллерійскій лугъ. Дымокъ и грохотъ пушки...
Рокочетъ за кормой вспѣненная вода.
Гримасы и мечты, сплетаясь, бились въ Рейнѣ.
Таинственный туманъ свилъ влажную дугу.
Я думалъ о веснѣ, о женщинѣ, о Гейне
И замокъ выбиралъ на берегу.
Саша Черный.
402
На деогила^ъ.
Гёте и Шиллеръ на мылѣ и пряжкахъ,
На бутылочныхъ пробкахъ,
На сигарныхъ коробкахъ
И на подтяжкахъ...
Кромѣ того, на каждомъ предметѣ:
Ихъ покровители,
Тетки, родители,
Внуки и дѣти.
Мѣщане торгуютъ титанами...
Отъ тошныхъ витринъ, по гранитнымъ горбамъ,
Пошелъ переулками странными
Къ великимъ гробамъ
Мимо группъ фабрично-грустныхъ
Съ сладко-лживыми стишками,
Мимо ангеловъ безвкусныхъ,
Съ толсто-ровными руками,
Шелъ я быстрыми шагами—
И за грядками нарциссовъ,
Между темныхъ кипарисовъ,
Распростершихъ пыльный крепъ,
Выросъ старый темный склепъ.
Тишина. Полумракъ.
Въ герцогскомъ склепѣ нѣмецъ въ дворцовой фуражкѣ
Сунулъ мнѣ въ руки бумажку
И спросилъ за нее четвертакъ.
„За что?" — „Билетъ на могилу".
Изъ кармана насилу, насилу
Проклятыя деньги достала рука!
Лакей небрежно махнулъ на два сундука:
„Здѣсь покоится Гёте, великій писатель—
Вѣнокъ изъ чистаго золота отъ франкфуртскихъ женщинъ,
Здѣсь покоится Шиллеръ, великій писатель—
Серебряный новый вѣнокъ отъ гамбургскихъ женщинъ.
403
26*
Здѣсь лежитъ его свѣтлость Карлъ-Августъ съ Софіей-Луизой,
Здѣсь лежитъ его свѣтлость Францъ-Готтлибъ—Фридрихъ Виль-
гельмъ
Быть-можетъ, было нелѣпо
Бѣжать изъ склепа,
Но я не дослушавъ лакея, сбѣжалъ.
Тамъ въ склепѣ открылись дверцы
Нѣмецкаго сердца!
Тамъ былъ народной славы торговый подвалъ!
Саша Черный.
Изъ доои^ъ задоіьтокъ.
Жбанъ квасу вытянулъ спросонокъ,
Всю ночь севрюжина жгла грудь,
Какъ жорновъ, давитъ поросенокъ
И разстегай не дастъ вздохнуть!
Отъ ланинскаго редереру
Трещитъ и пухнетъ голова,
И чортъ велѣлъ мнѣ пить мадеру!
Наугостился черезъ мѣру...
Что дѣлать: матушка-Москва!
Смотрѣлъ царь-колоколъ, царь-пушку,
Дивился русской старинѣ,
Попалъ у Иверской въ ловушку:
Мазурикъ сжулькнулъ портмонэ;
То пыль, то грязь— надиво свѣту!
Въ тяжелой думѣ голова,
Напрасно сталъ бы дѣлать смѣту
Очистить городъ отъ пудрету...
Что дѣлать: матушка - Москва!
Обозрѣвалъ лицей Каткова:
Кого-то драли — слышалъ плачъ;
Купилъ штофъ водки у Попова,
Взялъ у Филиппова колачъ;
Ходилъ на биржу, тамъ армяне
404
Съ жидами взяли всѣ права;
А православные граждане—
Храпятъ съ милльонами въ карманѣ...
Что дѣлать: матушка-Москва!
Глушонъ былъ тѣстовскимъ органомъ,
Смотрѣлъ блаженнаго дьячка,
Поѣхалъ ночью въ паркъ къ цыганамъ,
Намялъ дорогою бока,
Тузовъ-купчинъ засталъ въ туманѣ,
Плетутъ несвязныя слова;
Пилъ съ ними, куры строилъ Танѣ,
Да и свалился на диванѣ...
Что дѣлать: матушка-Москва!
Мнѣ снилось зарево пожара,
Въ Кремлѣ французъ, гудитъ набатъ,
Народъ возсталъ, какъ Божья кара—
И дрогнулъ дерзкій супостатъ!
Спаливши крылія орлины,
Онъ сгибъ, какъ въ стужу мурава,
И палъ на снѣжныя долины!
Что жъ,—по гостямъ и проводины...
Спасибо, матушка-Москва!
П. Шумахеръ.
Свобода, равенство и братство.
Сначала шелъ я въ ногу съ вѣкомъ,
О всякой штукѣ не мечталъ,
И могъ быть дѣльнымъ человѣкомъ,
Но зазѣвался и — отсталъ.
Пренебрегая капиталомъ,
Искалъ сокровищъ для души,
Всю жизнь стремился къ идеаламъ
И увидалъ — одни шиши!
405
Кричалъ я громко о свободѣ,
Клеймилъ стѣснительную власть.
Скорбѣлъ о страждущемъ народѣ—
И угодилъ съ народомъ въ часть!..
Какъ либералъ, поэтъ и баринъ
Въ стихахъ о равенствѣ трубилъ,
Пока швейцаръ нашъ, Власъ Тугаринъ,
Мнѣ съ пьяныхъ глазъ не нагрубилъ!..
О братьяхъ-сербахъ какъ я плакалъ,
Купилъ револьверъ и кинжалъ;
Но страхъ попасть къ турчину на колъ
Меня отъ братства удержалъ!..
Лишенный сладостныхъ мечтаній,
Въ безсильной злобѣ и тоскѣ
Пошелъ я въ волковскія бани
Распарить кости на полкѣ...
И что жъ? О радость! о пріятство!
Я свой завѣтный идеалъ
Свободы, равенства и братства
Въ торговыхъ баняхъ увидалъ!
П. Шумахеръ.
Россійская идиллія.
(Подражаніе А. Майкову.)
Мерзавцы комары забралися подъ пологъ
И искусали мнѣ всѣ руки и лицо.
Прохлады нЬтъ нигдѣ, въ пруду вода, какъ щелокъ;
Измученъ выхожу на заднее крыльцо.
Въ людской и въ кухнѣ храпъ, отъ рощи тянетъ гарью,.
Въ каленомъ воздухѣ рои шмелей и мухъ,
Пить досмерти хочу, бужу въ чуланѣ Марью,—
Раскинувшись, лежитъ... во мнѣ смутился духъ,
Я убѣгаю въ садъ, сажуся на террасу;
Дворовый песъ Кудлай глядитъ изъ-подъ куста,
406
Машута съ погреба несетъ мнѣ миску квасу,
Припалъ и жадно пыо, не отымая рта.
О, какъ мнѣ хорошо!.. Сижу и чуткимъ ухомъ
Внимаю пѣночкѣ... жаръ схлынулъ, наконецъ...
Подъ ложечкой сосетъ, въ столовой вижу брюхомъ
Клубнику, самоваръ и жирный варенецъ.
Пью чай и думаю — зачѣмъ на свѣтѣ войны?
Я даже въ жареномъ кровь видѣть не могу;
Не лучше ль, если всѣ довольны и спокойны?
Не такъ ли, Машенька? Дай, губки обожгу!..
Она вся вспыхнула и спряталась за дверью.
Взволнованный, встаю, гляжу въ окно—луна!
Палъ бѣлымъ саваномъ туманъ по заозерью,
Усадьба запахомъ цвѣтовъ напоена;
Въ таинственной дали сливаются предметы:
Какъ будто всадника я вижу на конѣ...
Ахъ, это Климъ везетъ изъ города газеты:
Въ помѣщичьемъ быту годятся и онѣ...
Сбираютъ ужинать, наливки ставитъ Маша.
Къ закускѣ приказалъ сомовый плесъ подать;
А ужинъ? борщъ, сычугъ, грибы и простокваша,—
Какая благодать! какая благодать!
П. Шумахеръ.
Борьба за существованіе.
(Посвящается Дарвину.)
Я былъ на Истрѣ прошлымъ лѣтомъ
Въ глухой, забытой сторонѣ;
Жилъ созерцательнымъ поэтомъ,
И такъ легко дышалось мнѣ.
Со мной былъ вѣрный мой Трезорка.
Вставалъ я рано поутру,
Бралъ землянику у пригорка
И въ зной лежалъ въ сыромъ бору.
407
Бродилъ въ мечтахъ, какъ одичалый,
Въ лугу душистомъ межъ кустовъ
И приходилъ домой усталый
Съ пучкомъ прелестнѣйшихъ цвѣтовъ.
Обѣдъ: хлѣбъ, масло, яйца всмятку...
Потомъ пилъ чай, а вечеркомъ,
Потѣшивъ зернышкомъ хохлатку,
Поилъ барашка молокомъ.
Двѣ ласточки сновали быстро
На вышку къ милому гнѣзду,
Въ ночи мнѣ пѣснь звучала близко,
И соловей свисталъ въ саду.
Все пронеслось, какъ сонъ прекрасный;
Но грустно мнѣ, какъ вспомню я,
Какою смертію ужасной
Погибли всѣ мои друзья.
Щебета ласточекъ въ окошкѣ
Услышать вновь не суждено—
Онѣ попались въ лапы кошкѣ,
И ихъ гнѣздо разорено.
Мою хохлатку ястребъ зоркій
Схватилъ и взмылъ съ ней къ небесамъ,
Волкъ въ темный лѣсъ махнулъ съ Трезоркой,
Ну, а барашка—съѣлъ я самъ.
П. Шумахеръ.
Санъ-Яго.
Умеръ нашъ патронъ Санъ-Яго
И предсталъ патронъ предъ Бога,
И сказалъ Господь Санъ-Яго:
„Я тобой доволенъ много,
408
И за подвиги земные
Ты въ раю живи средь сада.
Что попросишь—все исполню!
Говори, чего же надо?"
Говоритъ ему Санъ-Яго:
„Пусть въ Испаніи пребудетъ
Изобиліе и солнце!" —
„Успокойся: это будетъ!"—
„Пусть побѣды громкой слава
У испанцевъ духъ пробудитъ,
Дай имъ храбрость, дай имъ силу!" —
„Успокойся, будетъ, будетъ!.."
„Дай имъ мудрое правленье,
Пусть царитъ оно неложно!"—
„Какъ?!., вдобавокъ и правленье?!—
Невозможно! невозможно!..
„Вѣдь, тогда ужъ будетъ раемъ
Вся страна твоя родная
И всѣ ангелы, пожалуй,
Убѣгутъ туда изъ рая,
„А на небѣ воцарятся
Безпорядокъ и смятенье,—
Нѣтъ, ужъ пусть у васъ пребудетъ
Ваше старое правленье!"
В. Крестовскій.
Школа взаимнаго обученья.
Я обучался въ школѣ жизни,
И эту школу я нашелъ
Въ моей возлюбленной отчизнѣ
Почище всѣхъ заморскихъ школъ.
409
Въ ней каждый учится по волѣ,
Науки въ ней не на виду,
Но, обучившись въ этой школѣ,
Ужъ я нигдѣ не пропаду!
Не всѣ пригодны въ ней къ наукѣ;
Есть безталанные: бѣднякъ
Иной всю жизнь аза отъ буки
Не различаетъ въ ней никакъ.
Другой глаголь отыщетъ, слово,
Да и начнетъ писать добро...
Оно полезно бы и ново,
Да въ общемъ выводѣ старо...
А и такіе есть на свѣтѣ:
Какъ букву люди разберетъ,
Букварь заброситъ и мыслете
Писать съ отчаянья пойдетъ.
Другого дальше червь тревожитъ;
Тотъ твердо думаетъ про честь,
Но про себя прочесть не можетъ
Благополучной буквы есть.
Другой, талантомъ одаренный,
Возьметъ букварь — пойметъ какъ разъ
Что въ этой азбукѣ мудреной
Всего важнѣе буква азъ.
Но лѣность, лѣность^мать порсковъ:
Не знаетъ трудной буквы ять
И послѣ тысячи уроковъ
Не можетъ дать, не смѣетъ взять.
Лишь искусившійся въ наукѣ,
Понявъ, что дѣло не хитро,
Запомнитъ азъ и скажетъ буки—
Г.лаголь, рцы, слово и добро!
Чтобъ раздѣлить людей съ землею,
Онъ ерикъ маленькій ввернетъ,
410
Самъ фертомъ встанетъ—и ѳитою
Вездѣ до ижицы, дойдетъ.
По остальнымъ согласнымъ, гласнымъ,
Махнувъ презрительно рукой,
Напишетъ есть со взоромъ яснымъ
И сыщетъ въ азбукѣ покой.
О, мудрость истинно-простая!
Семь - восемь буквъ довольно намъ,
Чтобы всю жизнь прожить, читая
Все остальное по складамъ.
В. Курочкинъ.
Россійскій туристъ.
Гнилому Западу въ угоду,
Его умомъ хотимъ мы жить,
И сдуру приняли методу
Все иностранное хвалить.
Чтобъ свѣрить съ былью небылицу»
Я взялъ каюту на Штетинъ
И лично ѣздилъ за границу,
Какъ патріотъ и дворянинъ.
Туда пробили наши тропу,
Все, вишь, хотятъ на тотъ манеръ»
И чортъ занесъ меня въ Европу;
Въ Россіи лучше не впримѣръ;
Про англичанъ и ихъ свободу
Что Русскій. Вѣстникъ ни пиши,
А все у этого народу
На первомъ планѣ барыши:
Вездѣ конторы и амбары,
И свистъ и копоть отъ машинъ...
Плевать хотѣлъ я на товары,—
Я—не купецъ, я—дворянинъ.
411
Предоставляю Бутенопу
Машины строить для аферъ...
И чортъ занесъ меня въ Европу,—
Въ Россіи лучше не впримѣръ!
Французы—тѣ иного рода:
Во всемъ веселье, мода, шикъ,
Но жизнью этого народа
Я не увлекся ни на мигъ.
Тамъ баринъ вѣжливъ предъ лакеемъ,
Тамъ всякій дворникъ—господинъ...
Я не привыкъ къ такимъ идеямъ,—
Я— не Прудонъ, я—дворянинъ;
По мнѣ, мусье нейдетъ къ холопу,
Съ него довольно и моншеръ...
И чортъ занесъ меня въ Европу,—
Въ Россіи лучше не впримѣръ!
И нѣмцы знатную породу
Роняютъ низкимъ ремесломъ:
Тамъ продаютъ бароны воду,
Тамъ держитъ „фонъ“ игорный домъ.
Я только въ Австріи замѣтилъ,
Что уважаютъ родъ и чинъ;
Тамъ вольнодумцевъ я не встрѣтилъ,
Тамъ я вполнѣ былъ дворянинъ.
Какъ жаль, что задали ей трепку!
А все Людовикъ, лицемѣръ...
И чортъ занесъ меня въ Европу,—
Въ Россіи лучше не впримѣръ!
Про итальянскую природу
Пусть вамъ разскажутъ маляры;
Отъ нищихъ просто нѣтъ проходу,
И нѣтъ спасенья отъ жары.
Тамъ, что ни шагъ, то галлереи;
Сталъ свѣтъ не милъ мнѣ отъ картинъ
Мнѣ тошно вспомнить про музеи:
412
Я—не артистъ, я—дворянинъ.
Торчи подобно остолопу
Средь этихъ мраморныхъ Венеръ...
Занесъ же чортъ меня въ Европу,—
Въ Россіи лучше не впримѣръ!
П. Шумахеръ.
Добрый знаковый.
Я всей душой къ женѣ привязанъ;
Я въ люди вышелъ... Да чего!
Я дружбой графа ей обязанъ.
Легко ли! Графа самого!
Дѣлами царства управляя,
Онъ къ намъ заходитъ какъ къ роднымъ.
Какое счастье! Честь какая!
Вѣдь я червякъ въ сравненьи съ нимъ!
Въ сравненьи съ нимъ,
Съ лицомъ такимъ—
Съ его сіятельствомъ самимъ!
Прошедшей, напримѣръ, зимою,
Назначенъ у министровъ балъ:
Графъ пріѣзжаетъ за женою—
Какъ мужъ, и я туда попалъ.
Тамъ руку мнѣ при всѣхъ сжимая,
Назвалъ пріятелемъ своимъ!..
Какое счастье! Честь какая!
Вѣдь я червякъ въ сравненьи съ нимъ!
Въ сравненьи съ нимъ,
Съ лицомъ такимъ—
Съ его сіятельствомъ самимъ!
Жена случайно захвораетъ—
Вѣдь онъ, голубчикъ, самъ не свой:
Со мною въ преферансъ играетъ,
А ночью ходитъ за больной.
Пріѣхалъ, весь въ звѣздахъ сіяя,
413
Поздравить съ ангеломъ моимъ...
Какое счастье! Честь какая!
Вѣдь я червякъ въ сравненьи съ нимъ,
Въ сравненьи съ нимъ,
Съ лицомъ такимъ—
Съ его сіятельствомъ самимъ!
А что за тонкость обращенья!
Пріѣдетъ вечеромъ, сидитъ...
„Что вы все дома... безъ движенья?
Вамъ нуженъ воздухъ..." говоритъ.
„Погода, графъ, весьма дурная!"
„Да мы карету вамъ дадимъ!"
Предупредительность какая!
Вѣдь я червякъ въ сравненьи съ нимъ!
Въ сравненьи съ нимъ,
Съ лицомъ такимъ—
Съ его сіятельствомъ самимъ!
Зазвалъ къ себѣ въ свой домъ боярскій;
Шампанское лилось рѣкой...
Жена уснула въ спальнѣ дамской—
Я въ лучшей комнатѣ мужской.
На мягкомъ ложѣ засыпая,
Подъ одѣяломъ парчевымъ,
Я думалъ, нѣжась: „Честь какая!
Вѣдь я червякъ въ сравненьи съ нимъ!
Вь сравненьи съ нимъ,
Съ лицомъ такимъ—
Съ его сіятельствомъ самимъ!"
Крестить назвался непремѣнно,
Когда Господь мнѣ сына далъ—
И улыбнулся умиленно,
Когда младенца воспріялъ.
Теперь умру я, уповая,
Что крестникъ взысканъ будетъ имъ...
А счастье-то, а честь какая!
Вѣдь я червякъ въ сравненьи съ нимъ!
Въ сравненьи съ нимъ,
Съ лицомъ такимъ—
414
Съ его сіятельствомъ самимъ!
А какъ онъ милъ, когда онъ въ духѣ!
Вѣдь я за рюмкою вина
Хватилъ однажды: ходятъ слухи...
Что будто графъ... моя жена...
Графъ, говорю, пріобрѣтая...
Трудясь... я долженъ быть слѣпымъ...
Да ослѣпитъ и честь такая!
Вѣдь я червякъ въ сравненьи съ нимъ!
Въ сравненьи съ нимъ.
Съ лицомъ такимъ—
Съ его сіятельствомъ самимъ!
Беранже.
В. Курочкинъ.
Любовь не картошка.
Аронъ Фарфурникъ застукалъ наслѣдницу дочку
Съ голодранцемъ студентомъ Эпштейномъ;
Они цѣловались! Подъ сливой у старыхъ качелей.
Аронъ, выгоняя Эпштейна, измялъ ему страшно сорочку,
Дочку заперъ въ кладовку и долго сопѣлъ надъ бассейномъ,
Гдѣ плавали красныя рыбки. „Несчастный Капцанъ“!
Что было! Эпштейна чуть-чуть не съѣли собаки,
Мадате изсморкала отъ горя четыре платка,
А бурный Фарфурникъ разбилъ фамильный подносъ.
На утро очнулся. Разгладилъ бобровыя баки,
Сѣлъ съ женой на диванъ, втиснулъ руки въ бока
И позвалъ отъ слезъ опухшую дочку.
Пилили, пилили, пилили, но дочка стояла, какъ идолъ,
Смотрѣла въ окно и скрипѣла, какъ злой попугай:
„Хочу за Эпштейна"—„Молчать!!!"—„Хочу за Эпштейна..."
Фарфурникъ подумалъ... вздохнулъ. Ни словомъ рѣшенья не выдалъ,
Послалъ куда-то прислугу, а самъ, какъ бугай,
Уставился тяжко въ коверъ. Дочку заперли въ спальнѣ.
Эпштейнъ голодранецъ откликнулся быстро на зовъ:
Пришелъ негодяй, закурилъ и разсѣлся, какъ дома.
415
Мадате огорченно сморкается въ пятый платокъ.
Ой, сколько она наплела удручающихъ словъ:
„Сибирщикъ! Босякъ! Лопацонъ! Свиная трахома!
Провокаторъ невиннѣйшей дѣвушки, чистой, какъ макъ!!!“
„Ша“... началъ Фарфурникъ. „Скажите, могли бы ли вы
Купить моей дочкѣ хоть зонтикъ на ваши несчастныя средства?
Калошу одну могли бы ли вы ей купить?!"
Зажглись въ глазахъ у Эпштейна зловѣщіе львы:
„Купить бы купилъ, да никто не оставилъ наслѣдства"...
Со стѣнки папаша Фарфурника строго косится.
„Ага, молодой человѣкъ. Но я не нуждаюсь! Пусть такъ. /
Кончайте вашъ курсъ, положите дипломъ на столъ и вѣнчайтесь—
Я тоже имѣю въ груди не лягушку, а сердце...
Пускай хоть за утку выходитъ—лишь былъ бы счастливый вашъ бракъ.
Но раньше диплома, пусть громъ васъ убьетъ, не встрЬчай тесь,
Иначе я вамъ сломаю руки и ноги!"
„Да, да...—сказала масіаше—въ дворянской банѣ во вторникъ
Уже намекали довольно прозрачно про васъ и про Розу—
Ихъ счастье, что я изъ-за пара не видѣла, кто!“
Эпштейнъ поклялся, что будетъ жить, какъ затворникъ,
Учелъ про себя Фарфурника злую угрозу
И вышелъ, взволнованнымъ ухомъ ловя рыданья изъ спальни
Вечеромъ, вечеромъ сторожъ билъ
Въ колотушку, что есть силы!
Какъ шакалъ, Эпштейнъ бродилъ
Подъ окошкомъ Розы милой.
Лампа погасла, всхлипнуло окошко,
Въ рамѣ—бѣлое, нѣжное пятно.
Полѣзъ Эпштейнъ—любовь не картошка:
Гони ее въ дверь,—ворвется въ окно.
Заперли, заперли крѣпко двери,
Задвинули шкапомъ, чтобъ было вѣрнѣй.
Эпштейнъ наклонился къ Фарфурника дщери
И мучить губы больнѣй и больнѣй...
Ждать ли, ждать ли три года диплома?
Роза цвѣтетъ—Эпштейнъ не дуракъ:
Соперникъ Поплавскій имѣетъ три дома
И тоже питаетъ надежду на бракъ...
416
За дверью Фарфурникъ, уткнувшись въ подушку,
Храпитъ баритономъ, жена—дискантомъ,
Раскатисто сторожъ бубнитъ въ колотушку,
И ночь неслышно обходитъ домъ.
Саша Черный.
У с ы.
(Философская ода.)
Глаза скосивъ на усъ кудрявый,
Гусаръ съ улыбкой величавой
На палецъ завитки моталъ;
Мудрецъ съ обритой бородою,
Качая тихо головою,
Со вздохомъ усачу сказалъ:
„Гусаръ! нѣтъ вѣчнаго въ природѣ...
Какъ ода вслѣдъ похвальной одѣ,
Проходятъ царства и вѣка.
Скажи, гдѣ стѣны Вавилона?
Гдѣ драмы тощія Клеона?
Умчала все временъ рѣка!
„За уши усъ твой закрученный,
Виномъ и ромомъ окропленный,
Гордится юной красотой,
Не знаетъ бритвы, выписною
Онъ вѣчно лоснится сурьмою,
Расправленъ гребнемъ и рукой.
„Чтобы не смять уса лнхова,
Ты къ ночи одою Хвостова
Его тихонько обвернешь.—
Въ подушку носомъ лечь не смѣешь,
И въ крѣпкомъ снѣ его лелѣешь,
И утромъ вновь его завьешь.—
„На долгихъ ужинахъ веселыхъ,
Въ кругу гусаровъ посѣдѣлыхъ
И черноусыхъ удальцовъ,
Веселый гость, любовникъ пылкій,
Школа чтеца.
417
За чье здоровье бьешь бутылки?
Коня, красавицъ и усовъ!
„Сраженья страшный часъ настанетъ
Въ ряды ядро со трескомъ грянетъ:
А ты надъ ухарскимъ сѣдломъ,
Разсудка, памяти не тратишь,
Сперва кудрявый усъ ухватишь,
А саблю вѣрную потомъ.
„Окованный волшебной силой,
Наединѣ съ красоткой милой,
Ты нѣжишься одной рукой
Въ восторгахъ нѣги сладострастной—
Летаешь по груди прекрасной,
А грозный усъ крутишь другой.
„Гордись, гусаръ! но помни вѣчно,
Что все на свѣтѣ скоротечно—
Летятъ губительны часы!
Румяны щеки пожелтѣютъ,
И черны кудри посѣдѣютъ,
И старость выбѣлитъ усы”.
Пушкинъ.
Карась-идеалистъ.
(Въ сокращеніи.)
Карась съ ершомъ спорили. Карась говорилъ, что можно
на свѣтѣ одною правдою прожить, а ершъ утверждалъ, что
нельзя безъ этого обойтись, чтобъ не слукавить. Что именно
разумѣлъ ершъ подъ выраженіемъ: „слукавить" — неизвѣстно,
но только всякій разъ, какъ онъ эти слова произносилъ, ка-
рась въ негодованіи восклицалъ:
— Но вѣдь это подлость!
На что ершъ возражалъ:
— Вотъ ужо увидишь!
418
Карась — рыба смирная и къ идеализму склонная: не да-
ромъ его монахи любятъ. Лежитъ онъ больше на самомъ
днѣ рѣчной заводи (гдѣ потише) или пруда, зарывшись въ
илъ, и выбираетъ оттуда микроскопическихъ ракушекъ для
своего продовольствія. Ну, натурально, полежитъ-полежитъ,
да что-нибудь и выдумаетъ. Иногда даже и очень вольное.
Но такъ какъ караси ни въ цензуру своихъ мыслей не
представляютъ, ни въ участкѣ не прописываютъ, то въ поли-
тической неблагонадежности ихъ никто не подозрѣваетъ. Если
же иногда и видимъ, что отъ времени до времени на карасей
устраивается облава, то отнюдь не за вольнодумство, а за то,
что они вкусны.
Ловятъ карасей по преимуществу сѣтью или неводомъ,
но что бы ловля была удачна, необходимо имѣть сноровку;
Опытные рыбаки выбираютъ для этого время сейчасъ вслѣдъ
за дождемъ, когда вода бываетъ мутна, и затѣмъ, заводя не-
водъ, начинаютъ хлопать по водѣ канатомъ, палками и вообще
производить шумъ. Заслышавъ шумъ и думая, что онъ воз-
вѣщаетъ торжество вольныхъ идей, карась снимается со дна
и начинаетъ справляться, нельзя ли и ему какъ-нибудь при-
строиться къ торжеству. Тутъ-то онъ и попадаетъ во мно-
жествѣ въ мотню, чтобы потомъ сдѣлаться жертвою человѣ-
ческаго чревоугодія. Ибо повторяю, караси представляютъ
такое лакомое блюдо (особенно изжаренные въ сметанѣ), что
предводители дворянства охотно потчуютъ ими даже губер-
наторовъ.
Что касается до ершей, то это рыба уже тронутая скеп-
тицизмомъ и притомъ колючая. Будучи сварена въ ухѣ, она
даетъ безподобный бульонъ.
Какимъ образомъ случилось, что карась съ ершомъ со-
шлись, — не знаю; знаю только, что, однажды сошедшись,
сейчасъ же заспорили. Поспорили разъ, поспорили другой, а
потомъ во вкусъ вошли, свиданія другъ другу стали назна-
419
27*
чать. Сплывутся гдѣ-нибудь подъ водянымъ лопухомъ и нач-
нутъ умныя рѣчи разговаривать. А плотва - бѣлобрюшка
рѣзвится около нихъ и ума разума набирается.
Первымъ всегда задиралъ карась.
— Не вѣрю, — говорилъ онъ, — чтобы борьба и свара
были нормальнымъ закономъ, подъ вліяніемъ котораго будто
бы суждено развиваться всему живущему на землѣ. Вѣрю въ
безкровное преуспѣяніе, вѣрю въ гармонію и глубоко убѣ-
жденъ, что счастье — не праздная фантазія мечтательныхъ
умовъ, но рано или поздно сдѣлается общимъ достояніемъ!
— Дожидайся! — иронизировалъ ершъ.
Ершъ спорилъ отрывисто и неспокойно. Это — рыба
нервная, которая, повидимому, помнитъ немало обидъ. Наки-
пѣло у нея на сердцѣ... ахъ, накипѣло! До ненависти покуда
еще не дошло, но вѣры и наивности ужъ и въ поминѣ
нѣтъ. Вмѣсто мирнаго житія она повсюду распрю видитъ,
вмѣсто прогресса — всеобщую одичалость. И утверждаетъ, что
тотъ, кто имѣетъ претензію жить, долженъ все это въ рас-
четъ принимать. Карася же считаетъ „блаженненькимъ", хо-
тя въ то же время сознаетъ, что съ нимъ только и можно
„душу отводить“.
— И дождусь! отзывался карась.
— Значитъ и такое по-твоему время придетъ, когда и
щукъ не будетъ"?
— Какихъ такихъ щукъ? удивился карась.
Ахъ, фофанъ ты, фофанъ! Міровыя задачи разрѣшать
хочешь, а о щукахъ понятія не имѣешь!
Ершъ презрительно пошевеливалъ плавательными перьями
и уплывалъ во-свояси; но, спустя малое время, собесѣдники
опять гдѣ-нибудь въ укромномъ мѣстѣ сплывались (въ водѣ-
то скучно), и опять начинали диспутировать.
— Въ жизни первенствующую роль добро играетъ, —
разглагольствовалъ карась; — зло—это такъ, по недоразумѣнію,
420
допущено, а главная жизненная сила все-таки въ добрѣ за-
мыкается.
— Держи карманъ!
— Ахъ, ершъ, какія ты несообразныя выраженія у по-,
требляешь! „Держи карманъ!"—развѣ это отвѣтъ?
— Да тебѣ, по-настоящему, и совсѣмъ отвѣчать не слѣ-
дуетъ. Глупый ты — вотъ тебѣ и сказъ весь!
— Нѣтъ, ты послушай, что я тебѣ скажу. Что зло ни-
когда не было зиждущей силой — объ этомъ и исторія сви-
дѣтельствуетъ. Зло душило, давило, опустошало, предавало.
Добро устремлялось на помощь угнетеннымъ; оно освобождало
отъ цѣпей и оковъ: оно пробуждало въ сердцахъ плодотвор-
ныя чувства; оно давало ходъ пареніямъ ума. Не будь этого
воистину зиждущаго фактора жизни — не было бы и исторіи.
Потому что вѣдь въ сущности что такое исторія? Исторія —
это повѣсть освобожденія, это разсказъ о торжествѣ добра
и разума надъ зломъ и безуміемъ.
— А ты видно доподлинно знаешь, что зло и безуміе
посрамлены? — подтрунивалъ ершъ.
— Не посрамлены еще, но будутъ посрамлены — это я
тебѣ вѣрно говорю. И опять-таки сошлюсь на исторію.
Сравни, что нѣкогда было, съ тѣмъ, что есть, и ты безъ
труда согласишься, что не только внѣшніе пріемы зла смяг-
чились, но и самая сумма его примѣтно уменьшилася. Возьми
хоть бы нашу рыбную породу. Прежде насъ во всякое время
ловили, и преимущественно во время „хода", а нынче во время
„хода" то и признается вреднымъ насъ ловить. Прежде
насъ можно сказать самыми варварскими способами истре-
бляли— въ Уралѣ, сказываютъ во время багренія, вода на
многія версты отъ рыбьей крови красная стояла, а нынче —
шабашъ. Неводы да верши, да уды — больше чтобъ ни-ни! Да
и объ этомъ еще въ комитетахъ разсуждаютъ: какіе неводы?
по какому случаю? на какой предметъ?
421
— А тебѣ видно не все равно, какимъ способомъ въ
уху попасть?
— Въ какую такую уху? — удивлялся карась,
— Ахъ, прахъ тебя побери! Карасемъ зовется, а объ
ухѣ не слыхалъ! Какое же ты послѣ этого право со мной
разговаривать имѣешь? Вѣдь чтобы споры вести и мнѣнія
отстаивать, надо, по малой мѣрѣ, съ обстоятельствами дѣла
напередъ познакомиться. О чемъ же ты разговариваешь,
коли даже такой простой истины не знаешь: что каждому
карасю впереду уготована уха?.. Брысь!.. Заколю!
Ершъ ощетинивался, а карась быстро, насколько позволяла
его неуклюжесть, опускался на дно. Но черезъ сутки друзья-
противники опять сплывались и новый разговоръ затѣвали.
— Намеднись въ нашу заводь щука заглядывала, — объ-
являлъ ершъ.
— Та самая, о которой ты намеднись упоминалъ?
— Она. Приплыла, заглянула, молвила: „Чтой-то будто
ужъ слишкомъ здѣсь тихо! Должно-быть, тутъ карасямъ
водъ“... И съ этимъ уплыла.
— Что же мнѣ теперича дѣлать?
— Изготовляться—только и всего. Ужо, какъ приплы-
ветъ она да уставится въ тебя глазищами, ты чешую-то да
перья подбери поплотнѣй да прямо и полѣзай ей въ хайло!
— Зачѣмъ же я полѣзу? Кабы я былъ въ чемъ-нибудь
виноватъ...
— Глупъ ты—вотъ въ чемъ твоя вина. Да и жиренъ вдо-
бавокъ. А глупому да жирному и законъ повелѣваетъ щукѣ
въ хайло лѣзть!
— Не можетъ такого закона быть! — искренно возмущался
карась. — И щука зря не имѣетъ права глотать, а должна
прежде объясненія потребовать. Вотъ я съ ней объяснюсь,
всю правду выложу. Правдой-то я ее до седьмого пота про-
шибу.
422
— Говорилъ я тебѣ, что ты фофанъ, и теперь то же
самое повторю: фофанъ! фофанъ! фофанъ!
Ершъ окончательно сердился и давалъ себѣ слово на
будущее время воздержаться отъ всякаго общенія съ кара-
семъ. Но черезъ нѣсколько дней, смотришь, привычка опять
взяла свое.
— Вотъ, кабы всѣ рыбы между собой согласились...
загадочно начиналъ карась.
Но тутъ и самого ерша брала оторопь.
„О чемъ это фофанъ рѣчь заводитъ? — думалось ему.
Того гляди, проврется, а тутъ голавль неподалеку похажи-
ваетъ. Ишь, и глаза въ сторону, словно не его дѣло, скосилъ,
а самъ, знай, прислушивается".
— А ты не всякое слово выговаривай, какое тебѣ на
умъ взбредетъ! — убѣждалъ онъ карася. — Не для чего пасть-
то разѣвать; можно и шепоткомъ, что нужно, сказать.
— Не хочу я шептаться, — продолжалъ карась невозму-
тимо,— а говорю прямо, что ежели бы всѣ рыбы между со-
бой согласились, тогда...
Но тутъ ершъ грубо прерывалъ своего друга:
— Съ тобой видно гороху наѣвшись говорить надо!
Вотъ какъ щука проглотитъ тебя, тогда ты и узнаешь, что
надо для этого сдѣлать. А до тѣхъ поръ лучше помалчивалъ бы.
— Нѣтъ, я не стану молчать. Хоть я отъ роду щукъ не
видывалъ, но только могу судить по разсказамъ, что и онѣ
къ голосу правды не глухи. Помилуй, скажи: можетъ ли та-
кое злодѣйство статься? Лежитъ карась, никого не трогаетъ,
и вдругъ, ни дай, ни вынеси за что, къ щукѣ въ брюхо по-
падетъ? Ни въ жизнь я этому не повѣрю.
— Чудакъ! да вѣдь намеднись на глазахъ у тебя монахъ
цѣлыхъ два невода вашего брата изъ заводи вытащилъ... Какъ
ты думаешь: любоваться что ли онъ на карасей-то будетъ?
— Не знаю.
423
Дни проходили за днями, а карась все бредилъ. Другому
за это хоть щелчокъ бы въ носъ дали, а ему—ничего. И рас-
табарывалъ бы онъ такимъ родомъ аридовы вѣки, если бы
хоть крошечку поостерегся. Но онъ ужъ такъ о себѣ воз-
мечталъ, что совсѣмъ изъ расчета вышелъ. Припускалъ да
припускалъ, какъ вдругъ къ нему голавль съ повѣсткой:
назавтра, дескать, щука изволитъ на заводь прибыть, такъ
ты, карась, смотри: чуть-свѣтъ отвѣтъ держать явись!
Карась, однакожъ, не обробѣлъ. Во-первыхъ, онъ столько
разнообразныхъ отзывовъ о щукѣ слышалъ, что и самъ по-
знакомиться съ ней любопытствовалъ; а во-вторыхъ, онъ
зналъ, что у него такое магическое слово есть, которое, ежели
его сказать, сейчасъ самую лютую щуку въ карася превра-
титъ. И очень на это слово надѣялся.
Даже ершъ, видя такую его вѣру, задумался, не слиш-
комъ ли онъ ужъ далеко зашелъ въ отрицательномъ напра-
вленіи. Можетъ-быть, и въ самомъ дѣлѣ щука только того и
ждетъ, чтобы ее полюбили, благой совѣтъ ей дали, умъ и
сердце ея просвѣтили? Можетъ-быть, она... добрая? Да и ка-
рась, пожалуй, совсѣмъ не такой простофиля, какимъ по на-
ружности кажется, а, напротивъ того, съ расчетцемъ свою
карьеру облаживаетъ. Вотъ завтра явится онъ къ щукѣ да
прямо и ляпнетъ ей сущую правду, какой она отъ роду ни
отъ кого не слыхивала. А щука возьметъ да и скажетъ: за
то, что ты мнѣ, карась, самую сущую правду сказалъ, жалую
тебя этою заводью; будь ты надъ нею начальникъ!
Приплыла на утро щука, какъ пить дала. Смотритъ на
нее карась и дивится: какихъ ему про щуку сплётокъ ни на-
плели, а она—рыба какъ рыба! Только ротъ до ушей да хайло
такое, что какъ разъ ему, карасю, пролѣзть.
— Слышала я, — молвила щука, — что очень ты, карась,
уменъ и разглагольствовать мастеръ. Хочу я съ тобой диспутъ
имѣть. Начинай.
424
— Обь счастьи я больше думаю, — скромно, но съ до-
стоинствомъ отвѣтилъ карась.—Чтобы не я одинъ, а всѣ были
счастливы. Чтобы всѣмъ рыбамъ во всякой водѣ свободно
плавать было, а ежели которая въ тину спрятаться захочетъ,
то и въ тинѣ пускай полежитъ.
— Гмъ!!.. и ты думаешь, что такому дѣлу статься возможно?
— Не только думаю, но и всечастно сего ожидаю.
— Напримѣръ: плыву я, а рядомъ со мною... карась?
— Такъ что же такое?
— Въ первый разъ слышу. А ежели я обернусь да ка-
рася-то... съѣмъ?
— Такого закона, ваше высокостепенство, нѣтъ; законъ
говоритъ прямо: ракушки, комары мухи и мошки да послу-
жатъ для рыбъ пропитаніемъ. А кромѣ того, позднѣйшими
разными указами къ пищѣ сопричислены: водяныя блохи,
пауки, черви, жуки, лягушки, раки и прочіе водяные обыва-
тели. Но не рыбы.
— Маловато для меня. Голавль! неужто такой законъ
есть?—обратилась щука къ голавлю.
— Въ забвеніи, ваше высокостепенство! — ловко вывер-
нулся голавль.
— Я такъ и знала, что не можно такому закону быть.
Ну, а еще ты чего всечасно, карась, ожидаешь?
— А еще ожидаю, что справедливость восторжествуетъ.
Сильные не будутъ тѣснить слабыхъ, богатые—бѣдныхъ. Ты,
щука, всѣхъ сильнѣе и ловче—ты и дѣло на себя посильнѣе
возьмешь; а мнѣ, карасю, по моимъ скромнымъ способно-
стямъ, и дѣло скромное укажутъ. Всякій для всѣхъ, и всѣ
для всякаго—вотъ какъ будетъ. Когда мы другъ за дружку
стоять будемъ, тогда и подкузьмить насъ никто не сможетъ.
Неводъ-то еще гдѣ покажется, а ужъ мы драло! Кто подъ
камень, кто на самое дно въ илъ, кто въ нору или подъ ко-
рягу. Уху-то, пожалуй что видно бросить придется!
425
— Не знаю. Не очень-то любятъ люди бросать то, что
имъ вкуснымъ кажется. Ну, да это еще когда-то будетъ. А
вотъ чтб: такъ, значитъ, по-твоему, и я работать должна?
— Какъ прочіе, такъ и ты.
— Въ первый разъ слышу. Поди, проспись!
Проспался ли, нѣтъ ли карась, но ума у него, во всякомъ
случаѣ, не прибавилось. Въ полдень опять онъ явился на дис-
путъ, и не только безъ всякой робости, но даже противъ
прежняго веселѣе.
— Такъ ты полагаешь, что я работать стану, и ты отъ
моихъ трудовъ лакомиться будешь? — прямо поставила во-
просъ щука.
— Всѣ другъ отъ дружки... отъ общихъ, взаимныхъ
трудовъ...
— Понимаю: „другъ отъ дружки"... а между прочимъ и
отъ меня... Гмъ! Думается, однакожъ, что ты это зазорныя рѣчи
говоришь. Голавль! какъ, по-нынѣшнему, такія рѣчи назы-
ваются?
— Сицилизмомъ, ваше высокостепенство!
— Такъ я и знала. Давненько я ужъ слышу: бунтовскія,
молъ, рѣчи карась говоритъ! Только думаю: дай, лучше сама
послушаю... Анъ вотъ ты каковъ!
Молвивши это, щука такъ выразительно щелкнула по
водѣ хвостомъ, что, какъ ни простъ былъ карась, но и онъ
догадался.
— Я, ваше высокостепенство, ничего,—пробормоталъ онъ
въ смущеньи, — это я по простотѣ...
— Ладно. Простота хуже воровства, говорятъ. Ежели
дуракамъ волю дать, такъ они умныхъ со свѣту сживутъ.
Наговорили мнѣ о тебѣ съ три короба, а ты — карась какъ
карась,—только и всего. И пяти минутъ я съ тобою не раз-
говариваю, а ужъ до смерти ты мнѣ надоѣлъ.
426
Щука задумалась и какъ-то такъ загадочно на карася
посмотрѣла, что онъ ужъ и совсѣмъ понялъ. Но, должно-
быть, она еще послѣ вчерашняго обжорства сыта была, и по-
тому зѣвнула и сейчасъ же захрапѣла.
Но на этотъ разъ карасю ужъ не такъ благополучно
обошлось. Какъ только щука умолкла, его со всѣхъ сторонъ
обступили голавли и взяли подъ караулъ.
Вечеромъ, еще не успѣло солнышко сѣсть, какъ карась
въ третій разъ явился къ щукѣ на диспутъ. Но явился уже
подъ стражей и притомъ съ нѣкоторыми поврежденіями. А
именно: окунь, допрашивая, покусалъ ему спину и часть
хвоста.
Но онъ все еще бодрился, потому что въ запасѣ у него
было магическое слово.
— Хоть ты мнѣ и супротивникъ, — начала опять первая
щука, — да видно горе мое такое: смерть диспуты люблю!
Будь здоровъ, начинай!
При этихъ словахъ карась вдругъ почувствовалъ, что
сердце въ немъ загорѣлось. Въ одно мгновеніе онъ подо-
бралъ животъ, затрепыхался, защелкалъ по водѣ остатками
хвоста и, глядя щукѣ прямо въ глаза, во всю мочь гаркнулъ:
— Знаешь ли ты, чтб такое добродѣтель?
Щука разинула ротъ отъ удивленія. Машинально потя-
нула она воду и, вовсе не желая проглотить карася, прогло-
тила его.
Рыбы, бывшія свидѣтельницами этого происшествія, на
мгновенье остолбенѣли, но сейчасъ же опомнились и поспѣ-
шили къ щукѣ—узнать, благополучно ли она поужинать изво-
лила, не подавилась ли. А ершъ, который ужъ заранѣе все
предвидѣлъ и предсказалъ, выплылъ впередъ и торжественно
провозгласилъ:
— Вотъ они, диспуты-то наши, каковы!
427
М. Щедринъ.
Введеніе въ седьмой отдіьлъ.
(О стилѣ.)
Назначеніе этого отдѣла—обострить въ чтецѣ то чувство стиля,
которое дѣлаетъ послѣднее и самое цѣнное завершеніе въ работѣ
художника.
Прослѣдивъ по порядку всѣ отдѣлы, мы видимъ, какъ все усложня-
ются задачи, какъ топъ исполнителя подчиняется сначала изображаемому
настроенію, потомъ характеру дѣйствующаго лица и, въ завершеніе
всего, онъ долженъ подчиниться формѣ даннаго произведенія.
При этомъ самое понятіе форма можетъ все болѣе и болѣе
углубляться.
Напримѣръ, мы рѣшаемъ, что сказки читаются совершеішо иначе,
чѣмъ любой другой видъ поэзіи, и исполненіе ихъ должно быть про-
низано чувствомъ незыблемой увѣренности въ истинѣ всего описан-
наго въ сказкѣ (безъ примѣси мистическаго ужаса, какъ въ балладѣ),
чего, напримѣръ, вовсе не требуется дѣлать въ баснѣ, такъ какъ
разсказчикъ басни ничуть не отрекается отъ того, что все имъ ска-
занное—забавная аллегорія. Допустимъ, мы все это приняли по от-
ношенію къ сказкѣ, но вотъ передъ нами сказочки Ѳедора Сологуба,
съ ихъ лапидарнымъ языкомъ, шаловливая, поражающая дѣтски-
наивными неожиданностями сказка Р. Киплинга и русскія народныя
сказочки съ ихъ добродушнымъ юморомъ. Несомнѣнно, исполненіе
каждой изъ нихъ надо подчинить ея стилю.
Различіе стиля можно установить но видамъ поэзіи (сказки, басни,
баллады, элегіи и т. п.); можно установить различіе его по національ-
ности, духъ которой всегда отражается въ избранномъ поэтѣ у ка-
ждаго парода, по эпохѣ, которая кладетъ свою печать на произведенія,
и, наконецъ, можно чувствовать очень тонко стиль въ самой манерѣ
изложенія у поэта.
431
Сравнимъ, напримѣръ, «Пятнадцать лѣтъ» 10. Верховскаго и «Про-
зерпину» Пушкина. И тотъ и другой трактуютъ греческіе сюжеты въ
отраженіи эпохи французскаго классицизма («Прозерпина» предста-
вляетъ собою даже вольный переводъ отрывка изъ Вё^иіветепія ііе
Ѵепиз Парни).
Но въ то время, какъ у перваго стихъ легокъ, нарочито-наивенъ,
назойливо риѳмованъ и напоминаетъ фарфоровую пастушку, у Пушкина
стихъ по своей строгой и торжественной красотЬ производитъ впе-
чатлѣніе античной скульптуры, несмотря на то, что сюжетъ еще
болѣе легкомысленъ, чѣмъ у 10. Верховскаго. Пушкинъ беретъ только
адюльтеръ богини, но облекаетъ его въ форму поистинѣ божественную.
Ясно, что исполненіе перваго стихотворенія требуетъ легкаго,
прозрачнаго звука у чтеца, исполненіе второго—звука полнаго и мощ-
наго.
Если занимающійся по этой книгѣ придетъ къ сознанію, какую
огромную роль въ чтеніи играетъ самый звукъ его голоса, его гиб-
кость и богатство, то онъ постигнетъ всю мощь формы своего
искусства.
О. Озаровская.
432
Ладопа и спичка.
На столѣ стояла лампа.
Съ нея сняли стекло; лампа увидѣла спичку и сказала:
— Ты, малютка, подальше, я опасна, я сейчасъ загорюсь.
Я зажигаюсь каждый вечеръ,— вѣдь безъ меня нельзя рабо-
тать по вечерамъ.
— Каждый вечеръ,—сказала спичка,—зажигаться каждый
вечеръ; это ужасно!
— Почему же?—спросила лампа.
— Но вѣдь любить можно только однажды! — сказала
спичка, вспыхнула и умерла.
Ѳедоръ Сологубъ.
Пожелтившій березовый листъ, капля и
нижнее небо.
Капля упала съ неба прямо на березовый листъ.
Это была испуганная и дрожащая капля, и березовый
листъ пожалѣлъ ее.
— Отчего ты дрожишь? — спросилъ онъ.
— Я совсѣмъ не того ожидала, — сказала капля, — мнѣ
сказали, что и внизу такое же небо, какъ наверху.
— Здѣсь нѣтъ никакого неба, да никогда и не было,—
отвѣтилъ березовый листъ.— Небо всегда бываетъ наверху, а
внизу земля, камни и наши корни.
Мнѣ страшно,—сказала капля,—я ошиблась.
433
Шнола чтеца.
28
— Ничего не бойся, — утѣшалъ ее березовый листъ.—
Будемъ жить вмѣстѣ, ужъ я не дамъ тебя въ обиду. Капля
приникла къ березовому листу. Уже они готовы были соче-
таться навѣки. Но вдругъ капля услышала шумъ листьевъ, и
вся радостно задрожала.
— Послушай—сказала она,—вонъ тамъ, внизу, я слышу,
какъ листья колышатся и шепчутъ: нижнее небо, нижнее небо.
Какія глупости! — съ досадою сказалъ березовый
листъ,—я же тебѣ говорилъ, что никакого нѣтъ нижняго неба.
Но капля сорвалась и упала внизъ, а листъ пожелтѣлъ
съ горя: онъ успѣлъ влюбиться въ каплю.
Ѳедоръ Сологубъ.
Глаза.
Были глаза черные, прекрасные. Взглянутъ, и смотрятъ,
и спрашиваютъ.
И были глазенки сѣрые, плутоватые,—все шмыгаютъ, ни
на кого прямо не смотрятъ.
Спросили глаза:
— Что вы бѣгаете? чего ищете?
Забѣгали глазенки, засуетились, говорятъ:
- Да такъ себѣ, понемножечку, полегонечку, — нельзя,
помилуйте—надо же, сами знаете.
И были глядѣлки,—тусклыя, нахальныя. Уставятся и гля-
дятъ.
Спросили глаза:
— Что вы смотрите? что видите?
Скосились глядѣлки, закричали:
Да какъ вы смѣете? да кто вы! да кто мы? да мы васъ!
Искали глаза глазъ такихъ же прекрасныхъ, не нашли и
сомкнулись.
Ѳедоръ Сологубъ.
434
П іь с е н к и.
Съ виду онъ былъ такъ себѣ, забулдыга — шлялся по
улицамъ и дорогамъ засиживался въ кабачкахъ, засматривался
на веселыхъ дѣвицъ, и ничего не было у него сбережено, а
потому и почетъ былъ ему маленькій.
Только иногда выйдетъ онъ на перекрестокъ, и запоетъ;
и такія слова онъ зналъ, что все ему тогда откликалось—и
птицы въ лѣсу, и вѣтеръ въ полѣ, и волны въ морѣ.
А собачка пустолаечка говорила:
Плохо, плохо! Все это пустяки.
А хитрая лисичка говорила:
— Плохо, плохо! Это онъ все о земномъ, а Бога -то и
позабылъ.
Ну, что жъ такое! Зато все живое ему откликалось: и
птицы лѣсныя, и волны морскія, и рыскучіе вѣтры.
Ѳедоръ Сологубъ.
Кочетъ и курица.
Жили курычка съ кычаткомъ и пышли ани въ лѣсъ пы
арѣхи. Пришли къ арѣшни; кычатокъ залѣзъ на арѣшню рвать
арѣхи, а курычку аставилъ на земѣ подбирать арѣхи: кыча-
токъ кидаитъ, а курычка подбираитъ. Вотъ кинулъ кычатокъ
аришокъ и папалъ курычкѣ въ глазокъ и вышибъ глазокъ.
Курычка пошла—плачитъ. Вотъ ѣдутъ баяри и спрашиваютъ:
— Курычка, курычка, що ты плачишь?
— Мнѣ кычатокъ вышибъ глазокъ.
— Кычатокъ, кычатокъ, на що ты курычкѣ вышибъ гла-
зокъ?
— Мнѣ арѣшня гребенецъ рыздрала!
435
28*
— Арѣшня, арѣшня, на що ты кычатку гребенецъ рыз-
драла?
— Миня козы пыдгладали.
— Козы, козы, на що вы арѣшню пыдгладали?
— Насъ пыстухи ни бирягутъ.
— Пыстухи, пыстухи, на що вы козъ ни биригетя?
— Насъ хозяйка блинами не кормитъ.
— Хозяйка, хозяйка, що ты пыстуховъ блинами не кор-
мишь?
— У меня свинья опаръ прылила!
— Свинья, свинья, на що ты у хозяйки опаръ прылила?
— У миня волкъ прасенчика унесъ.
— Волкъ, волкъ, на що ты у свиньѣ прасенчика унесъ?
— Я йисть зыхатѣлъ, мнѣ Богъ повелѣлъ!
Народная. Тамб. губ., Липеи
каго уѣзда.
Какъ носорогъ получалъ свою кожу.
На необитаемомъ островѣ^ у береровъ Краснаго моря,/
жилъ однажды парсъ. Онъ носилъ шляпу, отъ которой сол-
нечные лучи отражались съ чисто-сказочнымъ великолѣпіемъ.
У этого-то парса, который жилъ около Краснаго моря, только
ровня, какихъ дѣтямъ обыкновенно не дозволяютъ трогать)^
Однажды онъ взялъ муки, воды, коринки, сливъ, сахару и
еще кое-какихъ припасовъ и состряпалъ себѣ пирогъ, имѣв-
шій два фута въ поперечникѣ и три фута толщины. Это былъ
удивительный, сказочный пирогъ! Парсъ поставилъ его на жа-
ровню и пекъ до тѣхъ поръ, пока онъ не зарумянился и отъ
него не пошелъ аппетитный/запахъ. Но лишь только парсъ
собрался ѣсть его, какъ вдругъ изъ необитаемыхъ дебрей
436
вышелъ звѣрь съ большимъ рогомъ на носу, съ подслѣпова-
тыми глазками и неуклюжими движеніями^/Ьъ тѣ времена у
носорога кожа была совсѣмъ гладкая, безъ единой морщинки.
Онъ какъ двѣ капли воды походилъ на носорога въ игру-
шечномъ Ноевомъ ковчегѣ, только, конечно, былъ гораздо
больше.^Какъ тогда онъ не отличался ловкостью, такъ не
отличается ею теперь и никогда не будетъ отличаться?; Онъ
сказалъ: х
— у-у-у! / X
Парсъ испугался, бросилъ пирогъ и полѣзъ на верхушку
пальмы со своей шляпой, отъ которой лучи солнца отража-
лись съ чисто-сказочнымъ великолѣпіемъ. Носорогъ перевер-
нулъ жаровню, а пирогъ шэкатился на землю. Онъ поднялъ
его своимъ рогомъ, скупилъ и, помахивая хвостомъ, ушелъ
въ свои дебри, примыкающія къ островамъ Мазендоранъ и
Сокотора. Тогда парсъ слѣзъ съ пальмы, подобралъ жаровню
и произнесъ двустишіе, ^котораго вы, конечно, никогда не
слыхаТгиГа потому я вамъ-его скажу:
„Припомнитъ тотъ, кто взялъ пирогъ, который парсъ
себѣ испекъ!’
Въ этихъ словахъ заключалось гораздо больше смысла,
чѣмъ вы полагаете. Черезъ пять недѣль ^/береговъ Краснаго
моря началась страшная жара. Люди поснимали одежду, какая
у нихъ была. Парсъ снялъ свою шляпу, а носорогъ снялъ
свою кожу и понесъ ее на плечѣ, отправляясь купаться въ
морѣ. (Ёъ тѣ времена она у него застегивалась внизу на три
пуговицы, какъ дождевой плащъ. ^Іроходя мимо парса, онъ
даже не вспомнилъ о пирогѣ, который у него стащилъ и
съѣлъ. Онъ оставилъ кожу на* берегу, а ^амъ бросился въ
воду, носомъ выдувая пузыри.уПарсъ увидѣлъ, что кожа ле-
житъ на берегу, и засмѣялся отъ радости. Онъ три раза про-
плясалъ вокругъ нея, потирая руки. ЗатЬмъ онъ вернулся на
свой бивакъ и наполнилъ шляпу до краевъ крошками пи-
437
рога —парсы ѣдятъ только пироги и никогда не подметаютъ
своего жилья. Онъ ВЗЯЛЪ кожу носорога, хорошенько встрях-
нулъ ее и насыпалъ въ нее, сколько могъ, сухихъ колющихъ
крошекъ и пережженныхъ коринокъ. Затѣмъ онъ взобрался
на вершину пальмы и принялся ждать, когда носорогъ вылѣ-
зетъ изъ воды и станетъ" надѣвать кожу. Носорогъ вылѣзъ,
.напялилъ кожу и застегнулъ ее на всѣ три пуговицы, но
крошки страшно щекотали его. Онъ попробовалъ почесаться—-^
вышло еше хуже. Тог^а онъ сталт^ кататься по землѣ, а крош-
ки щекотали все (&льше и больше. Онъ вскочилъ, подбѣ-
жалъ къ пальмѣ и принялся тереться объ ея стволъ. Терся онъ
до тѣхъ поръ, пока кожа не сдвинулась крупными складками
на его плечахъ, ногахъ и въ томъ мѣстѣ, гдѣ были пуговицы,
которыя отъ тренія поотскакивали. Онъ страшно злился, но
крошекъ удалить никакъ не могъ, потому что онѣ находи-
лись подъ кожей и не могли не щекотать его. Онъ ушелъ
въ свои дебри, не переставая почесываться. Съ того дня у
каждаго носорога бываютъ складки на кожѣ и дурной харак-
теръ, а все изъ-за того, что у нихъ остались подъ кожей
крошки.
Что касается парса, то онъ слѣзъ со своей пальмы, на-
дѣлъ шляпу, отъ которой лучи солнца отражались съ чисто-
сказочнымъ великолѣпіемъ, взялъ подъ мышку свою жаровню
и пошелъ куда глаза глядятъ.
Р. Киплингъ.
Русалка.
Мечется и плачетъ, какъ дитя больное
Въ неспокойной люлькѣ, озеро лѣсное...
Тучей потемнѣло, брызжетъ мелкой зерныо —
Такъ и отливаетъ серебромъ да чернью...
Вѣтеръ по дубровѣ сѣрымъ волкомъ рыщетъ;
Молнія на землю жгучимъ ливнемъ прыщетъ;
438
И на голосъ бури, побросавши прялки,
Вынырнули со дна рѣзвыя русалки...
Любо некрещенымъ въ бурю-непогоду
Кипятить и пѣнить жаркой грудью воду,
Любо имъ за вихремъ перелетнымъ гнаться,
Громкимъ, звучнымъ смѣхомѣ съ громомъ окликаться!..
Волны имъ щекочутъ плечи наливныя,
Чешутъ бѣлымъ гребнемъ косы разсыпныя;
Ласточки быстрѣе, легче пѣны зыбкой,
Руки ихъ мелькаютъ бѣлобокой рыбкой;
Огонькомъ подъ пепломъ щеки половѣютъ:
Яркимъ изумрудомъ очи зеленѣютъ.
Плещутся русалки, мчатся вперегонку,
Лишь одна отстала, — отплыла въ сторонку...
Къ берегу доплыла, на берегъ выходитъ,
Блѣдными руками ивняки разводитъ;
Притаилась въ листвѣ на прибрежьѣ черномъ,
Словно бѣлый лебедь въ тростникѣ озерномъ...
Вотъ ужъ понемногу непогодь стихаетъ;
Вѣтеръ съ листьевъ воду вѣникомъ сметаетъ;
Тучки разлетѣлись, словно птицы въ гнѣзды;
Бисеромъ перловымъ высыпали звѣзды;
Мѣсяцъ двоерогій съ неба голубого
Засвѣтилъ отломкомъ перстня золотого...
Чу! переливаясь межъ густой осокой,
По водѣ несется благовѣстъ далекій —
Благовѣстъ далекій по водѣ несется
И волною звучной прямо въ душу льется.
Видится храмъ Божій, пѣснь слышна святая —
И сама-собою крестъ творитъ десная...
И въ душѣ русалки всенощные звуки
Пробудили много и тоски и муки,
Много шевельнули страсти пережитой,
Воскресили много были позабытой...
Вотъ въ селѣ родимомъ крайняя избушка;
А въ избушкѣ съ дочкой няньчится старушка:
Бережетъ и холитъ, по головкѣ гладитъ,
Тѣшитъ лентой алой, въ пестрый ситецъ рядитъ. .
439
Да и вышла жъ дѣвка при такомъ уходѣ:
Нѣтъ ея красивѣй въ цѣломъ хороводѣ...
Вотъ и боръ сосѣдній — тамъ грибовъ да ягодъ
За одну недѣлю наберешься на годъ;
А начнутъ, подъ осень, грызть орѣхи бѣлки,
Сыпь орѣхъ въ лукошко — близко посидѣлки.
Тутъ-то* погуляютъ парни удалые,
Тутъ-то насмѣются дѣвки молодыя!..
Дочь въ гостяхъ за прялкой пѣсни распѣваетъ,
А старуха дома ждетъ да поджидаетъ;
Огоньку добыла — на дворѣ ужъ ночка —
Долго засидѣлась у сосѣдей дочка...
Оттого и долго: парень приглянулся
И лихой бѣдою къ дѣвкѣ подвернулся;
А съ бѣдою рядомъ ходитъ грѣхъ незванный...
Полюбился парень дѣвкѣ безталанной,
Такъ ей полюбился, словно душу вынулъ,
Да и насмѣялся — разлюбилъ и кинулъ...
Позабылъ голубку сизокрылый голубь—
И остались бѣдной смѣхъ мірской да прорубь...
Вспомнила русалка — руки бѣлы гложетъ;
Рада бъ зарыдала — и того не можетъ;
Сотворить молитву забытую хочетъ —
Нѣтъ для ней молитвы, и она хохочетъ...
Только, пробираясь на село въ побывку,
Мужичокъ проснулся и стегаетъ сивку,
Лобъ и грудь и плечи крестно знаменуетъ,
Да съ сердцовъ на хохотъ окаянный плюетъ.
Л. Мей
Фантазія.
Какъ живыя изваянья, въ искрахъ луннаго сіянья,
Чуть трепещутъ очертанья сосенъ, елей и березъ;
Вѣщій лѣсъ спокойно дремлетъ, яркій блескъ луны пріемлетъ
И роптанью вѣтра внемлетъ, весь исполненъ тайныхъ грёзъ.
Слыша тихій стонъ метели, шепчутъ сосны, шепчутъ ели;
Въ мягкой бархатной постели имъ отрадно почивать,
440
Ни о чемъ не вспоминая, ничего не проклиная,
Вѣтви стройныя склоняя, звукамъ полночи внимать.
Чьи-то вздохи, чье-то пѣнье, чье-то скорбное моленье,
И тоска, и упоенье, — точно искрится звѣзда,
Точно свѣтлый дождь струится, — и деревьямъ что-то мнится,
То, что людямъ не приснится, никому и никогда.
Это мчатся духи ночи, это искрятся ихъ очи;
Въ часъ глубокой полуночи мчатся духи черезъ лѣсъ.
Что ихъ мучитъ, что тревожитъ? Что, какъ червь, ихъ тайно
гложетъ?
Отчего ихъ рой не можетъ пѣть отрадный гимнъ небесъ?
Все сильнѣй звучитъ ихъ пѣнье, все сильнѣе въ немъ томленье,
Неустаннаго стремленья неизмѣнная печаль,—
Точно ихъ томитъ тревога, жажда вѣры, жажда Бога,
Точно мукъ у нихъ такъ много, точно имъ чего-то жаль.
А луна все льетъ сіянье, и безъ муки, безъ страданья,
Чуть трепещутъ очертанья вѣщихъ сказочныхъ деревъ;
Всѣ они такъ сладко дремлютъ, безучастно стонамъ внемлютъ
И съ спокойствіемъ пріемлютъ чары ясныхъ, свѣтлыхъ сновъ.
К. Бальмонтъ.
Джинны.
Весь домъ
Молчитъ,
Кругомъ
Все спитъ.
Морской
Глухой
Прибой
Шумитъ.
Но сквозь сонъ
Что за звукъ?
То не звонъ
И не стукъ,—
То скорѣй,
Стонъ тѣней
441
Изъ огней
Адскихъ мукъ.
Злой силой влекома
Изъ темной страны
Пѣснь мрачнаго гнома
Смущаетъ всѣ сны.
Вотъ онъ предо мною,
Кружась надъ водою,
Одною ногою
На гребнѣ волны.
Съ душою, тоскою объятой,
Я слышу тотъ звукъ-исполинъ,
Какъ звонъ колокольни проклятой
Съ проклятаго замка руинъ;
Какъ говоръ толпы онъ несется,
То смолкнетъ, то вновь разольется,
И эхо сто разъ отлается
Въ туманѣ уснувшихъ долинъ.
Все ближе звучитъ адскихъ силъ ликованье,—
То джинны. О Боже! Спасемся скорѣй
По лѣстницѣ темной, въ сосѣднее зданье,
Она поведетъ насъ отъ главныхъ дверей.
Но что это? Лампа моя догораетъ,
Трещитъ ея пламя, дрожитъ и мелькаетъ,
А тѣнь отъ перилъ, вырастая, хватаетъ
До верхней площадки высокихъ сѣней.
А джинны пчелинымъ проносятся роемъ,
Ломая деревья, какъ хрупкій тростникъ,
Смѣются и плачутъ, и съ бѣшеннымъ воемъ
Уродливо рѣзко несется ихъ крикъ.
Толпа ихъ растетъ, по пространству летая
И съ хохотомъ все по пути сокрушая,
Какъ буря, какъ вихрь, какъ судьба роковая,
Какъ молніи яркій и острый языкъ.
Но вотъ они здѣсь. Соберемся тѣснѣе толпою,
Они не сломаютъ надежныхъ и крѣпкихъ дверей.
Но что за содомъ! Точно тамъ, за высокой стѣною,
Отряды вампировъ, драконовъ, летучихъ мышей.
442
Подъ кровлей тревожно дубовыя балки трясутся,
Еще одинъ мигъ, и онѣ на куски распадутся,
Запоры желѣзные съ визгомъ отчаянья гнутся,
Какъ въ полѣ трава послѣ долгихъ весеннихъ дождей
Крикъ, хохотъ и свистъ и рыданье.
Ужасные духи на домъ мой летятъ,
Его потрясаютъ и до основанья
Въ весельи безумномъ разрушить хотятъ.
Вотъ опъ пошатнулся. Съ чудовищной силой
Его понесетъ Аквилонъ легкокрылый,
Какъ осенью вѣтры по степи унылой
Травы пожелтѣвшія листья катятъ.
Пророкъ! если ты всемогущей рукою
Меня оградишь отъ нечистыхъ тѣней,
Я въ прахъ упаду предъ лампадой святою,
Что вѣчно горитъ у гробницы твоей.
Пусть мрачное мимо идетъ обаянье,
Пусть смолкнутъ ихъ вопли и ихъ завыванье
И пусть, какъ вулканъ, огневое дыханье
Сольется съ прохладнымъ дыханьемъ ночей.—
Свѣтлѣе, они улетаютъ,
Посланники темной судьбы,
Лишь въ воздухѣ цѣпи бряцаютъ
Да слышится рокотъ трубы,
Да въ ближнемъ лѣсу, подъ горою,
Гдѣ джинны промчались толпою,
Согнуты гигантской рукою,
Валяются въ щепкахъ дубы.
Дальше, дальше, тишиною
Все мѣшается въ ночи,
Только слышится порою
Будто лѣнятся ключи,
Будто градъ бьетъ кровъ дощатый
И въ долинѣ, сномъ объятой,
Трескотня толпы крылатой
Перелетной саранчи.
Будто гдѣ-то раздается
Звукъ арабскаго рожка.
443
Съ моря пѣсня вдаль несется:
Эта пѣсня рыбака.
Часъ насталъ успокоенья,
И ребенку, безъ сомнѣнья,
Золотыя сновидѣнья
Шлетъ безплотная рука.
Дѣти печали,
Послы сатаны,
Джинны пропали
Среди тишины;
Ихъ хохотъ жестокій
Звучитъ издалека,
Какъ плескъ одинокій
Незримой волны.
Тишь, покой,
Городъ спитъ,
Лишь сѣдой
Валъ шумитъ,
И струей
Вздохъ святой
Въ край иной
Полетитъ.
Уснемъ,
Ужъ свѣтъ.
Кругомъ
Ихъ нѣтъ:
Ушли
Съ земли;
Вдали
Разсвѣтъ...
В. Гюго.
П. Н.
Б іь с ы.
Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освѣщаетъ снѣгъ летучій;
Мутно небо, ночь мутна.
444
Ѣду, ѣду въ чистомъ полѣ;
Колокольчикъ динь-динь-динь!..
Страшно, страшно поневолѣ
Средь невѣдомыхъ равнинъ!
„Эй, пошелъ, ямщикъ!.."—„Нѣтъ мочи:
Конямъ, баринъ, тяжело;
Вьюга мнѣ слипаетъ очи;
Всѣ дороги занесло;
Хоть убей, слѣда не видно,—
Сбились мы. Что дѣлать намъ!
Въ полѣ бѣсъ насъ водитъ, видно,
Да кружитъ по сторонамъ.
Посмотри: вонъ, вонъ играетъ,
Дуетъ, плюетъ на меня;
Вонъ—теперь въ оврагъ толкаетъ
Одичалаго коня;
Тамъ верстою небывалой
Онъ торчалъ передо мной;
Тамъ сверкнулъ онъ искрой малой
И пропалъ во тьмѣ пустой".
Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освѣщаетъ снѣгъ летучій;
Мутно небо, ночь мутна.
Силъ намъ нѣтъ кружиться долѣ;
Колокольчикъ вдругъ умолкъ;
Кони стали... „Что тамъ въ полѣ?" —
„Кто ихъ знаетъ: пень иль волкъ?"
Вьюга злится, вьюга плачетъ;
Кони чуткіе храпятъ;
Вонъ ужъ онъ далече скачетъ,
Лишь глаза во мглѣ горятъ!
Кони снова понеслися;
Колокольчикъ динь-динь-динь!..
445
Вижу духи собралися
Средь бѣлѣющихъ равнинъ.
Безконечны, безобразны,
Въ мутной мѣсяца игрѣ
Закружились бѣсы разны,
Будто листья въ ноябрѣ...
Сколько ихъ! Куда ихъ гонятъ?
Что такъ жалобно поютъ?
Домового ли хоронятъ,
Вѣдьму ль замужъ выдаютъ?
Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освѣщаетъ снѣгъ летучій;
Мутно небо, ночь мутна.
Мчатся бѣсы рой за роемъ
Въ безпредѣльной вышинѣ,
Визгомъ жалобнымъ и воемъ
Надрывая сердце мнѣ.
Пушкинъ
Разборчивая невіьста.
Невѣста-дѣвушка смышляла жениха,
Тутъ нѣтъ еще грѣха,
Да вотъ что грѣхъ: она была спѣсива.
Сыщи ей жениха, чтобъ былъ хорошъ, уменъ
И въ лентахъ, и въ чести, и молодъ былъ бы онъ
(Красавица была немножко прихотлива):
Ну, чтобы все имѣлъ. Кто жъ можетъ все имѣть?
Еще и то замѣть,
Чтобы любить ее, а ревновать не смѣть.
Хоть чудно, только такъ была она счастлива,
Что женихи, какъ на отборъ,
Презнатные катили къ ней на дворъ.
Но въ выборѣ ея и вкусъ и мысли тонки:
Такіе женихи другимъ невѣстамъ кладъ,
446
А ей они на взглядъ—
Не женихи, а женишонки!
Ну, какъ ей выбирать изъ этихъ жениховъ?
Тотъ не въ чинахъ, другой безъ орденовъ;
А тотъ бы и въ чинахъ, да жаль, карманы пусты;
То носъ широкъ, то брови густы;
Тутъ этакъ, тамъ не такъ;
Ну, не прійдетъ никто по мысли ей никакъ.
Посмолкли женихи, годка два перепали;
Другіе новыхъ свахъ заслали:
Да только женихи середній ужъ руки.
„Какіе простаки!"
Твердитъ красавица:—„по нихъ ли я невѣста?
Ну, право, ихъ затѣи не у мѣста!
И не такихъ я жениховъ
Съ двора съ поклономъ проводила;
Пойду ль я за кого изъ этихъ чудаковъ?
Какъ будто бъ я себя замужествомъ торопила;
Мнѣ жизнь дѣвическа ничуть не тяжела;
День весела и ночь я, право, сплю спокойно;
Такъ замужъ кинуться ничуть мнѣ не пристойно"
Толпа и эта уплыла.
Потомъ, отказы слыша тѣ же,
Ужъ стали женихи навертываться рѣже.
Проходитъ годъ,
Никто нейдетъ;
Еще минулъ годокъ, еще уплылъ годъ цѣлый:
Къ ней свахъ никто не шлетъ.
Вотъ наша дѣвушка ужъ стала дѣвой зрѣлой.
Зачнетъ считать своихъ подругъ
(А ей считать большой досугъ):
Та замужемъ давно, другую сговорили;
Ее какъ будто позабыли.
Закралась грусть въ красавицыну грудь.
Посмотришь: зеркало докладывать ей стало,
Что каждый день, а что-нибудь
Изъ прелестей ея лихое время крало.
Сперва руманца нѣтъ, тамъ—живости въ глазахъ;
447
Умильны ямочки пропали на щекахъ;
Веселость, рѣзвости какъ будто ускользнули;
Тамъ волоска два-три сѣдые проглянули:
Бѣда со всѣхъ сторонъ!
Бывало, безъ нея собранье не прелестно;
Отъ плѣнниковъ ея вкругъ ней бывало тѣсно;
А нынѣ, ахъ, ее зовутъ ужъ на бостонъ!
Вотъ тутъ спѣсивица перемѣняетъ тонъ.
Разсудокъ ей велитъ замужствомъ торопиться:
Перестаетъ она гордиться.
Какъ косо на мужчинъ дѣвица ни глядитъ,
А сердце ей за насъ всегда свое твердитъ.
Чтобъ въ одиночествѣ не кончить вѣку,
Красавица, пока совсѣмъ не отцвѣла,
За перваго, кто къ ней присватался, пошла:
И рада, рада ужъ была,
Что вышла за калѣку.
И. Крыловъ.
Гребень.
Дитяти маменька расчесывать головку
Купила частый гребешокъ.
Не выпускаетъ вонъ дитя изъ рукъ обновку:
Играетъ иль твердитъ изъ азбуки урокъ,
Свои все кудри золотыя,
Волнистыя, барашкомъ завитыя,
И мягкія, какъ тонкій ленъ,
Любуясь гребешкомъ, расчесываетъ онъ,
И что за гребешокъ! Не только не теребитъ,
Нигдѣ онъ даже не зацѣпитъ:
Такъ плавенъ, гладокъ въ волосахъ.
Нѣтъ гребню и цѣны у мальчика въ глазахъ.
Случись, однакоже, что гребень затерялся.
Зарѣзвился мой мальчикъ, заигрался,
Всклокочилъ волосы копной.
448
Лишь няня къ волосамъ, дитя подыметъ вой:
„Гдѣ гребень мой?“
И гребень отыскался,
Да только въ головѣ ни взадъ онъ, ни впередъ,
Лишь волосы до слезъ деретъ.
„Какой ты злой, гребнишка!“
Кричитъ мальчишка:
А гребень говоритъ: „Мой другъ, все тотъ же я;
Да голова всклокочена твоя“.
Однакожъ мальчикъ мой, отъ злости и досады,
Закинулъ гребень свой въ рѣку:
Теперь имъ чешутся наяды.
Видалъ я на своемъ вѣку,
Что такъ же съ правдой поступаютъ,
Поколѣ совѣсть въ насъ чиста,
То правда намъ мила и правда намъ свята;
Ее и слушаютъ и принимаютъ;
Но только сталъ кривить душей,
То правду далѣ отъ ушей,
И всякій, какъ дитя, чесать волосъ не хочетъ,
Когда ихъ склочетъ.
И. Крыловъ.
Лисица и виноградъ.
Голодная кума-лиса залѣзла въ садъ.
Въ немъ винограду кисти рдѣлись.
У кумушки глаза и зубы разгорѣлись;
А кисти сочныя, какъ яхонты, горятъ;
Лишь то бѣда—висятъ онѣ высоко:
Отколь и какъ она къ нимъ ни зайдетъ,
Хоть видитъ око,
Да зубъ нейметъ,
Пробившись попусту часъ цѣлый,
449
Школа чтеца.
29
Пошла и говоритъ съ досадою: „Ну, что жъ!
На взглядъ-то онъ хорошъ,
Да зеленъ—ягодки нѣтъ зрѣлой:
Тотчасъ оскомину набьешь".
И. Крыловъ.
Ц в іь т ы.
Въ отворенномъ окнѣ богатаго покоя,
Въ фарфоровыхъ расписанныхъ горшкахъ
Цвѣты поддѣльные съ живыми вмѣстѣ стоя
На проволочныхъ стебелькахъ
Качалися спѣсиво
И выставляли всѣмъ красу свою на диво.
Вотъ дождикъ началъ накрапать.
Цвѣты тафтяные Юпитера тутъ просятъ,
Нельзя ли дождь унять;
Дождь всячески они ругаютъ и поносятъ.
„Юпитеръ,—молятся,—ты дождикъ прекрати;
Что въ немъ пути,
И что его на свѣтѣ хуже?
Смотри, нельзя по улицѣ пройти:
Вездѣ лишь отъ него и грязь и лужи“.
Однакоже Зевесъ не внялъ мольбѣ пустой,
И дождь себѣ прошелъ своею полосой.
Прогнавши зной,
Онъ воздухъ прохладилъ, природа оживилась,
И зелень вся какъ будто обновилась.
Тогда и на окнѣ цвѣты живые всіі
Раскинулись во всей своей красѣ
И стали отъ дождя душистѣй,
Свѣжѣе и пушистѣй.
А бѣдные цвѣты поддѣльные съ тѣхъ поръ
Лишились всей красы и брошены на дворъ,
Какъ соръ.
450
Таланты истинны за критику не злятся;
Ихъ повредить она не можетъ красоты,
Одни поддѣльные цвѣты
Дождя боятся.
И. Крыловъ.
Вельможа.
Какой-то въ древности вельможа
Съ богато убраннаго ложа
Отправился въ страну, гдѣ царствуетъ Плутонъ;
Сказать простѣе—умеръ онъ;
Итакъ, какъ встарь велось, въ аду на судъ явился,
Тотчасъ допросъ ему: „Чѣмъ былъ ты? гдѣ родился?"—
„Родился въ Персіи, а чиномъ былъ сатрапъ;
Но такъ какъ, живучи, я былъ здоровьемъ слабъ,
То самъ я областью не правилъ,
А всѣ дѣла секретарю оставилъ".—
„Что жъ дѣлалъ ты?"—„Пилъ, ѣлъ и спалъ
Да все подписывалъ, что онъ ни подавалъ".—
„Скорѣй же въ рай его!"—„Какъ! гдѣ же спра-
ведливость?"
Меркурій тутъ вскричалъ, забывши всю учтивость.
„Эхъ, братецъ,—отвѣчалъ Эакъ.—
Не знаешь дѣла ты никакъ.
Не видишь развѣ ты? Покойникъ былъ дуракъ!
Что если бы съ такою властью
Взялся онъ за дѣла, къ несчастью?
Вѣдь погубилъ бы цѣлый край!
И ты бъ тамъ слезъ не обобрался!
Затѣмъ-то и попалъ онъ въ рай,
Что за дѣла не принимался".
Вчера я былъ въ судѣ и видѣлъ тамъ судью:
Ну, такъ и кажется, что быть ему въ раю!
И. Крыловъ.
451
29*
Бабочка.
Ты правъ: однимъ воздушнымъ очертаньемъ
Я такъ мила.
Весь бархатъ мой съ его живымъ миганьемъ—
Лишь два крыла.
Не спрашивай,—откуда появилась,
Куда спѣшу:
Здѣсь на цвѣтокъ я легкій опустилась
И вотъ — дышу.
Надолго ли, безъ цѣли, безъ усилья,
Дышать хочу?
Вотъ-вотъ, сейчасъ, сверкнувъ, раскину крылья
И улечу!
А. Фетъ.
Вербочки.
Мальчики да дѣвочки
Свѣчечки да вербочки
Понесли домой.
Огонечки теплятся,
Прохожіе крестятся,
И пахнетъ весной.
Вѣтерокъ удаленькій,
Дождикъ, дождикъ маленькій,
Не задуй огня!
Въ воскресенье вербное,
Завтра встану первая
Для святого дня.
Александръ Блокъ
Палочка-выручалочка.
Палочка-выручалочка,
Вечерняя игра!
Небо тѣни свѣсило,
452
Расшумимся весело,
Бѣгать намъ пора!
Разъ, два, три, четыре, пять,
Бѣгомъ тѣни не догнать.
Слово скажешь, въ траву ляжешь,
Черной цѣпи не развяжешь.
Снизу яма, сверху высь,
Между нихъ вертись, вертись.
Что подъ нами, подъ цвѣтами,
За желѣзными столбами?
Кто на тронѣ? Кто въ коронѣ?
Вѣтеръ высью листья гонитъ
И уронитъ съ высоты...
Я ли первый, или ты?
Палочка-выручалочка,
То-то ты хитра!
Небо тѣни свѣсило,
Пастучи-ка весело
Посреди двора.
Валерій Брюсовъ.
Фонарики.
Фонарики-сударики,
Скажите-ка вы мнѣ,
Чтобъ друга увидать
Что видѣли, что слышали
Въ ночной вы тишинѣ?
И шопотомъ, украдкою
„Люблю!" ему сказать.
Такъ чинно вы разставлены
По улицамъ у насъ:
Фонарики-сударики
Горятъ себѣ, горятъ,
Ночные караульщики,
Вашъ вѣренъ зоркій глазъ!
А видѣли ль, не видѣли ль
Того не говорятъ.
Вы видѣли ль, примѣтили ль,
Какъ дѣвушка одна,
Вы видѣли ль несчастную,
Убитую тоской,
На цыпочкахъ, тихохонько,
И робости полна,
Близъ стѣнки пробирается,
Какъ будто тѣнь бродящую, *
Какъ призракъ гробовой?
Ту женщину безумную...
453
Зіплаканы глаза:
Ея всѣ жизни радости
Разрушила гроза.
Фонарики-сударики
Горятъ себѣ, горятъ,
А видѣли ль, не видѣли ль,
Того не говорятъ.
Вы видѣли ль преступника—
Какъ въ горести нѣмой,
Отъ совѣсти убѣжища
Онъ ищетъ въ часъ ночной?
Вы видѣли ль веселаго
Гуляку въ сюртукѣ
Оборванномъ, запачканномъ,
Съ бутылкою въ рукѣ?
Фонарики-сударики
Горятъ себѣ, горятъ,
А видѣли ль, не видѣли ль,
Того не говорятъ.
Они на то поставлены,
Чтобъ видѣлъ ихъ народъ
Чтобъ величались, славились,
Но только безъ хлопотъ.
И мъ, дескать, не приказано
Вокругъ себя смотрѣть:
О дна у нихъ обязанность—
Стоять тутъ и горѣть;
Дай горѣть, покудава
Кто не забудетъ ихъ:
Такъ что же и тревожиться
О горестяхъ людскихъ!
Ф онарики-сударики
Народъ все дѣловой:
Чиновники, сановники,
Все люди съ головой...
И. Мятлевъ.
Слива.
Если вы хотите знать,
Какъ влюбляются отъ сливы,—
Я могу вамъ разсказать,
Если вы хотите знать.
О, любовь вползетъ какъ тать,
Какъ бы дверь не стерегли вы...
Ну-съ, послушайте, чтобъ знать,
Какъ влюбляются отъ сливы.
Былъ у дяди стары й садъ,
У меня была кузина;
О, я былъ ужасно радъ:
Былъ у дяди старый садъ!..
Пѣли въ немъ на всякій ладъ
Птички... Чудная картина!
454
Былъ у дяди старый садъ,
У меня была кузина.
Раннимъ утромъ, до жары,
Мы въ саду гуляли съ Машей,
Свѣжи, молоды, добры;
Раннимъ утромъ, до жары,
Пчелки, мушки, комары
Пѣли гимны дружбѣ нашей;
Раннимъ утромъ, до жары,
Мы въ саду гуляли съ Машей.
Брали птички, насъ хваля,
Много нотъ довольно трудныхъ:
8і Ьёіпоі и иі, и Іа
Брали птички, насъ хваля,
А вокругъ—кусты, поля
Всѣ въ цвѣтахъ пестрѣли чудныхъ.
Брали птички, насъ хваля,
Много нотъ довольно трудныхъ.
Маша, рѣзвое дитя,
Вся сіяя шла аллеей,
Майской розою цвѣтя.
Маша, рѣзвое дитя,
Бойко прыгая, шутя,
Мнѣ казалась легкой феей...
Маша, рѣзвое дитя,
Вся сіяя, шла аллеей.
Въ темной зелени, въ глуши,
Маша сливы увидала,
Засмѣялась отъ души,
Въ темной зелени, въ глуши:
„Ахъ, какъ сливы хороши!"
И одну изъ нихъ сорвала.
Въ темной зелени, въ глуши.
Маша сливы увидала.
Мнѣ она сказала: „На".
Откусивъ сама кусочекъ,
(О святыя времена!)
Мнѣ она сказала: „На".
455
Сливу зубками она
Обвела узоромъ точекъ...
Мнѣ она сказала: „На“.
Вотъ и все. Но тутъ романъ.
Слива многое открыла...
(О, какой же я профанъ!)
Вотъ и все. Но тутъ романъ.
И я съѣлъ тотъ талисманъ,
Что кузина укусила.
Вотъ и все. Но тутъ романъ.
Слива многое открыла...
Вы, тезсіатез, хотѣли знать,
Какъ влюбляются отъ сливы?
Вотъ: прошу не забывать!
Вы, тезсіаіпез, хотѣли знать.
Можетъ-быть, въ любви встрѣчать
Вамъ пришлось не тѣ мотивы—
Жаль, а я лишь могъ узнать,
Какъ влюбляются отъ сливы.
А. Додэ.
А. Вигилянскій.
Слава Богу—я живъ и здоровъ-
Когда ко мнѣ скука ползетъ, какъ змѣя,
Справляйте поминки: я умеръ, друзья!
Когда жъ наслажденье сойдетъ съ облаковъ
И манитъ вѣнкомъ благодатныхъ даровъ—
Слава Богу — я живъ и здоровъ!
Слава Богу — я живъ и здоровъ!
Пусть скряга звонитъ своимъ золотомъ — я...
Справляйте поминки: я умеръ, друзья!
Для звона стакановъ, въ туманѣ паровъ,
Съ хорошимъ виномъ, всѣхъ возможныхъ сортовъ—
Слава Богу — я живъ и здоровъ!
Слава Богу — я живъ и здоровъ!
456
Когда мнѣ попалась педанта статья—
Справляйте поминки: я умеръ, друзья!
Когда же при мнѣ, безъ напыщенныхъ словъ,
Читаютъ строфу задушевныхъ стиховъ—
Слава Богу — я живъ и здоровъ!
Слава Богу — я живъ и здоровъ!
На званномъ обѣдѣ, гдѣ графы, князья...
Справляйте поминки: я умеръ, друзья!
Въ пирушкѣ съ друзьями старинныхъ годовъ,
Въ чинахъ небольшихъ и совсѣмъ безъ чиновъ—
Слава Богу — я живъ и здоровъ!
Слава Богу — я живъ и здоровъ!
Когда отъ ханжей дремлетъ мудрость моя,
Справляйте поминки: я умеръ, друзья!
Но если усну, среди буйныхъ головъ,
На милыхъ мнѣ персяхъ—отъ Вакха даровъ—
Слава Богу — я живъ и здоровъ!
Слава Богу — я живъ и здоровъ!
Про битвы и драки услышу ли я—
Справляйте поминки: я умеръ, друзья!
Но съ Лизой вдвоемъ, не считая часовъ,
До утреннихъ съ нею играть пѣтуховъ—
Слава Богу — я живъ и здоровъ!
Слава Богу — я живъ и здоровъ!
Угасну для пѣсенъ, любви и питья,
Справляйте поминки: я умеръ, друзья!
Но съ милой, съ друзьями, въ туманѣ паровъ,
Покуда для пѣсенъ есть нѣсколько словъ—
Слава Богу — я живъ и здоровъ!
Слава Богу — я живъ и здоровъ!
Беранже.
В. С. Курочкинъ.
457
Клятва леди Норы.
і.
Кто знаетъ клятву леди Норы:
— Скорѣй падутъ лѣса и горы,
Скорѣй затмится свѣтъ дневной,
Чѣмъ стану графа я женойі
Цѣной безчисленныхъ владѣній
И драгоцѣнныхъ украшеній,
И всѣхъ земель его цѣной—
Останься мы вдвоемъ на свѣтѣ,
Въ своемъ увѣрена обѣтѣ—
Не буду я его женой!
2.
— Не вѣрьте клятвамъ никогда;
Сегодня: нѣтъ! а завтра: да!—
Сказалъ, шутя, Дугласъ маститый.
— Обѣты будутъ позабыты;
И прежде, чѣмъ на склонахъ горъ
Цвѣтущій вереска узоръ
Покроютъ снѣжные узоры—
Изъ устъ прекрасной леди Норы
Услышитъ графъ отвѣтъ иной
И назоветъ ее женой.
3.
— Скорѣй,—воскликнула она,
— Изсякнетъ моря глубина,
Скорѣе лебедь бѣлокрылый
Окажется въ гнѣздѣ орла,
458
И въ ночь обрушится скала,
Скорѣй предъ вражескою силой
Бѣжитъ позорно кланъ родной,
Забывъ навѣкъ о славѣ ратной,
И потечетъ волна обратно,
Чѣмъ стану графа я женой!—
4.
Попрежнему у свѣтлыхъ водъ,
Гдѣ пышно лилія цвѣтетъ,
Гнѣздо свиваетъ лебедь бѣлый;
Попрежнему безумно смѣлы
Бойцы Шотландіи родной,
И надъ морскою глубиной
Вздымаются, какъ прежде, горы...
Но что же клятва леди Норы?..
Она дала обѣтъ иной:
Быть графу доброю женой!
Р. Бернсъ.
О. Чюмина.
Ф и н д л я й.
„Кто тамъ стучитъ такъ поздно въ дверь?*
— Кто жъ, какъ не я? —сказалъ Финдляй.
„Не слѣдъ бы вамъ здѣсь быть теперь!"
— Ну, какъ не такъ, — сказалъ Финдляй.
„Что жъ? ты пришелъ сюда какъ воръ?"
- Увидимъ тамъ, — сказалъ Финдляй.
„И хочешь выломать заборъ?"
— Да хоть и такъ, — сказалъ Финдляй.
„Впустить ужъ развѣ: день-то нашъ!"
— Ну, да, впусти, — сказалъ Финдляй.
459
„Да ты всю ночь уснуть не дашь?"
— Ужъ это такъ, — сказалъ Финдляй.
„Тебѣ вѣдь только отвори".
— Что жъ? отвори! — сказалъ Финдляй.
„Ты и пробудешь до зари".
— Ужъ вѣрно такъ,— сказалъ Финдляй.
„Ну, то-то: ночью не уйдешь?"
— Уйду ли я? —сказалъ Финдляй.
„А то дороги не найдешь".
— Да, это такъ, — сказалъ Финдляй.
„Ну, такъ и быть... да ты смотри..."
— Ужъ посмотрю!—сказалъ Финдляй.
„Ты никому не говори..."
— Да, это такъ! — сказалъ Финдляй!
Р. Бернсъ.
В. Костомаровъ.
Сватовство.
Пріѣзжалъ въ сосѣдній кланъ
Къ Мегги свататься Дунканъ;
Но красавица была
Неприступна какъ скала.
Вотъ такъ сватовство!
Жизни, бѣдный былъ не
радъ,
Думалъ прыгнуть въ водо-
падъ;
Но разсудокъ взялъ свое:
— Погибать?.. Да ну ее!
Къ чорту сватовство!
Парень веселъ и здоровъ,
Съ нею — холодно-суровъ;
А она, наоборотъ —
По Дунканѣ слезы льетъ...
Ай да сватовство!
Къ счастью не былъ онъ же-
стокъ,
Лучше лѣкаря помогъ:
Стали оба подъ вѣнецъ —
Сватовству пришелъ конецъ.
Ай да сватовство!
Р. Бернсъ.
О. Чюмина.
460
Н^та/паръ.
(Народная легенда.)
Каждой ночью къ водамъ Вана
Кто-то съ берега идетъ
И безъ лодки средь тумана
Смѣло къ острову плыветъ;
Онъ могучими плечами
Разсѣкаетъ лоно водъ,
Привлекаемый лучами,
Что маякъ далекій шлетъ.
Вкругъ потокъ, шипя, крутится,
За пловцомъ бѣжитъ вослѣдъ,
Но безстрашный не боится
Ни опасностей, ни бѣдъ.
Что ему угрозы ночи,
Пѣна, волны, вѣтеръ, мракъ?
Точно любящія очи,
Передъ нимъ горитъ маякъ!
Каждой ночью искры свѣта
Манятъ лаской тайныхъ горъ;
Каждой ночью, тьмой одѣта,
Ждетъ его къ себѣ Тамаръ.
И могучими плечами
Бороздитъ онъ лоно водъ,
Привлекаемый лучами,
Что маякъ далекій шлетъ.
Онъ плыветъ навстрѣчу счастью,
Смѣло борется съ волной,
А Тамаръ, объята страстью,
Ждетъ его во тьмѣ ночной.
Не напрасны ожиданья...
Ближе, ближе... вотъ и онъ!
Мигъ блаженства! мигъ свиданья!
Сладкихъ таинствъ райскій сонъ!
Тихо. Только волны плещутъ,
Только, полны чистыхъ чаръ,
Звѣзды ропщутъ и трепещутъ
За безстыдную Тамаръ.
И опять къ пучинамъ Вана
Кто-то съ берега идетъ
И безъ лодки средь тумана
Вдаль отъ острова плыветъ.
И со страхомъ остается
Надъ водой Тамаръ одна,
Смотритъ, слушаетъ, какъ бьется
Разъяренная волна.
Завтра — снова ожиданья,
Такъ же искрится маякъ,
Тотъ же чудный мигъ свиданья,
Тѣ же ласки, тотъ же мракъ.
Но развѣдалъ врагъ жестокій
Тайну любящихъ сердецъ:
Былъ погашенъ свѣтъ далекій,
Тьмой застигнутъ былъ пловецъ.
Растоптали люди злые
Ярко блещущій костеръ,
Небеса молчатъ ночныя,
Тщетно свѣта ищетъ взоръ.
461
Не заискрится, какъ прежде,
Маяка привѣтъ родной,—
И въ обманчивой надеждѣ
Бьется, бьется онъ съ волной.
Вѣтеръ шепчетъ непонятно,
Надъ водой клубится паръ,—
И вздыхаетъ еле внятно
Слабый возгласъ: „Ахъ, Тамаръ!"
Звуки плача, звуки смѣха...
Волны ластятся къ скалѣ,
И, какъ гаснущее эхо,
„Ахъ, Тамаръ!" звучитъ во мглѣ-
На разсвѣтѣ встали волны
И примчали блѣдный трупъ,
И застылъ упрекъ безмолвный:
„Ахъ, Тамаръ!" средь мертвыхъ
губъ.
Съ той поры минули годы,
Островъ полонъ прежнихъ чаръ,
Мрачно смотритъ онъ на воды
И зовется „Ахтамаръ”.
Ованесъ Туманьянъ.
К. Бальмонтъ.
Ручей.
Что ты плачешь, прозрачный, журчащій ручей?
Пусть ты скованъ цѣпями суровой зимы,—
Скоро вспыхнетъ весна, запоешь ты звончѣй
На зарѣ, подъ покровомъ нѣмой полутьмы!
И, свободный отъ тяжкихъ, холодныхъ оковъ,
Ты блеснешь и плеснешь изумрудной волной,—
И на твой жизнерадостный, сладостный зовъ
Вольный откликъ послышится въ чащѣ лѣсной.
И, подъ шелестъ листка, вѣтерка поцѣлуй
Заволнуетъ твою бѣлоснѣжную грудь,
И застѣнчивымъ лиліямъ въ зеркало струй
На себя будетъ любо украдкой взглянуть.
Вся земля оживится подъ лаской лучей,
И безслѣдно растаютъ оковы зимы...
Что жъ ты плачешь, скорбящій, звенящій ручей?
Что жъ ты рвешься такъ страстно изъ темной тюрьмы?
Александръ Цатуріанъ.
К. Бальмонтъ.
462
Чеченка.
і.
По тропинкѣ, въ часъ когда
Муэдзинъ зоветъ Аллаха,—
Вороного Карабаха
Я веду за повода.
Конь, какъ юноша, красивый,
Шумно дышитъ на меня,
И коситъ, играя гривой,
Очи, полныя огня.
По протоптаннымъ гранитамъ,
Межъ кустами кизила,
Онъ скользитъ, звеня копытомъ
И кусая удила.
Передъ нимъ съ тоскою тайной
Пробираюсь я по мху.
— Гость желанный, гость случайный,
Что ты медлишь наверху?
Трудно горною тропою...
Конь не слушаетъ меня...
Помоги мнѣ къ водопою
Твоего свести коня!
II.
Онъ только спросилъ, далеко ль,
Сказалъ что спѣшитъ и что жажда его велика.
Онъ только просилъ, чтобы я для него зачерпнула
Въ дорожную чашу холодной воды родника.
Надъ чашей съ водою тряхнула я розою пышной,—
И розовой пѣной до края покрылась она.
И чашу подавши, я такъ прошептала неслышно:
— Пей, путникъ, да будетъ вода тебѣ слаще вина!
463
Изъ чаши напился онъ, сдунувши къ самому краю,
Съ воды, словно бабочекъ, сдунувъ мои лепестки...
Вотъ только и было, и какъ онъ коснулся,—не знаю,
Ахъ, право не знаю,—моей загорѣлой руки.
III.
Послѣдній лучъ на минаретѣ
Крыломъ тяжелымъ стерла ночь.
Вотъ зовъ муллы, другой и третій...
Отъ родника иду я прочь.
Тревоженъ звукъ шаговъ невѣрныхъ,
Гляжу на мѣсяца дугу.
Аллахъ, защитникъ правовѣрныхъ,
Что знаю я и что могу?
Ахъ, сладокъ сонъ ночной порою...
Что горе брата, гнѣвъ отца?
Отъ нихъ не спрячу подъ чадрою
Я поблѣднѣвшаго лица!
• Маріэтта Шагинянъ
Полнолуніе.
Кто бъ ты ни былъ,—заходи, прохожій.
Смутенъ вечеръ, сладокъ запахъ нарда...
Для тебя давно покрыто ложе
Золотистой шкурой леопарда.
Для тебя давно таятъ кувшины
Драгоцѣнный сокъ, желтѣй топаза,
Что добытъ изъ солнечной долины,
Изъ садовъ горячаго Шираза.
Розовѣютъ тусклыя гранаты,
Ломти дыни ароматно вялы;
464
Нѣжный персикъ, смуглый и усатый,
Притаился въ вазѣ, запоздалый.
Я ремни спустила у сандалій,
Я лѣниво разстегнула поясъ...
Ахъ, давно глаза читать устали,
Лжетъ Коранъ, лукавитъ Аверроэсъ!
Поспѣши... круглится ликъ Селены;
Кто бъ ты ни былъ — будешь господиномъ.
Жарокъ ротъ мой, грудь бѣлѣе пѣны,
Пахнутъ руки чебрецомъ и тминомъ.
Днемъ чебрецъ на солнцѣ я сушила,
Тминъ сбирала, въ часъ поднявшись ранній...
Въ эту ночь — отъ Каспія до Нила—
Дѣвы нѣтъ меня благоуханнѣй!
Маріэтта Шагинянъ.
Жены султана.
Душенъ вечеръ. Вздохъ мистраля
Слабъ, и слабы вздохи моря.
Въ благовонный садъ сераля
Самъ прибудетъ вскорѣ.
Словно птичьихъ крыльевъ трепетъ,
Шевелится тѣнь платановъ;
Робокъ ропотъ, страненъ лепетъ
Разговорчивыхъ фонтановъ.
И подъ ропоты фонтана
Въ садъ, луной обвороженный,
Тихо сходятъ ждать султана
Со ступеней бѣлыхъ жены.
465
Школа чтеца.
30
Томный шелкъ шуршитъ и прячетъ
Затаенныя желанья.
Ахъ, кого пророкъ назначитъ
Для блаженнаго закланья?
И безревностныхъ, безгнѣвныхъ,
Сладко-нѣжныхъ другъ ко другу,
Провожаетъ желтый евнухъ
Ихъ къ державному супругу.
Маріэтта Шагинянь.
Кардоенсита.
(Аеіаіеіа).
Мнѣ вчера сказала Карменсита:
„Подари мантилью въ три дуката,
Чтобъ была нарядна и богата,
И прозрачнымъ кружевомъ обшита.
На моихъ подругахъ ожерелья,
И смотри какъ любитъ ихъ Севилья.
Видя ихъ, я плачу отъ безсилья,
Даже въ часъ разгула и веселья“.
Жди меня Гитана!
Ловкія колѣна,
Объ утесы склона,
Я израню въ кровь.
Не больна мнѣ рана,
Не боюсь я плѣна.
Я умру безъ стона
За твою любовь!
Ужъ граница близко. Больше часа
Я змѣей ползу изъ-за утеса.
Я тебѣ достану піі дегтбза,
Жемчуговъ, и кружевъ, и атласа!
Но, когда меня убьютъ страданья,
Иль паду застрѣленнымъ, о Нинья!
466
Обо мнѣ ты вспомнишь безъ унынья
И пойдешь на новыя свиданья!?
Жди меня Гитана!
Изорву колѣна
Объ утесы склона
Каменныхъ вершинъ!
Не больна мнѣ рана.
Мнѣ страшна измѣна.
Я умру безъ стона,
Только, не одинъ!
Съ испанскаго
Переводъ Жеботинскаго.
Рогіипаіа.
Ахъ, люби меня безъ размышленій,
Безъ тоски, безъ думы роковой,
Безъ упрековъ, безъ пустыхъ сомнѣній!
Что тутъ думать? Я твоя, ты мой!
Что тебѣ отчизна, сестры, братья?
Что намъ въ томъ, что скажетъ умный свѣтъ?
Или холодны мои объятья?
Иль въ очахъ блаженства страсти нѣтъ?
Я любви не числю и не мѣрю:
Нѣтъ, любовь есть вся моя душа.
Я люблю—смѣюсь, клянусь и вѣрю...
Ахъ, какъ жизнь, мой милый, хороша!..
Вѣрь въ любви, что счастью не умчаться,
Вѣрь, какъ я, о гордый человѣкъ,
Что намъ вѣкъ съ тобой не разставаться
И не кончить поцѣлуя вѣкъ...
А. Майковъ.
467
30
Солнце, солнце.
Солнце, солнце,
божественный Ра-Геліосъ,
тобою веселятся
сердца царей и героевъ,
тебѣ ржутъ священные кони,
тебѣ поютъ гимны въ Геліополѣ;
когда ты свѣтишь,
ящерицы выползаютъ на камни
и мальчики идутъ со смѣхомъ
купаться къ Нилу.
Солнце, солнце,
я — блѣдный писецъ,
библіотечный затворникъ,
но я люблю тебя, солнце, не меньше,
чѣмъ загорѣлый морякъ,
пахнущій рыбой и соленой водой,
и не меньше,
чѣмъ его привычное сердце ликуетъ
при царственномъ твоемъ восходѣ изъ океана,
мое трепещетъ,
когда твой пыльный, но пламенный лучъ скользнетъ
сквозь узкое окно у потолка
на исписанный листъ
и мою тонкую желтоватую руку,
выводящую киноварью
первую букву гимна тебѣ,
О Ра-Геліосъ, солнце!
М. Кузьминъ.
Прозерпина.
Плещутъ волны Флегетона,
Своды тартара дрожатъ.
Кони блѣднаго Плутона
468
Быстро къ нимфамъ Пеліона
Изъ айда бога мчатъ
Вдоль пустыннаго залива.
Прозерпина вслѣдъ за нимъ,
Равнодушна и ревнива,
Потекла путемъ однимъ.
Предъ богинею колѣна
Робко юноша склонилъ.
И богинямъ льститъ измѣна:
Прозерпинѣ смертный милъ.
Ада гордая царица
Взоромъ юношу зоветъ,
Обняла, и колесница
Ужъ къ аиду ихъ несетъ:
Мчатся облакомъ одѣты;
Видятъ вѣчные луга,
Элизей и томной лоты
Усыпленные брега.
Тамъ безсмертье, тамъ забвенье,
Тамъ утѣхамъ нѣтъ конца.
Прозерпина въ упоеньѣ,
Безъ порфиры и вѣнца,
Повинуется желаньямъ,
Предаетъ его лобзаньямъ
Сокровенныя красы,
Въ сладострастной нѣгѣ тонетъ,
И молчитъ и томно стонетъ...
Но бѣгутъ любви часы;
Плещутъ волны Флегетона,
Своды тартара дрожатъ:
Кони блѣднаго Плутона
Быстро мчатъ его назадъ.
И Кереры дочь уходитъ,
И счастливца за собой
Изъ элизія выводитъ
Потаенною тропой;
И счастливецъ отпираетъ
Осторожною рукой
469
<
Дверь, откуда вылетаетъ
Сновидѣній ложный рой.
Пушкинъ.
Утренняя звіьзда-
Надъ опаловымъ востокомъ
Въ легіонѣ свѣтлоокомъ
Блещетъ вѣстница зари.
Раннихъ пастырей отрада,
Утра близкаго лампада,
Благовѣстная, гори!
Зеленѣются поляны;
Зачернѣлась сквозь туманы
Нови крайней полоса.
Звѣзды теплятся далече,
Дня сіяющей предтечѣ,
Уступая небеса...
Надъ шафрановымъ востокомъ,
Въ небѣ легкомъ и далекомъ,
Гаснетъ спутница зари.
Угасай, лилея неба!
Ты же, вождь крылатый Феба,
Алымъ полымемъ гори!
Вспыхни, солнце! Богъ, воскресни!
Ярче жаворонка пѣсни
Лейтесь въ золото небесъ!
День грядетъ, Аврора блещетъ,—
И твой тихій лучъ трепещетъ,
И твой блѣдный ликъ—исчезъ...
Вячеславъ Ивановъ.
Пятнадцать ліьтъ.
„Къ твоей прекрасной,
Пастухъ несчастный,
Вернешься ль вновь?
Когда бъ я знала,
Какія жала
Таитъ любовь!“
470
Такъ говорила
Самой себѣ
Пастушка Лила,
Къ своей судьбѣ
Взывая тщетно,
Но непремѣнно
Принесъ Зефиръ
Прохладный миръ
На ту полянку,
Гдѣ купидонъ,
Какъ легкій сонъ,
Настигъ смуглянку.
И молвилъ онъ:
„Рѣзвись на волѣ
Въ цвѣтущемъ полѣ!
Дарю одну
Тебѣ весну,
Одну—не болѣ!”
И ужъ далекъ,
Какъ мотылекъ,
Расправивъ крилы,—
И голосъ Лилы
Вновь раздается
Звончѣй, звончѣй;
Она смѣется,—
Журчитъ ручей:
„Ахъ, что за сонъ
Смежилъ рѣсницы?
Ужъ скрылся онъ...
Стрекозы, птицы,—
Люблю, привѣтъ!
Поля, дубравы,
Листочки, травы!
Его жъ? о нѣтъ:
Его—люблю ли?
Мнѣ лишь въ іюлѣ
Пятнадцать лѣтъ”.
Ю. Верховскій.
Изъ александрійскимъ піьсенъ.
Не знаю, какъ это случилось:
Моя мать ушла на базаръ;
Я вымела домъ
И сѣла за ткацкій станокъ.
Не у порога (клянусь!), не у порога я сѣла,
А подъ высокимъ окномъ.
Я ткала и пѣла;
Что еще? ничего.
Не знаю, какъ это случилось:
Моя мать ушла на базаръ.
Не знаю, какъ это случилось:
Окно было высоко.
Навѣрно подкатилъ онъ камень,
471
Или взлѣзъ на дерево,
Или всталъ на скамью.
Онъ сказалъ:
„Я думалъ, это малиновка,
А это Пенелопа.
Отчего ты дома? Здравствуй!"
Это ты, какъ птица, лазаешь по застрѣхамъ,
А не пишешь своихъ любезныхъ свитковъ въ судѣ.
„Мы вчера катались по Нилу—
У меня болитъ голова".
„Мало она болитъ,
Что не отучила тебя отъ ночныхъ гулянокъ".—
„Не знаю, какъ это случилось:
Окно было высоко.
Не знаю, какъ это случилось:
Я думала ему не достать".—
„А что у меня во рту видишь?"—
„Чему быть у тебя во рту?
Крѣпкіе зубы да болтливый языкъ, глупости
въ головѣ".—
„Роза у меня во рту—посмотри".—
„Какая тамъ роза!"—
„Хочешь, я тебѣ ее дамъ,
Только достань сама".
Я поднялась на цыпочки,
Я поднялась на скамейку,
Я поднялась на крѣпкій станокъ,
Я достала алую розу,
А онъ, негодный, сказалъ:
„Ртомъ, ртомъ,
Изо рта только ртомъ,
Не руками, чуръ, не руками!"
Можетъ-быть, губы мои
И коснулись его, я не знаю.
Не знаю, какъ это случилось:
Я думала, ему не достать.
Я не знаю, какъ это случилось:
Я ткала и пѣла,
472
Не у порога (клянусь), не у порога сидѣла,
Окно было высоко:
Кому достать?
Мать, вернувшись, сказала:
„Что это, Зоя,
Вмѣсто нарцисса ты выткала розу?
Что у тебя въ головѣ?"
Не знаю, какъ это случилось.
М. Кузьминъ.
Веселая голова,
Широкая борода,
Не ходи мимо сада!
Милъ, дорожки, не тори,
Худой славы не клади:
Худа славушка пройдетъ,
Никто замужъ не возьметъ:
Ни приказный, ни купецъ,
Ни удалый молодецъ;
Отцу-матери безчестье,
Роду-племени укоръ,
Съ плечъ головушку долой!
Мнѣ нельзя итти съ тобой:
Скажутъ такъ, скажутъ сякъ,
Скажутъ иначе вотъ такъ.
Я во садикѣ была,
Рвала яблочки.
Все наливчатыя, все разсыпчатыя.
Я на блюдо положила на серебряный подносъ
Ко милому относила во высокъ во теремокъ,
Милый яблочка не приметъ,
Ничего не говоритъ,
Ни приказываетъ,
Ни отказываетъ.
Ужъ я стукнула ногой,
Сама съ терема долой.
Оставайся, чортъ съ тобой!
Не ломайся надо мной,
473
Надъ моей русой косой,
Надъ дѣвичьей красотой!
На ступеньку ступила,—
Призадумалась:
На другую ступила—
Образумилась,
А на третью ступила,—
Ворочусь, пойду назадъ:
Дружку выговорю,
Въ глаза выругаю!
Ты послушай-ка невѣжа,
Погадай, негодяй!
Я за что тебя люблю,
За что жаловать хочу?
Что на ноженьку легокъ:
На босу ногу сапогъ,
Во полночь гулять готовъ!
Народная пѣсня
Ол.нецкой губерніи.
Кого пхніь доладешенькіь лучше любить.
Я сижу, да не пряду,
Веретешкомъ не верчу,
Да нитка рвется,—не вяжу,
Все на милаго гляжу:
Наглядѣться не могу.
Рада бъ, рада бъ не глядѣть,
Да мои глазаньки глядятъ:
Полюбить видно хотятъ!
Думаю-подумаю.
Нигдѣ мѣста не найду;
Ни въ кропивѣ, ни во льду:
Кропивушка больно жжется,
Во льду ножкамъ холодно.
Призадумала одно,
474
Думаю, подумаю:
Мнѣ не знать, кого любить,
Мнѣ любить ли не любить
Мнѣ Ивана Сокола?
Кого мнѣ, младешенькѣ, лучше любить?
Ѳедора любить—онъ великъ, да глупъ;
Семена любить—онъ насмѣшливъ, плутъ:
Осипа любить—онъ и толстъ и простъ,
А Бориса любить—мнѣ барышъ не великъ;
Сергѣя любить—не по нраву всѣмъ;
Михаилу любить—нѣтъ привѣтливости въ немъ:
Сидора любити—онъ далеко живетъ;
Андрея любити—онъ манеренъ, врагъ!
Дмитрія любити—онъ ревнивъ до зѣла;
Трифона любити—изъ-подъ тиха лукавъ;
Полюбила бъ я Петра —не велитъ сестра...
Ахъ, чуть не забыла я Иванушку-дружка:
Онъ-то мое сердце, ихъ забавнѣй всѣхъ!
Изъ пѣсенника 1815 г.
Посадская.
Не шуми, трава шелкова,
Бѣлъ-призорникъ, зарецвѣтъ,
Вышиваю для лилова
Левантиновый кисетъ.
Я по алу левантину
Росписной разброшу стегъ,
Вышью Гору Соколину,
Бѣлокаменный острогъ.
Неба ясные упеки
Наведу на уголки,
Бирюзой занижу рѣки,
Съ Бѣло-морьемъ—Соловки.
Оторочку на кисетѣ
Литерами обовью:
475
„Люди съ титлою„Мыслете*,
Объявилося „Люблю.*
Ахъ, не даромъ на посадѣ
Грамотеей я слыву...
Зеленъ вѣтеръ въ палисадѣ
Всколыхнулъ призоръ траву.
Не клонись, вѣщунья-травка,
Безъ тебя вдомекъ уму:
Я—посадская чернавка,
Милъ жируетъ въ терему.
У милого кунья шуба,
Гоголиной масти конь,
У меня—сахарны губы,
Косы чалыя въ ладонь.
Не окупитъ милъ любови
Четвертиной серебра...
Заревѣйте на обновѣ
Расписныя литера!
Дорогъ камень бирюзовый,
Въ стегъ мудреный заплетись,
Ты, муравонька шелкова,
Самобранкой разстелись.
Не завихрился бы въ полѣ
Подкопытный прахъ столбомъ,
Какъ проскачетъ конь гоголій
Съ зарноокимъ сѣдокомъ.
Н. Клюевъ.
Рекрутская.
Недозрѣлую калинушку
Не ломаютъ и не рвутъ,—
Недорощена дѣтинушку
Во солдаты не берутъ.
Придорожну скатну ягоду
Топчутъ конникъ, пѣшеходъ,—
476
По двадцатой красной осени
Парня гонятъ во походъ.
Раскудрявьтесь, кудри-вихори,
Брови—черные стрижи,
Ты размыкушка-гармоника,
Про судину разскажи:
Во незнаемой сторонушкѣ
Красовита ли гульба?
По страдѣ свѣжитъ ли прохолодь,
Въ стужу грѣетъ ли изба?
Есть ли улица расхожая,
Дѣвка-зорька, маковъ цвѣтъ,
Али ночка непогожая
Ко сударкѣ заститъ слѣдъ?
Ахъ, размыкушкѣ-гармоникѣ
Поиграть не дологъ срокъ!..
Придорожную калинушку
Топчутъ пѣшій и ѣздокъ.
Н. Клюевъ.
Весенняя піъсенка.
Выпалъ вешній денекъ.
На бугрѣ солнцепекъ.
Собирайся, собирайся, народъ,
Въ хороводъ!
Станемъ кругомъ ходить
Да весну веселить,
Хороводъ заведемъ,
Запоемъ:
Здравствуй, здравствуй, весна!
Прилетѣла весна
Впопыхахъ.
Разносила красу,
Зеленила въ лѣсу,
На поляхъ.
477
Ахъ, ты, елочка-ель,
Ахъ, сосна, ты, сосна,
Не однѣ вы теперь зелены
У весны.
Вешній воздухъ, какъ хмель,
И пьянитъ, веселитъ,
И зоветъ
Въ хороводъ.
Будемъ кругомъ итти,
Ты, весна, залети
Въ тѣсный кругъ.
Улыбнись, озари
И цвѣтами весь лугъ
Убери!
С. Городецкій.
Піьсня о соколіь и тре^ь птицамъ Божіимъ.
Какъ по озеру бурливому,
По Онегушку шумливому,
На песокъ луду намойную,
На коряжину надводную,
Что ль на тотъ горючій камешекъ—
Прибережный кремень муромскій,—
Птицы вѣщія слеталися,
Отъ тумановъ отряхалися.
Перва птица Куропь снѣжная,
Друга черная Габучина,
А какъ третья птица вѣщая
Дребезда золотоперая.
Взговорила Куропь бѣлая
Человѣчьимъ звонкимъ голосомъ:
„Ай же птицы вы летучія,—
Дребезда и ты Габучина,
Вы летѣли мимо острова,
Миновали море около,
А не видли ль змѣя пестраго,
478
Что ль того лихого Сокола?"
Отвѣчали птицы мудрыя:
„Ай же Куропь бѣлокрылая,
Божья птица неповинная,
У тебя ль перо Архангела,
Голосъ грома поднебеснаго,
Мы летѣли мимо острова,
Миновали море около,
А не видлн змѣя пестраго,
Что ль того лихого Сокола.
Только волны говорливыя,
Принесли намъ слухи вѣрные,
Вой гулкіе пещерные:
Соколъ врагъ, змѣя суровая,
Та ли погань стоголовая,
Обрядился не на островѣ,
Схоронился не на ростани,
А нависъ погодной тучею,
Разметался гривой долгою,
Надо святъ-рѣкой текучею—
Крутобережною Волгою.
Отъ налета соколинаго,
Злого посвиста змѣинаго,
Волга-рѣченька смутилася,
Въ сине море отшатилася...
Ой, не звоны колокольные
Никнутъ къ земи, бродятъ около;—
Стонутъ люди полоненные
Отъ налета злого Сокола.
И не пѣсня заунывная
Надъ полями разливается;
То плакунъ—трава могильная
Съ жалкимъ шорохомъ склоняется!..
Мы слетѣлись птицы умныя
На совѣтъ, на думу крѣпкую,
Со того ли саду райскаго—
Съ кипариса—Божья дерева.
Мы удумаемъ по-птичьему,
479
Сгомонимъ по-человѣчьему:
Я—Габучина безгрѣшная,
Птица темная, кромѣшная,
Затуманю разумъ Соколу,
Очи выклюю у сѣраго,
Чтобъ ни близъ себя, ни около
Не узналъ онъ свѣта бѣлаго.
Дребезда тутъ рѣчь сговорила:
Я развѣю перья красныя
На равнины святорусскія,
Въ буруны озеръ опасные,
Чтоль во тѣ ли рѣчки узкія,
Гдѣ падетъ перо небесное,
Тамъ слѣпые станутъ зрячими,
Хромоногіе—ходячими,
Безъязыкіе—рѣчистыми,
Темноумные—лучистыми.
Гдѣ падетъ перо кровавое,
Тамъ сыра земля разступится,
Море синее насупится
Вздыметъ волны надъ дубравою—
Захлестнетъ лихого Сокола,
Его силищу неправую,
Занесетъ кругомъ и около
Глиной желтою горшечною,
И споетъ съ побѣдной славою
Надъ могилой память вѣчную.
Прибредетъ мужикъ на глинянникъ,
Кирпичу съ руды натяпаетъ
На печушку хлѣбопечную,
На завалину запечную,
Станетъ въ стужу полузимнюю
Спину грѣть да приговаривать:
Вотъ-те слава соколиная—
Ты безславьемъ опозорилась.
Напослѣдокъ слово молвила
Куропь-птица бѣлоперая:
А какъ я,—росой вспоенная,
480
Свѣтлымъ облакомъ вскормленная,
Возлечу въ обитель Божію,
Къ Саваоѳову подножію,
Запою стихиру длинную,
Сладословную, умильную.
Ту стихиру во долинушкѣ
Молодой пастухъ дослушаетъ,
Свѣситъ голову дѣтинушка,
Подотретъ слезу рубахою,
И подъ дудочку свирѣльную
Сложитъ новую бывальщину".
Аминь.
Н. Клюевъ.
Сказаніе о разбойнсікіь.
Начинается пѣсня недлинная
О Петрѣ, великомъ разбойникѣ.
Былъ тотъ Петръ разбойникомъ тридцать лѣтъ.
Межъ товарищей почитался набольшимъ,
Грабилъ поѣзда купецкіе,
Дѣлывалъ дѣла молодецкія,
Ни старцевъ не щадилъ, ни младенцевъ.
Въ той же странѣ случился монастырь святой.
На высокой горѣ, на отвѣсной,
Межъ землей и небомъ виситъ,
Ниоткуда къ монастырю нѣтъ доступа.
Говорилъ тутъ Петръ товарищамъ:
„Одѣвайте меня въ платье монашеское,
Пойду, постучусь перехожимъ странникомъ,
Ночью вамъ ворота отопру,
Ночью васъ на грабежъ поведу,
Гей вы, товарищи, буйные да вольные!"
Одѣвали его въ платье монашеское,
Постучался онъ странникомъ подъ воротами,
Впустили его дѣвы праведныя,
Обласкали его сестры добрыя,
481
Школа чтеца.
31
Обмыли ноги водицею,
Приготовили страннику трапезу.
Сидитъ разбойникъ за трапезой,
Ласкѣ—любви сестеръ удивляется,
Праведными помыслами ихъ смущается,
Что отвѣчать, что говорить—не знаетъ.
А сестры, близъ, въ горенкѣ собирались,
Говорили межъ собою такія слова:
„Видно, гость-то нашъ святой человѣкъ,
Такое у него лицо просвѣтленное,
Такія у него рѣчи проникновенныя.
Мы омыли ему ноги водицею,
А есть у насъ сестра слѣпенькая
Не омыть ли ей зракъ той водицею?"
Призывали онѣ сестру слѣпенькую,
Омывали ей зракъ той водицею,—
И прозрѣла сестра слѣпенькая.
Тутъ всѣ бѣжали въ горенку сосѣднюю,
Падали въ ноги всѣ предъ разбойникомъ,
Благодарили за чудо великое.
У разбойника душа смутилася,
Возмутился ужасомъ и трепетомъ.
Творилъ и онъ земной поклонъ,
Земной поклонъ передъ Господомъ.
„Былъ я, Господи, великимъ грѣшникомъ,
Примешь ли ты мое покаяніе!"
Тутъ кончилась пѣсня недолгая.
Сталъ разбойникъ подвижникомъ,
Надѣлъ вериги тяжелыя,
По всей земли прославился подвигами;
А когда со святыми преставился,—
Мощи его и понынѣ чудеса творятъ.
В. Брюсовъ.
482
□ ТДЪЛ'Ъ VIII
□ РАТО РЕНІЙ.
Введеніе въ восьмой отдалъ.
(Объ искусствѣ произнесенія рѣчей).
Ораторское искусство заключаетъ въ себѣ двѣ творческія стороны:
авторскую и исполнительную. Конечно, здѣсь совершенно не при-
ходится говорить о законахъ сочинительства рѣчей, и подъ оратор-
скимъ искусствомъ въ дальнѣйшемъ я буду подразумевать искусство
ихъ произнесенія. Ораторъ въ этомъ случаѣ является исполнителемъ
независимо отъ того, самъ ли онъ сочинилъ свою рѣчь или это
сдѣлалъ за него кто-то другой. Слѣдовательно, ораторъ долженъ пройти
ту же школу, что и всякій чтецъ-художникъ: онъ долженъ поставить
и развить свой голосъ, быть его господиномъ, добиться безупречной
ясности и чистоты рѣчи (это сторона техническая), долженъ воспитать
свой вкусъ въ достиженіи успѣха не театральными выкриками, а глу-
биной и искренностью переживанія въ интонаціяхъ. (Это—сторона
художественная.)
II способы для достиженія этого одинаковы и у артиста, и у
прокурора суда. Я позволяю себѣ въ подтвержденіе этихъ словъ
привести выдержку изъ интереснѣйшей книги Ан. Ѳ. Кони «На
жизненномъ пути».
«Выдвигая передъ собою рѣзко и опредѣленно всѣ возникающія
и могущія возникнуть сомнѣнія, я рѣшалъ поддерживать обвиненіе
лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда эти сомнѣнія бывали путемъ напряжен-
наго раздумья разрушены, и на развалинахъ ихъ возникло твердое убѣ-
жденіе въ виновности. Когда эта работа была окончена, я посвящалъ
вечеръ наканунѣ засѣданія исключительно мысли о предстоящемъ дѣлѣ,
стараясь представить себѣ, какъ именно было совершено ’) престу-
пленіе и въ какой обстановкѣ ’). Послѣ того, какъ я пришелъ къ
О Курсивъ А. Кони.
485
убѣжденію въ виновности, путемъ логическихъ житейскихъ и психо-
логическихъ соображеній, я начиналъ мыслить образами ’). Они
иногда возникали передо мной съ такою силой, что я какъ бы при-
сутствовалъ невидимымъ свидѣтелемъ при самомъ совершеніи пре-
ступленія, и это безъ моего желанія, невольно, какъ мнѣ кажется,
отражалось на убѣдительности моей рѣчи, обращенной къ присяж-
нымъ».
Имѣя въ виду все вышесказанное, казалось бы не надо и со-
ставлять особаго отдѣла, но мнѣ хотѣлось все же ближе подойти къ
задачамъ оратора. Иному общественному или судебному дѣятелю
приходится говорить на тему далеко не поэтическую, а онъ долженъ
все же остаться художникомъ слова. Въ чемъ же заключаются условія
этой художественности?
Въ глубокой убѣжденности оратора, что въ данный моментъ
его слово—самое вѣрное, самое глубокое, самое нужное, и происте-
кающей отсюда нѣкоторой приподнятости тона. Это не есть та услов-
ная приподнятость, которая царитъ на скверныхъ подмосткахъ, но
это та настоящая приподнятость, которая рождается у оратора,
стоящаго, дѣйствительно выше толпы, и доводитъ его до благород-
наго, истиннаго паѳоса.
Поэтому выборъ мой въ послѣднемъ отдѣлѣ падаетъ на произ-
веденія, изъ которыхъ немногія являются настоящими рѣчами, когда-
либо и кѣмъ-либо произнесенными, но всѣ они пронизаны убѣжден-
ностью въ своей силѣ и правдѣ, что легко передается исполнителю.
О. Озаровская.
’) Курсивъ мой.
486
Восходящая Яльдонса.
Хорошо быть простодушною Альдонсою: въ ея ограни-
ченномъ кругу счастіе встрѣтитъ ее, ея визгливое пѣніе и ея
неуклюжая пляска восхитятъ ея неприхотливыхъ односель-
чанъ, и такой же, какъ она, простодушный деревенскій юноша
поведетъ ее къ вѣнцу.
Если она услышитъ, что смѣшной странствующій рыцарь
именуетъ ее Дульцинеею, прекраснѣйшею изъ дамъ, то за-
смѣется она звонко, и забудетъ скоро забавную мечту.
Но если она ему повѣритъ, если сладкою мечтою отра-
витъ свое воображеніе,—и, повѣривши Донъ-Кихоту, пойметъ,
что очарованія высокой красоты скрыты подъ ея сельскимъ,
грубымъ обличіемъ, — и, понявши это, зажжется страстною
мечтою воистину стать утѣшеніемъ людей, красотою высокою
и нѣжною, прославленною прекраснымъ мечтателемъ Дуль-
цинеею,— какой передъ нею откроется тяжелый путь! Какъ
будутъ преслѣдовать ее тѣ, отъ кого она ушла! И гдѣ же тѣ,
кого она ищетъ? И какъ совлечь съ себя обличіе постылой
Альдонсы?
Но, восходя, восходитъ, и пламенѣетъ высокимъ своимъ
подвигомъ, и, быть-можетъ, погибаетъ, не свершивъ великаго
дѣла, не пройдя высокаго пути. Тогда приходятъ къ ней мно-
жество людей, изъ родного села и изъ далекаго града, и вѣн-
чаютъ цвѣтами почившую.
487
Такимъ путемъ — путемъ восходящей Альдонсы — пред-
ставляется мнѣ тяжелый и блистательный путь знаменитой
русской актрисы Вѣры Ѳедоровны Коммиссаржевской.
Мы знаемъ, что Вѣрѣ Ѳедоровнѣ Коммиссаржевской не
удалось сдѣлать то, чего мы такъ хотѣли: создать въ Россіи
новый театръ. Не удалось; но тѣмъ не менѣе имя Коммис-
саржевской для насъ особенно дорого, и память о ней сохра-
нится чистою.
Есть неудачи, которыя чище и славнѣе самыхъ блиста-
тельныхъ побѣдъ,—и такова была неудача Коммиссаржевской.
Быть побѣдительницею—для нея ничего не стоило, какъ
ничего не стоило Альдонсѣ очаровать Хозе или Хуана. Стоило
ей только играть то, что она играла для провинціи,—и успѣхъ
ея былъ бы неизмѣнно проченъ. Только мы, мечтающіе о но-
вомъ театрѣ, потеряли бы свѣтлую мечту о невоплощенныхъ
и, можетъ-быть, несбыточныхъ формахъ театральнаго дѣйствія.
Зато милое и привычное толпѣ искусство театра-зрѣлища,
можетъ-быть, не потеряло бы такъ рано блестящей актрисы.
Но вѣчная неудовлетворенность тѣмъ, что дано, тѣмъ, что
достигнуто, устремляло ее дальше и дальше, къ тому, о чемъ
мечтается, къ тому, чего еще нѣтъ, къ тому, чего никто изъ
насъ еще не умѣетъ сдѣлать. Мы всѣ мечтаемъ о томъ, чего
не можемъ сдѣлать.
Повелительнѣе, чѣмъ у многихъ другихъ, было это стре-
мленіе къ тому, чего еще нѣтъ, у Вѣры Ѳедоровны Коммис-
саржевской. Мы всѣ дѣлаемъ, что можемъ, — Коммиссаржев-
ская умѣла ставить себѣ цѣли выше своихъ силъ и искать
жатвъ тамъ, гдѣ еще никто не сѣялъ. Въ этомъ благородномъ
и высокомъ ея подвигѣ многія начинанія ея были, конечно,
обречены на неудачу.
Театръ Коммиссаржевской представлялъ странное и плѣ-
нительное зрѣлище героической борьбы за новыя формы сце-
488
ническаго дѣйствія, борьбы, гдѣ такъ мало было союзниковъ
и помощи и такъ много враговъ и препятствій.
Такъ, нужна новая драма; но что же играть? Театръ,
который былъ,—былъ таковъ, что живыя силы литературы, въ
большей или меньшей степени, чуждались его,—и ставить при-
ходилось преимущественно пьесы, написанныя въ Западной
Европѣ. Изъ русскихъ драмъ иныя, какъ, напримѣръ, трагедіи
Валерія Брюсова и Иннокентія Анненскаго, устрашили почему-
то и театръ Коммиссаржевской. Разрывъ между театромъ и
литературою былъ такъ глубокъ, что даже ищущая новыхъ
путей Коммиссаржевская все же не поставила ни брюсовскую
„Землю", ни „Лаодамію" Иннокентія Анненскаго, ни „Незна-
комку" Александра Блока. Да и то, что ставилось, встрѣча-
лось неистовымъ гуломъ порицаній, запальчивыхъ и неспра-
ведливыхъ.
Не было драмъ, но не было и многаго другого. Оказалось,
наконецъ, что прежде театра надо основать школу, — прежде,
чѣмъ дѣлать, надо учиться и учить.
Но учить и учиться уже было поздно. Грубая жизнь на-
пала на милую мечтательницу и увлекла ее на погибельный
путь, на путь къ смерти.
Но что же! Когда умираетъ человѣкъ, еще не все уми-
раетъ. Безсмертно многое, и безсмертнѣе всего мечта.
Жила-была Альдонса и была довольна своею долею. Но
пришелъ мечтатель, и прославилъ Дульцинею. Прошли многія
поколѣнія, и вотъ Альдонса говоритъ:
— Прекраснѣйшая изъ дамъ, Дульцинея Тобозская, это—
я, которую зовутъ въ деревнѣ Альдонсою. Меня прославилъ
знаменитый въ вѣкахъ рыцарь, и я хочу оправдать его бе-
зумный восторгъ и стать воистину прекраснѣйшею изъ дамъ.
И мечтаетъ Альдонса, и стремится къ воплощенію высо-
кой мечты,— и такъ мечтаетъ, и такъ стремится, и такъ вы-
489
сокою мечтою всю свою испепеляетъ душу, что умираетъ.
Бѣдная мечтательница—Альдонса!
А мы склоняемся у ея могилы, и не стыдимся по-дѣтски
плакать о ней, объ ея высокой мечтѣ, объ ея несказанной
печали, о безнадежномъ подвигѣ ея жизни. И говоримъ:
— Наслѣдники твоей мечты, преемники твоей печали,
утѣшимъ, утѣшимъ твою свѣтлую тѣнь,— и то, что было
твоимъ подвигомъ, сдѣлаемъ дѣломъ своей жизни.
Ѳедоръ Сологубъ.
Вечеръ Гофмансталя.
(Отрывокъ.)
Трагическій актеръ—совсѣмъ не то же, что актеръ дра-
матическій. Трагедія и драма—да это два разные міра, солнце
и луна. Драма — вся въ борьбѣ. Трагедія — вся въ тишинѣ
и безмолвіи непреклонной рѣшимости. Герой драмы размыш-
ляетъ и колеблется. Съ другими ли, съ самимъ ли собою,
онъ вѣчный ведетъ споръ. Трагическій герой приходитъ для
свершенія рокового замысла,— и съ его рокового пути нѣтъ
возврата назадъ. Потому и гибель на концѣ этого пути. И до
игры ли внѣшней трагическому актеру!
И вотъ, когда участники спектакля кричали свирѣпыми
голосами, яростно вращали глазами, дѣлали угрожающіе и не-
обыкновенные жесты,—все это такъ не шло къ трагическому
тону, что казалось смѣшнымъ. И сбивало исполнительницу
роли Электры.
Пришла на сцену Клитемнестра, кричала, стучала палкою,
неистовствовала,— казалась русскою помѣщицею стараго вре-
мени, словно вотъ сейчасъ позоветъ холоповъ и начнетъ
истязать свою дочь. И, поддаваясь общему дурному тону,
психопатничала иногда и Электра.
490
Но зато какъ она молчала! Какъ она смотрѣла! Какъ она
слушала! Какъ она плакала!
Длился спектакль, скучный, потому что пьеса ничтожная,
постановка чрезмѣрно-ученая, актеры слишкомъ актеры изъ
драмы, единственная трагическая актриса еще не нашла себя,—
и только когда она оставалась одна, когда ей оставалось овла-
дѣть странною тишиною трагическаго устремленія и въ мол-
чаніи и въ словѣ передать непреклонный шопотъ рока, кото-
рый тихъ и неумолимъ,—только тогда являлось торжествен-
ная и вѣрная трагедія, и оправданы были смерть и любовь,—
оправдана была любовь—смерть.
Умеръ убитый Орестомъ Эгистъ, и съ шумными криками
торжества собрался народъ. Вынесли на рукахъ, высоко под-
нявъ, Ореста, и закружилась и завопила толпа, — бросилась
въ бѣшеную пляску Электра, и слышенъ былъ вопль ея, тор-
жествующій и страшный вопль.
Какъ ликуетъ, какъ торжествуетъ, какъ свѣтло и ужасно
радуется свободная душа человѣка! Какіе находитъ она звуки,
какіе вопли исторгаетъ ея восторгъ изъ широко отверстыхъ
устъ! Какая радость! Какой ужасъ! Какая прекрасная смерть!
Смерть! Потому что послѣ этого не надо жизни. И если
она жила еще долго, — что до того! Только разъ душа чело-
вѣка можетъ такъ ликовать, и такъ, ликуя, умираетъ.
Ѳедоръ Сологубъ.
Къ всероссійскому торжеству.
Судьбы перемѣнчивы,— претерпѣвшій столь многія гоне-
нія при жизни и по смерти, Пушкинъ воспоминается торже-
ственно, офиціально установленнымъ порядкомъ—но „послѣд-
няя горше первыхъ". Возвышенный и чистый поэтъ становится
достояніемъ толпы, той презрѣнной черни, непониманіе кото-
491
рой столь же грубо, какъ и въ старину. Его стихи учатъ въ
школахъ, никто не споритъ противъ его величія, ничьей пош-
лости не оскорбить его почивающій въ мірѣ глаголъ, — и
толпа получила свою долю въ пиршествѣ господъ. А что ей
до него? Что ей Пушкинъ?
„Явленіе необычайное", поэтъ, въ себѣ нашедшій точную
мѣру всякаго человѣческаго чувства, на точнѣйшихъ вѣсахъ
взвѣсившій добро и зло, правду и ложь, ни на одну чашу
вѣсовъ не приложившій своего пристрастія,—и въ равновѣсіи
остановились они,—человѣкъ великаго созерцанія и глубочай-
шихъ проникновеній, кому онъ сроденъ? Изъ позднѣйшихъ
лишь Достоевскій мрачно-подобенъ ему, свѣтлому, всѣ же
прочіе—иного духа. И духъ вѣка столь далекъ отъ того, чѣмъ
жилъ Пушкинъ, что непониманіе его — одна только дань
уваженія отъ толпы поэту: потому что оскорбительно для
памяти поэта, что хоть что-нибудь въ немъ кажется понят-
нымъ тѣмъ знатокамъ, которые, напр., носились съ неуклю-
жимъ переложеніемъ молитвы Господней, приписывая его
Пушкину.
Зачѣмъ же эти праздники, эти жалкія торжества, эти
спектакли, флаги, фейерверки, колокола, пушки—вся эта бута-
форская рухлядь обязательно-справляемыхъ торжествъ? Лишь
оскорбительны для великой памяти эти надуманныя торжества,
подсказанныя не общенароднымъ восторгомъ, а простою кален-
дарною справкою литературныхъ гробохранителей. Вотъ стихо-
твореніе молодого поэта, г. Корина, которое въ немногихъ
словахъ передаетъ это наше чувство обиды и возмущенія:
Сбылось!—По всей Руси великой
Крылатый стихъ твой облетѣлъ!
И въ сердцѣ черни полудикой
Онъ смутнымъ эхомъ прогудѣлъ!
И вотъ: кощунственно играя
Священнымъ именемъ твоимъ,
492
Тебѣ несетъ толпа слѣпая
Своихъ кадильницъ чадъ и дымъ...
Возстань, поэтъ! Какъ прежде, смѣло
Возвысь предъ ними мощный гласъ:
„Подите прочь! Какое дѣло
Поэту мирному до васъ!"
Вотъ уже сказано это было имъ, уже недвусмысленно
выразилъ поэтъ свое къ нимъ презрѣніе,—чего же имъ еще
надо?
Ѳедоръ Сологубъ.
Вражда и дружба стихій.
( Отрывокъ.)
Враждебны намъ стихіи. Нелюбовь у насъ и у стихій
взаимная. Ни одна стихія намъ не мила.
Солнце, огонь, пламенное, страстное свѣтило, источникъ
свѣта и тепла. Мы упрямо отвращаемся отъ солнца. Отъ свѣта.
Отъ всякаго свѣта. Просвѣщеніе наше въ упадкѣ. Одежды
наши темны и скучны. Жилища у насъ сумрачны и суровы.
Дѣти наши закутаны, чтобы солнце не обожгло ихъ кожу.
Вѣтеръ, вольно вѣющій, не знающій преградъ и заставъ,
вѣтеръ — чародѣй, могучимъ вѣяніемъ оживляющій широкіе
земные просторы... Мы боимся его. Мы его не терпимъ. Мы
оградились отъ него стѣнами, и стараемся возвести ихъ до
неба и замазать въ нихъ всѣ щели. Чтобы не вѣялъ само-
вольный, безчинный, дерзкій нарушитель затхлаго покоя.
Вода, вольно струящаяся и, однако, покорная закону зем-
ныхъ тяготѣній, чистая, холодная, равняющая всѣхъ своими
влажными и холодными объятіями... Что намъ въ ней? Мы
заросли всякою грязью, мы любимъ нечистоту и тлѣнъ нашей
смрадной жизни. Мы защищаемся отъ безчинства падающихъ
493
съ неба водъ калошами, зонтиками, плащами. Наши дѣти
боятся воды, а дерзкіе изъ нихъ легко тонутъ въ ней, потому
что не могутъ научиться плавать. Это такъ трудно для
насъ.
Земля, мягкая, сырая, успокоительная, мать, кормящая
всѣхъ своихъ дѣтей... Мы позаботились больше всего о томъ,
чтобы раздѣлить ее, и отмежевали мою и твою землю,— и
всѣмъ намъ тѣсно въ земныхъ просторахъ. И мы идемъ уми-
рать, чтобы отнять у мирнаго народа его землю, и думаемъ,
что это отнятіе чужого есть великій подвигъ, за который
наши дѣти должны быть намъ благодарны. А на что земля
нашимъ дѣтямъ? Они не знаютъ ея ласковыхъ и нѣжныхъ
прикосновеній, не бѣгаютъ босыя по ея мягкой и зеленой
травѣ, по ея сыпучему песку.
Мы не любимъ стихій, и справедливыя стихіи не любятъ
насъ. Онѣ благосклонны къ нашему врагу и помогаютъ ему
въ великой исторической борьбѣ, потому что платятъ ему
любовью за любовь.
Посмотрите на японскія картинки. Сколько свѣта, какое
живое солнце чувствуется въ нихъ! Эмблемою своего госу-
дарства взяли японцы восходящее солнце, потому что без-
мѣрно полюбили они это царственное свѣтило, радостное и
благостное. Къ добрымъ и злымъ равно благостно оно. Но
любятъ его только добрые и сильные. И такимъ и оно посы-
лаетъ наилучшіе свои дары. И японцы радостно грѣются въ
лучахъ своего солнца. Радостно открываютъ они солнцу свое
тѣло,— и золото расплавленныхъ солнечныхъ лучей перели-
вается по ихъ кожѣ восхитительнымъ пламенемъ силы и бод-
рости.
Бодро ставятъ они свои паруса, и вѣтеръ несетъ въ ши-
рокое море ихъ лодки. Онъ развѣваетъ ихъ легкія одѣянія,
и прикосновенія его къ ихъ тѣлу нѣжны и любовны.
494
Вода охватила голубымъ, раздробленнымъ ожерельемъ
ихъ прекрасные острова. Какъ они родственны этой подвиж-
ной стихіи! Какъ легко влекутся они къ неизвѣданному, къ
новому! И мы еще не знаемъ, куда приплывутъ они на сво-
ихъ дивныхъ корабляхъ.
Землю они любятъ удивительной любовью влюбленнаго.
Какъ воздѣлываютъ они ее! Причудливымъ садомъ и огоро-
домъ стала вся ихъ страна.
Въ дружбѣ со стихіями живетъ нашъ врагъ, и стихіи, воль-
ныя и вѣчныя, стали его вѣрными союзниками. Мы не мо-
жемъ расторгнуть этого союза. Но никто не мѣшаетъ и намъ
войти въ него.
...„Небо ясно,
Подъ небомъ мѣста хватитъ всѣмъ “.
(Лермонтовъ.)
И если мы сами такъ уже закоснѣли въ нашей искус-
ственной и городской жизни, въ жизни маленькихъ и роб-
конькихъ мѣщанъ, то введемъ же хотя нашихъ дѣтей и
нашихъ юношей въ вольный міръ природы, сдружимъ ихъ
съ милыми, вѣчно - вольными и вѣчно - благостными стихіями.
Дружба съ ними радостна, но ихъ любовь не изнѣживаетъ,
потому что они и нѣжны и въ то же время суровы. Ихъ
радость есть радость мужества и силы.
Въ городахъ и внѣ городовъ — вездѣ свѣтитъ солнце.
Пусть возрастающіе люди не прячутся въ мрачныя пещеры
нашихъ жилищъ отъ добраго солнца.
Воздуху, свѣту, землѣ и водѣ дайте свободно обнимать
ихъ тѣла. Чтобы сдружились, сжились, сроднились они съ
вольными стихіями. Чтобы и сами стали, какъ стихіи, такіе
же чистые, невинные, правдивые, нѣжные и суровые.
Ѳедоръ Сологубъ.
495
Любите ли вы театръ.
Любите ли вы театръ такъ, какъ я его люблю, т.-е.
всѣми силами души вашей, со всѣмъ энтузіазмомъ, со всѣмъ
изступленіемъ, къ которому только способна пылкая молодость,
жадная и страстная до впечатлѣній изящнаго? Или, лучше
сказать, можете и вы не любить театра больше всего на свѣтѣ,
кромѣ блага и истины? И въ самомъ дѣлѣ, не сосредоточи-
ваются ли въ немъ всѣ чары, всѣ обаянія, всѣ обольщенія
изящныхъ искусствъ? Не есть ли онъ исключительно само-
властный властелинъ нашихъ чувствъ, готовый во всякое
время и при всякихъ обстоятельствахъ возбуждать и волно-
вать ихъ, какъ воздымаетъ ураганъ песчаныя метели въ без-
брежныхъ степяхъ Аравіи?.. Какое изъ всѣхъ искусствъ вла-
дѣетъ такими могущественными средствами поражать душу
впечатлѣніями и играть ею самовластно?..
Что же такое театръ, гдѣ драма облекается съ головы
до ногъ въ особое могущество, гдѣ она вступаетъ въ союзъ
со всѣми искусствами, призываетъ ихъ на свою помощь и
беретъ у нихъ всѣ средства, всѣ оружія, изъ которыхъ каждое,
отдѣльно взятое, слишкомъ сильно для того, чтобы вырвать
васъ изъ тѣснаго міра суетъ и ринуть въ безбрежный міръ
высокаго и прекраснаго?
Что же такое, спрашиваю васъ, этотъ театръ?... О, это
истинный храмъ искусства, при входѣ въ который вы мгно-
венно отдѣляетесь отъ земли, освобождаетесь отъ житейскихъ
отношеній! Эти звуки настраиваемыхъ въ оркестрѣ инстру-
ментовъ томятъ вашу душу ожиданіемъ чего-то чудеснаго,
сжимаютъ ваше сердце предчувствіемъ какого-то неизъяснимо-
сладостнаго блаженства, этотъ народъ, наполняющій огромный
амфитеатръ, раздѣляетъ ваше нетерпѣливое ожиданіе, вы сли-
496
ваетесь съ нимъ въ одномъ чувствѣ; этотъ роскошный и
великолѣпный занавѣсъ, это море огней намекаетъ вамъ о
чудесахъ и дивахъ, разсѣянныхъ по прекрасному Божію тво-
ренію и сосредоточенныхъ на тѣсномъ пространствѣ сцены!
И вотъ, грянулъ оркестръ — и душа ваша предощущаетъ
въ его звукахъ тѣ впечатлѣнія, которыя готовятся поразить
ее; и вотъ поднялся занавѣсъ — и передъ взорами вашими
разливается безконечный міръ страстей и судебъ человѣче-
скихъ! Вотъ умоляющіе вопли кроткой и любящей Дездемоны
мѣшаются съ бѣшеными воплями ревниваго Отелло; вотъ,
среди глубокой полночи, появляется леди Макбетъ, съ обна-
женной грудью, съ растрепанными волосами, и тщетно ста-
рается стереть съ своей руки кровавыя пятна, которыя мере-
щатся ей въ мукахъ мстительной совѣсти; вотъ выходитъ бѣд-
ный Гамлетъ съ его завѣтнымъ вопросомъ: „Быть или не
быть"; вотъ проходятъ передъ вами и божественный мечта-
тель Поза, и два райскіе цвѣтка—Максъ и Текла, съ ихъ не-
бесной любовью,—словомъ, весь роскошный и безграничный
міръ, созданный плодотворной фантазіей Шекспировъ, Шил-
леровъ, Гёте... Вы здѣсь живете не своей жизнью, страдаете
не своими скорбями, радуетесь не своимъ блаженствомъ,
трепещете не за свою опасность, здѣсь ваше холодное я ис-
чезаетъ въ пламеномъ эѳирѣ любви. Если васъ мучитъ тягост-
ная мысль о трудномъ подвигѣ вашей жизни и слабости ва-
шихъ силъ, вы здѣсь забудете ее; если душа ваша алкала
когда-нибудь любви и упоенія, если въ вашемъ воображеніи
мелькалъ когда-нибудь, подобно легкому видѣнію ночи, ка-
кой-то плѣнительный образъ, давно вами забытый, какъ мечта
несбыточная,—здѣсь эта жажда вспыхнетъ въ васъ съ новой,
неукротимой силой, здѣсь этотъ образъ снова явится вамъ,
и вы увидите его очи, устремленныя на васъ съ тоской и
любовью, упьетесь его обаятельнымъ дыханіемъ, содрогнетесь
отъ огненнаго прикосновенія его руки... Но возможно ли
497
Школя чтеца.
32
описать всѣ очарованія театра, всю его магическую силу надъ
душой человѣческой?.. О, ступайте, ступайте въ театръ, жи-
вите и умрите въ немъ, если можете!..
В. Бѣлинскій.
Послѣднее новоселье.
Межъ тѣмъ какъ Франція, среди рукоплесканій и кли-
ковъ радостныхъ, встрѣчаетъ хладный прахъ погибшаго давно
среди нѣмыхъ страданій въ изгнаньи мрачномъ и цѣпяхъ; межъ
тѣмъ какъ міръ услужливой хвалою вѣнчаетъ поздняго раскаянья
порывъ, и вздорная толпа, довольная собою, гордится, про-
шлое забывъ,—негодованію и чувству давъ свободу, понявъ
тщеславіе сихъ праздничныхъ заботъ, мнѣ хочется сказать
великому народу: ты жалкій и пустой народъ! Ты жалокъ
потому, что вѣра, слава, геній, все, все великое, священное
земли, съ насмѣшкой глупою ребяческихъ сомнѣній тобой
растоптано въ пыли. Изъ славы сдѣлалъ ты игрушку лице-
мѣрья, изъ вольности—орудье палача, и всѣ завѣтныя отцовскія
повѣрья ты имъ рубилъ, рубилъ съ плеча; ты погибалъ! И онъ
явился—съ строгимъ взоромъ, отмѣченный божественнымъ пер-
стомъ и, признанъ за вождя всеобщимъ приговоромъ, и ваша
жизнь слилася въ немъ. И вы окрѣпли вновь въ тѣни его держа-
вы, и міръ, трепещущій въ безмолвіи, взиралъ на ризу чудную
могущества и славы, которой васъ онъ одѣвалъ. Одинъ—онъ
былъ вездѣ, холодный, неизмѣнный, отецъ сѣдыхъ дружинъ,
любимый сынъ молвы, въ степяхъ египетскихъ, у стѣнъ по-
корной Вѣны, въ снѣгахъ пылающей Москвы. А вы что дѣ-
лали, скажите, въ это время? Когда въ поляхъ чужихъ онъ
гордо погибалъ, вы потрясали власть избранную, какъ бремя,
точили въ темнотѣ кинжалъ! Среди послѣднихъ битвъ, от-
чаянныхъ усилій, въ испугѣ не понявъ позора своего, какъ
женщина ему вы измѣнили, и, какъ рабы, вы предали его.
498
Лишенный правъ и мѣста гражданина, разбитый свой
вѣнецъ онъ снялъ и бросилъ самъ, и вамъ оставилъ онь вь
залогъ родного сына — вы сына выдали врагамъ! Тогда, отя-
готивъ позорными цѣпями, героя увели отъ плачущихъ дру-
жинъ, и на чужой скалѣ, за синими морями, забытый онъ
угасъ одинъ—одинъ, замученъ мщеніемъ безплоднымъ, без-
молвною и гордою тоской И, какъ простой солдатъ, въ плащіз
своемъ походномъ зарыть наемною рукой...
Но годы протекли, и вѣтренное племя кричитъ: „По-
дайте намъ священный этотъ прахъ! Онъ нашъ! Его теперь,
великой жатвы сѣмя, зароемъ мы въ спасенныхъ имъ стѣнахъ!"
И возвратился онъ на родину.—Безумно, какъ прежде, вкругъ
него тѣснятся и бѣгутъ и въ пышный гробъ, среди столицы
шумной, останки тлѣнные кладутъ. Желанье позднее увѣнчано
успѣхомъ! И краткій свой восторгъ смѣнивъ уже другимъ,
гуляя, топчетъ ихъ самодовольнымъ смѣхомъ толпа, дрожав-
шая предъ нимъ! И грустно мнѣ, когда подумаю, что нынѣ
нарушена святая тишина вокругъ того, кто ждалъ въ своей
пустынѣ такъ жадно, столько лѣтъ — спокойствія и сна. И
если духъ вождя примчится на свиданье съ гробницей новою,
гдѣ прахъ его лежитъ, какое въ немъ негодованье при этомъ
видѣ закипитъ! Какъ будетъ онъ жалѣть, печалію томимый,
о знойномъ островѣ подъ небомъ дальнихъ странъ, гдѣ сторо-
жилъ его, какъ онъ, непобѣдимый, какъ онъ, великій океанъ.
М. Лермонтовъ.
Слово надгробное.
(Отрывокъ. Февраля 4 дня 1826 г.)
О Боже! такъ ли неумолимъ гнѣвъ Твой? Царь, не
только благочестивый, но и безпримѣрный въ благочестіи,
царь, который сотвори правое предъ очима Го-
499
32*
споднима, царь, который старался не только подвластную
ему Іудею, но и всю землю Израилеву очистить отъ идоло-
служенія и просвѣтить богослуженіемъ истиннымъ, который,
какъ скоро узналъ книгу Закона Божія, немедленно принесъ
предъ нею покаяніе въ беззаконіяхъ своего народа, и съ
тѣхъ поръ не преставалъ быть ея ученикомъ, исполнителемъ,
защитникомъ, проповѣдникомъ, такой царь, съ такимъ серд-
цемъ и душою, не могъ отвратить Господа отъ ярости гнѣва
Его великаго; но гнѣвъ сей открылся раннею и внезапною
смертію сею самого царя—Іосіи.
О Боже! такъ ли неумолимъ гнѣвъ Твой?
Не позналъ іудейскій народъ цѣны сокровища, которое
имѣлъ въ царѣ своемъ Іосіи, не позналъ, когда имѣлъ, и не
воспользовался симъ сокровищемъ. Весь Іуда и Іеруса-
лимъ плакаша о Іосіи, и Іеремія возрыда по
Іосіи. И глаголаша еси князи и княгини: плачь
по Іосіи. Ахъ, поздно большая часть изъ нихъ плакали по
Іосіи, вмѣсто того, чтобы прежде усерднѣе плакать вмѣстѣ
съ Іосіею, когда сердце его сокрушалось покаяніемъ и сми-
рялось предъ грознымъ судомъ Божіемъ, когда онъ плакалъ
предъ Богомъ и былъ услышанъ. Іеремія, безъ сомнѣнія,
лучше всѣхъ зналъ, почему рыдалъ, когда другіе только пла-
кали: онъ рыдалъ удвоеннымъ плачемъ, плачемъ о лишеніи
царя, и плачемъ о позднемъ плачѣ народа.
Но намъ теперь говорить ли о великомъ сокровищѣ? Опла-
кивать ли великую потерю? Говорить ли отъ избытка сердца
печальнаго? или молчать отъ недостатка слова достойнаго?
Дайте мнѣ слово, или научите меня молчанію. Не умѣю го-
ворить, безмолвствовать не умѣю. Отрекаюсь отъ необъят-
наго подвига хвалить Александра уже Благословеннаго: но
нельзя удержаться отъ печальнаго предъ Церковію размыш-
ленія и слова о царѣ, который, подобно какъ Іосія, до-
стоинъ, чтобы по немъ рыдали пророки.
500
Представьте себѣ человѣка, который стоитъ надъ пото-
комъ, и видитъ, какъ его сокровище низвергается въ глубину.
Касаясь водъ, оно производитъ звукъ и рождаетъ круги,
одинъ другого пространнѣйшіе: но въ то же мгновеніе скры-
вается въ глубинѣ, и только трепетаніе водъ остается при-
мѣтнымъ зрителю. Подобно сему, кто можетъ созерцать, пусть
станетъ теперь надъ потокомъ временъ, надъ водами наро-
довъ, какъ изъясняется языкъ пророческій. Смотри, какъ драго-
цѣнная жизнь явилась; подвигла своею силою народы; наполнила
своею дѣятельностью многочисленные круги, одинъ другого про-
страннѣйшіе; произвела громкіе звуки славы: но вдругъ она
погрузилась въ вѣчность, и одно трепетное движеніе грозной
нечаянности простерлось по всѣмъ извѣстнымъ народамъ.
Александръ еще въ колыбели—радость и надежда отече-
ства, Александръ, въ порфирородномъ семействѣ — утѣха и
любовь, Александръ въ началѣ вѣка на престолѣ,— какъ
солнце на востокѣ, Александръ въ Россіи — отецъ народа,
спаситель имперіи, Александръ въ Европѣ—возстановитель
царей, примиритель царствъ, душа царственныхъ совѣтовъ
Европы, Александръ въ Царствіи Божіемъ—избранное орудіе
Царя Христа, чтобы торжественно утѣшить и возвеличить
христіанство тамъ, гдѣ оно торжественно было цѣлымъ на-
родомъ отвержено и поругано, плотоносный архистратигъ
небесныхъ на землѣ силъ, побѣждающій небеснымъ оружіемъ,
кровію Агнца, кротостью и смиреніемъ. Какіе свѣтлые виды!
какіе величественные образы! Но какъ внезапно всѣ очи за-
крываются одною мрачною чертою: Александръ во гробѣ!
Филаретъ, митрополитъ московскій.
501
Конецъ защитительной рпьчи по діьлу
Н. Е. Максименко.
Правосудіе — вовсе не путь, которымъ, какъ жребіемъ,
выдѣляется изъ общества жертва возмездія за совершившійся
грѣхъ, очищеніе лежащаго на обществѣ подозрѣнія.
Правосудіе нашихъ дней есть всестороннее изысканіе
дѣйствительнаго виновника, какъ единственнаго лица, подле-
жащаго заслуженной казни. Вы являетесь въ этой работѣ
лицами, содѣйствующими отъ общества законной власти,
поставленной на страхъ злодѣямъ, на защиту неповинныхъ.
Являясь сюда, вы несете не безпринципную власть народную
карать или миловать,—страшно было бы жить тамъ, гдѣ суды
по произволу убивали бы неповинныхъ и провозглашали
бы дозволительность и безнаказанность злодѣяній самихъ
въ себѣ.
Только въ этомъ случаѣ были бы правы ваши пори-
цатели.
Но если вы принесли сюда здравое пониманіе вашего
положенія, положенія людей, исполняющихъ повинность го-
сударству, тогда не опасайтесь ничего, кромѣ неправды, въ
вашемъ приговорѣ.
Если вы будете требовательны къ доказательствамъ обви-
ненія, если трусливость передъ тѣмъ, что скажутъ о васъ,
не заставитъ васъ унизиться до устраненія разсудительности
въ вашемъ рѣшеніи,—вы только исполните вашу миссію.
И вотъ, въ глубоко гуманной заботѣ о неприкосновен-
ности человѣческой личности, прежде чѣмъ слово обвиненія
перейдетъ въ слово осужденія, передъ вами предстатель-
ствуемъ мы, предстательствуемъ не напрасно и не вопреки
интересамъ закона, а во имя его. Если обвиненіе есть дѣло
502
высокой государственной важности, то защита есть исполне-
ніе божественнаго требованія, предъявляемаго къ человѣче-
скимъ учрежденіямъ.
Но и этимъ не ограничивается забота законодателя о
чистотѣ и достоинствѣ судебнаго приговора.
Чтобы органы власти не впадали въ невольныя ошибки,
тяжело отражающіяся на участи личностей, привлеченныхъ къ
суду, имъ предписано провѣрять ихъ окончательные выводы
путемъ, исключающимъ ошибки въ сторону осужденія невин-
наго почти до невозможности противнаго.
На судъ призываетесь вы, люди жизни, не заинтересо-
ванные въ дѣлѣ иными интересами, кромѣ интересовъ обще-
человѣческой правды, и васъ спрашиваютъ о томъ, произ-
водитъ ли общая сумма судебнаго матеріала на васъ то же
впечатлѣніе, какое произвела на органы власти. Если да, то
власть успокоивается на томъ, что ею сдѣлано все, и выводы
ея суть тѣ же, какіе сами напрашиваются на умъ всякаго
честнаго человѣка; если нѣтъ, то власть считаетъ, что сомнѣ-
ніе существуетъ, и не рѣшается дать ходъ карающему при-
говору.
Останьтесь вѣрны этому призванію вашему: не умаляйте
силы уликъ, но и не преувеличивайте ихъ, — вотъ о чемъ я
васъ прошу. Не преувеличивайте силу человѣческихъ способ-
ностей въ изысканіи разгадки, если таинственныя условія
дѣла не поддаются спокойной и ясной оцѣнкѣ, но оставляютъ
сомнѣнія, неустранимыя никакими выкладками. Тогда, какъ
бы ни понравилось ваше рѣшеніе тѣмъ больнымъ умамъ,
которые ищутъ всякаго случая похулить вашу работу, вы
скажете намъ, что вина подсудимой не доказана.
Если вы спросите меня: убѣжденъ ли я въ ея невинности,
я не скажу: да, убѣжденъ. Я лгать не хочу.
Но я не убѣжденъ и въ ея виновности. Тайны своей
она не повѣрила, ибо иначе, повѣрь она намъ ее, и будь эта
503
тайна ужасна, какъ бы ни замалчивали мы ее, она прорвалась
бы вопреки нашей волѣ, если бы мы и подавили въ себѣ
основныя требованія природы и долга.
Я и не говорю о винѣ или невиновности; я говорю о
неизвѣстности отвѣта на роковой вопросъ дѣла.
Не наша и не обвинителя эта вина. Не все доступно че-
ловѣческимъ усиліямъ.
Но если нѣтъ средствъ успокоиться на какомъ-либо
отвѣтѣ, успокоиться такъ, чтобы никогда серьезное и основа-
тельное сомнѣніе не тревожило вашей судейской совѣсти,
то и по началамъ закона и по требованію высшей справед-
ливости, вы не должны осуждать привлеченную или обоихъ,
если все сказанное равно относится и къ нему.
Когда надо выбирать между жизнью и смертію, то всѣ
сомнѣнія должны рѣшаться въ пользу жизни.
Таково велѣніе закона и такова моя просьба.
Ѳ. Плевако.
504
ѵлфавитный указатель произведеній по отдѣлалъ.
ОТДЪЛЪ I.
Матеріалъ для логическаго тонированія рѣчи.
Стр.
Алеша Поповичъ. Народная был. 73
Бобы разводить. С. Максимова. 81
Василій Буслаевичъ. Народная
Стр9
былина.........................77
Введеніе въ первый отд. О. Оза-
ровской.........................9
Волхъ Всеславьевпчъ. Народная
былина.........................59
Вольга Святославговичъ и
Минула Селяниновичъ. Народная
былина.........................64
Глинка. В. Каратыгина. ... 48
Голубей гонять. С. Максимова. 82
Два типа писателей. Н. Гоголя. 99
Декламація въ ряду другихъ ис-
кусствъ. ІО. Озаровскаго. . . 37
Дума. М. Лермонтовъ. . . . 101
Илья Муромецъ и Соловей раз-
бойникъ. Народная былина. . 69
Итальянская живопись. А. Бенуа. 44
Литературныя мечтанія. В. Бѣ-
линскаго........................57
Мужики срловскіе и калужскіе.
И. Тургенева ...... 96
Отрывки изъ Иліады Гомера. II.
Гнѣдича........................
Споръ Агамемнона съ Ахил-
лесомъ ......................13
Пиръ у Зевса................18
Свиданіе Гектора съ Андрома-
хой ...........................20
Разысканіе логическаго ударенія.
И. Смоленскаго ................33
Садъ Илюшкина. II. Гоголя . . 97
Святогоръ. Народная былина. . 59
Синицъ ловить . С. Максимова. 92
Старосвѣтскіе помѣщики. II. Го-
голя. .........................98
Чудесное исцѣленіе Ильи Му-
ромца. Народная былина. . . 68
ОТДЪЛЪ II.
Матеріалъ для развитія художественной фантазіи.
Стр.
Бѣжишь лугъ. И. Тургеневъ. . 107
Балетка. И. Тургеневъ............138
Введеніе во второй отдѣлъ. О. Оза-
ровская........................105
Весенняя гроза. Ѳ. Тютчевъ. . .112
Весна. Пушкинъ. .................119
Вечеръ. И. Аксаковъ..............111
Вырубка лѣса. 11. Некрасовъ. . 114
Стр.
Вячеславъ Илларіоновичъ Хвалын-
скѣ. И. Тургеневъ.............140
Гдѣ сладкій шопотъ. Е. Баратын-
скій..........................107
Гроза. И. Тургеневъ. » . . . .113
Живыя мощи. И. Тургеневъ. . .117
Зимнее утро. Пушкинъ. . . .118
Кавказъ. М. Лермонтовъ. . .132
505
Стр.
Стр*.
Кавказъ. Пушкинъ.................131
Клавикорды. А. Жиро. Эллисъ. 137
Колотовка. И. Тургеневъ. . . .124
Контора. И. Тургеневъ............120
Лондонъ утромъ. Оскаръ Уайльдъ. 128
Лѣсъ. И. Тургеневъ...............115
Лѣтнія картинки. К. Фофановъ. . 118
Мальчикъ съ пальчикъ. В. Жу-
ковскій.......................119
Па вырубѣ. И. Тургеневъ. . . .111
Поѣздка въ усадьбу. II. Тургеневъ. 123
Псковитянка. Л. Мей. . . . 129
Пустыня. Д. Патмановъ . . .125
Родная картинка. К. Бальмонтъ. 131
Роща осенью. И. Тургеневъ. . . 109
Русалка. К. Бальмонтъ. . . . 130
Рыцарь на часъ (отрыв.). Н. Не-
красовъ......................108
Свиданіе. И. Тургеневъ...........116
Старые часы. К. Фофановъ. . . .134
Три пальмы. М. Лермонтовъ. . .126
Фонтаны. Ж. Роденбахъ. Эллисъ. 135
Цѣнители искусствъ. И. Тургеневъ. 139
Ярмарка. И. Тургеневъ. . . .121
отдълъ ш.
Матеріалъ для развитія темперамента.’
Стр.
Будемъ какъ солнце. К. Бальмонта. 186
Буревѣстникъ. Максима Горькаго. 154
Бѣгомъ. Беранже. В. Курочкина. . 192
Введеніе въ третій отдѣлъ. О. Оза-
ровской.........................145
Вихрь. Л. Мея...................148
Желаніе. М. Лермонтова. . . .185
Изъ «Монологовъ». И. Огарева. . 155
Исаія, гл. 60. И. Тхоржевскаго. . 169
Кинжалъ. Валерія Брюсова. . .172
Колокольчики и колокола. Эдгара
Поэ. К. Бальмонта. . . .150
Коль любить. Гр. А. К. Толстого. 184
Леда. Д. Мережковскаго. . . .179
Люблю глаза твои. О. Тютчева. . 181
Море. П. Вейнберга..............153
Море. В. Жуковскаго.............117
На санкахъ съ горъ. Саши Чернаго 190
На смерть Пушкина. М. Лермон-
това........................165
Нимфы. Ю. Верховскаго .... 178
Ода солнцу. Ростана Т. Щепкиной-
Ку перчикъ..................187
Пловецъ. П. Языкова.............150
Плясея. Н. Клюева...............188
Стр.
По прочтеніи Байронова Каина.
Приписывается Пушкину . .177
Послѣдняя жертва. II. Якубовича. 163
Похоронный звонъ. Ивана Жиль-
кэна. Эллисъ................158
Проклятіе художника. Его же.
С. Головачевскаго...........169
Прологъ. Г. Гейне. М. Михайлова. 182
Прометей. И. Огарева............171
Пророкъ. И. Аксакова............156
Пророкъ. Пушкина................170
Пророкъ Исаія. Д. Мережковскаго. 167
Рабъ. В. Брюсова. . . . '. . . 180
Россіи. А. Хомякова.............166
Собачій пиръ. Барбье. В. Бенидик-
това........................173
Свободное слово. К. Аксакова. . 185
Тарантелла. А. Майкова. . . . 194
Торжество смерти. А. Голенищева-
Кутузова ...................162
Трепакъ. А. Голенищева-Кутузова. 160
Тройка. П. Гоголя...............191
У Аспазіи. Я. Полонскаго. . . .183
Узникъ. Пушкина.................190
Чортовы качели. О. Сологуба. . . 189
ОТДЪЛЪ IV.
Матеріалъ для выработки цѣльности настроенія.
Стр.
Башня любви. Валерія Брюсова. 233
Благовѣщенье въ Москвѣ. К. Баль-
монта.........................201
Болотныя лиліи. К. Бальмонта. 215
Болото. К. Бальмонта.........249
Стр.
Борзая. Ивана Жилькэна. С. Голо-
вачевскаго .............225
Введеніе въ четвертый отдѣлъ.
О. Озаровской....... 199
Весенній дождь. К. Фофанова . . 204
506
Стр.
Второй отрывокъ изъ «Папа». К.
Гамсуна......................228
Въ голубой далекой спаленкѣ.
Александра Блока...........248
Въ златотканные дни сентября.
И. Клюева..................212
Въ полѣ не видно ни зги. Ѳедора
Сологуба...................251
Въ просинь водъ заглядѣлися ивы.
Н. Клюева..................252
Вѣстники весны. С. Фру га . . . 203
Даръ напрасный, даръ случайный.
Пушкина....................245
Двѣ молитвы жены человѣка. Лео-
нида Андреева..............253
Дождь. Саши Чернаго.........213
Еврейская мелодія. Байрона. М.
Лермонтова..............246
Зеленый шумъ. Н. Некрасова. . . 234
Зимняя дорога. Пушкина . . . 243
Злая ночь. К. Бальмонта . . . 250
Какая ночь. А. Фета.........208
Какъ хороши, какъ свѣжи были
розы. И. Тургенева.........256
Камыши. К. Бальмонта. . . .215
Когда нянюшка бывало. С. Потре-
сова.......................211
Колыбельная. Ѳедора Сологуба. . 208
Кольцо. К. Гамсуна. С. Полякова. 231
Кончено. А. Жемчужникова. . . 254
Косогоры, низины, болота. Н.
Клюева....................214
Красная лилія. В. Михѣева. . . 226
Къ родинѣ. II. Клюева.........239
Листья. Ѳ. Тютчева............205
Лѣсная быль. II. Клюева. . . . 240
Любви начало было лѣтомъ. Н.
Клюева....................219
Люблю блуждать я надъ трясиной.
Ѳедора Сологуба.............246
Минувшіе дни. Шелли. К Баль-
монта......................245
Стр.
Мнѣ все равно. К. Фофанова. . 211
Мнѣ сказали что ты умерла.
II. Клюева.................214
Па пѣсню, па сказку разсудокъ
молчитъ. П. Клюева, .’ . .217
На юбилей Фета. II. Аксакова. . 202
Не остывшая отъ зною. Ѳ. Тютчева. 217
Не думала ли ты. Д. Мережков-
скаго ..................... . . 224
Незнакомка. Александра Блока . 218
Несжатая полоса. Н. Некрасова . 213
Ночью. Александра Блока . . .216
Нѣтъ больше пѣсенъ. Беранже.
В. Курочкина................242
Ожиданіе. II. Клюева............236
Плачъ вдовы. ВопленницыОлон.губ. 255
Первый отрывокъ изъ «Пана».
Кнута Гамсуна..............226
Погасло дневное свѣтило. Пуш-
кина........................220
Пѣвучей думой обуянъ. II. Клюева. 252
Пѣвцы. И. Тургенева.............209
Пѣснь погибающаго пловца.
А. Полежаева................258
Пятнадцать пѣсенъ. М. Метерлин-
ка. О. Чюминой..............221
Разувѣреніе. Е. Баратынскаго. . 224
Зііепііиш. Ф. Тютчева...........229
Снѣжинка. К. Бальмонта. . . . 201
Сосна. Гейне. М. Лермонтова. . 214
Степь (отрывокъ). А. Чехова. . . 236
Странное сказаніе. К. Гамсуна.
М. Благовѣщенской .... 230
Сѣверная береза. И. Бунина. . . 206
Театръ одной воли. Ѳедора Соло-
губа.......... 259
У земли. Валерія Брюсова . . . 247
У меня для тебя. В. Гофмана. . . 233
У царицы моей. В. Соловьева. . . 203
Фантазія. А. Фета...............207
Хандра. II. Огарева.............244
Часы. Гр. А. П. Толстого. . . . 249
ОТДЪЛЪ V.
Матеріалъ для созданія художественныхъ образовъ.
Стр.
Алеша Поповичъ. Гр. А. К. Тол-
стого ......... 276
Бахчисарайскій фонтанъ. Ж. Пуш-
кина ......................289
Бурлакъ. М. И. Никитина •. . . 340
Василій Шибановъ. М. Гр. А. К.
Толстого...................328
Стр.
Введеніе въ пятый отдѣлъ. О. Оза-
ровской......... 263
Воительница. Ж. II. Лѣскова . . 320
Волкъ и ягненокъ. М. II. Крылова. 362
Ворона и курица. Ж. И. Крылова. 30 «
Ворона и лисица. Ж. И. Крылова. 308
Выѣздъ ямщика М. II. Никитина. 345
507
Стр.
Стр.
Гусаръ. М. Пушкина.............350
Два голубя. Ж. И. Крылова. . . 306
Двѣ дѣвочки и песокъ. Ж Ѳедора
Сологуба....................313
Двѣ собаки. М. И. Крылова. . . 361
Демьянова уха. М. Его же.. . . 364
Древне-шотландская баллада. II.
Гелыиерта...................268
Жена ямщика. Ж. И. Никитина . 297
Живыя мощи (второй отрывокъ).
Ж. И. Тургенева............291
Жизнь. Н. Гоголя................265
Загадочная натура. Ж. А. Чехова. 317
Илья Муромецъ. М. Гр. А. К. Тол-
стого ......................332
Казимиръ Великій. М. Я. Полон-
скаго ......................336
Котъ и поваръ. М. И. Крылова. . 357
Крылья. Ж. Ѳедора Сологуба. . 314
Кукушка и горлинка. Ж. Іі. Кры-
лова........................312
Кукушкинъ флиртъ. Ж. Ѳедора
Сологуба....................317
Лжецъ. М. II. Крылова. . . . 359
Любопытный. М. Его же. . . . 363
Моръ звѣрей. М. Его же. . . . 354
Муха и пчела. Ж. Его же. . . .310
Обломовъ и Захаръ. М И. Гонча-
рова........................372
Одежды лиліи и капустныя одеж-
ки. Ж. Ѳедора Сологуба . .316
Оселъ и соловей. М. И. Крылова. 356
Отвѣтъ Татьяны. Ж. Пушкина. . 295
Отповѣдь Онѣгина. М. Его же. . 333
Охотникъ. М. Грснэ-Данкура.
А. Плещева.................368
Петрушко. М. М. Пришвина. . 349
Письмо Онѣгина. М. Пушкина. 334
Письмо Татьяны. Ж. Его же. . 293
Просительница. Ж. О. Озаровской. 325
Разговоръ въ дубравѣ. Г. Гейне.
А. Плещеева................269
Разсказъ Нелли. Ж. Ѳ. Достоев-
скаго..........................
Разсказъ ямщика. М. И. Никитина 347
Сказка весны. К. Фофанова. . . 270
Слѣпая мать. Ж. Беранже. В. Ку-
рочкина ...................301
Собачья дружба. М. II. Крылова. ЗГ8
Споръ о согласіи. М. М. Приш-
вина.......................365
Ссора. М. II. Никитина. . . . 343
Старая пѣсенка. Ж. К. Бальмонта. 296
Стрекоза и муравей. Ж. П. Кры-
лова.......................311
Стрѣлокъ и поселянка. Беранже.
В. Курочкина...............279
То, чего не было. В. Гаршина. . 280
Третій мужъ. Ж. Беранже. В.
Курочкина..................301
Три души. С. Фру за............274
Трясогузка. Ж. В. Величко. . . 304
У гробовщика. М. Фрейлигра-
та. М. М....................340
У стѣнъ града Невидимаго. Ж.
М. Пришвина................299
Я гляжу сижу подъ окошечкомъ.
Народная пѣсня.............285
ОТДЪЛЪ VI.
Матеріалъ для выработки сатирическаго тона.
Стр.
Борьба за существованіе. П. Шу-
Стр.
махера.....................407
Введеніе въ шестой отдѣлъ. Ѳ.
Озаровской..................383
Въ прусскомъ вагонѣ. II. Добролю-
бова........................392
Добрый знакомый. Беранже. В.
Курочкина..................413
Добрая фея. Его же..............392
Изъ моихъ замѣтокъ. П. Шумахера. 404
Карась-идеалистъ. М. Щедрина. . 418
Культурная работа. Саши Чернаго. 398
Любовь не картошка. Его оіее. . 415
На могилахъ. Его же............403
На Рейнѣ. Его же................401
Перелетныя птицы. Жана Ришпена.
А. Барыковой.................387
Россійская идиллія. II. Шумахера. 406
Россійскій туристъ. Его же. . .411
Санъ-Яго. В. Крестовскаго. . . 408
Свобода, равенство и братство. П.
Шумахера....................405
Страшная исторія. Саши Чернаго. 399
1861 годъ. В. Курочкина. . . 395
1909 годъ. Саши Чернаго . . . 397
Утренняя молитва. Ивана Жилъкэна
С. Головачевскаго............385
Ѳедорушка. Гр. А. К. Толстого. 390
508
Стр.
У пристани. Г. Гейне. М. Михай-
лова......................393
Усы. Душкина..................417
Стр.
Человѣчекъ. К. Бальмонта. . . 385
Школа взаимнаго обученія. В. Ку-
рочкина . . . . . . . . 409
ОТДЪЛЪ VII.
Матеріалъ для выработки чувства стиля.
Стр.
Ахтамаръ. Ов. Ту маньяка. К. Баль-
монта.......................461
Баб чка. А. Фета...............452
Бѣсы. А. Пушкина...............444
Введеніе. О. Ѳзаровской........431
Вельможа. И. Крылова. . . .451
Вербочки. Алексндра Блока. . . 452
Веселая голова. Народная пѣсня
Олон°цк. губ...............473
Весенняя пѣсенка. С. Городецкаго. 477
Глаза. Ѳедора Сологуба. . . . 434
Гребень. И. Крылова............448
Джинны. В. Гюго. П. II. . . . 441
Жены султана. Маріэтты ПІаги-
нялъ........................465
Изъ Александрійскихъ пѣсеиъ. М.
Кузьмина.....................
Какъ носорогъ получилъ свою кожу.
Р. Киплинга.................436
Карменсита. Съ испанскаго, перев.
зКеботинскаго...............466
Клятва лэди Норы. Р. Бернса. О.
Чюминой....................458
Кого мнѣ, младешенькѣ, лучше лю-
бить. Народная..............474
Кочетъ и курица. То эісе. . .435
Лампа и спички. Ѳедора Сологуба. 433
Лисица и виноградъ. И. Крылова. 449
Палочка - выручалочка. Валерія '
Брюсова....................452
Стр.
Пожелтѣвшій березовый листъ,
капля и нижнее небо. Ѳедора
Сологуба....................433
Полнолуніе. Маріэтты Шагинянъ. 464
Посадская. Н. Клюева............475
Прозерпина. Пушкина.............468
Пѣсенки. Ѳедора Сологуба. . . . 435
Пѣсня о Соколѣ и трехъ птицахъ
Божіихъ. П. Клюева. . . ,478
Пятнадцать лѣтъ. ІО. Верховскаго. 470
Разборчивая невѣста. И. Крылова. 446
Рекрутская. II. Клюева. . . .476
Русалка. Л. Мея. ...............438
Ручей. А. Цатуріана. К Бальмонта 462
Сватовство. Р. Бернса. О. Чюминой. 460
Сказаніе о разбойникѣ. Валерія
Брюсова.....................481
Слава Богу, я живъ и здоровъ. Бе-
ранже. В. Курочкина. . .456
Слива. А. Додэ. А. Вигилянскаго. 454
Солнце, солнце... М. Кузьмина. 468
Утренняя звѣзда. Вячеслава Ива-
нова .............. 4 . . . 470
Фантазія. К. Бальмонта. . . .440
Финдляй. Р. Бернса. В. Костома-
рова.....................459
Фонарики. II. Мятлева. . . . 453
Рогіипаіа. А. Майкова. . . . 467
Цвѣты. И. Крылова...........450
Чеченка. Маріэтты Шагинянъ. 463
ОТДЪЛЪ VIII.
О р а т о
Стр.
р С к і й.
Введеніе въ восьмой отдѣлъ. О. Оза-
ровской.........................485
Вечеръ Гофмансталя. О. Сологуба. 490
Восходящая Альдонса. Его эісе. . 487
Вражда и дружба стихій. Его же. 493
Конецъ защитительной рѣчи по
дѣлу А. Е. Максименко. Ѳ.
Плевако.....................502
Стр.
Къ всероссійскому торжеству. Ѳ.
Сологуба................... 491
Любите ли вы театръ. В. Бѣлин-
скаго.........................496
Послѣднее новоселье. М. Лермон-
това..........................498
Слово надгробное. Филарета, ми-
трополита московскаго. . .499
509
Алфавитный уназатвль русскихъ н ииастранныхъ авторовъ.
Русскіе авторы.
Отд. Стр. Отд. Стр.
А. Незнакомка .... IV 218?
Аксаковъ, И. Ночью IV 216
Вечеръ II 111 Брюсовъ, Валерій.
Пророкъ III 156 Вишня любви. . . . IV 233
Аксаковъ. К. Кинжалъ III 172
Сыюодное слово. . . III 185 Палочка выручалочка. VII 452
Аксаковъ, Н. Рабъ III 180
На юбилей Фета. . . IV 202 Сказаніе о разбойникѣ. VII 481
Андреевъ, Леонидъ. У земли IV 247
Двъ молитвы жены че- Бунинъ, И.
ловѣка IV 253 Сѣверная береза. . . IV 206
Бѣлинскій, В.
г» Литературныя мечта-
ь. нія I 57
Бальмонтъ, К. Любите ли вы театръ. VIII 496
Ьлаі овѣщенье въ Мо-
сквѣ IV 201
Болотныя лиліи. . . IV 215 В.
Болото IV 249 Вейнбѳргъ, П.
Будемъ какъ солнце. . III 186 Море III 153
Злая ночь IV 250 Величко, В.
Камыши IV 215 Трясогузка. Ж. . . . V 304
Родная картина . . . II 131 Верховскій, Юр.
Русрлка II 130 Нимфы III 178
Снѣжинка IV 201 Пятнадцать лѣтъ. . . VII 470
Старая пѣсенка. . . V 296
Фантазія VII 440
Челлвѣчекъ VI 385 Г.
Баратынскій, Е. Гаршинъ, В.
ідъ сладкій шопотъ. . II 107 То, чего не было. , . V 280
Разувѣреніе IV 224 Гоголь, Н.
Бенуа, А. Два типа писателей. . I 99
Итальянская живопись I 44 Жизнь V 265
Блокъ, Александръ. Садъ Плюшкина. . . I 97
Вороочки VII 452 Старосвѣтскіе помѣщи-
Въ голубой далекой ки I 98
спаленкѣ IV 248 Тройка III 191
510
Отд. Стр.
Отд. Стр.
Голенищевъ-Кутузовъ, А.
Трепакъ.............III 160
Торжество смерти. . . III 162
Гончаровъ, И.
Обломовъ и Захаръ. . V 372
Городецкій, С.
Весен ня пѣсенка. . . III 477
Горькій, Максимъ.
Буревѣстникъ. . . . III 154
Гофманъ, В.
У меня для тебя столь-
ко ласковыхъ словъ. IV 233
д.
Добролюбовъ, Н.
Въ прусскомъ вагонѣ. VI 392
Достоевскій, Ѳ.
Разсказъ Нелли. Ж. . V 287
Е.
Жемчужниковъ, А.
Кончено.................IV 254
Жуковскій, В.
Мальчикъ съ пальчикъ. II 119
Море....................III 147
И.
Ивановъ, Вячеславъ.
Утренняя звѣзда. . .VII 470
К.
Каратыгинъ, В.
Глинка...................... I 48
Клюевъ, Н.
Въ златотканные дни
сентября................IV 212
Въ просинь водъ загля-
дѣлися ивы. . . . IV 252
Косогоры, низины, бо-
лота................... IV 214
Къ родинѣ...............IV 239
Лѣсная быль. ... IV 240
Любви начало было лѣ-
томъ................... IV 219
Мнѣ сказали, что ты
умерла..................IV 214
На пѣсню, па сказку
разсудокъ молчитъ. IV 217
Ожиданіе................IV 236
Плясея.................III 188
Посадская..............VII 475
Пѣвучей думой обуянъ. IV 252
Пѣсня о Соколѣ и трехъ
птицахъ Божіихъ. . VII 478
Рекрутская.............VII 476
Крестовскій, В.
Санъ-иго................VI 408
Крыловъ, И.
Вельможа...............VII 451
Волкъ и ягненокъ. . . V 362
Ворона и курица. . . V 309
Воропа и лисица. . . V 308
Гребень................VII 448
Два голубя.............. V 306
Двѣ собаки.............. V 361
Демьянова уха. ... V 364
Котъ и поваръ. ... V 357
Кукушка и горлинка. . V 312
Лжецъ................... V 359
Лисица и виноградъ. . VII 449
Любопытный. ... V 363
Моръ звѣрей. ... V 354
Муха и пчела. ... V 310
Оселъ и соловей. . . V 356
Разборчивая невѣста. VII 446
Собачья дружба. . . V 358
Стрекоза и муравей. . V 311
Цвѣты..................VII 450
М. Кузьминъ,
Изъ Александрійскихъ
пѣсенъ.................VII 471
Солнце, солице.......VII 468
Курочкинъ, В.
1861....................VI 395
Школа взаимнаго об-
ученія..................VI 409
Л.
Лермонтовъ, М.
Дума.................... I 101
Желаніе................III 185
Кавказъ................ II 132
Па смерть Пушкина. . III 165
Послѣднее новоселье. VIII 498
Три пальмы............. II 126
Лѣсковъ, Н.
Воительница. ... V 320
М.
Майковъ, А.
Тарантелла..............III 194
Рогіипаіа...............VII 467
Максимовъ, С.
Бобы разводить. . . I 81
511
Отд.
Стр.
Голубей гонять.
Синицъ ловить. .
Мей, Л.
Вихорь. . . .
Псковитянка.
Русалка. .
Мережковскій, Д.
Леда...........
Не думала ли ты.
Пророкъ Исаія. .
Михѣевъ, В.
Красная лилія. .
Мятлевъ, И.
Фонарики. . .
Н.
Народныя произведенія.
Былины..............
Веселая голова, широ-
кая борода. . . .
Кого мнѣ, младешень-
кѣ, лучше любить.
Кочетъ и курица. . .
Плачъ вдовы. . . .
Я гляжу, сижу подъ
окошечкомъ . . .
Некрасовъ, Н.
Вырубка лѣса. . . .
Зеленый шумъ. . . .
Несжатая полоса. . .
Рыцарь на часъ. . . .
Никитинъ, И.
Бурлакъ.............
Выѣздъ ямщика. М. .
Жена ямщика. Ж. . .
Разсказъ ямщика. М. .
1 сора..............
О.
Огаревъ, Н.
Изъ «монологовъ». . .
Прометей.............
Хандра...............
Озаровская, 0.
Введеніе въ первый от-
дѣлъ..................
Введеніе во второй от-
дѣлъ..................
Введеніе въ третій от-
дѣлъ..................
Введеніе въ четвертый
отдѣлъ................
III 155
III 171
IV 244
I 9
II 105
III 145
IV 199
Отд. Стр.
82
I 92
III 148
11 129
VII 438
III 179
IV 224
III 167
I 226
VII 453
Введеніе въ пятый от-
дѣлъ.................
Введеніе въ шестой от-
дѣлъ.................
Введеніе въ седьмой от-
дѣлъ.................
Введеніе въ восьмой от-
дѣлъ.................
Просительница. . . .
Озаровскій, Юр.
Декламація въ ряду
другихъ искусствъ. .
п
I 59-81
VII 473
VII 474
VII 435
I 253
V 285
II 114
IV 234
IV 213
II 108
V 340
V 345
V 297
V 347
V 343
Паткановъ, Д.
Пустыня..............
Плевако, Ѳ.
Конецъ защитительной
рѣчи по дѣлу А. Е.
Максименко . . .
Полежаевъ, А.
Пѣснь погибающаго
пловца..............
Полонскій, Я.
У Аспазіи............
Казимиръ Великій.
Потресовъ, С.
Когда нянюшка быва-
ло..................
Пришвинъ, М.
Петрушки.. , . . .
Споръ о согласіи. . .
У стѣнъ града невиди-
маго................
Пушкинъ, А.
Бахчисарайскій фон-
танъ. Ж.............
Бѣсы.................
Весна................
Гусаръ...............
Даръ напрасный, даръ
случайный. . .
Зимнее утро..........
Зимняя дорога. . .
Кавказъ..............
Отвѣтъ Татьяны. Ж. .
Отповѣдь Онѣгина.
Письмо Онѣгина. М. .
Письмо Татьяны. Ж. .
Погасло дневное свѣ-
тило.................
По прочтеніи Байро-
нова Каина . . .
Прозерпина . . . .
Пророкъ..............
V 263
VI 383
VII 431
VIII 485
V 325
I 37
II 125
VIII 502
IV 258
III 183
V 336
IV 211
V 349
V 365
V 299
V 289
VII 444
II 119
V 350
IV 245
II 118
IV 243
II 131
V 295
V 333
V 334
V 293
IV 220
IV 220
III 177
VII 468
III 170
512
Отд. Стр.
Узникъ III 190
Усы VI 417
с.
Смоленскій, И.
Разысканіе логически-
го ударенія ; . . I 33
Соловьевъ, В.
У царицы моей есть вы-
сокій дворецъ . . . IV 203
Сологубъ, Ѳ.
Вечеръ Гофмансталя. VIII 490
Восходящая Альдонса. Вражда и дружба сти- VIII 487
ХІІ1 Въ полѣ не видно ни VIII 493
ЗГИ IV 251
Глаза VII 434
Двѣ дѣвочки и песокъ. V 313
Колыбельная. . . . IV 208
Крылья V 314
Кукушкинъ флиртъ. . Къ всероссійскому тор- V 317
жеству VIII 491
Лампа и спичка. . . Люблю блуждать я VII 433
надъ трясиной . . Одежды лиліи и ка- IV 246 316
пустныя одежки • Пожелтѣвшій березо- V
вый листъ, капля и нижнее небо. . . . VII 433
Пѣсенки VII 435
Театръ одной воли. . IV 259
Чортовы качели . . III 189
Т.
Толстой, гр. Ал. К.
Алеша Поповичъ . . V 276
Василій Шибановъ . V 328
Илья Муромецъ. . . V 332
Коль любить. . . . III 184
Ѳедорушка .... VI 390
Толстой, гр. Ал. Н.
Часы IV 249
Тургеневъ, И.
Бѣжишь лугъ. . . . II 107
Балетка Вячеславъ Пларіоно- II 138
вичъ Хвалыискій. . II 140
Гроза Живыя мощи (пер. II 113
отрыв.) II 117
Живыя мощи (втор,
отрыв.).............
Какъ хороши, какъ свѣ-
жи были розы . . .
Колотовка . . . .
Контора .............
Лѣсъ.................
Мужики орловскіе и
калужскіе . . . .
На вырубѣ . . . .
Поѣздка въ усадьбу. .
Пѣвцы . . . . . .
Роща осенью. . . .
Свиданіе.............
Цѣнители искусствъ.
Ярмарка .............
Ткоржѳвскій, И.
Исаія, гл. 60 . . .
Тютчевъ, Ѳ.
Весенняя гроза. . . .
Листья...............
Люблю глаза твои . .
Не остывшая отъ зною.
8і1епІіит............
Отд. Стр*
V 291
IV 256
II 124
II 120
II 115
I 96
II 111
II 123
IV 209
II 109
II 116
II 139
II 121
III 169
II 112
IV 205
III 181
IV 217
IV 229
Ф.
Фетъ, А.
Бабочка. . . . . . VII 452
Какая ночь... . . IV 208
Фантазія .. . . . . IV 207
Филаретъ, митрополитъ московскій.
Слово надгробное. . . VIII 499
Фофановъ, К.
Весенній дождь . . . IV 204
Лѣтнія картинки . . 11 118
Мнѣ все равно куда на-
править путь . . . IV 211
Сказки весны. . . . V 270
Старые часы. . . И 134
Фругъ, С.
Вѣстники воспы. . . IV 203
Три души . . . . . V 274
X.
Хомяковъ, А.
Россіи..................III 166
Ч.
Черный, Саша.
Дождь............
Культурная работа.
Любовь не картошка.
На могилахъ. . .
IV 213
VI 398
VI 415
VI 403
513
Школа чтеца.
33
Отд. Стр.
На Рейнѣ .... . VI 401
На санкахъ съ горъ III 190
Страшная исторія. . . VI 399
1909 г . VI 397
Чеховъ, А.
Загадочная натура. V 317
Степь (отрывокъ). . . IV 236
ш.
Шагикянъ, Маріэтта.
Жены султана . . . VII 465
Полнолуніе............VII 464
Чеченка...............VII 463
Отд. Стр.
Шумахеръ, П.
Борьба за существо- ваніе VI 407
Изъ моихъ замѣтокъ. VI 404
Россійская идиллія. . VI 406
Россійскій туристъ . . VI 411
Свобода, равенство и братство. .... VI 405
Щедринъ, ІИ.
Карась-идеалистъ. . . VI 418
Я.
Языковъ, Н.
Пловецъ III 150
Якубовичъ, П.
Послѣдняя жертва. . III 163
Иностранные авторы.
Отд. Стр.
Байронъ.
Еврейская мелодія,
пер. М. Лермонтова. IV 246
Барбье.
Собачій пиръ, пер. В.
Бенедиктова. . . . III 173
Беранже.
Бѣгомъ, пер. В. Ку-
рочкина. . . .III 192
Добрая фея,пер. В. Ку-
рочкина..................VI 392
Добрый знакомый, пер.
его же. .... VI 413
Пѣть больше пѣсенъ,
пер. его же. . . . IV 242
Слава Богу, я живъ и
здоровъ, пер. его же. VII 456
Слѣпая мать, пер. его
же....................... V 301
Стрѣлокъ и поселянка,
пер. его же . . . V 279
Третій мужъ, пер. его
же....................... V 301
Бернсъ, Робертъ.
Клятва леди Норы, пер.
О. Чюмипой. . . . VII 458
Сватовство, пер. ея же. VII 460
Финдляй, пер. В. Ко-
стомарова...............VII 459
Гамсунъ, Кнутъ.
Второй отрывокъ изъ
«Пана»...................IV 228
Кольцо, п. С. Полякова.
Первый отрывокъ, изъ
«Папа»...............
Странное сказаніе, пер.
М. Благовѣщенской.
Гейне, Г.
Прологъ, пер. М. Ми-
хайлова..............
Разговоръ въ дубравѣ,
пер. А. Плещеева. .
Сосна, пер. М. Лер-
монтова .............
У пристани, пер. М.
Михайлова............
Гельшертъ, Н.
Древне - шотландская
баллада..............
Гомеръ.
(Этр ывкі і изъ Ил і ады,
пер. Н. Гнѣдича.
Грене Данкуръ.
Охотникъ, пер. А. Пле-
щеева................
Гюго, В.
Джинны, пер. П. Н. .
Додэ, Альфонсъ.
Слива, пер. А. Виги-
лянскаго.............
Жилькэнъ, Иванъ.
Борзая, пер. С. Го-
ловачевскаго. . .
Отд. Стр.
IV 231
IV 226
IV 230
III 182
V 269
IV 244
VI 393
V 268
I 15
V 362
VII 441
VII 454
IV 225
514
Отд. Стр.
Похоронный звонъ,
пер. Эллисъ. ... III 158
Проклятіе художника,
С. Головачевскаго. . III 169
Утренняя молитва,пер.
его же..................VI 385
Жиро, Альберъ.
Клавикорды, пер.
Эллисъ............... II 137
Испанская пѣсня.
Карменсита, пер. Жа-
ботинскаго. . . . VII 466
Киплингъ, Р.
Какъ носорогъ полу-
чилъ свою кожу . . VII 436
Метерлинкъ, М.
Пяти ад цать пѣсенъ
(II, VI, VII, VIII)
пер. О. Чюминой. IV 221
Поэ, Эдгаръ.
Колокольчики и коло-
кола, пер. К. Баль-
монта. . . _ . III 150
Отд. Стр.
Ришпенъ, Жанъ.
Перелетныя птицы,
пер. Л. Барыковой. VI 387
Роденбахъ, Ж.
Фонтаны, пер. Эллисъ. II 135
Ростанъ.
Ода солнцу, пер. Т.
Щепкиной-Куперн. III 187
Туманьянъ, Ованесъ.
Ахтамаръ,пер. Ю. Баль-
монта..................VII 461
Уайльдъ, Оскаръ.
Лондонъ утромъ, пер.
М. Лпкіардопуло. . II 128
Френлигратъ.
У гробовщика, пер.
М. М.................... V 310
Цатуріанъ, Александръ.
Ручей, пер. К. Баль-
монта..................VII 462
Шелли. П.
Минувшіе дни, пер.
К? Бальмонта. . . IV 245
515
ОГЛАВЛЕНІЕ.
Стр.
Предисловіе........................................................... 3
Отдѣлъ I.
Матеріалъ для логическаго тонированія рѣчи....................... 7
Отдѣлъ II.
Матеріалъ для развитія художественной фантазіи....................103-
Отдѣлъ III.
Матеріалъ для развитія темперамента...............................1 13
Отдѣлъ IV.
Матеріалъ для выработки цѣльности настроенія.......................197
Отдѣлъ V.
Матеріалъ для созданія художественныхъ образовъ....................261
Отдѣлъ VI.
Матеріалъ для выработки сатирическаго тона.........................381
Отдѣлъ VII.
Матеріалъ для выработки чувства стиля..............................429
Отдѣлъ VIII.
Оргі^фйай..........................................................483
Алфавитныя указатель произведеніи по отдѣламъ.........................505
АЙфКвіггныД сказатель русскихъ и иностранныхъ авторовъ................510
» ѵ - аг а
; П
из визлиотеки
НЕ ВЫДАЕТСЯ.
ІШ ЕнШтш
ІИЕННОГО
• уѴѴаЯ’і'о Театра.
Пров. 35