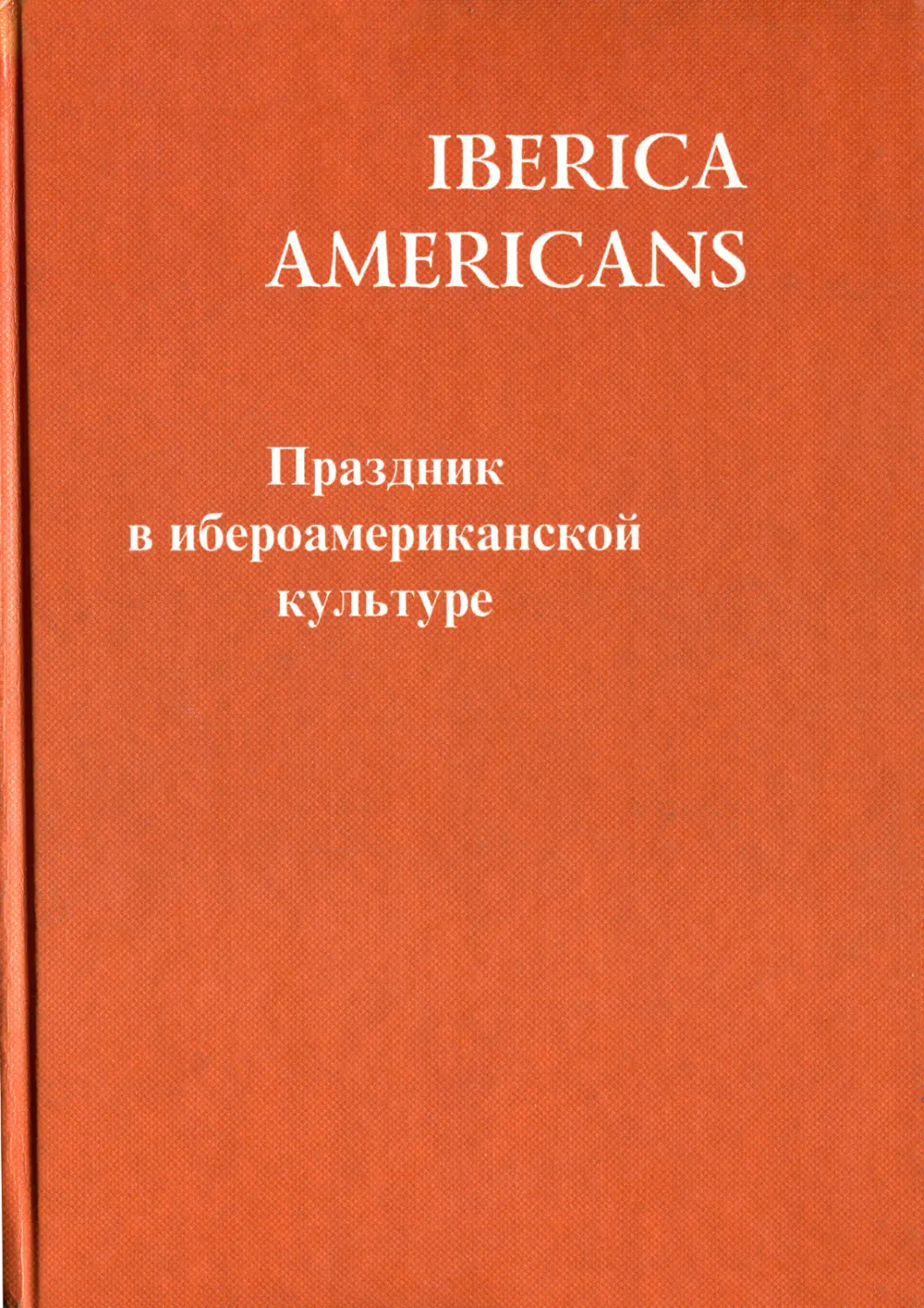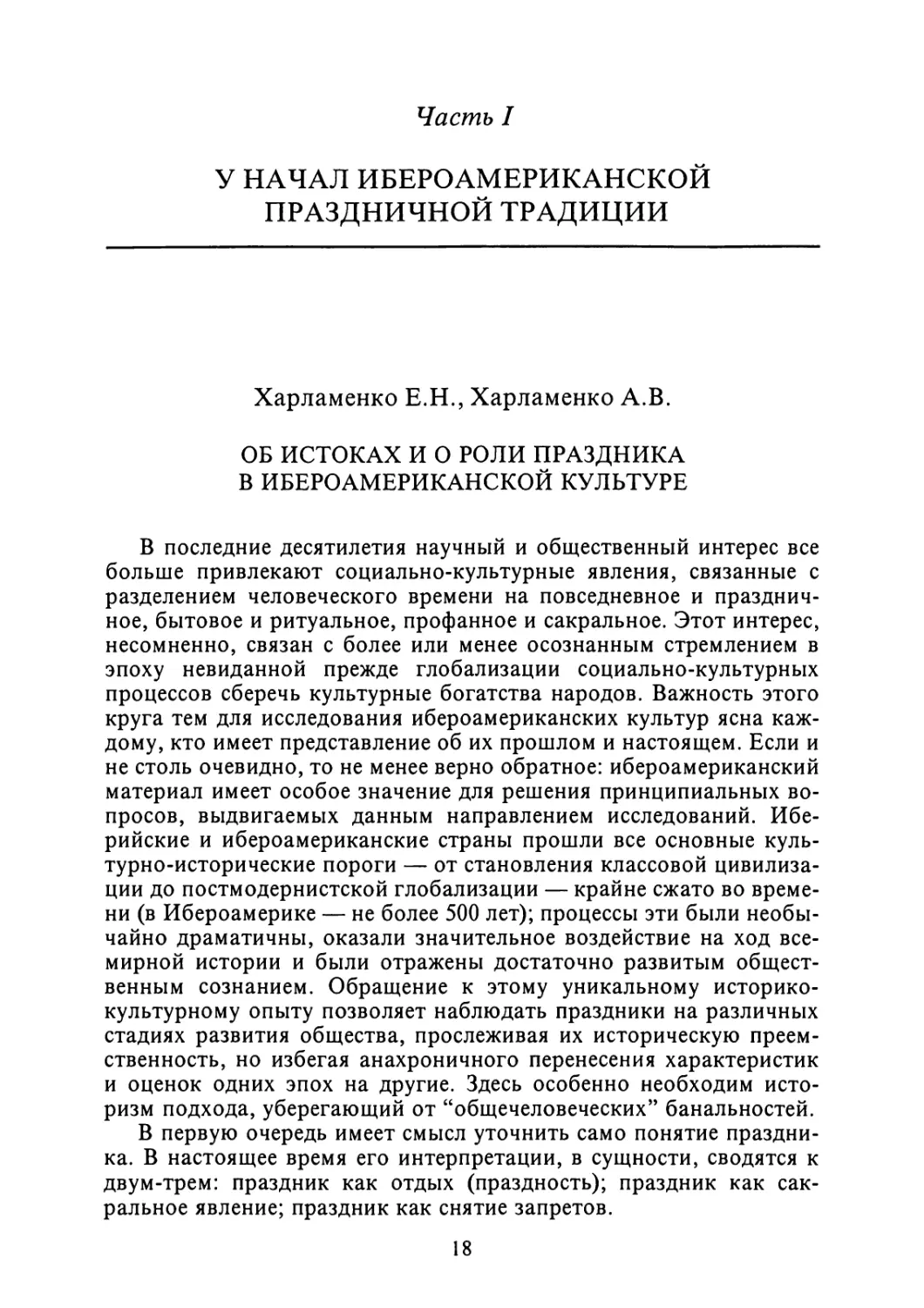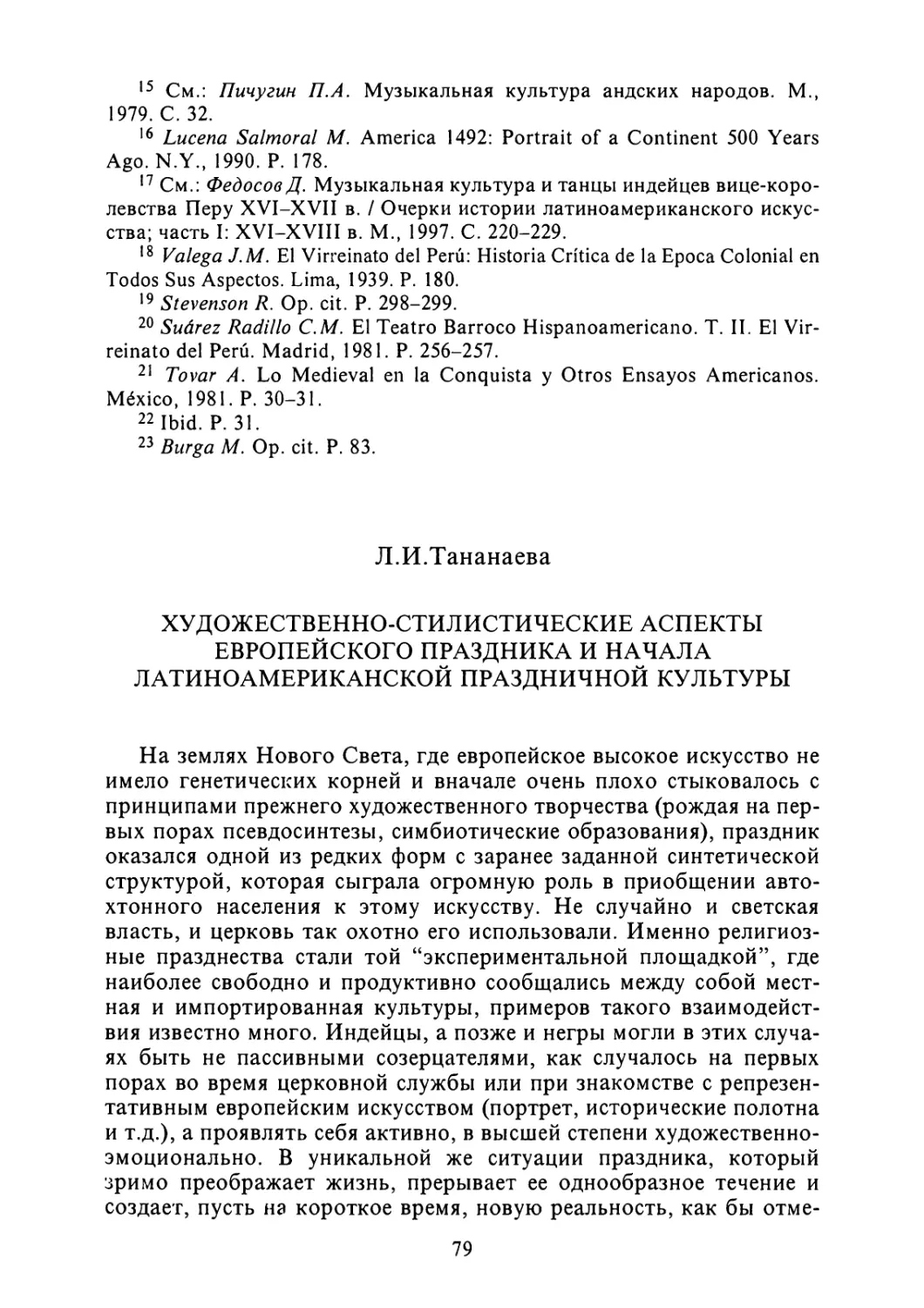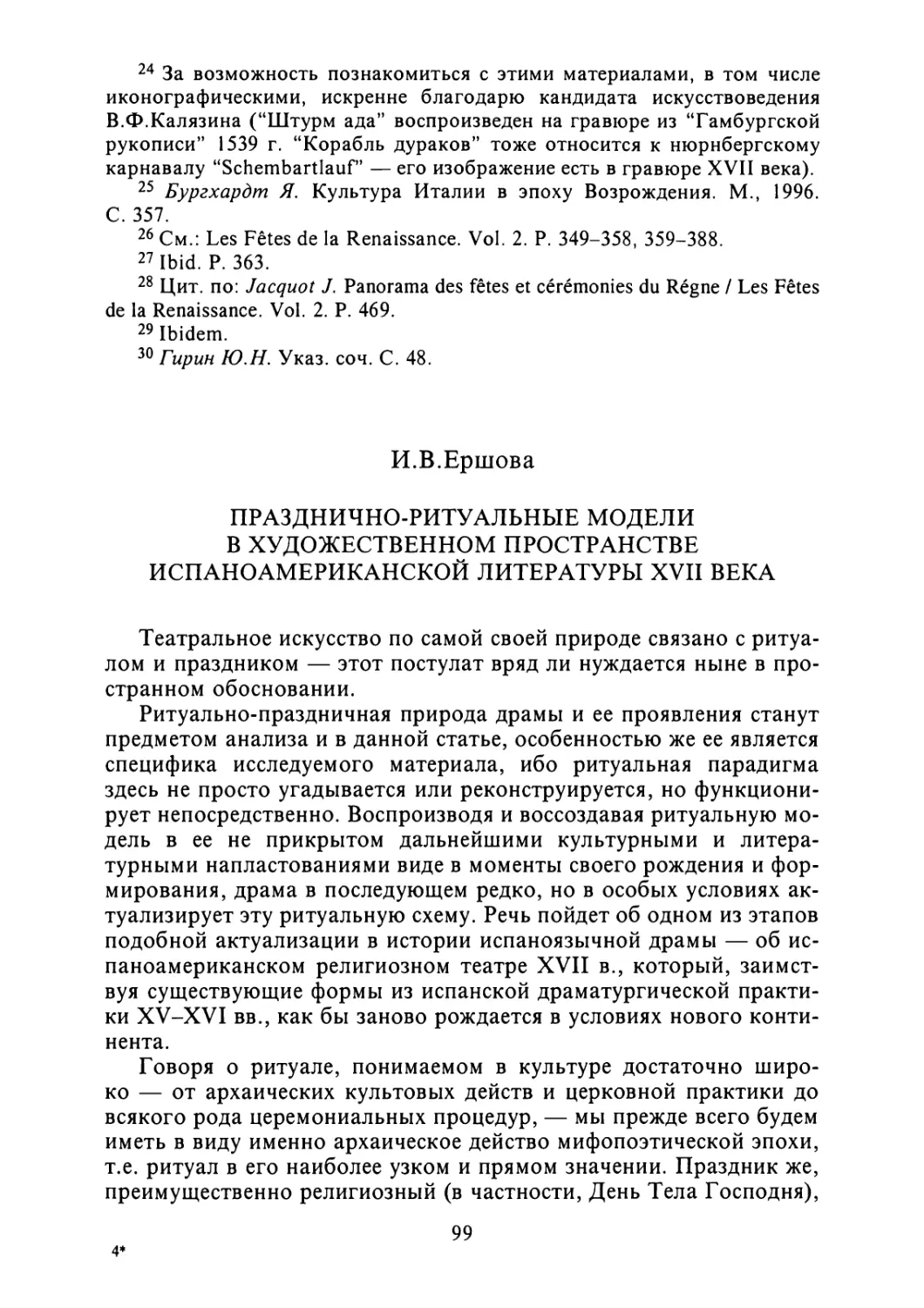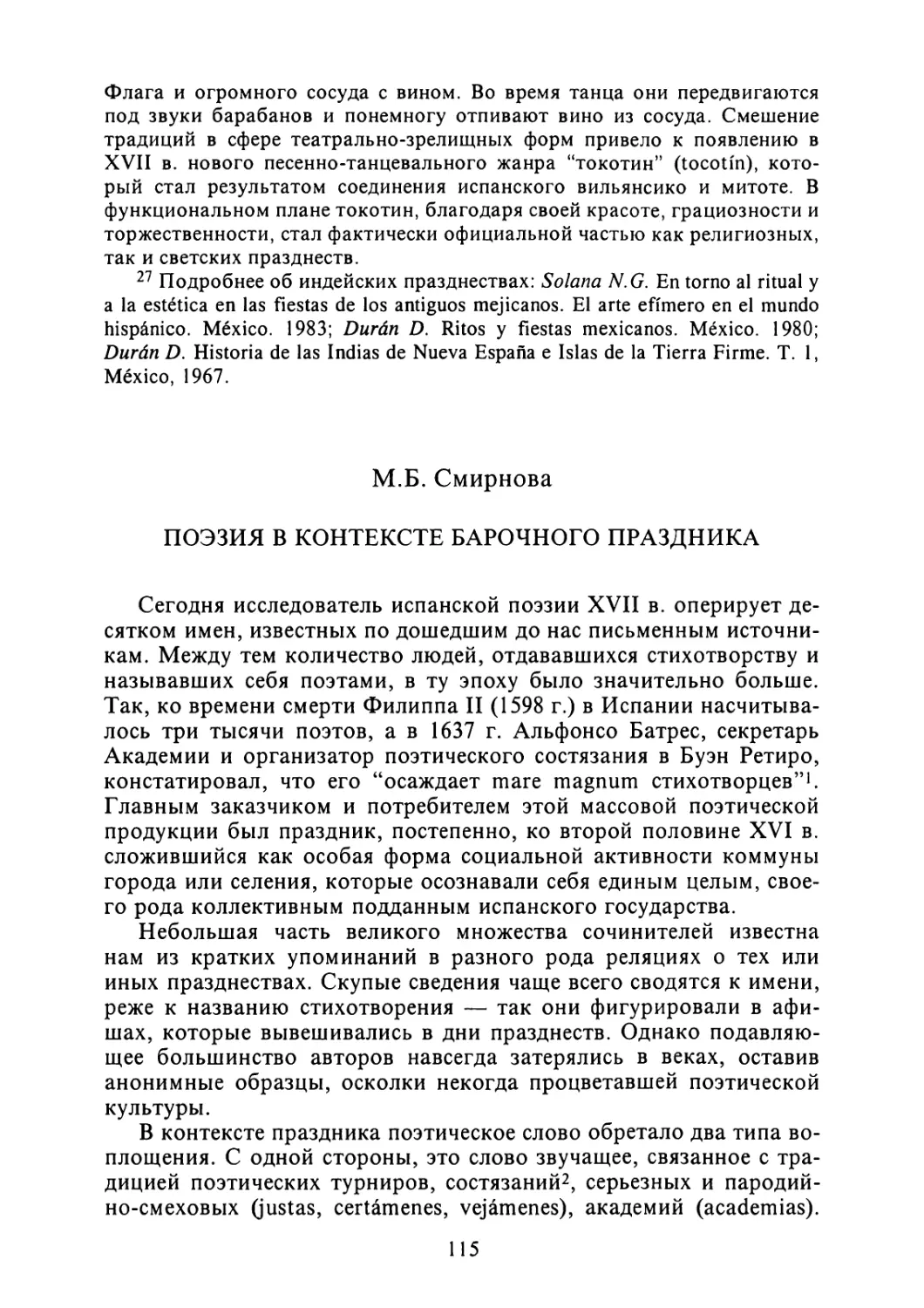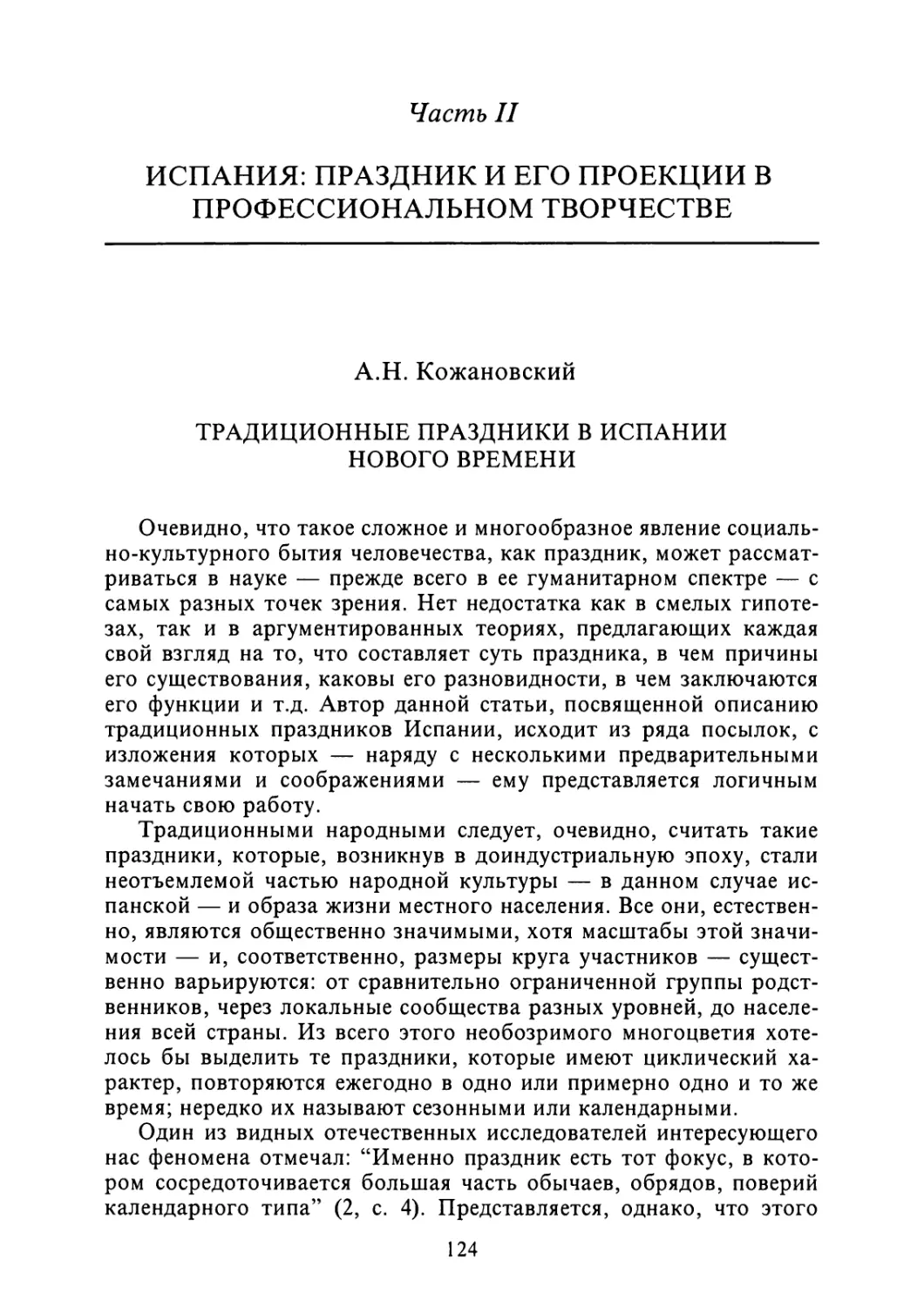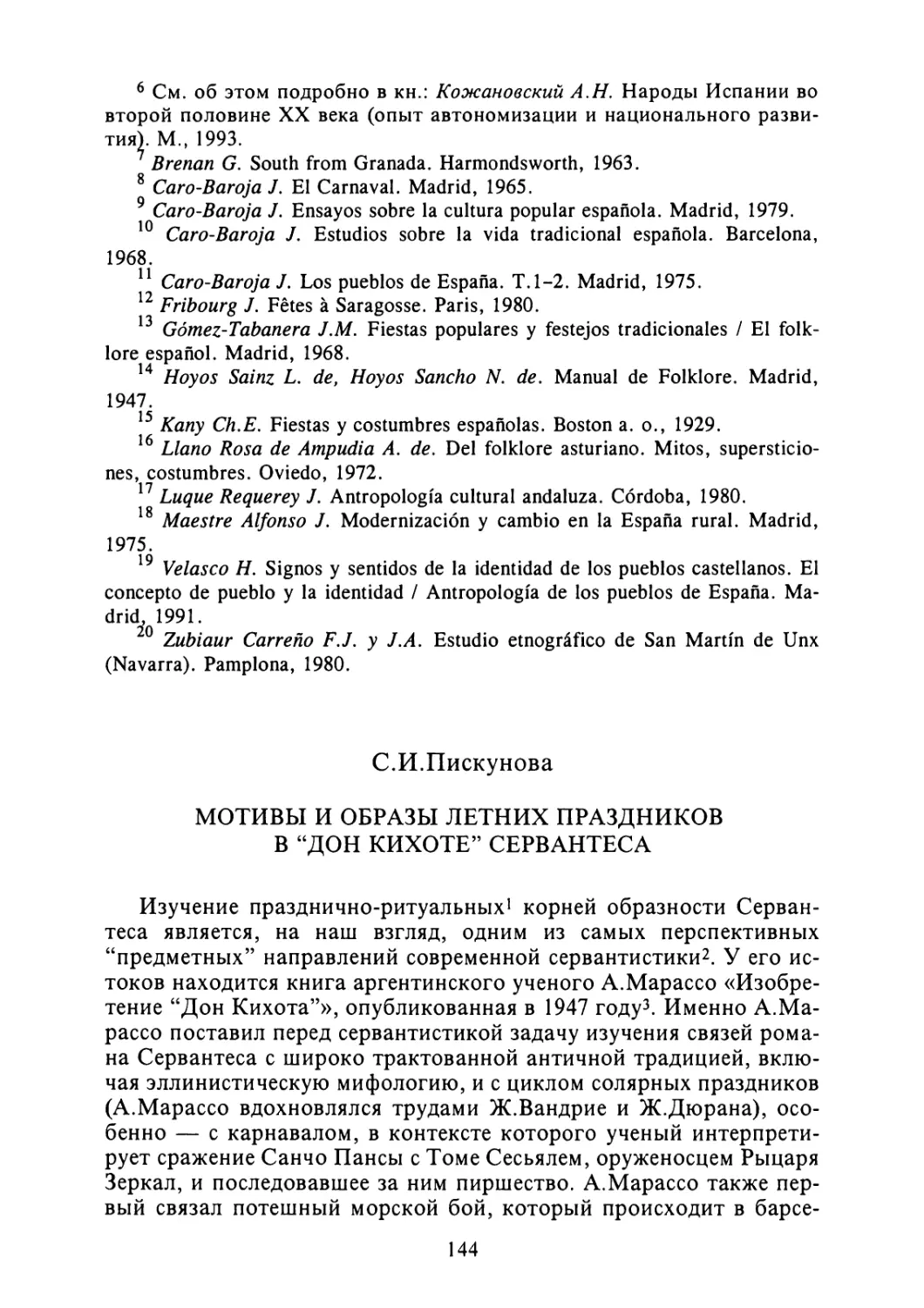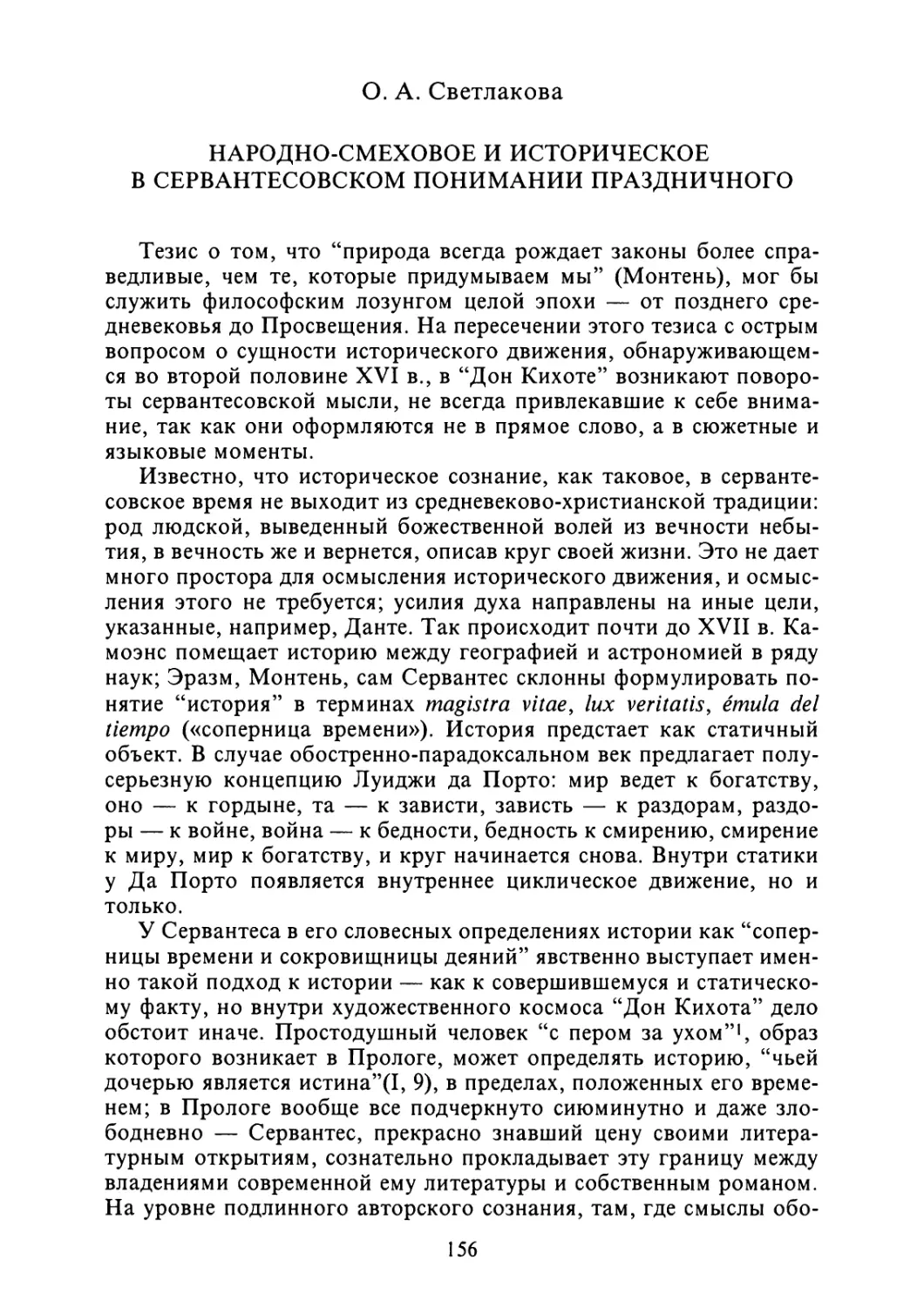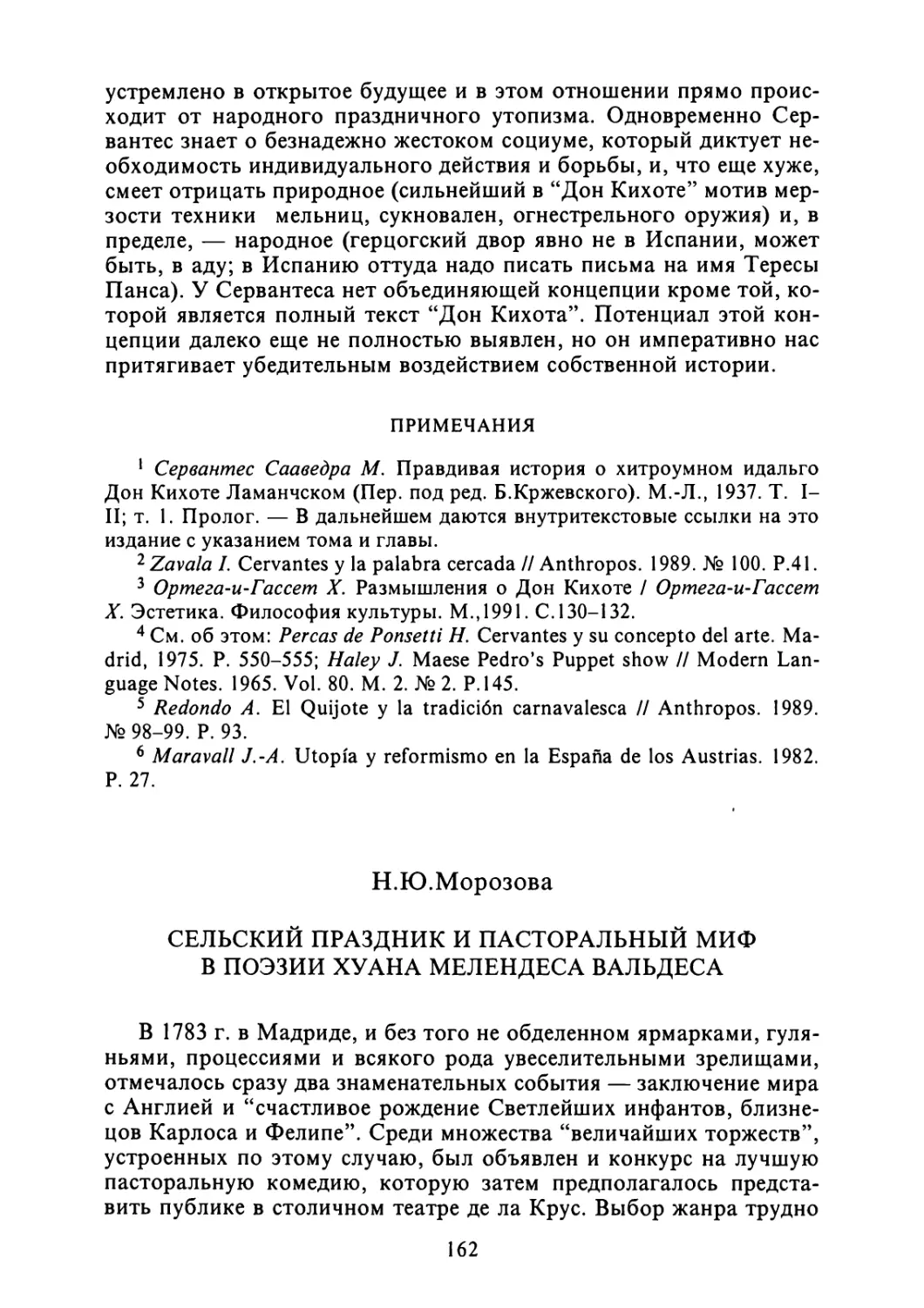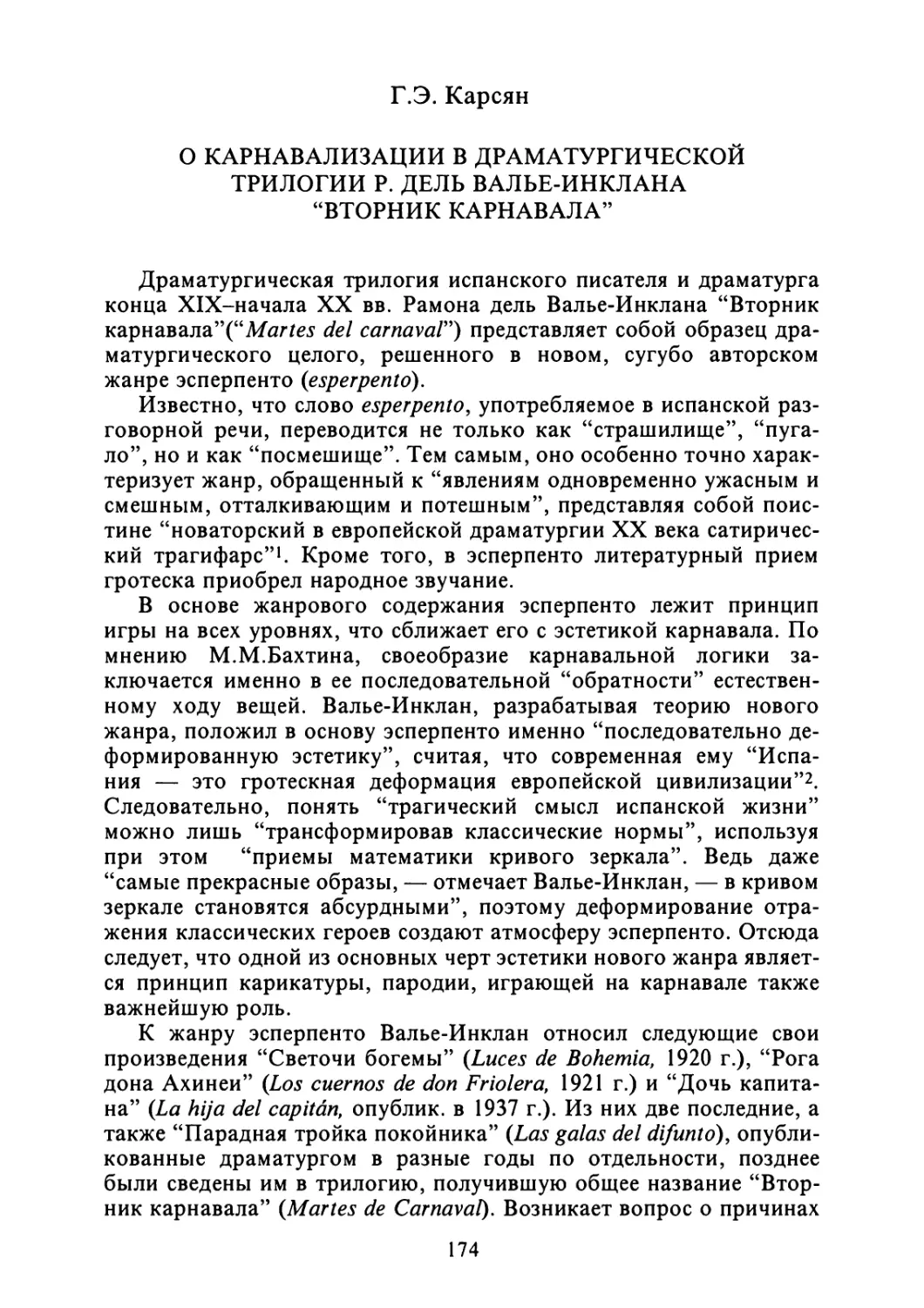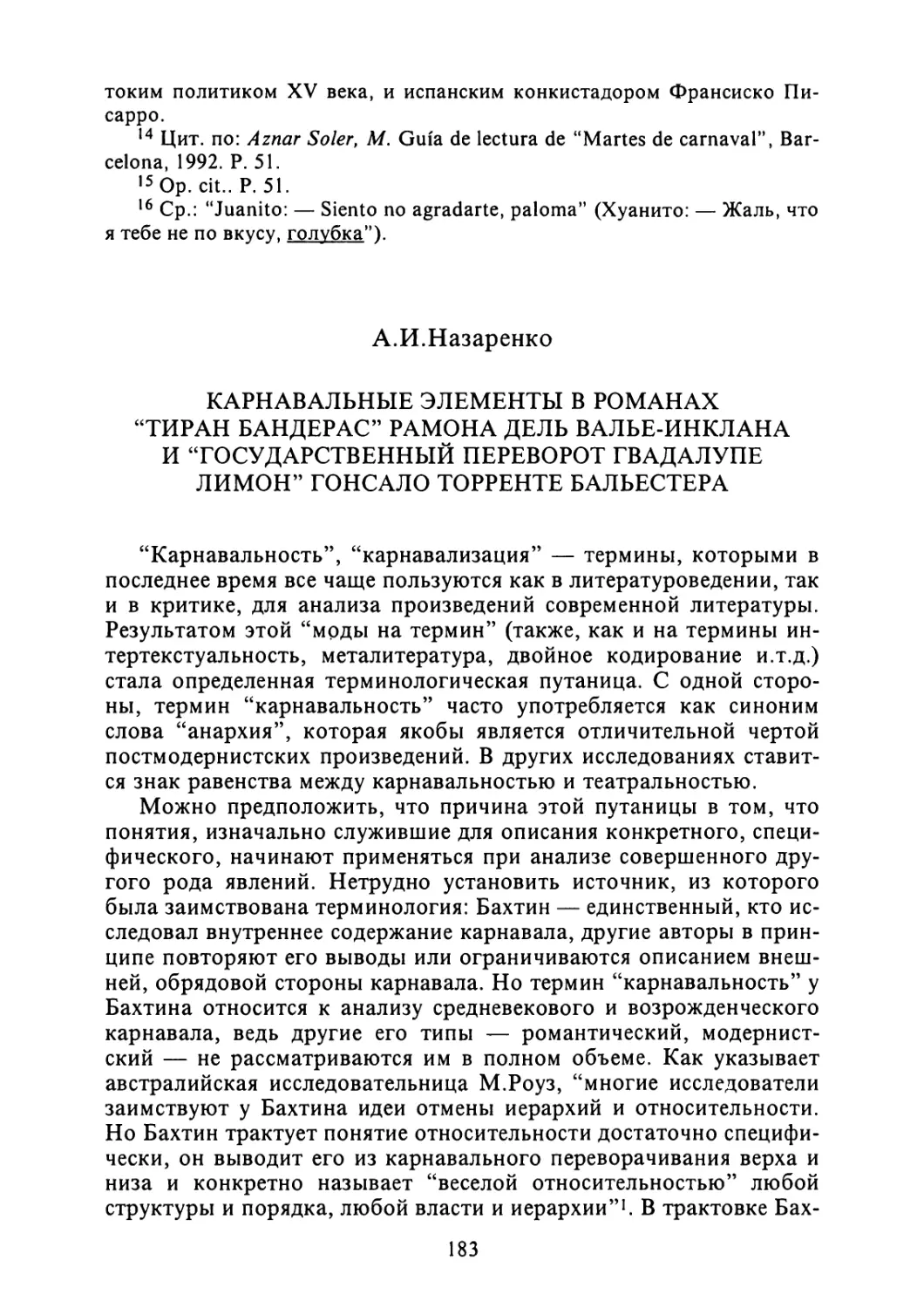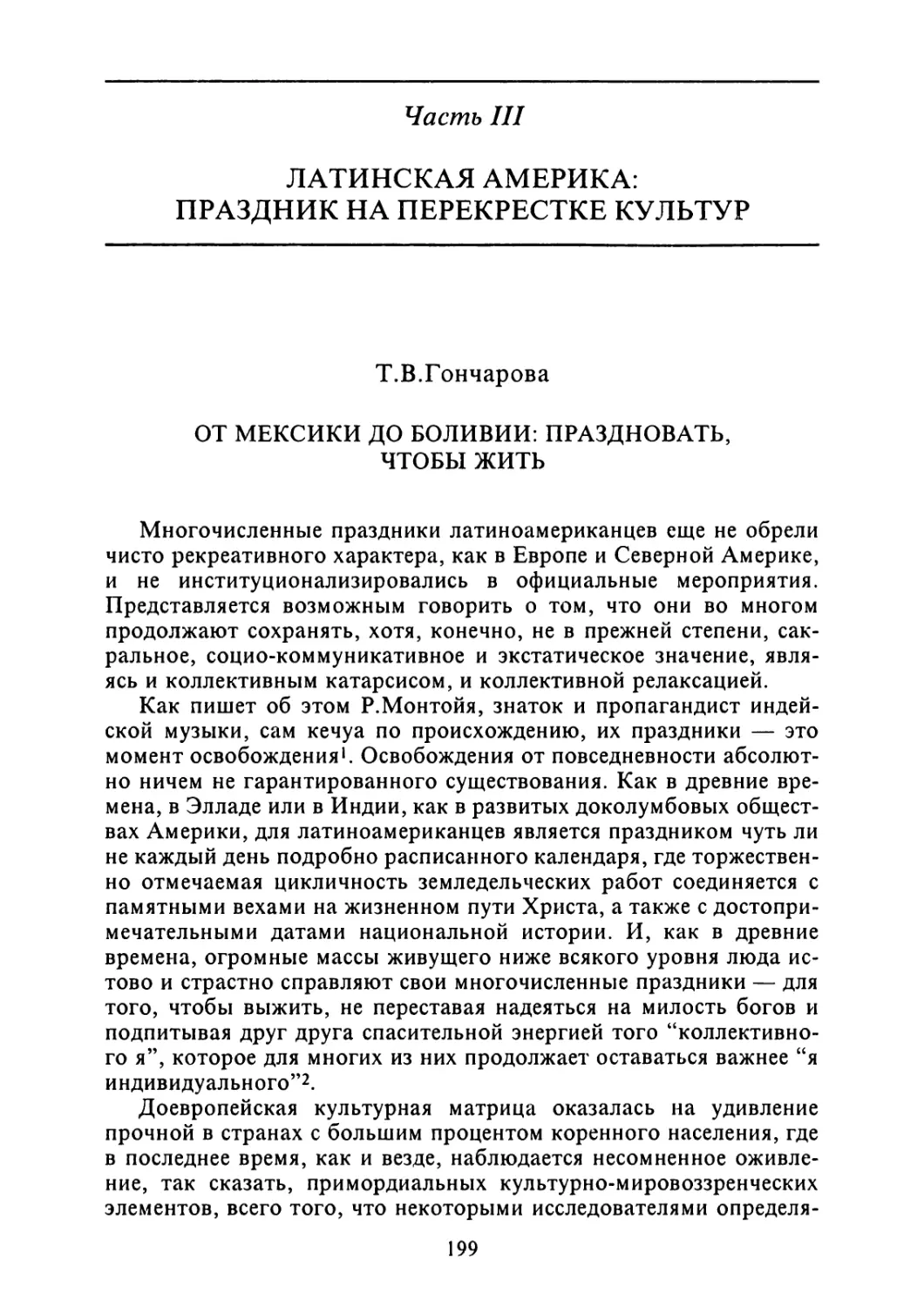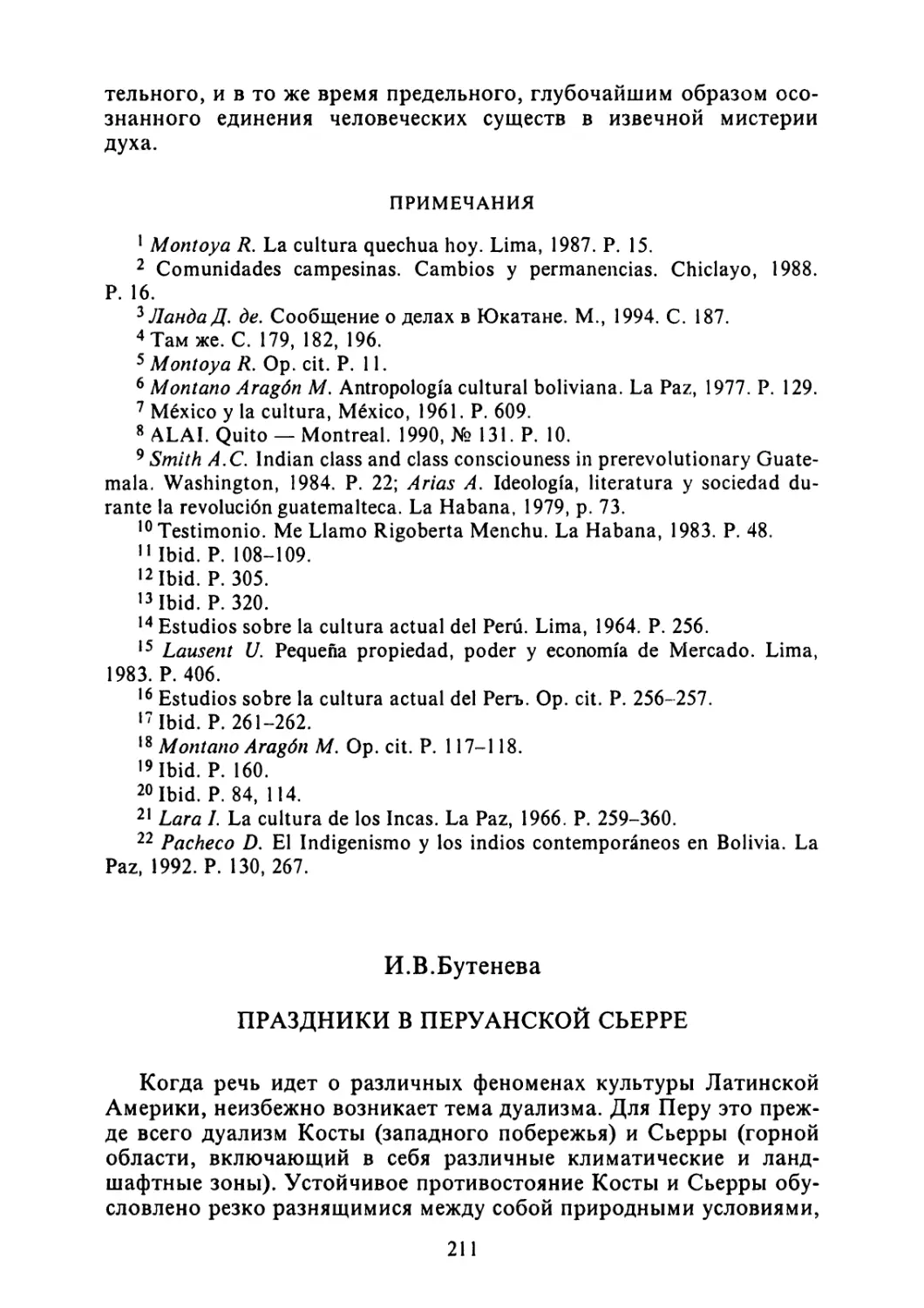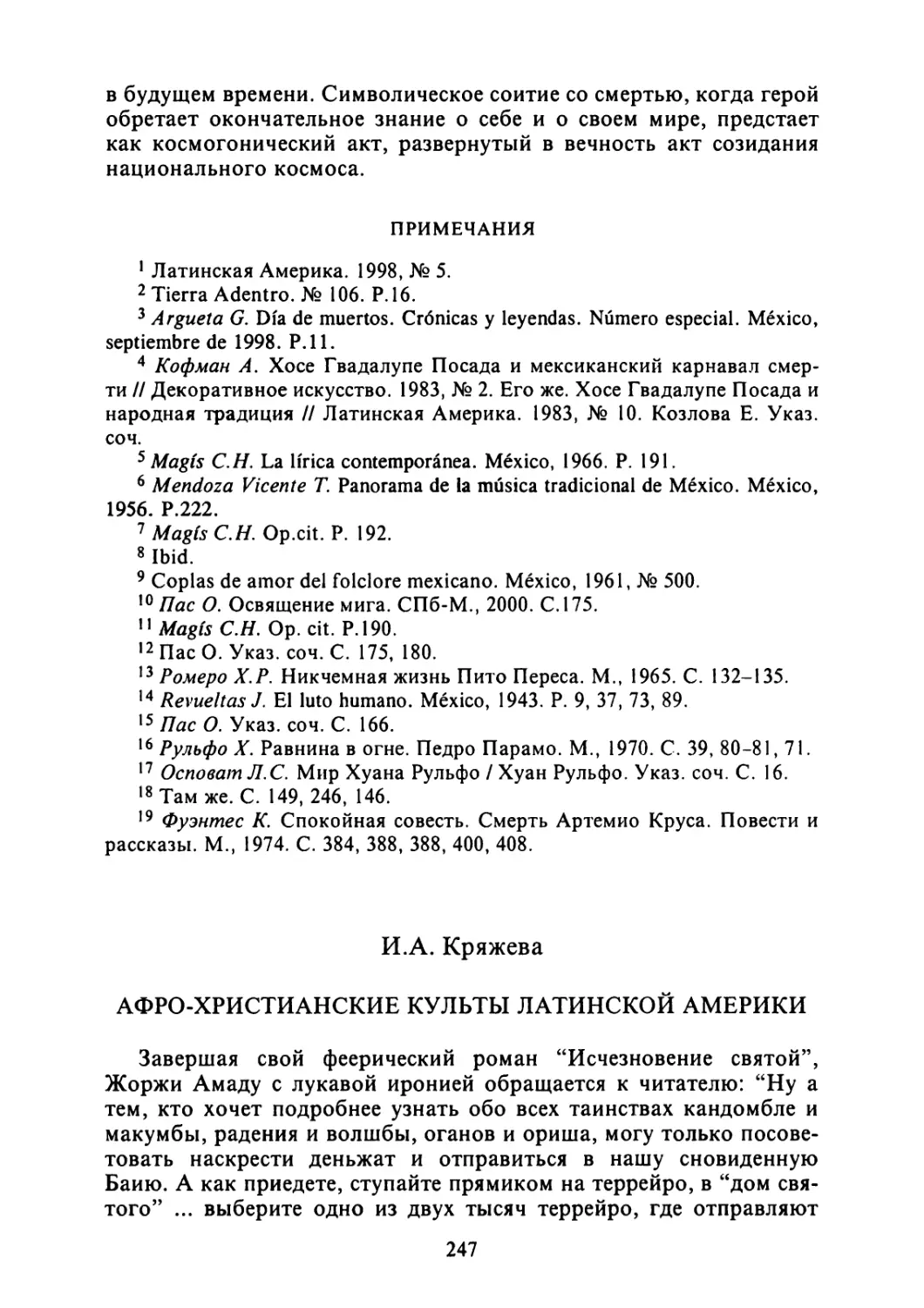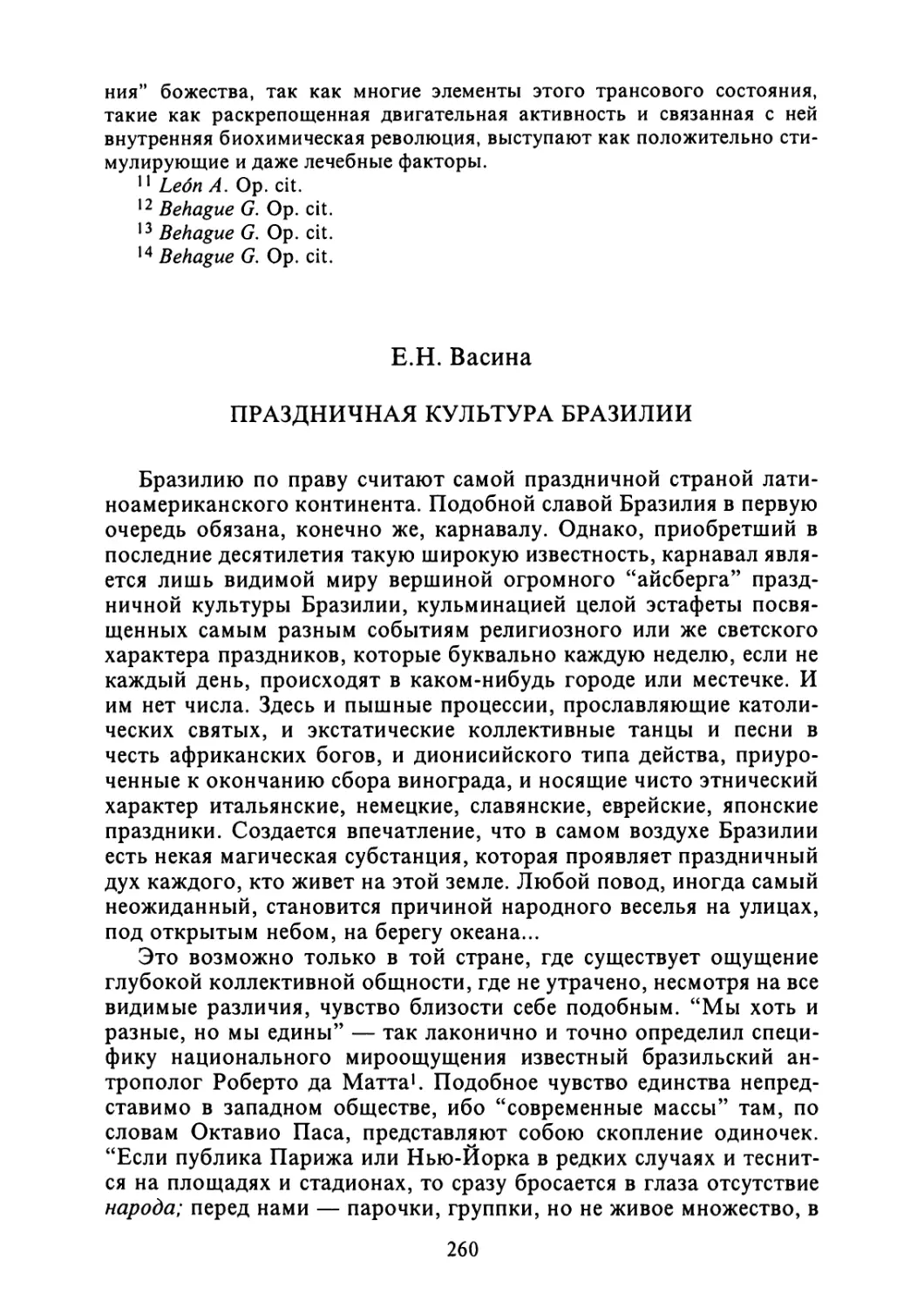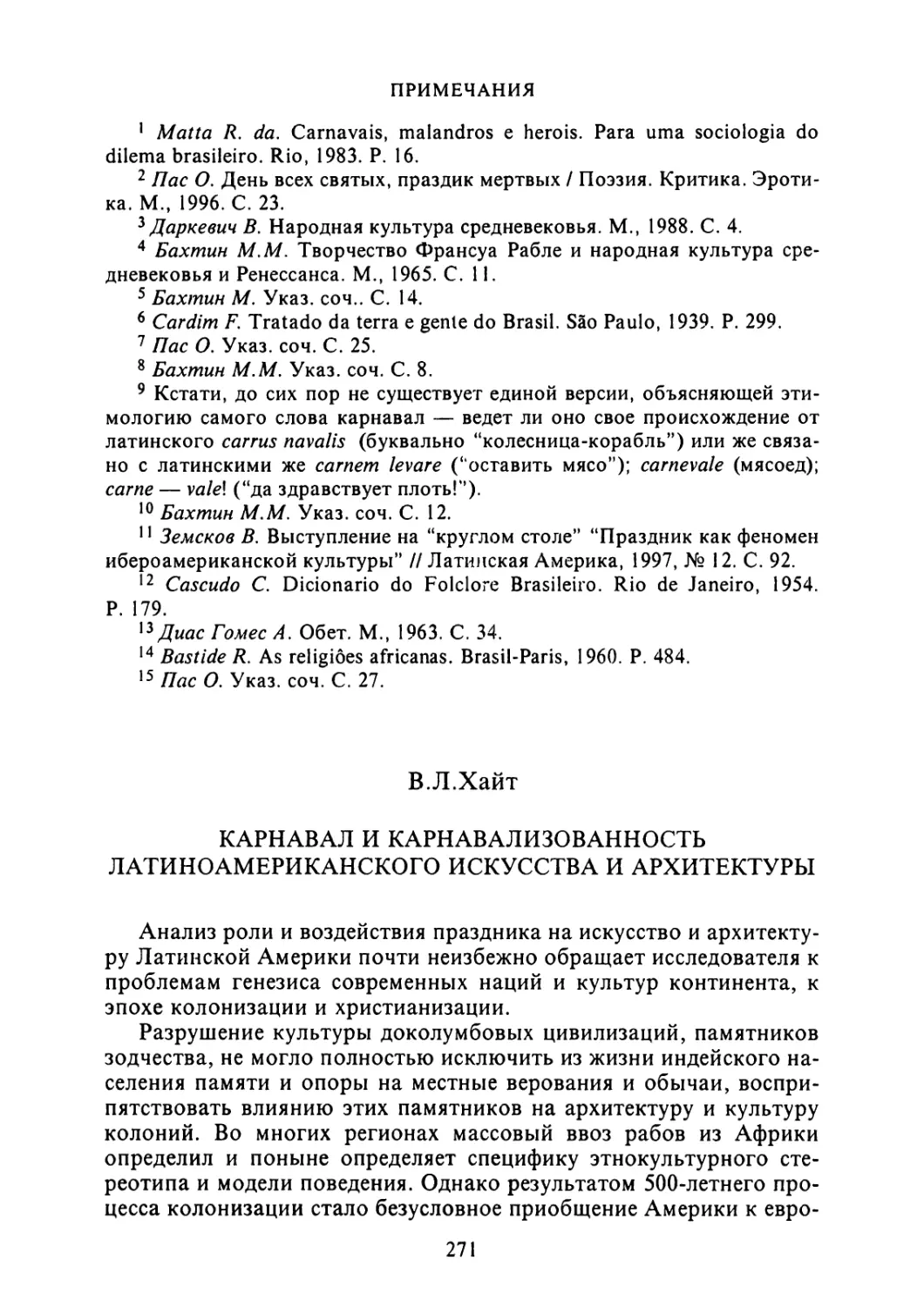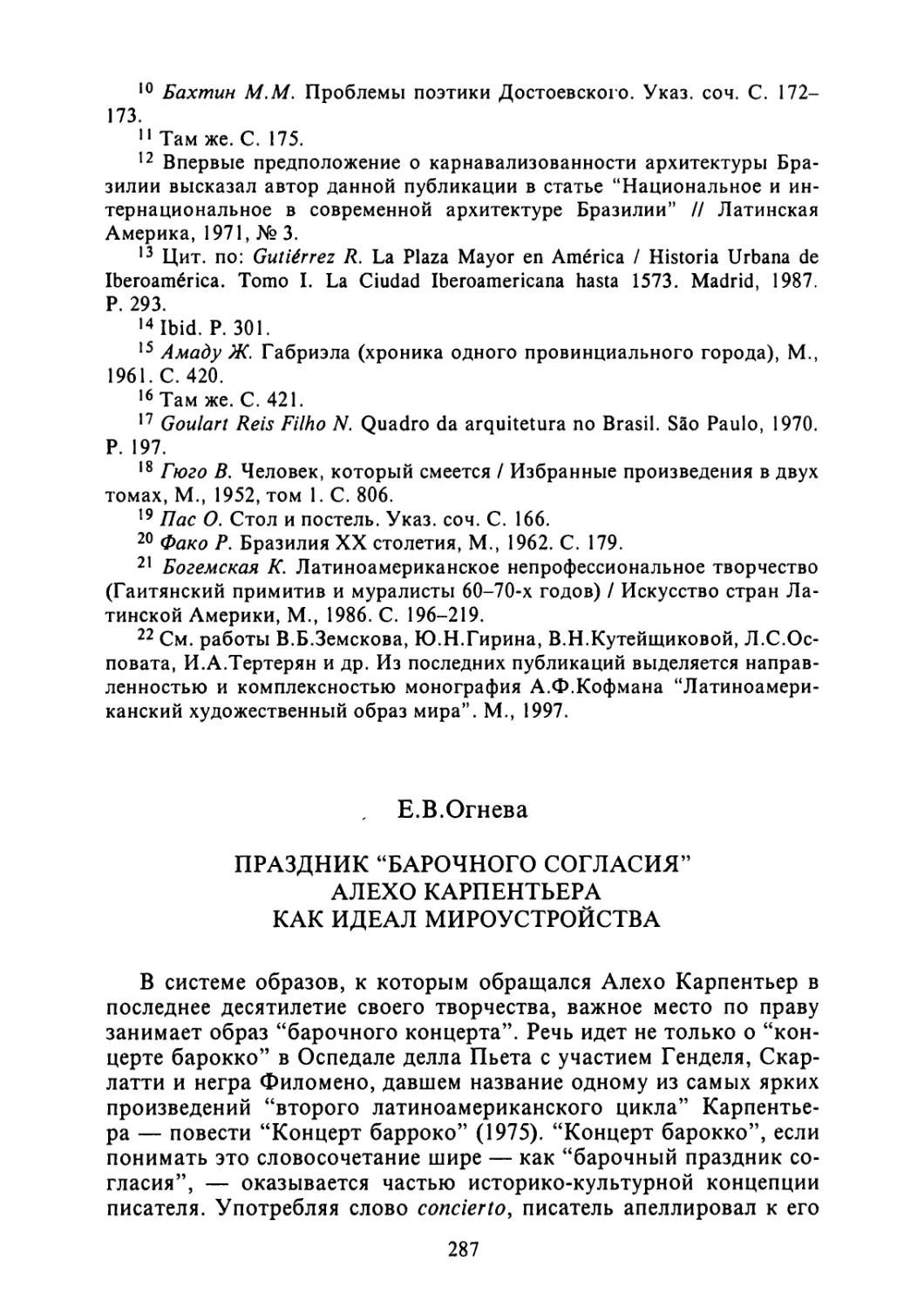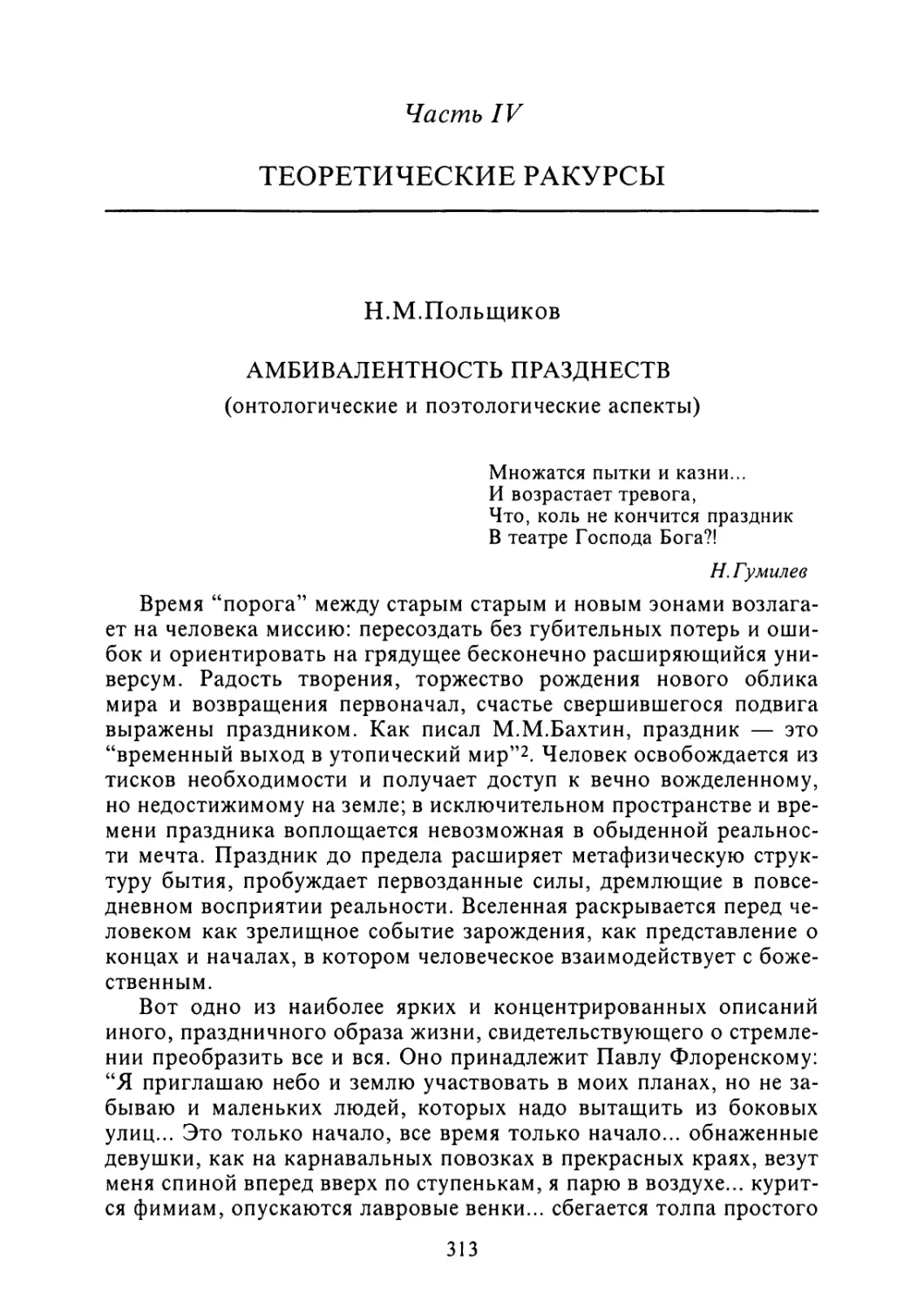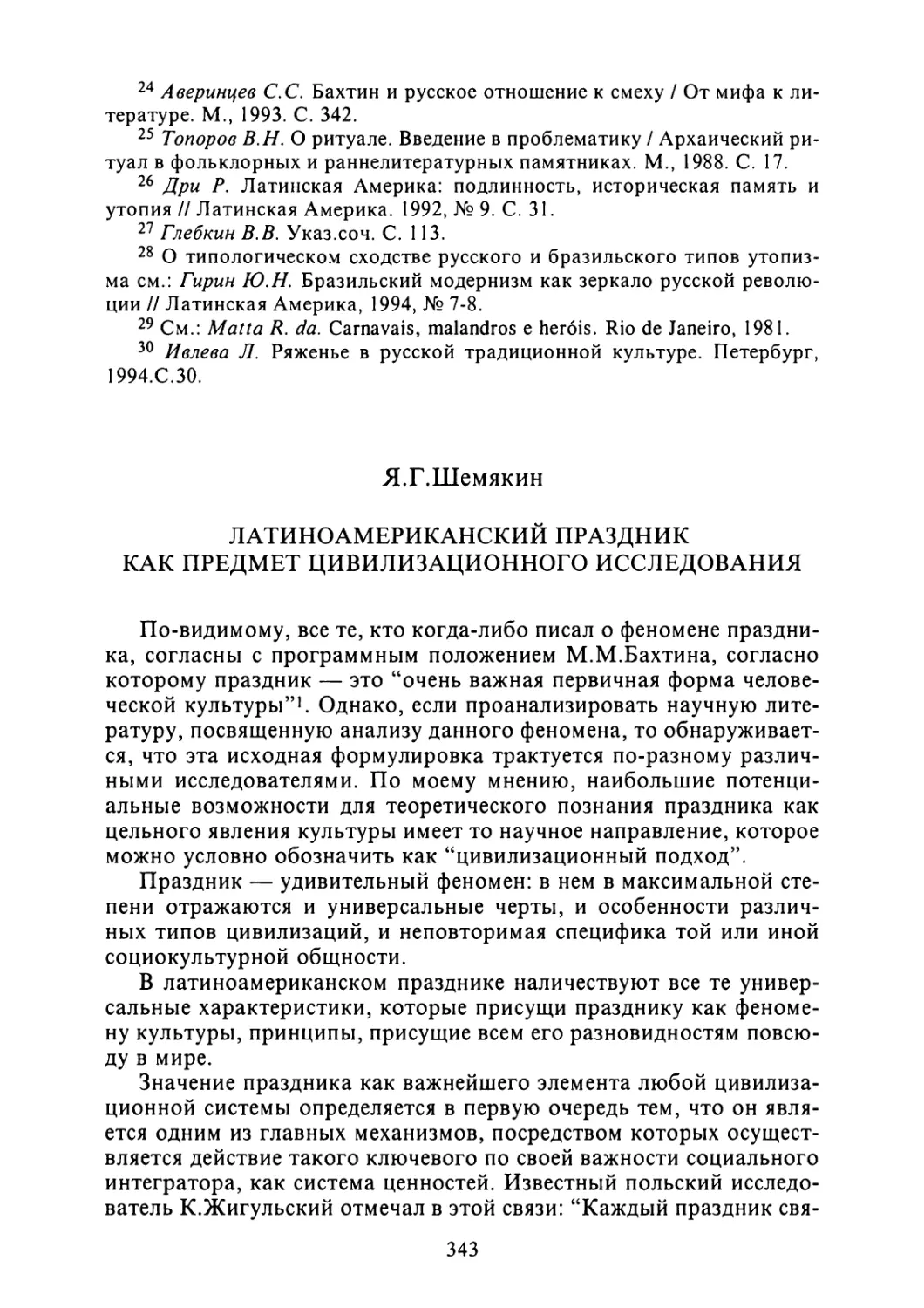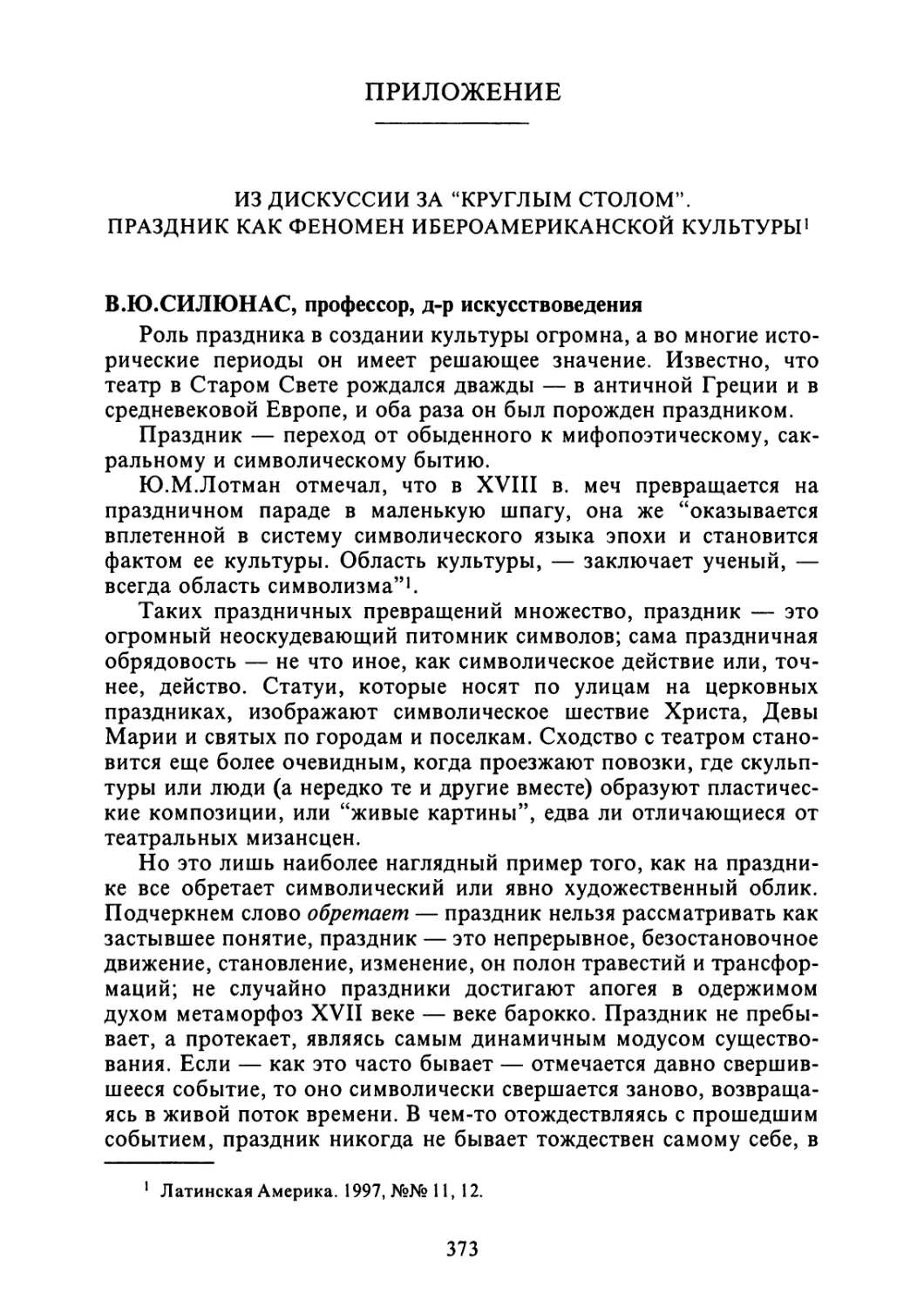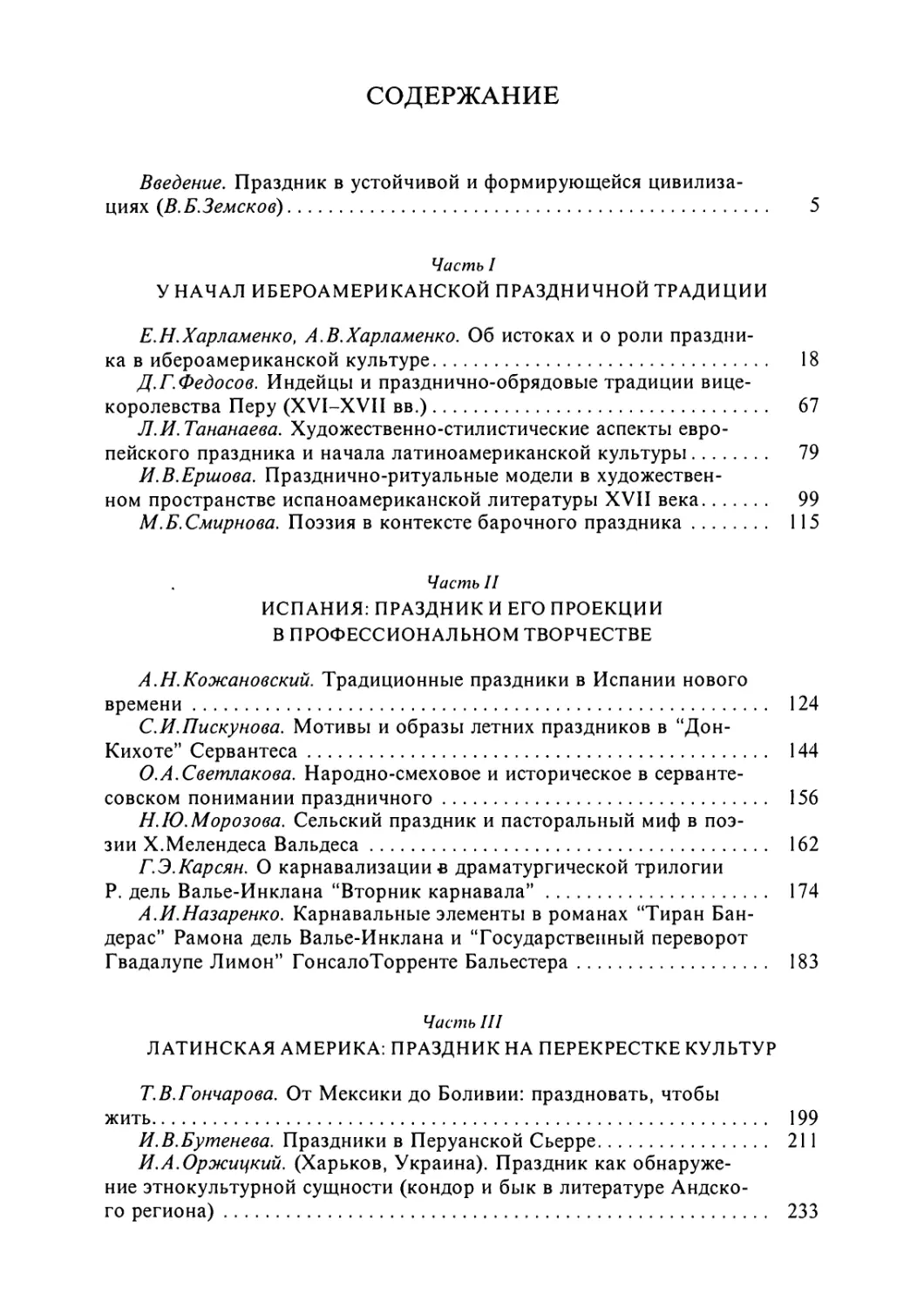Текст
IBERICA
AMERICANS
раздник
в ибероамериканской
культуре
НАУЧНЫЙ СОВЕТ ПО ИСТОРИИ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
КОМИССИЯ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ
КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ ПИРЕНЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА
И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
CONSEJO COORDINADOR DE ESTUDIOS DE HISTORIA DE LA CULTURA
UNIVERSAL DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE RUSIA
COMISIÓN PARA EL ESTUDIO INTERDISCIPLINARIO DE LA CULTURA
DE LOS PUEBLOS DE LA PENINSULA IBÈRICA
Y DE LA AMERICA LATINA
ACADEMIA DE CIENCIAS DE RUSIA
IBERICA
AMERICANS
La Fiesta
en la cultura iberoamericana
MOSCÜ
2002
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
IBERICA
AMERICANS
Праздник
в ибероамериканской культуре
& - ч*
,0 *Ж<1\
МОСКВА
2002
Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
Издательский проект № 01-04-16072
Ответственный редактор выпуска
В.Б.ЗЕМСКОВ
Редакционная коллегия:
академик Н.И.БАЛАШОВ (сопредседатель)
академик Ю.С.СТЕПАНОВ (сопредседатель)
В.Е.БАГНО
В.Б.ЗЕМСКОВ
Ученый секретарь: Ю.Н.ГИРИН
Рецензенты:
доктор филологических наук В.Н.КУТЕЙЩИКОВА
доктор философских наук А.В.ШЕСТОПАЛ
Iberica Americans. Праздник в ибероамериканской культуре. —
М., ИМЛИ РАН, 2002. — 400 с.
В очередной выпуск междисциплинарного сборника серии "Iberica
Americans" входят статьи, подготовленные на основе дискуссии "за круг-
лым столом" на тему "Феномен праздника в ибероамериканской культу-
ре", проведенной в 1997 г. Комиссией по комплексному изучению культу-
ры народов Пиренейского полуострова и Латинской Америки Научного
Совета по истории мировой культуры РАН.
Задача исследования состоит в выявлении в историческом и теорети-
ческом аспектах основных этапов формирования ибероамериканской
праздничной традиции, изучении историко-генетического единства ибе-
рийской и латиноамериканской праздничной культуры, их цивилизацион-
ной специфики, типологической соотнесенности; исследуется многообра-
зие культуротворческих функций праздника, его поэтики, проекций празд-
ничной культуры в профессиональное творчество.
ISBN 5-9208-0089-5
© ИМЛИ РАН, 2р02
ВВЕДЕНИЕ
ПРАЗДНИК В УСТОЙЧИВОЙ
И В ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯХ
"Мы поймем смысл людских заня-
тий, если вникнем в суть их раз-
влечений".
Б.Паскаль
Четвертый сборник серии "Iberica Americans"1 включает работы,
подготовленные на основе докладов на дискуссии за "круглым сто-
лом" "Праздник как феномен ибероамериканской культуры", прове-
денном в журнале "Латинская Америка" (1997 г.) Комиссией по ком-
плексному изучению культуры народов Пиренейского полуострова и
Латинской Америки2. (Фрагменты дискуссии публикуются в "Прило-
жении" к настоящему изданию). В процессе подготовки книги к ее со-
зданию присоединились другие авторы, и в итоге в ней участвуют на-
учные сотрудники Института мировой литературы им. А.М.Горького,
Российского института искусствознания, Института Латинской Аме-
рики, Московского государственного университета им. М.В.Ломоно-
сова, Российского государственного гуманитарного университета, Ин-
ститута этнологии и других научных центров. Этот труд примыкает к
обширной отечественной и зарубежной литературе о празднике, празд-
ничной культуре, ритуально-праздничных традициях3. Естественно,
что основой при его создании послужили существующие теоретичес-
кие разработки, иногда полемически оспоренные. Следует учитывать,
что в применении к ибероамериканской культуре тема праздника,
праздничной культуры, взаимодействия с ней профессионального
творчества обладает большой спецификой, причем не только, когда
ибероамериканское берется как целое (то есть, Иберия + Америка), но и
в разделении: иберийское (Испания, Португалия) и американское (Ла-
тинская Америка).
Интерпретировать ибероамериканскую праздничную культуру не-
обходимо сохраняя "двойную оптику", то есть учитывая и момент ге-
нетически-исторического единства, преемственности (Латинской Аме-
рики по отношению к Иберии) и в то же время теоретически осмысли-
вая очевидное и все углубляющееся различие исходной основы и ее
производной4.
Именно при рассмотрении феномена праздника, праздничной куль-
туры со всей яркостью и очевидностью подтверждается фундаменталь-
5
ное, разрабатываемое отечественной школой междисциплинарной ла-
тиноамериканистики положение о формировании в Новом Свете
иного, отличного от европейско-иберийского, цивилизационного ва-
рианта, иной цивилизации — факт, который может выглядеть не столь
отчетливо, как бы более "затушеванно" при обращении к иным облас-
тям культурной феноменологии. Праздник как изначальная, "первич-
ная" (М.М.Бахтин) форма культуры с особенной отчетливостью обна-
руживает и воплощает особые, глубинные и сущностные, — онтологи-
ческие — характеристики той или иной культурно-цивилизационной
системы и типа человека, ее творящего и ею порождаемого. Поэтому
здесь необходимо некоторое углубление в проблематику культурно-
цивилизационной специфики и типологии применительно к ибероаме-
риканской традиции как в ее единстве, так и в разделении.
Существуют различные подходы к осмыслению европейско-ибе-
рийской и латиноамериканской традиций, принадлежащих, при гене-
тически-историческом родстве, к различным цивилизационным "клас-
сам" мировой типологии. Продуктивным в последнее время себя пока-
зало их сопоставление и разграничение с помощью таких понятий, как
"классические" и "пограничные" цивилизации. Эта тема уже широко
обсуждалась в отечественной латиноамериканистике5. К "погранич-
ным" стало привычным относить (если брать европейскую цивилиза-
цию) те образования, что возникли на европоидной периферии основ-
ного западно-европейского модернизирующего ядра, — иберийскую,
балканскую, турецкую, российскую, за океаном — латиноамерикан-
скую цивилизации.
Напомним несколько самых общих и основных параметров, харак-
теризующих два класса цивилизаций. "Классические" отличает гомо-
генность, целостность, монолитность цивилизационного фундамента,
системы экзистенциальных ценностей, устойчивый механизм медиаци-
онного разрешения основных бинарных оппозиций, дающий новое ка-
чество синтезного характера; "пограничным", напротив, свойственны
гетерогенность, несостыкованность цивилизационных блоков, "разры-
вы" и "расколы", незавершенность формирования, преобладание ин-
версионного типа разрешения основных оппозиций, симбиотичность
продуктов действия этого механизма и т.д.6.
При всей очевидной продуктивности, тем не менее, этот теорети-
ческий конструкт имеет свои ограничения. В частности, нам приходи-
лось отмечать необходимость при его использовании иметь в виду ис-
торическую релятивность статусов "классический" — "пограничный",
момент исторической динамики — ведь сами западноевропейские,
"классические", цивилизации на раннем этапе своего формирования
были гетерогенными образованиями, — равно как и механистичность
тезиса о том, что "синтезность" есть исключительно свойство "класси-
ческой" цивилизации, а "симбиотичность" цивилизационного продук-
та — свойство "пограничных" образований.
Это очевидно, если мы учитываем историческую динамику разви-
тия именно иберийской цивилизации — еще в начале XX в. она пред-
стает по отношению к западноевропейскому ядру как "пограничное"
образование, а к его концу, в результате модернизационных процес-
сов, явно входит уже в класс устойчивых западноевропейских моделей,
6
в то время как Латинская Америка несомненно принадлежит к погра-
ничным явлениям, хотя на исходе столетия все более приобщается к
модернизации.
Другой момент, который следует учитывать, состоит в том, что —
и это становится очевидным при обращении к культурной феномено-
логии — внутри класса "пограничных" цивилизаций необходимо ви-
деть существующие, иногда глубинные, различия между "объектами",
его составляющими. В настоящем издании Я.Шемякин в своей статье
придает новый смысл и размах проблеме типологической соотноси-
мости латиноамериканской и российской цивилизаций, выделяя их
внутри класса "пограничных" образований как цивилизации особо-
го — "планетарного" масштаба — идеи, которым еще предстоит, оче-
видно, обсуждение.
Что касается Латинской Америки, в принципе, типологическое со-
поставление латиноамериканской и российской цивилизаций стало
уже привычным в отечественной культурологии, причем акцентирует-
ся, как правило, то, что их может сближать как цивилизационные
типы. Нам же представляется, что при очевидной плодотворности
таких сопоставлений, следует большее внимание уделять тому, что от-
личает два варианта, и отличает резко, устанавливая довольно жест-
кие границы возможного типологического "породнения". Эти возмож-
ности и границы связаны с различным историческим возрастом сопо-
ставляемых "объектов", с различными уровнями и фазами их сформи-
рованности, с различной онтологической "схематикой", заложенной в
их основу, с различными цивилизационными механизмами, управляю-
щими этими системами.
Причем различия ярко проявляются и преломляются именно в фе-
номене праздника, праздничной культуры, которые наглядно фиксиру-
ют возраст, характер, уровень, онтологическую сущность той или
иной цивилизации.
Более чем тысячелетняя история христианской (в восточном вари-
анте) традиции в России дает существенно иную картину в сравнении с
пятисотлетней историей латиноамериканской культуры.
Одним из оснований для сближения с латиноамериканским вариан-
том (согласно той линии культурологической рефлексии, что берет на-
чало от Н.Бердяева) является якобы доминирующая роль "языческо-
го", "варварского", дионисийско-анархического, магико-ритуалисти-
ческого начал в русском типе культуры и человека (отсюда противо-
стояние модернизационным процессам, "срывы" и "расколы", преоб-
ладание инверсионного типа разрешения бинарных оппозиций и т.д.).
Не вдаваясь в иные аспекты культуры, отметим: в том, что касается
русского праздника, праздничной культуры, при таком, в достаточной
мере "романтическом" подходе, обнаруживается резкое преувеличение
архаико-магико-ритуалистического элемента в русском типе и в то же
время совершенно очевидно преуменьшается роль этих пластов в за-
падноевропейских культурах. Очевидно, правильнее было бы говорить
об относительно большей или меньшей активности, способности к ак-
туализации архаических пластов в восточном и западном вариантах
при определенных исторических условиях, но архаика в принципе ни-
куда не исчезает и на Западе. Архаическое составляет неизменный
7
"груз" цивилизационной "подкорки", фундамент культуры, всегда ак-
туализируется в кризисных, "пограничных" или "пороговых" ситуаци-
ях, и периодически — в их специфических моделях, какими и являются
праздники.
Думается, что по такому параметру, как праздничная культура,
русский тип скорее сближается не с Латинской Америкой, а с Ибе-
рией — по "возрасту", по достигнутому уровню гомогенности, глуби-
не совмещенности календарной архаики и христианской праздничной
традиции. Традиционные праздники, как Испании (см. статью А.Ко-
жановского), так и Руси представляют собой устойчивую систему от-
лаженных взаимоотношений элементов доосевого и осевого времени,
естественно, с внутрирегиональными и локальными вариациями.
Следует выделить и другое: как только мы начинаем говорить о
праздниках, праздничной культуре, сразу становится очевидным, что
понятие российская цивилизация имеет свои границы. Тому простое до-
казательство состоит в том, что есть этнические русские праздники, но
нет этнических или суперэтнических праздников российских (если ко-
нечно, не брать в расчет исторически меняющиеся, и довольно быстро,
официальные, государственные праздники). В то же время не вызывает
никакого сомнения понятие латиноамериканский праздник (как супе-
рэтнический тип). Объяснение следует искать в том, что характер и ре-
зультаты цивилизационных процессов на просторах Евразии и Нового
Света оказались различными.
Экспансии русского этноса в Азию, на Север, на Юг, и иберийско-
го в Новый Свет, породили разные варианты взаимодействия с мест-
ными культурами и цивилизациями и, соответственно, — различные
результаты. Русский вариант "ограниченного контакта", или контакта
"охранительного" типа, как он вырисовывается в XVII в., когда закла-
дываются парадигматические формы культурно-цивилизационных от-
ношений, в сущности, противоположен иберийскому — "агрессивно-
контактному". В русской зоне экспансии мы имеем дело с анклавным
расселением, с культурным сосуществованием, с обменом культурны-
ми ценностями, с отсутствием миссионерства, с официальным запре-
том на активную христианизацию и ограничениями на многие виды
контакта, в том числе на расово-этническое смешение — впоследствии
это подтвердилось в основополагающей концепции автономного раз-
вития наций и народностей в рамках Советского государства; в испан-
ском варианте — с борьбой-взаимопроникновением встретившихся
традиций, с активнейшим миссионерством, с массовым насильствен-
ным крещением, с бурной расово-этнической мисцегенацией, что в со-
вокупности создает культуропорождающие механизмы интеграцион-
ного, синтезирующего, в перспективе, типа7.
Русская экспансия не создала на огромном пространственном про-
тяжении нового российского цивилизационного типа в развитом и ус-
тойчивом варианте, здесь сложилось рядоположенное, достаточно
автономное, сосуществование, что исключало активную синкретиза-
цию (отсюда, наверное, и извечная русская утопия универсального
синтеза, на деле оканчивающаяся расколами слабой цивилизационной
систематики).
8
Результатом действия в Новом Свете иной цивилизационной стра-
тегии стало возникновение особого культуротворческого механизма,
порождавшего синкретические, симбиотически-синтетические культур-
ные формы при ведущей роли иберийской традиции, превращавшейся
во взаимодействии с автохтонным субстратом в доминантную креоль-
скую, то есть латиноамериканскую, традицию, что особенно наглядно
видно именно в праздничной культуре (см. статьи Е. и А.Харламенко,
Д.Федосова, Т.Гончаровой, Е.Васиной, В.Хаита и др.). И по сей день
латиноамериканская праздничная культура, в отличие от иберийского
или русского завершенных в формировании вариантов, составляет
часть крупнейшего в мировой истории продолжающегося межцивили-
зационного метаморфоза. Это имеет решающее значение для понима-
ния возраста, уровня сформированности и онтологической сущности
латиноамериканского праздника.
Приведем некоторые положения, разработанные отечественной ла-
тиноамериканистикой, фундаментальные для понимания особенностей
латиноамериканского цивилизационного варианта в целом, и такой
его "первичной" формы, какой является праздник.
Латиноамериканская культура возникает в особом креативном
поле — в поле Первозданности, что определяет культуротворчество
здесь, как Первотворчество*. При тех условиях, что сложились в
Новом Свете в столетие встречи европейско-иберийской и местных
традиций (борьба-взаимодействие), ни одна из них не могла стать сис-
темообразующей в чистом виде. Здесь возник как бы эффект "чистого
листа" — ведь ни один, ни иберийский, ни местный праздник, в этих
условиях не мог быть, так сказать, "разыгран", повторен в своем ис-
конном виде. Здесь требовалось сотворчество разных уровней Архаи-
ки (доосевой и осевой, христианской), причем именно праздник, преж-
де всего календарный и религиозный христианский, стал тем первич-
ным креативным полем, на котором возникал цивилизационный ком-
промисс-взаимодействие на всех уровнях его структуры (проблемати-
ка, сюжетика, обрядово-ритуальное обрамление, декоративизм, мифо-
поэтика и т.п.). Разумеется, все "языческое", концептуально-символи-
ческое, сущностное, автохтонное, было подавлено, но на самом деле,
оно продолжало жить в сознании крещаемых и искало компромисса с
новыми образами, символами, концептами по сходству или подобию,
а миссионеры совершенно сознательно использовали местную мифоло-
гию для растолкования новых догматов. И уж вовсе не изгонялись,
особенно в XVI в., местный декоративизм, атрибутика, без которых
практически невозможно было "разыграть" любой христианский
праздник.
И именно в празднике, как первичной форме культуры, суждено
было возникать новому "культурному бессознательному", новой циви-
лизационной архетипике, новой базовой нормативности, надличност-
ным компонентам культуры9. А это означает, как бы это странно ни
звучало, что латиноамериканец начинал твориться в ходе христианиза-
ции как новый тип прежде всего через праздник, то есть как Homo
Feriatus.
Это положение можно было бы развернуть и в историческом аспек-
те, и в аспекте специфики формирующейся латиноамериканской мен-
9
тальности, в онтологическом, в поэтологическом измерениях, что, соб-
ственно, и делается на страницах этой книги.
Развивая высказанное положение, парадоксально звучащее для тех,
кто привык иметь дело с готовыми, а не с формирующимися традиция-
ми, можно было бы сказать, разумеется, в метафорическом смысле: от-
крытие и последующее освоение Нового Света — это сплошной празд-
ник. Поясним, что мы имеем в виду не, так сказать, тривиальное, обы-
денное веселье, а веселье, связанное с праздничным ритуалом, высту-
пающее формой экстатического переживания глубинной природы
праздника как действа, непременными составляющими которого явля-
ются эсхатологизм, утопизм и амбивалентная метаморфность всех со-
ставляющих его оснований и концептов, активизация архаических и
мифогенных пластов, образующих феномен жизнетворческого мета-
морфоза, пороговости, переходности к иному, чаемому миру.
Мы бы охарактеризовали подлинно праздничное состояние созна-
ния как праздничный катастрофизм. Именно такая матричная ситуа-
ция в Новом Свете закладывается в онтологические основы латиноа-
мериканской культуры в самых началах встречи двух цивилизацион-
ных традиций в конце XV — начале XVI вв. Достаточно проанализи-
ровать описания первооткрытий в Новом Свете, начиная с первого
письма Х.Колумба или записок П.Ваш де Каминьи10, чтобы убедиться
в этом. Истовость праздничного катастрофизма усиливалась тем, что
речь шла об открытии совершенно неведомых Европе земель, людей,
культур.
Анализ описаний первовстреч обнаруживает, повторим, несомнен-
ную атмосферу и элементы праздника и, более того, карнавальности:
травестия (переодевание, обмен одеждой, украшениями ритуального
характера), взаимное угощение, то есть элементы пиршества, участие
музыки, танца, пения, повышенная жестуальность, (при совершенно
незначительной или вовсе отсутствующей словесно-выразительной
функции из-за взаимонепонимания), эмоциональность и эротизм. И
все это окутано особой атмосферой встречи с неведомым, ожиданием
небывалого, опасного и чудесного, с утопическими чаяниями.
Подобная изначальная ситуация первооткрытия воспроизводится
на протяжении века Открытий в искаженном, "теневом" варианте в
аморальных конкистадорских вакханалиях с участием индейцев (таких
свидетельств немало в хрониках открытий и конкисты), и, в совершен-
но ином варианте, в высоко идеологизированных, одухотворенных
празднествах, связанных с массовыми первичными крещениями индей-
цев и с установлением и введением системы христианских праздников,
включавших, что особенно важно, канонизацию уже собственно лати-
ноамериканских святых, торжества по поводу местных чудесных явле-
ний Девы Гвадалупской, Девы Копакабанской и др.
Очевидно, что Homo Latinoamericanus Feriatus — это уже и не ибе-
риец, и не индеец, и не африканец, его внутренне противоречивое
самонастраивающееся заново сознание, формирующаяся иная мен-
тальность работают на симбиотически-синтетическое интегрирование
далеких концептов, форм, стилистики, и такое сознание с неизбежнос-
тью, в плане механизмов его работы, включает травестию, парафраз,
совмещения по принципу подобия, элементы гротеска, игровой, теат-
10
ральной поэтики, а в плане содержательном — эсхатологически-уто-
пический катастрофизм.
Перефразируя И.Хейзингу, утверждавшего, что всему начало — в
игре, можно было бы сказать, заостряя высказанные положения, что в
Новом Свете латиноамериканской культуре предшествует празднич-
ность. Иными словами, эта ситуация порождает как бы особо "разо-
гретый" праздничный модус сознания.
Это обнаруживает не только исключительное количество и разно-
образие праздников по всей Латинской Америке, отражающее актив-
ность процесса выработки новых, собственно латиноамериканских
форм культуры, составляющих новый цивилизационный "космос", но
и самый тип культуротворческого сознания латиноамериканца, кото-
рого мы, в данном аспекте, уже обозначили как Homo Feriatus, с его
историко-культурной обусловленной и спонтанно проявляющейся осо-
бой подвижностью, лабильностью, импульсивностью, предрасполо-
женностью к праздничности. В праздничном модусе сознания не только
постоянно "играют" исторические рефлексы, вошедшие в плоть и
кровь культуры со времен изначальной "встречи" миров и их первич-
ного взаимодействия, в том смысле, в каком об этом говорилось. Си-
туация "встречи" этносов, культур, рас, взаимного узнавания и опоз-
навания, взаимоотталкивания, взаимопритяжения и взаимодействия
воспроизводится как архетипический "сюжет" на протяжении столе-
тий и непременно порождает эффект травестийности, пародирования,
игры, маскировки и демаскировки, парафразирования. Таков меха-
низм опознания "одного" — "другим". Кто бывал в Латинской Амери-
ке, тот видел это воочию, особенно в странах с значительной долей аф-
роамериканского населения.
После всего сказанного, думается, не требуется особых пояснений,
почему в системе латиноамериканских праздников центральное место
принадлежит "празднику праздников" — карнавалу, а вернее — кар-
навалам разного типа и разного масштаба, создающим максимально
"горячее" эсхатологически-утопическое креативное поле (см. статьи
Е.Васиной, Т.Гончаровой, А.Кофмана, В.Хаита, Ю.Гирина, Н.Поль-
щикова, Я.Шемякина и др.).
В карнавале концентрируется и конкретизируется цивилизацион-
ная специфичность латиноамериканской праздничной традиции, а
также состояние и уровень сформированности нового цивилизацион-
ного типа В устойчивой, сформировавшейся цивилизации карнавал
поддерживает и обновляет традицию, в латиноамериканском карнава-
ле происходит творение новой традиции.
Сущность карнавала состоит в том, что, если тот или иной празд-
ник символически обозначает тот или иной аспект или уровень культу-
ры, то карнавал в инвертированной символической игровой и площад-
ной форме всенародного веселья воссоздает всю целостность бытия,
выявляя его онтологические основы, метафизическую структуру. Стя-
гивая воедино прошлое, настоящее и будущее и отменяя профанное
время, обменивая его на эсхатологический, веселый и гротескный ка-
тарсис, карнавал в особенно резкой, утрированной форме обозначает
основополагающие нормы, экзистенциальные ценности, способы их
сочленения, их соотношение, обозначает и подтверждает утопический
11
вектор направленности во всеобще чаемое идеальное будущее. Именно
к нему направлено движение карнавальной "карросы" (колесной плат-
формы-повозки или/и корабля).
Онтологическая, бытийственная целостность карнавального дейст-
ва в нерасчлененном состоянии дается только самим его участникам-
творцам, наблюдатель же, находящийся в отчужденной, отстраненной
позиции, тем более, когда речь идет о взгляде ученого, с необходимос-
тью деконструирует целостность, вычленяет тот или иной отдельный
аспект. Аналитические процедуры с необходимостью ведут к смысло-
вому редуцированию, к выделению отдельных функций и способов их
репрезентации.
Одним словом, утрата целостности неизбежна при анализе, но пра-
вильно выстроенная иерархия функций позволяет выйти из этой ситуа-
ции с меньшими потерями. Условием для этого, с нашей точки зрения,
является взгляд на карнавал, его осмысление сквозь призму главной,
обобщающей функции — ритуально-рекреативной.
Чтобы пояснить, что мы имеем ввиду, вникнем в семантику слова
"рекреативный". Современные испанские recrearse, recreación означа-
ют развлечение, наслаждение, восстановление сил, отдых. Но истори-
ко-культурная, языковая память хранят рефлексы и других значений,
исходных от латинских слов creo — творить, создавать, рождать детей;
creator — создатель, творец, основатель, отец; ге-сгео — воспроизво-
дить, обновлять, преобразовывать, переделывать, восстанавливать,
возрождаться. И, кстати, также: отдыхать.
Сумма перечисленных значений и образует и поясняет глубинную
природу праздника, и особенно карнавала как символического вопло-
щения в гротескно-веселой форме (если только речь не идет о сугубо
серьезных архаических сакральных действах) целостного жизнестрои-
тельного ритуала всеобщего метаморфоза, воспроизведения, обновле-
ния и подтверждения миропорядка — в устойчивых традициях, и ри-
туала основания, творения, создания нового, своего миропорядка — в
формирующейся традиции.
С такой точки зрения "ре-креация" соединяет в неразделимое целое
все иные аспекты и функции карнавала: социально-коммуникативную,
социально-психологической релаксации, мифогенной энергетической
подпитки сознания, мировоззренческой и художественной креативнос-
ти, нормотворческую, культуростроительнуюи др.
Определения типа "пресловутое веселье" карнавала, противопо-
ставление серьезного и несерьезного в карнавале начисто перечеркива-
ют его двуединую, амбивалентную сакрально-профанную, серьезно-не-
серьезную природу. Если нет "веселого времени", то нет и серьезного
аспекта карнавала.
То же самое можно сказать и об объединении функций карнавала в
обобщающие группы: "площадно-игровое, гротескно-смеховое нача-
ло" и "ритуально-партиципативная функция" (статья Ю.Гирина); "ри-
туально-партиципативная" и "ритуально-смеховая" функции (статья
Я.Шемякина). И такое, аналитически продуктивное, разделение функ-
ций неизбежно редуцирует целостность карнавального действа, так
как на деле они действуют только в единстве, и одна является сторо-
ной и формой другой, и в ином виде они существовать не могут.
12
Но, несомненно и другое — в различных праздничных традициях
под влиянием уровня развития цивилизационной системности вперед
выдвигается та или иная функция. Большинство участников труда со-
гласно в том, что в Латинской Америке акцентируется именно культу-
ростроительная, а точнее, цивилизационно-строительная функция,
предполагающая разные формы и способы самостроительства, само-
идентификации, утверждения себя как особого, иного мира в мире дру-
гих цивилизаций, и, соответственно, различные формы репрезентации
своей своеобычности, инаковости — онтологической, бытийственной,
метафизической, этно-культурной, мировоззренческой, художествен-
ной и т.д. И все-таки повторим еще раз: и эта, выдвинутая вперед
функция дается только в целостности всего действа и только через
праздничную игру, гротескно-площадное, смеховое начало.
В этом плане хотелось бы высказать суждение по поводу понима-
ния теории карнавала и карнавальной культуры в трудах М.М.Бахти-
на. Разумеется, каждый исследователь волен выработать свое отноше-
ние к ней. Редколлегия отнюдь не намеревалась унифицировать подхо-
ды и установки. Однако представляется необходимым подчеркнуть
плодотворность целостного понимания теории М.М.Бахтина. Она
была разработана отнюдь не только на материале культуры средневе-
ковья и Ренессанса, но и далеко за пределами этих культурно-истори-
ческих эпох, и не как частная теория, а как метатеория. Статус мета-
теории ей придает разработка метапоэтики карнавала и карнаваль-
ности, как связанной с онтологическими основами другой, иной, "из-
наночной" и извечной стороны культуры, меняющейся по мере ее эво-
люции, но никогда не исчезающей, ибо она принадлежит области архе-
типического, "бессознательного", уходит в самые основы жизнетвор-
чества и человеческой природы, есть форма воплощения универсаль-
ного жизнеустроительного трансформационного ритуала, извечного
бытийственного метаморфоза (см. статью Н.Польщикова). Кроме
того, М.М.Бахтин неоднократно подчеркивал историческую изменяе-
мость европейской карнавальности, ее трансформацию и одновремен-
но показывал ее неизменное присутствие в новых, иных формах.
С этой точки зрения представляется принципиальным положение,
которое подчеркивает в своей статье В.Хаит о том, что формирование
латиноамериканской культурной традиции, в том числе и карнаваль-
ной, начинается как раз с того рубежа (XVI-XVII в.в.), когда после
расцвета и мощных проекций в профессиональное творчество европей-
ский карнавал начинает на протяжении последующих веков свое нис-
ходящее, но трансформированное развитие в различных формах гро-
теска.
В Латинской Америке мы имеем иную исторически-хронологичес-
кую картину: к XX веку, в истекшем столетии, как раз когда в европей-
ской культуре активно работают "теневые" стороны и рефлексы кар-
навального гротеска, в культуре латиноамериканской расцветает пол-
ноценная карнавальность, дающая не менее мощные проекции в про-
фессиональное творчество. И не следует ли задаться вопросом (выходя
за пределы непосредственной темы): не была ли активная полноценная
карнавальная жизнь в европейском средневековье и Ренессансе связа-
на, как и в Латинской Америке XX в., с необходимостью в те времена
13
утверждения своей, в разных вариантах, европейской цивилизацион-
ной идентичности? Ведь то была пора как раз национально-этническо-
го "собирания" Европы...
При всем том, разумеется, следует видеть глубокое отличие латино-
американского карнавала XX в. от западноевропейского карнавала
прошлого и тех форм карнавальности, что бытуют там и поныне, в
том числе и в иберийских странах. Глубинное различие связано с тем,
что вся латиноамериканская культура, и праздники особенно ярко это
демонстрируют — возникает не в результате долгого, так сказать ор-
ганического роста, а из катастрофического столкновения — "встречи"
Современности с Архаикой, с тем, что она рождается в условиях Пер-
возданности и Первотворчества, в том смысле, в каком о них говори-
лось ранее. Европейский карнавал был инобытийным выражением
своего Логоса, в Латинской Америке вся история культуры и есть по-
пытка сотворения своего Логоса из изначального хаоса, создания
Слова из ситуации взаимонепонимания. Все различие этих ситуаций с
особенной наглядностью выступает именно в разном соотношении
ключевых элементов карнавального действа.
Европейский карнавал очень "разговорчив", здесь большую роль
играет Слово; всякая словесная ритуальная формула может быть раз-
вернута и разворачивается в речевой, песенный, мелодический "дис-
курс", в "говорение" (достаточно вспомнить, например, отраженный в
"Гаргантюа и Пантагрюэле" классический европейский карнавал и его
анализ М.Бахтиным). Ничего подобного нет в карнавале латиноамери-
канском. Здесь ключевая роль принадлежит Ритму, Жесту, Пантоми-
ме, Моторике, Танцевальному ходу. Речевые формулы, в форме анти-
фонной или хоровой рефренной, как правило, лишены рационального
смысла, являются ритмической звуковой поддержкой Движения, на-
правляемого ударными инструментами. По сути, это "младенческий
лепет" культуры. Есть в карнавалах минуты, мы бы сказали, паузы
"космического молчания", когда вообще без всякого звукового сопро-
вождения работает в заданном ритме, трудится, творя себя, растет
многоногое и многорукое Тело. Но следует иметь в ввиду, что это
одновременно и момент соприкасания с запредельным, с областью
взыскуемого Духа. Когда после "космического прободения" снова
взрываются музыка, ритмика и младенческое речевое оформление,
Слово как бы рождается снова, выплавляется из магмы звуковой како-
фонии. То есть, это одновременно и творение почвы для Логоса.
Одним словом, очевидно, что слабость вербального аспекта лати-
ноамериканского карнавала — это отражение и воплощение в специ-
фической карнавальной форме исходного отсутствия "общего слова",
феномена взаимонепонимания и изначального преобладания жестуаль-
ности, пантомимы, движения, ритмики. Но, оказывается, глубоко се-
рьезные, жизнетворческие функции карнавала способны воплощаться
не только за счет активности слова, но и за счет активности невербаль-
ных средств самовыражения, создавая аналогичную по глубине ситуа-
цию "выпадения" в праздничный утопически-эсхатологический миро-
порядок.
Ресурсом латиноамериканского карнавала является множество ис-
точников: историческая цивилизационная память иберийских, среди-
14
земноморских корней, корней автохтонных, африканских, креольских,
а помимо этого — широкая развернутость и открытость латиноамери-
канского "культурного бессознательного" и в свою Архаику, и в уни-
версальный тезаурус "бессознательного". Как и в подлинных архаи-
ческих карнавалах здесь происходит глубинный жизнестроительный
метаморфоз, динамика которого порождается активнейшим сближени-
ем и взаимодействием полюсов, пределов, концов и начал — жизни и
смерти, эроса и танатоса, бытия и небытия, сакральности и профан-
ности, причем в чрезвычайных заостренных формах, как об этом сви-
детельствует, например, среди иных вариантов латиноамериканского
карнавала, мексиканский День мертвых (см. статью А.Кофмана).
Что же взыскуется в латиноамериканском карнавале? В принципе,
то же самое, что было взыскуемо и в западноевропейском карнавале,
только в особых условиях и в особенных формах. Это цивилизацион-
ная интеграция, самоидентификация, самоопределение, утверждение
своих норм и ценностей, одним словом "ре-креация" своего миропо-
рядка, в его целостности.
Но было бы неверным акцентировать в латиноамериканском кар-
навале исключительно" "горизонтальную" линию — момент "встре-
чи", взаимодействия и интегрирования на исторической "горизонта-
ли" различных этно-культурных групп. "Встречи", подобные той, что
произошла в Новом Свете, происходят не только для бытового, но и
для бытийственного, духовного знакомства. Таков закон цивилизаци-
онных встреч: каждый значительный, глубокий контакт на "горизон-
тали" тут же порождает из "вопросов" (?) и "восклицаний" (!) транс-
цендентирующую "вертикаль"; без нее невозможно выстроить новой
картины мира, потребность в которой возникает как результат этой
"встречи".
Латиноамериканский цивилизационный вариант формируется в
двойственных условиях. С одной стороны, встреча с Архаикой оберну-
лась и архаизацией христианства, "припоминанием" им давних времен
борьбы с язычеством и варварством, а неизбежное взаимодействие с
местными традициями породило явления христианско-языческого син-
кретизма (в частности, имеющий исключительное значение для форми-
рующейся культуры феномен "народного католицизма"). С другой
стороны, важное значение для формирования новой культуры имело
то обстоятельство, что оно происходило в период утраты христиан-
ской религией роли неоспоримой культурной доминанты, в период се-
куляризации сознания и широкого распространения различного рода
парарелигиозных течений. Можно говорить, что в Латинской Америке
мы имеем явно выраженную контрастивность между той официальной,
институциональной ролью, которую играет католичество, и реальны-
ми духовными ориентирами культуры. В частности, латиноамерикан-
ские праздники, в том числе и чисто христианские, календарные, не го-
воря уже о карнавале, точно обнаруживают, что как в народной, так и
в профессиональной культуре трансцендентирующая "вертикаль" вы-
страивается как магико-парарелигиозная, насыщенная импульсами ар-
хаической архетипичности. С этой точки зрения расстояние между на-
родным "магизмом" и т.н. "магическим реализмом" латиноамерикан-
ской литературы, в котором она явила миру свою неповторимую ори-
гинальность, не столь уж велико.
15
И здесь возникает еще одна тема, на которой следует остановить-
ся, — о значении карнавала для профессионального творчества.
Карнавал, будучи "машиной" цивилизационного строительства,
самоидентификации, сам одновременно является продуктом этого про-
цесса. Ведь самоидентификация может осуществляться только в офор-
мленных феноменологических объектах культуры. И потому карнавал
предстает своего рода отлаженным механизмом, состоящим из целого
набора отобранных культуротворческих механизмов, культуропорож-
дающих способов и процедур, в нем обнажается сама "механика" куль-
туростроения, включающая и симбиотические и синтезирующие меха-
низмы. Карнавал отрабатывает эти механизмы и возвращает их в жиз-
нетворческую повседневность, в модели поведения, наконец, в искусст-
во.
Можно говорить о полной изоморфности механизмов карнавала и
художественного сознания. Здесь дело и в том, что многие деятели
культуры внесли свой вклад в культуру карнавала (см. статью А.Коф-
мана), и в том, что они создают свои творческие приемы, образы под
воздействием карнавальной культуры, ее нормативности. Это кругово-
рот массового и индивидуального, бессознательного и сознательного,
архетипического и индивидуально-творческого. И потому не случайно
авторы книги пишут о карнавализованности латиноамериканской куль-
туры, искусства, о карнавализованной метапоэтике. (статьи В.Хаита,
Н.Польщикова, автора этих строк). В свое время мы утверждали это в
книге, посвященной творчеству Г.Гарсиа Маркеса .
Собственно, и может ли быть иное, если речь идет о настоящем
творце, который воплощает с высокой полнотой "культурное бессо-
знательное", присущее латиноамериканской культуре, и обогащает его
своим вкладом? И в этом смысле, можно было бы, снова вспомнив
Й.Хейзингу, сказать, что в латиноамериканском искусстве карнавали-
зованностъ сознания предшествует творческому самовыражению, если,
конечно, понимать карнавальность во всей полноте, как праздничный
катастрофизм, в котором, повторим, акценты жизнеутверждения и
метаморфоза, эроса и танатоса смещаются в диапазоне амбивалентной
игры между полюсами гибели и возрождения. Латиноамериканский
Логос творится в карнавализованном профессиональном искусстве —
именно об этом говорит творчество таких типовых и высших вырази-
телей латиноамериканского способа быть, как, скажем, Рубен Дарио
или Г.Гарсиа Маркес, хотя можно назвать и много других имен.
И напоследок: не следует ли задаться вопросом, не являются ли
такие общие для карнавала и для профессионального искусства меха-
низмы, как парафраз, травестия, выражением некоего общего цивили-
зационного алгоритма миропорядка, возникающего в результате мета-
морфоза, на границах различных культурных миров?..
Отвлекаясь от конкретной истории, от разносторонних в реальной
действительности функций праздничной культуры, от гигантского
конкретного разнообразия латиноамериканского праздника, мы кон-
центрированно сказали о главном, существенном, что отличает его как
цивилизационное самовыражение и как механизм творения собствен-
ного цивилизационного варианта, — о том, чему и посвящена книга.
В. Б.Земское
16
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Iberica Americans. Культуры Нового и Старого Света XVI-XVÏII вв.
в их взаимодействии. СПб., 1991; Iberica Americans. Механизмы культуро-
образования в Латинской Америке, М., 1994; Iberica Americans. Тип твор-
ческой личности в латиноамериканской культуре. М.; 1997.
2 См.: Праздник как феномен ибероамериканской культуры // Латин-
ская Америка, 1997. №11, 12.
3 Из широкого круга работ выделим некоторые обобщающего харак-
тера: Фрейденберг О. Поэтика сюжета и жанра. Л., 1936; ее же: Миф и ли-
тература древности. М., 1978; Пропп В. Русские аграрные праздники, Л.,
1963; Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средне-
вековья и Ренессанса. М., 1965; Календарные обычаи и обряды в странах
зарубежной Европы. XIX — начало XX века. Зимние праздники. М., 1973;
То же: Конец XIX — начало XX века. Весенние праздники. М., 1977; То
же: Летне-осенние праздники, М., 1978; Лотман Ю. Театр и театральность
в строе культуры начала XIX века / Лотман Ю. Статьи по типологии
культуры. Тарту, 1973; Мазаев А.И. Праздник как социально-художест-
венное явление. М., 1978; Гуревич А.Я. Категории средневековой культу-
ры. М., 1984; Лихачев Д., Панченко А., Понырко Н. Смех в Древней Руси.
Л., 1984; Жигульский К. Праздник и культура. М., 1985; Тэрнер В. Символ
и ритуал. М., 1986; Элиаде М. Космос и история. М., 1987; Топоров В. О
ритуале. Введение в проблематику / Архаический ритуал в фольклорных и
раннелитературных памятниках. М., 1988; Й.Хейзинга. Осень средневеко-
вья. М., 1988; Его же: Homo Ludens. M., 1992; Хренов H.A. Мифология до-
суга. M., 1998; Пигалев А. Праздник. Статья в кн.: Культурология. XX век.
Энциклопедия. СПб., 1998. Т. 2.
4 См., "Ибероамерика в мировом цивилизационном процессе" // Ла-
тинская Америка, 1999. №№ 5, 6, 7, 8, 9.
5 См., в частности: Цивилизационные исследования. М., 1996; Земское
В. Б. Проблема культурного синтеза в пограничных цивилизациях / Рос-
сийский цивилизационный космос. К 70-летию А.С.Ахиезера. М., 1999.
6 См. там же.
7 См.: Земское В.Б. Типология эсхатологических пространств: концеп-
ции европейско-христианской экспансии XVI-XVIII вв. в Америку и в Си-
бирь и их цивилизационные проекции / Пространства жизни. К 85-летию
академика Б.В.Раушенбаха. М., 1999.
8 См.: Iberica Americans. Тип творческой личности в латиноамерикан-
ской культуре. М., 1997. С. 8.
9 Там же.
10 Хроники открытия Америки. 500 лет. Антология. М., 1998.
11 Земское В.Б. Габриель Гарсиа Маркес. Очерк творчества. М., 1986.
17
Часть I
У НАЧАЛ ИБЕРОАМЕРИКАНСКОЙ
ПРАЗДНИЧНОЙ ТРАДИЦИИ
Харламенко E.H., Харламенко A.B.
ОБ ИСТОКАХ И О РОЛИ ПРАЗДНИКА
В ИБЕРОАМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ
В последние десятилетия научный и общественный интерес все
больше привлекают социально-культурные явления, связанные с
разделением человеческого времени на повседневное и празднич-
ное, бытовое и ритуальное, профанное и сакральное. Этот интерес,
несомненно, связан с более или менее осознанным стремлением в
эпоху невиданной прежде глобализации социально-культурных
процессов сберечь культурные богатства народов. Важность этого
круга тем для исследования ибероамериканских культур ясна каж-
дому, кто имеет представление об их прошлом и настоящем. Если и
не столь очевидно, то не менее верно обратное: ибероамериканский
материал имеет особое значение для решения принципиальных во-
просов, выдвигаемых данным направлением исследований. Ибе-
рийские и ибероамериканские страны прошли все основные куль-
турно-исторические пороги — от становления классовой цивилиза-
ции до постмодернистской глобализации — крайне сжато во време-
ни (в Ибероамерике — не более 500 лет); процессы эти были необы-
чайно драматичны, оказали значительное воздействие на ход все-
мирной истории и были отражены достаточно развитым общест-
венным сознанием. Обращение к этому уникальному историко-
культурному опыту позволяет наблюдать праздники на различных
стадиях развития общества, прослеживая их историческую преем-
ственность, но избегая анахроничного перенесения характеристик
и оценок одних эпох на другие. Здесь особенно необходим исто-
ризм подхода, уберегающий от "общечеловеческих" банальностей.
В первую очередь имеет смысл уточнить само понятие праздни-
ка. В настоящее время его интерпретации, в сущности, сводятся к
двум-трем: праздник как отдых (праздность); праздник как сак-
ральное явление; праздник как снятие запретов.
18
"Народные" праздники., в первую очередь карнавал понимал,
как время отмены запретов М.М. Бахтин. Выводил он их как будто
из древнейших обрядов плодородия, но путей перехода от ритуала
к карнавалу и превращения последнего в праздник низов не просле-
живал. Он противопоставлял природу обществу и социальные
"верхи" — "низам" применительно ко всей истории со времени раз-
ложения первобытной общины, особенно к Средневековью. Сред-
невековые низы, борющиеся с враждебной природой, замученные
непосильным трудом, эксплуатацией, запуганные священниками,
подавленные непроходимой серьезностью официальных празд-
неств1, на время карнавала обретают свободу от бесчисленных за-
претов, наложенных на них государством и церковью. Праздник
(карнавал) — время нарушения запретов, т.е. всяческого порядка,
время отрицания завершенности и предвидение будущего, в кото-
ром все равны и свободны. На карнавале свобода устанавливает
утопическое равенство и отрицает смехом серьезность официально-
го праздника и официальной идеологии2. Все это — проявление
"вольного народного духа" и независимости от государства и офи-
циальной церкви. Для обоснования своей концепции М.М. Бахтин
постулировал народную смеховую культуру, противопоставив ее
официальной серьезной до уже не "смехового", а смешного: к пер-
вой он отнес шутов, карликов, уродов и т.п. персонажей, известных
при дворах как минимум от фараона Эхнатона до Анны Иоаннов-
ны. Последователи внесли в концепцию коррективы. К примеру,
В.П.Даркевич предложил понимать слово "народный" не в смысле
"относящийся к эксплуатируемым и угнетенным низам", а в смысле
"неофициальный"3. На этом пути завершается формирование пред-
ставления о "празднике непослушания" по преимуществу.
В.Н.Топоров рассматривает праздник как сакральное время
свершения ритуала, который у него практически поглощает празд-
ник. При этом сакральность связывается с "творением", выступаю-
щим в дальнейшем циклическом повторении событий уничтожени-
ем, возвратом к первичному хаосу, разрывом непрерывности, нача-
лом4. В.Н.Топоров считает, что первоначально сакральность про-
низывает весь процесс жизнедеятельности, но в то же время сак-
ральные по преимуществу время и пространство выделились сразу
же. Но тут напрашивается ряд вопросов. Неужели человечество ис-
ходно и сознательно разделило свою жизнедеятельность на про-
фанную и сакральную? Как может отмечать акт начала сакральный
период длиной в несколько месяцев? Не подставляет ли термин
"творение" поздний патриархальный миф о Боге-Творце на место
исходного матриархального мифа о Матери-Земле порождающей и
поглощающей? Можно ли называть творением упорядочение и
можно ли ставить знак равенства между распадом и уничтожением?
Не правильнее ли говорить о порождении еще и потому, что по-
19
рождение необходимо связано со смертью именно в циклическом
развитии, не подразумевающем абсолютного начала? Если празд-
ник состоит в имитации (повторе) этого абсолютного начала, то
почему все народы знают не один, а как минимум два сезонных
праздника, один из которых связан с ритуалом рождения, а дру-
гой — с ритуалом смерти (праздники солнцестояний — рождения
Солнца и его смерти; весеннего и осеннего равноденствия; весенней
вегетации и сбора урожая)? Трудно согласиться и с тем, что сак-
ральность исходно представляется людям сосредоточенной в неко-
тором времени и пространстве. Абсолютная сакральность некото-
рого пространства и времени должна быть связана с абсолютным
началом, а это очень позднее представление. Внутри традиции, из-
вестной нам лучше всего, традиции, приведшей к становлению и
развитию христианства, такое представление отсутствует совер-
шенно в Ветхом Завете и проявляется отчасти только в Новом — в
Евангелии от Иоанна.
Как представляется нам, в доклассовом родовом обществе и на
заре общества протоклассового праздник в собственном смысле еще
не сложился. Время не делилось на праздники и будни, т.к. еще не
было разделения жизнедеятельности на труд и отдых, дело и досуг,
ритуал и профанные занятия5. Существовал единый процесс жизне-
деятельности, имевший ритуальный или, вернее, магический ас-
пект — воображаемое воздействие на нечто такое, что находится
вне этой жизнедеятельности, но от чего она не в последнюю оче-
редь зависит. Облава на зверей, выпас скота, полевые работы, пир
после удачной охоты или сбора урожая, сопровождаемый обменом
дарами и заключением браков, инициация юношей и девушек —
все это были общие дела всей общины с воображаемым участием
тотемов, духов или богов. В них невозможно разделить производ-
ство, распределение, потребление, управление общиной, священно-
действие, познавательное и эстетическое отношение к миру. Людям
представлялось, что любое отступление от заведенного предками
порядка жизни грозит нарушить весь окружающий миропорядок,
поколебать единый мировой закон, как бы он ни назывался: Логос,
Рита, Арта, Дао, Ометеотль или как-то иначе.
Для выделения сакрального как такового необходимо, чтобы в
глазах людей внешние по отношению к их жизнедеятельности силы
приобрели решающее значение. Вследствие этого и собственная
жизнедеятельность представится им неоднородной, и наиболее су-
щественной ее стороной станет именно сторона, связанная с внеш-
ними силами. Тогда и выделится сакральность — первоначально
лишь как особо важная сторона единой синкретической деятель-
ности. Сакральными, видимо, первоначально действительно пред-
ставлялись некие существенные моменты жизнедеятельности, не со-
впадающие с суммой (системой) остальных ее моментов и обеспе-
20
чивающие ее возобновление. Но они должны были представиться
не столько абсолютно сакральными, сколько несколько более сак-
ральными, чем весь остальной процесс жизнедеятельности, нена-
много менее их связанный с мировым законом. Поскольку же пред-
ставление о преимущественно сакральном складывается в эпоху,
когда отношения между людьми еще не обособились от их отноше-
ний с природой, моменты преимущественно сакральные действи-
тельно должны быть связаны с природно-хозяйственным циклом.
Таковы в первую очередь дни начала сезона охоты, равноденствия
и солнцестояния, начала полевых работ, сбора урожая. Они и суть
первые праздники, точнее, еще предпраздники, безусловно, связан-
ные с представлением о возобновлении жизни природы и деятель-
ности человека, именно возобновлении, а никак не абсолютном на-
чале, возобновлении цикла, очередном порождении после очеред-
ной смерти. И лишь позже, действительно в процессе становления
представлений об абсолютном начале, эти моменты смогли при-
нять на себя сверх собственной сакральности и сакральность вооб-
ще.
По-видимому, не просто характерной чертой праздника, а
одним из механизмов его формирования, восходящим к доклассо-
вым, первобытным временам, является воспроизведение жизни
предков. Судя по обильному этнографическому и археологическо-
му материалу, в эпоху позднего палеолита, по мере формирования
родового строя, складывались и предшествовавшие праздникам об-
ряды, на несколько дней в году воспроизводившие основные
формы жизнедеятельности предшествующей мустьерской эпохи.
Торжественная охота на зверя-тотема с последующим пиршест-
вом — причащением его плоти и крови, облачением в его шкуру,
музыкой и танцами, воспроизводившими его голос и движения, и
оргиастическим — с временной отменой родовой экзогамии — по-
добием звериного гона обеспечивали магическое отождествление
людей со своим тотемом, которое в более древние времена было
постоянной чертой их жизнедеятельности.
Истоки собственно праздника, видимо, надо искать в длитель-
ной эпохе, лежащей между закатом родового строя и утверждением
антагонистического классового общества, — эпохе, которую мы,
используя термин Л.Я. Куббеля, называем протоклассовой. В этот
период общины образуют иерархическую систему, что требует вы-
деления организаторских и познавательных функций, выполняе-
мых уже особыми людьми — знатью, жречеством. Но эти люди еще
не образуют господствующий класс; они в значительной мере оста-
ются должностными лицами если не отдельной общины, то всей
системы общин, а их деятельность большей частью отвечает по-
требностям управляемых. "Тяжелые", на взгляд цивилизованных
путешественников и историков, подати на поверку оказываются
21
формой перераспределения продуктов, произведенных разными об-
щинами, между ними и создания жизненно необходимых запасов, а
так называемые повинности типа инкской миты выполняются без
всякого "внеэкономического принуждения"6. Общественное разде-
ление труда уже возникло и должно быть как-то оформлено, но оно
существует еще не на собственной основе, и формы его выражения
могут быть только такими, чтобы исподволь менять традицию в
рамках самой традиции. Сознание же управляемых и управляю-
щих, сознание, всегда отстающее от изменений бытия, и подавно
воспринимает взаимоотношения тех и других по традиционному
образцу.
Тогда и приходит на помощь праздник, старинные названия ко-
торого указывают вовсе не на "праздность", а на "почестей пир"
сказок и былин (испанское "fiesta" и португальское "festa", одноко-
ренные с "festin" — пир). Синкретизм, прежде характеризовавший
всю жизнедеятельность людей, теперь концентрируется в некото-
рых ее моментах — правда, в совокупности заполняющих значи-
тельную часть их жизни. Человеческое время впервые разделяется
на две неравноценных части, повседневность и праздники, предвос-
хищая более позднюю противоположность рабочего и свободного
времени, труда и досуга. Теперь общинники обычно едят в своих
домах и лишь время от времени устраивают, как во времена пред-
ков, общую праздничную трапезу (вопреки М.М. Бахтину, знак
единства с природой, а не борьбы с ней), принося жертвы предкам
и богам под началом жрецов. Уже не все добытое трудом или вой-
ной, а только часть, пусть немалая, раздается участникам пира-
потлача, который тоже превращается в празднество. Только пер-
вую борозду проводит золотой мотыгой или ралом священный
царь, только первый сноп сжинает он собственноручно, и это уже
не обычные полевые работы, а священный праздник сева или уро-
жая.
Концентрируя в себе отношения минувшей эпохи, праздник в то
же время наполняет их качественно новым содержанием. Иначе го-
воря, способность магического воздействия на природу и людей
приписывается уже не всей жизнедеятельности, а только особой де-
ятельности, получающей собственно сакральный статус и совер-
шаемой в особое время, тоже получающее статус сакрального (анг-
лийское "holiday", белорусское и украинское "свято" — праздник).
Так намечается будущая противоположность естественного и
сверхъестественного, мирского и священного. Меняется и статус
жрецов: из людей, выполняющих важнейшие общие дела и сосредо-
точивающих в себе магические возможности всей общины, они
превращаются в знатоков ритуала и, следовательно, посредников
между людьми и богами, распоряжающихся сакральностью, исхо-
дящей от богов.
22
В силу своей чрезвычайной важности праздник исходно никак
не может быть "несерьезным" делом и противопоставляться "серь-
езности", хотя он, действительно, необходимо связан со смехом как
частью ритуала плодородия, что убедительно показали О.М.Фрей-
денберг и В.Я.Пропп7. Смех здесь вовсе не является признаком "не-
серьезности" в понимании Нового времени. Скорее здесь следует
говорить о еще не расчлененной синкретической слитности того,
что в будущем распадется на "серьезность" и "смех". "Смеховая
культура" никак не может возникнуть как нечто самостоятельное в
противовес культуре "серьезной". Смех является необходимым ас-
пектом единой возникающей культуры, а вовсе не образующим мо-
ментом какой-то культуры отдельной.
Точно так же праздник не может исходно быть временем "нару-
шения запретов", т.к. никакое нарушение не может обеспечить ма-
гического возобновления жизни мира и человека. Вообще, не сле-
дует преувеличивать роль запретов в Древности и Средневековье,
когда — за исключением их поздних периодов — "нельзя" и "долж-
но" еще слабо выделились из синкретического "так заведено пред-
ками". В праздник не "нарушаются" нормы поведения, а предписы-
ваются иные, чем в будни, или, если угодно, действуют противопо-
ложные запреты. Например, в будни запрещено пить вино, а в
праздник запрещено не пить вина; кто в праздник пьет вино, со-
блюдает запреты, а кто не пьет — нарушает. Разве не чувствуем мы
этого и сегодня, когда за праздничным столом уговаривают непью-
щего: "Ну выпейте уж ради праздника!"
Дальнейшее общественное развитие необходимо разлагает уже
не первоначальный синкретизм, а синкретизм отдельных общест-
венных институтов, в том числе праздника. Праздничное восста-
новление первоначального единства общества происходит уже не в
магическом, а в чисто формальном смысле, как в поздних римских
сатурналиях и подобных им действах позднего Средневековья и Ре-
нессанса, ярко изображенных Рабле. Место смены деятельности за-
нимает "праздность", безделье, место ритуала — пренебрежение
будничными запретами. Былая серьезность смеховых обрядов (на-
ряду с обрядами плача) сменяется шутовством, причем прежде
всего осмеиваются древние действа, отвергаемое или уже забытое
значение их. Все это — признаки отнюдь не цветения "народной
смеховой культуры", а разложения единой культуры на антагонис-
тические культуры "верхов" и "низов".
Так, исходный смысл праздничной трапезы заключался не в ко-
личественном, а в качественном отличии еды и питья от повседнев-
ных, бытовых, т.е. в существовании ритуальных блюд и напитков,
поедаемых и выпиваемых по праздникам. В древнейшие времена по
определенным праздникам предписывалось поедать мясо тотемно-
го животного, чего никак нельзя было делать в непраздничное
23
время. Позднее ритуальными оказываются архаичные кушанья и
напитки, часто приготовленные с помощью старинной утвари. Так,
в Библии в качестве ритуального хлеба упоминаются "опресноки",
лепешки из пресного, недрожжевого теста. То же самое было в
Новом Свете. Как свидетельствует Д.Дуран, описывая ацтекский
праздник Кецалькоатля, «все люди той земли, кроме гуастеков..,
ели в этот день пресный хлеб, как мы здесь его называем, хлеб без
дрожжей... Называют этот хлеб на их языке атамалли, что значит
"хлеб на одной воде"»8. У других народов по праздникам ели еще
более древнюю еду — кашу из первых зерен нового урожая. Празд-
ничным напитком у многих народов было вино (возможно, как
субститут крови тотема). В классовом же обществе праздничная
трапеза осмысливается не в связи с ритуалом плодородия, а в связи
с временным приобщением малоимущих к образу жизни имущих.
Отсюда и "богатый стол", и праздничное обжорство и пьянство.
Бочки вина, выкатываемые на площади из царских (королевских,
княжеских, монастырских) погребов, вкупе с раздачей пирогов
должны подогревать ликование подданных в "царские дни". Но
вход на пир знати участникам плебейского веселья уже запрещен.
Безусловно, ни классовый антагонизм, ни культурный как часть
его не могли сложиться вполне не то что за несколько лет, но и за
несколько столетий. В Европе он в значительной мере был стерт
падением Римской империи, в раннее Средневековье находился в
зачатке, а в высокое Средневековье формировался заново. Поэтому
праздничная серьезность не исключала и даже не просто терпела, а
необходимо предполагала смех; мистерии дополнялись дьяблерия-
ми и тексты пародийных литургий сочиняли клирики. Это было
единство противоположностей, уже выделившихся из первоначаль-
ного синкретизма и определившихся каждая в своем качестве, но не
дошедших еще до антагонизма.
Изложенную выше точку зрения на происхождение и культур-
ное значение праздника подтверждают сведения о раннеклассовых
праздничных ритуалах доколумбовой Америки, которые донесли
до нас ибероамериканские хроники.
У ацтеков и день и ночь были организованы в соответствии с
необходимостью отдать дань богам-покровителям каждого време-
ни суток. Саагун сообщает: "Во все дни жертвовали кровь и куре-
ния Солнцу; как только оно взойдет, ему даровали кровь из... пере-
пелок; оторвав им головы, их, источающих кровь, поднимали к Со-
лнцу, как бы жертвуя ему ту кровь, и при этом говорили: "Солнце
уже взошло.., мы не знаем, как свершит оно сегодня свой путь, и не
случится ли с народом какого несчастья." Затем обращались к
самому Солнцу: "О Владыка наш, да свершится благополучно ваше
дело!" Это делалось каждый раз на рассвете; ему воскуряли благо-
вония четыре раза за день и пять раз за ночь: первый раз на рассве-
24
те, второй — когда пройдет треть суток, третий в полдень и четвер-
тый — при заходе Солнца. В ночное время воскуряли благовония в
первый раз — как стемнеет; второй — когда все готовились ко сну;
третий — когда начинали исполнять музыку, чтобы подняться к за-
утрене; четвертый — вскоре после полуночи; пятый — незадолго
до того, как на небе появится заря; и когда поздно вечером возжи-
гали благовония , приветствовали ночь словами: "Владыка ночи
именем Йоальтекутли уже вышел в путь; мы не знаем, как совер-
шит он свое дело или свой путь!"9 Здесь очевидно отразилось пред-
ставление о равномерно распределенной сакральности и о необхо-
димости поддерживать мировой порядок своими действиями,
также равномерно распределенными во времени.
Ко временам охотников и собирателей дикорастущих плодов
восходит ацтекский праздник Нового огня, называвшийся "Наш
отец огонь жарит еду." Ацтеки делали статую бога из палок, в пол-
ночь трением добывали огонь. "Утром, на рассвете, приходили все
подростки и юноши, каждый с добычей вчерашней охоты; выстро-
ившись в ряд, все они проходили перед стариками, которые стояли
возле дома кальпулли, где находилась статуя, и подносили добы-
тых ими птиц всякого рода, а также рыб, змей и других водных тва-
рей: принимая эти подношения, старики бросали их в большой
огонь, пылавший перед статуей. Все женщины пекли лепешки, на-
зываемые huauhquiltamalli, и также на рассвете подносили их в дар,
складывая перед статуей; и там их набиралось множество; и как
подростки приносили свою добычу, в том же порядке они обходи-
ли вокруг огня; когда они проходили у огня, старики давали им
каждому по лепешке, и подростки выходили в том же порядке. Эти
лепешки назывались также chalchitamalli. Их пекли во всех домах и
приглашали друг друга угоститься ими; женщины состязались, кто
первая принесет эти лепешки; та, которая успевала первой их при-
готовить, приглашала соседей на угощение..."10 Праздник этот оче-
видно обращен ко временам доклассового общества и воскрешает
тогдашний образ жизни: ночное добывание огня трением; лепешки
из листьев амаранта (bledos) — трофей собирательства, а не плод
земледелия; обмен между женщинами-собирательницами и юноша-
ми-охотниками, совместная трапеза-пир.
Все оргиастического характера солярно-календарные праздники
народов Месоамерики, мнимые "праздники непослушания" с по-
треблением изрядной дозы алкоголя и потасовками приурочены к
ритуалам перехода, в первую очередь — смены природных сезонов
либо календарных циклов различной длительности, к которым бы-
вают привязаны и ритуалы инициации. "И когда наступал вечер,
все старики и старухи пили октли, вино земли, и тем октли, что
пили, сначала совершали возлияние четырем сторонам очага; об
этом они говорили, что угощают огонь тем напитком, воздавая ему
25
тем божеские почести, подобно жертвоприношению или дару. Раз
же в четыре года этот праздник проводился весьма торжественно, и
правитель со всеми своими вельможами устраивал священный
танец перед домом или храмом этого бога, и на эти праздники раз
в четыре года не только старики и старухи пили вино или пулъкре,
но все, юноши и девушки, мальчики и девочки, пили его; потому
назывался этот праздник пилъяоано, что означает праздник, когда
мальчики и девочки пьют вино или пулъкре..."п Регламентация по-
требления алкоголя была вызвана явно не правилами хорошего
тона и даже не заботой о здоровье, а сакральным характером на-
питка. Ацтеки "не считали за грех то, что делали в пьяном виде,
даже если это были тягчайшие грехи..."12, т.к. все сделанное отно-
силось на счет богов пулькре. Но, естественно, общение с богами
не могло происходить по произволу каждого пьяницы, и за такое
он подлежал принесению в жертву тем же богам.
По свидетельству Мотолинии, огромную роль в обществе Тла-
скалы играл пир. С ним были связаны возвращение из странствий,
закладка нового жилья, поминовение покойников. Особую роль
играл пир в "лишние" пять дней, завершавшие год. "В дни празд-
неств они приносили служителям храмов кур, собачек и перепелок,
приносили свое вино и хлеб, и все напивались допьяна. Покупали
для торжества охапки роз и сосуды с благовониями и с какао.., а
также фрукты. На празднествах часто раздавали гостям коврики, и
те плясали на них днем и ночью, пока не падали от усталости или
от хмеля"13. Очевидна именно строгая регламентация всех этих
"нарушений правил", которые могут происходить только в соот-
ветствии со строгими правилами и календарем и обращены опять-
таки в прошлое. Хмель и танец здесь — отнюдь не признак разгула,
а часть магического действа.
Точно так же и смех был составной частью одного из эпизодов
главного праздника Кецалькоатля в храме города Чолулы. Вот как
описывает его доминиканец Диего Дуран: "Посредине этого храма
был двор, где в день его праздника устраивались большие танцы, и
потехи, и весьма потешные интермедии (entremeses). Там все купцы
и владетели, поев, танцевали вокруг того театра со всеми своими
богатствами и в богатых нарядах; как кончался танец, выходили
те, кто давал представление... Сперва представляли интермедию о
больном, покрытом нарывами; изображали, что он очень от них
страдает, жалуется на мучающие его боли, смешивая многие по-
тешные слова и движения, чем заставляли людей смеяться. Едва
кончалась эта интермедия, начиналась другая, представлявшая
двоих слепых и двоих подслеповатых. Эти четверо вступали в по-
тешную перепалку, обмениваясь остроумными словами; слепые и
подслеповатые по-всякому обзывали друг друга. Едва кончалась
эта интермедия, выходил еще один, представлявший простуженно-
26
го и кашляющего; этот изображал сильно простуженного, делая
широкие и забавные жесты. Затем представляли муху и навозного
жука, выходя переодетыми сими животными; один жужжал, как
муха, подбирающаяся к мясу, другой гонялся за ним, говоря тыся-
чу потешных слов, а еще один, переодетый навозным жуком, ко-
пался в соре. От всех тех интермедий они очень веселились и быва-
ли довольны. Сие представление не обходилось без мистерии, ибо
было основано на том, что сего идола Кецалькоатля они считали
покровителем нарывов, и болезни глаз, и простуды и кашля, так
что к тем интермедиям примешивали просительные слова, обра-
щенные к этому идолу, прося у него здоровья, и так все страдавшие
сими недугами и болезнями приходили с приношениями и молитва-
ми этому идолу и храму"14. Как можно видеть, смех неотрывен от
"мистерии", т.е. находится в нерасчлененном единстве с ней.
Рассмотрим теперь предпосылки "праздничности" ибероамери-
канских культур, которые сложились не в Новом Свете, а по эту
сторону Атлантики. Специфика развития иберийских стран сохра-
нила в их культуре вплоть до наших или почти наших дней очень
многие архаичные черты, связанные в первую очередь именно с
праздниками. Поскольку речь идет о культурах, в которых боль-
шое, если не преувеличенное значение всегда придавалось латин-
ским истокам, в первую очередь вспоминается Рим с триумфами
полководцев, гладиаторскими играми и плебсом, требовавшим
"хлеба и зрелищ". Но эти празднества в позднем виде, обусловлен-
ном оторванностью значительной части плебса от производитель-
ного труда и возможностью его подкупа за счет провинций, никак
не могли стать народной традицией в этих самых провинциях и тем
более пережить крушение империи.
Римские празднества были частным, сильно модифицирован-
ным случаем явления, свойственного всем древним культурам Сре-
диземноморья. Вспомним избрание временного царя в странах
Ближнего Востока, священные игры критян с быком, спектакли
античного театра, гонки колесниц на ипподроме Константинополя.
Во всех этих случаях речь шла о чем-то более серьезном, чем "про-
сто зрелище". Не зря действа подчас выливались в народные вос-
стания. Не случайно в театре армянской столицы во время пред-
ставления "Вакханок" Еврипида зрителям демонстрировали отруб-
ленную голову Красса. Не из одной прихоти Нерон играл в театре,
а Коммод участвовал в гладиаторских играх. С другой стороны,
сама потребность народа, даже римского плебса, не в государст-
венных субсидиях вообще, а именно в массовых зрелищах, сопро-
вождаемых раздачей даров, берет начало отнюдь не в эпохе разви-
того рабовладения и формирования империи. Бои гладиаторов вос-
ходят к этрусскому ритуалу боя-жертвоприношения пленников
между собой или со зверями, в том числе собаками — хтонически-
27
ми божествами, представителями царства мертвых; раздача
хлеба — к жертвенному пиру доклассовых и протоклассовых вре-
мен.
На Иберийском полуострове наследие протоклассовой эпохи
оказалось необычайно устойчивым в первую очередь потому, что
на этой, сравнительно небольшой, территории с глубокой древнос-
ти и как минимум до конца Средневековья взаимодействовали два
очень различных региона.
На юге и востоке Иберийского полуострова протоклассовое об-
щество возникло в глубокой древности и рано было вовлечено в
единый средиземноморский процесс становления общества классо-
вого. Иберия участвовала в этом процессе прежде всего как постав-
щик серебра и золота, т.е. денежных металлов, дававших дополни-
тельный импульс развитию в регионе товарно-денежных отноше-
ний. Экономические последствия эксплуатации испанских рудни-
ков Карфагеном и Римом Маркс сравнивал с открытием американ-
ских рудников15.
С незапамятных времен до конца Средневековья здесь шло сме-
шение и слияние народов, синтез их культур. Первые финикийские
колонии появились в Иберии во времена полулегендарной Троян-
ской войны. Финикийцы тогда уже были торговым народом, более
древними носителями цивилизации антично-средиземноморского
типа, чем эллины, не говоря уже о римлянах. Протоиберы тоже, по-
видимому, пришли с востока, вероятно из Малой Азии, прароди-
ны, общей с критянами и этрусками. Несколькими волнами, начи-
ная с каменного века, на полуостров проникали североафриканские
племена; южную его оконечность в античную эпоху населяли "ли-
вофиникийцы", оставившие надписи ливийским алфавитом16.
Никто из более поздних пришельцев не был здесь совершенно
чужим — ни карфагеняне, родные братья финикийцев; ни эллины
из малоазиатской Фокеи, плывшие на запад по следам протоибе-
ров; ни римско-италийские колонисты, в значительной мере потом-
ки этрусков; ни близкие финикийцам по языку и культуре иудеи,
знавшие "Таршиш" — иберийский Тартесс — с ветхозаветных вре-
мен; ни сирийские арабы, также наследники ханаанско-финикий-
ской культуры; ни берберы, прямые потомки древних ливийцев (не
зря в период их господства всех мусульман стали называть древним
именем мавров). Все они встречали на берегах Иберии родственные
народы, близкие по уровню и типу развития. К тартессийским вре-
менам восходит история не только Кордовы и Севильи, но и общи-
ны Фуэнте Овехуна. Тринадцать гусей, которых поныне держат во
дворе кафедрального собора Барселоны "в память св. Эулалии", —
не прямые ли потомки священных птиц Юноны (этрусской Уни),
спасших некогда Рим? И кто знает, в какие времена началось слия-
ние Великой Матери древнейших жителей полуострова с Астартой
28
и Венерой или Юноной или неведомых нам богов Тартесса с Герку-
лесом — этрусским Геркле и финикийским Мелькартом? Кстати, не
деяния ли этого синтетического божества изобразил на самом деле
Сурбаран в серии картин о подвигах Геркулеса, выполненной для
королевского дворца Буэн Ретиро?
Важнейшую роль в этом синтезе играли праздники, позволяв-
шие потомкам старожилов и пришельцев ритуально отождествить
себя с древними истоками как той, так и другой культуры. Так, в
Гадесе в 43 г. до н.э. по случаю победы цезарианцев над помпеян-
цами были устроены грандиозные игры. Гадес был тогда главным
городом римской Иберии, по числу жителей он уступал одному
Риму. В гражданской войне город стал на сторону Цезаря, за что
все его граждане первыми из неиталийцев вскоре получили рим-
ское гражданство. В преддверии этого, без преувеличения, истори-
ческого события Бальб Младший, выходец из местного знатного
рода, племянник одного из ближайших сподвижников Цезаря, ор-
ганизовал игры, подобные устроенным в Риме самим Цезарем. Но
в то же время он совершил и жертвоприношение по местным обы-
чаям, предав огню помпеянца Фадия и бросив зверям других рим-
ских граждан. Столь явное нарушение законов осталось без послед-
ствий. Правда, Цицерону пришлось защищать Бальба перед рим-
ским судом, но обвиняли его только в незаконном получении рим-
ского гражданства и в итоге оправдали. Этот факт свидетельствует,
что его действия рассматривались не как акты произвола, а именно
как свершение ритуала, существенного для закрепления власти Це-
заря в Испании. В дальнейшем Бальб прославился победой над се-
вероафриканскими гарамантами, родственными маврам и ливофи-
никийцам, за что был удостоен триумфа и звания императора —
опять-таки первым из тех, кто не родился римлянином, а получил
римское гражданство позже. Бальб принадлежал к римской колле-
гии понтификов и был автором подробных толкований столь важ-
ных для его родины мифов о Геркулесе. Он был известен и как
строитель первого каменного театра в Риме, и как автор пьесы из
римской истории, поставленной в его родном Гадесе. Полагают,
что в ней изображалось участие автора в походах Цезаря17. Несо-
мненно, игры и пьесы Бальба не меньше, чем его военные победы,
содействовали новому самоощущению его земляков. Не зря уста-
новление власти Цезаря прочно запечатлелось в исторической па-
мяти иберийцев: на протяжении не только Древности, но и значи-
тельной части Средневековья они вели летосчисление от этого от-
правного пункта историко-культурного синтеза, давшего начало
романизированной Hispania.
Совсем иная жизнь шла на редко заселенных плоскогорьях
внутренней части Иберийского полуострова и в горах на его север-
ной окраине. Здесь культурно-исторический синтез оказывался со-
29
всем иным, чем на востоке и юге. Пришельцам-варварам, будь то
кельты, свевы или вестготы, удавалось тут осесть и пустить корни.
Но цивилизованным завоевателям лишь время от времени и с ог-
ромным трудом удавалось подчинить эти земли, но не уподобить
их себе. Так, Рим был представлен здесь обособленными анклава-
ми, тяготевшими к лагерям легионов и местам добычи серебра и
золота. Дело, очевидно, в том, что автохтонное население этих
мест долго сохраняло старинный уклад, в корне отличный от обще-
ственного строя цивилизованных завоевателей, но схожий с тем,
что несли пришельцы-варвары. Этот уклад жизни было практичес-
ки невозможно разрушить. Классовому обществу волей-неволей
приходилось включать в свою орбиту целый массив протоклассо-
вых отношений, постепенно преобразовывать их и в свою очередь
испытывать их мощное воздействие.
Само по себе взаимодействие центров классовой цивилизации с
протоклассовой периферией — случай отнюдь не уникальный, ско-
рее типичный для Древности и Средневековья. Но почти всегда это
взаимодействие бывало асимметричным: либо центры цивилиза-
ции огнем и мечом подчиняли себе периферию, либо варварам уда-
валось нанести смертельный удар классовому обществу, пережи-
вавшему внутренний кризис. В обоих случаях культура побежден-
ной стороны в значительной мере разрушалась, что не исключало
синтеза, но ограничивало его возможности, делало его во многом
односторонним. На Иберийском же полуострове мы встречаем слу-
чай действительно необычный: под натиском одной цивилиза-
ции — точнее, одной формы классового цивилизованного общест-
ва — носители другой оттесняются из центров на протоклассовую
периферию, ускоряя там становление новых народностей, новых
общественных отношений. На протяжении полутора-двух тысяче-
летий так произошло дважды. В V-II вв. до н. э. под натиском кар-
фагенян, а затем римлян иберы частично отступили с побережья в
глубь полуострова, где развернулся процесс иберизации культуры
местных племен18. В VIII—XI вв. н. э., в период мавританского гос-
подства, горно-лесистый север и часть плоскогорья стали убежи-
щем для романизированных потомков кельтиберов, лузитан и вест-
готов.
Это перемещение центров формирования средневековых народ-
ностей предопределило последующее отвоевание (Reconquista) поте-
рянных территорий и их народную реколонизацию. Реконкисту
возглавили полуязыческие Астурия, Наварра, Кастилия, Галисия,
Арагон. Разумеется, в такой ситуации отношения между носителя-
ми "цивилизации" и "варварства" складывались принципиально
иначе, чем в отсутствие общего врага. Культурно-исторический
синтез стал императивной необходимостью и принял достаточно
симметричный характер, хотя с некоторым сдвигом в пользу насле-
30
дия "варваров" — как из-за их численного преобладания, так и по-
тому, что общий противник был именно носителем классовой ци-
вилизации, одной из наиболее передовых по тем временам, на север
же должны были уходить те, для кого атрибуты этой цивилиза-
ции — в первую очередь, развитые товарно-денежные отноше-
ния — оказывались неприемлемыми. Осуществить такой синтез ус-
пешнее других удалось королевствам Кастилии и Португалии, сло-
жившимся на территории древних Кельтиберии и Лузитании. Поэ-
тому именно они стали колыбелями иберийских наций.
Иберийская действительность Средних веков столь своеобраз-
на, что давала повод для отрицания реальности феодализма, осо-
бенно в Кастилии. Принять в целом эту точку зрения, порожден-
ную поиском в конкретной истории непременно "чистых" образцов
того или иного строя, невозможно. В иберийских странах были на-
лицо основные черты феодализма: условное землевладение при
единстве военной и хозяйственной функций феодалов; система вы-
раженных в сеньориально-вассальной иерархии взаимных обяза-
тельств как внутри каждого сословия, так и между ними, в том
числе между феодалами и крестьянами-общинниками; оформление
этих обязательств в обычном и писаном праве (фуэрос, фораиш).
Полуостров был неотъемлемой частью феодальной эйкумены с ее
торговыми, военными, церковными связями. Но в то же время
нельзя не видеть, что на протяжении всего Средневековья здесь со-
хранялись даже не пережитки, а актуально действующие черты,
унаследованные от протоклассовых времен.
Для свободных крестьян и горожан, двигавшихся на новые
земли, сеньор был прежде всего военачальником и судьей, а ко-
роль, кроме того, — преемником священных царей-жрецов проток-
лассовых времен. Эта роль королевской власти ярко выражена в
культуре эпохи Реконкисты. Эпическое описание кончины короля
Родриго, навлекшего на страну нашествие мавров, имеет отчетли-
вые черты жертвоприношения священного царя: он ложится живым
в могилу с двумя змеями. Сына короля Альфонсо X инфанта Фер-
нандо, родившегося в 1255 г., хроники именуют "de la Cerda" —
"рожденный Веприцей", так как он появился на свет с волосами на
голове. Через это прозвище инфант сопоставляется с вепрем —
одним из древнейших тотемов иберов и кельтов, оставивших мно-
жество его изображений, пожертвованных Матери-Земле. Почти
непрерывное перемещение испанского двора, не имевшего до вто-
рой половины XVI в. постоянной резиденции, продолжало тради-
цию ритуального объезда страны священным царем, магически
уподоблявшимся Солнцу (заметим, что присвоенное Людовиком
XIV наименование "Король-Солнце" принадлежало ранее исклю-
чительно испанским королям, и официальная формула "империя,
над которой никогда не заходит Солнце" имела не только геогра-
31
фический смысл). Не менее показательны и ритуалы с участием ко-
роля, игравшие центральную роль в важнейших празднествах. По-
добную роль сохранили здесь королевские охоты — наследие древ-
нейшей загонной охоты. Коррида, в которой вплоть до XVII в. в
особо торжественных случаях участвовал король, имеет те же
корни, что "игры с быком" древнейшего Средиземноморья19, по-
единки ассирийских царей с пойманными львами, этрусско-рим-
ские гладиаторские бои.
Овладев югом Испании, кастильские короли усвоили и местную
мифологическую традицию: они стали считать своим прародите-
лем Геркулеса. Не только для полуеретика Альфонсо X, прозванно-
го "el Sabio" — т.е. скорее "Ученым", чем "Мудрым", — но и для
его католического величества Филиппа II первостепенную культур-
но-идеологическую роль играл образ Иерусалимского храма (подо-
бием которого должен был стать Эскориал). Этот на первый взгляд
вполне библейский образ имел и иберийские истоки: по тому же
тирскому образцу, что и храм Яхве в Иерусалиме, был возведен
знаменитый храм Мелькарта-Геркулеса в Гадесе, на фасаде которо-
го были изображены десять деяний бога, в том числе смерть на
жертвенном костре и воскресение20. Мелькарт-Геркулес был покро-
вителем морских и океанских плаваний, патроном колонистов. С
колоннами гадесского храма магически отождествлялись "столпы
Мелькарта" — скалы по берегам Гибралтара. С ними был связан
запрет на плавание чужеземцев в водах Атлантики21, доживший до
XV в. в виде легенд о непроходимом море на западе, обитающих в
нем чудовищах и о мысе Нун, за которым море кипит. Возможно,
снятие его требовало особых ритуалов, возглавляемых королем —
"наследником Геркулеса".
Иберийские страны и в Средние века в немалой мере сохраняли
органическую нерасчлененность светской и духовной власти. В
вестготском королевстве соборы созывались только королем и при-
нимали решения как по вопросам вероучения, так и по вопросам
светского законодательства. В вестготской литургии самый частый
синоним Ecclesia — populus Dei, т.е. община22. "Закон устанавли-
вал наказание за нарушение святости церкви: "Оскорбитель дол-
жен быть принужден уплатить сто солидов церкви, потерпевшей
оскорбление". Показателен язык этого отрывка: полагающееся на-
казание — не епитимья, смягчающая гнев оскорбленного Бога, а
вергельд, возмещающий лицу оскорбление"23. На протяжении
всего Средневековья, да и позже, лица духовного звания занимали
важнейшие государственные посты. И дело здесь вовсе не в особой
приверженности иберийцев католической ортодоксии. Феодала
XII в. вассальная присяга обязывала быть верным королю "в делах
и войнах как с христианами, так и с сарацинами"24 — борьба с пос-
ледними, как видим, стояла не на особом месте и даже не на первом
32
плане. Португалия и Арагон, считаясь вассалами папы, нередко
конфликтовали и даже воевали со своим сюзереном, подолгу нахо-
дились под папским интердиктом — и на их жизнь это особо не
влияло. Видимо, важно было, чтобы короли исправно выполняли
свои традиционные функции, в том числе ритуальные, а как это со-
относится с теологической ортодоксией и мировыми притязаниями
церкви, было не столь существенно.
В свете этого становится понятным, почему католицизм иберий-
ских монархов не предполагал ни непременной враждебности к
иноверцам, ни непременной лояльности Ватикану. В Иберии, как и
на всей полуварварской и варварской периферии Римской импе-
рии, официальное христианство вначале было проводником зави-
симости от метрополии и потому внедрялось сверху и встречало
упорное сопротивление. Новой религии удалось пустить корни
только путем включения в свою структуру целых пластов древнего,
еще не религиозного, а мифологического, сознания и обрядового
поведения. Их интеграция в средневековую культуру обусловила
само выживание этой культуры в борьбе с мусульманскими завое-
вателями — носителями другой, в то время более зрелой, классо-
вой цивилизации. Поэтому в отличие от других регионов Европы,
эти пласты культуры не превратились в "родимые пятна" язычест-
ва, в лучшем случае терпимые, в худшем — гонимые и искореняе-
мые.
На юге полуострова укоренение христианства было, видимо, не
в последнюю очередь связано с ассимиляцией культа Мелькарта
и/или Баал-Хаммона, бога Солнца, каждый год умирающего, а
затем воскресающего. По всей вероятности, Мелькарт воскресал в
образе Милькастарта, сына его и Астарты25. Этот полуматриар-
хальный образ мужа и сына богини, единого в двух лицах, должен
был очень помочь католицизму с его догматом троицы в борьбе
против строгого единобожия ариан, иудеев и мусульман — носите-
лей более патриархальной тенденции.
На севере главный центр паломничества — "гробница Святого
Иакова" в Сантьяго де Компостела — очевидно, представляет
собой захоронение ересиарха IV в. Присциллиана. Описание чудес,
совершавшихся им и его последователями, определенно говорит о
языческих ритуалах плодородия: "Мертвых воскрешали столь же
легко, как наши поля покрываются цветами...(Sic!) Святые разгова-
ривали с животными, прежние маги были побеждены, несмотря на
их колдовство..."26 Присциллиане пели "магические песнопения
над первыми плодами" и обходили поля, оставляя там следы босых
ног, дабы сделать моления более действенными. Босоногость имела
ритуальное значение в иберофиникийской, кельтской и римской
культурах; и уже в 380 г. собор в Сарагосе запретил верующим
христианам "ходить с необутыми ногами"27. Присциллиан и его
2 - 5470
33
ближайшие сподвижники первыми из еретиков были казнены импе-
ратором — светской властью — по обвинению в манихействе и
колдовстве, выдвинутому испанскими епископами. Тела казненных
были торжественно доставлены на родину и погребены в месте,
считавшемся священным с незапамятных времен. По-видимому,
смерть казненных и на грани Средневековья воспринималась наро-
дом как жертвоприношение, кульминация ритуалов, послуживших
причиной казни, а погребение в святилище было залогом возрож-
дения производящей силы земли и людей. Официальной церкви ни-
чего не оставалось, как принять эту традицию, предав забвению
обвинение присциллиан в колдовстве и отождествив ересиарха с
апостолом.
Епископы северной Испании дважды в год, весной и осенью,
объезжали свои приходы подобно древним жрецам и священным
царям, а на провинциальные соборы съезжались перед летним со-
лнцестоянием, "когда трава зелена и пастбища доступны". Два из
трех галисийских соборов в Браге собрались в конце весны, 1 мая и
1 июня28. "В седьмом веке Леандер Севильский, описывая последст-
вия ереси, жаловался, что, когда Галисию завоевали ариане, "сама
земля... потеряла прежнее плодородие"29. Большинство детей крес-
тили на Пасху, т.е. в весенний праздник обновления природы30.
Это не изолированные факты, а выражение общей тенденции.
В подобной синкретизации культуры важнейшую роль всегда
играют празднества, воспроизводящие жизнь предков. Иберийские
страны не были исключением. Уже в раннее Средневековье церковь
включает в свой календарь древние сезонные праздники. "Вестгот-
ские законы даже устанавливают, что месяц с 16 июля по 16 авгус-
та — время праздников урожая, когда "никто да не вызовет никого
ни на суд, ни для уплаты долга". Этот месяц включал кельтский
праздник бога Луга (1 августа) и примыкал к испано-римскому
празднику урожая — Вулканалии (23 августа). В христианской де-
ревне во время уборки урожая праздновались дни нескольких почи-
таемых в народе святых, причем мученичество Феликса из Жероны
отмечалось 1 августа, в день Луга. Свои дни святых приходились и
на сезон сбора винограда, специально обозначенный в вестготских
законах. Кульминацией осенних праздников было пиршество
"Ожидания рождения", длившееся восемь дней — с 18 декабря до
Рождества; оно примерно совпадало с прежними римскими Сатур-
налиями, начинавшимися 17 декабря31.
В раннее Средневековье сакральная и профанная компоненты
жизнедеятельности были еще в значительной мере слиты. Так,
могли совпадать сакральная и повседневная трапезы. "Чтобы при-
дать большее значение духовному причастию, духовная и светская
пища все больше разделялись. Например, третий собор в Браге по-
становил отлучать всякого, кто использует в светских трапезах свя-
34
щенные блюда и кубки, предназначенные для мессы". Один из
христианских мучеников, Сабас, был изгнан из иберийского селе-
ния за отказ участвовать в общей трапезе, несомненно, жертвен-
ной. Со временем церковь стала трактовать подобные обычаи по-
своему. В "Житиях Мериды" больному мальчику Августусу рай
представляется пиршеством: "Блюда были не с каким-либо мясом,
а только с птицей... и были там столы и цветы". Святые, живущие
в раю, пришли и принялись за еду, а затем обнаружили мальчика.
Но сам Иисус обратился к нему со словами: "Не бойся, сын мой, я
всегда накормлю тебя..."32 Здесь почти буквально воспроизводится
древнейшая ритуальная формула — "дать есть и пить". Решениями
первых иберийских соборов верующим общины запрещалось "есть
и пить" вместе с грешником или грешницей, пока он или она не
исполнят подобающую епитимью. Соборы VII в. уже заменяют ис-
ключение из светского общения исключением из сакрального при-
частия мессы, что ритуально ставило грешника вне христианской
общины. Той же сакральной трапезой причастия церковь стреми-
лась заменить языческое пиршество на кладбище в дни поминове-
ния предков, когда обитатели царства мертвых включались в пир
живых. Однако приходские священники, разделявшие многие веро-
вания своих прихожан, сочетали христианство с языческими ритуа-
лами. Хлеб и вино мессы брали на кладбища, где живущие тради-
ционно делили трапезу с умершими33.
Синкретическое празднество всегда включало наряду с пирше-
ством ритуальные танцы. Страбон описал такие пиры у испанских
горцев рубежа н. э.: "Едят они сидя, так как у них есть сиденья, уст-
роенные вдоль стен комнаты, причем они рассаживаются по воз-
расту и достоинству. Обед обносят у них кругом, а за питьем тан-
цуют под звуки флейты и трубы, подпрыгивая и приседая. В Басте-
тании женщины танцуют вперемежку с мужчинами, взявшись за
руки"34. Не отсюда ли берут начало кастильский "змееподобный"
танец, который Саагун сравнил с ацтекским35, и каталанская сарда-
на, сохранившая название древнего народа — возможно, общего
предка иберов и этрусков? Во всякой галисийской деревне были пе-
риодические пиршества, сопровождавшиеся пением и танцами, —
"пир дураков", осуждавшийся официальной церковью, но жизнен-
но необходимый сельской общине36. Даже в современной сельской
Испании находят танцы земледельческие, социальные, а также изо-
бражающие различных животных в порядке симпатической магии.
Выступая против народных празднеств, св. Исидор Севильский
писал: "Эти жалкие создания и, что еще хуже, иные из верующих
надевали безобразные личины и придавали себе дикий вид; другие
придавали своим мужским лицам вид женских и делали женские
жесты, и все плясали с шумом, и топотом, и хлопаньем в ладоши, и,
что еще больший стыд, оба пола вместе кружились в хороводе тол-
2*
35
пой, притупив все чувства и опьянившись вином". Третий собор в
Браге осудил "толпу", что по "безверному обычаю" плясала и пела
"постыдные" песни так громко, что мешала церковной службе. Ре-
шения собора призывали священников и судей общими усилиями
искоренить этот обычай и приучить народ к "святым праздни-
кам"37. Однако такие решения не получали достаточной поддержки
даже в среде самих клириков. Это неудивительно, если учесть спе-
цифику отношений священника и общины. Св. Исидор жаловался:
"В наше время много таких, кто облекается священством только
благодаря общему мнению". Хотя избрание священников народом
было запрещено вторым собором в Браге, его "никогда не удава-
лось вполне искоренить". Официальной церкви приходилось тре-
бовать, чтобы священники, избранные народным одобрением (pro
contentione populi), не приступали к службе, пока их избрание не
будет утверждено. Понятно, что такие священники воспринима-
лись общиной да и сами воспринимали себя почти так же, как их
предшественники — общинные жрецы, и не могли не участвовать в
общинных ритуалах, сколько бы соборных решений ни обязывало
их "достойно уходить прежде, чем начнется какое-либо веселье"38.
Из века в век церковные иерархи и их летописцы возмущаются по
этому поводу, что само по себе говорит о степени результативнос-
ти их протестов. Галисийский хронист седьмого века Валериус из
Бьерсо порицал священника, который был избран "...ради шумно-
го веселья и потому, что был сведущ в нежном искусстве извлекать
музыку из лиры". Он же так описывает увлеченного празднеством
священника: "...Позабыв о сане, напрасно им принятом, он как
простолюдин кружился в непристойном вихре театральной не-
скромности; руками он размахивал так и сяк, а резвые ноги несли
его по кругу, то семеня, то приплясывая от восторга, как это здесь
принято; он подпрыгивал на нетвердых ногах, распевая непристой-
ные песенки, безобразные песни греховного танца, совершаемого
им с губительной непристойностью дьявола"39.
Спустя несколько столетий, когда уже близилась к концу Рекон-
киста, в своде законов Альфонсо X — Siete Partidas — вновь гово-
рится: "Духовные лица не должны сочинять издевочных игрищ
(juegos de escarnio), на которые народ может приходить смотреть, а
если другие люди напишут их, духовенство не должно ходить смот-
реть их, так как там допускаются сквернословие и непристойности.
А тем более представлений этих не следует давать в церквах; на-
против того, их следует постыдно изгнать оттуда, не наказуя, впро-
чем, участвовавших в них: ибо церковь была воздвигнута для мо-
литвы, а не для шутовских представлений." Клирикам дозволялось
давать представления Рождества и Воскресения Христова — "при-
лично, с должным благоговением, и притом только в больших го-
родах, под надзором архиепископа, епископа или присланных ими
36
лиц, а не в деревнях или простых селениях и во всяком случае не
для того, чтобы этим зарабатывать деньги"40. Подробности коро-
левского кодекса и оговорки, которыми он изобилует ("не наказуя,
впрочем, участвовавших в них"), заставляют сомневаться в выпол-
нимости запретов.
Минуло еще двести лет, и собор в Аранде (1473 г.) должен был
возобновить запрещение короля Альфонсо в более резкой форме,
угрожая штрафом клирикам за то, что "в праздники в церквах
устраиваются театральные представления, вводятся маски, чудища,
шествия, различные непристойные фигуры, производится шум, чи-
таются оскорбительные для церкви стихи и шутовские речи, и все
это происходит в самой церкви во время богослужения". Но и это
постановление заканчивалось благоразумным указанием: "Из
этого не следует заключать, что мы запрещаем также представле-
ния религиозные и благопристойные, которые внушают народу
благочестие как в дни, для этого предназначенные, так и во все
другие дни"41.
Таковы были некоторые черты социально-культурного насле-
дия, с которым народы Иберийского полуострова подошли к рубе-
жу Средневековья и Нового времени. Историей это им было сужде-
но на 100-150 лет раньше, чем остальной Европе. Испанию и Пор-
тугалию нередко изображают отсталыми странами, заповедниками
феодализма. Забывают при этом, что здесь гораздо раньше, чем в
Англии и даже в Нидерландах, пробились ростки раннего капита-
лизма. О широком применении наемного труда свидетельствует ра-
бочее законодательство, введенное в Кастилии уже в середине XIV
века. Тогда же появились первые мануфактуры и даже рынок цен-
ных бумаг. Здесь, как и в Англии, "овцы пожирали людей"; только
на Британских островах о начале капиталистической эры возвести-
ли огораживания общинных земель лендлордами, а в Кастилии
дело по видимости обстояло наоборот: общинам запрещалось ого-
раживать свои земли, регулярно опустошаемые стадами могущест-
венной корпорации овцеводов — Месты. Самое же главное состоит
в том, что иберийские страны положили начало складыванию ко-
лониальной системы, мирового рынка и в целом глобального мас-
штаба международного общения, адекватного новой, капиталисти-
ческой формации.
Но капитал был далеко не единственной силой, формировавшей
облик иберийских стран на исходе Средневековья. События 1383—
1385 гг. в Португалии можно рассматривать как победу, а станов-
ление испанского абсолютизма в 60-е — 80-е годы XV в. — как
полупобеду крестьянско-плебейской войны. Народное движение
вознесло на престолы желанных "добрых королей": в Португа-
лии — бастарда Жоана I, сына горожанки; в Испании — Фернандо
и Исабель, опиравшихся не только на выступления горожан, но и
37
на восстания каталонских крестьян и кастильских общин вроде
знаменитой Фуэнте Овехуна, не желавших покоряться магнатам. О
революционном характере событий говорят почти полная ликвида-
ция старой знати в Португалии, разрушение сотен феодальных зам-
ков, отмена "дурных обычаев" и возвращение короне обширных зе-
мель в Испании. В результате в обеих странах сложился абсолю-
тизм очень своеобразного вида, почти не известный Европе (кроме,
пожалуй, Швеции XVI в., России в первой и Украины во второй
половине XVII в.). Его основу составил союз короны со свободны-
ми крестьянами и горожанами.
Буржуазная компонента этого союза была довольно слаба и уяз-
вима. Народные массы, привыкшие отстаивать свободу с оружием
в руках, разумеется, не приветствовали свою экспроприацию капи-
талом. Капиталистическое развитие иберийских стран забуксовало
в значительной мере потому, что народные массы не позволили
себя до конца экспроприировать и подчинить дисциплине наемно-
го труда. Чувство собственного достоинства, "идальгия", прису-
щая в Испании, как нередко отмечалось очевидцами, даже обо-
рванцам-"ротос", даже убогим вроде "Хромоножки" Риберы, —
это и реликт древнего духа свободы, и гордость наследников Ре-
конкисты, и в какой-то мере сословная честь "добрых ремесленни-
ков" и земледельцев. Потому и крестьянский труд — грубый, тяже-
лый, презираемый знатными снобами — сохранял отблеск сакраль-
ное™, сознаваемой тружеником.
При этом низшие слои не были отделены от светской и церков-
ной власти такой пропастью, как в большинстве европейских
стран. Весьма многочисленные и активные социальные группы —
низшее дворянство, образованные разночинцы-letrados, приходские
священники, монахи — были близки крестьянско-плебейской массе
по условиям жизни, интересам и сознанию, но в то же время несли
государственную и/или церковную службу. Они и выступали связу-
ющим звеном между настроениями низов и идеологией верхов,
придавая последней сильную антибуржуазную тенденцию. Пози-
ции буржуазных сил ослаблялись и тем, что крупный капитал был
представлен большей частью этническими и конфессиональными
меньшинствами (евреи, мавры, фламандцы, генуэзцы).
Неудивительно, что уже в начале XVI в. большая часть имущих
верхов Испании не нашла иного выхода, чем подчинение австро-
бургундской династии Габсбургов, не остановившихся ни перед по-
жизненным заточением законной королевы Хуаны, объявленной
безумной, ни перед жестоким усмирением восставших горожан-ко-
мунерос. Габсбурги правили Испанией почти 200 (1519-1700), а
Португалией — 60 (1580-1640) лет, фактически же еще дольше: пос-
ледние короли Ависской династии и первые испанские Бурбоны
были настоящими Габсбургами и по крови, и по стилю правления.
38
Огромное влияние на иберийское общество оказало открытие и
покорение заокеанских земель. Их богатства как магнит притяги-
вали несколько поколений "рыцарей первоначального накопле-
ния". Люди буржуазного склада покидали полуостров, а оставшие-
ся оказывались в экономических условиях, неблагоприятных для
развития буржуазного хозяйства, из-за вызванной деятельностью
конкистадоров "революции цен". В огромных владениях, разбро-
санных по всей Европе, а затем и по всем населенным частям света,
Испания и Португалия незаметно утратили статус метрополий, ко-
торый начали было приобретать. Подлинными экономическими, а
временами и политическими, центрами габсбургской державы ста-
новились Антверпен, Аугсбург, Генуя. Народ все более беднел; зна-
чительная часть нации попадала в положение, во многом напоми-
нающее условия жизни нынешних маргиналов "третьего мира". Но
богатства, притекавшие из Нового Света, позволяли абсолютизму
и церкви не доводить народ до отчаяния и до взрыва, не применять
в метрополиях жестоких форм эксплуатации, какие процветали в
остальной Европе.
Все это обусловило процессы, в ходе которых иберийские стра-
ны не только перестали быть авангардом новой формации, но и
были оттеснены на ее периферию. Процессы эти принято считать
феодальной реакцией. Реакция, т.е. замедление капиталистическо-
го переворота и частичное обращение его вспять, действительно,
налицо, но была ли она феодальной? Если не отождествлять на ли-
беральный манер феодализм с крупным землевладением магнатов
(применявших, скажем, в Андалусии большей частью наемный
труд) и экономическим и культурным влиянием церкви, то иберий-
ское общество XVI-XVIII вв. предстанет отнюдь не феодальным.
Дворянство (не исключая и высшей знати), клир, летрадос стали в
первую очередь служилыми людьми абсолютистского государства.
Примерно на таком же положении находились члены привилегиро-
ванных компаний, торговавших с колониями, колониальные энко-
мендерос. Государство изо всех сил противодействовало их превра-
щению в частных собственников буржуазного типа. Кроме того,
оно гораздо активнее, чем в большинстве стран Европы, пыталось
выступать защитником простолюдинов от непомерной эксплуата-
ции. При этом власть была не столь отчуждена от народа, как
"обычный" абсолютизм. В XVI — XVII вв. бедный идальго, летра-
до или горожанин спокойно обращался к "Королю-Солнцу" с
предложениями об исправлении порядков и нравов; этих обраще-
ний было так много, что историки говорят о целом движении "arbi-
tristas". Критика бывала столь острой, что подданному француз-
ского "Короля-Солнца", чтобы за подобное не угодить в Басти-
лию, надо было быть маршалом Вобаном. В "деспотической" же
Испании люди не только не боялись делиться такого рода мыслями
39
с самим монархом, но и надеялись, что будут услышаны — как изо-
браженные писателями "золотого века" простолюдины, с полным
сознанием своих прав обращавшиеся к суду короля. Не случайно в
литературе XVI-XVII вв. к иберийской государственности постоян-
но применяется термин "republica", отнюдь не противопоставляв-
шийся королевской власти, а сохранявший исконное значение res
publica — "общего дела" системы общин.
Эти особенности испанского абсолютизма, не подходящие ни
под феодальный, ни под буржуазный образец, воскрешали на
новом витке исторической спирали многое из наследия протоклас-
совой эпохи. Мировая история показывает, что в обществах, глубо-
ко втянутых в международную систему товарно-денежных, особен-
но капиталистических, отношений, под их воздействием первыми
гибнут или перерождаются отношения собственно феодальные.
Протоклассовое же наследие, не вполне ассимилированное феода-
лизмом, в этих условиях вновь выступает на поверхность и сливает-
ся с чертами периферийно-зависимого типа развития в парадок-
сальную амальгаму. Похоже, что эта закономерность впервые в
полной мере проявилась именно в иберийских странах. Ее дейст-
вие, несомненно, усиливалось длительным взаимодействием этих
стран с протоклассовыми обществами Канарских островов, Тропи-
ческой Африки, Малайского архипелага, Океании и особенно Но-
вого Света.
Давно уже была высказана мысль о внутреннем родстве иберий-
ского абсолютизма с так называемым восточным деспотизмом.
Правда, в свете современных исторических знаний он не представ-
ляется ни специфически "восточным", ни, главное, "деспотизмом"
в смысле господства отчужденной от общества власти над этим об-
ществом. Сколько всякого писалось об иберийских дворах послед-
них Габсбургов: и мертвящий дух, и кошмарный этикет, и азиат-
ские ритуалы — например, вскрытие усыпальниц португальских
королей во время чумы 1569 года или перенесение в единое
место — подземную усыпальницу Эскориала — останков предков
Филиппа IV в 1654 г., в годину военных поражений. И никто не за-
метил, что ритуалы эти не имеют ничего общего с феодализмом, а
парадоксальным образом возвращают нас ко временам, когда
власть как таковая еще не вполне сформировалась и царь одновре-
менно был верховным жрецом, а по завершении земного бытия
приобщался к сонму богов, чтобы снова и снова приходить на по-
мощь потомкам. В народе такое отношение к королевской власти
сохранялось очень долго.
13 сентября 1759 г., в день коронации Карла III Бурбона, в де-
ревне Нихар, что возле Альмерии, произошел случай, удостоив-
шийся почти через 200 лет просвещенного внимания дона Хосе Ор-
теги-и-Гассета: "На деревенской площади был зачитан указ. Затем
40
в толпе распределили 77 арроб вина и четыре меха водки, после
чего люди так возбудились, что с криками "ура" отправились к зер-
нохранилищу, откуда растащили всю пшеницу и украли 900 реалов
из казны. Затем они двинулись к табачному магазину и заставили
отдать им все деньги, хранившиеся в кассе, и табак. "Духовенство"
также принимало участие в погроме. Они подстрекали женщин на
то, чтобы те вынесли все имущество из домов, каковое и было по-
делено с похвальным бескорыстием, ибо в домах не осталось ни
хлеба, ни пшеницы, ни муки, ни ячменя, ни тарелок, ни кастрюль,
ни ступок, ни стульев — так была разграблена вся деревня"42. Се-
ньор Ортега счел это событие "забавной карикатурой, иллюстри-
рующей живучесть принципа "a propter vitam, vivendi perdere
causas" ("Ради жизни уничтожить причины этой жизни")" и под-
тверждением своего тезиса о "восстании масс". На самом же деле
перед нами — свидетельство того, что даже в середине XVIII века
испанские простолюдины воспринимали начало нового царствова-
ния так же, как их далекие предки. В нем видели окончание старого
жизненного цикла, погружающее мироздание в Хаос, из которого
затем рождается новый мир. То, что буржуазным авторам XVIII и
XX века представляется грабежом или погромом, на деле было
праздничным ритуалом расставания с прежним миром. Продоволь-
ствие было "поделено" между участниками праздничного пиршест-
ва, и народ таким способом переосмыслил выкаченные из королев-
ского погреба бочки вина в своем собственном, протоклассовом
духе. О празднично-ритуальном характере действа свидетельствует
и участие в нем духовенства. Через 51 год и три дня священник Ми-
гель Идальго именем законного короля поднимет восстание против
"дурных правителей" Новой Испании и первым делом поведет
народ на штурм не какой-либо крепости, а общественного зерно-
хранилища (alhóndriga) в городе Гуанахуато. После его взятия
зерно отдадут народу — так же, как в Нихаре. Тем самым не про-
сто оказывалась помощь беднякам, а ритуально оформлялось нача-
ло нового цикла мироздания, оказавшееся началом войны за неза-
висимость Ибероамерики.
Конечно, для Бурбонов XVIII — начала XIX в. (но не для боль-
шинства их подданных) подобные действия были возмутительным
бунтом. Иберийские же короли XVI-XVH столетий не только вос-
принимались подданными, но, похоже, и сами себя воспринимали
по образцу священных царей протоклассового типа. Эта их ипос-
тась не ослабла, а даже усилилась по сравнению с предыдущими
столетиями. Целая череда близкородственных браков Габсбургов
вызывает в памяти аналогичную практику фараонов, древнепер-
сидских царей и сапа инков. Обычаем испанских монархов было
личное участие в корриде. Карл I (V) на корриде, устроенной в
честь рождения наследника, ранил быка копьем. Филипп IV стре-
41
лял в быков из ружья, но отступление от древнего ритуала, очевид-
но, искупалось именно участием короля — актом самим по себе
сакральным. Огромное ритуально-праздничное значение приобре-
тает в это время королевская охота. В ней участвуют тысячи людей,
в том числе простых горожан и крестьян, вызывая призрак облав-
ных охот протоклассовой древности.
Величайший художник Испании, он же величайший художник
Барокко, не любивший многофигурных композиций, одно из не-
многих исключений делает для изображения парадной королевской
охоты на кабана. Он также пишет портреты высочайших особ в
охотничьих костюмах, в их числе портрет юного наследника пре-
стола Валтасара Карлоса, первым охотничьим трофеем которого
был дикий кабан. Он создает целую серию изображений королев-
ских шутов и карликов — непременных персонажей всех мифоло-
гий и непременных участников протоклассовых ритуалов. И он же
совсем не в античном и уж подавно не в ренессансном духе изобра-
жает особо почитавшихся в древней Испании Вулкана (другое имя
иберо-финикийского Хусора, чьи кузнечные клещи украшали моне-
ты многих иберийских городов, — покровителя мужских ремесел и
праздников урожая), Венеру (преемницу иберийской Великой Боги-
ни)43 и, наконец, воссоздает на холсте древнейшую мифологему:
пряхи с королевской ковровой мануфактуры становятся у него во-
площением Парок или Мойр, прядущих нить Судьбы, над которой
не властны сами боги.
Особо показателен в этом отношении "Вакх". Толкования этого
произведения идут в накатанном русле: в картине усматривают и
следование Караваджо, и, разумеется, все тот же праздник непослу-
шания, народную вольницу, неподвластную церкви и государст-
ву44, и просто очередное воплощение античного мифа, т.к. Велас-
кес, в отличие от большинства испанских художников, прекрасно
знал мифологию. Веласкес же вовсе не интерпретирует греческий
миф, а прорывается непосредственно к местному. На Иберийском
полуострове праздник сбора винограда и приготовления молодого
вина завершал годовой цикл крестьянских работ и открывал целый
период древнейших праздников, главный из которых, став христи-
анским Рождеством, сохранил черты праздника рождения нового
Солнца. Отведать молодого вина вовсе не значило предаться пья-
ному разгулу; это означало перейти в другое состояние мира и че-
ловека: из времени повседневных трудов — во время древнейших
магических обрядов, обеспечивающих благополучное свершение
нового годового цикла. По всему этому, видимо, в Испании ( в от-
личие от ренессансной Италии, Франции времен Рабле, рубенсов-
ской Фландрии, бюргерско-йоменской "старой веселой Англии")
праздник менее всего ассоциируется с пиршествами в духе Гарган-
тюа и хмельным разгулом. И на картине нет вакханалии, вульгарно
42
понятого отбрасывания запретов: ни секса, ни обжорства, ни даже
пьянства, хотя, конечно, персонажи не выглядят трезвыми как стек-
лышко. Но они, несмотря на свой простецкий вид или благодаря
ему, совершают праздничный ритуал, который в разнообразных
своих проявлениях на Иберийском полуострове не стал уделом из-
бранных, а принадлежал всему народу. На полотне изображен
праздник в исходном его смысле: общение людей со своими собст-
венными богами в процессе магического обновления мира.
Такой же характер имеет обращение к языческому наследию в
"Лузиадах" Камоэнса, где представлены те же самые божества,
прежде всего Венера Морская и Вакх, а также Марс, Вулкан и Мер-
курий. Вакх — противник экспедиции Васко да Гамы, он склоняет
африканцев и индийцев к сопротивлению пришельцам. Но Вакх
также близкий родственник и сюзерен Луза, родоначальника пор-
тугальцев. Кто этот Луз — не кельтский ли бог плодородия Луг? И
не движет ли Вакхом не только ревность прежнего властелина
Индии, но и те мотивы, что звучат в горестной речи безымянного
"почтенного старца", отговаривающего соотечественников от пла-
вания: страсть к золоту грозит высосать все соки страны, отвлечь
силы от ее обороны? Это предостережение, как мы знаем, полнос-
тью подтвердилось. Не зря образ Васко да Гамы в поэме не просто
отличается от исторического прототипа, но и являет едва завуали-
рованный упрек его кровавым деяниям.
Венера Морская в своей древнейшей ипостаси праматери и по-
велительницы моря и его обитателей45 со своим "воинством" нере-
ид всякий раз спасает мореплавателей от козней Вакха. Она покро-
вительствует лузиадам, пока те следуют ее законам. Богиня вопло-
щает не просто плотскую страсть, а Любовь, соединяющую все
сущее вопреки Вражде, все разъединяющей — одно из двух косми-
ческих начал. Это представление, в греческой философии выра-
женное Эмпедоклом, имеет, несомненно, куда более древние мифо-
логические истоки. За ним — противостояние матриархальной Ве-
ликой Богини, подательницы жизни и плодородия, покровительни-
цы справедливой войны, патриархальным божествам частной на-
живы и захватнической, грабительской войны — Меркурию и
Марсу. Любовь означает в том числе соединение стран и континен-
тов не силой железа и золота, а историческим синтезом, который в
самом деле был осуществлен при участии иберийцев — правда, в
основном не там, куда плыли герои Камоэнса, а в другом полуша-
рии.
Залогом торжества Любви над Враждой, долженствующего
прямо-таки магически обезвредить само плавание и возвещенное
им морское могущество Португалии, спасти страну и мир от пос-
ледствий этого могущества, выступает в поэме праздник Венеры,
свершаемый мореплавателями и нереидами на Острове Любви. Ис-
43
токи этого образа, на наш взгляд, отнюдь не ренессансные и даже
не античные. Это — "остров женщин", известный мифологии всех
приморских народов от Мексики до Океании и, в особенности,
кельтскому миру, в который входила и Лузитания. В полном соот-
ветствии с обычаями древних народов мореплаватели сначала от-
правляются охотиться на оленя, а затем встречают богинь у лесно-
го источника. Таким образом, праздник соединения мореплавате-
лей с морскими богинями есть в своей основе древнейшее оргиасти-
ческое обрядовое действо.
Конечно, Камоэнс старается — отчасти искренне, отчасти вы-
нужденно — вместить все это в рамки католической благопристой-
ности и цензурных требований. В конце поэмы он, даже не пытаясь
свести концы с концами, заставляет героев вступить в законный
брак с нереидами, а Фетиду — провозгласить, что она и все прочие
боги суть явление людям единого Бога. Тем не менее, матриархаль-
ный в основе образ закономерно остается альтернативой мировоз-
зрению и практике "рыцарей первоначального накопления".
Обращенный по своей природе, как мы видели, в прошлое,
праздник на Иберийском полуострове становится одним из средств
самозащиты народа от наступления капитализма. Капитализм, за-
вершая деление жизни на otium и negotium, праздники и будни, пре-
вращает праздники именно в праздное времяпрепровождение. Ибе-
рийская культура упорно противилась этому. Во-первых, много-
численные пышные празднества прямо уменьшали степень эксплуа-
тации путем увеличения доли свободного времени, а также путем
перераспределения немалой части доходов господствующих клас-
сов в пользу неимущих посредством раздач и т.п., так что "офици-
альные" праздники на поверку оказываются враждебны не просто-
людинам, а буржуазным реформаторам. Во-вторых, и это не менее
важно, праздники помогали людям не обрести окончательно соци-
ально-психологического облика, адекватного классовому общест-
ву, — облика эксплуататора либо эксплуатируемого. Испанский
праздник — карнавал, коррида, танец, театр — это не праздность,
а действо или такое зрелище, в котором можно участвовать или, по
крайней мере, соучаствовать.
Рождественский карнавал эпохи позднего Барокко (1764 г.) в
Мадриде был описан Бомарше и вызвал серьезное неодобрение
гостя, прибывшего из высоконравственного Парижа Людовика
XV: "Прошлой ночью Мадрид поистине являл собой картину рим-
ских сатурналий, — было поглощено невообразимое количество
яств, под видом веселья в храмах царила необузданная распущен-
ность: кое-где монахи плясали на хорах с кастаньетами в руках;
народ веселился вдвойне, вооруженный жестянками, свистками, пу-
зырями, трещотками, барабанами: крики, брань, песни, сальто-
мортале, — словом, на улицах настоящая вакханалия, толпы людей
44
устремляются из одной церкви в другую в течение всей ночи, а
потом предаются всевозможным излишествам, свойственным тако-
го рода оргиям. Вот уже целую неделю в церкви, что рядом с моим
домом, служат мессу, сопровождаемую чертовски монотонным пес-
нопением; все это делается в честь рождения нашего Спасителя,
самого мудрого и спокойного из смертных. Вообще здесь все на-
родные обычаи, непосредственно перенятые от мавров, отличаются
безрассудством и цинизмом, какого не встретишь нигде: нередко
по вечерам можно увидеть мужчин и женщин, которые на глазах у
прохожих занимаются на ступеньках храмов и в подъездах
домов, с невозмутимостью, достойной какого-нибудь греческого
философа"46.
Конечно, мавры тут не при чем. Праздник, описанный Бомар-
ше, имеет куда более глубокие корни. Он явственно напоминает не
только "непристойности", которые так упорно и так тщетно осуж-
дала церковь с VI по XV в., но и древние празднества Мелькарта-
Геркле и Астарты47.
Напрашивается сравнение рождественских праздников 1764 г. в
Мадриде с римским карнавалом 1787 года, "праздником, который
народ дает сам себе", описанным Гете48. Там все равны, нет торже-
ственных процессий с участием особо важных персон, на которых
простонародье должно почтительно глазеть, но нет и участия свя-
щеннослужителей — не в качестве "равных всем" частных лиц под
маской, а в своем собственном качестве клириков, пляшущих с кас-
таньетами и не где-нибудь, а в актуально сакральном пространстве
христианского храма, к тому же в актуально сакральное время
Рождества. Итальянский карнавал — действительно краткий миг
отдыха от многочисленных запретов, действительно момент не вос-
крешения даже, а смутного воспоминания о времени, когда все
были равны и не существовало ни эксплуатации, ни угнетения, дей-
ствительно "праздник непослушания" — ив этом отношении он
буржуазен. Здесь вполне уместно сказать о "смеховой культуре",
противопоставленной культуре верхов и одновременно утратившей
всякую реальную связь со своим историческим субстратом, превра-
тившейся просто в потеху, в которой смех, обжорство и пьянство
сделались характеристикой буржуазного празднества. Итальянский
карнавал по сравнению с испанским прошел гораздо больше шагов
по пути разложения первоначального синкретизма праздника. Он
гораздо более искусствен и театрализован, испанский — гораздо
более органичен и спонтанен. Испанский карнавал демонстрирует,
что разрыв между верхами и низами, между эксплуататорами и экс-
плуатируемыми еще не настолько велик, чтобы отчетливо осозна-
ваться и требовать дней нарушения запретов.
Неодобрение Бомарше вызвал и танец фанданго. "Герцогини и
другие весьма знатные танцовщицы фанданго, которые пользуются
45
огромным успехом"49 — с его точки зрения безобразие. И сын века
Просвещения, сам того не ведая, буквально повторяет иезуита Ма-
риану, почти за 200 лет до него нападавшего на сарабанду. Правда,
патер Мариана вернее понимал истоки зла: "Женщин, танцевав-
ших этот танец бесстыдства, в Риме называли гадитанками, от ис-
панского города Кадиса, где он, вероятно, был изобретен в то
время"50 (вспомним, что именно там находился главный храмовый
центр древней Иберии). Танцовщиц сарабанды специально пригла-
шали на праздник Тела Христова в Севилье в 1593 г., исполнялась
она и в театре перед самим королем51. И не являются ли дамы —
танцовщицы сарабанды и фанданго — коллегами священников,
пляшущих на хорах церкви в рождественский праздник, и преемни-
цами жриц, чьи портретные изображения дошли до нас благодаря
ритуальному преданию Матери-Земле (вспомним хотя бы "Даму из
Эльче")? Праздник проходит под знаком не отбрасывания запре-
тов, а перехода от повседневных действий к ритуальным действам.
Бомарше описывает еще один факт иберийской культуры, свя-
зывающий воедино древнюю мистерию, средневековый фольклор и
театр Нового времени: "Испанский народ так любит этот непри-
стойный танец, который можно сравнить с calenda современных не-
гров в Америке, он так распространен там, что, потакая их вкусам,
некий борзописец сочинил довольно забавную пьесу, где чужезем-
ное духовенство восстало против фанданго, объявив его смертным
грехом; дело это было всесторонне обсуждено и переслано папе, к
которому явились представители народа и передали ему жалобы и
пожелания испанцев. Папа созвал конклав, прочитал донесение ду-
ховенства и уже готов был запретить фанданго, но сперва решил
спросить испанцев, что они могут возразить против этих обвине-
ний; тогда явились посланцы и стали просить у его святейшества
разрешения станцевать фанданго перед всем конклавом, дабы по-
казать наглядно коварство их врагов. Едва было получено разре-
шение, оркестр заиграл фанданго, а посланцы тут же пустились в
пляс; вскоре от серьезности папы и кардиналов и следа не осталось,
они не могли усидеть на месте, ноги пошли сами собой, подмываю-
щие звуки фанданго увлекли их, темп все усиливался, они запыха-
лись; папа упал, его подняли; и его святейшество вынужден был
признать, что этот танец самый очаровательный из всех, когда-
либо виденных им; депутаты вернулись — народ приветствовал их
радостными возгласами и свистом, который имеет здесь совсем
иное значение, чем у нас, — спектакль завершается невообразимым
кавардаком"52.
Постановка такого спектакля в католической Испании — явле-
ние того же порядка, что и рождественская пляска монахов. И то и
другое воспринималось участниками, независимо от ранга и сана,
не как выпад против веры или церкви и не как пустая забава (и
46
Рождество, и папа с конклавом кардиналов — совсем не подходя-
щие для нее темы), а как часть праздничного ритуала с тем священ-
ным весельем, которое пробуждает природу от зимнего сна-смерти.
Не заняли ли папа с конклавом места древних богов плодородия,
пускавшихся в пляс в ходе мистерии — сюжет, сохранившийся в
фольклоре многих народов?
Испанский театр "золотого века" принято считать ренессанс-
ным. Однако, в эпоху собственно Ренессанса и на его родине — в
Италии — публичных театральных спектаклей не существовало,
никакими драматургическими шедеврами итальянский Ренессанс
нас не одарил, и говорить о влиянии или заимствовании тут невоз-
можно. Поэтому говорят о "ренессансном духе" гуманизма, свобо-
ды и светской культуры, который противостоял духу средневеково-
го мракобесия и религиозного изуверства. Но борьба вокруг театра
в Испании не была столкновением церкви и светской культуры.
Среди противников театра, как и среди его сторонников, были вид-
ные священнослужители. Тирсо де Молина и Кальдерон писали для
театра, будучи монахами, Лопе де Вега был одним из familiäres
("членов семьи") инквизиции.
Аргументация друзей театра шла вовсе не от "ренессансной кон-
цепции искусства, связанного с наслаждением жизнью"53, а от осо-
знания — вслед за Фомой Аквинским — необходимости для народа
праздников как закономерной составной части круга жизни про-
стого человека. Естественно, что Ангельский доктор не возражал и
против актерского ремесла, и защитники театра с полным основа-
нием ссылались на его авторитет54. Ренессанс же интересовался
простыми людьми только как объектами насмешки или темным
фоном, на котором резче выделяется блеск просвещенного интел-
лектуала-гуманиста, как, например, в знаменитой шестьдесят шес-
той новелле Саккетти. Совместима ли с таким мироощущением
пьеса, подобная "Фуэнте Овехуна", где главным героем является
народ, а их католические величества выступают фактически как
главы системы общин?55
Аргументация противников театра строилась главным образом
на таких соображениях: праздничное стечение народа грозит бун-
том; спектакли портят нравы, отвлекают людей от работы и от по-
сещения церкви; гонорар иностранных трупп уплывает за границу,
что подрывает экономику страны. "...Какой разумный закон может
терпеть их и какой король должен разрешить их деятельность —
особенно иностранцев, каждый год вытягивающих из Испании
много тысяч дукатов в виде платы за подстрекательство на сверше-
ние множества грехов?"56 — разве это аргумент феодальной реак-
ции, а не чисто меркантилистская забота о сохранении в стране
драгоценных металлов? Ведь первые меркантилисты появились как
раз в то время, и были это испанские арбитристы. И совсем не уди-
47
вителен "безрассудный тезис архиепископа Тапии, будто Лопе па-
губнее Лютера"57. Театр проклинали многочисленные последовате-
ли Лютера из самых разных течений протестантизма. Дух противо-
борства театру — вовсе не средневеково-клерикальный, а насквозь
буржуазный. Не случайно самые ярые противники испанского те-
атра, главным образом из числа иезуитов, подвизались в Катало-
нии и Андалусии — областях, наиболее продвинувшихся по пути
капиталистического развития. Столь же закономерен и запрет ри-
туальных представлений — аутос, — введенный уже в XVIII в. об-
щими усилиями высшего духовенства и идеологов Просвещения.
Кстати, и коррида пережила аналогичные попытки запрета: в
XVI в. — со стороны Ватикана, а в XVIII — со стороны испанских
Бурбонов и отца португальского Просвещения маркиза Помбала,
запретивших убивать быка на арене.
В отличие от Германии XVI в., где именно традиционная связь
спектакля с сакральным пространством церкви способствует отка-
зу от пышных массовых действ и оказывается предпосылкой воз-
никновения камерного театра58, в Испании театр сохраняет связь и
с церемониальным шествием, и с церковным ауто. Вот описание
праздника Тела Христова во времена Лопе де Веги: "Особого рода
грубый маскарад, не заключающий, конечно, в себе ничего степен-
ного и серьезного, предшествовал представлению аутос при про-
цессии по переполненным народом улицам, на которых окна и бал-
коны лучших домов украшались по случаю праздника коврами и
шелковыми материями. В этой своеобразной процессии двигалась
впереди фигура уродливого морского чудовища, наполовину змеи,
носившего название тараска и приводившегося в движение скры-
тыми в его брюхе людьми. Все это должно было исполнять удивле-
нием и страхом стекавшихся сюда бедных поселян, шляпы которых
зачастую стаскивались прожорливым чудовищем и делались закон-
ной добычей его проводников. Затем следовала группа красивых
детей, с венками на головах, распевавших церковные гимны и лита-
нии, а иногда и группы мужчин и женщин с кастаньетами, танце-
вавших национальные танцы. За ними следовали двое или более ве-
ликанов, мавров или негров, сделанных из картона, которые неук-
люже прыгали и скакали, к большому ужасу менее опытных зрите-
лей и большому удовольствию остальных. Затем, с большой торже-
ственностью, при звуках музыки, шествовали священники, неся
святые дары под великолепным балдахином. За ними уже следова-
ла длинная благоговейная процессия, среди которой можно было
видеть в Мадриде, наравне с самым последним подданным, короля
со свечой в руке, а также главных сановников государства и ино-
странных посланников, увеличивавших своим присутствием блеск
празднества. После всего ехали разукрашенные колесницы, напол-
ненные актерами различных театров, которые должны были играть
48
в тот день. Эти лица были столь важными участниками праздника,
что по ним весь он на народном языке назывался праздником ко-
лесниц"59.
Позволительно усомниться в том, что столь грандиозное дейст-
во с участием высшего клира, короля и двора не несло в себе "ниче-
го серьезного", как и в том, что название "праздник колесниц"
дано в честь актеров, при всем народном поклонении им. Скорее,
наоборот: театр здесь причащается синкретическому действу, вос-
ходящему ко временам боевых колесниц бронзового века и жер-
твоприношений Морскому Змею. Остатком последних были
шляпы, стаскиваемые со зрителей, — магическая замена голов, — а
в особом случае и убиение ненавистного вельможи. В 1640 г. в Бар-
селоне этот праздник вылился в народное восстание, во время ко-
торого был убит вице-король Каталонии.
В высшей степени показательно, что король и "самый послед-
ний подданный" в процессии выступали на равных — явно не в
карнавальном, а в ритуальном смысле возобновления единства
страны и народа. Замечательно, что процессия не обходилась без
дам, исполнявших непристойные, на взгляд "цивилизованных" ав-
торов, танцы, "а между тем эта процессия останавливалась перед
домами важных должностных лиц, и здесь духовенство совершало
религиозные обряды, в то время как народ стоял на коленях, как в
церкви"60. Лишь после этого вполне языческого священнодействия
под открытым небом, у жилищ носителей сакральной власти-бла-
годати, процессия входила в собор, как в древний храм. А затем
начиналось театральное представление — неотъемлемая составная
часть синкретического действа.
Не случайно Бомарше так пренебрежительно отозвался об ис-
панской пьесе и испанском спектакле: "Испанский театр по мень-
шей мере лет на двести отстал от нашего и в смысле благопристой-
ности, и в смысле игры актеров..."61 Во Франции театр уже в
XVII в. перешел в область "высокого искусства", подчиненного
строгим канонам классицизма. Герой испанского эпоса, "славный
бородою" полуязыческий воитель, гадавший по полету птиц и дав-
ший дочери совсем уж языческое имя Соль (Солнце), под пером ве-
ликого французского драматурга превратился чуть ли не в капита-
на королевской гвардии. И шедевр самого Бомарше, "Женитьба
Фигаро", завоевавший огромный успех у демократического зрите-
ля и названный "революцией в действии", все же не был "народ-
ным празднеством в действии". В Испании же театр все еще сохра-
нял черты народного праздника. Драматург пишет, "потакая вку-
сам" непросвещенной публики, т.е. выражая еще даже не коллек-
тивный вкус, а коллективное мировосприятие, и актеры играют
так, что люди ощущают себя не зрителями, а участниками действа,
а, вероятно, в финале и сами в него включаются ("невообразимый
49
кавардак"). Не раз, в том числе в грозном 1648 г., когда под всеми
европейскими монархами шатались троны, в Кастилии запрет теат-
ральных спектаклей едва не вызывал народное восстание; Совет
Кастилии всякий раз вовремя отменял запреты, и в 1648 г. Касти-
лия осталась единственной не восставшей страной Европы62. Здесь
не "революцию в действии" представляли на театре — народ готов
был революционным (в самом деле) действием вступиться за свой
театр.
Было в иберийских странах и еще одно синкретическое праздне-
ство-священнодействие, объединявшее короля и простолюдина.
Это аутодафе — одновременно и судебное заседание, и казнь, и ре-
лигиозный обряд, и зрелище; уникальное явление, порожденное в
первую очередь тем, что деятельность иберийской инквизиции
была преимущественно направлена против носителей буржуазного
или близкого ему уклада (марранов, протестантов, отчасти морис-
ков, а также нелояльной "новой знати"), а не против народных
низов. Показательно, что иберийские страны при всем могуществе
инквизиции не знают охоты за ведьмами — в отличие и от протес-
тантских Англии, Скандинавии, североамериканских колоний, и от
католических Италии, Фландрии, Южной Германии, Венгрии,
даже соседней французской Басконии. Истребление ведьм выкорче-
вывало корни общинного уклада с его пережитками матриархата,
объективно расчищая дорогу капиталистическому перевороту в де-
ревне и городе; на Иберийском же полуострове инквизиция, наобо-
рот, превратилась в орудие "абсолютистско-раннеклассовой реак-
ции" против капитализма. Отсюда и совершенно иное отношение к
ней народных масс, и специфический облик ее ритуалов. Во всей
средневековой Европе палач сохранял многие черты жреца, а
крови казненного, веревке повешенного и т.п. приписывались ма-
гические свойства. Но нигде древний жертвенный ритуал не сохра-
нился в такой степени, не выплеснулся столь мощным протуберан-
цем уже на исходе Средневековья и в начале Нового времени, как в
иберийских аутодафе.
Бросается в глаза разительное сходство этого огненного "пред-
ставления веры" с сожжением жертв в ходе особо торжественных
празднеств языческих времен — празднеств, долженствовавших
обеспечить обновление жизни общины и Космоса через смерть и
новое рождение самого божества. Так было у иберов, которые, не
имея сил больше выдерживать осаду, не раз совершали общее жер-
твоприношение: воины шли в последний бой, а все остальные
гибли в жертвенном костре, в который вначале бросали золото и
серебро63. Так было и у иберофиникийцев, поклонявшихся Мель-
карту и Баал-Хаммону (вспомним жертвоприношение Бальба
Младшего), и у кельтов, сжигавших жертвы внутри гигантской фи-
гуры божества, сплетенной из прутьев (не отсюда ли фигуры вели-
50
канов — обязательные участники процессий в праздник Тела Хрис-
това?). Сходство усиливается видом первого quemadero, где "возвы-
шались четыре большие каменные статуи библейских пророков, к
которым привязывали еретиков, приговоренных инквизицией к со-
жжению"64 (там окончил свои дни "новый христианин" Меса, на
пожертвования которого были сооружены статуи). Находилось это
quemadero в Севилье — в центре древней Турдетании, где был наи-
более распространен культ Мелькарта-Геркулеса65. О глубокой
древности напоминает и облачение приговоренных или их статуй
(efigie): "все с коронами на голове, в коротких плащах с пламенем,
а упорствующие — с драконами среди пламени"66. Эту картину
можно принять за описание ацтекского жертвоприношения. Люди,
приговоренные инквизицией, часто содержались до аутодафе в
домах "членов семьи" (familiäres) инквизиции подобно ацтекским
пленникам, ожидавшим принесения в жертву, живя в домах воинов,
взявших их в плен и как бы усыновивших. Стороны инквизицион-
ного ритуала, в которых обычно видят только садизм или лицеме-
рие — скажем, сожжение упорствующих еретиков на костре из све-
жих зеленых веток или запрет на пролитие крови, — берут начало
в жертвенном ритуале смерти-возрождения: молодая зелень и
кровь — носители жизненного начала; пролить кровь жертвы, на-
значенной к всесожжению, значило бы оскорбить богов. Ярко-
красные одежды инквизиторов — тоже наследие этого древнего
значения цвета крови как средоточия смерти и жизни, переходящих
друг в друга. Такие одежды носили жрецы и участники "священ-
ных" войн и восстаний от Иберии до Китая. Возможно, неслучайно
и совпадение массовых аутодафе с началом океанских экспедиций
испанцев, требовавшим снятия древнего табу на плавания за "стол-
пами Геркулеса" (вспомним Морского Змея процессий).
Самое яркое свидетельство языческих истоков "христиан-
нейшего" ритуала — обязательное присутствие на аутодафе всего
двора во главе с королевской четой. Поэтому вполне закономерно
приурочение аутодафе к тем важнейшим моментам жизни царст-
вующей четы — восшествию на престол, бракосочетанию, рожде-
нию наследника, — которые олицетворяют вечное возрождение не
одной лишь династии, но, главное, земли и народа. Только так
может быть понято официальное уподобление аутодафе 1680 г., со-
вершенного по случаю брака Карла II и Марии-Луизы Бурбон, ни
более ни менее, как Страшному суду67.
Точно так же поведение народа во время аутодафе, кажущееся
сторонним наблюдателям каким-то всеобщим безумием или в луч-
шем случае верхом католического фанатизма, находит объяснение
в празднично-жертвенных истоках ритуала, в том, чуждом людям
зрелого классового общества, мировосприятии, в котором смерть и
жизнь взаимообусловлены, а смертник с короной на голове подо-
51
бен имперсонатору Тескатлипоки, возводимому на храмовую пира-
миду. В этом свете становится понятным то обстоятельство, что ис-
тория иберийских стран не знает народных восстаний против ин-
квизиции, которые не были редкостью в цитадели католицизма —
Италии и случались даже в папском Риме. Наоборот, обращает на
себя внимание непосредственное участие народа в ритуалах инкви-
зиции, искренне воспринимавшихся как священные действа. В этих
ритуалах действительно осуществлялось древнее праздничное
единство смерти и ликования, смеха и слез. Многие тысячи людей
разного социального положения вступали в ряды "воинов веры" —
fiscales и familiäres инквизиции, проходили во время аутодафе про-
цессией в капюшонах, подбрасывали вязанки хвороста в костер.
Особенно активной поддержкой пользовались аутодафе над
марранами, на что были серьезные причины как социального, так
и ритуального порядка, в сознании современников не разделявшие-
ся. До конца XV в. иудеи, а впоследствии "новые христиане" оли-
цетворяли — в еще большей степени, чем мавры и мориски, — то-
варно-денежный уклад хозяйства, которому значительная часть
иберийского общества была враждебна. Для знати и дворян они
были кредиторами и к тому же опорой неугодных монархов вроде
Педро Жестокого; у простолюдинов ассоциировались с крупными
купцами, банкирами и откупщиками налогов, несшими им ужесто-
чение эксплуатации. Корни этих противоречий могут уходить в
эпоху подчинения Тартессиды (позднейшей Андалусии) иберо-фи-
никийским городам, так как многочисленное в Средние века еврей-
ское население полуострова, вероятно, происходило не от одних
переселенцев из Палестины, а в значительной части — от приняв-
ших иудаизм жителей этих городов, которые и раньше восприни-
мались соседними народами как почитатели чужих богов.
"Marrano" и поныне имеет в испанском языке два значения:
"бывший иудей, крещенный в католичество" и "свинья". Вряд ли
это слово было изначально оскорбительным. Скорее всего, оно
первоначально означало "вкусившие свинину", которая для иудеев
и мусульман была запретна, а для иберов представляла собой
плоть их исконного тотема-вепря, на которого охотился сам Мель-
карт-Геркле-Геркулес. Древнейший обряд принятия иноплеменни-
ка в общину включал жертвенную трапезу, уподоблявшую его тоте-
му; вспомним, что еще первых христиан Иберии общины изгоняли
за неучастие в таких трапезах, а позже, в вестготские времена, офи-
циальная церковь сурово преследовала ересь вегетарианства68. Ес-
тественно, что люди, совершившие обряд пусть и по принуждению
(для архаичного сознания это не меняет сакрального значения об-
ряда), а затем "отпавшие" от общины, воспринимались не просто
как индивидуальные вероотступники, а как угроза ритуальному
52
воспроизведению миропорядка, нейтрализуемая только принесени-
ем их в жертву.
В этом свете небезынтересно, что и еретиков из "старых христи-
ан" инквизиция обвиняла в поедании свинины во время поста, т.е.
опять-таки в нарушении древнейшего ритуала: мясо тотема можно
есть только в подобающее время. Именно такое обвинение было
предъявлено знатному португальскому вольнодумцу, приближен-
ному короля Д.Гойшу. Правда, официально приговорить его к со-
жжению инквизиция не смогла. Но вскоре после формального ос-
вобождения из-под ареста его обгоревшее тело было найдено в
очаге дома, где он остановился.
При очень сходных обстоятельствах позднее погиб Филипп III.
Ему случилось однажды неодобрительно высказаться о приговоре
святой инквизиции. Прегрешение, за которое простого смертного
ждал костер, королю Испании, будто государю ацтеков или майя,
пришлось искупить ритуальным кровопусканием, и его священная
кровь была предана сожжению. Но Филипп III и позже вызывал не-
довольство воинствующей католической партии. На сорок третьем
году жизни король умер от ожогов, полученных якобы по той при-
чине, что поблизости не оказалось придворного, достаточно знат-
ного, чтобы отодвинуть кресло короля от огня.
Вероятно, в обоих случаях произошло убийство, ритуально
имитировавшее аутодафе. Это было вполне в духе протоклассовых
традиций: знатные, а особенно царствующие особы более всех под-
чинены обычаю, слитому воедино с ритуалом, и всякое отступле-
ние от него должно быть возмещено жертвоприношением.
После открытия Америки и Конкисты, после того, как несколь-
ко десятилетий деятельности "рыцарей первоначального накопле-
ния", совпавшие с пиком объективных последствий "встречи двух
эйкумен", в значительной мере обезлюдили Новый Свет и непомер-
но усилили крупнейших энкомендеро, корона и церковь перенесли
туда иберийский опыт борьбы с нелояльной частью имущих верхов
путем апелляции к низам. В "Индиях" это были прежде всего ин-
дейские общины, которые были реорганизованы на новых, прибли-
женных к иберийским, основаниях и взяты под защиту короны, на-
чиная с принятия "Новых законов" (1542 г.), подготовленных про-
поведью Лас Касаса и его единомышленников. Разумеется, корона
не только защищала индейские общины от экспроприации, но и на-
лагала на них дань (tributo) и трудовую повинность (мита, коате-
киль). Однако, как свидетельствуют сами названия, эта практика
по форме соответствовала протоклассовой, хотя по содержанию,
разумеется, отличалась от нее в эксплуататорскую сторону.
В результате короли стали восприниматься индейцами и мети-
сами как "природные сеньоры", преемники древних царей, а цер-
ковь — как наследница побежденного ею жречества. Тем самым
53
были заложены социальные предпосылки ибероамериканского син-
теза. При всех противоречиях интересов иберийские колонисты
перестали быть для старожилов чужаками-завоевателями. Индеец,
говоривший по-испански или по-португальски, свободный негр,
метис и мулат, для которых эти языки были родными, — все они,
при всех "кастовых" ограничениях прав (тоже достаточно естест-
венных для сынов и дочерей протоклассовых обществ), были уже
не изгоями, как в первые десятилетия после Конкисты, а подданны-
ми одного короля, прихожанами единой церкви. В годы Тридцати-
летней войны и Войны за испанское наследство, когда устои абсо-
лютизма на Иберийском полуострове колебались и туда не раз
вторгались иностранные войска, в "Индиях" не случилось ни одно-
го серьезного сепаратистского выступления, а бразильцы своими
силами изгнали вторгшихся голландцев, причем среди героев этой
борьбы были и индейцы, и негры, которым король присвоил офи-
церские чины.
Ибероамериканская общность потому и оказалась достаточно
органичной и устойчивой, пережив даже политический распад, что
со второй половины XVI по конец XVIII — начало XIX в. характер
связей между метрополиями (особенно Испанией) и колониями был
не менее своеобразным, чем иберийский абсолютизм. В начале
этого периода "Западные Индии" в самом деле были индейскими
землями, где иберийские колонисты составляли численно незначи-
тельное господствующее меньшинство; к концу его почти все их ос-
новные регионы стали по преимуществу креольско-метисскими, а
испанский и португальский из языков завоевателей сделались язы-
ками народа. Этот грандиозный культурно-исторический сдвиг,
почти не имеющий параллелей в истории Нового времени (кроме
образования в те же века российско-евроазиатской общности), не-
возможно свести к истреблению и вытеснению аборигенов и заня-
тию их земель европейскими колонистами. К этому, действительно,
сводилась политика более цивилизованных колонизаторов в Север-
ной Америке, Южной Африке, Австралии, да и в некоторых лати-
ноамериканских странах, но уже позже, в иную эпоху. Разумеется,
в таких случаях никакого социально-культурного синтеза не проис-
ходило и не могло произойти.
Но и в иберийских колониях социально-культурный синтез был
бы невозможен, если бы сами колонисты не были носителями куль-
туры, во многом созвучной аборигенной, если бы ту и другую не
сближало протоклассовое наследие, еще не умершее в метрополиях
и находившееся в полной силе в Новом Свете, если бы само господ-
ство там не усиливало "абсолютистско-раннеклассовую" тенден-
цию на Иберийском полуострове. Праздник, в снятом виде воспро-
изводящий жизнь предков, играет особо важную культурообразую-
щую роль именно в эпохи историко-культурного синтеза. Тем
54
более так было в Ибероамерике, где он апеллировал одновременно
к опыту нескольких таких синтезов, пережитых иберийскими наро-
дами, и к общим моментам протоклассового наследия, сближав-
шим жителей разного цвета кожи. В "Индиях" легко прививаются
и ауто, и театр, и коррида.
Свидетельством именно синтеза, а не какого-то иного процесса,
служат явления культуры, в которых просто невозможно разделить
элементы автохтонного и европейского происхождения, — невоз-
можно именно потому, что эти элементы внутренне близки в исто-
рико-стадиальном отношении, а подчас и восходят к общим древ-
нейшим прообразам. Таковы праздники типа мексиканского "Дня
мертвых"69, спектакли европейской формы на сюжеты доколумбо-
вых времен — "Рабиналь-Ачи", "Ольянтай". Ибероамериканская
коррида заключает в себе сакральные поединки со зверями как ибе-
рийцев, так и аборигенов Нового Света. Петушиные бои — где в
них наследие иберийских, а где — местных ритуалов, связанных по
обе стороны океана с поклонением Солнцу? Спортивные игры, до-
ныне вызывающие у ибероамериканцев прямо-таки сакральное от-
ношение, — что тут идет от иберийской пелоты, а что — от свя-
щенной игры каучуковым мячом, известной едва ли не всему Ново-
му Свету? Как воспринимала, скажем, паства Диего де Ланды ин-
квизиционный ритуал, подозрительно напоминавший жертвопри-
ношения богам воды и огня, в поклонении которым обвинялись
осужденные? И одна ли алчность "рыцарей первоначального на-
копления" породила даже такое трагическое для истории культуры
действо, как переплавка в слитки золотых и серебряных изделий
индейских мастеров? Ведь иберийцы начала XVI в. были не на-
столько цивилизованны, чтобы из их памяти начисто стерся сак-
ральный образ пламени, поглощающего предметы вчерашнего по-
клонения, дабы прежний мир умер и родился заново. Нет ли здесь
реминисценции древнего иберийского обряда жертвоприношения,
когда в огонь бросали золото и серебро, воспроизводя космогони-
ческий миф о расплавленных недрах Пиренеев?70 А у индейских
противников и союзников испанцев не возникало ли при этом ассо-
циации со своими богами огня или расплавленных недр земли
(Конвиракоча у народов Анд)?
Хронистом Диего Дураном описан языческий праздник бога
вод и грозы Тлалока, справлявшийся жителями долины Мехико и
до, и после прихода конкистадоров. "Праздник этого идола справ-
ляли двадцать девятого апреля, и был он празднуем столь торжест-
венно, что со всех сторон земли приходили справить его, и не было
такого царя или владетеля, великого или малого, что не пришел бы
с дарами на сие событие... Праздник этот устраивался с тем, чтобы
просить доброго года, по той причине, что посеянный ими маис
уже народился"71. Проходил он в два этапа: первый в горном свя-
55
тилище, второй — в храме на берегу озера. "Пока владетели на
горе, кою мы зовем Тлалокан, рано утром справляли праздник Тла-
лока... те, кто оставались в городе, где был у них роскошно и бога-
то украшенный образ идола в храме Уицилопочтли, справляли с
той же торжественностью праздник вод, особенно жрецы и служи-
тели храмов со всеми юношами и подростками из обителей и учи-
лищ; одетые в новые уборы, совершали они много различных тан-
цев, и представлений (entremeses), и игр, надевши разные наряды,
как подобало на их главном празднике, — почти так же, как сту-
денты справляют праздник Св. Николая"72.
Перед нами — типичный раннеземледельческий праздник воз-
рождения природы и обновления всего мироздания. Священная
гора, вокруг которой обычно собирались дождевые облака, олице-
творяла верхний, небесный мир; не случайно она и называлась Тла-
локан — "Страна Тлалока". Точно так же и озеро с бьющим со дна
источником являло собой нижний мир с подземными водами. Сред-
ний, земной мир не имел столь явного воплощения, и его надо
было моделировать особо, что и делалось в нижнем храме. "Перед
самим днем праздника этого идола во дворе храма, перед молель-
ней сего идола Тлалока, устраивали маленький лес, где водружали
много кустов, и горок, и веток, и небольших утесов, и все выгляде-
ло природным, а не искусственным и поддельным. Посреди этого
леса ставили высокое и раскидистое дерево и вокруг него еще четы-
ре меньших"73. Это и была модель среднего мира, еще сохранявшая
образ древней священной рощи, но уже приобретавшая более обоб-
щенное выражение: большое дерево воплощает мировое древо —
мифический центр мироздания, а четыре меньших дерева — сторо-
ны света.
На следующий день после жертвоприношений, совершавшихся
вождями и жрецами, праздник продолжали земледельцы на полях.
Они выкапывали по одному или два куста молодого маиса и жер-
твовали в храм, призывая богиню плодородия: "Госпожа наша,
приди скорей!" (то есть: пусть початки успеют созреть до замороз-
ков). В тот же день женщины, родившие детей в минувшем году,
угощали соседей уже знакомыми нам лепешками из амаранта и
маиса и дарили сотканную ими одежду, что должно было, очевид-
но, распространить на всю общину благодать Великой Матери.
Сопоставим этот праздник с праздником Тела Христова в Тла-
скале в 1538 г., вскоре после того, как Тласкала первой из индей-
ских общин была возведена Карлом I (V) в ранг города. Цивилизо-
ванным европейцам — не иберийцам — он должен был бы пока-
заться "грубым маскарадом", так же как аналогичное празднество
в самой Испании. Описан он францисканским миссионером Мото-
линией.
56
"В процессии несли Святые Дары и множество крестов и помос-
ты со святыми; рукоятки крестов и носилок были изукрашены зо-
лотом и перьями, и статуи на них тоже все были в позолоте и в пе-
рьях... Вся дорога была усыпана осокою, рогозом и другими цвета-
ми, и все равно люди бросали еще розы и гвоздики и всевозможны-
ми плясками оживляли шествие. На дороге были надлежаще уст-
роены часовни с алтарями и ретабло, там можно было отдохнуть,
там пели детские хоры и дети плясали перед Святыми Дарами... На
четырех углах или поворотах по пути процессии были сооружены
горы, и из каждой торчал высокий каменный утес, а у подножия
расстилался как будто луг с зеленою травой и цветами и всем, что
бывает на сельском лугу, и горы сии и утесы столь натурально
были сделаны, словно век тут стояли; любо-дорого было смотреть
на росшие там купы деревьев лесных, и фруктовых, и цветущих, на
множество грибов и на мох, покрывавший стволы деревьев и
скалы; были там даже старые, надломившиеся деревья; лес с одной
стороны был густой, с другой — пореже, на ветвях сидели всячес-
кие большие и маленькие птицы: соколы, вороны, совы, а внизу
среди деревьев бродили олени, бегали зайцы, и кролики, и шакалы,
и очень много было змей... И дабы все как есть казалось натураль-
ным, на горах прятались в засаде охотники с луками и стрелами,
причем те, кто сим делом здесь занимаются, говорят на другом
языке и, живя в лесу, весьма в охоте искусны"74.
Очевиден отнюдь не просто декоративный, а именно ритуаль-
ный характер убранства процессии. Очень многие детали перекоче-
вали из языческого празднества в христианское, сохранив свое пер-
воначальное значение. Декорация представляет собой то, что древ-
ние персы называли парадисом и что было известно всем древним
народам по обе стороны Атлантики: модель Космоса. Налицо ми-
ровая вертикаль — гора, причем повторенная четыре раза по числу
сторон света; деревья, животные и птицы тех видов, которые суще-
ствуют во владениях города; причем для праздника, сакрального
времени, он представлен в разные сезоны (деревья голые, цветущие
и плодоносящие) и в разное время суток (соколы, вороны и совы).
Изображены три "мира", или три яруса мировой вертикали: как в
мифах всех древних народов, небо представляют птицы, землю —
звери, подземный мир — змеи; само собой разумеется, что из всех
них выбраны наиболее сакрально значимые, древнейшие тотемы:
сокол, ворон, сова, заяц, кролик, койот. Воспроизведена и древней-
шая форма жизнедеятельности — охота, причем охотники принад-
лежат к какому-то другому народу, возможно древнейшим жителям
этих мест. Очень активно использованы цветы и перья, игравшие в
доколумбовой Америке особо сакральную роль. А многочисленные
статуи святых и апостолов в этом контексте играют ту же роль, что
многочисленные "идолы", против которых так яростно боролись
57
фрай Мотолиния и его коллеги. Точно так же пляски и пение, кото-
рые он столь одобряет, — в сущности те же столь осуждаемые им
пляски языческих празднеств. Языческая сакральность синтетичес-
ки объединяется с сакральностью христианской. Это возможно по-
тому, что в Испании не была утрачена первооснова, объединяющая
христианство с дохристианскими верованиями. Вспомним, что и
Дуран сопоставляет ацтекский праздник Тлалока с христианским
праздником св. Николая, а юношей из храмовых училищ — с ис-
панскими студентами.
Откроем теперь снова хронику Мотолинии и прочтем описание
праздника ордена святой Марии де Энкарнасьон: "Первым делом
была заготовлена обильная милостыня для бедных индейцев, и не
только для тех, что находились в лазарете, но братья обошли все
улицы на лигу в окружности и роздали семьдесят пять мужских со-
рочек и пятьдесят женских и много накидок и штанов; разделили
также меж самыми нуждающимися десяток баранов, и одну сви-
нью, и двадцать здешних собачек, коих едят тут со стручковым
перцем. Еще роздали много мер маиса и вместо кренделей щедро
угостили тамалями, и те, кому сие дело поручили, и слуги не поже-
лали что-либо взять за свой труд, говоря, мол, не токмо, что брать,
но сами они должны бы из своего добра уделить толику для лазаре-
та...Близ входа в лазарет были сооружены подмостки для представ-
ления ауто о грехопадении прародителей наших... Обитель Адама и
Евы была столь дивно украшена, что и впрямь казалась земным
раем, — с его разнообразными деревьями, на коих красовались
фрукты и цветы, — и натуральные, и сделанные из перьев и золота;
в ветвях деревьев виднелись различные пернатые, начиная с фили-
нов и других хищных птиц до мелких пташек, более же всего было
попугаев — и маленьких, и крупных. Были там также птицы искус-
ственные, из золота и перьев, на редкость умело сделанные. Кроли-
ков и зайцев было множество.., а также всяких других зверюшек...
Ходили на привязи два оцелота.... Были и другие искусно сделан-
ные подобия зверей, шкуры которых были надеты на мальчиков...
Было там четыре речки или источника, текшие из рая, надписи на
коих гласили, что это Геон и Фисон, Тигр и Евфрат, и посреди рая
стояло древо жизни, а близ него древо познания добра и зла, и на
обоих висело множество весьма красивых плодов из золота и пе-
рьев. Вокруг рая высились три большие скалы и одна гора, на коих
можно было увидеть все, что бывает в настоящих диких горах, и
все присущие апрелю и маю красоты... каких только не было здесь
птиц, и больших и маленьких... Среди скал бродили звери, и насто-
ящие и искусственные. Среди искусственных был лев, сиречь
юноша в шкуре льва, и он раздирал и пожирал убитого им оленя;
олень же был настоящий и лежал в расщелине меж камнями..."75 В
ходе ауто ангелы облачали Адама и Еву в одеяния "как бы из зве-
58
риных шкур" и изгоняли из рая в земной мир, где "земля была по-
росшая чертополохом и терниями и кругом кишели змеи; но также
тут были кролики и зайцы"76.
Этот праздник также разыгрывается по древнейшим мотивам.
Парадоксальным образом ветхозаветное сказание сбрасывает
оковы монотеистической редактуры и обретает изначальные (шу-
мерские? эламские?) черты, сближаясь с однотипными, стадиально
совпадающими мифами Нового Света. Рай прямо и непосредствен-
но выступает в своем исходном качестве "парадиса", как две капли
воды похожего на тот оазис, из которого Уицилопочтли изгнал
предков ацтеков, а "земной мир" сочетает черты среднего и нижне-
го, будучи сакрально представлен колючками — средством риту-
ального кровопускания; змеями, сбрасывающими кожу в знак
единства смерти и жизни; зайцами и кроликами, воплощающими
плодовитость, вечное возобновление жизни. На самом почетном
месте, конечно, оцелот и "лев" (ягуар или пума) — древнейшие то-
темы, ставшие затем богами. Христианское ауто оборачивается
даже не языческой мистерией, а еще более древним синкретическим
действом охотников, которые, надев звериные шкуры, перевопло-
щаются в тотема. Естественно, праздник не обходится без раздачи
еды и одежды, продолжающей традицию языческого праздника с
раздачей даров, и понятно, что даже слуги хотели сами участвовать
в раздаче. Но еда раздается уже не только местная (маис, тамали,
собачки), но и пришедшая из-за океана, причем не менее сакрально
значимая (баран-агнец и свинья, занявшая место иберийского
вепря), а одежда — уже вполне европейская. Празднество очевид-
ным образом перекидывает мост через океан и тысячелетия именно
благодаря своему свойству воспроизводить жизнь предков: архаич-
ные пласты культуры обеих эйкумен движутся навстречу друг
другу, происходит их взаимопроникновение, составляющее соци-
ально-психологическую основу историко-культурного синтеза.
И наконец празднование дня Иоанна Крестителя. Здесь уже нет
очевидной языческой основы, что отчасти обусловлено и характе-
ром сюжета, не содержащего таких архаичных мифологем, как тело
бога или непорочное зачатие: "Представили они четыре ауто...
Весьма благочестиво изобразили предсказание о Рождестве Свято-
го Иоанна Крестителя, сделанное его отцу Захарии... Затем на дру-
гих подмостках было весьма живописно представлено Благовеще-
ние Святой Деве... Затем во дворе церкви Святого Иоанна, куда
процессия пришла до начала мессы и где были устроены подмост-
ки, изумительно украшенные цветами, — представили Посещение
Пресвятой Девой Святой Елизаветы. После мессы же было пред-
ставлено Рождество Святого Иоанна и вместо обрезания соверши-
ли крещение восьмидневного младенца, коего нарекли Хуаном, и
прежде чем немому Захарии были вручены метрики, каковые он
59
знаками требовал, все вдоволь посмеялись, потому как, притворя-
ясь, что не понимают, ему давали все не то. Это ауто завершилось
пением "Benedictes dominus Deus Israel", и родственники и соседи За-
харии, радуясь рождению ребенка, нанесли подарков и всяческих
лакомств и, накрыв стол, принялись за угощение, ибо уже и время
для того подошло"77.
Ауто просто-таки сливается с жизнью. Взаправду крестят ма-
ленького Хуана. Соседи приносят угощение и садятся за стол, "ибо
время для того подошло" — какое время? Новозаветное театраль-
ное или реальное астрономическое? Включают в священное дейст-
во шутку с метриками — разыгрывают актера, исполняющего роль
Захарии, или представляют заранее подготовленную клоунаду? И
благочестивый фрай Мотолиния одобряет все это, в том числе кло-
унаду посреди священнодействия.
Нет ли здесь того же самого, что мы видели в иберийской мет-
рополии, — сохранения органической связи реальной жизни и мас-
сового действа, которое, обогащаясь, безусловно, какими-то дости-
жениями Ренессанса, все же перетекает прямо из синкретического
раннеклассового действа в синтетическое барочное представление?
Точно так же избыточная декоративность праздничных шествий и
ауто — изобилие предметов и цвета, золота и украшений, пения и
танцев — тоже вытекает из сакральности раннеклассовых времен и
переходит в барочную пышность и изобилие.
Не случайно эпоха Барокко, охватывающая, по нашему мне-
нию, около 200 лет — со второй половины XVI до второй полови-
ны XVIII в., — есть в то же время эпоха становления Ибероамери-
ки как социально-культурного целого. Не случайно и Испания ока-
залась если не родиной Барокко, то землей его расцвета и инициа-
тором его распространения в других странах в период своего пре-
обладающего влияния. В "Индиях" же культура Барокко пережива-
ет расцвет вплоть до начала XIX в., обильно впитывая местные
влияния и в свою очередь влияя на развитие этой культуры в мет-
рополиях. Ярчайшая составная часть культуры испанского Барок-
ко — прорыв к глубинным формам культуры, к почти мифологи-
ческому сознанию. Общепризнан "праздничный", "театральный"
характер этого стиля. Праздничность иберийского и ибероамери-
канского Барокко исконная, несущая в себе не развлекательное, а
космогоническое начало, унаследованное от прошлого и ожившее
на переломе эпох, обозначенном для Иберийского полуострова от-
крытием Нового Света и оказавшемся поистине встречей двух
культур.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 "Официальные праздники средневековья — и церковные, и феодаль-
но-государственные — никуда не уводили из существующего миропоряд-
60
ка и не создавали никакой второй жизни. Напротив, они освящали, сан-
кционировали существующий строй и закрепляли его. Связь с временем
стала формальной, смены и кризисы были отнесены в прошлое. Офици-
альный праздник, в сущности, смотрел только назад, в прошлое и этим
прошлым освящал существующий в настоящем строй... Поэтому и тон
официального праздника мог быть только монолитно серьезным, сме-
ховое начало было чуждо его природе". Бахтин М.М. Творчество Фран-
суа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990.
С. 14-15.
2 "В противоположность официальному празднику карнавал торжест-
вовал как бы временное освобождение от господствующей правды и суще-
ствующего строя, временную отмену всех иерархических отношений, при-
вилегий, норм и запретов... Он был враждебен всякому увековечению, за-
вершению и концу. Он смотрел в незавершимое будущее... На фоне исклю-
чительной иерархичности феодально-средневекового строя и крайней со-
словной и корпоративной разобщенности людей в условиях обычной
жизни этот вольный фамильярный контакт между всеми людьми ощущал-
ся очень остро и составлял существенную часть общего карнавального ми-
роощущения. Человек как бы перерождался для новых, чисто человечес-
ких отношений. Отчуждение временно исчезало. Человек возвращался к
себе самому и ощущал себя человеком среди людей". Там же. С. 15.
3 "В действительности столь полной противоположности культур
"церкви" и "народа" в период расцвета средневековой религиозности не
существовало. Универсальная христианская культура представала народ-
ной в той мере, в какой она не ограничивалась узкоклассовым подходом,
аккумулируя умственный потенциал общества... Карнавальная традиция
жила и среди отнюдь не монолитного духовенства". Даркевич В.П. На-
родная культура средневековья: светская праздничная жизнь в искусстве
IX-XVlB. M. 1988. С. 5-6.
4 "Чтобы воспроизвести акт творения в ритуале, необходимо уметь
найти центр мира и тот момент, когда профаническая длительность безду-
ховного и безблагодатного времени разрывается, время останавливается
и возникает то, что было "в начале", в творящий "первый раз". А во вре-
менном плане ситуация "в начале" повторяется во время праздника...
Праздник своей структурой воспроизводит порубежную ситуацию, когда
из Хаоса возникает Космос. Он начинается с действий, которые противо-
положны тому, что считается в данном коллективе нормой, с отрицания
существующего статуса и заканчивается восстановлением организованно-
го целого путем дифференциации элементов Космоса и Хаоса с помощью
системы общих семантических противопоставлений". (Топоров В.Н. О ри-
туале. Введение в проблематику / Архаический ритуал в фольклорных и
раннелитературных памятниках. М., 1988. С. 15-16). Как видим, времен-
ное отрицание "нормы" и "существующего статуса" и здесь постулируется
как необходимая, существенная черта праздника.
5 Бразильский антрополог А.Рамос отмечает, что в индейских общест-
вах труд не составляет противоположности досугу: так же, как не сущест-
вует общественного деления на праздный класс и трудящийся класс, не су-
61
ществует и "разделения времени на производительное время (труд) и рек-
реативное время (досуг)". (Цит. по: Folha do Melo Ambiente. Brasilia, abril
1999. P. 15). Ср.: "Празднество (всякое) — это очень важная первичная
форма человеческой культуры... Никакое "упражнение" в организации и
усовершенствовании общественно-трудового процесса, никакая "игра в
труд" и никакой отдых или передышка в труде сами по себе никогда
не могут стать праздничными. Чтобы они стали праздничными, к
ним должно присоединиться что-то из иной сферы бытия, из сферы духов-
но-идеологической". (Бахтин М.М. Указ. соч. С. 13-14). "Можно думать,
что ритуал был основной, наиболее яркой формой общественного бытия
человека и главным воплощением человеческой способности кдеятель-
н о с т и , потребности к ней. В этом смысле ритуал должен пониматься как
прецедент любой производственно-экономической, духовно-религиозной
и общественной деятельности, их источник, из которого они развились,
главная сфера реализации социальных функций коллектива". Топо-
ров В.Н. Указ. соч. С. 16.
6 См.: Инка Гарсиласо де ла Beza. История государства инков. Л., 1972.
С. 272.
7 Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997; Пропп В.Я.
Фольклор и действительность. М., 1976.
8 Duron, D. Historia de las Indias de la Nueva Espana e Islas de la Tierra
Firme. T. I. Mexico, 1967. P. 66-67.
9 Sahagûn Fr. B. de. Historia General de las Cosas de Nueva Espa-
na. Mexico. 1969. T. I Apéndices al Libro Primero, V. P. 252-253.
10 Ibid. Libro Segundo. Cap. XXXVII. P. 220-221.
11 Ibid. Libro Primero. Cap. XIII. P. 76.
12 Ibid. T. I. Libro Primero. Cap. XXII. P. 75.
13 Хроники открытия Америки. 500 лет. M., 1998. С. 113.
14 Указ. соч. Р. 65-66.
15 См.: Маркс К. К критике политической экономии / Маркс К., Энгельс
Ф. Соч., 2-е изд. Т. 13. С. 138.
16 См.: Циркин Ю.Б. Финикийская культура в Испании. М., 1976. С. 36,
191; Он же. Древняя Испания. Л., 1988.
17 Циркин Ю.Б. Финикийская культура... С. 198-199, 206-216.
18 Мишулин A.B. Античная Испания до установления римской провин-
циальной системы в 197 г. до н. э. М., 1952. С. 168, 173.
19 "Со времен крито-микенской цивилизации в странах Средиземно-
морья культивировали волнующие зрителей игры с быками, прыжки через
голову разъяренного животного. Сложнейшие сальто-мортале через быка
с помощью шеста совершали участники "бычьих торжеств" в Баско-
нии". Даркевич В.П. Указ. соч. С. 21.
20 "Во всем римском мире славился гадитанский Гераклейон, храм Гер-
кулеса-Мелькарта. Апогей его славы в античном обществе относится к I в.
до н.э., но существовал он вплоть до конца язычества. Этот храм посеща-
ли Полибий, Посейдоний, Цезарь, Аполлоний Тианский и другие извест-
ные римляне и греки...Интересно, что все время культ в этом храме от-
правлялся по финикийскому обряду, и даже тогда, когда все посетители
62
святилища и, вероятно, гадитане предпочитали именовать бога уже не
Мелькартом, а Геркулесом или Гераклом...Культ этого божества сущест-
вовал в римское время также в Абдере и Секси..." На воротах гадитанско-
го Гераклейона были изображены, согласно Силию Италику (1 в. н.э.), не
12 подвигов Геракла, а 10 деяний Мелькарта: гидра, лев, Кербер, кони,
вепрь, олень, поверженный Антей, кентавр, человекоголовый бык и со-
жжение героя. См.: Циркин Ю.Б. Указ.соч. С. 83, 67-70.
21 "Когда Ферон, царь Ближней Испании, в неистовстве направлялся с
флотом для завоевания храма Геркулеса, жители Гадеса выехали ему на-
встречу на военных кораблях, и когда в сражении еще не было решитель-
ного перевеса ни на той, ни на другой стороне, вдруг царские корабли не-
ожиданно были обращены в бегство. В то же время корабли запылали, ох-
ваченные огнем. Очень немногие из врагов, которые уцелели, будучи
взяты в плен, показывали, что они видели на носу у кораблей флота Гаде-
са львов, выбрасывающих из пасти пламя в виде лучей, подобных тем,
какие изображаются на солнце". (Macrob., Saturn., I, 20,12; lustin., XLIX,
5. Цит. по: Мишулин A.B. Указ. соч., с. 253)."По словам Эвктемона, писав-
шего около 440 г. до н. э. ...чужеземное судно могло подойти к одному из
островов поблизости от пролива только при условии, что оно предвари-
тельно разгрузится на острове Луны, т.е. острове, лежавшем против Май-
наки... Может быть, это условие содержалось в карфагено-массалиотском
договоре. С течением времени оно, по-видимому, превратилось в религи-
озный запрет, ибо Авиен, со слов Эвктемона, говорит...что считалось не-
честием задерживаться на островах около пролива". — Циркин Ю.Б.,
указ.соч. С. 34.
22 Salisbury J. Iberian popular religion, 600 B.C. to 700 A.D. N.Y., 1985.
P. 269.
23 Ibid.
24 См.: Варьяш О.И., Черных А.П. Португалия: дороги истории. М.,
1990. С.26.
25 Астарта выступает как воительница и как "Венера морская". К запа-
ду от Гадеса находился остров с храмом богини и пещерой, ей посвящен-
ной. Баал-Хаммон, отождествлявшийся греками с Кроном, а римляна-
ми — с Сатурном, был солнечным богом, и его животным был бык, иног-
да изображаемый с солнечным диском между рогами. Существенной час-
тью его культа были человеческие жертвоприношения, именовавшиеся
"мельк" ("молох"). Символ этого бога — круг с лучами — встречается на
монетах Малаги, Секси и ливофиникийских городов Белона и Асидона.
Надпись II в. до н.э.: "господину могущественному Милькастарту и его
рабам от народа Гадеса". Имя Милькастарта встречается и в других фи-
никийских городах. См.: Циркин Ю.Б. Указ. соч. С. 78-81.
26 Salisbury J. Op. cit. P. 135-136.
27 Ibid. P. 192. Древние авторы писали, что у жрецов храма Мелькарта в
Гадесе "бритые головы, босые ноги и непорочное ложе" (см.: Циркин Ю.Б.
Указ. соч. С. 75).
28 Salisbury J. P. 95, 96.
29 Ibid. P. 241-242.
63
30 Ibid. P. 272.
31 Ibid. P. 266-267.
32 Ibid. P. 256-257.
33 Ibid. P. 270.
34 Страбон. География. M., 1994. Ill, III, 7.
35 "Все люди дворца и люди войны, старики и юноши, танцевали в дру-
гих частях двора, взявшись за руки и извиваясь по-змеиному, на манер тех
танцев, которые танцуют мужчины и женщины из простонародья в Ста-
рой Кастилии." Sahagun. Ibid. Libro Segundo. Cap. XXIV. P. 159.
36 Salisbury J. Op. cit. P. 28.
37 Ibid. P. 263-264. Ср. с ацтекским ритуалом.
38 Ibid. P. 82-83.
39 Ibid. P. 86, 85.
40 Игнатов С. Испанский театр XVI-XVII веков. М.-Л., 1939. С. 14-16.
41 Там же.
42 Цит. по: Ортега-и-Гассет X. Дегуманизация искусства. М., 1991. С.
86-87.
43 Исидор Севильский уже в начале VII в., описывая морских сирен, за-
метил: "Говорят, что они плавают в волнах, потому что волны созданы
Венерой" (Цит. по Даркевич В.П. Указ. соч. С. 204). Монеты с ликом воин-
ственной Венеры чеканились в римское время в Секси и Малаге. На моне-
тах Малаги изображен бог с кузнечными клещами — Хусор, отождествля-
емый с Гефестом и Вулканом. Он был связан и с водной стихией: его изо-
бражения украшали носы кораблей. См.: Циркин Ю.Б. Указ. соч. С. 83.
44 См., напр., Якимович А.К. Диего Веласкес. Художник и дворец. М.,
1990. С. 84-96.
45 Исидор Севильский, описывая еще в начале VII в. морских сирен, за-
метил: "Говорят, что они плавают в волнах, потому что волны созданы
Венерой".
46 Бомарше. Избр. произв. в 2 т. М., 1966. Т. II. Письмо герцогу де Ла
Вальер из Мадрида 24 декабря 1764 года. С. 406-407.
47 "Праздник Мелькарта был важнейшей частью богослужения и, ви-
димо, одним из главнейших торжеств города, которым руководил суфет...
Само празднество разворачивалось, вероятно, как четырехактная литур-
гическая драма, первым действием которой было сожжение изображения
бога, сидящего на гиппокампе, каким он изображен на монетах Тира. При
этом почитатели плакали и даже, может быть, бичевали и ударяли себя
ножами и копьями, как это делали поклонники Адониса в Библе (Luc. De
dea Syra 6) и пророки тирского баала, т.е. Мелькарта, в библейском рас-
сказе об их состязании с Илией... Следующими актами были похороны
бога, священный брак с Астартой, совершаемый через посредничество су-
фета, и его воскрешение. Во время праздника распевались гимны в честь
Мелькарта, его смерти и возрождения. Вероятно, с этим связано странное
сообщение Филострата (Apoll.V,4), что гадитане — единственные люди,
воспевающие смерть". {Циркин Ю.Б. Указ. соч. С. 76-77). Совокупление
на ступенях храма и у дверей домов вполне соответствует ритуалу покло-
нения Астарте: "По закону аморреев девушка на выданье должна была
64
семь дней вступать во внебрачные половые связи у ворот храма". Фрэзер
Дж. Золотая ветвь. М., 1986. С. 313.
48 Гете И.-В. Путешествие в Италию. Собр. соч. в 13 т. Т. XI. М., 1935.
С. 510-541.
49 Бомарше. Указ. соч. С. 408.
50 Игнатов С. Указ. соч. С. 9.
51Там же.
52 Бомарше. Указ. соч. С. 408-409.
53 Там же. С. 38.
54 "Игра необходима человеку для отдохновения; и ради занятий, слу-
жащих к отдохновению рода человеческого, могут быть установлены до-
зволенные ремесла. Потому и ремесло актера, имеющее целью доставлять
человеку увеселение, само по себе дозволено, и те, кто его отправляет, не
находятся в состоянии греха, коль скоро они при этом соблюдают меру, а
именно: не произносят при игре срамных слов, не производят таких же
жестов; и если игры производятся не ради непотребных посторонних дел и
не в неурочное время, и т.д. Потому не грешат те, кто пристойной оплатой
поддерживает таковых людей". Фома Аквинский. Сумма теологии. / Идеи
эстетического воспитания. Антология в 2 т. М., 1973. Т. 1. С. 293.
55 Показательно, как Лопе де Вега подправил историю, взятую из хро-
ник XV в.: восставшие общинники, в реальности добивавшиеся и добив-
шиеся возвращения под сюзеренитет города Кордовы, у драматурга сразу
же объявляют себя вассалами короля. В свою очередь, "католические ко-
роли", реально относившиеся к восставшим как к своим союзникам в
гражданской войне, под пером Лопе приобретают черты "священных
царей", олицетворяющих справедливый суд; для этого даже пришлось вы-
двинуть на первый план Фернандо Арагонского, который был королем
Кастилии лишь как супруг кастильской королевы Исабель.
56 Балашов И.И. Испанская классическая драма в сравнительно-лите-
ратурном и текстологическом аспектах. М., 1975. С. 37.
57 Там же. С. 43.
58 Ефремова Н. Принципы театральной интерпретации мейстерзинге-
ровских драм Ганса Сакса. / Реконструкция старинного спектакля. М.,
1991.
59 Тикнор. История испанской литературы. М., 1886. Т. II. С. 218-
219. Цит. по: Игнатов С. Указ. соч. С. 43.
60 Там же. С. 44.
61 Бомарше. Указ. соч. С. 407.
62 См.: Балашов Н.И. Указ. соч. С. 83-89.
63 Вот что произошло, когда сенат Сагунта выслушивал посланца Ган-
нибала, передавшего требование отдать все золото и серебро — т.е., по
всей видимости, ритуальные предметы — ив одной одежде отправиться
туда, куда он прикажет: "Между тем толпа, желая слушать речь Алорка,
мало-помалу окружила здание, и сенат с народом составлял уже одно сбо-
рище. Вдруг первые в городе люди, прежде чем Алорку мог быть дан
ответ, отделились от сената, начали сносить на площадь все золото и се-
ребро, как общественное, так и свое собственное, и, поспешно разведши
3 - 5470
65
огонь, бросили его туда, причем многие из них сами бросались в тот же
огонь... Ганнибал распорядился предавать смерти всех взрослых подряд.
Действительно, возможно ли было пощадить хоть одного из этих людей,
которые частью, запершись со своими женами и детьми, сами подожгли
дома, в которых находились, частью же бросались с оружием в руках на
врага и дрались с ним до последнего дыхания". Жители Астапы, осажден-
ной римлянами, также "решили поступить страшно, по-дикарски: отвели
на форуме место, снесли туда самое ценное имущество, посадили на эту
кучу жен и детей, накидали вокруг дров и вязанок хвороста; затем отдали
приказ пятидесяти вооруженным юношам: пусть они, пока исход битвы не
ясен, охраняют здесь это имущество и тех, кто им дороже имущества. Если
же поймут, что враг выигрывает, что город будет вот-вот взят, то пусть
знают, что все, кого они видят сейчас идущими в битву, встретят смерть в
бою, а их заклинают всеми богами, вышними и подземными, помнить о
свободе, которой сегодня славной ли смертью, позорным ли рабством
будет положен конец, и ничего не оставить свирепству врага. Меч и
огонь — в их руках, так пусть лучше дружеские и верные руки истребят
то, что обречено гибели..." После того, как воины решили умереть там,
где стояли, в городе "свои же сограждане избивали безоружных и безза-
щитных женщин и детей; в пылающий костер бросали часто еще живых;
потоки крови гасили пробивающееся пламя. Наконец, устав от этого го-
рестного избиения, юноши сами, как были с оружием, бросились прямо в
пламя". "Самым ценным имуществом" историк называет опять-таки золо-
тые и серебряные предметы, которые римляне пытались выхватить из пла-
мени. См.: Тит Ливии. История Рима от основания города. Том II. М.,
1991. С. 16,340-341.
64 Григулевин И.Р. Инквизиция. М., 1976. С. 240.
65 Изображения Мелькарта (Геркулеса) и Баал-Хаммона на монетах и
стелах римского времени встречаются в долине Гвадалквивира (Бетиса) и
на южной оконечности Испании. "Эта область была населена турдетана-
ми, наследниками древних тартессиев. Она почти точно совпадает с "вла-
дениями Аргантониевых внуков", о которых упоминает Силий Италик...
т.е. с остатками Тартессийской державы, находившимися, видимо, под
властью старой династии". Циркин Ю.Б. Указ. соч. С. 190-191.
66 См.: Григулевич И. Р. Указ. соч. С. 272.
67 Там же. С. 269-272.
68 "Вегетарианство стало так прочно связываться с ересью, что воздер-
жание от мяса считалось достаточным основанием для обвинения". Salis-
bury J. Op. cit. P. 221.
69 См.: Козлова E.A. Калавера: родословная и черты характера. // Ла-
тинская Америка, 1998, № 5.
70 "Посидоний, с похвалой отзываясь о богатстве и высоком качестве
этих руд... в восторге готов даже верить невероятно преувеличенным рас-
сказам. Он относится с доверием к басне о том, что однажды во время по-
жара лесов почва, состоящая из золотой и серебряной руды, расплавилась
и, вскипев, вытекла на поверхность; поэтому будто бы каждая гора и каж-
66
дый холм представляли собой кучи монетного сплава, наваленные какой
то щедрой судьбой". Страбон. Указ. соч., III, II, 9.
71 DurânD. Op. cit. P. 83.
72 Ibid. P. 86.
73 Ibid. P. 86-87.
74 Хроники открытия Америки. С. 120-121.
75 Там же. С. 123-125.
76 Там же. С. 125.
77 Там же. С. 122.
Д. Г.Федосов
ИНДЕЙЦЫ И ПРАЗДНИЧНО-ОБРЯДОВЫЕ ТРАДИЦИИ
ВИЦЕ-КОРОЛЕВСТВА ПЕРУ
(XVI-XVII вв.)
Обряды и ритуалы были той осью, вокруг которой выстраива-
лась жизнь народов андских стран в доколумбову эпоху. С одной
стороны, они были связаны со множеством событий общегосудар-
ственного значения, таких как важнейшие даты в жизни правящей
династии инков или праздники в честь наиболее почитаемого бо-
жества империи — Солнца. С другой же стороны, каждый отдель-
ный индеец непременно отмечал и события, значимые для его ин-
дивидуального существования. Таковыми, например, были "поро-
говые" обряды, имевшие место в связи с рождением, наступлением
половой зрелости, заключением брака, появлением собственных
детей. Между этими двумя крайними точками социальной шкалы
можно указать на множество других важных событий, когда обря-
ды и праздники отмечали вехи в жизни отдельных семей, общин,
районов или групп населения.
Когда в 1532 г. Франсиско Писарро нанес смертельный удар им-
перии Тауантинсуйу, такая ситуация стала меняться. Постепенно
исчез самый высокий празднично-обрядовый пласт, связанный с
поклонением правителям империи и пантеону их богов. Многие
его элементы вошли в ткань колониальных праздников. Когда по-
томки инков на Рождество Христа отплясывали свои ритуальные
танцы, то эти танцы не многим отличались от тех, что исполнялись
за сто лет до того, хотя они уже и не входили в тот же культурный
контекст. Что же касается других празднично-обрядовых пластов,
то они обнаружили большую жизнестойкость. Особенно это каса-
ется всего, связанного с существованием отдельных андских посе-
лений, отдельных общин и их членов. Вышеупомянутые пороговые
обряды более или менее сохранились до XX в. Так, некоторые анд-
з*
67
ские индейцы, наряду с обрядом Крещения или Первого Причас-
тия, также устраивают ритуальное обрезание волос, которое симво-
лизирует приобретение ребенком статуса юноши1.
Европейцы, лишив коренных жителей части их традиционных
праздников и обрядов, принесли с собой множество других. Преж-
де всего, это были даты, связанные с событиями Священной Исто-
рии. Согласно постановлению Первого Лимского собора (1552),
были определены дни, по которым верующим строжайшим обра-
зом запрещалось работать и подобало отстоять полную мессу.
Таких дней было 70: все воскресенья, праздники Обрезания, Пасхи,
Тела Христова, Святого Иоанна Крестителя, Вознесения, Троицы,
Апостола Иакова, Успения, Всех Святых, Непорочного Зачатия,
Рождества и т.д. Кроме того, было выделено 26 праздников мень-
шего значения, однако все равно требовавших обязательного при-
сутствия на мессе. При этом надо помнить, что многие из назван-
ных торжественных дат отмечали на протяжении нескольких дней2.
Кроме церковных, существовал и ряд светских праздников. Это,
прежде всего, даты, связанные с жизнью испанской политической
элиты: дни рождения монархов и их наследников, бракосочетания
королевских особ, приезд в колонии новых вице-королей или архи-
епископов и т.д.
Мессы или торжественные шествия по случаю приезда в город
вице-короля были не менее пышными, чем в праздничные дни цер-
ковного календаря. Кроме того, важное значение приобрели хра-
мовые праздники тех или иных церквей или соборов и праздники
покровителей отдельных городов и поселений. Так например, в
столице нынешней Колумбии Боготе в семидесятых годах XVI в.
с особым тщанием отмечали 19 ноября — день св. Изабеллы
Венгерской, которая стала считаться покровительницей города
после того, как архиепископ дон Луис Сапата де Карденас привез
голову святой в серебрянной раке, имевшей форму человечекой го-
ловы, и поместил ее в городской собор. Священная реликвия была
даром архиепископу от Анны Австрийской, последней жены Фи-
липпа II3.
Службы и процессии в вице-королевстве Перу устраивались да-
леко не только по случаю больших праздников или крупных собы-
тий светской жизни. Как и индейцы, европейские христиане XVI в.
в большинстве своем объясняли голод, эпидемии или засухи вме-
шательством потусторонних сил, которых прогневало поведение
грешного человека. Специальные молебны были призваны восста-
новить благосклонность этих сил. В Перу к обычным европейским
невзгодам добавлялись регулярные разрушительные землетресения
и извержения вулканов. Для борьбы с этими и другими бедствиями
использовали чудотворные статуи и иконы. Наконец, и у христиан
было множество ритуалов, связанных с жизнью отдельного челове-
68
ка, таких как крещение, венчание, причастие и др., которые посте-
пенно проникали в среду индейцев.
Надо повторить, что хотя европейцы принесли в андские стра-
ны новые обряды и праздники, которые быстро прижились здесь,
наряду с ними в колониальную эпоху продолжала существовать и
прочная местная праздничная традиция. В отличие от Европы XVI
и XVII вв., в которой сохранившиеся языческие традиции были уже
более или менее включены в религиозный культ и сильно транс-
формированы или оттеснены на периферию христианством, в вице-
королевстве Перу отчетливо прослеживаются две традиции —
местная и привнесенная, они существуют отдельно друг от друга,
но при этом вступают в отношения притяжения или отталкивания.
О сохранении языческих культов можно судить по нескольким
источникам. Во-первых, это повсеместные жалобы миссионеров,
что на пути христианизации сделано очень мало и что индейцы по-
прежнему предаются идолопоклонству. Подробные описания по-
добных ритуалов можно прочитать в довольно многочисленных
отчетах о кампаниях по искоренению идолопоклонства, происхо-
дивших преимущественно на территории лимского архиепископст-
ва во второй половине XVI в. и с некоторыми перерывами на про-
тяжении XVII в. Однако исследовавший эти документы француз-
ский ученый Пьер Дювиоль отмечает почти трафаретное сходство
многих из них, что наводит на мысль о том, что испанцы видели в
языческих культах лишь то, что им хотелось увидеть. Описанные в
этих источниках случаи уж слишком напоминают европейские спо-
собы почитания дьявола, взятые из книг типа "Молота ведьм". Ин-
дейцы якобы поклоняются козлу (которого здесь не было в доко-
лумбову эпоху), предаются свальному греху, причащаются челове-
ческой кровью, целуют дьявола в зад и т.д.4
Особо труднодоступной для миссионеров была область маги-
ческих ритуалов, касающихся разных сфер жизни индейцев, лече-
ния болезней — в нее христианство практически не проникало. В
каждой общине был свой шаман или жрец, к которому индейцы не-
изменно обращались за помощью. Поскольку источник любой бо-
лезни видели в грехе, сглазе или влиянии злого духа, то и бороться
с такой болезнью можно было по преимуществу магическими сред-
ствами, совершая некий ритуал. Знатоки подобных ритуалов неред-
ко были специалистами в какой-то особой области, для каждой из
которых на языке индейцев существовало свое название: одни
могли говорить с идолами; другие — вызывать мертвых; третьи -
пророчествовать с помощью листьев табака или коки; четвертые —
предсказывать будущее, находясь в алкогольном опьянении;
пятые — готовить всяческие приворотные зелья; шестые — гадать
с помощью зерен кукурузы или изучая экскременты животных;
69
седьмые — делать то же, глядя на дым от сжигаемых трав или на
внутренности принесенных в жертву птиц и т.д.5
Но магические обряды важны были не только для существова-
ния отдельного человека, но и для благосостояния всей общины.
Они неизбежно сопровождали любые коллективные работы, будь
то строительство или очистка канала, сбор урожая или починка
близлежащего моста. Христианство довольно медленно проникало
в эту сферу жизни и понадобилось не одно десятилетие, прежде чем
индейцы стали приходить к священнику, желая, чтобы он благосло-
вил их семена или скот, как это происходит в Южной Америке в
наши времена6.
Неизбежным атрибутом подобных ритуалов становились пение,
музыка и танец — элементы, способствующие стиранию грани
между ритуалом и праздником.
Искоренить магию полностью христианская церковь была не в
силах. Однако в ряде случаев миссионеры повели действительно
беспощадную и, в конечном счете, успешную борьбу с язычеством.
Отчасти это касалось похоронных обрядов. Инки хоронили вместе
со знатным умершим его жен или слуг. Постепенно католической
церкви удалось пресечь эту традицию. Ожесточенные столкновения
между священником и паствой происходили из-за того, где именно
хоронить покойника. Нередко индейцы выкапывали своих умер-
ших родственников из освященной церковью земли и переносили
их в места традиционных захоронений, где, благодаря чрезвычайно
распространенному в Андах культу предков, они становились свое-
образными "уаками", то есть объектами религиозного поклонения.
Некоторые священники отыскивали эти места и переносили тела
вновь в церковную ограду. Другие предпочитали радикальные ме-
тоды — сжигали найденные трупы, к великому ужасу родственни-
ков, которые верили, что без сохраненного в целостности тела по-
койник не сможет перейти в потусторонний мир.
Однако в других пунктах неизбежно приходилось отступать и
смиряться с языческими пережитками. Гуаман Пома де Айала, пи-
савший свою "Новую хронику и Доброе правление" в начале XVII
в., вспоминает, как он собственными глазами видел поминки в анд-
ских поселениях. Индейцы сыпали пепел возле своих дверей, воз-
держивались от потребления соли, ели сырое мясо и пили кровь
животных. Они не спали несколько ночей и очень много танцевали
и пели, употребляя кукурузное пиво чичу и листья коки7.
Подытоживая сказанное выше, надо заметить, что празднично-
обрядовые традиции андских индейцев в колониальную эпоху
стали существовать как бы в трех разных плоскостях. Одни из них,
будучи совершенно неприемлемыми для католической церкви, так
сказать "ушли в подполье" — стали проводиться под покровом
ночи ив труднодоступных для испанцев местах, в обстановке боль-
70
шой секретности. В основном, это были ритуалы, связанные с по-
клонением "уакам", как называли на языке кечуа идолов или свя-
щенные места. Бороться с этим культом было тем труднее, что
"уакой" мог стать любой объект, хоть чем-нибудь выделяющийся
на фоне других: вершина холма или горы, источник, озеро, пещера,
то или иное животное или птица, овощ или камень необычной
формы и даже человек, если речь, например, шла о близнецах или
беспалых.
Другой пласт местных традиций при той или иной степени по-
пустительства миссионеров стал сосуществовать с христианской
обрядностью. Распространенным обычаем среди индейцев было
пение о героическом прошлом общины. Один испанский хронист
пишет о высокогорной андской деревне, где мужчины и женщины,
взявшись за руки, танцевали особый танец. Их вождь в это время
пел о славных делах предков, достойных быть запечатленными в
памяти потомства. Все другие индейцы подхватывали. Такое рес-
понсорное пение могло длиться три или четыре часа, пока вождь не
заканчивал свой рассказ. Иногда он сопровождался игрой на бара-
банах. По ходу праздника поющим подносили чаши с чичей, кото-
рую они выпивали, не прекращая танца. В конце концов многие из
них, совершенно пьяные, прямо здесь же падали на землю и засы-
пали8. Другие обряды сосуществовали параллельно с христиански-
ми. Например, после венчания в церкви индейцы могли праздно-
вать бракосочетание традиционным способом.
Наконец, некоторые индейские праздничные традиции так или
иначе вплелись в ткань христианских торжеств. Процесс этот мес-
тами протекал трудно и болезненно. Во многих указах и постанов-
лениях колониальных властей говорится о необходимости всячески
отмечать важные даты церковного календаря. Известно, что индей-
цы, не имея возможности пропустить подобные торжества, нередко
обращались к жрецам с просьбой разрешить им пойти на этот грех,
и таким образом "подстраховаться", чтобы в случае чего в даль-
нейшем не навлечь на себя гнев той или иной уаки. Постепенно
миссионерам стали известны и более вопиющие случаи скрытого
язычества. Индейцы шли на хитрость и прятали свои уаки в алта-
рях католических церквей или закапывали их возле крестов и в
дальнейшем поклонялись им, сохраняя видимость христианского
благочестия. Они с особым рвением отмечали именно те европей-
ские праздники, которые совпадали со священными датами их язы-
ческого календаря9.
Говоря о праздниках и обрядах вице-королевства Перу, надо
помнить, что ситуация в городах существенно отличалась от ситуа-
ции в мелких поселениях и редукциях. В последних испанцев порою
представлял лишь священник, иногда здесь могли появиться мест-
ные чиновники или землевладельцы-энкомендеро, но порядок про-
71
ведения торжеств во многом определялся самими индейскими вож-
дями, нередко имевшими довольно поверхностное представление о
христианстве. В таких поселениях характер праздника зависел от
благочестия и воображения самого миссионера, от его личного
присутствия и обычно все проходило довольно скромно.
Совсем другое можно было наблюдать в городах, где прожива-
ли и испанцы, и индейцы и где праздники отмечали "на широкую
ногу". Иберийский праздник, преимущественно церковный, имел
многовековую богатую историю. Центром его была служба, прохо-
дившая в соборе или церкви, а необходимым дополнением — тор-
жественные процессии самого разного характера. Праздники до-
полняли и многие другие элементы: коррида, потешные бои и тур-
ниры, выступления жонглеров, канатоходцев, фейерверки, танцы, а
нередко и пышные театральные представления. Как можно увидеть
из многочисленных примеров, коренные жители вице-королевства
Перу обогатили своей самобытной культурой практически все сто-
роны иберийского праздника.
В организации любого праздника в Европе огромную роль иг-
рали разного рода городские корпорации и особенно братства,
объединявшие верующих схожего социального статуса, схожих
профессий или построенные на принципе совместного почитания
того или иного святого или чина Богоматери. К традиционно евро-
пейским корпорациям в Латинской Америке добавились объедине-
ния, основанные на расовом принципе. Например, Гарсиласо де ла
Вега пишет о братстве св. Варфоломея, которое в XVI в. объединя-
ло многих метисов города Куско10. А к середине XVII в. при одном
только монастыре францисканцев в Куско существовало пять
братств испанцев, восемь — индейцев и одно — негров11.
Здесь необходимо упомянуть об активном участии чернокожих
жителей крупных городов вице-королевства в праздничных процес-
сиях. Имея богатые танцевальные и музыкальные традиции, они
уже в 1551 г. играют на барабанах, выкрашенных в любимый инка-
ми ярко-красный цвет, наряду с другими музыкантами, нанятыми
лимским муниципалитетом для торжественной встречи вице-коро-
ля Антонио де Мендосы. А в 1563 г. в той же столице вице-коро-
левства Перу выходит указ, разрешающий неграм танцевать и иг-
рать на барабанах только на двух городских площадях, так как в
прочих местах их сборища мешают уличному движению людей и
повозок12.
Если даже негры, бывшие одними из самых бесправных жителей
вице-королевства, могли организовать свое братство, то куда боль-
ше возможностей имели знатные индейцы, в частности, наследст-
венная инкская аристократия, получившая определенные привиле-
гии от испанской короны. Ведь принадлежать к богатому и влия-
тельному братству было признаком огромного социального пре-
72
стижа. Недаром эти корпоративные объединения соревновались
между собой в величине пожертвований на церковь: на устройство
приделов в честь определенного культа, на украшение статуй и ал-
тарей-ретабло, на организацию тех или иных процессий. Характер
участия в церковном празднике обязательно оговаривался в уставе
любого братства.
В серии картин, посвященных празднику Тела Господня, напи-
санных в XVII в. и ныне хранящихся в музее архиепископства
Куско, можно видеть величаво шествующих в процессии индейцев-
аристократов, в своих традиционных костюмах и с геральдически-
ми значками, свидетельствующими о принадлежности к той или
иной "панаке", то есть к клану, восходящему к одному из инков-
правителей. От их образов веет осознанием своей высокой социаль-
ной значимости, характерной для моделей испанского парадного
портрета. Некоторые исследователи утверждают, что знатные ин-
дейцы и были основными заказчиками этих полотен13.
Если бы мы могли оказаться на одном из многочисленных
праздников вице-королевства Перу, то первое, что бросилось бы в
глаза — это пестрота костюмов. Многие индейские племена сохра-
нили свою традиционную одежду, которая при инках отличалась
большим разнообразием. Широко известны успехи, которых жите-
ли Анд достигли в области ткачества. Здешние индейцы были един-
ственными в доколумбовой Америке, кто имел дававших превос-
ходную шерсть домашних животных — ламу и альпаку. Но особен-
но ценились ткани из шерсти викуньи — дикого животного, родст-
венного ламе. Широко использовался и хлопок. Каждая андская
женщина была обязана уметь ткать, но были и высококвалифици-
рованные профессионалы, которые использовали шерсть и самые
разнообразные добавки — волосы некоторых грызунов, пух лету-
чих мышей, человеческие волосы, золотую или серебряную нить.
Ткани могли быть украшены как геометрическим орнаментом, так
и фигурками людей и животных.
Очень важным элементом костюма многих племен были птичьи
перья или шкуры животных. Особой популярностью пользовался
кондор, которого обожествляли и который считался связанным с
духами предков, обитавших на холмах, и ягуар, культ которого
андские индейцы некогда принесли из густых тропических лесов
Южной Америки. Часто можно быдо видеть и шкуры ламы, являв-
шейся столь важной частью любого индейского хозяйства. Посте-
пенно в местный костюм проникали и европейские элементы.
С определенного момента в экономике Анд огромную роль стал
играть завезенный из Европы крупный рогатый скот, и в середине
XX в. индейцы боливийского высокогорья на праздник Тела Гос-
подня надевают не только костюм из шкуры ягуара, но и использу-
ют коровью шкуру, которую, вместе с головой, хвостом и рогами,
73
они натягивают на прикрепленную к поясу деревянную раму14.
Вполне возможно, что такой костюм появился еще в колониальную
эпоху.
Частью индейского праздничного наряда также могли быть го-
ловы того или иного животного или птицы, которые носили напо-
добие головного убора. Как и в других районах Америки, корен-
ные жители Анд пользовались и масками, особенно в танце, а иног-
да и разрисовывали свое тело яркими красками. Огромным разно-
образием отличались и украшения — кольца, браслеты, цепочки,
гирлянды из цветов, плодов, семян или растений. Отличительной
же чертой потомков инков были большие золотые серьги. Наконец,
в зависимости от характера исполняемого танца, индейцы могли
иметь в руках палки-копалки или какое-нибудь оружие: палицы,
дротики или пращи.
Разнообразие танцев также являлось одной из главных особен-
ностей андского праздника. Большинство танцев, которые были
при инках, сохранялись и в колониальное время, о чем свидетельст-
вуют многие испанские хронисты, лично наблюдавшие их повсюду
в вице-королевстве. Например, один очевидец отмечал, что во
время процессии Святых Даров в небольшом андском городе он
насчитал сорок различных танцев, каждый из которых исполнялся
под "свою" музыку и в "своих" обычных костюмах15. Не только
каждое племя имело свои танцевальные традиции, но и внутри от-
дельной индейской общины танцы различались в зависимости от
их назначения: обрядовые, военные, земледельческие, пастушеские
или рекреативные. Были и танцы чисто мужские или чисто жен-
ские, а некоторые танцы являлись привилегией лишь аристокра-
тии.
Один из таких танцев, особенно любимых инками, некогда ис-
полнялся на главной площади в Куско в присутствии императора,
его семьи и мумий предков. Мужчины и женщины брались за руки,
составляя две цепочки, а потом медленно и ритмично, под звуки
барабанов, приближались к верховному инке, делая два шага впе-
ред и один назад16. Можно почти не сомневаться, что подобный
танец исполняли и в колониальную эпоху, когда место инков на
площади заняли представители испанских властей.
Индейская музыка также составляла одну из уникальных черт
праздника, мешаясь со звуками европейских инструментов: про-
дольными и поперечными флейтами, шалмеями, трубами, тромбо-
нами, виуэлами, виолами и т.д. В доколумбову эпоху в Южной
Америке особой популярнстью пользовались некоторые духовые
инструменты, изготовлявшиеся из самых разных материалов. В
наше время повсеместно известны такие андские инструменты, как
антара — флейта пана и кена — продольная деревянная флейта с
различным количеством отверстий. Такие инструменты делали не
74
только из тростника или бамбука, но и из глины, костей животных
и металла, в том числе и серебра. Также заслуживают упоминания
флейты из черепов оленей или косуль, "кепа" — своеобразная
труба из удлиненной тыквы, и "путуту" — большая морская рако-
вина, издававшая мощный, низкий звук.
Андские индейцы также пользовались самыми различными
ударными инструментами — от небольших барабанов, сделанных
из полых бревен, обтянутых с обеих сторон кожей ламы, на кото-
рых обычно играли с помощью единственной палочки, до огром-
ных барабанов, предназначенных для особо торжественных цере-
моний. Были и инструменты, напоминающие бубен. При исполне-
нии танцев индейцы часто привязывали к конечностям своеобраз-
ные бубенцы из высушенной фасоли или морских ракушек, либо
медные или серебряные колокольчики. Иногда же их прикрепляли
к специальным палкам, которыми потрясали, отбивая ритм танца.
Все эти инструменты могли разниться между собой по своему
регистру и размеру и иногда объединяться в целые оркестры, где
одна группа индейцев антифонически повторяла мелодию, испол-
няемую другой группой. Но все же главная роль любого инстру-
мента состояла в том, что он служил аккомпанементом в танце. В
этом смысле особо важное значение имели ударные инструменты.
Например, каждая андская женщина владела небольшим бараба-
ном, на котором она отбивала ритм по ходу того или иного празд-
ника или обряда.
Католическая церковь в колониальную эпоху по-разному отно-
силась к богатой индейской танцевально-музыкальной традиции17.
Периоды запретов сменяли периоды большой терпимости, но и те,
и другие не имели решающего значения, так как извечной пробле-
мой иберийской колониальной политики оставалась нехватка
усердных исполнителей, поэтому при попустительстве или недо-
смотру испанского духовенства индейцы все равно продолжали
танцевать и петь так, как это делали их предки. Подтверждением
этому служат не только многочисленные свидетельства очевидцев,
но и тот факт, что одни и те же указы колониальных властей повто-
ряются по многу раз — лишнее доказательство того, что их часто
игнорировали.
Индейцы не только пели свои традиционные песни, но и охотно
исполняли тексты, написанные для них миссионерами. Часто это
были латинские молитвы, сначала переведенные на местные языки,
а потом наложенные на мелодии индейских песен. Популярны
были и короткие испанские религиозные гимны — вильянсикос ду-
ховного содержания, которые также переводились на кечуа и дру-
гие языки.
В иберийском празднике огромную роль играли различные те-
атральные элементы. Например, по случаю многих важных дат не-
75
редко устраивали потешные бои, причем в Испании особо любили
инсценировать битву христиан с маврами, с неизбежной последую-
щей победой первых. Эта традиция была перенесена и на землю
Нового Света — завоеватель Перу Франсиско Писарро, в незадол-
го до того основанной Лиме, в день Рождества наблюдал, как на
площади города мавры осаждали удерживаемый христианами бу-
тафорский замок, и как их эмир, будучи взятым в плен, рвал на
себе приделанную к маске искусственную бороду и, глядя в небеса,
проклинал Магомета18.
Более полувека спустя, в 1610 г., жители Куско, при активном
участии иезуитов, отмечали беатификацию Игнатия Лойолы. В го-
роде собралось 30 тысяч индейцев, в жилах многих из которых
текла кровь инков. Праздник начался 2 мая и продолжался более
20 дней. Наряду с традиционными песнями, танцами и процессия-
ми, 8 мая более 5 тысяч индейцев устроили инсценировку битвы
времен инков, проходившую под звуки барабанов на главной пло-
щади Куско. В течение последующих дней был организован еще
один потешный бой с военной музыкой, в котором потомки канья-
рес — инкской элитной гвардии — одержали победу над одним
племенем, некогда враждовавшим с правителями Тауантинсуйу19.
На этом примере любопытно проследить, как иберийские мавры и
христиане заменяются перуанскими инками и враждебными им ин-
дейцами.
Постановка пьес духовного содержания нередко становилась
одним из важнейших элементов иберийского праздника. Эта тради-
ция была перенесена и в Новый Свет. Одну из таких пьес, озаглав-
ленную "Комедия о Деве Гвадалупской и ее чудесах", сочинил ис-
панский монах Диего де Оканья. Он же оставил нам и описание
того, как в 1602 г., в первое воскресенье после праздника Богоявле-
ния эта пьеса с блеском была поставлена в городе Чукисака, в при-
сутствии епископа, членов аудиенсии, капитула, городского совета
и множества горожан и приезжих. В течение последующих девяти
дней в главной церкви города театральные постановки имели
место семь раз, кроме вечеров, когда на площади устраивали кор-
риду или потешные бои и турниры20. Коренные жители Анд были
заинтересованными зрителями, а нередко и участниками таких по-
становок.
Постепенно и в сам репертуар театра вице-королевства Перу
проникают местные темы: появляются пьесы, посвященные андско-
му прошлому. Текст одной из таких пьес, озаглавленной "Испан-
ская конкиста", был обнаружен в боливийском городе Оруро. Ее
играли во время праздника карнавала и отличительной особеннос-
тью этой постановки являлось то, что испанцы на сцене говорили
на испанском, а индейцы — на кечуа21. Еще больший интерес пред-
ставляет другая пьеса колониальной эпохи, названная "Трагедия о
76
гибели Атауальпы", повествующая о коварном убийстве Писарро
верховного инки Атауальпы, положившем в 1532 г. начало завоева-
нию империи Тауантинсуйу. Здесь индейцы говорят на кечуа, а ис-
панцы просто шевелят губами, не произнося ни слова22. Подобные
инсценировки казни Атауальпы, по-видимому, были достаточно
распространены в высокогорных андских селениях, причем извест-
но, что инков обычно играли вожди, а испанцев — простые индей-
цы-общинники23.
Как видно из всего сказанного выше, андские индейцы внесли
свой вклад практически во все элементы иберийского праздника,
сделав его уже явлением во многом принципиально новым — имен-
но латиноамериканским и никаким другим. Но они не только ис-
полняли традиционные песни и танцы в своих привычных костю-
мах, а продолжали использовать и традиционные средства стиму-
ляции — пиво чичу и листья коки.
Темное пиво чича, употребляемое в громадных количествах по
случаю абсолютно всякой и каждой торжественной даты, произво-
дилось из различных культур: не только из кукурузы, но и из киноа
(перуанский рис), оки (разновидность картофеля), арахиса, фасоли
и др. Если попадалось старое зерно или клубни, то их приходилось
жевать; слюна превращала крахмал в сахар, способствуя лучшей
ферментации. Полученную таким образом пасту сплевывали в кув-
шины с теплой водой, которые затем плотно закупоривали и хра-
нили под землей, чтобы на них постоянно воздействовала одна и та
же температура. Через неделю, две недели или месяц (в зависимос-
ти от желаемой крепости) напиток был готов.
Почти такое же значение, как и чича, имели листья кустарника
коки, которые мешали с небольшим количеством полученной из из-
мельченных раковин известью, делая своеобразный круглый
шарик, а потом посасывали его, перекатывая во рту. Кока являлась
хорошим стимулятором и не только увеличивала работоспособ-
ность индейцев, но и их выносливость, необходимую, чтобы отме-
чать многодневные праздники.
Кока и чича успешно соперничали с привезенным сюда вино-
градным вином, а в дальнейшем — с ячменным пивом и разными
крепкими напитками. Хотя и в Испании во всякий праздник вино
лилось рекой, в Андах отношение к алкоголю было ритуальным. В
глазах индейцев любые мало-мальски важные торжества должны
были заканчиваться полным и совершеннейшим опьянением, —
оно было необходимым завершением праздника, в конечном счете
символизируя собой наступление царства хаоса, после которого
должен воцариться обновленный мировой порядок, господству-
ющий в дни трудовых будней. Не случайно одна из самых харак-
терных картин андского праздника со времен инков и до настояще-
го времени — это разгоряченные алкоголем индейцы, которые пля-
77
шут часы напролет, а потом падают в изнеможении на землю и тут
же засыпают мертвым сном.
Чича и кока, так же как и вино, были важнейшими элементами
в конструировании "эмоционального пространства" праздника. Не
меньшую роль играло и внешнее великолепие торжеств, создавае-
мое взаимодействием самых разных элементов: улицы городов
украшали искуственными и настоящими цветами, тканями, шпале-
рами с различными изображениями, коврами из живых цветов,
триумфальными арками с живописью и скульптурой, так что весь
город своим видом напоминал интерьер церкви; по улицам шество-
вали многочисленные процессии — духовенство в полном облаче-
нии, члены братств в праздничных нарядах, дети, сыплющие ле-
пестки цветов, женщины с различными сосудами в руках, в кото-
рых курятся благовония. Завершали праздники фейерверки.
Все участники таких торжеств оказывались втянутыми в празд-
ничный хоровод событий. Испанцы, индейцы, метисы, негры, му-
латы — все могли ощущать себя соприкасающимися со сверхъесте-
ственными силами, управляющими жизнью каждого.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 R(os Bordones W. Perception de los mecanismos de solidaridad y
partcipación en los Andes: El ritual del corte del pelo // Encuentro de Etnohis-
toriadores. Red. de Silva Galdames, Santiago de Chile, 1988. P. 102-108.
2 In: Claro S., Urrutia Blondel J. Historia de la musica en Chile. Santiago de
Chile, 1973. P.37.
3 Freile J.R. El Carnero. Bogota, 1984. P. 109-110.
4 Duviols P. Cultura andina y represión: procesos y visitas de idolatrîas y de
hechicerîas. Cajatambo, siglo XVIII. Cuzco, 1986. P. XXXVII, LXXI.
5 Del Busto Duthurburu J.A. Peru Incaico. Lima, 1983. P. 300.
6 Foster G.M. Culture and Conquest: America's Spanish Heritage. N.Y.,
1960. P. 51,76.
7 Guaman Poma de Ayala F. Nueva Crònica y Buen Gobierno. T. I. Cara-
cas, 1980. P. 276.
8 In: Stevenson R. Music in Aztec and Inca Territory. L.A., 1968. P. 276.
9 Borges P. Métodos misionales en la cristianización de America: Siglo XVI.
Madrid, 1960. P. 289, 290.
10 Fapcunaco де ла Beza, Инка. История государства инков. Л., 1974.
С. 320.
11 Contreras у Valverde V. Relation de la Ciudad de Cuzco. Cuzco, 1982.
P. 176.
12 Stevenson R. Op. cit. P. 291.
13 Burga M. La emergencia de lo Andino corno utopia (siglo XVII) / Los
Andes: el camino del retorno. Quito, 1990. P. 83.
14 DelReyM. In and Out of the Andes. N. Y., 1955. P. 13.
78
15 См.: Пичугин П.А. Музыкальная культура андских народов. М.,
1979. С. 32.
16 Lucena Salmoral M. America 1492: Portrait of a Continent 500 Years
Ago. N.Y., 1990. P. 178.
17 См.: Федосов Д. Музыкальная культура и танцы индейцев вице-коро-
левства Перу XVI-XVII в. / Очерки истории латиноамериканского искус-
ства; часть I: XVI-XVIII в. М., 1997. С. 220-229.
18 Valega J.M. El Virreinato del Perù: Historia Critica de la Epoca Colonial en
Todos Sus Aspectos. Lima, 1939. P. 180.
19 Stevenson R. Op. cit. P. 298-299.
20 Suârez Radillo CM. El Teatro Barroco Hispanoamericano. T. II. El Vir-
reinato del Peru. Madrid, 1981. P. 256-257.
21 Tovar A. Lo Medieval en la Conquista y Otros Ensayos Americanos.
Mexico, 1981. P. 30-31.
22 Ibid. P. 31.
23 Burga M. Op. cit. P. 83.
Л.И.Тананаева
ХУДОЖЕСТВЕННО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАЗДНИКА И НАЧАЛА
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОЙ ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ
На землях Нового Света, где европейское высокое искусство не
имело генетических корней и вначале очень плохо стыковалось с
принципами прежнего художественного творчества (рождая на пер-
вых порах псевдосинтезы, симбиотические образования), праздник
оказался одной из редких форм с заранее заданной синтетической
структурой, которая сыграла огромную роль в приобщении авто-
хтонного населения к этому искусству. Не случайно и светская
власть, и церковь так охотно его использовали. Именно религиоз-
ные празднества стали той "экспериментальной площадкой", где
наиболее свободно и продуктивно сообщались между собой мест-
ная и импортированная культуры, примеров такого взаимодейст-
вия известно много. Индейцы, а позже и негры могли в этих случа-
ях быть не пассивными созерцателями, как случалось на первых
порах во время церковной службы или при знакомстве с репрезен-
тативным европейским искусством (портрет, исторические полотна
и т.д.), а проявлять себя активно, в высшей степени художественно-
эмоционально. В уникальной же ситуации праздника, который
зримо преображает жизнь, прерывает ее однообразное течение и
создает, пусть на короткое время, новую реальность, как бы отме-
79
няющую привычную, именно изобразительному искусству принад-
лежит важнейшая роль.
Как кажется, исследователи сильно продвинулись бы в понима-
нии функций изобразительного творчества, равно как и механизма
трансформации европейских культурных первопринципов в усло-
виях Нового Света, если бы посвятили комплексное исследование
не только культурно-социологической, но и художественно-стилис-
тической структуре латиноамериканских празднеств, начав с самых
ранних по времени форм. Мы ведь не раз имели возможность убе-
диться в том, как прочно сохраняются и неожиданно актуализиру-
ются в Латинской Америке традиционные, даже архаические с со-
временной точки зрения явления, почерпнутые из европейского на-
следия, и какую значительную роль могут они сыграть в жизни и
сознании общества, что стало особенно заметно в XX столетии.
Тем более интересно и важно найти их корни, ощутить те качества
и черты, которые могут довольно долго существовать в латентной
форме, а потом неожиданно выйти наружу и восприниматься как
что-то рожденное лишь в наши дни. В частности, именно стойкость
и широта распространения нынешних карнавальных празднеств
убеждают в том, что упомянутые корни уходят очень глубоко.
Системное исследование ранних латиноамериканских праздни-
ков со всеми их изобразительными компонентами — шествия, по-
возки-колесницы, триумфальные арки, костюмы, маски и т.д. —
помогло бы лучше понять особенности и истоки современных
праздничных традиций, бытовой культуры да и собственно изобра-
зительного творчества, на которое упомянутые праздники оказыва-
ли непосредственное воздействие. Во-первых, они давали сюжеты
живописным, графическим, скульптурным произведениям; во-вто-
рых, во многих произведениях опосредованно находило отражение
радостно-приподнятое восприятие жизни, рожденное тем же карна-
валом. В искусстве Латинской Америки на протяжении всей его ис-
тории можно встретить те и другие аспекты, и эта тема сама по
себе очень увлекательна и перспективна в свете поисков нацио-
нальных особенностей художественной культуры. Обращаясь, на-
пример, к кубинскому искусству XX в., можно назвать в этой связи
такие разные произведения, как "Карнавалы" Рене Портокарреро
или "Шествия" Мариано Родригеса, полотна Амелии Пелаэс и Ма-
нуэля Мендиве, для которых понятие праздника, шествия, карнава-
ла — это уже особый культурный код, вмещающий в себе достаточ-
но разностороннее содержание, а также множество явлений быто-
вого искусства, искусства улицы и т.д.
Еще один аспект проблемы — это развитие форм искусства,
причем относящихся к различным его видам, которые функциони-
руют в системе праздника как равнозначные, но подчиненные це-
лому элементы и, высвобождаясь на определенной стадии из этой
80
системы, способны развиваться сами по себе. При этом они разра-
батывают, уже по законам собственной поэтики, возможности,
рожденные в них праздником как формой жизни и творчества.
Говоря об изначальном синтетизме ренессансных празднеств
("объединенный космос всех искусств"), ученые прежде всего ука-
зывают на самую прямую зависимость от них художественно-про-
странственных концепций складывающегося "закрытого театра",
сценографии как таковой. Отмечают также воздействие отдельных
элементов праздника на эволюцию живописи. Окказиональная ар-
хитектура, возникшая для оформления праздничных действий, дает
в "свободном" развитии самостоятельную архитектуру малых
форм. В интересующий нас период XVI-XVII вв. это — один из
типов алтаря и надгробного памятника. Приведем еще один при-
мер: казалось бы, книжное оформление отстоит бесконечно далеко
от "въездов" и "триумфов", идея которых лежит в основе большин-
ства рассматриваемых празднеств. Между тем фронтисписы и ти-
тульные листы наиболее распространенных изданий того времени
нередко воспроизводят образцы триумфальных арок. Рубенс, со-
здавший в сотрудничестве с издателем Бальтазаром Моретусом
самый знаменитый и пышный декор барочной книги, являлся одно-
временно и автором многих проектов украшения города в дни тор-
жественных "въездов"("еп1гааа8") свидетелем которых он был1.
Книга, гравюра, трактат об архитектуре, графический альбом с об-
разцами орнаментов нередко оказывались для заокеанских коло-
ний важным, порой основополагающим фактором ознакомления с
европейской традицией, образцом для подражания и источником
вдохновения.
Чтобы наглядно представить себе тип триумфальной арки этого
времени, приведем свидетельство нидерландца Кареля ван Манде-
ра, участника работы над таким монументальным сооружением:
"Через шесть месяцев после избрания в императоры должен был
совершиться торжественный въезд его величества (Рудольфа II —
Л. Т.) в Вену: поэтому магистрат города поручил Спрангеру (при-
дворному мастеру — Л. Т.) воздвигнуть на старом Крестьянском
базаре большую триумфальную арку. Проект арки составил Ганс
Монт, хорошо знавший архитектуру и очень опытный в работах
подобного рода. Затем он сделал несколько больших, от восьми до
десяти футов высотой, фигур, которые состояли из деревянной под-
ставки, обвитой сеном, и сверху покрытой гончарной глиной. Спе-
реди по обеим сторонам арки стояли фигуры императоров Макси-
милиана и Рудольфа, сделанные с натуры, а также и другие, между
которыми нагая фигура Нептуна, стоявшая в красивой и величест-
венной позе, представляла замечательное скульптурное произведе-
ние. В верхней части арки, над круглым отверстием, он поместил
Пегаса, ибо там во время проезда императора должны были распо-
81
ложиться музыканты. Эта лошадь была в два раза больше нату-
ральной величины и стояла на очень значительной высоте. Все гон-
чарные фигуры были покрыты белой масляной краской и блестели,
как белый мрамор. Живописные работы выполнял Спрангер. Он
изобразил сцены из античной и современной жизни, имевшие отно-
шение к некоторым добродетелям, как Справедливость, Мудрость
и т.п., которые олицетворялись стоявшими среди этих сцен фигура-
ми, необыкновенно остроумно и искусно исполненными под брон-
зу. Кроме того, он написал несколько амуров в прекрасных позах в
размере, большем натуральной величины. Это было гигантское со-
оружение, превышавшее самые высокие дома на площади, ибо ма-
гистрат Вены непременно хотел воздвигнуть что-нибудь необыкно-
венно величественное. И замечательно, что все было окончено в
двадцать восемь дней, хотя дождь сильно мешал работам, что я хо-
рошо помню, так как Спрангер вызвал меня туда на помощь из
Кремса, где я писал тогда фрески на кладбище"2.
Назовем еще "живые картины", помещавшиеся в XVI столетии
на помостах — так называемых "эшафотах" — ив своеобразных
"ящиках" (сначала — по сторонам триумфальных арок, позже —
отдельно от них), которые вскоре стала замещать станковая живо-
пись. Она, как все живописное, скульптурное, графическое офор-
мление празднеств, создавалась профессионалами самого высокого
класса. В этой области праздничного действа, семантически необы-
чайно богатой, как ни в одной другой, активно развивались эмбле-
матика, геральдика и аллегория (в качестве ведущего принципа об-
общения и интерпретации), отчасти предопределяя тот факт, что и
высокое станковое искусство XVI-XVII вв. уникально по насыщен-
ности шифрами и метафорами, тотально символично и часто наро-
чито затемнено.
Для адекватного понимания программ праздников, которые со-
ставляли ученые-гуманисты и придворные философы, и их офор-
мления требовалась немалая эрудиция. Когда Филипп II посетил
празднование дня св. Юлиана в Лиссабоне, ему вручили специаль-
но изданную по этому случаю брошюру, содержащую объяснение
аллегорий, как это обычно делалось. И, на что он сам указывал в
письме, ему пришлось воспользоваться предложенными коммента-
риями, настолько сложными были аллегорические "коды" обычно-
го церковного события.
Ренессансный и раннебарочный праздник смог сыграть в искус-
стве столь значительную и уникальную роль потому, что являл
собой живой синтез буквально всех форм культуры и как раз в
XVI-XVII столетиях переживал свой расцвет, распространившись
по всей Европе. Он был насущно необходим: люди того времени не
мыслили жизни без этих многодневных мероприятий, требовавших
сил и значительных затрат времени и труда (физического — от
82
практических исполнителей, интеллектуального — от составителей
программ и аллегорических проектов предполагаемого действа).
Филипп II, отменивший в связи с состоянием здоровья и финансо-
выми затруднениями свой торжественный въезд в Барселону в
1585 г., вызвал обиду и недовольство населения3.
Столь популярный карнавал, имевший собственную богатую
традицию в Европе и издревле привычный для Пиренейского полу-
острова, был отнюдь не единственным в этой череде торжеств.
Праздновали коронацию, вступление в город молодого короля или
другого властителя, бракосочетание царственных особ, рождение
наследника правящей династии или исцеление кого-то из ее членов
от недуга; приезд иностранных послов, возвращение с войны, за-
ключение мира. Король посещал тот или иной город, чтобы под-
твердить права горожан или, наоборот, укрепить их обеты относи-
тельно династии; адмирал торжественно въезжал в столицу после
успешной морской битвы и т.д. Отмечали, следуя традиции, цер-
ковные календарные праздники, дни святых покровителей страны,
города, цеха; дни, посвященные той или иной чудотворной иконе,
статуе. Процессии в честь Тела Господня, как и связанные с Рожде-
ством и Пасхой, вовлекали в свой круговорот тысячи людей, задол-
го до торжеств готовившихся к ним. Чуть ли не самыми богатыми
с точки зрения изобразительного материала являлись траурные
торжества — знаменитая "Pompa Funebris" Ренессанса и особенно
барокко, которая занимала в жизни людей того времени огромное
место.
Сошлемся здесь на пример Речи Посполитой, это не случайная
параллель. Многочисленное дворянство — шляхту, историки не
раз сопоставляли с испанской идальгией, хотя бы потому, что она
входила в "мир пограничных крепостей" (А.Андьял) и считалась
современниками "оборонным валом и передней линией укрепле-
ний" всей Европы, защищая ее от турок. В 1683 г. Ян Собеский от-
стоял от них Вену. Комплекс рыцаря-христианина был здесь ис-
ключительно силен, и посттридентская идеология его поддержива-
ла. Не случайно в Польше были популярны творения "Людвика
Граната" (Луиса де Гранады), которого, по настойчивой просьбе
своего духовника, собирался переводить лучший представитель
польского маньеризма — М.Семп Шажиньский. Испанский цере-
мониал распространился при дворе первых Вазов, испанские по-
ртретисты работали для польских королей и знати, и под сильным
воздействием испанской портретной формулы сложился польский
рыцарский портрет — "сарматский". Параллелизм польского и ла-
тиноамериканского барокко мы не раз уже отмечали, и одной из
общих сторон была прочность в барочной культуре стереотипов,
восходящих к средневековью, дававшая знать о себе очень нагляд-
но, в частности, в похоронных обрядах. "В польских похоронах
83
столько роскоши и великолепия, писал, например, в XVII в. Бер-
нард О'Коннор, что я скорее принял бы их за триумфы [живых],
чем за погребение умерших"4. Добавим, что влияние культуры так
называемого сарматизма ощущается в это время не только в Поль-
ше, но и на обширных пространствах будущих Украины, Белорус-
сии, Латгалии, Молдовы, а также Венгрии, Чехии и Словакии, до-
ходя до границ Руси.
Сарматские похороны действительно отличались особой пом-
пезностью. Например, длительный и сложный обряд королевских
похорон начинался в поле под Краковом, где разбивались шатры,
устанавливались полевые алтари, перед которыми служились
мессы, в то время как процессия с телом усопшего обходила все
краковские костелы, постепенно приближаясь к Вавелю, где нахо-
дится усыпальница польских королей. Начало обряда возвещалось
звоном колоколов всех церквей и громом орудийных залпов. Все
службы сопровождались речами, проповедями, пышными панеги-
риками. Приглашалось несколько сотен светских и духовных лиц,
прибывавших в столицу в глубоком трауре5. На похоронах уже не
короля, а коренного гетмана и краковского каштеляна, Юзефа По-
тоцкого, в 1757 г. присутствовало 10 епископов, 60 каноников, 1275
римско-католических и 430 униатских священников6. Сам обряд
похорон знатных лиц был ярко театральным: непосредственно за
гробом ехал "архимим", изображавший усопшего, в его одежде.
Перед погребением он въезжал в костел верхом на коне и с грохо-
том падал с него наземь, символически изображая смерть своего
прототипа. У гроба ломали копья, знаки достоинства усопшего, и
снова и снова восхваляли его в длинных речах, вызывавших раз-
дражение у немногочисленных просвещенных представителей духо-
венства...
Светское и сакральное смешивались на всем протяжении похо-
ронных церемоний; по остроумному замечанию Я.Тазбира, сама
смерть начинала казаться полякам простой сменой места жительст-
ва (вспомним "прирученную смерть" Средневековья, по термино-
логии Ф.Арьеса). В это действо вовлечены были все виды и жанры
искусства7. Церковь преображалась в подобие мавзолея в честь
представителя знатного рода (впрочем, в обширной Речи Посполи-
той на сходный тип похорон претендовал каждый шляхтич). Ката-
фалки различной формы — с обелиском, балдахином, в виде пира-
миды или, скажем, лебедя, восходящего к гербовой символике
рода; особое внутреннее убранство храма, стены которого были
сплошь затянуты траурной материей; сотни свечей, многочасовые
проповеди с прославлением покойного, сама экспортация тела, по-
минки, порой не менее богатые, чем похороны, и переходящие в
пиры. А потом — строительство пышных надгробий, напоминаю-
84
щих и триумфальные арки, и "живые картины" из праздничных
процессий, и алтарную скульптуру...
Основным компонентом европейских праздничных торжеств,
посвященных "въездам" и "триумфам", а также похоронам всегда
оставалась процессия, шествие, в котором участвовали богато ук-
рашенные повозки-колесницы с расположенными на них "живыми
картинами" — светскими аллегориями или сценами на сюжеты из
Священного Писания, в зависимости от темы процессии, и сам
герой "въезда", обязательно верхом, в роскошной одежде, следо-
вавший в сопровождении пышной свиты, по возможности вклю-
чавшей экзотические персонажи. Улицы, по которым двигалась
процессия, открывались торжественными воротами — триумфаль-
ными арками; богатство их скульптурного и живописного офор-
мления зависело от важности события и возможностей устроите-
лей. Уже упоминавшиеся "эшафоты" с "живыми картинами", рос-
кошные ложи для правителя, воздвигнутые на площади, где обыч-
но разыгрывался турнир, создавали, пусть на время, идеальный
город, мечту ренессансных утопистов — с обелисками, пирамида-
ми, аркадами вдоль улиц и фонтанами. Город пестрел многочис-
ленными инскрипциями, цитатами из Библии и античных писате-
лей, помещенными на отдельных бандеролях и щитах; иногда на
них фиксировался целый диалог между изображенными персонажа-
ми, имевший целью прославление героя праздника. Город создавал
сцену — правитель давал представление, выступая как актер высо-
кого "Theatrum". Отшумев на площадях и улицах, увенчанный по-
тешной битвой или турниром, фейерверками и пиршеством, празд-
ник мог закончиться уже во дворце, среди избранной аристокра-
тии, какой-нибудь придворной "маской" или комедией. Праздник,
пишет В.Дажина, подробно рассмотревшая тему мифологизации
власти при дворе Козимо I Медичи, "обогащал придворный ритуал
и включал в него [как участников] подданных государя. В праздни-
ке зримо творилась мифология власти, прояснялись ее иерархия и
родословная"8.
Мы бы особенно подчеркнули, что такие праздники в XVI-
XVII вв. не имели особого, фиксированного места проведения —
им был весь город, а если правителя встречали перед воротами, то
и окружающая местность, где еще до вступления в город разыгры-
вались традиционные сцены встречи подданными, иногда даже ба-
тальные сцены, устраивались костюмированные танцы (последнее
характерно для Испании). Эта игра реальной урбанистической
среды с временной, фантастической, вдруг преображающей улицы,
площади и дома, убранные цветами и дорогими тканями, очень ти-
пична для маньеризма и барокко, часто предпочитающих казаться,
а не быть. Т.Лоренсон даже считает архетипом ренессансного
празднества именно такой идеальный город9.
85
Для нас важно, что чуть ли не самые впечатляющие формы ре-
нессансного праздника связаны с Карлом V, в меньшей степени —
с его сыном Филиппом II: это были одни из самых "полновесных"
вариантов европейских светских и церковных торжеств. Сама Ис-
пания создала варианты более скромные, хотя и обладающие свое-
образием, к которому мы еще вернемся. Но сразу надо отметить,
что праздничные "мероприятия", связанные с Карлом V, получили
в свое время очень широкую известность: его "въезды" и "триум-
фы" описаны прозой и стихами, изображены на гравюрах и даже
на живописных полотнах. Неудивительно, что мы, имея в виду бу-
дущую латиноамериканскую специфику, невольно обращаем взоры
прежде всего к Испании, но ни в коей мере не нужно пренебрегать
наследием Фландрии и других стран — Карла V и его кочующий
двор принимали и прославляли Италия, Франция, Нидерланды,
даже Англия. Устраивались действа, ослепительные по богатству,
красоте, изысканности своего живописно-сценического оформле-
ния, среди которых "въезд" Карла V в Брюгге в 1515 г., еще в быт-
ность его принцем, или Филиппа II в Антверпен в 1549 г. следовало
бы считать высокой классикой этого жанра. Важным представляет-
ся и то обстоятельство, что семантика, символические и изобрази-
тельные принципы, применяемые в рассматриваемых церемониях
(как светских, так и церковных), оказали достаточно сильное воз-
действие если не на формирование, то уж точно на распростране-
ние и укрепление постренессансных барочных форм.
Известно, что в гравюрах, книгах, образцах окказиональной ар-
хитектуры черты нового стиля часто находят более быстрое и чис-
тое выражение, чем в большой архитектуре и урбанистике. Не слу-
чайно в той же Речи Посполитой при описаниях церемоний похо-
рон современники употребляли слова "в современном вкусе" и
даже "модный"10. Для монументальных реализаций требовались
деньги, время, соответствующие топографические условия и т.д.
Воздвигнутая же, например, в Толедо в 1560 г. временная арка "ро-
манского" (здесь: римского — Л. Т. ) стиля, взятая из четвертой
книги Витрувия, пропагандировала, пусть в идеальном виде, анти-
чные идеи гораздо успешнее и раньше по времени, чем "большая"
испанская архитектура, где и античные, и ренессансные формы в
чистом виде, в сущности, почти и не были реализованы11. Одним из
любимых руководств для устроения барочных траурных церемо-
ний, в которые, как говорилось, входило множество изобразитель-
ных компонентов, явилась изданная в 1683 г. в Париже книга
К.Ф.Менестрие, имевшая чисто прикладной характер12. А бароч-
ная окказиональная архитектура, возникавшая на основе данных в
ней рекомендаций, стала одним из лучших "пропагандистов" этого
стиля не только в Западной, но и в Восточной Европе и за океаном.
86
Необычайно семантически и художественно "уплотненный" тип
ренессансного праздника, во многом формирующего светскую и
духовную жизнь Европы, заканчивает свое существование на рубе-
же Нового времени, когда он утрачивает массовую синтетическую
всеобщность, и лишь Великая французская революция попытается
возобновить его прямую связь с жизнью, сделать общенародным —
но уже на совсем иной основе.
Мы говорим о классических видах общеевропейского ренес-
сансного и раннебарочного празднества во многом потому, что о
собственно испанских его проявлениях, особенно об их зрительной,
связанной с изобразительным искусством стороне известно не-
многое, так как сохранившиеся описания (сошлемся тут на англий-
ского ученого С.А.Марсдена) фиксируют в основном литературно-
аллегорические программы13. По мнению того же специалиста, от-
личительными чертами испанских "въездов" времен Карла V и Фи-
липпа II были гораздо большие, по сравнению с другими странами,
сдержанность и простота: в Испании, долгое время занятой рекон-
кистой, видимо, не сложились светско-репрезентативные традиции.
Как наиболее характерные, Марсден выделяет следующие черты:
это традиционный церемониал непосредственно перед въездом в
город, который мог включать приветствия горожан и танцы — и
костюмированные, столь любимые в Испании (обычно переодева-
лись морисками, цыганами, маврами), и народные, спонтанные;
бывали случаи, когда во время шествия танцевал буквально весь
город. Далее — процессия с колесницами-повозками, аллегоричес-
кими фигурами и музыкантами, которая сначала направлялась к
собору для благословения, а уж потом — к парадной резиденции.
Несмотря на папские запреты, обязательным номером программы
оставались бои быков, а также сражения на тростниковых копьях.
Еще одна своеобразная особенность — потешные морские сраже-
ния, очень охотно разыгрывавшиеся в дни праздника. Турниры вы-
глядели скорее аристократической забавой, хотя тоже были привы-
чной чертой "въезда". Комедии, вообще театральные представле-
ния давались в менее официальных случаях: когда праздновали
бракосочетание, рождение инфанта и т.д. В Испании очень любили
экзотику, и потому участники шествий охотно представляли индей-
цев и негров. В 1585 г. в Толедо реальные индейцы сопровождали
искусно выполненную фигуру слона в натуральную величину и, по-
скольку это был церковный праздник, вместе со слоном появились
в церкви. В церкви же порой устраивали фейерверки, к которым
местные жители питали большую слабость.
Указанные Марсденом особенности заставляют ощущать связь
сюзерена и народа, сохранявшуюся в Испании очень долго. Чего
стоит, например, эпизод, связанный с "въездом" Анны Австрий-
ской в 1670 г., прибывшей для бракосочетания, когда Сеговия, бук-
87
вально все ее население, с танцами и пением преподнесла принцес-
се, по старинному обычаю, хозяйственные и постельные принад-
лежности, так сказать, "на обзаведение". Встреча короля перед во-
ротами города, где должен был состояться "въезд", тоже носила
традиционные черты: обновлялась присяга на верность подданных,
король подтверждал привилегии, данные ранее городу, и т.д. В
"морских баталиях" и потешных битвах "христиан с маврами" или
другими язычниками население участвовало с такой горячностью,
что в Валенсии в 1586 г. король запретил применять в подобном
сражении порох (должна была изображаться оборона Мальты, в
ней участвовали две галеры и шесть "кораблей"). Актеров утешило
только разрешение провести "битву" в другой день, когда на ули-
цах будет меньше народа. Однажды во время представления штур-
ма и защиты замка потешное строение все-таки загорелось — на
этот раз от фейерверка — и создатель театральной композиции с
риском для жизни сумел загасить огонь своим плащом; публика
была в восторге от впечатляющего зрелища14.
Эта способность не "играть в жизнь", а просто "жить игрой",
безусловно, могла легко укорениться в Латинской Америке, как и
костюмированные танцы, которые порой продолжались чрезвы-
чайно долго, сменяя один другой.
Нужно, однако, сказать, что далеко не все праздники в Испании
были пронизаны простонародным началом; можно назвать и
такие, где выступали в дефиле колесницы, запряженные белыми
единорогами (рог из серебра крепился на лоб благородного бело-
снежного коня), а программы шествий основывались на знании
античной литературы и мифологии, причем одной из излюбленных
фигур в Испании был Геракл. Триумфальная арка как элемент ре-
нессансного "въезда" в Испании выглядела скромнее, чем в других
европейских странах, будь то Франция, Нидерланды или Италия.
Правда, в 1526 г. в Севилье в честь королевской свадьбы было воз-
ведено целых семь арок, на стилистику и символику которых явно
повлияли итальянские образцы (в других случаях античные тради-
ции переплетались со средневековыми, особенно в орнаментике).
Монументальностью отличалась огромная арка в Толедо, возве-
денная в честь Елизаветы Валуа — королевской невесты, прибыв-
шей для бракосочетания: она была трехъярусной, причем нижняя
часть символизировала море, средняя — землю, а верхняя — небо.
В Испании, как и во всей Европе, в дефиле триумфальных пово-
зок во время светского праздника могли включаться и те колесни-
цы, которые использовались в религиозных процессиях. И среди
"живых картин" или парада аллегорий, медленно двигавшихся
перед нарядной толпой, большое место занимали сюжеты из Свя-
щенной истории, в том числе и столь суровые, как Страшный суд.
Церковные же торжества часто имели типологию, очень сходную
88
со светской — например, обряд коронования чудотворных икон,
при котором использовалась схема торжественного "въезда", с воз-
движением триумфальных ворот на пути следования. То же касает-
ся канонизации новых святых.
Естественно, что художественная стилистика торжественных
"въездов" была перенесена в Латинскую Америку. Без воздвижения
триумфальной арки не мыслили себе торжественного убранства го-
рода прибывавшие из-за океана европейцы, тем более, что культу-
ра всех стран Европы изобиловала различными вариантами таких
арок, помещавшихся в архитектурных трактатах (Серлио, Витру-
вий), в "книгах образцов" и печатных "программах", которые из-
давались к празднику и посвящались главному его герою.
Приведем лишь два примера: один — из области профессио-
нального "высокого" искусства, другой — из жизни иезуитских ре-
дукций, затерянных в сердце Южной Америки, между нынешними
Аргентиной, Бразилией и Парагваем.
В первом случае окказиональная архитектура — триумфальная
арка — выступает, как и на континенте, в тесной связи с панегири-
ческой литературной риторикой: "...серединой XVII в. датируются
первые проявления мексиканского стиля "ультрабарокко" в зодче-
стве, в это же время формируется и новый стиль новоиспанской
поэзии", пишет В.Б.Земсков в превосходном очерке "Литература
вице-королевства Новая Испания в XVII веке"15. Свидетельством
такого единства можно считать арку, воздвигнутую в 1680 г. в Ме-
хико по заказу городского кабильдо по проекту крупнейшего дея-
теля культуры, поэта Новой Испании Карлоса де Сигуэнсы-и-Гон-
горы. Событием, в честь которого предпринималось строитель-
ство, был приезд нового вице-короля маркиза де Лагуны, так что
стилистика была типичной для европейских "въездов", что предус-
матривало семантически наполненную программу архитектурной
конструкции. В частности, арку часто украшали в таких случаях
изображения представителей правящей династии, порой целое
"ожившее" генеалогическое древо, в окружении аллегорий всевоз-
можных добродетелей, предписанных высоким правителям.
Однако символическая конструкция Сигуэнсы-и-Гонгоры имела
свои особенности, раскрытые автором в сочинении "Пред-
ставление политических добродетелей, свойственных князю, кото-
рые обнаружены в древних монархах мексиканской империи и об-
разами которых украшена арка..."
"Полемичен был замысел Сигуэнсы-и-Гонгоры, справедливо за-
мечает В.Б.Земсков, — который в назидание новому вице-королю
избрал примеры добродетельных монархов не из античной, а из ац-
текской истории — случай, небывалый в истории Нового Света"16.
Напомним, что античность, в первую очередь для людей искусства,
была в то время абсолютной ценностью и вечным примером, а три-
89
умфальная арка была чрезвычайно важной частью римского худо-
жественного наследия. Тем не менее, Сигуэнса-и-Гонгора утверж-
дал, что "не в чем мексиканцам завидовать римлянам"17.
Интересно, что в то же время в Перу Инка Гарсиласо де ла Вега,
описывая историю правления инков, прибегал к поэтике римских
хроник и исторических сочинений, которые хорошо знал. Посте-
пенно белое население Перу начинает рассматривать величествен-
ное наследие империи инков как свою собственную историю и изо-
бражения "королей" инкской династии помещаются уже в домах
креольской знати рядом с портретами предков. (Лишь после гроз-
ного восстания Тупака Амару II все инкское в вице-королевстве
было запрещено, от одежды до изображений индейцев). Инкские
правители появляются в произведениях искусства колониального
периода, утверждения типа "инки — римляне Америки" повторя-
ются все чаще, хронисты сравнивают циклопические кладки ин-
кских городов и крепостей с древнеримской архитектурой и т.п.
Возвращаясь к арке в честь де Лагуны, добавим, что ацтекских
вождей было представлено двенадцать — по числу апостолов: тоже
характерная деталь. Одновременно там же была воздвигнута еще
одна арка, на этот раз по проекту выдающейся поэтессы и друга
Сигуэнсы-и-Гонгоры Хуаны Инее де ла Крус. Она мастерски поль-
зовалась обычными образцами и приемами европейской панегири-
ческой литературы. Главной фигурой символической конструкции
здесь был Нептун, аллюзия к имени вице-короля. Сигуэнса-и-Гон-
гора, кстати, видел в Нептуне "правнука Ноя и прямого предка за-
падных индейцев"18. Словом, можно сказать, что через символичес-
кую арку Гонгоры с триумфом прошла креольская идея самоиден-
тификации, чтобы увенчаться уже в XIX веке знаменитыми слова-
ми Хосе Марти: "Наше прошлое нам дороже античности: оно —
наше".
Совсем иначе, но никак не слабее звучало "индейское начало" в
парагвайских редукциях. Они объединяли в основном племена ин-
дейцев гуарани, в недалеком прошлом стоявших на самом низком
уровне цивилизации. Каннибализм, полигамия, номадизм лишь на-
чали отодвигаться в прошлое под деятельным надзором отцов-ие-
зуитов. Великолепные психологи и педагоги, иезуиты отлично
умели соотнести в жизни своих подопечных сакральное и профан-
ное; для возвеличивания божественных истин стремились подкре-
пить их понятными для своей паствы красочными празднествами,
где индейцы получали возможность, так сказать, свыше санкцио-
нированной свободы самопроявления. В ряду обильных празднеств
всегда выделялся праздник Тела Господня. Огромная площадь в
центре миссии покрывалась целым рядом триумфальных арок, ко-
торые новообращенные украшали на свой вкус и лад. Они, как
пишет Е.Н.Васина, "давали волю воображению, украшая арки не
90
только цветами и листьями растений, но и привязывая к ним все
возможные виды животных ...Помимо домашнего скота, к аркам за
лапки привязывали разноцветных попугаев, обезьян, а иногда даже
змей и ягуаров". Среди этого "жуткого хаоса и дикого шума, про-
изводимого ревом животных", проходила в торжественном поряд-
ке сама процессия, "напоминая более военный парад, нежели на-
родный религиозный праздник". Колонны двигались в молчании,
"с руками, сложенными на груди... скромно потупив очи и голос их
занят не пустыми словами, а молитвенными песнопениями"19.
Такое же противоречивое, но тем более сильное впечатление
производят скульптура и архитектурный декор иезуитских миссий,
пышный, причудливый, преизбыточно "шумный", переполненный
индейскими реалиями, но подчиненный строгой дисциплине храмо-
вых зданий и христианской иконографии.
Отметим и другой момент — активное сближение светского и
церковного начал, происходившее на латиноамериканском конти-
ненте, так как колониальная культура, особенно в андских странах
с их "долгим Средневековьем", была очень сакрализована, и свет-
ские жанры — пейзаж, натюрморт, историческая живопись — до
второй половины XIX в. (!) развивались преимущественно в рам-
ках церковного образа. С этой точки зрения живописное изображе-
ние праздничных шествий, в первую очередь церковных, здесь при-
обретает особый смысл, так как оказывается способным вобрать в
себя множество реалистических импульсов и вполне конкретных
деталей — исторических, пейзажных, портретных, частично ком-
пенсируя отсутствие прямых изображений реальной дейст-
вительности. А оригинальный жанр "триумфов церкви", существо-
вавший на боливийском Альтиплано в XVII — начале XVIII вв.,
может сочетать в пространстве одной картины мотив европейского
праздничного шествия (подобного описанным выше), иконогра-
фию "корабля церкви" и тему прославления испанской католичес-
кой монархии и иезуитского ордена20.
Анализ подобных колониальных "микстов", являющихся к тому
же вариантами ремесленного примитива, который обладает собст-
венной поэтикой, требует подробных комментариев и широкого
культурологического контекста, что уже выходит за рамки нашей
темы. Однако такой анализ не может быть начат без четкого пред-
ставления о европейском образце (или образцах), лежащих в основе
этих "микстов".
Рассмотрим в этой связи один из важнейших элементов европей-
ских церемониальных шествий XVI-XVH столетий — корабль-по-
возку. В Латинской Америке он быстро стал популярным, что
обычно связывают с карнавалом. Однако, и мы попытаемся это до-
казать, в равной мере корабль входил в структуру городского ре-
нессансного праздника, где вобрал в себя очень много символичес-
91
ких мотиваций, что связано не только со средневековой тради-
цией — особенно живой в это время в северных частях Священной
Римской империи, прежде всего в Нидерландах, но и с обширными
гуманистическими программами чисто ренессансного свойства,
столь типичными для имперских "въездов" и корпоративных шест-
вий. Корабль-повозка бывал двух типов: стилизованный (под анти-
чность или под "сказочный" вариант) или воспроизводивший ре-
альный облик парусника. Он передвигался либо на колесах, либо с
помощью лошадей, скрытых от зрителя, либо благодаря какому-
нибудь механизму.
Этот carrus navalis уже привлек к себе внимание исследователей
латиноамериканской культуры, особенно, как мы уже указывали, в
связи со знаменитыми карнавалами нашего времени. Так, в инте-
ресной и содержательной статье "К вопросу о самоидентификаци-
онных моделях латиноамериканской культуры" Ю.Н.Гирин в поис-
ках таких моделей обращается к карнавалу, видя в нем "ритуал, где
в сакрализованной форме воспроизводится основная самоиденти-
фикационная модель Латинской Америки, выражающая идею
транзитивности, устремленности к иной (чудесной, утопической)
реальности..."21. Парусник, корабль-колесница, входит в структуру
латиноамериканского карнавала как смыслообразующее ядро
"культурно разомкнутого праздника утопии", каковым, по мысли
автора, и является карнавал. "Карнавальная карроса, продолжает
Гирин, есть именно символический образ carrus navalis, восходя-
щий к самым архаическим традициям и ритуалам, и такая рекон-
струкция мифологического архетипа корабля, в которой соединены
главные мифологемы латиноамериканской культуры: острова как
Рая и средства достижения Рая"22.
Отнюдь не подвергая сомнению эти соображения известного ла-
тиноамериканиста, мы предполагаем, что названный carrus "вплы-
вал" в искусство Латинской Америки и с другим семантическим
грузом — как символ не местного самоопределения, а, напротив,
христианского универсализма, причем прочно соединенного с им-
перской идеей, что делало его позиции еще более сильными, хотя,
может быть, не менее утопическими.
В христианском искусстве корабль имел к тому времени очень
долгую историю, традиционно ассоциируясь с Ноевым ковчегом,
символизировавшим церковь, или напоминая о странствиях по
морю апостола Павла. С кораблем или его частями сопоставляли и
само здание церкви — это был очень распространенный образ
(мачта — крест с распятым Христом; неф — по-испански nave, как
и корабль, и т.д.). Исследователи указывают на древние корни
этого символа, связанного не только с христианской идеей
бытия — бурного моря, по которому, как утлый челнок, скитается
человек в течение своей земной жизни, но и с образом потусторон-
92
него плавания в мире усопших (корабль Изиды в египетской
"Книге мертвых"). Однако существовало и иное значение — напри-
мер, в сочетании с изображением сирены корабль мог, по утверж-
дению Г.Хейнц-Мора, символизировать плотские искушения. Ко-
рабль был также атрибутом многих святых, с корабликом на голо-
ве изображалась аллегорическая фигура Надежды. В церковном ис-
кусстве, а еще чаще — в церковной литературе этот образ встреча-
ется постоянно на протяжении веков, и к XV-XVI столетиям его
емкость и многозначность как символа очень возросли и устоя-
лись23. Светский же, карнавальный аспект часто включал в себя ко-
рабль как олицетворение ада (например, в нюрнбергских карнава-
лах XVI-XVII вв.); верные христиане его штурмовали, пытаясь по-
топить. Здесь же появляется "Корабль дураков"; он терпит круше-
ние, а народ спасается с него на прочный Корабль Веры24.
Корабли-колесницы сопутствовали всем видам празднеств уже в
XV в. В 1453 г. при въезде в Редж герцога Борзо его встретило
многолюдное шествие, в котором налицо были покровитель города
св. Просперо, св. Петр, рыцари, ангелы, масса аллегорических
фигур, а возглавлялось шествие кораблем с двумя аллегорическими
группами. По прибытии в Кельн Изабеллы Английской, невесты
Фридриха II, ей "навстречу выехало множество кораблей, их тяну-
ли спрятанные внутри лошади, а наверху восседали музицирующие
клирики"25.
В период Ренессанса образ корабля-повозки значительно рас-
ширил свое семантическое поле. В Нидерландах, как и в Англии,
он был наиболее популярным и распространенным символом — в
этом отношении с ним не мог соперничать никакой другой элемент
празднеств, кроме триумфальной арки. В Антверпене, переживав-
шем в XVI столетии свой "золотой век", корабль стал главным
компонентом и в светских, и в церковных процессиях. Он мог быть,
на что уже указывалось, двух типов: или как, так сказать, "живой"
корабль со всеми деталями такелажа, гордо двигавшийся среди
толпы под всеми парусами, или как стилизованная повозка-сцена,
на которой размещалась аллегорическая композиция.
Новое время принесло новые сюжеты, звучавшие особенно убе-
дительно именно в сочетании с повозкой-кораблем. Такими сюже-
тами были, например, персонификация четырех частей света, с ог-
ромным глобусом, укрепленным посредине (на нем могли быть
изображены знаки Зодиака), или так называемый "Дворец (или
Парад) наций", где Меркурий, бог торговли, представал в окруже-
нии двенадцати дам — главных торговых наций Европы. В Англии
эту тему воплощали и через символику дерева, ветви которого суть
Мир, Процветание, Любовь, Единство, Изобилие и Верноподдан-
ство. В тени ветвей этого древа, которое можно назвать утопичес-
ким предшественником идеи объединенной Европы или даже ООН,
93
восседали представители основных наций земного шара. В частнос-
ти, там были русский, поляк, турок и "варвар". В лондонских про-
цессиях, где торговая и морская символика была столь же естест-
венна и любима, как и в Нидерландах, корабль-повозка вез Язона с
аргонавтами и морских чудовищ; или он именовался "Золотое
руно", и с его палубы "рыбаки" разбрасывали в толпу свежую
рыбу. В Антверпене корабль "шел" под всеми парусами, управляе-
мый капитаном и богом Эолом, в сопровождении персонификаций
четырех главных и четырех второстепенных ветров. Сохранились
гравюры XVII в., где изображены подобные модели корабей26.
Разумеется, корабли-повозки участвовали также и в церковных
процессиях, и в карнавалах, но эти события фиксировались реже.
Вообще соотношение сакрального начала в карнавале и народного
карнавала — в "серьезном" празднике, в том числе церковном, —
это вопрос, требующий отдельного рассмотрения, в том числе — в
искусстве Латинской Америки. Мы, однако, не будем касаться сей-
час этой проблематики, оставаясь в пределах городских и придвор-
ных торжеств.
"Въезды", позже — городские шествия, являвшиеся частью при-
дворного церемониала или входившие в хронику важнейших собы-
тий городской жизни, как правило, описывались в стихах и прозе
(сохранились не только письменные, но и изобразительные мате-
риалы, в основном гравюры, иногда — целые серии). Все "въезды"
и шествия имели свои концепции, составлявшиеся к каждому дан-
ному случаю, почему и получались достаточно разнообразными по
своим программам, хотя и не были лишены определенных повто-
ров и обязательных элементов литературного и живописного офор-
мления. Вот пример одной из таких "концептуальных" процессий,
где ренессансный гуманизм окрашен уже раннебуржуазными, про-
тестантскими представлениями о труде и богатстве, которые вско-
ре сформируют и новую мораль предпринимателя и удачливого
купца. Этот праздник городских корпораций, чисто светский и не
связанный с личностью правителя, имел место в Антверпене в 1561
году. Согласно программе, действо должно было "охватить все
движение мира, явив его в семи фигурах, или параболах, а также
представив семь лет, семь эпох человеческой жизни, которые вклю-
чают в себя все переживания, все [человеческие] состояния, хоро-
шие и дурные". Первой из картин-парабол, появлявшихся на колес-
ницах, был "вечно меняющийся мир — самое удивительное из тво-
рений Господа, без начала, конца и какой-либо опоры"27. Повозку
везли два коня — белый и черный, символизировавших День и
Ночь. Кучер в образе Сатурна, олицетворявший Время, был с
косой, т.е. идея Времени соединялась с идеей неотвратимой Смер-
ти. Центр повозки украшал огромный вращающийся глобус на вы-
сокой подставке; по четырем ее углам находились фигуры, симво-
94
лизировавшие землю, воду, воздух и огонь (соответственно в зеле-
ной, синей, белой и красной одеждах). Там же помещались четыре
"главных" ветра. На глобусе были изображены действующие лица
процессии, через которые и должна была раскрываться ее главная
идея: Богатство, Гордыня, Зависть, Война, Нищета, Милосердие и
Мир. По мере движения колесниц мимо толпы, запрудившей
улицы, перед зрителями представала как бы аллегория жизни чело-
века, подчиненной игре стихийных сил, являвшей поле борьбы по-
рока и добродетели. Глобус вращается, дни текут, и приближается
роковой конец. Не случайно повозкой-аллегорией, которая ехала
следом за "Миром", был "Страшный суд"...
Вернемся, однако, к концепции "въездов", где тема христиан-
ского универсализма выступает в неразрывном союзе с имперскими
идеалами, находя яркие способы выражения. Они заметно отлича-
ются от театрализованных нравоучительных картин вроде тех, что
мы только что рассмотрели, и вернут нас к теме "корабельной"
символики. "И вот появляется корабль, подобный античному,
коего борта украшены великолепными гравюрами, картинами и зо-
лотом, со свернутыми парусами, с черными мачтами, с многочис-
ленными длинными штандартами красного и других цветов..."28.
Так начинает современник-хронист описание важнейшей символи-
ческой фигуры похоронной процессии Карла V, происходившей в
Брюгге в 1558 г. Этот корабль воспроизведен в прекрасной гравю-
ре-офорте братьев Я. и Л. ван Детекум. Огромный и величествен-
ный, он двигался благодаря особым механизмам, сразу вслед за им-
ператорскими знаменами, возглавляя траурную процессию. Его
"везли" морские драконы — символ покоренной морской стихии.
На носу стояла Надежда со своим атрибутом — якорем, под мач-
той восседала Вера с чашей и распятием, а на корме с пылающим
сердцем в руке возвышалась женская фигура, олицетворявшая Ми-
лосердие. На мачте развевалось императорское знамя, на котором
под распятием были изображены Геркулесовы столпы со знамени-
тым императорским девизом "Plus ultra". А те же столпы, но высо-
той с корабельную мачту, влеклись драконами позади корабля, как
пленники за колесницей победителя. На бортах корабля помеща-
лись изображения главных деяний Карла V. За кораблем вели им-
ператорского коня, несли доспехи Карла и знаки императорского
достоинства, отдельно — орден Золотого Руна. И только потом
шествовал король Филипп II, в черном плаще, шлейф которого
поддерживали трое придворных, с орденом Золотого Руна на
груди, а с ним — члены ордена.
Корабль, по словам современника, был "великолепный и мисти-
ческий" и символизировал как огромные успехи и победы импера-
тора на земле, совершенные по слову Божию, так и его готовность
принести все свои трофеи в дар Небесному Судие: "Итак, этот ко-
95
рабль, после того как он преодолел Геркулесовы столпы и Магел-
ланов пролив, сразился с врагами религии и далеко распространил
миссию христианской веры, повернул свой путь к Солнцу и плывет
в открытое небо, над созвездиями Арго, над вершиной мира, где
вручит плоды своих трудов истинному Юпитеру!"29
Приведенный пример говорит о привычности символа корабля-
колесницы, как и о его практически неисчерпаемых возможностях,
ибо здесь он вобрал в себя целый мир идей, светских и духовных,
идею триумфа, равного римским триумфам; церковного, вернее,
христианского порыва к небесам; идею империи, преодолевшей на
земле все преграды, сломившей сопротивление Геркулесовых стол-
пов и неизведанных морей (обо всем этом говорится в надписях и
инскрипциях, размещенных на бортах корабля и вымпелах), проне-
сшей идеалы христианства, крест и чашу, Милосердие и Надежду
по всему Orbis Terrarum и простирающей теперь свой путь к небес-
ному престолу. Можно сказать, что все идеи разомкнутого про-
странства, великой утопии, свободного выбора и вечного стремле-
ния, которые видит за архетипом латиноамериканской карнаваль-
ной карросы Ю.Н.Гирин, уже давно были воплощены в гордом им-
ператорском корабле Карла V, отправившемся в последнее неведо-
мое плавание, влача за собой, как игрушку, земные преграды —
будто побежденные Геркулесовы столпы. И ни одна карнавальная
карроса не могла бы даже претендовать на такое значение и глуби-
ну совсем, кстати, не архаических, а вполне современных и всеми
осознаваемых символических комплексов — демонстрации побе-
дившего императорского девиза "Plus ultra".
В нашей латиноамериканистике всегда, и справедливо, подчер-
кивается особая предрасположенность Колумба и его соратников к
сотворению мифа Нового Света, передавшаяся в дальнейшем лати-
ноамериканцам, ибо их предки были людьми, на самом деле пре-
ступившими предел европейского, а значит — собственного мира,
что "должно было отразиться в их мифогенном сознании как риту-
альный трансгрессивный акт..."30. Но эта тяга к расширению, пре-
одолению пределов, созданию нового, того, чего раньше не
было, — необходимая отличительная черта и развитого имперско-
го сознания. Священная Римская империя не могла не тяготеть к
изменению лица земли, поскольку являла собой, по мысли своих
творцов и их идеологов, подобие божественной власти, дарованной
императору, земному аналогу Бога, правда, постольку, поскольку он
выступал как хранитель христианской религии, расходящейся с его
помощью широкими кругами на весь континент и даже земной шар.
Эта власть отраженным светом озаряет и его подданных, в их пред-
ставлении — носителей истины и порядка в масштабах Вселенной.
Во времена Карла V стало известно, что пределы были действи-
тельно преодолены, что был открыт Новый Свет, а не оконечность
96
острова Сипанго. Империя осознала себя как миссионера-христиа-
нина во вселенском масштабе. Это был уже следующий — после
безумно смелой авантюры Колумба и конкистадоров — этап от-
крытия Америки. Земной шар вращается теперь уже осененный
древом мирового единства и процветания, что знаменует собой на-
ступление новой эпохи во всем мире, и лишь отдельные скептики
вроде Мишеля Монтеня и Яна Амоса Коменского вопрошают: а
было ли счастьем для Европы — и всей Вселенной — ее стремление
в иные миры и завоевание оных?
Может быть, стоит предположить, что доставшаяся в удел лати-
ноамериканцам склонность к утопическим представлениям о своем
месте в мире, об особом характере собственной культуры и предна-
чертанных континенту будущих великих свершениях основывается
не только на том, что некое ядро этих представлений заложили в их
подсознание первопроходцы, преодолевшие "европейскую самодо-
статочность", будь то Колумб, конкистадоры или первые миссио-
неры. Ведь в конце концов девиз "Plus ultra" принадлежал Карлу V,
а не Колумбу и Писарро. И какой бы христианско-гуманистичес-
кой утопией, в духе Эразма Роттердамского, ни выглядела идея
христианско-имперской миссии — принятой им на себя, а стало
быть, возложенной и на его подданных, в величии этой утопии от-
казать нельзя, хотя это и усложняет вопрос об истоках латиноаме-
риканской самоидентификации.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Bonchery H.F., Wijngaert F. von den. P.P.Rubens en het Plantijn sehe huis.
Antverpen, 1941; Corpus Rubenianum. Bruxelles, 1968-1972. T. 16 (декора-
ции въезда инфанта Фердинанда), t. 9 (триумфальные арки).
2 Мандер К. вам. Книга о художниках. М.-Л., 1940. С. 274, 258.
3 Marsden CA. Entrée et fêtes espagnoles au XVI siècle / Les Fêtes de la Re-
naissance. Paris, 1960, vol. 1-2. V. 1. P. 411. Столь же недовольны были жи-
тели Вальядолида в 1590 г., когда Филипп II проехал через город в откры-
той карете, а не верхом, как подобало правителю при "въезде" (Ibid.).
4 O'Connor В. Pamietniki. / Wilinski S. U Zródel portretu staropolskiego.
W., 1958. S. 9.
5 ChroscickiJ.A. Pompa Funebris. W., 1974. S. 50-51.
6 Wilinski S. Op. cit. S. 13.
7 Описания польских погребальных обрядов см.: Chroscicki J.A. Op. cit;
Wilinski S. Op. cit. Более обширную библиографию и материалы см.: Тана-
наева Л. Сарматский портрет. М., 1979 (гл. "Надгробный портрет".
С. 198-222 и прим. к ней). Ценные материалы, касающиеся подобных яв-
лений в широком ареале Центральной и Восточной Европы см.: Seminaria
Niedzickie. Portret typu Sarmackiego w wieku XVII w Polsce, Czechach, na
Slowacji i na Wegrzech. Krakow. 1985.
4 - 5470
97
8 Дажина В. "Навязанная память": мифологизация власти Медичи в
художественной политике герцога Козимо I. // Вопросы искусствознания.
М., 1997, XI (2/97). С. 322.
9 Lawrenson Т.Е. Ville imaginaire, dékor théâtrale et fête. / Les Fêtes de la
Renaissance. Vol. 1. P. 425. См. также: Голованова О.И. Тема триумфа в ис-
кусстве итальянского Возрождения (XV-XVI). М., 1992; Вайшвилайте
И.В. Некоторые аспекты становления барокко в художественной культуре
Литвы. / Общество и государство в древности и в Средние века. М., 1984.
С. 156-169; Chroscicki J.A. Op. cit; Дажина В. Художественная политика
Козимо I Медичи и искусство Флоренции второй половины XVI в. Дис-
сертация на соискание ученой степени доктора искусствоведения в виде
научного доклада. М., 1998. С. 13-20.
10 Chroscicki J.A. Op. cit. S. 103.
1J В книге "Les Fêtes de la Renaissance" воспроизведен целый ряд три-
умфальных арок, по которым можно судить о разнообразии вкусов и сти-
листических направлений устроителей торжеств середины XVI века: от
"римских" (триумфальная арка Испанской нации или города при въезде
принца Филиппа в Антверпен) до эклектических сооружений, перенасы-
щенных скульптурой, гербами и эмблемами. См. также: Chroscicki J.А. Ор.
cit. (В книге приводится богатый иконографический материал, касающий-
ся европейской "окказиональной архитектуры" и различных видов декора
церквей, убранства катафалков и пр., относящихся к погребальным обря-
дам). Очень интересна трактовка окказиональной архитектуры Дж. Р.Кер-
нодлем (он называет ее shaw architecture — "мастерски выполненная опра-
ва для драгоценного камня — самой акции"): Kernodle George R.
Dérulement de la procession dans les temps au espace théâtral dans les Fêtes de la
Renaissance / Les Fêtes de la Renaissance. Vol. 1. P. 444.
12 Menestrie C.G. Des décorations funèbres. Paris, 1683.
13 Marsden C.A. Entrée et fêtes espagnoles au XVI siècle / Les Fêtes de la
Renaissance. Vol. 1. P. 389-411.
14 Ibid. P. 396.
15 Земсков В.Б. Литература вице-королевства Новая Испания в XVII
веке. / История литератур Латинской Америки. Т. 1, М., 1985, С. 410.
16 Там же. С. 410-411.
17 Там же. С. 417.
18 Там же. С. 415.
19 Васина E.H. Театрально-праздничные формы в иезуитских редукци-
ях XVII-XVIII веков / Очерки истории латиноамериканского искусства.
М., 1997. С. 187.
20 См., напр.: Gisbert Т. La pintura en Potosi y la audiencia de Charcas. //
Cuadernos del arte colonial. Museo de America. Madrid, 1987.
21 Гирин Ю.Н. К вопросу о самоидентификационных моделях латино-
американской культуры. / Iberica Americans. Механизмы культурообразо-
вания в Латинской Америке. М., 1994. С. 52-53.
22 Там же. С. 52.
23 Heinz-Mohr G. Lexicon der Symbole. 2 Aufl. Freiburg-Basel-Wien, 1992.
S. 273-274.
98
24 За возможность познакомиться с этими материалами, в том числе
иконографическими, искренне благодарю кандидата искусствоведения
В.Ф.Калязина ("Штурм ада" воспроизведен на гравюре из "Гамбургской
рукописи" 1539 г. "Корабль дураков" тоже относится к нюрнбергскому
карнавалу "Schembartlauf" — его изображение есть в гравюре XVII века).
25 Бургхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. М., 1996.
С. 357.
26 См.: Les Fêtes de la Renaissance. Vol. 2. P. 349-358, 359-388.
27 Ibid. P. 363.
28 Цит. по: Jacquot J. Panorama des fêtes et cérémonies du Régne / Les Fêtes
de la Renaissance. Vol. 2. P. 469.
29 Ibidem.
30 Гирин Ю.Н. Указ. соч. С. 48.
И.В.Ершова
ПРАЗДНИЧНО-РИТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ИСПАНОАМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVII ВЕКА
Театральное искусство по самой своей природе связано с ритуа-
лом и праздником — этот постулат вряд ли нуждается ныне в про-
странном обосновании.
Ритуально-праздничная природа драмы и ее проявления станут
предметом анализа и в данной статье, особенностью же ее является
специфика исследуемого материала, ибо ритуальная парадигма
здесь не просто угадывается или реконструируется, но функциони-
рует непосредственно. Воспроизводя и воссоздавая ритуальную мо-
дель в ее не прикрытом дальнейшими культурными и литера-
турными напластованиями виде в моменты своего рождения и фор-
мирования, драма в последующем редко, но в особых условиях ак-
туализирует эту ритуальную схему. Речь пойдет об одном из этапов
подобной актуализации в истории испаноязычной драмы — об ис-
паноамериканском религиозном театре XVII в., который, заимст-
вуя существующие формы из испанской драматургической практи-
ки XV-XVI вв., как бы заново рождается в условиях нового конти-
нента.
Говоря о ритуале, понимаемом в культуре достаточно широ-
ко — от архаических культовых действ и церковной практики до
всякого рода церемониальных процедур, — мы прежде всего будем
иметь в виду именно архаическое действо мифопоэтической эпохи,
т.е. ритуал в его наиболее узком и прямом значении. Праздник же,
преимущественно религиозный (в частности, День Тела Господня),
4*
99
оказывается своего рода формой опосредованного существования
ритуала в позднейшей "цивилизованной" культуре, оставаясь по
сути и форме генетически связанным со своей архетипической мо-
делью — ритуалом.
Театральная жизнь в Новом Свете на протяжении XVI-XVII вв.
развивалась достаточно бурно и носила во многом институцион-
ный характер1. Представления пьес приурочивались чаще всего к
религиозным праздникам, таким как: День Тела Господня, Рожде-
ство, Богоявление, Успение, канонизация святого, освящение цер-
кви, праздник святого — патрона города и т.д. Поводом для на-
писания и постановки действа могли быть и чисто светские торже-
ства — встреча или визит вице-короля, архиепископа; принесение
клятвы верности новому вице-королю, свадьбы, дни рождения особ
королевской семьи, карнавалы. Церковные праздники и наиболее
значительные события в жизни колоний продолжали оставаться
лучшей возможностью для развития драматического искусства
вплоть до середины XVIII в.
Заметим, что именно театр (сначала миссионерский, затем уже и
собственно литературный) становится сферой первого соприкосно-
вения и пересечения двух культурных традиций — автохтонной ин-
дейской и европейской. Уже миссионеры, организовывая свои пер-
вые церковные празднества, прежде всего были озабочены тем, как
будут восприняты эти представления индейцами, то есть теми,
кому они и предназначались. Это и побуждало их обращаться к
обычаям, традициям и "театральному" опыту автохтонных куль-
тур. Монахи широко использовали традиционную индейскую об-
разность и декоративность, тематические и пластические элементы.
Для большего успеха своих представлений миссионеры нередко
включали в свои пьесы местные персонажи, индейские танцы и
песни. Органично используя технику индейского театра в целях
евангелизации, миссионеры не забывали и другой цели: противопо-
ставить свой театр "доколумбову театру" Америки. Как у всех
древних цивилизаций, "театр" индейцев вышел из докультового
обрядового действа, из магических ритуалов. Хулио Хименес Руэда
пишет: "Сложность ритуала, пышность одежд служителей культа,
великолепие алтарей, множество драгоценностей, используемых в
отправлении культа — все это превращало религиозные представ-
ления древних мексиканских племен в своеобразный спектакль.
Драгоценные камни, разноцветные перья, цветы, крашеная бумага
служили декоративным оформлением зрелищ. Мимика, музыка,
танцы и поэзия являются обязательной частью церемоний. Место,
где разворачивается действо, поражает своим величием: пирамиды
храмов, увенчанные небольшими алтарями, и огромное простран-
ство, вмещающее тысячи участников культа. Завершением и одно-
временно кульминацией действа становилось жертвоприношение"2.
100
По мнению Франсиско Хавьера Клавихеро, автора "Древней исто-
рии Мехико" (XVIII в.), эти представления напоминали сценки гре-
ческого театра, и в перспективе его эволюция была бы сходна с
эволюцией античного театра.
Задачи евангелизации (а речь идет об обращении в другую веру,
о включении исконного населения в новую систему ценностей, в ос-
нове которой лежит сущностно иное восприятие мира — христиан-
ское), ритуальная природа искусства исконных народов Америки,
и, как следствие, единственно возможный путь перевода языка
одной культуры на язык другой — поиск точек соприкосновения и
подобия в мифо-ритуальной практике, — все это обусловило необ-
ходимость и закономерность обращения ранней латиноамерикан-
ской драматической традиции именно к жанру ауто сакраменталъ.
Изначально свойственные этому специфически испанскому жанру
ритуальный генезис и праздничное бытование (постановки ауто
приурочивались к празднованию Дня Тела Господня) сделали его
как нельзя более актуальным в Латинской Америке XVI-XVII вв.,
определив и особый статус жанра и пути его становления.
Вся история становления жанра ауто сакраменталъ от первого
писания пьес на темы таинства Евхаристии для празднования Дня
Тела Господня и до момента его наивысшего развития, когда дей-
ствительно возникает пьеса на тему святого причастия, представля-
ет собой не что иное, как компромисс между литургией и спектак-
лем3. Посвящая зрителя в мир таинства, драматурги пытались мак-
симально сохранить торжественную атмосферу мессы, ее ритуаль-
ный характер. Сохранившиеся испаноамериканские тексты религи-
озных пьес XVI-XVII вв. иллюстрируют и путь формирования
жанра ауто сакраменталъ, и его специфическую, особенно значи-
мую для Латинской Америки первых веков, ритуально-празднич-
ную природу. И особенно важно то, что само содержание испаноа-
мериканских пьес часто не только посвящалось празднику, но и
воспроизводило его структуру, его древнюю ритуальную основу.
Латинская Америка XVI-XVII вв. стала местом столкновения
не просто разных народов, но разных (резко противостоящих друг
другу) цивилизаций, культур, религиозных верований. Невидан-
ный, фантастический мир открылся завоевателям "Индий", и по-
пытки осмыслить его не укладывались в систему реально су-
ществующих вещей и представлений о них. "Религиозные верова-
ния, составляющие прочную основу мировоззрения европейцев
XVI в., актуализировались при встрече с неведомым и чуждым
миром... Одновременно в сознании европейцев ожили и приобрели
характер едва ли не массового психоза уходившие своими корнями
в античность и средневековье легенды и мифы о монстрах, полулю-
дях, получудовищах, о блаженных и счастливых островах, об ис-
точнике молодости, о золотых или серебряных странах и городах,
101
о гигантах и т.п."4. Эта "мифологизирующая"5 тенденция в осмыс-
лении Америки берет свое начало в самых первых памятниках ли-
тературы конкисты: письмах, "Дневниках" Колумба, "Донесениях"
Кортеса, хрониках испанских завоевателей. Мифопоэтическое вос-
приятие мира переходит и в драму.
Но не только испанский опыт обусловливает мифопоэтическую
природу испаноамериканской религиозной драмы — другим, не
менее важным по значимости, источником ее стало глубоко мифо-
логизированное сознание индейского населения. И именно театр,
как никакой другой вид искусства, обращает на это внимание, ибо,
предназначенный для зрительского восприятия, он более чутко ре-
агирует на этого зрителя и во многом на него ориентируется. Пре-
следуя же даже не развлекательные, а, в первую очередь, дидакти-
ческие цели, театр неминуемо избирал такую форму изложения, ко-
торая оказывалась бы наиболее близкой и понятной главному ад-
ресату этой драмы — индейцам. Показателен в этом смысле "Диа-
лог о четырех последних королях Тлашкалы" (Новая Испания,
1619 г.)6.
Сюжетную основу пьесы составляет обращение в христианство
четырех главных персонажей, индейских вождей. Глобальный для
христианского мировосприятия конфликт, заключающийся в из-
вечной борьбе Бога и дьявола, отражается во внутренних пережи-
ваниях персонажей и оборачивается для них ситуацией выбора
между Богом и дьяволом — Ангелом и Демоном в пьесе. Символи-
зируя Бога и дьявола, Ангел и Демон (его первая ипостась в "Диа-
логе" — языческий идол Hongol demonio idolo) в более широком
аспекте являются аллегориями Язычества и Христианства. Выбор
между Богом и дьяволом оказывается выбором веры. Переход от
язычества к христианству не просто фиксируется в пьесе, но отчет-
ливо раскрывается всей ее композиционной структурой. "Диалог"
может быть поделен на две части, хотя формальное членение в нем
отсутствует. Первая часть целиком связана с языческим планом,
царящая в ней атмосфера отмечена властью Демона-Онгола: вожди
переживают из-за молчания идола и решают принести ему в жертву
двух юных девушек. Совмещение языческого идола с демоном
христианских верований не является фантазией автора пьесы.
Представление о языческом мире индейцев, как о мире, находящем-
ся под властью Сатаны, было достаточно распространенным среди
испанского населения Америки. Действующие лица этой части
пьесы — вожди-язычники и сам Дьявол, единый в двух лицах (идол
Онгол и Демон). Переход от одной части к другой знаменует явле-
ние Ангела. При этом очень важна ремарка автора: "Во время бесе-
ды (короли) застывают в состоянии сна, и выходит ангел"
("Quédanse en esta conversacîon dormidos y sale un ângel...")7, a окон-
чание монолога Ангела сопровождается следующей ремаркой:
102
"Уходит ангел и короли просыпаются в восхищении ("Vase un ângel
у vanse levantando los Reyes con admiration"), характерна также ре-
акция одного из королей: "Я бодрствую иль сплю?", ("JEstoy de-
spierto о dormido?"). Зыбкое положение между явью и сном как бы
выключает героев из реальности, останавливает ход времени,
подчеркивает переходное состояние их внутреннего мира. Близя-
щаяся победа Ангела пока еще только намечена. Окончательное
торжество Бога христианской религии, выразившееся в обряде кре-
щения, происходит во второй части.
Таким образом, можно увидеть, что в композиции пьесы вполне
отчетливо просматривается схема ритуалов перехода. Rites de pas-
sage (термин Ван Геннепа) — ритуалы, сопровождающие всякую
перемену места, состояния, социального положения и статуса, про-
ходят в своем развитии три фазы: разделения {separation), порога
(limen) и восстановления {reaggregation). Все эти три фазы вполне
отчетливо прослеживаются в композиционной структуре "Диалога
о королях Тлашкалы". Состояние смятения, тревоги у главных пер-
сонажей, вызванное молчанием идола и сообщением посла о ско-
ром прибытии испанцев, сменяется сценой видения, которая и есть
не что иное, как пороговый, лиминальный момент ритуала перехо-
да; и, наконец, за этим следует решение принять христианскую веру
и пройти таинство крещения. Торжество христианства проявляется
в уже иной расстановке действующих лиц. Во второй части пьесы
на сцене преобладают персонажи из христианского мира — ан-
гелы, Кортес, Марина, церковник, христианами становятся и ин-
дейские вожди.
Используемая схема ритуала — не просто художественный
прием, но форма осмысления мира. Всякий ритуал выявляет
космологическую модель мира, отсылая к космогоническому мифу,
и переход от язычества к христианству воспроизводит в конечном
счете уже происшедшие события, заново проигрывает ситуацию со-
творения мира: хаос язычества, символизируемый состоянием сле-
поты ("...aqueste Hongol adoramos cuando ciegos estuvimos"), сменя-
ется светом и жизнью христианства (христиане в пьесе — дети со-
лнца, "hijos del sol"), власть молчащего идола разрушается божест-
венным словом. Гнетущая тишина первой части сменяется во вто-
рой звучанием свирели и ритмичными ударами индейских бараба-
нов. Самые повторяющиеся слова в первой части пьесы — "бо-
лезнь", "глухота", "слепота", "одиночество", "темнота", "тень",
"холод". Мрачная безысходная тональность усиливается целой се-
рией предзнаменований. Самое тягостное из них — молчание мра-
морного идола. Даже жертвоприношение не может заставить его
говорить. Молчащая статуя Онгола ("холодный мрамор" —
"mârmol frio") является символом Смерти, а значит и Хаоса8. Мол-
чащему идолу противопоставлен говорящий Ангел, проговариваю-
103
ных народов, запечатленной в народном творчестве историей. Это
и знаменитые танцы Конкисты, исполняемые в деревнях Мексики и
Гватемалы вместе с песнями-причитаниями, в которых до сих пор
ощутим ужас людей позднекаменного века, безжалостно уничтожа-
емых рыжебородыми пришельцами, как "Солнышко" — Хуан Аль-
варадо, завоеватель Гватемалы, стрелками и всадниками со свире-
пыми мастифами. Живой историей являются и грандиозные театра-
лизованные шествия в день Независимости или же в годовщину
Мексиканской революции, когда по центральным авенидам дви-
жутся к центру красочные колонны: школьницы в индейских кос-
тюмах, пенсионерки в разноцветных футболках, гимнасты, готовые
изобразить самые сложные фигуры на движущемся перед начальст-
венной трибуной грузовике, перед губернатором штата, местными
партийными лидерами, парламентариями и прочей почтенной пуб-
ликой. Торжественно вышагивают здоровенные черные кони, разу-
крашенные яркими лентами, а в длинной простой телеге ребятиш-
ки, наряженные крестьянскими бойцами революции 1910 года, и
один — совсем маленький, в огромном сомбреро, с нарисованными
усами и большущим пистолетом на поясе — это Панчо Вилья,
живой и торжествующий, как живы все те, кого помнят и снова и
снова воспроизводят на пестром просцениуме жизни их потомки.
Мексиканскую молодежь с детства воспитывают в уважении к
национальным святыням, и чем дальше идет время, тем больше они
выстраиваются в один ряд — легендарные касики, поднимавшие
беспощадные и бесплодные восстания против иноземных завоева-
телей, герои Войны за независимость от Испании и вожаки револю-
ции 1910 года. Все те, кто стремились помочь сохраниться и вы-
жить разноплеменному и разноязыкому населению страны, склады-
вающемуся, при безусловных противоречиях и трудностях этого
процесса, в один народ, истоки которого теряются в глубинных
пластах мифической предыстории. И потому те же самые юкатекос
— жители Мериды, — или по крайней мере многие из них, что при-
нимали участие в октябрьском праздничном параде, уже в следую-
щее же воскресенье чинными группами сходят с автобуса в Чичен-
Ице, у священных пирамид, где когда-то жрецы молили богов о
дожде и пище, и почтенные матушки в расшитых белых упилях го-
ворят с тихой гордостью: "Мы приехали поклониться славе своих
предков". А вечером красивые девушки в колоритных националь-
ных нарядах с цветами в волосах отбивают, безусловно, не индей-
скую по своему происхождению чечетку, и многочисленные восхи-
щенные зрители из местных, не говоря уже о туристах, мало разби-
рающихся в подобных тонкостях, воспринимают эти танцы — ха-
раны, в которых явно преобладает испанское, как типично майяс-
ский фольклор.
203
щий (что равнозначно самому акту творения) библейскую историю
сотворения мира, историю Христа.
Но воспроизводится не абстрактный акт творения, часть
космологической схемы любой мифологической системы, а кон-
кретный, принадлежащий христианской истории сюжет, и, в отли-
чие от мифа и ритуала, христианское представление о мире настаи-
вает на уникальности и принципиальной неповторимости событий
"священной истории", что и декларируется в монологе церковника
о сути таинства евхаристии, который предшествует крещению ко-
ролей Тлашкалы. Не менее отчетливо проявилась в пьесе и другая
важнейшая черта мифопоэтической модели мира и ритуального
действа — их некая "все-сакральность". В пьесе нет ничего обыден-
ного, происходящие события отражают конфликт вселенского мас-
штаба — борьбу Бога и дьявола, подчеркивается постоянная зави-
симость макрокосма и микрокосма, мира и человека. Сакральность
языческого плана подчеркнута присутствием идола Онгола (свое
местонахождение он именует "священное место" — "divino lugar")
и совершаемыми в его честь жертвоприношениями; сакральность
христианского плана — таинством крещения и разъяснением сути
таинства причастия. И хотя сакральный центр смещается — от
мраморного идола к Алтарю, действие пьесы может рассматри-
ваться как восстановление утрачиваемой сакральности. Момент ут-
раты совпадает с моментом перехода. Единственной формой
восстановления сакральности оказывается ритуал, ставший осно-
вой композиционного строения "Диалога". На сюжетном уровне
таким способом восстановления сакральности становится обряд
крещения. Новый статус персонажей подчеркивается и ритуальной
сменой имени — они получают испанские имена9.
Сакральность, священность (а сакрально то, "что порождено в
акте творения, входит в состав Космоса, как его часть, выводимо
из него, причастно ему"10) является неотъемлемым качеством всей
изучаемой нами религиозной драмы, так как все, что происходит в
ней, трактуется не как случающиеся сами по себе события, но как
имеющие непосредственное отношение к "священной истории"
христианства. Усиливается это и тем, что европейская литература,
начиная с Возрождения, сознательно трактует христианскую исто-
рию именно как мифологию. Так, в ауто "Посох Иосифа" Хуаны
Инее де ла Крус ветхозаветная история получает прежде всего ми-
фологическую разработку, выступая в качестве некой матрицы,
схемы, которая в будущем (в пришествие Спасителя) повторится
снова (конечно, с большей степенью сакральности). Аллегоричес-
кое толкование того или иного сюжета с точки зрения "священной
истории" всегда содержит в себе моменты, прямо подчеркивающие
сакральность действия. Происходит это по-разному: сюжет зачатия
Девы Марии ("Ауто о Торжестве Девы" Франсиско Брамона), кре-
104
Несколько иную картину мы видим в Гватемале, где, несмотря
на тяжелейшее положение значительной части коренного населе-
ния (а здесь таковым является, пожалуй, процентов 80 всех гвате-
мальцев), несмотря на десятилетия репрессий, по существу, этноци-
да, индейские общинники продолжают справлять традиционные
праздники, сохранять обряды и обычаи, идущие от доиспанских
времен. Обращенные в католичество майя, объединившись в коф-
радии (своего рода религиозно-церемониальные братства)8, с тихой
пышностью отмечают памятные дни христианского календаря. Что
же касается официальных праздников, то они, как представляется,
далеко еще не сделались общенациональными. Здесь сказываются и
жесткость этно-социальной структуры общества, и фактическое не-
признание официальной идеологией майясских корней как истоков
гватемальской культуры, и не менее стойкое ощущение народными,
индейскими массами себя как особого мира, противостоящего чуж-
дому и враждебному миру ладинос, а также разрозненность пле-
мен, зачастую не знающих языков друг друга и сохраняющих лока-
листское сознание9.
По свидетельству Ригоберты Менчу, лидера индейско-крестьян-
ского движения Гватемалы, традиционные праздники являются
одной из главных форм поддержания общинного единства для
большинства ее соплеменников, земледельцев киче. Вынуждаемые
безземельем и нищетой каждый год отправляться на плантации в
долинах и работать там на каторжных условиях, они только в род-
ных горных общинах, куда возвращаются ко времени сбора уро-
жая, чувствуют себя снова людьми, уважающими и любящими друг
друга. Они справляют рождения и свадьбы, стремясь по возмож-
ности все делать так, как делали отцы и деды, поздравить рожени-
цу приходят люди со всей общины, приносят подарки, кто что
может10. И очень важно, чтобы пришло как можно больше одно-
сельчан, потому что впоследствии они все будут словно бы родня
новому члену общины, а их помощь и поддержка станут его глав-
ным богатством и основной гарантией существования.
Когда девушке исполняется 14-15 лет, семья молодого человека,
которому она приглянулась, посылает к ней свататься одного из
наиболее уважаемых людей в общине. Выставляется традиционное
праздничное угощение — тамалес (нечто вроде клецок из кукуруз-
ной муки, иногда начиненных мясом) и древний напиток гуаро,
также из перебродившей кукурузы, теперь еще с добавлением риса
и хлеба. На свадьбу, после гражданской регистрации брака и вен-
чания, положен общий обед, который устраивает община, моло-
дым дарят подарки — домашнее обзаведение, затем музыка, танцы
и задушевные разговоры пожилых людей. Для майя особенно
ценны эти неторопливые беседы, отмечает Ригоберта Менчу: зани-
мая самую низкую ступень гватемальской общественной пирами-
204
щение ("Диалог о королях Тлашкалы", эклога "Бог Пан" Мехии де
Фернанхиль), явление Девы и распятого Христа ("Комедия о чуде-
сах Девы Гвадалупской"), в аутос Хуаны Инее де ла Крус на сцену
выносятся потир и гостия — прием, заимствованный у Кальдерона.
Возникающий в "Диалоге о королях Тлашкалы" ритуал как
схема композиции пьесы и как одно из сюжетных событий (упо-
минаемое жертвоприношение идолу) в этом последнем своем про-
явлении еще раз появится в испаноамериканской драме — в лоа к
ауто Хуаны Инее де ла Крус "Божественный Нарцисс" (1679).
Ауто "Божественный Нарцисс" предваряется лоа, выросшим в
творчестве Кальдерона до небольшой пьески, которое служит свое-
го рода эскизом, планом основного содержания ауто. Греховная
Человеческая природа (Америка), обладающая свободой воли и от-
вергающая слепое повиновение силе (Рвение) с помощью божест-
венной благодати (ее роль исполняет Религия) должна пройти та-
инство крещения, очиститься от греха и приблизиться к познанию
истинного бога. Место действия лоа — ритуальная площадка, где
Запад и Америка готовятся к отправлению культа бога плодородия
(Diós de las Semillas), исполнению ритуала Теокуало. Действие со-
провождается исполнением ритуального танца токотин и пением.
Выполняя дидактические задачи, объясняя ацтекам суть таинства
Евхаристии, Хуана Инее естественным образом обращается к риту-
альному действу, выбирая из всей обширной культовой практики
ацтеков действо, максимально сходное с христианским таинством
Евхаристии.
Важно подчеркнуть, что при перетолковании, переосмыслении
одного "культурного языка" ("язычество") другим ("христианст-
во") для испаноамериканской драмы важнейшим оказывается
принцип подобия11. Категория сходства определяет всякий раз
выбор "языческого материала" — индейского или античного. Сак-
ральная часть ритуала Теокуало — жертвоприношение, символи-
ческое поедание тела бога (идола, сделанного из семян и обагрен-
ного человеческой кровью), призванное очистить души от греха.
Параллели внешние очевидны. Ассоциация языческого идола из
семян и крови с хлебом и вином, пресуществленными в плоть и
кровь Господни христианского жертвоприношения, возникает сама
собой. Сходные внешние признаки — сделанный из семян идол и
хлеб, символизирующий плоть Господню, — позволяют объеди-
нить оба культовых действа в пьесе заключительной репликой хора
в лоа: "Будь счастлив день, когда я познал великого Бога Семян"
("Dichoso el dia que conoeî al gran Dios de las Semillas!")12, несколь-
кими строками раньше — "Verdadero ("истинный") Dios de las
Semillas". Подобие чисто внешнее есть проявление сходства внут-
реннего. Утвердившееся во второй половине I — начале II вв. та-
инство Евхаристии корнями своими уходит к древнейшим ритуа-
105
лам жертвоприношения (сначала — тотемного животного, затем —
человеческих жертвоприношений, замененных впоследствии на фи-
гурки из теста, символизирующих ритуальную жертву). Единая ар-
хетипическая природа обоих культов позволила Хуане Инее де ла
Крус трансформировать ацтекского бога земли в универсального
бога христианской религии. Ауто Хуаны Инее де ла Крус, посвя-
щенное прославлению таинства Евхаристии, центральной части ли-
тургии, не случайно начинается сакральным эпизодом совершения
ритуала, усиливая ритуально-культовый характер самого ауто сак-
раменталь. Показанное "Религией" во время исполнения ритуала,
ауто "Божественный Нарцисс" само становится его необходимой
частью — той пороговой фазой ритуала, которая предшествует
окончательному восстановлению гармонии — монологу "Благода-
ти" ("La Gracia") об установлении и сути таинства Евхаристии. Ри-
туальная схема сближает таинство Евхаристии и с мифом о На-
рциссе, она задает и композиционную структуру ауто. Сюжет
ауто формально придерживается канвы античного мифа, однако
привычные герои мифа (Нарцисс и Эхо) постепенно обретают
христианское содержание, подобно тому как каждый эпизод мифо-
логической истории начинает нести дополнительную теологичес-
кую нагрузку (так, скажем, объяснение Эхо и Нарцисса превраща-
ется в библейскую притчу об искушении Христа).
Окончательное совмещение мифологического и теологического
планов достигается в кульминационный момент ауто — в сцене у
источника, который приобретает значение "сакрального центра",
что маркировано и соответствующим оформлением сценического
пространства — ремарка автора гласит: "с источником в центре"
("...con la fuente en su centro"). Это центр как для античного мифа
(Нарцисс смотрится в источник и затем умирает, отдав жизнь во
имя любви к увиденному отражению), так и для скрывающегося в
его одеждах христианского таинства (Нарцисс-Христос видит в ис-
точнике свое отражение — Человеческую природу, созданную
Богом по его образу и подобию, и уже Иисус Христос гибнет во
имя любви к человеку во искупление его грехов). Источник в ауто
максимально сакрализован в силу своей смысловой насыщенности
и композиционной значимости в пьесе — он и источник Нарцисса,
и чистая, непорочная Дева Мария13, а также преддверие (в структу-
ре текста) и место гибели Нарцисса-Христа — того символическо-
го ритуала жертвоприношения (т.е. самого момента умирания и
воскрешения), который составляет центральную часть всякого
культового действа. Божественно прекрасный цветок, выросший на
месте гибели Нарцисса, символизирует собой в теологическом про-
странстве ауто сакраменталъ гостию — "прекрасный чистейший
цветок ... се мое тело и моя Кровь" ("la bella Candida fior... es Mi
Cuerpo y Mi Sangre") — в таинстве причастия. Сам же Нарцисс воз-
106
рождается в своей ипостаси христианского Бога: "Выходит На-
рцисс как Воскресший" ("Sale Narciso corno Resucitado").
Важно, таким образом, отметить, что форма ритуала становит-
ся на начальном этапе взаимодействия с автохтонными культурами
Америки одной из основных для испанцев форм осмысления индей-
ской реальности, ибо ритуал как "действие" воспринимался испан-
ской культурой сразу же, моментально, как нечто живое, в то время
как миф, будучи записанным "текстом", зафиксированным преда-
нием, требовал более удаленного во времени осмысления. Оно при-
дет двумя веками позже, уже в современной латиноамериканской
литературе. Пока же мифологические аналогии черпаются в основ-
ном из античной традиции, служащей своего рода "культурой-по-
средником" в диалоге испанской и индейской культур.
Конкретное использование ритуальной модели в драматических
произведениях, создаваемых на территориях вице-королевств Но-
вого Света, выражается опосредованно — через использование в
структуре литературного текста схемы религиозных праздничных
действ. Именно это происходит в эклоге Диего Мехии де Фернан-
хиля "Бог Пан"14.
"Бог Пан" — пасторальная эклога15, представляющая собой
диалог двух пастухов — Мелибео и Дамона, христианина и языч-
ника. Пастухи направляются в церковь, участвуя в праздничной
процессии в День Тела Господня, и в пути Мелибео рассказывает
Дамону о христианском Боге, объясняя ему суть таинства Евхарис-
тии. Форма эклоги, плодотворно разрабатываемая испанскими
драматургами, пишущими пьесы о причастии на заре формирова-
ния жанра ауто сакраменталь, была как нельзя более удобной для
рассказа о таинстве. Миметическое начало эклоги в силу самой
природы этого жанра практически сводилось к нулю, что и делало
возможным словесное, а не игровое, объяснение таинства, ставшее
одной из отличительных черт ауто сакраменталь. Так и в эклоге
Мехии де Фернанхиля персонажи не изображают, а повествуют,
описывают: пейзаж, шествие прихожан в церковь, их наряды, внут-
реннее убранство церкви, картины, фрески, алтарь. Детально опи-
санная ситуация празднования Дня Тела Господня, возникающая в
тексте, — это модель того, как должна проходить торжественная
процессия. Праздничное шествие в День Тела Господня относится,
с одной стороны, к сфере театральной (или точнее паратеатраль-
ной)16 культуры, с другой — к сфере церковного обрядового ритуа-
ла. Таким образом, и сам жанр ауто сакраменталь (а эклога о при-
частии, безусловно, встраивается в линию формирования этого
жанра и в Испании и в Латинской Америке) занимает своего рода
пограничную позицию, будучи, с одной стороны, произведением
сугубо театральным, а с другой — центральной частью празднич-
ной религиозной процессии.
107
Итак, эклога композиционно воспроизводит схему празднично-
го шествия, обращаясь тем самым к ритуально-обрядовым истокам
становления как жанра ауто сакраменталъ в частности, так и сре-
дневековой драмы в целом. И прежде всего рождественских пред-
ставлений, влияние которых выразилось в прямом использовании
их структуры — схемы шествия пастухов в Вифлеем для поклоне-
ния младенцу Христу, заимствованной, в свою очередь, у действа
пасхального17. Но если схема пасхального действа (вопрос о цели
прихода, ответа пастухов и указания на цель прихода) была "пре-
дельно инертна"18 и с догматической точки зрения максимально ус-
тойчива, то в структуре рождественского действа при его переходе
в драму равновесие частей нарушалось: библейские эпизоды реду-
цировались, а сам диалог пастухов расширялся за счет включения
постороннего материала. Это и позволило в конечном счете ото-
рвать беседу пастухов от первоначальной цели — рождения Хрис-
та, приспособив ее к самому разному материалу (от собственно
пасторального до любовного, как, скажем у Хуана дель Энсины).
Произошедшее нарушение равновесия ослабляло ритуальную на-
грузку.
В эклоге Мехии де Фернанхиля шествие занимает почти полови-
ну текстового пространства пьесы, возвращаясь к своим обрядо-
вым истокам за счет цели пути пастухов: они направляются к цер-
кви, участвуя в праздничной процессии в День Тела Господня, и их
беседа носит подготовительный характер для участия в таинстве —
сначала крещения Дамона, а затем и Евхаристии. В эклоге сохраня-
ется в несколько модифицированном виде трехчастная схема рож-
дественского действа (вопрос Дамона об истинном смысле христи-
анского праздника, ответ и разъяснения Мелибео, рассказ отрока о
таинстве евхаристии, крещение Дамона). При этом в структуре эк-
логи легко вычленяется и общая схема праздничного обряда, воз-
водимого к архетипической модели "ритуалов перехода" — фаза
отрицания (сомнение в языческих богах) — пороговая фаза (состо-
яние смятения и ожидание просветления) — фаза утверждения (рас-
сказ о христианском таинстве). Заметим, что дополнительная воз-
можность для реализации этой схемы (умирание старого и рожде-
ние нового) дается и самим сюжетом эклоги: в рассказе о христиан-
ском боге используется античный миф о греческом боге плодоро-
дия, божестве стад, лесов и полей, главном боге Аркадии Пане.
Разговор пастухов, носящий, можно сказать, вполне научный этно-
графический характер, начинается с утверждения Дамона о родстве
языческих ритуалов и христианских обрядов. При этом язычник
Дамон основывается на формальном, внешнем сходстве ритуалов:
на омонимии имени античного бога (Pan) и слова "хлеб" (исп.
"pan")19; и на функциональной сущности праздника — процессия и
ее движение к сакральному центру — алтарю.
108
Ответы Мелибео и дальнейшее разворачивание аллегории, от-
талкиваясь от внешнего сходства, исходят, тем не менее, из прин-
ципиальной противоположенности ("явная разница" — "la diferen-
cia manifiesta") Пана античного и "Бога Хлеба" христианского20:
подчеркивается безобразный облик Пана, его место в пантеоне гре-
ческих богов (тогда как истинный бог един), Пану приписываются
некоторые свойства индейских богов, а ритуальные празднества в
его честь21 напоминают обряды индейцев, какими они представля-
лись испанцам. Несовместимость языческого и христианского
миров подчеркнута резким переходом из мира пасторали в про-
странство христианского мира: шествие завершается приходом в
церковь (именно в сакрально отмеченном пространстве может
быть достигнута важная цель праздничного действа — возмож-
ность установления контакта между человеком и сверхъестествен-
ным миром), и описание городской площади и храма отчетливо
контрастирует с предшествующим пасторальным пейзажем. Новая
сюжетно-композиционная фаза формально отмечена новым про-
странством и наличием вильянсико (всего их четыре), и соответст-
венно, — появлением музыкального сопровождения, которое зада-
ет определенное эмоциональное состояние пастухов.
Переходность отмечена многими признаками: отказ от рацио-
нального осмысления празднества (Мелибео: "Наш разум должен
подчиниться вере"22), молчание и смятение язычника Дамона (а
именно он проходит все стадии ритуала) ("...признаюсь тебе, что не
могу отвечать"); изменение ритма действия как внешнего — шест-
вие сменяется статичным положением персонажей, так и внутрен-
него — диалог о ритуалах, в ходе которого последовательно разво-
рачивалось аллегорическое толкование имени античного бога, сме-
няется описанием красоты убранства церкви и алтаря; выключение
из реального хода времени (Дамон: "Я будто пробыл здесь целый
век, как будто это было всегда"). Алтарь прямо обозначен как сак-
ральный центр и цель пути Мелибео и Дамона, а состояние Дамо-
на, его лицезреющего, приближено к смерти ("Y уо me muero рог el
altar postrero..."). Последняя фаза — это внезапное появление маль-
чика-пастушка Титиро и его рассказ об Евхаристии, о которой не-
сколько раз в загадочной форме упоминал до этого Мелибео.
Мальчик сидит на облачке, прикрепленном к арке (в эклоге по-
дробно описана вся используемая машинерия и внутреннее убран-
ство церкви), и перед монологом спускается сверху, подобно анге-
лу, что делает его фигуру удивительно похожей на отрока из руан-
ской рождественской службы, выступающего в роли ангела и бла-
говестующего пастухам о Рождестве23.
Праздничный обряд во всех фазах его протекания часто стано-
вится в ранней испаноамериканскои литературе важным сюжето- и
структурообразующим фактором. Праздник не только повод (при-
109
менительно к драме практически главенствующий), но и содержа-
ние литературного произведения, как, например, в духовно-пасто-
ральном романе Франсиско Брамона "Щеглы Пречистой Девы"24.
Тема романа — прославление непорочного зачатия Девы Марии;
пастухи и пастушки, персонажи романа, собираются вместе, чтобы
подготовиться к празднованию Дня Святого Зачатия; их приготов-
ления, сама церемония праздничного действа, а также последую-
щие увеселительные торжества и становятся сюжетным материалом
романа Брамона. Действие романа — процессии, шествия, танцы,
пение, месса, игры, теологические диспуты, описания устройства и
создания арочной архитектуры, музыкальных оркестровок, корри-
ды и создание и постановка театрального представления — зани-
мает тринадцать дней в декабре (предшествующих праздничному
дню, приходящемуся на последнее воскресенье декабря), неравно-
мерно распределенных по трем книгам романа. Первые четыре дня
(книга 1) — время знакомства пастухов, первые беседы о первород-
ном грехе и непорочном зачатии, распределение обязанностей к
празднику, видение пастуха Пальмено. Следующие семь дней
(книга 2) — подготовка пастухов к празднествам (Марсильда заня-
та организацией процессии и строительством триумфальной арки,
Пальмено — устройством фейерверка, Флоринарда — подготовкой
боя быков, Анфрисо — сочинением ауто), ночь накануне праздни-
ка и теологические беседы пастухов, исполнение торжественных
песнопений в честь Девы, священник объясняет значение арки. Вен-
чает действие романа праздничное действо (книга 3), центром ко-
торого является торжественная месса, затем показывается "Ауто о
Торжестве Девы и Радости мексиканцев", а в финале исполняется
ритуальный танец токотин, и зрители развлекаются зрелищем кор-
риды. Характерно, что форма пасторального романа, выбранная
Брамоном, способствует созданию некоего особого праздничного
пространства, отличного от пространства и времени обычного,
ежедневного.
Даже беглый взгляд на сюжет романа выявляет его прямую ори-
ентацию на праздничную модель — более того, модель прежде
всего автохтонную, связанную с ритуально-праздничной практи-
кой индейцев. Помещение действия романа в мексиканский кон-
текст начинается с локализации пространства и времени — встреча
пастухов происходит "в этих мексиканских садах и плодородных
долинах". Один из пастухов проходит в романе путь от кафедраль-
ного собора Мехико к небольшой церкви, находящейся в трех
лигах от столицы, подробно описан собор Мехико и его убранство.
Да и все реалии романа никак не связаны с идеальными декорация-
ми пастушеской Аркадии: пастушки одеты в мексиканские наря-
ды25, играют индейские инструменты — барабаны тепонацтле и па-
нуэуэтл, бубенчики айакацатлес, танцуются ацтекские танцы — не-
110
тотилицтле или токотин26, а в ауто появляется персонаж по имени
"Мексиканское королевство" — юноша, окруженный индейцами,
вождями, украшенными плюмажами из перьев, золота и банановых
листьев, в руках у них щиты с изображением герба Мексики —
орел, сидящий на цветке кактуса. Перед нами мексиканская Арка-
дия, дистанцированная от античного образа весьма характерным,
как мы уже могли заметить, отношением (заимствования-непри-
ятия) к античному материалу: мифологические истории восприни-
маются персонажами как откровенно сказочные — "fabulosas ver-
sas", как называет их один из персонажей романа Анфрисо (хотя в
романе присутствует обязательный персонаж — Орфей). Наконец,
и само празднество во многом повторяет схему не только испан-
ской праздничной традиции, но и индейских праздничных церемо-
ний.
Ритуально-культовая сторона жизни индейского населения
была представлена и определялась множеством сложных ритуаль-
ных действ, которые конституировались многочисленными празд-
ничными торжествами (праздники и ритуалы индейцев определя-
лись солярным циклом). Среди общих черт основных годовых
праздников — обширная подготовительная часть (ритуалы очище-
ния и запреты), течение праздника, включающее подношения
богам, процессии, пение, танцы, поединки, человеческие жертво-
приношения, и в качестве завершения устраивались обильные пир-
шества с танцами и песнями27. В романе Франсиско Брамона легко
обнаруживается не только общая модель организации празднеств,
но и в той или иной форме почти все ее необходимые элементы:
есть и насыщенная символика (Анфрисо ухаживает за цветами,
символизирующими Деву), и цветовая символика внешнего убран-
ства праздничного пространства, и символические битвы (их роль
выполняют теологические диспуты), и церемониальные песнопе-
ния, и особая ритуальная функция музыкального ряда и т. д.
Как в романе Брамона, так и в рассмотренных нами образцах
испаноамериканской драмы (далеко не исчерпывающих список
аналогичных примеров) прослеживается отчетливая тенденция раз-
вития испаноамериканской литературы XVII в.: сюжетно-компози-
ционная структура многих произведений строится на прямом ис-
пользовании ритуально-праздничных моделей. Это касается не
только, скажем, тесно связанного с ритуалом жанра ауто сакрамен-
талъ, но и таких жанров, как диалог, эклога и, наконец, роман. По-
добного рода тенденция вполне характерна для литературы и куль-
туры переходного типа и особенно для ситуаций, манифестирую-
щих в конкретном историческом и этнографическом пространстве
то, что мы именуем "диалогом культур" (языческой индейской и
христианской), когда происходит последовательный перевод кате-
горий одной культуры на язык другой. В такой ситуации домини-
111
рующая культура обращается к самому зримому пласту функцио-
нирования культуры ассимилируемой, что в случае индейской
культуры связывается в первую очередь с ее ритуально-празднич-
ным бытованием. При этом система аналогий и соответствий есте-
ственным образом строится прежде всего на уровне внешних подо-
бий и схождений (что относится и к античной культуре, выступаю-
щей посредником в этом диалоге), тогда как сущностные пласты
часто оказываются противоположными друг другу (и тогда вклю-
чается сложный механизм аллегорического и символического тол-
кования). Но, в конечном счете, именно легко просматриваемая
внешняя близость подтверждает наличие типологически сходных
для разных культур архаических ритуально-обрядовых истоков,
что породило и последующее родство религиозных и даже светских
праздничных действ.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 При этом потребность в светской драматургии вплоть до последней
трети XVII в. не была особенно сильной. Указ вице-короля, изданный в
1601 г. и разрешающий представление комедий в принципе, оговаривал
возможность их представления только в дни празднеств, тогда как в Испа-
нии комедии могли ставиться во все дни недели кроме субботы (таким об-
разом, в Америке показывалось 75 комедий в год). (См.: История литера-
тур Латинской Америки. М., 1985). Репертуар светских театров строился в
основном из испанских пьес, завезенных в колонии профессиональными
труппами (Maria у Campos. Gufa de representaciones teatrales en la Nueva
Espana. Mexico, 1953; Maria y Campos. Las comedias en el Corpus mejicano //
Teatro, n. 7. Madrid, 1959).
2 Jiménez Rueda J. Historia de la literatura mexicana. Mexico 1953. P. 98
3 Все крупные исследователи испанского театра рассматривали ауто в
качестве "ритуального празднества" (ritual festivo), как настаивал сам
Кальдерон. Цель, преследуемая драматургами-сочинителями ауто — со-
здание некоего синкретического действа, которое сохранило бы изначаль-
ную ритуально-культовую природу, и определило конечную жанровую и
сценическую форму ауто сакраменталь. К этому жанру вполне применимы
слова, сказанные В.Н.Топоровым о ритуале: это своего рода "парад всех
знаковых систем" — языка поэзии, мимики, жеста, хореографии, пения,
музыки, декорации.
4 История литератур Латинской Америки. М., указ. соч. С. 137.
5 См. подробнее: Pastor В. Discurso narrativo de la conquista de America:
Ensayo. La Habana, 1984.
6 Coloquio de la Nueva Conversion у bautismo de los cuatro Ultimos reyes
de Tlaxcala en Nueva Espana (1619). Точное авторство пьесы не установле-
но, известно лишь, что найдена она была в манускрипте Гутьерреса де
Луны, в свое время принадлежавшем известному литератору Карлосу де
112
Сигуэнса-и-Гонгоре и в период экспатриации иезуитов вывезенном в
Техас.
7 "Диалог о королях Тлашкалы" зд. и далее цитируется по изд.: "Colo-
quio de los cuatro Ultimos reyes de Tlaxcala" / Très piezas teatrales del virrei-
nato. Mexico, 1976.
8Op. cit. P. 187.
9 Анхель Мария Гарибай, крупнейший специалист по литературе на-
уатль, полагает, что "история обращения целиком выдумана" автором
пьесы, приводя в качестве главного довода отсутствие в языке науатль
буквы "g", тогда как вожди на протяжении всей пьесы именуют идола
ongol, hongol. Это дает ученому основание сделать вывод о том, что ауто
грешит "незнанием и непониманием индейской ментальности" (Gari-
bay A.M. Historia de la literarura nahuatl. Mexico, 1954. P. 157) именно в
силу недостаточной осведомленности автора ауто в историческом и этно-
графическом материале, о котором он пишет. На наш взгляд, появление
отчетливо проявляющейся ритуальной модели в пьесе об индейцах, пусть
и на выдуманном материале, как раз свидетельствует о понимании авто-
ром XVII в. сути мировосприятия автохтонного населения Мексики, его
мифопоэтической природы. Характерно, что пьеса Лопе де Веги "El
Nuevo Mundo", ставшая, по мнению исследователей, одним из источников
сюжета "Диалога", является, безусловно, более совершенной с точки зре-
ния построения действия, но при этом в своей композиционной структуре
она никак не воспроизводит модель "ритуалов перехода", появляющуюся
в мексиканской пьесе, что как раз доказывает и демонстрирует разницу в
подходе к моделированию художественного пространства в испанской и
американской драме.
10 Топоров В.Н. О ритуале. Введение в проблематику / Архаический ри-
туал в фольклорных и раннелитературных памятниках. М., 1988. С. 13.
11 Подробно о функции категории подобия в культуре XVII в. см.:
Фуко М. Слова и вещи: археология гуманитарных наук. М., 1977.
12 Ауто "Божественный Нарцисс" зд. и далее цит. по: La Cruz, Juana
Inés de. Autos y loas. T. 3. 1956.
13 Возможность многообразного символического и аллегорического
толкования образа источника в ауто достигается опять же по принципу
подобия и сходства: "siempre limpia, siempre intacta desde su momento
primero, siempre han corrido sin manchas", vv. 1118-1120 — Непорочная
Дева; "siempre cristalina... / Bestia obscena, ni fiera, no llega a tus espe-
jos..." — источник Нарцисса (ср. Овидий. Метаморфозы. Ill: 407-10.) Объ-
единяющим признаком становится "чистота", "недоступность" и "нетро-
нутость" вод источника: испанское существительное fuente (источник)
имеет женский род.
14 Mexîa de Fernangil. El Dios Pan. Эклога была написана в 1606-
1617 гг. (точная дата неизвестна) по случаю установления братства слуг
Святого Таинства в городе Потоси. Автор пьесы — известный поэт, член
литературного общества "Academia Antartica", созданного в Лиме поэта-
ми-гуманистами.
113
15 Разрабатывая классический жанр эклоги, Мехия де Фернанхиль ве-
роятнее всего мог опираться как на существующий авторизованный пере-
вод "Буколик" Вергилия, сделанный Хуаном дель Энсина, так и на собст-
венные эклоги испанского драматурга.
16 Об отношениях театральной и паратеатральной сфер в XVI-XVII вв.
см.: Historia del teatro en Espana. Madrid, 1984.
17 По мнению исследователей, именно введение схемы шествия пасту-
хов для рассказа о Евхаристии стало отправным пунктом на пути форми-
рования ауто сакраменталь в Испании. В испанской литературе этот
прием — шествие пастухов на таинства причастия — впервые был исполь-
зован в анонимном "Фарсе о Святом Таинстве" (1521). (Olle G. "La farsa
del Santîsimo Sacramento" anònimo y su significación en el desarrollo del auto
sacramentai // Revista de literatura, Madrid. 1969).
18 См. Андреев М.Л. Второе рождение европейской драмы. / Проблема
жанра в литературе средневековья. М., 1994. С. 35.
19 Подобное соотнесение присутствует уже в ранней средневековой
традиции: так, Кассиодор прямо считает латинское название хлеба (panis)
производным от имени бога плодородия, покровителя земли и плодов
(Variae 6, 18, 6). Еще более тонкую параллель проводит Исидор Севиль-
ский, возводя латинское слово, так же как и имя греческого божества к
греческому корню ра'п ("все, всякое"): "либо потому, что хлеб подается со
всякой пищей, либо потому что всякое животное его требует" (Origines 20,
2, 15).
20 Аналогия имеет опасное свойство сближать любые фигуры, делать
их тождественными. Отношения между языческим и христианским плана-
ми регулируются категорией подобия, но в рамках ее действует закон
антипатии (термин Фуко), удерживающий их на определенном расстоя-
нии друг от друга.
21 "...у sus honores festivales se llaman Lupereales"("и праздники, его
славящие зовутся Луперкалии") — Дамон отождествляет римского бога
лесов Фавна с греческим Паном и приписывает ему наиболее архаический
и оргиастический ритуал Луперкалии.
22 Эклога Мехии де Фернанхиля здесь и далее цитируется по изд.:
Mexia de Fernangil. "El Dios Pan" / De nuestro antiguo teatro. Lima, 1974.
23 Андреев М.Л. Средневековая европейская драма: происхождение и
становление (Х-ХШ вв.). М., 1989. С. 92.
24 Bramón Fr. Los sirgueros de la Virgen sin original pecado (1620). Ha
общем фоне литературной жизни Новой Испании роман Брамона выделя-
ет уже сам факт его появления, так как еще в 1531 г. написание и печата-
ние романов на территориях Индий было запрещено королевским указом.
Святость темы и жанр "novela pastoni a lo divino" позволили роману Бра-
мона избежать участи запрещенной книги.
25 Роман Брамона цитируется по изд.: Bramón Fr. Los sirgueros de la
Virgen sin original pecado, Mexico, 1944.
26 Одним из таких танцев, наиболее распространенных у индейцев
Мексики был "митоте" (mitote), в котором участвовало много индейцев в
необычайно ярких одеждах. Они располагаются, взявшись за руки, вокруг
114
Флага и огромного сосуда с вином. Во время танца они передвигаются
под звуки барабанов и понемногу отпивают вино из сосуда. Смешение
традиций в сфере театрально-зрелищных форм привело к появлению в
XVII в. нового песенно-танцевального жанра "токотин" (tocotin), кото-
рый стал результатом соединения испанского вильянсико и митоте. В
функциональном плане токотин, благодаря своей красоте, грациозности и
торжественности, стал фактически официальной частью как религиозных,
так и светских празднеств.
27 Подробнее об индейских празднествах: Solana N.G. En torno al ritual y
a la estética en las fiestas de los antiguos mejicanos. El arte efîmero en el mundo
hispânico. Mexico. 1983; Durân D. Ritos y fiestas mexicanos. Mexico. 1980;
Duron D. Historia de las Indias de Nueva Espana e Islas de la Tierra Firme. T. 1,
Mexico, 1967.
М.Б. Смирнова
ПОЭЗИЯ В КОНТЕКСТЕ БАРОЧНОГО ПРАЗДНИКА
Сегодня исследователь испанской поэзии XVII в. оперирует де-
сятком имен, известных по дошедшим до нас письменным источни-
кам. Между тем количество людей, отдававшихся стихотворству и
называвших себя поэтами, в ту эпоху было значительно больше.
Так, ко времени смерти Филиппа II (1598 г.) в Испании насчитыва-
лось три тысячи поэтов, а в 1637 г. Альфонсо Батрес, секретарь
Академии и организатор поэтического состязания в Буэн Ретиро,
констатировал, что его "осаждает mare magnum стихотворцев"1.
Главным заказчиком и потребителем этой массовой поэтической
продукции был праздник, постепенно, ко второй половине XVI в.
сложившийся как особая форма социальной активности коммуны
города или селения, которые осознавали себя единым целым, свое-
го рода коллективным подданным испанского государства.
Небольшая часть великого множества сочинителей известна
нам из кратких упоминаний в разного рода реляциях о тех или
иных празднествах. Скупые сведения чаще всего сводятся к имени,
реже к названию стихотворения — так они фигурировали в афи-
шах, которые вывешивались в дни празднеств. Однако подавляю-
щее большинство авторов навсегда затерялись в веках, оставив
анонимные образцы, осколки некогда процветавшей поэтической
культуры.
В контексте праздника поэтическое слово обретало два типа во-
площения. С одной стороны, это слово звучащее, связанное с тра-
дицией поэтических турниров, состязаний2, серьезных и пародий-
но-смеховых (justas, certâmenes, vejämenes), академий (academias).
115
Последние как в XVI, так и в XVII вв. означали не постоянно дей-
ствующую институцию с жесткой структурой и определенным ста-
тутом, а разного рода спорадические собрания, кружки, нечто
вроде салонных вечеров, на которых вслух зачитывались и коммен-
тировались различные литературные опыты, в том числе и чаще
всего стихотворные. В некоторых случаях они мало отличались от
поэтических турниров и созывались однократно в связи с каким-
либо событием религиозной или общественной значимости.
С другой стороны, наряду с устным бытованием, поэтическое
слово в контексте праздника имело второе весьма важное воплоще-
ние — визуально-пластическое3. Речь идет об инскрипциях, кото-
рые в испанском литературоведении принято обозначать как "на-
стенная поэзия" (poesia mural). Сюда относятся подписи к эмблема-
тическим фигурам, эпитафии, посвящения, надписи на статуях, ка-
тафалках, архитектурных сооружениях, настоящих и бутафорских,
специально возведенных к празднику, разнообразные гобелены и
афиши, на которых для всеобщего обозрения крупными буквами
были начертаны поэтические строфы.
Конечно, большая часть подобной поэзии "на случай" в качест-
венном отношении несла на себе печать любительского стихотвор-
ства, что до последнего времени определяло ее периферийное место
в исследовательских интересах. На ее, мягко говоря, средние досто-
инства неоднократно указывали и непосредственные свидетели
многочисленных торжеств, особенно второй половины XVII в. К
таким характерным оценкам очевидцев можно отнести поэтичес-
кую реплику Гарсиа де Сальседо Коронеля, посвященную неизмен-
ной составляющей праздника — поэтическому состязанию, или
"академии":
...Muchos versos, у pocos aplaudidos,
Тогре rumor, llorar cantando un ciego,
Fue la Academia, о Lisiada, del Prado4.
("Виршей тьма, да нет стиха-отрады; Гул словес, слепца слезливый
лепет — / Вот и вся тут Академия дель Прадо".)
Как видно, всеобщая усталость, непонимание, неприятие проис-
ходящего — вот та реакция публики на стихи "малых поэтов", ко-
торую фиксирует автор XVII в.
Однако в нашем случае вопрос о качестве подобной поэзии не
является определяющим. Именно эта словесная продукция оказы-
вала существенное влияние на реальное бытование поэтического
слова в XVI — XVII вв. и составляла важный аспект литературного
быта эпохи. Даже понимая, насколько нелепо в суждениях о тех
или иных литературных влияниях прибегать к статистике, все же не
стоит упускать из виду, что именно такого рода опусы преоблада-
ли в количественном отношении. К тому же, эта поэзия была до-
116
ступна большинству населения, еще отрезанного от письменной
культуры и обреченного устному слову (которое в XVII в. сущест-
вовало между двумя полюсами — изощренностью и почти массо-
вой доступностью, как, например, наиболее репрезентативный в
этом отношении феномен эпохи — испанский театр). Разрываясь
между жаждой популярности и элитарности, испанский автор той
эпохи именно в празднике мог примирить оба полюса. Не случайно
даже признанные профессионалы, такие, как Лопе де Вега, Серван-
тес, Гонгора или Кальдерон, не пренебрегают участием в празднич-
ных поэтических баталиях.
Именно праздник становился одним из важнейших способов
публикации литературного текста, составляя серьезную конкурен-
цию манускрипту и печатному изданию. Вряд ли, скажем, столь
эпохальное событие, как выход в свет "Полифема и Галатеи", вско-
лыхнуло сознание более чем нескольких десятков "эрудитов". В то
время как, например, летрилью, написанную в тот же год неким
Мигелем Сидом для религиозного шествия и посвященную непо-
рочному зачатию Девы Марии, знала абсолютно вся Испания.
Столь громкая слава безвестного сегодня автора запечатлена в ро-
мансе 1615 г. Кристобаля де Кастильо:
No hay rincón en nuestra Espana,
рог mâs oculto que sea,
donde no canten a boces
ciudades, villas y aldeas
(Нет уголка во всей нашей Испании, / каким бы затерянным он ни
был/ где бы (ее — М.С.) не распевали/ все города, селенья и дерев-
ни).
Кроме того, стихи "на случай", которые, казалось бы, заведомо
создаются как однодневки, нечто столь же иллюзорное и преходя-
щее, как и сам праздник, их востребовавший, несомненно связаны с
теми поэтическими течениями, которым удалось выдержать испы-
тание временем, гораздо больше, чем можно было бы подумать.
Эта связь остается недостаточно изученной; на одну из возможных
перспектив исследования указал Дамасо Алонсо, отметивший, что
"роль поэтических состязаний недостаточно учитывается, когда за-
ходит речь об испанском консептизме"5. Приходится добавить — и
не только в этом случае. Наша цель — наметить возможные пути
соотнесения идеологических и поэтологических особенностей поэ-
зии, получившей статус профессиональной, созданной, условно го-
воря "для вечности", и поэзии сугубо окказиональной, связанной с
рекреативной культурой, созданной "на случай".
Первое существенное обстоятельство, обеспечивающее почву
для подобного сближения — чрезвычайная ангажированность ба-
рочной поэзии. Праздник в этом отношении становится крайним,
117
наиболее концентрированным проявлением идеологического зака-
за, которому было подвластно поэтическое слово в целом. Как
светские, так и религиозные торжества выполняют функцию под-
тверждения незыблемости социального порядка и моральных усто-
ев. Мотивами для их проведения становились смерти и рождения
венценосных особ, бракосочетания вельмож и королей, дипломати-
ческие и военные успехи испанской короны, беатификация или ка-
нонизация святых, перемещение реликвии или святого образа, от-
крытие религиозного памятника, назначение на должность главно-
го инквизитора и др. Так, наибольшую волну праздников в Испа-
нии интересующего нас периода вызвали смерть Филиппа II (1598
г.), рождение будущего Филиппа IV (1604-1605 гг.), смерть Марга-
риты Австрийской (1611 г.), беатификация Тересы де Хесус (1614).
Наконец, нескончаемая череда особо пышных праздников, охва-
тивших всю страну и заокеанский испаноговорящий мир, связана с
канонизацией в 1622 г. сразу нескольких святых: Исидора Мадрид-
ского, Тересы де Хесус, Игнасио Лойолы и Франсиско Хавьера.
Последние празднества особо интересны, поскольку иллюстри-
руют, как в давшем изрядную трещину испанском государстве под-
питывается идеология национального величия. Рядом с фигурой
Исидора Мадридского, освященной веками, появляются люди,
жившие семьдесят — сорок лет назад, чье присутствие в современ-
ности еще очень ощутимо.
В этом общем идеологическом проекте слову отводилась очень
важная роль. Прежде всего, ему надлежало увековечить событие. И
бутафорские декорации — недолговечные арки, колонны, подмост-
ки, — и тем более человеческая память были слишком ненадежны.
Единственным, что могло остаться в вечности, было слово, и поэ-
тическое слово прежде всего. Вот почему важнейшей частью реля-
ций о праздниках становится описание поэтического состязания,
тщательный подбор всех стихотворных опытов, представленных на
суд публики и жюри. Ясное осознание того, что слово является
чуть ли не единственным надежным союзником вечности, вычиты-
вается, например из предисловия, которое предпосылает Хуан
Алонсо де Алмела к донесению о празднованиях по случаю кончи-
ны Филиппа II: "Мне показалось справедливым, будучи очевидцем
происшедшего, собрать все воедино, расположить по порядку, от
начала и до конца, отведя каждой вещи свое место, дабы слава
моей родины (ab antiquo) прирастала славою благороднейшего и
вернейшего из всех ее городов — Толедо, а также чтобы прослави-
лись его самые изысканные и острые умы, оставшись в вечности,
покуда не исчезнут мой труд и их труды или покуда мир стоит,
дабы увидели потомки, как надлежит почитать и восхвалять своих
государей, являющих образец христианской веры и справедливос-
ти"6. Обратим внимание на то, что "изысканные и острые умы" как
118
раз и есть те самые стихотворцы, славные сыны города или про-
винции, которые сочиняли к празднику изощренные поэтические
вариации на предложенную тему.
Кроме того, поэтическое слово берет на себя роль комментария
ко всему происходящему, некой идейной квинтэссенции торжества.
И если в воздухе постоянно витают звуки романсов, песен, купле-
тов, то и глаз повсюду наталкивается на стихотворные строки. По-
хоже, что во время праздника ни одна стена не пустовала, каждый
метр поверхности, доступной взгляду, использовался под "плака-
ты" со стихами. Так, по свидетельству Суареса де Фигероа, во
время состязания в честь Святого Антония Падуанского в Мадриде
было представлено пять тысяч стихотворений, которыми украсили
все стены церкви и хоры, после чего оставшихся хватило бы еще на
сто монастырей.
Слово неразрывно сливается с окружающими объектами, стано-
вится как бы тенью, которую отбрасывает вещь. Весьма показа-
тельным в этом отношении является описание катафалка, установ-
ленного в Гранаде в дни торжеств по поводу смерти королевы
Маргариты7. Основанием ему служило изображение герба Гранады
и еще десяти городов, принадлежавших короне Ее Величества, каж-
дый с соответствующей стихотворной надписью, далее высились
двенадцать постаментов, четыре из которых символизировали
части света и были украшены редондильями, другие четыре венча-
лись "четырьмя гранатами очень большого размера" и тоже имели
стихотворные надписи, выражавшие скорбь города по поводу
смерти королевы. На последних четырех постаментах помещались
стихотворные панегирики королеве, написанные в терцетах, затем
следовал золоченый купол с ангелами, державшими свитки, на ко-
торых тоже был запечатлен стихотворный текст, над ними еще че-
тыре аллегорические скульптуры и тоже с табличками в руках и
так далее.
Столь же велика роль поэтического состязания, которое по сути
представляло собой кульминацию праздника. Оно занимало весьма
маркированное место в череде торжественных событий, завершая
несколько празничных дней, а иногда и недель. Участие в турнире
поощрялось особым образом. Заранее с большой тщательностью
разрабатывалась система призов. Последние лишь в отдельных
случаях имели денежное выражение, чаще всего это были украше-
ния, сувениры, наподобие чернильных приборов, кубков или сто-
лового серебра, чулки, подвязки и наиболее распространенная
награда — перчатки8. Сам характер поощрения свидетельствует
не столько о материальной выгоде, сколько о высоком социаль-
ном престиже, который несла с собой победа в поэтическом по-
единке.
119
На исключительную социальную значимость поэтического со-
стязания указывает и выбор места его проведения — как правило,
богато украшенные залы или внутренние площади или сады (как,
например, Буэн Ретиро) дворцов, церкви, и т.д.
Принципиальное значение имеет тот факт, что на облик поэти-
ческого состязания большее влияние оказывают важнейшие соци-
альные практики, отвечавшие за правовое и нравственное состоя-
ние общества, — судебный процесс9 и церковная служба. Реляции
праздников чаще всего фиксируют состав своеобразной судейской
коллегии, где в роли поэтических судей выступают люди, обладав-
шие политическим либо общественным весом, представители го-
родского управления или знатных семейств. Так, на толедском со-
стязании в честь беатификации Святой Тересы де Хесус утвержден
следующий судейский состав: дон Диего Лопес де Суньига, корре-
хидор Толедо; дон Франсиско де Рибера, маркиз де Мальпика; дон
Франсиско де Рохас, граф де Мора; два толедских каноника, насто-
ятель монастыря Девы Марии дель Кармен и, наконец, дон Луис
Антолинес, рехидор города Толедо. В данном случае особо показа-
тельно то, что право вынести эстетический приговор отдано четы-
рем столпам социума: судебной власти, рыцарству (историческую
преемственность с которым безусловно осознает аристократия
этой поры), клиру и местному самоуправлению.
Судейское жюри занимало специально отведенное почетное
место. Выбирался ведущий церемонии — лицо, которое зачитыва-
ло заранее подготовленную речь (выстроенную по образцу пропо-
веди) и затем оглашало поданные на конкурс стихи. Роль подобно-
го корифея была также исключительно престижной (известно,
какие усилия для ее достижения прилагал, например, Л one де
Вега10): он мог не только проявить собственный поэтический та-
лант, импровизируя по ходу дела или вставляя собственные поэти-
ческие комментарии серьезного или бурлескного толка, но и брал
на себя определенные режиссерские функции, влияя и на исход со-
стязания, и на то, каким оно останется в памяти потомков (ибо
именно этому человеку, как правило, впоследствии доверяли редак-
тировать реляцию).
Изучение праздничной поэтической культуры позволяет также
существенно уточнить наши представления о понимании авторства
в ту эпоху. Поэтическое состязание четко определяло степень ав-
торской свободы. За несколько дней до состязания вывешивались
афиши, которые оговаривали не только тему состязания, но и
набор формальных требований к сочинениям (размер, строфика,
тропы, в некоторых случаях даже список слов, которые должны
были в обязательном порядке открывать или завершать строфу).
Естественно, что в таких условиях поэту оставалось делать ставку
на головокружительную словесную эквилибристику, неожиданный
120
образ или сравнение, при помощи которых он надеялся поразить
воображение слушателя, утомленного длинной чередой единооб-
разных стихов. Так эстетическое требование остроумия (agudeza)
получает вполне практическое обоснование. Автор ни на секунду
не забывает, что он "один из", что он выступает не как одинокая
фигура, а как временный солист в большом хоре голосов. Подоб-
ное самоощущение можно распространить на барочную поэзию в
целом. При существовавшей тогда культуре публикаций практичес-
ки ни один поэт не имел возможности (или намерения) издать свои
стихи отдельным сборником. Наиболее распространенный тип из-
дания — коллективный сборник, объединенный либо тематически,
либо формально (например, "Flor de Varios romances viejos", 1591,
"Flores de poetas ilustres", 1605 и т.д.). Таким образом, Гонгоре, Ке-
ведо, Вильямедьяне или Архенсоле, как и любому поэту, участво-
вавшему в праздничном состязании, был отнюдь не чужд дух сорев-
нования. Лирического сборника, требующего и особого типа лири-
ческого мышления, для них не существует (все подобные издания
осуществляются посмертно и создаются руками редакторов).
Наконец, поэтические состязания несомненно дают дополни-
тельный материал при изучении вопросов, связанных с формирова-
нием литературной теории в XVII в. Так, известно, какую роль иг-
рали турниры в эстетическом противостоянии культеранистов и
консептистов (в качестве главных вех можно указать поэтические
состязания в Толедо в 1605 и 1608 гг., и в Мадриде в 1620 и 1622
гг.)11. Но, помимо дополнительных фактов, уточняющих ход этой
полемики, поэтические состязания проливают свет на специфику
языка эстетической дискуссии. В этой связи большого внимания за-
служивают так называемы vejâmenes — сочинения шутливо-паро-
дийного толка, критически гипертрофировавшие стилевые особен-
ности тех иных поэтов.
Примечательно, что перечисленные функции праздника и осо-
бенности бытования в его контексте поэтического слова еще ярче
проявляются на латиноамериканской почве. В Новой Испании
праздник, и состязание как его важнейшая часть, становится одним
из наиболее удобных способов оформления "официального зака-
за"12 государства и церкви. Задача прославления родины-Америки,
которая на протяжении XVII в. все более осознается креолами как
иной, во многом отличный от европейского, мир, а также стремле-
ние придать авторитет формирующимся собственным религиозным
культам (например, "гвадалупанизму", переживающему особый по-
дъем в 60-е гг.) стимулируют соревновательный запал местных ав-
торов. В силу этого латиноамериканские поэты не просто конкури-
руют друг с другом, но ставят перед собой цель превзойти метропо-
лию. Армия поэтов вступает в состязание, имея перед мысленным
взором удаленного от них как в пространстве, так и во времени мо-
121
гущественного соперника — самого Гонгору, чем и объясняется
популярность конкурсов, проходящих под знаком соревнования с
"Оракулом лучших муз Испании" (1654 г.), "Кастильским прин-
цем" (1672 г.), "Кордовским Аполлоном" или "Князем испанских
лириков" (1682г.)13.
Результатом становится преувеличенный декоративизм, неверо-
ятная концентрация консептистских приемов. Стихотворение ста-
новится не только шарадой для читателя, но и головоломкой для
его создателя, чрезмерно увлекающегося словесной игрой, — цен-
тонами, метронтолеонами, панграмматонами, палиндромами и т.д.
Подобная экспансия словесной материи придает стихам почти ося-
заемую пластичность, по-своему сближая поэтическое произведе-
ние с архитектурной конструкцией14, что открывает новые пути ис-
следования проблем барочного синтеза.
Итак, изучение поэзии, порождаемой праздничной культурой
как в Испании, так и в Латинской Америке, является одним из пер-
спективных подходов к барочной словесности в целом. Освобожде-
ние от оценочного подхода позволяет сосредоточиться на механиз-
мах взаимодействия идеологии и поэтического слова, увязать поэ-
тику с литературным бытом, уточнить некоторые аспекты культур-
ного самосознания эпохи. Подводя предварительный итог, можно
сказать, что праздник становится той благоприятной средой, в ко-
торой не всегда заметные, латентные тенденции барочной поэзии
заявляют о себе со всей очевидностью, вплоть до гипертрофии ху-
дожественной формы.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Sanchez J. Academias literarias del Siglo de oro espanol. Madrid, 1961.
P. 13.
2 Согласно документальным свидетельствам, традиция поэтических
состязаний в Испании восходит к 30-м годам XVI в. Одними из первых
были поэтические турниры, организованные в Севилье епископом де Эс-
калас, доном Бальтасаром дель Рио, в 1531, 1533 и 1534 гг. Несмотря на
возможное наличие типологической или даже генетической связи подоб-
ного рода практики с древней традицией поэтических состязаний, иссле-
дователи не склонны на ней настаивать, выделяя в качестве приоритетно-
го соотношение испанских поэтических турниров (justas poéticas) с рыцар-
скими ристалищами, также составлявшими неотъемлемую часть празд-
ника.
В данном случае нас будут интересовать праздники и поэтические со-
стязания последних лет XVI в. и первой половины XVII в. в силу того,
что, во-первых, именно к концу XVI в. образ праздника оформляется в до-
122
вольно устойчивом варианте, а во-вторых, именно указанный период по-
зволяет соотнести поэтическую культуру праздника с важным для нас ре-
ферентным фоном — творчеством Лопе де Беги, Луиса де Гонгоры и
Франсиско де Кеведо.
3 Некоторые подходы к изучению данного аспекта бытования поэзии в
контексте барочного праздника намечены Э. Ороско Диасом. См.: Orozco
Diaz E. Sobre la teatralización y comunicación de masas en el Barroco / Homenaje
a José Manuel Blecua. Madrid, 1983. P. 497-512.
4 Цит. по: Egido A. Literatura efimera: oralidad y escritura en los certâme-
nes y academias de los Siglos de Oro // Edad de Oro, 1988, VII. P. 78.
5 Alonso D. Obras complétas. T. 9, Madrid. P. 554.
6 Justas y certâmenes poéticos en Murcia. T. 2, Murcia, 1958-59. P. 12.
7 Подробные извлечения из реляции, составленной гранадским поэтом
Педро Родригесом де Ардила публикуются в: Orozco Diaz, E. Op. cit.
P. 504-505.
8 О присуждавшихся призах см. Sanchez J. Academias literarias del siglo
de oro espanol. Madrid, 1961. P. 14-16; Blanco M. La oralidad en las justas
poéticas // Edad de Oro, 1988, VII. P. 35-36.
9 Безусловно, образ и практика "поэтического суда" уходят корнями
глубоко в древность. Однако важно иметь в виду, каким образом они ак-
тивизируются и осознаются в конкретных исторических контекстах.
10 См.: Orozco Diaz E. Lope у Góngora frente a frente. Madrid, 1973.
11 Отчасти эта проблема затрагивается в работах: Orozco Diaz E. Lope у
Góngora frente a frente. Madrid, 1973; Entrambasaguas J. Lope de Vega en las
justas poéticas toledanas de 1605 yl608. Madrid, 1969.
12 История литератур Латинской Америки. Кн. 1, M., 1985. С. 403.
13 См.: там же. С. 411.
14 О некоторых аспектах соотношения и архитектуры в латиноамери-
канском "ультрабарокко" см.: там же. С. 410-411.
123
Часть II
ИСПАНИЯ: ПРАЗДНИК И ЕГО ПРОЕКЦИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ
А.Н. Кожановский
ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ В ИСПАНИИ
НОВОГО ВРЕМЕНИ
Очевидно, что такое сложное и многообразное явление социаль-
но-культурного бытия человечества, как праздник, может рассмат-
риваться в науке — прежде всего в ее гуманитарном спектре — с
самых разных точек зрения. Нет недостатка как в смелых гипоте-
зах, так и в аргументированных теориях, предлагающих каждая
свой взгляд на то, что составляет суть праздника, в чем причины
его существования, каковы его разновидности, в чем заключаются
его функции и т.д. Автор данной статьи, посвященной описанию
традиционных праздников Испании, исходит из ряда посылок, с
изложения которых — наряду с несколькими предварительными
замечаниями и соображениями — ему представляется логичным
начать свою работу.
Традиционными народными следует, очевидно, считать такие
праздники, которые, возникнув в доиндустриальную эпоху, стали
неотъемлемой частью народной культуры — в данном случае ис-
панской — и образа жизни местного населения. Все они, естествен-
но, являются общественно значимыми, хотя масштабы этой значи-
мости — и, соответственно, размеры круга участников — сущест-
венно варьируются: от сравнительно ограниченной группы родст-
венников, через локальные сообщества разных уровней, до населе-
ния всей страны. Из всего этого необозримого многоцветия хоте-
лось бы выделить те праздники, которые имеют циклический ха-
рактер, повторяются ежегодно в одно или примерно одно и то же
время; нередко их называют сезонными или календарными.
Один из видных отечественных исследователей интересующего
нас феномена отмечал: "Именно праздник есть тот фокус, в кото-
ром сосредоточивается большая часть обычаев, обрядов, поверий
календарного типа" (2, с. 4). Представляется, однако, что этого
124
мало, и не будет ошибкой рассматривать праздник как своеобраз-
ную кульминацию и квинтэссенцию всей традиционной жизни об-
щества — в той, разумеется, части, которая относится к теме дан-
ного праздничного события.
Дело в том, что календарные праздники изначально, то есть по
самому своему происхождению, связаны со сменой состояний при-
роды (сезонов), с теми "моментами" — реально представляющими
собою отрезки времени, иногда довольно длительные, своего рода
переходные периоды, — в которые происходит эта смена. Челове-
ческое общество доиндустриального времени, тесно связанное с
природной средой, чутко реагировало на сезонные колебания в
ней, и календарный праздник, соответствовавший тому или иному
природному перелому, и являл собой, судя по всему, такую реак-
цию; при этом чем основательней был происходивший "перелом",
тем масштабнее и сложнее оказывался приуроченный к нему празд-
ник. Последний представлял собой, возможно, коллективную архе-
типическую форму приспособления общества к качественному из-
менению состояния природной среды, имевшего целью обеспечить
и в новых условиях выживание и благополучие. Не случайно ведь
именно в дни таких праздников, соответствующих особенно суще-
ственным природным метаморфозам, особенно резким рубежам
между сезонами, традиционное общественное сознание отмечает
воздействие на людей глубинных, наиболее могущественных и
опасных сил природы, активизацию всевозможных представителей
потустороннего мира.
Чтобы предотвратить эту периодически возникающую угрозу,
общество должно каждый раз мобилизовать все свои силы, сосре-
доточить их на наиболее жизненно важных направлениях, — ведь
дело идет о самом его существовании. И потому в том, как ведут
себя люди в это кризисное время, с неизбежностью проступают ос-
новные, бытийные, архетипические черты. Происходит как бы ос-
мысление, освоение людьми совершающегося во внешней среде
перелома и возникающих новых условий, определение стоящих
перед ними задач. В знаковой, ритуально кодированной форме
данное сообщество утверждает свое место в мире, а заодно и себя
как целое, основные структурные связи в своей среде.
Исходя из этого, можно с достаточным основанием предполо-
жить, что знакомство с содержанием, структурой, особенностями
календарных (сезонных) праздников вплотную подводит нас к ос-
новным, изначальным и наиболее характерным чертам, составляю-
щим своеобразие такого яркого и многостороннего феномена, как
культура населения Испании. Хочется только еще раз подчеркнуть,
что речь идет отнюдь не о зеркальном отражении, но о довольно
смутном образе, опосредованном специфическим характером тако-
го "зеркала", каковым является праздник. Чтобы понять/прочесть
125
отражение в нем, нужно не пытаться воспринимать его буквально,
а использовать специальные приемы дешифровки. Календарные
праздники — ключ к культуре народа, отмечающего их. Надо толь-
ко суметь воспользоваться этим ключом...
Попытки разделить календарные праздники на какие-то виды и
категории в зависимости от содержания или происхождения не ка-
жутся в данном случае сколько-нибудь плодотворными. При зна-
комстве с многочисленными описаниями традиционной празднич-
ной обрядности населения Испании возникает впечатление, что на
протяжении многих столетий здесь сложилась своеобразная модель
праздника, допускающая множество тематических, локальных и
прочих вариантов, но при этом имеющая определенные и весьма
характерные черты, придающие этой модели, во всех ее проявлени-
ях, специфическую испанскую окраску. Тот или иной праздник мог
бытовать с незапамятных времен и воспроизводиться из поколения
в поколение, а мог быть вполне официально внедрен светскими или
церковными властями в исторически зафиксированный момент с
вполне конкретной целью, — но если уж он усваивался обществом,
это "укоренение" означало более или менее скорое и неизбежное
приведение его в соответствие с вышеупомянутой моделью испан-
ского праздника как такового. И тогда чисто церковное по своему
происхождению и характеру общественное торжество видоизменя-
лось и насыщалось всевозможными светскими, развлекательными,
игровыми, декоративными и прочими элементами, — а изначально
дохристианские, с профанной мирской основой празднества полу-
чали — в рамках той же модели — религиозное, церковно-обрядо-
вое наполнение. Итогом становился органичный синтез празднич-
но-светского и празднично-церковного начал в неповторимом ибе-
рийском контексте.
Таким образом, наиболее целесообразным способом изложения
в нашем случае остается традиционный — то есть "последователь-
но-сезонный", в рамках годового цикла. Правда, и здесь имеются
определенные сложности, связанные с отсутствием среди исследо-
вателей согласия относительно количества сезонов и границ между
ними.
Есть и еще один вопрос, тот или иной ответ на который сущест-
венно влияет на построение текста и его содержание. Речь идет о
давно утвердившемся в отечественной науке восприятии населения
Испании (как и всякой иной страны) как жестко подразделяющего-
ся на так называемые народы-этносы, с отчетливым самосознани-
ем, самобытной культурой и ярко выраженными этнополитически-
ми интересами. В случае с Испанией речь обычно идет о четырех
этносах-нациях — собственно испанцах, каталонцах, галисийцах и
басках. И изложение историко-этнографического материала испан-
ского происхождения отечественные авторы очень часто привычно
126
соотносили с этой четырехчастной схемой, раскладывая его "по на-
родам". То есть в данном случае мы должны были бы рассматри-
вать четыре основных варианта народных праздников на террито-
рии Испании, четыре этнические традиции. Поскольку, однако, я
считаю, что указанная схема не соответствует ни представлениям
самих жителей страны, ни реальному положению вещей6, она
никак не отразится на композиции данной статьи или ее содержа-
нии: ведь субъектами празднично-обрядовых действий там высту-
пают общности, которые сами обитатели страны называют
"pueblo" (у нас обычно переводится как "народ") и которые состав-
ляют иерархию, подразумевающую широкую этносоциальную
гамму: от уроженцев небольшого селения до совокупности всех жи-
телей Испании.
И последнее предварительное замечание. Подавляющее боль-
шинство из существующих в научной литературе описаний испан-
ской традиционной обрядности относится к концу XIX — началу
XX вв. Именно в это время народная культура стала объектом ин-
тереса испанских исследователей — как профессионалов, так и
многочисленных любителей. По всей стране возникли тогда обще-
ства по изучению традиционных форм народной — преимущест-
венно сельской — жизни. Особая заслуга здесь принадлежит мад-
ридскому культурно-просветительскому обществу "Атенео", кото-
рое в 1901-1902 гг. разослало десятки тысяч анкет представителям
сельской интеллигенции (учителям, врачам, священникам и др.) в
самых разных уголках Испании с просьбой описать народную об-
рядность, связанную с рождением, вступлением в брак и кончиной.
Собранный таким образом поистине уникальный материал являет-
ся с тех пор основным источником для изучения испанского фольк-
лора, хотя он, разумеется, существенно дополнен зачастую не менее
интересными — только уже не столь систематичными и масштаб-
ными — данными, полученными в последующие десятилетия.
Разговор об очерченном круге испанских праздников естествен-
ней всего, очевидно, было бы начать с Нового года. Этого требуют
как устойчивая отечественная традиция, так и то особое значение,
которое повсеместно придается людьми окончанию одного года и
началу следующего. Правда, в разных культурах и в разные эпохи
существовали разные представления о времени прихода Нового
года. До того, как подавляющее большинство человечества согла-
силось с нынешней вехой, соответствующей в европейских широтах
разгару зимы, начало годового цикла здесь в гораздо большей сте-
пени соотносилось с рубежом между двумя несходными состояния-
ми природы, — и, следовательно, двумя хозяйственными циклами:
вплоть до второй половины XVI столетия в ряде стран Европы,
включая Испанию, год начинался с Пасхи. В пасхальных же торже-
ствах есть основания видеть часть более широкого цикла, общий
127
смысл которого — конец зимы и приход весны, своего рода разлом
между старым и новым временем и одновременно место их встречи,
соприкосновения. Сквозная тема перехода от зимы к весне берет
начало в карнавальных действах, проходит через Великий пост и
завершается с окончанием майских праздников.
С давних пор было установлено, что три карнавальных дня
должны отделяться от Пасхи сорокадневным периодом Великого
поста (cuaresma), поэтому числа, на которые выпадает карнавал, от
года к году не совпадают; зато дни недели всегда одни и те же: вос-
кресенье, понедельник, вторник. Стремление светских и церковных
властей "развести", отгородить друг от друга одно из главных
христианских торжеств и карнавальное буйство, равно как и не-
однократные в прошлом попытки ограничить или вовсе запретить
древний народный праздник, выглядят вполне понятными, по-
скольку карнавал бросал откровенный вызов как существующим
общественным установлениям, так и господствующей идеологии.
Примечательно, что он — вместе со следующим непосредственно
за ним и тесно с ним связанным по содержанию Великим постом —
оказался единственным в Испании традиционным праздником, в
который не проникли персонажи священной христианской исто-
рии, — что лишь еще больше подчеркивало все это время его от-
четливо языческий характер.
В разных областях страны карнавальные мероприятия имели
свои неповторимые особенности, но повсюду для них были харак-
терны широкий размах и тщательная разработанность церемониа-
ла. В некоторых предшествующих карнавалу праздниках и обыча-
ях уже ощущается шум надвигающейся стихии. Так, в день Святой
Агеды (5 февраля), считающейся покровительницей женщин, во
многих испанских населенных пунктах (особенно в Старой Касти-
лии) происходил своего рода социально-половой переворот, и все
общественно-административные посты, в обычное время занятые,
разумеется, мужчинами, переходили (начиная с должности главы
местной администрации — алькальда) к женщинам. На границах
селения в этот день выставлялись заставы, которые брали дань с
приезжих и проезжающих мужчин. Заканчивался день шумным за-
стольем, в котором участвовали, как нетрудно догадаться, опять
же исключительно женщины. И даже в тех случаях, когда на празд-
ничные пирушки допускались мужчины, активная роль оставалась
за женщинами — к примеру, в выборе партнера для танцев.
В том же ряду предкарнавальных забав стоят значительно более
широко распространенные на территории Испании празднования
трех четвергов — двух "кумовских" (первый — "кумовьев", вто-
рой — "кумушек") и "жирного" — последовательно в течение трех
недель накануне главного действа. В "кумовские" четверги мужчи-
ны и женщины, состоящие между собою в ритуальном некровном
128
родстве (которому, как известно, в иберийском мире придается ог-
ромное значение), обмениваются визитами и подарками, очень
часто — в шутливой форме; повсеместно приняты взаимные розы-
грыши и насмешки; во многих селениях страны в эти дни происхо-
дят игровые столкновения между молодыми девушками, с одной
стороны, и парнями — с другой, своего рода обрядовая война
полов. В других районах страны — к примеру, в Андалузии —
тоже в шутливой форме подчеркивается близость кровных и
крёстных родителей. Учеными предлагаются разные толкования
истоков этого рода обычаев: здесь и перекличка с римскими патер-
налиями, то есть праздниками поминовения предков, и пережитки
древних мужских и женских союзов, и отголоски магии плодоро-
дия, — но в целом можно сказать, что именно тема отношений
полов повсеместно выступает в эти предкарнавальные недели на
первый план, всячески обыгрывается и акцентируется — разумеет-
ся, с учетом вступающих в силу правил "перевертывания" обычно-
го порядка вещей.
Настоящим праздником обжорства становится последний перед
карнавалом "жирный четверг". В этот день должно быть приготов-
лено и съедено необычное количество мясной, жирной и сладкой
пищи. Именно в "жирный четверг" по всему полуострову происхо-
дят всевозможные игры с петухом, выглядящие сейчас достаточно
жестокими, поскольку в большинстве случаев петуха полагается
обезглавить, — но с многочисленными региональными вариация-
ми: подвесив его за ноги на веревке или зарыв по шею в землю; с
помощью серпа, сабли или деревянного меча; руками взрослых
всадников на скаку, молодых людей обоего пола или даже детей.
Очень часто петушиному палачу на момент расправы с птицей за-
вязывали глаза.
Торжество буйства, веселья и принципа "все наоборот" — в
сравнении с теми нормами, которые действуют в остальные дни
года — осуществляется в три карнавальных дня. Как отмечают ис-
следователи, этот принцип не означает полной свободы, но предпи-
сывает свою, альтернативную этику, нарушать которую не годится.
Хотя, разумеется, следование карнавальным правилам поведения
имеет вид беспорядка и неприличия: на место уважительного отно-
шения к возрасту, полу, святыням и житейским истинам приходят
насмешки, доходящие до глумления, и провокационные выходки.
Для того, чтобы легче играть свои роли и не быть узнанными,
участники праздника широко используют маски и маскарадные
костюмы.
Испанские ученые считают, что все это социально-половое
перевертывание символически выражает представление о хаосе и
"конце света", что влечет за собой, в частности, возвращение умер-
ших предков, появление среди людей неких сверхъестественных су-
5 - 5470
129
ществ. Отсюда и маски: в самом деле, один из традиционных типов
ряженых — именно "старики" (наряду с "нечистой силой", "живот-
ными", "судьями", "алькальдами" и прочими, в соответствии с
местными традициями). Другое дело, что первоначальное значение
масок давно уже безнадежно утеряно, и они воспринимаются ис-
ключительно в шутовском смысле.
Главным персонажем праздника является, конечно, Карнавал —
антропоморфное существо, изображаемое обычно в виде огромно-
го чучела, нередко — с гениталиями из палки или корнеплода. Кое-
где накануне праздника или в первый его день разыгрывалось шу-
товское рождение Карнавала, силами либо самих жителей деревни,
действовавших под характерными масками, либо странствующих
актеров. И, конечно, в праздничные забавы органически входит
знаменитая коррида, которая в эти дни приобретает особенно
большой размах, — а также петушиные бои и разного рода массо-
вые традиционные игры. Все это способствует общему веселью с
воскресенья до вторника, когда наступает кульминация праздника.
Дон Карнавал следует по улицам в центре торжественной процес-
сии, во главе пышной свиты, нередко включающей такие же, как он
сам, огромные, как реалистичные, так и гротескные изображения
всевозможных исторических и мифических персонажей, животных
и т.д.; все это перемещается на повозках или на плечах участников
шествия. К вечеру торжественная процессия превращается в погре-
бальную: ее пополняют ряженые, оплакивающие предстоящую кон-
чину Карнавала. Шествие завершается на одной из площадей, где
разыгрывается шутовской судебный процесс над обреченным глав-
ным персонажем. Несмотря на усилия "адвоката", Карнавал приго-
варивается к смертной казни. Среди всеобщих рыданий чучело
бросают в костер; в ряде селений его перед тем "расстреливают".
Бурное выражение скорби собравшихся переходит в пляску вокруг
"погребального костра", для которого во многих местах жители
специально приносят из дому сломанные в течение года предметы
деревянной утвари.
Неразрывно связано с разыгрыванием суда над Карнавалом и
его казнью чтение "завещаний" покойного — по традиции состав-
ленных в карнавальном духе, то есть полных насмешек, издева-
тельств и непристойностей по отношению к тем, кто по каким-то
причинам раздражает местных жителей или досаждает им.
Известен — в том числе и по картинам знаменитых испанских
живописцев — другой обряд, справляемый здесь в то же самое
время и примерно в той же форме, но с другим главным "действую-
щим лицом". Речь идет о "похоронах сардинки" в ночь с "жирного
вторника" (последнего дня карнавала) на "пепельную среду" (пер-
вый день поста). О причинах возникновения этого обычая в связи с
130
карнавалом высказываются различные догадки, но единого обще-
принятого объяснения не существует.
Каковы бы ни были истоки карнавальных торжеств, равно как и
позднейшие наслоения, — в том варианте, что дошел до наших
дней, преобладающая часть их древнего смыслового содержания
безвозвратно утрачена, многие элементы переосмыслены. Судя по
описаниям, сам ход событий этого праздника связан с ощущением
его как завершающего прошедший год, знаменующего радикаль-
ный разрыв с ним и со всеми пришедшимися на него бедами и не-
приятностями. Вероятно, отсюда упомянутое выше сжигание ста-
рой и поломанной утвари, отсюда стремление не только разде-
латься с центральным героем праздника окончательно, вплоть до
того, чтобы после погребального костра не осталось даже пепла
(его зарывают в землю или высыпают в реку), но по возможности
навредить своим недругам, подбросив им что-либо, символически
связанное с карнавалом. Встревоженные недруги (обычно жители
соседнего селения) пребывают настороже, чтобы вовремя отогнать
непрошеных дарителей.
Утро следующего — после казни и похорон Карнавала — дня
означает начало нового этапа жизни людей в рамках традицион-
ных норм бытия. Наступает Великий сорокадневный пост — "куа-
ресма". Среди размеренного и сдержанного — "постного" — вре-
мяпрепровождения заслуживает внимания одна тема, обыгрывае-
мая целым рядом народных обычаев. Подобно тому, как карна-
вальные празднества олицетворялись изображением огромного ве-
селого толстяка, Великий пост имел в народе свой аллегорический
образ — худую унылую старуху, "донью Куаресму". И вот по слу-
чаю наступления середины поста повсеместно происходил своего
рода всплеск — всего на день — уже затихшего, казалось бы, кар-
навального буйства. Только теперь центральной фигурой народ-
ных игрищ становилась донья Куаресма, чучело которой торжест-
венно распиливали пополам, радуясь тому, что половина скучного
сорокадневья уже позади. Примечательно, что в этот день насмеш-
ки и глумливые выходки грозили — вопреки обычным нормам по-
чтительного отношения к пожилым людям — всем старым женщи-
нам селения; молодежь устраивала возле их домов "кошачьи кон-
церты", требуя откупиться и угрожая в противном случае символи-
ческим "распиливанием". Помимо разрезания пополам, с доньей
Куаресмой разделываются и другими способами: отрезая от ее се-
миногого изображения каждую неделю по ноге или сжигая ее чуче-
ло — подобно чучелу ее карнавального предшественника.
Этот же очистительный огонь завершает очень известный в Ис-
пании и за ее пределами праздник, приходящийся на 19 марта, день
Святого Иосифа, — валенсийские "фальяс". Весь год команды
местных жителей-энтузиастов скрытно мастерят гигантские фигу-
5*
131
ры, воплощая в них свои самые причудливые и безудержные фанта-
зии и надеясь поразить взыскательных сограждан и превзойти
умельцев-соперников. После того, как все эти удивительные соору-
жения проходят парадом по шумным праздничным улицам, их тор-
жественно сжигают.
В так называемое "пальмовое воскресенье" — первый день пас-
хальной, "страстной", или "святой" недели (Semana Santa) — жите-
ли Испании устремляются в церковь, чтобы освятить ветку (обыч-
но пальмы, оливы или лавра); нередко ее затем долго хранят в
доме, считая верным средством защиты как от нечистой силы, так
и от удара молнии. Этот день открывает новый цикл "священного
времени", которое в данном случае особенно тесно связано с глав-
ной христианской легендой о страстях, смерти и воскресении Иису-
са Христа. Особенностью этих дней становятся торжественные и
скорбные процессии и шествия по улицам испанских селений и го-
родов. В это время в церквах последовательно совершаются дейст-
вия, символически отражающие известные евангельские события.
Так, "пальмовое воскресенье" (в отечественной традиции — "верб-
ное") отмечается в память о торжественном въезде Иисуса в Иеру-
салим. В "святую среду" в церквах гасятся все свечи, кроме одной,
укрытой под алтарем и символизирующей Христа, и совершаются
особые обряды, способствующие ощущению нарастающей тревоги.
В ходе торжественной службы в "святой четверг" звонят колокола,
которые затем замолкают на три дня, — и это истолковывается как
напоминание об апостолах, бежавших и предоставивших Иисуса
его судьбе. Некоторые евангельские сцены изображаются символи-
чески — вроде снятия покровов с алтарей; другие воспроизводятся
буквально, к примеру — омывают ноги 12 беднякам, как в извест-
ном эпизоде "тайной вечери"... В пятницу — день казни — скорбь
достигает высшей точки, разливаясь из храмов по улицам городов
и селений, где прекращается всякая работа, не звучит обычная му-
зыка, зато раздаются религиозные песнопения, в некоторых мес-
тах, особенно в Андалузии, в частности, в Севилье достигающие
подлинного музыкального и исполнительского совершенства. В
эти дни во всех уголках Испании можно видеть торжественные и
красочные процессии, в которых среди прочих верующих идут каю-
щиеся грешники в своих колоритных облачениях и скрывающих
лицо высоких остроконечных колпаках с прорезями для глаз; на
носилках проносят богато разукрашенные скульптурные изображе-
ния Христа и Богоматери, несут огромные распятия, и здесь же ше-
ствуют всевозможные персонажи евангельской истории: "римля-
не", "иудеи" и прочие. Все это, разумеется, задолго до Пасхи тща-
тельно подготавливается силами религиозных братств — так назы-
ваемых кофрадий, которые фактически соревнуются между собой в
выдумке и мастерстве.
132
Хотя церковь, опасаясь профанации и кощунства, еще в средние
века выступила против разыгрывания спектаклей — даже и на биб-
лейские сюжеты — в храмах и, соответственно, священных дейст-
вий в театрах, изжить эту практику вовсе так и не удалось. В пос-
ледние века и десятилетия представление религиозных образов,
догм и обрядов драматическими средствами осуществлялось, в
частности, как раз в ходе пасхальных религиозных процессий,
когда артистически разыгрываются сцены из Священного писания,
жития святых, всякого рода христианские аллегории и т.д. Извест-
но, к примеру, "святое представление" в Севилье, сюжетом которо-
го является легендарное погребение тела Спасителя; постановкой и
исполнением занимается специальная кофрадия, возникшая еще в
1582 г.
Но вот наступает момент, когда происходит перелом в общей
эмоциональной окраске обрядовых событий, и на смену скорби и
грусти приходят радость и ликование. В "славную субботу" свя-
щенник в храме благословляет новый огонь, по традиции высечен-
ный с помощью кремня. Этим огнем дьякон, облаченный в белые,
одежды, зажигает три тростниковые свечки, и уже с их помощью
воспламеняется "пасхальная свеча", символизирующая воскресение
Иисуса; она и будет освещать церковь во время Пасхи.
Воскресная служба знаменует собою торжество новой жизни.
По этому случаю в храмах горят огни, курятся благовония, все
празднично украшено, звучат радостные песнопения, с алтаря сни-
мают черные траурные покровы, звонят колокола, звуки которых
обещают весенние радости, праздничные гуляния, начало сезона
корриды, открытие апрельской ярмарки в Севилье... Пасхальное
воскресенье — законный повод для молодых людей отправиться в
обход домов своих соседей с поздравлениями и пением "тематичес-
ких" куплетов, чтобы в благодарность за свое искусство и свой эн-
тузиазм получить с растроганных хозяев традиционное угощение.
Примечательно, что и пасхальные торжества в некоторых районах
страны знают народный обычай "расстрела" одного из персонажей
центрального сюжета праздника — в данном случае предателя-
Иуды, — представленного в виде чучела; "труп" его дети разрыва-
ют на куски и сжигают, — что очевидно перекликается с вышеопи-
санной судьбой Дона Карнавала.
Неизменным элементом пасхального праздничного цикла явля-
ется так называемая "mona de pascua" — специальный пирог, при-
готовленный с использованием яиц, повсеместно олицетворяющих
собою как рождение, так и постоянное возрождение.
Завершают длинную череду весенних празднеств, начатую еще
предкарнавальными обрядами, майские традиционные праздники.
В них отчетливо проступает аграрный характер: люди радостно
приветствуют окончательное торжество весны, возрождение расти-
133
тельности, омоложение полей и т.д. Очень заметен в майском цикле
эротический оттенок, осознанное или подспудное стремление сти-
мулировать как природное плодородие, так и людскую детородную
активность.
Обязательный элемент майских торжеств — так называемое
"майское дерево", или просто майо (тауо). Его помещают на пло-
щади в центре селения, и оно становится центром праздника. Иног-
да это настоящее, "природное", дерево, срубленное где-нибудь в
окрестностях, в других случаях — несколько деревьев, установлен-
ных одно на другом, в третьих — просто высокий гладкий шест.
Майо всегда обвешано всякого рода сладостями в качестве соблаз-
нительного приза для тех, кто решится попробовать до них до-
браться. В некоторых случаях установка майского дерева сопро-
вождается куплетами с очевидным эротическим подтекстом, кото-
рый придает праздничному сооружению явный фаллический
смысл.
Вместе с тем во многих уголках полуострова майо — как и в
случае с Карнавалом — обретает человеческий облик; парень или
девушка, играющие центральную роль в празднике, облачаются в
покровы и головные уборы из листьев, травы, цветов, стеблей зеле-
ных растений и т.д. Этот человекообразный символ майских празд-
ников торжественно восседает на троне в центре селения, или шест-
вует от дома к дому в сопровождении шумной свиты; звучат песни,
славящие май, веселые куплеты, шуточные приветствия хозяе-
вам — которые, конечно, не остаются в долгу, наделяя молодежь
вином, колбасой и пр.
Майские праздники — повод для публичного выражения в рам-
ках традиции вполне индивидуальных чувств: именно в эти дни
влюбленные молодые парни украшают балконы или окна своих де-
вушек зелеными растениями, фруктами и сладостями.
Примечателен здесь мотив, заметный в некоторых местных об-
рядах и майских песнях — радостная встреча долгожданного мая с
его цветами и удовольствиями и проводы апреля с его неприятнос-
тями.
Известный христианский праздник, отмечаемый 3 мая — обре-
тение Креста Господня, — хотя и не утрачивает своего религиозно-
го содержания, оказывается встроенным в цикл языческих по суще-
ству обрядов и, судя по имеющимся описаниям, во многом воспро-
изводит обычный сценарий испанского праздника — с пышными
торжественными процессиями, фейерверками, ряжеными, разыгры-
ваемым тематическим действом и пр.
Среди праздников, завершающих весенний цикл, обычно упо-
минают День Святого Исидора (Сан-Исидро) и Троицу. Если в пос-
леднем превалирует церковная обрядность, то первый отмечает-
ся — в частности, в Мадриде, покровителем которого считается
134
Святой Исидор — как шумное и веселое народное гуляние, начало
которому, разумеется, кладут необходимые религиозные церемо-
нии, с торжественной храмовой службой и обязательным шествием
по улицам города.
Содержание и смысл всей этой долгой, многомесячной череды
"весенних празднеств" многократно описаны и проанализированы
в научной и популярной литературе с различной степенью мастер-
ства и убедительности. В данном случае хотелось бы обратить вни-
мание на трактовку, которая объединяет все этапы цикла — столь
своеобразные, казалось бы, сами по себе, несхожие друг с дру-
гом — единым смысловым наполнением, воспроизводящимся, хотя
и на разные лады, на каждом этапе. Эта сквозная тема — конец
зимы/приход весны; конец старого года/приход нового года; конец
старого времени с его бедами и заботами/приход нового времени с
его радостями и надеждами, и т.д. Эта смена двух принципиально
разных состояний окружающего мира переживается как глубинная
метаморфоза, настоящий разлом в обычном неспешном течении
времени, и порождает архетипически сходные формы реагирования
на каждом этапе весеннего праздничного цикла. Означенный пере-
ход, таким образом, происходит как бы несколько раз, причем ак-
цент постепенно смещается от проводов старого (в карнавале) к
встрече нового (в майских праздниках).
Сквозь неизбежные напластования разных эпох и разного куль-
турно-идеологического содержания практически на всех этапах ве-
сенних праздников просматриваются элементы одного и того же
древнего действа, воспроизводящего столь же древний миф о тор-
жествующем, умирающем и воскресающем божестве. И в этом кон-
тексте может восприниматься и пост, с его "распиливанием стару-
хи", и Пасха, и ряд других, менее значительных праздников. По
мнению исследователей, цепь весенних праздников в наиболее от-
четливой форме выражает "идею смерти и воскресения", "переход
смерти в жизнь..., регенерацию из вчерашнего умирания... в сегод-
няшнее новое оживление" (2, с. 53).
В это толкование — или в этот смысловой контекст — органи-
чески вписывается и первичный карнавальный обряд: ритуальная
пахота, семантически теснейшим образом связанная с инициальны-
ми действиями, имеющими целью зарождение новой жизни. Имен-
но по этой причине само название праздника — карнавал — возво-
дится многими учеными к латинскому carrus navalis, то есть кораб-
лю, при том, что carrus означает еще повозку и плуг, а в науке ут-
вердилось представление о смысловом единстве пахоты, езды и
плавания.
Праздник Тела Господня — Корпус Кристи — по одной из
предложенных отечественными этнографами периодизаций, откры-
вает собою следующий цикл традиционных обрядовых торжеств —
135
летне-осенний. Корпус Кристи также не имеет фиксированного
дня, поскольку отсчитывается от Пасхи, и примечателен он тем,
что именно в Испании — в сравнении с другими католическими
странами — приобрел особый размах и торжественность, так что
некоторые исследователи даже считают возможным называть его
национальным символом страны. Будучи официально введенным
главой римской церкви предположительно в середине XIII в. в
честь таинства причастия (евхаристии), он со временем удивитель-
но прочно укрепился на испанской почве, впитал многие черты ис-
панской народной праздничной традиции и в итоге обрел собствен-
ный своеобразный облик в ряду других обрядовых торжеств, осо-
бенно чтимых на полуострове и известных за его пределами. Поми-
мо обязательной службы в храме и торжественного шествия по ули-
цам города или селения, ярко разукрашенным по этому случаю, не-
редко густо усыпанным цветами и цветочными лепестками, специ-
фическим элементом данного праздника является участие в церемо-
ниях особой группы поющих и танцующих детей, так называемых
"сеисес" (seises). Этот обычай особенно известен в Толедо, но суще-
ствовал и в других городах, и связывается обычно с остатками сре-
дневековой традиции театральных представлений на религиозные
темы. Другие своеобразные участники процессии Корпус Крис-
ти — "великаны" и "карлики". Собственно, и те, и другие — обыч-
ные составляющие традиционных фольклорных игрищ в Испании,
но в данном случае им как будто придается особое значение. Суще-
ствует немало попыток объяснить происхождение и смысл этих за-
гадочных персонажей и их присутствие в шествиях в день праздни-
ка Тела Господня. Одно из толкований, связанное с содержанием
праздника, предлагает видеть в них нечистую силу и даже язычес-
ких божеств, господствовавших в мире до христианства, но затем
побежденных им. Такое осмысление подкрепляется в народе при-
сутствием здесь же разного рода гигантских и гротескных изобра-
жений животных, а особенно фантастических чудовищ; из послед-
них наиболее известен устрашающего вида дракон — "тараска"
(tarascd).
Праздник Святого Иоанна — Сан-Хуан в Испании — сближает
эту страну с другими районами Европы. Здесь также заметными
элементами, хотя и по-разному проявляющими себя в разных мес-
тах полуострова, являются костры, вода и некоторые растения,
приобретающие в "Иванову ночь", то есть с 23 на 24 июня, накану-
не летнего солнцестояния, особые свойства и, естественно, привле-
кающие желающих этими свойствами воспользоваться. Разумеется,
происходит это исключительно в традиционной обрядовой форме.
Общеизвестен обычай прыгать через костер, что должно очистить
смельчака не только от болезней, но и вообще от всяческих напас-
тей; в некоторых случаях прыжки через огонь, игры и танцы моло-
136
дежи вокруг него дают повод исследователям усмотреть здесь эро-
тический оттенок, — который, впрочем, ничуть не нарушает
общий смысл отношения к огню как желание с его помощью обес-
печить благополучие, и в том числе — плодовитость.
Не только лечебные, но и магические качества приписываются
некоторым растениям, сорванным в лесу в ночь накануне праздни-
ка; по народным поверьям, они могут и исцелить добывшего их че-
ловека, и уберечь его от нечистой силы или хотя бы от сглаза, и
даже обогатить (все тот же, описанный еще Гоголем, папоротник).
Столь же целебной становится в это время вода. По всей Испа-
нии люди стремятся до рассвета совершить омовения в реках и во-
доемах, умыться студеной водой, прогнать скот через речку, прой-
ти босиком по росной траве или поваляться в ней нагишом, на-
питься из особых источников или особое число раз, наконец, об-
лить кого-нибудь из кувшина или хотя бы обрызгать — и тем опять
же очиститься (и очистить своих ближних, а также домашних жи-
вотных), избавиться от болезней, наконец — забеременеть (в слу-
чае бесплодия).
Разумеется, вся эта обрядность, каково бы ни было ее проис-
хождение, отнюдь не носит вызывающе языческого характера, и
тем более ни в малой степени не осознается как таковая участника-
ми даже самых экзотических традиционных ритуалов. Постоянно
подчеркивается связь происходящего с праздником Святого Иоан-
на, имя святого часто поминается, оно присутствует в обрядовых
песнях и куплетах, у него просят помощи при совершении гадаль-
ных, магических и прочих подобающих случаю действий; наконец,
его жизнь и мученическая кончина пересказываются в церковных
проповедях. И, конечно, в эти дни вновь живо напоминает о себе
история страны, ее, может быть, наиболее значимая для испанцев
тема: многовековое противостояние мусульманам на полуострове.
Обрядовые, игровые и танцевальные "битвы мавров и христиан", с
соответствующим образом наряженными участниками, являются
примечательным элементом не только сан-хуанских, но и многих
других праздничных мероприятий по всей Испании.
Лето в Испании — время, когда отмечаются праздники многих
святых, но этим торжествам уже не сравниться в размахе с днем
Святого Иоанна. Хотя среди них есть весьма заметные, такие, в
частности, как отмечаемый 25 июля День Святого Иакова (Santi-
ago): ведь этот персонаж, по преданию, погребенный в галисийском
городе Сантьяго-де-Компостела, с давних пор считается покрови-
телем Испании и был в свое время символом борьбы с мусульман-
скими завоевателями.
Другой, чрезвычайно почитаемый на полуострове персонаж
священной истории — Дева Мария. В августе поклонение Богома-
тери достигает одной из кульминационных точек — в связи с
137
праздником, называемым в народе "августовская Дева"; именно
тогда особенный размах приобретают традиционные элементы
церковно-массового торжества: храмовые богослужения, процес-
сии, паломничества к святым местам, народные гулянья. Испан-
ские исследователи, анализируя некоторые, явно весьма архаичные
обряды, сопровождающие праздник, считают возможным видеть в
них следы дохристианских верований в богиню плодородия — по-
кровительницу земледельцев и хранительницу урожая. Ведь этот
праздник знаменует собою время жатвы и сбора созревших плодов.
Ряд святых, праздники которых приходятся на летне-осенний
период и совпадают с важнейшими этапами и вехами традиционно-
го хозяйственного цикла, естественным образом стали восприни-
маться как покровители тех или иных работ, родов деятельности,
видов домашних животных и т.д. Так, День святого Мартина (11
ноября) означает для многих испанских крестьян, что пора заби-
вать свинью, чтобы запастись мясом на зиму. Отсюда — поговор-
ка: "A cada cerdo le llega su San Martiri" ("Для каждой свиньи прихо-
дит свой День святого Мартина", то есть "Сколько веревочке не
виться, а концу быть"). Этот же святой известен как покровитель
сбора винограда, а природное явление, которое нам известно как
"бабье лето", в Испании называют "veranillo de San Martin" ("ма-
ленькое лето святого Мартина"). Подобным же образом в местную
традиционную культуру вросли культы и других католических свя-
тых.
Зато два других важных осенних праздника, следующих один за
другим — День всех святых (1 ноября) и День поминовения усоп-
ших (2 ноября) — содержат сравнительно мало традиционной об-
рядности. Основное их содержание — традиционные службы и мо-
литвы, хотя в прошлом были распространены совместные сосед-
ские поминальные трапезы.
Нужно сказать, что столь присущие доиндустриальному спосо-
бу ведения хозяйства соседские сборища для коллективной деятель-
ности вроде помола зерна, лущения кукурузы и т.д. часто включали
праздничные элементы — своеобразную обрядность, игры, танцы,
особые песни и куплеты; нередко веселое застолье.
Завершают годовой цикл традиционных праздников — коли уж
мы начали его с карнавала — так называемые зимние обрядовые
торжества. Самые важные и наиболее известные из них — Рождест-
во, Новый год и День волхвов — происходят в течение сравнитель-
но короткого времени, по сути дела сливаясь в единый праздник,
имеющий общее содержание и проникнутый общим настроением.
Как и в других странах Европы, здесь широко распространен обы-
чай, известный у нас как "колядование", а в Испании — как "аги-
нальдо": обход деревенской молодежью, часто ряженой, соседских
домов с рождественскими поздравлениями и добрыми пожелания-
138
ми (вильянсико). Полученные от благодарных хозяев съестные
дары идут на совместные пирушки. В городах кое-где этот обычай
трансформировался в уличные маскарадные шествия.
Очень примечательная часть испанского Рождества — повсе-
местное изготовление игрушечных макетов, воспроизводящих
евангельскую сцену рождения Иисуса, с яслями и младенцем, Бого-
матерью и Иосифом, домашними животными, пастухами и т.п. Эти
композиции — здесь они называются "белен" (от испанской формы
названия Вифлеем) — в рождественские дни выставлены повсюду:
в окнах, витринах магазинов, прямо на площадях и т.д. А фигурки
и другие составные части к макету, во всевозможных разновиднос-
тях, заполняют прилавки рождественских базаров.
Вечером накануне Рождества пустеют не только улицы испан-
ских городов, но и гостиницы: в это время полагается собираться
за домашним столом, с родственниками и близкими людьми, и об-
мениваться подарками. Человека, вынужденного провести эту ночь
(Noche Виепа, или Добрая ночь) вдали от дома, в чужом городе, его
тамошние знакомые скорее всего пригласят в гости — понимая,
что одиночество в этот момент особенно нестерпимо. Среди блюд,
которые подадут на стол в сочельник, обязательно будет так назы-
ваемый туррон — своеобразная халва с миндальными орехами. На
следующий день — первый день Рождества — застолье повторяет-
ся, и теперь оно имеет характер праздничного пира. А предшеству-
ет ему торжественная ночная церковная служба.
Рождественская елка появилась в Испании сравнительно недав-
но, а вот обычай зажигать костры и прыгать через них имеет здесь
древнее происхождение и вполне прозрачный очистительный
смысл.
В новогоднюю ночь (здесь она называется Noche Vieja, то есть
Старая ночь) и праздничное застолье с поздравлениями и подарка-
ми, и колядование, и веселые маскарадные процессии повторяют-
ся, — а вот того элемента интимности, который присутствует в
традиции праздновать Рождество, здесь гораздо меньше. Поэтому
Новый год многие встречают на улицах и площадях своих городов,
где проходят праздничные гулянья. Известен испанский обычай
проглатывать с каждым ударом часов, бьющих полночь с 31 декаб-
ря на 1 января, по одной виноградине из двенадцати заранее приго-
товленных: удачная процедура должна обеспечить благополучие в
наступающем году.
И третий повод для праздничного веселья — День волхвов, или
"королей-магов", в память об известном евангельском эпизоде по-
клонения волхвов новорожденному Иисусу. Происходит все 6 янва-
ря; в этот день дети ждут подарков от трех "волхвов", долгое время
заменявших в Испании известного нам Деда Мороза, которые тор-
жественно въезжают в город во главе пышной свиты, при огром-
139
ном скоплении шумно и весело приветствующего их народа, для
которого этот день становится последним в двенадцатидневном
праздничном марафоне.
Очевидно, что для бесперебойного функционирования столь на-
сыщенной и значимой сферы народной жизни, какой является в Ис-
пании отправление праздничной обрядности, необходим постоян-
ный устойчивый социальный механизм. И он здесь всегда сущест-
вовал — в виде особых организаций, которые и занимались подго-
товкой и проведением традиционных торжеств. В городах это были
уже упомянутые кофрадии, объединявшие участников по признаку
пола, профессии, социального слоя, по проживанию в одном квар-
тале и т.д., вплоть до особых цыганских кофрадии. Кое-где сами
эти объединения подразделялись на группы — в зависимости от ве-
личины ежегодно уплачиваемого взноса — и возрастные катего-
рии; соответственно, низшие звенья такой организации имели
меньше прав, чем их более привилегированные товарищи (к приме-
ру, не могли участвовать в процессе). В деревнях почетное и хло-
потное право устройства праздников целиком возлагалось на ста-
тусно-возрастные группы, на которые четко подразделялась мест-
ная молодежь; каждая из таких групп имела свои обязанности и
прерогативы, прием в нее — равно как и переход из одной группы
в другую по мере взросления или вследствие женитьбы — обстав-
лялся определенным ритуалом. Таким образом, на протяжении
всего года не только каждый праздник, но и каждый его элемент
подразумевал непосредственного исполнителя, который с волнени-
ем готовился к тому моменту, когда публика оценит его усилия.
Помимо календарных (сезонных) "общенародных" праздников,
связанных со сменой природных состояний, существуют традици-
онные праздники святых покровителей той или иной местности,
локальные праздники разного масштаба. Они также привязаны к
календарю, поскольку празднуются каждый год в один и тот же
день (посвященный конкретному святому). Вместе с тем в их стро-
ении особенно отчетливо проступает, среди прочих, функция под-
тверждения — в значительной части, опять же ритуальными сред-
ствами — принадлежности каждого индивида именно к данному
локальному сообществу, а также констатации его статуса в рамках
этого сообщества. Традиционный народный праздник как меха-
низм поддержания и укрепления групповой идентичности пред-
ставляет безусловный интерес. Как отмечалось выше, в структуре
населения Испании и в самосознании местных жителей огромное
значение имеют территориальные, то есть локальные, общности;
люди здесь группируются прежде всего по месту происхождения.
Но это означает, что каждый человек ощущает свои земляческие
связи сразу на нескольких уровнях: он принадлежит к общности
родного селения или города, но равным образом — и к общности
140
жителей своей комарки (района), в состав которой входит селение;
к общности жителей провинции, в которую входит комарка, и к об-
щности жителей региона, в который входит провинция; наконец —
к испанцам, то есть к общности жителей Испании, всей страны, со-
стоящей из регионов. Таким образом, каждый житель страны имеет
иерархическое самосознание, тот или иной уровень которого акту-
ализируется в зависимости от ситуации. Но связи в рамках каждой
из входящих одна в другую общностей нуждаются в постоянном
поддержании, как реальном, так и символическом.
Историческое развитие выработало целый ряд культурно-пси-
хологических механизмов, посредством которых время от времени
местные, провинциальные, островные, региональные общности
подтверждают свое существование, напоминают своим членам о
том, что они составляют единый народ, утверждают свои особые
черты, отличающие их от окружающих. Очень важный элемент тат
кого рода механизмов — повторяющийся из года в год в одно и то
же время праздник святого покровителя — соответственно, селе-
ния, острова или целого региона. Собственно, и общеиспанские
торжества имеют в разных местностях страны весьма большую спе-
цифику. Так, в Арагоне кульминационным событием рождествен-
ских празднеств считается ужин накануне Рождества, тогда как в
соседней Каталонии наибольшее значение придается завтраку на
следующее утро; только в весенний день Святого Бласа в провин-
ции Самора приглашение юношей какой-либо девушки на танец
означает публичное заявление о его к ней симпатии, тогда как в
провинции Куэнка этот день примечателен плясками так называе-
мых "дьяволов", наряженных в устрашающие костюмы; кое-где
именно Рождество знаменует собою начало карнавала, — и т. д. В
самых разных уголках страны существуют традиции, в соответст-
вии с которыми какой-то день в году, мало чем примечательный
для всех остальных, является поводом к отправлению совершенно
необычного обряда, не известного или исчезнувшего в других час-
тях Испании, — вроде хождения по горящим углям в селении Сан-
Педро-Манрике (провинция Сориа). Но именно во время праздни-
ка святого покровителя, в ходе исполнения традиционного ритуа-
ла, происходит превращение совокупности людей в народ, осу-
ществляется всеми ощущаемая связь настоящего с прошедшим и
будущим, которые являются общими для всего этого народа.
Поэтому такое значение придается в Испании праздникам мест-
ных святых: каждая территориальная группа населения, претен-
дующая на то, чтобы быть общностью, народом, имеет своего не-
бесного покровителя, который воспринимается как символ данной
земли и ее обитателей и почитанию которого придается огромное
значение. О том, как отмечается в Мадриде день его патрона Сан-
Исидро, упоминалось выше; высокой степени экзальтации достига-
141
ет поклонение Святой Пилар — покровительницы Арагона, и т.д.
А вот как выглядит ежегодный праздник в селении Могаррас (ле-
онская провинция Саламанка), покровительницей которого счита-
ется Богоматерь де лас Ньевес. 5 августа изображение Девы выно-
сят из храма на площадь в торжественной процессии. Все жители
селения сходятся сюда в это время и стоят, образуя большой круг,
внутри которого находится статуя Богоматери. От толпы отделя-
ются три девушки в старинных праздничных одеждах и через от-
крытое пространство медленно направляются к святыне; одна из
девушек держит на голове большую корзину с хлебом и цветами;
приблизившись к образу, она ставит корзину на землю, что означа-
ет начало традиционного ритуала дароприношения.
Вслед за этим все собравшиеся, один за другим проходят перед
изображением Богоматери, оставляя на специальном подносе свои
подношения (главным образом, деньги). Первыми проходят аль-
кальд и члены местного совета. Последними — уроженцы селения,
давно живущие на чужбине, но специально приезжающие на этот
праздник. Люди на площади оживленно обсуждают происходящее,
фиксируя присутствующих и выясняя, кто и почему не появился.
Завершается "торжественная часть" старинным танцем под бубен
четырех девушек и четырех юношей, одетых в традиционные кос-
тюмы с украшениями, доставшимися от бабушек и дедушек.
Разумеется, на уровне региона подобный учет присутствующих
невозможен, как невозможно участие в центральном ритуале всех
желающих, но там этого и не требуется: большее значение придает-
ся использованию присутствующими региональной символики
(традиционного костюма или его характерных деталей, местного
герба, флага и т. д.), участию в символических акциях регионально-
го единства (поклонение областным святыням, исполнение мест-
ных танцев, песен и гимнов и пр.), наконец — самому отношению
человека к такого рода событиям.
В заключение остается добавить, что за рамками нашего обзора
остались многочисленные народные традиционные празднества —
как общеиспанского, так и локального масштаба, — не связанные с
календарем. Речь идет об обрядовых торжествах, сопровождающих
жизненный путь отдельного человека. Они всегда служат своего
рода вехами, отмечающими как переход личности из одного ста-
тусно-возрастного состояния в другое, так и признание этого пере-
хода со стороны общины. Наиболее значимые из таких "перехо-
дов" — рождение, вступление в брак, кончина. Представляется, что
сам характер обрядности этого ряда — при всей ее красочности и
внешней неповторимости — делает ее менее пригодной для выявле-
ния собственно испанской социально-культурной специфики, — в
сравнении с рассмотренными в статье календарными праздниками.
142
Нужно сказать, что в бытовании традиционного народного
праздника в Испании есть некоторые черты, сильно отличающие
эту страну даже от ближайших соседей. Многие зарубежные авто-
ры, в разное время изучавшие Испанию или только посетившие ее,
отмечали, что вся испанская культура постоянно, непосредственно
и обильно питается народными источниками, и — не в пример дру-
гим государствам — процесс заимствования материальных и ду-
ховных ценностей идет здесь зачастую не "сверху вниз" (то есть от
социально доминирующих и городских слоев населения к нижесто-
ящим и деревенским), а наоборот. Современный французский ис-
следователь указывает, что в то время, как во многих европейских
городах фольклорный праздник давно исчез, в Испании он, напро-
тив, постепенно становится все более значимым и масштабным и
уверенно царит даже в крупнейших городских центрах, среди всех
категорий тамошних обитателей, и это обстоятельство прямо выте-
кает из сути испанской культуры.
В самом деле, в сравнительно недавнем прошлом Испании сам
ход событий — как политических, так и экономических — склады-
вался крайне неблагоприятно для многих местных традиционных
праздников: одни из них были попросту запрещены по идеологи-
ческим соображениям, а другие распадом традиционного крестьян-
ского уклада и массовым отъездом сельских жителей в город и за
границу (в 1960-е гг.) лишились своего смысла и содержания, захи-
рели или вовсе прекратились — и, казалось, навсегда. Однако уже
в следующем десятилетии, где раньше, а где позже, с улучшением
общей экономической ситуации, смягчением правительственных
запретов, подъемом региональных движений и под действием дру-
гих факторов традиционные локальные праздники стремительно и
повсеместно возродились к жизни со всеми им присущими атрибу-
тами.
ЛИТЕРАТУРА
1 Народы мира. Этнографические очерки. Народы зарубежной Евро-
пы. T. 2.М., 1965.
2 Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Исто-
рические корни и развитие обычаев. М., 1983.
3 Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Зим-
ние праздники. М., 1973.
4 Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Весен-
ние праздники. М., 1977.
5 Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Летне-
осенние праздники. М.. 1978.
143
6 См. об этом подробно в кн.: Кожановский А.Н. Народы Испании во
второй половине XX века (опыт автономизации и национального разви-
тия). М, 1993.
Brenan G. South from Granada. Harmondsworth, 1963.
8 Caro-Baroja J. El Carnaval. Madrid, 1965.
Caro-Baroja J. Ensayos sobre la cultura popular espanola. Madrid, 1979.
10 Caro-Baroja J. Estudios sobre la vida tradicional espanola. Barcelona,
1968.
Caro-Baroja J. Los pueblos de Espana. T. 1-2. Madrid, 1975.
12 Fribourg J. Fêtes à Saragosse. Paris, 1980.
13 Gómez-Tabanera J.M. Fiestas populäres y festejos tradicionales / El folk-
lore espanol. Madrid, 1968.
14 Hoy os Sainz L. de, Hoy os Sancho N. de. Manual de Folklore. Madrid,
1947.
15 Капу Ch.E. Fiestas у costumbres espanolas. Boston a. o., 1929.
16 Llano Rosa de Ampudia A. de. Del folklore asturiano. Mitos, supersticio-
nes, costumbres. Oviedo, 1972.
17 Luque Requerey J. Antropologìa cultural andaluza. Cordoba, 1980.
Maestre Alfonso J. Modernización y cambio en la Espana rural. Madrid,
1975.
Velasco H. Signos y sentidos de la identidad de los pueblos castellanos. El
concepto de pueblo y la identidad / Antropologìa de los pueblos de Espana. Ma-
drid, 1991.
Zubiaur Carreno F.J. y J.A. Estudio etnogràfico de San Martin de Unx
(Navarra). Pamplona, 1980.
С.И.Пискунова
МОТИВЫ И ОБРАЗЫ ЛЕТНИХ ПРАЗДНИКОВ
В "ДОН КИХОТЕ" СЕРВАНТЕСА
Изучение празднично-ритуальных1 корней образности Серван-
теса является, на наш взгляд, одним из самых перспективных
"предметных" направлений современной сервантистики2. У его ис-
токов находится книга аргентинского ученого А.Марассо «Изобре-
тение "Дон Кихота"», опубликованная в 1947 году3. Именно А.Ма-
рассо поставил перед сервантистикой задачу изучения связей рома-
на Сервантеса с широко трактованной античной традицией, вклю-
чая эллинистическую мифологию, и с циклом солярных праздников
(А.Марассо вдохновлялся трудами Ж.Вандрие и Ж.Дюрана), осо-
бенно — с карнавалом, в контексте которого ученый интерпрети-
рует сражение Санчо Пансы с Томе Сесьялем, оруженосцем Рыцаря
Зеркал, и последовавшее за ним пиршество. А.Марассо также пер-
вый связал потешный морской бой, который происходит в барсе-
144
лонской гавани во время прибытия Дон Кихота в столицу Катало-
нии "на рассвете Иванова дня", с древним средиземноморским
празднеством в честь богини Изиды. Однако книга А.Марассо, не-
смотря на два переиздания, не "сделала погоды" в сервантистике
50-60-х годов, развивавшейся под знаком "перспективизма"4.
Вопрос о хронотопической соотнесенности "Дон Кихота" с го-
довым праздничным циклом вновь возник в исследовании Л.А.Му-
рильо «Золотой диск. Конфигурация времени в "Дон Кихоте"»5.
Попытавшись восстановить весьма путаную хронологию развития
действия в обеих частях романа, Л.А.Мурильо приходит к выводу,
что время Первой части, ограниченное июлем-августом, выстроено
линейно, а время Второй движется по кругу6: начальным пунктом
этого движения является середина апреля (в IV главе говорится в
близящемся празднике Святого Георгия, приходящемся на 23 апре-
ля), последующими — июнь (встреча с актерами приходится на
восьмой день после праздника Тела Господня), июль-август (см. да-
тировку писем Санчо), а финальным — Иванов день (день Сан
Хуана, 24 июня). При этом автор "Золотого диска" не ставил своей
целью содержательный анализ праздничных мотивов в романе Сер-
вантеса: его интересовало формально-событийное строение време-
ни в "Дон Кихоте" как таковое. Но, в отличие от книги А.Марассо,
исследование Л.А.Мурильо оказалось тут же востребованным: об-
щеизвестно, что на 70-е гг. приходится своего рода карнавальный
"бум", порожденный и книгой М.М.Бахтина о Рабле, переведенной
на все основные европейские языки, и карнавализованным строем
"нового" латиноамериканского романа, и кинематографом Фелли-
ни, и многими аспектами самой исторической действительности
тех лет.
Изучение "Дон Кихота" в контексте языческих (дохристи-
анских), христианских и светских праздников и ритуалов в 70-90-е
гг. возглавил А.Редондо, автор статей, регулярно публиковавшихся
в различных научных изданиях, начиная с 1978 года7. В 1997 году
эти статьи были изданы в книге «Еще один способ прочтения "Дон
Кихота"»8.
Исследования А.Редондо открывают новую страницу в ритуа-
листических исследованиях "Дон Кихота". Не ограничиваясь этно-
графическим комментарием к тем или иным эпизодам и мотивам
романа Сервантеса, французский исследователь стремится устано-
вить связь между празднично-ритуальными мотивами и тематичес-
кой ориентированностью "Дон Кихота" как жанрового целого,
если использовать язык М.Бахтина, на книгу которого о Рабле
А.Редондо ссылается неоднократно. Правда, как признался сам
А.Редондо в разговоре с автором этой статьи, его интерес к празд-
нично-ритуальной стороне творчества Сервантеса возник отнюдь
не на волне массового увлечения трудами М.Бахтина и теорией
145
карнавала. Главным стимулом для А.Редондо, по его словам, яви-
лись исследования выдающегося испанского ученого-этнографа
Х.Каро Барохи, с которыми книга М.Бахтина просто "срезони-
ровала". Но мы бы сказали, что чтение трудов М.Бахтина, как и
книги В.Проппа "Исторические корни волшебной сказки", не про-
сто дополнили в восприятии А.Редондо труды Х.Каро Барохи, но
существенно расширили горизонт его исследований, равно как и
углубили его подход к проблеме: увели с поверхности историко-ма-
териалистического подхода к празднеству, в немалой степени при-
сущего Х.Каро Барохе, в недра "глубинной" эстетики, в область
архетипики, изучение которой отнюдь не опровергает конкретно-
исторический подход к празднику и ритуалу9, но лишь проецирует
этнографическую конкретику в новое измерение. Тогда за очерта-
ниями исторически зафиксированных и "реалистически" тракто-
ванных праздничных действ начинают просматриваться общие ри-
туальные схемы, которые в тексте романа (как жанрового образо-
вания) трансформируются в сюжетную основу разнообразных фа-
бульных ходов.
Однако исследования А.Редондо, как, впрочем, и других серван-
тистов, замыкают роман Сервантеса в цикле зимних и весенне-лет-
них календарных праздников, сосредоточиваясь, в первую оче-
редь, — и здесь влияние М.Бахтина неоспоримо — на карнавале.
Со строго этнографической точки зрения, а не в том расширенном
смысле слова, который придал карнавальному действу М.Бахтин,
карнавал — это праздник, стоящий на границе зимнего и весеннего
циклов (поэтому его относят как к одному, так и к другому празд-
ничному кругу)10. Иванов день, завершающий цикл весенне-летних
праздников (они сосредоточены на отрезке времени, растянувшем-
ся приблизительно с 22 марта по 24 июня11), является своего рода
временной границей, которую не переступают интерпретаторы
"Дон Кихота". Но нельзя забывать о том, что вместе с предшество-
вавшим ему Днем Тела Господня (Корпус Кристи), а также с празд-
никами урожая, и днями святых (Ильи, Петра и Павла и других)
Иванов день входит в единый цикл летних праздников12. Празднич-
ное "лето" в Испании, частично находящее на праздничную
"весну" (как "весна", в свою очередь, находит на "зиму"), заверша-
лось 29 сентября — в день святого Михаила, небесного покровите-
ля Сервантеса (это и предполагаемый день рождения создателя
"Дон Кихота").
В цикле летних праздников особенно наглядно соединение язы-
ческих (аграрных и солярных) обрядов и христианских таинств (та-
инства евхаристии, таинства брака), которое лежит в основе систе-
мы метафорических отождествлений, структурирующих романное
целое "Дон Кихота"13. И нам видится глубокий символический
смысл в том, что действие первой части "Дон Кихота" начинается
146
в один из самых знойных июльских дней и растягивается до 20-х
чисел августа, а изображенное время второй — при всей причудли-
вости его хронологии — включает в себя и День Тела Господня14, и
месяцы сбора урожая июль-август.
Ученые обычно фиксируют внимание лишь на одном из празд-
ничных эпизодов Второй части — на "свадьбе Камачо"15 (свадь-
бы — неотъемлемая составная часть праздников урожая). Вместе с
тем, остается незамеченным тот факт, что вся Первая часть "Дон
Кихота", а также многие главы Второй пронизаны жатвенными
мотивами, то есть отголосками дохристианских жатвенных риту-
алов, которым такое внимание уделено в "Золотой ветви" Дж.Фрэ-
зера и которым собственно испанская этнография, возглавляемая
Х.Каро Барохой, выступающим против сведения исторически за-
фиксированных обрядов к их доисторическим корням (к раститель-
ной, солярной и прочей магии), уделяет не столь уж большое вни-
мание. Вместе с тем, литературные тексты, даже возникшие на до-
статочно зрелой стадии развития литературы, а не только близкие
к первоистокам художественной мысли, как раз обладают удиви-
тельным свойством запечатлевать (при том, что одновременно и
"обращать", используя термин В.Проппа) в своей образной струк-
туре глубоко архаические, архетипические структуры сознания.
Более того, они сами нередко нуждаются в реконструкции этих
структур для того, чтобы быть полноценно и полнозначно поняты-
ми.
Для нас очевидно, что весь путь Дон Кихота и Санчо по доро-
гам Ламанчи является по сути развернутой реализацией метафоры,
использованной Санчо в вопросе, адресованном им своему госпо-
дину в XV главе Первой части: "...уа que estas desgracias son de la
cosecha de la caballeria, dîgame vuestra merced si suceden muy a
menudo о si tienen sus tiempos limitados en que acaecen..." (I, 163. Вы-
делено мной — СП.)16. В контексте жатвенного ритуала многочис-
ленные побои, избиения, "измолачивания", обрушивающиеся на
"рыцаря" и его "оруженосца", а заодно и перепадающие тем, кто
попадается на их пути, все эти "жестокости", столь возмущавшие
не одного В.Набокова, могут и должны рассматриваться как сак-
ральное жертвенное действо, нацеленное на освобождение "хлеб-
ного" (в христианского переогласовке — христианского) духа из
его материальной плоти. Ведь зерно, перед тем, как попасть на
мельницу (а сколь значим этот образ в "Дон Кихоте", не приходит-
ся говорить, и к его значению мы еще вернемся), должно быть об-
молочено и провеяно. Затем оно оказывается между мельничными
жерновами (это его состояние по-испански называется ciberà) и
перемалывается в муку — harina. "Ciberà" — один из сквозных мо-
тивов романа, конкретизирующих метафору "сбора урожая стран-
ствующего рыцарства". Уже в самом начале сервантесовского по-
147
вествования (IV гл.) он используется при описания избиения Дон
Кихота погонщиком мулов: "Y, llegândose a él, tomo la lanza y,
después de haberla hecho pedazos, con uno dellos comenzó a dar a maes-
tro don Quijote tantos palos, que, a despecho y pesar de sus armas, le
molió comò ciberà" ( I, 70). Затем, в главе XLIV Первой части, этот
мотив возникает в речи дочери хозяина постоялого двора, прося-
щей Дон Кихота защитить ее родителя, так как "dos malos hombres
le estân moliendo corno a ciberà" (I, 516). И его же использует Санчо
в XXVIII главе части Второй: "...уо pondre silencio en mis rebuznos,
pero no en dejar de decir que los caballeros andantes huyen y dejan sus
buenos escuderos molidos corno alhena о corno ciberà en poder de sus
enemigos" (I, 863).
Рядом с образом "зерна, попавшего меж жерновов" естественно
появление группы однокоренных слов, связанных с обозначением
самого процесса перемалывания зерна в муку: moler (молоть),
molido (измолоченный", "перемолотый", "помолотый" и т.д.),
molino. — "мельница". Обязательно ли было Сервантесу указывать
на то, что землепашец-односельчанин, подобравший избитого Дон
Кихота в конце его первого выезда и привезший его перекинутым
через луку седла в село, в тот миг возвращался с мельницы, куда
отвез зерно для помола (I,V)? С точки зрения развития действия,
нет; но этим указанием в роман вводится тема метафорического и
реально-словарного отождествления двух актов — "избиения" и
"молотьбы" (и то, и другое — moler). Крестьянин (подчеркнуто,
что он землепашец — labrador) доставляет Дон Кихота домой тем
же манером, каким он только что отвозил мешки с мукой на мель-
ницу. Дон Кихот — мешок с мукой, зерно, отправляемое на помол?
Эта метафорическая связь могла бы показаться окказиональной,
если бы образ мельницы не занимал в романе такого существенно-
го места. Вплоть до того, что эпизод с ветряными мельницами (I,
VIII) стал в читательском восприятии своего рода эмблематичес-
кой заставкой романа.
Естественно, что эпизод сражения Дон Кихота с ветряными
мельницами породил бесчисленные толкования критиков17. Учиты-
вая многозначность и многослойность художественного языка Сер-
вантеса, позволим себе предложить еще одно, вытекающее из связи
сюжета романа с содержанием жатвенного ритуала. Очевидно, что
образ мельницы в романе содержит в себе как прямой, так и ино-
сказательный смыслы. В эпизоде с ветряными мельницами это ино-
сказательное значение возникает опосредованно — через "зритель-
ную" метафору, уподобляющую мельницу великану18: великан в
христианской традиции издавна олицетворял грех гордыни и Зла,
угрожающего человечеству. Сражение Дон Кихота с ветряными
мельницами — это и сражение с грехом гордыни и со Злом: так по
всей видимости воспринимает свою миссию герой Сервантеса. Но
148
грехом гордыни отмечено и поведение его самого, за что он оказы-
вается наказанным — низвергнутым с высоты, на которую был воз-
несен мельничным крылом. В таком случае вращающиеся мельнич-
ные лопасти метафорически отождествимы с Колесом Фортуны19.
Но если рассмотреть эпизод с ветряными мельницами в одном ряду
с приключением с мельницами водяными из XXIX главы Второй
части (его обычно в критике обозначают как "эпизод с заколдован-
ной ладьей")20, то возникает целый ряд вопросов, начиная с того,
зачем Сервантесу понадобилось дублировать образ мельниц?
И здесь нельзя не вспомнить о символе "мистической мельни-
цы", очень распространенном в культуре Средних веков и во фла-
мандской живописи эпохи Возрождения, символе, несомненно, пре-
красно известном Сервантесу. "Мистическая мельница" изобража-
лась как вполне реальная мельница, возле которой находится про-
рок Исайя, насыпающий в мельничную воронку пшеничные зерна
Ветхого Завета. Апостол Павел с другой стороны мельницы прини-
мает высыпающуюся муку, из которой выпекаются гостии — хлебы
Нового Завета. На некоторых изображениях, сообщает Г.Бидер-
манн21, муку принимают главы христианских общин, а сам Иисус
Христос распределяет выпеченные из нее гостии — хлебы жизни,
собственную жертвенную плоть — верующим. Близкий к этой тра-
диции смысл (помимо всех иных) заключен, на наш взгляд, и в
мельницах, встречающихся на пути Дон Кихота. Он открывается
лишь при условии, что мы поставим этот образ в ряд иных образов
и мотивов, связанных с жатвой и процессом сотворения хлеба, в
том числе и гостии, символизирующей плоть Христову во время та-
инства причастия.
На наш взгляд, мельницы в "Дон Кихоте" — это именно симво-
лы, а не аллегории, то есть предметы, используемые и по своему
непосредственному назначению — для перемалывания зерна в
муку: весь вопрос в том, какое зерно попадает меж их жерновов?
Ветряные мельницы, увиденные Дон Кихотом на холмах в начале
второго выезда — это выразительные знаки ожидающих его испы-
таний, аналогичных тем, которым подвергается зерно до того, как
стать хлебом (момент приобщения Алонсо Кихано к вечной
жизни): сначала оно пребывает погруженным в землю, во тьму, в
безвестность (прозябание Алонсо Кихано в сельской глуши), затем
ему предстоит прорасти, созреть (на этом этапе "биологического"
времени жизни ламанчского идальго с ним и встречается читатель)
и — быть сжатым, обмолоченным, очищенным и перемолотым в
муку, из которой и будет выпечен хлеб его "вечной жизни". Ведь
бесцельные с виду странствия Рыцаря Печального Образа по коло-
сящимся полям Ламанчи22 устремлены, в конечном счете, к тому,
чтобы герой осознал свою участь как участь смертного человека,
способного победить смерть. Языческий смысл жатвенного ритуа-
149
ла как ритуала жертвоприношения и пафос христианского служе-
ния сливаются в ренессансно и "новохристиански" трактованной
теме жертвенного, "жатвенного" служения Дон Кихота своей Даме
и всему страдающему человечеству (всем обиженным и угнетен-
ным).
Во время третьего выезда Дон Кихота мельницы появляются в
самый переломный, критический момент развития действия, свя-
занный с резким сдвигом в развитии повествования и с переходом
героя, точнее (и это очень важно!) героев — и Дон Кихота и
Санчо — через бездны адских страданий (недаром мельники видят-
ся идальго чертями!) — в новое измерение бытия, где их, как им
представляется (и что является как бы правдой), приветствуют ис-
тинные герцог и герцогиня, где они оказываются в настоящем
замке: здесь в Дон Кихота влюбляется молодая красотка Альтиси-
дора, и ему приходится по-настоящему защищать честь обманутой
дочери дуэньи Долориды, а Санчо становится правителем острова
Баратария. Но этот новый мир, открывшийся героям, оказывается
театральной иллюзией, сценой, на которую злые шутники выталки-
вают персонажей прочитанного ими романа — "Дон Кихота" 1605
года. Чуть было не перемолотые мельничными колесами и на-
сквозь промокшие (мука должна соединиться с водой, чтобы стать
хлебом), идальго и оруженосец оказываются на краю гибели23. И
здесь в романе возникает мотив Трои как символа окончательного
поражения героя (пока что отодвинутого в будущее): " у si no fuera
los molineros, que se arrojaron al agua y les sacaron corno en peso a
entrambos, allî habîa sido Troya para los dos" (I, XXIX, 873). Трои,
которая неизменно ассоциировалась в словесности и в культурном
сознании современников Сервантеса с мотивом "пожара" (если
Троя — то обязательно "горящая"!).
Все основные компоненты для выпечки хлеба — мука, вода и
огонь — в сюжет романа уже включены. Но пребывание в герцог-
ском замке станет отсрочкой подготовленной по всем статьям раз-
вязки. Подлинной Троей станет для Рыцаря Печального Образа
встреча с Рыцарем Белой Луны (Луна — эмблема Изиды, сначала
египетской, а затем и средиземноморской богини земледелия) на
барселонском пляже (мельницы-таки перемололи Дон Кихота!),
после чего его ожидает еще одно сошествие в подземное царство
для вызволения из него ряженой Изиды-Персефоны — девицы Аль-
тисидоры. И — год заточения в родном селе, обещанный победите-
лю (год — полный цикл жизни природного мира). Но взамен пове-
ствователь дарует ему просветленную смерть человека-христиани-
на, вырвавшегося из круговорота смертей-рождений природного
цикла, человека вкусившего хлеба Нового завета. Так эпизод с вет-
ряными мельницами — через эпизод с заколдованной ладьей —
смыкается с финальными главами романа.
150
Однако, если вернуться к его началу, то можно увидеть, что Дон
Кихот и Санчо не только то и дело подвергаются избиениям — из-
молачиваниям — на большой дороге. "Жнецы"-палачи поджидают
их и на постоялом дворе, где в часы праздничного отдыха слушают
чтение рыцарских романов: "Cuando es tiempo de la siega, — сооб-
щает хозяин постоялого двора собравшимся у него постояльцам —
Карденио, Доротее, священнику, цирюльнику и Санчо (Дон Кихот
в этой сцене не участвует, так как погружен в сон), — se recogen
aqui las fiestas muchos segadores, y siempre hay algunos que saben leer,
el cual coge unos destos libros en las manos" (1,396). Трактирщик го-
ворит о некоем абстрактом "времени жатвы", а ведь это — то
самое время, в которое и происходят все разнообразные события
на постоялом дворе. К их числу относится и чтение "Повести о без-
рассудно-любопытном", хранящейся в сундучке, забытом на посто-
ялом дворе (во тьме, взаперти) кем-то из постояльцев. "Повесть" —
наглядная иллюстрация изречения "что посеешь, то и пожнешь":
"Este fue el fin que tuvieron todos, nacido de un tan desatinado prin-
cipio" (I, 423). Сразу после завершения чтения слушатели "Повес-
ти" (к ним присоединятся и стражники — члены Святого братства)
оказываются участниками грандиозной карнавальной потасовки,
пародирующей ссору и сражение в лагере Аграманта из "Неистово-
го Роланда": битва — традиционная метафора жатвы (и наобо-
рот24).
После обмолота зерно необходимо провеять: этим и занята
Дульсинея Тобосская в рассказе Санчо о его посещении владычицы
сердца его хозяина — сцене, формально предваряющей потасовку
на постоялом дворе, но по сути никак не локализованной ни во
времени, ни в пространстве: ведь она имеет место только в вообра-
жении Санчо и в его рассказе25. Зерно, готовое к обмолоту, засыпа-
ют в мешки и грузят на домашних вьючных животных — ослов или
на телеги, в которые впрягают волов. И те, и другие появляются на
страницах "Дон Кихота": Санчо в своем рассказе помогает Дульси-
нее грузить мешки с зерном на ослов, избитого и плененного ("за-
колдованного") Дон Кихота священник и цирюльник со своими по-
мощниками помещают в клеть (корзину) и грузят на телегу, в кото-
рую впряжены волы. Этот способ доставки идальго в его родное
село, подвигающий самого Дон Кихота на пространную жалобу-
размышление о его необычности и невиданности (см. начало
XL VII главы), вполне, тем не менее, согласуемы с жатвенным риту-
алом. И ничуть не противоречит сложившемуся истолкованию эпи-
зода с мнимым заколдовыванием идальго недругами-друзьями как
пародии на историю Ланселота — Рыцаря Телеги, более того, как
непосредственного профанирования Пути на Голгофу Иисуса
Христа26 (этот ход содержался уже и в романе Кретьена де Труа).
Обе интерпретации вполне объединимы темой жертвоприношения.
151
Но если для Ланселота путь в телеге — путь самопожертвования,
то Дон Кихот пока — лишь объект, на который направлены дейст-
вия других. К самоотречению он еще не готов. Все помыслы Дон
Кихота устремлены от земли: ввысь, к небу его горделивых устрем-
лений.
Он испытывает явную неприязнь к земледелию как способу по-
лучения чего-либо у Природы, поэтому в Золотом веке, который он
мощью своей длани хочет восстановить на земле, "кривой лемех тя-
желого плуга" не будет "разверзать и исследовать милосердную ут-
робу праматери нашей"27. Хлеб для него — своего рода табуиро-
ванная пища, которой он предпочитает (правда, больше на словах)
травы и желуди — древесные плоды. И он явно лучше чувствует
себя в обществе козопасов (cabreros), а не земледельцев (labra-
dores)1*. Поэтому стычка Дон Кихота с козопасом Эухенио в главе
LII Первой части доставляет столь изысканное удовольствие всем,
кто ее наблюдает: ведь на глазах у веселящихся зрителей друг друга
мутузят и молотят кулаками те, кому по всем понятиям надлежит
чувствовать себя собратьями по несчастью.
Дон Кихот видит себя рыцарем, кабальеро, т. е. всадником —
тем, кто вознесен над землей хотя бы на высоту конского крупа. И
путь его во Второй части должен привести его отнюдь не на празд-
ник урожая (куда он-таки попадает, оказавшись на свадьбе Кама-
чо), и не на праздник Иоанна Крестителя в Барселоне (где он, в
конце концов, и оказывается), и не на празднование Дня Тела Гос-
подня, а на рыцарский турнир в Сарагосе, устраиваемый на празд-
ник Святого Георгия (Сан Хорхе), воина-конника. Одно из прояв-
лений амбивалентной сущности образа Дон Кихота (как и романа
в целом) — соединение в нем, казалось бы, несоединимого: колоса
и копыта, растительного и животного начал29, земного и небесно-
го, воды и огня. Полет на Клавиленьо — апофеоз стремления героя
Сервантеса вознестись над землей. Опаленные небесным огнем,
Дон Кихот и Санчо в очередной раз оказываются на земле, а вско-
ре и под копытами быков, что и подвигает Рыцаря Печального Об-
раза произнести знаменитую речь, которую А.Кастро считал пре-
дельным выражением его экзистенциального мирочувствования:
"me he visto esta manana pisado y acoceado y molido de los pies de
animales inmundos y soeces" (I, LIX, 1107). Быки — неизменные
участники летних праздников, а коррида — неотъемлемая часть и
праздников урожая, и праздников святых, приходящихся на долгие
летние дни. Копье Самсона Карраско лишь довершит бычий про-
ход по телам людей и животных, распростертых в дорожной пыли.
Зерно, не пав в землю, не прорастет.
152
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Мы не останавливаемся на различении понятий "праздник" и "риту-
ал", строго говоря, не вполне тождественных. Мы рассматриваем лишь
область пересечения их семантических полей, в которой трудовая деятель-
ность вследствие сопровождающего ее ряда ритуальных действий приоб-
ретает магический характер, и где время отдыха (праздника в узком смыс-
ле слова — дней праздности) является своего рода продолжением того же
ряда обрядовых действ, направленных на поддержание жизни космическо-
го и народного целого, а также порядка в обществе и в государстве.
2 Оно, в свою очередь, примыкает к укрепившейся в 70-е гг. тенденции
рассматривать генезис романа Сервантеса с точки зрения выявления его
фольклорных корней, еще шире — в плане установления его связи со сти-
хией устного, а не письменного слова, с областью действия (обрядового,
театрального и всякого иного), а не "мертвого" текста.
3 Мы пользовались вторым изданием: Marasso A. Cervantes. La
invención del "Quijote". Buenos-Aires, 1954.
4 См.: Пискунова СИ. "Дон Кихот" Сервантеса и жанры испанской
прозы XVI-XVII веков. М,. 1998. С. 169 и ел.
5 Murillo L.A The Golden Dial: Temporal Configuration in "Don Quijote". Ox-
ford, 1975.
6 С нашей точки зрения это очевидное упрощение: время и Первой, и
Второй частей романа Сервантеса и линейно, и циклично одновременно.
Именно во Второй части возникает мотив времени жизни человеческой,
устремленной к своему неизбежному концу, в то время как в финале Пер-
вой части "карнавальная" смерть героя, запечатленная в эпитафии "ака-
демиков из Аргамасильи", очевидно вписана в природный круговорот
жизней и смертей и поэтому никак не воспринимается всерьез.
7 Первым исследованием А.Редондо в этом духе была статья: Redondo
A. Tradición carnavalesca у creación literaria. Del personaje de Sancho Panza
al episodio de la Insula Barataria en el Quijote // Bulletin Hispanique, LXXX
(1978).
8 Redondo A. Otra manera de leer el "Quijote". Madrid, 1997.
9 Тому доказательство — труды Е.М.Мелетинского (см., напр.: Меле-
тинский Е.М. О литературных архетипах. М.,1994).
10 Так, Х.Каро Бароха описывает его как зимний праздник (см.: Саго
BarojaJ. El Carnaval. Madrid, 1965.
11 В испанском языке XVI в. для определения этого специфического
времени года использовалось слово verano, которое сегодня обозначает
"лето", а тогда по своему значению было ближе к "весне", поскольку
функционально замещало практически не употреблявшееся primavera. На-
стоящее же лето — время летнего зноя — el esîio — тянулось с 25 июня по
29 сентября.
12 См.: Caro Baroja J. El estîo festivo. Madrid, 1984.
13 См.: Пискунова СИ. Указ.соч. С. 229.
14 С Днем Тела Господня, праздновавшимся в первый четверг после
Троицы (Пятидесятницы), соотнесены важнейшие карнавализованные
153
эпизоды "Дон Кихота", содержащие в себе травестию таинства евхарис-
тии, такие, как сражение пребывающего в лунатическом экстазе Дон Ки-
хота с бурдюками, наполненными вином (I, XXXV — Рыцарь принимает
бурдюк за великана и отрубает ему "голову", из которой начинает хлес-
тать вино, которое Санчо принимает за кровь), или спуск Дон Кихота в пе-
щеру Монтесиноса (II, ХХН-ХХШ), где он лицезреет торжественно-коми-
ческий церемониальный вынос "присоленного" (чтобы не протухло!)
сердца (плоти) героя одного из каролингских романсов — Дурандарте.
Первый из этих эпизодов является композиционным центром Первой
части "Дон Кихота", второй — одним из центральных смыслообразую-
щих эпизодов Второй. Оба знаменуют переход героя в новое состояние со-
знания, сопряженное с его временным "отсутствием" в этом мире и с посе-
щением другого (Дон Кихот спит или как бы спит, оказываясь одновре-
менно в ином пространственном измерении, во временной изоляции от
других людей). О Дне Тела Господня речь идет и в других главах романа:
когда сообщается о том, что покойный "пастух" (на самом деле переодев-
шийся пастухом студент из Саламанки) Хризостом при жизни сочинял
аутос ко дню Тела Господня (I, XI), или когда повествуется о встрече Дон
Кихота и Санчо с труппой ряженых актеров (II, XI) — персонажей ауто о
Кортесах Смерти (ауто сакраменталь — театральный жанр, родившийся
как составная часть празднеств Корпус Кристи). Наконец, образы велика-
нов в разных обличьях, переполняющие и воображение Дон Кихота, и
страницы романа Сервантеса, вызывали в памяти первых читателей рома-
на не только соответствующие эпизоды "книг о рыцарстве", но и фигуры
гигантов — участников шествий в День Тела Господня. Впрочем, велика-
ны — неизменные участники и других народных ряжений — того же кар-
навала в узком смысле слова. Великан — персонаж, в котором нагляднее
всего воплотилась встреча в образной системе "Дон Кихота" традиций
"книг о рыцарстве" и универсальной карнавальной традиции.
15 Об этом эпизоде вспоминает и Х.Каро Бароха См.: Саго Baroja J. El
estîo festivo, op. cit.
16 Здесь и далее "Дон Кихот" в оригинале цит. по изд.: Miguel de Cer-
vantes Saavedra. Don Quijote de la Mancha. Edición del Instituto Cervantes
dirigida por Francisco Rico con la colaboracón de Joaquin Forradellas. Bar-
celona, Crìtica, V. I. (V. II complementario), 1998.
17 См. обобщающий анализ этих истолкований в разделе "Прочтения
"Дон Кихота", составляющем часть критического аппарата цитируемого
нами издания романа Сервантеса.
18 Не исключено, что она возникла у Сервантеса под влиянием Данте.
19 Именно в плане этой ассоциации трактует эпизод М.Н.Соколов (см.:
Соколов М.Н. Бытовые образы в западноевропейской живописи XV-XVII
веков. Реальность и символика. М.,1994). Не отвергая и этой трактовки,
мы не можем согласиться со стремлением известного искусствоведа про-
тивопоставить это прочтение всем иным, в том числе и тому, которое мы
хотим предложить ниже и которое в сервантистике практически отсутст-
вует (М.Н.Соколов — единственный из известных нам авторов, который
154
все же вспоминает в данном контексте об образе "мистической мельни-
цы").
20 У обоих эпизодов немало общего: в том, и в другом присутствуют
мотивы зрительного обмана, образы вращающихся мельничных крыльев
или мельничных колес (riiedas), угрозы, исходящей от существ, связанных
с силами ада, — Бриарея, мукомолов, принятых Дон Кихотом за чертей,
от разбитых в щепки предметов (копья, лодки). В обоих случаях Дон
Кихот оказывается низверженным: в первом случае — на землю, над кото-
рой вознесся, подхваченный мельничным крылом, во втором — в речную
пучину, подвергаясь вместе с Санчо опасности быть утопленным и пере-
молотым мельничными колесами.
21 См.: Бидерманн Г. Энциклопедия символов. М., 1996. С. 165-166.
22 Именно так! Традиционно сервантесовскую Ламанчу представляют
как выжженную сухую землю, как чуть ли не полупустыню ( автор этих
строк также отдал дань этой традиции!), в то время как в романе есть вы-
разительный знак этой зоны земледелия: когда Дон Кихот описывает
войска, которые он видит в клубах пыли, поднятой овечьими стадами, то
среди них есть и "los manchegos, ricos у coronados de rubias espigas" (II,XVIII,
192): выходит, Ламанча — не что иное, как обитель Цереры!
23 Этот мотив переносится на разбиваемую в.щепки лодку — "ладыо",
в которой находились Дон Кихот и Санчо, что еще раз напоминает о неиз-
бежной смерти тела (ладья — традиционный в христианстве символ зем-
ного странствия тела) во чреве вод и "огненном" вознесении духа.
24 Отсюда — расширение первоначального значения глагола moler (от
"молоть" — к "избивать").
25 Впрочем, Альдонса Лоренсо, провеивающая зерно, возникает уже в
главе XXV Первой части в предположениях Санчо о том, чем бы могла
заниматься возлюбленная его господина.
26 "No lloréis, mis buenas senoras" (I, XLVII, 541), обращается Дон Кихот
к притворно оплакивающим его дочери хозяина постоялого двора и Ма-
риторнес.
27 Цит. в пер. Н.М.Любимова по изд.: Сервантес М. де. Дон Кихот. М.,
1963, Т. 1.С.101.
28 Судя по всему, и как землевладелец он хозяин никудышний. Все его
земли обрабатывает один работник (он же и прислуживает в доме), и для
него не составляет никакой проблемы продать часть земли, чтобы наку-
пить книг.
29 Последнее сконцентрировано в его "половине" — Росинанте.
Конь — животное, считающееся символом эроса. В Росинанте это начало
присутствует в гротескно-сниженном виде (см. эпизод с галисийскими ко-
былами). В романе немало намеков на прегрешения Дон Кихота по той же
части.
155
О. А. Светланова
НАРОДНО-СМЕХОВОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ
В СЕРВАНТЕСОВСКОМ ПОНИМАНИИ ПРАЗДНИЧНОГО
Тезис о том, что "природа всегда рождает законы более спра-
ведливые, чем те, которые придумываем мы" (Монтень), мог бы
служить философским лозунгом целой эпохи — от позднего сре-
дневековья до Просвещения. На пересечении этого тезиса с острым
вопросом о сущности исторического движения, обнаруживающем-
ся во второй половине XVI в., в "Дон Кихоте" возникают поворо-
ты сервантесовской мысли, не всегда привлекавшие к себе внима-
ние, так как они оформляются не в прямое слово, а в сюжетные и
языковые моменты.
Известно, что историческое сознание, как таковое, в серванте-
совское время не выходит из средневеково-христианской традиции:
род людской, выведенный божественной волей из вечности небы-
тия, в вечность же и вернется, описав круг своей жизни. Это не дает
много простора для осмысления исторического движения, и осмыс-
ления этого не требуется; усилия духа направлены на иные цели,
указанные, например, Данте. Так происходит почти до XVII в. Ка-
моэнс помещает историю между географией и астрономией в ряду
наук; Эразм, Монтень, сам Сервантес склонны формулировать по-
нятие "история" в терминах magistra vitae, lux veritatis, émula del
tiempo («соперница времени»). История предстает как статичный
объект. В случае обостренно-парадоксальном век предлагает полу-
серьезную концепцию Луиджи да Порто: мир ведет к богатству,
оно — к гордыне, та — к зависти, зависть — к раздорам, раздо-
ры — к войне, война — к бедности, бедность к смирению, смирение
к миру, мир к богатству, и круг начинается снова. Внутри статики
у Да Порто появляется внутреннее циклическое движение, но и
только.
У Сервантеса в его словесных определениях истории как "сопер-
ницы времени и сокровищницы деяний" явственно выступает имен-
но такой подход к истории — как к совершившемуся и статическо-
му факту, но внутри художественного космоса "Дон Кихота" дело
обстоит иначе. Простодушный человек "с пером за ухом"1, образ
которого возникает в Прологе, может определять историю, "чьей
дочерью является истина"(1, 9), в пределах, положенных его време-
нем; в Прологе вообще все подчеркнуто сиюминутно и даже зло-
бодневно — Сервантес, прекрасно знавший цену своими литера-
турным открытиям, сознательно прокладывает эту границу между
владениями современной ему литературы и собственным романом.
На уровне подлинного авторского сознания, там, где смыслы обо-
156
значены поворотами сюжета и поэтическими образами, серванте-
совское понимание истории и доступно нам менее, чем риторичес-
кие формулы Пролога, и предстает совершенно иным — на фоне
"Опытов" Монтеня, "Бури" Шекспира, "Утопии" Мора и "Гарган-
тюа и Пантагрюэля" Рабле.
В сервантистике не раз рассматривалась несомненная разница
между раблезианским освоением народно-смехового и формами
его существования в романе Сервантеса. Одна из самых доказа-
тельных статей об этом принадлежит И.Савала2, которая показы-
вает невозможность выживания утопичности карнавала в остро
диалогизированной атмосфере "Дон Кихота", лишенной опоры на
непосредственность народной правды как и всякой другой правды;
но дело не только в парадоксах романной поэтики. Сервантесов-
ское отношение к народно-праздничной утопии уже потому слож-
нее, чем у Рабле, что опирается на всю традицию XVI в. Латинский
текст "Утопии" Т.Мора 1516 г., в Испании хорошо известный, был
там воспринят не только в литературном, но и в реальном контекс-
те — например, под впечатлением от открытых в Перу индейских
общин, которые конкистадоры застали в благостной гармонии с
природой, о чем образованные испанцы узнали, среди прочих ис-
точников, из отчета коррехидора Куско Поло де Ондогардо графу
де Ньева, вице-королю Перу, в 1561 г. Живя в 90-е гг. в Севилье,
этом центре связей с Индиями, Сервантес не мог не знать о столь
широко обсуждавшихся новостях своего века.
В целом, парадоксально и болезненно пересекаясь с жизненны-
ми фактами, сама утопическая мысль к концу века претерпела
перемены. Горечь афоризма Т.Мора "Я более желаю, нежели ожи-
даю УТОПИЮ" была усвоена так же хорошо, как сама идея утопи-
ческого социального устройства. В "Буре" Шекспира проект Гон-
зало, зло высмеянный Себастьяном и Антонио, выглядит как мсти-
тельная пародия на многочисленные в XVI в. утопические "предло-
жения государю", причем сам государь, Алонзо, даже не слушает
своих придворных, отлично зная им цену. Традиционная литера-
турная Утопия попадает в руки негодяев, и они глумятся над ней,
но хуже всего, что она, кажется, не годится ни на что другое.
Гонзало: ... Сама природа щедро бы кормила
Бесхитростный, невинный мой народ.
Себастьян: А можно будет подданным жениться?
Антонио: Нет, это тоже труд. Все будут праздны —
Толпа бездельников и свора шлюх.
Гонзало: И я своим правлением затмил бы
Век золотой...
Что скажете на это, государь?
Алонзо: Ах, перестань!..
(Пер.М.Донского)
157
У Сервантеса речь о Золотом веке звучит перед аудиторией ус-
тавших к ночи пастухов, которые не понимают в ней ни слова, и от
которой, по самоубийственному замечанию повествователя, герой
"отлично мог бы воздержаться" (I, 11). Вот место утопического
рассуждения — оно введено в книгу автором, сознающим его не-
нужность. Трудно сказать, какое отрицание утопизма радикаль-
нее — у Шекспира, где государь его отвергает как нечто неумест-
ное и никчемное, или у Сервантеса, где речь о Золотом веке просто
не воспринимает тот самый труженик земли, который призван
быть счастливым в объятиях утопической идеи. Органическое —
костер, желуди и пастухи — отторгает разумные и прекрасные по-
строения, так продуманно сконструированные культурой, прошед-
шей блестящую школу средневековой схоластики. Теоретический
утопизм в конце века занимает двусмысленное положение умной
ненужности.
Однако заметим, что если бы в глазах Сервантеса эта идея, идея
социального и морального Золотого века, настойчиво требующего
своего "воскрешения", в самом деле была достойна гибели, ему
хватило бы интеллектуального мужества ее убить, причем изо-
щренно. Пасторальный жанр первого прозаического опыта Сер-
вантеса, "Галатеи", беспощадно пародируется и испытывается в
"Дон Кихоте" — так Ленский, эта ипостась молодого пушкинско-
го сознания, закономерно уничтожен Онегиным: большой худож-
ник хладнокровен, как хирург. Сервантес, параллельно с осмеива-
нием риторизма и статики Золотого века как идеи, вводит резко су-
женный до индивидуальности Дон Кихота и опоэтизированный
мотив "воскрешения странствующего рыцарства". Дон Кихот при-
знается в начале второго тома, что не в силах объяснить окружаю-
щим, как много они теряют, не желая renovar, то есть возвратить и
обновить, "те счастливые времена, когда подвизался на земле
орден странствующего рыцарства" (11,1). Таинственное дело Дон
Кихота ясно лишь ему — оно состоит в "исправлении кривды", все
остальные видят в нем лишь вид помешательства. Безумие — край-
няя степень индивидуализации, но ведь так много волюнтаризма и
в самом образе странствующего рыцаря, который выезжает в этот
мир со своим мечом вместо закона.
Но и это не главное, о чем говорит Сервантес. Он не писал
книгу о трагическом одиночестве индивида, чей благородный
порыв не может быть понят окружающими. Не Дон Кихот герой
этой книги. Герой Сервантеса, как известно, двойной: Дон Кихот и
Санчо. Законы индивидуально-прекрасной личности (наставления
Дон Кихота своему оруженосцу) сосуществуют с законами, кото-
рые Санчо в качестве губернатора установил на острове Барата-
рия. Шутил ли Сервантес, когда назвал их "установлениями вели-
кого Санчо"? Лучшие остроты этого романа лозунгово-серьезны в
158
последней инстанции своего смысла. "История" в самом деле
"правдива", идальго действительно "хитроумен и изобретателен",
а читатель, к которому обращаются в первой строке пролога,
почти всегда desocupado, празден — на фоне проблем, которыми за-
дается автор.
Наставления Дон Кихота — это заветы по недопущению лично
к себе безобразных поступков, слов и мыслей. (Нельзя не только
"рыгать", нельзя произносить это слово, следует пользоваться эв-
фемизмом "эрутировать". "Никогда не эрутируй в обществе,
Санчо" (II, 43.) Основой такой человеческой красоты является лич-
ная свобода, волнующее прославление которой — один из самых
проникновенных лирических моментов в книге. Установления же
Санчо — это законы народного карнавального праздника. Утопич-
ны ли они и не ограничивается ли термин "утопизм" некоторыми
социально-нравственными идеями ученого Ренессанса, начиная с
Мора, — это отдельный вопрос.
Губернаторство Санчо на "острове Баратария" и весь большой
эпизод при дворе герцогов, конечно, служит идейным центром Вто-
рой книги, где пересекаются важнейшие философские линии рома-
на. Начиная с 26-й главы, знаменитый анализ которой принадле-
жит Ортеге-и-Гассету3, мы видим, что ставится и углубляется про-
блематика онтологическая, эстетическая, антропософская. Ортега
усматривал в эпизоде театрика маэсе Педро в 26-й главе интерес
Сервантеса к границам человеческого восприятия и к связям их с
сущностью искусства. Но одновременно с вопросом о границе
между эмпирическим и эстетическим в 26-й главе появляется, а в
27-29 развивается проблема границ между человеческим и живот-
ным, между человеческим и нечеловеческим (обезьянка маэсе
Педро, эпизод с ослиным ревом, эпизод с зачарованной лодкой)4. В
последней фразе 29-й главы герои возвращаются к своим живот-
ным и к своему животному естеству, "a sus bestias у a ser bestias", из
путешествия по реке — парафразы мистического восхождения
души; в 30-й главе они встретятся в герцогами. Все, что произойдет
при герцогском дворе, в том числе с Санчо, поставлено, таким об-
разом, на уровень вопроса о месте человека в мире, его животной
или божественной сущности. В этом, несомненно, центральном
эпизоде резко усиливается социальная тема и применяется тонкая,
овнешняющая стилизация карнавального праздника. Агустин Ре-
дондо подробно показал, как именно это делается, разобрав моти-
вы кукол и масок, магии и смерти, образы шутов и дураков5.
У Рабле формы карнавально-праздничной поэтики выстраива-
ют его роман — Сервантес сам выстраивает их и порой обыгрыва-
ет в карнавальной же технике "кувырка", переворачивая с ног на
голову еще раз то, что уже само по себе было "кувырком" смысла.
45-ю главу, где Санчо входит во владение Баратарией, повествова-
159
тель, Сид Ахмет, начинает обращением к солнечному кругу, вечно-
му круговороту бытия: солнце, которому доступен мир антиподов,
одновременно вращает canîimploras — сосуды для охлаждения
воды. Комическое упоминание кантимплор, которые, чтобы сохра-
нить себя холодными, должны вращаться во льду тем сильнее, чем
больше солнца, одновременно заключает в себе, во-первых, еще
одно упоминание кругового движения, во-вторых, связь низшей из
вещей, глиняного кувшина, с высшей из вещей, солнцем, и в-тре-
тьих, указание на тональность, в которой следует читать эпизод, а
именно, как серьезно-смеховой, в котором сама несерьезность не-
обходима для глубины смысла. Последняя глава эпизода, 53-я, за-
ключается рассуждением того же Сида Ахмета о том, что "все на
земле совершает свой круг, ... и только одна человеческая жизнь
мчится к своему концу быстрее ветра" (II, 53). Мотив круговорота,
заданный этими отчеркивающими эпизод пассажами, удерживает
единство его внутреннего смысла и повторяется внутри на разных
уровнях многократно, образуя плотную текстуру.
Один из уровней — поэтико-языковой. Санчо, уходя с острова,
совершает сначала буквальный круговой обход, la ronda, а затем
языковой "кувырок" во фразе "sin bianca entré en este gobierno y sin
ella salgo: bien al rêvés de corno suelen salir los gobernadores" (II, 53),
буквально — "без гроша вошел я во власть и без гроша выхожу:
ровно наоборот тому, как обычно выходят правители". Разве что
чудом русский перевод мог бы передать не только двойной мотив
оборота, входа-выхода, но и ритмико-интонационный рисунок
фразы, которая, округло сгруппировавшись, делает упругий кувы-
рок, чуть задержавшись на смысловой цензуре. Другой уровень —
образный по преимуществу и образно-сюжетный. В 29-й главе, на-
кануне встречи с герцогами, герои чуть не смолоты мельничным
колесом, а Санчо, покинувший остров в конце эпизода, падает в
яму, что на деле является вознесением к подлинному и лучшему
Санчо. Жизнь кругла или идет по кругу, "esta vida que anda todo en
redondo, digo, a la redonda" (II, 53), мир округл, как "Святое
брюхо" — Sancho Panza, бесконечен и безначален, смерть в нем
рождает, а мельчайшее связано с величайшим.
Этот образ мира, созданный праздничной народной культурой,
дан, как показывалось, в эпизоде Баратарии, но Сервантесу он не
служит ни опорой для собственной эстетики, как у Рабле, ни гото-
вой моделью для утопического дискурса — Сервантес разделяет
скепсис конца века по отношению к ученой утопии.
Раблезианская роскошь праздника Баратарии потому так груст-
на у Сервантеса, что охватывается извне текста печальным, но
твердым взглядом кого-то, кто знает о невозвратимости в "народ-
ное тело на площади", о том, что time is out of joint. Для нашего же
взгляда, поначалу совсем незаметно, проступают границы рампы и
160
коробки сцены: праздник убит взглядом зрителя. Круги бытия, на
образе которых построен эпизод, пересекаются трагической пря-
мой человеческой жизни, имеющей конец,"solo la vida fiumana corre
a su fin ligera mas que el tiempo", — как выражается в духе сонетов
Гонгоры Сид Ахмет (11,53).
Проблема сервантесовской утопии в Баратарии поставлена как
проблема соотношения индивидуального и эпически-народного.
Карнавал, народный праздник, предлагает решение проблемы
справедливости для людей, но построен на непризнании индивиду-
ально-личностного. Для Сервантеса такое непризнание совершен-
но невозможно, и в его романе индивидуальность человека — одна
из "несущих конструкций" и сюжета, и мысли. Не только Дон
Кихот, но и Санчо, не существуя друг без друга как герои повество-
вания, самодостаточны как личности. Апофеоз этих проявлений
Сервантес дает в начале эпизода у герцогов, в 31-32 главах (усажи-
вание за герцогский стол и мытье бороды). Индивидуальность не
игнорируется — но ограничивается. Даже рыцарская анархия Дон
Кихота парадоксальным образом предполагает братство людей,
равных в благородстве и доблести, странствующих рыцарей. "Если
бы рыцари... назвали бы меня олухом, я почел бы это несмывае-
мым оскорблением; а если меня называют безумцем жалкие книж-
ники... я и гроша не дам" (II, 32). Чтобы "всем делать добро и ни-
кому не делать зла" (II, 32), как обманчиво непритязательно выра-
жает Дон Кихот свою главную цель, надо жить в режиме напряжен-
ного служения, то есть самоограничений и самоотвержения. Сер-
вантес не склонен ни к апологии индивидуальности, ни к растворе-
нию ее в народном теле. Рабле, занимавший ту же позицию, должен
был резко менять тональность повествования, а порой и жанр внут-
ри своей книги (например, в эпизоде Телемской обители). Автор
"Дон Кихота" ищет в своей модели праздника идеальную пропор-
цию, "золотое сечение" кругов народной жизни прямой линией ин-
дивидуальной жизни. Справедливость не может быть индивидуаль-
ной, ее носителем не может быть даже Дон Кихот, который траги-
чески признает, что не знает, что именно завоевывает он мощью
своей длани (II, 58). Справедливость на Баратарии оказывается
шуткой герцога, театрализуется и грустно осмеивается — "утопия
отражается в зеркале иронии", как заметил еще Хуан Антонио Ма-
равалль6. Тем не менее, именно из народно-праздничной утопич-
ности исходят у Сервантеса две мысли, важные для романа в
целом: нет справедливости вне органически природного, народно-
го, эпически надындивидуального; нет застывшей, вечно верной
идеи справедливости — ее можно искать только в мире смен и об-
новлений.
Сервантесовское ощущение времени, в котором разворачивают-
ся события человеческой жизни, органически природно и народно,
6 - 5470
161
устремлено в открытое будущее и в этом отношении прямо проис-
ходит от народного праздничного утопизма. Одновременно Сер-
вантес знает о безнадежно жестоком социуме, который диктует не-
обходимость индивидуального действия и борьбы, и, что еще хуже,
смеет отрицать природное (сильнейший в "Дон Кихоте" мотив мер-
зости техники мельниц, сукновален, огнестрельного оружия) и, в
пределе, — народное (герцогский двор явно не в Испании, может
быть, в аду; в Испанию оттуда надо писать письма на имя Тересы
Панса). У Сервантеса нет объединяющей концепции кроме той, ко-
торой является полный текст "Дон Кихота". Потенциал этой кон-
цепции далеко еще не полностью выявлен, но он императивно нас
притягивает убедительным воздействием собственной истории.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Сервантес Сааведра М. Правдивая история о хитроумном идальго
Дон Кихоте Ламанчском (Пер. под ред. Б.Кржевского). М.-Л., 1937. Т. I-
II; т. 1. Пролог. — В дальнейшем даются внутритекстовые ссылки на это
издание с указанием тома и главы.
1 Zavala I. Cervantes у la palabra cercada // Anthropos. 1989. № 100. P.41.
3 Ортега-и-Гассет X. Размышления о Дон Кихоте / Ортега-и-Гассет
X. Эстетика. Философия культуры. М.,1991. С. 130-132.
4 См. об этом: Perças de Ponsetti H. Cervantes y su concepto del arte. Ma-
drid, 1975. P. 550-555; Haley J. Maese Pedro's Puppet show // Modem Lan-
guage Notes. 1965. Vol. 80. M. 2. № 2. P. 145.
5 Redondo A. El Quijote y la tradición carnavalesca // Anthropos. 1989.
№ 98-99. P. 93.
6 Maravall J.-A. Utopìa y reformismo en la Espana de los Austrias. 1982.
P. 27.
Н.Ю.Морозова
СЕЛЬСКИЙ ПРАЗДНИК И ПАСТОРАЛЬНЫЙ МИФ
В ПОЭЗИИ ХУАНА МЕЛЕНДЕСА ВАЛЬДЕСА
В 1783 г. в Мадриде, и без того не обделенном ярмарками, гуля-
ньями, процессиями и всякого рода увеселительными зрелищами,
отмечалось сразу два знаменательных события — заключение мира
с Англией и "счастливое рождение Светлейших инфантов, близне-
цов Карлоса и Фелипе". Среди множества "величайших торжеств",
устроенных по этому случаю, был объявлен и конкурс на лучшую
пасторальную комедию, которую затем предполагалось предста-
вить публике в столичном театре де ла Крус. Выбор жанра трудно
162
назвать случайным: пастораль, традиционно связанная с идеей Зо-
лотого века, должна была предстать как аллегория мира и процве-
тания, возвещая счастливое будущее королевства; драматическая
же форма, как единственно возможное воплощение пасторального
мифа в праздничном действе, позволяла включить его в серию офи-
циальных торжеств. Кроме того, в Испании XVIII в. традиционные
литературные мотивы, близкие к пасторально-идиллическому ком-
плексу, такие как "презрение к королевскому двору и восхваление
сельской жизни", нередко воспринималась как поэтическое выра-
жение просветительских идей, среди которых важное место занима-
ли проблемы аграрной реформы и развития сельского хозяйства1.
Именно последнее, по мнению многих испанских просветителей, и
должно было принести стране долгожданное процветание и изоби-
лие.
Первое место на мадридском конкурсе присудили пасторальной
комедии Хуана Мелендеса Вальдеса со вполне соответствующим
случаю "праздничным" названием — "Свадьба Камачо Богатого".
Ее автор, в недавнем прошлом студент, а теперь преподаватель
права и античной словесности в Саламанкском университете, уже
приобрел к тому времени некоторую известность в литературном
мире, причем именно как поэт пасторальный: в 1780 г. Королевская
Академия удостоила его премии за лучшую эклогу, "восхваляю-
щую сельскую жизнь". Эклога эта, вызвавшая одну из самых, быть
может, жарких литературных баталий в Испании XVIII в. (знаме-
нитый Томас де Ириарте, которому досталось лишь второе место,
не мог простить молодому поэту такой победы), называлась "Ба-
тило". То было и литературное имя-маска Мелендеса, и прозвище
его в дружеском кругу, своеобразный знак союза поэтов, всерьез
разыгрывавших пасторальный миф, столь дорогой сердцу испан-
ских просветителей. Даже сам дон Гаспар Мельчор де Ховельянос,
главный идеолог Просвещения в Испании, автор проекта аграрной
реформы и министр Милосердия и Справедливости при Карле III,
носил в этом кругу пасторальное прозвище Ховино.
В основу комедии Хуана Мелендеса Вальдеса легла "вставная
новелла" из II тома "Дон Кихота" (XIX-XXI главы) о свадьбе Ка-
мачо Богатого и бедном влюбленном пастухе Басилио. Естествен-
но, что свадьба у поэта XVIII в., как и у Сервантеса, остается
свадьбой sub specie aeternitatis, воплощением сакрального праздне-
ства, символизирует все то же процветание и изобилие. Заметим,
что автор комедии ни разу не пренебрег приведенными в романе
описаниями свадебных яств, на которых в другом случае просвети-
тельский хороший вкус вряд ли позволил бы ему остановиться столь
подробно.
Свадьба Камачо, возможно, один из самых театральных эпизо-
дов "Дон Кихота". Роскошное празднество с музыкой, танцами и
6*
163
аллегорическим действом {danza hablada, "замысловатый танец, из
тех, что называют разговорным") само по себе способно увлечь
драматурга, не говоря уже о центральном, заранее ожидаемом
всеми зрелище с отвергнутым влюбленным пастухом в главной
роли. По мнению Х.Хатцфельда, "в драматической уловке Басилио
больше барочной фантазии"2, чем во всех свадебных играх, описан-
ных Гонгорой в "Уединениях". Однако в своей интерпретации сер-
вантесовского сюжета поэт XVIII в. почти полностью отказался от
барочной театральности и усилил собственно пасторальное звуча-
ние, обратясь, как к жанровой модели, к классической пастораль-
ной комедии Tacco "Аминта". Следуя итальянскому образцу, Ме-
лендес Вальдес ввел в свою комедию пролог в образе Амура, кото-
рый, обращаясь к королевской чете, возвещает о своем всесилии и
о славном будущем Испании, и хоры поселян, завершающие каж-
дый из пяти актов радостной песнью, это обрамление несет в
"Свадьбе Камачо" двойную функцию, внутреннюю и внешнюю по
отношению к тексту. С одной стороны, оно становится частью сва-
дебных игр, придавая тем самым еще большую зрелищность празд-
нику, и подчеркивает собственно театральную структуру комедии.
С другой стороны, с его помощью сельская свадьба связывается с
официальными государственными торжествами по случаю рожде-
ния инфантов и заключения мира. Процветание "лугов и полей" и
нисходящий на испанскую землю мир составляют главную тему хо-
ровых песен и пролога:
jFeliz lazada!
jafortunada,
Gloriosa paz!
jVen, que la vega
te implora y ruega,
gloriosa paz!
(Счастливый союз! / Сулящий счастье, / Славный мир! / Приди,
ведь луга / Призывают тебя и молят о тебе, / Славный мир! ).
Fecundidad dichosa,
tu sola a los mortales
concedes bienes tales,
ven, implorada, ven.
Contigo deliciosa
baje la paz, y en una
abundancia y fortuna
con el amor estén.
(Счастливое плодородие, / ты одно лишь смертных / наделяешь та-
кими благами, / приди, желанное, приди. / С тобою сладостный //
да низойдет мир, и в одно целое / изобилие и удача / с любовью
пусть сольются ).
164
Победа Любви над Расчетом, центральная тема эпизода со
свадьбой у Сервантеса, в комедии оказывается всего лишь частным
проявлением всеобщего закона. Всесилие любви простирается го-
раздо дальше, это некий вселенский перводвигатель, которому все
подвластно. "jOh inmenso poder mìo que a su grado / todo lo ordena у
muda!" — восклицает Пролог-Амур. Именно благодаря любви на
землю нисходит долгожданный мир, понимаемый как восстановле-
ние гармонии (одна из самых любимых философских идей Меленде-
са Вальдеса). Этой гармонизации макрокосма, понимаемого широ-
ко — как универсум, или узко — как государственная жизнь, соот-
ветствует и обретение гармонии в микрокосме, то есть в замкнутом
пасторальном мире, где лишь несчастье влюбленных способно на-
рушить извечную радость бытия. Стремление к полноте гармонии
в развязке заставляет автора ввести нового персонажа, Петронилу,
"сестру Китерии, влюбленную в Камачо". Покинутый Китерией
ради Басилио, богатый жених узнает о любви к нему Петронилы,
таким образом обнаруживается и исправляется его двойная ошиб-
ка, нарушившая изначальную гармонию пасторального мира, и
уже никто не оказывается обделен счастьем.
Заметим, что свадьба, если она совершается по любви, у Мелен-
деса совсем не обязательно знаменует собой конец пасторального
мира3. Закон, по просветительским представлениям, не противоре-
чит пасторали, но способен даже творить ее: именно мудрая эконо-
мическая политика, выраженная в справедливом законодательстве,
должна приблизить жизнь реального крестьянина к идеальному су-
ществованию буколического персонажа. Так и в комедии законный
брак не разрушает пасторально-идиллическую гармонию, а обеспе-
чивает ее долговечность. Теперь уже ничто не сможет разлучить
влюбленных, чье счастье, наравне с неизменной буколической при-
родой, становится основой бытия пасторального микрокосма.
"Свадьба Камачо" завершается хоровой песнью, обращенной ко
всем новобрачным:
Cual vuelve a los mortales
el rubio sol el dia,
sed, felices zagales,
del valle la alegria.
(Как смертным приносит, / златовласое солнце дневной свет, /
будьте, счастливые пастухи и пастушки, / радостью долины) .
Итак, вместо одной несчастной свадьбы будут сыграны две
счастливые, и эта двойная радость означает для долины* то же вос-
становление равновесия, что и два знаменательных события 1783
года в историческом пространстве испанского королевства.
165
Аллегория такого рода — явление в поэзии Хуана Мелендеса
Вальдеса вполне органичное, совсем не связанное с условиями мад-
ридского конкурса и тем более не навязанное ими. Только обычно
аллегорическое соотношение устанавливается у поэта не между
пасторальным миром и государственной жизнью, что может пони-
маться как частный "исторический" случай, не всегда достойный
поэтического воплощения, а между человеческим существованием и
природой, причем обычно не за пределами, а внутри пасторального
микрокосма, становясь одним из его конститутивных принципов.
Жизнь внутри пасторальной идиллии потому и гармонична, что
строится по законам природного бытия5, потому и находит в ней
человек и защиту от бытротечности времени, и убежище от невзгод
и капризов Фортуны, тогда как выход из пасторального мира трак-
туется почти всегда как трагическая ошибка, о которой остается
лишь сожалеть утратившему такую связь:
Cuando уо estos dulces versos
cantaba a mi fâcil lira,
en el ocio de mi aldea
en gloriosa paz vivîa.
Después ominoso el hado
me arrastró a las grandes villas,
vi la corte, y perdi en ella
cuanto bien antes tenia.
(Когда я эти нежные стихи, / пел моей легкой лире, / на досуге, в
своей деревне / жил я в славном мире. / Потом злая судьба / увлекла
меня в большие города, / я увидел королевский двор и потерял там
/ все, что имел раньше).
Чаще всего эта спасительная для человека связь с природой
символически устанавливается в поэзии Мелендеса при помощи со-
отнесения линейного времени человеческой жизни с гармонией
природных циклов, с циклизованным временем классической идил-
лии6, а через нее и с аграрным, и, еще более опосредованно, с ми-
фологическим временем.
В этом испанский поэт-просветитель остается человеком своей
эпохи, ведь циклизованное идиллическое время играет очень важ-
ную роль в европейской лирике XVIII в., приобретая в ней особый
смысл. Теперь оно, как стилизованный, литературный вариант
"мифа о вечном возвращении", противостоит уже не только линей-
ному историческому времени7, но и набирающей силу картезиан-
ской идее прогресса, поступательного движения от тьмы к свету,
становится убежищем от неотвратимой однонаправленности време-
ни физического, в него бегут, как и в искусственно-наивную про-
стоту пасторального мира, от разумной, но механистически агрес-
сивной цивилизации. Та настойчивость, с которой поэзия в эпоху,
166
ознаменовавшую собой конец традиционалистского сознания, об-
ращается к постоянному, повторяющемуся, циклическому, говорит
об огромном напряжении внутри европейской культуры второй по-
ловины XVIII в. Тоска по постоянству в стремительно меняющемся
мире заставляет искать опору уже не в метафизической, надмирной
вечности, как это было в эпоху Барокко, не менее чувствительную
к быстротечности времени8, но в пантеистически понятой природе,
доступной чувственному восприятию. В центре внимания оказыва-
ется круговорот времен года (Томсон, Сен-Ламбер, Делиль) и все,
указывающее на неизменные в своей подвижности природные на-
чала мироздания.
Циклизующую функцию по отношению к человеческой жизни
могут выполнять и традиционные метафорическое уподобления
возрастов человека временам года и суток (ряд "юность-весна-
утро" или "старость-зима-ночь"), и аллегорическое соотнесение
природных явлений с жизненными ситуациями:
Pues cual mayo florido
sigue al âspero invierno,
asî en pos vuela siempre
de las penas el contento.
(Ведь как цветущий май / следует за суровой зимой, / так всегда
вслед летят / за невзгодами радости).
Однако не менее часто в поэзии Мелендеса Вальдеса связь чело-
века с природной гармонией устанавливается через его участие в
сельских праздниках, хранящих память о языческих ритуалах, ко-
торые, благодаря своей соотнесенности с циклом аграрных работ, с
наибольшей полнотой репрезентируют в фольклорном сознании
круговорот календарного времени. Наступление весны, Иванов
день, сбор винограда, — все традиционные деревенские праздники
вновь оживают в идиллическом мире пасторальной лирики, хотя и
в стилизованном виде, преображенные по всем правилам литера-
турного "хорошего вкуса".
Приглашением к празднику, его единственной истинной причи-
ной всегда служит у Мелендеса сама природа, а потому разверну-
тое описание пейзажа в любой оде или романсе на эту тему стано-
вится обязательным элементом их структуры. Обычно такое описа-
ние выполняет функцию своеобразного песенного зачина:
Ya dio alegre el fresco otono
la senal de la vendimia
y su voz redobla el eco,
рог los valles у colinas...
(Уже весело дала прохладная осень / знак начинать сбор винограда,
и ее голос разносит эхо / по долинам и холмам).
167
Однако поэт-просветитель, обращаясь к теме сельского празд-
ника, не пренебрегает и старинным фольклорным зачином "на заре
Иванова дня", отсылающим к традиционным романсам, правда,
сразу же включая его в стилистический регистр пасторали:
mananita de San Juan
рог el prado de la aidea
a celebrarla se salen,
pastores y zagalejas...
(Ha заре Иванова дня / на деревенский луг / выходят праздновать
[этот день] / пастухи и пастушки).
Особенно же часто выступает в качестве вводной поэтической
формулы весенний пейзаж, строящийся по традиционному литера-
турному канону locus amoenus9, а потому наиболее характерный для
пасторального микрокосма:
Ya torna mayo alegre
con sus serenos dîas,
y del amor le siguen
los juegos y la risa.
De ramo en ramo cantan
las tiernas avecillas...
(Уже возвращается веселый май / с ясными днями, / а за ним следу-
ют любви / игры и смех. / С ветки на ветку [перелетают и] поют /
нежные птички... и т.д.)
Но дело здесь не только в содтветствии канону. Приход весны,
осмысляемый как ее возвращение, более, чем любой другой фраг-
мент календарного цикла, способен репрезентировать круговорот
природного времени. Он означает пробуждение жизненных сил
природы и возобновление аграрных работ, а в мифологическом
плане символизирует претворение хаоса в гармонию, преодоление
смерти и возвращение к жизни, то есть, в конечном счете, именно
празднование прихода весны в наибольшей степени отвечает арха-
ическому представлению о сути праздника10. Его ритуальные
корни дают о себе знать и в тех стилизованных празднествах, кото-
рые разыгрывают галантные пастухи Мелендеса, со всей учтивос-
тью предлагающие дамам руку для опоры. Открытый эротизм
праздничных игр напоминает об оргиастической природе весенних
ритуалов, связанных с посевными работами, и, подобно тому как
древние коллективные оргии находили ритуальное оправдание в
содействии плодородию11, получает поэтическое оправдание как
всеобщее природное начало, которому человек не может не подчи-
ниться. Флоры, Дорилы, Аминты, Хлои и Палемоны то кружатся в
танце, то со смехом преследуют друг друга, то нежно берутся за
руки, глаза их сияют, а грудь наполняется "сладостным томлени-
168
ем", но все эти любовные игры невинны, поскольку следуют весен-
нему зову пробуждающейся природы, объединяющему все живое:
Todo, en fin, se goza y rie:
fuentes, ârboles, praderas,
selvâticos ârutos, hombres,
el jubilo en todos reina.
Libre en tanto el amor vaga;
nadie sus tiros recela.
(И все радуется и смеется: / ручьи, деревья, луга, / лесные твари,
люди, — /во всех царит восторг. / Меж тем Амур летает свободно,
/ никто не боится его стрел).
Впрочем, тема "нежных вольностей", которые узакониваются
ситуацией праздника, возникает, пусть в сублимированном виде, и
в осеннем романсе "Сбор винограда" {Las vendimias), где влюблен-
ный Фелисио протягивает прекрасной Сильвии срезанные гроздья,
скромница Нисе никак не может решиться отдать предпочтение
Аркадио или Делио, а резвая Энарда украдкой перекладывает к
себе виноград из корзины Сильвио. Все это сопровождается весе-
лой музыкой, танцами, смехом и... гимнами, обращенными к
Вакху, которые еще больше придают пасторальному празднеству
вид литературной стилизации.
Речь и действительно идет о стилизации, но особого рода, по-
скольку она, будучи списана с натуры, скорее живописна, чем лите-
ратурна: романс воспроизводит реальную атмосферу галантных
сельских развлечений, которые устраивала в своем поместье Ла
Сера в окрестностях Пьедраиты "любезная Сильвия", она же
Мария дель Пилар Тереса Каэтана де Сильва-и-Сильва, знамени-
тая герцогиня Альба. Среди ее гостей бывали и Аркадио, поэт из Са-
ламанки Хосе Иглесиас де ла Каса, и Делио, фрай Диего Гонсалес,
тоже поэт, и Энарда, хозяйка известного мадридского салона графиня
де Монтихо, и, конечно, сам юноша Батило. Однако если не знать об
обстоятельствах создания романса, то он, как и картон Гойи с тем же
названием, вряд ли наведет на мысль о реальных событиях.
Собственно, для поэта XVIII в. и нет четкой границы между
сельским праздником внутри поэтического мира пасторали и изящ-
ной имитацией, которую с увлечением разыгрывает прекрасная по-
селянка Сильвия. И тот, и другой праздник есть, в сущности, миме-
сис, как и любой творческий акт, только первый из них представля-
ет собой инстинктивное подражание природе, в чистом виде до-
ступное лишь невинным обитателям идиллического мира, а вто-
рой — сознательно выстроенную игровую систему, обращенную
одновременно к нескольким моделям: все той же природе, фольк-
лорным обычаям, пасторальному мифу и его литературным вопло-
щениям. Так, приглашая друзей принять участие в пире, Батило спе-
169
рва указывает на пример ветерка, цветов и нарядных полей, а затем
призывает следовать не только природе, но и книжному образцу:
Cojamos las mas lindas;
у alegres emulando
las risas у banquetes
que libre canta Horacio,
de hiedra coronadme...
(Соберем самые прекрасные [цветы], /ив весельи подражая / смеху
и тем пирам, / что вольный поет Гораций, / увенчайте меня плю-
щем...).
При этом сельский праздник, как бы он ни был организован и
на какие бы модели ни ориентировался, остается у Мелендеса ос-
новной формой жизни в пасторальном мире, соединяя идею поэти-
ческого досуга (odo blando), радости бытия, гармонии с природой и
единения людей.
Особый случай включения человеческого существования в при-
родное бытие при помощи участия в сельском празднике-ритуале
представлен во "Второй оде на день ангела Филис" (Segundos dias
de Filis), где в качестве такого общезначимого ритуала предстает
событие индивидуальной жизни, день ангела возлюбленной. Вступ-
ление, как и в других "праздничных" одах, вводит пейзаж, идеаль-
ный буколический фон. Последовательность строф логическая: от
абстрактного к конкретному, движение взгляда — сверху вниз. Уже
в первой строфе выстраиваются два пространства, в которых будет
затем разворачиваться лирический сюжет оды, — внешнее, про-
странство природы, и внутреннее, пространство души, aire (воздух)
и ànimo (дух):
jQué dulcîsimo canto el aire llena!
jQué aplauso, qué armonìa
embebecido el animo enajena
en tan alegre dia!
(Какое сладостное пение наполняет воздух! / Какие радостные воз-
гласы, какая гармония / сводит с ума восторженный дух / в столь
счастливый день!).
Эти два пространства изначально открыты, проницаемы друг
для друга, и "в день Филис" их объединяет один и тот же восторг:
воздух наполняется сладостным пением, гармония "потрясает" вос-
хищенную душу. Вторая строфа залита светом, это взгляд вверх, на
"золотую карету" солнца:
jQué espléndido fulgor, qué viva llama
en su carroza de oro
con mano liberal el sol derrama
de su inmenso tesoro!
170
(Какое прекрасное сияние, какое живое пламя / из своей парадной
золотой кареты / щедрой рукой рассыпает солнце / из своих несмет-
ных сокровищ!).
Появление солнца представлено как торжественный выезд иде-
ального монарха, одаривающего народ в знак праздника. Эта полу-
стертая традиционная метафора очень характерна не только для
поэтики Мелендеса, но и для всего испанского просветительского
классицизма. Ховельянос в своей "риторике и поэтике" приводит
ее как образцовую, замечая при этом, что первое правило постро-
ения метафоры состоит в том, чтобы "сходство между предметами
было столь понятным, чтобы сразу приходило на ум, ведь иначе
метафора становится слишком сложной и утомляет дух слушателя
или читателя, по этой причине переставая ему нравиться". "В пред-
ложенном примере, — продолжает Ховельянос, сразу же видна
связь между солнцем и добрым королем, как из-за их благородства
и величественности, так и по тому благу, которое они несут"12.
День ангела Филис, "радостный день" первой строфы — причина
этого величественного шествия, так скромное "личное" событие
приобретает огромную важность и внутри своеобразного небесно-
го социума (это праздник, достойный того, чтобы по его случаю
организовать торжественный королевский выезд), и в жизни при-
роды, всего мироздания, центр которого — солнце.
Следующие строфы организованы движением взгляда вниз, от
солнца к земле. "Ступени", по которым движется внимание поэта,
узнаваемы, они снова определяются каноном locus amoenus и кано-
ном весеннего пейзажа. За солнцем следует зефир, несущий нежные
ароматы, затем — пение птиц, затем взгляд опускается к самой
земле "в праздничном наряде", и еще ниже, к стекающим в долины
ручейкам. В третьей строфе гармония природы и внимающего ей
сознания, важная особенность описательной лирики XVIII в., под-
черкивается параллелизмом синтаксических конструкций, постро-
енных в смысловом плане по модели "явление природы (традици-
онный весенний мотив) — его отражение в воспринимающем со-
знании":
Ueno favonio de âmbares suaves
regala los sentidos,
y el estrépito y el trino de las aves
encantan los oîdos.
(Зефир, полный нежных ароматов / услаждает чувства, / а пение и
щебетание птиц / очаровывает слух).
Следующая, основная часть оды — хвалебная речь о возлюблен-
ной, вернее, две речи, одну из них произносит сам поэт, а другую
он вкладывает в уста веселящихся пастушек и пастухов. Собствен-
но, описание весенней природы — "приступ" не только ко всей оде,
171
но и к хвалебной речи. Шестая строфа завершает вступление и вво-
дит основную тему, тему красоты возлюбленной:
Todo, inocente angelica belleza,
se debe a tu luz pura,
que a adornar basta la naturaleza
de no vista hermosura.
(Все, невинная ангельская красота, / существует благодаря твоему
чистому свету, / которого достаточно, чтобы одарить природу / не-
виданной доселе красотой).
Все, что ни есть прекрасного в природе, существует благодаря
красоте возлюбленной, благодаря исходящему от нее свету. Красо-
та Филис — первопричина всего, ей мы обязаны приходом весны и
восходом солнца. Так для прославления возлюбленной создается
"миф на случай", и ее день приобретает сакральное значение. Мы
уже были свидетелями подобной сакрализации во второй строфе,
но там она имплицитна, тогда как в хвалебной речи заявляется от-
крыто, становится основным способом прославления. День ангела
Филис приносит с собой весну (причина и следствие предстают,
таким образом, в обратной перспективе) и рассвет, как аналог
весны в миниатюре:
La tuya en su donaire peregrina
nos trae la primavera,
su jubilo y sus rosas, la divina
luz de la cuarta esfera.
De tus anos el circulo dichoso
esta riente aurora,
cual tras lóbrega noche, se alza hermoso,
y el sol los cielos dora.
(Твоя чудесная [красота] / приносит нам весну, / ее ликование и ее
розы, божественный / свет четвертой небесной сферы [т.е. солнца].
/ Твоих лет благословенный круг, / как эта улыбающаяся заря / на
смену мрачной ночи, восходит прекрасный, / и солнце золотит не-
беса).
"Славный круг лет" Филис, подобно солнцу, приходит на смену
ночи. Так возлюбленная поэта не только оживляет все вокруг, она
сама и ее день становятся частью природного круговорота, весенне-
го обновления земли. Годы ее, вписываясь в круговорот времен, за-
мыкаются в "круг", возрождаясь вместе с зеленью лесов и лугов,
они преодолевают смертный удел Филис. "Круг ее лет", восходя-
щий, как солнце, становится символом бессмертия. То же пожела-
ние выскажет поэт и герцогине Апъбе-Сылъвш в день ее ангела.
172
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Ср.: Glendinning N. El Siglo XVIII/ Historia de la literatura espanola.
Voi. 4, Barcelona, 1973. P. 96.
2 Hatzfeld H. The Baroque of Cervantes and the Baroque of Góngora. Ex-
emplified by the motif "Las Bodas" // Acta Cervantina, 1953, Madrid, CSIC.
Vol. 3. P. 93.
Ср.: "В пасторальном мире нет браков и мало возможностей для их
заключения... пасторальная жизнь предшествует какой бы то ни было от-
ветственности, которая ограничивала бы столь важный для пасторали
образ полной свободы. Пасторальный способ существования будет нару-
шен, если дома ждут жена и дети." (Ettin A.V. Literature and the pastoral,
Yale University Press, 1984. P. 149). В поэзии Хуана Мелендеса Вальдеса со-
здание семьи совсем не обязательно выводит человека за рамки пасто-
рального мира, в котором очень силен сентиментально-идиллический
компонент. Собственно, речь идет о едином пасторально-идиллическом
комплексе, внутри которого равно возможны и классическая пастораль-
ная ситуация, и семейная идиллия в сентименталистском духе, как в ро-
мансах "Отцовская любовь" и "Материнская нежность" (El Carico pater-
nal, La Ternura maternal) .
4 Valle — долина, обычное метонимическое обозначение пасторально-
го микрокосма в поэзии Мелендеса, подчеркивающее его обособленность,
отграниченность от внешнего мира.
5 "Сочетание человеческой жизни с жизнью природы, единство их ритма,
общий язык для явлений природы и событий человеческой жизни" представ-
ляют собой одну из основных характеристик идиллического мира. См.: Бах-
тин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 375.
По определению Бахтина, это "специфическое циклизованное (но не
чисто циклическое) идиллическое время, являющееся сочетанием природ-
ного времени (циклического) с бытовым временем условно пастушеской
(отчасти шире — и земледельческой) жизни" (Ibid, с. 252).
7 М.Элиаде отмечает, что миф о вечном возвращении как "попытка
прервать становление, аннулировать необходимость времени", "способ
выносить исторические события" характерен не только для архаических
культур. См.: Элиаде М. Космос и история. М., 1987. С.116, 129.
8 "Время, писал испанский исследователь Э.Ороско Диас, и есть истин-
ный герой драмы Барокко". См.: Orozco Diaz, E. Manierismo y Barroco,
Madrid, 1975. P. 57.
Curtius E.R. Literatura europea у Edad Media latina (1), Mexico. 1995, P.
268-269, 281. Канон "описания весны" представляет собой набор практи-
чески тех же элементов: пение птиц, легкий ветерок, распускающиеся
цветы, разлитое в воздухе любовное томление и т.д. См.: Гринцер П.А.
Стиль как критерий ценности / Историческая поэтика. Литературные
эпохи и типы художественного сознания. 1994. С. 187-207.
10 Ср. Топоров В.Н. Праздник / Мифы народов мира. М., 1988. Т. 2.
11 Элиаде M. Op.cit. С. 49-50.
12 JovellanoSy M.G. de. Lecciones de retorica y poètica / Obras. Madrid. 1858.
P. 120.
173
Г.Э. Карсян
О КАРНАВАЛИЗАЦИИ В ДРАМАТУРГИЧЕСКОЙ
ТРИЛОГИИ Р. ДЕЛЬ ВАЛЬЕ-ИНКЛАНА
"ВТОРНИК КАРНАВАЛА"
Драматургическая трилогия испанского писателя и драматурга
конца Х1Х-начала XX вв. Рамона дель Валье-Инклана "Вторник
карнавала"("Мя/7е.у del carnaval") представляет собой образец дра-
матургического целого, решенного в новом, сугубо авторском
жанре эсперпенто (esperpento).
Известно, что слово esperpento, употребляемое в испанской раз-
говорной речи, переводится не только как "страшилище", "пуга-
ло", но и как "посмешище". Тем самым, оно особенно точно харак-
теризует жанр, обращенный к "явлениям одновременно ужасным и
смешным, отталкивающим и потешным", представляя собой поис-
тине "новаторский в европейской драматургии XX века сатиричес-
кий трагифарс"1. Кроме того, в эсперпенто литературный прием
гротеска приобрел народное звучание.
В основе жанрового содержания эсперпенто лежит принцип
игры на всех уровнях, что сближает его с эстетикой карнавала. По
мнению М.М.Бахтина, своеобразие карнавальной логики за-
ключается именно в ее последовательной "обратное™" естествен-
ному ходу вещей. Валье-Инклан, разрабатывая теорию нового
жанра, положил в основу эсперпенто именно "последовательно де-
формированную эстетику", считая, что современная ему "Испа-
ния — это гротескная деформация европейской цивилизации"2.
Следовательно, понять "трагический смысл испанской жизни"
можно лишь "трансформировав классические нормы", используя
при этом "приемы математики кривого зеркала". Ведь даже
"самые прекрасные образы, — отмечает Валье-Инклан, — в кривом
зеркале становятся абсурдными", поэтому деформирование отра-
жения классических героев создают атмосферу эсперпенто. Отсюда
следует, что одной из основных черт эстетики нового жанра являет-
ся принцип карикатуры, пародии, играющей на карнавале также
важнейшую роль.
К жанру эсперпенто Валье-Инклан относил следующие свои
произведения "Светочи богемы" (Luces de Bohemia, 1920 г.), "Рога
дона Ахинеи" (Los cuernos de don Friolera, 1921 г.) и "Дочь капита-
на" (La hija del capitan, опублик. в 1937 г.). Из них две последние, а
также "Парадная тройка покойника" (Las galas del difuntö), опубли-
кованные драматургом в разные годы по отдельности, позднее
были сведены им в трилогию, получившую общее название "Втор-
ник карнавала" (Martes de Carnaval). Возникает вопрос о причинах
174
такого, казалось бы, формального преобразования. Автор работы
уже касался этого вопроса в другой статье3, однако здесь было бы
уместным обобщить основные моменты, связанные с данной про-
блематикой.
Смысл упомянутого преобразования можно понять, лишь про-
анализировав идейную проблематику, содержащуюся в заглавии.
Как известно, название не только представляет текст, но и выяв-
ляет его сущность, становится неотъемлемой составной частью его
структуры. "Каждый компонент значения заглавия до ознакомле-
ния с самим текстом имеет разновероятностные возможности кон-
текстной реализации", — отмечает В.А.Кухаренко4. Иными слова-
ми, любой заголовок обладает вариативной семантикой.
В состав названия трилогии входит многозначное слово martes,
влекущее за собой возможность его семантических превращений в
актах конкретизации, обобщения, образного переноса, обрастания
ассоциативными связями и т.д. Таким образом, наличие подтекста
в заголовке требует от читателя поисков "шифровального ключа"
для обнаружения причины переноса значения.
В чем же заключается эта многозначность?
С одной стороны, martes переводится с испанского языка как
"вторник", но, вступая во взаимосвязь с другой составной загла-
вия — "carnaval", оно приобретает дополнительный смысл. Речь
идет уже о карнавальном вторнике, т.е. о последнем дне этого
столь популярного в романских странах праздника, а именно — о
связанной с ни!й только в Испании обязательной церемонии "по-
гребения сардинки" (entierro de la sardina). В ночь со вторника на
"пепельную среду" — первый день Великого поста — гроб с сар-
динкой в сопровождении множества "плакальщиц" (мужчин, пере-
одетых в женские платья), кающихся, факельщиков и священника
выносили на центральную площадь города. Некоторые держали в
руках удочки с сардинкой. Похоронную процессию возглавлял
"епископ" в бумажной митре и с метлой вместо посоха. На площа-
ди произносилось надгробное слово, полное сатирических наме-
ков, и зачитывалось "завещание сардинки". Благодаря аллюзии на
этот карнавальный ритуал автор с помощью заголовка придает
трилогии, по выражению М.М.Бахтина, "обрядово-зрелищную
форму", предполагающую последовательное "выворачивание мира
наизнанку", построение некоей другой — праздничной — реаль-
ности, свободной от всех социальных и общественных условностей,
"когда игра на время становится самой жизнью", и выражающейся
"в разнообразных видах пародий и травестий, шутовских увенча-
ний и развенчаний"5.
Так, смерти персонажей, происходящие во всех трех пьесах, ли-
шены приличествующего событию достоинства, а выражаемые по
их поводу соболезнования похожи скорее на скрытые под карна-
175
вальной маской усмешки, свойственные шутовскому "погребению
сардинки". Наряду с этим martes может рассматриваться и как
форма множественного числа от слова marte, переводимого как
Марс (бог войны). Каждый эпизод трилогии, написанной в про-
межутке между 1920 и 1927 гг., затрагивает какое-либо событие из
военной истории Испании начиная с так называемой "эпохи катас-
трофы" 1898 г. и заканчивая установлением диктатуры генерала
Примо де Риверы (1923 г.). В "Парадной тройке покойника", на-
пример, повествуется о похождениях испанского солдата, вернув-
шегося с Кубы после окончания войны с США, приведшей Испа-
нию к потере последних заокеанских колоний (1898 г.); действие
пьесы "Рога дона Ахинеи" разворачивается в период, получивший
в историографии название "возврат к милитаризму", и содержит
множество аллюзий на события времен разгрома испанских войск
под Мелильей (1909 г.); пьеса "Дочь капитана" стала своего рода
логическим завершением этой безрадостной страницы испанской
истории, отмеченной военным переворотом генерала Примо де Ри-
веры.
Внутреннее противоречие, возникающее между двумя компо-
нентами заголовка, решается Валье Инкланом опять же по прави-
лам карнавального празднества: "боги войны", проигравшие все
возможные войны и тем самым ввергнувшие Испанию в глубочай-
ший духовный кризис, превращаются благодаря контексту в ряже-
ных, в людей, просто переодетых солдатами, т.е. надевших одну из
типичных масок карнавала. Именно потому становится возмож-
ным гротескное переосмысление названия Martes de carnaval, но-
сящее в том числе и сатирический характер.
Неоднократное использование выражений "непобедимый
Марс" (invìcto Marte) и "колониальный Марс" (Marte Ultramarino)
по отношению к Генералу из пьесы "Дочь капитана", носящему по-
истине карнавальную маску "непобедимого", надетую на него уже
в самом начале действия, не без оснований позволяет предполо-
жить употребление слова marte и в качестве эвфемизма. За много-
численными авторскими намеками подобного рода, разбросанны-
ми по тексту пьесы, читатель легко угадывает фигуру реального
диктатора — генерала Примо де Риверы.
Каламбур, присутствующий в заголовке, перекликается, в свою
очередь, с игрой слов в самом тексте трилогии. К примеру, во всех
трех ее эпизодах встречается упоминание о сатурналиях (satur-
nales) — римском празднике в честь бога Сатурна, олицетворявшем
собой "золотой век", когда не было социальных классов и частной
собственности. Во время сатурналий как бы стиралась граница
между рабом и господином, рабы наслаждались свободой, господа
пировали вместе с рабами или даже прислуживали им. Своим рас-
176
кованным и радостным характером этот праздник напоминает кар-
навал, берущий свое начало еще в дохристианской эпохе.
Основой построения каламбура для Валье Инклана является то,
что со временем у слова saturnales, помимо исторического, появи-
лось и другое, более широкое значение — "оргия, вакханалия".
Приведем такой пример. В 5-й сцене действия "первого и един-
ственного", по выражению автора, пьесы "Дочь капитана" Хитрю-
га, комментируя оргии, происходящие среди военных Мадрида
того времени, спрашивает у своих собеседников: "^Ustedes creen en
esas saturnales con surtido de rubias y morenas?" ("A вы верите в эти
сатурналии с полным набором блондинок и брюнеток?" — Здесь и
далее перевод Н.Фарфелъ). На что Пройдоха ему отвечает: "No las
llamemos saturnales, llamémoslas juergas"("Ha30BeM это не сатурна-
лией, попойкой"). Такое использование разных значений слова
"saturnales" в целях изобличения нравов, царивших среди испан-
ских военных конца прошлого столетия, погрязших в пьянстве,
картежничестве, разгуле, а порой виновных и в преступлениях,
подкрепляется со стороны автора ремарками, которыми он харак-
теризует капитана Антрекот-из-Сержанта: "saturnal у panzudo, ve-
terano de toros y juergas" ("толстопузый развратник, завсегдатай
коррид и попоек").
Можно сказать, что в трилогии "Вторник карнавала" естествен-
ный ход жизни со своими социальными и моральными законами
уступил место "вывернутому наизнанку" карнавальному течению
времен, и все персонажи, сбившись с привычного круга и попав в
беспощадные жернова эпохи, начинают жить так, как если бы
праздник не кончался.
В той или иной степени описанная гротескная деформация при-
суща всем четырем эсперпенто Валье-Инклана, однако наиболее
своеобразно она проявилась в образе главного героя пьесы "Па-
радная тройка покойника".
Само его имя Хуанито перекликается с именем дона Хуана —
широко распространенного образа в мировой литературе, бывшего
излюбленной темой писателей "поколения 98 года", к которому
традиционно относится и Валье-Инклан6. Их обращение к этому
мифу, а также к другим известным испанским литературным леген-
дам (Дон Кихот, Селестина и т.д.) было продиктовано тем, что в
основе философского мировоззрения "поколения 98 года" лежала
идея возврата к истинным ценностям, т.е. к прошлому Испании, к
истории ее культуры.
Тем не менее, Валье-Инклан недаром называет своего протаго-
ниста не Хуан, а Хуанито (Juanito), то есть прибавляет к имени ле-
гендарного ловеласа и скандалиста уменьшительный суффикс -ито
(•ito).
ìli
Хуанито Валье-Инклана — частный случай классического дона
Хуана, его искаженная проекция на XX вв., эпоху, в которой геро-
ический пафос выглядит уже смешным и нелепым. Героям не место
в современности, приходит к выводу автор. В "Парадной тройке
покойника" налицо модернизация этого архетипа: классический
образ выхолащивается, а известный сюжет превращается в схему, в
заданную ситуацию, в условия игры. По мнению известного испан-
ского исследователя X. Рубио Хименеса "этот фарс знаменует
собой процесс развенчания мифа о героическом мире, что является
фундаментальной идеей всех пьес, вошедших в трилогию "Вторник
карнавала""7.
Эсперпентизация истории о доне Хуане, ее гротескная деформа-
ция в пьесе Валье-Инклана затронула три ключевых момента этого
мифа: покорение сердца женщины; сцена на кладбище и ужин; по-
хищение из монастыря возлюбленной, являющейся там послушни-
цей. Такая расстановка акцентов в эсперпенто свидетельствует о
том, что избранной моделью для Валье-Инклана послужила пьеса
популярного драматурга XIX века Хосе Соррильи "Дон Хуан Те-
норио" (1844). X. Ортега-и-Гассет был первым в свое время, кто
указал на связь, существующую между этими произведениями8.
Скорее всего, выбор Валье-Инклана пал на драму Соррильи из-
за огромной популярности, которой она пользовалась в те годы.
"Дон Хуан Тенорио" явился единственной театральной версией
мифа, приобретшей известность как в Испании, так и в Латинской
Америке, а стихотворные пассажи и ситуации из нее стали неотъем-
лемой частью культурного багажа испаноязычной публики. Как
справедливо отмечает Х.-Б. Авалье-Арсе, таким образом пьеса Со-
ррильи, в силу своего большого успеха у зрителей, "уже была под-
вергнута некоторой эсперпентизации, то есть искажениям, неизбеж-
ным в ее народном варианте, который передавался из уст в уста"9.
Произведение Соррильи относится к жанру романтической
драмы в крайнем ее проявлении. С этой точки зрения, "Дон Хуан
Тенорио" является по сути некой демонстрацией театральных воз-
можностей и эффектов, присущих романтическому направлению в
драматургии, доведенных до крайности и, следовательно, потенци-
ально предназначенных стать объектом пародии.
В "Парадной тройке покойника" романтический дон Хуан
трансформируется в Хуанито Забияку, который из-за отсутствия
денег готов расплачиваться в Веселом доме своими боевыми награ-
дами, полученными в ходе войны на Кубе (1898-1900 гг.). Здесь его
возлюбленная Инее — простая Шлюха, а монастырь, из которого
он должен ее похитить — бордель10. Хуанито мечтает выкупить из
публичного дома Шлюху, попавшую туда после того, как отец вы-
гнал ее из дома, чтобы спасти честь семьи и скрыть беременность
дочери. Имя у нее, как и у большинства персонажей эсперпенто, от-
178
сутствует. Да в этом и нет необходимости. Социальный статус
героя в обществе или его основное моральное качество, чаще всего
отрицательное, — вот что служит Валье-Инклану заменой имени
собственного. Его персонажи апсихологичны, они не способны к
развитию по ходу действия пьесы. Их характеры — это застывшие
маски, возникающие на одно действие и тут же пропадающие в зло-
вещей пляске на "зазеркальном" карнавале.
В драме Соррильи сцена на кладбище, по ходу которой дон
Хуан бросает вызов судьбе и приглашает на ужин убитого им Ко-
мандора, построена на цепи причин и следствий, и все действия
персонажа представляются обусловленными друг другом. В то
время, как в эсперпенто Валье-Инклана это превращается, по выра-
жению Х.-Б.Авалье-Арсе, в "пошлый клубок случайностей"11. Цель
посещения кладбища Хуанито Забиякой проста и незатейлива —
ограбить покойного аптекаря. Мародерство — вот то немногое,
чему научила его война, и героический жест дона Хуана превраща-
ется в образе Хуанито в низменный инстинкт шакала, привыкшего
питаться падалью.
Сняв с умершего парадную тройку, главный герой меняет ее на
свой китель вместе со всеми военными регалиями и в нем уклады-
вает труп обратно в гроб. В мирной послевоенной жизни медали и
кресты Хуанито не в цене. Они могут отправляться вместе с аптека-
рем в Чистилище, а то и в Ад. Благополучный буржуа предстанет
перед святым Петром в виде ветерана войны и "верного сына Отече-
ства" (по выражению самого героя), а Хуанито, одетый в его парад-
ную тройку, сможет покорить сердце Шлюхи, позднее оказавшейся
ничего не подозревавшей дочерью покойного. Таким образом, так
же, как и в момент карнавала, социальные роли между персонажами
меняются здесь посредством травестии, то есть переодевания.
Единственное, что мы знаем о Хуанито Забияке, это то, что он
галисиец. И это является важнейшим фактом для Валье-Инклана.
Обратимся к его "Самокритике" на "Варварские комедии", создан-
ные десятью годами раньше, чем эсперпенто, где он пишет: "Мне
хочется напомнить вам, что галисийского содержит легенда о доне
Хуане. Для меня его образ зиждется на следующих "трех китах":
безбожие, задиристость и неравнодушие к женскому полу. Послед-
ний "кит" — женщины, прерогатива севильца, долгое время нахо-
дившегося под влиянием арабов. Это, так сказать, ностальгия
мавра по утерянному гарему. Забияки встречаются повсюду. А вот
безбожие характерно именно для галисийца. Здесь, в Галисии без-
божие понимается по-своему: не отрицается никакая католическая
догма, не возникает сомнения в существовании Бога, но тем не
менее не соблюдается одна из основных христианских заповедей —
почитание умерших"12. Таким образом, Хуанито олицетворяет
собой донжуанство в его галисийской ипостаси безбожия.
179
В одном из ранних своих произведений "Портрет", опублико-
ванном в "Либераль" 7 февраля 1903 года, Валье-Инклан впервые
затронул тему, позднее развитую им в "Парадной тройке покойни-
ка". В нем автор создал литературный портрет Мамеда Касановы,
галисийского бандита, который на протяжении долгого времени
держал в страхе жителей комарки Ортегейра до тех пор, пока не
был пойман властями в декабре 1902 года13. Описывая жизнь Ма-
меда, Валье-Инклан признавался своим читателям: "Я восхищаюсь
этими разбойниками, пренебрегающими законом, опасностью,
смертью. Их характер обладает для меня какой-то странной притя-
гательностью"14. Далее автор приводил такой факт из биографии
Касановы: "В пятнадцать лет Мамед Касанова совершил свой пер-
вый и, пожалуй, самый красивый подвиг. Он выкопал труп одного
испанца, нажившего богатство в Америке, надел на себя его саван
и, наряженный таким образом, явился в дом покойного, чтобы вы-
разить свои соболезнования детям усопшего, собравшимся на
кухне у камелька"15. Мотивом для такого поступка явилось жела-
ние Мамеда уехать в Америку, чтобы там сделать себе состояние.
Но, отправившись туда, он, возможно, вернулся бы обратно таким
же жалким и опустошенным, как и Хуанито. Легендарные времена
покорения американского континента безвозвратно ушли, и пос-
ледние отблески героизма тех лет сопоставимы лишь с холодными
бликами заходящего солнца. Проигранная война за последнюю ис-
панскую колонию — Кубу — это пародия на завоевание Америки,
в свое время сделавшее Испанию на несколько веков самой могу-
щественной империей в Европе. Автором пародии здесь выступает
сама История, которая, как известно, повторяется дважды: один
раз в виде трагедии, а другой — в виде фарса.
Большой интерес, на наш взгляд, представляют цитаты, взятые
Валье-Инкланом из "Дона Хуана Тенорио" и помещенные в ситуа-
цию эсперпенто. В новом контексте они, как правило, теряют при-
сущий им прямой, изначальный смысл, обрастая дополнительными
значениями, а порой и вовсе меняя его на противоположный.
Так, Хуанито зовет Шлюху "голубкой" (paloma), подобно тому,
как дон Хуан называл донью Инее в своем письме:
Dona Inés del alma mìa,
luz de donde el sol la toma,
hermosìsima paloma
privada de libertad".
"Душа моя, донья Инее,
солнышко мое ненаглядное,
великолепнейшая голубка,
томящаяся в неволе".
180
Известно, что, помимо своего прямого значения, это слово
имело во времена Валье-Инклана и другое, переносное: в начале
века в Испании "голубками" называли проституток16. Таким обра-
зом, романтическая донья Инее, "великолепнейшая голубка", де-
формируется в эсперпенто в голубку другого полета — в Шлюху. И
если в пьесе Соррильи донья Инее жеманно падает в обморок, по-
лучив письмо от дона Хуана, то в "Парадной тройке покойника"
Шлюха тоже теряет сознание, увидев в руках Хуанито покаянное
письмо, написанное ею к отцу. Однако сопровождающая действие
ремарка автора коренным образом меняет атмосферу происходя-
щего: "Две девицы держат за руки лишившуюся чувств Шлюху, ко-
торая истерически всхлипывает. Из-под задравшихся юбок видны
подвязки, волосы сбились".
К тому же, Хуанито повторяет вторую строчку процитирован-
ного выше стиха, обращаясь к Шлюхе именно в тот момент, когда
она узнала об истории, происшедшей по вине Хуанито с ее умер-
шим отцом: "Эта шикарная тройка была его саваном! Он мне пред-
ложил махнуться, захотелось подшутить над святым Петром! Те-
перь ты наследница! Сиротка! Солнышко мое ненаглядное ...".
Эсперпентизация доньи Инее продолжается на протяжении всей
финальной сцены пьесы. В девятой сцене второго действия "Дона
Хуана Тенорио" Бригида называет донью Инее "несчастной плен-
ной горлицей". Переосмыслив в гротескном плане эту ситуацию,
Валье-Инклан вкладывает в уста Хуанито Забияки следующие
слова, адресованные Матушке Селестине: "Мать настоятельница, я
забираю у вас девчонку! Выкупаю! Где она, эта пленная горлица?"
Как видно, цветистые романтические выражения, присущие драме
X.Соррильи, звучат в принципиально заниженном контексте эспер-
пенто странно, а то и зловеще.
Пародийная инверсия романтической драмы, как и романтизма
вообще, достигает своего апогея в заключительных словах пьесы
Валье-Инклана, которые произносит Матушка Селестина: "Хуани-
льо, проверь-ка наличные. После такого фельетона кофе — обяза-
тельно". Некогда высокие принципы романтизма, в соответствии с
которыми и был создан "Дон Хуан Тенорио", превращаются здесь
в бульварный фельетон. Эта реплика, произнесенная одним из пер-
сонажей, еще раз напоминает нам о том, что мы находились всего-
навсего на представлении, разыгранном перед нами лицедеями на
карнавальной площади, которые в силу своего положения способ-
ны оценивать ситуацию со стороны и даже давать название проис-
ходящему. Действие подходит к концу, исполнены все роли, актеры
снимают маски, раскланиваются, ждут реакции публики, надеются
на поощрение и даже требуют его ("... кофе — обязательно!").
"Парадная тройка покойника" завершается "открытым фина-
лом", благодаря которому даже после окончания представления
181
персонажи эсперпенто продолжают жить своей алогичной карна-
вальной жизнью, отдельной от актеров.
Карнавал, отражающий реальность подобно кривому зеркалу и
использованный в эсперпенто Р. дель Валье-Инкланом как дра-
матургический прием, помог ему наиболее точно отразить свое
восприятие одного из первых кризисных рубежей XX века.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Силюнас В.Ю. Испанская драма XX века, М., 1980. С. 99.
2 Здесь и далее цит. по: Силюнас В.Ю. Испанская драма XX века. Указ.
соч. С. 103.
3 См.: Карсян Г.Э. Что стоит за названием трилогии Р. дель Валье-Ин-
клана "Вторник карнавала" //Латинская Америка, 1997, № 12.
4 Кухаренко В.А. Интерпретация текста. Л., 1979. С. 49.
5 Бахтин ММ. Творчество Франсуа Рабле и народная культура сре-
дневековья и Ренессанса. М., 1990. С. 16.
6 Из драматургических произведений представителей "поколения 98
года" вспомним еще две пьесы на тот же сюжет: "Хуан де Маньяра" бра-
тьев Мануэля и Антонио Мачадо и "Брат Хуан, или мир есть театр" Миге-
ля де Унамуно.
7 Rubio Jimenez, J. Introducción en: Martes de Carnaval. Madrid, 1996.
P. 31. См. также. Summer M. Greenfield. Los cuatro esperpentos: Unidad y di-
vergencias. // La Chispa'85. Selected Proceedings, 1985. P. 147.
8 См. подробнее в: Ortega у Gasset, J. La estrangulación de don Juan // El
Sol, 17.11.1935. Это подтверждается еще и тем, что, наряду с сюжетными
аллюзиями на драму Соррильи, в "Парадной тройке покойника" встреча-
ется и ее прямое упоминание. В третьей сцене между Хуанито Забиякой и
его дружками происходит такой диалог:
"Хуанито: — Вы, кажется, разыгрываете "Хуана Тенорио". Только
мертвецов там кормят задарма.
Малуэнда: — Мы угощаем. И мелочиться не станем: что мы, хуже, чем
в театре?".
9 Avalle-Arce, J.-В. La esperpentización de "Don Juan Tenorio" // Hispa-
nofila, VII, 1959. P. 35.
10 Примечательно, что Хуанито обращается к Матушке Селестине, хо-
зяйке борделя, так же, как дон Хуан X.Соррильи к Аббатиссе, а именно:
Madre priora ("Мать настоятельница").
11 Avalle-Arce, J.-В. La esperpentización de "Don Juan Tenorio" // Hispa-
nofila, VII, 1959. P. 32.
12 Цит. no: Aznar Soler, M. Gufa de lectura de "Martes de carnaval", Bar-
celona, 1992. P. 53.
13 Очевидно, Валье-Инклан был покорен этим ни на кого не похожим
персонажем, поскольку осмелился поставить его в один ряд с такими исто-
рическими лицами, как Цезарь Борджа, талантливым, но коварным и жес-
182
токим политиком XV века, и испанским конкистадором Франсиско Пи-
сарро.
14 Цит. по: Aznar Soler, M. Guia de lectura de "Martes de carnaval", Bar-
celona, 1992. P. 51.
15 Op. cit.. P. 51.
16 Ср.: "Juanito: — Siento no agradarte, paloma" (Хуанито: — Жаль, что
я тебе не по вкусу, голубка").
А.И.Назаренко
КАРНАВАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В РОМАНАХ
"ТИРАН БАНДЕРАС" РАМОНА ДЕЛЬ ВАЛЬЕ-ИНКЛАНА
И "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ ГВАДАЛУПЕ
ЛИМОН" ГОНСАЛО ТОРРЕНТЕ БАЛЬЕСТЕРА
"Карнавальность", "карнавализация" — термины, которыми в
последнее время все чаще пользуются как в литературоведении, так
и в критике, для анализа произведений современной литературы.
Результатом этой "моды на термин" (также, как и на термины ин-
тертекстуальность, металитература, двойное кодирование и.т.д.)
стала определенная терминологическая путаница. С одной сторо-
ны, термин "карнавальность" часто употребляется как синоним
слова "анархия", которая якобы является отличительной чертой
постмодернистских произведений. В других исследованиях ставит-
ся знак равенства между карнавальностью и театральностью.
Можно предположить, что причина этой путаницы в том, что
понятия, изначально служившие для описания конкретного, специ-
фического, начинают применяться при анализе совершенного дру-
гого рода явлений. Нетрудно установить источник, из которого
была заимствована терминология: Бахтин — единственный, кто ис-
следовал внутреннее содержание карнавала, другие авторы в прин-
ципе повторяют его выводы или ограничиваются описанием внеш-
ней, обрядовой стороны карнавала. Но термин "карнавальность" у
Бахтина относится к анализу средневекового и возрожденческого
карнавала, ведь другие его типы — романтический, модернист-
ский — не рассматриваются им в полном объеме. Как указывает
австралийская исследовательница М.Роуз, "многие исследователи
заимствуют у Бахтина идеи отмены иерархий и относительности.
Но Бахтин трактует понятие относительности достаточно специфи-
чески, он выводит его из карнавального переворачивания верха и
низа и конкретно называет "веселой относительностью" любой
структуры и порядка, любой власти и иерархии"1. В трактовке Бах-
183
тиным карнавала, в понимании им игры важно не разрастание
вширь бесконечной игры значений, а наличие, сосуществование
двух элементов, значений, в одном, своеобразная двоичная струк-
тура. Поэтому использование термина "карнавальность" без опре-
деленных оговорок таит в себе опасность.
Вместе с тем, отсутствие теоретических работ о карнавале дру-
гих эпох, салонном карнавале, маскарадах, соотнесения их со сре-
дневековым провоцирует сведение всех форм карнавала к бахтин-
скому, поиск амбивалентности в любом произведении, где фигури-
руют маски и театрализованность.
В данной работе ставится задача выявить в двух анализируемых
романах элементы карнавала разных типов и проследить, как авто-
ры используют их в своих, специфических целях.
Формальным поводом для выбора произведений послужил тот
факт, что в испанском литературоведении "Государственный пере-
ворот Гвадалупе Лимон" долгое время считался имитацией "Тира-
на Бандераса": в обоих романах действие происходит в вымышлен-
ной латиноамериканской стране, речь идет о диктаторах, восстани-
ях и мятежниках. Но главное, интересно проследить, как по-разно-
му служат карнавальные элементы авторам романов, вышедших в
свет с разрывом всего лишь в двадцать лет.
В творческом наследии Рамона дель Валье-Инклана важную
роль играют произведения созданного самим писателем жанра "эс-
перпенто"2, в которых отражается его взгляд на историю испан-
ской культуры. Определяя жанр "Светочей богемы" и цикла из
трех коротких пьес, объединенных под общим заголовком "Втор-
ник карнавала", Валье-Инклан вкладывал в слово "эсперпенто"
особый смысл. "Эсперпенто изобретен Гойей. Классические герои
прогуливаются по переулку Гато3... и мы видим их отражение в
кривом зеркале. В этом и состоит сущность эсперпенто. Трагичес-
кий смысл испанской жизни можно выразить, лишь используя пос-
ледовательно реализуемый принцип деформации"4,— говорит поэт
Макс Эстрелья, герой пьесы "Светочи богемы". Мысль о том, что
испанский дух не способен сотворить трагического героя — одна
из основных в эстетике Валье-Инклана. Испания — гротескная де-
формация Европы, следовательно, писатель, отражая испанскую
жизнь, должен пользоваться кривым зеркалом, подвергать траге-
дию снижению, деформации. Хотя роман Валье-Инклана "Тиран
Бандерас"5 не касается вопросов испанской жизни (действие разво-
рачивается не в Галисии, не в Мадриде, а в Санта-Фе-де-Тьерра-
Фирме, вымышленной стране, которая является обобщенным обра-
зом всей Латинской Америки), в литературной критике стало уже
традиционным причисление его к эсперпенто. В многочисленных
исследованиях рассматриваются способы деформации действитель-
184
ности и снижения трагического в романе. Но ни в одном исследова-
нии не делается попытки рассмотреть обращение в романе к карна-
вальной традиции как один из способов гротескной деформации.
Вместе с тем, представляется интересным рассмотреть прелом-
ление и роль некоторых карнавальных образов, тем, сюжетов в со-
здании гротескной деформации в романе, сравнить карнавальный
гротеск и гротеск эсперпенто.
Действие в "Тиране Бандерасе" разворачивается во время на-
родных праздников Дней поминовения всех святых и усопших.
Описание этих празднеств мы находим на протяжении всего пове-
ствования. "Санта-Фе справляла свой осенний праздник, введен-
ный еще в эпоху вице-королей. Проспект Вице-королевы, как всег-
да в этот день, пестрел и гремел всевозможными аттракционами,
лотками и палатками"6. В большинстве своем эти описания статич-
ны, они представляют собой лишь фон; действие сведено к миниму-
му, и при этом акцент делается на передаче только внешней, по-
верхностной стороны обрядов: "Народ сбегается, чтобы посмот-
реть на огненного быка. Гася по дороге фонари иллюминации,
мчатся толпы весельчаков: они хотят, чтобы бык светился еще
ярче. Толпы бедняков окружают слепцов, поющих под гитары..."7,
"Бродячая труппа — картонные маски, ленты, щиты..."8 Хотя на-
лицо внешняя атрибутика карнавала, за этой оболочкой чувствует-
ся пустота. Живет ли народ в этом празднике, становится ли этот
праздник на эти несколько дней жизнью, переворачивая мир наиз-
нанку, диктуя свои порядки? Нет, участники ждут совсем иного,
другой, отличный от карнавального, характер принимает их весе-
лье: "Санта-Фе купалась в веселье, билась в лихорадке света и
мрака: водка и нож индейца, драка и сладострастный танец сменя-
лись в сумбурном калейдоскопическом вихре. Мрачное бешеное
клокотание жизни на краю разверстной могилы. Санта-Фе с траги-
ческим, мятежным неистовством страстей, попирающим время, бе-
жала от ужаса повседневной спячки"9.
У Валье-Инклана часто описываются состояния, пограничные
между сном и реальностью. В данном случае характер галлюцина-
ции, бреда сообщается и самому празднику. Он как бы "наркотизи-
рован", и эта его ирреальность, граничащая с кошмаром, постоян-
но подчеркивается автором: "Формы, тени, огни причудливо спле-
таются в дурманящем, словно опиум и марихуана, восточном мира-
же"10. Такой характер праздник индейцев получает и благодаря
спиртному: "Бандерас не посмеет закрыть лавки, торгующие спирт-
ными напитками. Если он это сделает, произойдет революция.
Праздники вроде сегодняшнего — единственная отрада метисов и
индейцев"11.
Вино — непосредственный атрибут описанного Бахтиным кар-
навала, пьянство — типично карнавальный мотив, развитие кото-
185
poro в данном случае прямо противоречит его карнавальному тол-
кованию, самой сути карнавала. Вино в народном карнавале ни-
когда не является средством ухода от реальности. Процитирован-
ный отрывок является примером "огосударствления праздничной
жизни народа"12, ее регламентации, потери карнавального мироо-
щущения. Осенний праздник — действительно лишь одна-единст-
венная возможность забыться, данная народу государстовм, олице-
творяющим это государство тираном; это уже не свободный и весе-
лый карнавал. "Карнавал умер, — такими словами начинается эт-
нографическое исследование Хулио Каро Барохи, — и умер не для
того, чтобы возродиться вновь, как он умирал и возрождался вновь
в былые времена"13. Бесполезно искать следы средневекового на-
родного карнавала в описаниях праздника в Санта-Фе. Подтвер-
дим это еще одним примером. По Бахтину, в карнавале "нет разде-
ления на зрителей и исполнителей, его не созерцают, в нем
живут"14. В романе Валье-Инклана праздник почти всегда показы-
вается читателю глазами кого-то, кто в нем не участвует, и чаще
всего глазами самого Тирана Бандераса. Для образа тирана вооб-
ще характерны моменты созерцания, вглядывания. Он все время
стоит у окна и то пристально наблюдает за сменой караула, то раз-
глядывает в подзорную трубу звезды, и даже свою смерть Бандерас
встречает там же, у окна: "Он подошел к окну и тут же упал, весь
изрешеченный пулями." Глагол тирана — "смотреть" (mirar).
Итак, карнавал созерцаем, он отгорожен, изолирован. Его ис-
кусственность подчеркивается в следующем эпизоде: "Стоя у окна,
тиран направлял подзорную трубу на город Санта-Фе: — В хлебе и
зрелищах народу нельзя отказывать"15.
Но не только тиран и другие обитатели его резиденции наблю-
дают за праздником со стороны; как видно из процитированных
отрывков, так поступает и сам автор. После описания танцев,
пения, веселья тут же меняется фокус, и праздник показывается тя-
желым сном, бредом, то есть Валье-Инклан всегда сохраняет дис-
танцию по отношению к тому, о чем ведет повествование. На это
обращает внимание американский исследователь Пол Айли, кото-
рый пишет: "Валье-Инклан не поддается атмосфере карнавала, а,
наоборот, удаляется от нее, и это делает праздник сюрреалистичес-
ким"16. Айли имеет в виду как раз эту дистанцию, которая в рабо-
тах других литературоведов носит название extranamiento ("очужде-
ние") — этот термин применяется не только к карнавалу — и кото-
рую он рассматривает как один из элементов эстетики сюрреализ-
ма. Валье-Инклан пользуется "очуждением", чтобы показать безы-
сходность праздника как неудавшегося бегства от реальности —
это не выход, "альтернативы нет"17. Итак, перед нами как бы два
уровня очуждения: карнавал созерцаем и автором, и персонажами.
186
Праздник, описываемый в романе — пример "мертвого карна-
вала", "антикарнавал", огосударствленный, убитый тиранией.
Возможно ли найти в романе отголоски средневековой карна-
вальной традиции? Парадоксально, но именно те персонажи рома-
на, которые смотрят на праздник индейцев со стороны, становятся
участниками настоящего карнавала, разворачивающегося на стра-
ницах романа, карнавала, который не сразу бросается в глаза, а
проявляется лишь в отрывках, фрагментах, эпизодах.
Как было отмечено в начале, роман относится к эсперпенто, в
котором снижается трагический герой, деформируется ситуация
потенциально трагическая, но причины которой оказываются
смешными, глупыми, абсурдными. Для достижения такой деформа-
ции Валье-Инклан активно пользуется элементами карнавальной
традиции.
Назовем, во-первых, уже упомянутый нами мотив пьянства и
связанный с этим мотив пира. За едой, питьем (ужин, светский
прием, игра в лягушку) в романе часто дается завязка решениям,
принимаются важные решения. Причем, есть в романе и чисто кар-
навальный пир — "пирушка" у Филомено Куэваса перед восстани-
ем. Вопрос "выступать против тирана или нет" обсуждается на
фоне бурного веселья, шуток, а затем восставшие и вовсе начинают
бранить тирана. "Под влиянием кофе и винных паров Доситео Ве-
ласко... начал поливать бранью тирана: "Гнусный тиран, мы раз-
бросаем твои потроха по дорогам республики"... Кофе, чича и ост-
рая еда вскоре настроили революционеров на один лад... те, кто
были повеселее и пошумливее — вовсю сквернословили тирана"18.
Типично карнавальный персонаж — полковник Домисьяно де
Ла Гайдара. В описаниях Валье-Инклан все время подчеркивает
его толстый живот — "шарообразный живот античного Вакха",
"сияющее брюшко тибетского божка", а самого полковника харак-
теризует как "пузатого, прожорливого и хмельного", "всю жизнь
таскающегося по притонам", "никогда не бывавшего трезвым":
"Вытащив из-за пояса нож, полковник оттяпал себе добрую поло-
вину мяса... и поднял бутыль с чичей. Отпив три здоровенных глот-
ка и обретя наконец дар речи, он выпалил: — Ну и вляпался я в
историю!"19 Домисьяно — единственный, кто совершенно "по-кар-
навальному" участвует в празднике, распевая песню следующего
содержания:
Надрывается глашатай,
О грехах его крича,
Он же бранью площадною
Осыпает палача,
И распятию святому
Дулю кажет, хохоча.20
187
"Скверный человек", "безбожник" — такие эпитеты заслужива-
ет за подобные песенки Домисьяно, а ведь хохот над святым распя-
тием — вариация средневекового смеха в храме во время праздни-
ка дураков.
Домисьяно не случайно наделен карнавальными чертами. Не
будем забывать, что перед нами человек, задумавший поднять ин-
дейцев на восстание, совершить революцию, свергнуть тирана.
Карнавальность в данном случае — способ снижения, деформации
трагического героя, обретшего брюшко Санчо Пансы. Да и сама
трагическая ситуация романа снижается "благодаря" страсти пол-
ковника к спиртному: он, будучи пьян, разбивает стаканы служан-
ки тирана, доньи Лупиты. Тиран клянется наказать виновника, и
оказывается перед трагическим выбором: покарать друга или изме-
нить своему слову; толкает Домисьяно на союз с мятежниками и
провоцирует восстание.
Есть в романе и еще один карнавальный образ — образ шута.
Лиценциат Начо Вегильяс действительно остается шутом и произ-
носит свое неизменное "ква-ква" в любой ситуации. Его шутовство
подчеркивает и сам автор: "в страданиях этого опального скоморо-
ха была своего рода гротескная величественность, свойственная
шутовским похоронам, которыми заканчиваются карнавалы"21.
Но, верный принципу "очуждения", Валье-Инклан меняет фокус и
во взгляде на шута, превращая его вдруг в актера, почти стирая
грань между искренностью и наигранностью его глупости, подчер-
кивая неестественность его выходок: "Начито, нос которого в этот
момент напоминал капельницу, патетически обращался к подру-
ге"22.
К шутам можно отнести и мага-гипнотизера доктора Поляка,
который является в романе пародийным двойником дона Роке Се-
педы, "апостола", вдохновителя воставших. Здесь автор тоже сни-
жает трагический по своей сути образ. Пройдя по переулку Гато,
дон Роке, человек "необыкновенно, хотя и беспорядочно начитан-
ный в области теософии и близкой к ней кабалистике, оккультных
науках и александрийской "философии"23, превращается в доктора
Поляка, "знатока оккультных наук и последователя бенгальских
брахманов"24, который, даже будучи уличенным в том, что "затева-
ет кутежи в домах терпимости"25, продолжает убеждать окружаю-
щих в том, что его миссия — "распространять теософское учение и
готовить народы к будущей эре чудес"26. Как и дон Роке, его двой-
ник из Зазеркалья заботится о народе: "Я учу народ истине, отвра-
щая его от материалистического позитивизма. С помощью моих
опытов пролетариат приобретет осязаемое представление о сверхъ-
естественном мире"27.
Поляк даже повторяет фразу дона Роке "Мне казалось, что я
слушаю библейского змия", но, адресованная в устах Сепеды Тира-
188
ну, она превратилась в обращение к девице легкого поведения Лу-
пите Романтик: "Для меня ты оказалась биомагнетическим
змием"28.
Следует особо отметить сцену "сбривания" доктору Поляку
"гривы немецкого мудреца". Брадобрей обнаруживает, что рос-
кошная шевелюра гипнотизера не что иное как парик, который и
сдергивается с головы мага. Поляк остается совершенно лысым (за-
метим, что дон Роке тоже лыс). Перед нами карнавальная сцена ос-
меяния короля, низвержения его с трона, сдергивания с него коро-
ны, которую здесь заменяет парик — символ "мудрости" шарлата-
на.
Главное в "бахтинском" карнавале — отрицание статичности;
идея постоянных перемен пронизывает всю карнавальную образ-
ность, и в эпизоде срывания короны также лежит мысль о переоде-
вании, травестировании. Особенно ярким выражением этой идеи
была в средневековом карнавале маска: "Маска связана в народной
культуре с радостью смен и перевоплощений, с веселой относитель-
ностью, с веселым отрицанием тождества и однозначности, совпа-
дения с самим собой..."29
У Валье-Инклана часто встречается образ маски, но отсутствует
мотив ее срывания. Маски становятся для их обладателей лицом.
Автор достигает передачи такого ощущения периодическим повто-
рением однажды данного описания, и читателю открывается, что
за "зеленой индейской маской", за "зеленой гримасой" Тирана ни-
чего нет. (Гримаса, кривляния, ужимки, по Бахтину являются ва-
риациями маски.) Постоянно разукрашено румянами лицо испан-
ского посланника; а на маске дона Селеса вообще забыли нарисо-
вать черты лица, и он остался обладателем "участка между лыси-
ной и бакенбардами".
Исчезает веселый карнавальный гротеск, умирает и амбивалент-
ность образов. С XVIII в., отмечает Бахтин, гротеск начинает ис-
пользоваться для индивидуальных целей. Но если в романтизме
еще можно найти примеры использования маски в ее первоначаль-
ном смысле, то "в модернистском гротеске" XX века за маской
чаще всего оказывается пустота. Главным в гротескном мире ста-
новится нечто враждебное, чуждое, нечеловеческое. Появляется
страх, который в карнавале уничтожался и оборачивался весельем.
"Мир, который был нам привычен, оборачивается против нас, уг-
рожает, отталкивает"30, — так характеризует Мануэль Дуран пос-
ледствия гротескной деформации в эсперпенто. Примерно такими
же словами пользуется Бахтин при обзоре гротеска XX века и далее
цитирует немецкого исследователя Кайзера: "Гротескное — есть
форма для выражения "оно"31. "Оно" — чуждая, нечеловеческая
сила — управляет как марионетками и героями "Тирана Бандера-
са". Это роман роковых совпадений, случайностей.
189
Рок, фатальность принимают для народа конкретный лик.
"Оно" — это сам Сатана. "Индейцы разносят рассказы о ...дья-
вольской силе Ниньо Сантоса... Это сам Дракон Святого Михаила
наставлял его! Вот и покумились они! Заключили сделку! Сам гене-
рал Бандерас бахвалился тем, что нечистый оберегает его от пуль.
Перед этой силой, незримой и недремлющей, краснокожие всегда
испытывали необратимый суеверный страх, чувство фатальной не-
отвратимости, всегда соединенной в их сознании с сонмом всевоз-
можных ужасов"32.
Так появляется в романе страшилище и связанный с ним мотив
"страшной жизни". Именно от нее бегут индейцы, от нее ждут спа-
сения в опьянении своего осеннего праздника. В средневековом
карнавале, которому чужд страх, такое невозможно — "оно" ос-
меивается, превращается в смешное страшилище. Но перед нами
гротеск эсперпенто. Пол Айли считает, что "эсперпенто — это тип
бессмыслицы, гротескный и абсурдный, который пользуется сар-
казмом, чтобы смягчить страх"33, а Э. Саареас пишет, что эспер-
пенто "пытается снизить тяжесть тоски приступами смеха"34. Да
так ли страшна жизнь в романе и ужасно страшилище? Благодаря
технике "очуждения" мир романа предстает разным для тех, кто в
нем живет и тех, кто смотрит на него со стороны. Индейцы увере-
ны, что тиран всесилен, потому что ему помогает Сатана, а тиран
развлекается игрой в лягушку и поручает решать дела государст-
венной важности кучке прихлебателей, среди которых Начито Ве-
гильяс — шут — и дон Селес — "осел потешный". Тиран — "эспер-
пенто генерала"35. Кривое зеркало превратило его в смешное стра-
шилище, но об этом известно только автору и читателю. Гротеск
эсперпенто не предусматривает жизнеутверждающего осмеяния, и
совсем не по-бахтински трактуется в романе вопрос о смерти.
Карнавальное празднество всегда было связано с переломными
моментами жизни, так или иначе — со смертью и возрождением. В
"Тиране Бандерасе" этот переломный момент — День поминове-
ния усопших. И именно в этот день в Санта-Фе царит буйное весе-
лье, время проходит не в молитвах. Но такое описание праздника
имеет под собой реальную основу. Прообразом Санта-Фе является
Мексика, где Валье-Инклан бывал в 1892 и 1922 годах.
Празднование Дня усопших в Мексике отличается от праздно-
вания его в других странах Латинской Америки. "Мы, мексиканцы,
смотрим с безразличием на все, относящееся к смерти", — пишет
Н.Уртадо, автор книги "Мексиканские традиции и праздники"36. Р.
Гульон также отмечает фамильярность в обращении мексиканцев
со смертью. Излюбленными игрушками детей в этот день всегда
были обожженные глиняные черепа, пляшущие скелеты-марионет-
ки. Второго ноября, в день поминовения, смерть соприкасается с
жизнью. Задача живых в этот день — развеселить души умерших,
190
которые возвращаются к своим очагам, поэтому поминовение пре-
вращается в празднество, пир. На кладбище несут корзины с едой,
и среди прочего — опять же черепа из сахара. С наступлением тем-
ноты зажигаются тысячи костров и свечей, чтобы души не заблуди-
лись и не замерзли, все поют и танцуют. Известны случаи вскрытия
и извлечения останков умерших родственников, так что фраза из
романа "клокотание жизни на краю разверстой могилы" может
восприниматься и буквально. Смерть обыденна, и мексиканцы с
ней накоротке, что следует также из свидетельства Феликса Колук-
сио: во время восстания в одном из районов Мексики погибло
много индейцев, родственники хранили их трупы в течении не-
скольких дней, а потом, усадив за столы, устроили "прощальный
ужин"37.
Итак, праздник выбран в романе не случайно. Это дни, когда
становится наиболее тонкой грань между жизнью и смертью, когда
души мертвых наполняют мир. "Внутренний дворик публичного
дома Кукарачиты был расцвечен пестрыми фонариками, а в его зе-
леной гостиной были зажжены поминальные лампады: в дни празд-
неств такое соседство неизбежно"38.
Ощущение обыденности смерти в романе создают и частые опи-
сания расстрелов: то слышны звуки выстрелов, то глазами узников
тюрьмы Санта-Моника мы созерцаем горы трупов, прибиваемые
приливом к прибрежным скалам. Постоянно появляются и два дру-
гих предвестника смерти — "Слепой Сыч" и его дочь — чахлая,
высохшая, увядшая, словно уже обряженная в саван (amortajada).
Р.Гульон считает, что все персонажи романа исполняют "пляску
смерти"39, что все они ведутся к смерти этим "оно" — роком, тай-
ной неведомой силой. Какова же эта смерть? Это смерть, которая
не приносит возрождения. Тиран четвертован, обезглавлен. Чучело
сожжено. "Крайним скептиком"40 называет Валье-Инклана Анто-
нио Риско, о скептицизме и пессимизме писателя говорит и Р.
Гомес де ла Серна: "Эсперпенто — это безнадежная форма его ис-
кусства"41. Валье-Инклан деформирует мир не для того, чтобы воз-
родить, он ведет все в пустоту, к уничтожению. Различные карна-
вальные элементы функционируют в романе в рамках гротеска эс-
перпенто, а эсперпенто не оставляет выхода — безысходны и
праздники и будни, а революцию совершают не трагические герои,
а их двойники — шуты. И недаром почти все повествование в ро-
мане ведется в настоящем времени, а гипнотизер не в состоянии
вернуть прошлое и предсказать будущее. Эсперпенто генерала, эс-
перпенто полковника Домисьяно, эсперпенто Испанского мира
вспыхивает мгновенным настоящим и исчезает с карты горячая
земля — Санта-Фе-де-Тьерра-Фирме.
191
Обратимся теперь к роману "Государственный переворот Гва-
далупе Лимон", который был впервые издан в 1945 году и, по сло-
вам самого Гонсало Торренте Бальестера42, был воспринят читате-
лями и критикой "если уж не как плагиат, то как слабое подража-
ние "Тирану Бандерасу"43. В то время ироническая, игровая на-
правленность произведения не нашла отклика, цензура даже не за-
претила роман, не увидев в нем аллюзий ни на каудильо Франко,
ни на погибшего Х.А.Примо де Риверу, ни на события недавней
гражданской войны. Лишь сорок лет спустя, уже в восьмидесятые
годы, "подготовленная" чтением "постмодернистских" произведе-
ний аудитория смогла адекватно воспринять роман: "В этом произ-
ведении абсолютно не затрагивается тема латиноамериканской ти-
рании. Это история о том, как создается миф. Способен ли миф об
уже мертвом человеке привести революцию к победе? И способен
ли миф, создающийся при жизни, победить то, что стояло у его ИС-
ТОКОВ?"44
В своей трактовке современной ему испанской и европейской
реальности Торренте Бальестер изначально настроен на демифоло-
гизацию: "В деспотизме меня больше всего интересует изощренное
переплетение мифа и власти. Цель всякой пропаганды — создание
иллюзии невидимого, но вездесущего главы государства; она заме-
няет реальный персонаж мифологическим. Миф — главное в фа-
шистских режимах, с его помощью власть получает законность, ко-
торой она не может достичь силой"45. Цель автора — показать, как
на наших глазах создается миф и тем самым разрушить его. При
этом демифологизации придается пародийно-игровой характер;
уже в те годы, намного раньше чем кто-либо в испанской литерату-
ре, Торренте Бальестер создает роман по принципу коллажа из раз-
нородных элементов, каждый из который действует лишь в силу
действия всех остальных и, таким образом, получает новое значе-
ние. Рассмотрим сочетание в этом коллаже карнавальных элемен-
тов с другими, по сути несовместимыми образами и мотивами,
имеющее целью достижение пародийно-демифологизирующего эф-
фекта.
Карнавал, элементы которого наиболее представлены в рома-
не — это салонный праздник со всеми его атрибутами: замкнутос-
тью в ограниченном пространстве, театрализованностью, модными
костюмами, музыкой, распределением ролей между участниками.
"В XVIII веке карнавал разворачивается при дворе, что кардиналь-
но изменит его смысл и направленность. Праздник становится по-
водом для выставления напоказ своего статуса в обществе, для вы-
ражения благосклонности или немилости", — пишет французский
исследователь Даниэль Фабр46.
Действительно, эпоха, в которой происходит действие в романе,
определяется как вневременной "сентиментальный и еще барочный
192
век"47, в котором живут главная героиня — Гвадалупе Лимон,
представители высшего света, но также диктаторы, заговорщики,
гаучо и мятежные индейцы. Барочные декорации ярко контрасти-
руют с темой конспирации: "Сеньора де Уриарте собрала заговор-
щиков в отделанном по французской моде салоне, с дамасскими
коврами, украшенном зеркалами и позолотой, чем-то походившем
на будуар кокотки, и капитан Мендоса сразу же почувствовал себя
неуютно"48.
На балах-маскарадах и во время чаепитий в будуарах плетутся
нити антиправительственных заговоров, а последствиями вечеров в
литературных кафе становятся революции и кровопролитные граж-
данские войны. При этом главными действующими лицами — ко-
ролевами карнавала, которых игра то возносит на трон, то низвер-
гает с него, — являются женщины. Соперничество между двумя
светскими дамами — Гвадалупе и Росалией — имеет роковые пос-
ледствия для национальной истории. Мужчины — лишь объекты
манипуляции в разыгрываемом ими представлении. Именно жен-
щины распределяют роли. Как марионетками, Росалия манипули-
рует своим супругом, диктатором Лисаррагой, и всем советом ми-
нистров, а Гвадалупе — группой заговорщиков, капитаном Мендо-
сой, которого вынуждает стать организатором восстания, и даже
мертвым генералом Клавихо, с чьим именем гаучо штурмуют кре-
пость диктатора. В романе есть и конкретная сцена низвержения
мужчин с пьедестала: Гвадалупе заходит в зал светского салона,
где капитан Мендоса на возвышении произносит речь об аграрной
реформе. Заметив красавицу, Мендоса теряет дар речи, спускается
вниз и далее описывается как "свергнутый идол".
Вокруг Росалии "вьются кавалеры, воспевая ее литературные
таланты"49. Гвадалупе председательствует на заседаниях заговор-
щиков: "Ничто не давало повода счесть это собрание опасным.
Внешне оно походило на собрание добропорядочных кабальеро во-
круг привлекательной девушки." "Гвадалупе, Вы наша муза!"50 —
периодически восклицали присутствующие. Подобные описания
скорее напоминают cours d'amour, то есть интрига заговора разы-
грывается еще и по куртуазным законам с их культом Прекрасной
Дамы.
Постоянно вплетаются в повествование и элементы романтичес-
кого карнавала, исторические свидетельства о котором таковы: "К
1775 г. карнавальный беспорядок в Венеции достиг своего апогея.
Полицейские шпики были совсем сбиты с толку этим маскарадом,
который длился всю зиму. Они уже не могли сказать с увереннос-
тью, кого скрывал алый плащ с капюшоном — обывателя или
аристократа, и совершенно невозможно было различить иностран-
ца в группе людей в масках и черных мантиях."51 Герои Торренте
Бальестера тоже обожают бродить ночами в черных плащах по
7 - 5470
193
улицам своей латиноамериканской столицы. "Капитан Мендоса за-
кутался в плащ и вышел на улицу. С собой он взял пистолеты, тол-
ком не зная зачем"52. Гвадалупе Лимон, скрываясь от полиции,
приезжает на бал в плаще с капюшоном, "скрывавшим ее лицо".
Прямо с бала конспираторы отправляются на тайное собрание. В
этот момент повествования автор в специальном отступлении сооб-
щает, что впоследствии сцена собрания была искажена художника-
ми и драматургами. Они придали ей драматизма, переодев участ-
ников в военную форму, дополнив костюмы саблями, эполетами и
орденами. "Это не соответствует исторической правде! — воскли-
цает автор. — Ведь все они приехали с романтического бала!"53
Заговор, придуманный Гвадалупе, изначально и сознательно
строится как игра, и, так как главная задача героини — вызвать к
себе интерес капитана Мендосы, большое значение придается эсте-
тической стороне: "В заговоре должно быть нечто оригинальное и
соблазнительное"54. Героиня проводит много времени, подбирая
костюмы для своих "выходов". Для участия в тайном собрании ей
"нужно было найти в костюме равновесие между соблазнительнос-
тью и пуританством"55. При аресте Гвадалупе накидывает на плечи
"только что привезенную из Парижа мантилью, отороченную
горностаем. Она была готова страдать и умереть так, как умеют
умирать только королевы"56.
Многие ситуации, как говорит сам автор, он разрешил теа-
трально, и свидетельством этому служат постоянно встречающися
фразы "занавес опустился", "задвигались фигуры балета", "на гла-
зах осведомителя полиции министры продолжали разыгрывать
свой водевиль"57.
Главные театрально-маскарадные представления разыгрывают-
ся в романе на заседаниях Государственного совета.
"Ваше появление в зале должно произойти в самый выигрыш-
ный в театральном смысле момент"58, — поучает один из мини-
стров своего тайного шпиона.
Диктатор, генерал Лисаррага, появляется на совете то в домаш-
нем халате, то обмотанный шарфом, а в момент принятия важных
решений убегает за ширму "переодеваться". Всем министрам пре-
красно известно, что за ширмой скрывается Росалия, которая "не-
зримо" руководит мужем. И вот однажды один из министров отки-
дывает ширму и приглашает Росалию принять участие в заседании
совета. Тут уже сам диктатор начинает бояться, что перед ним ра-
зыгрывается спектакль: "Этот театральный эффект — результат их
сговора. Да, я стал всеобщим посмешищем, я просто шут"59.
Во время штурма диктатор, подобно тирану Бандерасу, занима-
ет место у открытого окна: "Для генерала это была очень выиг-
рышная позиция: он мог без риска для жизни разыгрывать третий
акт мелодрамы, сопровождая свои выкрики жестами паяца. Никто
194
не обращал на него внимания. Его голос не долетал до солдат из-за
большого шума и расстояния"60.
Капитан Мендоса в своих маскарадных переодеваниях даже до-
ходит до создания нового персонажа. Поняв, что он не может руко-
водить мятежом от собственного имени, Мендоса "пришел к созда-
нию "Монаха", личности, которой впоследствии были возведены
многочисленные пластические и литературные памятники"61. Пере-
одевшись и искусно изменив внешность, Мендоса бросается агити-
ровать гаучо и городскую бедноту. Но в момент штурма крепости,
где укрылся диктатор, происходит обратный процесс превращения
"Монаха" в Мендосу: "Во главе восставших скакал Монах, без
шляпы и без плаща, и почти уже без своего мистического ореола.
Ветер вырывал один за другим накладные волосы из его бороды, и
вот уже остатки его маскарадного костюма — очки с таинственны-
ми голубыми стеклами — упали на землю и были раздавлены. Ре-
волюционные события шаг за шагом преобразовывали Монаха в
капитана; но эта метаморфоза, произошедшая перед самым носом
восставших, была вместе с тем столь последовательной, что никто
не выразил ни малейшего удивления; гаучо, солдаты, добровольцы
из народа следовали за своим предводителем, и их ничуть не волно-
вало, что предводитель постепенно становился другим"62.
Итак, если в романе развивается какой-либо мотив, преподно-
симый со всей серьезностью, то в определенный момент обязатель-
но вводится некий элемент, полностью разрушающий систему "се-
рьезности". Как признается сам автор, "в моменты, которые могли
бы потрясти души читателей, я вдруг ввожу мелкие комические де-
тали, и весь трагический эффект сразу разрушается"63.
Такой способ сосуществования карнавально-игровых элементов
и потенциально несовместимых с ними мотивов и образов не толь-
ко служит для демифологизации и пародийного эффекта, но и со-
здает особый хронотоп. Повествование невозможно привязать ни к
конкретной стране, ни к конкретной эпохе. Как говорит сам писа-
тель, "я мог бы развернуть действие романа в какой-нибудь бал-
канской стране, или в любой другой далеко от Балкан, но вместив-
шей в себя всю историю Европы"64.
И, пожалуй, единственный элемент, более-менее определенный
и привязанный к конкретному времени и пространству — это, как
ни странно, чисто "бахтинское" описание в самом конце романа:
"Что касается генерала и его супруги, то имя их было проклято.
Тело Росалии было вздернуто на зубцах крепостной стены. В на-
родных куплетах преувеличивались ее уродство и извращенность.
Она и ее муж превращены были в карнавальные фигуры. В воскре-
сенье Карнавала по улицам проводили их чудовищные карикату-
ры: она — черная и усатая, похожая на ведьму; он — хвастливый
рогоносец. Фигуры оставляли на неделю у подножья статуи генера-
7*
195
ла Клавихо, а их сожжение в первое воскресенье Поста превраща-
лось в настоящую карнавально-политическую оргию"65. Как раз
это описание, использующее амбивалентные элементны, ничего не
пародирует, а кажется вполне логичным, завершающим и тождест-
венным самому себе.
Так на примере двух романов мы рассмотрели, насколько по-
разному могут функционировать карнавальные элементы в литера-
туре. Валье-Инклан использует амбивалентные карнавальные эле-
менты для выражения не жизнеутверждающего, а пессимистическо-
го взгляда на жизнь. У Торренте Бальестера используемые элемен-
ты сами по себе не амбивалентны, но действуют в системе демифо-
логизирующего романа, который строится по приципу достраива-
ния недостающей, скрытой стороны каждого явления, и в этом
плане по-бахтински карнавален.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Rose, M. Parody: ancient, modern and postmodern, Cambridge, Univer-
sity press, 1993. P. 143.
2 Испанский академический словарь дает два толкования слова "эспер-
пенто": а) человек или вещь, выделяющиеся своим уродством, неряшли-
востью, некрасивым внешним видом б) абсурд, бессмыслица.
3 Рамон Гомес де Ла Серна в книге "Дон Рамон Мария дель Валье-Ин-
клан" говорит о том, что в переулке Гато в Мадриде на стенах домов на-
ходились вогнутое и выпуклое зеркала, так что прохожие видели себя пре-
вращенными то в Дон Кихота то в Санчо Пансу.
4 Валье-Инклан, Р. дель. Избранные произведения, Л., 1978. С. 15.
5 Роман был полностью опубликован в 1926 году, но отдельные его
части появлялись в печати начиная с 1922 г.
6 Валье-Инклан, Р. дель. Тиран Бандерас. Пер. Н.Томашевского (зд. и
далее цитируется по этому изданию)/ Унамуно, Валье-Инклан, Бароха,
М., 1973. С. 319.
7 Там же. С. 353.
8 Там же. С. 396.
9 Там же. С. 324.
10 Там же. С. 326.
11 Там же. С. 464.
12 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Сре-
дневековья и Ренессанса. М., 1965. С. 40.
13 Caro Baroja, J. El carnaval. Madrid, 1965.
14 Бахтин М.М. Франсуа Рабле... С. 10.
15 Валье-Инклан, Р. Тиран... С. 464.
16 Ilie, P. Los surrealistas espafìoles. Madrid, 1972. P. 212.
17 Ibid. P. 212.
18 Тиран... С. 395.
196
19 Там же. С. 387.
20 Там же. С. 358.
21 Там же. С. 418.
22 Там же. С. 363.
23 Там же. С. 423.
24 Там же. С. 467.
25 Там же. С. 468.
26 Там же. С. 467.
27 Там же. С. 471.
28 Там же. С. 469.
29 Бахтин ММ. Франсуа Рабле...
30 Duran, M. Valle-Inclan у el sentido de lo grotesco // Papeles de Son Ar-
madans, 1966, № 127. P. 118.
31 Бахтин ММ. Франсуа Рабле... С. 56.
32 Тиран...С. 430.
ъъ1Ие, P. Lossurrealistas... Р. 198
34 Zahareas A. Esperpento... Р. 361.
35 Barco Temei, E. America en Valle-Inclan // Cuadernos hispanoameri-
canos, 1963, № 157. P. 125.
36 Hurtado N. Tradiciones y ferias mexicanas, Mexico, 1969. P. 114.
37 Coluccio F. Fiestas y costumbres de America, Buenos Aires, 1954.
38 Тиран... С. 354.
39 Gullón R. Técnicas de Valle-Inclân // Papeles de Son Armadans, 1966,
oct.,№ 127. P. 33.
40 Risco A. La estética de Valle-Inclân en los esperpentos y "El ruedo
iberico", Madrid, 1966. P. 77.
41 Gómez de la Sema R. Don Ramon... P. 149.
42 Торренте Бальестер, Г. (1910-1999), испанский литературный кри-
тик и писатель, автор романов "Дон Хуан" (1963), "Офф-сайд"
(1969),"Сага/фуга о Х.Б." (1972), "Роза ветров" (1985), "Хроника короля
потрясенного"(1990) и др., член испанской Академии языка, лауреат Пре-
мии Сервантеса (1985), премии Планета за роман "Филомено, к моему со-
жалению" (1989).
43 Torrente Ballester G. El golpe de estado de Guadalupe Limón. Barcelona,
1984 (Здесь и далее перевод мой — А.Н.). Р. 10.
44 Ibid. Р. 13.
45 Ibid. Р. 14.
46 Fahre D. Carnaval ou la fête a l'envers. Paris, Gallimard, 1992. P. 82.
47 Torrente Ballester G., El golpe... P. 15.
48 Ibid. P. 109.
49 Ibid. P. 37.
50 Ibid. P. 179.
51 Fabre d., Carnaval... P. 90.
52 Tottente Ballester G. El golpe... P. 216.
53 Ibid. P. 180.
54 Ibid. P. 122.
55 Ibid. P. 146.
197
56 Ibid. P. 212.
57 Ibid. P. 256.
58 Ibid. P. 242.
59 Ibid. P. 244.
60 Ibid. P. 264.
61 Ibid. P. 234.
62 Ibid. P. 261.
63 Ibid. P. 9.
64 Ibid. P. 13.
65 Ibid. P. 284.
198
Часть HI
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА:
ПРАЗДНИК НА ПЕРЕКРЕСТКЕ КУЛЬТУР
Т.В.Гончарова
ОТ МЕКСИКИ ДО БОЛИВИИ: ПРАЗДНОВАТЬ,
ЧТОБЫ ЖИТЬ
Многочисленные праздники латиноамериканцев еще не обрели
чисто рекреативного характера, как в Европе и Северной Америке,
и не институционализировались в официальные мероприятия.
Представляется возможным говорить о том, что они во многом
продолжают сохранять, хотя, конечно, не в прежней степени, сак-
ральное, социо-коммуникативное и экстатическое значение, явля-
ясь и коллективным катарсисом, и коллективной релаксацией.
Как пишет об этом Р.Монтойя, знаток и пропагандист индей-
ской музыки, сам кечуа по происхождению, их праздники — это
момент освобождения1. Освобождения от повседневности абсолют-
но ничем не гарантированного существования. Как в древние вре-
мена, в Элладе или в Индии, как в развитых доколумбовых общест-
вах Америки, для латиноамериканцев является праздником чуть ли
не каждый день подробно расписанного календаря, где торжествен-
но отмечаемая цикличность земледельческих работ соединяется с
памятными вехами на жизненном пути Христа, а также с достопри-
мечательными датами национальной истории. И, как в древние
времена, огромные массы живущего ниже всякого уровня люда ис-
тово и страстно справляют свои многочисленные праздники — для
того, чтобы выжить, не переставая надеяться на милость богов и
подпитывая друг друга спасительной энергией того "коллективно-
го я", которое для многих из них продолжает оставаться важнее "я
индивидуального"2.
Доевропейская культурная матрица оказалась на удивление
прочной в странах с большим процентом коренного населения, где
в последнее время, как и везде, наблюдается несомненное оживле-
ние, так сказать, примордиальных культурно-мировоззренческих
элементов, всего того, что некоторыми исследователями определя-
199
ется как неоархаика. В противовес углубляющемуся цивилизацион-
ному кризису, в воронку которого втягиваются даже народы с, ка-
залось бы, достаточно прочным, хотя бы в силу своей косности ар-
хетипическим фундаментом, усиливается сакральное и метафизи-
ческое восприятие бытия, тяготение к трансцендентному, актуали-
зируется мифотворческая стихия. С распадом привычных для
эпохи модернизации социальных связей вновь приходят в действие,
казалось бы, давно исчерпавшие себя механизмы выживания, ду-
ховно-психологической стабилизации, и тогда все то, что виделось
еще совсем недавно не более, как историческая окаменелость,
вдруг оборачивается совершенно неожиданной гранью на пороге
"постистории", в эпоху вынужденного возвращения к адаптацион-
ным приоритетам и заново открываемому космизму.
Для большинства населения Мексики, Гватемалы, Боливии и
Перу праздники остаются главной формой культурной жизни и
творческого самовыражения. В их проведении отчетливо различа-
ются три традиционные для всех народов части: процессия, жер-
твоприношение и возлияние, будь то сельский пир общинников,
ужин городских кофрадий и конгрегации или же древний потлач.
По существу, все происходит так же, как во время Дионисий или
Панафиней в Аттике или же на первомайский праздник где-нибудь
в России. Эта извечная структура народного торжества особенно
очевидна в индейских и индо-метисских городках и селениях, где,
как в старинных церемониальных центрах майя или же у священ-
ных уак инкского и доинкского времени, в мексиканских Чолуле и
Чичен-Ице, в Ольянтамбо или же в Пакаритамбо в Перу: люди со-
бираются вместе в установленные их отдаленнейшими предками
дни, чтобы вновь и вновь ощущать себя неким единым целым, не-
коей коллективной монадой в бесконечном разнообразии вселен-
ной, напитаться теми незримыми, но самыми важными токами, ко-
торые зарождаются в священных для каждого народа местах, где
каждый раз встречаются живые и мертвые, боги, прародители
герои и несчитанные общинники-муравьи, неотделимые от матери-
природы.
Самым торжественным праздником юкатанских майя был
Новый год — начало месяца Поп, первого в календаре. В этот день
было принято обновлять утварь в доме: тарелки, сосуды, скамейки,
циновки, одежду и покрывала, которыми они закутывали своих
богов. Дом тщательно подметали, а старую одежду и мусор выбра-
сывали за селом на свалку. На Новый год все собирались во дворе
храма, причем только мужчины, хотя на праздновании в других
местах могли присутствовать и женщины. Воскуряли благовония,
приносили жертвы (в этот день бескровные), затем, после предше-
ствующего поста, все вместе съедали дары и приношения, причем
200
жрецы, как пишет Д. де Ланда, "были первыми в увеселениях и вы-
пивке"3.
На празднике Чик-Кабан в честь Пернатого змея Кукулькана,
мифического основателя культуры, к храму в Майяпане, а затем в
Мани двигалась процессия с комедиантами. Комедианты ходили
по домам знатных людей, показывая свои представления и собирая
приношения (не напоминает ли это украинские колядки?), которые
потом делились между жрецами и танцорами. В месяц Мак пожи-
лые люди совершали обряды в честь Чаков — богов кукурузных
полей, и Ицамны, приведшего в незапамятные времена прародите-
лей майя на эти земли. Они приносили в жертву игуан голубого
цвета, собак и разнообразную дичь, вырывая сердца у птиц и жи-
вотных и бросая их в огонь. Каждый год справлялось "обновление
храма", когда делали новые изображения богов из глины, а иногда
и строили для них новый дом, помещая об этом надпись на стене4.
Праздники продолжались по нескольку дней, для этого требова-
лись немалые средства и поэтому проведение их, как и у всех древ-
них народов, не изживших эгалитаристские архетипы (так было в
Элладе, это же имеет место среди африканских племен), считалось
обязанностью и долгом более состоятельных людей. По существу,
это был потлач: если знатный и богатый устраивал пир, то каждый
из приглашенных был обязан потом устроить такой же праздник. В
соответствии с этим обычаем, характерным для многих и не амери-
канских народов, в конце пира гостей одаривали, обычно давали
плащ, скамеечку и сосуд. Если кто-то из приглашенных умирал, то
его родственники все равно должны были устроить ответное уго-
щение. Этот же обычай взаимности (который сами индейцы счита-
ют и сейчас одним из основополагающих принципов своей культу-
ры в самом широком смысле слова)5 проявлялся, когда справляли
вступление в брак детей или же поминали предков. Если были при-
глашены сто гостей, то каждый из них непременно приглашал хо-
зяина праздника, когда у него случался пир по соответствующему
поводу. Этот обычай, как будет сказано далее, сохраняется по сей
день и среди майя, и среди коренного населения Анд.6. Такие пиры,
как и для людей гомеровской эпохи, как для европейцев раннего
Средневековья или же для населения Киевской Руси, играли важ-
нейшую консолидирующую роль, создавая впечатление того брат-
ства, максимальным выражением которого были знаменитые тар-
пезы-сисситии спартанцев.
Праздник завершался обильной выпивкой, бесчинствами и дра-
ками, на оргии растрачивались все накопления, но эти многочис-
ленные праздники, шумные совместные пиры были определяющи-
ми вехами в их достаточно однообразной жизни, теми остановками
на постоялом дворе, по выражению Демокрита, без которых был
бы невыносим заполненный нескончаемыми трудами и тяготами
201
жизненный путь. По свидетельству хронистов, индейцы всю жизнь
сохраняли память об этих пирах, можно сказать, они жили ради
них, заполняя время между праздниками приготовлениями к ним.
Во многом это имеет место и сейчас среди индейцев Мексики и
Гватемалы, да и среди остального населения, в основном смешан-
ной крови, в генной памяти которого так сильны архетипы доко-
лумбовых предков, и для которого многочисленные праздники по-
прежнему являются главным, а зачастую единственным поводом
для артистического самовыражения. Меняются причины для празд-
неств и их названия (хотя время проведения новых нередко совпа-
дает с прежними), но остается неизменной все та же многокиломет-
ровая торжественная процессия разнаряженных односельчан, кото-
рые с цветами, хоругвями или же революционными знаменами, в
сопровождении оркестров, в которых преобладают гитары, год за
годом уходят от повседневности в солнечный праздник Райми — в
иное, возможно, иллюзорное существование, где все они одинаково
свободны и счастливы. Самозабвенная растворенность в празднич-
ной стихии, неформулируемая убежденность в ее сакральной сущ-
ности, а также музыка, индейская или же с преобладанием индей-
ского начала7 — вот то главное, что обусловливает преемствен-
ность празднества, ставит в один ряд все его отрезки, строфы,
такты, начиная от отдаленнейших времен.
Эта преемственность особенно чувствуется в тех районах Мек-
сики, где продолжают жить во многом своей собственной жизнью
многотысячные потомки строителей священных городов и пира-
мид, в сознании которых, после шока первых столетий завоевания,
постепенно сложились в достаточно своеобразную систему много-
численные образы и символы поверженной цивилизации и принци-
пиально чуждые, но переосмысленные новации. Так, юкатанские
майя, теперь благочестивые католики, особенно женщины, тща-
тельно готовятся к очередному христианскому празднику, собира-
ются группами, своего рода конгрегациями, репетируют песнопе-
ния, сами вышивают изображения Девы Марии шелком и серебром
по алому и малиновому бархату, готовят гирлянды и другие укра-
шения. В осенние тихие дни, когда уже не так безжалостно палит
солнце, в богато расшитых упилях и многие в одинаковых лиловых
шелковых шарфиках на плечах, они движутся неторопливой про-
цессией по главной улице своих небольших городков, от главного
собора, через неизменное сокало — центральную площадь со скве-
ром посередине, мимо древних пирамид, как, например, в городке
Аканток. Тех самых пирамид, возле которых справляли свои, по-
видимому, такие же неторопливые и красочные торжества их до
сих пор превыше всего почитаемые предки.
Здесь праздник продолжает оставаться не только массовой со-
вместной литургией, но, как это было характерно для бесписьмен-
202
ды, эти люди — наследники тех, кто создал когда-то священную
книгу народа майя "Пополь-Вух", — обсуждают не только дела в
общине, но и то, что происходит за ее пределами, доносящиеся до
них отголоски событий в "огромном и чуждом мире", прислушива-
ясь друг к другу и уважая мнение друг друга, которое никого,
кроме их самих, не интересует.
Прилежные христиане (хотя индейские крестьяне все чаще ос-
тавляют католичество ради активно распространяемого протестан-
ства), общинники киче не забывают своих древних богов, и самый
главный праздник для них по-прежнему сбор урожая кукурузы —
священного маиса11, из которого, по преданию, были созданы
когда-то богами их прародители. Общинный дом, где собираются
все на праздничный обед, украшают большими букетами дикорас-
тущих цветов, набранных детьми тут же на склонах. Для богов воз-
жигают "священный дым" — смолу под названием "рот". Создает-
ся впечатление, что эти общинные торжества менее колоритны и
артистичны, что здесь нет длящихся иногда по нескольку дней ри-
туальных церемоний в честь земледельческих божеств и природных
стихий, как это еще имеет место кое-где в Перу и Боливии (о чем
будет сказано далее). И это понятно: хотя в хрониках первых деся-
тилетий завоевания отмечается пышный и торжественный характер
традиционных обрядов и многодневные празднества, в тех, време-
нами поистине нечеловеческих условиях, в которые было поставле-
но индейское население гватемальского Альтиплано, в ситуации
непрекращающегося массового террора, многие из традиций были
утрачены. Но, несмотря ни на что, они продолжают, как могут, от-
мечать главные вехи вечного круговорота жизни, радуясь уже
тому, что они живы: "не надо бояться,— говорил Ригоберте ее
отец,— потому что это жизнь, а если бы не было страдания и боли,
возможно, жизнь даже не ощущалась бы как жизнь. Такова жизнь,
мы должны страдать и в то же время должны ею наслаждаться"12.
Не считая своими, индейскими, официальные праздники, в том
числе и День независимости, Р.Менчу вынуждена в то же время со-
гласиться с тем, что все их праздники — смешанные, синкретичес-
кие и что в ряде случаев, особенно в танцах, испанские элементы
являются определяющими13. Это танец конкисты, танец быка, свое-
го рода танцевальная пантомима в честь Текун-Умана, героическо-
го вождя киче, сражавшегося против завоевателей. В то же время
нельзя не отметить, что чувства индейцев, их историческая память
выражается в значительной мере художественными приемами евро-
пейского происхождения.
Безусловно синкретический характер имеют многочисленные, в
том числе и традиционные празднества индейского населения Бо-
ливии и Перу, сохранившего гораздо больше из своих древних
205
самобытных культур отчасти благодаря изоляции в горных райо-
нах, а отчасти, и прежде всего в Перу, благодаря патерналистской
политике целого ряда режимов и насчитывающей уже около столе-
тия подвижнической поддержке индехинистской (т.е. проиндейски
настроенной) интеллигенции. Торжественно отмечая, как по всей
Латинской Америке, католические праздники, и особенно Страст-
ную неделю, общинники перуанской Сьерры не забывают и своих
прежних богов. Так, еще в 60-е гг. XX в. справлялись многоднев-
ные празднества, по сути своей магического характера, в честь бо-
жеств плодородия и воды, в честь древних покровителей, вероятно,
прародителей того или иного села и даже части села. Для этого
также создаются конгрегации, за 15 дней до праздника собираются
общинные власти и специально выбранные люди, подсчитывают
расходы (на мессу, оркестр, цветы, свечи, костюмы для исполняю-
щих роли обязательных персонажей праздничного действа), рас-
пределяют, кто за что отвечает14. При этом, что отмечается иссле-
дователями 80-х годов, наибольший вклад приходится на зажиточ-
ных общинников: таким образом осуществляется традиционное
перераспределение доходов и одновременно сглаживаются все
больше дающие себя знать противоречия между бедными и богаты-
ми общинниками15. В связи с этим нельзя не отметить, что во
многом все происходит почти так же, как две с половиной тысячи
лет назад в Афинах или других древнегреческих полисах, где лица,
занимающиеся организацией общенародных празднеств, образовы-
вали одну из наиболее значимых официальных структур.
Как уже не раз говорилось, автохтонное, языческое и привне-
сенное, христианское образует причудливое и вместе с тем уже до-
статочно органическое сочетание. Так, например, в некоторых ин-
дейских и даже метисских селениях Сьерры до сих пор совершают
старинные многодневные обряды с целью предотвращения засу-
хи — так называемый ангосай: мужчины и женщины становятся в
ряд по берегам акведука и совершают церемониальные возлияния
алкогольных напитков красного цвета, смешанных с водой, льют в
поток и сами угощаются из специальных рюмок, украшенных цве-
тами растения канту. Подобный ангосай справляют и в честь
жатвы, теперь уже вокруг холмика из снопов, на вершине которого
водружают крест, сделанный также из колосьев16. Характерно, что
в этих действиях участвуют как католические священники, так и
персонажи древних автохтонных мистерий, духи, божества, религи-
озные и должностные лица доиспанских времен — варайоки, ауки,
накаки и уаманкинос.
В течение нескольких дней совершаются возлияния и исполня-
ются традиционные танцы-пантомимы. К вечеру ауки (воины) под-
нимают крест, и общинники, наряженные ламами и погонщиками
лам, накаками (командирами) и уамани (духами), а за ними и все
206
остальные, во главе со священником и местными властями спуска-
ются с горы, где обычно проходит ангосай. На следующий день
возлияния продолжаются у чурульи, небольшого водоема возле
родника, тоже на возвышенности. И опять все одеты по-празднич-
ному, в новых накидках и шалях, под камнем у родника зарывают
традиционные приношения, затем следует общий завтрак и самоде-
ятельное представление со смешанными христианско-мифологичес-
кими сюжетами. К вечеру спускаются в поселок и затем танцы на
всю ночь: женатые танцуют отдельно, на площади, а холостые
парни, образовав цепь, кружат от квартала к кварталу, сопровож-
даемые хором поющих женщин. Во время этих ночных деревенских
балов, где присутствуют и элементы карнавала (танцоры обмени-
ваются сомбреро и накидками, закутывают лица, чтобы не быть уз-
нанными), завязываются знакомства и происходит сближение, ко-
торое обычно завершается браком.
Наивное сочетание древних святынь и современных националь-
ных символов не всегда встречает понимание властей. Так, во
время народного массового танца пируча на площадях сооружают-
ся своего рода пирамиды или конусы из высоких кольев и наверху
водружается перуанское знамя. Танец начинается в полночь, под
звуки арф и скрипок; освещаемые маленькими керосиновыми лам-
пами, располагаются вдоль стен продавцы водки — чичи и агуар-
дьенте. Разгорается веселье, завершаясь таким всеобщим пьянст-
вом, что местные власти приказывают убрать национальное знамя,
которому здесь уже не место17.
Так же синкретичны многочисленные народные праздники Бо-
ливии — и старинные обряды в общинах, и, тем более, такие тра-
диционные праздники, как аласита или акачила, справляемые го-
родским населением и шахтерами в горняцких поселках. Акачила
— "старики", хранители человека, аналогичные христианским ан-
гелам-хранителям, почитаются наравне с Тиулой (Тио), покровите-
лем шахт, или же Татой Бомбури в окрестностях города Сукре, бо-
жеством, в котором соединились Христос и анцестральный язычес-
кий бог этих мест18. Во время праздника аласита, в честь древних
божков или же добрых демонов-ильяс, приносящих богатство в
дом, повсюду продаются их маленькие керамические изображения,
которые еще люди доинских культур чиму и мочика носили как
амулеты для поддержания здоровья и продолжения рода, закапыва-
ли в полях для усиления плодородия почвы. Теперь в эти дни, от 12
до 24 января, когда вместе с ильяс царствует и древний бог изоби-
лия Экеко, народ покупает миниатюрные изображения того, что
каждому хотелось бы иметь: автомобили, дома, денежные знаки,
различные товары. Боливийцы хотят верить, что в конце года
ильяс и добрый, всемогущий Экеко все это им дадут19. Примитив-
ное тяжеловесное изваяние Экеко из пористого камня можно уви-
207
деть в музее Тиауанаку, теперь он выглядит, как вальяжный сеньор
с черными усами, в модной шляпе с сигарой в зубах и с мешком
добра за плечами. Фигурки Экеко хранятся на комодах и этажер-
ках во всех домах — он начинает год, как в других местах начина-
ют его Санта-Клаус или Дед Мороз.
В индейских селениях Альтиплано, как и в перуанской Сьерре,
кое-где до сих пор начало полевых работ сопровождается празд-
ничным обрядом кальяй, с "полевыми песнями" (чахра-кокой) и
приношениями Пачамаме и Тауичи, божествам земли и плодоро-
дия. Причем нередко плодоносящая Пачамама отождествляется с
Девой Марией, а рядом с ней, по древней традиции, не сын ее
Христос, а ее мачо (или, по другому, орко), которого разные индей-
ские народы называют по-разному; так, у орурских аймара он —
Тата Маллку20. Народные танцы, приуроченные к христианским
праздникам, также обнаруживают сочетание исторической памяти,
религиозного синкретизма и наивной "мести" порабощенных. Так,
в одном из танцев — "докторситос" ("докторишки") — высмеива-
ются старые помещики, горбатые и хромые, опирающиеся на трос-
ти.
Как писал об этом известный боливийский писатель-индеанист
Х.Лара, еще в 50-60-е гг. XX в. не только в селах Кочабамбы, но и
в городах справлялся древнейший из праздников — рутачикой,
день, когда ребенка подстригают первый раз в жизни. Он прохо-
дит, в общем, так же, как во времена инков (или даже в более ран-
ние времена), с той только разницей, что теперь не дается другое
имя, подарки состоят не в вещах, а в деньгах и сам праздник длится
не по нескольку дней, как раньше, а один вечер или ночь21.
Повсеместными являются своего рода маленькие карнавалы,
приуроченные к церковным праздникам, танцевальные процессии
ряженых — компарсы (компании или "братства") "чертей", "греш-
ников", "диких индейцев" и т.п. У каждой компарсы, которые
могут существовать длительное время, свой оркестр, свое место для
репетиций; по существу, это постоянные небольшие самодеятель-
ные коллективы или же основанные главным образом на творчес-
ком энтузиазме труппы, хотя бывает, конечно, и некоторое возна-
граждение в той или иной форме. Самые пышные и красочные ком-
парсы, с пением и танцами, в причудливых костюмах можно видеть
во время отмечаемого с особенной торжественностью праздника
Богородицы (Nuestra Senora) в Копакабане, на территории святили-
ща, построенного на месте древнего капища еще доинкских времен.
Сюда собирается народ, индейцы и метисы, не только из городкой
и селений боливийских окрестностей озера Титикака, но также из
Перу и Аргентины. В последние годы индеанистская университет-
ская интеллигенция, лидеры индейских движений андских стран
прилагают немало усилий к тому, чтобы возродить старинные язы-
208
ческие праздники возле священных уак — мест, связанных с праро-
дителями племен или с памятными событиями доколумбовой исто-
рии и предыстории. Эти праздники, например, в Пакаритамбо, в
Перу, представляют собой впечатляющее зрелище: со всех сторон
сюда стекаются крестьяне, да и не только они, которых учат гор-
диться своим происхождением и древней культурой, в разноцвет-
ных массивных пончо, вязаных шапочках и ярких шерстяных по-
вязках. Совершаются возлияния Пачамаме, а также Виракоче и Па-
чакути, и окрестные горы оглашаются трубными звуками путуту,
сзывавшего когда-то их предков на битву и на праздник. С одной
стороны, в этих безусловно театрализованных действах больше
символики, причем политической символики, современной мифо-
логии, но с другой, почти утратив свою первоначальную сакраль-
ную сущность, эти массовые торжественные сборища опять выпол-
няют, хотя, конечно, уже далеко не в такой степени, как в идеали-
зируемые теперь времена Инканата, консолидирующую роль, со-
здавая впечатление того культурно-расового единства, которое
также остается одной из главных индеанистских мифологем22.
И, наконец, карнавал — как наиболее сильное и завершенное
выражение народной культуры той "третичной" цивилизации, ко-
торая складывается, по А.Тойнби, в странах древних индейских ци-
вилизаций. Боливийский карнавал, один из вариантов которого
мне довелось видеть в Ла-Пасе в мае 1992 года, это, безусловно "де-
тище двух культур", но также очевидно и то, что у этого детища
вырисовываются все более отчетливо характерные черты его ин-
дейской Пачамамы. И хотя в этих массовых действах, своего рода
мистериях, доминируют, казалось бы, мотивы и образы европей-
ского происхождения, языческим в самом полном понимании этого
слова остается сам дух карнавала,— не развлечения, но древнейше-
го таинства несмотря ни на что возобновляющейся жизни, во всех
ее трагических противоречиях; это тот же, идущий из самых глубин
человеческого существа гимн бытию, какими были грозные хоры
еврипидовых вакханок.
Как в свое время на рабских дворах Гаити или Кубы рабам раз-
решалось представлять сценки из жизни господ, наряжаться "белы-
ми" и этим хоть немного смягчить горечь своего положения не-
вольников, живых орудий труда, так и нарочито гротескные маски
наглых гачупинов-испанцев, священников и розовощеких одутло-
ватых ангелов несут в себе отчетливо проглядывающий психологи-
чески-компенсаторный элемент, подспудное насмешливое отрица-
ние. Многочисленные супайкана — автохтонные демоны, которые
раньше могли быть и добрыми, и злыми, а теперь идентифициру-
ются с христианскими чертями (хотя на карнавале в Оруро, с его
индейской доминантной, "хорошие" супаи танцуют перед богиней
плодородия); "жены дьявола", также, видимо, бывшие "чина
209
супай" — демоны женского рода, в коротеньких юбочках, высоких
сапогах-ботфортах и с дьявольскими символами на глубоко откры-
тых спинах, какие-то мифологические персонажи с рогами, шипа-
ми и клыками — все они движутся в неспешном танце, который
только и возможен на таком высокогорье. Довольно монотонная
индейская музыка, в оркестре преобладают небольшие духовые ин-
струменты, разновидности флейт, неторопливые, размеренные
шаги и повороты, многократно повторяющиеся фигуры, возможно,
некоторые из них испанского происхождения, но в силу иного
ритма уже почти неузнаваемые. Дюжие аймара в традиционных на-
рядах чувствуют себя полновластными хозяевами картонных ис-
панцев-гачупинов и так и не ставших до конца своими святых, их
истовое вышагивание, танец, экзальтированный рисунок которого
напоминает шаманское камлание,— это, как уже говорилось, не ве-
селье, а то же самое, по всей вероятности, уже не осознаваемое ма-
гическое заклинание высших сил, какими были ритуальные действа
Тиауанаку.
* * *
Сохранят ли индоамериканские празднества свой теперешний
характер или же им суждено понемногу иссякнуть, уступив место
другим, более камерным формам культуры, дойдя до того, крайне-
го предела пассивного развлечения атомизированных индивиду-
мов, каким является пресловутый просмотр бесконечных телесери-
алов? Все зависит от того, какой поворот примет уже в ближайшие
десятилетия всемирная история, какие возобладают приоритеты в
становящейся все более общей и все более уязвимой жизни мирово-
го сообщества. Если исходить из известной схемы А.Тойнби (кото-
рая, впрочем, не кажется уже столь убедительной, как в 70-80-е гг.
XX в., в свете усиления социал-дарвинистских тенденций), то по
мере формирования своего рода "сельской цивилизации" можно
ожидать актуализации многих из тех примордиальных форм куль-
туры, которые все еще являются основными для так называемого
"отсталого большинства" человечества.
Многие из архетипов, уже, казалось бы, давно изживших себя,
могут обрести новый смысл на следующем витке истории, а вернее,
"постистории", с ее все более вырисовывающимися адаптационны-
ми и спиритуалистическими, даже мифологизирующими характе-
ристками. При постепенном схождении на нет элитарных форм
культуры, и прежде всего европейских форм (о чем пишут также и
А.Тойнби, и П.Сорокин), ее массовые формы, в том числе и празд-
ничная процессия, теперь уже скорее действо, чем карнавал, воз-
можно опять станут тем, чем они были в начале истории и раньше
ее — совместным катарсисом и магическим соединением с ИНЫМ;
патетическим выражением финалистского коллективного бессозна-
210
тельного, и в то же время предельного, глубочайшим образом осо-
знанного единения человеческих существ в извечной мистерии
духа.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Montoya R. La cultura quechua hoy. Lima, 1987. P. 15.
2 Comunidades campesinas. Cambios у permanencias. Chiclayo, 1988.
P. 16.
3 ЛандаД. de. Сообщение о делах в Юкатане. М., 1994. С. 187.
4 Там же. С. 179, 182, 196.
5 Montoya R. Op. cit. P. 11.
6 Montano Aragon M. Antropologia cultural boliviana. La Paz, 1977. P. 129.
7 Mexico y la cultura, Mexico, 1961. P. 609.
8 ALAI. Quito — Montreal. 1990, № 131. P. 10.
9 Smith A.C. Indian class and class consciouness in prerevolutionary Guate-
mala. Washington, 1984. P. 22; Arias A. Ideologìa, literatura y sociedad du-
rante la revolución guatemalteca. La Habana, 1979, p. 73.
10 Testimonio. Me Llamo Rigoberta Menchu. La Habana, 1983. P. 48.
11 Ibid. P. 108-109.
12 Ibid. P. 305.
13 Ibid. P. 320.
14 Estudios sobre la cultura actual del Peru. Lima, 1964. P. 256.
15 Lausent U. Pequena propiedad, poder y economia de Mercado. Lima,
1983. P. 406.
16 Estudios sobre la cultura actual del Регъ. Op. cit. P. 256-257.
17 Ibid. P. 261-262.
18 Montano Aragon M. Op. cit. P. 117-118.
19 Ibid. P. 160.
20 Ibid. P. 84, 114.
21 Lara I. La cultura de los Incas. La Paz, 1966. P. 259-360.
22 Pacheco D. El Indigenismo y los indios contemporâneos en Bolivia. La
Paz, 1992. P. 130,267.
И.В.Бутенева
ПРАЗДНИКИ В ПЕРУАНСКОЙ СЬЕРРЕ
Когда речь идет о различных феноменах культуры Латинской
Америки, неизбежно возникает тема дуализма. Для Перу это преж-
де всего дуализм Косты (западного побережья) и Сьерры (горной
области, включающий в себя различные климатические и ланд-
шафтные зоны). Устойчивое противостояние Косты и Сьерры обу-
словлено резко разнящимися между собой природными условиями,
211
создающими труднопреодолимые препятствия для взаимопроник-
новения культуры суровых гор и прибрежных долин. В городах
Косты, где активно шел процесс метисации и интеграции, наблю-
даются синтетические явления в праздничных действах, выражаю-
щиеся в том, что для их участников осознание себя как представи-
теля определенной общины, клана или рода, характерное как для
Тауантинсуйу, так и для вице-королевства Перу, да и для более
позднего времени, сменяется осмыслением собственной персоны
как участника праздника вообще, не обязанного выступать от
имени какой-либо родовой группы, связанной с конкретной терри-
торией. Участники современных праздников Косты — это в боль-
шинстве члены профессиональных групп или студенческих коллек-
тивов, а сами праздники зачастую превращаются в феномен массо-
вой культуры, когда, например, устанавливается твердая цена за
освящение креста в День Креста (один соль за крест любых разме-
ров).
Процессы интеграции идут и в Сьерре. Значительно ускорив-
шиеся вследствие проведения автомобильных дорог, они все же не-
достаточно глубоки, чтобы даже при описании общенародных
праздников не подчеркивать, что в каждой области сохраняется ус-
тойчивый местный колорит и ревностно сохраняемые традиции.
Перуанская Сьерра — именно то место, где природа накладыва-
ет неизгладимый отпечаток на картину мира живущих там людей и
на явления культуры, особенно такие, как всеобщие праздники.
Это относится не только к индейцам. Испанцы, поселившиеся в
Сьерре, прежде всего в суровых по условиям и труднодоступных
местах, вроде долины Апуримака, тоже вынуждены были изме-
ниться. Чтобы сохранить целостным сознание, выжить и опреде-
лить свое место в мире, им пришлось индеанизироваться. Но и ин-
дейцы не остались прежними. Результатом деятельности первых
миссионеров стало изменение основных констант в мировоззрении
индейцев. Миссионеры проникли в душу народа — в его язык, сви-
детельство тому — не только богатое наследие в виде молитв, гим-
нов и проповедей на кечуа, но и то, что многие индейцы преврати-
лись в ревностных католиков, отправляя свои религиозные обязан-
ности часто даже в ущерб укладу жизни. Основные католические
праздники в Сьерре сродни традиционным индейским праздникам
по всей Латинской Америке. Это дни, когда можно забыть о всех
житейских невзгодах и непосильном труде, забыться в полном
смысле этого слова, дни, когда спиртное течет рекой, вдоволь уго-
щений и хлеба, а песням и танцам нет конца. Для жителей Сьерры
дело чести устроить хотя бы один настоящий, грандиозный празд-
ник в жизни. Это может придать смысл как тяжелому труду и жест-
кой экономии, так и спокойному существованию провинциала.
212
Мы будем рассматривать праздники общенародного характера,
как религиозные, так и гражданские, связанные, например, с трудо-
вой деятельностью, прежде всего в сельском хозяйстве, так как для
большинства жителей Сьерры основным занятием остается возде-
лывание полей, своих собственных и в крупных асьендах. Католи-
ческие праздники, конечно, занимают в этом смысле первое место,
потому что религия объединяет представителей различных рас,
племен, кланов и общин. Правда, некоторые исследователи отмеча-
ют, что миссионерская деятельность адвентистов, усилившаяся в
последнее время, привела к отказу от особо вызывающих с их
точки зрения танцев и костюмов. Но эта кампания не может изме-
нить восприятие основных праздников католического литургичес-
кого года как всенародных и освященных, как уже можно говорить
и о Перу, вековыми традициями.
Праздничные действа интересуют нас прежде всего как нагляд-
ное проявление синкретизма, и в случае Перуанской Сьерры этот
праздничный синкретизм выступает как многослойный культур-
ный феномен. Проще всего его можно описать как соединение и
взаимопроникновение различных элементов, приводящее к рожде-
нию целого, обладающего качествами, несводимыми к качествам
отдельных его составляющих.
В праздниках Перуанской Сьерры сливаются индейская и
иберо-креольская культуры, каждая из которых питается несколь-
кими разнородными источниками. Стираются социальные разли-
чия, женщины и дети ощущают себя полноправными и необходи-
мыми участниками веселья, без чьих голосов праздничный хор не
был бы гармоничным. Вместе с современными мелодиями и понят-
ными всем словами звучат древние напевы или воспроизводятся
танцы, в которых усматриваются связи не только с языческой ин-
дейской или ранней христианской, но даже с мавританской культу-
рой.
Карнавал Перуанской Сьерры во многом сходен с европей-
ским — то же царство игры, тот же безудержный выход радости и
веселья, та же барочная изысканность маскарадных костюмов. Но
если говорить о травестийности, следует отметить, что латиноаме-
риканская карнавальная травестийность особого рода. Здесь у
переворачивания знакомых образов с ног на голову — особое зна-
чение. Участники действа пытаются осознать свою причастность к
определенной этно-социальной группе, утвердить смысл своего су-
ществования как потомков какого-либо клана или племени, пред-
ставителей конкретной культуры. Переодевание и маска таким об-
разом помогают не отрешиться от действительности, а найти само-
го себя. То есть это акт этнокультурной самоидентификации.
В то же время очевидно внедрение в поэтику праздников чуже-
родных элементов. Развитие массового туризма за последнее время
213
коснулось и Сьерры. Стали модными традиционные индейские вя-
заные шапки, просто необходимые в горных условиях, некоторые
украшения, тканые сумки, керамика. Но туристов привлекают
прежде всего традиционные костюмированные танцы, исполняе-
мые на больших праздниках. Часто приезжие иностранцы с фото-
аппаратами являются единственными зрителями спектакля, разы-
грываемого на пыльной площади или на перекрестке дорог. Участ-
ники танцев спешат исполнить свой номер и отбыть в ближайшее
место, где продают чичу. Этнографы отмечают начавшуюся дегра-
дацию праздничного танца, связанную с утерей его корней, пони-
мания смысла исполняемых движений и элементов костюма. Дегра-
дация выражается в беспорядочном переходе персонажей из одного
танца в другой, что раньше никогда не допускалось. Привлечение
сразу нескольких ярких представителей разных танцев создает ви-
димый зрелищный эффект и дает возможность наблюдать сразу все
богатство праздничных костюмов, но одновременно искажает зна-
чение танца, превращает его из многосмыслового обрядового дей-
ства в обыкновенный спектакль, исполняемый для развлечения
публики.
Дьяблос (дьяволы) — обязательные участники больших праздни-
ков. Их танец — дъяболико — можно увидеть не только в Сьерре,
но и в Боливии, где костюмы дьяволов отличаются устрашающей
красочностью и дополняются золотой рыбкой и змеей, которых
танцор держит в руках. В разных провинциях Сьерры дьяблос
имели свой особый внешний вид, но в последнее время очень попу-
лярными стали большие, раскрашенные в яркие цвета маски, напо-
минающие морды львов в тибетском исполнении. Подобные
"львы" участвовали и в праздничных процессиях времен инков, но
тогда они демонстрировали свою принадлежность определенному
роду: "Другие приходили точно такими, каким изображают Герку-
леса, одетыми в шкуру льва, а на голову индейцы надевали льви-
ную голову, ибо они похвалялись происхождением льва"1. Задача
же дьяблос — развеселить и в то же время напугать публику, вы-
звать острые ощущения паники и удовольствия у мысленно подго-
товленной ко встрече с ними толпы, и в этом они походят на дру-
гих персонажей инкских шествий — йунки: "Другие надевали на
себя специально изготовленные маски самых отвратительных,
каких только можно представить, физиономий, а этими были
йунки. Они вступали в праздничное шествие с жестами и ужимками
сумасшедших, дураков и простофиль".2
Иногда во время праздничных танцев с участием дьяблос к ним
присоединяется уэраккоча, и в этом случае они вместе напоминают
основных персонажей европейского карнавала — Тощий Пост и
Жирную Масленицу, потому что дьволы явно показывают свою
важность и значительность (Перуанскую Сьерру и Альтиплано на-
214
зывают единственным местом на земле, где дьявол пляшет), тогда
как уэраккоча, изображающий белого в представлении индейцев, то
есть не в лучшем виде, выступает в роли шута. Это еще один род
карнавальной травестийности, низводящей испанского кабальеро
до потешного дурака и позволяющего дьяволам чувствовать себя
хозяевами положения.
Туристы желают видеть танец дъяболико, и им его показывают,
часто даже если присутствие дъяблос противоречит традиционным
канонам многих танцев. Некоторые исследователи видят в этом
деградацию старинного праздничного танца, другие рассматрива-
ют подобные явления как путь к интеграции и синтезу различных
культур.
Карнавал
Священная река Апуримак течет по горным ущельям там, где
высятся самые могучие вершины перуанских Южных Анд. Здесь
Апуримак вырывается из глубоких расщелин, и по всем окрестнос-
тям Тамбобамбы разносится его рокочущий голос. На кечуа Апу-
римак значит "могущественный, который заговорил". Из этой су-
ровой и труднодоступной местности река сбегает по восточным
склонам Анд и по сельве устремляется к Амазонке. В ущельях Апу-
римака рождается холодный ветер, выстуживающий рощицы кар-
ликовых деревьев и кукурузные поля, прилепившиеся к горным
склонам.
В долине Апуримака обитало некогда племя чанков, долго вед-
шее войну с Таунтаинсуйу. "Это богатые и очень воинственные
люди. Этот народ называется чанка; они похваляются происхожде-
нием от одного льва, и они так его воспринимали и так поклоня-
лись ему как богу; а во время их великих празднеств, до и после
того, как они были завоеваны королями инками, выходили две дю-
жины индейцев в том же наряде, в каком рисуют Геркулеса, покры-
того шкурой льва, (только) индейцы просовывали свою голову в
голову льва"3.
Во время Конкисты чанки последними покорились испанцам. В
периоды смуты и гражданских войн в долине Апуримака сража-
лись партизаны-монтонерос. Отсюда происходят самые отчаянные
разбойники и виртуозные гитаристы и исполнители песен.
На карнавале в Тамбобамбе все подчинено древним индейским
ритмам и мелодиям. Музыка исполняется только на двух традици-
онных инструментах — пинии и пинкульо. Флейты-пинкульо делают
из изогнутых ветвей бузины, оплетенных бычьими сухожилиями.
Голос у пинкульо сиплый и глубокий, с низкой тональностью, на
ней никогда не играют в закрытом помещении. Последняя часть
215
слова пинкулъо восходит к кечуанскому "улью", "илья", которым
обозначают смутные и загадочные явления, фантомы языческого
мировоззрения. Пинкулъо — название не только флейты, но и того
таинственного и отрешенного состояния, которое вызывается ее
звучанием. Голос пинкулъо как нельзя более подходит для карнава-
ла в Тамбобамбе, проводимого в феврале в дни полнолуния. С гор
устремляются потоки воды, увлекая за собой стволы деревьев и
камни. Апуримак вспучивается и вскипает гибельными водоворо-
тами. Голоса людей, покинувших свои дома, чтобы петь и танце-
вать на празднике, пытаются перекрыть шум дождя и грохот реки.
В эти самые суровые дни года на карнавале в Тамбобамбе зву-
чат печальные песни на древние индейские мелодии: "Кровавая
река прибила к берегу влюбленного из Тамбобамбы. Лишь тинья
его проплыла, лишь чаранго его проплыло, лишь кена его проплы-
ла. А девушка, его любившая, молодая, его боготворившая, глаза
проплакала, разглядывая с берега. Лишь тинья его проплыла, лишь
кена его проплыла.
Кровавая река прибила к берегу влюбленного из Тамбобамбы.
Лишь кена его проплыла, а он уже умер, его уже нет.
Несчастье обрушилось на селение, и с высоты взирает кондор.
Девушка, та, которую он боготворил, рыдает на берегу"4.
Как и по всей Латинской Америке, карнавал в Сьерре — глав-
ный праздник года. Однако в Сьерре краски карнавала часто при-
обретают печальный и грустный оттенок. Среди зрителей, если они
есть, преобладают туристы, чей интерес к празднику весьма по-
верхностен. Но для участников действа, всецело отдающихся весе-
лью и ритмам музыки, карнавальные дни — неотделимая часть
жизни, задающая смысл всему году.
Карнавальные мелодии едины для всей Сьерры, но танцы в каж-
дом селении отличаются разнообразием. Праздник обычно прохо-
дит на площади, наиболее низко расположенном месте городка,
перед церковью. На севере карнавальная музыка беднее, чем в
южной части Сьерры. Метисы и креолы играют на гитарах, индей-
цы же предпочитают пинкулъо и пинию, как на Апуримаке. Особен-
но популярны исполнители народных песен — чолос. Они выступа-
ют парами, расхаживая по площади под аккомпанемент гитары,
отрешенно прикрыв глаза. Среди общего шума выделяется голос
тиньи — вертикального барабана, поверх ударной части которого
натянут шнур из свитых кишок. В Кахамарке тинъю называют ис-
панским словом каха, и играют одновременно на нем и на флейте.
216
Праздник Креста
На земле Тауантинсуйу было много священных мест для покло-
нения. Совершая долгий путь, индейцы делали там остановки, от-
дыхая и принося духам свои скромные жертвы. Своеобразные язы-
ческие "часовни" имелись и при подвесных мостах, но особо почи-
тали высокие части ландшафта — холмы на окраинах селений и
горные вершины. После прихода испанцев традиционные священ-
ные места были украшены настоящими часовнями и католически-
ми крестами. "В наше время благодаря милосердию Бога на верши-
нах тех горных склонов стоят кресты, которые они украшают, вы-
ражая благодарность за то, что они соединяли их с Христом,
нашим господом"5.
Крест стал наиболее важной составляющей новой картины мира
жителей Сьерры. Он воспринимается как покровитель общины и
каждой семьи. Деревянные и металлические кресты венчают конь-
ки крыш. Крест — обязательный участник процессий, устраивае-
мых в честь праздников. Большой крест полированного дерева
(редкий и дорогой материал для Сьерры) украшает горную верши-
ну, у подножия которой расположено селение. Каждый год в День
Креста происходит освящение крестов, которые приносят на пло-
щадь перед церковью и выстраивают в ожидании выхода священ-
ника. Крест-покровитель селения освящают один раз, при его уста-
новлении. Но в Пампас это делают из года в год в день праздника
Креста. Крест Пампас стоит на вершине горного склона, почти
гладкого, лишенного растительности. По этому склону крест осто-
рожно спускают вниз, а затем переносят на своих плечах к церкви.
Пампас расположено в центре Сьерры и отличается также тем, что
на его полях выращивают лен. В праздник Креста жители селения
собираются на горной вершине еще до наступления рассвета. На
то, чтобы снять огромный, вырубленный из эвкалипта крест с пье-
дестала и спустить его вниз, уходит весь день. Ночью в селении
проводится бдение у креста. Индейцы, охраняющие его, разговари-
вают, угощаясь чичей. Пампас скуп на песни и танцы. Крест несут
к церкви и возвращают на место в торжественном молчании.
В селениях Сьерры существует обычай переносить тяжелые де-
ревянные кресты к церкви во время Страстной недели. Крест берет-
ся перетащить на своих плечах один человек, желающий повторить
путь Христа на Голгофу. Часто этот крестный путь заканчивается
весьма печально, что обостряет восприятие события как акта веры.
217
День Всех Святых
1 ноября — католический праздник Всех Святых. На следующий
день по традиции проводится поминовение усопших, начинающее-
ся с ранней мессы. Люди, собравшиеся в церкви и на паперти, стоя
на коленях, громко выкрикивают слова молитв на испанском и на
кечуа. Священник благословляет протягиваемые к нему бутылки с
водой, которую индейцы будут понемногу выплескивать на землю
во время многочисленных остановок по дороге к кладбищу. На
площадке перед кладбищем устанавливают алтарь, покрытый чер-
ным сукном, куда кладут приношения мертвым — плоды земли, го-
рячий картофель с мясом, слепленные из хлеба фигурки домашних
животных. На алтаре находится также крест и два глиняных коль-
ца.
Возле могил устраивают отдельные алтари, покрытые черными
пончо или в виде холмика из земли и камней. Индейцы считают,
что умершие не более трех лет назад в ночь с первого на второе
ноября спускаются из чистилища в свои дома. В этот час повсюду
звонят колокола, семьи молятся над разложенными на столе веща-
ми усопших. Покойникам предлагают еду и питье, так как, по мне-
нию родственников, в чистилище они испытывают мучительный
голод и жажду.
Второго ноября души усопших отдыхают у своих могил и снова
угощаются. Некоторые устраивают алтари на пути от церкви к
кладбищу. Здесь же собирается множество калек, нищих и увечных,
за небольшую плату готовых возносить молитву об умерших по
просьбе родственников. Этим же подрабатывают монахи-расстри-
ги, индейцы, обучавшиеся в монастырях, школьники и даже мети-
сы. Однако считается, что наиболее эффективны молитвы убогих и
нищих. Молясь, индеец держит в руках книгу, которая может быть
как священной, так и светского содержания, вплоть до комиксов.
Молящийся не читает, а воспроизводит некий текст, в котором
перемешаны слова из испанского, латыни и кечуа. Главное — чув-
ство и повторение интонаций священника, которые обладающие
прекрасным музыкальным слухом индейцы запоминают в мельчай-
ших подробностях. Но встречаются и вполне осмысленные обраще-
ния к небу: "Боже, сущий на небесах! Вот твое создание, здесь! Оно
раскаивается, и плачет и жаждет совета твоего! Унеси его на небе-
си! Вечно несчастного и страждущего!"6
Вечером души усопших возвращаются в чистилище. Их путь
длиннее и тяжелее, чем спуск вниз, но они хорошо подкрепились у
алтарей. Родственники в свою очередь приступают к угощению. Но
перед этим они со слезами и молитвами прощаются с умершими.
На дороге от кладбища к селению долго слышны стоны и плач.
218
Таса тьячий
Таса тьячий — самый важный гражданский праздник индейских
общин Сьерры. Его название переводится как "выбрать того, кто
будет обладать мерами". На этом празднике происходит утвержде-
ние губернатором варайоков,— выбранных общим собранием глав
общин или председателей городского совета. Варайок значит "тот,
кто имеет жезл", и должность эта восходит к алькальдам времен
вице-королевства. Жезл варайока — символ его власти и патерна-
листического авторитета в общине. На нем в виде серебряных укра-
шений воспроизводится картина мира современного индейца: горы
и озера, деревья и цветы, дикие и домашние животные, как энде-
мичные, так и завезенные из Старого Света (лошадь и бык).
Должность варайока чрезвычайно разорительна, так как он дол-
жен оплачивать все праздники и пиршества в течение года. Тем не
менее каждый член общины стремится побывать варайоком, потому
что последние пользуются особенным почетом и уважением.
Таса тьячий проводится 10 июля. Рано утром выбранные ва-
райоки на конях приезжают в столицу района и в сопровождении
оркестра из пинкульо и барабанов ждут, когда солнце поднимется
достаточно высоко, чтобы можно было отправляться к губернато-
ру. В доме губернатора индейцы демонстрируют свое умение тан-
цевать сапатео (чечетку), затем губернатора торжественно пригла-
шают посетить селение. Он едет на лошади или на специально на-
нятой варайоками машине. В селении губернатора встречают зано-
во выбеленные стены домов и церкви, на площади стоят навесы и
алтари, украшенные флажками и старинными монетами. Взрыва-
ются петарды и взлетают ракеты. Жены варайоков преподносят гу-
бернатору чу спи — кожаные сумочки для коки, расшитые цветны-
ми шерстяными нитками. Губернатор располагается под одним из
навесов и вручает новым варайокам жезлы. С этого момента они
официально вступают в должность, и празднование начинается. Гу-
бернатору и его свите преподносят изысканные блюда индейской и
метисской кухни и горячительные напитки. Он отвечает на услуж-
ливые предложения варайоков раз навсегда утвержденным текстом,
повторение которого входит в ежегодную церемонию: ''Варайок,
еда отвратительная, дурно пахнет, повара никуда не годятся и так
мало вина и хлеба! Разве не известно, как надлежит принимать се-
ньора губернатора?"7
Угощение жителей селения также проводится по устоявшимся
правилам. Мужчины располагаются на церковной паперти, женщи-
ны — за длинным столом перед церковью, дети — вдоль домов, ок-
ружающих площадь. В центре площади играет оркестр.
После пира начинаются танцы, продолжающиеся до глубокой
ночи, несмотря на отбытие губернатора.
219
Праздник сева
В настоящее время почти по всей Сьерре начало посевной поры
превратилось в семейный праздник. Однако в больших асьендах,
выращивающих пшеницу, оно отмечается как всеобщее торжество.
В основе всех сельскохозяйственных праздников лежит глубо-
кое, религиозное почитание земли, называемой индейцами Пачама-
ма — Мать Земля.
Перед началом и после окончания сева устраивают жертвопри-
ношение земле. Ей предлагают новую чуспу, наполненную кукуруз-
ными зернами, специями, жиром ламы, бумагу, раскрашенную зо-
лотой и серебряной краской. Кто-нибудь из стариков берет пучок
пшеницы и дует на него, затем подношение закапывают в укром-
ном уголке поля. В заключение все молятся о благосклонности выс-
ших сил к посаженным зернам. Обычай дуть на приношение суще-
ствовал и в Тауантинсуйу: "а в качестве подношений, дернув себя
за брови, и вне зависимости от того, вырвали они или не вырвали
хотя бы один волосок, они сдували его в сторону неба и кидали
траву, называвшуюся Кука, которую держали во рту и которую
они так высоко ценили, словно говоря, что отдают ему самое цен-
ное, что имели с собой; они подносили ему какую-нибудь палочку
или соломинку, если такие находились рядом, а у них не было с
собой лучшей вещи"8.
Посевная пора, кроме самой работы, включает множество риту-
альных действий. Во время отдыха мужчины пьют чичу и обяза-
тельно проливают немного на землю в качестве приношения. Мо-
лодежь бегает и резвится, и иногда кто-нибудь из парней хватает за
ноги девушку и волочит ее по полю. Считается, что ее девствен-
ность должна передаться земле.
Во время сева в темноте индейцы обращают к земле ритуальные
песнопения. Солист резким голосом заводит скорбную заунывную
песню. После паузы слова повторяет мужской хор. Похожие песни
исполняются после окончания сева, когда работники собираются в
прихожей хозяйского особняка или в доме управляющего, чтобы
угоститься чичей и тростниковой водкой. Слова и музыка импро-
визируются, но смысл остается все тем же — это мольба к земле.
Пение может продолжаться часами. "О земля, наша мать! Посмот-
ри, как страдаем мы, дети твои, и услышь наш плач и стенанья. Так
прими же ты в нежное лоно свое семена, что тебе доверяем. Сохра-
ни и взрасти их. А мы благодарно к тебе припадем"9.
220
Праздник сбора урожая
Праздник сбора урожая ведет начало от времен инков. Но посе-
лившиеся в Сьерре испанцы внесли в него новые элементы, так что
пора страды стала настоящим торжеством и для креолов, и для ин-
дейцев, и для метисов. Даже самую тяжелую работу они выполня-
ют с радостью, и повсюду звучат песни. Полностью ритуалы стра-
ды, как и сева, исполняются только в больших имениях, где выра-
щивают пшеницу на продажу.
Праздник сбора урожая проходит в мае, когда устанавливается
хорошая погода. В этот день еще до рассвета собираются пригла-
шенные на работу. Хозяин поля размещает в разных его концах
кувшины с чичей и водкой и мешочки с кокой. Кколъяна — главный
над работниками (им обычно назначается первый прибывший на
поле) — возносит благодарность земле, небу и почитаемым горным
вершинам. Звучит хайчайа — ритуальная песня уборки, так называ-
ется и танец, который исполняют пеоны, когда по окончании сбора
урожая несут тяжелые снопы пшеницы на гумно. Последним в этой
процессии идет хозяин, держа в руках большой, сплетенный из ко-
лосьев крест. Его он возлагает посередине гумна.
Молотьба — самая веселая часть праздника. Сначала быков,
лошадей и ослов гонят по гумну, пока колосья не превратятся в со-
ломенную труху. Затем животных заставляют бегать по кругу, и
вместе с ними с радостными криками и песнями, пританцовывая,
носятся люди. Через каждый час кколъяна останавливает хоровод и
объявляет перерыв для отдыха — халъпу.
На многих асьендах в Сьерре существует обычай посещения хо-
зяина его крестниками во время халыгы. Они вручают крестному
деревянный крест, украшенный колосьями и привязанными к нему
бутылками с пивом, водкой и кокой. В число подарков входит
также деревянная рама, обмотанная ярким холстом, в складках ко-
торого спрятан мешочек с кокой, и горячие блюда из кур и мор-
ских свинок, приправленных пряным соусом.
После молотьбы пшеницу провеивают. Работу выполняют муж-
чины в полном молчании. Первые горки зерна обрызгивают чичей.
Считается, что это метисский обряд. Затем зерно сгребают в боль-
шую кучу и переносят в амбар.
По окончании работы кколъяна выступает с торжественной
речью, выражая благодарность земле, водке, чиче. В завершение
праздника жена хозяина приглашает всех на пир, основное блюдо
которого — жареные морские свинки. Кколъяна первый пробует
этот деликатес, разжевывая самую большую тушку вместе с голо-
вой и костями. За угощением следуют танцы.
221
Свадьба
Свадьба — семейный праздник, и проводят его в разных селени-
ях по-своему. Мы опишем празднование свадьбы в провинциях
Канас, Эспинар и Канчис департамента Куско.
Основные персоны на свадьбе, кроме самих новобрачных, —
хатуннацрнно, главный крестный отец, и крестный отец для выку-
па жениха. Во дворе дома, где будут играть свадьбу, сооружают из
земли и соломы "брачную комнату". Крестный отец выкупа идет
во главе процессии в церковь, держа перед собой блюдо с серебрян-
ными монетами. В шествии участвует оркестр. Приглашенные
несут длинные шесты, украшенные разноцветными лентами, и ри-
туальные цилиндры со специальными ручками, обшитые шелком с
золотистым шнурком и кусочками зеркала. Жених одет в черное,
невеста — в свой самый лучший наряд. После венчания процессия
в том же порядке возвращается во двор, где их ждет "брачная ком-
ната". Начинается веселье. Новобрачные участвуют в танцах до ве-
чера. Затем крестные отцы соединяют их серебрянной цепью и про-
вожают в "брачную комнату" до сложенной из кирпичей кровати, в
углах которой помещают свечи. Крестный отец дает советы жени-
ху, крестная мать — невесте. Затем они зажигают свечи и оставля-
ют молодых одних. На дверь "брачной комнаты" снаружи вешают
большой замок. Во дворе продолжается празднование.
На следующий день после брачной ночи проводится церемония
надевания кольца. Новобрачные, крестные отцы и гости собирают-
ся в доме в самой большой комнате. Приглашенные, начиная с
крестных, по очереди подходят к невесте и, объявив о своих подар-
ках молодой семье, немного продвигают кольцо на ее пальце. При-
ношением могут быть как деньги, так и домашние животные, куку-
руза, картофель, водка, инструмент. По окончании церемонии
крестный отец называет общую стоимость подарков и дает моло-
дым советы о различных честных способах ведения хозяйства.
За надеванием кольца следует пир, а потом — танцы, коронным
номером которых является изображение мистис — белых. Невеста
и ее крестный отец танцуют джаз, румбу и вальс. Оркестр в собст-
венном изложении воспроизводит музыку всех известных танцев
белых. Движения индейцев превращаются в комичную пантомиму.
Праздник свадьбы продолжается не менее трех дней.
В семейных праздниках проявления синкретизма наименее за-
метны, потому что именно в семьях устойчиво сохраняются старин-
ные традиции. Однако даже в индейской свадьбе можно наблюдать
соединение культур: обязательная церемония в церкви и исполне-
ние современных американских танцев соседствуют с древними ин-
дейскими ритуалами.
222
Сельскохозяйственные праздники, уходящие корнями в культу-
ру инков и других племен Сьерры, также содержат элементы, свя-
занные с испано-католическим влиянием: это деревянные и спле-
тенные из колосьев кресты и церемония посещения крестниками
хозяина поля.
Таса тьячий, хотя и является основным гражданским праздни-
ком индейских общин-айлъю, обязан своим происхождением иберо-
креольской культуре времен колонизации. По смыслу взаимоотно-
шения между губернатором и варайоками напоминают европей-
скую феодальную систему, институты которой были перенесены в
Новый Свет и частично воспроизводятся и в настоящее время.
Самым ярким примером взаимодействия испанской и индей-
ской культур служат католические праздники Сьерры. На карнава-
ле, во время праздника мертвых, в День Креста мы видим соедине-
ние и причудливое сочетание иберо-креольской и традиционной
индейской картины мира, порождающее новое восприятие действи-
тельности и нового человека, который утверждает свое существова-
ние на древней земле Сьерры, опираясь на различные элементы
этих встретившихся полтысячелетия назад культур.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Инка Гарсиласо де ла Вега. История государства инков. Л., 1974.
С. 384.
2 Там же.
3 Там же. С. 222.
4 Аргедас Х.М. Обычаи и обряды индейцев. Алма-Ата, 1989. С. 91.
5 Инка Гарсиласо де ла Вега. Указ. соч. С. 81.
6 Аргедас Х.М. Указ. соч. С. 141.
7 Там же. С. 108.
8 Инка Гарсиласо де ла Вега. Указ. соч. С. 80.
9 Аргедас Х.М. Указ. соч. С. 113.
И.А. Оржицкий
(Харьков, Украина)
ПРАЗДНИК КАК ОБНАРУЖЕНИЕ
ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СУЩНОСТИ
(Кондор и бык в литературе Андского региона)
Пожалуй, праздник чаще привлекает внимание как одна из
форм латиноамериканского бытия. Онтологическая функция
праздника чрезвычайно важна, но не менее интересна и его нацио-
нально-символическая и даже (что, кажется, реже становится пред-
метом анализа) национально-идентификационная функция. Лите-
223
ратурный текст позволяет филологу представить свое видение этой
этнологической проблемы.
В 1941 г. появился первый роман выдающегося перуанского пи-
сателя Хосе Марии Аргедаса (1911-1969) "Праздник Яуар" (Yawar
fiesta). Уже в этом романе присутствует доминанта всего творчест-
ва писателя — культурно-психологический аспект социального и
расового конфликта в Перу, чем, кстати, Аргедас придал новое зву-
чание всему латиноамериканскому индихенизму. Для индихенист-
ской литературы тех лет нетрадиционной оказалась сама фабула
романа, в котором автор, не избегая социальных референций, в ос-
нову коллизии кладет спор о способе проведения праздника: цент-
ральные власти запрещают проведение в День Независимости Перу
корриды на кечуанский манер в городке Пукио, когда индеец дина-
митным патроном подрывает быка, крайне рискуя при этом и сам.
Мотивируя свое решение желанием пресечь подобную дикость,
правительство постановляет проводить корриду только с участием
профессионального тореадора; но в Пукио коррида состоится все-
таки по-кечуански...
Чрезвычайно долго терпящим социальную несправедливость
индейцам важно отстоять свои символы и проявить своеобразный
индейский мачизм. Во-первых, надо иметь в виду, что для индейца
бык — символ белого пришельца. На страницах романа Аргедас
упоминает и другой вариант ритуала, когда на спину быку привя-
зывался символизирующий индейское начало кондор, который еще
более разъярял быка (известна также иная модификация: против
быка — только привязанный кондор), а после сражения кондора с
ритуальными почестями отпускали.
Во-вторых, сражаясь с быком, индейцы совершают то, на что не
отваживаются сеньоры: индейцы осознают свое превосходство и,
обычно покорные и забитые, могут в этот момент даже крикнуть
что-нибудь презрительное глазеющей богатой публике. В день
праздника весь город заполняется толпами индейцев, грозно гудят
духовые инструменты уакауакры, заставляя вздрагивать зажиточ-
ных горожан, почувствовавших скрытую силу народной массы.
Повод и способ демонстрации индейцами своего достоинства
формально не являются кечуанскими по происхождению — День
Независимости, коррида, динамит. Однако в данном случае речь
должна идти не об ассимиляции в смысле потери черт своей культу-
ры, но об освоении (присвоении?) элементов чужой культуры, в чем
выражается поглощающий потенциал побежденной культуры, не-
редко использующий элементы культуры-победительницы в проти-
востоянии ей же. В своих этнологических работах Х.М.Аргедас от-
мечал, что ряд элементов одежды и музыкальных инструментов со-
временных кечуа являются испанскими по происхождению, но ис-
пользуются преимущественно в индейской среде, обретая знаковый
224
характер. Это нередкое в культуре явление; не покидая американ-
ского ареала, вспомним, например, что конь становится одним из
символов индейцев прерий, переходит в ономастику, фольклор и
современную литературу североамериканских индейцев. В пентало-
гии "Молчаливая война" перуанца М.Скорсы лошади, европейские
животные, также оказываются сторонниками индейцев в их маги-
ческом мире.
Итак, праздник присвоен, "варваризирован". Столичные власти
намерены запретить "варварство" и предписывают проведение кор-
риды только с участием профессионального тореадора. В этом их
поддерживают мигранты из Сьерры, осевшие на побережье индей-
цы и метисы, видящие в "кечуанской" корриде издевательство над
горцами, бессмысленное пролитие их крови ради развлечения гос-
под. Однако в этой позиции и обнаруживается потеря членами зем-
лячества одной из исконных черт автохтонного мировоззрения.
Хотя изображены индейцы писателем с явной симпатией, действу-
ют они вопреки глубинным культурно-психологическим установ-
кам своих земляков в горах. И праздник Яуар является, таким об-
разом, своего рода тестом на степень сохраненности самобытного
мышления.
Для перуанской литературы этот роман явился переломным, во-
плотив не присутствовавшую ранее в художественных текстах оп-
позицию духовной жизни страны: культура Косты — культура
Сьерры. Эта оппозиция более значима, нежели внешне более оче-
видная дихотомия индейцы — белые. Противостояние Косты и
Сьерры существовало еще в эпоху инков, социально-этнический
смысл вкладывали в него М.Гонсалес Прада, ранний Л.Э.Валькар-
сель и Х.К.Мариатеги. Аргедас же — как этнолог и как писатель —
на протяжении всего творчества проводил мысль о противостоянии
двух регионов в культурологическом измерении, согласно которой
формула "Коста = белые (метисы) versus Сьерра = индейцы" (а в
Сьерре, в свою очередь, дихотомия "белые versus индейцы") стано-
вится весьма неточной. Аргедас видел (хотел видеть?) иное. Обра-
тимся снова к роману.
В отстаивании традиционной кечуанской корриды (соединение
последних трех слов звучит парадоксально) индейцам помогают
некоторые их социальные "противники" или же не принадлежащие
к их среде персонажи. Очень многие знатные горожане, проживая
среди индейцев, глубоко прониклись индейской культурой. Им
нравится грозная музыка, предвещающая корриду, мастерство ри-
туального танцора-дансака, они восхищаются мужеством индей-
ских "тореадоров". И если они все-таки поддержали решение суб-
префекта о запрете "дикости", то сделали это из боязни или из же-
лания выслужиться. Единственный из городской аристократии, кто
совершенно открыто поддерживает кечуанскую корриду и даже
8 - 5470
225
оказывается под арестом за свою строптивость — помещик Хулиан
Анагуэна, пожалуй, самый интересный образ романа. Он гордится
своим происхождением, но уже не свободен от индейских черт ни в
мировоззрении, ни в манере говорить. Ему принадлежит свирепый
одичавший бык, которого индейцы хотят выставить на корриду.
Арангуэна заключает пари с торговцем Хименесом, что индейцы
не смогут поймать быка, и радуется своему проигрышу. В столкно-
вении с активистами землячества он, поддерживая праздник Яуар,
оказывается чуть ли не большим индейцем, чем мигранты из
Пукио, попавшие под влияние культуры побережья и не осознаю-
щие уже культурно-психологического значения праздника. Подо-
бен Арангуэне и состоятельный метис Панчо Хименес, готовый
просидеть в заключении лишний месяц, только бы в день праздни-
ка наблюдать корриду по-кечуански.
Романом "Праздник Яуар" Х.М.Аргедас заявил одну из важней-
ших тем всего своего творчества — влияние индейской культуры на
неиндейцев, кечуанизация белых и метисов. Такое влияние культу-
ры подавленной на культуру-победительницу (учитывая, что это не
только латиноамериканский феномен) автор этих строк ранее уже
предлагал именовать инверсией транскультурации.1 Аргедас в этом
явлении видел залог будущего перуанской культуры. И если стрем-
ление к традиционному кечуанскому проведению праздника для
индейцев — это осознанное желание самоутверждения ("Индеец
может!" — один из рефренов романа), то для белых персонажей это
— самоидентификация неосознанная. В последующих произведени-
ях писателя те белые персонажи, которые попали под влияние кечу-
анской культуры уже осознают это, говорят об этом, здесь же отно-
шение к празднику — момент неосознанного выявления сущности.
Привезенный из столицы профессиональный тореадор испугал-
ся грозного быка, и тогда на арену выскочили кечуанские "торе-
ро". Один из них получает смертельное ранение рогом, его кровь
орошает арену, быка подрывают динамитом. Праздник Яуар со-
стоялся. На кечуа yawar означает "кровь". Роман заключают слова
алькальда: "El yawar punchar verdadero!" ("Это настоящий празд-
ник!") Возможно, в основе этого добровольного самопожертвова-
ния лежит та же интенция, что и у древних ацтеков — стремление
собственной кровью питать Космос. Но книга дает мало возмож-
ностей для всматривания в онтологию. Собственно проведению
праздника посвящена последняя, одиннадцатая глава, носящая то
же название, что и роман. В общем, не так уже и важно, как состо-
ится коррида. Борьба вокруг праздника уже расставила все акцен-
ты. Кечуанская в своей основе культура Сьерры владеет душами
персонажей.
Аргедас очень хотел, чтобы эта, действительно существующая
тенденция преобладала в развитии перуанской культуры. Но в
226
XX в. судьба автохтонных обществ, сохранивших доиндустриаль-
ный способ мышления, складывалась в большинстве случаев небла-
гоприятно. Собственно, трагическое переживание этого процесса и
привело Аргедаса к самоубийству. В 50-60-х гг. XX в. размывание
кечуанской культуры (не ставшее необратимым, но преобладавшее
в это двадцатилетие) также нашло свое отражение в перуанской ли-
тературе. Не случайно, что именно в этот период появилось произ-
ведение, сюжетный узел которого также составил праздник, но зву-
чащее контрастно по отношению к роману Х.М.Аргедаса.
Речь идет о рассказе "Битва" (La batalla, 1954) Карлоса Эдуардо
Савалеты (р. 1928), значительной фигуры в литературе 50-70-х
годов. К.Савалета первым в Перу стал широко вводить в прозу
новые приемы письма. Для его стиля характерны внутренние моно-
логи, постоянный контрапункт прошлого и настоящего, объектив-
ного и субъективного.
В "Битве" юноша из столицы оказывается зрителем праздника в
горном селении, во время которого участники затевают по тради-
ции жестокую и опасную игру "кондор-рачи"; победителем в ней
окажется тот "мачо", что на скаку сумеет нанести больше метких
ударов рукой по сидящему на перекладине кондору. Основные
участники игры — белые и метисы. Индейцы, хотя и присутствуют,
лишь наблюдают за состязанием. Автор никак не дает понять их
позицию, она, видимо, индифферентна.
И, таким образом, символика праздника, несмотря на его кечу-
анское название, обратна той, что представлена у Аргедаса. Жер-
твой оказывается кондор, символ андских индейцев и — шире —
Америки. Против него "сражаются" конные белые и метисы, и эта
"битва"(не исключено, что автор вкладывает в название ироничес-
кий смысл) куда более безопасна, чем коррида, хотя неудачник и
может лишиться глаза. Индейцы же — безучастны. И обнаруживае-
мая Савалетой этнокультурная сущность — одна из граней много-
гранника андской культуры, хотя грань эта и неприятна для побор-
ников индейской самобытности.
При противоположности смыслов описанных у обоих писателей
праздников, они, тем не менее, выявляют неизбывную перуанскую
дихотомию — оппозицию Косты и Сьерры. Ведь у Савалеты прота-
гонист-наблюдатель, приехавший из Лимы, чувствует себя чуже-
родным в атмосфере городского праздника с его привкусом жесто-
кости, с неудержимостью характеров его участников, напряженнос-
тью и одновременно непосредственностью отношений между ними,
в окружении величественного ландшафта.
В другой стране Андского региона, в Боливии, где позиции ин-
дейской культуры сильнее, кондор как элемент праздника не толь-
ко помогает увидеть конкретную грань этнокультурного феномена,
но отчетливо сопрягается с национально-политической идеей. Ав-
тору настоящей публикации уже приходилось писать о постоянном
8*
227
присутствии в боливийской литературе идеи выхода к морю, идеи,
ставшей буквально психологическим комплексом боливийцев и
одним из центральных пунктов государственной идеологии поли-
тиков любой ориентации после потери побережья в Тихоокеанской
войне против Чили в 1879-1884 гг. Именно кондор как фигура
праздника "яуар" в той его модификации, которая в романе
Х.М.Аргедаса лишь упомянута, символизирует одновременно уст-
ремленность боливийцев к морю в повести Гастона Суареса (р.
1928) "Малько" (1974) — одном из наиболее изящных произведе-
ний, которое выражает политический тезис в аллегорической
форме.
Это история жизни кондора (что на языке аймара и означает
слово "малько"), постоянно ощущавшего неудержимую жажду
чего-то беспредельного. Кульминация наступает на восьмидесятой
странице девяностостраничного текста, когда кондор, отправив-
шись на запад (это слово появляется здесь первый раз в тексте), по-
падает в руки индейцев, которым он нужен как ведущая фигура
праздника "яуар". Привязанный на спину быка, кондор побеждает
противника, и его отпускают, воздав ритуальные почести как боже-
ству. И тогда-то, полетев еще дальше на запад, кондор оказывается
над океаном. Он ошеломлен и восхищен грозной, но и манящей
стихией. Ему удается вырваться из бури, и — "он полетел дальше,
но так и не знал, возвращается ли в свой мир или еще более удаля-
ется в эмпирей". А в родном гнезде набирается сил птенец, которо-
го, как и отца, зовут Малько.
Праздник, символизирующий мечту об индейском реванше,
оказывается, таким образом, сочлененным с общенациональной
мечтой, казалось бы, далекой от узкоэтнических проблем.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Оржицкий И.А. Инверсия транскультурации: феномен Герреро-Арге-
дас. / Iberica Americans. Тип творческой личности в латиноамериканской
культуре. М., 1997.
2 Оржицкий И.А. Море Боливии: национальная мечта сквозь призму
литературы // "Латинская Америка", 1998, № 10.
228
А.Ф.Кофман
МЕКСИКАНСКИЙ ДЕНЬ МЕРТВЫХ
И ЕГО КУЛЬТУРОСТРОИТЕЛЬНАЯ РОЛЬ
Среди бесчисленного множества латиноамериканских народных
праздников два приобрели наибольшую известность, далеко пере-
шагнувшую национальные границы, — бразильский карнавал и
мексиканский День мертвых. Эти грандиозные праздничные дейст-
ва, привлекающие туристов со всего мира, превратились в своего
рода эмблемы национальной самобытности и в этом качестве они
представляют особый интерес для культуролога. В такого типа на-
родных праздниках с особой отчетливостью выделяются их культу-
ростроительные функции. Репрезентативная сущность народного
праздника отчетливо осознается его участниками, которые, подчас
вопреки очевидности, склонны воспринимать то или иной празд-
ничное действо как нечто в своем роде исключительное, не имею-
щее аналогов в других городах и весях. Очень хорошо это видно на
примере европейских и латиноамериканских локальных праздни-
ков, в которых настойчиво акцентируются элементы самобытнос-
ти; причем, что характерно, для местных жителей в негласной ие-
рархии праздников эти стоят на высших ступенях. Даже безликим
интернациональным праздникам народы безотчетно стараются
придать, пусть в мелочах, национальную окраску, доказывая тем
самым, что формы праздничной культуры суть прежде всего
формы национальной (местной) культуры и ее самоутверждения.
Всякая национальная культура в качестве одного из своих опорных
элементов подразумевает наличие национальных праздников, в
том числе и "главного" среди них, в котором, как предполагается,
с наибольшей полнотой раскрывается "душа народа".
Именно эту роль выпало сыграть бразильскому карнавалу и
мексиканскому Дню мертвых. Между тем ни тот, ни другой еще в
конце XIX в. даже отдаленно не претендовали на то, чтобы стать
"главным национальным праздником" — такой негласный статус
они постепенно приобретали в течение XX в. по мере консолида-
ции национального самосознания и в процессе национальной само-
идентификации. Этот чрезвычайно значимый факт ясно демонстри-
рует культуростроительные возможности праздника, его способ-
ность отражать и одновременно формировать характер националь-
ной культуры. Повышение статуса одного из народных праздников
до уровня национального символа происходит при активном учас-
тии профессиональной культуры, которая создает соответствую-
щую интерпретацию праздника, использует его мотивы и элемен-
ты, придает ему дополнительные смыслообразующие мотивации.
229
Праздник в этом случае приобретает характер самоидентификаци-
онной модели, становится полем самопознания нации, объектом
поиска вечно ускользающей национальной сущности. Одновремен-
но наблюдается своего рода "экспансия" праздника, когда он стре-
мится охватить все пространство культуры, "выходит" из отведен-
ной ему календарной ниши, и осмысляется как некое перманентное
действо, неотрывное от внутренней жизни народа. Попытаемся
проследить эти процессы на примере мексиканского Дня мертвых,
по необходимости кратко рассмотрев функционирование этого
праздника на различных уровнях фольклорной и профессиональ-
ной культуры.
Мексиканский День мертвых сложился на основе католических
праздников "День Всех Святых" (отмечается 1 ноября) и "День
Упокоенных Христиан" (2 ноября), которые еще в Европе приобре-
ли функции поминальных праздников. В Мексике 1 ноября приня-
то поминать усопших детей, 2 ноября — взрослых; в некоторых
местах 28 октября поминают тех, кто погиб в результате несчастно-
го случая, а 30 октября — умерших не крещенных младенцев. Еще
в сравнительно недавнем прошлом в Мексике праздник ограничи-
вался одним-двумя днями. Но в процессе повышения статуса празд-
ника в национальном сознании его календарные рамки раздвига-
лись, и ныне он длится приблизительно с конца октября и всю пер-
вую неделю ноября; а если накинуть неделю-другую на предпразд-
ничную подготовку (которая по сути уже вводит человека в сак-
ральное остановленное время праздника), то он растягивается чуть
ли не на месяц (сами мексиканцы называют его "праздничным ме-
сяцем"). Между прочим, такое же календарное расширение наблю-
дается и в случае с бразильским карнавалом: если еще в середине
XX в. он занимал не больше недели, то сейчас он вообще утерял
календарный характер и празднуется по всей стране в разное время
около ста дней в году (см. статью Е.Васиной наст. изд.).
Главные "персонажи" мексиканского Дня мертвых — калавера
(букв, "череп") и калака ("скелет") — пластические изображения
черепов и скелетов. Все эти изображения, при всем различии тех-
ник исполнения, вкусов и мастерства художников объединяет, по-
жалуй, одно свойство — их ликующая жизненность и принадлеж-
ность скорее "этому", нежели "тому" свету. Калавера живет исклю-
чительно человеческой жизнью: ест, пьет, курит, веселится, занима-
ется любовью, выступает с речами, воюет и т.д. и т.п., и кроме
того, этот образ полностью вписан в рамки общественной структу-
ры, что неизменно подчеркивается профессиональной и социаль-
ной атрибутикой: калавера-генерал, политик, спортсмен, модистка,
нищий... Вполне очевидно, что калавера — образ карнавальный,
амбивалентный, находящийся на пересечении реального и идеаль-
ного, зримого и невыразимого; образ, призванный стереть грань
230
между жизнью и смертью и "перевернуть" мир, не меняя при этом
его сущности. Калавера превращает мексиканский День мертвых в
типичный карнавал с характерными семантическими элементами
маски, ряжения, переворачивания "верха" и "низа". Но на первый
план выходит мотив обнажения — с той особенностью в его трак-
товке, что скидывается не одежда, а кожа и плоть, и обнажается не
бренное тело, а "нетленный костяк" — сокровенная "сущность" че-
ловека.
Еще за несколько дней до начала праздника витрины магази-
нов, ресторанов и мастерских украшаются соответствующими ри-
сунками: в окнах, например, ресторанов изображаются скелеты в
поварских колпаках, в комических позах колдующие над кастрюля-
ми; на вывесках одежных ателье — модницы в шикарных одеяниях,
но с черепом вместо лица. Перед праздником типографии завалены
работой: выпускаются тысячи "листовок", открыток, буклетов с
изображениями калавер в различных сюжетных ситуациях, сопря-
женных с жизненной конкретикой; эти рисунки сопровождаются
комическими подписями, рассказиками, а чаще словами народных
песен. Улицы заполняют бесчисленные лотки народных ремеслен-
ников с различного рода сувенирами и детскими игрушками той же
загробной тематики. Последние особенно активно раскупаются 1
ноября в "День ангелочков", когда поминаются усопшие младен-
цы. Есть игрушки под названием "веселые покойнички" (alegres
mueriecitos): это калаверы из бумаги, картона, дерева, папье-маше;
держа скелетик на весу, его тянут за ниточки, и он начинает дры-
гать "ручками" и "ножками", раскланиваться, танцевать, играть на
скрипочке. Другую разновидность представляют собой "могилки"
(tumbitas): маленькие гробики из картона или сахара (иногда "с сек-
ретом": дергают за рычажок, и из гробика высовывается скелет);
кони, везущие черные с позолотой катафалки; а то и целые траур-
ные процессии с гротескными фигурками монахов, отпевающих ка-
лаверу. Такие игрушки предназначены именно детям и дарятся
детям (что "цивилизованному" европейцу может показаться дикос-
тью и цинизмом). А еще детям, равно как и взрослым, в изообилии
предлагаются кондитерские изделия в том же духе. Это прежде
всего так называемый "хлеб мертвых" (pan de muertos) — фигурки
из теста, гротескно изображающие мертвецов; это также черепа из
сахара и марципана, иногда в натуральную величину, на которых
пишется глазурью какое-нибудь имя или просто "любовь моя"
(amor mio); выпеченные из теста столики с лежащими на них скеле-
тиками из крема и повидла или бисквитные гробики с калаверами
в качестве начинки. Во время праздника влюбленные дарят друг
другу сахарные черепа со своими именами или признаниями в
любви. В общественных местах и в домах сооружаются так назы-
ваемые "алтари мертвых", посвященные близкому умершему.
231
Своей формой они обычно напоминают ступенчатую пирамиду.
Посередине алтаря, укрытого желтой или розовой драпировкой,
помешена фотография умершего, вокруг размещаются кое-какие из
его личных вещей, а главное — яства и напитки, которые он любил
при жизни; к ним обязательно добавят "хлеб мертвых" и несколько
сахарных калавер; а венчает композицию букет желтых "цветов
мертвых" (семпашучитлей).
Вечером второго ноября кладбища становятся местами народ-
ных гуляний: люди приходят сюда, нагруженные сумками с выпив-
кой и снедью; могилы превращаются в праздничные столы; кладби-
ща окружены плотным кольцом лотками с пульке (мексиканской
водкой) и закусками. В дни праздника улицы городов и селений за-
пружены народом, марьячи (ансамбли народных музыкантов) ис-
полняют на заказ любимые песни того или иного усопшего; площа-
ди преобразуются в танцевальные площадки; то и дело встречают-
ся процессии ряженых, в том числе детей: черные костюмы с нама-
леванными на них белой краской контурами скелета; отовсюду
слышится традиционная песенка с такими словами:
Если б ты, мертвец, мог бегать,
то тебя б не схоронили;
раз ты бегать не умеешь —
волокут тебя к могиле.
(Здесь и далее стихотворные переводы Ю.Даниэля)
Как видно, День мертвых — праздник совершенно необычный,
что осознают и подчеркивают сами мексиканцы, не без основания
утверждающие, что подобного праздника нигде в мире больше не
сыщешь. Вместе с тем это мнение окажется верным лишь отчасти.
Дело в том, что все, казалось бы, наиболее самобытные черты
праздника представляют собой варианты мифологических и обря-
довых универсалий, свойственных поминальным обрядам самых
различных народов, в том числе европейским. Это очень ясно и ар-
гументированно показала Е.Козлова в своем выступлении на дис-
куссии в журнале "Латинская Америка", помещенной в настоящем
издании, и в статье "Калавера: родословная и черты характера"1.
Попытки некоторых идеологов "мексиканизма" возвести корни
Дня мертвых исключительно к ацтекской культуре на поверку ока-
зываются крайне наивными, хотя, разумеется, влияние ацтекской
традиции проявилось довольно сильно. Нерасторжимая связь
жизни и смерти наглядно явлена в облике ацтекской богини смерти
и земли Коатликуэ, которая нередко изображалась в образе бере-
менной старухи; но подобную связь потустороннего и посюсторон-
него вообще можно назвать органическим свойством мифологичес-
кого мышления, отвергающего само понятие небытия как несуще-
ствования. Вера в то, что раз в году души умерших возвращаются
232
на землю на день, на три дня или неделю, была распространена
среди многих индейских племен, населявших территорию Мексики,
но сходные поверья присутствуют и в культуре других народов.
Столь же универсальна практика ритуальной еды при поминовении
усопшего: так, празднование разгульной русской масленицы вклю-
чало поминки (последний день праздника), а блины пеклись имен-
но в качестве поминальной пищи. Семантическая связь смерти с
карнавалом и весельем также не является чем-то исключительным
(кстати, русское слово "свистопляска" первоначально обозначало
тризну). Наконец, образ калаверы, как показала Е.Козлова в упо-
мянутой статье, имеет весьма богатую "родословную": по ацтек-
ской генеалогической линии — игрушечные черепа из оникса, зо-
лота, жадеита, хрусталя с глазами из бирюзы, а также тепантли
(стены из черепов) перед храмами на городских площадях; по евро-
пейской линии — оссуарии, средневековые графические "Пляски
смерти", книги на тему "Ars moriendi", церковные росписи.
Сказанное вовсе не лишает мексиканский День мертвых его
самобытности. В конце концов, всякий народный праздник строит-
ся из универсальных матриц, а его своеобразие определяется харак-
тером их воплощения, совокупностью деталей, а также особеннос-
тями функционирования праздника в контексте всей национальной
культуры.
Рассматривая особенность воплощения мифологических уни-
версалий в мексиканском Дне мертвых, нетрудно заметить одну от-
четливую закономерность, которая во многом, собственно, и опре-
деляет своеобразный облик этого праздника. Речь идет об актуали-
зации очень древних, отмирающих (а в Европе в основном исчез-
нувших) пластов культуры. Это касается почти всех из вышепере-
численных элементов как ацтекской, так и европейской "генеало-
гии" праздника. В сущности, актуализацию архаики следует счи-
тать не только органическим свойством, но и важной функцией
всякого народного праздника, поскольку уже в силу своей кален-
дарное™ он вводит участника в циклическое мифологическое
время, отменяющее историю и возвращающее человека в эпоху
первоначала. Вместе с тем в мексиканском Дне мертвых архаиза-
ция проявляется с особой силой и отчетливостью, в целом уже уте-
рянной европейскими праздниками. В этом отношении мексикан-
ский феномен можно рассматривать как ярчайшее выражение ха-
рактерной черты всей латиноамериканской народной культуры, в
лоне которой нередко получали развитие жанры и жанровые функ-
ции, исчезнувшие либо ставшие анахроничными в фольклоре Ибе-
рийского полуострова. К тому же актуализация языческих элемен-
тов в латиноамериканской народной культуре, несомненно, в боль-
шой степени обусловлена влиянием индейцев и афроамериканцев,
233
сочетающих католицизм с частично сохранившимися автохтонны-
ми культами и верованиями.
Необходимо отметить еще один весьма существенный момент.
Всякий национальный праздник — это сотворение и утверждение
народом мифа о самом себе. С особенной отчетливостью это орга-
ническое свойство праздника проявляется в мексиканском Дне
мертвых. Речь идет прежде всего о специфическом игровом отно-
шении мексиканцев к смерти, которая, по их мнению, вызывает у
них не страх и печаль, а веселье и глумление. Действительно, труд-
но найти статью о Дне мертвых или о мексиканском национальном
характере, в которой не акцентировалась бы эта особенность мек-
сиканского менталитета. Более того, это представление стало не
только общим местом эссеистики и художественной литературы, но
и глубоко вошло в самосознание народа. Так ли это на самом деле?
Приведем по этому поводу одно из редких трезвых суждений —
слова видного мексиканского археолога Эдуардо Матоса Моктесу-
мы: "Я думаю, что есть большая доля преувеличения в утвержде-
нии, будто мексиканец не боится смерти и смеется над ней. Когда я
выступаю с лекциями на тему смерти, всегда находится кто-нибудь,
кто заявляет: мол, мы, мексиканцы, смеемся над смертью; на что я
отвечаю: "Ну-ну, хотел бы я видеть, как вы будете хохотать до
упаду и устраивать праздник в день смерти кого-нибудь из ваших
родителей или любимого человека"2.
Мексиканский археолог очень жестко обозначил существующий
зазор между реальностью жизни и мифологией празднества. Пре-
словутое игровое отношение мексиканцев к смерти есть миф, стара-
тельно культивируемый как в народе, так и в профессиональном
искусстве. Это маска — одна из тех масок, какие, по мнению С.Ра-
моса, О.Паса, К.Фуэнтеса, постоянно надевает мексиканец, чтобы
скрыть свое истинное лицо. Излюбленная маска мексиканца —
мачо, как о том писал О.Пас в книге "Лабиринт одиночества"
вслед за С.Рамосом, выдвинувшим эту концепцию еще в 30-гг. А
один из устоев мачистского комплекса — презрение к смерти, по-
стоянный мотив мексиканского фольклора. Нет сомнения, что поэ-
тика Дня мертвых в немалой степени подпитывается именно ма-
чистским комплексом, который вовсе не является выдумкой эссеис-
тов. Надругательство над смертью, помимо жизнеутверждающего
смысла, заключает в себе элемент демонстрации силы, утверждения
мужской ипостаси нации. Но миф об игровом отношении мекси-
канцев к смерти содержит в себе еще один чрезвычайно значимый
компонент. Об этой особенности национального менталитета гово-
рится и пишется всегда в открытом или подразумеваемом противо-
поставлении европейскому восприятию смерти, например: "Мы
народ, расположенный играть со смертью. Вот европейцы, те стра-
шатся смерти и потому-то их так изумляет наше к ней отношение
234
(...) Если европейцы не желают знать костлявую, то мы над ней на-
смехаемся и даже напиваемся на кладбищах, но мы ее также почи-
таем"3. Таким образом, игровое отношение к смерти стало для мек-
сиканцев самоидентификационным символом и стратегией нацио-
нального самоутверждения. Этот момент, как представляется,
лежит в основе Дня мертвых и придает ему статус "главного" наци-
онального праздника.
Поэтому мексиканский День мертвых уже невозможно описы-
вать как некое замкнутое во времени фольклорное действо. Он со-
здал вокруг себя очень сильное и притягательное смысловое поле,
которое так или иначе охватило все сферы национальной культу-
ры. Особенно ярко оно проявилось в изобразительном искусстве,
народной песне и в профессиональной литературе.
Пластический образ калаверы в его нынешнем виде неразрывно
связан с творчеством знаменитого мексиканского графика Хосе
Гвадалупе Посады (1852-1913), известного русскому читателю по
ряду публикаций4. Его без преувеличения можно назвать создате-
лем праздника Дня мертвых. Художник-самоучка, работавший на
заказ преимущественно в жанрах лубочной литературы, Посада
ежегодно ко второму ноября создавал гравюры с изображениями
"живых скелетов", и эти гравюры, размноженные на "летучих лист-
ках" многотысячными тиражами, уходили в народ. Так сложилась
его знаменитая графическая серия "Калаверас". В своем творчестве
Посада ориентировался на ранее существовавшие изображения ка-
лаверы, созданные в лубке и в декоративно-прикладном искусстве,
но этим достаточно схематичным и подчас нескладным образам он
придал такую ликующую жизненность и явственность и такое плас-
тическое совершенство, что его рисунки приобрели канонический
характер. Фактически это он придумал одевать скелеты, обозначая
деталями костюма половую, социальную и профессиональную при-
надлежность персонажей; это он научился придавать "выражения
лиц" черепам и передавать широчайшую гамму эмоциональных от-
тенков; это он дал калавере динамичную позу и вовлек ее в дина-
мичный сюжет. И сейчас в Мексике ремесленники, занимающиеся
изготовлением игрушек, костюмов, декоративных украшений, лу-
бочных картинок, изображая калаверу, берут за образец гравюры
Посады, известные в народной среде не меньше, чем в среде искус-
ствоведов и профессиональных художников. Но главное, что внес
Посада в формирующийся праздник, — смеховую стихию, ставшую
его отличительной чертой. Действительно, реалии предшествую-
щих традиций не дают никаких оснований утверждать, будто эта
смеховая стихия была изначально присуща мексиканским поми-
нальным празднествам. Что касается ацтеков, то их отношение к
смерти было далеко не буффонадным — достаточно прочесть
стихи знаменитого Нецауалкойотла, пронизанные неизбывной тос-
235
кой при мысли о смерти. Мексиканская колониальная культура и
культура XIX в. также не оставили свидетельств о разухабистом ве-
селье 1-го и 2-го ноября. Посада придал своим калаверам и кала-
кам комический характер, а его персонажи навязали празднику
новый тон, который со временем все более акцентировался.
Говоря о роли Посады в становлении традиции Дня мертвых,
следует обратить внимание на один существенный момент. Поса-
ду принято называть народным, фольклорным художником.
Вместе с тем на поверку эта характеристика оказывается далеко
не безусловной. Многочисленные гравюры Посады ясно свиде-
тельствуют о том, что он, пусть самостоятельно, великолепно ов-
ладел техникой академического рисунка, знал законы перспекти-
вы и мастерски строил композицию — то есть, в сущности, стал
художником профессиональным. Однако в своих "Калаверас",
предназначенных для народа, он сознательно отступал от акаде-
мических канонов и ориентировался на лубочную традицию. Но
даже при этом его "Калаверас" все равно несут на себе отпечаток
профессионализма. Таким образом, в случае с Посадой мы
имеем первый и самый яркий пример вовлеченности профессио-
нального художника в смысловое поле праздника Дня мертвых.
Причем художник этот не столько подчинялся традиции, сколько
активно формировал ее.
Такая же сложная система взаимовлияний наблюдается в соот-
ношении праздника Дня мертвых и мексиканского песенного
фольклора, в лоне которого выделяется довольно обширный слой
произведений, прямо или косвенно связанных с образом калаверы.
Эти произведения, воплотившие в себе некоторые особенности
праздника, одновременно становятся его "участниками" и состав-
ными элементами его традиции. Время их создания точно опреде-
лить невозможно; все они зафиксированы фольклористами в XX в.
и, видимо, возникли в том же столетии с расцветом праздника Дня
мертвых. Частью эти тексты сочинялись как подписи к "летучим
листкам", частью рождались спонтанно во время праздничного
действа. В любом случае они органично встраивались в формирую-
щуюся традицию праздника и в свою очередь оказывали влияние
на формирование его образно-символического строя. Эти тексты
выделяются ярким национальным своеобразием, и не имеют анало-
гов ни в фольклоре других латиноамериканских стран, ни тем
более в испанском фольклоре.
Приведем коплу (четверостишие), непосредственно связанную с
традициями Дня мертвых и с изумительной лирической проникно-
венностью выражающую амбивалентную сущность празднества:
236
Calaverita de duke Сладкая калаверочка,
Mi panecito de muerto, мой хлебец мертвых,
detener quisiera el tiempo как хочется задержать время
tan incierto, tan incierto5. Столь обманчивое, столь мимолетное.
Широко распространены коплас, которые в сущности дублиру-
ют поэтику пластических образов калаверы и могут воспринимать-
ся как подписи под гравюрами Посады:
Al pasar por un panteon Проходя через кладбище
Yo vide una calavera я увидел калаверу.
con su cigarro en la boca Там она, пыхтя сигарой,
cantando "La petenera"6. Распевала петенеру.
Ya te vide, calavera Эй, отродье, калавера,
con un diente у una muela Ты, двузубая старуха,
saltando corno una pulga Вижу, как ты скачешь лихо,
que tiene la barriga llena7. Как твое набито брюхо.
Особенность этих и подобных им текстов — смысловая двух-
плановость, которая проявляется в парадоксальном сочетании пре-
дельно сниженного и конкретизированного контекста с предельно
высоким и абстрактно-философским подтекстом. Причем этот,
второй, содержательный план чрезвычайно многозначен и вбирает
в себя множество смысловых пластов, отражающих всю развет-
вленную семантику праздника. В этих коплас просматривается и
постоянное предощущение смерти, с которым живет мексиканец
(характерен глагол "вижу"); и сублимация мачистского комплекса
в презрительном отношении к смерти; и воплощение мифологичес-
кого образа смерти как жизнепорождающей субстанции, и присут-
ствие антонимичного образа уничтожающей, пожирающей смерти
("блоха с набитым брюхом"); и нерасторжимая связь мертвого и
живого, мира земного и потустороннего... Наконец, эти и подоб-
ные им тексты создают перевернутый художественный мир, где
разворачивается сакральное действо праздника. Попробуем заме-
нить образ калаверы любым реальным бытовым персонажем, как
текст тут же утеряет свою глубину и превратится в незамысловатое
описание или плоскую шутку. Как видно, калавера — образ, обла-
дающий огромной символизирующей силой: достаточно одного
его появления в тексте, как он изменяет "внешний" смысл всех эле-
ментов текста и вводит их в совершенно иные ассоциативные и
смысловые ряды. Такая двухплановость свойственна и празднику
Дня мертвых в целом: обилие предельно конкретных сниженных
элементов (игрушки, сласти, застолье и т.п.) при общем высоком
уровне символизации действа.
Однако присутствие ауры Дня мертвых в мексиканской народ-
ной лирике далеко не ограничивается текстами о калавере. Эта
237
аура ясно ощущается во множестве других текстов, связанных с
темой смерти и предлагающих такие ее трактовки, какие вовсе не
были свойственны испанскому фольклору. В последнем смерть
предстает как полная противоположность жизни, уничтожающая
сила, которой мужчина обязан подчиниться со стоическим фата-
лизмом; но, скрывая страх, герой не может скрыть печали, и пото-
му испанские коплас о смерти почти всегда минорны по настро-
ению. Разумеется, сходные мотивы присутствуют и в мексиканском
фольклоре, но наряду с ними обнаруживаются и другие, вполне
своеобразные. Прежде всего это мотивы, связанные с амбивалент-
ным восприятием смерти. Выступая противоположностью "здеш-
ней", "телесной" жизни, она одновременно является в телесном об-
лике, парадоксальным образом сочетая в себе уничтожающее и
жизнепорождающее начала. Вот характерный пример:
Estaba la muerte seca Иссушенная смерть
sentada en el muladar сидела на навозной куче
comiendo la tortilla seca и жрала черствую тортилью
por ver si podia engordar8. в надежде разжиреть.
В фольклоре европейских народов материализация смерти —
явление обычное. Но облик ее, как правило, схематичен и скроен
из нескольких условных деталей (скелет, коса, саван...), заимство-
ванных из средневековых "Плясок смерти". Все эти детали суть
внешние знаки отсутствия телесности: саван скрывает пустоту, а
будучи откинут, обнажает пустоту межреберной клетки. Совсем
иной облик создается в вышеприведенном тексте. Тут главный ак-
цент приходится на жизнь "утробную" с чисто телесными функция-
ми (пожирание, испражнение, ожирение), а скрытый "сюжет"
коплы состоит в борении телесности, жизненности с бестелеснос-
тью, выраженной повторенным эпитетом "сухой" (сушь — проти-
воположность влаге жизни). Между прочим, "сюжет" этот принци-
пиально не завершен и продолжен в вечность.
Пожалуй, самым замечательным примером подобной трактовки
смерти является следующая копла:
Para mejorar mi vida Я со смертью, жизнь спасая,
me enamoré de la muerte как-то раз слюбился смело,
у corri con buena suerte я теперь силен: косая
que ahora me siento muy fuerte от меня затяжелела,
porque la tengo panda9.
Этот текст, вновь заставляющий вспомнить об ацтекской богине
смерти Коатликуэ в облике беременной старухи, не просто воссо-
здает телесно-вочеловеченный образ смерти, но уже напрямую ак-
центирует ее жизнепорождающую функцию, а кроме того, он с уди-
вительной полнотой выражает своеобразие мексиканской танатоло-
гии, как его понимают сами мексиканцы. Констатация особой мек-
238
сиканской "влюбленности" в смерть давно уже стала общим местом
национальной культурфилософии. "Мысли о смерти и убийстве не
покидают моих соотечественников никогда, нас буквально тянет к
смерти", — пишет О.Пас. — "В Нью-Йорке, Париже или Лондоне
слова смерть не услышишь: оно жжет губы. А у нас оно с языка не
сходит — брань и ласка, самая ненаглядная игрушка и самая старая
любовь, без которой и сон не в сон и праздник не в праздник"10.
Любовный акт со смертью с последующими родами вполне небезос-
новательно можно трактовать в историческом плане как акт этноге-
неза и рождения мексиканской нации, действительно, зачатой в
смерти ацтекской цивилизации. Но, как ясно показывает вышепри-
веденная копла, "соитие" со смертью — это, с одной стороны, инди-
видуальная и коллективная жизнестроительная стратегия, т.е., бук-
вально по тексту, способ "улучшить жизнь" и "почувствовать себя
сильным". Такая экзистенциальная стратегия в ряде фольклорных
текстов утверждается прямолинейно и дидактично:
Acostûmbrate a morir Умирать живя привыкни
antes que la muerte llegue до того, как смерть нагрянет,
porque muerto solo vive, только мертвый жив доныне,
el que estando vivo muere11. a живой в могилу канет.
С другой стороны, что немаловажно, это еще и стратегия наци-
ональной самоидентификации: ведь декларируя свою привязан-
ность к смерти, носитель фольклора спонтанно утверждает свою
особость, как он ее понимает. Любовь к смерти — маска, такая же,
как насмешка над нею; это самый верный способ ощутить себя мек-
сиканцем. Влияние праздника Дня мертвых в мексиканской народ-
ной песне также отчетливо проявляется в устойчивой связи темы
смерти со смеховым началом, что, как говорилось, в принципе не
свойственно испанскому фольклору. Эта связь наглядно проступа-
ет в вышеприведенных текстах; она заметна и в сотнях других коп-
лас, выражающих насмешку как над чужой, так и над собственной
смертью.
Аура Дня мертвых распространилась и на сферу литературы.
Иначе и быть не могло: если в конечном счете стержнем развития
всех литератур Латинской Америки является процесс националь-
ной самоидентификации, то, разумеется, литература Мексики не
могла пройти мимо "самого мексиканского" из национальных
праздников. К тому же мексиканская литература испытывала силь-
нейшее воздействие блестящей национальной эссеистики и куль-
турфилософии, в лоне которой, собственно, и было сформировано
и сформулировано представление о Дне мертвых как о "средоточии
национальной сущности". Особое значение в этом аспекте имела
знаменитая книга О.Паса "Лабиринт одиночества" (1950), посвя-
239
щенная анализу психологии мексиканца. Одна из глав этой книги
("День всех святых, праздник мертвых") представляла глубокую ха-
рактеристику Дня мертвых и в целом специфического мексиканско-
го восприятия смерти, в котором, по мысли автора, сочетаются
особая привязанность к смерти ("Исток и начало, материнское
лоно для нас — не утроба, а могила") с экзистенциальным равноду-
шием ("В нашем безразличии к смерти — безразличие к жизни"12).
Для мексиканца, подчеркивает Пас, смерть не носит трансценден-
тального характера, и потому она входит в повседневность. Ут-
верждения Паса, хоть и поданные в стиле констатации очевидной
истины, конечно же, не могут прямо проецироваться в жизненную
обыденность. Но для развития национального самосознания и мек-
сиканской литературы важным в данном случае оказалось само вы-
деление комплекса идей, связанных с праздником Дня мертвых.
Эти идеи подхватят и разовьют А.Каррион в книге "Миф и магия
мексиканца" (1952), а затем крупнейший мексиканский писатель
Карлос Фуэнтес в своей эссеистике и в художественном творчестве.
Проблема воплощения праздника Дня мертвых в мексиканской
литературе может послужить темой монографии, а в рамках не-
большой статьи остается лишь очень бегло и кратко затронуть ос-
новные моменты.
Следует отметить прежде всего огромную значимость темы
смерти в мексиканской литературе, на что обращали внимание
многие критики и эссеисты. Вместе с тем вряд ли можно счесть пра-
вомерной распространенную тенденцию трактовать эту особен-
ность как некую константу национальной литературы, восходящую
к ацтекской практике жертвоприношений. Дело в том, что мекси-
канская литература XVI — XIX вв. (надо заметить, чрезвычайно
богатая) такой картины вовсе не дает. Исключительную значи-
мость, а главное, своеобразие трактовок тема смерти приобретает
лишь в мексиканской литературе XX в., а точнее, начиная с 30-х
гг., времени появления т.н. романа революции. Во многом это объ-
яснимо самой революцией, стоившей полутора миллионов жертв.
Но бесспорным представляется и воздействие праздника Дня мерт-
вых, который, напомним, именно в первой трети XX в. приобрел
современные масштабы и очертания. Причем немалую роль в его
формировании сыграла официальная идеология "мексиканизма"
(утверждение и пропаганда национальной самобытности), провоз-
глашенная в 20-е гг. после длительного периода европомании в
правление Порфиио Диаса. В качестве национальной самоиденти-
фикационной модели праздник привлекал писателей, тем самым
повышая значимость темы смерти в национальной литературе. На
это определенно указывают и некоторые трактовки темы смерти.
Присутствие праздника Дня мертвых в мексиканской литерату-
ре обнаруживается на различных уровнях. Простейший из них —
240
многочисленные описания и упоминания праздника, которые
обычно не выходят за рамки костумбризма и этнографизма, но
вместе с тем значимы как способ акцентирования национальных
отличительных объектов, эмблем национальной самобытности. Го-
раздо интереснее фиксировать косвенные и глубинные воплощения
праздника в художественной литературе. Речь в данном случае идет
не об этнографических и "декоративных" элементах праздника, а о
его поэтике. Ее имплицитные проявления в литературе многооб-
разны: макабрные образы и сюжеты, навеянные образом калаверы,
особая слиянность жизни и смерти, интерпретация смерти как жиз-
непорождающего начала, связь темы смерти с карнавалом, празд-
ником, трактовка смерти как способа самоидентификации и др.
Вполне очевидно, что вышеперечисленные константы не являются
исключительной принадлежностью мексиканской литературы, но
столь же несомненно и то, что в мексиканской литературе они скла-
дывались в большой степени под воздействием Дня мертвых и его
"культурной ауры". Наконец, особое внимание обращает на себя
постоянный и самый своеобразный сюжетный мотив — любовный
акт со старухой, умершей: если в других литературах этот сюжет
заслуживает название некрофильского, ибо так или иначе связыва-
ется с представлениями об извращении, отклонении от нормы, то в
мексиканской определение некрофильского к нему не подходит
принципиально, поскольку он располагается совсем в другом смы-
словом поле, взойдя из самой глуби народной культуры.
Впервые сюжет любовной связи с умершей получает отчетливое
воплощение в известном романе Хосе Рубена Ромеро "Никчемная
жизнь Пито Переса" (1938). Его герой, изгой, шут, скептик, при
всей своей яркой индивидуальности представлен типичным мекси-
канцем, поскольку многие из его действий и поступков воссоздают
или обыгрывают архетипы национального сознания. Особенно
ясно это проявляется в отношении Переса к смерти. История его
"сожительства" с женским скелетом, выкраденным из больницы,
фактически вводит читателя в атмосферу Дня мертвых и в художе-
ственный мир гравюр Посады. "Стоило мне увидеть эту пре-
лесть, — рассказывает герой, — и я тут же решил увести ее с собой,
что и исполнил. Накануне моего бегства из больницы мне удалось
извлечь мою желанную из заточения и переспать с ней на одной
кровати... Теперь я живу с ней в свое удовольствие. Смирно и по-
корно ожидает она меня по вечерам, неизменно держа в руке пол-
ную рюмку..., ночью она охраняет мой сон, не смыкая своих глубо-
ких очей, в которых таится страстная нега". (Напомним вышепри-
веденную народную коплу о том, как герой "слюбился" со смер-
тью). "Вот со мной ее фотография, познакомьтесь с супругой Пито
Переса, с которой он стоит под ручку; полюбуйтесь ее большими
глазами, ее белыми зубами и заметьте, что на месте сердца у нее
241
прикреплен букетик цветов...". (А эта воображаемая фотография
напомнит знаменитую фреску Диего Риверы "Прогулка в Аламе-
де", где художник изобразил такую же "супружескую пару" — Хосе
Гвадалупе Посаду рядом с роскошно выряженной калаверой).
"Это моя самая верная любовь, какая была у меня в жизни!" — за-
являет Пито Перес, кажется, что от лица всех мексиканцев13.
С поэтикой Дня мертвых прямо или опосредованно связана
трактовка смерти как жизнепорождающего начала, чрезвычайно
распространенная в мексиканской литературе. Подобная интерпре-
тация смерти обнаруживается в лучшем романе Хосе Ревуэльтаса
"Скорбь человеческая" (1943), где автор достиг такой насыщеннос-
ти мифологического письма, какой еще не знала мексиканская ли-
тература. При этом Ревуэльтас с необычайной глубиной отразил
специфику национального образа мира. В романе пороговая ситуа-
ция — бдение над телом умершей девочки — насыщается магией,
абсурдом, безумием, обретает черты ирреальности, сопровождает-
ся "взрывом" теллурических сил (наводнением) и превращается в
карнавал смерти, соотносящийся с амбивалентной атмосферой Дня
мертвых. Центральным, объединяющим элементом художествен-
ной конструкции романа является образ смерти, сплавленный со
всеми прочими мотивами и придающий им специфически нацио-
нальный оттенок. В эпиграф книги вынесены слова поэта А.К.Аль-
вареса: "Ибо смерть — это бесконечный любовный акт". Постоян-
но подчеркивая связь смерти с эросом и с мотивами плодородия,
выраженными образами воды и земли, автор утверждает амбива-
лентный жизнепорождающий образ смерти, характерный для арха-
ических культур, в том числе для ацтекской. На первых же страни-
цах романа Ревуэльтас открыто вводит пласт соотнесений мекси-
канской смерти с ацтекской культурой, с мотивом жертвоприноше-
ния: "Всегда священник у изголовья умершего. Священник камен-
ным ножом извлекает сердце из груди мертвеца и посвящает его
Богу, как некогда жрецы швыряли сердце на жертвенный ка-
мень...". Своеобразие мексиканского христианства, по мысли авто-
ра, состоит в том, что это "церковь живая, подвижная, идущая рука
об руку с мексиканской смертью, нежной, кровавой и трагичной".
Само понятие "мексиканской смерти" возводит образ смерти в от-
личительную черту национального мира и соотносит с актом куль-
турной самоидентификации. В таком ключе воспринимают ее и
сами герои. В этом смысле примечательна сцена, когда перед
лицом неизбежной гибели в водах потопа герои пытаются протрез-
вить своего вдребезги пьяного сотрапезника. Казалось бы — для
чего? А вот зачем: "Надо спасти его для смерти. Чтобы смерть за-
стала его не бесчувственным, чтобы он умер наверняка, точно и
чисто". Художественное новаторство романа проявляется и в его
необычном временном построении. Если план прошлого (воспоми-
242
наний) представляет собой историю с линейным необратимым вре-
менем и с социально-идеологической мотивацией поступков геро-
ев, то план настоящего — это праистория с мифологическим вре-
менем, обращающем мир в эпоху первоначала. Потому мифологи-
чески преображенным героям дано ощутить себя то "первочелове-
ком", то "доисторическим животным", то "первородным кам-
нем"14. Таково, в сущности, и время праздника — как писал О.Пас,
"вечно настоящее, в котором наконец слились прошлое и буду-
щее", время "сопричастности и приобщения к самому истоку и
тайне всего мексиканского"15.
Роман Ревуэльтаса во многом предвосхитил произведения
Хуана Рульфо, в которых отмеченные трактовки темы смерти про-
явились наиболее полно и художественно совершенно. Связи темы
смерти с мотивами плодородия и праздника возникают постоянно
и каждый раз в глубоком символическом осмыслении. Так, в рас-
сказе "На Кумушкином взгорье" герой, убивший своего приятеля,
оттаскивает его труп в корзине для маиса, и происходит это в ночь
храмового праздника, когда в Сапотлане пускают фейерверк. "Я
потому и запомнил, что в Сапотлане в ту ночь пускали фейерверк.
Тащу я Ремихио в корзине из-под кукурузы, а над Сапотланом ра-
кеты цветные взлетают...". Не случайна ремарка: "Подходила пора
убирать урожай"; тот же мотив повторен в рассказе "Равнина в
огне": "По Великой равнине снова скакала боевая наша конница,
совсем как когда-то. Совсем как вначале, в добрые времена, когда
мы поднялись с нашей земли, словно зрелые початки маиса...Вся
равнина трепетала в страхе перед нами! (...) Наступила пора убор-
ки маиса...". В рассказе "Тальпа" недужный герой сам превращает
момент своей смерти в игру и в праздник и как бы воссоздает образ
калаверы: "...В пляс пустился, в руках бубен, и ногами своими бо-
сыми, почернелыми от язв, топ-топ, изо всей силы"16.
Еще отчетливее аура Дня мертвых чувствуется в повести "Педро
Парамо", которая принесла Рульфо всемирную известность.
Л.С.Осповат справедливо охарактеризовал жанр повести как ме-
ниппею, восходящую к своему античному образцу — книге Лукиа-
на "Менипп, или Путешествие в подземное царство", но подчерк-
нул при этом, что решающим в формировании художественного
мира повести оказалось воздействие Дня мертвых17. Рульфо смело
использовал универсальный сюжет сошествия в ад, придав ему
чисто национальную окраску в сочетании с темами виоленсии, ка-
сикизма и со специфически мексиканской трактовкой смерти.
Некий Хуан Пресиадо приезжает на родину умершей матери, в
селение Комала, чтобы повидать отца, о котором он знает только,
что зовут его Педро Парамо. В Комале, как сообщил Хуану попут-
чик, уже никто не живет. В селении перед героем появляются внеш-
не реальные люди, разговаривают с ним, кормят его, но все они,
243
как выясняется, духи умерших жителей Комалы. Путешествие
героя кончается трагически: он задыхается от страха и сам превра-
щается в "живого" мертвеца. Каким-то образом похороненный на
кладбище, он продолжает слушать голоса мертвых и говорить сам.
Комала оказывается страной мертвых, откуда нет выхода.
В трактовке темы смерти Рульфо сделал смелый шаг вперед по
сравнению с предшествующими мексиканскими писателями. Он
разрушил ранее незыблемые рамки правдоподобия реалистической
прозы и в фантастическом ключе с необычайной полнотой и глуби-
ной выразил характерное для мексиканца мифологическое анимис-
тическое восприятие смерти. Идея неразделимости жизни и смерти,
воплощенная в празднике Дня мертвых и в мексиканской народной
поэзии, в повести реализована почти буквально. Примечательно,
как трактован переход от жизни к смерти — он эфемерен, подчас
незаметен самому герою. Рульфо тщательно стирает всякую грань
между живым человеком и мертвецом. Мертвецы обыденны и те-
лесны, и этот мотив намеренно подчеркнут: "Ничего особенного я
в женщине не заметил. Обыкновенный человеческий голос. Во
рту — зубы, и за ними — быстрый язык. Я видел, как он шевелит-
ся, когда она говорит. И глаза точно такие, как у всех других
людей на земле." Мертвецы Рульфо аналогичны калаверам: подоб-
но этим карнавальным персонажам, они способны на любые духов-
ные и плотские отправления. В том числе Рульфо использует и ус-
тойчивый мексиканский мифомотив "соития" живого с умершей
(когда еще живой Хуан Пресиадо ложится в постель к усопшей До-
ротее). Созданный в повести образ смерти сущностно национален и
потому писатель, подчиняясь уже сложившейся традиции, не мог не
соотнести его со смеховым началом. Речь идет прежде всего о похо-
ронах Сусанны, которые спонтанно превращаются в разгульный
праздник: "На колокольный звон потянулись в Комалу люди из
ближних селений, даже из городов.(...) Прикатил из неведомых
краев цирковой балаган с канатоходцами и чертовым колесом. Лю-
бопытства ради забрели музыканты... Под гудение погребальных
колоколов в Комале зашумело веселье. Народ загулял: музыка,
топот, хохот; на площади не протолкнуться, как в дни больших
праздников".
Обратим внимание на еще один существенный момент повес-
ти — на связь темы смерти с актом культурной самоидентифика-
ции. Собственно, метасюжет повести составляет процесс погруже-
ния в первоосновы национального бытия. Хуан Пресиадо отправ-
ляется в путешествие на родину матери в поисках отца — то есть
целью его странствия является поиск своего культурного корня.
Мотив сошествия в нутро земли соотносится не только с образом
ада, но и, как во всей латиноамериканской теллурической прозе, с
образом корня, а также с темой прошлого. Символично напутствие
244
матери: "Там ты снова услышишь и лучше поймешь меня. Я буду
ближе к тебе." Когда мать Пресиадо вспоминала о Комале, ее
голос "падал до шепота, словно она поверяла самую сокровенную
свою тайну..."18. Поиск своего "я" приводит героя в перевернутый
гротескный мир Дня мертвых, который становится фундаментом в
построении национальной картины мира.
В сущности тот же сюжет, но в очень своеобразном преломле-
нии представлен в повести Карлоса Фуэнтеса "Аура" (1962), кото-
рую тот, соглашаясь с критиками, считал одним из лучших своих
произведений. Вообще тема смерти пронизывает все творчество
этого плодовитого писателя и требует отдельного и обстоятельно-
го исследования. Поэтому здесь мы вынужденно ограничимся бег-
лым анализом указанной повести, обратив внимание лишь на от-
дельные, наиболее существенные моменты.
Необычен стиль этого произведения: писатель ведет повествова-
ние от второго лица и систематически использует будущее время в
сочетании с настоящим. Форма на "ты" многозначна: помимо того,
что она указывает на раздвоенность героя, как бы оценивающего
себя, "другого", со стороны, — это очевидная обращенность к чита-
телю, прежде всего к мексиканцу, его вовлечение в сюжет, его иден-
тификация с героем; и потому не будет преувеличением сказать, что
Фелипе Монтеро, герой повести, есть собирательный образ всей
нации. Будущее время в сочетании с настоящим придает действию
неограниченную во времени протяженность и представляет его как
бесконечно повторяющийся ритуал или как некое перманентное
действо, родственное понятию бытия. Национального бытия.
Обратимся к сюжету. Молодой историк Фелипе Монтеро по
объявлению в газете приходит в дом к древней старухе, вдове гене-
рала, участника французской интервенции в Мексику. Задача исто-
рика — отредактировать и подготовить к публикации мемуары по-
койного генерала. Солидная оплата, полный пансион, но непремен-
ное условие: историк должен жить и работать в доме старухи.
Итак, обращение к прошлому с необходимостью подразумевает
перемещение героя из внешнего, открытого пространства города в
совершенно иное пространство.
Что это за пространство? Совокупность тонко подобранных де-
талей создает вполне определенный образ. Вот герой подходит к
порогу дома: "Долго и тщетно ты стучишь в эту дверь медным мо-
лотком в виде собачьей головы — время лишило ее формы и она
похожа на голову собачьего зародыша в зоологическом музее. Со-
бака словно улыбается, и ты отводишь руку от ее ледяного прикос-
новения". Дальнейшие описания окончательно убеждают в правоте
мелькнувшей догадки: собака при двери — образ Цербера. "За две-
рью царствует сумрак. Узкий крытый переход ведет куда-то в глу-
бину — должно быть, это дворик, потому что ты слышишь запах
245
прелого мха, мокрой зелени и гниющих корней, густой дурманный
аромат". В этом доме царит "вечная тьма", лишь изредка разгоняе-
мая огнями свечей; в нем всегда "сыро и холодно", повсюду "пле-
сень и паутина"; редкие маленькие окна помещения все выходят в
глухой темный внутренний дворик — то есть это модель замкнуто-
го пространства, не имеющего выхода; и в довершение интерьер
представляет собой лабиринт, где "всегда придется искать дорогу
на ощупь". Здесь и время течет иначе: "Ты не можешь разобрать,
что показывают часы: стрелки и цифры пляшут и сбиваются". Эти
и многие другие детали ясно указывают на то, что это инферналь-
ное пространство, а герой, переступая порог дома, попадает в за-
гробный мир. Перед нами — еще один вариант мениппеи.
Старуха носит значимое имя Консуэло (букв, "утешение"). Из
мемуаров генерала Монтеро выясняется, что старухе в настоящее
время исполнилось сто девять лет! Этот фантастический возраст
ставит старуху как бы на грань жизни и смерти, а если учесть, что
она — царица загробного мира, то за грань жизни. Молодую и
красивую племянницу Консуэло зовут Аура. Одно значение этого
имени вполне очевидно: аура прошлого, аура смерти, обволаки-
вающая героя, есть одновременно и аура подлинности, на что ука-
зывает неоднократно повторенный мотив корня. Есть у этого
имени и другое значение: аура — разновидность стервятника, пита-
ющегося падалью. Не случайно поэтому к столу подают одно и то
же блюдо — вареные почки (внутренности); не случайно герой за-
стает Ауру за совсем неженским занятием — она свежует только
что зарезанного козленка; не случайно, наконец, в своих кошмар-
ных снах Монтеро видит старушечью разверстую пасть, кровоточа-
щие десны и желтые зубы.
Монтеро влюблен в Ауру, и желания его вдруг сбываются: она
сама приходит к нему в постель. В их следующую ночь любви исто-
рик с удивлением подмечает, что Аура как будто постарела и вы-
глядит сорокалетней женщиной. Разглядывая старинные фотогра-
фии, герой, потрясенный, обнаруживает полную идентичность
юной Консуэло с Аурой, а молодого генерала, ее мужа, с собой.
Третье любовное свидание происходит в полной темноте. Но на
миг "слабый серебряный луч проникнет в комнату через дыру в
стене, проеденную мышами, и осветит седые волосы Ауры, ее без-
жизненное сморщенное, как вареная слива, личико, безгубый рот,
который ты только что целовал, и десны без единого зуба; луна по-
кажет тебе обнаженную старуху, дряхлую и немощную, сеньору
Консуэло, и ты увидишь, как она дрожит, прочтешь в ее глазах вос-
торг, и трепет и забвенье, оттого, что ты ее ласкаешь, любишь, от-
того, что ты тоже вернулся..."19.
Смерть выступает в тройном обличье: любовница, пожиратель-
ница, утешительница. Заметим, что финальная сцена вся написана
246
в будущем времени. Символическое соитие со смертью, когда герой
обретает окончательное знание о себе и о своем мире, предстает
как космогонический акт, развернутый в вечность акт созидания
национального космоса.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Латинская Америка. 1998, № 5.
2 Tierra Adentro. № 106. P. 16.
3 Argueîa G. Dia de muertos. Crónicas y leyendas. Numero especial. Mexico,
septiembrede 1998. P.ll.
4 Кофман A. Хосе Гвадалупе Посада и мексиканский карнавал смер-
ти // Декоративное искусство. 1983, № 2. Его же. Хосе Гвадалупе Посада и
народная традиция // Латинская Америка. 1983, № 10. Козлова Е. Указ.
соч.
5 Magis С.H. La lìrica contemporanea. Mexico, 1966. P. 191.
6 Mendoza Vicente T. Panorama de la musica tradicional de Mexico. Mexico,
1956. Р.222.
I Magis CU. Op.cit. Р. 192.
8 Ibid.
9 Copias de amor del folclore mexicano. Mexico, 1961, № 500.
10 Пас О. Освящение мига. СПб-M., 2000. С. 175.
II Magis СИ. Op.cit. Р. 190.
12 Пас О. Указ. соч. С. 175, 180.
13 Ромеро Х.Р. Никчемная жизнь Пито Переса. М., 1965. С. 132-135.
14 RevuelîasJ. El luto humano. Mexico, 1943. P. 9, 37, 73, 89.
15 Пас О. Указ. соч. С. 166.
16 Рульфо X. Равнина в огне. Педро Парамо. М., 1970. С. 39, 80-81, 71.
17 ОсповатЛ.С. Мир Хуана Рульфо / Хуан Рульфо. Указ. соч. С. 16.
18 Там же. С. 149,246, 146.
19 Фуэнтес К. Спокойная совесть. Смерть Артемио Круса. Повести и
рассказы. М., 1974. С. 384, 388, 388, 400, 408.
И.А. Кряжева
АФРО-ХРИСТИАНСКИЕ КУЛЬТЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
Завершая свой феерический роман "Исчезновение святой",
Жоржи Амаду с лукавой иронией обращается к читателю: "Ну а
тем, кто хочет подробнее узнать обо всех таинствах кандомбле и
макумбы, радения и волшбы, оганов и ориша, могу только посове-
товать наскрести деньжат и отправиться в нашу сновиденную
Баию. А как приедете, ступайте прямиком на террейро, в "дом свя-
того" ... выберите одно из двух тысяч террейро, где отправляют
247
свой культ африканские племена и народности — наго, жеже,
ижеша, конго, ангола — и на любом встретят вас радушно и гос-
теприимно ... Если кто просто молвит "добрый вечер!", тот уви-
дит — издали, правда, и мельком — красоту и волю. Если кто по-
дойдет под благословение "матери святого", тому откроются и
иные дали, тот и с ориша сможет повеселиться. В этих убогих хра-
мах, которые еще совсем недавно были под запретом, хранятся ис-
тории о неграх-рабах, песни и танцы, сберегается осужденная и
приговоренная память народа ... Каждый, кто придет на террейро,
будь он богатый или бедный, юный или старый, ученый или вовсе
безграмотный, каждый, кто придет с миром, сможет принять учас-
тие в кандомбле, в этом празднестве, где боги и люди веселятся как
равные, где в мелодиях песен, в ритме танцев царит дух всеобщего,
вселенского братства"1.
В этом небольшом эпизоде Амаду создал удивительно емкий и
образный портрет афро-бразильского кандомбле, а по сути дела —
всех многочисленных афро-христианских ритуалов и праздников,
уже на протяжении двух столетий бытующих в городах Бразилии,
Кубы, Гаити, Тринидада. И по сей день они не утратили своего со-
циального, религиозного и морально-этического значения. Эти ис-
тинные детища конфликтного столкновения двух миров возникли в
результате синкретизации христианского культа святых и африкан-
ских традиционных праздников, взрастив в своих недрах общест-
венный и эстетический феномен, не поддающийся однозначному
определению. В сущности здесь рождался новый синкретический
цивилизационный тип и новая художественная культура народа,
насильно оторванного от родной почвы и вынужденного приспо-
сабливаться к условиям жизни в чужеродной среде.
В тяжелых условиях рабства подвергались подавлению и иско-
ренению исконные формы материальной культуры африканцев —
традиционная скульптура, живопись, прикладные искусства, ремес-
ла. В гораздо меньшей степени такому искоренению и вообще ка-
кому бы то ни было контролю был подвержен "духовный африка-
низм", мифологический тип сознания, олицетворением которого
был синкретический ритуал, жестко канонизированный, подчинен-
ный сакральным табу. Именно африканский ритуал, приспособив-
шись к тайному существованию в рамках христианского мира, под
покровом католический религиозности, стал фактически единст-
венной сферой, где могли активизироваться африканские культур-
но-охранительные тенденции. "Музыка барабанов, — писал извест-
ный исследователь афро-христианских культов Р.Бастид, — сокра-
щала расстояния, она преодолевала океан, переносила рабов в да-
лекую Африку и создавала путем страстной экзальтации общность
людей, объединенных одним и тем же коллективным сознанием"2.
248
Таким образом, в странах Латинской Америки для негров, му-
латов и их потомков афро-христианский ритуал стал значимым
символом навсегда утерянного и прекрасного прошлого. Только
здесь, восстанавливая свой сакрализованныи мир, наполненный
предметами-фетишами, поклоняясь языческим богам ориша, обра-
щаясь к ним в молитвах и песнопениях на родных африканских на-
речиях, они могли идентифицировать свою принадлежность "мате-
ри-Африке", ощутить непрерываемую связь с культурными тради-
циями предков, найти опору, которая давала моральные и физичес-
кие силы для дальнейшего существования.
Афро-христианские культы, воплотившие пережитки мифологи-
ческого сознания и связанных с ним форм художественного творче-
ства, с характерной язычески-христианской амбивалентностью
(последователи культа обязательно должны быть крещеными като-
ликами), стали одним из источников своеобразия современного ла-
тиноамериканского искусства. Если же говорить о музыке, то
именно здесь в наиболее нетронутом и целостном виде сохранились
архаические музыкальные пласты или так называемый "музыкаль-
ный язык первобытности", ставший предметом особого внимания
со стороны ряда композиторов в XX в.
При всем своеобразии различные афро-христианские ритуалы,
такие например, как сантерия на Кубе или кандомбле в Бразилии,
имеют определенное сходство, обусловленное, во многом, общнос-
тью их первоистоков — мифологии народности йоруба. Её отлича-
ло господство политеистических представлений с антропоморфны-
ми божествами, причем, наряду с локальными, существовали и
более обобщенные, воплощающие группу родственных черт или
признаков. Центральное место в этой системе занимают божества
ориша, которые олицетворяют космические и природные силы, уп-
равляют всем миропорядком и судьбами людей. В мифологии
йоруба насчитывается 401 ориша (эта цифра указывает на беско-
нечность). В Новом Свете их количество значительно сократилось.
Пантеон сантерии включает около двадцати ориша, кандомбле —
примерно столько же, однако из них наиболее часто фигурируют
около десяти3. Пантеон африканской мифологии йоруба, кубин-
ской сантерии и бразильского кандомбле обнаруживает явные
черты сходства, различия же касаются некоторых сюжетных нюан-
сов мифов.
В Африке почитаются два верховных божества: Олорун — "хо-
зяин неба", "властитель жизни", "всемогущий" — передал управ-
ление миром созданному им Обатала, который сделал из глины
первых людей. Двуполые божества Обатала и Одудуа олицетворя-
ют небо и землю. Согласно легенде, Одудуа породил пятнадцать
детей — богов-ориша, среди которых самым могущественным счи-
тается громовержец Шанго.
249
В сантерии этот мифологический сюжет обрел следующую
форму: "Олофи (один из вариантов имен Олоруна — И.К.), бог не-
познаваемый и далекий создал мир и Обатала. Обатала создал че-
ловека, наделил его сознанием и волей. Обатала — самый великий
из всех ориша. Он — творец всех начал, хозяин и создатель души.
Отец и мать ориша, отец и мать всех святых, Обатала выше всех
святых."4
Согласно афро-бразильскому варианту мифа, приводимому
А.Рамосом, от союза Обатала и Одудуа — неба и земли — роди-
лись Аганжу и Еманжа, у которых появился сын Орунган. Воспы-
лав страстью к своей матери, Орунган стал преследовать её. Спаса-
ясь от него, Еманжа упала на землю и родила пятнадцать детей
ориша5.
Так же как и в Африке, в сантерии и кандомбле Шанго — один
из самых почитаемых богов, могущественных и влиятельных. Все
мифы и легенды о нем, а их великое множество, подчеркивают его
воинственность, жестокость и сексуальность. Наряду с Шанго, наи-
более популярны Обатала — главный ориша, олицетворяющий не-
бесные начала; Элеггуа (в кандомбле — Эшу) — покровитель дорог
и путников, вестник ориша, характеризующийся дьявольскими чер-
тами (с обращения к нему начинается и завершается любой риту-
ал); Емайя (в кандомбле Еманжа) — богиня морей, воплощающая
материнство, Ойя (в кандомбле Ойя Иансан) — богиня-воительни-
ца, повелевающая ветрами и бурями, первая жена и верная спутни-
ца Шанго; Очун (в кандомбле Ошун) — богиня женской красоты,
чувственной любви, хозяйка рек и золота, одна из жен Шанго.
Согласно афро-христианским верованиям, ориша, вернее их
духи, живут в окружающих предметах, которые для последователей
культа имеют сакральное значение, — в камнях и даже в таких не-
ожиданных местах, как например, суповые фарфоровые миски, за-
везенные европейскими путешественниками. В представлениях ве-
рующих, каждый ориша имеет свой фетиш (у Шанго это камень) и
группу предметов, включая одежду, украшения, музыкальные ин-
струменты, — все определенного цвета, олицетворяющего их. Так,
красные и черные бусы связываются с Шанго, железные браслеты
на левой руке — с Огуном, бронзовые браслеты в сочетании с про-
зрачными бусами янтарного цвета — с Очун.
Символическим смыслом обладают и другие составляющие
культа — форма и характер танца, тембро-ритмические и мелоди-
ческие элементы музыкального сопровождения указывают посвя-
щенным на определенного ориша. Так, например, у негров лукуми
танцы Емайи отличаются пластичностью, как бы имитируя волны.
Полную противоположность этому образуют резкие и дисгармо-
ничные движения в танце Шанго, чувственность Очун выражается
в эротичных движениях. Таким образом, вся внешняя сторона
250
культа сакрализована и наполнена для посвященных глубоким
смыслом.
В процессе христианизации и становления афро-христианских
культов эти магические представления, характеризуемые включен-
ностью жизни человека, рода, племени в заданный круговорот при-
родных явлений и составляющие основу африканского традицион-
ного сознания, как бы подкладывались и приспосабливались под
христианскую догматику, причем, в её сниженном, упрощенном ва-
рианте, характерном для средневекового народного христианства.
По-видимому, закономерно, что процесс синкретизации, проявив-
шийся в данном случае через интуитивное нахождение элементов
подобия, практически не затронул высокие сущностные уровни
христианской морали, а разворачивался в сфере сопоставимых яв-
лений на уровне простого сюжетного и ситуативного сходства
представлений об ориша и католических святых. И такие сюжетно-
смысловые точки нащупывались народным сознанием сами собой.
Так, сюжетный мотив карающей молнии послужил основой для
отождествления громовержца Шанго и Святой Варвары. Причем,
вряд ли есть основания говорить о четких и стабильных принципах
такого объединения, скорее они подвижны и изменчивы. Пример
этому — многовариантное воплощение Шанго в бразильском кан-
домбле, где он уподобляется и Святой Варваре, и Святому Михаи-
лу, и Святому Иерониму. Однако более типично для кандомбле
слияние Святой Варвары и спутницы Шанго Ойа Иансан. Харак-
терный для западного средневековья образ Святого Петра, "при-
вратника и ключаря небесного", спутника явившегося на землю
Христа, идентифицировался с представлениями об Элеггуа, как по-
среднике между миром людей и ориша, который говорит об их
приходе. Более прямые ассоциации связывают морскую царицу
Емайю с покровительницей бухты Гаваны и моряков святой Девой
Марией из Реглы, а красавицу-мулатку Очун — с покровительни-
цей Кубы смуглокожей Девой Каридад дель Кобре.
Однако даже такое внешне сюжетное сопоставление не могло
быть индифферентно к глубинным смысловым пластам и влекло за
собой определенные изменения. Возникла своеобразная картина,
кстати, по-своему характерная и для средневековой Европы, когда
народное сознание, питающееся языческими пережитками, воспри-
нимало святых в роли "христианизированных магов, творцов
чудес, исцелителей, заступников слабых и приниженных"6. Дейст-
вительно, понятие "христианизированный маг" очень точно отра-
жает суть происходящего и постоянную амбивалентность святого-
ориша. Нельзя не сказать об определенном сходстве в отношении к
обряду, ритуалу, который, приподнимаясь над реальностью и ин-
сценируя миф, пропитан чудесами и необычайными превращения-
ми.
251
Католический алтарь, правда в весьма трансформированном
виде, — еще один существенный элемент, пришедший в сантерию и
кандомбле из христианства. Будучи центром святилища — помеще-
ния, где проводятся церемонии, — он также имеет двойное значе-
ние для верующих. Это обусловлено единством его видимой, пред-
назначенной для всеобщего обозрения части, где находятся распя-
тие, литографии католических святых, свечи, различные украшения
(цветы, сосуды из ароматической глины), и скрытой, но, по-види-
мому, более важной для последователей культа. В нижней части ал-
таря за занавеской хранятся фигурки богов-ориша, к которым об-
ращены все помыслы действия верующих.
Если во внешнем оформлении культа используется христиан-
ская атрибутика, то сам обряд, его смысловое значение, развитие и,
в целом, все действо, спаянное с музыкально-ритмическим сопро-
вождением, восстанавливает африканский ритуал йоруба в его
обобщенной трактовке. Цель этого ритуала — призвать определен-
ного ориша и ощутить в себе его присутствие, что должно исцелить
посвященного от всех недугов и напастей. По ходу развития всеми
средствами, главным образом через ритм, нагнетается психо-фи-
зиологическое возбуждение, приводящее к кульминационной
точке — трансу, состоянию наивысшего напряжения и в то же
время раскрепощения, когда для всех присутствующих в посвящен-
ного "вселяется" ориша. В этот момент ориша не только "владее-
ет" посвященным ("седлает своего коня"), но и как бы персонифи-
цируется в нем, в результате чего человек воссоединяется, уравни-
вается с божественными трансцендентными силами, олицетворени-
ем которых он способен себя ощутить.
Важнейшим фактором, повлиявшим на удивительную жизнеспо-
собность афро-христианских культов, является их чисто зрелищ-
ная, развлекательная сторона, ставшая результатом неизбежной де-
сакрализации ритуала. Ведь, помимо мифологической подоплеки,
они представляют редкое по красочности костюмированное дейст-
во с танцами, пением, игрой на разрисованных музыкальных ин-
струментах и привлекают тем самым большое количество зрителей.
С этой точки зрения афро-христианские культы запечатлели и как
бы законсервировали один из этапов в эволюции зрелищных форм
от религиозных к паратеатральным. Бытование таких архаичных
форм в современной Латинской Америке, типологические аналоги
которых, по крайней мере в Европе, давно стали достоянием исто-
рии, представляет важнейшую особенность латиноамериканской
художественной культуры и подтверждает мысль о симультанном
типе её развития.
В процессе становления сантерии и кандомбле оформились и за-
крепились культовые церемонии — обряды инициации — посвяще-
252
ния в жрецы, "матери" и "дочери" святого, поминовения; возникли
праздники в честь какого-либо ориша, отмечаемые в день соответ-
ствущего католического святого; сложилась достаточно сложная
иерархия служителей культа с четкой дифференциацией и профес-
сионализацией их действий; определились роль и функции музы-
кального сопровождения и музыкантов-исполнителей, канонизиро-
вался музыкальный репертуар.
Высшую ступень служителей культа в сантерии и кандомбле за-
нимает жрец — бабалоа, прорицатель, высший специалист в проро-
честве и провидении, пользующийся беспрекословным авторите-
том и уважением среди последователей культа. Этот пост могут за-
нимать только мужчины. Следующий уровень — это "отец" (баба-
лоча) и "мать" (ийялоча) святого в сантерии и "бабалориша" и
"ийялориша" в кандомбле; они возглавляют группы верующих, яв-
ляются хранителями святилищ и террейро, руководят проведением
церемоний, занимаются также исцелением и магией. "Отец" или
"мать" святого обладают сонмом помощников, самые близкие из
которых — это "дочери" святого, остальные специализируются в
различного рода ритуальных действиях. Так, в кандомбле "ийя
бассе" готовит ритуальные кушания, "ийя бебексе" руководит ри-
туальным хором. Существует группа "оганов" — почетных совет-
ников "матери", среди которых избирается хранитель алтаря, рез-
ник на жертвоприношениях животных, а также главный барабан-
щик.7 В сантерии существуют свои "специалисты ритуальной прак-
тики", среди которых "ачокун" проводит церемонию жертвоприно-
шения, "афинфин" изготавливает предметы культа, "акпуон" явля-
ется главным солистом. Таким образом, деятельность служителей
культа, участвующих в проведении церемонии, не только жестко
регламентирована, но и дифференцирована и, видимо, в наиболь-
шей степени это касается тех, в чьем ведении находится его музы-
кальная сторона. Эта часть служителей культа, в которую входят
солисты, исполняющие песнопения, молитвы и руководящие
хором, главный барабанщик и его помощники, образует привиле-
гированный слой, что обусловлено особенной ролью музыкального
сопровождения в проведении церемонии и достижении её кульми-
национной точки.
Музыка в афро-христианских культах в наиболее целостном
виде сохранила особенности традиционного музыкального насле-
дия негров и олицетворяет "духовный африканизм". Речь идет о
ряде фундаментальных общеафриканских черт, лежащих в основе
этой традиционной культуры, коренным образом отличающих её
от западноевропейской, непонимание и недооценка которых может
исказить картину восприятия этой музыки. Африканец весьма свое-
образно интерпретирует само понятие "музыки", которое, в его по-
нимании гораздо более условно, нежели в западной традиции. Му-
253
зыка, в представлении африканца, никогда не являлась отвлечен-
ным, абстрагированным от жизни актом звукоизвлечения, находя-
щимся вне социального контекста, вне ритуальной практики, зара-
нее заданной и безусловной.8 Ей чужда эстетическая концепция, к
ней не применимы такие определения, как красивая, прекрасная и
т.д. Существуя в рамках ритуала, она призвана сопровождать дей-
ствие и, главное, побуждать к нему, поэтому, в понимании афри-
канца, самая "хорошая" музыка — действенная.9 По сути дела, му-
зыка и движение неразрывны, а музыкальная эмоция — это и плас-
тическое движение.
Еще одна важная особенность, имеющая принципиальное значе-
ние, связана с тем, что акт звукотворчества в представлении афри-
канца имеет магическую силу и способствует общению человека с
представителями потусторонних сфер, мира "невидимого", насе-
ленного божествами и духами предков. В ритуале музыка облекает-
ся особым смыслом, соединяя в единое целое человека и окружаю-
щий мир, частью которого он себя постоянно ощущает.
Сакральность — неотъемлемая черта африканского традицион-
ного сознания, в котором сакрализации подвержены многие окру-
жающие предметы, и в том числе некоторые музыкальные инстру-
менты. В этом первопричина особого, действительно священного
отношения к барабану у многих африканских народов, который
воспринимается как существо, наделенное духом, осуществляющее
связи человека с потусторонними сферами.
Вне этого круга вопросов трудно приблизиться к более или
менее адекватному восприятию музыки афро-христианских куль-
тов, функции которой многоплановы. С одной стороны, через пес-
нопения и молитвы, сопровождаемые игрой на ударных, на церемо-
нию призываются ориша, и в этом случае музыке уготована уни-
кальная роль связующего начала с невидимым миром ориша. С
другой стороны, музыкальное сопровождение, подчиненное идее
неуклонного ритмо-динамического нагнетания, является главным
средством для достижения трансового состояния, когда призван-
ный ориша "вселяется" в верующего. А поскольку речь идет о
психо-физиологическом возбуждении, сопровождающемся активи-
зацией двигательной пластики, то главное значение здесь приобре-
тает ударно-ритмическое начало. Таким образом, "ударное нача-
ло", "ударный эффект", будучи родовыми чертами африканской
традиционной музыки, по существу, концентрируют главные выра-
зительные и драматургические возможности этой музыки.10 Поэто-
му барабан в своих многочисленных разновидностях, как основной
носитель "идеи ударности", является здесь главным музыкальным
инструментом, а полиритмическая ритмо-формула — средством её
воплощения.
254
В сантерии существуют несколько наиболее употребительных
семейств барабанов, различающихся по своему значению, тембру,
форме и характеру изготовления. Наиболее употребительные из
них — барабаны бата, ийеса и бембе. Бата — инструменты строго
сакрального предназначения, чем обусловлен канонизированный
порядок их изготовления, обязательная церемония инициации, в
процессе которой новый набор как бы "представляется" другим ин-
струментам — своим родителям, ему дается название и, омытый
кровью жертвенных животных, он допускается к ритуальной прак-
тике. Сакральным предназначением объясняются и особые условия
хранения в строго предназначенных для этого местах и использова-
ния — к ним прикасаются только барабанщики исполнители.
Барабаны бата включают три разновидности — ийя ("мать" —
большой), итотеле (средний) и оконколо (малый). Все они цилинд-
рической формы с расширяющимися с обеих сторон поверхностя-
ми, обтянутыми кожей, которая закреплена благодаря сложной
системе перекрестных распорок, обвивающих барабан в виде
пояса. Нередко к ийя прикрепляются кожаные ремни, на которых
болтаются погремушки, бубенчики, колокольчики, дополняя ха-
рактерным металлическим звоном барабанный бой. В целях разно-
образия тембровых красок на большую кожаную поверхность ийя
нередко накладывается смолянистое вещество темно-красного
цвета, приготовленное в точном соответствии с ритуальными пра-
вилами, которое, погашая вибрацию кожи, способствует созданию
более сухого и отрывистого тембра.11
Общепринятые в настоящем формы и размеры бата устоялись
на Кубе не сразу. Этому предшествовали долгие эксперименты и
поиск оптимальных тембровых красок, с точки зрения их совмест-
ного звучания в ансамбле, который бы создавал достаточно объем-
ное и в то же время целостное звуковое пространство.
По сравнению с группой бата семейство бембе подверглось час-
тичной десакрализации и не имеет строго ритуального предназна-
чения. Они разнообразны и по размерам, и по материалу изготов-
ления, и по внешнему виду, и по характеру использования. Бембе
могут звучать в ритуальных церемониях сантерии и в чисто развле-
кательных празднествах — в карнавальных ком парсах и т.д. В
группу бембе нередко добавляется еще один музыкальный инстру-
мент — идиофон, изготовленный из полого ствола дерева, по кото-
рому ударяют двумя деревянными палочками, издающими харак-
терное тремоло.
В сантерии, помимо барабанов, используются различные виды
погремушек — маракас (абвес или чекерес), шуршание и позвяки-
вание которых является неотъемлемым тембровым компонентом
ритуальной и неритуальной афроамериканской музыки. Они, так
же как и барабаны бембе, частично десакрализованы. При этом
255
каждый музыкальный инструмент в сантерии, независимо от степе-
ни его сакрализации, выкрашен в определенный цвет, что ассоции-
руется в восприятии верующих с ориша. Так, красная или белая по-
гремушка связывается с Шанго, белая и голубая — с Емайей, коло-
кольчики из платины — с Обатала, колокольчики из желтого ме-
талла — с Очун.
Барабанщики-исполнители, а ими могут быть только мужчины,
составляют неоднородную высоко профессионализированную
"касту" посвященных. Главенствующая роль принадлежит испол-
нителю на ийя, обучение которого длится не одно десятилетие;
подчиненное значение имеют два других барабанщика, которые,
подменяя друг друга, не могут прикасаться к ийя. Искусство перво-
го барабанщика состоит в том, что он, владея максимальным набо-
ром исходных ритмо-структур и ритмических комбинаций, связан-
ных с определенным ориша и имеющих свое название, должен со-
вместно с солистом-акпуоном задавать тон всему музыкальному
развитию. В вокально-инструментальных фрагментах вслед за ак-
пуоном вступает первый барабанщик, который дает исходную
ритмо-формулу, известную другим исполнителям. После этого на-
чинается совместное музицирование, в процессе которого по воле
одного из исполнителей вводятся новые ритмические элементы, и
возникает форма постепенной ритмической вариации.
Важнейшая особенность ритмо-ударного начала в афро-христи-
анских культах — интонационная насыщенность, которая стала
следствием его изначальной связи с фонизмом речи. Основные
ритмо-структуры имеют здесь непосредственный прообраз в фоне-
тических элементах наречий йоруба, характерных речевых оборо-
тах, которые, в свою очередь, во многом звукоподражательны.
Таким образом, словесно-речевое и музыкально-ритмическое нача-
ло образуют некое нерасторжимое единство, где речь интонацион-
но музыкальна, а музыка "говорит". Неудивительно, что многие
наделяют африканские барабаны таким эпитетом, как "говоря-
щие". В этот комплекс необходимо добавить и третий элемент —
пластическое движение, которое так же неотторжимо от музыкаль-
ного звука, как музыкальный звук от фонетического.
Речевые прообразы ритмо-интонационных структур в афро-
христианских культах Латинской Америки имеют все-таки мень-
шее значение, чем, допустим, в странах Африки, где языки, питаю-
щие музыкальную ритмику, сохраняются как действующие. В Ла-
тинской Америке наречия йоруба практически исчезли из обихода
афро-мулатского населения, с чем связано, по-видимому, общее
упрощение ритмики в ансамблях латиноамериканских негров, от-
мечаемое многими исследователями. Наречия йоруба сохранились
в ритуальных песнопениях, известных избранному кругу лиц, а аф-
риканизированные словосочетания, обозначающие конкретные
256
ритмо-формулы (например, в кандомбле известны ритмы
"алужа" — aluja, "тонибобе" — tonibobé, "бажуба" — bajuba,
"агаби" — agabi) суть, очевидно, не что иное, как "атавизмы" этих
речевых прообразов, которые давно утратили свое лингвистичес-
кое значение и превратились в обычные обозначения.
Однако, для исполнителей-барабанщиков живой характер связи
речевого и музыкального комплекса не утратил своего значения,
так как широко используется в процессе подготовки и обучения, а
также при совместном музицировании. Собственно, на этой связи
основано запоминание огромного множества ритмо-формул. Она
является определяющей характеристикой своеобразия аутентичной
исполнительской интерпретации, позволяя посвященным слушате-
лям идентифицировать подлинность звучания и тем самым удосто-
верить истинность происходящего.
Много сходного можно увидеть в кандомбле. Жестко сакрали-
зованную группу образуют барабаны атабаке, которые также про-
ходят ритуальное освящение. Эта церемония называется "кормле-
ние кожи", и для её проведения выбираются крестный "отец" или
крестная "мать". Новые барабаны кладутся на землю, перед ними
ставятся тарелки с едой, которая должна дать им силу для общения
с ориша. Барабаны "едят" мед, соль, "пьют" пальмовое масло.
Затем начинается акт жертвоприношения, когда специально подго-
товленному для этого цыпленку отрезают ножом голову и омыва-
ют кровью кожу барабана. В заключительной части глава культа
обращается к божествам Ифа (мифологический город в Африке),
чтобы они подтвердили принятие барабанов в сонм посвященных.
Это вызывает всеобщую радость, перед барабанами зажигаются
свечи. Каждая фаза церемонии включает серию определенных пес-
нопений, сопровождаемых одним музыкальным инструментом —
агого (разновидность колокола). Так, при появлении ножа звучат
песнопения, восхваляющие Огуна, бога железа и других металлов,
символическим предметом которого является нож. После жертво-
приношения солист и хор выражают благодарность ориша, кото-
рый взял барабан под свое покровительство12.
Группа барабанов атабаке также включает три разновидности
различных размеров: большой — гит, средний — rumpi, малень-
кий — le; своей конусообразной формой и системой веревочного
крепления кожи они напоминают кубинские бата. Первый барабан-
щик — алабе — глубокий знаток всего музыкального репертуара;
являясь одной из главных фигур в церемонии, он может выступать и
как сольный певец. В кандомбле только алабе принадлежит право
ритмической импровизации, румпи и ле ограничиваются повторе-
нием с небольшими видоизменениями заданных ритмо-структур.
Каждый ориша имеет одну или группу ритмо-структур (больше
всего их у Шанго), которые, так же как и в сантерии, сопровожда-
9 - 5470
257
ются определенной хореографией, символически соответствующей
характеру этого божества. Особая ритмическая фигура, называе-
мая "аванинья" (avaninha), используется в начале и в завершении
кандомбле, создавая своего рода репризную арку, завершенность
ритуального круга. Кстати, идея круговой цикличности, по-види-
мому, свойственная кандомбле, воплощается и в сериях песнопений
и танцев, обращенных к какому-либо ориша, которые имеют спе-
циальные названия — "круг Шанго" (Roda de Xangö), "круг Оду-
дуа" (Roda de Odudua), образующие наиболее традиционную часть
репертуара. Например, "круг Шанго" исполняется в момент, непо-
средственно предшествующий "появлению" Шанго, с чем связана
атмосфера особого эмоционального напряжения13.
Еще одна ритмическая фигура "адаррум" (adarrum) использует-
ся некоторыми барабанщиками, когда ориша обнаружил свое при-
сутствие, и транс постепенно овладевает все большим числом при-
сутствующих. Эта несложная двухдольная ритмическая фигура ис-
полняется в исключительно быстром темпе, что в еще большей сте-
пени нагнетает атмосферу неистовой возбужденности. Однако, по
свидетельству американского исследователя Дж.Бихэги, наиболее
традиционные центры кандомбле в Баие — Кето, Гантоис, Аше до
Опо Афонжа — считают неприемлемым использование этого
ритма14. Помимо атабаке, в кандомбле звучат разновидности коло-
кольчиков с двойным язычком — аджа, агого, а также различного
рода шумовые инструменты.
. Культовые песнопения — вторая важнейшая составляющая ри-
туальной музыки, существующей в единстве вокального и инстру-
ментального начал. Их свод строго упорядочен и регламентирован.
Хотя они бытуют в устной форме на наречии йоруба, главы куль-
тов и их помощники певцы-солисты нередко хранят тетрадки с фо-
нетической записью текстов.
Выбор и порядок чередования песнопений определяется харак-
тером культовой церемонии. При этом существуют некоторые
общие правила, которым следуют во всех случаях. Любая церемо-
ния кандомбле начинается с обращения к Эшу, а сантерии — к
Элеггуа, божествам, возвещающим о приходе ориша. Эта часть, где
участники культа, предлагая Эшу пищу и вино, отправляют его
прочь, включает от трех до семи песнопений — обращений к Эшу,
сопровождаемых агого.
Дальнейший порядок песнопений весьма произволен — в основ-
ном, это молитвы-обращения к различным ориша, в которых вос-
певаются их деяния или выражаются просьбы. Первый большой
раздел кандомбле нередко завершается серией песнопений, адресо-
ванных Шанго, которые называются, как уже говорилось, "круг
Шанго". В момент, когда на посвященного нисходит ориша, и по
характеру танца присутствующие узнают этого ориша, по этому
258
поводу звучат специальные песни-приветствия. После паузы, в те-
чение которой посвященные одеваются в тунику ориша, глава
культа поет специальную песню, приглашающую ориша войти в
круг и танцевать вместе со всеми, что является самой торжествен-
ной и кульминационной частью церемонии.
В целом, можно сказать, что в некоторых своих формах, подчас
неявных и замаскированных, система афро-христианских религиоз-
ных верований и праздников, в том числе сантерия и кандомбле,
спонтанно и широко вошла в жизнь и быт не только афро-мулат-
ского, но и белого населения Кубы и Бразилии, став одним из важ-
ных культурообразующих факторов в этих странах. Без учета этого
фактора немыслимо говорить о профессиональном искусстве Анти-
льских стран, Бразилии, будь то музыка, живопись или литература.
И дело здесь не в мифологических "пережитках", дающих заряд
"магическим чудесам" современного искусства, а в том, что на бла-
годатной почве этих "пережитков" взросла новая культурная ре-
альность.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Амаду Ж. Исчезновение святой // Иностранная литература. 1990. № 2.
С. 178.
2 Григулевич И. "Мятежная" церковь в Латинской Америке. М., 1972.
С. 119.
3 См.: Feijóo S. Mitologia cubana. La Habana, 1986.
4 Feijoo S. Op. cit. P. 23.
5 Ramos A. Folclore Negro do Brasil. Rio de Janeiro, 1954.
6 Гуревич A. Средневековый мир: культура безмолствующего большин-
ства. M., 1990. С. 93.
7 Behague G. Some liturgical functions of Afro-Brazilian religious music in
Salvador, Bahia // World of music. 1977, № 3, 4.
8 См.: Гороховик E. Музыкальные культуры стран Африки: современ-
ная ситуация, проблемы изучения. Обзорная информация. М., 1987.
9 Leon A. Del canto у el tiempo. La Habana, 1974.
10 В ряде исследований, проведенных этнографами, физиологами и ме-
диками, выяснилось, что ритм, и в частности музыка, где ритм является
главным выразительным средством, оказывает сложное воздействие на
человека. Он способствует не только двигательной активизации, но и
внутренним биохимическим изменениям в организме человека. В резуль-
тате этих изменений активизируется из внутренних резервов ряд биологи-
чески активных веществ, и в том числе так называемый внутренний алко-
голь, который в определенных количествах содержится в любом организ-
ме. Таким образом, постепенно нагнетаемое возбуждение — это не искус-
ная игра актера, а в действительности наблюдаемый процесс, который яв-
ляется результатом комплексного воздействия как внешних, так и внут-
ренних факторов. Не является вымыслом и целительный эффект "вселе-
9*
259
ния" божества, так как многие элементы этого трансового состояния,
такие как раскрепощенная двигательная активность и связанная с ней
внутренняя биохимическая революция, выступают как положительно сти-
мулирующие и даже лечебные факторы.
11 Leon A. Op. cit.
12 Behague G. Op. cit.
13 Behague G. Op. cit.
14 Behague G. Op. cit.
E.H. Васина
ПРАЗДНИЧНАЯ КУЛЬТУРА БРАЗИЛИИ
Бразилию по праву считают самой праздничной страной лати-
ноамериканского континента. Подобной славой Бразилия в первую
очередь обязана, конечно же, карнавалу. Однако, приобретший в
последние десятилетия такую широкую известность, карнавал явля-
ется лишь видимой миру вершиной огромного "айсберга" празд-
ничной культуры Бразилии, кульминацией целой эстафеты посвя-
щенных самым разным событиям религиозного или же светского
характера праздников, которые буквально каждую неделю, если не
каждый день, происходят в каком-нибудь городе или местечке. И
им нет числа. Здесь и пышные процессии, прославляющие католи-
ческих святых, и экстатические коллективные танцы и песни в
честь африканских богов, и дионисийского типа действа, приуро-
ченные к окончанию сбора винограда, и носящие чисто этнический
характер итальянские, немецкие, славянские, еврейские, японские
праздники. Создается впечатление, что в самом воздухе Бразилии
есть некая магическая субстанция, которая проявляет праздничный
дух каждого, кто живет на этой земле. Любой повод, иногда самый
неожиданный, становится причиной народного веселья на улицах,
под открытым небом, на берегу океана...
Это возможно только в той стране, где существует ощущение
глубокой коллективной общности, где не утрачено, несмотря на все
видимые различия, чувство близости себе подобным. "Мы хоть и
разные, но мы едины" — так лаконично и точно определил специ-
фику национального мироощущения известный бразильский ан-
трополог Роберто да Матта1. Подобное чувство единства непред-
ставимо в западном обществе, ибо "современные массы" там, по
словам Октавио Паса, представляют собою скопление одиночек.
"Если публика Парижа или Нью-Йорка в редких случаях и теснит-
ся на площадях и стадионах, то сразу бросается в глаза отсутствие
народа; перед нами — парочки, группки, но не живое множество, в
260
котором единица растворяется и вместе с тем находит освобожде-
ние"2.
В этом растворении в "живом множестве" народа происходит
раскрытие человека навстречу миру, которое наполняет каждого
приподнято радостным ощущением своей сопричастности целому.
Поэтому не удивительно, что ключевым словом, определяющим
коллективное сознание бразильцев и специфику восприятия ими
бытия, является "alegria" — радость, веселье. Именно радостное
приятие, несмотря на все беды и тяготы, мира как такового (столь
отличное от свойственной европейскому индивидуализму "тошно-
ты" от действительности) и, соответственно, радостное приятие
ближнего как части этого мира и являются постоянным внутрен-
ним катализатором необузданной праздничной стихии Бразилии.
Ведь праздновать — это, по верному замечанию В.Даркевича,
"значит коллективно ощущать целостность мира. Праздник — осо-
бое время, вернее, перерыв в нормальном круговороте времени,
когда, говоря радостное "да" конкретному событию, говорили
"да" жизни и миру как единому целому3.
Существование столь яркой праздничной культуры в Латинской
Америке, в целом, и в Бразилии, в частности, невозможно предста-
вить себе вне того особого типа национального сознания, в кото-
ром коллективное превалирует над индивидуальным, иррациональ-
ное — над рациональным, утопические устремления — над прагма-
тическими, а центробежные силы гармонизации оказываются более
мощными, нежели центростремительные тенденции к обособлению
по этническим, религиозным и социальным признакам..
В обладающей огромной интеграционной мощью праздничной
культуре Латинской Америки с легкостью соединяется несоедини-
мое — европейские, африканские и индейские традиции, перемеши-
ваются социальные "низы" и "верхи" —, и проявляется многомер-
ность "чудесной" латиноамериканской реальности, находящейся в
процессе своего становления, в процессе обретения своей внутрен-
ней целостности. Поэтому праздник как интегрирующее и гармо-
низирующее начало исходной дисгармоничной напряженности ла-
тиноамериканского мира становится здесь основной формой и
культуры, и жизни.
Сама история зарождения молодой бразильской культуры в
лоне праздника являет собою более, чем красноречивое подтверж-
дение справедливости известного наблюдения М.Бахтина о том,
что "празднество (всякое) — это очень важная первичная форма че-
ловеческой культуры."4 Ведь только в контексте праздника, объ-
единявшего в радостном ликовании европейцев и индейцев, когда
существовавшее между ними "отчуждение временно исчезало"5, от-
крывалась возможность первого подлинного духовного контакта,
рождавшего формы новой бразильской культуры.
261
Поразительно, насколько интенсивной и яркой была празднич-
ная жизнь Бразилии уже на самом начальном этапе колонизации —
во второй половине XVI в; если в обыденной жизни индейцы, в
полной мере испытывая на себе всю жестокость и насилие, на кото-
рые были способны конкистадоры, встречались с самыми что ни на
есть отталкивающими чертами европейской цивилизации, то в
праздничной стихии, напротив, происходило их приобщение к
христианской культуре, идеалам. И в этом смысле сакральная
функция праздников эпохи колонизации была необычайно важна:
те истины христианства, о существовании которого индейцы узна-
вали из проповедей миссионеров, воочию открывались им в пыш-
ных религиозных процессиях, представляющих полную благодати
небесную жизнь. Стоит только представить себе восторг, который
испытывали доселе ничего подобного не видевшие индейцы, когда
под громкие звуки божественной музыки по дороге, ведущей от
храма, начинал двигаться окруженный поющими и танцующими
людьми чудесный корабль, на котором в ослепительных, перелива-
ющихся всеми цветами радуги облачениях стояли красивейшие бе-
локожие юноши и девушки, изображавшие католических святых.
Вот как, например, описывает иезуит Фернан Кардин посвящен-
ную поминовению Одиннадцати Тысяч Дев праздничную процес-
сию, состоявшуюся в 1584 г. в Баие: "По земле плыла каравелла
удивительной красоты, вся украшенная флагами, полная студиозу-
сов; и везла она изображение богато одетых Одиннадцати Тысяч
Дев, празднующих свою победу. Из окошечек каравеллы показыва-
лись и произносили свои речи Город, Коллежия и многие Ангелы,
тоже богато одетые. На каравелле раздавались выстрелы из арке-
буз, накануне были устроены многочисленные потехи с огнем.
Люди в процессии танцевали, и было много как проявлений веры,
так и всяких других любопытных вещей. Днем на той же каравелле
была представлена сцена мученичества, затем с Небес на облаке
спустились Ангелы и устроили благочестивое погребение мучениц;
все отличалось благочестием и радостью..."6 Добавим, что естест-
венными декорациями этому "божественному действу" служил по-
истине райский пейзаж тропической природы, который у европей-
цев вызывал ничуть не меньший восторг, чем тот, что испытывали
индейцы при виде роскошных одеяний, украшений и "чудес" типа
движущегося на колесах корабля.
Подобные празднества, включавшие в себя и красочные теат-
ральные представления, и обряды крещения индейцев, и совмест-
ное пение и танцы, иногда длились по нескольку дней, в течение
которых стирались, с одной стороны, границы между профанным и
сакральным мирами, а с другой — те, которые разделяли цивилиза-
ционно столь отличные друг от друга миры европейской и индей-
ской культуры. В утопии праздника, разрушавшего жесткие рамки
262
обыденного существования и переносившего его участников в
"инобытие", осуществлялась та сокровенная мечта об обретении
"земного рая", которая вдохновляла само открытие Нового Света.
И праздник в качестве идеальной формы бытия оказывался, как об
этом очень точно писал Октавио Пас, "возвратом к исходному со-
стоянию неразделенности, будь то первородному или досоциально-
му. Возврат, который — по внутренней логике социального — есть
вместе с тем, начало"7.
Если посмотреть на феномен праздника в Бразилии в историчес-
кой перспективе, то очевидно обнаруживается его развитие по на-
растающей — от века к веку число праздников, их география и ко-
личество участников стремительно увеличиваются, достигая своего
апогея в XX столетии. Причем характерно, что на протяжении
многих веков праздничная энергия бразильцев реализовывалась,
преимущественно, в многочисленных формах народно-религиоз-
ных праздников, которые представляли собою своеобразный ог-
ромный культуропорождающий тигль, где сплавлялись воедино об-
рядовые традиции европейцев, африканцев и индейцев и вырабаты-
валась система образов коллективной самоидентификации. Более
того, праздник давал множество импульсов развитию самых разно-
образных жанров народной культуры, в границах которой проис-
ходил стихийный процесс формирования моделей национального
своеобразия.
Повсеместное распространение в Бразилии народно-религиоз-
ных праздников отражало характерную для Латинской Америки
мифотворческую необходимость структурирования нового мира по
"вертикали", соединяющей небо и землю. И только когда собствен-
ный целостный образ космоса (заметим, в немалой степени отлич-
ный от того, что существует в западной христианской традиции)
утвердился в коллективном сознании, неожиданно открылось
новое — карнавально-смеховое — русло праздничной стихии. При-
чем особо подчеркнем, что появление карнавальной праздничнос-
ти, создающей, как отмечал М.Бахтин, "второй мир и вторую
жизнь"8, оказалось возможным в Бразилии только тогда, когда
"первый мир" — то есть "серьезный" и реальный, наконец, приоб-
рел относительную стабильность и духовную целостность.
Так, "страной карнавала" Бразилия стала сравнительно недав-
но. Будучи единодушны в том, что самим фактом появления карна-
вала в их стране бразильцы обязаны Европе9, исследователи до сих
пор спорят относительно времени его рождения в Бразилии. Одни
считают, что первым празднеством карнавального типа можно счи-
тать торжества, устроенные в 1641 г. в честь восшествия на престол
португальского короля Жоана VI, когда на улицы Рио впервые
вышла веселая, разодетая в маскарадные костюмы толпа. Другие
настаивают на том, что за точную дату рождения бразильского
263
карнавала следует принять 1835 г. — начиная с этого времени в
Рио-де-Жанейро накануне Великого поста стали регулярно устраи-
ваться шумные уличные гулянья, участники которых, закрыв лица
масками, задирали прохожих, обсыпая их мукой и сажей, обливая
водой. Часто подобные увеселения заканчивались нешуточной по-
тасовкой, поэтому многие вздохнули с облегчением, когда в 1904 г.
этот "варварский" (и, добавим, сугубо локальный) обычай был за-
прещен указом столичного префекта. На какое-то время карнавал
оказался развлечением, доступным исключительно для "высшего
света", который собирался на роскошный бал-маскарад в Муници-
пальном театре.
Казалось, что этому европейскому календарному празднику,
предшествовавшему началу предпасхального сорокадневного
поста, не суждено было прижиться в Бразилии. (Как, впрочем, и
многим другим календарным обрядам Европы, которые неукосни-
тельно следовали за годичным циклом смерти и возрождения при-
роды, что естественным образом утрачивало свой смысл в стране,
где природа постоянно цвела и плодоносила). Однако в 20-х гг. XX
столетия состоялась поистине судьбоносная встреча европейского
по своему происхождению карнавала с традициями африканской
культуры, в результате которой он обрел в Бразилии свою новую
жизнь и новое качество. Этим своим "вторым рождением" на земле
Бразилии карнавал был обязан прежде всего самбе, звуки которой
непрестанно сопровождают и вдохновляют четырехдневное карна-
вальное празднество. Так, начиная с 20-х гг. XX в, стала формиро-
ваться традиция бразильского карнавала как действительно обще-
народного праздника, стремительно распространяющегося по всей
территории страны и с каждым десятилетием приобретающего все
более грандиозные масштабы.
Африканское по своему происхождению, слово "самба" означа-
ет специфические телодвижения — касания друг друга животами.
Подобные телодвижения, имитирующие любовный акт и сопро-
вождаемые соответствующей музыкой, всегда присутствовали в аф-
риканских религиозных ритуалах, будучи соотносимыми с идеей
плодородия. Привезенная в Бразилию чернокожими рабами, самба
постепенно утрачивает свой ритуально-магический смысл и начи-
нает исполняться за пределами культовых пространств. Однако
распространение этого "бесстыдного танца" вызвало негодование
католической церкви, добившейся еще в колониальные времена его
запрещения. Запрещенная, но не преданная забвению, самба — в
уже модифицированном, виде — возродилась как танец-песня в на-
чале нашего века, превратившись в популярнейший жанр народной
городской музыки. Вокруг народных авторов и исполнителей
самб — простых неграмотных бразильцев, не умевших записать ни
нот, ни слов — стали объединятся любители попеть и потанцевать,
264
которые вскоре образовали целые музыкально-танцевальные кол-
лективы, получившие название "школ самбы". Состоявшие исклю-
чительно из бедняков — жителей фавел Рио-де-Жанейро, — школы
самбы стали раз в году, накануне Великого поста, совершать мас-
карадно-танцевальные шествия по всему городу, где к ним присо-
единялись все желающие поучаствовать в коллективном веселье.
К концу двадцатых годов в Рио существовало уже около десятка
школ самб, и в 1930 г. было решено провести первый конкурс школ
самб, превратившийся с тех пор в обязательную карнавальную тра-
дицию. Сначала шумные шествия кариокских школ самб проходи-
ли на тесной улочке Оувидор в старом центре, затем (по мере роста
количества участников) — на центральном проспекте Рио Бранко,
а когда оказалось, что и этот проспект не может вместить всех же-
лающих, то в 1984 г. в центре Рио был открыт специально выстро-
енный по проекту Оскара Нимейера карнавальный стадион (его
длина — 800 метров!), официально называемый "самбодромом".
Проходящий здесь конкурсный парад школ самб, подчиняющийся
целому своду строгих правил, превращается в грандиозное шоу, ко-
торое транслируется телекомпаниями всего мира. И многие, конеч-
но же, считают, что оценка жюри, словно речь идет о соревновани-
ях, выступлений школ самб, происходящих в течение четырех дней
на самбодроме, является кощунственной профанацией карнаваль-
ной свободы. Однако парадокс этого карнавального конкурса за-
ключается как раз в том, что требуемая правилами заданность обя-
зательных элементов оказывается не в состоянии уничтожить ту
свободу народной импровизации, которой буквально дышит кар-
навал и которая оказывается способной преодолеть всяческие
рамки и ограничения. Поражающее своей виртуозностью исполне-
ние самбы всеми участниками школы, стремительное, постоянно
по нарастающей, нагнетание огромным, до 500 человек, оркестром
ударных африканского ритма — все это наполняет карнавальное
шествие мощнейшей внутренней энергией, которая доводит до со-
стояния коллективного экстаза всех — и исполнителей и зрителей.
Достигая своего апогея на самбодроме, коллективное безумие,
однако, в течение четырех дней царит и во всем городе, действи-
тельно представляющем собою в это карнавальное время "утопи-
ческое царство всеобщности, свободы, равенства и изобилия"10. В
Рио существует более 150 карнавальных объединений, которые и
днем, и ночью поют, танцуют и веселятся под открытым небом, за-
полняя весь город радостной стихией праздника. Они принципи-
ально, в отличие от школ самб, не приемлют никаких правил и ог-
раничений, и каждый желающий может присоединиться к какому
угодно из этих карнавальных объединений. Здесь можно приду-
мать себе любой карнавальный костюм и, став неузнаваемым, от-
казаться от жесткого комплекса общественных приличий, соблюде-
265
нии которых требует социальная роль в обществе. В соответствии с
карнавальными законами "перевертывания действительности"
мужчины частью переодеваются женщинами и наоборот, бедняки
появляются в потрясающих своей роскошью костюмах, сшитых на
деньги, экономившиеся в течение целого года ради счастья этого
карнавального мига, а люди состоятельные, напротив, напяливают
на себя лохмотья, дабы полностью раствориться в толпе.
Для одних подобная травестия оказывается чисто игровой ре-
альностью карнавальной жизни, никак не соотносимой с обычным
существованием. Для других же, напротив, — долгожданной реали-
зацией сокровенных мечтаний, не осуществимых в обыденной
жизни. Поистине, бразильский карнавал является и гигантской
"отдушиной", в которую выплескиваются накопившееся напряже-
ние, стрессы, страсти, растворяясь в безудержной радости коллек-
тивного веселья, когда все вместе, касаясь друг друга бедрами, тан-
цуют самбу, будто заключая символический кровный союз.
Ведь самба, унаследовав от африканской культуры откровенно
чувственную пластическую выразительность и почти магическую
способность ритмико-энергетического воздействия, как это бывает
во время ритуальных трансов, действительно необычайно актуали-
зировала значение "материально-телесного низа" в бразильском
карнавале и усилила ту витально-эротическую энергию, которая
действительно превращает его в настоящий "праздник инстинк-
тов", по точному замечанию шведского писателя Артура Лунд-
квиста. И в этом, как мне кажется, скрыт не только секрет популяр-
ности карнавала у миллионов бразильцев, черпающих в нем "про-
изводительные силы" для нового годового цикла, но и заложен глу-
бокий для всего национального сознания и культуры смысл коллек-
тивному приобщения к рождающемуся в лоне праздничного дейст-
ва Родовому телу. В.Земсков очень точно говорил по этому поводу:
"В праздничной стихии происходит кристаллизация новой психо-
физиологической определенности на уровне ритма, жеста, мотори-
ки, звука, ритмо-слова, эротической импульсивности, а это и есть
творение нового коллективного — Родового тела с присущим ему
новым вариантом коллективно-бессознательного, той сферы, где
возникают новые автоматизмы, надличностные стереотипы, опре-
деляющие не только праздничное, но и будничное бытие"11.
Трудно переоценить значение праздника как своего рода пер-
вичной, структурообразующей модели, действенной не только в
момент встречи двух миров, но и в наши дни, в контексте еще не
завершенного процесса становления бразильской культуры. Важ-
нейший для художественно-идеологического сознания Латинской
Америки в целом вопрос о самоидентификации как бы естественно
разрешается в свободной стихии праздничности, соединяющей про-
тивоположности и рождающей новое, лишенное изначальной дис-
266
гармонии качество национальной культуры. В празднике рушатся
стены, разделяющие различные этно-культурные и этно-религиоз-
ные миры. Яркий пример тому — практически не прекращающаяся
на протяжении всего тропического лета череда праздников в севе-
ро-восточных штатах Бразилии, в которых сплавляется в причуд-
ливую амальгаму европейское и африканское наследие страны.
По своему масштабу многие из этих праздников соизмеримы с
карнавалом. Так, например, торжество в честь образа Пресвятой
Назаретской Богоматери в Белене длится в течении двух недель, и
участвуют в нем сотни тысяч человек. Празднования в часть покро-
вителя Баии — Сеньора де Бонфина (Господа Благой Цели) — на-
чинаются утром в четверг около церкви, где хранится чудотворный
образ — распятие, привезенное в Бразилию из Португалии на
пасху 1745 г. Почитание этого чудотворного распятия началось
еще в XV в., и было, в основном, связано, как это характерно для
народного христианства, с исполнением разного рода обетов в слу-
чае оказания божественной помощи. Так, один солдат дал обет,
что если уцелеет на войне с Парагваем 1865-70 гг., то вымоет всю
церковь Сеньора де Бонфина, что с радостью и исполнил, остав-
шись в живых. И тем самым положил начало обряду омовения цер-
кви раз в год в четверг накануне храмового праздника, совершаю-
щегося в воскресенье.
По словам известного бразильского этнографа Камары Каску-
до, "сотни мужчин и женщин под предлогом омовения церкви
пели, плясали, пили, ели, расходуя тонны воды и ломая сотни
швабр. Это были сцены поистине дионисийского раскрепощения
людей в месте, предназначенном для серьезного религиозного по-
клонения"12. В 1889 г. архиепископ Баии запретил подобные вакха-
налии в церкви. Однако народный обряд был продолжен, теперь
уже под открытым небом, где стало собираться еще больше народа,
чтобы с громкими песнями и танцами совершать омовение портала
и ведущих к храму ступеней. Причем в этом праздничном обряде
первоначально участвовало преимущественно негритянское населе-
ние Баии, в религиозном сознании которого Спаситель идентифи-
цировался с верховным божеством негритянского языческого пан-
теона — Ошалой. Поэтому обряд омовения христианской церкви
совершался водой не обыкновенной, а специально взятой для этой
цели из священного источника, посвященного Ошале. Так обет,
данный благочестивым христианином, стал поводом для продол-
жающейся и по наши бурной четырехдневной дионисийской вакха-
налии. Сопровождаемый песнями и танцами, обильными возлия-
ниями и непременными угощениями, которые прерываются лишь
на время мессы и торжественной религиозной процессии, этот ти-
пично бразильский народный праздник объединяет теперь сотни
тысяч человек. Причем сакральное и профанное, христианское и
267
языческое сосуществуют в этом празднике в столь нерасторжимом
единстве, что никакие усилия католических священников не спо-
собны противостоять происходящей здесь по сути своей карнаваль-
ной профанации, демонстрирующей "веселую относительность"
всякого порядка, всяких религиозных и культурных разграниче-
ний.
Необычайный синкретизм отличает и другой очень популярный
на северо-востоке Бразилии праздник Святой Варвары (Санта Бар-
бара), которая также имеет свой дублет в афро-бразильских язы-
ческих верованиях — грозную богиню Иансан, властительницу
грома и молний. Соединение в народных представлениях в едином
образе Святой Варвары и Иансан послужило сюжетом для, пожа-
луй, самой известной, поставленной на сценах многих театров
мира пьесы Диаса Гомеса "Обет", которая легла также в основу
одноименного фильма, снятого режиссером "нового кино" Ансел-
мо Дуарте и ставшего первой латиноамериканской кинолентой,
удостоенной Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля.
В основе сюжетного развития "Обета" — конфликт, возникаю-
щий у бедного крестьянина Зе-де-Бурро с католическим священни-
ком, который выясняет, что его прихожанин дал обет Святой Вар-
варе, только произошло это не в католическом храме, а на афри-
канском радении — кандомбле. Потому что, как простодушно объ-
ясняет Зе, в часовне той деревни, где он живет "нет изображения
Святой Вравары. А на площадке кандомбле имеется изображение
Иансан, которая и есть Святая Варвара"13. Для простого бразиль-
ского крестьянина столь причудливая смесь христианского пантео-
на с языческим кажется вполне естественной. Подобно тому, как
процесс метисации перемешал кровь белых и черных, так и в рели-
гиозных представлениях бразильцев (и, заметим, что сейчас уже не
только выходцев с африканского континента, но и чистокровных
потомков европейцев) синтезируются христианские и африканские
языческие верования, проявляющиеся в таком любопытнейшем ре-
лигиозном феномене как бразильский "народный католицизм".
Автор фундаментальных трудов по религиозному синкретизму в
Бразилии французский антрополог Роже Бастид писал, что в "на-
родном католицизме" все происходит так, как будто "самые высо-
кие этажи религии рухнули и остались лишь архаичные, относя-
щиеся к средневековому католицизму"14. Набожный прихожанин,
считающий себя ревностным христианином, может попросить о
милости Святую Варвару и на тот случай, если она не сможет по-
мочь, обратить свои мольбы к Иансан. А ревностные участники
кандомбле, в свою очередь молятся и перед ликами святых в като-
лических храмах.
Праздник Святой Варвары официально начинается 4 декабря в
7 часов утра с торжественного богослужения. Однако уже вечером
268
накануне совершаются посвященные Иансан обряды на кандомбле.
И многие из тех, кто утром спешит первым придти на мессу, попро-
сту не ложатся спать — обряды в честь Иансан затягиваются до
поздней ночи, а затем следует обязательная ритуальная трапеза, со-
стоящая из специально приготовленного жертвенного блюда боги-
ни — "каруру".
В 1997 г., когда мне посчастливилось стать участницей этого
праздника, все говорили, что произошло настоящее чудо. Именно 4
декабря в разгар засушливого лета, когда на небе уже давно не
было видно ни облачка, в 5 часов утра вдруг неожиданно разрази-
лась сильная гроза — так всемогущая покровительница грома и
молний Иансан, по твердому убеждению баиянцев, более, чем оче-
видно продемонстрировала свое божественное благорасположение,
собственноручно благославив праздник Святой Варвары.
Небольшая церковь Розарио не может вместить всех желающих
присутствовать на мессе — поэтому народ толпится и на площади,
куда через громкоговорители транслируется длящееся более двух
часов богослужение. Собирающаяся здесь толпа представляет
собою невероятно яркое зрелище. Площадь будто полыхает от по-
жара — все одеты в красное, символический цвет Иансан. В подав-
ляющем большинстве это специально в огромном количестве изго-
тавливаемые для этого праздника красные майки, на которых изо-
бражен известный католический образ Святой Варвары с молит-
венно сложенными руками и устремленным к небу взором. Те, кто
побогаче, появляются в более изысканных туалетах, но непременно
алого цвета. И очень любопытно наблюдать, как в этот день бук-
вально вся Баия становится красной — банковские служащие повя-
зывают красные галстуки, на бизнес-ланч в рестораны приходят
мужчины в красных пиджаках, а по улицам расхаживают красотки
в плотно обтягивающих их алых юбках.
В собравшейся перед церковью Розарио толпе сразу выделяется
группа женщин, одетых в пышные белоснежные накрахмаленные
юбки, перепоясанные красными кушаками. Это так называемые
"матери святых" — пользующиеся огромным уважением посвящен-
ные жрицы кандомбле. Вокруг них собираются музыканты с бара-
банами-батуке и пока еще достаточно тихо наигрывают характер-
ные африканские ритмы, которые сливаются с мелодиями звуча-
щих из церкви хоралов. Когда же богослужение заканчивается, то
выходящую в город праздничную процессию возглавляют именно
эти женщины — "матери святых". За ними несут хоругви с изобра-
жениями Святой Варвары и буквально утопающие в красных розах
скульптуры Христа, Девы Марии и самой виновницы торжества.
Сопровождаемая музыкой, процессия начинает двигаться по ук-
рашенным алыми лентами улицам города, и в нее вливается все
больше и больше народа. Те же, кто остался дома, распахивая
269
окна, пускают воздушные шары и посыпают головы проходящих
конфетти. Все поют и время от времени выкрикивают здравицы:
"Да здравствует Санта Барбара! Да здравствует Иисус Христос! Да
здравствует Дева Мария!"
Для многих очевидным подтверждением реальности присутст-
вия божественной силы Святой Варвары Иансан оказывается эпи-
зод, произошедший буквально у меня на глазах. В какой-то момент
процессия остановилась на так называемой "площади пожарни-
ков" — ведь Святая Варвара считается их покровительницей. Под-
нятый на высоту пожарного крана, католический священник в
белой, перепоясанной ярко-красным поясом рясе обратился к со-
бравшимся с короткой проповедью, говоря о святом благочестии
мученицы Варвары, а затем начал из брандспойта "кропить" разго-
ряченную толпу святой водой. В этот момент в толчее вдруг про-
изошло оживление — все взоры обратились на одетую в длинное
облегающее красное платье красивую молодую негритянку, кото-
рая стала совершать непроизвольные судорожные телодвижения,
входя в ритуальный транс. "В нее вселилась Иансан, сама Иан-
сан!" — радостная весть вызывала всеобщее ликование...
В честь праздника Святой Варвары многие женщины, давшие
обет Иансан, готовят огромные котлы каруру, которые по оконча-
нии праздничной процессии на одной из старейших, расположен-
ной у самого берега океана площадей Баии — Рыночной площа-
ди — выносятся для всеобщего бесплатного угощения, перерастаю-
щего в по-настоящему народное веселье и радостное пиршество,
длящееся до поздней ночи.
Можно привести еще множество примеров подобных афробра-
зильских праздников, когда одновременно с прославлением като-
лических святых совершаются поклонения божествам африканско-
го пантеона, когда процессия, начинающаяся в церкви, заканчива-
ется пышным ритуалом жертвоприношения на берегу океана, когда
после причастия все оказываются участниками пира, блюда кото-
рого приготовлены и освящены на кандомбле...
Поистине, только праздник способен стереть все различия, су-
ществующие в обыденной жизни, и указать возможность обретения
гармонии в том, что изначально кажется полярно противополож-
ным. Поэтому праздничность латиноамериканской культуры явля-
ется естественным, подсказываемым самой внутренней логикой
развития способом преодоления напряжения, изначально возник-
шего от встречи разных культурных миров. В этом контексте фено-
мен праздника в Латинской Америке — это свидетельство и реаль-
но существующего кризиса, и стремления к его разрешению. Окта-
вио Пас справедливо писал по этому поводу: "Не решаясь или не
умея встать лицом к лицу с собственной судьбой, мы зовем на по-
мощь праздник"15.
270
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Matta R. da. Carnavais, malandros e herois. Para urna sociologia do
dilema brasileiro. Rio, 1983. P. 16.
2 Пас О. День всех святых, праздик мертвых / Поэзия. Критика. Эроти-
ка. М., 1996. С. 23.
3 Даркевич В. Народная культура средневековья. М., 1988. С. 4.
4 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура сре-
дневековья и Ренессанса. М., 1965. СИ.
5 Бахтин М. Указ. соч.. С. 14.
6 Cardim F. Tratado da terra e gente do Brasil. Säo Paulo, 1939. P. 299.
7 Пас О. Указ. соч. С. 25.
8 Бахтин М.М. Указ. соч. С 8.
9 Кстати, до сих пор не существует единой версии, объясняющей эти-
мологию самого слова карнавал — ведет ли оно свое происхождение от
латинского carrus navalis (буквально "колесница-корабль") или же связа-
но с латинскими же сагпет levare ('оставить мясо"); carnevale (мясоед);
carne — valel ("да здравствует плоть!").
10 Бахтин М.М. Указ. соч. С 12.
1 { Земское В. Выступление на "круглом столе" "Праздник как феномен
ибероамериканской культуры" //Латинская Америка, 1997, № 12. С. 92.
12 Cascudo С. Dicionario do Folclore Brasileiro. Rio de Janeiro, 1954.
P. 179.
13 Диас Гомес A. Обет. M., 1963. С 34.
14 Bastide R. As religiôes africanas. Brasil-Paris, 1960. P. 484.
15 Пас О. Указ. соч. С 27.
В.Л.Хайт
КАРНАВАЛ И КАРНАВАЛИЗОВАННОСТЬ
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО ИСКУССТВА И АРХИТЕКТУРЫ
Анализ роли и воздействия праздника на искусство и архитекту-
ру Латинской Америки почти неизбежно обращает исследователя к
проблемам генезиса современных наций и культур континента, к
эпохе колонизации и христианизации.
Разрушение культуры доколумбовых цивилизаций, памятников
зодчества, не могло полностью исключить из жизни индейского на-
селения памяти и опоры на местные верования и обычаи, воспри-
пятствовать влиянию этих памятников на архитектуру и культуру
колоний. Во многих регионах массовый ввоз рабов из Африки
определил и поныне определяет специфику этнокультурного сте-
реотипа и модели поведения. Однако результатом 500-летнего про-
цесса колонизации стало безусловное приобщение Америки к евро-
271
пейскому культурному ареалу, превалирование европейских по ге-
незису и характеру типов сознания, религиозных воззрений и
служб, искусства, быта, средоформирования1.
В этом процессе европеизации важнейшую инициирующую, со-
держательную и инструментальную роль сыграла католическая
церковь, однако вместе с христианством в Новый свет были пере-
несены многие другие — сопутствующие и даже внутренне проти-
востоящие католицизму — культурные типы и формы.
Конкистадоры и колонисты ввезли в Новый свет многовековые
традиции народных празднеств, наиболее ярким и известным из ко-
торых был карнавал.
Широко известны положения М.М.Бахтина о карнавале, его
сущности и "механизмах". Мы не станем повторять их и приведем
только то высказывание, которое поясняет его широчайшее воздей-
ствие на сферы сознания, культуры, художественного творчества.
"Карнавал выработал целый язык символических конкретно-
чувственных форм — от больших и сложных массовых действ до
отдельных карнавальных жестов. Язык этот... поддается известной
транспонировке на родственный ему по конкретно-чувственному
характеру язык художественных образов... Эту транспонировку
карнавала на язык литературы мы и называем карнавализацией
ее"2. Здесь важно положение о "транспонировке языка карнава-
ла" — он транспонировался и в другие сферы культуры.
Бахтин подчеркивал значимость "карнавальной атмосферы",
карнавального "неофициального мироощущения", которое не ог-
раничивалось только днями карнавала или других празднеств,
прежде всего религиозных. Они царили в период ярмарок, торжищ,
других неофициальных массовых действ и сохранялись в массовом
сознании и подсознании в промежутках между ними.
Существенно, что особенно сильное воздействие карнавала на
массовое сознание, культуру и искусство ученый относит к перио-
ду, предшествовшему конкисте и христианизации и совпадавшему
с ним по времени. "До второй половины XVII века, — писал
М.М.Бахтин, — люди были непосредственно причастны к карна-
вальным действиям и карнавальному мироощущению, они еще
жили в карнавале, то есть карнавал был одной из форм самой
жизни. Поэтому карнавализация носила непосредственный харак-
тер (ведь некоторые жанры даже прямо обслуживали карнавал).
Источником карнавализации был сам карнавал"*.
Многократно отмечалась связь открытия и колонизации Амери-
ки и формирования ее искусства и с культурой Средневековья, и с
духом Возрождения, и с последовавшей за ней Контрреформацией.
В процессе ранней христианизации Южной и Центральной Амери-
ки особую роль наряду с доминиканцами играл францисканский
орден и его ответвления. Его влиятельность и возможности во
272
многом определялись сохранением духовного наследия самого свя-
того Франциска Ассизского. М.М.Бахтин обоснованно писал:
"Своеобразное мировоззрение Франциска с его "духовной веселос-
тью" ("laetitia spiritualis"), с благословением материально-телесно-
го начала, со специфическими францисканскими снижениями и
профанациями может быть названо (с некоторой утрировкой) кар-
назализованным католицизмом". И в другом месте: "Сам Франциск
недаром называл себя и своих сторонников "скоморохами Госпо-
да" ("ioculatores Domini")"4. По-видимому, эти черты францискан-
ства способствовали его влиянию и распространению в Латинской
Америке.
Необходимость крещения огромных масс аборигенов, не знав-
ших языка и не понимавших целей обряда крещения, потребовала
новых литургических приемов и вызвала появление новых типов
культовых зданий: огромных окруженных стенами дворов для го-
товящихся к крещению индейцев перед фасадами церквей и собо-
ров и капелл "посас" — своеобразных объектов поклонения для ос-
тающихся снаружи масс пока не крещенных и новообращенных.
В процессе этно- и культурогенеза в Латинской Америке евро-
пейская карнавальная традиция обогатилась наследием и в част-
ности ритуально-церемониальными традициями покоренных ин-
дейцев и привозившихся из Африки рабов. И в аборигенных, и в
негритянских культурах религиозные магические ритуалы прохо-
дили в форме своеобразных "хороводов" — групповых ритмичес-
ких танцев, сопровождавшихся песнопениями или мелодеклама-
цией, обычно под аккомпанемент ударных инструментов. Не пре-
увеличивая значения "теллурических" сил в психологическом строе
негров, нельзя не признавать огромной роли, которые играют чув-
ства в их восприятии окружающего мира, традиционного значения,
в том числе ритуального, танца и ритмики, а также языческого
ощущения близости к природе, доходящего до тотемического оду-
шевления ее сил. Эти глубинные черты народного характера осо-
бенно ярко проявляются (вернее, находят себе выход) в дни карна-
вала, в первую очередь в бурных танцах, когда само тело танцую-
щих, кажется, начинает жить в движении, одухотворяется им, изви-
вается и содрогается, возбуждая толпу.
В анализе процесса формирования относительно единой лати-
ноамериканской культуры обоснованно подчеркивается глубокое
различие мировоззренческих, бытовых, образных основ невольно
вступивших в контакт и разрушительный конфликт суперэтносов
(европейского, американского доколумбового — аборигенного и
африканского). Однако именно в празднично-ритуальных танце-
вальных жанрах обнаруживалась несомненная близость некоторых
архетипических форм, правда, проявлявшихся несколько различно
у контактировавших этнокультурных типов. Не смешивая культу-
273
рогенеза с этногенезом, нельзя отрицать тот факт, что конструк-
тивный по своей сути процесс сложения новой культуры при этно-
культурном смешении сопровождался значительно большим по
своему масштабу процессом "расшатывания культурного генофон-
да" (вероятно, даже в большей степени, чем генофонда собственно
расово-этнического). Это "расшатывание" реально обостряется как
при перемещении этноса в иные природно-климатические и куль-
турно-ландшафтные условия, так и — прежде всего — в иной язы-
ковой среде или при необходимости вступления в контакт с иным
языком.
Процессы этно-культурного синтеза привели к определенному
изменению характера европейского карнавала, усилив в нем танце-
вально-музыкальный, а в регионах с преобладанием или с большей
долей негритянского населения также эротический колорит. Эро-
тичность и сексуальность в молодой синкретичной культуре Латин-
ской Америки, в особенности в ее афро-американской и индейско-
американской разновидностях, обрели характер устойчивой доми-
нанты, что отразило и профессиональное искусство. Стихия эроти-
ки вместе со стихией во многом изображающего и символизирую-
щего ее танца, ритма, музыки, декоративности придали особую ат-
мосферу и карнавалу в Латинской Америке.
Думается, что обсуждая вопрос о карнавальности культуры Ла-
тинской Америки и о специфике латиноамериканского карнавала в
частности, стоит обратить внимание на его видоизменение в суще-
ственно иных природно-климатических условиях. Для российского
исследователя или туриста климат Западной Европы и особенно
Пиренейского полуострова — родины конкистадоров и первых ко-
лонистов — представляется теплым. Но в XVI-XVII вв. он был го-
раздо более суровым (см., например, пейзажи нидерландских ху-
дожников), а ведь европейские поселенцы перенесли свои обычаи и
празднества в Южное полушарие, где времена года противополож-
ны нашим. В результате карнавал ("масленица") — зимний после-
рождественский праздник — пришелся в Южной Америке на самый
жаркий месяц, что, возможно, также способствовало не только во-
влечению в него индейцев и негров, но и усилению танцевально-
эротического характера.
Учитывая роль временного единения всего населения в период
карнавала почти независимо от социально-имущественных, сослов-
ных и этнических различий, нельзя забывать об обычной (тем
более до крещения населения континента) наготе индейцев и не-
гров, общество и культура которых сложились в жарком климате.
Это, возможно, еще одна причина такой высокой роли обнаженно-
го тела и эротики в латиноамериканском карнавале, хотя, конечно,
и индейцы и особенно негры имеют богатые традиции пышного,
многослойного и богато украшенного костюма. Не случайно наго-
274
ту индейцев и негров описывали практически все первооткрывате-
ли Америки5 и изображали многочисленные художники, начиная
от майяских создателей росписей Бонампака до современных живо-
писцев, в том числе участники первой российской экспедиции в
глубинные районы Бразилии 1821-1828 годов под руководством
академика Г.И.Лангсдорфа. Выдающийся мексиканский поэт Окта-
вио Пас писал: "Суть эротики — в воображении, эротика — это ме-
тафора сексуальности (...). К сексу как таковому эротика отноше-
ния не имеет: это секс, пресуществленный воображением, — обряд,
спектакль"6. Он отмечает и подчеркивает "близость эротического и
религиозного ритуала": "И религиозный обряд, и любовная цере-
мония — это прежде всего представления"7.
Стоит прислушаться к пониманию и оценке О.Пасом латино-
американского — конкретно, мексиканского праздника: "Наш ка-
лендарь битком набит праздниками. (...) Мой необщительный со-
отечественник любит праздничные даты и людные места. Глав-
ное — собраться, по какому поводу — не важно. Только бы разо-
рвать круговорот дней... (...) Едва ли не всюду пришедшее в упа-
док, в наших краях Искусство Праздника лелеют и поныне. Празд-
ник — космическое действо, опыт беспорядка, слияния противо-
борствующих стихий и начал ради новой жизни. (...) На празднике
общество приобщается к самому себе. (...) Всякий праздник — это
праздник всех... (....) праздник — это общественное событие при ак-
тивном участии каждого"8.
М.М.Бахтин обращает внимание на важнейшую особенность
карнавала, имеющую особое значение для обсуждаемой темы:
"...Неофициальная народная культура имела в средние века и еще в
эпоху Ренессанса свою особую территорию — площадь и свое осо-
бое время — праздничные и ярмарочные дни. Эта праздничная
площадь... — особый второй мир внутри средневекового офици-
ального мира. Здесь господствовал особый тип общения — вольное
фамильярно-площадное общение. [...] В праздничные дни, особенно
во время карнавалов, площадная стихия в большей или меньшей
степени проникала повсюду, даже в церковь... Праздничная пло-
щадь объединяла громадное количество больших и малых жанров
и форм, проникнутых единым неофициальным мироощущением"9.
Стоит напомнить, что в соответствии с Магдебургским правом
западно-европейские города в средние века имели две функцио-
нально различные, но неизменно сопряженные планировочио пло-
щади: соборную и торгово-ратушную (профанную). Испаноамери-
канские города, запроектированные и построенные в соответствии
с "Законами Индий", имели единую соборно-административно-це-
ремониальную площадь, и это, возможно, способствовало спириту-
ализации и ритуализации городского пространства в целом.
275
Бахтин подчеркивает: "В средние века, в сущности, почти каж-
дый церковный праздник имел свою народно-площадную карна-
вальную сторону (особенно такие, как праздник Тела Господня).
Многие национальные празднества, вроде боя быков, например,
носили ярко выраженный карнавальный характер"10. Ученый счи-
тает, что поныне "...Продолжают существовать и площадной кар-
навал в собственном смысле и другие празднества карнавального
типа, но они утратили свое былое значение и былое богатство
форм и символов"11. Вероятно, нельзя не согласиться с исследова-
телем в данной оценке тенденции в европейской культуре в целом
(это мнение, как указывалось выше, разделяет О.Пас), однако в Ла-
тинской Америке карнавал во многом сохраняет свое культурофор-
мирующее значение12.
В Латинской Америке городская площадь приобретает назначе-
ние и характер, способствующие проведению карнавальных действ.
"В Испании и в Европе, — пишет известный историк Франсиско де
Солана, — представительные здания муниципальных и правитель-
ственных учреждений, торговые, общественные, а также религиоз-
ные и церковные распределяются раздельно по территории города.
В Америке Пласа Майор сосредоточивает их все"13. В городах ис-
панских колоний главная площадь объединяла функции рынка, ад-
министрации, на ней проводились военные парады и сбор воору-
женного ополчения колонистов, бои быков, собачьи бега и т.п., но
главной функцией площади была культовая — она использовалась
как церковный двор, здесь проходили традиционные религиозные
процессии по случаю Страстной Недели и Пасхи, праздника Тела
Господня, праздников в честь небесных заступников города или
монархии.
По сторонам площади воздвигались дворцы муниципалитета
или наместника, соборы, подчеркивая господство католической
церкви в общественной и культурной жизни колоний. Фасады зда-
ний украшались по случаю празднеств и церемоний, на балконах и
даже на колокольнях собирались зрители. На испаноамериканской
городской площади постоянно бушевала жизнь, придававшая ей
характер постоянно действующей городской сцены14.
Это наблюдение расширяет представление о специфике главной
площади городов Латинской Америки как своеобразном карна-
вальном театре, не имеющем рампы. И в целом в Латинской Аме-
рике общественное пространство города, его площади и улицы, как
и во многих других регионах мира с теплым климатом является и
воспринимается продолжением дома и храма, их раскрытием
вовне. На площади и на улице реализуются многие бытовые
(вплоть до интимных) и культурные процессы и контакты. Город-
ское пространство обживается и одухотворяется. И сами бытовые и
культурные процессы и контакты на площади и улице часто, если
276
не обычно, приобретают праздничный приподнято-шумный и ри-
туализованный характер.
Всемирную известность приобрели карнавалы в Рио-де-Жаней-
ро, в Гаване и в других административно-культурных центрах кон-
тинента. Некоторые латиноамериканские деятели культуры выра-
жают сожаление в связи с превращением народного праздника в
дорогостоящий туристический аттракцион. Однако эксплуатация
карнавала индустрией туризма не отменяет его культурной роли и
значения. (Аналогично, рассмотрение памятников зодчества и ис-
тории как объектов туристического показа позволило отреставри-
ровать многие церкви и дворцы, но при этом не лишило их истори-
ческой и культурной ценности, а только повысило ее).
Свидетельством жизненности карнавала в Бразилии является не
только сам карнавал — ее демонстрируют многие произведения
литературы, театра, кино (вспомним хотя бы мелодраму "Черный
Орфей" Винисиуса ди Мораинса), живописи.
С религиозным рождественским праздненством, посвященным
поклонению волхвов новорожденному младенцу Иисусу (перекли-
кающимся со славянскими колядами) связана одна из кульминаци-
онных сцен романа Жоржи Амаду "Габриэла". Автор описывает
подготовку к празднику с репетициями и шитьем костюмов и ноч-
ную религиозную процессию под названием "Терно Волхвов",
представленную традиционными евангельскими персонажами —
пастушками с фонарями на шестах и афро-бразильскими фольклор-
ными "персонажами": бык, вакейро (пастух — В.Х.), капора (ско-
рее, "каипира" — деревенщина — В.Х.) и "бумба-меу-бой". Пас-
тушки шествуют, приплясывая по улицам города, останавливаясь у
богатых домов и ресторанов, где их приветствуют и угощают.
"Они снова принялись танцевать и петь. Микелина в центре про-
цессии со штандартом в руках, вращала худыми бедрами"15. Горо-
жане поддаются захватывающей стихии музыки и танца и посте-
пенно присоединяются к процессии. "Вдруг Габриэла скинула
туфли, ринулась вперед и выхватила штандарт из рук Микелины.
Она закружилась, вращая бедрами, заплясали освобожденные от
тесной обуви ноги. Терно двинулось вперед... а потом и другие
дамы... Все участники бала (рождественского — в русском перево-
де "новогоднего" — В.Х.) оказались на улице, всем захотелось по-
забавиться"16.
В возрождении традиций народных празднеств многие борцы за
сохранение культурной самобытности видят важное средство обо-
гащения национального искусства. Они напоминают, что даже
"перед тем, как превратиться в центр метрополии" — современный
многонациональный индустриальный, деловой и транспортный
комплекс — "Сан-Паулу имел яркие, выразительные народные тра-
диции, которые до 1940 г. включали оживленный уличный карна-
277
вал, веселые многолюдные шествия, бесконечные традиционные се-
ренады, позже, к сожалению, запрещенные"17. Точнее, карнаваль-
ные торжества продолжались, но приобрели более локальные или
камерные формы, в частности, балов общественной элиты в ресто-
ранах, театрах, дворцах и поместьях.
В конце XX в. на статус столицы карнавала в давней конкурен-
ции с Рио-де-Жанейро стал претендовать Буэнос-Айрес.
Синкретичный по своей природе карнавал в Латинской Амери-
ке не только сохранил изначально присущие ему остатки языческих
обрядов, но и включил элементы индейских культовых церемоний
и, что особенно важно, афро-католических культов воду, сантерия,
кандомбле, шанго, макумба, ритуалы и литургические формы кото-
рых соединяют магию, заклинания, театрализацию, музыку, кол-
лективные танцы, ритмические телодвижения, пластику.
Карнавализации культуры колониальной Америки, как пред-
ставляется, способствовала и специфика колониального общества
как априорно неравноправного по отношению к привилегирован-
ным слоям метрополий. Креольская знать не была легитимной в
глазах грандов иберийских королевств. Более того, существовал
целый ряд высших административных должностей в колониях, ко-
торые не могли быть заняты уроженцами колоний. Помещичий и
городской быт в колониях, что известно по многочисленным опи-
саниям и изображениям, при всей унизительности положения рабов
и жесткости наказаний был патриархальным, между господами и
слугами не было непреодолимых границ, почти легальным было
сожительство господ с рабынями (мулатом — сыном рабыни Ис-
абелы был и великий бразильский скульптор и архитектор Алейжа-
динью, воспитывавшийся в семье отца — португальского зодчего
Мануэла Франсиску Лисбоа вместе с его законными детьми и но-
сивший его фамилию — Антониу Франсиску Лисбоа).
Важным визуальным отличием карнавала в Латинской Амери-
ке, в частности в Рио-де-Жанейро, является его оформление —
прежде всего костюмы участников, а также декорации. Карнаваль-
ное шествие не только по содержанию, но и по внешнему образу
принципиально отлично от столь важных и распространенных в
средневековом европейском городе религиозных процессий. Там
определяющей была ахроматическая гамма: черные, белые, серые,
коричневые монашеские облачения, нередко лица скрывались под
коническими колпаками с прорезями для глаз. Столь же строго, во
власяницы и плащи с капюшонами одевались и светские участники
церемоний. В.Гюго, правда, рассказывает: "Из истории нам извест-
но, что принцессы и знатные дамы принимали участие в процесси-
ях кающихся, проходивших между двумя рядами монахов; в одной
из таких процессий герцогиня Монпасье, под предлогом самоуни-
чижения, показалась всему Парижу в одной кружевной рубашке.
278
Герцогиня шла босая и со свечой в руках"18. Но это, во-первых,
было чисто карнавализованное представление, или скорее, выступ-
ление, во-вторых, почти наверное, кружева, упоминаемые писате-
лем, на самом деле были сплетены из конского волоса. Латиноаме-
риканский карнавал — не только пышный, но и красочный. К кар-
навалу украшается и весь город, его улицы, площади, дома.
Процесс активных этнокультурных контактов вместе с карнава-
лизацией почти с неизбежностью приводит к реализации барочнос-
ти как общекультурного явления, не сводимого к чисто художест-
венному стилю барокко при всей структурообразующей значимос-
ти последнего для искусства и архитектуры Латинской Америки,
причем не только колониальной эпохи, но и на всем пятивековом
пути их развития. Для барокко и барочности характерны синкре-
тичность, подчас граничащая с эклектичностью, эмоциональная эк-
зальтированность (нередко до экстатичности), стремление к чрез-
мерной украшенности, свободе композиции, живописности и плас-
тической избыточности. Эти черты также свидетельствуют о карна-
вализованности латиноамериканской культуры, искусства и архи-
тектуры.
Этнокультурное смешение и связанное с ним "расшатывание"
культурной наследственности, а также встреча с иными цивилиза-
цией, бытом, культурой и архитектурой привели не только к "от-
крытию" Америки, но и к ее "раскрытию" вовне, к взаимообмену и
взаимообогащению цивилизационными и культурными ценностя-
ми с другими регионами мира, прежде всего с Европой.
Барокко, характеризовавшее испанскую и португальскую архи-
тектуру в период колонизации, было плотью от плоти европейской,
в особенности средиземноморской культуры и именно в таком ее
качестве появилось в Новом Свете. Но барокко изначально было
не только преувеличенно эмоциональной разновидностью класси-
ческой архитектуры, но и ее несколько сниженной, "популяризо-
ванной" версией, что позволяло ей легче ассимилироваться в ино-
культурной среде колоний. Повышенная эмоциональность, своего
рода сюжетность, акцентированная декоративность сближали ар-
хитектурное барокко с карнавальностью.
Карнавализованность барочной архитектуры Латинской Аме-
рики колониального периода проявляется в таких ее особенностях,
как пластичность и живописность, орнаментальность, включение в
архитектурные композиции мотивов и деталей мусульманского и
аборигенного доколумбового зодчества, произведений живописи и
скульптуры, красочных тканей и цветов. Не случайно исследовате-
ли сравнивают выразительную скульптурную композицию двенад-
цати библейских пророков перед фасадом церкви Бон-Жезус-дус-
Матузиньюс в Конгоньясе (1800-1805 гг., скульптор Алейжадинью)
с ритуальным церемониальным танцем.
279
Безусловно декоративный, почти атектоничный, даже антиархи-
тектурный (по отношению к классической традиции) — карнавали-
зованный — характер имеют церкви мексиканского "ультрабарок-
ко" XVII в., некоторыми чертами перекликающиеся с перегружен-
ными декоративными деталями ацтекских пирамид и храмов. Эти
необычные формы легче внедрялись в канонизированные компози-
ции церковных фасадов именно в "Индиях", поскольку — помимо
специфической культурной ситуации — в колонии были менее
строги запреты и ограничения в формировании архитектурного об-
раза, чем в метрополии. Колониальные города пышно украшались
по разным торжественным случаям или к католическим праздни-
кам. Особенно живописной была застройка городов Бразилии, на
которую не распространялись "Законы Индий", диктовавшие регу-
лярную планировку.
Карнавальный, театрализованный характер в данных культур-
но-психологических условиях почти неизбежно приобретают и дру-
гие формы массовых действий и обрядов: от религиозных церемо-
ний, свадеб, помолвок и т.п. до ярмарок и политических триум-
фальных пропагандистских шествий и мероприятий, а также вся-
ческих "триумфов".
Карнавал в искусстве Латинской Америки помимо собственно-
го значения как самостоятельного и своеобразного произведения
массового (или "народного") художественного творчества выступа-
ет в, по меньшей мере, двух взаимосвязанных, но не совпадающих
ипостасях: во-первых, объект или сюжет изображения (описания),
включающие карнавальную обстановку или атмосферу как среду
описываемого основного действия (упоминавшиеся "Черный Ор-
фей" Винисиуса ди Мораинса и "Габриэла" Ж.Амаду, "Дикая Ор-
хидея" Залмана Кинга и др.); во-вторых, стимул или конкретные
повод, причина рождения произведения искусства.
К числу последних принадлежат прежде всего придумывание и
изготовление карнавальных костюмов и декораций для карнаваль-
ного шествия, оформление помещений для карнавальных балов.
Свидетельством тому эскизы росписей и декорирования залов в
Сан-Паулу начала 1920-х г.г. незадолго до этого переехавшего в
Бразилию эмигранта из России Лазаря Сегала, тематика и настрой
живописных произведений бразильских художников Тарсилы ду
Амарал, Эмилиану Ди Кавалканти, Джаниры, великого мексикан-
ца Диего Риверы, кубинцев Вифредо Лама и Рене Портокареро. Не
говоря об общеизвестных мастерах, напомним "примитивистские",
подчас как будто детские изображения народных празднеств Джа-
ниры, этнографически утрированные фигуры индейцев и негров в
работах Тарсилы ду Амарал, а также ее карикатурный "репортаж"
об участии представителей художественной элиты Сан-Паулу в
карнавальном бале. Стоит вспомнить, что, когда увлекавшийся
280
Бразилией Блэз Сандрар посетил в 1924 г. тогдашнюю столицу
бразильского модернизма, Тарсила и ее муж Освалд ди Андради
повезли его на карнавал в Рио-де-Жанейро и по провинциальным
городкам, где Тарсила много рисовала. Эмилиану ди Кавалканти
создал целую галерею эротических образов пышнотелых мулаток,
часто с цветами в волосах. Напомним также об излюбленных кар-
навальных мотивах мексиканской графики и живописи — о "кала-
верас", пляшущих скелетах, например, у Хосе Гвадалупе Посады,
давших исток целой традиции...
Вероятно, очень существенна в этом отношении роль карнавала
для архитектуры и города как среды карнавальных действ.
Крайне важна методологически в данном контексте уже отме-
ченная нами дифференциация понятий карнавальное (карнаваль-
ность) и карнавализованное (карнавализованность). Неверно или,
возможно, недоказуемо говорить о карнавальном, то есть сущест-
венно парадоксальном, травестированном характере искусства и
архитектуры Латинской Америки — тем более в целом и на протя-
жении пятисот лет развития, но вполне правомерно — об их карна-
вализованности: как по существу, так и в соответствии с бахтин-
ским пониманием, то есть как испытавшей воздействие карнаваль-
ного мироощущения и ориентированной на "соучастие" в уличном
празднике в качестве своеобразной декорации, что допускает не-
обычность, динамичность изначально статичных архитектурных
форм и их — нередко, возможно преувеличенную (по меркам 1950-
1960-х гг.) — украшенность.
Как следствие влияния карнавала в широком и опосредованном
плане и барочную, и эклектическую, и современную архитектуру
Латинской Америки в целом и, возможно, особенно Бразилии в ее
наиболее ярких произведениях можно (естественно, условно), оха-
рактеризовать как карнавализованную.
Практически архитектура континента, не исключая и современ-
ной, является как бы дважды карнавализованной. Влияние карна-
вального мироощущения сказывается в архитектуре Латинской
Америки как непосредственно в рождении прихотливых, будто бы
подвижных — или, вернее, застывших в движении, — форм, так и,
отчасти, в специфическом восприятии художественных качеств го-
рода и его пространства как сцены, а застройки — едва ли не как
декорации (отсюда, отчасти, и стремление к пластичному, декора-
тивному решению городских ансамблей) для театрализованньх
праздничных массовых действ с красочными костюмами, символи-
ческими изображениями, песнями и танцами.
Фактически с первых шагов становления современной архитек-
туры Латинской Америки ее пионеры уже в 1930-е гг. выступали
против установок превалировавшего в то время функционализма с
его утилитаризмом и техницизмом, игнорировшими роль и значи-
281
мость праздника, церемониала и ритуала в жизни человека и обще-
ства. Такой деятель латиноамериканской культуры, как Октавио
Пас считал, что "Эрозия традиционной морали и упадок христиан-
ской обрядности... как ни парадоксально, оживили тягу к коллек-
тивному причастию и литургии. Наше время изголодалось по
празднествам и обрядам"18. И новая архитектура континента, осо-
бенно в таких ее художественных центрах, как Бразилия и Мекси-
ка, создавалась как праздничная и потому карнавализованная ар-
хитектура. В последней трети XX в. постмодернистская архитекту-
ра даже в наиболее экономически развитых странах мира постави-
ла в центр своего внимания художественные аспекты, интересы и
эстетические предпочтения массового потребителя и вновь, подчас
в парадоксальной, травестированной форме обратилась к традици-
ям.
Специфическое карнавальное мироощущение, темперамент и
чувственность, оптимизм и жизнерадостность, музыкальность и ор-
ганическое чувство ритма, жестикуляция и пластичность, объек-
тивно живущие в народе, создают особый стереотип восприятия
формы в искусстве, в архитектуре Бразилии, а частично и некото-
рых других стран континента, ставящий на место статики и геомет-
ричности динамику и живописность. Поэтому в ней не кажутся на-
рочитыми и назойливыми изогнутые объемы, подчас как бы тан-
цующие и ритмические расчлененные красочные фасады. Разве не
карнавальной атмосферой навеяны как бы волнующиеся, если не
танцующие каплевидная плоская крыша-терраса собственного
дома О.Нимейера в Каноа в предместье Рио-де-Жанейро (1953) или
изогнутый в плане как буква "S" объем его же гигантского жилого
комплекса "Копан" в центре Сан-Паулу (1951-1970), или главный
жилой дом в квартале "Педрегулью" в Рио-де-Жанейро (арх. Лусиу
Коста, 1952-1954), волнообразный фасад которого повторяет
линию обрывистого холма, на склоне которого он построен, или
сдвинутые по отношению один к другому пятиэтажные кубы, из ко-
торых составлено громадное здание правления бразильской нацио-
нальной нефтяной корпорации "Петробраз" (архитекторы Жуан-
Мария Гандолфи, Луис Форти Неру и др., 1970). А включение в со-
лидную высотную застройку финансового центра Бразилии — аве-
ниды Паулиста в Сан-Паулу — небоскребов в форме цилиндров
или пирамид, с ритмически расчлененными фасадами, облицован-
ными полированным гранитом, стальными листами, зеркальным
стеклом, не только усиливает разнообразие и прихотливость силуэ-
та, но и создает впечатление беспокойного, рваного ритма. Очень
уместен в этом ансамбле музей современного искусства (арх. Лина
Бо-Барди, 1957) в виде своеобразного моста на двух опорах, оста-
вившего поверхность газона под объемом здания для экспозиции
скульптур...
282
Пластична, разнообразна и насыщена произведениями модер-
нистской скульптуры, живописи и декоративно-прикладного искус-
ства общественная Крытая площадь Центрального университета
Венесуэлы в Каракасе (арх. Карлос Рауль Вильянуэва, 1951-1957).
Хороводом огибает арену для боя быков пластичный разноэтаж-
ный жилой комплекс "Эль Парке" в Боготе (арх. Рохелио Сальмо-
на, 1974).
По-видимому, отчасти карнавализованностью объясняется,
такая самобытная черта архитектуры Бразилии и Латинской Аме-
рики в целом, как ее эксцентричность, доходящая до кажущейся
атектоничности, как, например, в спроектированных О.Нимейером
зрительно невесомых колоннах дворцов и в чашеобразном покры-
тии зала заседаний палаты депутатов в Бразилиа, или в асиммет-
ричном вантовом покрытии громадной церкви св. Девы Гвадалуп-
ской в Мехико (арх. Педро Рамирес Васкес). Это свойство способ-
ствовало также жанровому и стилистическому обогащению архи-
тектуры и, в частности, органичному привлечению в современную,
изначально геометричную, архитектурную форму рожденных в со-
вершенно иных условиях барочных элементов и мотивов.
В карнавализованности сплетаются многие черты архитектуры
Латинской Америки XX века: размах, свобода и праздничность
композиций, национальный колорит с естественной преемствен-
ностью и неразрывностью традиций в сочетании с новаторством,
декоративность и широкое использование цвета, внутренняя, орга-
ничная связь с природой, в частности, широкое применение фло-
рального орнамента. Здесь сама эта откровенно украшенная архи-
тектура выступает как проявление глубинных черт человека и на-
рода, творческих индивидуальностей, решившихся отвергнуть ра-
ционалистически засушенный функционалистский стереотип, оце-
нить целесообразность и возможность самой карнавализации архи-
тектуры и воплотить ее. Синтетичности карнавала в единстве шест-
вия, музыки, игры, красок, танца, декламации, красочных костю-
мов, изобразительности отвечает синтетичность наиболее вырази-
тельных произведений современной архитектуры континента — бо-
гатство объемов, выразительность конструкций, подчеркнутый
ритм, разнообразная фактура поверхностей, экспрессивность уси-
ливающих эффект пластичности произведений скульптуры и мону-
ментальной живописи, включаемых в архитектурную композицию.
Архетипичности карнавала отвечает не исчезавшее даже в годы
почти безоговорочного господства модернистической живописи и
архитектуры обращение к местным традициям вплоть до прямого
воспроизведения исторических форм и тем.
Можно считать карнавализированным оригинальный и гранди-
озный замысел знаменитого "Полифорума" Сикейроса с его изо-
бражениями "марширующих" масс, с включением в живописную
283
композицию рельефов и в том числе простертых к зрителю изваян-
ных мощных рук, со световыми эффектами и, наконец, движением
самих зрителей вдоль панорамы на вращающейся площадке в цент-
ре круглого зала.
В отношении первого в Латинской Америке по возникновению
концепционной самобытности современного бразильского зодчест-
ва представляется неслучайным, что, хотя современное направле-
ние в нем — по-видимому, закономерно — зародилось в Сан-
Паулу, "локомотиве Бразилии", национальная архитектурная
школа сложилась именно в Рио-де-Жанейро, городе знаменитого
карнавала, и позднее изменила характер зодчества страны в целом.
Известный американский историк архитектуры XX в. Хенри-Рас-
сел Хичкок недаром (как будто впервые) назвал ее "кариокской" —
от "кариока", прозвища коренного жителя Рио-де-Жанейро со всем
комплексом черт его характера. Журналист Руй Фако писал в сере-
дине века: "Рио сегодня — это олицетворение Бразилии со своим
красочным многообразным населением, живым, лукавым, остроум-
ным и общительным. И, прежде всего, трудолюбивым: именно они,
эти люди, воздвигли Рио, хотя этот Рио почти не принадлежал
им"2<\
Образное обогащение архитектуры Латинской Америки в 1930-
1950-е гг. имело мировое значение по двум связанным направлени-
ям и критериям: возникновения пластичности форм, доходящей до
криволинейности, и придания современной архитектуре региональ-
ного и национального характера. Идеологи "современного движе-
ния в архитектуре" в своем демонстративном рационализме, техни-
цизме и детерминизме пренебрегали значимостью для структуры и
формообразования зодчества праздника, церемониала, представи-
тельности и, шире, человеческих эмоций. Жесткое территориаль-
ное разделение функций (жилье, производство, отдых, передвиже-
ния) по зонам города также не предусматривало проведения массо-
вых празднеств и шествий.
Карнавализация культуры и художественных форм в Латинской
Америки позволила обогатить пластическое и цветовое решение
архитектуры и в целом гуманизировать зодчество и среду городов
и региона. Карнавал и карнавальные действа предъявляют и специ-
фические требования к городской среде, к функционально-плани-
ровочной структуре города, художественному образу застройки об-
щественных пространств — улиц и площадей и их оформлению.
В Рио-де Жанейро пробивка новых прямых и широких маги-
стралей через гущу обветшавшей исторической застройки (особен-
но авениды Жетулиу Варгаса в 1940 г., соединившей центральные
кварталы города близ берега Атлантического океана с гористыми
окраинами) сразу превратила их в пути карнавальных шествий, где
в дни карнавала прекращалось движение транспорта и вдоль тро-
284
туаров устанавливались временные трибуны для зрителей. В нача-
ле 1980-х гг. было решено упорядочить этот процесс и создать бла-
гоприятные условия для многочисленных туристов, и к карнаваль-
ным празднествам 1984 г. по проекту Оскара Нимейера были в те-
чение всего четырех месяцев сооружены Пасарелла — благоустро-
енная аллея со зданиями для школ самбы и других культурно-обще-
ственных учреждений с лоджиями для зрителей, обращенными к
улице, и Самбодром — своеобразный стадион с бетонными трибу-
нами на 50 тыс. зрителей и гигантской эстрадой под необычным ку-
польным навесом. Под эстрадой разместился музей самбы.
Однако сторонники карнавала не как демонстрационного меро-
приятия, а как поистине народного праздника постепенно стали
выступать против преувеличения роли Самбодрома под лозунгом
"Вернем карнавал на улицы" и в пространство города в целом.
В то же время в Буэнос-Айресе в русле попыток превращения
города в новую столицу карнавала ставится вопрос о создании
местной версии Самбодрома.
Монументальность и живость, строгость композиции и пластич-
ность объемов соединяются в образе многих современных общест-
венных комплексов, среди которых особое место занимает Мемо-
риал Латинской Америки в Сан-Паулу (арх. О.Нимейер, 1989), спе-
циально предназначенный для проведения митингов, встреч моло-
дежи и других массовых мероприятий.
И в целом среда латиноамериканских городов с ее разнообрази-
ем, доходящим до пестроты, пластикой фасадов и множеством мо-
нументов, с многоцветием вывесок, эмблем, надписей, рекламы, де-
коративностью входов в вокзалы и на станции метрополитена, в
магазины и в рестораны, украшенностью фонарных столбов и ре-
шеток скверов, с обилием зелени и цветов, с шумной, яркой толпой
прохожих, разукрашенными автобусами, автомобилями разных
марок производит праздничное впечатление.
Новые декоративные мотивы в образ латиноамериканских го-
родов вносит политическая борьба. В периоды предвыборных кам-
паний, подготовки к референдумам (я видел их в Буэнос-Айресе,
Мар-дель-Плате и в обычно спокойном Монтевидео) через улицы
натягиваются красочные транспаранты, развешиваются флаги, по-
ртреты, ленты и гирлянды цветов соперничающих партий и груп-
пировок, запускаются воздушные шары, по улицам разъезжают
автомашины с громкоговорителями, в витринах одновременно ра-
ботают сотни телевизоров...
Начиная с 1960-х гг., возможно, своеобразно развивая традиции
мексиканского мурализма, сотни метров каменных заборов, глухих
стен гаражей, заводских цехов, складов покрываются граффити из
баллончиков с краской. Эти яркие, многоцветные композиции из
лозунгов, обличительных надписей, карикатур и гротесковых изо-
285
бражений имеют чисто карнавальный характер и придают город-
ской среде повествовательную, поистине "говорящую" роль и зна-
чимость21
И все же карнавал — жизнь не реальная, а эфемерная, времен-
ная, уходящая вместе с карнавалом как сон, или скорее, сновиде-
ние. Таковы же карнавальные костюмы, декорации, освещение.
Постоянный мотив карнавальных повестей, пьес, фильмов —
возвращение из карнавальной атмосферы в трудовые или деловые
будни, грязь и мусор, оставшиеся на улицах после блеска и без-
умств праздника. И городская среда должна располагать резервами
для того, чтобы обслуживать и карнавал, и стереотипные функции
современного общества. И это тоже предполагает ее структурную,
образную и смысловую сложность, обеспечивает ее подлинное бо-
гатство и многослойность, столь характерные для исторических го-
родов Латинской Америки и особенно для их центров.
Не вызывает, по-видимому, сомнений громадная роль народных
празднеств и, в частности, карнавала в развитии литературы22,
танца, театра, кино Латинской Америки, но очевидно, что они ока-
зали определяющее воздействие на формообразование и стилеобра-
зование и в таких видах художественного творчества, тесно связан-
ных с производством, экономикой и общественной жизнью, как ар-
хитектура, градостроительство и формирование городской среды.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 См., напр.: Кириченко Е.И. Три века искусства Латинской Америки,
М., 1972; Тананаева Л.И. Процесс стилеобразования в колониальном ис-
кусстве Латинской Америки XVI-XVIÏ вв. и низовые формы: Проба ин-
терпретаций / Профессиональное искусство и народная культура Латин-
ской Америки. М., 1993; Она же. Об истоках латиноамериканского празд-
ника // Искусствознание, 1999, № 1; Хаит В.Л. Специфика формо- и стиле-
образования в искусстве Латинской Америки // Латинская Америка, 1999,
№ 3 и др.
2 Бахтин ММ. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963. С. 163.
3Там же. С. 175.
4 Бахтин ММ. Творчество Франсуа Рабле и народная культура сре-
дневековья и Ренессанса. М., 1990. С. 66, 67.
5 См., напр.: Хроники открытия Америки. 500 лет. Антология (Соста-
витель В.Б.Земсков). М., 1998. С. 7 (Христофор Колумб); С. 199-206 (Перо
Вас де Каминья) и др.
6 Пас О. Стол и постель / Поэзия. Критика. Эротика. М., 1996. С. 167.
7 Там же. С. 168.
8 Пас О. День всех святых, праздник мертвых / Поэзия. Критика. Эро-
тика. С. 22, 23, 25, 26.
9 Бахтин ММ. Творчество Франсуа Рабле и народная культура сре-
дневековья и Ренессанса. Указ. соч. С. 170-171.
286
10 Бахтин M.M. Проблемы поэтики Достоевского. Указ. соч. С. 172—
173.
11 Там же. С. 175.
12 Впервые предположение о карнавализованности архитектуры Бра-
зилии высказал автор данной публикации в статье "Национальное и ин-
тернациональное в современной архитектуре Бразилии" // Латинская
Америка, 1971, № 3.
13 Цит. по: Gutierrez R. La Plaza Mayor en America / Historia Urbana de
Iberoamérica. Tomo I. La Ciudad Iberoamericana hasta 1573. Madrid, 1987.
P. 293.
14 Ibid. P. 301.
15 Амаду Ж. Габриэла (хроника одного провинциального города), М.,
1961.С. 420.
16 Там же. С. 421.
17 Goulart Reis Filho N. Quadro da arquitetura no Brasil. Säo Paulo, 1970.
P. 197.
18 Гюго В. Человек, который смеется / Избранные произведения в двух
томах, М., 1952, том 1.С. 806.
19 Пас О. Стол и постель. Указ. соч. С. 166.
20 Фако Р. Бразилия XX столетия, М., 1962. С. 179.
21 Богемская К. Латиноамериканское непрофессиональное творчество
(Гаитянский примитив и муралисты 60-70-х годов) / Искусство стран Ла-
тинской Америки, М, 1986. С. 196-219.
22 См. работы В.Б.Земскова, Ю.Н.Гирина, В.Н.Кутейщиковой, Л.С.Ос-
повата, И.А.Тертерян и др. Из последних публикаций выделяется направ-
ленностью и комплексностью монография А.Ф.Кофмана "Латиноамери-
канский художественный образ мира". М., 1997.
Е.В.Огнева
ПРАЗДНИК "БАРОЧНОГО СОГЛАСИЯ"
АЛЕХО КАРПЕНТЬЕРА
КАК ИДЕАЛ МИРОУСТРОЙСТВА
В системе образов, к которым обращался Алехо Карпентьер в
последнее десятилетие своего творчества, важное место по праву
занимает образ "барочного концерта". Речь идет не только о "кон-
церте барокко" в Оспедале делла Пьета с участием Генделя, Скар-
латти и негра Филомено, давшем название одному из самых ярких
произведений "второго латиноамериканского цикла" Карпентье-
ра — повести "Концерт барроко" (1975). "Концерт барокко", если
понимать это словосочетание шире — как "барочный праздник со-
гласия", — оказывается частью историко-культурной концепции
писателя. Употребляя слово concierto, писатель апеллировал к его
287
многозначию, ко всему диапазону смысловых оттенков, где значе-
ние "совместное музыкальное исполнение" столь же важно, как и
"гармония", "согласие", "лад".
Истоки праздничного мироощущения, которым пронизаны изо-
бражаемые Карпентьером "барочные концерты", уходят в глубь
веков, к первым эпизодам "встречи миров". Единение людей раз-
ных рас, причем единение в сотворчестве, порождающем музыку,
танец, праздник описывали еще первооткрыватели Латинской Аме-
рики. Один из прообразов такого барочного празднества мы нахо-
дим в письме, которое Перо Вас де Каминья адресовал португаль-
скому королю Мануэлу I еще в 1500 году: "[Индейцы — Е.О.] весе-
лились и плясали, стоя лицом друг к другу, но не берясь за руки. И
недурно у них получалось. Тогда подошел к ним Дього Диаш,
сборщик налогов из Сакавена, парень собой видный и большой
любитель погулять, и взял нашего дудочника с его дудкой. И стал с
ними плясать, беря их за руки, и они веселились и хохотали, и
очень ловко у них выходило под дудку"1.
Другие примеры относятся к следующему столетию, когда сосу-
ществование разных рас и культур уже становится повседневнос-
тью. Пока это еще не синтез, но взаимодействие, и здесь уже можно
говорить о чаемом "барочном согласии". Таков пир победителей-
креолов, славящих подвиг негра Сальвадора Голомона в "Зерцале
терпения", поэме кубинца Сильвестре де Бальбоа, созданной в
1608 г. Таково всенародное ликование в Городе Волхвов в Перу,
описанное в 1632 году Родриго Карвахалем-и-Роблесом. Это истин-
но "барочные концерты", где звучат в унисон народные негритян-
ские и классические европейские музыкальные инструменты (у
Бальбоа), и где силами мулатов и метисов ставится аллегория о Тро-
янской войне (у Карвахаля)... Элементы импровизации — непремен-
ного атрибута всех праздников "барочного согласия" — просматри-
ваются и в шествиях с трещотками в день Святого Гонсало в Брази-
лии, о которых писали европейские путешественники в XVII в.
Все эти барочные концерты имеют общий признак — они бы-
стро заканчиваются и вспоминаются потом как кратковременный
"прорыв в утопию". Их гармония недолговечна. В латиноамери-
канской литературе праздники "барочного согласия" восходят к
мифологеме "Америка-Рай", одной из ключевых мифологем ее
культуры. Причудливые танцы и музыка, на миг воссоединившие
хозяина и раба, индейца, негра и белого, вызывают ассоциации с
возвратом в Эдем, где вместе резвятся лев и ягненок.
Что касается Карпентьера, то в его философско-эстетической
системе эти концерты — не столько возвращение к истокам утра-
ченного рая, сколько прорыв с сферу должного, воспринимаемого
как осуществимое будущее, как идеал.
288
Способность или неспособность стать причастным к такому "ба-
рочному согласию", проникнуться духом такого праздника — свое-
го рода испытание на полноценность для карпентьеровских героев.
Так, карпентьеровский Глава Нации из романа "Превратности ме-
тода" (1974) глух ко всему, что составляет феномен чудесной реаль-
ности Латинской Америки — небывалой, порожденной барочным
симбиозом культур, верований, природы. Эта многокрасочная дей-
ствительность, по мнению Карпентьера, сама генерирует чудесное.
Подданные Главы Нации обладают вдохновенным мифотворчес-
ким сознанием. Особенно заметно это в сцене самодеятельной мис-
терии, которую разыгрывают на деревенском празднестве. Она про-
низана тем исконно латиноамериканским духом, который Карпен-
тьер называет барочным. В мистерии слиты воедино элементы раз-
нородных культур: метисами и неграми разыгрывается эпизод из
Страстей Господних. Глава Нации замечает лишь отсебятину, кото-
рую допускает сапожник, исполняющий роль Христа, незапланиро-
ванное вторжение нищенки в ход действия, конфетную фольгу на
шлемах центурионов и латиноамериканскую солдатскую песню, ко-
торую, по незнанию иной, исполняют при восшествии на Голгофу...
Вне его восприятия остается то, что благодаря наивной самодея-
тельности участников, на первый план выступает гуманистическая
суть легенды, торжествуют доброта и сопереживание, присущие на-
родной душе. Вживание в роль приводит исполнителей к почти пол-
ному отождествлению себя с персонажами мистерии. Тогда стано-
вится возможен прорыв в "чудесную реальность", где царит коллек-
тивное мифологизирующее сознание, "барочное согласие".
"Барочные концерты", перекликаясь подобно бодлеровским
"Маякам", повторяются на протяжении столетий. Их преемствен-
ность, по Карпентьеру, согревает историю человечества и одухо-
творяет историю культуры. Свет таких "маяков" связывает исто-
рию и предысторию, настоящее и будущее в повести "Концерт ба-
рокко".
Роль предыстории играет реально существующий литературный
памятник — текст поэмы кубинца Сильвестре де Бальбоа (1563—
1649) "Зерцало терпения", о которой говорилось выше, — история
о доблестном негре Сальвадоре Голомоне, спасшем священика-
старца от пирата Жирона. Дело не только в том, что Филомено на-
зывает себя внуком Сальвадора. По замыслу Карпентьера у каждо-
го из его персонажей есть свое славное прошлое, своя "великая Ис-
тория" — и у потомка Кортеса, и у потомка негра-раба. Понятие
"героического" начинает соотноситься не только с высокими "рим-
ско-ацтекскими" образами, но и с несколько наивными эпитетами
поэмы, пересказ которой Филомено снабжает простодушными и
грубоватыми отступлениями. Филомено передает Хозяину исто-
рию Сальвадора с помощью жестов, и образ его пальцев-марионе-
10 - 5470
289
ток полемизирует с напыщенностью картин на исторические сюже-
ты, висящих дома у Хозяина. Действо, которое разыгрывает Фило-
мено, есть воплощение истории, сниженный образ великого подви-
га, деяния. Такое снижение искажает исходный образ не больше,
чем классицистическая стилизация картин Хозяина, подчеркивает
Карпентьер. Здесь закладывается философская основа романа: раз-
мышление о субъекте истории — человеке, об ее материале, достой-
ном и не достойном упоминания. Образ "барочных концертов" —
решающий аргумент в пользу расширительной трактовки этого
"материала".
Не случайно в ткань исторических реминисценций вплетается
ключевой для поэтики Карпентьера образ — рядом с Сальвадором
Голомоном возникает фигура Колумба. Так в едином контексте
воссоединяются три "столпа", на которых зиждется здание латино-
американской истории: испанец-конкистадор, вождь индейцев и
негр-раб.
Подробно, на трех с половиной страницах, пересказывая хрес-
томатийную, известную всякому кубинцу поэму устами Филомено,
Карпентьер преследует две цели. Первая — сделать акцент на
самом способе пересказа, вторая — подчеркнуть особое значение
ее финала. Классические октавы Бальбоа заменены подчас наивной
и вдохновенной прозой, мимикой и жестами. Разнородное в испол-
нении Филомено соединено таким образом, что гармония поэмы не
утрачивается, но, наоборот, вновь возникает на некоем ином уров-
не. Гармония здесь — основная категория. Конечное достижение
ее — пафос поэмы Бальбоа. Кубинский поэт XVII в. впервые упот-
ребил слово "креол" как собирательное обозначение для жителей
острова, негров и индейцев, белых и метисов; и в финале поэмы он
впервые соединил разнородное — племена и культуры.
Завершает сказание о Голомоне сцена всеобщего ликования,
"универсальный концерт", где смешались голоса и инструменты
кастильцев и негров.
Это барочный пир, на котором веселятся и творят музыку не
только хозяева и рабы, люди разных рас и социальных статусов.
Здесь сошлись и фавны, и дриады в карибских (!) одеяниях. Перед
нами, можно сказать, исконная латиноамериканская барочность,
роднящая Бальбоа, кубинца XVII в., с Карпентьером. Это мироо-
щущение изначально — задолго до возникновения европейского
канонического барокко — было присуще бытию континента. Про-
образ подобной барочной гармонии мы находим в письмах первых
конкистадоров и миссионеров, описывающих радостный прием и
празднества, устроенные в их честь аборигенами Индий, как это
уже говорилось. Их сообщения удивительно перекликаются с текс-
том поэмы Бальбоа.
290
Такой концерт кажется "невозможной гармонией", утопией Хо-
зяину, который за единственную прочную реалию, за основу при-
нимает свою испанскую кровь, свою историю — историю Кортеса
и свою прародину — Кастилию. В его сознании нет ни общей исто-
рии, ни истории народа Монтесумы или народа Сальвадора Голо-
мона. Есть лишь история Старого Света, и есть ее частные момен-
ты, "вынесенные" за пределы Европы.
Уроки "барочного согласия", концерт и, в определенном смысле,
опера Вивальди, станут для него подлинным открытием. Карпен-
тьер подчеркивает, что катарсис "барочных концертов" воздейству-
ет эффективней, нежели рациональная система аргументов в споре.
Первый урок согласия — "концерт барокко", давший название
роману. Во время совместной импровизации оркестра монахинь
вместе со Скарлатти, Генделем и Вивальди слуга-негр подыгрывает
им на слух, наспех соорудив из кастрюль и сковородок подобие ку-
бинских народных инструментов. Характерно, что мелодия Фило-
мено не только не разрушает гармонию оркестра, но, наоборот,
придает концерту очарование новизны и первобытную силу фольк-
лорной стихии.
Второе откровение — театр. Скрытый смысл подспудных исто-
рических процессов на миг становится доступен слушателю оперы
"Монтесума". Барочный концерт и театр — это явления одного по-
рядка: прорыв, озарение, освобождение от кастовых предрассудков.
Слуга тоже пережил в Европе муки самопознания. Он покинул
свою Родину "ряженым'*, втиснувшись в помпезную ливрею и на-
хлобучив парик с белыми буклями. Затем прошел по маскарадной
Венеции, смеша людей своим подобным маске лицом. Ему, черпав-
шему силы и гордость в героической истории предка, Европа отка-
зывала в праве иметь свою "великую историю". Более того, жизнь
негра не воспринималась как материал для высокого искусства:
"Негры хороши для маскарада и интермедий"2. И потомок "эфио-
па, достойного восхваления", персонажа Бальбоа, тщетно взывает
к правилам нормативных поэтик, приводя в пример великого
мавра, созданного Шекспиром.
Возможность реализоваться остается лишь одна — в деянии, в
барочном концерте, в утопии. То, что такой "концерт" — в широ-
ком смысле — пока невозможен, понимают оба собеседника. Поэ-
тому все упования Филомено связываются с будущим. Партия
баса, написанная Генделем на слова "Послания к коринфянам" (ее-
то и мечтает сыграть Филомено на своей трубе), взывает как раз
этому всеобщему "чудесному будущему": "The trumpet shall sound
and we shall be changed!"
Эти упования Карпентьера из "новых латиноамериканских ро-
манистов" разделяет Хулио Кортасар. В каком-то смысле персона-
жи Кортасара также предпринимают попытки сыграть "концерты
ю*
291
барокко" — вместе сочинить, разыграть, представить. Это сотвор-
чество людей разных наций, объединенных общей благой целью,
соотносит значимость своих сегодняшних дел с идеей будущего, со
сферой идеала.
Прорыв в это баснословное будущее и у Кортасара, и у Карпен-
тьера осуществляется благодаря бесконечной мощи искусства. В
"Концерте барокко" он связывается с властным очарованием музы-
ки, с императивом трубы Луи Армстронга. Его импровизации ока-
зываются для Филомено "новым концертом барокко". Филомено
переживает такое же озарение, как мексиканец в опере. В музыке
Армстронга наконец реализуется утопия — "Библия претворялась
в ритм и жила меж нами"3. Негр Армстронг пробуждает хор анге-
лов-музыкантов на росписях купола, и достигается давно и страст-
но взыскуемый синтез вер, традиций, культур. Обилие библейских
реминисценций на последних страницах повести создает особый
контекст: звуки трубы возвещают не Страшный Суд, но обретение
утраченного Рая. Причем этот Рай подобен эдемическому пиршест-
ву из поэмы Бальбоа. Он — для всех, и для христиан, и для испове-
дующих африканские культы, и для последователей Платона, и для
поклонников Паскаля. В восприятии Филомено постоянно подчер-
кивается земной характер этой объединяющей людей мелодии.
А между тем в финале повести, оттеняя земное, человеческое в
"барочном концерте" Армстронга, возникают образы уже не пла-
нетарного, но космического масштаба: необитаемые вселенные,
"однообразный контрапункт их круговращений" и звездная пыль.
Сопоставление этих образов вызывает неожиданный эффект. Каза-
лось бы, по сравнению с вечной и бесконечной небесной сферой на-
сколько маленьким должен показаться вдохновенный виртуоз-
негр, когда наш взгляд перемещается под купол театра. Но нет: все-
ленная пуста и безгласна, а "чудодей" Луи, которому так мало от-
пущено по сравнению с вечностью, предстает вершителем великого
деяния для людей.
Праздник "барочного согласия", как правило, становится свое-
образным маяком для героев, оказавшихся в плену сомнений на
переломе истории. Так происходит в романе "Весна Священная"
(1979). Несколько раз героям доводится стать сопричастными тако-
му празднику, который напоминает о возможности идеального ми-
роустройства. Первый такой "концерт" звучит в Испании.
Мечта о гармонии посреди вопиющей дисгармонии, плясок
смерти и какофонии войны все-таки реализуется. Карпентьер вновь
возвращается к образу концерта барокко, несущего людям воссо-
единение и очищение. Испанский концерт в "Весне священной"
опять неразрывно связан с идеей синтеза как залога новой гармо-
нии — синтеза не только музыкального, но и расового.
292
Пир победителей в "Зерцале терпения" и повторившая его на
новом уровне jam session гениальных музыкантов в итальянском
монастыре теперь снова осуществится в госпитале для выздоравли-
вающих бойцов интербригад. "Интернационал", пропетый на всех
языках хором, сплачивает и электризует толпу. Особую же ноту
"барочности" вносит креольский вариант гимна, предложенный
мулатом с Гваделупы: "Debou пои toutt каре soufri". Но кульмина-
цией концерта становятся сольные номера Поля Робсона. Черный
"внук рабов" продолжает здесь галерею образов, начатую в "Кон-
церте барокко" Сальвадором Голомоном, Филомено и Армстроно-
гом, и здесь опять становится центральной фигурой празднества.
Величественная магия его голоса завораживает и заставляет вто-
рить ему "двунадесять языков". Он творит Великое Действо для
тех, кто собрался в Испании для Великого Деяния. Наконец-то
уравновесились эти стороны бытия, и действа, не неся на себе печа-
ти иллюзорности, фальши и неподлинности, обретают свой выс-
ший смысл и высшее назначение.
Пока поет Робсон, верится, что Давид победит Голиафа, "чер-
ные и белые люди, что слушают эту песню, построят Город Челове-
ка, город для человека, свободного от богов..., вечно жаждущих
новых жертв..."4. Слушатели переживают экстаз единения, "стира-
ются все и всяческие границы"5. И возникает тот самый образ мощ-
ной и созидательной силы, которая породит новую гармонию, как и
в "Концерте барокко". Несобственно-прямая речь, в которой возни-
кают категории будущего времени, уже не принадлежит ни Вере, ни
Энрике. Как и в "Концерте барокко", мы становимся на авторскую
точку зрения. И, как в этой повести, голос негра опять возносит нас
вверх, сметая крышу воображаемого собора, — к небу, к планетар-
ному масштабу осмысления бытия, к универсальным ценностям.
Зачарованный Энрике, бок о бок со своими собратьями по ору-
жию, присутствует при осуществлении своего Идеала. Катарсис
переживает и Вера, чей Идеал — вневременной полет лебедя Анны
Павловой, — казалось бы, никак не совместим с рокочущими зву-
ками спиричуэлз огромного негра: как лед и пламень, как утончен-
ность и сила, как вечная иллюзия и грубость истины.
Их барочный синтез возникает в монологе Отелло, который чи-
тает Робсон. В сознании Веры возникает "невероятное, невозмож-
ное, почти абсурдное па-де-де" Робсона и Павловой: черный ги-
гант склонился над умирающим лебедем. Грубая мощь истины оп-
лакивает погубленную иллюзию, без которой не может жить. "Роб-
сон и Павлова по прежнему летели в ночи, в своем небывалом не-
виданном танце"6. Это — апофеоз, жизнь в высшем ее проявлении.
Отныне вся жизнь Энрике будет постоянно соотноситься с вели-
чием и чистотой того идеала, той Идеи, той Солидарности, и сегод-
няшнее деяние не выдерживает такого сравнения.
293
Отзвуками "барочного концерта" наполняются и эстетические
поиски героини, открывшей балетную студию. С образом "концер-
та" связан и ее вариант самореализации: она попробует переска-
зать сюжет собственной жизни, поставив "Весну Священную". Но
и образная система, и хореография, и оркестровка балета претер-
пят существенные изменения, попадая в поле воздействия специфи-
ческого "расового" контекста. Система аналогий обогатится ярким
афрокубинским материалом: оказывается, миф о Деве-Избраннице,
принесенной в жертву ради других, знала не только античность и
языческая Русь. Карпентьер, поклонник искусства Стравинского и
его пропагандист, еще в 30-е годы обнаружил в фольклоре кубин-
ских негров сюжет, сходный с тем, что лег в основу либретто
"Весны Священной". Теперь этот сюжет открывает Вера, соприка-
саясь не только с местной трактовкой мифа, но и с альтернативной,
если так можно выразиться, манерой танца. Это единственное
место в "Весне Священной", где оживает "чудесная реальность":
четыре негра, исполнители танца Арара, "в буквальном смысле
слова парили в воздухе, не опускаясь на землю"7.
Как на земле "чудесной реальности" пересказать сюжет, изло-
женный Стравинским? (Ведь постановка, перевод на язык жестов
тоже есть не что иное как форма пересказа, т.е., опять-таки, поиск
подходящей системы аналогий, созвучий, гармонии "барочного
концерта"). Вера ищет эту систему в фольклоре кубинских не-
гров — факт в гаванском обществе 50-х годов беспрецедентный. Ее
мечты о постижении универсального образного строя, который не
делился бы на искусство белых и искусство "кафров" (что остава-
лось недостижимым идеалом в "Превратностях метода") близки к
осуществлению. В ее студии импровизирует под музыку "Весны
Священной" танцор-негр из группы "Дьяволов Арара". И соверша-
ется чудо: черная фигура парит "как ангел". Небывалый, причуд-
ливый синтез традиций, рас, культурной памяти порождает, нако-
нец, искомую "новую гармонию".
Этот барочный концерт становится прообразом новой поста-
новки "Весны Священной", где у героини впервые появится воз-
можность осуществить свой идеал. Будет шанс самой создать что-
то подобное фантастическому "полету Робсона и Павловой", что
привиделся ей в Испании. Замысел неразрывно связан с идеей син-
теза культур. Белые балерины из студии классического танца будут
репетировать с танцорами Арара; в оркестре зазвучит кубинский
рожок гуиро, — как тут не вспомнить импровизацию "мавров и
христиан", идиллию из "Зерцала терпения" Бальбоа. Но главное —
изменится развязка рериховского либретто: жертвенный ритуал
(rito sacramental) сменится весенним обрядом (rito vernal).
Героиня стремится разомкнуть объятия мифа, переписать свою
судьбу. Ее спектакль, этот утопический "концерт барокко" раздви-
294
нет, кажется ей, декорации пригорода Гаваны, превратив сцену в
бескрайнюю площадь. И вновь — повторяется образ предыдущих
барочных концертов, созданных Карпентьером — исчезнут старые
стены, взлетит крыша, ибо мир преобразит "земная красота, от-
крытая заново..."8.
Мажорный финал "Весны Священной" многим исследователям
показался искусственным, неубедительным, неожиданным. На наш
взгляд, ничего неожиданного в этих эпизодах нет. Они проникнуты
столь знакомым нам блоковским мироощущением. И здесь опять
напрашивается параллель с творчеством Хулио Кортасара, воспев-
шего романтику и "музыку революции" в рассказах "Воссоедине-
ние" (1966) и "Тот, кто здесь бродит" (1977). "Воссоединение" кар-
пентьеровских героев с миром и то, что свидетельствует об их анга-
жированности, есть не что иное как очередная попытка обрести
гармонию бытия, быть с "другими", связать искусство и действи-
тельность, или, как сформулировал это в свое время Кортасар в
знаменитом рассказе о Че Геваре — "творить музыку для людей".
И это приобщение к истории происходит, так же, как и у героев
Кортасара: не рефлексия, не логическое осмысление, но "прорыв",
озарение, чувство в конечном итоге обусловливает выбор, сделан-
ный героями "Весны Священной".
Кажущееся немотивированным, слишком быстрым пробужде-
ние героев "Весны Священной" подготавливается скрытым под-
текстом литературных реминисценций. Вот, например, столь часто
повторяющееся la mer, la mer. Образы последней строфы "Морско-
го кладбища" Поля Валери, любимого стихотворения Карпентье-
ра, переосмысленного им, готовит финал. Вихрь, вырывающий
книгу из рук, для героев Карпентьера означает неминуемое возвра-
щение к жизни, "перерастание одежд" книжных образов. Характер-
но, что из этого же стихотворения заимствован и образ сметенной
вихрем крыши, неизменный атрибут "концертов барокко", кото-
рый у Карпентьера обеспечивает взгляд на событие сверху, из уни-
версума, из будущего.
Но не стоит трактовать мажорный финал "Весны Священной"
слишком буквально. Плайя-Хирон для героя, как и грядущая по-
становка "Весны Священной" для героини — их очередной бароч-
ный концерт.
В конечном счете самое автобиографическое и самое ангажиро-
ванное произведение кубинского писателя оказывается "венком"
таких концертов — утопических и прекрасных. Идеал остается не-
воплощенным.
Параллельно пишется повесть "Арфа и тень" (1979), произведе-
ние Карпентьера, в котором намечаются тенденции, характерные
для рубежа 70-80-х годов в латиноамериканской литературе. Писа-
тель "возвращается к истокам" первых "концертов барокко" — к
295
эпохе "встречи миров". Но уже заметно, что упования на реализа-
цию утопии "жизнь — концерт" в этой повести расшатываются,
как расшатывается доверие к слову, способному преобразовать
действительность. Все чаще взыскующий гармонии Первооткрыва-
тель поддается слабости, обстоятельствам, предчувствию суда гря-
дущих поколений. Вместо гармонии на время создается искусствен-
ное равновесие. В этом контексте особенно показательна и эволю-
ция любимого Карпентьером образа, связанного с идеалом —
"концерта барокко". Логично было бы предположить, что писа-
тель ограничится изображением "пира матросов с дикарями", тра-
диционным сюжетом, вновь и вновь воссоздаваемым первыми хро-
нистами (этот сюжет, кстати, вдохновил и Сильвестре де Бальбоа,
создавшего прообраз праздника, описанного Карпентьером в по-
вести "Концерт барокко"). Но нет. В "Арфе и тени" появляется
нечто противоположное: мрачные и испуганные матросы по прика-
зу Колумба из последних сил пляшут, поют и играют на своих му-
зыкальных инструментах, чтобы усыпить бдительность канниба-
лов, но те не застывают в изумлении, а стреляют из луков. "Кон-
церт для каннибалов" сохраняет свои барочные причудливые
черты, но теперь оборачивается очередным низким действом.
Светлых красок в "Арфе и тени" заметно меньше, чем в предше-
ствующих произведениях. Карпентьеровский идеал, всегда мыслив-
шийся как еще не сделанное, как действительность, которую пред-
стоит претворять, здесь бесповоротно отнесен в прошлое и засло-
нен образами упущенных возможностей. Больше нет того особого
временного измерения, в которое рвались звуки трубы Армстронга
в "Концерте барокко", с которым соразмеряли свои упования
герои "Весны Священной" — предполагаемого времени реализа-
ции утопий.
Карпентьер лишь немного не дожил до появления своеобразной
"антикниги", которой стал роман аргентинца Абеля Поссе "Рай-
ские псы" (1982). Поссе взял ту же тему, вооружился той же иронией,
так же использовал интертекстуальность, но придал повествованию
новое качество. И "Арфа и тень", и "Райские псы" восходят к едино-
му первоисточнику — к первому письму Колумба, первому упоми-
нанию Америки-Рая. "Испытание Раем" у Поссе оказывается непо-
сильным для его героев. Пресытившись всеми идеологиями, опро-
бовав все утопические построения, первооткрыватели из "Райских
псов" на опыте познают нежизнеспособность гармонии.
Тема "барочного концерта" в его первозданном варианте зву-
чит и у Поссе. Праздник "встречи миров" знаменуется приветствен-
ными ритуальными танцами, которые исполняет индейская прин-
цесса: "Ноги, летящие в ритме арейто... Быстрее мелькают бедра
принцессы. Бешеный ритм и грация. Чем не праматерь огненных
мулаток?"9.
296
В такой же барочный праздник превращается месса: «"Salve Re-
gina" и "Те Deum" больше напоминали зажигательную румбу»10.
Но праздник обретает зловещий финал: прелестную индеанку наут-
ро находят повешенной на виселице-кресте. В "антикниге" Поссе
"Америке-Раю" не противопоставляется "Америка-Ад". (В.Б. Зем-
сков отмечал, что обе эти мифологемы значимы и для антиутопи-
ческой литературы "постбума", критически воспринявшей опыт
"нового латиноамериканского романа"11). Действительно, у Поссе
они полемически переосмыслены. Неорганизованность, сиротство
и хаос латиноамериканской действительности зиждется у Поссе на
бытии без Бога и без Дьявола. В этой особой среде гармония смета-
ется беспорядком постутопического пространства; хаос делает не-
возможным саму идею синтеза — основу концертов барокко. А от-
сутствие перспективы во временной системе постистории, создан-
ной в "Райских псах", сводит на нет все упования на осуществление
идеала "барочного согласия".
80-е гг. — уже без Карпентьера и без Кортасара — ознаменова-
лись спадом писательского интереса к идее "барочного концерта".
Апокалиптическое мироощущение, или постисторическая резинья-
ция, свойственное "рубежным", переломным эпохам, оказалось
весьма созвучным духовному настрою латиноамериканской прозы.
В этих условиях художественная установка на "барочное согласие"
как на прообраз идеального мироустройства не могла оставаться
прежней, что становится отчетливо видно в романах Марио Варга-
са Льосы и Габриэля Гарсиа Маркеса 80-х и 90-х гг. Однако это
уже тема для других исследований.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Вас де Каминъя П. Письмо королю Дону Мануэлу об открытии Бра-
зилии / Хроники открытия Америки, М., 1998. С. 207.
2 Карпентъер А. Избранное. М., 1988. С. 430.
3Там же. С. 447.
4 Карпентъер А. Весна Священная. М., 1982. С. 152.
5 Там же. С. 152.
6 Там же. С. 162.
7 Там же. С. 250.
8 Там же. С. 323.
9 Поссе А. Райские псы. Киев, 1995. С. 278.
10 Там же. С. 293.
11 См.: Земское В.Б. К построению модели латиноамериканской куль-
туры (на материале литературы) / "Iberica Americans. Механизмы культу-
рообразования в Латинской Америке". М., 1994. С. 81.
297
В.Б.Земсков
НА "КАРНАВАЛЕ" У РЕНЕ ПОРТОКАРРЕРО
(вспоминая Мастера)
Мой разговор с Рене Портокарреро продолжался часа два с по-
ловиной. Полчаса за столом, заваленным книгами, альбомами,
буклетами, фотографиями, я спрашивал и говорил, а Рене — так
по-домашнему он просил называть себя — изредка отвечал, но в
основном добродушно молчал, большой, мягкий, уютный, с пыш-
ными усами (на дружеском шарже известного кубинского карика-
туриста Хуана Давида, который можно быпо увидеть у Портокар-
реро, он похож на моржа). Потом в студии два часа Рене говорил
со мной языком своих работ, а я молчал, смотрел, угадывая речь
его искусства. Было это в мае 1978 года.
Рене показывал мне серию "Карнавал" из двухсот работ (акрил
и тушь), созданную в 1970-1971 гг. "Карнавал" застал меня врас-
плох: узнавая старого мастера, я видел в то же время совершенно
нового художника, более того — нового человека. О том, что озна-
чала для него работа над этой серией, он говорил со "священным
трепетом", который можно было бы воспринять иронически, если
не знать его абсолютной искренности и не видеть перед собой ра-
боты, кричащие языком линий и красок: "То было самосожжение и
воскрешение из пепла". Подведенный к этому рубежу всей предыс-
торией своего творчества, осознанной мыслью и толчками интуи-
ции, он безоглядно отдался новому тяжкому и мучительно-сладост-
ному труду, после которого — "ведь это почти что физиологичес-
кий процесс!" — наступило полное физическое и душевное опусто-
шение и... возрождение, новая мера жизни и искусства.
Глядя на работы серии "Карнавал" и слушая редкие и краткие
комментарии Портокарреро, я думал о том, какие запасы и воз-
можности творческого преображения хранит дух человеческий, о
его способности сжигать себя в огне сомнения и отрицания и вос-
кресать из пепла старых представлений, с новым зрением и новой
мудростью. Рене обманул себя и всех, перепрыгнул через голову,
выскочил из "старой шкуры"...
Всем был известен художник Рене Портокарреро, работы кото-
рого к тому времени уже хранились во многих музеях мира. Он за-
мыкал группу замечательных живописцев, начинавших в 20-30-х —
начале 40-х гг. XX в. и создавших то, что и называется кубинской
живописью: Виктор Мануэль, Эдуардо Абела, Фиделио Понсе,
Карлос Энрикес, Вифредо Лам, Амелия Пелаес...
Как и удачливый Лам, работавший рядом с Пикассо (любимый
ученик!) и учившийся у сюрреалистов, Портокарреро перепробовал
298
множество манер и стилей, бывших в моде в 20-30-х гг., искал
опору в афрокубинской народной эстетике, в кубизме, в многоцве-
тье кубинского витража "медио пунто". Зная Портокарреро,
можно обнаружить нити, связывающие его "Карнавал" с поисками
молодости и даже с детством, впечатлениям которого он придает
большое значение.
И сам Портокарреро, и его критики любят подчеркивать, что он
родился (а было это в 1912 г.) в Ceppo, благополучном предместье
Старой Гаваны, где непременным дополнением витиеватой коло-
ниальной архитектуры в стиле барокко были наборные витражи на
дверях и окнах, бросавшие желтые, лиловые, красные, синие пятна
на старинные интерьеры и плиты глухих испанских двориков-
патио. Причем родился он 24-го февраля, то есть в разгар карнава-
ла, когда в звонкоголосой, ритмопульсирующей Гаване празднич-
ный дух народа, ломая расовые и социальные барьеры, заливал все
улицы города, смешивая — как смешала все истоки сама история,
создавая кубинской народ,— ритмы африканской и европейской
музыки, салонного танца и румбы, маски черных богов и фигурки
католических святых. Портокарреро родился под звездой карнава-
ла, и столь волнующий для ребенка праздник, как день рождения,
всегда совпадал с волнующим днем в жизни улицы, и потому он с
особой восприимчивостью впитывал, как говорил художник",
"оргию красок и музыки". Вольная, резкая, неожиданная и откро-
венная линия карнавального движения, прихотливый "завиток" ба-
рочной архитектуры, яркая палитра витражей — эти компоненты
ложились в самые первоосновы памяти художника...
Типичные для кубинской живописи богатый орнаментализм, со-
четание стремления к кривизне линии с геометрически четкими по-
строениями, избыточную резкость цвета, черно-белые контрасты
искусствоведы связывают сегодня с различными пластами истории
кубинской культуры, возникавшими как сплав самых далеких и
резко отличных элементов. Особое значение придается колониаль-
ной архитектуре в стиле барокко. Вот, например, мнение Алехо
Карпентьера: "Вязь решеток, переплетение стрельчатых сводов,
развертывание контрастных цветовых пространств — эта давняя и
активно живущая традиция объясняет некоторые черты современ-
ной кубинской живописи"1. Иоланда Агирре, написавшая книгу о
старинном витраже, относит самого Карпентьера вместе с писате-
лем Хосе Лесамой Лимой и художником Рене Портокарреро к тем,
кто воплотил и развил в своем творчестве давние традиции барок-
ко2.
Карпентьер, как известно, стал создателем концепции "онтоло-
гической" барочности латиноамериканского искусства: "Барок-
ко — это больше чем стиль, это барочность, способ перевоплоще-
ния материи и ее форм, способ упорядочивания путем создания
299
беспорядка, способ пересоздания... Латинская Америка барочна, и
такой она была до того, как стала "латинской". Мы убеждаемся в
этом, если вспоминаем об орнаменталистике миштеков или майя.
На Кубе барочность не нашла воплощения в камне или в дереве,
зато она стала сутью повседневной жизни, воплотилась в танце, в
криках уличных торговцев, в своеобычности кондитерского искус-
ства, в самом человеческом силуэте... кубинское всесущее барокко,
живое и говорящее, единственное, быть может, на всем континенте,
отличающееся музыкальностью форм и теней, находящихся в по-
стоянном изменении"3.
В кубинской живописи самым убедительным тому подтвержде-
нием для Карпентьера было творчество уже зрелого Портокарреро.
В первой половине 60-х годов состоялось несколько восторженно
принятых выставок художника, вышли посвященные ему номера
журналов. Связывая подъем его творческих сил с тем праздником
народного духа, каким стала в те годы Кубинская революция, Гра-
сиела Поголотти писала, что новые работы Портокарреро — "вер-
шина его творчества". Действительно, Портокарреро создал тогда
удивительный и неотразимый в своей убедительности пластичес-
кий и цветовой образ Кубы, или, вернее, живописную символику
Кубы, радостно встреченную как открытие давно всем известного,
но только что обнаруженного.
Алехо Карпентьер писал, что Портокарреро сумел проникнуть в
самую суть кубинского бытия и выразить в символических и цвето-
вых формах порожденные природой и историей пластику и коло-
рит. Он сумел перевести действительность на язык живописи, "воз-
водя свои поразительные города-синтезы, увенчанные башнями,
колокольнями, куполами и галереями, статуями, прорезанные
улочками и переходами, просверленные стрельчатыми стеклами и
окнами,— единственное в своем роде и высшее выражение кубин-
ского барокко... Для того чтобы населить эти города и их соборы,
дворцы и аркады, появились на свет женщины с прихотливыми
прическами, повторенные до бесконечности и в то же время всегда
разные, как вариации на данную тему, которые импровизирует ге-
ниальный музыкант. А когда Портокарреро овладел светом на-
столько, что, кажется, стал способным лепить его, на современном
этапе он пишет фигуры зачастую лишь в черно-белой гамме; ли-
шенные цвета, они не перестали быть выражением барокко; срос-
шиеся, свившиеся с растениями, они излучают волнующую чело-
вечность". И далее Карпентьер заключал: "Рене Портокарреро се-
годня — это один из крупнейших художников Латинской Америки,
художник, который сумел показать, открыть то, что видели до него
и другие, но видели лишь как простой набор элементов, не имею-
щих внутренней связи"4.
300
Однако любопытно, что эти проникновенные слова не вызвали
полного согласия у самого Портокарреро. Отвечая на вопросы в
интервью журналу "Ислас", художник тогда же заметил, что если
Куба действительно барочна, то он, разумеется, тоже барочен, но в
общем-то он хотел бы, чтобы его живопись была ...просто живопи-
сью, и добавил, что готов безусловно согласиться с этой идеей,
если принять выражение испанского писателя Рамона Гомеса де ла
Серны, который говорил, что барокко — это "неугасимое жела-
ние"5.
Не было ли в этих словах, в его неудовлетворенности концеп-
цией барокко стремления уйти от инерции найденного, не было ли
в них зерна-будущего? Конечно, тогда справедливо говорили о до-
стижениях Портокарреро, создавшего неоспоримую живописную
символику Кубы. Но при всей, казалось бы, широте выполненной
задачи мир Портокарреро имел очевидные ограничения. Его мир
был статичен, а лиризм слишком благодушен для нашего времени.
И это беспокоило художника, хотя не все могли тогда угадать за
тихой гладью его живописного мира драматическое звучание, звук
едва слышный, но многообещающий.
Этот драматический мотив, прозвучавший в его гротескной
серии "Маски" (1953), был знаком того, что художник, не ограни-
чиваясь воссозданием лишь вещного лика природы, искал пути к
современному человеку. Приглушенно драматические мотивы зву-
чали и в его "орнаментальных фигурах", о которых писал Карпен-
тьер. Полные глубины, то вопрошающие, то холодно-отдаленные,
то проникновенные взгляды его загадочных, сросшихся с буйной
растительностью женщин, заставляющие вспомнить беспокоящие,
с затаенной болью, взгляды героев Врубеля (один из любимейших
художников Портокарреро), небольшой, но тревожный излом клас-
сической линии, небольшая, но многозначительная деформация
пропорции лиц говорили о внутреннем напряжении, наконец, о
том, что его работы 60-х годов были не кульминацией, а только
промежуточным этапом. Поголотти чутко угадала в тот период,
что в мир Портокарреро начали входить история, время, хотя связь
с ними была сложной, опосредованной. Послушаем Портокарреро,
который изложил тогда в кратких, но полных философского напря-
жения и глубокого смысла словах свое понимание соотношения ис-
кусства, живописи и действительности.
Для Портокарреро творческий акт — это "драма, где в неожи-
данную борьбу вступают обретенный опыт и непостижимая тайна,
благо открытия". Они и порождают "точное чудо — произведение
искусства", подобное "ребенку или цветку", ценное для нас не тем,
что оно изображает, но тем, каково оно само по себе. Эта "органи-
ческая" теория, отрицая внешнюю, лишь тематическую связь живо-
писи со временем, утверждала их кровную связь, выраженную не в
301
сюжетах, а в самой художественной структуре. Живопись, как ребе-
нок, который не повторяет мать, дающую жизнь, но, впитав ее
соки, несет новое качество. Разве в том дело, продолжает Порто-
карреро, воссозданы ли на картине какой-либо исторический
сюжет или некий собор. Художник — "великолепное чувствилище
человеческой боли" — постигает и творит историю не так, как дея-
тель истории, хотя в основе своей их работа сходна. "Разве герой
не топчет собственное сердце и не идет навстречу смерти во имя
всепоглощающего стремления к совершенствованию жизни? Разве
художник не топчет своего сердца и не идет навстречу радости —
радость и смерть в данном случае одно и то же,— ведомый всепо-
глощающим стремлением совершенствования живописи?" У них
только разные объекты приложения сил: у героя истории — сама
жизнь, у художника — живопись. "Для того чтобы выразить свое
отношение к жизни, художник нуждается в факторе времени. Он не
оперирует вещами, предметами, не использует фактов — он их
пересоздает. Художник не хочет быть обманутым видимостью фак-
тов, он их переваривает в самом себе... И иногда произведения ис-
кусства оказываются способными выйти за рамки времени. Разры-
ваются скрывающие время облаченья, и перед нами предстает ис-
тинная, подлинная история. По яблокам Сезанна все еще течет
кровь, пролившаяся в сражениях наполеоновских времен. Шахтеры
с картин Ван-Гога уже поют "Интернационал". В сине-серой гамме
"Герники" мы ощущаем поражение республиканской Испании. В
произведениях американских абстракционистов — слезы, проли-
вающиеся с вершин небоскребов. В воплощенных ангелах Шага-
ла— галлюцинирующее время Распутина и падение царей. В распя-
тиях Грюневальда — нацистские распятия. В "Бедствиях войны"
Гойи — все войны мира"6.
Утверждение особой связи живописи с историей обнаруживало
неожиданное и нежданное в Портокарреро — лирико-героический
пафос, резко контрастировавший со статичным миром его живопи-
си дореволюционных лет. Главным фактором было приобщение в
те годы Кубы к коренным драматическим проблемам мира, к ги-
гантским общественным процессам. Время не просто приобщило,
но "вынесло" Кубу на острие борьбы. И это оказало решающее
воздействие на мировосприятие наиболее значительных поэтов и
художников тех лет. Энергия и драматизм, бурлившие под спудом в
творчестве Портокарреро, спустя годы разлились в море его "Кар-
навала", серии, отразившей мощные сдвиги истории, как об этом
мечтал художник, через самую первоматерию живописи...
Если сопоставлять мировосприятие Портокарреро, каким он
предстал в "Карнавале", с кем-то из художников Латинской Аме-
рики XX в., то, очевидно, ближе всего оно было бы позиции Габ-
риэля Гарсиа Маркеса. Как и Гарсиа Маркес, Портокарреро
302
"лепил" свои образы из латиноамериканской "глины", но позирует
ему не только Латинская Америка, а весь мир, все человечество,
вся история. Как и Гарсиа Маркес, он видел мир в динамике кру-
шения и обновления, гибели старого космоса и рождения нового. И
не только поэтому...
Я задал Портокарреро два вопроса. Первый: какой эпиграф он
мог бы поставить к серии "Карнавал". Он сказал, что не знает, по-
тому что не знает, о чем она, но тут же добавил, вспомнив слова
Августина Блаженного, какими тот ответил на вопрос, что такое
время: "Если меня не спрашивают, я знаю, если меня спрашивают,
я не знаю". На второй вопрос, кому он посвятил бы эту серию,
Портокарреро ответил: "Гойе и Деве Гвадалупской".
Портокарреро мог ответить словами мыслителя и писателя IV-
V вв. Августина Блаженного потому, что герой его серии — время,
история. Но предстали они в гротескных формах — и потому зву-
чит имя Гойи. "Капричос" Гойи сразу же всплывают в памяти,
когда перед тобой "Карнавал" Портокарреро. Но если сама идея
работ, объединенных единством гротескного взгляда, их напряжен-
ный драматизм и трагизм, близки гойевским, то в остальном пози-
ции художников существенно разнятся.
Различия начинаются с диапазона мышления и точки зрения на
мир. Порождаются они исторической дистанцией, разделяющей
двух художников, и отражаются в самой природе гротеска. Если
воспользоваться понятиями самого Портокарреро, можно сказать,
что это дети разных матерей-эпох. Взгляд Портокарреро устремлен
в XX в. — век революций, войн, ядерной угрозы, трагедий, высо-
ких взлетов и низких падений человека. Его образы суть "перева-
ренные" факты истории, подошедшей к явному рубежу. На таких
рубежах и вспыхивают кострища карнавального гротеска.
"Карнавал" Портокарреро — масштабная гротескная история
нравственного опыта человечества, рассмотренного с точки зрения
живого участника этой истории. И опыта не только нравственного,
но и эстетического, т.е. самих способов самовыражения человека,
ибо в орбиту гротеска Портокарреро входят не факты истории, а
то, как она отражалась в искусстве на различных своих этапах. Эс-
хатологический настрой, мотив крушения мира господствует во
всей серии гротескных образов Портокарреро, воссоздающих и ос-
новные жизненные ситуации и сюжеты (любовь, смерть, героизм,
ненависть, равнодушие, измена, страдание, радость, сострадание,
гуманизм, убийство, рождение и т.п.), и то, как они представлены в
мировой классике, мифологии, литературе (Каин, Авель, Венера,
Мадонна с младенцем, Прометей, св. Себастьян, пронзенный стре-
лами, Гамлет, Офелия, Вознесение, горящий Христос в образе лин-
чеванного негра, па-де-де, исполняемое буржуа "конца века"...), а
303
потому объектом гротеска становятся и самые стили искусства от
античности до современности.
Рассказать о каждой из не имеющих названий двухсот работ
было бы невозможно, потому что далеко не каждая из них поддает-
ся логической трактовке, как не поддается пересказу современная
музыка, избегающая всякой описательности и ищущая прямых
путей к чувству и интеллекту. Сам Портокарреро не в состоянии
дать объяснения всем своим полотнам ("Если меня не спрашива-
ют..."). Связано это и с тем, что часто у него нет конкретных объ-
ектов гротеска, а есть лишь какие-то неосознанные точки отсчета,
толчки памяти, и с его художественной индивидуальностью, с ма-
нерой работы живописца-музыканта, импровизатора. Он никогда
не делает эскизов и не бросает ни одной из своих работ, все доводя
до конца, подстегиваемый интуицией, ведомый самой линией ри-
сунка, цветовым пятном...
Другое, очень важное отличие от Гойи — и оно связано с харак-
тером мировосприятия, с позицией художника — в самом характе-
ре гротеска. У Гойи — трагический замкнутый круг "сна разума",
порождающего чудовища, зверо-людей, людей-птиц, фантомы кро-
мешного мира, из которого нет выхода. У Портокарреро, как и у
Гарсиа Маркеса, трагический круг размыкается смеховым, карна-
вальным началом. М.М.Бахтин говорил о возрождении "гротеск-
ного реализма" в XX в., называя такие имена, как Томас Манн,
Бертольт Брехт и Пабло Неруда. Если бы Бахтин успел полнее по-
знакомиться с латиноамериканской культурой, которая только в
последние годы его жизни стала привлекать всеобщее внимание,
то, наверное, нашел бы немало пищи для размышлений о тесней-
шей связи с живой карнавальной стихией.
Имя М.М.Бахтина звучало в нашем разговоре. Его назвал сам
Портокарреро, который познакомился с выдержками из известной
книги о Франсуа Рабле. Я рассказывал художнику о встрече с
Марио Варгасом Льосой в редакции московского журнала "Латин-
ская Америка", где перуанский романист с удивлением говорил,
что в книге Бахтина он нашел подтверждение и объяснение тому,
что ощущалось, понималось им самим... Портокарреро тоже пора-
жался, как совпадали его представления о карнавале с идеями Бах-
тина.
Художник писал о карнавале в кратком предисловии к альбому
серии "Масок", о которой мы уже упоминали: "Маска развязывает
ноги танцора и сообщает ему устойчивость, твердость. Это лик
мира в день праздника. Наша темная и требовательная душа распо-
лагает немалым числом способов самовыражения, но для того,
чтобы почувствовать себя свободной, выбирает всегда маску. Разве
не Фауст и Гамлет рассказали нам правду о нашем бытии из-за
своих обнажающих истину масок в ночной и вечный день праздни-
304
ка? Смерть промывает наши лица. Маска — это форма птицы Фе-
никс, и только отражение в зеркале другого возвращает нам ра-
дость бытия. Рисовать маску — это как бы вступить в заговор с
царствами смеха и плача..."7.
Он говорил о том, как близок ему Бахтин, а я думал о том, что
не случайно Портокарреро услышал в его словах о природе челове-
ка родственные звуки, что понимать принципы карнавального гро-
теска — этого мало, нужно, чтобы художник нес его в крови,
чтобы он вступил в "заговор с царствами смеха и плача", как Пор-
токарреро, родившийся в день карнавала.
Как и всякое истинно карнавальное искусство, "Карнавал" Пор-
токарреро, совершенно очевидно связанный не только с кризис-
ным, переломным моментом в его личной творческой судьбе, но и
с переломным моментом в жизни человечества, обладает универ-
сальным охватом. Как и во всяком истинно карнавальном искусст-
ве, в "Карнавале" господствует слитая воедино и отрицающая и
возрождающая сила. Как и у Гарсиа Маркеса, в "царстве смеха и
плача" Портокарреро живет "жажда новой юности". Как в подлин-
ном карнавальном искусстве, в "Карнавале" Портокарреро проис-
ходит, по словам Лесамы Лимы, "осмеяние стилей"8.
Карнавальный гротеск срывает неподвижную маску непознавае-
мости, официозности, обнажает преходящую природу явления, а
тем самым отрицает, хоронит, но одновременно и возрождает его в
новом качестве. У Портокарреро объектом гротеска стало само
время, история, и потому предметом осмеяния у него стали "одеж-
ды" времени, стили, и прежде всего сам гротеск. (Вспомним, что у
Гарсиа Маркеса в его романах объектом смеха, как писал Л.С.Ос-
поват, становится сам смех, каким смеялось человечество на пред-
шествующих этапах истории).
Стиль Портокарреро впитал большой опыт гротеска. Специаль-
ного разговора заслуживает связь гротеска Портокарреро с анти-
чной культурой, с традицией народных карнавальных празднеств
типа сатурналий, с вазовой живописью или с римским орнаментом.
Бахтин писал о римском орнаменте, что он "поразил современни-
ков необычайной, причудливой и вольной игрой растительными,
животными и человеческими формами, которые переходят друг в
друга, как бы порождают друг друга"9. Эта карнавальная стихия
живет не мертвой цитатой, а живой жизнью в "орнаментальных фи-
гурах" Портокарреро, в таком выдающемся его образе, как
"Флора" — женская голова античной лепки, волосы которой —
перевитые между собой ветви, лианы, плоды, цветы...
"Слышим", наверное, мы здесь и ассоциации с Босхом, Брейге-
лем Старшим и Дюрером. Очевидно пародирование гротеска таких
выдающихся мастеров, как Тулуз-Лотрек и Дега. Здесь и великая
тройка — Ривера, Ороско и Сикейрос, наследники искусства майя
305
и ацтеков, Возрождения, Гойи и живописи XX в. (может, поэтому
Портокарреро и вспоминает о родившемся в XVIII в. в Мексике и
ставшем символом новой латиноамериканской культуры образе
Девы Гвадалупской?).
Совершенно очевидно соотносится гротеск Портокарреро и с
творчеством Пикассо. Пародирование стилей, гротеск как непре-
менный момент подлинно карнавального восприятия бытия в выс-
шей степени были свойственны самому Пикассо. Возможно, в этом
один из секретов того удивительного явления, что этот художник
"номер один" XX в. принципиально избегал "своего" стиля, никог-
да не останавливаясь ни на одной из манер, пародируя и переосмы-
сливая их все.
И, наконец, Портокарреро, швырнувший себя в огонь самоочи-
щения, чтобы воскреснуть из пепла с новым видением мира.
Все сюжеты, все манеры, войдя в орбиту гротеска Портокарре-
ро, трансформируются, корчатся в огне карнавальной стихии; мы
узнаем знакомые лики, маски и формы в необычных ракурсах, ис-
кривленные и высмеянные "зеркалом" смеха, обнажающим, сводя-
щим их с пьедестала "классики", делающим их участниками всеоб-
щего катастрофического движения бытия.
Наверное, после работ М.М.Бахтина было бы не так уж сложно,
исходя из общих принципов, создать каталог карнавальной симво-
лики в живописи, описать закономерности карнавализованной
формы, линии, цвета. В этом отношении серия Портокарреро по-
служила бы незаменимым источником, потому что в ней жива сти-
хия народного карнавала, в сравнении с европейским карнавалом
особенно близкого именно к пластике, линии, жесту, ритму. Евро-
пейский давний карнавал был очень разговорчив (вспомним "Гар-
гантюа и Пантагрюэля") — латиноамериканский, современный,
живой "разговорчив" на иной манер, он говорит особенно ярко
языком танца и музыки. Вся стихия гибкого языка жестов, движе-
ний, позы, ритма, цвета буйствует в "Карнавале" Портокарреро.
Но главное, наверное, не в установлении таких очевидных и типич-
ных для карнавального искусства приемов, как деформация, утри-
рование основных жизненных точек "топографии" человеческого
тела, тех точек тела, где оно ''перерастает себя, выходит за собст-
венные пределы, зачинает новое (второе) тело.."10. Такие приемы в
"Карнавале" в изобилии. Важнее увидеть специфически живопис-
ные приемы карнавализации материала, с помощью которых и со-
здается "двутелый" мир, в котором одновременно налицо и тот,
что умирает, отрицаемый гротеском, и тот, что рождается из уми-
рающего как символ будущего. В этом отношении обращают на
себя внимание принцип зеркального отражения, повтора фигур, на-
слоение тел, их переплетение, разъятие тела, чреватого другим
306
телом, известный по мексиканской графике прием обнажения ске-
лета и т.п.11.
Известный мексиканский художник "поколения гигантов"
Пабло О'Хиггинс сказал о "Карнавале" Портокарреро: "Это нача-
ло живописи". В ответ на мой вопрос, что означают эти слова, Рене
улыбается и молчит. Начало живописи и в новых "Флорах" Порто-
карреро. Их классическая гармония — не повторение известных
гармоний. Это та гармония, что родилась в "царстве смеха и
плача".
После вулканического "Карнавала" гармония женских образов
Портокарреро подобна музыкальному переходу в симфонии гени-
ального композитора от пиков додекафонии к завораживающей
мелодии обретенного рая. Но уходя, я посматриваю на портрет Эр-
несто Че Гевары, написанный в 1969 г., и вдруг замечаю застывший
в углу студии памятник самому себе, сложившийся из спекшейся
керамики, засохших кистей, коросты старой краски, каких-то труд-
но опознаваемых предметов. Этот монстр, как застывшая лава вул-
кана, как вывороченные внутренности земли, напоминает о том,
сколь наивно было бы доверять благостному виду доброго челове-
ка и бескомпромиссного художника Рене Портокарреро.
P.S. Этот текст, естественно, в переводе на испанский язык, про-
читал Рене Портокарреро и похвалил в один из моих приездов в
Гавану так, что я похолодел: "Это лучшее, что было обо мне напи-
сано". Наверное, от неисчерпаемой своей доброты. И ладно...
Мастер умер, утопии того времени рухнули, но, думаю, доживи
он до нашего времени, не нашел бы другого способа писать, как
снова пройти через чистилище "смеха и плача". Нет другого спосо-
ба...
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Union. 1967, № 1. Р. 154.
2 Aguirre I. Vidrerîa cubana. La Habana, 1970.
3 Islas. 1966, №3. P. 81.
4 Islas. 1966, №3. P. 82, 83.
5 Ibid. P. 111.
6 Islas. 1966, №3. P. Ill, 113, 114, 115, 116.
7 Mascaras de Portocarrero. La Habana, 1955.
8 "Islas", 1966, №3. P. 104.
9 Бахтин M.M. Творчество Франсуа Рабле и народная культура сре-
дневековья и Ренессанса. М., 1965. С. 38.
10 Бахтин М.М. Указ. соч. С. 343.
1 ! О специфических цветовых приемах в этой серии см.: Тананаева Л.И.
Очерки кубинского искусства XVI-XX веков. М., 1999. С. 280.
307
H.В Муравьева
РАЗМЫШЛЯЯ О Г.ГАРСИА МАРКЕСЕ И РУБЕНЕ ДАРИО
(заметки переводчика)
В одном из своих интервью Габриэль Гарсиа Маркес говорит о
том, что приверженность карибского мира к фантастике "окрепла
благодаря привезенным сюда африканским рабам", а кроме того,
благодаря воображению индейцев — коренных жителей континен-
та. Немалую роль сыграла и фантазия андалузцев и галисийцев.
На этой смешанной, обильно удобренной почве и произросли
буйные вымыслы, окрещенные впоследствии "магическим реализ-
мом" — может быть, самым "латиноамериканским" из всех литера-
турных направлений континента. Надо сказать, что почва действи-
тельно благодатная — здесь и завезенные из Испании суеверия,
восполнившие веру в народном сознании, и полнокровный язычес-
кий миф индейского континента, да и примесей тоже немало. В нее-
то и уходят корни вечного, по-своему совсем не веселого праздника
Латинской Америки — праздника фантасмагории.
М.Бахтин утверждал: "Карнавал не созерцают и, строго говоря,
даже не разыгрывают, а живут в нем, живут по его законам, пока
эти законы действуют, то есть живут карнавальной жизнью. Карна-
вальная же жизнь — это жизнь, выведенная из своей обычной колеи,
в какой-то мере "жизнь наизнанку", мир наоборот"1. В эпоху сре-
дневековья в Европе время человеческое было весьма строго поде-
лено на два периода — жизнь будничная, обычная и существование
в карнавале, несколько месяцев игры и праздника, где нет никаких
запретов, снимаются все повседневные перегородки. Но так в сред-
ние века жила Европа. Существование же и ныне и присно Латин-
ской Америки строится по другому канону — время здесь более це-
лостно, и в атмосфере карнавальной жизни почти круглый год об-
ретается человеческая душа.
Поэтому, когда Г.Гарсиа Маркес говорит, что "фантастический
реализм" — это зеркало фантасмагории и непрерывного праздника
в умах и сердцах и, наверное, сама реалистическая литература в
мире, он удивительным образом прав.
Языческое начало, корни которого, как корни бананового дере-
ва, чуть ли не больше самого ствола, неистребимо и жизнеспособно
на редкость, и плодоносит оно постоянно; а сладчайший плод
его — обрядоверие, приверженность ритуалу, соблюдение иногда
совершенно непонятных священных традиций и обычаев.
Завезенный, привнесенный извне католический "порядок" бур-
лит, и в этом же котле кипят суеверные страхи (а ведь в буквальном
толковании написанного, в особенности, если речь идет о Биб-
308
лии — тоже немало от язычества) и вот, все это вместе образует
некий рукотворный, перевернутый с ног на голову, как мотив кар-
навала, закон, повиноваться которому необходимо, если живешь в
этом мире.
Именно поэтому зримое действо — например, известнейший
карнавал Смерти — похож на некое заклинание беды, давнюю и
древнюю мистерию, в которой homo ludens вышучивает смерть и
поту- и посюсторонние силы, заговаривая, укрощая песнями и
плясками страх и трепет. И поэтому в зеркале фантасмагории эта
игра со смертью, "народный обычай", освященный католической
церковью — а именно так объясняет природу карнавала священник
из романа "Сто лет одиночества" — через две страницы оборачи-
вается смертью реальной — все залито кровью, маски разбегаются
и "на площади остаются лежать убитые и раненые — пять паяцев,
четыре коломбины, шестнадцать карточных королей, один черт,
три музыканта, два пэра Франции и три японские императрицы".
Да, "магическая" литература — литература реалистическая.
Стоит вспомнить, что, по словам известнейшего из ее создателей
Гарсиа Маркеса, "в Латинской Америке все возможно, все реаль-
но". Так, реален некий сальвадорский диктатор, который во время
эпидемии оспы в стране в качестве здравоохранительной меры
предписал обернуть все лампочки и фонари красной бумагой. Не
менее реален и колумбийский священник из города Попайан, в се-
редине двадцатого века проклявший этот город и предрекший ги-
бель его главного собора через десять лет — ив самом деле через
указанное количество лет собор обваливается на головы прихожан
во время мессы. Всему виною было землетрясение, но и проклятие,
видимо, все-таки тоже было при чем.
Весь этот мир, живущий по своим законам, умудряется всегда
"сохранить лицо" — пусть даже не лицо, а личину, но всегда испол-
ненную спокойствия и невозмутимости, столь поражающих евро-
пейского читателя. Так, в романе "Сто лет одиночества" самые
фантастические и непредставимые вещи рассказываются с "камен-
ным выражением лица", и здесь достаточно вспомнить устный рас-
сказ самого автора о тетушке из Аракатаки (родного городка Гар-
сиа Маркеса), которая, когда ей принесли куриное яйцо с необыч-
ным наростом, бестрепетно объявила его яйцом василиска и прика-
зала сжечь в специально раздутом для сей цели костре. Все это при-
казывалось и делалось именно так — бестревожно, с сознанием
своей подчиненности некоему высшему неясному закону, с реши-
мостью выполнить странный обряд — очищение огнем, заклятие
зла. Гарсиа Маркеса восхищала естественность, с которой она ре-
шала подобные проблемы. И действительно, восхищаться, пожа-
309
луй, можно, а вот удивляться нечему — в мире фантасмагории не-
обычное естественно и привычно.
Как уже было отмечено, в этом мире присутствуют все атрибу-
ты церковной жизни: есть и месса, и чтение молитв, и церковные
календари, и сплошь да рядом упоминание имени Божьего, и, ко-
нечно, посты и обеты — т.е. все, чему придается магико-обрядовый
характер. Но это форма, во многом лишенная практически какого-
либо иного содержания, кроме ритуального. Это стены карточного
домика и, в сущности, такое игровое пространство открыто всем
древним стихиям; оно незащищено, предельно обнажено, несмотря
на всю сложную систему ритуалов — и там в самом деле возможно
все. Мифотворчество процветает, и люди возносятся на простынях,
парят в воздухе на стульях, их поражает болезнь беспамятства, они
отправляют письма умершим, последние же запросто навещают
живых, мучаясь посмертным одиночеством. Дети приносят в мешке
непогребенные кости своих безымянных родителей.
И самое удивительное в этом — как в любой игре — совсем не
происходящее, а то, что никто не удивляется, начиная с автора.
А его, как уже было сказано, прямо-таки завораживает естест-
венность невозмутимости — он и сам носит эту маску, и героям
предписывает ее носить.
Все это не так уж странно, если вспомнить, как серьезны и есте-
ственны в игре дети; разыгрывая невероятнейшие свои фантазии,
они остаются невозмутимыми и довольными, совмещая казалось
бы несовместимое. В теплых странах, именуемых Латинской Аме-
рикой, языческое мироощущение неотделено от ребячливости, как
праздник неотделим от игрового начала, переворачивающего мир с
ног на голову.
Другое дело, что праздничная фантасмагория "магической" ли-
тературы больше карнавала — она включает его в себя как состав-
ляющую; скажем так — если по Бахтину внутри карнавала жить
можно, то внутри фантасмагории жить невозможно, как невозмож-
но долго находиться в Зазеркалье, где все происходит по принципу:
"Алиса, это пудинг. Пудинг, это Алиса. Унесите пудинг". Итак,
жить в фантасмагории нельзя, но это не значит, что она непривле-
кательна.
Подобного рода миры создают вокруг себя поле преклонения и
подражания, даже некоторого одурманивания зрителя, слушателя и
читателя. Собственно, где-то в глубине это завороженность вечным
детством Питера Пэна, сказочной реальностью, где все едят, пьют,
сражаются, обзаводятся семьей и умирают "понарошку", но отда-
ются самому процессу игры всерьез.
Эти магические романы многослойны, словно хороший, пыш-
ный пирог. Здесь присутствует и карнавал, как отражение челове-
ческой сути, сути Вселенной, где homo ludens играет разноцветными
310
шарами желаний, надежд, страстей и пороков, беря пример, воз-
можно, с собственного Творца, играющего потоками любви —
коли уж допустимо, что игра заключена в Его природе. Здесь и не-
истребимое языческое обрядоверие, насквозь проникнутое страхом
перед неизвестным и жаждой умилостивить незримые враждебные
силы, уговорить их, склонить на свою сторону, и даже — если
будет возможно — подчинить их себе. Здесь и детское, питерпэнов-
ское "Не хочу быть взрослым!", желание радоваться и ужасаться,
живя понарошку. Так, многие герои Г. Гарсиа Маркеса могли бы
сказать, что их жизнь в подобном мире — не более чем сказка, рас-
сказанная на ночь, игра, и только.
Недаром с языка автора срываются слова, что книга "Сто лет
одиночества" — "всего лишь поэтическое воспроизведение его соб-
ственного детства". Итак, весь этот мир (миф) многослоен — это
огромный праздничный пирог, и начинка его весьма разнообразна.
Пресловутый "человек мифотворящий" как бы спускается в некий
колодец своей души, в котором барахтаются первобытные могучие
образы, порой почти бесформенные.
И этот мир насквозь эротичен; Эрос — ключ, отпирающий
дверь собственного "Я", путеводная нить в лабиринте языка, в по-
исках своего лица, как это явствует из знаменитейшего поэтическо-
го сборника "Языческие псалмы", написанного другим творцом ла-
тиноамериканской и мировой литературы, никарагуанцем Рубеном
Дарио, основоположником новой эпохи в испаноязычной культуре.
Собственно, весь воздух фантасмагории, столь родной латиноаме-
риканским поэтам и писателям — как то явствует, например, из
творчества другого мэтра, колумбийца Леона де Грейффа, всю
жизнь игравшего и менявшего стихотворные маски, писавшего: "Я
жизнь свою меняю, ставлю на карту, все равно она — пропа-
щая" — весь этот воздух напоен, как ни странно, подспудным
стремлением выбраться из нескончаемого карнавала, когда можно
будет наконец обрести и явить миру собственное лицо, а не личину,
не маску. Этот извечный поиск символичен для всей латиноамери-
канской культуры.
Муза Рубена Дарио под звуки реального аргентинского карна-
вала в стихотворении "Карнавальная песня" из "Языческих псал-
мов" среди вороха ярких масок ищет подходящую личину, переби-
рая маски-культуры — символистскую, классическую, античную,
восточную и т.д. Но под конец она отбрасывает их все и надевает
"чудесную маску Зари", что на языке модернистов означает обрете-
ние лица, собственного облика. Поэзия Дарио равна себе, а значит
и возвращение автора в Латинскую Америку после долгих странст-
вий по свету, по языкам и культурам должно осуществиться, лицо
должно быть наконец открыто. И все же это маска, на этот раз
маска поэта-модерниста, родившегося во "всемирной Америке", и
она по прежнему скрывает душу...
311
Поиск продолжается всю жизнь. Для Рубена Дарио, поэта, ищу-
щего не только самого себя, но и новой формы существования для
латиноамериканской культуры, желавшего всеми силами создать ее
заново, этот поиск души и духовного пространства, попытка ос-
мыслить, преобразить и полюбить фантасмагорию континента, по-
мочь ей войти в берега — центральная тема поэзии. И ключи к
этой желанной двери он подбирает разные — это утонченное, эсте-
тическое служение красоте "в башне из слоновой кости", и Эрос,
любовь земная, пряные воды которой питают и поддерживают
жизнь языческого дерева, праздник и страх. Это — в конце пути —
любовь Спасителя мира к своим созданиям в "Песнях жизни и на-
дежды".
Почему же лица все-таки скрыты под масками?
Почему же так труден и мучителен поиск собственной души, и
путь лежит через страдания и сто лет одиночества?
В романе К.С.Льюиса "Пока мы лиц не обрели" героиня, скры-
вающая свое уродливое лицо под платком, царица полудикого го-
сударства, сестра царевны Психеи, говорит: "Я отлично знаю, по-
чему боги не говорят с нами открыто, и не нам ответить на их во-
просы.
Пока мы не научились говорить, почему они должны слушать
наш бессмысленный лепет? Как они могут встретиться с нами
лицом к лицу, пока мы лиц не обрели?"
Праздник продолжается, и участники его, словно дети, востор-
женно-серьезны, и маски закрывают их лица. В конце концов их хо-
чется снять — так по завершении карнавала Смерти от лиц отпада-
ют маски оскаленных черепов.
Пробираясь кружным путем паломника через мир латиноамери-
канской фантасмагории, душа художника ищет себя. В конечном
счете, она ищет обоженного мира, в котором царит Логос, а не пер-
возданный Хаос, и это "собирание себя" на разных ступенях —
тоже великий праздник.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963. С. 163-164.
312
Часть IV
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАКУРСЫ
Н.М.Полыциков
АМБИВАЛЕНТНОСТЬ ПРАЗДНЕСТВ
(онтологические и поэтологические аспекты)
Множатся пытки и казни...
И возрастает тревога,
Что, коль не кончится праздник
В театре Господа Бога?!
Я. Гумилев
Время "порога" между старым старым и новым зонами возлага-
ет на человека миссию: пересоздать без губительных потерь и оши-
бок и ориентировать на грядущее бесконечно расширяющийся уни-
версум. Радость творения, торжество рождения нового облика
мира и возвращения первоначал, счастье свершившегося подвига
выражены праздником. Как писал М.М.Бахтин, праздник — это
"временный выход в утопический мир"2. Человек освобождается из
тисков необходимости и получает доступ к вечно вожделенному,
но недостижимому на земле; в исключительном пространстве и вре-
мени праздника воплощается невозможная в обыденной реальнос-
ти мечта. Праздник до предела расширяет метафизическую струк-
туру бытия, пробуждает первозданные силы, дремлющие в повсе-
дневном восприятии реальности. Вселенная раскрывается перед че-
ловеком как зрелищное событие зарождения, как представление о
концах и началах, в котором человеческое взаимодействует с боже-
ственным.
Вот одно из наиболее ярких и концентрированных описаний
иного, праздничного образа жизни, свидетельствующего о стремле-
нии преобразить все и вся. Оно принадлежит Павлу Флоренскому:
"Я приглашаю небо и землю участвовать в моих планах, но не за-
бываю и маленьких людей, которых надо вытащить из боковых
улиц... Это только начало, все время только начало... обнаженные
девушки, как на карнавальных повозках в прекрасных краях, везут
меня спиной вперед вверх по ступенькам, я парю в воздухе... курит-
ся фимиам, опускаются лавровые венки... сбегается толпа простого
313
народа... проделываю на своем возвышении трюк, которым я
много лет тому назад восхищался у человека-змеи... небо пытается
раскрыться... снова воскресаю распрямившимся человеком... из
всех ворот глубоко и широко лежащей подо мною земли вылезают
маленькие рогатые черти... я погружаюсь через шахту, поперечник
которой соответствует моему телу, но тем не менее бесконечно глу-
бокую".
Связь этих метаморфоз в духе снов Раскольникова и "Смешного
человека" с карнавальной традицией подчеркивает следующая за
отрывком запись Флоренского: "Письмо Достоевского к брату о
жизни на каторге"3.
Утопическое сознание сосредоточено на рубеже старого и ново-
го; им особо выделяются категории конечного и начального. Томас
Мор в "Утопии" — книге, содержащей отклик на Колумбово от-
крытие Нового Света и сообщение Америго Веспуччи — выдумы-
вает и описывает начальные и конечные праздники, только их от-
мечают "островитяне".
Реальные майя праздновали завершение одного двадцатилетне-
го периода (катуна) и начало другого, воздвигали в ознаменование
временного рубежа каменные стелы4.
Праздники "перелома" и "перехода" и породившие их годичные
циклы магических обрядов основаны на главной символической
идее Первозданного наследия и его центрального мифа, проникну-
ты архетипической верой в возрождение через уничтожение. Транс-
формационный ритуальный комплекс призван "представить пере-
ход смерти в жизнь, смену старого и нового года, регенерацию из
вчерашнего умирания... в сегодняшнее новое оживление"5. Мир и
личность в единстве космического и исторического целого прохо-
дят циклический ряд изменений: вина — возмездие — искупле-
ние — блаженство. Воспроизводится мифологический и мистерий-
ный сценарий очищения и просветления: смерть, схождение в пре-
исподнюю, Воскресение.
Переживание греха, гибели и возрождения несет в себе "кро-
мешное" карнавальное действо. Карнавал празднует то же содер-
жание, которым полнится юнгова инициация: "историю о только
что взошедшем божественном свете"6 ("принцип Гора") и избавле-
нии человека от первобытной тьмы, о его повторном рождении.
Пробудившееся сознание воссоздает мир заново и тем самым обре-
тает космогоническое достоинство. Аналогичный смысл изъясня-
ет — при ином понимании высшего и низшего — Первозданная
традиция Рене Генона, французского эзотерического мыслителя,
посвятившего одну из своих работ карнавальным культурам.
Для карнавальной традиции незавершенная целостность бытия
основывается на реальности первообразов, безграничной свободе
перевоплощений архетипов в "веселое время". Вольная игра с ними
314
пробуждает их смысловую и формопорождающую неисчерпае-
мость.
Круговращение праздничного времени, магическое повторение
его обрядовой сущности тождественно космогоническому сверше-
нию, в котором обнаруживает себя верховное начало rita. Карл
Густав Юнг дает сумму значений этого понятия: прочный порядок,
устроение, правильный ход, направление, решение, священный
обычай, божеский закон, истина.
Символами наполняющего праздничный возрождающийся rita
является вечное колесо о двенадцати спицах и корабль, позднее
ставшие аллегориями карнавала. Оба символа вовсе не противоре-
чат друг другу как обозначающие прямолинейное и круговое дви-
жение. И неверно на этой мнимой разности основывать противопо-
ставление символики европейского и латиноамериканского карна-
валов, поскольку идея возвращения и круга (хронотопа-колеса) во-
площается именно в символическом пути корабля. Связь "кора-
бельного" символа защиты, укрытия, обереженья, спасения от по-
гибели и небытия с архетипическим комплексом смерти-возрожде-
ния проявляется не только в мире карнавала, но и в погребальных
обрядах, открывающих перед усопшим двери в загробный мир. В
лекции о поэзии Вячеслава Иванова Бахтин обращается к насле-
дию архаической ритуальности: "Был распространен и обряд по-
гребения в лодке, потому что в утробе матери ребенка окружает
внутриутробная жидкость"7. Многозначительно это проницание и
стяжение одним символом двух внешне противоположных реаль-
ностей — праздничного и заупокойного ритуала, единых в своей
"кромешности" ("кромешная", согласно Далю, — не только преис-
подняя, но и крайняя, от слова "крома", означающего грань, край,
рубежную полосу8).
Примечательно, что в новоязе репрессивного иерархического
социума, загнавшего остатки разгромленной карнавальной культу-
ры в глубокое подполье, слово кромешный означало уже тягост-
ный, отчаянный, беспросветный9. С нашей точки зрения, "кромеш-
ность" карнавала столь же важна, как и его "изнаночность" ("на-
оборотность"). Для карнавальной жизни столь же необходимо на-
ходиться на вселенской границе конца-начала, как и превращать
все категории в их противоположность.
Внутренней силе русской мистики преображения, соединяющей
народную почву и вершины культуры, посвящены заметки С.А.Есе-
нина "Ключи Марии". Автор апеллирует к универсальному мифо-
поэтическому наследию Первозданной традиции (Гермес Трисме-
гист, Веды, "Голубиная книга") и проповедует антропокосмизм —
веру человека "от сознания обетающего его храма вечности"10. Ты-
сячелетиями поддерживали и обновляли мистерии, в которых ожи-
вали извечные символы, изначальное исповедание, о котором
315
пишет Есенин, обозначенные Юнгом как архетипы. Это "знаки вы-
ражения духа"11, незримые формы обновления и вознесения, "обра-
зования известного представления"12, которое носит во чреве ми-
фология. Есенин воспринял столь важное для Юнга раннегности-
ческое, укорененное в русском сектанстве истолкование Святого
Духа как Матери, Богородицы. "Ключи Марии" суть буквы в от-
крывающейся книге вечной души, первознаки, позволяющие войти
в искусство космических тайн, в область духа.
Есенин именует образ духа "корабельным". "Корабельный
образ есть уловление в каком-либо предмете, явлении или существе
струения, где заставочный образ плывет, как ладья по воде"13.
Внешне произвольное сопоставление духа и корабля заключает в
себе не только тайный язык сектантов, на котором кораблем назы-
валась духовная община хлыстов, но и глубокое символическое
значение. Корабль символизирует пристанище души в апокалипти-
ческом мире карнавала, в его всепоглощающем и всепорождающем
Чреве.
Вторая часть символического праздничного двуединства, выра-
жающего акт архетипического преображения мира — Колесо.
На границе жизни и смерти смысл этого символа уясняет себе
герой рассказа Х.Л.Борхеса "Письмена Бога". Экстатическое виде-
ние наделяет человека абсолютным знанием и силой: "Я увидел
некое высочайшее колесо; оно было не передо мной, и не позади
меня, и не рядом со мной, а повсюду одновременно. Колесо было
огненным и водяным и, хотя я видел его обод, бесконечным. В нем
сплелось все, что было, есть и будет; я был одной из нитей этой
ткани, а Педро де Альварадо, мой мучитель, — другой. В нем за-
ключались все причины и следствия, и достаточно мне было взгля-
нуть на него, чтобы понять все, всю бесконечность"14.
В человеке рубежа, погружающегося в смерть и пробуждающе-
гося к жизни, постоянно присутствуют, сложно сочетаются, подав-
ляют и искажают друг друга противоположные устремления. Под
влиянием этой сакральной борьбы пороговое "большое время" на-
ходится под угрозой искажения в свой негативный аналог. Празд-
ник и есть средоточие двойственности темпоральной перспективы,
открывающейся водоразделом старого и нового эонов.
В новоевропейской философии знание о страшной, преступной
подоплеке праздника преображения впервые утвердил Фридрих
Ницше в "Веселой науке": "Самое святое и могущественное Суще-
ство, какое только было в мире, истекло кровью под нашими ножа-
ми — кто смоет с нас эту кровь? Какой водой можем мы очистить-
ся? Какие искупительные празднества, какие священные труды
нужно будет придумать? Разве величие этого дела не слишком ве-
лико для нас? Не должны ли мы сами обратиться в богов, чтобы
оказаться достойными его?"15
316
Идея амбивалентности и искупительной подоплеки праздника
как универсального культурного феномена вошла в смыслообра-
зующее ядро психоанализа, родственно связанного с философией
Ницше. В статье "Достоевский и отцеубийство" Зигмунд Фрейд со-
поставляет изначальное празднество с аурой эпилептического при-
падка ("припадка смерти"), являющегося компенсаторным наказа-
нием за чувство торжества и освобождения при известии о гибели
отца. "Такое чередование триумфа и скорби, пиршества и печали
мы видим у братьев праорды, убивших отца, и находим его повто-
рение в церемонии тотемической трапезы".16 Сверхпраздник, по
Фрейду, замещает собой вину за первоначальное сверхпреступле-
ние (всего человечества и отдельного человека), вызванное Эдипо-
вым комплексом, — отцеубийство.
Линию интерпретации продолжил М.М.Бахтин. Он выявил ри-
туальные мотивы, воспроизводящие отцеубийство в структуре кар-
навала. Для русского мыслителя они символизировали в конечном
счете разрушение и поглощение старого времени новым. В концеп-
ции Бахтина амбивалентность празднеств определяется тем, что их
обряд претворяет в освобождающее веселье, в веселую материю
первобытный вселенский ужас, рожденный катастрофичностью
самого времени творения. "Какая-то темная память о кос-
мических переворотах прошлого и какой-то смутный
страх перед грядущими космическими потрясениями
заложены в самом фундаменте человеческой мысли,
слова и образа... Уже в древнейших образах народного творче-
ства находит себе выражение и борьба с этим космическим
страхом, борьба с памятью и предчувствием космичес-
ких потрясений и гибели"17.
Ведущий к катастрофе и гибели хаос, с которым бесстрашно уп-
равляются участники космического ритуала, в карнавальной тра-
диции совмещается с образом Чрева, всепожирающей и всепорож-
дающей утробы, превращается в его содержимое: поглощенную
живоносную пищу, которую предстоит переработать, переварить.
Вместилище зла, скверны становится местом обозрения сил смерти,
местом примирения противоположностей и — как в финале повес-
ти Германа Гессе "Сидхартха", очень близкой по духу и даже "по
букве" концепции Бахтина — этот процесс обретает вселенские,
космические масштабы.
В видении протагониста людские тела переплетаются и слива-
ются в одно целое, возникает атмосфера сгущенности, неразрыв-
ности изобильного потока порождений, в котором старое беремен-
но новым. Игра образом рождающего и пожирающего чрева заме-
нена образом вселенской утробы, космической бездны, откуда
сияет улыбка Сидхартхи. Истина Сидхартхи о нескончаемом кру-
говороте превращений, об амбивалентности всех категорий и взаи-
317
мозаменяемости противоположностей карнавализует реальность.
Материально-телесное выражение этой истины в обрядах, аксессу-
арах, обстановке составляет суть веселого дня карнавала. Большое
время жизненного пути Сидхартхи, сконцентрированное в симуль-
танной картине вселенского бытия, заряжено тем же потенциалом:
радостью всеобщности, безграничностью мгновения, свободой от
догматов, выходом за пределы самости, вольным обращением с
внешней оболочкой судьбы, сменой социальных обличий.
Преодоление ужаса вселенской погибели зачастую носит откро-
венно эротический характер, а сама чревная игра предстает в
форме совокупления, описываемого как космогонический процесс.
Так происходит в соитии мужчины и женщины в "Тропике Козеро-
га" Генри Миллера: "В своем паническом парении она, казалось,
вынашивает целый мир во чреве. Мы продвигались от границ все-
ленной к туманности, которую нельзя было разглядеть ни в один
прибор"18. Герой романа Хулио Кортасара "Игра в классики" Ора-
сио Оливейра превращает в такое космогоническое действо жизнь
тела своей возлюбленной": "...(Пола вздыхала, чуть шевелилась).
Мироздание жидкое, текучее, вызревающее в ночи, плазмы подни-
маются и опускаются, непроницаемо-закрытая, медленная машина
нехотя движется, и вдруг — скрип, стремительный бег почти под
самой кожей, пробежит и забулькает где-то у препятствия или
фильтра: чрево Полы, черное небо с крупными редкими звездами, с
летучими кометами и вращением бесчисленных вопящих планет,
море со своим шепчущим планктоном, шелестящими медузами,
Пола — микрокосм, Пола — итог вселенской ночи в своей малень-
кой ночи, забродившей и вызревающей..."19.
Катастрофическая двойственность праздничного времени, вос-
ходящая к оппозиции божественного/демонического, является ха-
рактерной особенностью карнавализованной поэтики. Хронотоп
карнавала есть хронотоп апокалиптический и космогонический
одновременно. Время и место обновления, перехода от старого к
новому включает в себя время и место умирания, ухода в небытие,
распада и разложения. Эта двойственность праздничного време-
ни — лейтмотив "Волшебной горы" Томаса Манна. Ганс Касторп
осознает особую, буквальную карнавальность жизненной ситуации
обитателей горного санатория. В канун карнавала и совершенно в
духе его традиции Касторп шутит о судьбе тех из них, кто "оконча-
тельно сказали vale своей "плоти"20. Действительно, нет ничего
более близкого к атмосфере карнавального времени, предваряюще-
го отказ от мясной пищи во имя торжества духовного начала над
материальным, чем время пред-смерти, прощания с собственной
плотью, расставания души с телом. И перед этим развоплощением
и переходом в небытие, как и перед великим постом, людям дается
318
последняя возможность ощутить свою телесность, плотскость,
"объесться" скоромным.
Homo feriatus, Человек празднующий и его время — "нарядные
дни календаря"21 (выражение В.В.Розанова") — занимают исклю-
чительное место в литературе, кино, живописи Латинской Амери-
ки. Вкус к празднику и понимание двойственности его временной
перспективы являются сущностной чертой латиноамериканского
мировоззрения. Речь идет не просто о "наплыве" образов праздни-
ка, но о том, что праздничное мировидение, все подчиняющее идее
смены и обновления, становится основой художественного созна-
ния, и карнавализации подвергается поэтика в целом. В этом смыс-
ле Бахтин говорил о "сплошной праздничности "Ревизора"22 —
праздничности, определяемой не ситуацией и фабулой, но характе-
ром образов, смысловой формой всего произведения.
Стихия праздника проявляется и в особой нарядности, изукра-
шенное™ словесного творчества, словно рожденного обрядовым
вышиванием и ткачеством священных одеяний.
То, как выстраивается литературная форма и создается художе-
ственная реальность в творчестве латиноамериканских писателей,
то, что в их универсуме происходит, имеет в основе своей празд-
ничный подтекст.
Время умножается на самое себя, сливая в своем круговороте
опыт минувшего и сужденное содержание грядущего. Одномомент-
ное совмещение голосов ломает линейную структуру повествова-
ния, даже отдельной фразы (как иногда в текстах М.Варгаса
Льосы). Верх и низ, нутро и оболочка, свет и тьма меняются места-
ми. Прочно сцепленные элементы реальности разъединяются и на-
чинают перемещаться, обмениваться формами. Любой предмет
может быть знаком, иероглифом любого другого предмета. Всякая
вещь имеет сходство с некой другой.
Главным орудием Варуны, верховного божества индоевропей-
цев, является "майя" — способность уничтожать, трансформиро-
вать и создавать новые формы и связи, высшая потенция, с помо-
щью которой воплощаются динамичные аспекты rita — мирового
порядка. Эта мощь всесильного существа, справляющего празднич-
ное время космогонии, торжествует не только на карнавале, но и в
художественном мире Х.Л.Борхеса.
Борхес в своих рассказах выстраивает ряд объектов, заключаю-
щих в своей сущности эту божественную силу "майя", побуждаю-
щую первоматерию к постоянной и бесконечной текучести офор-
млений, сочетаний, трансформации. "...Чудо сотворения... повто-
рялось миллионы раз..."23 Обнаруживается книга с непрерывно об-
новляющимися страницами ("Книга песка"). Возрождается из
пепла сожженная роза ("Роза Парацельса"). Алеф и Заир, таинст-
венные объекты, вещи-пространства, заключают в себе всю полно-
319
ту мира. В рассказе "Синие тигры" фигурируют чудесные "самоза-
рождающиеся" камни, наделенные способностью к бесконечным
количественным комбинациям. В конце концов магические предме-
ты возвращаются к своему истинному владельцу — человек подает
их как милостыню божеству, воплотившемуся в образе нищего.
В героях творится новая свобода, они наделяются способностью
к предельным трансформациям и присваивают право на отождест-
вление с другим "я", происходят игры обмена лицами, жизненными
ролями, личностями, судьбами (тема рассказов "Беспардонный
лжец Том Кастро" "Хаким из Мерва, красильщик в маске", "Пьер
Менар", автор "Дон Кихота", "Форма сабли" Хорхе Луиса Борхе-
са, а также "Дальняя", "Ночь на спине лицом кверху", "Аксо-
лотль" Хулио Кортасара).
В финале цикла перерождений и перевоплощений человек обре-
тает себя — другого и одновременно подтверждает свое исконное
внутреннее тождество, равенство со своей истинной сущностью.
В вечной череде волшебных изменений архетипов и символов,
вопреки нарастающим искажениям, нарушениям и неустройствам
возрождается изначальный сокровенный порядок духа.
Единство событий, идеи, приема, художественного слова и об-
раза — такое уникальное единство осуществляется в карнавальной
поэтике пограничной эпохи — поэтике праздничного промежутка
между старым и новым зонами. Синхронность, многоголосье, иг-
ровое начало, сакральность, протеизм всех форм духа и материи
суть атрибуты и категории праздника и поэтики празднеств.
Для художественной литературы Латинской Америки характер-
но мифопоэтическое переживание полноты праздника, собирающе-
го и репрезентирующего бытийные связи. Из огромного "празд-
ничного цикла", явственно присутствующего в латиноамерикан-
ской традиции, нами выбраны отдельные произведения очень непо-
хожих мастеров прозы — Агустина Яньеса, Аугусто Роа Бастоса,
Хорхе Луиса Борхеса и Хосе Лесамы Лимы, которые использовали
полноту идейно-эстетического языка праздника для выражения эс-
хатологической двойственности времени "при дверях", в котором
противоборствуют силы гибели и возрождения.
Одно из лучших среди произведений латиноамериканской лите-
ратуры, запечатлевших архетипическую модель исторического и
духовно-психологического "порога", зачина, праздничного перехо-
да от старой эпохи к новой — роман классика мексиканской лите-
ратуры Агустина Яньеса "Перед грозой". Писатель создал впечат-
ляющий образ "умершего и погребенного" бытия патриархальной
общины, в которой царит жесточайшая духовная регрессия. Като-
лические священники держат свою паству в страхе и повиновении,
со средневековым фанатизмом обеспечивая иллюзорную чистоту
жизни строжайшим сверхконтролем над человеческими помысла-
320
ми, насильственно аскетизируют жизнь селения. Под запретом или
жестко регламентированы все проявления материально-телесного в
человеческом существовании. Парадоксальным образом в числе
средств поддержания репрессивной атмосферы оказываются празд-
ники.
Народная праздничность, связанная с круговоротом умерщвля-
ющегося и возрождающегося природного времени, подменена
праздничностью догматичной и экзальтированной, утверждающей
приоритет конца над началом, смерти над зачатием: "Брачные узы
освящаются на ранних мессах. В потемках... Будто есть в этом что-
то постыдное. Тайное. Бракосочетаниям никогда не присуща тор-
жественность похорон"24.
При помощи праздников, за каждым из которых закрепляются
особые формы богослужения, церковь организует, систематизирует
и "присваивает" само Время, обращаемое в "собственность Бога".
"Два поста тому назад" — так отсчитывают время в селении.
В мире героев романа "Перед грозой" празднуется и даже разы-
грывается прежде всего смерть как сила, освобождающая от гре-
ховного плотского начала. В дни "духовных упражнений", когда
предписано размышлять о светопреставлении и Страшном суде,
для паствы устраивается апокалиптический карнавал с шествием
призраков-скелетов, погребальным ряжением и макабрической бу-
тафорией.
Праздничное обрядовое время родственно мифологическому и
так же организовано, выражается в образе круга и периодически
возобновляет самое себя. Циклизм, порождаемый церковным сче-
том времени по праздникам, — особенность хронотопической
структуры романа Яньеса, восходящей к архаической модели вре-
мени Средневековья, что сохранилась на окраинах западной ци-
вилизации. Средневековое время постоянно повторялось в своей
праздничной мифологически-литургической сущности, было тем
же благодатным и освященным, что и в минувшем году.
Однако на каком-то этапе многовековой круговорот религиоз-
ной праздничности попадает в сумеречную зону и перестает выпол-
нять свое предназначение. Циклизм сакральных событий означает
уже не обновляющуюся устойчивость бытия, но безысходность мо-
нотонной бесконечности, по замкнутому кругу которой совершает-
ся лишенное смысла принудительное движение человека, общины,
страны, мира. В конце концов происходит революционный взрыв,
что приводит к смене праздничной парадигмы.
Метафорическую интерпретацию латиноамериканской само-
бытности Агустин Яньес предложил и в романе "Тощие земли"
(1962), составившем вторую часть "теллурической дилогии". В ос-
нове художественного символизма лежит противоречивое двуедин-
ство патриархального варварства и изначальной сакральности
11 - 5470
321
(прежде всего, амбивалентно праздничной) пространства-времени.
Ключом к расшифровке этого феномена может послужить фраза
одного из персонажей о "брачном союзе неба и земли, определяю-
щем все, от характера людей до урожая"25. "Небесное" соединяется
на празднике жизни с сугубо приземленным, костумбристски-
натуралистическим (что иногда приводит к комическому эффекту).
Романный хронотоп "задан" отождествлением с библейскими
реалиями. Местность именуется Святой землей, расположенные на
ней убогие селения — почти в насмешку — Иерусалимом, Дамас-
ком, Назаретом, Гефсиманией. Один из наиболее развернутых и
экспрессивных пейзажей в романе создан расширением трагическо-
го образа земли, уподобленной распятому "назареянину"26. Крова-
вые лучи восходящего солнца подчеркивают "наготу, безутеш-
ность" земли; кажется, что с нее содрана кожа, что ее плоть —
почва — изъязвлена и иссечена.
Всесильный касик Эпифанио Трухильо, хозяин Святой земли и
ее людей, на которого произвели неизгладимое впечатление биб-
лейские образы "небесных войн, непобедимых наместников божье-
го воинства, огненного меча, поверженного чудовища"27, дает
своему сыну Хакобу Гальо особое праздничное имя Михаил Ар-
хангел.
Вернувшись в родные края после разрыва с отцом и долгих лет
странствий, Хакоб Гальо выражает свои реформаторские намере-
ния и притязания на власть языком древних праздничных пасто-
рел — сцен из Священной истории, наделенных актуальным смыс-
лом. Праздниками отмечены ступени деградации старого правите-
ля и усиления нового.
В День мертвых касик видит сон, предвещающий его скорую
кончину. На границе жизни и смерти продолжает звучать голос
агонизирующего Эпифанио Трухильо, кающегося в преступлениях,
оправдывающегося, повествующего в обращениях ко Всевышнему
о своем греховном прошлом.
Одержав победу в борьбе за Святую землю, Михаил Архангел
устраивает всеобщее торжество. Однако атмосфера его двойствен-
на, как двойственен сам процесс преобразований. В новом, "про-
грессивном" правителе, который вынужден "огнем и мечом" уми-
ротворять родной край, возрождаются архетипы варварства.
Новый порядок грозит оказаться столь же бесчеловечным, как и
побежденное им патриархальное варварство. Добро и зло готовы
возобновить свое противостояние.
Для карнавального мировидения пороговой традиции, сохра-
няющей архетипический сценарий смены старого времени новым, в
высшей степени характерно праздничное отношение к смерти. "В
смерть подобает вступать, как в праздник"28, — писал Борхес. В
творчестве Яньеса на соединении предельных, пороговых тем смер-
322
ти и праздника основан роман "Круговорот времени". 20 октября
1945 года состоялись помпезные похороны Элиаса Кальеса, бывше-
го президента Мексики, одного из наиболее значительных и проти-
воречивых деятелей послереволюционного периода. В книге Янье-
са этот торжественный день наполняется "большим временем" ис-
тории. Происходит интенсивная оценка новых тенденций и пер-
спектив. Однако на первый план выходит функция памяти как
художественного организатора сюжета, определяющего времен-
ную многослойность повествовательного потока. Конец эпохи и
смерть верховного вождя заставляют всех собравшихся на офици-
альную церемонию заново пережить события национального про-
шлого, ставшие их личной судьбой: "священную войну кристерос",
борьбу за нефть, рождение новой элиты, генеральские мятежи, се-
вероамериканскую экспансию. Одному из героев, Дамиану Лимо-
ну, погребение Кальеса кажется комедией, карнавалом, где перепу-
талось все и вся: либералы и консерваторы, порфиристы и револю-
ционеры, нувориши и чиновники — и одновременно долиной Ио-
сафата в день Страшного суда. В романе утверждается характер-
ный для латиноамериканского и в особенности мексиканского на-
родного сознания эсхатологический образ "похоронного карнава-
ла .
В повести "Курупи", принадлежащей перу парагвайца Аугусто
Роа Бастоса, Страстная неделя, дважды повторяющаяся в рамках
повествования, становится временем, когда архетитические образы
получают зловещий смысл, когда пробуждаются хтонические силы
и сталкиваются верования, граничащие с ересью. Мелитон Исайя,
политический комиссар, отправляющий мужчин селения на войну в
Чако и преследующий женщин, получает имя древнего похотливо-
го бога Курупи. "Мнилось, гигантский фаллос языческого бога,
как хвост фантастического ящера, обвивается вокруг холма"29 —
местной Голгофы, где крестьяне воздвигают чудотворное распятие
Христа, в котором будто бы живет колдовская душа создателя ре-
ликвии — прокаженного. Священник вспоминает, как он совершил
почти святотатство — символически обвенчал статуи Спасителя и
Богородицы, чтобы избежать кровопролития между их фанатичны-
ми почитателями. В финале рассказа круг насилия замыкается —
место на кресте занимает труп Исайи, убитого братьями обесче-
щенной им девушки.
Праздник повсеместен и всеобъемлющ, наделен всепроницаю-
щей силой; он никому не отказывает в своей обновляющей и воз-
рождающей силе. В романе Роа Бастоса "Я, Верховный" порого-
вый праздник Волхвов отмечают даже призрачные жители заколдо-
ванной тюремной колонии Тевего, обитающие за гранью челове-
ческого пространства-времени.30 Карнавал врывается в высшую
сферу истории, его участники празднуют не погребенные в про-
II*
323
шлом события, но свершающееся сейчас непосредственное истори-
ческое настоящее. Герой книги Роа Бастоса, пожизненный дикта-
тор Парагвая Хосе Гаспар Родригес де Франсия вспоминает, как в
1810 году на учредительном собрании потаблей ("тряпичных
кукол") он провозглашает — с парой пистолетов в руках в качестве
самых весомых аргументов — конец испанского правления на кон-
тиненте и начало борьбы за независимость. В этот судьбоносный
исторический момент происходит вторжение карнавала: в зал "вне-
запно вбежали: ряженый в костюме клоуна — неподалеку происхо-
дило народное празднество — и два негра, гнавшиеся за ним"31.
Свой поступок Франсия описывает при помощи древнего мифопо-
этического образа Начала: "Я унес с собой яйцо Революции, чтобы
в подходящий момент из него вылупился птенец"32. (Позднее ин-
дейский ведун, вождь племени Нивакле излагает Верховному древ-
нее учение о "яйце" — "душе тела"). Роман Роа Бастоса открывает-
ся пасквилем, извещающим о мнимой смерти Верховного и карна-
вальных похоронах, которые устраивают его политические против-
ники. Сам Франсия активно пользуется карнавальной образнос-
тью, упоминает Рабле, называет враждебную Парагваю Бразилию
"пантагрюэлевской страной".
Всесильный правитель, прошедший путь от освободителя до
узурпатора, погрязшего в трясине иррационального бытия, осозна-
ет свою двойственность, которая превратила его в одну из наибо-
лее причудливых и противоречивых (для заклятых врагов — откро-
венно уродливых, монструозных) фигур латиноамериканской исто-
рии. В духе карнавала доктор Франсия направляет смех на самого
себя и символ своего исторического и психологического своеобра-
зия выбирает в "галерее образов смешанного тела", которые
создало "необузданное гротескное анатомическое фантази-
рование, столь излюбленное в средние века"34. "Мое место заня-
ла химера. Я тяготею к тому, чтобы стать "химерическим", — при-
знается Верховный и отыскивает в словаре точное определение для
себя: "легендарное чудовище с головой льва, туловищем козы и
хвостом дракона"35.
Герой Роа Бастоса сам выражает свою двойственную сущность
и "негативную массу" своего правления в фантасмагорическом
празднестве. Двадцать шесть лет единоличной власти представля-
ются ему бесконечным миражем парада "перед падающими в обмо-
рок шпионами-дипломатами, в котором проходят павшие солдаты
и расстрелянные соратники — "бесконечные когорты темных при-
зраков"36, в которых многочисленность войск достигается за счет
непрерывного движения по кругу.
Праздники обслуживают официальный культ власти, упоря-
дочивают и до бесконечности продлевают ее время. "Конгрессы.
Военные парады. Процессии. Представления. Рыцарские турниры.
324
Негритянские н индейские маскарады. Престольные праздники.
Двойные похороны. Тройные панихиды. Заговоры, частые. Казни,
очень редкие. Апофеозы. Воскресения. Побиение камнями. Ликую-
щие толпы. Всеобщая скорбь (только после моего исчезновения).
Празднества разного порядка. Вот именно порядка — они прохо-
дили в полном порядке. И еще находятся пасквилянты, которые ос-
меливаются представлять пожизненную диктатуру мрачной эпохой
гнета и тирании"37.
Власть и праздник отражаются друг в друге, почти всегда вовле-
кая в свое двуединство смерть и рождение нового мира, порядка,
человека. Наиболее значительные латиноамериканские романы,
посвященные феномену Абсолютной Власти, — "Сеньор Прези-
дент" Мигеля Анхеля Астуриаса, "Педро Парамо" Хуана Рульфо,
"Круговорот времен" Агустина Яньеса, "Смерть Артемио Круса"
Карлоса Фуэнтеса, "Я, Верховный" Аугусто Роа Бастоса, "Осень
патриарха" Габриэля Гарсиа Маркеса — включают в свою струк-
туру образ Праздника и восходят к древнему жанру прения о душе
человека, о мере добра и зла в его земных деяниях — мистического
праздничного представления, разыгрываемого в сознании его
участников и зрителей на пороге загробного бытия.
Как писал Ж.Дюмезиль, "уничтожения и возрождения мира...
переплетаются с теологией Верховности"38. Тема обожествленной
власти и ее амбивалентных празднеств связана с крайними точками
истории — с началом и концом, с карнавалом-космогонией и кар-
навалом-апокалипсисом. В этом аспекте показательна цитата, ко-
торую выбирает (быть может, выдумывает) Борхес из немецкого
перевода "Тысячи и одной ночи": "О благородном царе он твер-
дит: "Огонь, горящий для его гостей, вызывает в памяти картины
Ада, а роса из его добрых рук напоминает Потоп"39.
В рассказе Борхеса "Человек на пороге" (к метапоэтике рубежа
относит уже само название) праздник первоначально занимает
место где-то на окраине повествования. "В последнем дворе справ-
ляли какой-то мусульманский праздник; прошел слепой, держа
лютню из красного дерева"40. "Здесь рассказ перебили несколько
человек, возвращавшихся с празднества"41. Кажется, что все это не
имеет прямого отношения к сюжету. Однако в финале мы понима-
ем: то, что в слове древнего рассказчика излагалось как воспомина-
ние о прошлом событии, на самом деле суть перипетии празднич-
ного настоящего. Похищение неправедного правителя, тайный суд
над ним (судьей выбран сумасшедший) и казнь осужденного — это
и есть великий многодневный праздник "в аду или на небе", шум
которого мешает рассказчику. "Бормоча и распевая, толпа мужчин
и женщин всех национальностей Пенджаба прокатилась через нас и
чуть не увлекла за собою: мне показалось удивительным, что из
таких тесных, ненамного просторнее подъезда, двориков, может
325
появиться столько народу"42. В центре безграничного празднично-
го пространства Борхес помещает мистагога-палача — "обнажен-
ного человека в венке из желтых цветов, держащего в руке саблю,
которого все приветствовали и целовали. Сабля была в крови, по-
тому что ею был убит Гленкэрн, чей изуродованный труп я обнару-
жил в конюшне в глубине двора"43. Празднуется вовсе не расправа
над угнетателем, но свершившаяся иррациональная справедли-
вость, высшее священное воздаяние.
Мотив дурного праздника повторяется в языке метафор. Воз-
любленные в рассказе Борхеса "Конгресс", расставаясь накануне
Рождества, отказываются от прощанья, поскольку считают его
"высокомерным, бессмысленным празднеством несчастья"44.
Мир в состоянии изменения, на стыке временных циклов —
опасный, священный и праздничный. Мир вновь создается, когда
на границе эпох в нем воплощается личность Бога. Это централь-
ное таинство мистериального комплекса Достоевского. Однако акт
богообновления может пострадать от негативной двойственнос-
ти — исказиться и обернуться ложным пришествием. Чтобы пред-
упредить об этой угрозе, Борхесу хватило полутора страниц —
таков объем его рассказа "Рагнарек".
"Рагнарек" написан в характерной для Борхеса форме сновид-
ческой фантазии. Во втором из "Семи вечеров" он настойчиво при-
глашает: "Давайте окажемся внутри кошмара, среди кошмаров"45.
Описывается повторное пришествие древних богов, их "демонстра-
ция или празднество". Люди ликуют, приветствуя возвращение бо-
жеств из векового изгнания. Однако сразу проясняется зловещая
метаморфоза, непоправимое искажение сакрального начала: "Боги
не умеют говорить. Столетия дикой и кочевой жизни истребили в
них все человеческое... Скошенные лбы, желтизна зубов, жидкие
усы мулатов или китайцев говорили об оскудении олимпийской по-
роды... Мы поняли, что идет их последняя карта, что они хитры,
слепы и жестоки, как матерые звери в облаве, и — дай мы волю
страху или состраданию — они нас уничтожат"46. Праздничное бо-
гопришествие грозит обернуться апокалипсисом, гибелью мира и
человеческого племени. Людям не остается ничего иного, как при-
кончить таких Богов.
В мистическом эссе "Сквозь призму поэзии" Хосе Лесама Лима
использует извечную амбивалентность празднеств, чтобы метафо-
рически обрисовать эсхатологическую альтернативу, возможность
двух вариантов вселенского исхода: "В судный день люди, вкусив
вина, которое не пьянит, и меду, который не насыщает, увидят бе-
ременных женщин, павших от ножа, а в святом Иерусалиме приго-
товят большой пир, чтобы отпраздновать уничтожение рода чело-
веческого, но на пиру этом будут лишь лесные твари, лишь дикие
звери. Если не ждать воскресения, не будет и полноты существова-
326
ния человеческого, ибо лесные твари в своей невинности станут
выше, чем человек, прозябающий в первородном грехе"47.
Одним из важнейших аспектов праздничной поэтики рубежа яв-
ляется карнавализованная сакральность, принимающая в празд-
ничной культуре Латинской Америки особенно причудливые, тяго-
теющие к первобытной основе формы. Только в контексте космо-
гонического празднества, позволяющего и даже требующего преоб-
разить хаос, может быть осмыслена и оправдана рискованная (если
не кощунственная) игра Борхеса с сакральным материалом, воскре-
шение им древнего еретического, гностического наследия. Во вся-
ком случае, такие рассказы Борхеса, как "Три версии предательст-
ва Иуды", "Евангелие от Марка", "Богословы" или "Секта тридца-
ти", намного превосходят нашумевший фильм Мартина Скорсезе
"Последнее искушение Христа" в смелости и откровенности кон-
такта с духовным миром религиозных изгоев и отщепенцев, кото-
рый на протяжении столетий пребывал, "обреченный на удел от-
бросов и мерзостей"48.
Праздник делает всех причастными тому, что утаено от повсе-
дневности и в обыденном мире принадлежит лишь посвященным.
Х.Л. Борхес называл эту традицию, раскрывающуюся и торжест-
вующую в праздничном ритуале, "магической культурой"49. Празд-
ник есть взрыв сакральности и чудодейства. Глубинное соответст-
вие этих сил пороговому времени праздника лежит в основе "маги-
ческого реализма" латиноамериканской литературы.
Власть праздника в латиноамериканской реальности, в художе-
ственной культуре континента не только является ответом на бес-
прецедентную "событийность" рождения Нового Света в результа-
те Колумбова подвига, Конкисты и Индепенденсии (а дух События
требует воплощения в Празднике), но и зиждется на могуществе
древней магической традиции, обретшей в результате синтеза, на-
ложения нескольких этнических вариантов особую жизнестой-
кость.
Праздник выплескивает в мир колоссальный потенциал архаи-
ческого сознания, именно в Латинской Америке (как свидетельст-
вует, например, Умберто Эко в главе IV "Хесед" романа "Маятник
Фуко") сохранившего полноту миротворческой способности и
силы чудесного преображения действительности.
Амбивалентность рождения и умирания в карнавальной культу-
ре представляет собой народную форму мистического обновления
через цепь смертей и воскресений. Сущность мистерий — в приоб-
щении к сакральному опыту преображения. Человек и мир движут-
ся по бесконечной спирали, увядают, гибнут и возрождаются к
новой жизни. Инициационный ритуал содержит в себе механизм
реактуализации первозданных пластов души, первомомента психи-
ки, означающего переход к сознанию от бессознательного. Празд-
327
ничный контакт с бессознательным означает "пороговый" толчок
вперед, открывающий новую реальность, либо ведущий к ката-
строфе. Народы Латинской Америки в лоне своей праздничной по-
роговой культуры, в лоне карнавальной традиции хранят это маги-
ческое наследие изначальной душевной жизни.
На празднестве Слово и Дух, пребывающий в подпороговом со-
стоянии в области бессознательного, встречаются с Плотью и Ма-
терией, воплощаясь в обновленный, вновь рожденный Мир и испы-
тывая на себе все превратности такого творящего, космогоническо-
го события.
Воссоединение слова и праздника положено в основу учения
М.М.Бахтина. "Истоки речевой жизни (хвала-брань)50" и ее худо-
жественного оформления пробиваются в праздничном хронотопе.
"Речевые субъекты высоких, вещающих жанров — жрецы, проро-
ки, проповедники, судьи, вожди, патриархальные отцы и т.п. —
ушли из жизни. Всех их заменил писатель, просто писатель, кото-
рый стал наследником их стилей. ...Ему еще нужно выработать
свой стиль, стиль писателя. Для аэда, рапсода, трагика (жреца Ди-
ониса), даже для придворного поэта нового времени эта проблема
не существовала. Была им дана и ситуация: праздники разного
рода, культы, пиры. Даже предроманное слово имело ситуацию —
праздники карнавального типа"51. Таким образом, писатель насле-
дует древним творцам праздника, берет на себя миссию — выра-
зить его дух, возродить метаязык "порога" старого и нового време-
ни, воссоздать особую культуру смеха, недогматической святос-
ти, всенародности, полифонии, свободы и открытости.
"Праздник всегда изначален и безначален"52, — пишет Бахтин.
Праздник актуализировал знаки и символы сверхсущего, таящиеся
под покровом низшей реальности. Тем самым языковая жизнь по-
буждалась к выходу за границы предустановленного и обыденного.
Из праздничного многообразия людской речи и магического по-
тенциала "священнословия" (заклинания, ворожбы, проклятья,
хвалы и хулы, благодаренья, молитвы) возникала художествен-
ность слова, позволяющая его Мастеру создавать свою собствен-
ную "вторую реальность". В наше время праздничность первона-
чал словесного творчества, восходящая к зону магов, жрецов, вож-
дей и пророков, с наибольшей полнотой и силой явлена в литерату-
ре Латинской Америки.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Гумилев Н. С. Собр. соч. в 4-х тт. М, 1991. Т. 1. С. 274.
2 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура сре-
дневековья и Ренессанса. М, 1990. С. 303.
328
3 Флоренский П.А. Детям моим. Воспоминания прошлых дней. М.,
1992. С. 514-515.
4 Кинжалов Р.В. Искусство древних майя. Л., 1968. С. 188-189.
5 Фрейденберг О.М. Терсит / Яфетический сборник. Л., 1930. VI. С. 233.
6 Юнг КГ. Дух и жизнь. М., 1996. С. 280.
7 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 381.
8 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1989.
Т. 2. С. 197, 198.
9 Толковый словарь русского языка. Под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1935.
С.1524.
10 Есенин С.А. Собр. соч. в 3-х тт. М, 1970. Т. 3. С. 154.
11 Там же. С. 141.
12Тамже. С. 143.
13 Там же. С. 148.
14 Борхес X.Л. Сочинения в 3-х тт. Рига. 1994. Т. 1.С. 461.
15 Ницше Ф. Сочинения в 2-х тт. М., 1990. Т. 1.С. 593.
16 Фрейд 3. "Я" и "Оно". Тбилиси. 1991. Т. 2. С. 418.
17 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура сре-
дневековья и Ренессанса. М., 1990. С. 371.
18 Миллер Г. Избранное. Вильнюс-М., 1995. С. 211.
19 Кортасар X. Собрание сочинений в 4-х тт. Санкт-Петербург, 1992.
С. 447-448.
20 Манн Т. Волшебная гора. М.-СПб., 1994. Т. 1. С. 379.
21 Розанов В.В. Около церковных стен. М., 1995. С. 396.
11 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 359.
23 Борхес Х.Л. Указ. соч. Т. 2. С. 98.
24ЯньесА. Перед грозой. М., 1983. С. 21.
25 Yónez A. La tierra pròdiga. Las tierras flacas. Mexico. 1979. P. 192.
26 Ibid. P. 339.
27 Ibid. P. 230.
28 Борхес Х.Л. Указ. соч. Т. 2. С. 454.
29 Роа Бастос А. Курупи. Латиноамериканская повесть. В 2-х тт. М.,
1989. Т. 1.С. 276.
30 Роа Бастос А. Я, Верховный. М., 1980. С. 37.
31 Там же. С. 127.
32 Там же. С. 127.
33 Там же. С. 213.
34 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура сре-
дневековья и Ренессанса. М., 1990. С. 382.
35 Роа Бастос А. Я, Верховный. М, 1980. С. 26.
36 Там же. С. 304.
37 Там же. С. 301.
38 Дюмезилъ Ж. Верховные боги индоевропейцев. М., 1986. С. 154.
39 Борхес Х.Л. Указ. соч. Т. 1. С. 212.
40 Там же. С. 475.
4,Там же. С. 477.
42 Там же. С. 478.
329
43 Там же.
44 Борхес Х.Л. Указ. соч. Т. 2. С. 331.
45 Борхес Х.Л. Указ. соч. Т. 3. С. 334.
46 Борхес Х.Л. Указ. соч. Т. 2. С. 187-188.
47 Лесама Лима X. Избранные произведения. Стихи. Эссе. М., 1988.
С. 354.
48 Борхес Х.Л. Указ. соч. Т. 3. С. 136.
49 Там же. С. 384.
50 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 359.
51 Там же. С. 336.
52 Там же. С. 339.
Ю.Н.Гирин
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ КАРНАВАЛ
И ПРОБЛЕМА ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
В контексте заявленной проблематики полагаю нелишним обра-
титься к той простой идее, что карнавал как всякий праздник, явля-
ется прежде всего обрядом, причем обрядом чрезвычайно архаич-
ным; он строится из множества действий, жестов, процедур, кото-
рые носят глубоко символичный сакральный характер. Преслову-
тое карнавальное "антиповедение" также носит строго этикетный
характер, имеющее целью не ослабление социальной нормы, а на-
против — утверждение культуросозидающей, упорядочивающей
аксиологии. Всякий праздник, несмотря на кажущуюся хаотич-
ность и непонятность или забытость — подчас для самих его участ-
ников — смысла обрядовых действий, всегда строго структуриро-
ван. И иначе быть не может, коль скоро праздник воспроизводит
модель мира, в котором идентифицирует себя определенный соци-
ум. Вообще же любой праздник, по М.Элиаде, является ритуалом,
моделирующим акт первотворения. Кроме того, праздник — это
еще и игровое действо, а игра всегда означает моделирование, ор-
ганизацию будущего, активное отношение ко времени и судьбе.
Соответственно, потрясающее обилие праздников в Латинской
Америке и их особая семантичность, видимо, и связаны с неоконча-
тельной сформированностью этого культурного мира — в ритуа-
лах праздников общество "достраивает", утверждает собственную
идентичность. Поэтому типично латиноамериканское празднество,
чаще всего облекающее себя в форму карнавала, — это не столько
праздник в его традиционном понимании формы всеобщего весе-
лья1, сколько действо, обряд, литургия, способ и возможность реа-
лизации общественных упований. Не случайно О.Пас отмечал по
330
этому поводу: "На празднике общество приобщается к самому
себе"2. Итак, латиноамериканский праздник — это специфическая
форма "ритуала перехода", который обеспечивает, по Ван Геннепу,
самоопределение в культурном пространстве субъекта, пребываю-
щего в пороговом или "лиминальном" состоянии. По этой же при-
чине в давно сложившихся культурах западноевропейской ойкуме-
ны — принадлежащих, по В. Тэрнеру, "статусной системе",— ин-
ституционализированное™ праздников подразумевает несравнен-
но более умеренные и спокойные формы их переживания. Но и в
Старом Свете не всякая культура обладает полнотой самоидентич-
ности. В таких случаях праздник позволяет обществу ориентиро-
ваться на собственный идеальный образ, "подтягиваться" к утопи-
ческому образцу. Причем, "под 'утопией' следует подразумевать
воссоздание в празднике некой идеальной реальности или образца
для возводимого людьми в этом реальном мире космоса"3. Это от-
носится прежде всего к Латинской Америке но также и к России,
которая является культурой "пограничного" типа и имманентно
лишена структурной целостности, "статусности".
Может быть этим и объясняется невероятный всплеск празднич-
но-карнавальной стихии в первые годы советской власти, о чем
наша история основательно забыла. Между тем, как уже отмеча-
лось, праздничное массовое действо 20-х годов ассоциировалось с
"представлением об идеальном общественном устройстве"4. По
этому же поводу другой исследователь писал: "В ходе праздника
каждый получает возможность силой воображения перенестись в
царство свободы и осуществления идеалов"5. Эти грандиозные мас-
совые инсценировки, спектакли-памятники (С.Радлов), театрализо-
ванные агитшествия возбужденных и смутных 20-х годов носили
безусловно мистериальный характер, выражая "рождение нового
мира из хаоса" (В.Керженцев). Праздник и карнавал воспринима-
лись массой как жизнетворческая форма строительства нового об-
щества, но, оказавшись инструментом власти, очень скоро потеря-
ли стихийность и непосредственность массового порыва. (Что,
кстати, наблюдается и в современности некоторых стран Латин-
ской Америки). Тем не менее никогда в России не появлялось тако-
го количества статей, всякого рода публикаций, заметок, откликов,
официальных документов, исследований, книг по празднично-кар-
навальной тематике, как в 20-30-е годы. И, конечно, трудно не
предположить, что ставшая мировой классикой книга М.Бахтина,
созданная на излете этого этапа и ставшая его кульминацией, яви-
лась и его итогом, впитавшим в себя атмосферу и токи своего вре-
мени. Сам автор карнавальной концепции изначально заявлял: "ге-
роем моей монографии является не Рабле, а эти народные, празд-
нично-гротескные формы", соответствующие стихии народного
самоутверждения6.
331
Опыт же латиноамериканской культуры, ее праздничных тради-
ций требует отдельного внимательного прочтения. В своей яркой
книге об испанском театре В.Силюнас убедительно рассмотрел зна-
чимость праздника для культуры Испании7. Но для латиноамери-
канской культуры феномен праздника не просто специфичен — он
раскрывает ее сущностную, онтологическую основу. И.Кряжева со-
вершенно справедливо отмечает: "Европейцу трудно представить
себе ту огромную социально-культурную роль, которую играли" в
Латинской Америке различные виды многочасовых карнавально-
праздничных шествий. "Для латиноамериканца — пишет она,—
музыка и песня, песня и танец — это... неотъемлемый атрибут его
социального самоутверждения, это своеобразная призма, через ко-
торую воспринимается и оценивается окружающий мир"8. Но как
же все-таки пресловутая "латиноамериканскость" проявляется в
празднике, каким образом дух являет себя через форму?
Очевидно, что наиболее репрезентативной, можно сказать, па-
радигматичной формой латиноамериканского праздника, будет яв-
ляться карнавал, причем карнавал прежде всего бразильский и ско-
рее всего его кариокский вариант, т.е. проводящийся в Рио-де-Жа-
нейро. Именно кариокский карнавал представляется латиноамери-
канским праздником по преимуществу, и мы вправе в данном кон-
тексте рассматривать эти два понятия как взаимосоотносимые,
сходные по смежности явления. Собственно говоря, карнавалов во
всем мире проводится великое множество: от Нью-Орлеана до Ав-
стралии. При этом культура большинства мировых карнавалов (за
исключением, естественно, венецианского) почему-то ориентирова-
на на бразильскую парадигму. Так, почти во всех северных странах
Европы (от Дании, Финляндии и Швеции вплоть до Австрии со
Швейцарией), а также во Франции, Израиле, Канаде, не говоря уже
об Испании с Португалией и многих других странах карнавалы
проводятся по бразильскому сценарию, развиваются национальные
школы самбы, демонстрируемые во время карнавалов. Это удиви-
тельнейшее обстоятельство объясняется помимо соображений
моды в первую очередь самими ритмико-музыкальными особеннос-
тями самбы, кодифицирующими наиболее глубокие слои архаично-
го мироотношения, что, собственно, и сообщающает бразильскому
карнавалу характер ритуального действа, о чем будет сказано
ниже.
Мне не довелось наблюдать это примечательное зрелище во-
очию, поэтому мои рассуждения будут по необходимости носить
умозрительный характер. На мой взгляд, для понимания феномена
латиноамериканского карнавала существенно в первую очередь ус-
тановить различие между двумя его аспектами: а) площадно-игро-
вым гротескно-смеховым началом и б) ритуально-партиципатив-
ной его функцией. Бахтин рассматривал в основном первый, пре-
332
имущественно эмпирический аспект карнавального действа но со-
общал ему онтологический смысл второго. Между тем они во
многом противоположны друг другу. Первый элемент направлен
на инверсию, переворачивание сложившейся картины мира, систе-
мы ценностей. Второй же, напротив, имеет своей целью сакрализа-
цию, абсолютизацию некоей системы ценностей (реальной или ги-
потетической — это вопрос другой). Подобного рода инициацион-
ный ритуал может быть совершенно лишен гротескно-смехового
начала, поскольку праздник в сущности сакрален, он противополо-
жен развлечению, досугу как чужеродным формам культуры. Но
это в принципе; на практике элементы того и другого могут совпа-
дать. Важно лишь дифференцировать эти аспекты и определить их
приоритетность.
Вообще бразильский карнавал отличается от европейского по
многим параметрам. Во-первых он не является сугубо календарным
празднеством, посвященным "проводам Зимы и встрече Лета"
(А.Афанасьев) и не обязательно связан с Великим постом. Собст-
венно говоря, карнавал в Бразилии проводится — то здесь то
там — в течение всего года. Во-вторых, он вырос в совершенно
самостоятельный общенациональный культ действительно параре-
лигиозного типа и даже оброс своими институциями. В третьих, в
отличие от самой изначальной идеи карнавала — вносить времен-
ный хаос в упорядоченную картину мира — бразильский карнавал,
как это ни парадоксально, оказывается носителем невероятной эти-
кетности, нормативности, каноничности, структурированности и
даже дисциплины. Поясню: всякое ритуальное переворачивание
смысла (король — шут и т.д.) в европейской картине мира не заде-
вает самое структуру общей целостности бытия, а вот в Латинской
Америке, где своей целостности нет, происходит не переворачива-
ние мира, не инвертирование его структуры, а обыначивание неус-
тойчивой, "недостоверной" данности с целью выстраивания "долж-
ного" образа мира.
Еще одно различие: если европейский карнавал направлен на
обновление процессов жизненного цикла путем изгнания "чужого"
"иного" и на укрепление границы между "своим" и "чужим"
миром — "таковы все карнавальные символы: они всегда включа-
ют в себя перспективу отрицания (смерти) или наоборот"9, — то
латиноамериканский (бразильский) его аналог ориентирован на
смешение своего и чужого с ритуальным преступанием границы во
имя утверждения иной альтернативной модели бытия. Ибо устрем-
ленность к горизонту утопии и составляет онтологический смысл
бразильского карнавала и всей латиноамериканской культуры.
Сакральным центром этой космогонической мистерии является,
конечно, карроса — реликт древнекультовой "морской колесницы"
carrus navalis, давшей название самому карнавалу. Эта карроса есть
333
не что иное как священная ладья на колесах, предназначение кото-
рой — служить медиатором между мирами. Семантическая насы-
щенность этой воплощенной мифологемы поистине безмерна10. Ее
сакральный смысл уходит своими корнями в глубины тысячеле-
тий11. Как показала в своих исследованиях О.М.Фрейденберг, "ко-
лесный корабль" в общем смысле является святилищем, одновре-
менно выступающем в качестве храма, театра и — как известно —
мирового древа, то есть представляет собой космогоническую ме-
тафору.
Вообще в латиноамериканской культуре с ее утопико-эсхатоло-
гической ориентированностью роль повозки, телеги имела поисти-
не культурообразующее значение (конечно, сыграла свою роль, так
сказать, бесколесность предлежащего европейской экспансии ланд-
шафта). Как бы то ни было, но бронзовый памятник телеге в Мон-
тевидео имеет совершенно знаковый характер для новообразован-
ной цивилизации. Особенно значимой была роль повозки, как о
том пишет культурфилософ Херман Арсиньегас, в формировании
бразильского социума. Что касается мифообраза корабля, модели-
рующего культурное сознание постколумбовой Америки, то этот
аспект я однажды уже рассматривал12, поэтому углубляться в его
рассмотрение не стану. Стоит лишь отметить, что косвенное под-
тверждение ритуальной семантики "корабля" в карнавальной куль-
туре дает не кто иной как сам М.Бахтин, числивший его как один
из хронотопов, актуальных для эпох "разложения национального
предания"13, т.е. разрушения идеи античного космоса и целостнос-
ти самосознания. Но коль скоро латиноамериканский карнавал
функционирует в режиме именно отсутствия целостности самосо-
знания, то логично сделать вывод о том, что весь его концептуаль-
ный инструментарий и служит средством обретения такового.
Кстати, в художественных произведениях латиноамериканских пи-
сателей образ корабля также выступает в качестве средства само-
идентификации персонажей. "Каждому предоставлена здесь воз-
можность встретиться с самим собой", удачно заметил Л.Осповат
по поводу романа "Выигрыши" Х.Кортасара14, действие которого
происходит на борту корабля.
В своей чрезвычайно информативной статье Л.Тананаева ста-
вит под сомнение специфичность функции корабля-колесницы как
средства выражения именно латиноамериканского утопизма15. Она
говорит о "привычности символа корабля-колесницы" европейско-
му мышлению и о "его практически неисчерпаемых возможностях,
ибо он вобрал в себя целый мир идей, светских и духовных: идею
триумфа, равного римским триумфам; церковного, вернее, христи-
анского порыва к небесам; идею империи, преодолевшей на Земле
все преграды, сломившей сопротивление Геркулесовых столбов и
неизведанных морей" и т.д. Но именно эта, наглядно развернутая
334
Тананаевой аргументация, подкрепленная акцентируемой в ее ста-
тье идеей о глубокой интегрированности образа корабля-колесни-
цы в любой праздник, в праздник как таковой, как раз и подтверж-
дает его значимость в структуре праздника латиноамериканской
Утопии, требующего от своего центрального символа открытой,
разомкнутой семантичности. Я бы только добавил, что дело тут не
в христианско-европейских "триумфах", а в чрезвычайной архаич-
ности мифологемы корабля, который, как описывает А.Афанасьев,
использовался на масленицу и в Сибири, причем размещался, соот-
ветственно, на санях и нагружался ряжеными медведями16.
Все указанные символические коннотации предопределили
грамматику и семантику бразильского карнавала, ярко выражен-
ная телесная жестуальность которого представляет собой особую
знаковую систему, кодифицирующую основные смыслы уже сугубо
латиноамериканской онтологии. Сама его физическая морфология,
отличающаяся поступательно-колебательным ритмическим про-
движением (а именно ритмическое начало привнесла полиэтничес-
кая Латиноамерика в импортированный пресноватый оригинал) и
подчеркнутым, маркированным эротизмом (вечносозидающим
Эросом), воспроизводит архетипику "пренатального плана", кос-
могоническое действо "собственного зачатия" и "нового рожде-
ния"17. С другой стороны, как замечает О.М. Фрейденберг, театр-
повозка в мифосознании есть место пребывания божества женского
рода (великой богини), что и объясняет "фаллическую сторону пло-
дородия и связанную с ней обсценность" ритуала18. Вот эти архаи-
ческие смыслы и всплывают в латиноамериканском карнавале, ак-
туализирующем как раз тот слой мифогенных представлений, кото-
рый в европейском карнавале практически уже стерт, ушел в куль-
турный палимпсест.
Естественно, что происходит это не путем установления верти-
кальной иерархии: как пишет Э.Канетти, исследовавший механиз-
мы массификации сознания, в ритуальном танце, обретающем выс-
шую степень ритмического совершенства, участвующие достигают
состояния массы "необычайно разветвленого равенства"19. То есть
автономным субъектом такого танца (самбы) может быть даже не
сам человек, а его рука, нога или палец, а одновременно — и весь
коллектив, ибо если жест понимается как "внутренний образ
тела"20, то коллективная жестуальность выражает образ коллектив-
ного же тела. Здесь необходимо сделать оговорку: в среде, истори-
чески лишенной понятия массового тела, таковое только и может
возникнуть в момент ритуального единения, вернее, последнее для
того и требуется, чтобы возникло символическое "тело народа".
Но если это и тело, то тело гротескное, становящееся, т. е. лишен-
ное собственно телесной замкнутости и целостности21. Этот фено-
мен может быть описан в иных терминах, но с удержанием прежней
335
смысловой сути: «Психологически массовое танцевальное действо
способствовало формированию "коллективного разума" как едино-
го целостного организма. Синхронные ритмодвижения организуют
и создают особое психическое пространство»22. Или иначе: «Вовле-
чение "естественного существа" в ритуальную реальность осущест-
вляется через многократное и регулярное в нем участие. То, что
вначале казалось бессмысленным, в какой-то момент создает внут-
реннее напряжение и ощущение значимости, которое здесь равно-
значно переживанию реальности»22*.
Вот в этом и состоит манящая притягательность бразильского
карнавала для далеких европейских стран, в которых собственно
религиозная, институционализированная традиция Масленицы по-
теряла свою ритуальную, магическую значимость. «Вся западная
институция "карнавала" на том и основана, что смеются, когда —
"можно", точнее, когда самое "нельзя" в силу особого формализо-
ванного разрешения на время обращается в "можно" — с такого-то
по такое-то число»24, писал С.С.Аверинцев, дифференцируя основу
русского и западноевропейского мироотношения. Очевидно, что
структурно стабилизированный западный мир потерял подпитку
для своей структурированности в виде живой стихийности, обеспе-
чиваемой приобщением к извечным, архаичным ритуалам сотворе-
ния мира. Вот откуда странное, казалось бы, пристрастие совре-
менного "цивилизованного" мира к безудержно оргиастическим
ритмам бразильского карнавала, породившего глагол sambar —
танцевать самбу. И чем более ритмизировано обрядовое действо,
тем большее значение приобретает агент его физического исполне-
ния, носитель магического смысла — этот феномен "создания ре-
альной метафизики" интересно исследовал еще А.Арто.
Конечно бразильский/латиноамериканский карнавал воспроиз-
водит универсальную архетипику, но все дело в том, как он ее вос-
производит, в каком модусе трактует. В латиноамериканском кар-
навале превалирует главный смысл праздника как действа, как
мистерии — быть обрядом коллективного сопричащения, подразу-
мевающем "переживание целостности бытия"25. Но так как лати-
ноамериканский мир лишен самородной целостности, то этот ини-
циационный по сути дела обряд подразумевает символическое ут-
верждение взыскуемого — инобытийного — мира. Вот почему лати-
ноамериканский исследователь утверждает (и это совершенно ти-
пичное высказывание): "Утопия — не просто бегство от реальности
или нечто невозможное. Она — горизонт, о котором всегда мечта-
ют, который всегда виден на дальнем плане; точка к которой уст-
ремлены все творческие усилия народа и которая таким образом
превращается в подлинный центр, придающий динамику его дейст-
виям"26.
336
Весьма характерно, что бразильский карнавал, при всей его
внешней оргиастичности, чрезвычайно жестко организован и
структурирован, причем в последние годы он проявил явную тен-
денцию к парадной формализованности за счет сворачивания сти-
хийного "уличного карнавала", который, однако, все равно проса-
чивается сквозь официально установленные барьеры и действи-
тельно реализует принцип "необычайно разветвленного равенст-
ва". В официальных рамках каждой школе самбы выделено свое
время, вся процессия подлежит строгому хронометражу, для чего
устанавливаются специальные устройства. Детальная программа
карнавала расписана, оговорена и официально утверждена задолго
наперед. Но, обладая всеми внешними атрибутами парада, дефиле,
принципиально разграничивающего зрителей и участников, карна-
вал все же функционально представляет собой форму развернутого
хоровода, ориентированного на сакральный центр и делающего
всех присутствующих соучастниками единого сакрального чувства.
Подобная трансформация — и актуализация— архаического
ритуала обязана, прежде всего, историческим сдвигам, произошед-
шим в мире начиная с 20-х гг. XX в. и вовлекшим в свою орбиту
периферийные тогда страны Латинской Америки. Именно к этому
этапу относится возникновение бразильского карнавала в его со-
временном виде. В конце 20-х гг. в мировой культуре возникает фе-
номен целеориентированного массового сознания, принципиально
отличающегося от размытых реликтов коллективного бессозна-
тельного, определявшего ранние этапы человеческого бытия.
«Можно, наверное, говорить об изменении доминирующей в куль-
туре модели восприятия времени. Если время, в котором существо-
вал русский крестьянин, определялось природными циклами и
главным для этого крестьянина был непосредственный ситуацион-
ный контекст, окружавшее его "сегодня", то такие понятия как
"коммунизм", "мировой пролетариат", "победа мировой револю-
ции" соответствовали не циклической модели времени, а линейно-
прогрессивной, более того, модели с отчетливо выраженной эсха-
тологией»27. В этот исторически обусловленный типологический
ряд доминирующих в обществе "сверхидей" встраивается и бра-
зильская карнавальная версия движения навстречу Великой Уто-
пии28. В Латинской Америке на эту пору пришлось повсеместное
пробуждение национально-патриотических сил и радикально ори-
ентированных прогрессистских движений.
Случайно ли, что именно к 20-м годам аргентинское националь-
ное сознание обретает себя в такой форме праздничного ритуала,
как танго с его ощутимой теллурической доминантой, которое на-
всегда сделалось эмблемой целой нации. В Мексике в эту же эпоху
возникает — с легкой руки Посады, конечно, — культ веселящихся
скелетов (травестия европейского danse macabre), празднуемый в
12- 5470
337
официально учрежденный церковью День упокоенных христиан
{Los Fieles Difuntos). Это происходит 2 ноября, непосредственно
после Дня всех святых, отмечаемого 1 ноября. Только вот с Мекси-
кой все обстоит не так просто. Мексиканец стал идентицифициро-
вать себя (иначе бы никакая художническая гениальность не помог-
ла) с легкомысленным образом ухмыляющегося скелетика после
того и потому именно, что оказался исторически изжитым и ском-
прометированным образ перепоясанного пулеметными лентами ре-
волюционера. А без самоидентификационной мифологемы общест-
во — тем более, лишенное структурного центра — жить не может.
И ернический, как будто насмешливый, а на самом деле пугающий
— и одновременно отпугивающий страх — образ пришелся как
нельзя более кстати мексиканской народной душе. Выработанные в
начале XX в. мексиканские национальные мифологемы (их целый
ряд) не столь уж и стихийны, как это может показаться взгляду,
впечатленному их ярким экзотизмом, — они на самом деле очень
рассудочны, это выстраданное средство национальной психотера-
пии глубоко травмированного сознания. С поразительной искрен-
ностью и проникновенностью писал об этом О.Пас. Да и не он
один. И в самом деле, мексиканец всегда и во всем готов прикрыть-
ся маской, только чтобы не видеть собственного лица, собственной
сути, столкнуться с которой (или с ее отсутствием) он смертельно
боится, но напускает на себя ухарство — отсюда его смелое до
жути фамильярничание с пустотой. Существует целый ряд нацио-
нальных мифов, призванных служить паллиативом для загнанной
вглубь, но не разрешенной проблемы.
Это сказано к тому, чтобы не обольщаться псевдокарнавальным
заигрыванием со смертью в мексиканском национальном "празд-
нике", в котором, кстати — свидетельствую, — ничего особо уж ве-
селого не происходит. Правда, к вечеру на кладбище появляются
ансамбли марьячи, приходит разодетый народ семьями, это верно.
Но дело в том, что марьячи у них участвуют и в самых торжествен-
ных соборных мессах, а это производит впечатление куда большего
святотатства. Но, видимо, такие уж у них порядки, что ж тут поде-
лаешь. А веселиться мексиканцы действительно любят, и праздни-
ков у них, непринужденно переходящих один в другой, несметное
количество, и эта тема требует отдельного квалифицированного
разговора. Что же до черепов, то нелишне было бы вспомнить севе-
рорамериканский "хэллоуэй", празднуемый накануне Дня всех свя-
тых — вот это был бы серьезный повод для типологического сопо-
ставления.
Но вернемся к бразильскому карнавалу, формирование которо-
го, напрямую связанное со становлением национального самосо-
знания, пришедшегося на 20-е годы XX века, как стало очевидно,
принадлежат широкому кругу универсальной исторической типо-
338
логии. И не случайно Освалд де Андраде, один из реформаторов
бразильской культуры, именно в этот период квалифицировал кар-
навал как "национальное религиозное действо" ("о aconîecimento
religioso da raça"). Начинавшийся в конце века XIX как календар-
ный праздник маскарадного типа, бразильский карнавал в скором
времени обнаружил явную тенденцию к превращению в специфи-
чески национальный ритуал самоидентификации, самосозидания и
самопознания. Об этом говорит сама его эволюция.
Ведь не случайно на кариокском карнавале 1992 г. одна из про-
цессий выступала с аллегорической карросой, представлявшей со-
здание человека С Carro alegorico representando a criaçao do
Hörnern"). Девиз карнавала 1999 г. еще более красноречив: "Брази-
лия, яви свой лик на Великом Театре Бразильского Мира" {"Brasil,
mostra sua cara em Theatrum Rerum Naturalium Brasiliae"). Наконец,
в 2000 г., когда Бразилия отмечала не только порубежную для всего
человечества веху, но и 500-летие своего существования, бразиль-
ский карнавал обретает поистине вселенский размах — в нем уча-
ствовали все существующие в мире школы самбы, — соответствую-
щий и масштабу милениума и величию своего собственного юби-
лея: тематически он был посвящен истории Бразилии, различные
периоды которой иллюстрируют все возможные школы самбы. По
свидетельству очевидца (Е.Васина), "все карросы были посвящены
открытию и пятисотлетию истории Бразилии, которая творилась
прямо на моих глазах на карнавале". Таким образом, реализация
этого по сути дела локального ритуала перехода обретает уже уни-
версальное измерение. Означает ли все это, что после знакового
2000 г. Бразилия обретает, наконец, искомую полноту своей иден-
тификации? Разумеется, ставить так вопрос было бы наивно, но то,
что карнавал как форма национального праздника является мощ-
нейшим механизмом формирования бразильского самосознания,
представляется несомненным.
И именно в этом качестве бразильский карнавал являет свою су-
губую специфичность. Оказавшись для всего мира образцом карна-
вала по преимуществу, он, как уже указывалось, образовал свою
собственную культурную модель, сущностно едва ли не противопо-
ложную традиционно европейской. И вот каков еще один, пожа-
луй, важнейший элемент отличий бразильской модели карнавала.
Как и в любом карнавале (европейском, испанском, португаль-
ском, да и латиноамериканском вообще), реализацию всей обрядо-
вой процедуры обеспечивает шутовской король карнавала, которо-
му передаются функции мага, теурга, посредника между миром
профанным и миром сакральным. Бразильский карнавал сохраняет
верховный страт ритуальной иерархии — это Король Момо, коро-
лева карнавала, их приближенные, кстати, все введенные в карна-
вальное действо сравнительно недавно, в период с 30-х по 50-е
12*
339
годы XX века, когда в роли короля карнавала начинает выступать
живой человек, сменивший в этом качестве куклу. Причем фигура
"короля" была официально признана только в 1967 г. и тогда же
были введены определенные (весьма внушительные) физические ха-
рактеристики, которым должен соответствовать претендент.
Но главной фигурой всего действа является, по утверждению
исследователя Р. да Матта29, автора классической книги о социо-
культурных корнях бразильского карнавала, маргинал "маланд-
ро" — плут, бродяга, отщепенец, олицетворяющий принцип онто-
логической смещенности, даже вывихнутое™ (deslocamentö) карна-
вального действа как ритуала. Это очень тонкое и глубокое сооб-
ражение. Здесь наблюдается отклонение от типологической функ-
ции масленичного шута-ряженого. Например, в русской традици-
онной культуре потешник-ряженый (окрутник) стремился к самоот-
рицанию, к достижению неузнаваемости: «окрутник скрывает себя
с помощью маски, необычной одежды, молчания, и в материально
воплощенном "не-я" реализуется, таким образом, лишь одно значе-
ние — "нет меня"»30. Маландро же — не шут, опрокидывающий ус-
тановленный от веку миропорядок (в Бразилии?!) не скоморох,
функциональная семантика которого довольно ограниченна (тако-
вого олицетворяет, скорее, король Момо, изначально — непри-
стойный обжора и распутник), а лукавый трикстер. Это генетичес-
ки плутовской персонаж со всеми соответствующими пародийными
коннотациями, но это плут латиноамериканизированный, снующий
в зазорах не вписывающегося в рациональную архитектонику ми-
ростроя и воплощающий собой отклонение от структурированной
функциональности; маландро — это балагур, осмеивающий все мо-
нологичные дискурсы; он проблематизирует реальность, провоци-
руя тем самым устремленность к иной модели бытия по существу.
И именно маландро, а не фигуры верховной иерархии, является
актором, т.е. действователем всей карнавальной мистерии.
Такого рода персонаж и такого рода мироотношение характе-
ризуют национальное самосознание не только бразильцев, но и ла-
тиноамериканцев вообще. Тот же да Матта отмечает, что традици-
онная карнавальная инверсия является логическим механизмом,
вряд ли действующим в условиях бразильской культуры. Не слу-
чайно да Мата не раз подчеркивает, что главное в бразильском
карнавале — сам процесс движения, "продвижения вперед", пред-
ставляющего собой принципиальное отличие от традиционного ри-
туального "путешествия" от одного сакрально значимого локуса к
другому. В карнавале, этой модели латиноамериканской действи-
тельности, сакральный статус приобретает процесс движения как
таковой, акт саморазвертывания, самореализации.
Подтверждение тому можно найти во многих образцах латино-
американской культуры. Да, маландро — маргинал, но маргиналь-
340
но и все бытие Латинской Америки, маргинально по отношению к
европейскому рацио — потому-то он и соприроден этому миру. Ма-
ландро не переворачивает, а обыначивает предданное мироустрой-
ство и, в конечном счете, по-своему структурирует общественное
бытие. Он не вносит хаоса, а всего лишь предлагает некий иной по-
рядок, иной образ мира, мнящийся доподлинно своим в отличие от
обыденно-профанного — рационально упорядоченного, а потому и
неистинного. Речь, таким образом, идет об иной — латиноамери-
канской — картине мира. Потому-то эстетика бразильского карна-
вала, возникшего в 20-е годы — эпоху стихийного приобщения Ла-
тинской Америки к себе самой —, представляет собой типичное
для континента явление культурогенеза, когда одновременно вос-
производится заимствованная европейская модель и она же при
этом обыначивается (парафразируется, децентрируется и т.д.). То
есть, в ассимиляционном процессе европейская культурная пара-
дигматика подвергается такому изменению, в результате которого
исходный элемент уже не равен самому себе, да к тому же на его
основе возникает некое новое, дополнительное качество, смещенное
относительно прежней оси ценностей. И, хочу особо подчеркнуть,
возвращаясь к старой проблеме, это лишний раз подтверждает, что
принцип культурообразования в Латинской Америке представляет
собой не синтез и даже не "симбиоз", а скорее наоборот — это
сложно разветвленная многоуровневая диверсификация (пролифе-
рация, ризома), сопрягающая в общий проблемный узел множест-
венность отдельных онтологии.
Но разве не тот же смысл преподносит нам латиноамерикан-
ский карнавал устремленный к горизонту Утопии и явственно, фи-
зически воплощающий идею перехода, залегающую в основах лати-
ноамериканской ментальности, — перехода от одного типа онтоло-
гии к другому? Стало быть, в данном случае идея иначения сакрали-
зуется в общенациональном ритуале! Таким образом, карнавал,
как одна из праздничных форм, является в Латинской Америке
спонтанным способом самоидентификации и самосозидания ново-
образованных культурных миров. Латиноамериканский праздник
прямо определяет себя как ритуал самообретения. Так, проводив-
шийся на Кубе "Праздник кубинскости" Ç'Fiesta de cubania") был
ознаменован девизом: "Этот праздник содействует непрестанному
поиску нашей национальной сути и нашей исторической судьбы".
Таков и латиноамериканский карнавал: здесь он оказался праздни-
ком, возникшим не столько в результате транскультурации, сколь-
ко в ответ на внутренние запросы формирующейся культуры ново-
го типа. И он не столько воспроизвел формы европейского празд-
ничного действа, сколько актуализировал древнейшие, восходящие
к доевропейским культурным слоям, архетипы социального бытия.
В этом отношении феномен праздника является идентификатором
341
национального самосознания, специфичным для самостроительных
процессов латиноамериканской культуры.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 О соотносимости понятий "ритуал", "праздник" и "карнавал" см.:
Глебкин В.В. Ритуал в советской культуре. М., 1998. Семантика досуга,
праздничного и повседневного времени рассматривается в кн: Хренов H.A.
Мифология досуга. М., 1998.
2 Пас О. Поэзия. Критика. Эротика. М. 1996. С. 26.
3 Хренов H.A. Указ соч. С. 130.
4 Мазаев А.И. Праздник как социально-художественное явление. М.,
1978. С.150.
5 Каменский А. Праздник — театр идеала // Декоративное искусство,
1978, № 117. С. 30 32.
6 Из выступления на защите диссертации в ИМЛИ в 1946 г. См.:
Н.Панъков. M. М. Бахтин: ранняя версия концепции карнавала // Вопросы
литературы, 1997, № 5.
7 См.: Силюнас В. Испанский театр XVI-XVII веков. М. 1995.
8 Кряжева И. Городской музыкальный фольклор: некоторые особен-
ности становления и современного развития / Профессиональное искусст-
во и народная культура Латинской Америки. М. 1993. С. 153.
9 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963. С. 167.
10 См. напр.: Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологичес-
кой символики в индоевропейских языках. Образ мира и миры образов.
М. 1996.
11 См.: Голан А. Миф и символ. М. 1993. С. 51.
12 См.: Гирин Ю.Н. К вопросу о самоидентификационных моделях ла-
тиноамериканской культуры / Iberica Americans. Механизмы культуро-об-
разования в Латинской Америке. М. 1994.
13 Бахтин М.М. Указ. соч. С. 159.
14 Осповат Л. Поиски и открытия Х.Кортасара / Хулио Кортасар. Вы-
игрыши. Повести и рассказы. М., 1976. С. 16.
15 См.: Тананаева Л.И. Об истоках латиноамериканского праздника //
Латинская Америка, 1998, № 1.
16 Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1994.
Т.З. С. 696.
17 Топоров В.Н. О "поэтическом" комплексе моря и его психофизиоло-
гических основах. / История культуры и поэтика. М., 1994. С. 20, 21.
18 Фрейденберг О.М. Миф и театр. М., 1988. С. 28.
19 Канетти Э. Масса и власть. М., 1997. С. 39.
20 ПавиП. Словарь театра. М., 1991. С. 100.
21 См.: Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура
средневековья и Ренессанса. М., 1990. С. 351, 352.
22 Герасимова И.А. Философское понимание танца // Вопросы филосо-
фии, 1988, №4. С. 53.
23 Евзлин М. Космогония и ритуал. М.,1993. С. 116.
342
24 Аверинцев C.C. Бахтин и русское отношение к смеху / От мифа к ли-
тературе. М., 1993. С. 342.
25 Топоров В.И. О ритуале. Введение в проблематику / Архаический ри-
туал в фольклорных и раннелитературных памятниках. М., 1988. С. 17.
26 Дри Р. Латинская Америка: подлинность, историческая память и
утопия //Латинская Америка. 1992, № 9. С. 31.
27 Глебкин В.В. Указ.соч. С. 113.
28 О типологическом сходстве русского и бразильского типов утопиз-
ма см.: Гирин Ю.Н. Бразильский модернизм как зеркало русской револю-
ции // Латинская Америка, 1994, № 7-8.
29 См.: Matta R. da. Carnavais, malandros e heróis. Rio de Janeiro, 1981.
30 Мелева Л. Ряженье в русской традиционной культуре. Петербург,
1994.С.30.
Я.Г.Шемякин
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ ПРАЗДНИК
КАК ПРЕДМЕТ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
По-видимому, все те, кто когда-либо писал о феномене праздни-
ка, согласны с программным положением М.М.Бахтина, согласно
которому праздник — это "очень важная первичная форма челове-
ческой культуры"1. Однако, если проанализировать научную лите-
ратуру, посвященную анализу данного феномена, то обнаруживает-
ся, что эта исходная формулировка трактуется по-разному различ-
ными исследователями. По моему мнению, наибольшие потенци-
альные возможности для теоретического познания праздника как
цельного явления культуры имеет то научное направление, которое
можно условно обозначить как "цивилизационный подход".
Праздник — удивительный феномен: в нем в максимальной сте-
пени отражаются и универсальные черты, и особенности различ-
ных типов цивилизаций, и неповторимая специфика той или иной
социокультурной общности.
В латиноамериканском празднике наличествуют все те универ-
сальные характеристики, которые присущи празднику как феноме-
ну культуры, принципы, присущие всем его разновидностям повсю-
ду в мире.
Значение праздника как важнейшего элемента любой цивилиза-
ционной системы определяется в первую очередь тем, что он явля-
ется одним из главных механизмов, посредством которых осущест-
вляется действие такого ключевого по своей важности социального
интегратора, как система ценностей. Известный польский исследо-
ватель К.Жигульский отмечал в этой связи: "Каждый праздник свя-
343
зан с определенной ценностью, иногда с ценностью высшего поряд-
ка, которая является святыней (sacrum) для празднующей группы"2.
В основе формируемой в том или ином культурно-цивилизаци-
онном контексте системы ценностных ориентации и предпочтений
лежит избранный определенной социокультурной макрообщнос-
тью способ решения фундаментальных проблем — противоречий
человеческого существования: между мирской и сакральной сфера-
ми бытия, индивидом и обществом, традиционной и инновацион-
ной сторонами культуры3. Особое, центральное место занимает
проблема соотношения мирской и сакральной сфер человеческой
экзистенции. Праздник — это совершенно особый период непо-
средственного интенсивного контакта этих сфер, противополож-
ный в этом смысле будням, когда подобного прямого контакта не
наблюдается. Причем это относится ко всякому празднику, в том
числе и к, казалось бы, сугубо светскому или семейному, ограни-
ченному интимным кругом близких людей. На эту особенность
праздника как общественно-культурного феномена обращали вни-
мание многие видные мыслители и исследователи. Так, Э.Дюрк-
гейм отмечал, что у всякого праздника, даже целиком светского,
есть определенные черты, носящие религиозный характер4.
М.Элиаде, мысливший в несколько ином ключе, подчеркивал тем
не менее религиозное происхождение таких ритуалов, как бракосо-
четание (имевшее, по его интерпретации, в качестве изначального
образца божественную иерогамию) и праздник по случаю рожде-
ния ребенка. Согласно Элиаде, подобные ритуалы, даже в их сугу-
бо современном, светском варианте имеют глубинный сакральный
смысл5.
Именно потому, что он является периодом непосредственного
интенсивного контакта мирской и сакральной сфер, всякий празд-
ник (даже, казалось бы, ограниченный кругом родных и ближай-
ших родственников) в конечном счете утверждает принцип соответ-
ствия ритмов жизни человека и общества ритмам космоса и обеспе-
чивает такое утверждение посредством определенной совокупности
обрядово-символических действий. Утверждая определенный ритм
жизненного процесса, человек тем самым делает основополагаю-
щий ценностный выбор в пользу порядка, смысла, в конечном
счете — жизни, творческого начала мироздания и, соответственно,
против хаоса, распада, смерти, энтропии. По словам А.И.Мазаева,
праздник — "это особое время и особое настроение, когда мы, про-
возглашая радостное "да" тому или иному конкретному событию,
вместе с тем утверждаем жизнь как целое"6. Аналогичную мысль
высказывали и многие видные зарубежные исследователи феноме-
на праздника. Так, профессор Гарвардского университета Х.Кокс
расценивал "утверждение жизни" в качестве одного из наиболее су-
щественных моментов "праздничного события". Подобное утверж-
344
дение "содержит в себе радость в глубочайшем смысле слова — в
эти часы мы говорим жизни "да", вопреки фактам неудачи и даже
смерти"7.
В праздничном сознании повсюду в мире, в том числе и в Ла-
тинской Америке, находит свое выражение то, что М.Элиаде на-
звал "онтологической жаждой", свойственной, по его мнению, "ре-
лигиозному человеку", который "жаждет бытия"8. Как мне пред-
ставляется, такая жажда свойственна любому человеку, даже нере-
лигиозному. И у всякого человека она неотделима от отрицания
сил хаоса, распада: "Ужас перед "Хаосом", окружающим его мир,
соответствует ужасу перед небытием"9.
Эта универсальная содержательность праздника свойственна и
латиноамериканскому "праздничному сознанию". Однако проявля-
ется она в регионе к югу от Рио-Гранде в специфической форме.
В принципе латиноамериканский праздник, быть может, даже в
большей мере, чем любой другой, символизирует классическую си-
туацию рождения космоса из хаоса10 именно в силу того, что он не
столько воспроизводит (подобно архаическим праздникам) таинст-
во ритуала первотворения, сколько моделирует реальный процесс
формирования новой культуры и сам выступает как одно из наибо-
лее ярких проявлений данного процесса.
Здесь нужно уточнить одно обстоятельство. Как неоднократно
отмечалось в научной литературе11, свойство хаотичности нередко
трактуется латиноамериканской мыслью положительно. Однако
при этом имеется в виду чаще всего не хаос в собственном смысле
(как ситуация торжества сил распада, небытия, энтропии), а необо-
зримое неупорядоченное многообразие латиноамериканского
мира. Что же касается хаоса как силы, разрушающей бытие, как
фактического синонима небытия, то для латиноамериканского ци-
вилизационного сознания, как и для любого другого, характерна
воля к его преодолению. Причем в условиях, когда разрушительная
тенденция особенно сильна (а это отличительная черта в том числе
и латиноамериканской истории), такая воля проявляется особенно
отчетливо.
Здесь нужно отметить еще одно обстоятельство: "ужас перед
Хаосом" в латиноамериканском варианте — это в первую очередь
ужас перед хаосом враждебного столкновения качественно различ-
ных культурных традиций, порожденного логикой тотального от-
рицания первоначально чуждого духовного опыта иного челове-
ческого мира.
Утверждающий соответствие ритмов человека, общества и Кос-
моса, праздник как особое явление культуры неразрывно связан с
формированием представления о времени и, тем самым, с появле-
нием календаря. На эту черту праздника обращали внимание мно-
гие ученые. Так, К.Жигульский отмечал: "Счет времени, одно из
345
величайших достижений человеческой культуры — календарь —
везде в своих истоках выступает как форма упорядочения, закреп-
ления, заблаговременного исчисления праздничных дней и перио-
дов"12. По словам А.И.Мазаева, "вполне отчетливое понятие вре-
мени и календаря формируется в обществе сравнительно поздно.
Только возникновение праздника вносит в социальную жизнь из-
вестнный элемент ритма и временной упорядоченности"13.
Появление календаря было связано с осознанием того обстоя-
тельства, что поток времени неоднороден по своей структуре, в нем
выделяются некие узловые точки, связанные с переходом от одного
природного цикла (цикл времени года) или стадии эволюции обще-
ства к другому циклу, другой стадии. Именно с такими точками и
связаны, по общему правилу, праздники. Как отмечал в этой связи
М.Бахтин, "...празднества на всех этапах своего исторического раз-
вития были связаны с кризисными, переломными моментами в
жизни природы, общества и человека"14.
Утверждая принцип соответствия ритмов, праздник тем самым
утверждает и принцип гармонии во всех сферах человеческой эк-
зистенции. Он всегда так или иначе соотносится с миром идеала15,
с представлением о существовании некоего совершенного измере-
ния бытия, качественно отличного от обычной будничной действи-
тельности; измерения, приобщиться к которому можно только по-
средством участия в празднике. Последний оказывается в результа-
те неразрывно связан с утопией. Есть все основания говорить о на-
личии утопической константы как отличительной черты празднич-
ной культуры повсюду в мире, в том числе и в Латинской Амери-
ке16. Об этой черте также писали практически все, что занимался
проблемой праздника, начиная с М.Бахтина: "Праздник ... осво-
бождает от всякой утилитарности и практицизма; это временный
выход в утопический мир"17. Подобный выход связан еще с одной
характерной чертой рассматриваемого феномена — временным от-
казом от принятых в том или ином обществе норм поведения,
"переворачиванием" господствующих социальных отношений и ие-
рархий: "Общим свойством праздничного времени ... являлось сня-
тие противоречий реальной жизни путем сдвига или переворачива-
ния всех обычных установлений, путем отмены даже строжайших
табу... Праздничный досуг означал переворачивание или как бы
отмену социальной иерархии..."18. Упоминавшийся выше Х.Кокс
подчеркивал, что праздник — всегда кратковременная свобода от
условностей и норм обычного поведения19. На эту особенность
праздничной культуры указывали неоднократно и М.Бахтин, и
М.Элиаде, и многие другие.
Однако утопическая константа — лишь одна сторона празднич-
ной культуры. Есть и другая, во многом ей противоречащая. Речь
идет о такой характеристике праздника, как "соседство с влас-
346
тью"20: как справедливо отмечал, в частности, А.И.Мазаев, по об-
щему правилу, в истории аппарат религиозной и светской власти
"оказывается размещенным примерно в тех же местах, что и празд-
ник — на сакральном участке"21. Для власть предержащих на всех
этапах истории повсюду в мире типично самое пристальное внима-
ние к феномену праздника, стремление поставить его под свой пол-
ный контроль, добиться посредством праздника тотальной регла-
ментации всех сторон жизни человека и общества. В силу того, что
праздник — важнейшая часть механизма социальной интеграции,
он неизбежно оказывается включен в существующую систему влас-
ти.
Все это в полной мере относится и к Латинской Америке: доста-
точно вспомнить, сколь пристальное внимание уделяют организа-
ции различных праздников представители государственного аппа-
рата (причем на самых различных уровнях — от правительственно-
го до местного) во всех без исключения латиноамериканских стра-
нах. Особенно ярким примером здесь может служить бразильский
карнавал22.
Итак, праздник оказывается "внутренне антиномичен"23: с
одной стороны, он сопричастен миру утопии, идеала, утверждает
принцип гармонии; с другой — восполняет роль важнейшего эле-
мента существующего механизма господства, выступает как стаби-
лизирующий фактор наличествующей системы власти.
Внутренняя противоречивость, антиномичность рассматривае-
мого феномена находит свое отражение также в наличии в праздни-
ке двух противоречащих друг другу и в то же время неразрывно
взаимосвязанных аспектов. Среди коллег-латиноамериканистов на
них впервые обратил внимание Ю.Н.Гирин, подчеркнувший необ-
ходимость установить различие между "площадно-игровым, гро-
тескно-смеховым началом" и "ритуально-партиципативной функ-
цией" праздника24. Хотя Гирин в данном случае говорил о карнава-
ле, в первую очередь латиноамериканском, его вывод имеет, на мой
взгляд, более общее значение и может быть распространен на фено-
мен праздника в целом. Здесь необходимо сделать лишь одну суще-
ственную оговорку. Хотя выделенные аспекты действительно "во
многом противоположны друг другу"25, их абсолютное противопо-
ставление было бы неправомерно прежде всего потому, что "пло-
щадно-игровое" "гротескно-смеховое" начало также носит риту-
альный характер. Вспомним в этой связи, как М.Бахтин характери-
зовал такой ключевой элемент карнавала, как "карнавальный
смех". По его словам, это "не индивидуальная реакция на то или
иное единичное "смешное" явление. Карнавальный смех, во-пер-
вых, всенароден.., смеются все, это — смех "на миру"; во-вторых, он
универсален, он направлен на все и на всех (в том числе и на самих
участников карнавала)..."26. То есть, это ритуальный смех. Как го-
347
ворил сам Бахтин, "в нем — в существенно переосмысленной
форме — было еще живо ритуальное осмеяние божества древней-
ших смеховых обрядов"21.
Анализ феномена праздника подводит к выводу о необходимос-
ти различения двух его важнейших, противоречащих друг другу и в
то же время теснейшим образом взаимосвязанных функций, суть
которых наиболее точно, отражают, на мой взгляд, термины: "ри-
туально-партиципативная" и "ритуально-смеховая". Различные
виды праздников в разные эпохи в тех или иных культурах характе-
ризуются различным соотношением выделенных функций: преоб-
ладание той или другой определяет историческое "лицо" какого-
либо праздника.
В этой связи хотелось бы высказать следующую мысль. В прин-
ципе праздники могут быть классифицированы по самым различ-
ным основаниям28. Но главным основанием такого рода, которое
могло бы быть положено в основу всех иных видов классификации,
должно служить, на мой взгляд, именно соотношение между двумя
выделенными функциями — ритуально-партиципативной и риту-
ально-смеховой. Преобладание той или иной определяет принад-
лежность к "партиципационному" или "ритуально-смеховому"
типу. Классический пример праздников первого типа — религиоз-
ные празднества самого различного рода: от празднования Нового
Года в Вавилоне до Христианского Рождества. Наиболее яркий
пример праздника второго типа — карнавал: от римских сатурна-
лий до латиноамериканского карнавала.
Отличительная черта "партиципационных" праздников — пре-
обладание настроения, которое я назвал бы "прочувствованной се-
рьезностью", обусловленного переживания чувства приобщения к
высшим ценностям, сопричастности ритмам Космоса. Такое пере-
живание связано, бесспорно, с глубокой радостью. Однако речь в
данном случае идет об особой, "священной" радости, но отнюдь не
о развлечении. Впрочем, момент развлечения и здесь, несомненно,
наличествует, но не он определяет основную тональность праздни-
ка.
В карнавале картина в целом прямо противоположная — "сме-
ховое" начало доминирует. В силу самого своего характера "парти-
ципационный" тип праздника, по общему правилу, в гораздо боль-
шей мере институционализирован, в то время как в "ритуально-
смеховой" разновидности рассматриваемого феномена с гораздо
большей силой проявилась та черта праздничной культуры, кото-
рая связана с "переворачиванием" установившегося порядка, вре-
менным нарушением принятых норм, свободой от господствующих
ценностей.
Следует особо подчеркнуть, что, как правило, речь идет именно
о преобладании одной из функций: праздников, которые целиком
348
сводились бы либо к "ритуально-партиципативному", либо к "ри-
туально-смеховому" началу, почти не встречается, по крайней
мере, если оставить за скобками некоторые выхолощенные офици-
озные празднества последних двух веков, полностью контролируе-
мые государством и потерявшие всякую связь с народной "поч-
вой", в том числе — и с "низовой" смеховой стихией: таковы были,
к примеру, официальные советские праздники "эпохи застоя" в 70-
е гг. XX в. Но это скорее исключение. Правилом же является такая
ситуация, когда, даже при полном преобладании одной из сторон,
вторая все-таки продолжает присутствовать. При этом ритуально-
смеховая и ритуально-партиципативная функции могут быть либо
сближены, либо разведены, противостоя друг другу в рамках той
или иной разновидности "праздничной" культуры. Так, в архаичес-
ких культурах оба эти начала в максимальной степени разведены,
почти абсолютно преобладает "священная серьезность", что не ис-
ключает, однако и ритуального смеха как обязательного элемента
праздника. Все это отнюдь не случайно: характерное для любого ар-
хаического праздника29 воспроизведение времени первотворения
было делом в высшей степени серьезным, и потому праздник был
именно таким делом, и для древних вавилонян, ежегодно приоб-
щавшихся к тому сакральному времени, когда Мардук победил Ти-
амат и из ее тела сотворил мир, и для полинезийцев с острова Ти-
копия (по свидетельству М.Элиаде, на время праздника у них нала-
гался категорический запрет на игры, танцы и вообще любой
шум30), и для ацтеков перед Конкистой, у которых, как известно, за
лишний шаг в ритуальном танце полагалась смерть, ибо такой шаг
нарушал незыблемость сакрального образца, установленного бога-
ми in ilio tempore (М.Элиаде) и тем самым угрожал самим основам
мироздания.
Что же касается собственно латиноамериканского, возникшего
в результате взаимодействия различных традиций праздника, то
здесь, в отличие от архаических культур (включая и культуры доко-
лумбовой Америки), ритуально-партиципативная и ритуально-сме-
ховая стороны максимально сближены. В этом плане латиноамери-
канская "праздничность" более близка европейской, особенно —
средневеково-европейской, исследованной Бахтиным и другими ав-
торами. Впрочем, здесь есть и отличия: в Латинской Америке в зна-
чительной мере снимается (эта тенденция, проявившись впервые в
момент генезиса латиноамериканской цивилизации, впоследствии
многократно усиливается, достигая максимального развития в XX
в.) та антитеза карнавальной и официальной церковной культуры,
которая была характерна для западноевропейского Средневеко-
вья31.
Охарактеризованные выше функции праздника как социального
интегратора и стабилизатора общественной системы непосредст-
349
венно связаны с тем обстоятельством, что он является важнейшим
элементом механизма традиции, играет чрезвычайно важную роль
в деле сохранения и передачи от поколения к поколению социально
значимой информации относительно главных ценностных ориента-
ции и норм поведения. В силу этого праздник всегда выступает как
важнейший фактор социализации: именно через участие в празд-
ничных церемониях и обрядах во всех культурах происходит пер-
вичное приобщение к принятым в том или ином обществе нормам
и ценностям.
Следует отметить, что праздник как особое состояние культур-
ной системы характеризуется вполне определенным соотношением
между личностью и обществом, индивидом и коллективом: соци-
альное начало в празднике безусловно преобладает над индивиду-
альным. Как заметил в этой связи К.Жигульский, "многие виды че-
ловеческой деятельности можно с успехом осуществлять в одиноче-
стве, в изоляции, в уединении", но праздновать — никогда:
"Праздники и празднования ... всегда требуют присутствия, учас-
тия других людей, являются совместным действием, общим пере-
живанием"32. При этом принципиально важно, что "и сам празд-
ник, и прежде всего, особый обрядово-зрелищный язык его культу-
ры предполагают, как условие, известный автоматизм, простое по-
вторение некогда сложившихся образцов или типов поведения"33.
Поэтому "индивидуальная мотивировка в случае с обрядово-зре-
лищным поведением, как правило, отсутствует или решающей роли
не играет"34.
Праздник повсюду — не только важнейшая интегрирующая
сила общества, средство общественной регуляции, один из наибо-
лее важных элементов механизма традиции и значимых факторов
социализации, но и специфическое социально-эстетическое явле-
ние: "В сфере праздника зарождается эстетическое сознание с его
умением ценить красивое и культивировать воображение, а также
ряд других способностей, в том числе способность радоваться и
смеяться, которые объективируют себя поначалу в синкретических
деиствованиях, где танец, музыка, драматическая игра, спортивное
состязание и т.п. спаяны друг с другом и еще не претендуют на
самостоятельное значение — в качестве видов искусства"35. Но и
впоследствии, выделившись из первоначально нерасчлененного
синкретического целого праздника, различные виды искусств про-
должают оказывать воздействие на праздник и сами, в свою оче-
редь, испытывают влияние праздничной стихии.
Праздник присущ всем человеческим общностям — от перво-
бытных до современных. Вместе с тем в развитии феномена празд-
ника можно проследить определенную стадиальность. Есть основа-
ния говорить о той или иной степени развития праздничной куль-
туры на различных этапах общественной эволюции. На это обра-
350
щал внимание такой известный исследователь первобытной куль-
туры, как Ю.Липс. Так, он подчеркивал, что "о появлении вполне
определенных, приуроченных к точным датам праздников мы
можем говорить только начиная с возникновения важных куль-
тур", однако они "содержат в себе все элементы развлечений и уве-
селений, которые возникли стихийно еще в недрах первобытного
общества...36.
А.И.Мазаев полагает, что можно проследить и эволюцию от
"обрядово-магических и религиозных форм" к ситуации, когда
праздник связывает себя "через фантазию с утопическим мышлени-
ем. .."37.
На мой взгляд, можно выделить две исторические макростадии
в развитии праздника как особого культурного явления в зависи-
мости от того, какой тип исторического времени воспроизводил и
моделировал праздник. На первой и самой длительной стадии его
эволюции в основе праздника лежала циклическая модель истори-
ческого времени, что полностью соответствовало господству цик-
лической формы социального движения в подавляющем большин-
стве традиционных обществ38. Праздничную культуру на этом
этапе целиком определяла биокосмическая цикличность. Все празд-
ники, начиная от первобытности и вплоть до возникновения рели-
гии ветхозаветных пророков Палестины, и в особенности христи-
анства, структурировались по одной и той же схеме, типичной для
мифологического типа сознания и отношения к миру. Содержание
и суть праздника состояли в приобщении к мифическому сакраль-
ному времени, времени первотворения, "первопредметов и перво-
действий"39, когда богами или "культурными героями" творились
Вселенная и все ее составляющие. Это время — за пределами
"обычного" времени человеческой жизни — фактически бытийст-
вует вне реального времени человеческой истории. Данный тип
"праздничной культуры" очень ярко описан М.Элиаде40.
Совершенно новый тип праздничного сознания начал формиро-
ваться в древней Палестине и окончательно сложился с появлением
на исторической арене христианства. Вот как описывает разницу
двух типов "сакрально-праздничного" сознания М.Элиаде: "По
сравнению с древними ... реалиями, а также с мифологически-фило-
софскими концепциями о Вечном Возврате, в том виде, в каком
они были разработаны в Индии и в Греции, иудаизм вводит фунда-
ментальное новшество. Для иудаизма Время имело начало и будет
иметь конец. Идея циклического Времени превзойдена. Яхве уже
проявляется не в космическом Времени (подобно богам других ре-
лигий), а во Времени историческом, необратимом... Христианство
идет еще дальше в оценке исторического Времени, ввиду того, что
Бог воплотился, принял исторически обусловленное человеческое
существование... христианство по сравнению с другими религиями
351
внесло новое содержание в понятие и само познание литургическо-
го времени, утверждая историчность личности Христа. Для верую-
щего литургия разворачивается в некоем Историческом времени,
освященном воплощением Сына Божьего.
В дохристианских религиях (особенно в древних) Священное
время, периодически переживаемое в настоящем, есть мифическое
Время.., не идентифицируемое с историческим прошлым... Совре-
менный христианин во время литургии приобщается к illud tempus,
когда жил, агонизировал и вознесся Иисус, но ведь речь не идет о
каком-то мифическом Времени, но о Времени, когда Понтий Пилат
правил Иудеей"41.
Именно на базе этого, христианского типа сознания возник в
процессе секуляризации в XVIII-XIX вв. феномен светского празд-
ника, не связанного непосредственно с церковным календарем и
институтом церкви. Особой разновидностью светского праздника
стал революционный праздник42.
Следует отметить, что формирование представлений об истори-
ческом времени с собственной, отличной от природы динамикой и
ритмом, приведя к возникновению качественно нового измерения
праздничной культуры, в то же время отнюдь не привело к исчезно-
вению того типа праздника, который был связан с биокосмической
цикличностью: этот тип (прежде всего праздники, связанные со
сменой времен года) продолжал существовать и в дальнейшем —
вплоть до наших дней.
Современная стадия развития рассматриваемого феномена по-
всюду в мире характеризуется противоречивым сосуществованием
обеих выделенных разновидностей праздника, основанных, соот-
ветственно, на циклической и линейной моделях исторического
времени. Латинская Америка являет собой очень яркий пример по-
добного сосуществования: в пространстве латиноамериканского
праздника сталкиваются и взаимно переплетаются основанное на
природно-космических ритмах циклическое время автохтонных и
афро-американских традиций и линейное историческое время —
время христианских и современных светских праздников.
Таковы, в самых общих чертах, наиболее важные универсаль-
ные характеристики феномена праздника, проявляющиеся в пол-
ной мере и в Латинской Америке. Разумеется, они проявляются
здесь по-своему, но собственно латиноамериканское в данном слу-
чае — лишь в форме проявления этих универсалий. В этой связи ос-
тается открытым вопрос, поставленный А.Ф.Кофманом в дискус-
сии, посвященной ибероамериканскому празднику: "в чем состоит
специфика латиноамериканского праздника как типологического
явления?"43 Иными словами: обладает ли латиноамериканский
352
праздник собственной онтологией, собственной бытийственной ди-
намикой, отличается ли он чем-то по сути, а не по форме от евро-
пейского праздника?
Пытаться ответить на этот вопрос — значит пытаться решить
задачу высшего уровня сложности. Причем главная трудность за-
ключается, на мой взгляд, в следующем.
Многие черты, зачастую воспринимающиеся как исключитель-
но латиноамериканские, на самом деле являются общими для того
цивилизационного типа, к которому принадлежит Латинская Аме-
рика — так называемых "пограничных" цивилизаций44. Суть про-
блемы — в необходимости теоретически дифференцировать в лати-
ноамериканском празднике общее, особенное (т.е. отражающее ци-
вилизационное качество "пограничности") и уникальное, свойст-
венное только Латинской Америке. Попробую наметить самые
общие контуры возможного решения данной проблемы.
* * *
Концепция "пограничных" цивилизаций как особого цивилиза-
ционного типа еще только начинает разрабатываться. Хотя мне
уже приходилось излагать свою точку зрения по данному вопро-
су45, здесь необходимо, хотя бы вкратце, повторить, о чем, собст-
венно, идет речь.
Все цивилизации в той или иной мере неоднородны, состоят из
разнообразных культурных, в том числе этнокультурных элементов
и вместе с тем любая из них представляет собой целостность, еди-
ную во всем многообразии ее составляющих. Однако соотношение
между началами единства и многообразия, гомогенности и гетеро-
генности, целостности и неоднородности коренным образом отли-
чается в цивилизациях, которые могут быть условно обозначены
как "классические", и в цивилизационных общностях "погранично-
го" типа. К числу первых принадлежат такие, возникшие на базе
мировых религий цивилизации-"субэкумены" (Г.С.Померанц)46,
как западно-христианская, южно-азиатская индо-буддийская, вос-
точно-азиатская конфуцианско-буддийская, исламская. Облик
"классических" цивилизаций определяет начало целостности, Еди-
ное. Субэкумены имеют цельное основание — монолитный религи-
озно-мировоззренческий фундамент всего здания цивилизации.
К числу цивилизаций "пограничного" типа относятся Россия —
Евразия, Пиренейская Европа (Испания и Португалия47) и Балкан-
ская культурно-историческая общность. Отличительная черта ци-
вилизационного "пограничья" — преобладание многообразия над
единством, гетерогенности над гомогенностью. Цельное основание
у цивилизаций данного типа отсутствует, их духовно-мировоззрен-
ческий фундамент состоит из качественно различных "блоков" —
разнородных традиций, находящихся в крайне противоречивом от-
353
ношении друг к другу. Доминирование принципа целостности
(Единства) в "классических" цивилизациях означает наличие одной
системы ценностей, разделяемой той или иной культурно-истори-
ческой общностью (во всяком случае, подавляющим большинством
ее членов). Превалирование принципа многообразия в "погранич-
ных" цивилизациях проявляется в наличии нескольких систем тако-
го рода, существенно отличающихся друг от друга, но объединен-
ных в рамках крайне противоречивой взаимосвязи.
Качественные отличия "пограничных" цивилизаций от "класси-
ческих" находят свое отражение и в принципиально различном со-
отношении двух основных выделенных выше типов праздника —
"ритуально-партиципационного" и "ритуально-смехового". Преоб-
ладание "партиципационного" праздника возможно лишь при ус-
ловии устоявшейся, единой для всего общества системы ценностей,
воплощающей некую Большую Идею, к которой люди приобщают-
ся в том числе и через посредство праздника. Поэтому "ритуально-
партиципационная" его разновидность преобладает в классических
цивилизациях. Напротив, в действительности цивилизационного
"пограничья", определяемой диалогом-спором и столкновением
разнородных культурных начал, явно превалирует "ритуально-сме-
ховой" тип. И это не случайно, ибо "смеховая" версия праздничной
культуры по самому своему характеру утверждает мысль об отно-
сительности любой человеческой интеграции высших Истин.
Сопоставим в этом контексте Запад и Латинскую Америку.
В рамках западной субэкумены при всей значимости карнавала
все же главное место в праздничном календаре занимают даты
празднований, в которых находит зримое воплощение цельность
религиозно-мировоззренческого фундамента цивилизации. Это
прежде всего религиозные праздники, которые одновременно рас-
сматриваются, как правило, и как общенациональные. Централь-
ную роль среди них играет Рождество. Рождество празднуют и в
Латинской Америке вместе со всем католическим и протестантским
миром. Однако его значимость в культурной системе в целом зна-
чительно меньше, чем в Западной Европе и Северной Америке, и,
что самое основное: роль Рождества в праздничном календаре су-
щественно меньше, чем карнавала — неоспоримого "короля" среди
латиноамериканских праздников.
Пожалуй, можно назвать два примера, позволяющих наиболее
ярко проиллюстрировать тезис о преобладании "ритуально-смехо-
вого" начала в латиноамериканском празднике: бразильский, в
первую очередь, кариокский карнавал и мексиканский День мерт-
вых, часто (и с полным на то основанием) называемые "карнава-
лом мертвых"48.
354
Прямым следствием преобладания начала многообразия над на-
чалом единства и одновременно конкретным проявлением данного
принципа является то обстоятельство, что действительность всех
цивилизаций "пограничного" типа, включая Латинскую Америку,
являет собой картину крайне сложного переплетения качественно
различных типов взаимодействия разнородных цивилизационных
традиций. Как я неоднократно говорил и писал, можно выделить
три подобных типа: противостояние, симбиоз и синтез культур49.
Большинство из тех, кто пытался интерпретировать феномен ла-
тиноамериканского праздника, склонны подчеркивать его выдаю-
щуюся роль в деле сближения разнородных традиций, т.е. в процес-
се культурного синтеза. В принципе это вполне справедливо. При-
чем именно "в празднике рушатся, казалось бы, доходящие до
небес стены, разделяющие различные этнокультурные и этнорели-
гиозные миры"50. Это не случайно. Названная черта связана с опре-
деленными универсальными характеристиками праздника как осо-
бого культурного явления.
Отличия той или иной культуры от других в наибольшей степе-
ни проявляются в созданной данной культурой системе норм и со-
циальных институтов, призванных создать институционно-норма-
тивное обеспечение господствующей системы ценностей. Праздник
же, особенно в его "ритуально-смеховой" ипостаси, — это, как уже
отмечалось, всегда выход за пределы существующих норм, состоя-
ние свободы от доминирующих ценностей. Поэтому именно в
сфере праздника, в которой культура выходит за пределы собствен-
ных, ею же санкционированных норм и ценностей, легче всего осу-
ществляется контакт первоначально, как правило, чуждых друг
другу цивилизационных традиций.
Дело, однако, не сводится к синтезу. Латиноамериканский
праздник, так же, как и культура в целом, являет собой картину
переплетения противостояния, симбиоза и синтеза.
В эпоху Конкисты центральную роль играло прямое враждеб-
ное противостояние культур. Как мне уже приходило писать51, пре-
обладание этого, отрицательного типа контакта было обусловлено
первоначально огромной дистанцией между вступившими в кон-
такт мирами. Подлинные размеры этой дистанции особенно ясно
видны в подходе к пониманию жертвоприношения — акта, играю-
щего центральную роль в наиболее значимых религиозных празд-
никах. Вопрос: совместимы ли жертвенный нож и распятие52 — это
еще и вопрос о совместимости принципиально отличающихся друг
от друга типов праздничной культуры: столкновение противопо-
ложных ценностных ориентации в сфере праздника в эпоху конкис-
ты, на мой взгляд, — очевидный факт. Логика противостояния
355
культур в сфере праздника прослеживается и в сохранении тайных
языческих обрядов (в том числе праздничных) у тех представителей
автохтонного населения, кто пытался выработать альтернативу
"духовной конкисте"53, и в актах симуляции сознания, когда за
праздниками в честь Христа, Девы Марии и католических святых
скрывались ритуалы поклонения древним божествам доколумбова
пантеона, и в ряде черт организации и оформления уже в наше
время старинных традиционных праздников автохтонного населе-
ния54, и в свойственной латиноамериканской народной синкрети-
ческой религиозности тенденции к своего рода "переворачиванию"
важнейших христианских символов, к такой их трактовке, которая
по сути своей противоположна канонической55, и в открытом про-
тивопоставлении идеологами современных индейских организаций
и движений собственных традиций западной культуре в связи с от-
мечавшимся по обе стороны Атлантики 500-летием открытия Аме-
рики56.
Очень широко представлены в латиноамериканском празднике
симбиотические формы взаимодействия: это и использование ин-
дейских песенно-танцевальных жанров при организации католи-
ческих праздников в эпоху христианизации, и переплетение иберо-
христианских и автохтонных элементов в различного рода празд-
ничных ритуалах кабокло и сертанежо в Бразилии, и синкретичес-
кое соединение европейско-католического и африканского насле-
дия в афро-христианских культах в Бразилии и в странах Кариб-
ского бассейна, и организация в 1955 г. в Гватемале постановки
драмы народа киче "Рабиналь-ачи", исполнение которой носило во
второй половине XX в. так же, как и в доколумбово время, харак-
тер священного праздничного ритуала, включавшего одновремен-
но торжественные воскурения "духу гор" и молитвы в католичес-
ком храме57, и многое другое — этот список примеров можно было
бы продолжать еще очень долго.
* * *
Для "пограничных" цивилизаций характерно качественно иное
по сравнению с субэкуменами соотношение систем взаимодействия
(являющихся подсистемами цивилизационной макрообщности)
"мирское — сакральное", "человек — природа", "индивид— соци-
ум", "традиция — инновация". Здесь отсутствие монолитного ду-
ховно-ценностного фундамента неизбежно дает больший (чем в
"классических" цивилизациях) простор природным стихиям (как
внутри, так и вне человека и общества). Соответственно, роль при-
родного фактора в "пограничной" цивилизационной системе каче-
ственно иная, существенно более высокая, роль же сферы духовной
культуры (в основе которой лежит то или иное решение проблемы
"экзистенциального предела") в сложнейшей сети взаимодействий
356
внутри цивилизационного целого здесь меньше, чем в субэкуменах.
С наибольшей силой данная характеристика проявляется в двух из-
вестных истории "пограничных" цивилизациях планетарного уров-
ня, в которых и масштаб воздействия природы на человека и обще-
ство также поистине планетарны: в России и в Латинской Амери-
ке58. Как мне представляется, эта черта особенно ярко проявляется
в буйстве "витальной" стихии латиноамериканского праздника,
прежде всего карнавала, представляющего собой подлинный
"праздник инстинктов" (А.Лундквист).
* * *
С преобладанием природной стихийности в характере русского
человека Н.А.Бердяев связывал то обстоятельство, что "ему нелег-
ко давалось оформление, дар формы у русских людей невелик"59.
Этот вывод в принципе (с некоторыми конкретными оговорками)
можно распространить на все цивилизационное "пограничье", в
первую очередь, — на Латинскую Америку: у латиноамериканцев,
также как и у русских, "природа", стихийная сила, сильнее, чем у
западных людей"60. Есть все основания сделать вывод о том, что
слабая способность к формообразованию — отличительная струк-
турная особенность цивилизаций "пограничного" типа, с особой
силой проявляющаяся, опять же в двух "планетарных" системах та-
кого рода — Латинской Америке и России. Собственно, на эту осо-
бенность обращали внимание многие исследователи как русской,
так и латиноамериканской культуры61.
Данная особенность нашла свое отражение и в сфере праздника:
формы латиноамериканского праздника (если оставить за скобка-
ми разнообразные празднества, относящиеся целиком к автохтон-
ной или к афро-американской традиции) — в основном, как прави-
ло, европейского происхождения. Пожалуй, самым ярким приме-
ром здесь может служить опять же карнавал. Разумеется, речь идет
в данном случае не о простом копировании, а о творческой интер-
претации европейской традиции62.
* * *
С особой ролью природного фактора в цивилизационных систе-
мах "пограничного" типа прямо связано то обстоятельство, что та-
кого рода системы являют собой "воплощенное беспокойство гра-
ницы" (Гегель) не только между различными по своему характеру
цивилизационными традициями, но и между цивилизацией как осо-
бым способом человеческого бытия и доцивилизационным (точнее,
внецивилизационым, ибо речь может идти не только об историчес-
кой стадии, но и об альтернативе цивилизации в пределах того или
иного синхронного "среза" исторического процесса)63, состоянием
357
социума и индивида. Но ведь и праздник как особый культурный
феномен в одной из своих ипостасей, охарактеризованных выше
(как период временного переворачивания существующих иерархий,
отказа от господствующих ценностей, как "нырок в хаос, в саму
стихию жизни", когда "общество высвобождается из навязанных
норм, смеется над своими богами, началами и законами — короче,
упраздняет само себя"64), также может быть охарактеризован как
"воплощенное беспокойство границы" цивилизации и варварства.
Правда, здесь требуется одна существенная оговорка: в условиях
"классических" цивилизаций подобного рода временный беспоря-
док выступает как средство укрепления и обновления порядка, су-
ществующей нормативности, системы ценностей, то есть того еди-
ного, что цементирует фундамент цивилизации. В цивилизацион-
ном "пограничье" иная ситуация. Как писал О.Пас, "наш праздник
непохож на возврат к изначальной сумятице и раскованности. Не
вернуться мы хотим, а уйти от себя, себя преодолеть. Праздник для
нас — взрыв, выброс. Смерть и жизнь, восторг и стенание, песня и
крик сливаются на наших праздниках, но сами мы не возрождаем-
ся, не обретаем себя, а истребляем друг друга... Если в будничной
жизни мы от себя таимся, то в круговороте праздника выплескива-
емся. Мы не просто раскрываем, а буквально раздираем себя"65.
Подобный стиль поведения достаточно часто влечет за собой си-
туацию, когда "веселье кончается плохо — ссорой, оскорблениями,
перестрелкой", но, замечает, О.Пас, "это тоже часть праздника"66.
Безусловно, такого рода "праздничное" поведение — за гранью
любой цивилизационной нормы. Но здесь, в цивилизационном
"пограничье" беспорядок — не сугубо временное, контролируемое
явление, средство укрепления противоположной стороны противо-
речия — порядка; в условиях Латинской Америки, как и иных ци-
вилизаций этого типа есть, по-видимому, резон говорить не о
"нырке в хаос", а о "плавании в водах хаоса", который в то же
время не совсем хаос: в этом отношении Латинская Америка срод-
ни России, о которой В.Н.Ильин говорил, что она — "не только
космос, но и хаос, она — хаосмос"67.
В условиях "пограничных" цивилизаций в феномене праздника
с особой силой проявляется общая черта данного цивилизационно-
го типа — постоянное балансирование на грани варварства. При-
чем праздник выступает как одна из основных форм, в рамках ко-
торых осуществляется подобное балансирование.
* * *
Один из возможных ответов на вопрос: почему Латинская Аме-
рика — самый "праздничный" континент в мире? — следует, по
моему, искать в следующем обстоятельстве: латиноамериканская
культурно-историческая общность как "пограничная" цивилизация
358
во многих отношениях изоморфна по своей структуре празднику
как особому феномену культуры. Помимо того, что и латиноамери-
канская цивилизация, и праздник как таковой — "воплощенное
беспокойство границы" цивилизации и варварства, это проявляет-
ся в специфическом подходе к проблеме меры.
Прямое следствие наличия у каждой из "классических" цивили-
заций единой религиозно-ценностной основы — онтологическое
равновесие. Наличие такого равновесия имело своим следствием
выдвижение на первый план в системе ценностей идеи меры (с осо-
бой ясностью и силой эта тенденция проявилась в рамках того на-
правления цивилизационного развития человечества, которое пред-
ставлено линией "Античность — Европа"). Как античное, так и ев-
ропейское представление о кардинальной аксиологической значи-
мости меры с лапидарной ясностью выразил Гераклит Эфесский:
"Солнце не перейдет своей меры, иначе его бы настигли Эринии,
помощницы Правды"68. Категория меры имеет парадигматическое
значение и для античного Средиземноморья, и для христианского
Запада. Без нее непредставимы ни эллинский рационализм, ни ка-
толическая теология, ни новоевропейская наука. Категория меры
находилась в центре внимания европейской философии Нового
времени, в особенности — немецкой классической философии. Ев-
ропейское представление о мере воплотилось и в специфических
чертах построения системы отношений внутри общества, а также
между человеком и обществом в рамках западной субэкумены. Оно
нашло свое конкретное выражение в убеждении о необходимости
существования определенной строго отмеренной дистанции между
человеком и человеком, человеком и обществом, — дистанции,
призванной создать институционально-нормативную систему за-
щиты внутреннего суверенитета каждого индивида69.
С понятием меры в западной традиции неразрывно связаны
представления о норме, в которой воплощаются законы (управляю-
щие как миром природы, так и человеческим миром), а также о гар-
монии, которая возможна лишь в случае реализации в действитель-
ности принципов меры и нормы.
В "пограничных" цивилизациях мы наблюдаем совершенно
иную картину. Доминирующий в типичной для них системе пред-
ставлений подход к проблеме меры (и, соответственно, к понятиям
нормы и гармонии прямо обусловлен отсутствием онтологического
равновесия, которое, в свою очередь, является прямым следствием
отсутствия монолитного религиозно-ценностного фундамента.
Можно сказать, что в основе духовного строя "пограничных" об-
щностей — идея постоянного перехода через грань меры как спосо-
ба бытия, выхода за поставленные человеку пределы, представле-
ние о реальности качественной цивилизации как о чем-то, принци-
пиально противоположном норме. В том, что касается Латинской
359
Америки, богатейший материал на эту тему можно найти в книге
А.Ф.Кофмана70.
Здесь, кстати говоря, также можно было бы провести множест-
во параллелей с Россией71, однако ограниченный объем данной
статьи не позволяет этого сделать.
Как уже не раз отмечалось выше, праздник — это всегда выход
за пределы существующих норм. Изоморфность структуры празд-
ника структуре цивилизации "пограничного" типа и в этом случае
представляется очевидной.
Утверждение принципа постоянного перехода через грань меры
в латиноамериканском (как, впрочем, и в российском) цивилизаци-
онном сознании неразрывно связано с отрицанием западного пред-
ставления о мере72. Это представление неразрывно связано абсолю-
тистскими претензиями западного разума, воплощенными в том
типе рациональности, которую М.Вебер назвал формальной73. Сле-
дует отметить, что логика формальной рациональности в корне
противоположна праздничности как особому состоянию духа и со-
циокультурному явлению. В принципе осуждение "праздности" не-
отделимо от духа формальной рациональности. Не случайно деяте-
ли Реформации резко выступали против оказавшегося "чрезмер-
ным", по их мнению, количества католических праздников: "Чрез-
мерное количество праздников стало казаться бедствием; время
стало настолько ценным, что его уже нельзя было тратить без поль-
зы"7*.
С утверждением "духа капитализма" (т.е., по Веберу, формаль-
ной рациональности) резко меняется система ценностных ориента-
ции в том, что касается соотношения праздника и будней. Для
"формально-рационального" типа сознания будни не просто важ-
нее праздника, но и "священнее", обладают высоким сакральным
статусом.
Приведем примеры, позволяющие ярко проиллюстрировать
противоположность двух типов сознания: формально-рациональ-
ного и праздничного (в латиноамериканском варианте). Сопоста-
вим два документа. Первый из них гласит: "Помни, что время —
деньги; тот, кто мог бы ежедневно зарабатывать по десять шиллин-
гов и тем не менее полдня гуляет или лентяйничает дома, должен —
если он расходует всего только шесть пенсов — учесть не только
этот расход, но считать, что он истратил или, вернее, выбросил
сверх того еще пять шиллингов"75. Эти слова принадлежат Б.Фран-
клину, одному из наиболее ярких выразителей "духа капитализма".
Люди, поглощенные "праздничной" стихией, согласно логике
"формальной рациональности", несомненно "выбрасывают деньги
на ветер" и тем самым являются морально ущербными.
А вот пример прямо противоположного подхода к жизни, при-
веденный О.Пасом. Однажды он разговорился с городским голо-
360
вой поселка неподалеку от Митлы и спросил его: "Сколько посту-
пает к вам в бюджет за счет налогов?" — "Три тысячи в год. Мы
люди бедные..." — "А на что же идут эти три тысячи песо?" — "Да
почти целиком на праздники. Поселок наш небольшой, но у нас
два собственных святых"76. Очевидно, совершенно аналогичный
подход к жизни демонстрируют и те рядовые участники бразиль-
ского карнавала, которые, по свидетельству их соотечественников,
"готовы потратить свою девятимесячную зарплату ради несколь-
ких дней сказки"77.
Резкое увеличение количества, разнообразия и размаха праздни-
ков в странах региона к югу от Рио-Гранде за последнее столетие
— прямое свидетельство и проявление процесса формирования в
Латинской Америке новой цивилизации. Посредством праздника
она утверждает собственную индивидуальность в мире культуры. В
конкретно-исторической ситуации Латинской Америки она неиз-
бежно утверждает свою "особость" прежде всего по отношению к
Западу, к лежащей в основе "фаустовской" цивилизации логике
формальной рациональности.
Разумеется, ситуацию нельзя упрощать: абсолютизировать про-
тивопоставление "духа капитализма" и "духа праздника" не следу-
ет. Логика "формальной рациональности", несомненно, проникла
и в сферу праздника, в том числе и латиноамериканского, под-
тверждением чего может служить тот процесс коммерциализации,
который охватил эту сферу в последние десятилетия78. Однако пока
нет оснований говорить, что данный процесс изменил цивилизаци-
онную сущность латиноамериканского праздника.
Бурное расширение сферы "праздничной" культуры в Латин-
ской Америке — это, бесспорно, реакция на культурную экспансию
Запада, на тенденцию нивелировать весь мир в соответствии с
принципами "формальной рациональности".
* * *
С уже охарактеризованными структурными особенностями ци-
вилизаций "пограничного" типа (ключевая роль природного фак-
тора в цивилизационной системе, характер социальной и культур-
ной действительности как "пограничья" между цивилизацией и
варварством, постоянный переход через грань меры как способ
бытия человека и общества) связано и специфическое построение
их пространственно-временной структуры. В принципе любая ци-
вилизация или культура (как, впрочем, и вообще любая система
нашей Вселенной) может быть рассмотрена как пространственно-
временной континуум, т.е., иными словами, являет собой нераз-
361
рывное единство пространства и времени. Однако соотношение
между пространственными и временными параллелями отличается
в разных социокультурных общностях и принципиально отличает-
ся в различных цивилизационных типах. Так, в обеих "погранич-
ных" цивилизационных системах планетарного масштаба, Рос-
сии — Евразии и Латинской Америке, пространство обладает со-
вершенно иным, качественно более высоким статусом по сравне-
нию с "классическими" цивилизациями. Как в российском, так и в
латиноамериканском случае в рамках единого континуума культу-
ры пространство доминирует над временем, определяя главные ха-
рактеристики данного континуума. В субэкуменах же картина
прямо противоположная79. Характерно в этом плане, что акценти-
ровка особой роли пространства (бескрайнего, безграничного, без-
мерного и т.п.) в России — Евразии и в Латинской Америке —
общая типичная черта как российской, так и латиноамериканской
мысли80.
В латиноамериканском случае ключевая роль пространства в
пространственно-временном континууме цивилизации имеет своим
коррелятом особую роль "праздничного" пространства в простран-
ственно-временном континууме праздника. Это — специфическая
разновидность историко-культурного пространства, "как правило,
место для совершения специальных актов, закрепленное за опреде-
ленным участком местности. Но это не просто физическая террито-
рия, участок земной поверхности. Как и в случае с праздничным
временем, здесь правят свои особые законы, разрешающие делать
то, что запрещается в других местах, и наоборот"81. К "празднич-
ному" пространству относятся отнюдь не только места для игр и
развлечений, но и жертвенники, алтари. Как правило, оно тяготеет
к определенным центрам, носящим сакральный характер. Причем
пространство латиноамериканского праздника неоднородно: для
него типично сосуществование священных центров, воплощающих
в себе принципиально отличающиеся друг от друга типы сакраль-
ности. Чаще всего это зримое воплощение симбиотической формы
взаимодействия разнородных культурных реалий, однако в ряде
случаев есть основания говорить и о противостоянии культур. По-
жалуй, одной из самых ярких иллюстраций только что сформули-
рованных положений может служить уже упоминавшийся мекси-
канский "карнавал мертвых". Так, по свидетельству Е.А.Козловой,
"в День Всех Святых церковный алтарь для мексиканцев — лишь
один из сакральных центров и в восприятии очень многих, похоже,
не самый главный. Два других — накрытый стол у домашнего
очага и родные могилы, в полном соответствии с логикой язычес-
кого обряда поминовения предков"82.
Ключевая роль пространства в континууме "праздничной"
культуры во многом связана с тем обстоятельством, что нации Ла-
362
тинской Америки (и, соответственно, национальные культуры) на-
ходятся в процессе становления, который, по всей видимости, не
нашел своего окончательного завершения нигде на континенте. В
подобной ситуации пространство выступает как наиболее устойчи-
вый элемент структуры формирующейся цивилизации. Именно
отождествление с определенным пространством, а не принадлеж-
ность к какой-либо из взаимодействующих в рамках этого про-
странства культурных традиций, играло и играет определенную
роль в процессах национальной самоидентификации на континен-
те. К этому следует добавить, что принадлежность к определенно-
му пространственному ареалу играет ключевую роль для участни-
ков столь многочисленных во всех странах Латинской Америки
местных праздников, ориентированных, чаще всего, на локальные
сакральные локусы.
Преобладание пространства над временем в континууме лати-
ноамериканской "праздничной" культуры проявляется также в
весьма специфическом, качественно отличном от европейского,
восприятии таких важнейших элементов праздника, как музыка и
пение. Последние трактуются как ритуальные акты единения с про-
странством, растворения в нем. При этом "музыка исходит из сак-
ральных локусов (из "сердца" земли, сельвы) — соответственно, ее
воспроизведение мыслится способом достижения сакрального
центра"83.
* * *
Прямое следствие преобладания принципа многообразия над
принципом единства в цивилизационном "пограничье", в том
числе и латиноамериканском, — конфликтное сочетание качествен-
но отличающихся друг от друга способов решения коренных экзис-
тенциальных проблем в рамках одной и той же цивилизационной
системы. Так, в том, что касается проблемы экзистенциального
предела (трансцендентной вертикали), для латиноамериканцев, с
одной стороны, типична мощная тяга к христианской религии (в
первую очередь, в католической, в последние же десятилетия —
также в протестантской версии), с другой — налицо сохранение за-
метных пластов "доосевого" мифологического сознания и отноше-
ния к миру. С наибольшей очевидностью эта черта проявилась в
религиозном синкретизме, свойственном очень значительной части
населения региона к югу от Рио-Гранде. Подобного рода синкре-
тизм наиболее ярко представлен именно в сфере праздника. Сумми-
руя результаты многочисленных исследований проблематики син-
кретизма84, можно выделить следующие основные формы сущест-
вования (в преобразованном виде) сохранившихся элементов доко-
лумбовых культов в рамках системы католической религии и цер-
кви:
363
1) включение индейских танцев (ритуальных по своему проис-
хождению и характеру) в организацию различных католических
праздников;
2) фактическое сохранение в некоторых странах традиционных
праздников местного языческого происхождения под христиански-
ми наименованиями;
3) продолжение существования местных святынь или божеств
под новыми католическими именами (как правило, местных святых
и связанных с ними предметов культа).
Противоречивость цивилизационного сознания "пограничных"
социокультурных систем в подходе к проблеме "трансцендентной
вертикали" проявилась не только в конфликтности сосуществова-
ния "осевых", христианских и "доосевых" пластов", но и в тех ме-
таморфозах, которые в условиях цивилизационного "пограничья"
претерпело само христианство. Чтобы прояснить суть дела, приве-
дем пространную цитату С.С.Аверинцева: "Расставшись с чистым
августинизмом во времена Аквината, католическое мировоззрение
делит мир не надвое ("свет" и "тьма"), а натрое: между горней об-
ластью сверхъестественного, благодатного, и преисподней облас-
тью противоестественного, которое до поры до времени живет по
своим законам, хотя и под властью Бога, расположена область ес-
тественного. Государственная власть принадлежит именно этой об-
ласти; только еретик способен видеть в ней устроение дьявола, но и
попытки неумеренно сакрализовать ее тоже неуклонно осужда-
лись...
Русская духовность делит мир не на три, а на два — удел света
и удел мрака; и ни в чем это не ощущается так резко, как в вопросе
о власти. Божье и Антихристово подходит друг к другу вплотную,
без всякой буферной территории между ними: все, что кажется зем-
лей и земным, — на самом деле или Рай или Ад; и носитель власти
стоит точно на границе обоих царств. То есть это не просто значит,
что он несет перед Богом особую ответственность, — такая триви-
альная система известна всем. Нет, сама по себе власть, по крайне
мере власть самодержавная, — это нечто, находящееся либо выше
человеческого мира, либо ниже его, но во всяком случае в него как
бы и не входящее. Благословение здесь очень трудно отделить от
проклятия"85. Склонность "делить мир не натрое, а надвое" — это
проявление особого культурного качества — антиномичности со-
знания и бытия, когда "крайности бытия России и ее духа сходятся
напрямую, без всяких опосредовании, переходов, промежуточных
звеньев или этапов: или — или!"86
Однако подобного рода антиномичность — свойство отнюдь не
только России. Она очень ярко проявляется и в Латинской Амери-
ке. Достаточно вспомнить проявившуюся в самом истоке латино-
американской цивилизации тенденцию мыслить проблематику Но-
364
вого Света в антиномических категориях: Рай — Ад. Мифологемы
"Рая Америки" и "Ада Америки" превратились в крайние полюса
смыслового поля интерпретации латиноамериканской действитель-
ности, играли ключевую роль в процессе смыслообразования87.
Тенденция к "лобовому", без опосредовании, столкновению поляр-
ностей сознания и бытия — в том числе и латиноамериканская ха-
рактеристика, хотя и проявившаяся в регионе к югу от Рио-Гранде
с меньшей степенью интенсивности и драматизма, чем в России.
Как нетрудно заметить, антиномичность по сути своей противо-
положна свойственной ортодоксальному католицизму тенденции
"делить мир натрое", нацеленной как раз на преодоление логики
антиномичности, на формирование "срединной культуры"88.
На мой взгляд, в латиноамериканском католицизме можно про-
следить столкновение данной, общекатолической черты с антино-
мичностью сознания и бытия, наиболее характерной для далеких
от католической ортодоксии течений "народного католицизма" и
"теологии освобождения".
Антиномичность ярко проявила себя в латиноамериканском
празднике, обусловив особую "экзистенциальную напряженность"
праздничной атмосферы на континенте: "Наши праздники, так же
как и наши душевные излияния, наша любовь и наши попытки
перестроить общество — это насильственные разрывы с прошлым
или с устоявшимся порядком. Всякий раз, когда мы пытаемся вы-
разить себя, нам приходится разрывать связь с самим собой"89.
Причем "праздник — лишь один, хотя и самый типичный, пример
такого разрыва... Что-то в нас самих мешает нам жить. И тогда, не
решаясь или не умея встать лицом к лицу с собственной судьбой,
мы зовем на помощь Праздник"90.
В интерпретации О.Паса, которому принадлежат эти слова, ла-
тиноамериканский праздник — это не столько средство разреше-
ния, сколько способ раскрытия противоречий, механизм воспроиз-
ведения изначально заложенной в цивилизационном коде Латин-
ской Америки антиномичности сознания и бытия. Эта тенденция,
несомненно, присутствует в латиноамериканском празднике. Одна-
ко, по моему убеждению, она не является ни единственной, ни до-
минирующей.
* * *
Для "пограничных" цивилизаций характерно конфликтное сосу-
ществование различных подходов и к сфере отношений "человек —
природа". Отчетливо проявившаяся в ходе цивилизационного про-
цесса тенденция к подчинению природным ритмам (получившая
наиболее полное развитие в индейских крестьянских общинах, но
наличествующая также и у представителей иных этнокультурных
общностей, прежде всего у метисов, проживающих в таких природ-
365
ных зонах, как Анды-Кордильеры и тропическая сельва) столкну-
лась с прямо противоположной тенденцией — стремлением при-
способить природу к человеческим потребностям, вплоть до про-
граммы тотального ее подчинения разуму и воле человека и пере-
делки в соответствии с европейскими и северо-американскими
стандартами у апологетов технического прогресса и промышленно-
го освоения природного потенциала континента91.
По моему мнению, это столкновение противоположных подхо-
дов к проблеме отношений человека и природы нашла свое отраже-
ние и в сфере праздника. Особенно ясно оно прослеживается в бра-
зильском карнавале, для которого характерно парадоксальное со-
четание исходящей от государства тенденции к тотальной регла-
ментации всей деятельности по организации и проведению празд-
ника, стремления полностью подчинить его природно-витальную
стихию целям стабилизации существующей общественно-полити-
ческой системы и невиданной силы спонтанного проявления самой
этой стихии, априорно отторгающей всякие попытки регламента-
ции.
* * *
Для цивилизационного "пограничья", в том числе и для латино-
американской цивилизации, характерно столкновение противопо-
ложных подходов также и к проблеме соотношения индивида и со-
циума. Так, тенденция подчинения личности общности в различ-
ных ипостасях — от индейской общины до государства,— ярко
проявлявшаяся на всем протяжении латиноамериканской истории,
соседствует с крайним индивидуализмом, тягой к свободе без гра-
ниц, к полному своеволию.
Как уже отмечалось выше, праздник как особое явление культу-
ры характеризуется несомненным преобладанием социального на-
чала над индивидуальным. В этом плане ключевая роль праздника
в латиноамериканской культуре, казалось бы, должна свидетельст-
вовать о безусловном преобладании общности над личностью в ла-
тиноамериканском цивилизационном контексте. Однако на деле
ситуация более сложная: прямо противоположная тенденция — ут-
верждение индивидуалистических ценностей — проявила себя и в
сфере праздника, в том числе и в регионе к югу от Рио-Гранде. В
Латинской Америке проявилась та универсальная тенденция к
"раздвоению" праздника, о которой писал, в частности, А.И.Маза-
ев (правда, только применительно к "буржуазному обществу"):
"Своим результатом этот длительнейший процесс имеет здесь на
сегодняшний день, во-первых, полное огосударствление праздника,
превращение его в официально-парадное торжество, и, во-вторых,
обытовление праздника, или интимизацию его, что означает уход
от формы культуры в другую крайность, в сферу исключительности
366
домашнего или интимно-группового быта". Подобного рода "раз-
двоение некогда единой праздничной культуры" характеризуется
включением в содержание данной культуры "личного, индивидуа-
листического начала, ранее ей не свойственных, и в то же время ут-
ратой всенародной праздничности, распадом целостной чувствен-
ности"92. Как заметил Жан Дювинью, один из наиболее известных
французских авторов, писавших о феномене праздника, техничес-
кие новинки 80-90-х гг., особенно видео, во многом способствова-
ли увеличению значения "интимно-бытовой" сферы в праздничной
культуре"93.
Следует особо отметить, что в Латинской Америке процесс
"раздвоения праздника" не получил столь же полного развития и
завершения, как на Западе. В странах региона к югу от Рио-Гранде
не соблюдается ни полного огосударствления, ни полной интими-
зации в сфере праздничной культуры, хотя тенденции в обоих на-
правлениях прослеживаются довольно четко.
Хотя в Латинской Америке можно наблюдать достаточно кон-
фликтное сосуществование официального и народного праздника,
между ними нет здесь абсолютной пропасти. Это объясняется
двумя причинами: во-первых, официоз в Латинской Америке свя-
зан с культом относительно недавно (по меркам мировой истории)
приобретенной независимости (и через этот канал праздничная
"почва" продолжает в той или иной мере питать официальные
празднества); во-вторых, сама официозная праздничность в Латин-
ской Америке во многом структурируется по законам мифологи-
ческого мышления, очень глубоко укорененного в народе: празд-
ник независимости моделируется как ритуал приобщения ко "вре-
мени первотворения" (как правило, в этой роли выступает эпоха
войны за независимость), которое выполняет функцию аналога
сакрального времени архаического мифа; в роли культурных геро-
ев-демиургов выступают, соответственно, "отцы-основатели" лати-
ноамериканских государств, идеологи и вожди войны за независи-
мость.
* * *
Для Латинской Америки, как и для всего цивилизационного
"пограничья" характерно также сочетание противоречащих друг
другу подходов к проблеме соотношения традиционной и иннова-
ционной сторон культуры. На протяжении истории континента
стремление неукоснительно следовать традиции, ничего не меняя в
сложившемся строе жизни (наиболее заметное у членов индейских
общин, но достаточно типичное также для части креольского об-
щества, ориентированной на сохранение иберийского колониаль-
ного наследия), не раз вступало в противоречие с тенденцией к аб-
367
солютному, тотальному отрицанию прошлого, к катастрофическо-
му "сбрасыванию" информации об опыте предшествующего этапа.
Для латиноамериканского праздника свойственно столь же про-
тиворечивое сочетание различных подходов к сфере отношений
"традиция — инновация", как и для латиноамериканской цивили-
зации в целом. Так, праздник в регионе к югу от Рио-Гранде, как и
повсюду в мире, — неотъемлемая часть механизма традиции. Каза-
лось бы, столь значительная роль праздника в цивилизационной
системе Латинской Америки должна свидетельствовать об одно-
значном безусловном доминировании традиционной стороны куль-
туры над инновационной. В архаических, в том числе и доколумбо-
вых культурах дело именно так и обстоит: ключевое значение
праздника в цивилизационной системе прямо обусловлено ритуа-
лизацией всех сторон жизни, полным преобладанием традиции над
инновацией в системном единстве культуры.
Однако в случае с Латинской Америки как таковой (т.е. миром,
родившимся в ходе и в результате взаимодействия различных эле-
ментов) преимущественно "праздничный" характер культуры свя-
зан не столько с преобладанием традиции над инновацией, сколько
с тем, что праздник, несмотря на черты антиномичности (и вопреки
им) выполняет функцию сближения и интегрирования качественно
разнородных культурных начал.
Впрочем, это отнюдь не означает, что праздник в Латинской
Америке не связан с архаикой: так, для многочисленных празд-
неств автохтонного населения и афроамериканцев характерно по-
стоянное воспроизведение глубоко архаичных черт. Однако этим
дело не ограничивается.
Несомненно, глубокие архаические корни имеет латиноамери-
канский карнавал. Так, по-видимому, подавляющее большинство
его участников согласились бы с утверждением каннибалов ютото:
"...ведь мы работаем только для того, чтобы иметь возможность
танцевать"94. Разумеется, значение танца и его функция существен-
но отличаются в обоих случаях. Для находящихся на стадии перво-
бытности ютото "танцы есть не что иное, как воспроизведение всех
мифических событий, в том числе и первого убийства, за которым
следовала антропофагия"95. В латиноамериканских (если оставить
за скобками чисто традиционные индейские и африканские) танцах
на первый план выдвигается не следование некоему изначально за-
данному сакральному образцу, не ритуальное воспроизведение со-
бытий эпохи первотворения, но все та же интегративная функция
сближения взаимодействующих традиций.
Будучи неотъемлемым важнейшим элементом механизма куль-
туротворчества, праздник является в то же время, как справедливо
заметил В.Б.Земсков, "цивилизационно-строительный машиной"96.
Иными словами, праздник в Латинской Америке выступает как
368
важнейший фактор создания качественно новой реальности, то
есть является — в этой своей ипостаси — мощной новаторской
силой.
В чем, собственно, латиноамериканская специфика в рамках ци-
вилизационного "пограничья"? На мой взгляд, исчерпывающий
ответ на этот вопрос могут дать лишь дальнейшие исследования.
Однако некоторые выводы можно сделать уже сейчас.
В Латинской Америке, по-видимому, с наибольшей силой про-
явилась основополагающая черта всех цивилизаций "погранично-
го" типа — принцип преобладания многообразия над единством.
"Демонстративная синкретичность"97 латиноамериканского празд-
ника — наиболее яркое и зримое воплощение данного принципа.
В регионе к югу от Рио-Гранде наиболее отчетливо проступает
еще одна общая структурная характеристика цивилизационного
"пограничья" — качественно иная по сравнению с субэкуменами,
существенно более значительная роль природного фактора в циви-
лизационной системе. Несмотря на все попытки власть предержа-
щих полностью поставить праздник под свой контроль, в Латин-
ской Америке свобода проявления природно-витального стихийно-
го начала в "праздничной" культуре так велика, как, пожалуй,
нигде больше в мире, включая и все иные "пограничные" цивили-
зации.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура сре-
дневековья и Ренессанса. М., 1965. СП.
2 Жигульский К. Праздник и культура. Праздники старые и новые. Раз-
мышления социолога. М., 1985. С. 63.
3 Шемякин Я.Г. Роль европейского начала в цивилизационном процес-
се в Латинской Америке: проблема соотношения универсального и на-
чального. / Гончарова Т.В., Стеценко А.К., Шемякин Я.Г. Универсальные
ценности и цивилизационная специфика Латинской Америки. Книга I. М.,
1995. С. 9-10.
Durkheim E. Les formes élémentaires de la vie religieuse. Paris, 1912.
P. 547.
5 Элиаде M. Священное и мирское. M., 1994. С 93, 127, 136.
6 Мазаев А.И. Праздник как социально-художественное явление. М.,
1978. С 12.
7 Цит. по: Роднянская И.Б. Кокс Х.Г. Праздник шутов. Теологический
очерк празднества и фантазии. / Современные концепции культурного
кризиса на Западе. М., 1976. С. 119-120.
8 Элиаде М. Указ. соч. С. 47.
9 Там же. С. 47.
13-5470
369
10 Там же. С. 27-28.
11 См., напр.: Кофман А.Ф. Латиноамериканский художественный
образ мира. М., 1997. С. 36-38.
12 Жигульский К. Указ. соч. С. 58.
13 Мазаев А.И. Указ. соч. С. 85.
14 Бахтин М.М. Указ соч. С. 12.
15 Мазаев А.И. Указ. соч. СИ.
16 Праздник как феномен ибероамериканской культуры // Латинская
Америка, 1997, № 11. С 58 и др.
17 Бахтин М.М. Указ. соч. С. 300.
18 Мазаев А.И. Указ. соч. С. 70.
19 Сох H.G. Feast of fools. A theological essay on festiviti and fantasy.
Harvard, 1969.
20 Мазаев А.И. Указ. соч. С. 71.
21 Там же. С. 71.
22 См., напр.: Курьер ЮНЕСКО, 1990, февраль. С 38-41.
23 Мазаев А.И. Указ. соч.. С. 31.
24 Праздник как феномен ибероамериканской культуры // Латинская
Америка. 1997, № 12. С. 84.
25 Там же.
26 Бахтин М.М. Указ. соч. С. 15.
27 Там же. С. 16.
28 См., напр.: Жигульский К. Указ. соч. С. 59-66.
29 Элиаде М. Указ. соч. С. 53-69.
30 Там же. С. 58.
31 См.: Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. М., 1976. С. 140; Маза-
ев А.И. Указ. соч. С. 102.
32 Жигульский К. Указ. соч. С. 21.
33 Мазаев А.И. Указ. соч. С 77.
34 Там же.
35 Там же. С. 74.
36 Липе Ю. Происхождение вещей. Из истории культуры человечества.
М., 1954. С 184.
37 Мазаев А.И. Указ. соч.. С 80.
38 Альтернативность истории. Донецк, 1992. С. 62-63; Шемякин Я.Г.
Латинская Америка: традиции и современность. М., 1987. С. 43-44.
39 Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 1. М., 1991. С. 252-253.
40 Элиаде М. Указ. соч. С 48-69.
41 Там же. С. 50, 73.
42 Мазаев А.И. Указ. соч. С. 132, 178-391.
43 Праздник как феномен ибероамериканской культуры // Латинская
Америка. 1997, № U.C. 73.
44 Цивилизационные исследования. М., 1996. С. 26-68.
45 Цивилизационные исследования. Указ. соч. С. 27-31; Сравнительное
изучение цивилизаций. М., 1998. С. 453-456.
46 Померанц Г.С. Теория субэкумен и проблема своеобразия стыковых
культур / Выход из транса. М., 1995. С. 205-227.
370
47 По меньшей мере вплоть до 2-й половины XX в.; в настоящее время
доминантой их цивилизационного развития является процесс постепенной
интеграции в цивилизационную систему Запада.
48 См.: Праздник как феномен ибероамериканской культуры // Латин-
ская Америка. 1997, № 11. С. 61-65; № 12. С. 78-82; "Курьер ЮНЕСКО",
1990, февраль. С. 19-24.
49 Шемякин Я. Г. Перспективы сравнительного изучения России и Ибе-
роамерики / Цивилизационные исследования. М., 1996. С. 31.
50 Праздник как феномен ибероамериканской культуры // Латинская
Америка. 1997, № 12. С. 81.
51 Шемякин Я. Г. Роль европейского начала в цивилизационном про-
цессе в Латинской Америке: проблема соотношения универсального и ло-
кального // Гончарова Т.В., Стеценко Л.К., Шемякин Я.Г. Указ. соч. С. 47-
53.
52 Там же. С. 51.
53 Три каравеллы на горизонте. М., 1891. С. 101-104.
54 Праздник как феномен ибероамериканской культуры // Латинская
Америка. 1997, № 11. С. 69.
55 Кофман А.Ф. Указ. соч. С. 267-268.
56 См., напр.: Documentas indios. Declaraciones у pronunciamentos.
Quito, 1991.
57 Праздник как феномен ибероамериканской культуры // Латинская
Америка. 1986, № 7. С. 132-139; там же: 1991, № 4. С. 31; Iberica Ameri-
cans. Культуры Нового и Старого Света XVI-XVIII вв. в их взаимодейст-
вии. СПб., 1991. С. 39-40.
58 См.: Шемякин Я.Г. Европа и Латинская Америка: взаимодействие
цивилизаций в контексте всемирной истории. М., 2001.
59 Бердяев H.A. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 8.
60 Там же.
61 Степун Ф.А. Мысли о России // "Новый мир", 1992, № 6. С. 221 и
др.; Цивилизации и культуры. Россия и Восток: цивилизационные отно-
шения. Вып. 2. М., 1995. С. 175; Лосский И.О. Характер русского народа.
Книга первая. М., 1990. С. 52; Книга вторая. С. 52, 54-55; Латинская Аме-
рика и мировая культура. Вып. I. М., 1995. С. 8, 47 и др.
62 Шемякин Я.Г. Личностный уровень межцивилизационного взаимо-
действия и типы творческой личности в Латинской Америке // Iberica
Americans. Тип творческой личности в латиноамериканской культуре. М.,
1997. С. 15-38.
63 Шемякин Я.Г. Теоретические проблемы исследования феномена аль-
тернативности/Альтернативность истории. Донецк, 1992. С. 56-61.
64 Пас О. Поэзия. Критика. Эротика. М., 1996. С. 25.
65 Там же. С. 26.
66 Там же. С. 24.
67 Ильин В.Н. Эссе о русской культуре. СПб., 1997. С. 60.
68 См.: Материалы древней Греции. М., 1855. С. 50.
69 Аверинцев С.С. Византия и Русь: два типа духовности // Новый мир,
1988, №9. С. 229.
13*
371
70 КофманА.Ф. Указ. соч. С. 31-36.
71 См., напр.: Бердяев H.A. Истоки и смысл русского коммунизма.
Указ. соч. С. 9; он же. Судьба России. М., 1990. С. 30-33; Аверинцев С.С.
Указ. соч. С. 229; Лосский Н.О. Указ. соч. Книга первая. С. 9, 52; книга
вторая. С. 53.
72 См., напр.: Аверинцев С.С. Указ. соч. 1988, № 9. С. 229; Лосский Н.О.
Указ. соч., книга вторая. С. 53; Карпентьер А. Мы искали и нашли себя.
М., 1984. С. 49, 117; Кофман А.Ф. Указ. соч. С. 35, 187-298.
73 Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
74 Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990. С. 58.
75 Цит. по: Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 71.
76 Пас О. Поэзия. Критика. Эротика. М., 1896. С. 23.
77 Курьер ЮНЕСКО, 1990, февраль. С. 41.
78 См., напр.: Курьер ЮНЕСКО, 1990, февраль. С. 40-41.
79 См., напр.: Карпентьер А. Указ. соч. С. 49; Кофман А.Ф. Указ. соч.
С. 37-38; Гачев Г.Д. Образ в русской художественной культуре. М., 1981.
С. 62; Цивилизации и культуры. Вып. 3. С. 39.
80 Мазаев А.И. Указ. соч. С. 71.
81 Праздник как феномен ибероамериканской культуры // Латинская
Америка. 1997, № 11. С. 62-63.
82 Там же.
83 Кофман А.Ф. Указ. соч. С. 262.
84 См., напр.: Estudios sobre el sincretismo en America Central y en los
Andes // Bonner Americanistische Studien, 1996, vol. 26; Mazzal M.M. El sin-
cretismo iberoamericano. Lima, 1985.
85 Аверинцев C.C. Византия и Русь: два типа духовности // Новый мир,
1988, №9. С. 234-235.
86 Кондаков И.В. Введение в историю русской культуры. М., 1997,
С. 49.
87 Земское В.Б. Категории гармонии и дисгармонии в латиноамерикан-
ском культурном процессе / Iberica Americans. Механизмы культурообра-
зования в Латинской Америке. М., 1994. С. 34-42.
88 Ахиезер A.C. Россия: критика исторического опыта. Т. 3. М., 1991.
С. 336-337.
89 Paz О. El laberinto de la soledad. Mexico, 1981. P. 47-48.
90 Пас О. Указ. соч. С. 26-27.
91 Шемякин Я.Г. Специфика латиноамериканской цивилизации / Срав-
нительное изучение цивилизаций. Хрестоматия. М., 1998. С. 454.
92 Мазаев А.И. Указ. соч. С. 103.
93 См.: Курьер ЮНЕСКО, 1990, февраль. С. 12.
94 Элиаде М. Указ. соч. С. 68.
95 Там же. С. 68-69.
96 Праздник как феномен ибероамериканской культуры // Латинская
Америка. 1997, № 12. С. 91.
97 Там же.
372
ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗ ДИСКУССИИ ЗА "КРУГЛЫМ СТОЛОМ".
ПРАЗДНИК КАК ФЕНОМЕН ИБЕРОАМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ!
В.Ю.СИЛЮНАС, профессор, д-р искусствоведения
Роль праздника в создании культуры огромна, а во многие исто-
рические периоды он имеет решающее значение. Известно, что
театр в Старом Свете рождался дважды — в античной Греции и в
средневековой Европе, и оба раза он был порожден праздником.
Праздник — переход от обыденного к мифопоэтическому, сак-
ральному и символическому бытию.
Ю.М.Лотман отмечал, что в XVIII в. меч превращается на
праздничном параде в маленькую шпагу, она же "оказывается
вплетенной в систему символического языка эпохи и становится
фактом ее культуры. Область культуры, — заключает ученый, —
всегда область символизма"1.
Таких праздничных превращений множество, праздник — это
огромный неоскудевающий питомник символов; сама праздничная
обрядовость — не что иное, как символическое действие или, точ-
нее, действо. Статуи, которые носят по улицам на церковных
праздниках, изображают символическое шествие Христа, Девы
Марии и святых по городам и поселкам. Сходство с театром стано-
вится еще более очевидным, когда проезжают повозки, где скульп-
туры или люди (а нередко те и другие вместе) образуют пластичес-
кие композиции, или "живые картины", едва ли отличающиеся от
театральных мизансцен.
Но это лишь наиболее наглядный пример того, как на праздни-
ке все обретает символический или явно художественный облик.
Подчеркнем слово обретает — праздник нельзя рассматривать как
застывшее понятие, праздник — это непрерывное, безостановочное
движение, становление, изменение, он полон травестий и трансфор-
маций; не случайно праздники достигают апогея в одержимом
духом метаморфоз XVII веке — веке барокко. Праздник не пребы-
вает, а протекает, являясь самым динамичным модусом существо-
вания. Если — как это часто бывает — отмечается давно свершив-
шееся событие, то оно символически свершается заново, возвраща-
ясь в живой поток времени. В чем-то отождествляясь с прошедшим
событием, праздник никогда не бывает тождествен самому себе, в
Латинская Америка. 1997, №№ 11, 12.
373
каждое мгновение в нем возникает нечто другое, он создает себя
сам, причем, что важнее всего для нашей темы, создает в качестве
значимой, прекрасной и идеальной формы жизни, в качестве ино-
бытия, более совершенного, чем будни. В этом опять-таки его сход-
ство с художественной культурой, однако в последней трансформа-
ция исходного материала приводит к созданию произведений,
имеющих те или иные рамки, которые отделяют данные творения
от окружающего мира, — праздник же от него не отграничен. Он
создает не отдельное произведение, а лучшую жизнь, ее саму преоб-
разовывает, и это преобразование дает о себе знать в богатстве раз-
нородных образов.
Праздник не только пракультура ("эстетическое сознание на-
рождается среди традиционного обихода праздников"2), не только
"очень важная первичная форма человеческой культуры"3 — спо-
собность порождать культуру, давать ей новые импульсы не утра-
чивается и при замечательно развитом художественном творчестве.
Так происходит в Испании и Латинской Америке XVI— XVII вв.,
когда культура соприкасается с какими-то существенными пласта-
ми действительности не непосредственно, а только после того, как
они прошли своего рода праздничную обработку, приобрели не-
смываемый отпечаток праздника. В исторически мощных культу-
рах — античность, Ренессанс, барокко — жизнь входит в искусство
не только в повседневном, но и в праздничном — маскарадном и
сакрально-художественном — обличий. Искусство работает с "обо-
гащенной рудой" жизни, насыщенной праздничной яркостью. Ба-
рочный трагизм в итоге сплетается с буйным весельем, сознание
кризиса общественных устоев неотделимо от принятия бытия (при-
нятие бытия — свойство не только ренессансной, но и всякой
праздничной культуры и Ренессансом, конечно же, не ограничива-
ется). Искусство вовсе не торопится окончательно эмансипировать-
ся от праздника, разорвать кровные узы с ним, скорее, наоборот —
испанские и латиноамериканские праздники XVI— XVII вв. свиде-
тельствуют, что архитектура и живопись, скульптура и театр охот-
но возвращаются в праздничное лоно: по улицам проносят и про-
возят статуи и картины, сооружаются импровизированные алтари
и триумфальные арки. Форма трехактного, разбитого интермедия-
ми спектакля, возникшая в стенах публичного театра-корраля,
также интегрируется в праздники, и на площадях разыгрываются
"драмы о святых".
Так происходит, пожалуй, потому, что искусство, становясь час-
тью праздника, удовлетворяет жажду влияния на действитель-
ность — ведь праздник творит саму жизнь. В данном случае худо-
жественная культура получает возможность наиболее активно
воздействовать на людей.
374
Испанцы прекрасно понимали, что праздник — это не только
утверждение духовных ценностей, но и превращение их в ценности
жизненные; праздник, как указывал Бахтин, не созерцают, в празд-
нике живут. Немудрено, что в Латинской Америке в эпоху еванге-
лизации не столько ставились театральные спектакли, сколько уст-
раивались театрализованные праздничные действа, призванные ин-
тегрировать, максимально вовлечь всех в происходящее. В 1539 г. в
Мехико для представления "Завоевания Родоса" были построены
замки с башнями и зубчатыми стенами, сооружены искусственные
горы, утесы, сады и т.п. — в создании всего этого участвовали
около 50 тыс. человек; по площади разъезжали корабли на колесах.
В грандиозном действе "Завоевание Иерусалима", разыгранном 5
июня 1539 г. в Тлашкале, где христианские войска во главе с импе-
ратором Карлом V и Папой штурмовали захваченную маврами
твердыню, не только сражались костюмированные кастильские, ле-
онские, толедские, арагонские, галисийские, бискайские, гранад-
ские, наваррские, немецкие, итальянские, тлашкальские, миштек-
ские, карибские, гватемальские и прочие потешные полки, бились
Эрнан Кортес, Великий Султан Турецкий, Тетрарх Иерусалимский,
конкистадоры, монахи, ангелы, Михаил Архангел, апостол Сантья-
го, не только стреляли мушкеты и пушки, индейцы не только пре-
вращались в крестоносцев, но и в конце принимали — отнюдь не
понарошку — крещение! Праздник коренным образом менял их
судьбу. Трудно придумать более яркий пример, указывающий на
жизнестроительную роль праздника!
Но это отнюдь не единичный случай, свидетельствующий, что
все достижения культуры и искусства, присваиваемые праздником,
обретают огромную витальную энергию. В 1662 г. в Валенсии на
празднике в честь установления догмата непорочного появления на
свет Девы Марии на одной из повозок перед статуей Богоматери
стоял печатный станок, множивший защищающие догмат листовки,
которые тут же раздавались окружающим; новый догмат отпечаты-
вался не только на бумаге, но и в сознании участников праздника.
Обратной стороной упования на огромную силу праздника, на
его, так сказать, "положительную магию" является страх перед дья-
вольской магией, злыми кознями, колдовством и шабашем ведьм
как антипраздником. Это не удивительно: праздник — явление не
только сверхобыденное, но и тяготеющее к сверхъестественному,
чудесному, он переносит участников в новое измерение реальности,
в "Зазеркалье", в особое, идеальное царство; праздники — это ре-
альное переживание идеального; близость праздника чудесному,
волшебному, гипнотическому, его невероятная суггестивность —
качества, которые желает позаимствовать и часто заимствует искус-
ство. Художественные ценности долго воспринимались преимуще-
ственно в праздничном бытовании, и в Новое время искусство чув-
375
ствовало — в праздничном виде оно легче всего может пленять серд-
ца. Показательно, что из трех видов испанского и латиноамерикан-
ского театра XVI— XVII вв. — ауто сакраменталь, куртуазный и
публичный театр — лишь спектакли последнего давались не в
праздничные дни. Но тем настойчивее и успешнее публичный театр
конституировал себя как праздничное искусство — между актами ко-
медии или драмы разыгрывались шумные, искрометные, карнаваль-
ные интермедии, в которых нередко воскресали покойники и жизнь
непременно торжествовала над смертью, превращаясь в ликующее
веселье и грандиозное пиршество. Завершались публичные спектак-
ли шумной маскарадно-плясовой мохигангой, а начинались с музы-
кальной увертюры и похожего на выступления площадных глашата-
ев пролога-лоа, в котором звучали пиршественные мотивы, мир
оказываются съедобным великаном, чьи кости — из фиников,
плоть — из айвы, кровь — из вина, зубы — из чеснока, и всех призы-
вали отведать копченых ляжек, свиных колбас и прочих яств4.
Все это вкупе со звонкостью речей, красочностью одежд и ост-
роумием шутов-грасьосо делало публичные спектакли приподня-
тыми, радостными и великолепными, они уподоблялись празднику
как по форме, так и по существу, приобщали к высшим ценностям,
прежде всего к любви, доблести и чести, внушали веру в возмож-
ность счастливого разрешения любых противоречий, способствова-
ли людской общности и гармонизировали эту общность.
Гармонизирующая роль праздника наглядно проявилась в Ла-
тинской Америке, где индейцев и испанцев — людей, принадлежа-
щих к столь разным культурам, — объединяли общие праздничные
архетипы.
В XVI в. Торибио де Мотолиниа писал о своих соотечественни-
ках-индейцах, что для них праздник волхвов "был очень радост-
ным, потому что казался им собственным их праздником5. По сви-
детельству иезуита Педро де Моралеса, в Мехико в 1578 г. на пыш-
нейшем празднике в честь переноса святых мощей навстречу рели-
квиям вышли индейские мальчики в национальных одеждах с
многочисленными украшениями и ацтекскими плюмажами и стан-
цевали традиционный индейский танец, аккомпанируя на тепонац-
тле. Спустя полвека в Мехико же праздничная барочная постанов-
ка "Комедии о святом Франсиско де Борха" Матиаса де Боканегры
завершалась танцем митоте, или токотин, исполняемым индейцами
"в ярчайших одеждах из ламы, отделанных золотом, в пледах с кат-
лями или котурнами с драгоценными камнями, в копилах или диа-
демах с жемчугами и бриллиантами, в плюмажах из зеленых пе-
рьев, одного этого танца и его красочности было бы достаточно,
чтобы блистал праздник. Аккомпанировали им индейские музы-
канты на позолоченных аякацтлях или забавных сушеных тыквах,
полных камешков, а на другой стороне помоста мальчик-певец
376
играл на тепонацтле — индейском музыкальном инструменте, со-
провождающем танцы"6.
Но и раньше, когда в 1539 г. в Тлашкале разыгрывалось "Жер-
твоприношение Исаака", дом Авраама был похож не на суровое
жилище ветхозаветного патриарха, а на роскошный, убранный цве-
тами дворец Моктесумы, и обращение к Солнцу звучало почти как
гимн ацтекского жреца, славящего священное светило.
Мы имеем здесь дело, похоже, не с каким-то недосмотром или,
наоборот, с изощренным политическим расчетом испанцев, а со
стихийно интегрирующей мощью праздника.
Выше шла речь преимущественно об универсальных, онтологи-
ческих свойствах праздников, но не следует забывать и об истори-
чески изменчивых его особенностях и специфических разновиднос-
тях, хотя вряд ли стоит, как это, например, сделал Бахтин, абсолю-
тизировать исторические и социальные различия. Разумеется, с
одной стороны, существуют карнавальные увеселения, утверждаю-
щие благое могущество природы, ее неустанного живительного во-
доворота, с другой — церковные торжества, достигающие апогея в
эпоху барокко, прославляющие сверхприродное могущество духа.
Праздник и искусство контрреформации шли в этом прославлении
навстречу друг другу, происходили, помимо всего прочего, не толь-
ко глубочайшее проникновение религиозных мотивов и образов в
театр, но и невиданная театрализация богослужения: проповедни-
ки экспрессивно жестикулировали, демонстрировали верующим че-
репа, указывали внезапным движением руки на нишу, в которой
поднимался занавес, обнаруживая статую Спасителя, истекающего
кровью под терновым венцом. В одном из храмов Арагона, как
писал очевидец, "архиепископ и другие священники, находившиеся
возле капеллы Богоматери, весело запели "аллилуйя". Затем по-
слышался превеликий шум, разорвалась белая завеса, и показался
алтарь, украшенный множеством цветов и веток, среди которых
красовались пять позолоченных фигур — Богоматерь, три Марии и
Святой Иоанн... Затем спустился ангел с мечом и разорвал алое по-
крывало, и предстало изваяние Христа воскресшего, распрекрасное
и с богатой позолотой, и певцы запели чудесными голосами"7.
В 1579 г. в храме в Мехико, по свидетельству де Моралеса, на
помост вышли девять ангелов в роскошных шелковых одеяниях; у
всех одежда и перья на крыльях были разного цвета, головы венча-
ли короны из живых роз, в руке каждый держал зажженную свечу,
и выглядели они впечатляюще, "в особенности серафим в алой
одежде, украшенной серебром и золотом, с шестью крыльями... и
повернувшись к алтарю, начали свои речи"8.
Самой роскошной театрализацией литургии стали ауто сакра-
менталь — спектакли о Святом причастии, исполняемые на празд-
нике Тела Господня; точнее, в этих представлениях предельно теат-
377
рализованная месса оборачивалась предельно сакрализованным
праздником, а сакрализованный праздник — праздничным бого-
служением. Подобным же образом и придворный театр можно на-
звать фестивализацией политики или политизацией праздника, ус-
танавливающего связь идеального с идеологическим. Но празднич-
ное существо постановок способствовало тому, что идеальное в
них не поглощалось идеологическим и делало куртуазный и рели-
гиозный театр не столько пропагандистской акцией, сколько вели-
ким достоянием культуры. Более того, праздничная универсаль-
ность проявлялась столь мощно, что разделение ибероамерикан-
ского театра на религиозный театр священных ауто, куртуазный и
публичный театры, как и разделение праздников на церковные,
придворные и карнавальные, оказалось в какой-то мере условным.
И дело не только в том, что на куртуазных представлениях и пред-
ставлениях ауто шли такие же площадные по духу интермедии, как
и в корралях, но и в том, что в священных действах о мистическом
таинстве причастия превращение плоти и крови Господней в хлеб и
вино и превращение хлеба и вина в плоть и кровь Господню пости-
гались как связь природного и сверхприродного, материи и духа,
земли и неба; в ауто "Служащий мессу" Лопе де Беги говорилось,
что "мир ходит ходуном", каждый "лопается от удовольствия",
обедню служит сам Господь, ангелы летают над колокольнями,
подпевая веселому перезвону колоколов, и "небо соединяется с зем-
лей"*.
Так утверждалась своего рода сублимированная и христианизи-
рованная языческая радость жизни, объединяющая в Новом Свете
не только религиозное и карнавальное, но и испанское и индей-
ское, способствующая становлению новой культуры.
Е.А. КОЗЛОВА, канд. искусствоведения
Среди народных праздников с календарной основой есть
один, считающийся прежде всего мексиканским. Речь идет о Дне
мертвых, приуроченном к 1 и 2 ноября, — католическим Дню Всех
Святых и Дню Упокоенных Христиан. Дата христианского кален-
даря, отмечаемая в других странах чинной мессой, в Мексике озна-
менована воистину общенародным и неподдельно веселым меро-
приятием, которое кое-где в провинции растягивается на восемь-
десять дней, соперничая по размаху с карнавалом. Собственно, это
тоже карнавал, карнавал Смерти, с той же "перевернутой" логи-
кой, когда вопреки "загробному" антуражу по всей стране царит
радостное оживление.
На весеннем карнавале среди масок тоже отплясывает скелет с
косой. Но там власть принадлежит не ему. Там, в соответствии с
идеей весеннего обновления жизни, царит порождающий Эрос.
Зато осенью Смерть принимает пестрый парад подданных, мертве-
378
цов всех сословий и возрастов. Из витрин и с печатных страниц на
живых смотрят персонажи, знакомые и нам по гравюрам неподра-
жаемого Хосе Гвадалупе Посады: обаятельные скелеты пируют,
танцуют, затевают романы и потасовки...
Именно День мертвых стал "визитной карточкой" националь-
ной праздничной культуры, он же дал повод для рассуждений о
бестрепетном отношении мексиканцев к смерти.
Не иностранцам выносить категорические вердикты по этому
поводу, скажем только, что веселая атмосфера, которой дышит
этот праздник, не имеет ничего общего с мрачноватым стоическим
пафосом. Дадим слово мексиканцу: "Мысль о смерти точно так же
заставляет сжиматься от боли душу мексиканца — каково бы ни
было его социальное происхождение, — как это происходит с
душой испанца, француза или китайца. Только реакция на эту
мысль выглядит по-другому: возможно, дело в особенностях унас-
ледованных сакральных ценностей, в сочетании эмоциональности
и беспристрастности"10.
Рассуждения об особенностях сакральных ценностей неизбежно
приводят к проблеме генезиса латиноамериканской культуры. В
самом деле, где в данном конкретном случае дают о себе знать, как
сочетаются или взаимодействуют индейское, католическое, а
может, и европейское дохристианское начала?
В День Всех Святых церковный алтарь для мексиканцев — лишь
один из сакральных центров, и в восприятии очень многих, похоже,
не самый главный. Два других — накрытый стол у домашнего
очага и родные могилы, в полном соответствии с логикой язычес-
кого обряда поминовения предков.
Остается открытым вопрос, о каком язычестве — коренном аме-
риканском или пережившем атаку христианства европейском —
может идти речь? Думается, подход по принципу "или — или" здесь
бесперспективен. Почитание умерших предков — типологическая
константа, характерная для определенного уровня развития общест-
ва, следы этого культурного феномена налицо в современной рели-
гиозной практике, и христианство не является исключением.
Атрибуты поминального дня — цветы и свечи на могилах, коло-
кольный звон, — хотя и канонизированы церковью, происхожде-
ние ведут от дохристианской обрядности. А ритуальные блюда
мексиканского Дня мертвых — непременные тамали из кукурузно-
го теста, острые подливки с индейским перцем к "европейской"
свинине и курятине, хмельной напиток пульке, т.е. с дополнениями,
внесенными временем, — те же самые, что сопутствовали, по свиде-
тельствам ранних хронистов, еше ацтекским ритуалам.
Время, конечно, на все накладывает отпечаток. Автор книги о
мексиканских народных праздниках вздыхает по канувшему в Лету
разнообразию праздничных фигурок, в облике которых сто лет
379
назад являла себя фантазия народа: от грошовых, но необыкновен-
но забавных танцующих скелетов из картона до уморительных в
своей серьезности игрушечных похоронных процессий из дорогих
пород дерева с инкрустациями из кости и перламутра. Нынешние ка-
лаверы, по его словам, подвержены унификации, как всякая продукция
с фабричного конвейера1 >. И все же приезжие, видевшие День мертвых
в Мехико, без конца твердят о потрясающем зрелище...
В провинции — те же пиры на могилах, украшенных церковны-
ми свечами и желтыми семпашочитлями ("цветами мертвых"), то
же угощение родных душ у домашнего алтарика, на который во-
дружена фотография последней утраты, если она случилась в этом
году. Но здесь еще и костры на перекрестках, у которых души
могут "погреть косточки" на пути из загробного мира и обратно,
дым копала рядом с пламенем свечей, синие — цвет, когда-то по-
священный Тлалоку, — шали крестьянок, общинные угощения в
складчину, странствующие по дворам музыканты, готовые испол-
нить любимую песню покойного, и даже конфиденциальные пере-
говоры с ним самим через специальную нишу в надгробном камне.
Последний обычай прямо отсылает нас к античному язычеству,
к римскому культу манов, обожествленных предков, с которыми
таким же способом общались в особые поминальные дни, когда пи-
ровали на украшенных цветами могилах. Кстати, Э.Тайлор (1832—
1917) упоминает о современном ему обычае бретонских крестьян в
день поминовения поить предков, наполняя водой или молоком уг-
лубление в могильном камне12.
На конец октября — начало ноября приходились празднества в
честь предков у язычников-славян и их соседей балтов. "Дедам"
приносились жертвы на могилах, а у очагов их ждал обильный стол
для совместного пира с живыми.
О языческих поминальных ритуалах в Литве есть свидетельства
европейских авторов XVI— XVII вв. (Я.Ласицкий, Г. Стендер).
Православных русских еще Иван Грозный упрекал за то, что "схо-
дятся... на жальники и плачутся по гробам умерших с великим во-
плем. И егда скомрахи учнут играти во всякие бесовские игры, и
они, от плача преставше, начнут скакати и плясати и в долони бити
и песни сатанинские пети на тех же жальниках..."13. Конечно,
"скомрахи" Ивана IV и современные марьячи на празднике мерт-
вых — далеко не одно и то же, но функциональное родство здесь
изначально имеет место.
По данным археологии, поминальные обряды европейцев вос-
ходят к языческой тризне, обряды которой воспроизводятся поэ-
тапно в течение года и приурочиваются к кульминационным точ-
кам аграрного календаря. Христианство попыталось положить
конец этой цикличности, сохранив в официальном обиходе только
осенние поминальные дни. Но древний обычай поминать предков в
380
течение года оказался чрезвычайно устойчивым. Православие, на-
ряду с осенней родительской субботой за неделю до Дмитриева дня
(8 ноября н. ст.), сохранило весеннюю Радоницу ("Пасху усопших")
и Троицкую родительскую субботу. В Западной Европе до XVII в.
держался обычай привечать предков у очага в Иванову ночь. А пе-
сенке, которую распевают в День мертвых мексиканские дети:
Мертвец, если бы ты сбежал,
никто б за тобой не угнался,
но ты убегать не стал,
и вот в гробу лежать остался —
откликается весенняя песенка чешских детей, под которую они
носят в открытом ящике куклу, спеленутую саваном:
Ныне выносим мы Смерть из деревни,
новое Лето зато мы несем.
Привет, дорогое Лето,
зеленеющий маленький колос14.
Меня могут упрекнуть в европоцентризме и напомнить о сахар-
ных и шоколадных черепах, которые поедают в День мертвых мек-
сиканские дети, да и не только дети. В самом деле, не явный ли это
реликт индейского культа черепов? Калавера — атрибут богов за-
гробного мира, а о "стенах черепов" перед ацтекскими храмами пи-
сали хронисты XVI в. Все это так, но вот описание праздника Всех
Святых в Италии XIX в.: "...Весь день проводится в еде и питье в
честь покойника, а скелеты и черепа из сахара и теста служат соот-
ветственными игрушками для детей"15.
Похоже, в данном случае на поверхности оказался опять-таки
европейский культурный пласт. Видимо, индейская Америка обна-
руживает себя здесь не напрямую, а в слиянии с типологически
близким явлением. Заманчиво предположить, что такая двойная
корневая система помогает сохранить спонтанность и жизненную
энергию мексиканскому осеннему карнавалу. Его привязка к дате
христианского календаря не дает оснований отрицать наличие у
носителей земледельческих культур Мексики празднично-кален-
дарного цикла, связанного с предками и их влиянием на плодоро-
дие. Тем более, что следы его налицо.
Бернардино де Саагун описывает обряд поминовения предков,
связанный с празднеством "в честь гор, на которых собирались об-
лака". Оно приходилось на октябрь по нашему календарю. В это
время алтари украшались зеленью, в жертву предкам приносились
кукурузная каша и тамали, а знатные ацтеки "пели и пили пульс в
честь своих богов и умерших"16.
С культом плодородия и предков соотносились и торжества,
связанные с Тескатлипокой. Весной, накануне сезона дождей, это
суровое божество покидало землю — в лице юноши-пленника, ко-
381
торого приносили в жертву, — чтобы накануне сезона засухи, в ок-
тябре, первым прибыть "на пиршество всех богов". В ноябре, по
окончании жатвы, молодых воинов "причащали" тамалями из ку-
курузного теста, изготовленного из муки нового урожая. Таковы
некоторые истоки мексиканского карнавала Смерти, в котором по
сей день живы отголоски ритуалов, восходящих к раннеземледель-
ческой древности по обеим сторонам Атлантики.
В.Ю.Силюнас. Я один раз попал 2 ноября в Мехико. Весь 16-мил-
лионный город увешан скелетами: сахарными, бумажными, из пря-
ников, все едят специальный хлеб, включая интеллигенцию, почти
во всех домах алтари. У европейца, оказывающегося там впервые,
складывается впечатление грандиозного карнавала Смерти. Может
быть, когда-то было еще грандиознее, но то, что все это сохрани-
лось в значительной степени, — несомненно.
Е.А.Козлова. Тут возникает вопрос: сказывается ли здесь индей-
ский пышный ритуал, либо что-то в иберийской культуре XVI—
XVII вв. — того периода, когда обрядовая сторона в Испании была
наиболее блестящей, подстегнуло новоиспанскую культуру в этом
направлении. Мне кажется, ответ нужно искать не столько в столи-
це, хотя именно там это выглядит наиболее нарядно, сколько в ин-
дейской провинции, вернее, в сопоставлении того, что происходит
в столице и где-нибудь в глубинке. Это интересный вопрос, ответа
на который я по сей день не знаю.
В.Ю.Силюнас. Меня это тоже волнует. Просто традицией гранди-
озной испанской, иберийской обрядности объяснить обилие суще-
ствующих в Латинской Америке праздников нельзя. И почему Ла-
тинская Америка — самый праздничный континент в мире, у меня
ответа нет. А ведь даже мои немногочисленные поездки показыва-
ют, что та же нищая Никарагуа ходит ходуном, когда празднуется
день какого-нибудь очередного святого, и в месяц бывает минимум
два таких торжества, когда стреляют из всех кустов, мажут друг
друга сажей. Это такая ликующая, эйфорическая, иррациональная
радость, это как бы растрата жизни, а с другой стороны, может
быть, именно это и придает смысл жизни?
Ю.А.ЗУБРИЦКИЙ, профессор, д-р истории, наук
... Прежде всего хочу отметить, что одной из важнейших харак-
теристик праздника является его многофункциональность. В функ-
циональный комплекс этого феномена входят выражение радости
по поводу удачной охоты или успешного завершения жатвы и воз-
несение по этому или другому поводу благодарности (или мольбы)
богам, святым, ангелам, духам; торжества в связи с вознесением
этой благодарности (мольбы) в форме принесения человеческих
или иных жертв; сложный ритуально-жертвенный комплекс, как у
ацтеков, четко направленный на сохранение Солнца, а тем самым
382
— на спасение всего человечества от гибели. В форме потлача
празднества выполняли функцию противостояния первобытно-
коммунистических традиций нарождавшемуся институту частной
собственности. В функции празднества входит и раскрытие твор-
ческих дарований, и сохранение исторической памяти народа (го-
довщины героических сражений и побед над противником; великие
деяния вроде плавания Колумба или изобретения печатного станка
Иоганном Гутенбергом), и организация отдыха после трудов.
Эта многофункциональность, по существу блокирующая попыт-
ки дать строгую и исчерпывающую характеристику феномена, на-
ходит отражение и в многообразии лексических эквивалентов. У
одних народов, как у англичан, это "святой день" (holiday). У рус-
ских — это прежде всего время "ничегонеделания", отдыха, "празд-
ный" день, свободный от трудов. У кечуа имеется близкая к рус-
ской и в то же время своеобразная интерпретация: Qasip'unchay, т.е.
спокойный день, день без забот.
В необозримом функциональном поле ибероамериканского
праздника можно выделить три важных функции, которые (наряду
с другими) привлекают особое внимание. Первая — интегрирую-
щая, что связано с вовлечением в один и тот же праздник предста-
вителей различных социальных, этнических, конфессиональных,
политических и иных групп и слоев населения. При этом хочу обра-
тить внимание на одну из сторон интегрирующей функции празд-
ника.
Я имею в виду его зрелищность. Собственно, праздник всегда
(за редким исключением) предполагает присутствие нескольких
людских групп, которые даже можно расположить в иерархичес-
ком порядке. Это, во-первых, организаторы и руководители празд-
ника, а также те, кто наблюдает за исполнением соответствующих
обрядов, ритуалов и правил. Во-вторых, непосредственные участ-
ники действия. В третью группу входят благожелательно настроен-
ные к ним зрители, хорошо знающие, компетентно интерпретирую-
щие и правильно воспринимающие традиционную канву праздни-
ка. (Обычно это соплеменники, единоверцы, сограждане, полити-
ческие единомышленники, коллеги и т.п.) К четвертой можно отне-
сти просто любопытствующих. В последнее время эта группа силь-
но выросла численно, особенно за счет притока иностранных ту-
ристов и гостей из соседних районов; настолько, что во время кар-
навала в Рио-де-Жанейро и в Оруро, Дня индейца в Отавало или
Инти Райми (Торжество Солнца) в Куско из-за наплыва приезжих в
местных отелях и пансионатах не остается свободных мест. Празд-
ничное действо, как правило, вызывает у этой части зрителей чув-
ства одобрения и даже восхищения.
Но было бы ошибкой не осознавать, что среди зрителей (и ино-
странных, и "своих") встречаются недоброжелатели, явные или
383
скрытые, осуждающие и "язычество" латиноамериканских празд-
ников, например, Нгильятуна в Чили, не "защищенных" именем
католического святого, и "бестыдную обнаженность" и "безнравст-
венные жесты и телодвижения" их участников (карнавал в Рио-де-
Жанейро, празднества на карибском побережье Никарагуа и др.).
Таким образом, в широкую программу функциональности
праздника наряду с интегрирующим началом заложено и дезинтег-
рирующее. Можно, разумеется, радоваться тому, что последнее на
современном цивилизационном витке не приобретает широких
масштабов, но изымать этот феномен из общего поля научного ис-
следования не стоит: латиноамериканская история знает немало
примеров возникновения на почве такой, мягко говоря, недоброже-
лательности драматических и трагических событий, порой в боль-
шой степени предопределивших ход исторического развития наро-
дов и стран. В частности, резня, устроенная "зрителями"-конкиста-
дорами в момент празднования, провела кровавую разграничитель-
ную черту между ацтекским царством и началом генезиса мекси-
канской нации.
Может быть (это я говорю в сугубо предварительном плане),
интегрирующую функцию квалифицировать как интеграционно-
дезинтегрирующую?
Ее внутренняя противоречивость и даже абсурдность иногда
проявляются в высшей степени активно и в наше время. Так, в
преддверии 500-летия плавания Колумба многие индейские органи-
зации решительно выступили против празднования этого события,
квалифицируя его даже как криминальное предприятие, а самого
великого генуэзца — как преступника.
Перейду ко второй важнейшей функции праздника вообще, ла-
тиноамериканского в частности. Я бы характеризовал ее действие
как пробуждение и стимулирование стремления человека к осво-
бождению. Сама этимология свидетельствует об этом. Что означа-
ет русское слово "праздник", как не освобождение от необходимос-
ти трудиться? В кечуанском же обозначении праздника видно
стремление к освобождению на какое-то время от забот и тревог. А
древнеримские сатурналии означали освобождение (пусть кратко-
временное) рабов и провозглашение равенства для всех жителей
Рима.
В латиноамериканских странах органическая связь между
праздничным действом и свободолюбием, борьбой за освобожде-
ние и протестом против угнетения и несправедливости находит
яркое и убедительное выражение в торжествах по случаю Дней не-
зависимости и других памятных дат.
И, наконец, считаю необходимым заострить внимание на функ-
циональности праздника в контексте процессов взаимодействия на-
ционально-этнических культур, сердцевиной которых является
384
переход элементов культуры от одной этнической общности к дру-
гой и наоборот.
Трудно, почти невозможно обнаружить какой-то чисто нацио-
нальный праздник, который в том или ином объеме не находил бы
аналогов, а то и прямого повтора у других этносов или не включал
бы в себя (так сказать, в снятом виде) преобразованные (порой
лишь слегка) элементы культуры этносов минувших эпох. Причем
это относится даже к празднованию официально установленных
дат национальной истории.
Унаследованные и пришлые элементы существуют в праздниках
любых регионов, стран и этносов, в том числе таких ограниченных
во времени и пространстве, каким было общество острова Пасхи.
Что же говорить о "перевалочных" пространствах, к которым
всегда относился Пиренейский полуостров?
В сложный культурный комплекс народов Пиренейского полу-
острова влились элементы, пришедшие от иберов, финикийцев,
греков, римлян, готов, евреев, арабов, французов, англичан, ита-
льянцев и даже русских. И уж, конечно, от индейских народов. А
если выйти за пределы полуострова и войти в ибероамериканский
мир, то очень многие явления культуры этого мира невозможно
проанализировать и понять без учета воздействия со стороны ин-
дейских культур. По существу, именно праздник как феномен стал
важнейшим каналом взаимодействия между культурами Пиреней-
ского полуострова и Нового Света.
Иногда можно услышать утверждение, что в результате взаимо-
действия произошел сплав означенных культур. Это звучит по
меньшей мере несерьезно, хотя бы из-за варварского разрушения
автохтонных американских культур в результате европейского
вторжения. А те ценности, что остались у индейцев и позднее смог-
ли даже развиваться, не сплавились с элементами европейской
культуры, а вступили с ними во взаимодействие в форме симбиоза.
Но не всегда и не везде, и, пожалуй, наиболее важная сфера, где все
же появился сплав, — это как раз праздники.
Интересно отметить, что нередко элементы культуры индейцев,
сплавляясь с испанскими, тем самым ограждали себя от гибели и
разрушения. Приведу для примера широко отмечаемый эквадор-
скими кечуа праздник Сан-Хуан. По существу, это древнее Торже-
ство Солнца, Инти Райми, и его ритуал в основном остался таким
же, как и 500 лет назад. Но именно слияние, сплав с образом и име-
нем христианского святого спасли его от преследований.
Перспектива осуществления функции сближения между культу-
рами и народами Пиренеев и Америки посредством празднеств
представляется тем более благоприятной, что индейцы, приобщен-
ные к католичеству, чрезвычайно уважительно и серьезно относят-
ся к церковным праздникам, пришедшим из Европы и в той или
385
иной степени сомкнувшимся с местными ритуалами, верования-
ми и обычаями. В подтверждение этого напомню об институте
"приостазго".
Для проведения наиболее значимых католических торжеств
приходской священник предлагает одному из индейцев стать "при-
осте", т.е. организатором праздника. Это сопряжено с большими
расходами: приосте должен оплатить все необходимое для фейе-
рверка, а также свечи, угощение, изготовление святого изображе-
ния, приглашенных музыкантов и т.д. Денег у индейца обычно нет.
И он занимает их у того же священника, обязуясь оплатить долг
своим трудом. Иногда эта оплата растягивается на годы. Но ин-
деец никогда не отказывается стать приосте.
Именно в своей функции важнейшего канала и механизма взаи-
модействия национально-этнических культур праздник в ибероаме-
риканском мире достигает высокого аксиологического уровня. Это
позволяет нам, основываясь на ибероамериканском опыте, экстра-
полировать феномен праздника и на те процессы, которые ведут к
формированию новой, общечеловеческой цивилизации.
Д.Г.Федосов. Меня интересует такой вопрос: ослабевает нацио-
нальная традиция праздника или нет? Говоря об этом, наверное,
нужно различать город и деревню, потому что в городе это уже
нечто иное; там туристы, деньги крутятся, все как-то организова-
но... А что происходит в деревне? Насколько я могу судить, тради-
ция там ослабевает. Очевидно, это связано с пусть очень медлен-
ным, но ростом уровня жизни, отходом от натурального хозяйства
и, конечно, со средствами массовой информации. В одной статье
говорилось, что индейцы в одном из айлью выращивают персики и
продают их в Лиме. Так вот, вместо того чтобы купить грузовик и
возить эти самые персики, они купили радиоустановку, чтобы ра-
диофицировать все село. Понятно, что они будут слушать — не
"Эль кондор паса", а Майкла Джексона. Мне хочется узнать ваше
мнение по поводу того, насколько эта традиция жива и будет ли
она жить.
Ю.А.Зубрицкий. Однозначного ответа быть не может. Процесс из-
менения сути праздников очень противоречив. Я бы не сказал, что
идет угасание праздников,— скорее, идет их актуализация. Напри-
мер, на один из праздников, который раньше отмечался только в
Отавало и еще в двух-трех населенных пунктах, сейчас съезжаются
чуть ли не со всего Эквадора. Конечно, объявления делаются уже
через мегафоны, участников и зрителей в индейских костюмах,
может быть, и меньше, чем в европейских, но существо праздника,
его общественное воздействие — я имею в виду разные аспекты —
несомненно, усилилось. Мне кажется, именно в процессе актуали-
зации праздников — их будущее.
386
Д.Г.Федосов. Все-таки в основе праздника лежит мифологическое
мышление, а оно постепенно уходит, уступая место современному
научному мировоззрению.
Ю.А.Зубрицкий. Любое мировоззрение мифологично, но повыше-
ние уровня образования, с одной стороны, "снимает" этот мифоло-
гический налет, а с другой — расширяет занимаемую им площадь.
Например, когда в Боливии стали довольно широко изучать исто-
рию и значение империи инков, на карнавале в Оруро появилась
компарса "Los incas", в основе которой лежит старая трагедия
"Смерть Атауальпы", но возникла она, несомненно, под влиянием
расширения системы образования.
Д.Г.Федосов. Это не представляет опасности для праздника как
культурного явления?
Ю.А.Зубрицкий. Не думаю. Есть еще одна тенденция, на мой
взгляд, весьма спорная. Если вы придете на ярмарку — в Мексике,
где угодно, — то можете увидеть только что сотканные полотна с
изображениями мифологических персонажей. Вот, говорят, идет
возрождение. В этом я как раз возрождения не вижу, потому что
индейцы не знают, что это такое, они просто копируют изображе-
ния. Спроси их, к примеру, о Пачакамаке, — кто это, как его зовут?
Они не знают. Инков, до-инков — тоже не знают, т.е. эмоциональ-
но-смысловая нагрузка исчезает.
В.Б.Земсков. Обобщая вашу точку зрения, можно сделать вывод,
что деградации праздника нет — есть его актуализация, можно
даже сказать, модернизация. А чем объяснить столь мощную энер-
гию праздника в Латинской Америке?
ЮА.Зубрицкий. Прежде всего, взаимодействием культур, взаимов-
лиянием, взаимослиянием, вступлением в симбиотические отноше-
ния, поскольку и в иберийском, и в американском мире корни
праздников уходят очень глубоко. Происходит взаимодействие
между двумя культурными мирами, причем происходит давно, хотя
я не могу согласиться с тем, что открытие Америки — это встреча
двух культур. Встреча культур началась позднее, не сразу после вы-
садки Колумба.
В.Б.Земсков. У меня вопрос к Гончаровой. Можно ли на основе
ваших наблюдений сделать вывод, что стремление усилить индей-
скую доминанту, скажем, в андских странах на самом деле обора-
чивается углублением процесса синкретизации?
Т.В.Гончарова. В сущности да, потому что, стараясь усилить ин-
дейское, часто прибегают к европейским формам, но синкретизм
получается очень глубокий, я бы сказала, глубинный.
В.Ю.Силюнас. Нужно, наверное, посмотреть, как развиваются
праздники на других континентах — в Северной Америке, в Евро-
пе... Практика показывает, что они видоизменяются, но сказать,
387
что они катастрофически сходят на нет, никак нельзя. Видимо, по-
требность в них в мало-мальски нормально развивающемся обще-
стве огромна. Посмотрите, сколько праздников в Северной Амери-
ке. Я случайно попал на праздник урожая в городе, казалось бы,
зачем городским жителям праздник урожая, а какой он имел раз-
мах, было видно, насколько он важен для социальных судеб город-
ской общины. Поэтому фатально мрачной перспективы оскуде-
ния праздника я не вижу.
А.Ф.Кофман. Я хотел бы задать один вопрос, мне кажется, цент-
ральный в нашей дискуссии: в чем состоит специфика латиноаме-
риканского праздника как типологического явления? Мне думает-
ся, если мы хоть в какой-то мере на него не ответим, ценность дис-
куссии будет в значительной степени уменьшена, потому что все
черты, о которых до сих пор говорили, абсолютно универсальны.
Е.А. Козлова. С одной стороны, мы наблюдаем процесс универса-
лизации мира вплоть до того, что Интернет становится единым
способом общения, чуть ли не единым метаязыком человечества, а
с другой — видим взлет того, что в газетах называют националь-
ным сепаратизмом. Это явление неоднозначно, тут происходит
процесс программного возрождения каких-то черт национальных
культур. Нынешнее индейское возрождение, по-моему, стоит в
цепи этих национальных возрождений, инспирированных обрат-
ным процессом интеграции. Оно тоже в известной мере программ-
но, оно исходит от местной интеллигенции с хорошим североаме-
риканским и европейским образованием, но, спускаясь в нижние
слои общества, по-своему там претворяется. Данный процесс гене-
тически имеет универсальный характер, но какие-то местные черты
в нем непременно будут.
Т.В.Гончарова. В основе всех праздников лежат универсальные, ба-
зовые архетипы и мифологемы, о специфике можно говорить толь-
ко в форме.
А.Ф.Кофман. Праздник как феномен, входящий в латиноамерикан-
скую культуру, тоже должен иметь свой стержень, свою типологию.
В.Б.Земсков. Когда мы рассуждаем на уровне теоретической аб-
стракции о латиноамериканской культуре, мы отвлекаемся от кон-
кретики — этнической, культурной и т.д. Но когда мы касаемся
конкретных явлений, а праздник — это сугубо конкретные формы,
то вопрос очень усложняется. Мы можем говорить о каких-то до-
минантах, организующих праздник в Латинской Америке. Тут я
хочу разделить понятия "в Латинской Америке" и "латино-
американское", потому что "латиноамериканское" в моем понима-
нии — это креольское, то, что так или иначе смешано, в форме ли
симбиоза или в каких-то иных. Так вот, если говорить о латино-
американском, я предложил бы говорить о креольском. Это не-
сколько другой вариант. Специалисты по индейским культурам
388
очень интересно показали, что в нынешней ситуации всякое стрем-
ление придать больший размах индейской культуре фактически
ведет к синкретизации. Но доминанты все-таки остаются: индей-
ская или иберийская. Я думаю, эти формы надо различать.
В.Ю.Силюнас. Не согласен, что о специфике совсем ничего не гово-
рилось. Например, Гончарова высказалась о празднике как о пре-
имущественной форме культурной жизни. На других континентах
этого нет. Так, в Северной Америке очень много праздников, но
нельзя сказать, что там это преимущественная форма культурной
жизни. Отчасти специфика латиноамериканского праздника заклю-
чается в его уникальной социально-коммуникативной роли. Вся
жизнь общин — в широком смысле коммуникативного пространст-
ва — организуется вокруг праздника не только в торжественные
дни, но чуть ли не в течение целого года. Вообще такая экзистенци-
альная коммуникативность чрезвычайно высока. Наверное, уни-
кальных праздников нет ни в одной части мира, в чем-то они дей-
ствительно универсальны, можно говорить просто о количестве и
качестве. Количественные черты, та же коммуникативность, в Ла-
тинской Америке, может быть, выражены более ярко, значимо.
Л.И.Тананаева. Я попала на Кубе на официальное торжество, рево-
люционное, строго программированное, с процессией, с речами,
ужасно длинное, но сквозь него прорывалось желание быть вместе
и праздновать, хотя праздник был трагический — поминовение
героя Кубинской революции Сьенфуэгоса. Казалось бы, это восхо-
дит к мемориальным процессиям, а тут процессия была карнаваль-
ная, и кубинцы бросали охапками цветы в море в память о нем.
Пока мне не объяснили, что происходит, я была уверена, что попа-
ла на какой-то карнавал, на веселый праздник весны — у них там
все время весна. Так что, я думаю, эта стихия непреодолима, хотя
на Кубе ее сначала преодолевали священники, а потом те, кто бо-
ролся с барокко. После революции, когда, казалось, церковный
праздник погиб, сразу стала обыгрываться сантерия. Она сделала
головокружительную "карьеру", превратилась в интегрирующую
силу общества, как бы потерявшего официальную христианскую
религию. Ведь и белые люди участвуют в сантерии, считают себя
детьми Очун, одеваются в белые одежды, носят золото, едят слад-
кое... Почему все это возобновилось и в таком объеме? На мой
взгляд, перед революцией это было выражено даже слабее. Сейчас
магическая стихия хлынула наверх, пронизала искусство, хотя ис-
кусство от этого как раз выиграло. Мне кажется, как только у них
отняли религию, магический христианско-негритянский синкрети-
ческий обряд, они ринулись в чисто негритянский и переделали ре-
волюционные праздники. Наверное, в этом проявляются потреб-
ность быть вместе и умение быть вместе.
389
В.Б.Земсков. Я не совсем согласен с тем, что Кастро, новая власть
взяли да отняли христианскую праздничность, христианскую офи-
циальную религию. Это процесс общеконтинентальный. Никто ни-
чего нигде специально не отнимал. Отнимает история, предприни-
мались какие-то политические шаги в этой области, но они не
имели решающего значения. Значимость церкви колоссальна, одна-
ко культура живет сама по себе, причем в сфере народного католи-
цизма — в синкретических либо в чисто индейских формах. Я был
в одном местечке в Аргентине, в провинции Сан-Хуан, где сущест-
вует святая, не признаваемая официальной церковью. Там возведен
огромный мемориал, имеющий магическое значение, а напротив
католическая церковь выстроила храм. Правоверные католики
ходят сначала туда, а потом сюда... Религиозная культурная фраг-
ментация на Кубе очень сильна. Она существовала изначально. До-
пустим, в горных зонах — Сьерра-Маэстра, Сьерра-Кристаль, —
где живет белое креольское крестьянское население, сохранился
весь пласт народной католической культуры. В Сантьяго-де-Куба,
совсем рядом, и в целом ряде районов Гаваны главенствующую
роль, во всяком случае для внешней культуры, играет сантерия.
В.Ю.Силюнас. Наверное, кубинский феномен можно понять через
нас. Происходит, на первый взгляд, парадоксальная, невероятная
трансформация сакральных объектов. Пока была вера в Господа,
не было веры в Сталина. Исчезла вера в Сталина — опять появля-
ется вера в Господа, это же реальность, это происходит в массовом
сознании. Очевидно, на Кубе отчасти случилось то же самое.
Л.И.Тананаева. Только у них рядом было загнанное вниз, но очень
сильное негритянское сознание.
В.Б.Земсков. При самых жестких вариантах кубинского коммуниз-
ма, даже в 70-е годы, коммунист ходил и на заседания партячейки,
и в сантерию. И это было полулегально.
Т.В.Гончарова. На одной из дискуссий высказывалось мнение, что
чем архетип, образ, какой-то элемент культуры первобытнее, при-
митивнее, тем он проще. Первые, примордиальные архетипы —
самые крепкие, последующие наслоения более зыбкие, они с тече-
нием времени снимаются, а те всплывают, и чаще всего они имеют
компенсаторный характер. Видимо, специфика Латинской Амери-
ки — это размах празднеств. Однако, мне кажется, в Латинской
Америке такой размах наблюдается только там, где существовали
древние цивилизации, т.е. было организующее государственное на-
чало...
В.Б.ЗЕМСКОВ, д-р филол. наук
Берущий слово последним, поневоле, выслушав предшественни-
ков, и соглашается, и возражает — элементы того и другого, навер-
ное, будут в моем выступлении. Кажется, все согласны, при некото-
390
рых различиях, в том, что праздник в Латинской Америке играет
повышенную, может быть, исключительную роль. В самом деле,
бросается в глаза, что даже чисто эмпирически в массовом созна-
нии образы Латинской Америки, латиноамериканца ассоциативно
сочетаются с праздничностью, с музыкальной, песенно-танцеваль-
ной стихией, со знаменитыми карнавалами. Искры праздничности
как бы живут там в воздухе, готовые разгореться в импровизацию:
здесь и некая музыкально-ритмическая возбужденность, и жесту-
альная динамичность, и склонность к игровому поведению и т.д.
Сказанное касается не только бытовой сферы, культуры обыден-
ности, но и, например, социального поведения — политические
акты, демонстрации и т.п. Что ж, в таком восприятии латиноаме-
риканцев, наверное, немало верного. Я думаю, можно говорить о
некоем особом строе эмоциональности, некоей психофизиологичес-
кой предрасположенности к праздничности.
Причем речь идет не только об очевидно "праздничных" афро-
латиноамериканских культурах или о культуре креолов, метисов в
их различных ипостасях, но и о "сумрачных" индейцах, живущих
от "карнавала до карнавала", в постоянной подготовке к нему, как
об этом говорили Т.В.Гончарова и Ю.А.Зубрицкий. Именно от
"карнавала до карнавала" — этого короля праздников, прекрасно
чувствующего себя на латиноамериканской почве. Живая жизнь
карнавала в Латинской Америке — естественный источник и гене-
ратор праздничных форм, возбудитель особенного психофизиоло-
гического настроя, пульсации праздничности, что, очевидно, и
можно называть карнавализованным модусом сознания. Всякий
праздник, в конечном счете, есть трансформированная, редуциро-
ванная форма карнавала, даже его салонные или официозные
формы.
Другое обстоятельство состоит в том — и об этом здесь говори-
лось, —что латиноамериканский праздник очевидно (неочевидно
он таков повсюду), демонстративно синкретичен, симбиотичен, со-
четает элементы разных культур и цивилизаций. Даже в районах
несомненно автохтонной культуры (андские страны, некоторые
районы Мексики, Центральной Америки), как показывают индеа-
нисты, основной праздник — карнавал — всегда синкретичен.
Несомненно, между повышенной ролью праздничности, карна-
вальности и культурным синкретизмом существует глубокая связь.
Праздник — культуростроительная машина всегда и везде, но в от-
ношении Латинской Америки, где мы имеем дело с попыткой исто-
рии сформировать новую цивилизационную парадигму, возможно,
требуется более точная дефиниция — цивилизационно-строительная
машина.
Начиная со времен Первооткрытия эта машина перемалывает в
своей утробе элементы на тысячелетия отстоящих одна от другой
391
Цивилизаций и создает то, что мы называем латиноамериканским
Праздником — возможно, наиболее репрезентативное и яркое кол-
лективистское проявление новой культуры. Матрица карнавала,
карнавальный хронотоп как бы заложены в самые основания лати-
ноамериканской культуры — ни больше, ни меньше.
М.Элиаде писал, что Открытие — прорыв через границы извест-
ного в неведомое — всегда создает эсхатологическую ситуацию:
сдвижение концов и начал, жизни и смерти, устремление за завесу
времен, к началам нового, к утопии. Вспомним Колумба: новая
земля и новое небо... В переводе в ракурс проблемы, о которой идет
речь, эта ситуация и есть источник, порождающий повышенную
креативную роль карнавального хронотопа — непосредственного
воплощения эсхатологического модуса сознания. О принципиаль-
ной, основополагающей роли карнавального хронотопа в латиноа-
мериканской культуре писал Н.М.Польщиков в работе "Метапоэ-
тмка рубежа в пороговых культурах"17. Матричная ситуация, возни-
кающая у истоков, повторяется постоянно и несчетно в разных фор-
мах культуры, формирует сам тип сознания, ибо Первооткрытие по-
стоянно воспроизводится от начал и до современности.
В самом деле, многие и многие свидетельства хронистов Перво-
открытия, особенно первые наблюдения, фактически воспроизво-
дят праздничную, эсхатологически окрашенную ситуацию. Возь-
мем ли мы Первое письмо Колумба или письмо Перо Вас де Ками-
н*>и об открытии Бразилии, здесь, помимо всего прочего, на на-
чальном этапе возникает именно эсхатологически-карнавальная
обстановка. Для европейцев обнаружение неведомых земель и
л*одей — воплощение божественного замысла, для индейцев
белые — мифологические существа, боги, сошедшие с небес. Ин-
дейцы ведут себя возбужденно-празднично, танцуют, стараются во-
влечь пришельцев в пляски, играют на своих инструментах, евро-
пейцы тоже показывают, что они умеют, даже разнообразные
трюки и т.п. Происходит карнавальная игра — травестия — пере-
одевание, обмен элементами одежды, головными уборами. Про-
светленно-эсхатологическое чувство владеет и Колумбом, и Перо
В&с де Каминьей. Что произойдет в дальнейшем — это уже иной
вопрос. Здесь главное — матричная ситуация, в которой налицо
все элементы карнавальной праздничности: травестия, маска,
та,нец, музыка, возлияния, эротизм. Подобный праздник встречи
мцров — это коренной факт межцивилизационного общения, из ко-
торого все выходят мечеными по-новому. Праздник травестии
стал реальным механизмом первичного базового взаимодействия —
положительного, конструктивного, в отличие от множества негати-
вцстских форм социального общения, не говоря уже о конкисте.
Церковь, монашество, миссионеры — главные носители эсхато-
логических настроений, бурно развившихся с открытием Нового
392
Света, — широко использовали праздник в главном его качестве —
как машину по переводу "культа в культуру". Привлечение для по-
становки христианских действ индейских праздничных традиций
(музыка, танец, декоративность и т.д.) также вело к тому, что при
сохранности канонических сюжетов (впрочем, авторы ауто выхо-
дили далеко за пределы традиции) в итоге получалось все-таки
нечто третье. К подобным результатам вели и профанные праздне-
ства, карнавальные шествия, которые организовывала светская
власть с широким привлечением индейцев-вассалов. И так далее, и
так далее...
Праздник стал лоном соития сакральных фигур, дат, образов,
атрибутики, декоративности — рождения новых культурных фено-
менов "на глубине мифа" (К.Ясперс), т.е. там, где было возможно
культуропорождающее взаимодействие отстоящих на тысячелетия
цивилизаций.
Если взглянуть с типологической позиции, в Латинской Амери-
ке происходило и происходит то, что, с вариациями, характерно
для всякого взаимодействия в культурно-цивилизационном погра-
ничье, в зоне встречи архаики с "модерном": переход границы,
трансгрессия, взаимодействие по линии горизонтальных отноше-
ний культур. Вспомним, например, трансгрессию западных куль-
турных форм в России при Петре I, его ассамблеи, карнавалы,
переодеванья и т.п. Взглянем на современную Россию, где подоб-
ная карнавализованная активность, профанирование официальных
мифов и топосов, внедрение чужеродных форм налицо, особенно в
первые годы реформ.
Но подобное сопоставление обнаруживает и существенные,
принципиальные различия. В русской культуре внедрение инокуль-
турных форм влечет ее изменение, а в Латинской Америке происхо-
дит не просто изменение, но создание самих основ культуры.
Праздник — всегда выход за норму, ее нарушение, но в русской
культуре не затрагивается целое, с поглощением и ассимиляцией
нового происходит возврат к норме, пусть и модернизированной,
но матрица тверда и устойчива. В латиноамериканской культуре
норма податлива, плазматична, готова к "заливке" в форму. Здесь
из взаимодействия возникают новые комбинации, которые могут и
распасться, и срастись, из бессистемного через симбиотические со-
единения и синтезирование форм творится новая системность.
Ю.Н.Гирин говорил о пренаталъной ритмике бразильского кар-
навала. Но это такое состояние "беременности" культуры, когда
уже происходит Рождение. В праздничной стихии происходит крис-
таллизация новой психофизиологической определенности на уровне
ритма, жеста, моторики, звука, ритмослова, эротической импуль-
сивности, а это и есть творение нового коллективного — Родового
Тела с присущим ему новым вариантом коллективно-бессознатель-
393
цивилизаций и создает то, что мы называем латиноамериканским
праздником — возможно, наиболее репрезентативное и яркое кол-
лективистское проявление новой культуры. Матрица карнавала,
карнавальный хронотоп как бы заложены в самые основания лати-
ноамериканской культуры — ни больше, ни меньше.
М.Элиаде писал, что Открытие — прорыв через границы извест-
ного в неведомое — всегда создает эсхатологическую ситуацию:
сдвижение концов и начал, жизни и смерти, устремление за завесу
времен, к началам нового, к утопии. Вспомним Колумба: новая
земля и новое небо... В переводе в ракурс проблемы, о которой идет
речь, эта ситуация и есть источник, порождающий повышенную
креативную роль карнавального хронотопа — непосредственного
воплощения эсхатологического модуса сознания. О принципиаль-
ной, основополагающей роли карнавального хронотопа в латиноа-
мериканской культуре писал Н.М.Польщиков в работе "Метапоэ-
тика рубежа в пороговых культурах"17. Матричная ситуация, возни-
кающая у истоков, повторяется постоянно и несчетно в разных фор-
мах культуры, формирует сам тип сознания, ибо Первооткрытие по-
стоянно воспроизводится от начал и до современности.
В самом деле, многие и многие свидетельства хронистов Перво-
открытия, особенно первые наблюдения, фактически воспроизво-
дят праздничную, эсхатологически окрашенную ситуацию. Возь-
мем ли мы Первое письмо Колумба или письмо Перо Вас де Ками-
ньи об открытии Бразилии, здесь, помимо всего прочего, на на-
чальном этапе возникает именно эсхатологически-карнавальная
обстановка. Для европейцев обнаружение неведомых земель и
людей — воплощение божественного замысла, для индейцев
белые — мифологические существа, боги, сошедшие с небес. Ин-
дейцы ведут себя возбужденно-празднично, танцуют, стараются во-
влечь пришельцев в пляски, играют на своих инструментах, евро-
пейцы тоже показывают, что они умеют, даже разнообразные
трюки и т.п. Происходит карнавальная игра — травестия — пере-
одевание, обмен элементами одежды, головными уборами. Про-
светленно-эсхатологическое чувство владеет и Колумбом, и Перо
Вас де Каминьей. Что произойдет в дальнейшем — это уже иной
вопрос. Здесь главное — матричная ситуация, в которой налицо
все элементы карнавальной праздничности: травестия, маска,
танец, музыка, возлияния, эротизм. Подобный праздник встречи
миров — это коренной факт межцивилизационного общения, из ко-
торого все выходят мечеными по-новому. Праздник травестии
стал реальным механизмом первичного базового взаимодействия —
положительного, конструктивного, в отличие от множества негати-
вистских форм социального общения, не говоря уже о конкисте.
Церковь, монашество, миссионеры — главные носители эсхато-
логических настроений, бурно развившихся с открытием Нового
392
Света, — широко использовали праздник в главном его качестве —
как машину по переводу "культа в культуру". Привлечение для по-
становки христианских действ индейских праздничных традиций
(музыка, танец, декоративность и т.д.) также вело к тому, что при
сохранности канонических сюжетов (впрочем, авторы ауто выхо-
дили далеко за пределы традиции) в итоге получалось все-таки
нечто третье. К подобным результатам вели и профанные праздне-
ства, карнавальные шествия, которые организовывала светская
власть с широким привлечением индейцев-вассалов. И так далее, и
так далее...
Праздник стал лоном соития сакральных фигур, дат, образов,
атрибутики, декоративности — рождения новых культурных фено-
менов "на глубине мифа" (К.Ясперс), т.е. там, где было возможно
культуропорождающее взаимодействие отстоящих на тысячелетия
цивилизаций.
Если взглянуть с типологической позиции, в Латинской Амери-
ке происходило и происходит то, что, с вариациями, характерно
для всякого взаимодействия в культурно-цивилизационном погра-
ничье, в зоне встречи архаики с "модерном": переход границы,
трансгрессия, взаимодействие по линии горизонтальных отноше-
ний культур. Вспомним, например, трансгрессию западных куль-
турных форм в России при Петре I, его ассамблеи, карнавалы,
переодеванья и т.п. Взглянем на современную Россию, где подоб-
ная карнавализованная активность, профанирование официальных
мифов и топосов, внедрение чужеродных форм налицо, особенно в
первые годы реформ.
Но подобное сопоставление обнаруживает и существенные,
принципиальные различия. В русской культуре внедрение инокуль-
турных форм влечет ее изменение, а в Латинской Америке происхо-
дит не просто изменение, но создание самих основ культуры.
Праздник — всегда выход за норму, ее нарушение, но в русской
культуре не затрагивается целое, с поглощением и ассимиляцией
нового происходит возврат к норме, пусть и модернизированной,
но матрица тверда и устойчива. В латиноамериканской культуре
норма податлива, плазматична, готова к "заливке" в форму. Здесь
из взаимодействия возникают новые комбинации, которые могут и
распасться, и срастись, из бессистемного через симбиотические со-
единения и синтезирование форм творится новая системность.
Ю.Н.Гирин говорил о пренаталъной ритмике бразильского кар-
навала. Но это такое состояние "беременности" культуры, когда
уже происходит Рождение. В праздничной стихии происходит крис-
таллизация новой психофизиологической определенности на уровне
ритма, жеста, моторики, звука, ритмослова, эротической импуль-
сивности, а это и есть творение нового коллективного — Родового
Тела с присущим ему новым вариантом коллективно-бессознатель-
393
ного, той сферы, где возникают новые автоматизмы, надличност-
ные стереотипы, определяющие не только праздничное, но и буд-
ничное бытие. В сознании латиноамериканского метиса, креола ра-
ботают те лее механизмы, что и в самом празднично-карнавальном
действе, оно "плазматично", лабильно, травестийно возбуждено,
предрасположено к гротеску и к маскировке (маска), и к самопре-
зентации. Это и есть результат межэтнического, межцивилизацион-
ного взаимодействия на всех уровнях — от уровня "крови" до
уровня культуры, где себя осмысливают, глядясь в зеркало другого.
Но цивилизационная трансгрессия никогда не ограничивается
трансфертом культурных форм по горизонтали — на пересечениях
культур всегда встают знаки вопросов и восклицательные знаки
возможных ответов.
Родовое Тело никогда не лежит, рождаясь, оно встает, вырас-
тая как целостность, оно вытягивается по вертикали, ибо родовое
как целостность всегда связано с вечностью, апеллирует к ней,
трансцендентирует в Дух. В межцивилизационном общении, и тем
более в праздниках, карнавалах, происходит встреча богов жизни и
смерти, рождения и умирания, идут поиски гармонии, выхода в
спасении, в утопии, а это уже зона метафизических исканий. В уто-
пическом пространстве межцивилизационного карнавала достига-
ется целостность коллективного Родового Тела, а значит, некое
единство Духа.
Карнавальный модус сознания оказывается в Латинской Амери-
ке изоморфным интеллектуально-духовным исканиям высокой
культуры, порождающим в поисках своего самоосмысления целую
череду утопически-эсхатологических концепций новой — латино-
американской — цивилизации. Показательна в этом отношении
философия и эстетика испаноамериканского модернизма, сыграв-
шего ключевую роль в формировании новой культуры. Модернизм
с его пафосом преодоления порогов, границ исторической "невоз-
можности", с его устремленностью в безграничье свободы и гармо-
нии, где достигается целостность нового человека-латиноамери-
канца, с его "отменой" в самой концепции "латиноамериканского
человека" этнических различий (это — человек вообще, полный,
целостный) прямо соотносится с карнавальным хронотопом, несет
его в своем составе, в своей "крови". Внутренние различия несуще-
ственны с точки зрения общей парадигмы: Марти, связанный с ро-
мантической эстетикой, со своим "тяжелым" героико-романтичес-
ким пафосом, не любил карнавал (хотя работал в его поэтике), а
эстетика Рубена Дарио откровенно карнавальна, праздник всегда
выступает у него с положительным знаком — и оба при этом во-
площали основной цивилизационно-строительный вектор, устрем-
ленный к спасительной эсхатологической гармонии, к окончатель-
ному разрешению всех противоречий в новом синтезе.
394
В сущности, и в поэтике карнавала, и в искусстве, и в структуре
культурфилософской мысли действуют одни и те же механизмы
строительства новой культуры. Карнавал — настоящий парад этих
строительных форм: парафраз, травестия, инверсия, пародия, мас-
ка и т.д. Та точка зрения, что парафрастические механизмы
(маска) — свидетельства ущербности культуры, неверна; это уни-
версальные культуростроительные приемы, но приобретающие
большее значение в кризисные периоды и в напряженных эстети-
ческих концепциях. Среди множества функций маски есть одна,
особенно важная для латиноамериканской культуры. Маска, скры-
вая частное, индивидуальное, выявляет коллективное, архетипичес-
кое, свойственное культуре в целом, а значит, имеет идентифици-
рующее значение.
Путь карнавала: от гротескного, комического — к космическо-
му. Как в романе Гарсиа Маркеса "Любовь во времена холеры" —
этом "букваре" латиноамериканской карнавальности. В финале
книги Тело обретает Дух, но в новом соотношении, где телесное и
духовное слиты в некое чаемое единство.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. СПб, 1994. С. 7.
2 Аничков Е.В. Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян. СПб,
1905, ч. III. С. 345.
3 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура сре-
дневековья и Ренессанса. М., 1965. СП.
4 О композиции публичных спектаклей в корралях см.: Силюнас В. Ис-
панский театр XVI-XVII веков. М., 1995. С. 243-277.
5 Motolinia Т. Historia de los indios de la Nueva Espana. Madrid, 1985.
P. 183.
6 Très piezas teatrales del Virreinato. Mexico, 1976. P. 377.
7 Diez-Boropie J.M. Teorìa, forma y función del teatro espaòol en los Siglos
de Oro. Barcelona, 1996. P. 90.
8 Ibid. P. 91.
9 Vega L. de. Obras, t. II. Madrid, 1892. P. 257-259.
10 Hurtado N. Tradiciones y ferias mexicanas. Mexico, 1969, p. 119.
11 Hurtado N. Op.cit. P. 122-126.
12 Тайлор Э. Первобытная культура. M., 1989. С 274.
13 Рыбаков Б. Язычество древней Руси. М., 1988. С. 115.
14 Фрэзер Дж. Золотая ветвь. М., 1986. С 293.
15 Тайлор Э. Указ. соч. С. 274.
16 Sahagûn В. de. Historia general de las cosas de Nueva Espana. Voi. I. Ma-
drid. 1988. P. 154-156.
17 См.: Iberica Americans. Тип творческой личности в латиноамерикан-
ской культуре. М., 1997.
395
INDICE
Introducción. La fiesta en las civilizaciones formadas y en las que
se estân formando {Valeri Zemskov) 5
Parte I
LOS ORÎGENES DE LA TRADICIÓN FESTIVA IBEROAMERICANA
E.N.Jarlâmenko, A.V.Jarlâmenko. Sobre el origen y la función de la
fiesta en la cultura iberoamericana 18
D.G.Fedósov. Los indîgenas y las tradiciones festivorrituales en el
Virreinato del Peru (ss. XVI-XVII) 67
L.I.Tananâeva. La fiesta europea en sus aspectos artîstico-estilîsticos
y los comienzos de la cultura latinoamericana 79
I.V.Ershova. Los modelos festivorrituales en el espacio artìstico de
la literatura Ispanoamericana del XVII. . 99
M.B.Smirnova. La poesìa en el contexto de la fiesta barroca 115
Parte II
ESPANA: LA FIESTA Y SUS PROYECCIONES EN EL ARTE PROFESIONAL
A.N.Kozhanovski. Las fiestas tradicionales en Espana de la Moderni-
dad 124
S.I.Piskunova. Motivos e imâgenes de las fiestas estivales en el Qui-
jote de Cervantes 144
O.A.Svetlakova. Lo popular y lo histórico en el concepto cervantino
de lo festivo 156
N.Yu.Morózova. La fiesta pueblerina y el mito pastoral en la poesìa
de J.Meléndez Valdés 162
G.E.Karsiân. La carnavalización en la trilogìa dramâtica "Martes de
Carnaval" de R. del Valle-Inclân 174
A.I.Nazarenko. Elementos carnavalescos en el "Tirano Banderas" de
R. del Valle-Inclân y "El golpe de estado de Guadalupe Limón" de
G.Torrente Ballester 183
Parte III
AMERICA LATINA: LA FIESTA EN EL CRUCE DE CULTURAS
T.V.Goncharova. De Mexico a Bolivia: la fiesta es vida 199
I.V.Buteniova. Las fiestas en la Sierra Peruana 211
I.A.Orzhitzki. La fiesta corno proyección de la esencia etnocultural
(el condor y el toro en la literatura andina) 233
A.F.Koflnan. El Dîa de los muertos, promotor de la cultura nacional. . 229
I.A.Kriâzheva. Los cultos afrocristianos en Latinoamérica 247
E.N.Vâsina. La cultura festiva de Brasil 260
V.L.Jait. El carnaval y la carnavalización de las artes y la arquitec-
tura en Latinoamérica 271
E.V.Ogneva. Alejo Carpentieri la fiesta del concierto barroco corno
ideal del ser 287
V.B.Zemskov. En el "carnaval" de René Portocarrero (recordando al
Maestro) 298
N.V.Muraviova. En torno a Gabriel Garcia Marquez y Ruben Dario
(reflexiones del traductor) 308
Parte IV
ASPECTOS TEÓRICOS
N.M.Pólshikov. La ambivalencia de las fiestas (aspectos ontológicos
y poetológicos) 313
Yu.N.Guirin. El carnaval latinoamericano y el problema de la
identificación etnocultural 330
Ya.G.Shemiâkin. La fiesta latinoamericana corno objeto de estudio
civilizacional 343
APÉNDICE
La Fiesta corno fenòmeno de la cultura iberoamericana (fragmentos
de la "mesa redonda") 373
СОДЕРЖАНИЕ
Введение. Праздник в устойчивой и формирующейся цивилиза-
циях (В. Б.Земское) 5
Часть I
У НАЧАЛ ИБЕРОАМЕРИКАНСКОЙ ПРАЗДНИЧНОЙ ТРАДИЦИИ
Е.Н.Харламенко, А.В.Харламенко. Об истоках и о роли праздни-
ка в ибероамериканской культуре 18
Д.Г.Федосов. Индейцы и празднично-обрядовые традиции вице-
королевства Перу (XVI-XVII вв.) 67
Л.И.Тананаева. Художественно-стилистические аспекты евро-
пейского праздника и начала латиноамериканской культуры 79
И.В.Ершова. Празднично-ритуальные модели в художествен-
ном пространстве испаноамериканской литературы XVII века 99
М.Б.Смирнова. Поэзия в контексте барочного праздника 115
Часть II
ИСПАНИЯ: ПРАЗДНИК И ЕГО ПРОЕКЦИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ
А.Н.Кожановский. Традиционные праздники в Испании нового
времени 124
С.И.Писку нова. Мотивы и образы летних праздников в "Дон-
Кихоте" Сервантеса 144
О.А.Светлакова. Народно-смеховое и историческое в серванте-
совском понимании праздничного 156
Н.Ю.Морозова. Сельский праздник и пасторальный миф в поэ-
зии Х.Мелендеса Вальдеса 162
Г.Э.Карсян. О карнавализации в драматургической трилогии
Р. дель Валье-Инклана "Вторник карнавала" 174
А.И.Назаренко. Карнавальные элементы в романах "Тиран Бан-
дерас" Рамона дель Валье-Инклана и "Государственный переворот
Гвадалупе Лимон" ГонсалоТорренте Бальестера 183
Часть III
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА: ПРАЗДНИК НА ПЕРЕКРЕСТКЕ КУЛЬТУР
Т.В.Гончарова. От Мексики до Боливии: праздновать, чтобы
жить 199
И.В.Бутенева. Праздники в Перуанской Сьерре 211
И.А.Оржщкий. (Харьков, Украина). Праздник как обнаруже-
ние этнокультурной сущности (кондор и бык в литературе Андско-
го региона) 233
А.Ф.Кофман. Мексиканский День мертвых и его культурострон-
тельная роль 229
И.А.Кряжева. Афро-христианские культы Латинской Америки. . . 247
Е.Н.Васина. Праздничная культура Бразилии 260
В.Л.Хаит. Карнавал и карнавализованность латиноамерикан-
ского искусства и архитектуры 271
Е.В.Огнева. Праздник барочного согласия А.Карпентьера как
идеал мироустройства 287
В.Б.Земское. На "карнавале" у Рене Портокарреро (вспоминая
Мастера) 298
Н.В.Муравьева. Размышляя о Г.Гарсиа Маркесе и Рубене
Дарио (заметки переводчика) 308
Часть IV
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАКУРСЫ
Н.М.Полыциков. Амбивалентность празднеств (онтологические
и поэтологические аспекты) 313
Ю.Н.Гирин. Латиноамериканский карнавал и проблема этно-
культурной идентификации 330
Я.Г.Шемякин. Латиноамериканский праздник как предмет ци-
вилизационного исследования 343
ПРИЛОЖЕНИЕ
Из дискуссии за "круглым столом" "Праздник как феномен
ибероамериканской культуры" 373
Научное издание
Утверждено к печати
Научным советом по истории мировой культуры
Российской Академии наук
IBERICA
AMERICANS
Праздник в ибероамериканской культуре
Оригинал-макет изготовлен
Мишу тиной Т. И.
ИД № 01286 от 22.03.2000 г.
Подписано в печать 10.12.2001.
Формат 60х84!/1б. Бумага офсетная. Гарнитура Тайме.
Печать офсетная. Печ. л. 25. Тираж 500 экз.
ИМЛИ РАН
121069, Москва, ул. Поварская, д. 25-а.
Тел.: (095) 202-21-23, 291-23-01
Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6
Заказ № 5470
I