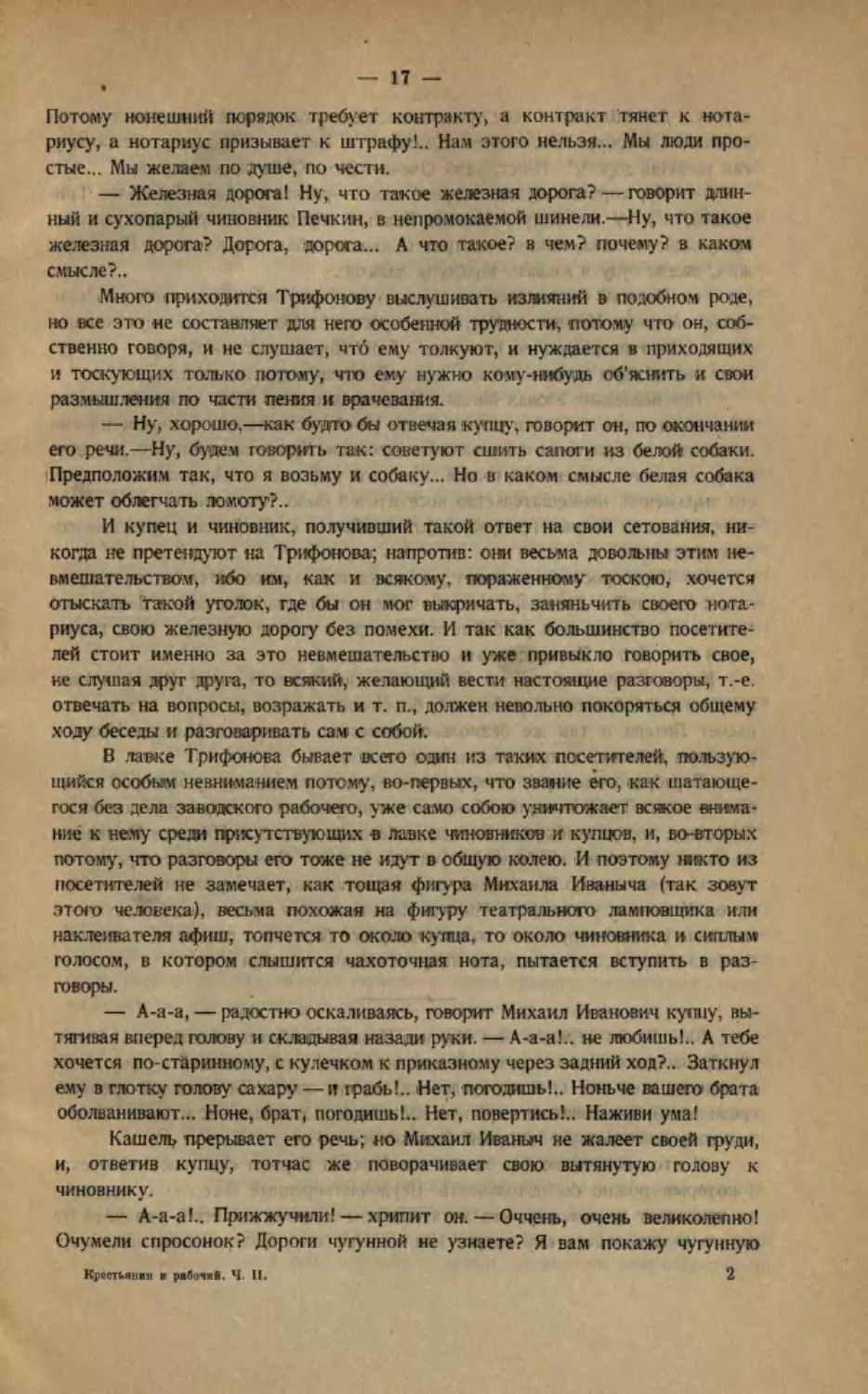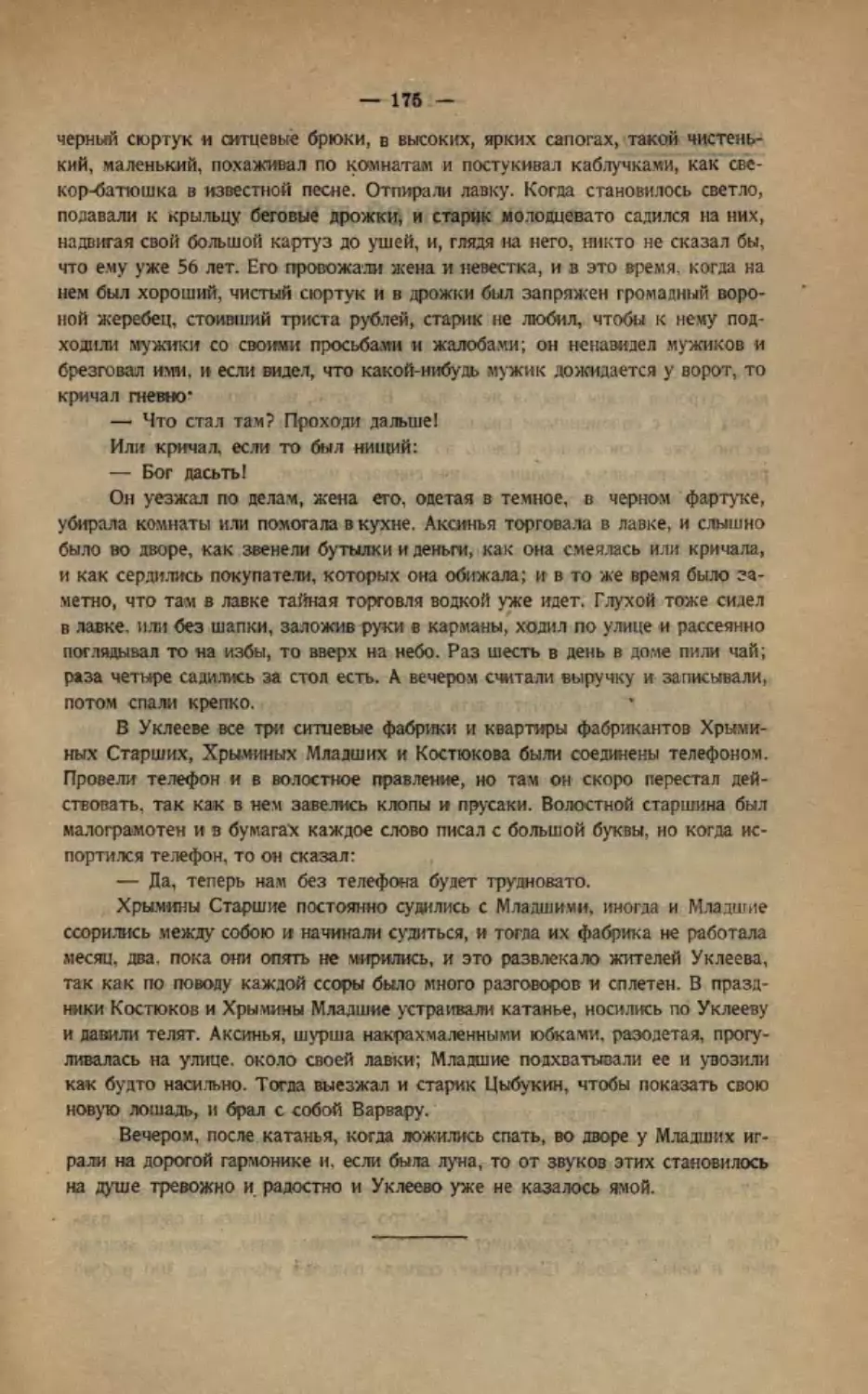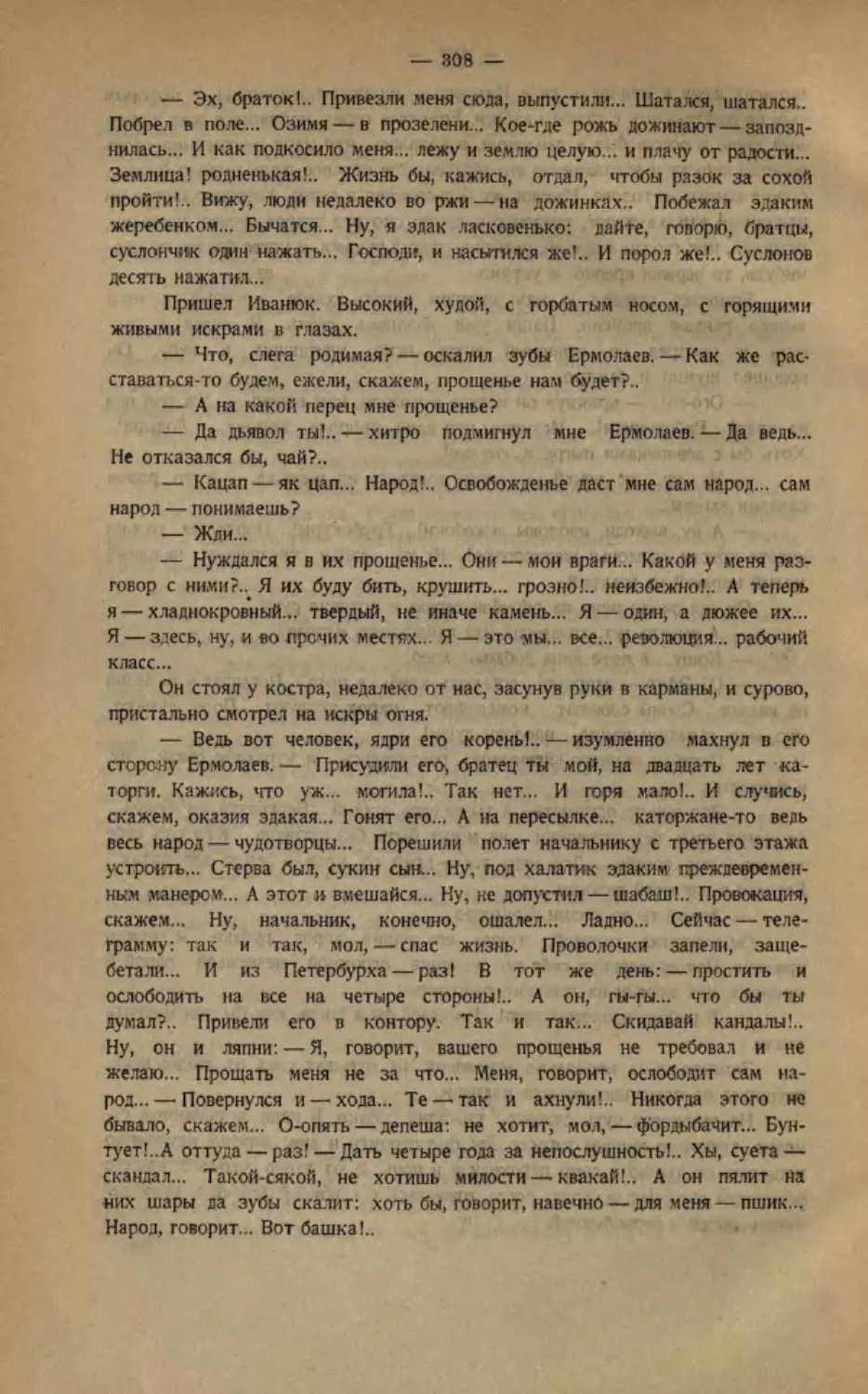Текст
ÜA
IIо
\I^ГЬ
л.
войтоловский
(То/
КРЕСТЬЯНИН И РАБОЧИМ
В РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ XIX и XX в.в.
ЧАСТЬ II
государственное
зт5дал>звоъса>воI
J» ТАР »«спич-
ГОСУДНРСТВЕННОЕ ИЗДЯТЕЛЬСТВО РСФСР
москвп
БОГДАНОВ, А.
^^ 1905-й год
В РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕН* О* ЛИТЕРАТУРЕ
Ч. I. ГОРОД
Предлагаемый читателю сборник художественного слова (стихов и прозы)
отражает революционные события 1905 года, как они преломились в творчестве рус-
ских писателей. Сборник отмечает несколько моментов первой революции в России:
„Накануне", „Январь 1905 г." , „Июльские дни", „Великая Октябрьская забастовка",
„Вооруженное восстание" . В сборник вошли отрывки и целые вещи почти большинства
выдающихся в эту эпоху писателей, а также позабытые произведения мало известных
авторов, горевших огнем революционного энтузиазма и оставивших примечательные
художественные вещи.
СОДЕРЖАНИЕ:
Предисловие Ал. В о г д а н ов а. I.НАКАНУНЕ.Нашцарь. Стихи. К. Бальмонт.
Дома. В. Вересаев. В ротной школе. А. Куприн. Кузнецы. Стихи. Ф. Шкулев.
Стихи. Алексей Гмырев. Знамя свободы. Стихи. Тэффи. Бессознательным путем.
Бессалько, Крепнущие крылья. Н. Ляшко. В новом русле. С. Ан — ский.
Кошмар. Виктор M у й ж е л ь. II. 9-ѳ ЯНВАРЯ. На событие 9 января. Стихи (из газ.
„Вперед"). К юбилею 9 января. Стихи. А. Луначарский. Царь ложь. Стихи. К. Баль-
монт. Последние игрушки. В. И. Д м и т р и е в а. Она притворялась. В л. Беренштам.
На десятой версте... Стихи. П. Э диет. Кровавая заря. Стихи. Товарищ. Январский
завет. Стихи. Самобытник. III. ОТ ЯНВАРЯ К ОКТЯБРЮ. 1)КРАСНЫЕ ИЮНЬ-
СКИЕ ДНИ. Стихи. Иван Каляев. На тракту. Тан. Забастовка. И . Волков.
В казармы. В . Ропшин. 2) БРОНЕНОСЕЦ ПОТЕМКИН. Броненосец Потемкин.
Георгий Шенгели. Расплата. А. Федоров. В Одесском порту. Кармен.
ГУ. ОКТЯБРЬ. Довольным. Стихи. Валерий Брюсов.
„Из рассказа, который
никогда не будет окончен*' . Леонид Андреев. В Октябре. АдександрКипен.
Год Нюсиной жизни. A.Mарусин. (А. П.Скляреико).ИванКузьмич.Ив. Шме-
лев. К широкой дороге. А. Бибик. Крамола. Н. Телешев. Черные ветры.
Борис Зайцев. Проталина. С. Сергеев-Ценский. Девушка в белом. Стихи.
Ал. Богданов. На смерть Баумана. Стихи. (Изд. Моск. орг. РСДРП.) . Забастовка.
С. Кондурушкин. Искали дочь. Стихи. Федор Сологуб. Я спешил. Стихи.
Он же. У. В ОГНЕ ВОССТАНИЯ. Плакать после. Стихи. Виктор Страже в.
Гимн рабочих. Стихи. Н. Минский. Кто не верит. Стихи. К. Бальмонт. Перед
боем. С . Васильченко. Красный адмирал. Алексей Ярошко. Казнь. Стихи.
Тулуб. Домой. В . Вересаев. Час настал. Стихи. Неизвестный. Отрывок из
рассказа „Депутат" . М. В о л к о в. В.декабре. О н ж е. На Пресне: А. Серафимович.
Разбившийся штурм. С. Васильченко. Красный машинист.' Стихи. Кириллов.
Кровавое пятно. М. Арцыбашев. Жертвы Москвы. Стихи. Ал. Богданов.
Смолкли залпы запоздалые. Стихи. Евгений Тарасов. Они лежали здесь в углу.
Стихи. О н ж е. Летучка. Андрей Немоевский. Рассказ о семи повешенных.
Леонид Андреев. На аванпостах. Стихи. Л. Б. Он думает, что победил. Стихи
(из с.- д. газ. „Вперед" 1907 г.) .
•
войтоловский, л.
ГЕРОИЗМ РЕВОЛЮЦИИ
ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРЕСТОМАТИЯ XIX и XX веков
ПАРИЖСКАЯ КОММУНА—ОКТЯБРЬ 1871—1917
Ц\Том II
Стр. 424
ч
а 2р.
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ШКОЛ I И II СТУПЕНИ
ЦіЪ
по
л.
воитоловскии
W'BUBUl.UJMUU
КРЕСТЬЯНИН и РАБОЧИМ
' В РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ XIX И XX В.В.
ЛИТЕРАТУРНО - ОБЩЕСТВЕННАЯ ХРЕСТОМАТИЯ
ДЛЯ ШКОЛ И САМООБРАЗОВАНИЯ В ДВУХ ЧАСТЯХ
ЧАСТЬ II
1. волчья воля
2. ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ
НАУЧНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЕКЦИЕЙ
»,\/lt^V
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕНОГО СОВЕТА
ДОПУЩЕНО ДЛЯ ШКОЛ II СТУПЕНИ
ХУК
Iff
1—20 ТЫСЯЧА
ЪXч
ѵХ. .
ч.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА
1925
ЛЕНИНГРАД
2011097056
... Пролетариат не может и никогда не будет
восторгаться искусством, которое находится
в резком противоречии со всем его мы-
шлением и чувствами, со всем тем, что для
него ценнее всего в жизни... Ца и почему-бы
пролетариату быть смиреннее
буржуазии,
которая в дни своего величия не признавала
искусства, если только последнее не было
рождено ее духом?
Франц Меринг.
ПРЕДИСЛОВИЕ.
19-е февраля 1861 года было крепостнической реформой. Революцион-
ное движение того времени было беспомощно и слабо, революционного
класса среди угнетенных масс вовсе еще не было. «Великую реформу» про-
изводили крепостники-дворяне, вынужденные к тому ростам капитализма
в России. «Освобождение» крестьян было шагом по пути превращении кре-
постной монархической России в буржуазную монархию. Мужик уходил из-
под власти крепостника и становился целиком под власть денег, попадал в ка-
балу народившегося и стремительно выраставшего капитала. В распоряжение
дворянина-помещика и дворянина-промышленника поступили огромные источ-
ники дарового труда. Государственная власть возложила на себя обязанности
по охране буржуазно-дворянских привилегий. И оттого — в окружении евро-
пейского капитала — развитие капитализма, в России пошло с неведомой евро-
пейскому капиталу быстротой, и в несколько десятилетий совершались такие
превращения, для осуществления которых в старых странах Европы понадо-
бились целые века.
Буржуазно-крепостнический характер пресловутой «великой реформы»
великолепно вскрыт Лениным в статье «Крестьянская реформа и пролетарско-
крестьянская революция». Статьей этой открывается вторая часть настоящей
хрестоматии.
Уже радикально-рево люционная интеллигенция 60-х годов превосходно
уяснила себе грабительски-крепостнический характер «освобождения» кре-
стьян и в лице Н. Г. Чернышевского обрушилась на либеральных освободите-
лей, ободравших народ как липку. Между Чернышевским и либеральной бур-
жуазией завязалась долгая непримиримая борьба, расколовшая русскую
интеллигенцию на два враждующих лагеря: либеральную буржуазию и ради-
кальную демократию. Последняя всецело выросла из у топи ч ески-соци а л ис ти -
ческих теорий Чернышевского. В такой-же мере, как Герцен наложил свою
духовную печать на все дворянские поколения разночинско-радикальной
интеллигенции дореформенного периода, утопическая идеология Н. Г. Черны-
шевского долгое время остается господствующей в рядах пореформенной ради-
кальной интеллигенции. Ею пропитаны идеалы радикальных шестидесятников;
та-же идеология наполняет собою революционную борьбу народовольцев
и революционных народников.
Только с превращением пролетариата из экономической категории
в определенную классовую силу социально-утопическое содержание интелли-
гентской идеологии и революционер-террорист, революционер-одиночка сту-
шевываются — в начале 90-х годов прошлого века — и растворяются в массах
революционных крестьян и революционных рабочих, взявших дело борьбы
в свои собственные руки.
Как и в дореформенную эпоху вся пореформенная художественная ли-
тература значительно отстает от своей революционной публицистики. Ху-
дожник-разночинец показал нам крестьянина, забитого веками рабства, при-
туплённого, темнот и нищего (Решетников), показал крепостного рабочего
в подземных шахтах и рудниках (Решетников, Мамин-Сибиряк, Дмитриева),
показал семилетних детей, высыхающих на гутах (стекольная фабрика) и
в подземельи (Златовратский, Дмитриева); но как ни притуплён был мужик,
он проявил свое отношение к реформе совершенно недвусмысленным образом:
он протестовал, бунтовал, поджигал. Пускай бунты эти не освещены были
никаким политическим сознанием, но именно из этих массовых (хотя бы и
разрозненных) выступлений родилась вся практическая работа народовольцев.
В русской художественной литературе это огромное событие нашей истори-
ческой жизни не нашло никакого1 отражения. Далее, бурный рост экономиче-
ского развития рушил крепостное хозяйство и втягивал деревню на путь ка-
питализма.
Но разорение деревни, появление фабрики, рост городов, утрата
деревней чисто-земледельческого характера, появление деревенского ре-
месла— все это долго совершенно игнорировалось художником-разночинцем.
Промысловая деревня совершенно ушла из-под его наблюдения. Только бур-
лачество нашло широкое отражение в нашей художественной литературе.
Отчасти это понятно. В то время ремесло находилось в деревне на низкой
стадии развития и почти не было обособлено от крестьянского труда. За-
правский мужик крестьянствовал на земле, а плотник, бочар, кузнец, горшеч-
ник, портной, работали не на широкий рынок, а на свою же деревню; т.-е . зем-
ледельческое и ремесленное крестьянское хозяйство были тесно слиты между
собою и носили неподвижный характер со всеми архаическими чертами нату-
рального уклада. Писатель-разночинец, враждебно смотревший на успехи
капитализма и веривший, что русской деревне нет надобности «вывариваться
в фабричном котле», охотно не замечал, что деревня теряет свой чисто-зем-
ледельческий характер, и сознательно замалчивал те явления, которые гово-
рили об уходе «по'длиповцев» из-под «власти земли». Но бурлачество было
явлением совершенно приемлемым и доступным для писателя-разночинца.
Бурлак — тот же мужик. Эта работа, как и- работа гонщика, сплавщика,
чернорабочего «а железной дороге, требует только сноровки и физической
силы. Землепашец берется за этот труд лишь для того, чтобы подкрепиться
деньгами и опять вернуться в деревню, к земле. Именно это бурлачество,
бурлачество на Каме и Чусовой, изображено у Решетникова и Некрасова. Оба
художника совершенно не интересовались тем, что и в бурлачестве суще-
ствует строгий отбор, своя иерархия — с делением на аристократию (лоц-
маны) и чернь (сплавщики и тягальщики), что и тут формируется своя боевая
психология, что и тут машина (кдано-машинная тяга) ведет борьбу с перво-
бытной техникой чисто земледельческого бурлачества. Оттого бурлаки Решет-
никова и «Железная дорога» Некрасова долгое время остаются единственными
образцами рабоче-крестьянского труда в нашей пореформенной литературе.
Гниет и рушится старое крестьянское хозяйство, растет товарный обмен
с Европой, растут города, промысловые села, сотни тысяч разорившихся му-
жиков перекочевывают в города, а писатель-разночинец молчит, как по обету;
и только Глеб Успенский нарушает обет молчания. Он рисует картины страш-
ного мужицкого «Разорения», рисует «Нравы Растеряевой улицы», выводит на
сцену деревенского ремесленника («Подгородный мужик», «Кузнец»), показы-
вает нам «Бабий заработок». С этой минуты кустарь канонизируется в на-
роднической литературе. Писатель-разночинец берет его под защиту от убий-
ственного влияния фабрики. Кустарь попадает в моду. Ему посвящается много
очерков: «Хроника села Смурина» П. Засодимского, «Город рабочих» Н. Зла-
товратского, мелкие бытовые очерки в журналах. Однако, лучшим и самым
правдивым изображением жизни и психологии кустаря является повесть Ка-
ронина-Петропавловского «Снизу вверх», общественно-психологическое со-
держание которой превосходно вскрыто Плехановым в статье «Русский рабо-
чий в революционном движении». Повестью Каренина наносится смертельный
удар народнической идеализации кустаря. Замечательные «Павловские очерки»
Короленко довершают развенчание кустаря. Постепенно внимание переносится
от ремесленного труда к фабричному. Как всегда, эта работа выполняется не-
заметными именами. Появляются рассказы Ф. Нефедова, рисующие превраще-
ние кустарного села в промышленный город (Иваново-Вознесенск), «Очерки
фабричной жизни» Голицынокого, отрывочные наброски Н. Наумова («Пау-
тина») из жизни сибирских золотопромышленных рабочих, рассказы Поте-
хина. Художественная ценность большинства этих очерков крайне ничтожна.
Это скорее нащупывание темы о превращении ремесленного пролетариата
в фабричный.
Окончательное завершение эта задача получает в талантливых
очерках В. Вересаева «Два конца» и «В сухом тумане», отрывки из которых
и приведены в хрестоматии.
К этому времени уже начинается открытое выступление и неуклонный
рост пролетарской массы, а вместе с тем и рост стачечной борьбы, рост со-
циал-демократической агитации, организация социалистических авангардов,
повлекших за собой на массовую борьбу и революционно-демократическое
крестьянство. Все эти явления—по цензурным условиям. —
почти не находят
отражения в художественной литературе. Первая рабочая стачка на заводе
была описана в бесцветном романе Федорова-Омулевекого «Шаг за шагом».
Благодаря именно этому описанию забастовки, роман этот пользовался
огромной популярностью в 70-х и 80-х годах и долго находился под цензур-
ным запретом. Страницы, описывающие стачку, принадлежат к лучшим в ро-
мане и приводятся в хрестоматии. Десятилетие, предшествовавшее революции
1905 года, самое яркое и красочное, связанное с организацией сознательного
и партийного рабочего, нашло своих изобразителей только значительно позже,
и, главным образом, среди писателей из рабочей среды. Писатели-разночинцы
развернули после революции 1905 года широкие картины деревенского разоре-
ния, расслоения, кулацкого засилия и царской опричины. Сюда относятся
повести Чехова, Бунина, Короленко и друг. К этому же периоду относится
сочное изображение фабричного быта и фабрики, а также целая галлерея
орабоченных мужиков и мужиковствующих .рабочих у Чехова, Горького, Ку-
прина, Серафимовича, Вересаева, Шмелева и друг., отрывки из которых при-
водятся в хрестоматии. Стихийная стачечная борьба начала девятисотых и
конца девятидесятых годов, типы сознательных рабочих, типы пропаганди-
стов, партийцев, колеблющихся, выведены, как я уже указал, главным обра-
зом., у писателей из рабочей среды: А. Бибика, Н. Ляшко, А. Фролова, С. Ва-
сильченко, П. Бессалько, а также у Горького, Вересаева, Серафимовича,
А. Яковлева, С. Семенова и многих других.
Приведенные в настоящем отделе отрывки представляют совершенно
достаточный материал для сочетания уроков лаборатории русского языка
с лабораторией обществоведения по способу, намеченному в предисловии
к первой части. Напр., между двумя коллективами учащихся распределяются
следующие отрывки: «Под землей» Серафимовича, стихотвор. «Шахта» Гера-
симова, поэма «Сила» Герасимова, «Поступление в лампоносы» В. Коренькова и
«В булочной» Горького — одному коллективу, другому коллективу: «Вступле-
ние в кружок» С. Васильченко, «В рабочем кружке» А. Бибика, «Пропагандист
Тютя» Н. Ляшко, «Проба сил» С. Васильченко, «На партийной работе»
А. Фролова и «9 января» Горького. Предположим теперь, что лаборатория
обществоведения занята разработкой темы: «Борьба рабочего класса в Рос-
сии» (из цикла «Общественные классы и классовая борьба»). Тогда первому
коллективу предоставляется иллюстрировать такие положения: рост рабочего
класса' и распределение по отраслям производства («Под землей» и «В булоч-
ной»), эксплоатация рабочей силы («Поступление ,в лампоносы»), образование
фаб.-заводского пролетариата («вила» и «Шахта»), промышленный переворот
(весь коллектив в целом). Второй коллектив иллюстрирует по программе
обществоведения: ранние формы борьбы рабочих за улучшение своего поло-
жения («9 января»), борьба за,право союзов и стачек («Вступление в кру-
жок»), стачечная борьба 80 — 90 -х годов («На партийной работе»), начало
русской социал-демократии («Пропагандист Тютя»), крестьянство и рабочий
класс в революции (выводы обоих колективов).
Второй отдел второй части — «За власть Советов», связан с темой
«Советский строй и конституция СССР». Приведенные здесь отрывки иллю-
стрируют создание Красной армии, борьбу последней на фронтах, сущность
Советской власти, отличие от буржуазной республики, пролетариат и кресть-
янство, а также производственные и культурные задачи в деревне и участие
в строительной работе молодняка. Использование приведенных в этом отделе
отрывков не представляет затруднений.
Л. В.
».
«vif-
-•к—..
""•
•
•
•
•I
.
.
« : Hé. ЕГ'}і щі:
r« 'й
•
•
•
.
•
...
',«.. .. .-V.',
'Шжm
•
-
*
•
•
-
ç,
,
....
:.
•
•
.
:...;
>«.'.,
...-ЧѴ.
'jr.
г-/
..
.
.
'Л
і
'
-*•
"\•
•.
ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ.
волчья воля.
И. Ленин.
„КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА" И ПРОЛЕТАРСКО-КРЕСТЬЯН-
СКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.
Припомним основные черты крестьянской реформы 1861 года. Пресло-
вутое «освобождение» было бессовестнейшим грабежом крестьян, было рядом
насилий и сплошным надругательством над ними. По случаю «освобождения»
от крестьянской земли отрезали в черноземных губерниях свыше У5 части.
В некоторых губерниях отрезали, отняли у крестьян до Ѵ8 и даже
до 2/s крестьянской земли. По случаю «освобождения» крестьянские земли
отмежевывали от помещичьих так, что крестьяне переселялись на «песочек»,
а помещичьи земли клинком вгонялись в крестьянские, чтобы легче было благо-
родным дворянам кабалить крестьян и сдавать им земли за ростовщические
цены. По случаю «освобождения» крестьян заставили «выкупать» их соб-
ственные земли, при чем содрали вдвое и втрое выше действительной
цены на землю. Вся вообще «эпоха реформ» 60-х годов оставила крестьянина
нищим, забитым, темным, подчиненным помещикам-крепостникам и в суде, и
в управлении, и в школе, и в земстве.
«Великая реформа» была крепостнической реформой и не могла быть
иной, ибо ее проводили крепостники. Какая же сила заставила их взяться за
реформу? Сила экономического развития, втягивавшего Россию на путь ка-
питализма. Помещики-крепостники не могли помешать росту товарного об-
мена России с Европой, не могли удержать старых рушившихся форм хозяй-
ства. Крымская война показала гнилость и бессилие крепостной России.
Крестьянские «бунты», возрастая с каждым десятилетием перед освобожде-
нием, заставили первого помещика, Александра II, признать, что лучше осво-
бодить сверху, чем ждать, пока свергнут снизу.
«Крестьянская реформа» была проводимой крепостниками буржуазной
реформой. Это был шаг по пути превращения России в буржуазную монархию.
Содержание крестьянской реформы бьгло буржуазное, и это содержание вы-
ступало наружу тем сильнее, чем меньше урезывались крестьянские земли,
чем полнее отделялись они от помещичьих, чем ниже был размер дани
крепостникам (т.-е . «выкупа»), чем свободнее от влияния и от давления
крепостников устраивались крестьяне той или иной местности. Поскольку
крестьянин вырывался из-под власти крепостника, постольку он стано-
вился под власть денег, попадал в условия товарного производства, оказывался
в зависимости от нарождавшегося капитала. И после 1861 года развитие
капитализма в России пошло с такой быстротой, что в несколько десяти-
летий совершались превращения, занявшие в некоторых странах Европы
целые века.
Пресловутая борьба крепостников и либералов, столь раздутая и раз-
украшенная нашими либеральными и либерально-народническими историками,
была борьбой внутри господствующих классов, большей частью внутри
помещиков, борьбой исключительно из-за меры и формы у с т у-
п о к. Либералы так же, как и крепостники, стояли на почве признания
собственности и власти помещиков, осуждая с негодованием всякие револю-
ционные мысли об уничтожении этой собственности, о
полном
свержении этой власти.
Эти революционные мысли не могли не бродить в головах крепостных
крестьян. И если века рабства настолько забили и притупили крестьянские
массы, что они были неспособны во время реформы ни на что кроме раздроб-
ленных, единичных восстаний, скорее даже «бунтов», не освещенных никаким
политическим сознанием, то были и тогда уже в России революционеры, сто-
явшие на стороне крестьянства и понимавшие всю узость, все убожество
пресловутой «крестьянской реформы», весь ее крепостнический характер. Во
главе этих, крайне немногочисленных тогда, революционеров стоял Н. Г. Чер-
нышевский.
19-е февраля 1861 года знаменует собой начало новой буржуазной
России, выраставшей из крепостнической эпохи. Либералы 1860-х годов и
Чернышевский суть представители двух исторических тенденций, двух исто-
рических сил, которые с тех пор и вплоть до нашего времени определяют ис-
ход борьбы за новую Россию. Вот почему в день пятидесятилетия 19-го фе-
враля сознательный пролетариат должен отдать себе возможно более ясный
отчет в том, какова была сущность обеих тенденций и каково их взаимо-
отношение.
Либералы хотели «освободить» Россию «сверху», не разрушая ни мо-
нархии царя, ни землевладения и власти помещиков, побуждая их только
к «уступкам» духу времени. Либералы были и остаются идеологами буржуазии,
которая не может мириться с крепостничеством, но которая боится револю-
ции, боится движения масс, способного свергнуть монархию и уничтожить
власть помещиков. Либералы ограничиваются поэтому «борьбой за реформы»,
«борьбой за права», т. -е. дележом власти между крепостниками и буржуазией.
Никаких иных «реформ», кроме проводимых крепостниками, никаких иных
«прав», кроме ограниченных произволом крепостников, не может полу,
читься при таком соотношении сил.
Чернышевский был социалистом-утопистом, который мечтал о переходе
к социализму через старую, полуфеодальную, крестьянскую общину, который
не видел и не мог в 60-х годах прошлого века видеть, что только развитие
капитализма и пролетариата способно создать материальные условия и об-
щественную силу для осуществления социализма. Но Чернышевский был не
только социалистом-утопистом. Он был также революционным демократом1,
он умел влиять на все политические события его эпохи в революционном духе,
проводя — через препоны и рогатки цензуры — идею крестьянской револю-
ции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей. «Крестьянскую
реформу» 1861 года, которую либералы сначала подкрашивали, а потом даже
прославляли, он назвал мерзостью, ибо он ясно видел ее крепостнический
характер, ясно видел, что крестьян обдирают г.г . либеральные освободители
как липку. Либералов 60-х годов Чернышевский назвал «б о л т ун а м и, хва-
стунами
и ду рачье м», ибо он ясно видел их боязнь перед револю-
цией, их бесхарактерность и холопство перед власть имущими.
Эти две исторические тенденции развивались в течение полувека, про-
шедшего после 19-го февраля, и расходились все яснее, определеннее и реши-
тельнее. Росли силы либерально-монархической буржуазии, проповедовавшей
удовлетворение «культурной» работой и чуравшейся революционного под-
полья. Росли силы демократии и социализма — сначала смешанных воедино
в утопической идеологии и в интеллигентской борьбе народовольцев и рево-
люционных народников, а с 90-х годов прошлого века начавших расходиться
по мере перехода от революционной борьбы террористов и одиночек-пропа-
гандистов к борьбе самих революционных классов.
Десятилетие перед революцией, с 1895-го по 1904-й г., показывает
нам уже открытые выступления и неуклонный рост пролетарской массы, рост
стачечной борьбы, рост социал-демократической рабочей агитации, организа-
ции, партии. За социалистическим авангардом пролетариата начинало высту-
пать на массовую борьбу, особенно с 1902 года, и революционно-демократиче-
ское крестьянство.
В революции 1905 года те две тенденции, которые в 1861 году только
наметились в жизни, только-только обрисовались в литературе, развились,
выросли, нашли себе выражение в движении масс, в борьбе партий на
самых различных поприщах, в печати, на митингах, в союзах, в стачках, в вос-
стании, в государственных думах.
Либерально-монархическая буржуазия создала партии кадетов и октя-
бристов, сначала уживавшиеся в одном земско-либеральном движении (до
лета 1905 года), потом определившиеся, как деятельные партии, которые
Сильно конкурировали (и конкурируют) друг с другом, выдвигая вперед одна
преимущественно либеральное, другая преимущественно монархическое свое
«лицо», но которые сходились всегда в самом существенном1—в порицании
революционеров, в надругательствах над декабрьским восстанием, в преклоне-
нии перед «конституционным» фиговым листком абсолютизма, как перед
знаменем. Обе партии стояли и стоят на «строго-конституционной» почве,
т. - е, ограничиваются теми рамками деятельности, которые могла создать чер-
ная сотня царя и крепостников, не отдавая своей власти, не выпуская из рук
своего самодержавия, не жертвуя ни копейкой из своих «веками освященных»
рабовладельческих доходов, ни малейшей привилегией из своих «благопри-
обретенных» прав.
Тенденции демократическая и социалистическая отделились от либе-
ральной и размежевались друг от друга. Пролетариат организовался и высту-
пал отдельно от крестьянства, сплотившись вокруг своей Рабочей С. - Д. пар-
тии. Крестьянство было организовано в революции несравненно слабее, его
выступления были во много и много раз раздробленнее, слабее, его сознатель-
ность стояла на гораздо более низкой ступени, и монархические (а также
неразрывно связанные с ними конституционные) иллюзии нередко парализо-
вали его энергию, ставили его в зависимость от либералов, а иногда от черно-
сотенцев, порождали пустую мечтательность о «божьей земле» вместо на-
тиска на дворян-землевладельцев с целью полного уничтожения этого класса.
Но все же, в общем и целом, крестьянство, как масса, боролось именно с по-
мещиками, выступало революционно, и во всех думах — даже в третьей, с ее
изуродованным в пользу крепостников представительством — оно создало
трудовые группы, представлявшие, несмотря на их частые колебания, настоя-
щую демократию. Кадеты и трудовики 1905-1907 годов выразили в массо-
вом движении и политически оформили позицию и тенденции буржуазии,
с одной стороны, либерально-монархической, а с другой — революционно-
демократической.
1861 год породил 1905. Крепостнический характер первой «великой»
буржуазной реформы затруднил развитие, обрек крестьян на тысячи худших
и горших мучений, но не изменил направление развития, не предотвратил
буржуазной революции 1905 года. Реформа 1861 года отсрочила развязку,
открыв известный клапан, дав некоторый прирост капитализму, но она не
устранила неизбежной развязки, которая к 1905 году разыгралась на по-
прище несравненно более широком, в натиске масс на самодержавие царя й
крепостников-помещиков. Реформа, проведенная крепостниками в эпоху пол-
ной неразвитости угнетенных масс, породила революцию к тому времени,
когда созрели революционные элементы в этих массах.
Третья дума и столыпинская аграрная политика есть вторая буржуазная
реформа, проводимая крепостниками. Если 19-е февраля 1861 года было пер-
вым шагом по пути превращения чисто' крепостнического самодержавия
в буржуазную монархию, то эпоха 1908-1910 годов показывает нам второй
и более серьезный шаг по тому же пути. Прошло почти 4% года со
времени издания указа 9-го ноября 1906 года, прошло свыше ЗУг лет
с 3-го июня 1907 года, и теперь уже не только кадетская, но в значительной
степени и октябристская буржуазия убеждаются в «неудаче» 3-июньской
«конституции» и 3-июньской аграрной политики. «Наиправейший из каде-
тов» — как справедливо назван был недавно полуоктябрист г. Маклаков —•
имел полное право сказать 25 февраля в гос. думе от имени и кадетов и октя-
бристов, что «недовольны в настоящее время те центральные элементы страны,
которые более всего хотят прочного мира, которые боятся новой вспышки ре-
волюционной волны». Общий лозунг один: «...все говорят,—продолжал г. Ма-
клаков, — что если мы будем итти дальше по тому пути, по которому нас
ведут, то нас приведут ко второй революции».
Общий лозунг кадетско-октябристской буржуазии весной 1911 года под-
тверждает правильность той оценки положения вещей, которую дала наша
партия в резолюции декабрьской конференции 1908 года. «Основные факторы
экономической и политической жизни,—гласит эта резолюция,—вызвавшие
революцию 1905 года, продолжают действовать, и новый революционный кри-
зис назревает при таком экономическом и политическом положении неиз-
бежно».
Недавно наемный писака черносотенного царского правительства Мень-
шиков об'явил в «Новом Времени», что реформа 19-го февраля «жалко прова-
лилась», ибо «1861 год не сумел предупредить девятьсот пятого». Теперь наем-
ные адвокаты и парламентарии либеральной буржуазии об'являют о провале
«реформ» 9 ноября 1906 г. и 3 июня 1907 г., ибо эти «реформы» ведут
ко второй революции.
Оба заявления, как и вся история либерального и революционного дви-
жения в 1861-1905 г.г., дают интереснейший материал для выяснения важ-
нейшего вопроса об отношении реформы к революции, о роли реформистов
и революционеров в общественной борьбе.
Противники революции, кто с ненавистью и скрежетом зубовным, кто
с горестью и унынием, признают «реформы» 1861 и 1907-1910 годов неудач-
ными, потому что они не предупреждают революции. Социал-демократия, пред-
ставительница единственного до конца революционного класса наших дней, от-
вечает на это признание: революционеры играли величайшую историческую
роль в общественной борьбе и во всех социальных кризисах даже
тогда,
когда эти кризисы непосредственно вели только к половинчатым реформам.
Революционеры — вожди тех общественных сил, которые творят все преобра-
зования; реформы — побочный продукт революционной борьбы.
Революционеры 1861 г. остались одиночками и потерпели, повидимому,
полное поражение. На деле именно они были великими деятелями той эпохи,
и чем дальше мы отходим от нее, тем яснее нам их величие, тем очевиднее
мизерность,убожество тогдашних либеральных реформистов.
Революционный класс 1905-1907 годов, социалистический пролетариат,
потерпел, повидимому, полное поражение. И либеральные монархисты и ликви-
даторы из числа тоже-марксистов прокричали все уши о том, как он зашел
будто бы «слишком далеко», дошел до «эксцессов», как он поддался увлечению
«стихийной классовой борьбы», как он дал обольстить себя губительной идее
«гегемонии пролетариата» и т. д., и т. п. На деле «вина» пролетариата была
только в том, что он недостаточно далеко зашел, но эта «вина» оправдывается
тогдашним состоянием его сил и искупается неустанной революционно-социал-
демократической работой во времена злейшей реакции, непреклонной борь-
бой со всеми проявлениями реформизма и оппортунизма. На деле все, что от-
воевано у врагов, все, что прочно в завоеваниях, отвоевано и держится только
в той мере, в какой сильна и жива революционная борьба на всех поприщах
Пролетарской работы. На деле только пролетариат отстаивал до конца после-
довательный демократизм, разоблачая всю шаткость либерализма, вырывая из-
под его влияния крестьянство, поднимаясь с геройской смелостью на вооружен-
ное восстание.
Никто не в силах предсказать, насколько осуществятся действительно
демократические преобразования России в эпоху ее буржуазных революций,
но не подлежит ни теніи сомнения, что только революционная борьба
пролетариата определит степень и успех преобразований. Между крепостни-
ческими «реформами» в буржуазном духе и демократической революцией,
руководимой пролетариатом, могут быть только бессильные, бесхарактерные,
безидейные колебания либерализма и оппортунистического реформизма.
Бросая общий взгляд на историю последнего полувека в России, на
1861 и 1905 годы, мы можем только еще с большим убеждением повторить
слова нашей партийной резолюции: «Целью нашей борьбы является попреж-
нему свержение царизма, завоевание политической власти пролетариатом, опи-
рающимся на революционные слои крестьянства и совершающим буржуазно-
демократический переворот путем созыва Всенародного Учредительного Со-
брания и создания демократической республики».
Ф. М . Решетников.
КАК ПОДЛИПОВЦЫ РАБОТАЛИ НА ЗАВОДЕ.
На берегу было множество крестьян: кто пилил бревна, кто' рубил, кто
строгал, кто гвозди и скобки вбивал; достраивались барки; коломенки и полу-
барки. Подлиповцев и прочих бурлаков сосчитали, проверили и выдали им по
десяти копеек денег. Купили они хлеба, надели новые лапти, взяли господские
топоры, железные лопаты и прочие необходимы« инструменты для скорой
работы и стали работать.
Всюду работа кипела. Каждый человек что-нибудь да делал, и- если кто
не умел топором, то гвозди вколачивал, снег отскребал или доски таскал.
Кажется, барку не хитро сделать, а нашим бурлакам больно мудреною каза-
лась эта штука. Они не могли надивиться, как это такая штука состроена?
С которой стороны ни подойди, везде гладко, только железки какие-то вбиты,
и вся из досок сделана да бревен. «Вон у нас избенки те не так делаются,
как хоть, так и перевернешь бревно и приладишь, а тут все инако. И куда
экая чучела? Дом не дом, а кто ее знат; куда она годна?.. Дай мне — не
возьму. Пра, не возьму»...
На бурлаков кричали мастера:
—
Что стоишь: робь! Деньги толы-о даром берете, разбойники!
Бурлак почешет один бок, спину и пойдет с топором к барке. Что ему
делать? Вот он видит, лежит доска. Баская доска-то, да, верно, рубить
велят, и бурлак начинает рубить доску без цели, а так, думая, что и
он робит.
—
Пошто ты доску-то рубишь, пошто? Я тебе! — кричит на бурлака
мастер или работник.
Бурлак отходит от доски и глядит на прочих.
—
Что стал? Робь!
—
Да што робить-то?
—
Што! Подь, обтеши бревно... У, лентяи! скоты и т. д.
Пойдет бурлак рубить бревно и изрубит его так, что оно на дрова
годится.
—
Ах вы, бестолочь!.. Я вас!.. Поди, притяни доску.
Один бурлак не совладает, он и взять не умеет доску, с которого конца
ее приложить; вот и возьмутся человек шесть-семь держать доску.
—
Ладь, ладь! Што стали!
Бурлаки прилаживают.
—
Не так!.. Сюды!..
Бурлаки смотрят на доску. Доску берут еще человек пять, доску при-
ладили.
—
Напри брюхом!
Наперли все разом и так сильно, что пот их пробирает, и им баско
кажется.
Так и кипит работа. Все бьются до поту и не могут понять, что они та-
кое робят и к чему эдакая работа, больно уж баская да чудная.
Работают они каждый день, бахвалятся, что и они роби гь мастера, а не
понимают своей работы. Чувствовать им нечего: им или баско, или худо;
о 'Своих деревнях они забыли, с людьми хорошо, да и чувствовать-то некогда:
то рубить, то скоблить, то колотить... Встал рано, есть хочется — чувство,
поробил, есть хочется — чувство, спать хочется — чувство...
О Пиле и Сысойке сказать особенного нечего. Они точно такие же были,
а пожалуй и хуже. Они теперь блаженствовали. У маленьких подлиповцев,
Павла и Ивана, было больше способностей, чем у старших. Они, конечно, не
могли сделать больше взрослого, окрепшего мужчины, но понимали, как и
к чему такая-то вещь следует и как, что и для чего делается. Занятие их было
обделывать поносную, похожую на мачту, или вколачивать скобки. Эта работа
им так казалась хорошей, что они, если ее не было в одном месте, шли в другое
и там отгоняли рабочих от не своего дела.
Теперь отец для Павла и Ивана был все равно, что и прочие бурлаки.
Они теперь никого не боялись, и старших у них не было.
—
Пашка! они все свиньи, — говорил Иван.
—
Все. Они робить не умеют.
—
И тятька свинья!
—
И Сысойко свинья... А мы свиньи?
—
Мы-то?.. А пошто?
Ф
Немного помолчав, они опять спрашивают друг друга, свиньи они или
нет; кажется, свиньи, а ровно и нет: «свиньи-то — эво какие! А мы — воно
какие».
Откуда забралась в их головы такая мысль, они сами понять не могли;
слышали только, что приказчик ругал как-то бурлаков свиньями...
С бурлаками маленькое заводское начальство обращалось очень грубо;
часто обделивало деньгами, так что многие голодали. У него, конечно, свои
интересы, а над бедным- бурлаком, что хочешь делай—смолчит или изругает,
а жаловаться не пойдет, да некому...
Глеб Успенский.
РАЗОРЕНЬЕ.
Несмотря на то, что новые времена «об'явились» в наших местах еще
только винтовой лестницей нового суда и недостроенной железной дорогой,
жить всем (таков говор) стало гораздо скучней прежнего, ибо вместе с этими
новостями пришло что-то такое, что уничтожило прежнюю, весьма приятную
и певучую зевоту, и томит, и мешает. Никогда не было такого обилия окунаю-
щих людей, какое в настоящую пору переполняет решительно все углы обще-
ства, от лучшей гостиной в «Дворянской» улице до овощной и мелочной
лавки Трифонова во Всесвятском переулке. Все это скучает, томится и
вообще чувствует себя неловко.
Без сомнения, существует большая разница в формах тоски, наполняющей
гостиную, и тоскою лавки; но так как нам приходится говорить о последней,
то мы должны сказать, что упомянутая лавка и замечательна только потому,
что служит пристанищем для тоскующего населения глухих улиц. Людям,
потревоженным отставками, нотариусами, адвокатами и прочими знамениями
времени, приятно забыться вблизи хозяина лавки — Трифонова, плотного
коренастого мужика, выбившегося из крепостных, любящего разговаривать
о церковном пении, женском поле, медицине, — словом — о всевозможных
вещах и вопросах, за исключением тех, которые касаются современности.
Среди современности господствует дороговизна, неуважение к чину и званию,
неумение оценить человека заслуженного. У Трифонова же идет пение басом
многолетий, варение микстур и целебных трав «против желудка», а сам хозяин
ходит босиком и необыкновенно спокойно чешет желудок, ввиду самых раз-
рушительных реформ. И к Трифонову идут... И когда бы вы ни зашли
в лавочку, вы всегда найдете здесь двух-трех человек, ропщущих на неправды
нового времени...
—
Я говорю одно: иди и ложись в гроб! — взволнованным голосом гово-
рит обнищавший от современности купец. —
Нонешнее время не по нас...
Потому нонешний порядок требует контракту, а контракт тянет к нота-
риусу, а нотариус призывает к штрафу!.. Нам этого нельзя... Мы люди про-
стые... Мы желаем по душе, по чести.
—
Железная дорога! Ну, что такое железная дорога? — говорит длин-
ный и сухопарый чиновник Печкин, в непромокаемой шинели. —Ну, что такое
железная дорога? Дорога, дорога... А что такое? в чем? почему? в каком
смысле?..
Много приходится Трифонову выслушивать излияний в подобном- роде,
но все это не составляет для него особенной трудности-, потому что он, соб-
ственно говоря, и не слушает, что ему толкуют, и нуждается в приходящих
и тоскующих только потому, что ему нужно кому-нибудь об'яснить и свои
размышления по- части пения и врачевания.
—
Ну, хорошо,—как будто бы отвечая купцу, говорит он, по -окончании
е-го речи.— Ну, будем говорить так: советуют -сши-ть сапоги из белой собаки.
Предположим так, что я возьму и собаку... Но в каком смысле белая собака
может облегчать ломоту?..
И купец и чиновник, получивший такой ответ на свои сетования, ни-
когда не претендуют на Трифонова; напротив: они весьма довольны- этим не-
вмешательством, ибо им, как и всякому, пораженному тоскою, хочется
отыскать такой уголок, где бы он мог выкричать, заняньчить своего нота-
риуса, свою железную дорогу без помехи. И так как большинство посетите-
лей стоит именно за это невмешательство и уже привыкло говорить свое,
не слу-ша-я друг друга, то всякий, желающий вести настоящие разгово-ры, т. -е .
отвечать на вопросы, возражать и т. п ., должен невольно покоряться общему
ходу беседы и разговаривать сам с собой.
В лавке Трифонова бывает -всего один из таких посетителей, пользую-
щийся особым невниманием потому, во-первых, что звание его, как шатающе-
гося без дела заводского рабочего, уже само собою- уничтожает всякое -внима -
ние к нему среда -присутствующих -в лавке чиновников и купцов, и, во-вторых
потому, что разговоры его тоже не идут в общую колею.
- И поэтому никто из
посетителей не замечает, как тощая фигура Михаила Иваныча (так зовут
этого человека), весьма похожая на фигуру театрального ламповщика или
наклеивателя афиш, топчется то около- купца, то около чиновника и- сиплым
голосом, в котором слышится чахоточная нота, пытается вступить в раз-
говоры.
—
А-а -а, — радостно оскаливаясь, говорит Михаил Иванович купцу, вы-
тягивая вперед голову и складывая назади руки. — -
А-а-а!.. не любишь!.. А тебе
хочется по-старинному, с кулечком к приказному через задний ход?.. Заткнул
ему в глотку голову сахару — и грабь!.. Нет, погодишь!.. Но-ньче вашего- брата
оболванивают... Ноне, брат, погодишь!.. Нет, повертись!.. Наживи ума!
Кашель прерывает его речь; но Михаил Иваныч не жалеет своей груди,
и, ответив купцу, тотчас же поворачивает свою вытянутую голову к
чиновнику.
—
А-а -а!..
- Прижжучили! — хрипит он. —
Оччень, очень великолепно!
Очумели спросонок? Дороги чугунной не узнаете? Я вам покажу чугунную
Крестьянин и рабочий. Ч. II.
2
$
дорогу... Дай обладят, я тебе представлю, коль скоро может она простого че-
ловека в Петербург доставлять. Смахаем в Питер к Максиму Петровичу,
так узнаешь дорогу!.. Н -нет, мало. Очень мало... О -ох бы хорошенько...
—
Ну, хорошо...будем говорить так... —раздается басистый голос Три-
фонова, и в ту же минуту Михаил Иваныч обращает к нему пристальные,
волнующиеся глаза, какими смотрит голодная собака на кусок. —
Предполо-
жим, ежели буду я мешать микстуру палкой...
—
Палкой? — хватаясь за слово, тоже как собака за кусок,—вскри-
кивает Михаил Иваныч. —Нет, пора бросить!.. Ноне она об двух концах
стала... Пора шваркнуть ее, палку-то!.. Д-да! Порассказать в Питере — ахнут.
Ноне она об двух концах стала... Д -да... Позвольте вам заметить!
При последних словах Михаил Иваныч энергично тряс головой; но едва
ли десятая часть его слов доходила до ушей посетителей, слишком плотно
заткнутых .нотариусами и железными дорогами. Кроме заморенного, не звуч-
ного, а как-то шумевшего голоса, который уже сам собою уничтожал силу
его выражений, невмешательство посетителей было так велико, что к концу
вечера Михаил Иваныч принужден был прибегать к содействию неодушевлен-
ных предметов.
—
Пора простому человеку дать дыхание, — надседается он перед куль-
ком с капустой. — Довольно над ним потешаться, разбойничать... Дайте ход!
Что вы-с?., Докуда вам разбойничать,—пора и вам отдохнуть... Нет, поздо-
ровей бы... Дай в Питер смахать, — я покажу...
Кулек с кочнями долго и внимательно выслушивал ропот Михаила Ива-
ныча на разбойников и грабителей, безмолвно соглашался с его намерением
насчет Питера и так же безмолвно провожал его, когда Михаил Иваныч,
с сердцем надвинув шапку, уходил вон из лавки.
Перебравшись через длинную дровяную площадь, в виду которой поме-
щается лавка Трифонова, он обыкновенно направляется в подгорную слободку
Яндовищу, иногда пешком, а иногда на беговых дрожках. Миновав Яндовище,
он выезжал в поле, на большую уездную дорогу. Здесь, в трех верстах от
города, стояло сельцо Жолтиково, с чудотворной иконой и разорившимся бар-
чуком Уткиным, у которого Михаил Иванович имел пристанище на кухне и
исполнял разные поручения: ходил к бабушке барчука с письмами о деньгах,
узнавал в городе, нет ли какого «представленья», гулянья и пр.
Как бы ни странен был Михаил Иваныч, набрасывающийся на людей,
не обращающих на него ни малейшего внимания, и обгоняющий кульку необ-
ходимость хода для простого человека, но его злость на прошлые времена,
среди людей, проклинающих времена настоящие, обязывает нас к более обстоя-
тельному знакомству с историей больной его груди.
И это знакомство тем. легче, что Михаил Иваныч сам ищет человека,
с которым можно бы потолковать. Неудовлетворенный беседою с кульком,
он прилипает ко всякому, кто хотя мельком взглянет на него, кто хотя от
нечего делать задаст ему вопрос или ответит ему. Возвращаясь, например,
ночью от Трифонова в Жолтиково, он зорко выслеживает, нет ли где огонька
и, следовательно, вопроса и разговора. И где бы ни мелькнул огонек — в ка-
раулке ли господского сада, в кабачке ли — Михаил И-ваньгч тотчас привер-
тывает к нему свои дрожки и заводит беседу со всяким, кто попадается ему
на глаза.
—
Да как же с ними, с чертями, не разругаться!—дребезжит его замо-
ренный голос среди пустынного кабака, где сальный огарок освещает курчавую
голову целовальника, покоющегося за стойкой, и высокую фигуру угрюмо-
пьяного, пошатывающегося мужика. —Как их бесов, не лаять, не хаять?—про-
должает он, намекая своими словами на трифоновских посетителей. —Ты ду-
маешь, ему это и в самом деле чугунка помешала?.. Ем-му зацарапать нечего
в ла-апу... Будьте вы покойны! Ему не дозволяют по нонешнему времени раз-
бою, — вот он и скулит, как пес: что такое чугунная дорога?..
Сделав несколько торопливых шагов, Михаил Иваныч снова близко
подходит, почти подбегает к угрюмому слушателю и продолжает:
—
Купец-то вон в гроб просится: «Заройте меня живого»... Эва, новые
порядки, вишь, ему не по вкусу... А все потому, что ему с приказным нельзя
оболванивать простого человека. И славу богу! И даже так, что поздоровее бы
господь-батюшка их хлестнул... Очень великолепно! Потому они заморили,
задушили простого человека. Через ихнее обирание простой человек дураком
стал... болваном...
Говоря так, Михаил Иваныч не может остаться на ОДНОМІ месте. Гнев
заставляет его поминутно отходить от слушателя и тотчас же возвращаться
к нему.
—
Почему простой человек — дурак, болван? Почему он в жись свою
сладкого куска не едал и сапог цельных не нашивал?.. Почему он заместо
этого получал по скуле?.. Потому што его сапош-то чужие носили... Брат...
Голубчик... У чиновника-то, что чугунку лает, небось вон дом; а на какие
он труды нажил?.. Жалованья ему всего грош. Откуда-а? — С нас! С нас,
христианская душа, наше все, хрусталь...
Михаил Иваныч любил посылать слушателям эпитеты вроде «хру-
сталь», «птичка» и проч., не замечая, как и на этот раз, что они не совсем
соответствуют тем лицам, к которым относятся. Михаилу Иванычу некогда
было разбирать, что пьяный мужик в грязи, далеко не походит, напр.,
на хрусталь: ему нужно было говорить, высказаться.
—
На наши! Все на наши, брат... Купец брюхо наживал по какому слу-
чаю? — по тому случаю, что с рабочих, либо так с мужиков лупил; у мужика
совесть, а у купца ее нету, — вот он и загребает ее когтями-то. Вот по какому
случаю происходит брюхо! Все они домы строили и животы растили на наш
счет, а наш брат получал по скуле... И не мало их было.. Ох и не-м-:лааало,
купидончик, было их! Задушены мы ими — так ли аккуратно...
Михаил .Иваныч, произносящий последние слова с особенной протяж-
ностью, вдруг словно вспыхивает и подлетает к самой бороде слушателя.
—
Почему я нищий? — почти кричит он, ударяя себя кулаком в грудь
и пристально смотря в лицо мужика, — скажи ты мне, на каком основании
до тридцати лет я дожил, нету у меня ни крова, ни приюта?.. Отвечай: имею ли
я равномерную с благородным: человеком душу?.. Говори мне!..
Часто случается, что во время этих рассуждений Михаила Иваныча
слушатель успеет заснуть или уйти; но можно сказать наверное, что: в пылу
гнева на прошлые времена Михаил Иваныч решительно не замечает этого;
слушателем его может быть курчавый затылок спящего целовальника, пол-
зущий по стойке таракан — все равно. Теперь уже нужно иметь только: точку
опоры для взора; ни вопросов, ни ответов не требуется: все, что накопилось
в его груди вырвалось наружу и хлынуло- рекой.
—
Отвечай мне, — вопрошал он затылок целовальника : — на каком
основании обязан я быть дубьем, ходить ощупкой? Пред кем я грешен, пред
кем виновен? А потому, что я простой человек. Простого звания. На этом
основании я и виновен... Всякому мой хлеб был нужен. Кабы я ел свой-то, тру-
довой хлеб, сполна, значит, получал бы, что мне следует, я, может быть, чело-
веком бы был... Милашка моя... Может быть, и я бы все понимал, всякую
причину, что к чему... А то рассуди; ты сам, как мне ослом-дуроломом не быть,
коли я с малых ден нищим: был? Ведь мне каши-то с малых ден в рот не вле-
тало, Дубинина! А почему я недостоин каши? Почему в нашей губернии; коли
кашу на стол, баб и ребят вон?.. А на том: основании, что: она другим1 тре-
буется... Теперича десятнику потребна корова, —
он к мужику: из каши-то
нашей горсточку себе... Сотскому требуется телега, чтоб столярная, напри-
мер,— рн опять к нам, уж поболее зацепляет... Старосте охота пчел дер-
жать...голове требуется овец гуртами гонять, чиновников угощать., дом стро-
ить, хоромы,—все к нам, все из нашей каши. А там и над головами, и над
старшинами, и над прочими —еще выше были; те уж, брат, на тройках
к нам залетывали с бубенцами, и все спахивали, что которое осталось, —
ровно пожаром... Тем: поболе пчелы требовалось, тем; братец ты мой, в благо-
родстве надобно состоять, гулять в шляпках, в тряпках. Вот оно по какому
случаю мы и побиралися и просили у проезжающих Христа рада и, ровно
собаки, куску радовались... Вот оно почему. С эстого с голоду-то и родители
наши помирали, и сиротами мы оставались... Вот ода что, друг ты мой, кули-
дон, дубина стоеросовая, рыжий чорт!..
Безмолвствующий затылок не слышит этих ругательств, и Михаил Ива-
ныч может беспрепятственно срывать на нем свой гнев и делиться своими оби-
дами с мертвой тишиной пустынного кабака.
—
Вот отчего! — продолжает он. —
По тому случаю мы дураки, что
прижимка, например, обдерка над нами была большая напущена! Вот чинов-
ник-то орет: «плохо жить стало-»; а ведь этакую дубину мы прокармливали,
мы ему, шалаго, сюртуки, манишки шили... Я это знаю; я видел, поверьте
нашим словам. Потому я не в одной деревне претерпел от этого разбою, я и
в городе его видел... Городской разбой пуще деревенского был... Привела
меня тетка в город, нашлись добрые люди-мещане, взяли меня жить к себе.
Девушка была у них одна... что за умница! Грамоте меня стала обучать и,
может, господь бы дал, в люди вышел... человеком бы был (при этих словах
Михаил Иваныч с особенною силою ударил себя в грудь, нагибаясь над сонным
слушателем). Человеком бы-ы! Так ведь нет, — не дали. Словно они дожи-
дались меня, сироту, потому—только было я в тепло-то к мещанину попал,
а уж из кварталу бежит скоро-хюд: «А где здесь заіблуждающий маль-
чишка?»...—
«А что?» — «А то — пожалуйте его в часть». А зачем? Что я
преступил? А то, что солдату трубочки надо покурить, водочки хлебнуть, —
вот он и волочет меня в квартал, потому, знает—придут, выкупят... Да еще
что-о! Везет меня в квартал-то на извозчике, да. с извозчика-то колупнет:
«Где билет? Был у исповеди, у причастия?». Да не на одном извозчике-то
везет, а норовит от биржи до биржи, по закону, и со всех получить на свое
прожитие; потому всем- им, окроме мужика, не с кого взять. Без мужика-то
им нечего старшому дать; а старшому тоже ведь надыть помазать кварталь-
ного, а квартальному — частного... все -на наш счет, доброму человеку дня
было не изжить. Вон мещанин-то мне п-ользу хотел сделать, добро—- т а к
они на него -набросились, как окорпии. Подлая тварь! Пойми... Вот по какому
случаю я чиновника-то нон-е у Трифонова оборвал... Может, потому я и
мучаюсь, что требовался ему -каменный дом-, либо хоімут новый: и о-н меня
в квартале томил и мещанина ра-зорял... У-у, чтоб вам!.. А мало их было
охотников-то трубочки покурить, сладкого кусочка пососать... Города
строили. Что -вы! Сделайте милость. С чего нашему городу быть?.. Кабы
бабы наши кашей лакомились, небось бы не оченно-то много этак-то- народу
к осьмому часу к киатру разлетались на жеребцах... Н -нет, брат... H -не-очень,
а то... «Эй,—кричит,—задавлю, мужик! Берегись, мол».—Эво ли заг-гибают!
Не знают, на какой манер сытость свою разыграть, — а наш брат нищий
и чумовой ходит. Я брат, видел, как из квартала меня господа чиновники
Че-ре-мухины «вынули» на прокормление; тут я уведомился, сколь они с чужих
денег -ошалели,— - пиры да банкеты, да кувырканья—весь и сказ... Голодны
они—мужик, простой человек, терпит, дает им корм, а накормит он их —
опять тоже ем-у вред и от эфтого... Теперьче посуди: жил я у мещанина;
жена у него померла; осталось у него три дочки... то-есть, я тебе гово-р-ю,
девушки... Что же, брат, выбегут это на улицу -погулять, ан уж тут с сытыми
утробами погуливают, разные народы... Вот и колесят: «Мы вас замуж
возьмем, благородные будете»... А .тем- -и любо. Потому благородными превос-
ходнее быть, н-е чем этак-то, как -они, по ночам иглой т-очать, слепнуть... Ну-и . . .
Теперь в-о -н на-поди, глянь... ровно как рваные тряпки по лужам- валяются.
Полюбопытствуй—- поди... Может, теперь бы у меня такая- ли супруга-пособ-
ница была, коли б не сытость-то эта краденая. Я почесть полгода доры-
вался, чтоб она на меня, на чумазого, взглянула; да по ночам ворочал
на заводе в огне да в пламени, чтоб мне лишний рубль достать, ей купить
гостинчика полакомиться... А чиновник-то налетел с мадерой да с гитарой,
да с шелковым- платком, ан и взял... И шиш под нос. Наш брат, ободранный
человек, песню-то поет, ровно режет ножом, потому голос-то наш в огне
перекипел, а тот запоет песенку — любо-два, ай-люли. Потому в огне он не
горел, а больше нашего брата очищал... И бел -о-н, и мадера, и на гитаре,
примерно... А нашего брата- по скуле!! Он вон шваркнул ее, Аннушку-то,
разорвал ее, словно собака тряпку завалящую, да и побег к осьмому часу
к киатру, а наш брат только жилы свои в работе иссушил попусту; потому
нам ее уж взять нельзя, Аннушку-то. Уж нам невозможно этого. Уж она
набалована. Ей уж дай платочек шелковый! Он — шелковый-то платок — и
нашему брату подходит к лицу, да нам. об этом надо бросить думать... вот!.
Потому мы обязаны быть дураками, ошалелыми, коркой дорожить, по-
ообачьи жить,—потому наш хлеб другим понадобился... Слышишь, рыжая ты
шельма? Другие наш хлеб ели, бешеная ты собака!..
—
Вон! — внезапно поднимаясь во весь рост, гремит громадная фигура
целовальника, сообразившего, что причиною некоторого беспокойства, испы-
тываемого им во сне, было непрестанное разглагольствование Михаила Ива-
ныча. — У-дай! У-убью!
Перепуганный сжатыми кулаками и вытаращенными глазами целоваль-
ника, Михаил Иваныч пятится к двери, зажимая рукою рот, чтобы рассвире-
певшим кашлем еще более не рассердить врага; и так как враг в скором
времени высказывает намерение броситься к нему из-за стойки, то
Михаил Иваныч и исчезает вон из кабака. Спустя минуту, дрожки его дре-
безжат среди темной дороги к Жолтикову. Но необходимость высказаться не
прекращается красноречивым внушением целовальника насчет молчания;
Михаил Иваныч снова ищет слушателя, огонька, и снова, завидев его пого-
няет свою лошадь, и везде, куда бы он ни привернул свою лошадь, в кара-
улку ли при господском саду, на мельницу, к постоялому двору, — везде слы-
шится его чахоточная речь.
—
И очень великолепно, коли кого из этих грабителей чем-нибудь да
припрут. Рад я. Душевно. Одна мне и утеха, что на это поглядеть. Потому
ошалели мы от них, дураками и нищими стали... В прежнее время чиновник-то
трифоновский — он бы меня в гроб вогнал ни за что... А теперь — погодишь!..
И славу богу... Теперича еще и простой человек с ними, пожалуй, потя-
гается... Да-а!..
!
-
.
<і, оі
И затем, в подтверждение слов о господстве в старое время прижимки
над простым человеком, Михаил Иваныч приводил множество фактов из своей
биографии, и действительно фактов этих перебывало на его спине достаточное
количество, потому что, в качестве сироты и простого человека, он отведал
прижимку и в деревне, и в городе, где жил у мещанина, изнывал в квартале,
побирался, и наконец в казенном заводе, в качестве рабочего. Результатом
этой «прижимки», по об'яенению Михаила Иваныча, было одурение и обни-
щание простого человека, что и можно видеть на нашем рабочем, на нашем
простом мужике, немыслимых без «зелена вина»- .
Если сам Михаил Иваныч
ушел от этого отупения и умеет рассуждать о прижимке, то этому есть
особенная причина, о которой Михаил Иваныч рассказывает не со злостью и
негодованием, волнующими его при воспоминании о прошлом, а с какою-то
необыкновенной нежностью и внимательностью.
—
А потому, — говорил он, раз'ясняя этот вопрос, — что я имею лро-
сияние моего ума!.. Вот-с на каком основании я всю эту разбойничью меха-
нику понимаю и чувствую и злюсь. Простой мужик делается от этого балбе-
'
сом, но я, по моему понятию, получаю чахотку... Вот-с на каком основании.
Влечение времени моей жизни встретил я человека, который по щеке меня
не бил, но внедрил в мою душу понятие...
Михаил Иваныч любил поняньчиться с этим, воспоминанием из своей
несчастной жизни и говорил не спеша, останавливаясь:
—
Ну, в то же самое время, — продолжал он, — надо сказать так, что
и этот человек, благодетель мой, в первоначальное время нашего, знакомства
тоже по щеке меня щелканул довольно благополучно... для собственной моей
пользы... Именно-с «для пользы», по той причине, что наш брат, простой че-
ловек, столь от разных народов за все, про все наскулен, что и пользу ежели
хочешь ему сделать, тс» и в ту пору без рукопашья не обойдешься... По этому
случаю благодетель мой Максим. Петрович в достаточной степени меня с печи
за волосья сгромыхнул в первоначальное время нашего знакомства... Такое
было дело: докладывал я вам, что из части, когда мещанин помер, взяли меня
на прокормление чиновники Ч-ѳре-мухияы. Бывши в побирушках, в нищих, с хо-
лоду с голоду, да с кварталу, очень мало я в ту пору на человека сходствовал,
потому что, живши в квартале, коротко и ясно можно потерять человеческий
лик и получить собачью манеру. По этому случаю, когда меня ввели в чере-
мухинскую кухню, то стал я хватать с'естное, например, с'едобвое. Стал
рвать, набросился. Кухарка назвала меня в ту пору «волчий рот». И так я
набрасывался, до забвения доходил. От'едался, от'едался я тут быстро, по-
спешно: вся прислуга у них очень торопливо от'едалась и щеки нагуливала,
потому мужики всегда натащат — не жалко,-— ешь! Хорошо. Как только
привык я к сладкому куску, стал я свою бедность 'вспоминать, и стало мне
страшно: ну-ко, да выгонят отсюда, — что тогда? Страшна мне корка собачья
показалась... Стал я о себе думать... И делаю такое замечание, что у всех
народов идет грабеж. Кухарка и кучер с мужиков, барин и барыня —с мужи-
ков, все, повсюду, повсеместно идет ограбление человеческое... Думаю: мужик
мне не даст, с кого мне?.. Думал, думал, затруднялся в мыслях, — глядь —
бежит ко мне на печку барчук махонький, черемухинский сынок: «Скажи
сказочку»... Изволь. Сказал. Он и повадился ко мне на печку шататься сказки
слушать. «Э, думаю, друг-приятель ; надо быть, тебе в хоромах хвост-то при-
секают, что ты во мне, в мужике, получаешь нужду»... Подумал так-то. Бе-
жит барчук: «Скажи сказку». «Дай копейку». Этак-то резанул. «Дашь —
скажу, нет — не будет рассказу. Я и то, мол, язык весь отколотил, расска-
зываючи тебе». Припугнул его таким манером-, и стал он мне пятачки да
грошики таскать, и стал я их припрятывать... И так было ловко научился
я поколупьшать с него; ан тут-то и подвернись ко мне человек... Максим Пе-
трович: семинаристик, племянник черемухинский. Часто о-н к нам на кухню
хаживал, дожидался, пока дяденька, -сам- Черемухин-то, проснутся, — п -олтин -
ничек у него попросить... Когда тверез — тихий такой... «На сапоги», гово-
рит... А Черемухин-: «То-то, говорит на сапоги?»... И сердито на него смотрит,
а тот боится. Это когда тверез. Ну, а коли ежели да пьян, так уж тут ника-
кого страху для него нету... Тут уж он кричит, бунтует... И дяденьку-то так-то
поливает... «Взяточники, разбойники!... Докуда вы разбойничать будете? Про-
вались вы и с полтинниками»... Раз зимой скинул с себя полушубок и шварк-
нул его оземь. «Подавитесь вы им»... и ушел. Бывало так, что и стекла(он
выбивал в дому, и ворота исписывал ругательскими словами. Вот я на этого
человека и наскочил... От него я и получил вдохновение, например. То-есть,
сначала-то он меня за виски отворочал, а потом уж об'яснил мне существо...
Лежу я с барчуком: на печке и делаю с ним подлый поступок: продаю ему
кошелек, а в обмен требую с него серебряную цепочку... Кошельку цена
копейка, а цепочка стоит пять серебром. Желаю я ее получить. Барчук ни-
чего не смыслит: взял да и поменялся, а потом рассмотрел — и в слезы...
«Отдай», плачет. А я ему: «Нет, говорю, не отдам, потому что ты видел, что
покупал. Назад не ворочают. Где у тебя глаза были?»... По базарному по-
ступаю... Максим Петрович пьяный сидел, сидел, слушал—слушал, да шарах
меня за волосы с печи... «Мошенник! вор!.. С каких лет мошенничаешь?.. И
без тебя много мошенников»... Да' за ухо... за ухо... Тут он меня щекотурил!
Цепочку отнял, шваркнул: «краденую вору-ешь!»...- С этого дня стал я его
баяться... Страх почувствовал; боюсь встретиться... Ан раз несу водку господам
из конторы, он — валит с приятелями пья-а -а -ный. «Что такое, стой! Куда?
Водка? Неси к нам... Там, брат (у дяди-то), за другой четвертью пошлют...
Там есть на что вытоть»... Тут они меня поволокли в свою квартиру: бедность
непокрытая, тараканы... Я сижу, боюсь: «Чего ты?Халуй! Раб! С каких лет
мошенничаешь!». Поругали вторительню, a потомі сжалились. «Поди сюда»—
говорит Максим Петрович. Ты зачем, мошенничаешь? Жить надо? Так нешто
грабежом-то хорошо будет?.. Давайте книжку, я его обучу... Как ты думаешь,
грамота лучше грабежу?». И сейчас стал меня учить. Тут я ничего не понял,
потому пьяные они были; мало-мало- погодя и сам: к ним -пошел. «Обучите»,
говорю. Там- -их много кутейников-то было: кто слою покажет, кто так что-
нибудь... Я и нахватался, и не -умею вамі сказать, каким- манером, только что
стал я тут понимать, почему наш брат в дырах, в лаптях, например. И в пер-
вый раз в голову мне влетело: «за что же, мол, этак-то?»... Разговоры ли
ихние, Максима Петровича, или грамота, уж верно не могу об'яснить, а что
страсть столько я разбойников вдруг увидал! И, может, господа м-не и больше
понятия бы дал, только что пошло вдруг во всем: -расстройство»...
—
С войны это расстройство пошло... Целые дни, бывало, стоишь на
улице, смотришь, как везут на войну пушки да- сабли. «Эдакие, — диво-вался
народ,—на человека страсти припасены-». Пошли тут наборы, мужики, бабы
ревут, голо-сьба по всему го-роду. У Черемухиных идет огребанье невиданное,
пьянство, жранье—боже мой... «Господи!—помню, жена Черемухина плачет-
ся—когда это все кончится»... Ан скоро и кончилось... Прошла война, налетели
ревизоры, всех взяточников повязали... Тут пошло швырянье — упаси- бог.
Один — вор; другой ополченцам сапоги на картонной -подошве делал; третий
в рекруты забривал без закону... Стали- кидать, швырять подлецами-: оди-н
вниз, другой вверх, третий торчмя головой... Черемухина выгнали в другую
губернию. - Максим- Петрович так-то ли поспешно в Питер ускакал. «Прощай,—
говорит, —
- помни, выпишу». Однако же не -выписал. Стал я у Птицыных жить,
у генералов, и там пошло все врозь. Все сыновья ворами1 оказались. Плач
идет между -грабителями. Поглядел, поглядел и вижу —не до меня им: надел
картуз, пошел своего хлеба искать. В ту пору на казенный завод стали при-
нимать людей со стороны, не казенных стало быть, — я и попал в завод...
В лесу страшно, когда ежели гром да молонья, а тут, в заводе, еще страшней.
Потому в лесу — дело божье, непонятное, там страх берет, а тут злость —
потому видишь, из-за чего гром-то идет, из-за чего молота молотят, нож-
ницы разеваются, и наш простой человек не доест, не допьет, а в огне горит...
Пить бы надо — слаб! Не мог, а все больше злился, потому которые я получил
от Максима Петровича мысли, то никаким родом они у меня из головы не
выходили. Злился-злился я, бесился-бесился, да однова подгулял и махнул
в арендателя камнем... Спасибо, скрозь колесо камень прошел, а то б в ка-
торге быть. Да еще то облегчило, что ночью дело было, не могли1 вызнать, кто
такой, так что собственно по подозрению шесть месяцев высидел... Вышел из
заключения, вижу, везде я бунтовщиком оказываюсь, никто не берет, и на
частные мастерские не допущают... Остался я один; на кого надежда? Окроме
Максима Петровича кто ж мне защитник? Дай, обладят чугунку... Я на него
•надеюсь... Нонче, брат, и им. очень тоже мало готовых кусков; не то время
идет. И рад я, коли ежели кого из них припрут, рад... Купец-то вон: ох-хо-хо,
кряхтит. Хорошо! отлично!..
Михаил Иваныч, известный давно на заводе за строптивого и непокор-
ного человека, последней своей историей с камнем и арендатором оконча-
тельно повредил себе: так как все частные заводчики смотрели на ропот его
не иначе, как на бунт, то Михаил Иваныч, выгнанный с завода, остался бук-
вально без куска хлеба, ибо его нигде не принимали. В эту пору его можно
было встретить в небольших подгородных деревеньках, где он писал бабам
письма и прошения, получая за работу яйцо, кусок хлеба. Письма выходили
такого рода: «Честь имею известить вас, единоутробная дочь наша
Авдотья Андреевна, что мы, родители ваши, с маиа месяца сего... года, состоим
без куска хлеба, в полном смысле этого* слова и почтительнейше уведомляем
вас, что подаяния от мирового посредника с сего... месяца настоящего сего
года прекращены» и т. д . Извещая о деревенских новостях, Михаил Иваныч
всегда умел среди неурожаев и подаяний вставить некоторые фразы, обре-
тавшиеся в фонде его образования и просияния. Но такой работы было мало.
Работы «мужицкой», молотьбы, косьбы—он исполнять не мог: у него болели
ноги от стоячей заводской работы, и поэтому долгое время пробавлялся чем
мог, и скитался, где пришлось. Среди этой нищеты и одиночества, в голове
Михаила Иваныча воскресло воспоминание о Максиме Петровиче, и больная
душа его тотчас же наполнилась какою-то неопределенною надеждою на его
помощь, а больная, забитая голова довела эту фантастическую надежду до
громадных размеров...
Первый поезд гремит по новым' рельсам, оставляя за собой всеобщий
испуг простых деревенских людей и клубы дыма, который долго копошится
среди придорожных лугов или комом застревает в густых ветвях леса.
Говор и шу-м наполняют вагон третьего класса; но среди этого шума и
говора самый крикливый голос, самая смелая речь принадлежит Михаилу Ива-
нычу, который переживает поистине счастливейшие минуты. По мере того,
как родной город остается все дальше и дальше, планы насчет Петербурга,
насчет дел, которые должны быть сделаны в нем, получают все большую
прочность и широту и заставляют Михаила Иваныча заламывать картуз на
ухо, подпирать рукою бок и разрумянивать свои впалые, худые и черные
щеки посредством буфетов, не забывая поминутно пред'являть права человека,
который никого не грабит и не грабил.
Во всех проявлениях Михаилом Иванычем его прав и надежд принимал
весьма ревностное участие некоторый сильно подгулявший мужик, завербо-
ванный им в поклонники чуть ли не с первой станции. Этот человек всегда
доказывал полную охоту заорать на весь вагон о справедливости того, что
говорит Михаил Иваныч.
—
Ай нам на пятачок-то выпить нельзя? —обращается к нему -Михаил
Иваныч, когда поезд подходит к станции, — Василей! Неужто не разрешают
на-м, мужикам, этого? А, -Вася?.. А не будет ли мужик-то почище?
—
Почище, брат, — зевает поклонник. —
Почище!
—
А, Вася? —продолжает Михаил Иваныч, обнявшись с мужиком и
подходя к буфету: — дозволяют мужикам к буфету? Как ты думаешь? За
свои, примерно, деньги, примерно, ежели бутенброду мужикам бы, а?..
—
Бутенброду! — грозно восклицает мужик, вламываясь в толпу у бу-
фета, но, увидав господ, пугается, снимает шапку и бурчит:
—
Дозвольте бутенброду, васкбродь!..
Михаил Иваныч обижен таким поступком мужика и долго ругает его
за малодушие.
—
За свои деньги да оробел. —
укоризненно говорит он, отойдя от него
в сторону. —
И дурак ты, сиволдай!..
Мужик шатается и с-мотрит на землю, оставив без внимания собствен-
ную бороду и усы, которые носят обильные следы позорно добытого бутер-
брода. Он виноват и готов чем- угодно искупить свою вину.
Случаи -к такому искуплению представляются часто, поминутно, ибо
Михаил Иваныч тоже поминутно делает публичные пред'явления своих -пла-
нов или прав, так как и- к этому тоже -случаев довольно.
Какая-то барыня зашла два места, ест сладкий пирожок и презритель-
ным тоно-м рассказывает соседу-барину о том, что она никогда не ездила
в третьем классе; что быть с мужиками она не привыкла, потому что она
выросла в знатном семействе, за ней ухаживали генералы, у ней был- очаро-
вательный голос. Как она пела!..
Этого достаточно, чтобы провинившийся мужик понадобился Михаилу
Иванычу.
—
-Вася, спой! Мужицкую...
?
—
Спеть, что ли?
—
Громыхни, друг! Вот, барыня тоже очень хорошо поет. Спой!
Нашу! Чего?..
—
Нашу... Э -а-ах, да-а ...
*
Мужик разевал рот и горло во всю мочь.
—
Кондуктор, кондуктор! — кричат барин и барыня.
—
Кондуктор! — тоже вопиет Михаил Иваныч. —
Пожалуйте! Разбе-
рите дело!
—
Что такое? — спрашивает прибежавший кондуктор.
—
Помилуйте! Пьяный мужик кричит, бог знает что! Сил нет!
—
Он запел, — вступается Михаил Иваныч. —
Мы по-своему, по-му-
жичьи поем; ежели вам угодно, вы по-господски спойте. Чего же-с? Громых-
ните ваше пение... а мы — наше... Г-н кондуктор! Так я говорю? Где об эфтом
вывешено, чтобы не петь мужикам?..
Кондуктор решил дело в пользу Михаила Иваныча, присовокупляя, что
в правилах нет пункта, чтобы .не петь, и предлагает барыне перейти во второй
класс.
—
Пожалуйте .во второй класс,—прибавляет Михаил Иваныч от себя.
—
Пожалуйте!..
—
Па-ажжальте, — бурчит мужик.
—
Там вам не будет беспокойства, а тут мужики, дураки... Через них
вы получаете ваш вред. Потому мы- горластые, ровно черти... Вась, гро-
мыхни-ко!..
—
Э-о-а -а...
Хохот и гам на весь вагон.
—
Что орешь, дурак? — вмешивается какая-то новая фигура, и тоже из
мужиков. —
Барыня сладкие пирожки кушает, а ты орешь.
—
Сладкие, — перебивает Михаил Иваныч. —
Василей, чуешь?... По-
пробовать мужикам сладкого? Али мы не люди?.. Почему нам сахарного не
отведать? Пирожник!..
—
Эй!.. Пирожник!—вторит мужик.
і
—
Давай мужикам сахарного на пятачок... Барыня! Почем платили?
—
Кондуктор! Кондуктор!
—
Кондуктор! — кричат Михаил Иваныч и мужик вместе. —
К раз-
бору пожалуйте!
Является кондуктор, узнает, в чем- дело, — и Михаил Иваныч снова прав,
ибо нигде «не вывешено об'явление насчет того, чтобы не спрашивать, почем
пирожки».
Многочисленность и быстрота побед до такой степени переполняет
гордостью душу Михаила Иваныча, что унять его от беспрерывных пред'-
явлений прав решительно нет никакой возможности.
—
Позвольте вас просить! — упрашивает его, наконец, кондуктор. —
Сделайте одолжение, прекратите пение!
—
Не вывешшен... —н ачин ает дебоширничать мужик; но Михаил
Иваныч немедленно зажимает ему .рот рукою и говорит:
—
Цыц, Васька! Ни-ни -ни... коли честно, благородно, — извольте.
Маялчи!.. «Сделайте одолжение», «будьте так добры», это другое дело... Это,
брат, другого калибру... Извольте, с охотой...
И у буфета следующей станции можно снова видеть мужика и
Михаила Иваныча.
—
Вася, милый! — говорит Михаил Иваныч, стараясь смотреть прямо
в глаза мужику. —
Чуял, что ли?.. «Вы»!.. «Сделайте милость», ну не по скуле
же... Понимай-ко-сь!..
—
Гол-лубчик! — лопочет мужик, обнимая Михаила Иваныча за шею
и хороня на его груди бессильную, хмельную голову...
А. И . Левитов.
ПРОЕЗЖАЯ СТЕПНАЯ ДОРОГА.
(Ночь.)
«И никак таперича не могу я понять, сколько бы долго ни придумы-
вал, отчего это ему такая блажь в голову зашла?.. И добро бы еще боже-
ственные картинки писал, либо, что всего лучше и спа-сительнее, образа свя-
тые, а то бог знает что изображает. Была тут у нас в селе девица одна дво-
ровая, правду надо сказать, что ни есть прекрасная девица, истинно ангель-
ской красоты, только очень уж вольным нравом и, следственно, зазорным
поведением обладала, так он ее листах на тридцати написал: то она у1 него
на картинке за водой идет, то корову гонит, то на яблоню по лестнице лезет.
Дивом дивился я, откуда у него такое мастерство- взялось — живая совсем
на его листах выходила эта девица,—стоит и смеется...
«-Полтора года -прошло, как о-н совсем курс окончил и не то, чтобы
отцу при- старости лет помогать, он сам ж-е на моих хлебах жиівет. А у м-еня
какие хлеба-то? Известно, что двадцатая дьячко-вая часть — один-то рот
иной раз куды тяжело продовольствовать. Пробовал я ему говорить: што ты,
мол, Петруша, места себе не ищешь? Молчит — ведь не то, чтобы он молчал
тогда только, когда его- упрекать -почнешь — нет! Как от молчальника какого
никогда, почитай, -слова-то- не добьешься — и - так, я тебе сказываю, скучен
он у меня, так-то скучен, что мое-то -сердце вое изболело, да исстрадалось
по нем.
«Сначала, как приш-ел он ко -мне из губер-нии, господа наши узнали
как-то, что он рисует хорошо, к себе его стали звать, ну и ходил он к -ним и
припасы они м-не всякие ради его присылали. Только однажды старый барин и
говорит мне: хорош у тебя Степа-н -ыч, сынок; артистом даже может быть по
живописной части, только, говорит, горд — почтенья никакого благородным
лицам не отдает,—посократи-ка, говорит, его немного. Ну, я было в эту силу
увещевать его стал: помни, мол, Петруша, кто у тебя родитель такой? Дьячок
у тебя родитель — последние мы с тобой спицы в колеснице суть, — так не
должен ли ты, говорю, сугубое почтение дворянину и благодетелю отдавать.
С этого-то разу, как теперича вспомню, он и помешался-то больше, ровно
он на господ озлился через это, никогда к ним после такого1 случая уже не
ходил; а присылали за ним частенько-таки, и приказы от старого барина
строгие выходили, чтобы беспременно дьячков сын явился на барскую усадьбу
картинки писать...
«Вот, сударь ты мой, что, думаю, делать? Не слушает мой малый бар-
ских указов; едят меня за него и господа, и поп, и дворовые, — все едят:
а тем временем сынок к барину с Кавказа и приезжай, молодой еще, лютый
такой—все у него по-военному пошло. Вот и приезжает он однажды к обедне,
и мой у обедни-то был. Только примечаю я с клироса, что барский сын так-то
пристально в моего вглядывается и с матерью потихоньку что-то пошепты-
вает. Пред концом обедни, выношу я барыне просвиру, а он мне и говорит:
это твой сын, что ли? Мой, говорю, ваше б-дие. Вот, говорит, посмотри, как
я его учить буду. Их, говорит, в семинариях учат воду толочь, а я теперь по-
чтению его поучу... Ваша, мол, власть, ваше в-дие! Што хотите над нами,
то и делайте.
—
Отошла обедня, вышли в ограду мужики, и барский сын вы-
шел, а мой-то впереди идет. Как зыкнет на него барский сын: «Ты отчего, го-
ворит, каналья, не кланяешься мне?» А мой-то (подумать-то страсть берет!)
покраснел даже весь, дрожит так-то и говорит ему: «А ты, говорит, мне
отчего не кланяешься?..» Вон оно —слышь? Барину-то и ляпнул: а ты, гово-
рит, мне отчего не кланяешься? и сам тоже канальей его обозвал... Так и
обомлел народ-то!..
«Так даже пополовел барич-то весь, как осиновый лист затрясся,— и
ни слова, только, значит, стоит перед моим, да глазами его меряет, ровно его
с'есть в это время хотел. И сын тоже стоит перед ним и слоено даже как
будто улыбается ему. Только вдруг глазом моргнуть, кажется, неуспел, лицо
барич сыну-то и искровянил — и такая тут страсть была, что* народ-то весь
попрятался даже, потому случай-то этот очень уж грозен был, как это сын-то
барича схватит за грудь, да об земь его грянет, так даже стон пошел... Таково
тут горько барыня стонала, да охала, таково грозно сам старый барин на
сына моего наступал и мужикам своим приказывал бить его, что сердце у меня
замерло словно; одначе мужики не послушались,—испужались, надо* пола-
гать, потому как сын церковную скамеечку схватил и до* смерти убить бо-
гом божился, кто подступит к нему...
«Ну, засадили тут его в сумасшедший дом, — очень уж барин хлопотал
об этом.,.
«Больше же, дивлюсь я даже, насчет там судов, или инова чего, ничего
не сделали. За это надо им благодарность отдать — помиловали...
«Целый год в сумасшедшем доме держали сына; а теперь тоже опять
у меня живет. Много колдунов смотрели его у меня—испорчен, говорят,—
и вылечить его* нет средств, потому, первое дело, как узнает о*н, что я кол-
дуна какого позвал лечить его, сейчас же его вон гонит и становому жало-
ваться грозит; а второе: бес-то в него, говорят, очень уж лют и силен поса-
жен— трудно его* из тела-то выжить...»
—
Что ж вам сказала лекарка-то, к которой вы заходили?
—
Ничего почти вно-ве-то не сказала. Посмотрела только на волосы
и говорит, что действительно по злобе испорчен, и вот трав каких-то дала,
по зарям поить его этими травами наказывала,—может, говорит, и пройдет.
А. И . Левитов.
РАСПРАВА.
Солнце уже совсем село. Вечер набросил на село свои мягкие тени.
Из садов, из ближнего леса, с реки и полей пахло чем-то наводящим тишину
на душу и дремоту на тело.
Вот по туго пробитой дороге бойко застучали колеса порожних телег,
отправлявшихся в ночное; им навстречу скрипят тяжело- -нагруженные сжа-
тым хлебом воза; пыльные столбы, затемнившие яркое зарево вечернего за-
ката, постепенно приближаясь к селу, дают знать, что пастухи гонят стадо.
На живую руку сбитые ворота с -громким скрипом отворяются навстречу
стада, и вот много-различными голосами его наполнилось село от верху до
самого, так сказать, до шву. Щелканье пастушеских кнутов, звонкие зазы-
вания баб, крики и побегушки детей за упрямыми баранами, наконец, оглуша-
ющий свист помещичьего кучера, мешаясь с переливами серебряного дара
Валдая и с -громким топотом ухарской тройки, всполошившей все стадо, де-
лают из сельской улицы что-то такое, от чего какая-нибудь древняя старуха,
случайно выползшая из -избы на божий свет, невольно хватает себя обеими
руками за го-лову и приседает как бы от чьей тяжелой тукманки. Обопрется
старуха о дверную притолоку, и стоит, не шелохнется; и довольно долго
нужно времени, чтобы дождаться, как старый человек, опомнившись нако-
нец всем своим кротким и морщинистым лицом окинет уличный содом и ме-
дленно перекрестившись, шопотом вымолвит:
—
Знать уж господа светопреставление -наслал на нас!
Слышнее всего раздается по селу громкий бабий бас Федотовой ста-
рухи. Высокая и осанистая стоит она у настежь распахнутых ворот коре-
настой избы с зелеными ставнями, с высокими скворешнями, с крыльцом из
точеных балясин, и своим синим- набивным сарафаном-, своим ситцевым голов-
ным платком, больше всех этих принадлежностей украшающими ее избу, го-
ворит проезжему люду, что изба эта построена первым сельским богачом,
миру -на удивление, себе и- детям на добро-е здоровье.
—
Экое житье какое у Федотих-и чудесное! По будням уж стала сит-
цевые платки носить, — тихомолком толкуют соседские бабенки.
—
Почто же ей, милая ты моя, в ситцевых платках не ходить? Сказы-
вают: старж-от ее четвериком деньги-то меряет.
—
Кы-ы -ыт! Кыт! Кыт! — зазывает голосистая старуха своих овец, и,
послушные ее голосу, животные, отделившись от сельского стада, галопцем
несутся в ворота хозяйкина дома.
—
Раз, два-, три, — пересчитывает их старуха. —
Ох, чтоб вас совсем!
Вишь, какие резвые: и перечесть не успеешь. Будет, бабы, тараторить-то вам!
Ужинать идите!—зыкнула она на своих семерых снох, которые толковали
у колодца с соседскими бабами.
—
Погоди-ка-сь маленечко, Федотьевна, ворота-то запирать. Слухай-ка:
я те скажу что-то, голубка! — издалека кричала Федогиха маленькая бабочка
в сером изорванном зипуне.
—
Что надотъ? — нехотя спросила старуха, готовясь затворить тяже-
лые ворота.
—
Ох, кормилица ты моя! Кричала, кричала я тебе: погоди, мол, во-
рота-то запирать, а ты и не слышишь, желанная. Знаімо, божья старушка
не всякое слово расслышит. Пусти-ка-сь ты меня на двор к себе. Ярочка моя
к тебе с твоим табуном забежала. Я у ней, кормилица, ушки выстригла: сразу
узнаю. Пусти, пожалуйста, я взгляну только.
И бабочка хотела было пронырнуть мимо Федотихи на двор к ней.
—
Что насилкой-то лезешь? Ай на свой двор пришла?—гневно за-
кричала на нее сварливая старуха. —
Одни только наши овцы пришли, чу-
жих ни одной нет. Сама видела, как пускала.
—
Где тебе увидать-то, божьей старушке? — возражала бабенка.
—
Ведь они резвые — овцы-то! И не увидишь, как прошнырит мимо тебя.
—
Не слепей тебя!—рычала старуха.
—
Проваливай, проваливай от
двора-то, п оке ль цела.
—
Что же ты, кормилица, затягать ее хочешь, что ли, ярочку-то? —
спрашивала серая бабенка, разгораясь в свою очередь.
—
Нужно мне у тебя, у нищей, последнюю ярку затягивать? Покло-
нись приди, свою на бедность пожертвую. Вот что!
—
Да ишь должно нужно, коли, на двор не пускаешь.
—
А не пущу —и только. Вот те и вся недолга!
Дальше да больше, слово да другое — и закипела брань. А там за ка-
менья: насилу мужики розняли. Серая бабочка была прогнана в-три-шеи сы-
новьями Федотихи.
—
Из ума выжила, старая кочерга! — покрикивал на свою старуху Фе-
дот. —
Не было за что людям осуждать, так она драться на улице выдумала.
Старость твою стыдить не хочу, а плетюганом взбодрить бы надо тебя.
—
Ра-а -збО'йники! — шумела серая бабочка с д-ругого конца села.
—
Затянули ярку к себе, да еще и хозяйку прибили.
—
Что это в самом деле Федотовы ребята расходились? — толковали
старики, сидя на завалинах. —
Словно это они, деньги имеючи, суда на себя
знать не хотят. У вдовой последнюю ярку боем отбили! Точно что след-
ствует завтра за такой ихний разбой в правление всю их семью притянуть.
Вместе с росой, обильно напоившей пожженные летним солнцем травы,
пала на село тихая ночь. Вместо людской крикливой жизни по сельским ули-
цам и огородам, по реке, лесу и окрестным полям разлилась могучая, мол-
чаливая жизнь ночи: какими-то живыми, приковывающими к себе глаза мол-
ниями засверкали на месячных лучах речные волны; из леса полетел чей-то
шопот, как бы мощное дыхание какое, в дальнем поле чуть слышно курлы-
кали журавли. Ежели вы когда одни смотрели в глухую полночь на сельскую
природу, не приметили ль вы, как в это время обнимает человека что-то та-
кое, от чего сладкий трепет впивается на сердце и дыбом поднимает волос?..
Утро. На крыльце волостного правления и расправы кипит огромный
ярко-вычищенный самовар. Дымные клубы, вылетающие из него, расстилаются
по вісей улице и далеко отогнали с крыши воробьев, ласточек и других ма-
леньких пташек: расселись они по соседним, плетнямі и деревьям и так-то
громко чирикают, словно бы ругают едкий дым,, согнавший их с привольной
насести, или бы хотят развеселить волостного писаря, который, расклеив-
шись маленечко со вчерашнего похмелья, пьет чай на вольном воздухе, еже-
минутно поджидая кого-нибудь из обывателей, с кого- бы можно было сдер-
нуть по крайности на полуштоф.
—
Погляжу, погляжу я на тебя, Василий: мало, братец ты мой, по-
литики в тебе!—говорит писарь своему сторожу, который завтракает ог-
ромным ломтем черного хлеба, посыпанным крупной солью. —
Натура у тебя
самая что ни- есть необузданная!
—
Што так?—спрашивает Василий.
—
Да так! Образованных обычаев ничуть ты не знаешь. Не успел ты,
музлан, со сна бельм -про-Ѵереть, а краюху уписал как следствует. Инда м-не
тошно смотреть на тебя.
—
Эфто, Ми-кита Иваныч, от того- вам тошно, что в-ы вчера очень много
вина эфтого красного пили. Кабы стали, тоись, по одной сивухе ходить, ни-
какого бы, истинно, сумнительства не было.
—
Пустяки ты это рассказываешь. Я таперича, кроме как красного,
в рот ничего не возьму, потому ты рассуди: что благороднее — красное или
простое?
—
Точно что, Ми-кита Иваныч, красное малость поблагороднее, зато
сивуха занятнее.
—
По морде бы тебя хватить —
- еще бьг занятнее было, да -вот вста-
вать лень.
—
А-х, и чудаки же вы, Микита Иваныч, страсть какие надсмешн-ики!
Только хоть бы што, а Федот Иванов беспременно к вам в правление валит
на Козлиху жалиться. Старуху его -вчера вече-ром страсть как Козлиха-то
избранила.
—
А вот мы их рассудим, — сказал писарь. —
Здравствуй, дядя Фе-
дот, — отнесся он к богачу. —
Подсаживайся-ка вот к самовару: погреемся.
—
Это -нам к руке, —со-гласился Федот. —
Только- будь милостив, Ми-
кита Иваныч, пошли-ка-сь ты Засилья-то за полоеьмухой, потому как нам
дело до тебя есть, так угостить, поди, тоже потребуется.
—
Да уж это как есть. Безотменно потребуется. Были тут у меня
вчера барышники из города, в юлю красным употчивали, так оно теперь и
тово... выпить -то, дружище, самое что ни есть любезное дело будет.
—
Вот она сладость-то! —шутил сторож, вынимая полуштоф и пред-
чувствуя здоровенную выпивку,
—
А знаешь ли ты, грамотный человек, — опрашивал у писаря Федот,
наливая ему водки, — кто самому этому вину главная причина и отец?
—
Ничего мы эфтова не знаем, — ответил писарь, — кроме как ежели
вот дерябнешь с похмелья стаканчика три-четыре, так оно словно повеселее
на животе сделается.
—
А я тебе про эту причину расскажу. Шел чорт по горе...
—
Погоди с разговорами-то: я вот еще приспособлю, — перебил его
писарь. —
За одно разоряться-то.
—
На доброе здоровье. А под горой мужик землю пашет.
—
Не так ты, Федот Иваныч, описывать начал, — вмешался сторож,—
Оба они, примером, под горою бымши...
—
Оидел бы ты, музланище, да слушал: перенимал бьг как поумней
тебя люди разговаривать
станут, — наставительно
заметил сторожу
писарь.
—
А я к тому, Микита Иваныч, разговор подгоняю...
—
оправдывался
Василий.
—
А ты вот выпей лучше, — угощал его дядя Федот.
—
А поправлять
меня вряд ли, надо полагать, придется тебе.
—
Где нам! К слову пришлось, — благодарно согласился Василий, уч-
тиво принимая стакан.
Проходившие мужики, чувствуя в воздухе полутарную струю, лакомо
облизывались. Федот Иванов радушно приглашал всех, кто был побогаче и
позначительней. Выпивка с каждой минутой принимала все более и более ши-
рокие размеры, и скоро правленское крыльцо все, так сказать, зачерпнулось
разными сельскими тузами. Сторож Василий бойкой иноходью раза два бе-
гал в кабак и уже не с полуштофом, а с пузатою четвертною бутылью.
—
Запили наши мироеды, должно быть, на много рублев,—с завистью
толковали не попавшие в пир мужики.
—
Козлихе теперича бедной, надо думать, дюже достанется, потому
всех горлопятов-то Федот Иванов на правленское крыльцо пить созвал, —
соболезновали бабенки.
И, действительно, с правленского крыльца по всему селу раздавалось
пьяное гуденье, обрекавшее на погибель серую бабочку, разбранившуюся вчера
ç Федотовой старухой. Голос угостителя покрывал собою, голоса всех.
—
Известно, бабы люты на брань, — толковал он собранию, обнося всех
водкой. —
Потачки своей старухе я не дал, потому ярка Козлихина в самом
деле ко мне на двор забежала. Только рази могла Козлиха сыновей моих во-
рами и разбойниками, а меня жидом и Иудой ругать? Хорошо она это сде-
лала или нет?
—
Што тут хорошего? — согласно отвечали прихлебатели.
Крестьянин п рабочий. Ч, II.
'
3
—
Приятности тут точно что малость, — поддерживал писарь,
заря-
жаясь под шумок стака-нищем.
—
Бездельница она выходит, Козлиха-то, вот что! — с тихой, но про-
сящей улыбкой ввернул свое словцо сторож Василий.
—
Што же ты, братец ты мой, по очереди ко мне не подходишь? —
с удивлением спросил его дядя Федот.
—
Да так, Федот Иваныч: непристойно нам, малым людям, вравне с бо-
гатыми компанию держать, — вежливо отвечал Василий, выламывая стакан.
—-
Поруху -она чести моей великую нанесла,—ораторствовал дядя Фе-
дот. —
Опять же, в бедности такой находимшись, Козлика богатому человеку
должна уважение -всякое воздавать, а она вон куда затесалась: в брань!
Ежели бы она с старухи моей за .лютость ее не взыскала, я бы -к ярке-то ее
баранчика своего еще бы -придал, а она, про богачество мое позабымши, сама,
сказываю, при бедности при своей, пустилась в брань.
—
В брань? — раздавалось в толпе. —
Ах ты, господи!
—
Следствует ее теперича сюда привестъ и наказание мирским судом
положить: за то я вас и пою, — закончил дядя Федот.
—
Как не наказать? — согласно запел хор. —
Бабенка она вдовая,
убогая; уму-разуму беспременно научить ее надоть.
—
Мы это живо скомандуем-! Мы ее, Козлиху безрогую, с одного маху
сюда предоставим, — улыбался сторож, накидывая на плечи дырявый армя-
чишко.
—
Ббу-у -у! Трры-рр-рьг! — заревела пьяная толпа на предоставленную
с одного маху Козлиху.
—
Ты какими делами занялась? — азартно спрашивал ее писарь.
—
Почто ты людей почище себя обижаешь? — кричали из толпы.
А Козлиха стоит, так-то в землю потупилась, красная -вся. И ко-нфузно-то
ей и досадно, потому зло взяло, что за ее же добро, ее же и судят теперь на
миру и ругают.
—
Православные!—взмолиться она было со слезами попробовала. —
Вы ведь все х-ресты носите...
А сама перед крыльцом наземь упала, как бы в ноги всему сходу
кланялась.
—
- Вот, сейчас умереть, пречудная бабенка какая! —
- с насмешливой
улыбкой толковал Козлихе арестовавший ее -сторож. —
Нечего в ногах-то
валяться, а лучше штраф приговорить поскорей, потому без штрафу тебе
быть невозможно. Рази не видишь, глупая, какая тут маіхина вина выпита?
Должна ли ты после того нас угостить, или нет? Сказывай?
—
Васильюшка! Кормилец ты мой! Где же я теперича возьму этот са-
мый штраф?
—
Ах ты, голова с мозгом! — возражал ей Василий. —
Рази мир-то без
угощения когда- расходился? Ему, уж коли он собрался, вот как надобно вы-
пить: вплоть!
—
Веди-ка ты ее, Василий, без разговора в чулан, — скомандовал
писарь. —
Мы ее там ублаготворим. Перестанет она с богатыми людьми в ру-
гательство вступать.
—
Отец родной! Микит Иваныч! — завопила Козлиха. —
За какую же
провинность в сарай меня весть велишь?
—
Разговаривай!—крикнул писарь.
Сторож как бы колебался тащить бабенку.
—
Я так полагаю, Микит Иваныч, как мое рассуждение есть, може, она
насчет штрафу осилит как-нибудь, — вмешался он.
—
Вправду, может, она как-нибудь на четвертушку собьется. Выпить
бы теперича, признаться, знатно; — вступились мужики.
—
Штраф штрафом, — возразил заступникам дядя Федот, — а блох
из нее выпужать беспременно следует, потому я вас для самого этого дела и
вином поил.
—
Ну, ин в самом деле, ребята, прохворостить ее. Што же мы вправду
задарма, што ли, вино-то пили? — единодушно согласились на крыльце.
Василий потащил Козлиху в пожарный сарай... а между тем услужливая
сходка с шумом и гарканьем распивала третью четверть благодарного дяди
Федота.
—
Вот те и вся недолга! — радостно вскрикнул сторож, взбегая
на крыльцо. —
Пробрал я ее как и быть надотъ. До новых веников не забудет.
Козлиха с'ежилась в своем изорванном зипунишке, так что казалась
гораздо меньше, чем на самом деле.
—
Милая ты моя, — наставительно сказал ей толстый мужик, сходя
с крыльца, — поклонись теперь миру, да за штрафом как можно скорее
сходи. Акро-мя того делать тебе здесь нечего. Бежи-ка -сь.
—
За что же я буду платить штраф? И где я его возьму? — зарыдала
Козлиха.
—
Мир тебя на ум наставил, а ты его попоштовать не хочешь? Это я
тебе сказываю, большой ты грех на себя принимаешь, Козлиха, — резонировал
толстяк, покачиваясь. —
Ты то теперича возьми: чем ты господу богу уго-
дить можешь? Постом и молитвой! Это я тебе истинную правду сказываю.
Ты ее и понимай.
—
Кормилец ты мой! Да я бы радостью рада, только всего-то на все и
денег-то у меня дома два пятака да трынка. Как же вы — этакая-то ли вас
сила сидит на крыльце! — пить на них будете?
—
Об этом ты не сумлевайся. Об силе у нас другие разговоры будут.
А теперича как всем нам выпить очень потребно, так мы у тебя и избу твою
пропьем-, и кур пропьем, и ярку, потому спорить тебе одной со всем миром
никак нельзя.
—
Это точно! — запел хор на крыльце.
—
Как же возможно тебе против всего мира итти, глупая ты эдакая?—
суетливо спрашивал у Козлихи сторож Василий. —
Думать-то об этом и то
нашему брату не приходится.
—
Буде, ребята, по пустому разговаривать с ней,— повел свою речь дядя
Федот. —
Много* ли она со всей худобой-то своей стоит! Грош ей цена и с ху-
добой-то! А вы вот как, я вам скажу, штраф стешите с нее: только бы согла-
сие ваше вышло, а то упоштоваться — во как можно! По-горло!
На лицах
присутствующих
изобразилось
самое
почтительное
внимание.
—
Знаете вы, православные, убогая баба Козлиха, вдовая, ни роду, ни
племени нет у «ее. Так я теперича за избу ее даю пять рублев*, за двор и
за животину, какая у нее есть, тоже пять рублев- Пусть на миру знают, што
не притеснитель я какой, не грабитель, а, примером, на убожество ее взи-
раючи, призреть хочу. За ее самое, ежели то-ись присудить вам захочется
эдак, даю десять рублев за посмертную кабалу.
—• Счастье к тебе невидимо подвалило, —
завидовал Козлихе сто-
рож. — Перекрести рожу-то*: в богатом доме жить будешь.
—
Это что же такое, Федот Иваныч, — загудели мужики. —
Отчего не
присудить? Присудить так можно, потому она баба вострая: работать будет
исправно.
—
Ну так, значит, бежи за ведром, Василий, —
обратился Федот
к сторожу.
—
Это мы с одного маху.
—
Отцы родные! — закричала Козлиха. —
Ведь старуха-то Федота
Иваныча поедом меня живую с'ест, коли вы так-то присудите.
—
Счастья своего не понимаешь! — сказал* ей толстый мужик.
—
Истинно, господь-то велик и многомилостив к сирым,—закончил ры-
жий дьячок, тоже затесавшийся в мировую ватагу.
Опять вечер, только уж поздний вечер. И стадо давно пригнали, и в ноч-
ное уехали. Тишь обняла сельскую улицу, млеющую от ласк прохладной росы
ночной, задумчивую и печальную улицу, которую, как бы пугливую молодую
невесту,, жених-месяц обливает своими золотыми и серебряными блестками.
—
Бот чудесно мы Козлиху просватали, — говорил соседу урезонивав-
ший ее толстый мужик, возвращаясь с ним с великого пира.
—
Просватать-то мы, сусед, точно ее что просватали, только же и
миру суд у господа бога, сам знаешь, будет какой! Не будет там отлички-то
богатым от бедных, пойми ты это. Ведь мы ее, Коз лиху-то, за ее же добро
с корнем вон вырвали.
—
А рази она первая? — спрашивал толстяк. —
Рази теперича мир
без угощения может прожить? Опять же она не бранись! Знает, что бога-
тый мужик, а на задор лезла. Рази он ее одну за свою обиду искоренил?
Ведь видела она, что мир с ним спорить не может.
—
Знаем мы эти пословицы-то: с сильным не борись, с богатым не тя-
гайся; все же таки господа бога мы позабыли, правду в кабаке пропили...
—
О господи! господи! — боязливо прошептал толстый мужик, пере-
крестившись. —
Все-то дела вино сочиняет.
—
Васька! — громко раздается из глубины правления голос пьяного
писаря.
—
Чего изволите, Микита Иваныч? — отзывается сторож.
—
Поди к Кулаковым, квасу мне у них со льдом возьми. Скажи, мол,
писарь велел.
—
Ходил я к ним от вас онамедни: через великую силу выпросить мог.
Говорят: часто вьг к ним посылаете.
—
А ты им скажи: в бараний рог, мол, вас писарь согнет за такую
обиду. Рази, мол, не видели, как ныне дядя Федот с Козлихой расправился.
Искореню, ежели не дадут. Так и скажи.
Из угловой закутки Федотова двора по всей улице разносится громкое
вытье закабаленной Козлихи.
—
Поори, поори у меня еще, прынцесса. Я те тогда не так еще уши-то
оболтаю, — орет на том же дворе басистая Федотова старуха.
—
Теперь на-
ших рук не минешь. Сто на ассигнации мужу-то стоила ты.
—
Известно, не мину твоих рук, — плачет Козлиха. —
От них теперича
и в гроб должна лечь.
Только и было во -всем селе человеческих голосов в эту дивную пору
ночи. За ее восторгающие красоты хвалили господа одни голоса животных и
птиц, а люди все без исключения были глухи и слепы к чарам полночного мира.
Грозный, как эта грозно-царящая ночь, грянет некогда суд на людей и
обстоятельства, которые заслепили столько глаз, не видящих чужого несча-
стья, которые притупили столько душ, не благоговеющих теперь перед свет-
лым лицом природы.
И. Некрасов.
*
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА.
Ваня — в кучерском армячке:
—
Папаша! Кто строил эту дорогу?
Папаша — в пальто на красной
подкладке:
—
Инженеры, душенька!
(Разговор в вагоне.)
I.
Славная осень! Здоровый, ядреный
Воздух усталые силы бодрит;
Лед неокрепший на речке студеной,
Словно как тающий сахар, лежит;
Около леса, как в мягкой постели,
Выспаться можно — покой и простор! —
Листья поблекнуть еще не успели,
Желты и свежи лежат, как ковер.
Славная осень! Морозные ночи,
Ясные, тихие дни...
Нет безобразия в природе! И кочи,
И моховые болота, и пни —
Все хорошо под сиянием лунным;
Всюду родимую Русь узнаю...
Быстро лечу я по рельсам чугунным,
Думаю думу свою...
II.
Добрый папаша! К чему в обаянии
Умного Ваню держать?
Вы мне позвольте при лунном сиянии
Правду ему показать.
Труд этот, Ваня, был страшно громаден —
Не по плечу одному!
В мире есть царь: этот царь беспощаден,
Голод — названье ему!
Водит он армии-; в море суда-ми
Правит; в артели сгоняет людей;
Ходит за плугом-; стоит за плечами
Каменотесцев, ткачей.
«
Он-то согнал сюда массы народные.
Многие — в страшной борьбе,
К жизни воззвав эти дебри бесплодные,
Гроб обрели здесь себе.
Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, -рельсы, мосты,
А по бокам-то -все косточки русские...
Сколько их! Ва-ничка, знаешь ли ты?
Чу! восклицанья послышались грозные,
Топот и скрежет зубов;
Тень набежала на стекла морозные...
Что там? Толпа мертвецов!
То обгоняют дорогу чу-гунную,
То сторонами бегут.
Слышишь ты пение?.. «В ночь эту лунную
Любо нам видеть свой труд!
«Мы надрывались под зноем, под холодом,
С вечно согнутой спиной,
Жили в землянках, боролися с голодом,
Мерзли и мокли, болели цыгагой.
«Грабили нас грамотеи-десягшики,
Секло начальство, давила нужда...
Все претерпели мы, божии ратники,
Мирные дети труда!
«Братья! Вы наши плоды пожинаете!
Нам же в земле истлевать суждено...
Всё ли нас, бедных, добром поминаете,
Или забыли давно?»...
Не ужасайся их пения дикого!
С Волхова, с матушки-Волги, с Оки,
С разных концов государства великого—
Это все братья твои — мужики!
Стыдно робеть, закрываться перчаткою,
Ты уж не маленький!.. Волосом рус,
Видишь, стоит, изможден лихорадкою,
Высокорослый, больной белорусе :
Губы бескровные, веки упавшие,
Язвы на тощих руках;
Вечно в воде по колено стоявшие
Ноги опухли; колтун в волосах;
Ямою грудь, что на заступ старательно
Изо дня в день налегала весь век...
Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно:
Трудно свой хлеб добывал человек!
Не разогнул свою спину горбатую
Он и теперь еще: тупо молчит
И механически ржавой лопатою
Мерзлую землю долбит!
Эту привычку к труду благородную
Нам бы не худо с тобой перенять...
Благослови же работу народную
И научись мужика уважать.
Да не робей за отчизну любезную...
Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную —
Вынесет все, что господь ни пошлет! —
Вынесет все — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только —жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе...
III.
В эту минуту свисток оглушительный
Взвизгнул — исчезла толпа мертвецов.
«Видел, папаша, я сон удивительный, —
Ваня сказал: — «тысяч пять мужиков,
Русских племен и пород представители,
Вдруг появились, и он мне сказал:
«Вот они — нашей дороги строители!»...
Захохотал генерал!
—
Был я недавно в стенах Ватикана,
По Колизею две ночи бродил,
Видел я в Вене святого Стефана;
Что же... все это народ сотворил?
—
Вы извините мне смех этот дерзкий:
Логика ваша немножко дика, —
Или для вас Аполлон Бельведерский
Хуже печного горшка?
—
Вот ваш народ — эти термы и бани —
Чудо искусства — он все растаскал!
«Я говорю не для вас, а для Вани...»
Но генерал возражать не давал:
—
Ваш славянин, англо-сакс и германец
Не создавать — разрушать мастера,
Варвары! дикое скопище пьяниц!..
Впрочем, Ванюшей заняться пора;
—
Знаете, зрелищем смерти, печали
Детское сердце грешно возмущать:
Вы бы ребенку теперь показали
Светлую сторону...
IV.
Рад показать!
Слушай, мой милый: труды роковые
Кончены — немец уж рельсы кладет;
Мертвые в землю зарыты; больные
Скрыты в землянках; рабочий народ
Тесной гурьбой у конторы собрался...
Крепко затылки чесали они:
Каждый подрядчику должен остался,
Стали в копейку прогульные дни!
Все заносили десятники в книжку —
Брал ли на баню, лежал ли больной:
«Может, и есть тут теперича лишку,
Да вот, поди ты!..» Махнули рукой...
В синем кафтане—почтенный лабазник,
Толстый, присадистый, красный, как медь,
Едет подрядчик по линии в праздник,
Едет работы свои посмотреть.
Праздный народ расступается чинно...
Пот отирает купчина с лица
И говорит, подбоченясь картинно:
«Ладно... кешто... молодца... молодца!..
С богом, теперь по домам, — проздравляю!
(Шапки долой — коли я говорю!) —
Бочку рабочим вина выставляю
И — недоимку дарю!..»
Кто-то «ура» закричал. Подхватили
Громче, дружнее, протяжнее... Глядь —
С песней десятники бочку катили...
Тут и ленивый не мог устоять!
Выпряг народ лошадей — и купчину
С криком «ура!» по дороге помчал.
Кажется, трудно отрадней картину
Нарисовать, генерал?...
Глеб Успенский.
НРАВЫ РАСТЕРЯЕВОЙ УЛИЦЫ.
В г. Т . существует Растеряева улица.
Принадлежа к числу захолустий, она обладает и всеми особенностями
местностей такого рода, т. -е. множеством всего покосившегося, полуразвали-
вшегося или развалившегося совсем. Эту картину дополняют ужасы осенней
грязи, ужасы темных осенних ночей, оглашаемых сиротливыми криками:
«караул», и всеобщая бедность, в мамаевом- плену у которой с незапамятных
времен томится убогая сторона.
Бедное и «обглоданное», по местному выражению, население всякого
закоулка, состоящее из мелких чиновников, мещанок, торгующих мятой и мят-
ной водой, мещан, пропивающих все, что выторговывают их жены, гарнизон-
ных солдат и пр., такое бедствующее население в городе Т. пополняется
не менее обглоданным классом разного мастерового народа. В Т. с давнего
времени процветала промышленность всякого рода металлических изделий:
в городе и в окрестностях находятся чугуно-литейные, колокольные, само-
варные и др. заводы- .
Кроме того го-род славится из-вестным- заводом стальных
изделий, населившим своими рабочими все Заречье и целую слободу Чулково.
Это сторона- совершенно особенная; -обыватели ее, когда-то пользовавшиеся
разными правительственными привилегиями, гордо посматривали на мастеров
городской стороны, рабочих в одиночку, -и при -встречах не -упускали случая
поделиться взаимными любезностями: «кошкин хвост», — говорит один,
«огурцо-м зарезался», — отвечал другой и оба с серьезными лицами проходили
мимо. От насмешек зареченского мастера, или казюха, как называют их
мещане, не уходил даже чиновник, для которого тоже были- изобретены осо-
бенные клички, например: «стрюцкий» или «точеные ляжки», и пр.
Растеряева улица лежит на -городской стороне, но общий колорит рабо-
чего города отразился и здесь. Вот, между прочим-, в
лачуге, ниоткуда
ке защищенной заборами, проживает представительница собственно расте-
ряевского мастерства, ста-рая солдатка, «куколъ-кица». Под ее дряхлыми- паль-
цами цветет отечественная скульптура; в летние погожие полдни на завалинке
ее лачуги непременно сушится несколько глиняных офицеров и дам и бес-
численное множество лошадей-свистулек с одни-ми передними ногами. Расте-
ряевс-кие мальчишки запасаются этими с-вистящими конями и в течение целого
года разнообразят смертельно-пронзитель-ным свистом свое -горестное суще-
ствование. В таких же лачугах живут сверлильщицы, наждачницы, женщины
и девушки, занимающиеся на фабриках. В этой же улице живут гармонь-
щи-ки, токари, наводилъщик-и и - так далее. На- конце улицы, упирающейся
в воронежское шоссе, -виднеется квадратное здание -из темно-красного кир-
пича— самоварная фабрика-.
Все эти мастерства дают Растеряев-ой улице
несколько и-ную, сравнительно с другими захолустьями, физиономию-.
В дни
отдыха молчаливая физиономия ее оживляется драками и пьяными, разбро-
санными там и сям. В будничны-е дни к звонкому пению кур присоединяется
стук молотков, то вперемежку, то сразу вдруг обрушивающихся на отчекани-
ваемую металлическую -массу; звуки гармонии, на которой мастер для пробы
тронул с «перехватом»; жужжание токарного станка — и
-н адо- всем этим,
по обыкновению, тихая песня. В темные зимние вечера, когда бывали обыкно-
венно везде уже заколочены наглухо ворота и ставни, и обыватели ложились
спать, окна фабрики были еще ярко освещены, из восьмигранной трубы мед-
ленно выползали- большие мутно-красные искры, тотчас же потухавшие в тем-
ном воздухе.
Никем не вспоминаемая, никем не сторожимая, йасте-ряева улица по-
корно несет свое брвм-я - —
нужду. Стук молотков, постоянная п-ес-ня или
бойкая шутка мастерового, идиллическая веселость детских уличных игр,
или развеселая сцена бабьего столкновения, разыгравшаяся среди бела-дня
и среди улицы, — все эти внешние, уличные проявления растеря-евской жизни
не дают, однако, никакого понятия о том темном- -горе жизни обывателя, ко-
торое гнетет его от колыбели до могилы.
Мы узнаем его -постепенно, и как ни удивительно будет это для чита-
теля, .начнем- наше знакомство с расте-ряевским го-рем- при помощи такого
растеряевекого человека, который, ко всеобщему удивлению, иногда с совер-
шенно покойною совестью может сказать о себе:
—
Чего же мне еще от Христа моего желать?
Чело-век этот был пистолетный мастер, молодой малый, по прозванию
Прохор Порфирыч, обитавший в- собственном домишке. Ради такого дивною
дива мы прежде всего и познакомимся с этим, счастливым- человеком, чтобы
вместе с тем познакомиться с скромными- растеряе-вскими людьми всякого
звания, по-своему недовольными -и по-своему счастливыми...
Года два тому -назад Прохор Порфирыч еще не был постоянным- обыва-
телем Растеряевой улицы, х-отя улица эта -в -ыняньчила его и выпустила -на свет
божий из своих -голодных недр. Дело в том, что -в Растеряевой улице когда-то
давно поселился отставной полицейский чиновник, упрочивший за собою славу
великого дельца и человека, особливо неустойчивого насчет женского пола:
так, он ра-звелся с женой, необыкновенно слезливой женщиной, и сошелся
с ярославской мещанской девицей Глафирой, которая долго держала при-
хотливого барина в своих руках и иод-конец все-таки должна- была отказаться
от него в пользу чиновничьей дочери Лизаветы Алексеевны, девицы средних
лет с опущенными всегда в землю глазами и жестоким стремлением к -воров-
ству. Глафира, впрочем, не рассталась с барином: низведенная на степень
кухарки, она решилась скоротать свой век в кухне и полегонечку начала
запивать. Прихотливый барин тоже и сам -не имел духу -прогнать ее (что- сле-
довало по обычаю), потому что у нее было два сына, которые хоть и- назы-
вались Порфирычами в честь ветхого кучера Порфири-я, но и барин, и Глафира,
и дети знали, в чем дело. Старший сын Глафиры оставался -при доме -в качестве
лакея; младший, Прохор, отдан был в ученье к токарно-му мастеру. И в то
время, когда -веселыйдом-чиновника- уныло стоял с запертыми в нижнем этаже
окнами, когда в саду его не слышно было больше пьяных чиновничьих голосов,
распевающих светские и духовные песни, а сам барин, пораженный всяческими
недугами, неподвижно лежал в маленьком мезонине, ожидая смерти, Прохор
Порфирыч, в эту пору двадцатитрехлетний парень, работал за Киевской за-
ставой один, на себя, приготовляя на продажу револьверы.
В это время и начинается наше с ним знакомство.
Вследствие ли сознания своего «благородства», или вследствие житей-
ского опыта, Прохор Порфирыч держался как-то в стороне от своих собра-
тий, мастеровых, не походя на них ни в чем-: его никто никогда не видал в драке,
с разбитым глазом, или- пьяным, валяющимся где-нибудь среди лужи. Растре-
панная, ободранная и тощая фигура рабочего человека, со свалявшеюся вой-
локом1 бородой, в картузе, простреленном и пулями, и дробью во время -пробы
ружья, с какими-то отчаянными порывами ежеминутно доказать, что t жизнь—
копейка», такая отчаянная фитура совершенно не походила на фигуру Прохора
Порфирыча: на нем всегда был цельный, опрятный картуз, лицо тщательно
вымыто, а грязная шея, запыленная мельчайшими железными опилками, нося-
щимися в воздухе мастерской во время работы, пряталась под гарусным шар-
фом-, придерживаемым плисовым воротником достаточно подержаного дра-
пового пальто. Плохенькие, но все-таки выпускные панталоны и ясные при-
знаки поплевывания на носки грязноватых сапог, все это говорило о желании
иметь хоть какое-нибудь подобие человека благородного. Вообще он
не столько походил на мастерового, сколько на семинариста, благочинни-че-
ского сына: у него не было только этого довольства фильдекосовыми перчат-
ками, этого страстного желания -распластать огненного цвета шарф по всей
спине, да и физиономия его носила следы постоянной сдержанности, вдум-
чивости, дела, что сам Прохор Порфирыч называл «расчетом», руководясь
им во всех своих поступках. Так, например, носить немецкое платье Прохора
Порфирьгча побуждало не только благородство, но и расчет. —
«Случись, —
говорит он, — пожар — примерно, твое дело сторона... Так-то!» И действи-
тельно, в то время, когда руки полицейских (по-растеряевски «хожалых»)
тащили за шивороты толпы разных чуек и чемерок, и когда эти чуйки среди
огня рвали голыми руками раскаленные листы железа, изредка подставляя
лицо и спину под струю воды, чтоб не сгореть —в эту пору Прохор Порфирыч
мирно стоял среди благородных людей и спокойным голосом об'ясня л соседу :
—
. .. Изволите видеть, столб-от... белый-с?
—
Да.
—
Это все из-за самых пустяков происходит. Потому теперича из верх-
них слоев тяга с одного конца ударяет, а снизу-то... уж она опять тоже
отшибку дает... Извольте взглянуть, как оттуда понесло...
И Прохор Порфирьгч, поднимая руку вверх, поворачивался лицом к -ветру.
Чем более Прохор Порфирыч убеждался в справедливости своих взглядов,
тем вдумчивее становилась его физиономия. Часто во время работы в своей
мастерской Прохор Порфирыч один-одинешенек вел какие-то отрывочные
разговоры вслух, доверяя свои мысли станку и сырым почернелым стенам1.
«Черти! право, черти!—слышалось тогда в мастерской:—Ваше дело —
пугать, колесом ходить. —
Нет, я тебе разберу овчину-то!»... Но если случа-
лось, что Прохор Порфирыч забегал на минутку к какому-нибудь знакомому
чиновнику (знакомые его были исключительно чиновники и вообще люди
благородные), то здесь сразу прорывалась вся его сдержанность, и все тайные
размышления вылетали наружу; он особенно любил говорить о своих делах
именно с чиновником, потому что всякий чиновник умеет разговаривать:
у места говорит «да», у места «нет» и всегда кстати задает вопросы. Если же,
паче чаяния, чиновник и не понимает, в чем дело, то уж за то отнюдь не про-
тиворечит.
Сидя где-нибудь в углу в тесной квартирке одного из своих знакомых
чиновников, Про'хор Порфирыч не соеша прихлебывал горячий чай и не пере-
ставая говорил.
—
Вот вы изволили, Иван Иванович, разговаривать — времена-то
теперь тугие-с .
—
Д-да, —вскидывая ноту -на ногу, говорил чиновник.
—
Д-да-с; а ежели говорить как следует, то-есть по чистой совести,
умному человеку по теперешнему времени нет лучше, превосходнее... Особливо
с нашим народом-, с голью, с этим народом — рай.
—
Рай?
Чиновник встряхивал от удивления головой.
—
Ей-ей-с!.. Главная-то наша досада — не с чем взяться... Хоть бы
мало-маленько силишки в руки взять, как есть — первое дело... Одно: умей
наметить, расчесть... Приложился — «навылет». Вот говорят: «хозяева зада-
вили». Хорошо. Будем так говорить: надели я нашего брата, гольтепу, всем
до малости, чтобы, одно слово, в полное удовольствие — как вы полагаете,
очувствуется?
Чиновник всматривался в лицо Прохора Порфирыча и нерешительно
произносил:
.
— • М-мудрено.
—
Ни в жисть! Ему надо по крайности десять годов пьянствовать,
чтобы в настоящее понятие войти. А покуда он такие «алимонины» пу-
щает, умному человеку не околевать... не из чего... Лучше же я его
в полоумстве захвачу, потому полоумство это мне расчет составляет... так ли
я говорю?
—
Что там!.. Народ как есть...
Чиновник наливал чай и, указывая Порфирычу на чашку, прибавлял:
—
Ну-ко, опрокинь!
Порфирыч брал чашку, садился на прежнее место и продолжал развивать
перед чиновником теорию о том, как бы «надо» по-настоящему, «ежели бы
без полоумства». Понижая почти до шопота свой голос, словно что утаивая
от кого-то, он исчислял все выгоды рассудительного житья: «тогда бы и работа
ходчей» и «сам* бы собой дорожил», и «был бы ты на человека похож», шептал
он, — и как ни был сообразителен чиновник, он поддавался своему дрогнув-
шему сердцу и с скорбью произносил, что хорошо бы надоумить «ребят»;
но тут же, принимая в расчет «полоумство», опять приходил в себя и убе-
ждался, что «и-х, чертей», надоумить нет никакой возможности. Ирониче-
ский взгляд и улыбка Порфирыча, последовавшая за таким заключением,
неожиданно поражали чиновника.
—
Надоумить!—возразил Порфирыч, не изменяя улыбающегося
лица. —
Напротив того, Иван Иванович, надоумить его можно в одну секунду...
Человек, который имеет настоящую словесность, может это оборудовать
с маху. —
Скажет он им: «Черти, а-ль вы очумели?» Так и так... и такое
и прочее. В единую минуточку они отойдут от... хозяина... Но- что- же
из этого выходит? А то, что этому словеснику шею они свернут, тоже не меш-
кая... «Отбить—отбил, а работы нету». Хозяин, он перетерпит, а наш брат
на вторые сутки заголосит... брюко-то, оно — первое дело — в кабак!.. В ту
пору ему утерпеть нельзя... А хозяин с благочинностъю взял пол-штоф в- руку,
поднял его превыше головы для повсеместного виду: «ребятушки!». Так и
хлынут к нему... В ту -пору хозяин может их нажимать да-ж«- без границ...
Это расчет-с большой!
Снова поддакивает чиновник и, желая н-е уронить себя на этот раз,
уже смело выводит заключение, что -всему горю голова—«водка»... Порфи-
рыч на этот раз даже засмеялся... Чиновник не знал, что и подумать.
—
Водка-с, — ухмыляясь, спокойно говорил Порфирыч.— Водка, она
ничуть ничего в этом деле... Она дана человеку на пользу... Потому она
имеет в себе лекарственное... Как кто возьмется... А главное дело опять же
это полоумство... Как вы обсудите: мальчонка по тринадцатому году, и горя-то
он настоящего не видал, а ведь норовит тем же следом в кабак... И
- пье-т он
«на спор», «кто больше»... Облопаются, с позволения сказать, как бесенята,
а потом товарищи и тащут по домам на закорках.
Чиновник недоумевал.
—-
Нет-с, Иван Иванович, в нашем быту разобрать, что с чего перво-
начал взяло, невозможно!.. У нас доброе ли дело-, случится, сделают тебе —
и то сдуру; пакость. — это опять сдуру... Изволь разбирать!.. То ты к нему
на козе не под-'едешь, потому он т-ри полштофа обошел, а -в другое время
я его за маленькую (рюмку) получу со всем с генеральством его. Опять
с женой драка... Несусветное перекабыльство 1).
—
Перекабыльство? — переспрашивает чиновник.
—
Да больше ничего, что одно перекабыльство. Потому жить-то
зачем — они не знают... Вот-с . Вот к этому я и говорю- насчет теперешнего
времени- ...
Прежде он, дурак полоумный, дело путал, справиться н-е- мог,
а теп-ерь-то, по нынешним-то временам-, он уж и вовсе ничего -не понимает...
Умный человек тут и хватай... Подкараулил минутку — только пятачком
помахивай... Х-оди да помахивай — твое!... Горе мое — не с чем- взяться. А уж
то-то бы хорошо! Хотя бы мало-мало силенки... Вместе с этими дьяволами
умному человеку издыхать? Это уж пустое дело. Лучше же я натрафлю, да,
господи благослови, сам- ему -на шею сяду.
б Слово это происходит от «кабы». Разговор, в котором «кабы» упоминается часто
(кабы то-то, да кабы другое... Кабы ежели и т. д.),—очевидно разговор не дельный;
таким образом «перекабыльство»—то же, что бестолковое «палдение» в разговоре и
бессмыслица в поступках.
Тут вытаращил глаза сам- Прохор Порфирыч; чиновник делал то же
еще ранее своего собеседника. Долго длилось самое упорное молчание.
—
Время-то теперь, Порфирыч,—нерешительно бормотал чиновник:—
время, оно...
—
Время теперь самое настоящее!.. Только умей наметить, разжечь
в самую точку...
Прохор Порфирыч сказал все. Некоторое волнение, охватившее его
при конце рассуждений и намерений, только что высказанных, прошло. Раз-
говор плелся тихо, пополам с зевотой; толковали о том, что «от праведного
труда будешь не богат, а горбат». Заходила речь о ворах, которые в последнее
время расплодились в городе, и Прохор Порфирыч приводил по этому случаю
какую-то пословицу и т. д. Из приличия, на лрощаньи, Порфирыч задавал чи-
новнику еще несколько посторонних вопросов и наконец уходил; чиновник
высовывался в окно и, увидав своего собеседника на тротуаре, считал нужным
тоже что-нибудь сказать.
—
Так перекабыльство? — спрашивал ок.
Порфирыч утверждал это кивком головы и утвердительным движением
руки. Оставшись один, чиновник непременно думал уже про себя:
«Однако этот Прошка — значительная язва будет в скором- времени»...
Как видно, намерения Порфирыча насчет своего брата, рабочего чело-
века, были не совсем чисты. Самым яростным желанием его в ту тору бь5ло
засесть сказанному брату на шею и орудовать, пользуясь минутами его «по-
лоумства». Между тем- Прохор Порфирыч сам на своих плечах и -выносил
всю тяготу жизни рабочего человека, имея преимущество только- -в трезвости,
в обстоятельном расчете всякого дела и больш-е всего в благородном происхо-
ждении, -которое как-то уж и без расчета и без сознательных .причин за-
ставляло его крепче держаться своих взглядов и клало какую-то грань между
ним и чумазым мастеровым народом. Ему и в -голову не могло притга так ж-е
упорно, как упорно размышлял он о собственной участи, размышлять о том,
что перекабыльство и лол-оумство-, которое он усматривает в нравах своих
собратий (питье водки и спор, битье жены безо время), что все это поро-
ждено слишком- долгим -горем, все покорившим косушке, которая и царила
надо всем, заняв по крайней- мере три доли в каждом действии, поступке и бе-з
того отуманенного рассудка. Прохору По-рфирычу некогда- было разбирать
этого; у него была своя забота, с которой только-только справиться: «Душа
пить-есть хочет, да штаны сшей», говорил он и резонно не хотел иметь ничего
общего с пропащим народом.
Так поселился Прохор Порфирыч в Растеряевой улице. Он выбрал
себе на житье половину- избы, отделенную о-т кухни сенями- с земляным
полом. Маленькая комнатка -его хоть и с-мотрела окнами в забор, но за то
не предвещала того близкого -разрушения, которым- ежеминутно грозило
жилище маменьки: стены были довольно кре-пки и
- прямы, окна ,не так гнилы
й не так ввалились внутрь комнаты; тут же была печка с лежанкой. Некра-
сивый вид комнаты, при деятельном старании Порфирыча, принял некоторое
благообразие. Перед окнами стоял станок, на котором Порфирыч обыкно-
венно высверливал дуло револьвера и зарядные отверстия в барабане;
на том же станке оттачивались как эти две штуки, так и все принадлежности
замка: собачки, шомпола и другие части, которые доставляются кузнецом
в самом аляповатом- виде,, едва-едва напоминающем настоящую форму ору-
жия. Необходимые для этого инструменты были воткнуты за кожаный реме-
шок, прикрепленный к стене несколькими гвоздями. Над ними, у самого
потолка, — на больших гвоздях, болтались вырезанные из листового железа
фасоны разных частей оружия: по ним можно было проследить все «последние»
раетеряевские новости в мастерстве Прохора Порфирыча. Без пособия
каких бы то ни- было руководств, без самомалейших признаков какого-нибудь
печатного лоскутка по этому предмету, Прохор Порфирыч всегда умел
«поддеть» самую последнюю новинку. Проезжий офицер из Петербурга, поме-
щик, облетевший весь мир, и возвращающийся в отечество с двумя-тремя
десятками заграничных вещиц, никогда почти не ускользали от зоркого глаза
Прохора Порфирыча. Где-нибудь в гостинице Порфирыч убедительно просил
такого проезжего дать вещицу «на фасон», тут же повертывая эту вещицу
перед глазами, смекал в чем дело; в крайних случаях прикидывал вещицу
на бумагу, и обводил наскоро карандаш-ом, а до остального додумывался дома.
Таким образом в глуши, на Расте-ряевой улице, Порфирыч знал, что на белом
свете есть Адаме и Кольт, есть слово «система», которое он, впрочем, пере-
водил в свою Беру, отчего оно преображалось в «исцему». Мало того, писто-
леты, выходившие из рук Порфирыча, носили изящно вытравленное клеймо
«Patent», смысл какового клейма оставался непроницаемой тайной как для
Порфирыча, так и для травщика; но оба они знали, что когда работа укра-
шена этим словом, то дают дороже.
Все остальное в комнате, не относившееся до мастерства, относилось
исключительно до личных потребностей Прохора Порфирыча. Деревянная
скрипучая кровать с грубым1 ковром1, когда-то принадлежавшая- растеряевскому
барину, кожаная -подушка того же барина, манишка на стене, сундук с то-
щими пожитками и, наконец, на лежанке, -издали казавшейся грудой кирпичей,
кусок тарелки с ваксой, сапожная щетка с оторванной верхней крышкой
и оплывший сальный огарок в низеньком жестяном подсвечнике. Все эти
признаки убожества в глазах Прохора Порфирыча принимали совершенно
другое значение, потому что говорили о собственном1 его хозяйстве.
Сени также не пропали даром1: в них было «положено» спать подма-
стерью, которого Порфирыч скоро «припас» для себя. Подмастерье этот был
не из т-сіких; он был тамбовец и на счастье Порфирыча обладал таким мно-
жеством собственных бед, что вовсе не требовал за собою ни строгого при-
смотра, ни понуканья, ни ругательств. Он был почти вдвое старше Порфирыча,
испытал наслаждение быть полным хозяином, имел благородную жену, которая
и помутила всю его жизнь, доведя наконец до тог-о, что он, Кривоногов, бежал
вЦ (родного города, куда глаза глядят. В Т . проживал он без билета, что
составляло его ежеминутную муку. Ко всем этим, несчастиям присоединилось
еще одно, едва ли не самое страшное, именно непомерная сердечная доброта,
покорлмвость и ежеминутное сознание своей ничтожности. Такие беды сде-
лали из него горчайшего пьяницу, но опасность попасть в пьяном* виде в поли-
цию, а потом в руки жены, иногда могла удержать его в пределах одного шка-
лика в сутки. Прохор Порфирыч, имевший возможность по крайней мере раз
тысячу убедиться в честности* своего подмастерья, знавший полную его
неспособность сделать какую-нибудь гнусность, все-таки, уходя из дому,
заглядывал в кухню и говорил бабам:
—
Присматривайте за этим* молодцом-то.
Самою задушевною собеседницею подмастерья была Глафира; при ее
помощи как-то таинственно являлась выпивка, соленый огурец, потом, бла-
годаря им, тянулись долгие разговоры топотом, ибо грозная тень Порфирыча
невидимо витала в мастерской. Подмастерье рассказывал* про свое иму-
щество, что «всего было», как он с полицмейстером пил шампанское на бал-
коне, как ходил за женой в маскарад, куда она укатила с офицерами.
Потом еще более глубоким шопотом присовокуплял, как жена его била и ру-
гала. При этом дело происходило так: «Харя», говорила ему жена, на что
будто бы Кривоногов отвечал: «Покорнейше вас благодарю!».
—
«Рогожа!».—
«Чувствительнейше вас благодарю»... Разлетится, разлетится, по щеке хлоп! —
«Сделайте вашу милость, еще»...
После разных мытарств, перенесенных от супруги, последняя однажды
пожелала с ним помириться... «Я—говорит—тебя, Федя, ни на кого не проме-
няю...»
—
О? — «Провалиться! Потому я тебя без памяти обожаю...»
—
Обра-
довался, я, признаться, — рассказывал Кривоногов.
—
«Пройдись со мною
под ручку!» — Подхватил, пошли. Шли, шли... —
«Зайдем* сюда на минутку,
вот в этот дом»... —
Изволь, — говорю. Зашли. Завела она меня к какому-то
военному да и говорит: «Нельзя ли моему мужу лоб забрить?». Я как услыхал,
прямо в окно, да бежать. Вот от этого-то здесь очутился; не знаю, как
отсюда-то бог вынесет»...
Кривоногов вздыхал и принимался за работу.
Если иногда случалось, что подмастерье запивал и начинал поговаривать,
что сам господин хозяин перед ним ничего не стоит, то хозяин, т. - е. Прохор
Порфирыч, брал его за шиворот, тащил в амбар и, толкнув туда, запирал
дверь на замок.
—
И покорнейше вас благодарю, — говорил на это Кривоногов, очу-
тившись где-нибудь в углу среда корыт и пустых мешков.
Обремененный разными невзгодами, подмастерье не переставая работал
целые дни и, под защитою его двужильных трудов, Прохор Порфирыч
не спеша обделывал свои дела. Главною задачею его в эту пору было оставлять
в своем кармане по возможности самую большую часть той красненькой,
которая получалась за проданный револьвер, т.- е . отделять из нее по воз-
можности как можно меньше в пользу кузнецов и других лиц, которые уча-
ствуют своими трудами, и уплачивать им, если мо*жно, натурою, в «надобное»
время. Сообразно с такими планами*, Прохор Порфирыч особенно ценил
только два дня в неделю: понедельник и субботу.
Крестьянин и рабочий. Ч. II.
^
Понедельник был для него потому особенно дорог, почему для прочею
рабочего люда он был невыносим. В понедельник Прохор Порфирыч делал
свои дела потому, что вся «мастеровщина» города в этот день не имела сил
ударить пальцем о палец, утверждая, что в этот день работают «лядкины
дети», а все настоящие люди рыщут целый день, желая отдать душу дьяволу,
только бы опохмелиться. И этот-то общий недуг доставляет в руку Порфирыча
несколько таких недужных суб'ектов живьем. Но до этого им приходилось
пройти еще многое множество рук, всегда достаточно цепких и много способ-
ствующих успеху Порфирыча.
Дело совершалось, примерно, таким путем.
Приятный для Прохора Порфирыча суб'ект пробуждался в понедельник
в какой-то совершенно неизвестной ему местности. Только самое тщатель-
ное напряжение разбитой «после вчерашнего» головы приводило его к заклю-
чению, что это или архиерейская дача, за пять верст от города, или засека,
за четырнадцать верст, или, наконец, родная улица и жена со слезами, упре-
ками или поднятыми кулаками. Успокоившись насчет местности, бедная голова
мастерового успевает тотчас же проклясть свое каторжное существование,
дает самый решительный зарок не пить, подкрепляя это- самою искреннею
и самою страшною клятвою, и только выговаривает себе льготу на нынешний
день, и то не пить, а опохмелиться. Такое богатство мыслей совершенно не со-
ответствует внешнему виду мастерового: на нем1 нет ни шапки, ни чуйки,
• куда-то исчезли новенькие коневые сапоги, но почему-то уцелела одна только
«жилетка».
Мастеровой понимает это событие так: около него возились не воры-
разбойники, а, быть может, первые друзья-приятели, которые, точно так же
как и он, проснулись с готовыми лопнуть головами и также полу-
раздетые или раздетые совсем. Тот,
кто оставил на
мастеровом
«жилетку», думал так:
«Чай и ему надо похмелиться-то чем-нибудь!».
И пошел искать в другое место.
Сожаления о коневых сапогах и чуйке, терзания больной головы, про-
клятия мало-по-малу исчезают в размышлениях над «жилеткой», и в особен-
ности в сомнении относительно того, как на этот предмет посмотрит Данило
Григорию»
Полная, здоровая фигура Данилы Григорьича уже давным-давно кра-
суется на высоком кабацком крыльце. Поправляя на животе поясок, испи-
санный словами какой-то молитвы, он солидно раскланивается с «стоющими
людьми», или, понимая смысл понедельника, принимается набивать стойку
целыми ворохами переменок. Под этим именем разумеется всякая «ношебная»
рвань, совершенно негодная ни для какого употребления: старые халаты, сто
лет тому назад пущенные семинаристами в заклад и прошедшие огонь и воду,
лишившись в житейской битве полы-, рукавов, целого квадрата в спине и пр.
Вся эта рвань предназначается для несчастных птиц понедельника, которые
то и дело залетают сюда, оставляя в заклад чуйки, жилетки и облачаясь в это
уродское тряпье для того, чтобы хоть в чем-нибудь добраться домой.
Весело похаживает Данило Григорьич; по временам он запевает какую-
нибудь духовную песнь: «Господи помилуй»... или идет за перегородку, откуда
скоро, вместе с его смехом; слышится захлебывающийся женский смех.
—
Грех!—слышно за перегородкой.
—
Эва... —басит Данило Григорьич.
На крыльце кто-то оступился от слишком- быстрого вбега, и -перед
Данилою Григорьичем, солидно обдергивающим подол ситцевой рубахи, вы-
растет полуобнаженная и словно -на морозе трясущаяся фигура. Данило
Григорьич спокойно помещается за стойкой.
—
Сдел... милость,— хрипит фигура, подсовывая жилетку и более
ничего не в силах сказать.— Сдел... милость!
—
Покажь-ко, за что -миловать-то еще?
Начинается самая мучительная ревизия всех дыр жилета. Данило Гри-
горьич трет ее мокрым пальцем, рассматривает на свет, словно фальшивую
бумажку.
—
Сделл... .милость! Ах, ты-, боже мой! а? — царапая всклокоченную
голову, хрипит фигура. —
Сделл... милость... Ах ты, боже мой!
Мучитель швыряет жилет под стойку и говорит мастеровому, тыкая себя
пальцем в грудь:
—
Только един-ствен-но моя одна доброта!
—
Отец... Да разве... Ах ты, боже мой!..
Данило Григорьич с сердцем откупоривает кривым шилом полштоф и
с тем же ожесточением сует маленький стаканишко, склеенный и сургучом
и замазкой, почему потерявший очень много в своем и без того незначитель-
ном1 об'еме.
Ужас охватывает мастерового.
—-
Данило Григорьич! Побойся бога!
—
Я говорю: истинно только из одной жалости... Поверь ты мне...
Я с тебя бо-г знает чего не возьму божиться... Для того, что видеть я не могу
этого вашего мученья!
—
Данило Григорьич! Отец! Да ты что же это мне?.. Опять стало быть
на неделю испорчен? Данило Григорьич!
Целовальник молча ставит полштоф -на прежнее место.
—
Данило Григорьич, — умоляя хрипит мастеровой.
—
Ради самого
господа бога... Данило Григорьич...
—
Я тебе говорю, — хочешь, а не хочешь...
—
Сто-сто-стой! Что ты? Сделай Милость... Ах ты, господи...
—
Для господа, я так полагаю, пьянствовать нигде не показано...
Нуко-сь, поправляйся махонькой.
Мастеровой долго смотрит -на стаканишко с самым жестоким презре-
нием, с горя плюет в сторону и наконец пьет...
Долго тянется молчание. Слышно хрустение соленого огурца.
—
- Her, — говорит наконец мастеровой, немного опомнившись.
—
Я все гляжу, какова обчистка?..
—-
Спроворено по закону...
—
А... Одну жилетку! Это как же будет?..
—
Скажи еще за жилетку-то «слава богу».
—
И ей-богу скажешь...
—
Еще как скажешь-то...
—
Ей-ей... Еще, славу богу, хоть жилетку оставили. Ах, ты, боже мой...
а... Обчи...стка...ай-ай-ай... а . .. Коневые сапоги, одни, «душа вон», пять цал-
ковых одни!.. Да ведь какой конь-то!..
—
Эти, что-ль?
Целовальник вынес из-за перегородки два сапога...
—
Он-ни... он-ни!—завопил
мастеровой, простирая руки. —
Ах,
братец ты мой... Как есть они самые.
—
Ну, теперь не воротишь...
—
Где воротить! Не воротишь!
—
Теперь нет.
—
Теперь, избави бог, ни вжисть не вернуть... Они как есть. Обчцстка...
Мастеровой развел руками.
—
То-то и есть: говорил я тебе... ой, не больно конями-то вытанцо-
вывай...
Идет долгое нравоучение.
—
И опять же скажу, это на нас от господа бога попущение... Докуда
вам мамоне угождать? — заключает целовальник.
Мастеровой вздыхает и скребет голову.
—
Данило Григорьич, — умильно начинав г он. Голос его принимает
какой-то сладкий оттенок.
—Сделай милость, маленькую...
Данила Григорьича охватывает гнев. Не отвечая, он в одну секунду
успевает нарядить посетителя в переменку и за плечи ведет к двери.
—
Маленькую! отец!
—
Ступай! ступай с богом!
—
Полрюмочки!
—
Ступай — ступай!..
-—
Как же быть-то?
—• Думай!
—-
Думать? Ведь и то, пожалуй, надо думать...
—-
Дело твое.
—
Надо думать... Ничего не поделаешь...
Черной тучей вваливается мастеровой в свою лачугу и, не взглянув
на омертвевшую жену, нетвердыми шагами направляется к кровати, предвари-
тельно с розмаха налетая на угол печки и далеко отбрасывая пьяным телом
люльку с ребенком, висящую тут же на покромках, прицепленных к потолку.
Не успела жена всплеснуть руками, не успела сдавленным от ужаса голосом
прошептать «разбойник» — как супруг ее, с каким-то ворчанием бросившийся
на постель, уже заснул мертвым сном и храпел на всю лачугу. Испуганный
этим1 храпом, ребенок вздрагивал нотами и плакал. Оцепененье бедной бабы
разрешается долгими слезами и причитаньями... А муж все храпит... Наконец,
рыдающая жена решается на минуточку сходить к соседке. Наскоро расска-
зывает она приятельнице, в чем дело, занимает до вечера хлеба и тотчас же
возвращается домой. Прямо под ноли ей бросаются из избы три собаки,
с явными признаками молока на морде. Чуя погибель молока, припасенного
ребенку, она делает торопливый шаг через порог и наталкивается на пустой
сундук с отломанной крышкой; в сундуке нет платья, на стене нет старой
чуйки, на кровати нет мужа, а люлька с ребенком описывает по избе чудо-
вищные крути, попадая то в печку, то в стену. Окончательно убитая баба
долго не может ничего сообразить и вдруг пускается вдогонку...
В это время муж ее с каким-то истинно-артистическим азартом .выде-
лывает в дальнем1 конце улицы удивительные скачки: иногда он словно под-
плясывает, а вместе с ним пляшет и хвост женского платья, выбившегося из-
под «переменки».
—
Держи, держи!.. —
голосит баба, путаясь в подоле отнявшимися
и онемевшими ногами:—ах, ах, ах, разбойник, грабитель!..
Какой-то лабазник стал ей поперек дороги, растопырив руки, словно
останавливая вырвавшуюся лошадь. Прохожий солдат обнял на ходу и раза
два повернулся с ней. Остановился и засмеялся чиновник с женой... А супруг
в это время уже поровнялся с храминою Данилы Григорьича и с разлета всем
телом распахнул обе половины дверей.
Добралась наконец и баба. Мужа не было.
—
Где муж? — едва переводя дух, закричала она. —
Подавай! Слы-
шишь? Сейчас же ты мне его подавай, кровопийцу...
—
Я с твоим мужем не спал, — категорически ответил Данило Гри-
горьевич. —
Ты его супруга, ты и должна его при себе сохранить...
—
Подавай, я тебе говорю!
Баба вся помертвела от негодования.
—
Ссию минуту мне мужа маво!.. Знать я этого не хочу!..
Целовальник усмехнулся.
—
Малаша, — произнес он, направляя слова за перегородку.
—
Вот
баба мужа обронила... Сделайте милость, присоветуйте.
—
Хи-хи-хи, — раскатилось за перегородкой.
—
Шкура,—заорала баба. —
Мне на твои смехи наплевать... Твое
дело распутничать, а я ребенку мать.
—
Чтоб тебе разорвало!
—
Ах, ты...
—
Что за Севастополь такой? —громче всех закричал целовальник.—
Ишь, генерал Бебутов какой... мутить сюда пришла. Так я опять же тебе
скажу, — мужа твоего здесь не было.
—
Не было-о?
—
Нету. Проваливай с молитвой. К Фомину убежал.
—
К Фомину-у?
—
К нему. С бог-гом. В окно выскочил.
Баба замолчала, тихонько заплакала и медленно пошла к двери.
—
Все ли взяла. Как бы чего не забыть... — подтрунивал целовальник.
—
А я вот ан, я во-о ... вдруг запел кто-то...
Баба узнала голос мужа. Но где раздавалось это пение, — на чердаке ли,
под .полом ли, или на улице, решительно разобрать было нельзя. Тем* не менее
баба бросилась на хохотавшего целовальника.
—
Подавай! Сейчас подавай! Я тебе голову разобью!
Хохотал целовальник, хохотала баба за перегородкой, и пение опять
возобновилось.
—
Разбойники, дьяволы! У меня корки нету. Подавай сейчас!
—
Аявот-ан,аяво,аяво,аяво,хо-оо...
Смех, гам, слезы...
—
Ну, с богом, — заговорил целовальник решительно и повел бабу
на лестницу.
—
Я на тебя, изверг ты такой,—доносилось с улицы: — во сто раз
наведу, ма-ашенник. Я тебя, живодера этакого, начальством* заставлю...
—
Ду-ура! Нету такого начальства, башка-а! Где же это ты такое
начальство нашла, чтобы не пить? Рожа-а!—резко и внушительно говорил
целовальник, высовывая голову на улицу. —
В начальстве ты на маковое
зерно не смысли-ишь ... Какого ты начальства будешь искать? Прочь отсюда,
падаль!
Баба долго кричала на улице.
Целовальник, разгоряченный последним монологом, плотно захлопывал
дверцы.
—
Не торопись,—остановил его Прохор Порфирыч, отпихивая дверь:—
совсем, было, прищемил...
—
А, Прохор Порфирыч! Доброго здоровья... Виноват, батюшка.
С эстими с бабами — то-есть не приведи бог... Прошу покорно.
—
Ай ушла? — шопотом проговорил мастеровой, приподнимая головой
крышку маленького погреба, устроенного под полом за стойкой, у подножия
Данилы Григорьича.
—
Ушла!.. Ну, брат, у тебя ба-аба...
—
О-о.. . У меня баба — смерть!
Мастеровой выполз из погреба, весь в паутине, и стал доедать пекле-
ванку...
—
Какую жуть нагнала-а? — спросил он, улыбаясь, у целовальника.
Тот тряхнул головой и обратился к гостю:
—
Ну, что же, Прохор Порфирыч, как бог милует?
—
Вашими молитвами.
—
Нашими? Дай господи. За тобой двадцать две...
—
Ну, что ж, — сказал мастеровой: — эко беда какая!..
—
Умру, умру!—заорал мастеровой, упав на колени.
—
А чудак человек! Ну из-за чего же я...
—
Каплю, дьявол, каплю!..
—Что? что такое? — нехотя заговорил, повернув голову к спорящим,
Нрохор Порфирыч. —
В чем расчет?
—
Да ей-богу, совсем малый взбесился... Просит колупнуть, но как же
ему могу дать?
—
Любезный, заступись... Я ему, душегубу, за бесценок цвол (ствол
ружейный)... Цена ему два целковых... Прошу полштоф, а?..
—
Что же ты, Данило Григории? — произнес Порфирыч.
—• Ей-ей не могу. Мы тоже с этого живем...
—
Покажь, — сказал Порфирыч, — что за цвол...
У мастерового отлегло от сердца.
—
Друг, — заговорил он, осторожно касаясь груди Порфирыча: — тебе
перед истинным богом поручусь, полпуда пороху сыпь.
—
Посмотрим, .попытаем.
Целовальник вынес кованый пистолетный ствол, на котором мелом были
сделаны какие-то черты. Прохор Порфирыч принялся его пристально рас-
сматривать.
—
Сейчас околеть, — говорил мастеровой, — Дюженцову делал... Еще
к той субботе велел... Я было надеялся, понес ему в субботу-ту, а его, угоре-,
лого, дома нету... Рыбу, вишь, пошел ловить... Ах, мол, думаю, чтоб тебе!..
Ну, оставить-то без него поопасался...
—
-
Да ко мне в сохранное место и принес, — добавил целовальник : —
чтобы лучше он проспиртовался... чтобы крепче!
Мастеровой засмеялся.
—
Оно одно на одно и вышло, — проговорил он:—Дюженцев этот
с рыбою-то совсем пьяный утоп...
—
Вот так-то.
—
Ах и цвол же! Ежели бы на охотника...
—-
Это что же такое—отыскав какой-то изьян, произнес Порфирыч.
—
Это-то? Да друг ты мой...
—
Я говорю, это что? Это работа?
—
Ну, ей-богу, это самое пустое! Чуть-чуть молотком прищемлено...
—
Я говорю, это работа?
—
Да ты сейчас ее подпилком. Она ничуть, ничего.
—
Все я же? Я плати, я и подпилком? Получи, брат...
—
Ангел, — перебивает мастеровой. —
Какая твоя цена? Я на все;
только хоть чуточку мне помощи-защиты, потому мне смерть.
—
Да какая моя цена, — солидно и неторопливо говорит Порфирыч : —
Данилу Григоричу, чать, рубль ассигнациями за него надо.
—
Это надо!., то беспременно...
—
Вот то-то! Это раз. Все я же плати... А второе дело, это колдобина,
на цволу-то, это тоже мне не статья...
—
Да я тебе, сейчас умереть...
—
Погоди. Ну, пущай я сам как ни как ее сравняю, все же набавки;
большой я не в силах дать...
—
Ну, примерно? На глазомер?
—
Да, примерно, что же... Два больших полыхнешь за мое здоровье:
больше я не осилю...
—
Куда же это ты бога-то девал?
—
Ну, уж это дело наше.
—
Ты про бога своими пьяными устами не очень, — прибавляет цело-
вальник.
Настает -молчание.
—
Три! — отчаянно вскрикивает мастеровой. —
Чтоб вам всем пода-
виться!
—
Да-виться нам нечего, — спокойно произносят целовальник и Пор-
фирыч.
—
А что «три», — прибавляет последний: — это еще я подумаю.
—
Тьфу! Чтоб вам...
—
Дайко-сь цвол-то.
—
Ты меня втрое пуще моей муки измучил!
Порфирыч снова -рассматривает ствол и наконец нехотя произносит:
—
Дай ему, Да-нило Григория.
—
Три?
—
Да уж давай три... Что с ним будешь делать... Малый-то дюже то-во...
захворал «чихоткой»...
Мастеровой почти залпом пьет три больших стакана по пятачку, обдает
всю компанию целым проливнем нецеремонной брани и снова пьяный, снова
разбитый, при пом-ощи услужливого толчка, пущенного услужливым целоваль-
ником, скатывается с лестницы, считая ступеньки своим обессилевшим телом.
Прохор Порфирыч спокойно прячет в карман доставшийся ему за бесценок
ствол...
Такой образ действия Прох-ор Порфирыч называет уменьем- потрафлять
в «надобную минуту», и в понедельник он мог им пользоваться в полное
удовольствие, употребляя при этом почти одне и те же фразы, ибо общий
недуг пон-едельника слагал сцены с совершенно одинаковым содержанием.
Побеседовав с целовальничихой, Прохор Порфирыч отправлялся или
домой, унося с собой груду шутя приобретенных вещей, или же шел куда-
нибудь в -другое небезвыгодное место.
Глеб Успенский.
КУЗНЕЦ.
Торопливое чавканье чьих-то ла-птей, послышавшееся в темноте, пре-
рвало фа-нтазии и разговоры двух хорошо выспавшихся людей.
—
Кто тут? — радуясь живому существу, спросил темноту писарь.
—
Бертище!.. весело и резко отвечал голос из тьмы.
—
А!.. —обрадовались собеседники.
—
Бертище, — продолжал голос, быстро приближаясь: — захотел ви-
нища, бежит в кабачище, во второй, братцы писари, рразище. Как это вам
покажется?
Тьма и сон и смерть огласились вдруг радостнейшим смехом. В голосе
«Бертища» было нечто до того смешное, комическое, что, кажется, самые
обыкновенные слова, оказанные им, непременно бы возбудили веселое распо-
ложение духа и улыбку в самом скучном человеке. Слышались в нем и без-
заботность, и веселье, и насмешка, и симпатия, и почти юношеская веселость,
хоть «Бертище» был старик пятидесяти лет. Это был маленький, жилистый,
проворный и нервный до последней степени человек, с широким, смешным
утиным носом и проворными, крошечными, бесцветными глазами, человек,
занимающийся кузнечным мастерством поденно — день тут, неделю там, сло-
вом — сколько ему понравится и где понравится. Но где бы он ни
пристроился, тотчас начинался смех и живой, остроумный
кресть-
янский разговор. Остроты, песенки, анекдоты у него были «все свои»,
особенные, никем, нигде, никогда не слыханные. И эти остроты и прибаутки
сыпались градом в то время, когда маленькие жилистые руки Бертища про-
ворно работали молотком. И работал-то он, точно комедию представлял.
Раскалив конец железной полосы и выхватив ее из горна, он, по дороге
к наковальне, непременно испугает бабу, ткнув огнем по направлению к ней и
прибавив, конечно, смешное, хотя и сальное словцо. Ожидая, пока разгораются
в горне уголья, он попляшет и опять расскажет историю или посмеется над
кем-нибудь. Выдалась среди жаркой работы коротенькая минутка передышки,
Бертище не упустит ее, чтобы не хлопнуть водки второпях, впохыхах, и все
с разными гримасами, прибаутками, позами. Неистощимый родник юмора, ве-
селости и наблюдательности таится в этом чело-веке; но случайность среды
не дала ничему развиться как следует, и талантливый человек этот
осужден на то, чтобы выделывать «колена», пить и, разумеется, спиться
с кругу.
—
Тебе не дадут теперь водки: запрещено, — сказал писарь.
—
Мне-то? Да ты знаешь, кто я такой?
—
Кто?
—
Я — Берт! Понимаешь это? Знаешь, в Петербурге заводчик Берт,
миллионер?
—
Ну?
—
Ну, это я и есть! Это вы только, глупые, -необразованные люди,
собачьи клички носите: Свиньин да Болванский, да Зайцев... Я, брат, этого
с собой не позволю делать... Я себя сам произвел в иностранцы.
—
А твоя как фамилия-то настоящая?
—
Кукушка! Ну что за название? Какая я кукушка? Я — человек:
ведь это срам с этаким именем... Нет, брат, думаю, шалишь, не проведешь!
Я-те дам кукушка... Берт! Об'явил—и шабаш... И в думе так сказал — «ни-
какого, говорю, Кукушки нет, и билета с кукушкой не возьму!». Три целковых
дал; теперь пишут «Берт». Да какого чорта? Я по кузнечному, и он, петер-
бургский-то Берт, — тоже по кузнечному. Вот и произвел! А то Кукушка!
Я тебя за эти слова... Ты что ж меня садиться не приглашаешь? Что ты за
дубина такая, что я должен стоять перед тобой?
Что ты, Аннушка, форсишь,
Да к себе не пригла-с-сишь?
А чего ты косишься..
Сам ко мне не просишься?..
Пропел Бертище, подплясывая в грязи, и вскочил «а крыльцо.
—
Что орете тут? — среди смеха писарей послышался голос выступив-
шей па крыльцо жены учителя. —
Детей перебудите...
—
Милая моя мамочка!., не давая сказать ей слова, заговорил Берт и
в рифму сказал такое слово, от которого все, — писарь и женаі учителя,—как
говорится, «сгорели со стыда».
—
Тьфу ты, пьяница! —почти убегая произнесла жена учителя.
—• Ай не любишь? — сказал ей вслед кузнец. —
Поди, я еще тебя
попотчую.
Смех, охвативший писарей, был no-истине невообразимый. Они то зака-
тывались до перхоты, до удушья, то, не выдержав и чуть не задохнувшись,
оглашали тишину и тьму громовыми раскатами хохота. Берт также смеялся
и все прибавлял по словечку, благодаря чему по крайней мере четверть
часа никто из смеявшихся не мог притти в себя. «О-ох! ох!», стонали они,
хватаясь за грудь, и вдруг опять пускались хохотать, как помешанные.
—
Уйди ты отсюда, балалайка бесструнная! — кое-как опомнившись,
сказал писарь:—измучил совсем.
—
Я, брат, и так скоро уйду! Оставайтесь одни, без меня, -пьянство-
вать. Чорт с вами!
—
Ты уж никак второй месяц идешь, все ни- с места.
—
А ты вели стаканчики в кабаках побольше да-вать!.. Да! Как же я
уйду-то? Меня, вон, на станцию приглашают, мне надо двугривенный, а вы
тут избаловали кабак, — мне не справиться... Наливай он стакан форменный,
мне бы четырех-то стаканов за глаза хватило.
—
Ну?
—
Ну, конечно, с посторонними... Ты поднесешь, Е-всей поднесет, тот,
другой, третий... са-мо-собой. А то он наливает — наперсток: вместо четырех
и пьешь шесть... Остается -из сорока ко-пеек поденных всего гривенник: разве
на это уедешь? Мне нужно двугривенный... а гривенник -куда я дену? Хочешь-
не хочешь, надо пропить. Стало быть, седьмой и восьмой. Вот и не на что
итти... А то бы я от вас давно ушел...
—
Все не протрезвишься никак?
—
Говорю, заведи законный стакан...
—
Ну, будет врать-то-.
Какой стакан ни дай, все восемь выпьешь,
покуда всего не пропьешь, — уж больно любишь, охотник...
—
Ох, братец ты мой! — вздохнув, сказал кузнец. —
И то! Люблю его
анафему, винище это! Люблю!
—
Очень нравится?
—
Ох, как нравится, братцы, вито-то! Так нравится, так...
Кузнец что-то чмокнул губами.
—
Что это ты?
—
Бутылку, братцы мои, поцеловал. Я завсегда сначала бутылку поце-
лую, а потом налью... А пустую, когда окончу, то к сердцу прижимаю: милая
моя мамочка! Ах, и люблю же я ее!., водочку, матушку... страсть господняя!..
Чистая страсть!..
—
А запоем пьешь?
—• Нет, запою нет у меня. Я ее постоянно обожаю... Не будь водки —да
я сейчас утоплюсь... Перед богом. Она моя отрада, за' подвиги награда.
—
Давно ли пьешь-то?
—
Я пью, кумовья, лет десять. Прежде я не пил. О, поглядел бы ты на
меня прежде! У меня в городе восемь кузниц было; часы, цепочка... полное
почтение... А там вдруг и одолело меня... Непременно меня испортили — уж
это верно. Уж тут кто-нибудь подмешал мне, потому вдруг началось.
Не пил, не пил, все честно-благородно жил-поживал; вдруг все мне опроти-
вело. Все не по мне стало; думаю: за каким шутом я женился? Зачем це-
почки, часы — что такое? Захотелось мне все раскассировать, и тут я пошел;
все решительно, вот все, что под руку подвернется, все стал пропивать; что
было дома — пропил, — чужое — экипажи, коляски там, — все продал, про-
пил, и что дальше пью, все того интересней... Жена — боже мой! Боже мило-
стивый! и дерется и жалуется, и сын бьет и орет, смех мне — больше ничего...
Доберусь до дому, как пес, в грязи, пьяный; заберусь на печку—ха-ха-ха!.,
а они тут зудят, орут, боже мой!.. Вот любопытно мне да и только, а зла
нету... Потом они меня вон выгнали. Жена с любовником...
—
Эге, брат, вон в чем дело-то!..
—
обрадовавшись скандальной тайне,
раскрывавшей причину безобразной жизни Бертища, оживленно воскликнул
один из писарей...
—
Вот отчего ты задурил-то... Любовник-то, видно, у нее ,
раньше был?
—
Чего ты меня перебиваешь? — осердился Бертище. —
Чего тебе надо
о любовнике знать — тебе какое дело?
—
Да ведь у жены были любовники, говори прямо?
і
—
Зачем ты меня беспокоишь такими разговорами?
—
Говори: были?
—
Тьфу, ты, невежа какой! Конечно были, глупый ты человек. Чего же
ты спрашиваешь? Было1 их у нее в высшей степени... Чего тебе еще?
—
Ну вот, от этого-то и стал ты, должно быть, пьянствовать!
—
Конечно, глупая твоя голова, от этого! Чего же ты надоедаешь мне?
—
А говоришь: «подмешали»!
—-
Да мало ли чего я говорю, истукан ты необразованный. Должен ты
молчать по крайней мере.
—
Ну, ладно; рассказывай!
—
«Рассказывай!» Только сбил с разговору... Конечно, от огорчения,
а потом, как вошел во вкус, все стало мне нипочем... Вдруг впал в насмешку,
стал издеваться... Вижу жену с любовником, с купцом, — только смех меня
разбирает, как это глупо! И нисколько не обижаюсь! Веселье меня обуяло,
как птицу небесную. Из хозяев пришлось в работники, — еще того веселей
стало. Полтинник вьгшвал, — пропил, повалился под забор — сплю. Надоело
мне в городе, ушел без шапки и без всего в другое место. Везде смеются надо
мной, и я смеюсь, и только думаю одно — как бы мне без водки не остаться.
Это для меня ад, смерть... Чего ж это я тут с вами время теряю?—вдруг как
будто опомнившись и вскочив, сказал Берт.
—
Куда ты?
—
А в кабак-то! Пожалуй, в самом деле заснут... А мне это нельзя.
Я им тогда стекла переколочу. Мне давай вина...
—
Ты воротись, приди.
—
Ну, уж нет. Я там под кустиком лягу с моей милой, с бутылочкой,
там и засну.
—
А сопьется? — вопросительно произнес писарь, когда кузнец
ушел.
—
Конечно, сопьется. Еще бы ему не спиться? Пьет без отдыху.
—
А вед не дурак?
—
Ну, уж умен! Имел заведение, а теперь сам поденщиком... Какой же
тут ум? Умный человек так не сделает. Просто пьяница и балалайка. Ишь,
вот, жена и сын прогнали его. Умный человек до этого не допустит.
Писарь молчал и внимал, а помощник продолжал философствовать.
Глеб
Успенский.
подгородный мужик.
На мызу является вечером, через топи лядин, из которых как раз
только что благополучно выступило само знаменитое «днище», ковыляя
на костыле, пожилой человек, отставной солдат. За ним плетется лет десяти
худенький мальчик. Солдат и мальчик, окруженные лающими и мечущимися
из стороны в сторону псами, приближаются к крыльцу рабочей избы, на ко-
тором в. приятных разговорах проводили время крестьянин, наблюдавший
за мызой (Демьян Ильич), случайный охотник из крестьян же, собирающийся
в ночь на тетеревов, и пишущий эти заметки.
Солдат подошел, снял шапку, поздоровался. Несколько секунд помол-
чали — и солдат, и мы. В этот краткий промежуток молчания мы заметили,
что у солдата под мышкой курица, а у мальчика в руках какая-то кошолка.
—
Яиц не надо-ль? — сказал солдат.
Опять помолчали.
—
Много-ль? — спросил крестьянин, управитель мызы.
Помолчал немного и солдат и потом сказал:
—
Десятка три, три с половиной... Сосчитаешь.
При помощи таких кратких вопросов и ответов, перемежавшихся крат-
кими мгновеньями молчания, яйца были куплены.
—
Михайло! — сказал солдат мальчику, обернувшись назад: — снеси
кошолку в избу, сосчитай.
Опять помолчали.
—
Грязна дорога-то?
—
И-и — не говори! Бездна бездну призывает.
—
Выступило днище-то?
—
Эва! — еще третьего дни нелегкая его выперла в полном параде...
Наш мальчонка холопский (название деревни) так с ушами совсем чуфаркнул
в пучину-то. Выперла, нелегкая ее бери!..
Помолчали.
—
А курицу... не требуется вам, господа?
Курица все время вертела головой, плотно прижатая под мышкой, и
как-то вытягивала грудь, очевидно, желая выскочить. Когда речь коснулась
ее, она закудахтала...
—
Нет, кур не надо.
Опять помолчали.
—
А, может, барин скушают?
Курица закудахтала еще сильнее.
—
Ей только дай покормиться с неделю, она — во-как раздобреет...
У нас она так болталась, смотреть некому — и то, глянь, бока-то все-же
мало-мальски... Берите уж, господа! Сорок копеек... у меня старуха что-то
недомогает... Деньжонок бы надо... Куда я ее потащу назад-то? Не возьмете—
задаром отдам, а назад не понесу.
Взяли и курицу, а впоследствии и с'ели ее. Конечно, предварительно
дали ей отгуляться на воле, от'есться.
Солдат пустил курицу на землю и сказал:
—
Ступай! Смотри, чтобы господину бульон хорош был. Не огорчи
хозяина!
Курица не побежала, а пошла медленно, осторожно оглядывая новое
место.
Опять помолчали. В это время воротился мальчик с пустой кошолкой
и сказал:
—
Тридцать семь.
—
Ну, ладно, сочтемся. А вот что, Демьян Ильич, не возьмешь ли у меня
мальчонку?
—
Какого?
—
А вот! — проговорил солдат, кивнув на мальчика. —
Не подойдет ли
он тебе в пастухи?
Демьян Ильич поглядел на мальчика и сказал:
—
Мне твой мальчик дорог будет.
—
Чем же? — Полтора куля всего-то...
—
Дорогонько...
(По здешним весенним ценам это около 18 р.)
—
Дорого? — переспросил солдат, и, подумав, скаал: — ну, а девчонка
не подойдет ли? Есть у меня постарше этого мальчонка на год — ничего,
девчонка проворная. Она не подойдет ли насчет скотины?..
—
Куль! — сказал Демьян Ильич: — так и быть. Ты знаешь, не из чего
мне расходствовать.
—
Это нам* известно. Куль, говоришь? Что иг, я согласен, только уж
дай записочку сейчас к Завинтилову (из третьего сословия). Хлебом-то больно
бьемся...
—
Это можно... —
сказал Демьян Ильич.
—
Ну, а уж насчет мальчонки, видно, придется мне рядиться с Завинти-
ловым'. Дает он мне полтора куля, да жидоват ведь человек-то... Ну, да уж
видно надо... Так уж дай записочку-то!
—
Сейчас напишем... —
сказал Демьян Ильич.
—
Ну, ладно, спасибо.
Помолчали.
—
Девчонка — она ничего, бойкая! уж я худого тебе не пожелаю.
Я знаю, каков ты есть человек...
—
У меня с весны загон будет сделан... —
сказал Демьян Ильич. —
Скотина всегда в одном месте, только бы из загородки не выбилась: вот и
вся работа.
—
Хорошее дело... Чего лучше как загон?
Опять помолчали.
—
Там, на деревне,—начал солдат несколько иным тоном,—сказывали,
будто тебе человек для дров требуется?
—
Надо.
—
Что бы ты меня взял; колоть и пилить я ведь мастер. Хитрого
тут нет ничего.
—
Пожалуй, возьму. Немного дров-то... колоть, а пилить наши будут.
—
Все одно! Сколько наберется. Я бы теперича тебе духом откатал...
—
Что ж, оставайся!
Уговорились в цене, написали записку на выдачу куля муки, отдали
за яйца и за курицу. Записку солдат отдал мальчику и сказал, чтобы он шел
домой, запряг лошадь, с'ездил за мукой и привез ее домой. Сам же солдат
остался и присел на крыльцо отдохнуть.
Мальчик один поплелся с пустой кошолкой по лесу, через топи и болота,
через знаменитое днище.
Солдат сделал папироску из корешков и какого-то лоскута бумаги, ко-
торый он поднял тут же на дворе в сору, и сказал:
—
Справляемся помаленьку... Как-ни -как .. . Вот старуха-то у меня ма-
лым делом прихварывает — из рук дело одно ушло задарма... Стирка у господ..
Рубля два, глядишь, и нет. А то у меня все слава богу!.. Не гуляем... У меня
все при добывке: и сам, и старуха, и ребята — все действуют... Я, брат, Демьян
Ильич, не охотник по-здешнему: как-нибудь там схватил руб. дело свертел
кое-как
—
и прочь... Или, как другой, нахватал в долг -выше головы, и отдает
двадцать лет... Этого у меня нету. Я и по-сейчас гроша ломаного никому
не должен, вот что я тебе скажу.
—
Я знаю. Ты человек исправный! — сказал Демьян Ильич. —
В пример
тебя к ним ставить нельзя. Это уж что говорить...
—
Я тебе говорю верное слово — так. Ты думаешь, ежели бы я захотел,
так Завинтилов не поверил бы мне куля-то? Поверит! Кому другому, хоть бы
вот Кукушкиным или Болтушкиным, кажется, уж богачами считаются, а им
не поверит! А мне, я тебе верно говорю, даст. Только что я не люблю этого —
просить. Нету у меня на это характеру... Кому другому не даст, а мне даст.
—
Я знаю, это ты говоришь верно. Тебе дать можно.
—
А, уж кажется, жид пресветный Завинтилов-то. Вот какое дело!
Солдат, распродавши таким образом курицу, яйца, девчонку, мальчишку
и себя и сожалевший только о том, что старуха по случаю болезни не идет
в дело, был как-то покойно счастлив, чувствовал полную внутреннюю гармо-
нию, при чем доверие Завинтилова, очевидно, уравновешивалось с вышеупомя-
нутой распродажей.
У него было хорошо на душе, ему чувствовалось честно, правильно.
Неподалеку работники пилили дрова.
—
Вот какое дело, — еще раз повторил солдат и, обратившись
к Демьяну Ильичу, оживленно проговорил: — где у тебя топор-то? Солдат
не любит без дела сидеть. Чем сидеть-то задаром; давай-ка топор-то, я покуда-
что до ужина поколю.
Пила заходила звонче и чаще; солдат, уставив деревянную ногу, как ему
было удобнее, принялся колоть дрова. И тут, в этой работе, не весьма для
него удобной, хорошее, правильное расположение духа выступало на пер-
вый план.
—
Ты режь мне аппетитными кусками... —
говорил он работнику: —
что мне такие орясины подсовываешь? — твое полено к носу моему размером
подходит, я воткнуться в него не могу с разгону, а ты режь вот этакенькие...
Так у меня топор-то вопьется вот как!
Стали резать аппетитные поленья.
—
Вот это так! Валяй — не задерживай. Вот как у нас, вот, вот, эво!
Эво как... вот так-то!
При каждом из этих выражений, аппетитные поленья разлетались фон-
таном из-под солдатского топора. Тут уже совершенно исчезла работа, а
играло роль чистое искусство, которому поддались и работники, уж порядочно
уставшие. Теперь они были заинтересованы и своим, и солдатским творче-
ством- .
П-ила пела, -не умолкая. Расколотые поленья летели в разные стороны.
А солдат при каждом взмахе выкрикивал: «Эво! Эво! Ай не хочешь! Поспевай,
ребята! Живей!».
И ребята поспевали, как не поспеть паровому пильному заводу.
Хорошо чувствовал себя солдат, распродавший свое семейство, и все
почувствовали себя вместе с ним так же хорошо, потому, в самом деле,
«по-хорошему» поступал человек.
Или вот еще: сейчас на моих глазах крошечная десятилетняя девочка
с пяти часов утра и до восьми вечера таскается за скотиной из одного угла
мызы в другой. Травы еще мало, да и та, которая уже есть, мала ростом;
поэтому скот поминутно переходит с места на место, и десятилетней девочке,
проданной родителями за куль хлеба, приходится сделать в день не один
десяток верст слабыми и босыми ногами. Босыми ногами потому, что башмаки
и даже лапти недоступны для нее при той цене, за которую куплен собствен-
ный ее труд. Одних лаптей пришлось бы сносить почти на ту же цену, сколько
она «стоит сама».
А в то же время, кто не знает, т. -е . кто не встречал на петербургских
улицах, около Гостиного двора, здоровеннейших мужиков, ростом аршина
по три, которые слоняются с кружевами, с красными шарами на веревке и
даже букетами цветов. Всякому, например, известно, что такие дылды трех-
аршинные, у которых силы хватит убить кулаком быка (от которого иной раз
криком-кричит в деревне пастух-девочка, пугаясь его рева, злобы, раздра-
жения), — такие-то дылды обступают проезжающих через Строганов мост
на дачи господ с предложением «пукета». Эти дылды — наши деревенские, и,
конечно, именно им и следовало бы воевать с быком, вместо того, чтобы
прыгать с «пукетом». А для девочки самым подходящим делом было бы сидеть
дома, расти, учиться и много-много отогнать хворостиной свинью, сующую
свое рыло, куда не следует.
Недавно в одной из газет мы читали целый ряд наблюдений, неопровер-
жимо доказывающих, что общинные порядки настолько крепки, что кре-
стьяне, выкупившие свой надел, предпочитают оставлять его в мирском вла-
дении. В подтверждение этого явления было приведено множество фактов,
подлинность которых несомненна, но один из которых произвел на нас вовсе
не то впечатление, на которое рассчитывал автор. Именно: рассказывается,
что какой-то крестьянин, выкупив надел, оставил его в общинном владении,
но при этом прибавлено, что надел выкуплен сыном для престарелого отца.
Сам сын не жил в деревне, а жил где-то на стороне; но, жалеючи 60-летнего
отца, который за старостью лет не мог бы нести мирских повинностей, стало-
быть остался бы без земли, без хлеба, — словом, нищим — сын и выкупил
для него землю, т. -е. поставил его, уже против воли мирских распорядков,
в невозможность умереть с голоду. Нас, конечно, очень радует, что общинные
начала крепки; но мы спрашиваем: позволительно ли усомниться в широте
развития этих начал, ежели сплошь и рядом, при всей крепости и долговеч-
ности этих порядков, факты, в роде вышеупомянутого, встречаются в деревнях
поминутно? И что ж это за порядки, когда человек проработал почти все
60 лет, при чем чисто мирской работы было проделано его руками многое-
множество, выбившись из сил, может рассчитывать только на то, что миряне
придут к его одру и скажут: «Ну, старичок господний, силов у тебя нету,
платить в казну тебе не в моготу, приходится тебе, старичку приятному, по-
жалуй что и слезать с земли-то... Так-то... Потому молодых ребят надыть
на землю сажать, тебе бы, старичку, тихим бы, например, манером, ежели
говорить, примерно, и помирать бы в самый раз... Так-то»...
Сколько раз нам приходилось слышать выражения, обращенные к ста-
рику, к старухе:
—
А уж пора бы тебе, старичок или старушка, помирать... Право!
—
Пора, пора, родной!..
—
Да, право!.. Ну, что тебе за жизнь? Пожила ведь на свете — ну...
и перестань... Чего ворчать-то попусту?
—
Ох, перестану, перестану скоро!..
—
Право так! Перестала б, вот бы и было все честь честью, по прият-
ному... А то чего застишь?
Глеб Успенский.
бабий заработок.
Кстати два слова об одном «бабьем заработке». С некоторого времени
слепинские крестьянки получили возможность брать питомцев воспитатель-
ного дома на вскормление, так как районы, в которые отдавались дети воспи-
тательными домами, постоянно увеличивались: теперь район петербургский
уже сошелся границею с московским. Через каждые четыре месяца каждая
кормилица получает десять рублей или, всего-на-всего, в год тридцать рублей.
Но хотя этот заработок и определен, он лучше всего доказывает, до какой
степени крестьянину нужны деньги: за эти тридцать рублей, за три крас-
ненькие бумажки, большею частью прямо поступающие в волостное правле-
ние, крестьянское семейство платит своими трудами и хлопотами и тратою
времени не менее, как в пять раз более того, что получает. Напрасно пола-
гают, что из смертности детей деревенские люди делают доходную статью:
ничего этого нет: дети мрут, правда, как мухи, особливо летом, но не
от дурного ухода, не от худого умысла, а от незнания, от небрежности врачей
или от бедности самих крестьян. Если бы не эти несчастные три бумажки
красных, поверьте, мало бы нашлось охотников переносить муку ухода
за «казенным» ребенком, ухода, обставленного бесчисленным множеством
формальностей, которыми знающие их люди очень легко могут пользоваться
в ущерб этим десяти рублям.
По Николаевской железной дороге едет старуха-баба и держит на ко-
ленях мешок. Дело происходит в третьем классе, летом 1877 года, в жгучий
июльский день.
—
Далеко ли, бабушка? —• спрашивает ее мещанин-сосед.
—
Да вот (она назвала станцию)... лекарь там наш живет...
—
Какой-такой ваш лекарь?
—
А наш, питомницкий...
-—
Что ж, ты захворала, что-ли, али так?
Крестьянин и рабочий. Ч. ГГ.
5
—
Нету, миленький, не захворала... Я бы легче помереть, не то что
хворать согласна была, нечем...
Старуха заплакала и шепотом произнесла:
—
Погляди-ка сь, что везу-то...
Осматриваясь с осторожностью по сторонам, она открыла мешок, и ме-
щанин, к неописанному ужасу своему, нашел в нем три детские трупа, завер-
нутые в тряпки.
—
Господи, помилуй! Что ж это такое?..
—
То-то, горюшко-то!.. Не хоронят, вишь, без записки от доктора,
а доктор-то от нас'—эво где... С гробом итти — кондуктор не пустит, на-
нимай особый вагон, вот и таскаю в мешке...
—
Ах-ах-ах!.. Крещеные?
—
Как же, соколик, крещеные... все крещеные... Помирают, друг ты
мой, один за одним!.. А все от молока. Киснет молоко-то: что будешь делать,
кабы у нас погреба были, ледники — ну, так! А то киснет — да и шабаш!
а они с кислого-то и мрут... И денег-то не дадут, и свои-то на раз'езды изве-
дешь; а что мученья на душу примешь — язык не поворачивается сказать.
Что я намучилась-то с эстими с мертвенькими-то!..
—
Что ж так, ты-то одна орудуешь?
—
Да больно, друг ты мой, накладно каждой кормилке самой ехать...
Я еду, один билет плачу; вот оне мне и складывают на билет-то... Кабы не ста-
рость моя горькая, да не сиротство...
—
А потом назад от доктора-то?
—
Вестимо, назад.
Старуха плакала, а мещанин качал головой.
Вот какие сценки случаются среди скромного и трудного заработка кре-
стьянки не больше, как тридцать рублей в год. Уж стало быть крестьянскому
дому деньги нужны «до зарезу».
Н.
Петропавловский-Каронин.
снизу вверх.
Несмотря на кажущуюся тишину и досадную медленность деревенского
прозябания, жизнь идет все-таки вперед, с тою же неумолимостью, как растет
трава или дерево, незаметно поднимаясь вверх. Кажется, тише деревеньки
Ямы трудно и отыскать. Поистине это была «яма», со всех сторон закрытая
какими-то пригорками, овраг, лишенный воздуха и света; не было в ней
ни торговых, ни промышленных заведений; от ближайшего города она стояла
слишком на двести -верст; подле нее не пролегал -никакой тракт, и она, пови-
димому, была забыта и богом, и людьми. Но существуя на свой страх, Яма
все-таки думала же о чем-нибудь? Это неизвестно. Верно только то, что она
изменилась и не была уже тем, чем была пять лет тому назад. Новые обстоя-
тельства — новые нравы.
Эти новые обстоятельства всего более отразились на молодом поколении, •
не знавшем крепостного права, между прочим и на Михайле. Воспитание он
получил особенное.
Как всякого деревенского мальчика, воспитывали Мишку не люди,
не родители и учителя, а природа и обстоятельства. Степь, лес, пруд, дождь,
снег, лошадь, корова — таковы были неизбежные учителя и воспитатели
Мишки. В этом смысле жизнь мальчика не отличалась от других ребяческих
жизней. Если ребенок, лучше сказать «пострел», не утонет в пруду, не будет
ушиблен лошадью, не замерзнет в буране, то останется жить. Некоторые
из этих несчастий с Мишкой случались. Раз его ударил в грудь, под сердце,
поповский козел, от чего Мишка упал без чувств; в другой раз он слетел
с воза сена под колесо, а еще раз его лягнула рыжка в затылок. Но Мишка
остался жив.
Но если воспитание природы шло обычным порядком, то обстоятельства,
действовавшие на Мишку, не были тождественны с обстоятельствами других
времен и иных людских отношений. Не очень счастливо было детство Мишки.
С самого раннего возраста он должен был видеть и слышать много неправды,
а еще больше непонятного.
Первое непонятное обстоятельство состояло в том, что, несмотря на ап-
петит Мишки, ему мало давали есть. Это ему ужасно не нравилось; он готов
был целый день бегать с куском, а мать отказывала. Мало того, хлеб, в сущно-
сти, был в семействе Луниных только в продолжение полугода; остальную
часть года ели какую-то выдумку, которую Мишка терпеть не мог. Он не
иначе называл этот хлеб, как «штукой», и питал к нему отвращение.
—
Дай-ка, мама, мне штуки! — говорил он, показывая на хлеб, когда
бывал голоден.
Он не мог любить этого, но не понимал, почему его плохо кормят.
И бьют больно, в особенности мать, под руку которой он постоянно под-
вертывался. Не видал он ласки от матери; ей, вероятно, самой приходилось
худо. Никогда она не засмеется. Черты ее лица всегда несчастные и скорее
жалкие. Жалкое горе, горе из-за горшков, из-за ковша муки, так исказило
женщину, что она к детям относилась равнодушно: «Хоть бы БЫ подохли».
Но так как Мишка и тогда уже отличался неуступчивостью, то равнодушие
матери переходило часто в жалкую несправедливость к нему. Для него это
была злая-презлая женщина. То и дело в голову ему попадала скалка, а
не скалка, так веник. Не любил он мать; в сердце его и тогда уж воцарился
холод. Впоследствии он понял, что мать не виновата, — ее собственная жизнь
не ласкала ее, — но сделанного не воротишь. Мишка не видал ласк, и сердце
его замерло.
И во всем этом виновата была, пожалуй, «штука».
Продолжалась она не месяц и не год, а как Мишка только что начал
помнить себя. Это не была случайность, из ряда вон выходящее явление,
а обстоятельство, неразлучное с ним. На глазах его случилось только одно
необыкновенное явление, поразившее его ужасом и мало понятное ему. Тогда
ему было четыре года.
С раннего утра того дня в Яме происходило необычное движение, говор,
кое-где бабий плач. Все собрались на площади возле часовни, не исключая баб,
девочек и малых, даже грудных ребят. И Мишка, конечно, присутствовал,
близко прижимаясь к подолу матери. Мужики жарко о чем-то разговаривали;
старики, мрачно потупившись в землю, молчаливо чего-то ждали. На крыше
одной избы стоял парень и смотрел в разные стороны, куда только напра-
влялись дороги. Большинство с напряжением следило за этим парнем. Вдруг он
благим голосом заорал: «Идут»—и упал с крыши. Мишке так сделалось
страшно, что он готов был убежать куда-нибудь, но скоро любопытство его
остановило. На бугре, стоявшем за деревней, показались солдаты. Впереди
ехал верхом начальник. Мишка в особенности его испугался. Когда солдаты
спустились в овраг и расположились на другой стороне площади, поднялся
такой шум, что хоть уши затыкай. Начальник долго говорил что-то мужикам.
Чаще всего он спрашивал: «Ну что, согласны?». А мужики отвечали: «Со-
гласия нашего нет». Начальник сердился. «Ну, не сдобровать вам, канальи!»—
«Ребята! — кричал Мишкин дедушка, — будем помирать! Господи благослови!
Ложись наземь!» Начальник от'ехал к солдатам; началась «экзекуция». Му-
жики пали на колени. Бабы с ребятами побежали. Мишка как-то потерял мать
в суматохе, и сам, на свой страх, задал стрекача. Он пришел к себе на зады
и схоронился в сено, где и оставался до вечера.
Впрочем, когда солдат разместили по избам и все утихло в деревне,
Мишка вылез из своего убежища и увидел, что в их избе также сидит солдат.
Солдаты прожили в деревне с месяц, в продолжение которого Мишка не только
перестал бояться Филатыча, как звали их солдата, но близко сошелся с ним.
Солдат был смирный. Только он много ел, — так много, что даже жадный
Мишка удивлялся. Для Филатыча ничего не стоило выхлебать котел щей,
с'есть чугун каши, проглотить в самое короткое время каравай хлеба. Но это
был добродушный работящий человек. Своим хозяевам он таскал на коромысле
воду, рубил дрова, задавал корму скоту, а Мишке перед уходом из деревни
сделал деревянную свистульку.
После этого воспитательное действие на Мишку имело другое обстоя-
тельство. Сам Мишка на себе испытал его. Оно касалось его родных, знакомых
и в особенности отца. Но впечатление было сильное, глубокое. Один раз,
играя с другими ребятами на улице против сборной избы, где собирались
мужики и куда приезжало начальство, как это случилось и в этот день,
Мишка вдруг услыхал рев, раздавшийся со двора этой избы. Он захотел полю-
бопытствовать и вздумал было с приятелями проникнуть во двор, полный
народа. Но в самых воротах ему дали хороший подзатыльник, после кото-
рого он убедился, что лучше всего посмотреть сквозь плетень. Он живо
проковырял дыру в плетне и посмотрел... Посреди двора лежал врастяжку
какой-то мужик, которого держали за голову и за ноги. Но Мишка скоро
широко раскрыл глаза и сердце его екнуло. На мужике надет был желтый
чапан, а на спине чапана сидела треугольная заплата, такая же самая, как
у его отца. Он хотел крикнуть: «батька!» — но голос у него пропал. Глаза
его были устремлены в одну точку, все члены замерли. Но, чтобы не зареветь,
он впился зубами в руку и закусил ее до тех пор, пока отец не поднялся.
Тогда Мишка со всех ног бросился бежать, оставив игру. «Мишка, Мишка,
куда ты?» — кричали товарищи, но он, не переводя духу, улепетывал.
Во весь этот день он боялся поднять глаза на отца. Ему казалось, что
отцу стыдно, как было стыдно ему. К удивлению его, отец — ничего... Вечером
выпил сорокоушку и с непонятным для Мишки благодушием рассказывал, как
давеча его «отчехвостили». Он не выказывал ни злобы, ни горечи. Этого
Мишка никогда не мог в толк взять. Он в эти дни с ребяческим любопытством
наблюдал за отцом, но всякий раз, видя его благодушие, чувствовал пренебре-
жение к нему. В его еще нетвердую душу прокрадывалось уже недоверие.
—
Послушай, батька, неужели тебе не совестно? — спросил однажды
Мишка отца, которого только что «отчехвостили».
Отец сконфузился.
—
Ничего, брат Мишка, не поделаешь... И рад бы, да никак невоз-
можно!— возразил отец в замешательстве.
Никогда больше Мишка не предлагал отцу вопросов. Он стал уходить
в себя. Он мечтал и думал, без всякой помощи со стороны отца, недоверие
к которому быстрыми шагами шло дальше. Мишка уже в малолетстве инстин-
ктивно старался поступать обратно тому, как поступал отец. Это был явный
признак разрыва сына с отцом...
—
Как же нам быть?.. Чтобы честно, без сраму... не как скотина
какая, а по-человечьему...
—
Михайло говорил спутанно, с невероятными уси-
лиями ворочая своим деревянным клином. Но в глазах его сверкали слезы.
Он не раз уже задавал себе такой мудреный вопрос. Но, к счастью
его, обстоятельства так сложились, что он как свои пять пальцев знал, что
не надо делать, а, когда старался придумать, как же надо жить, то он
был немощен и, чувствуя это, ненавидел свою жизнь.
Под давлением этого Михайло бросался из одной крайности в другую.
Нередко на него находило какое-то равнодушие. Он по неделе ничего не де-
лал, кроме самого необходимого в хозяйстве, лежал в конопляннике, глядел
на небо, спал, валяясь под плетнем огорода, ходил мрачный. Ни с кем не гово-
рит; глядит на всех в доме, как на лютых своих врагов; волосы не чешет,
не умывается и сопит. Но вдруг как с цепи сорвется. За неделю, проведенную
в бездельи, он старается наверстать вдвое, выказывая лихорадочную деятель-
ность, придумывал новые работы и с каким-то остервенением работал.
Так он постоянно затевал со своими товарищами разные предприятия,
не очень мудрые, но хлопотливые и новые. Главное — новые. Никогда с пожи-
лыми мужиками он не связывался, ибо их ум-разум ставил ниже гроша и
дела их все фактически отрицал.
Товарищами его были такие же безусые, как и он сам. Между ними
лучшими друзьями считались двое. Один был Щукин, другой назывался Шаров.
С ними он беспрестанно советывался и вел общие дела, хотя между ними
было мало общего. В то время, как Михайло выглядел затравленным волчон-
ком, молчаливый, недоверчивый и погруженный в себя, Иван Шаров был живой,
как ртуть, и болтливый, как балалайка. Он давно уже оставался самостоя-
тельным хозяином в доме; все его родные перемерли, кроме матери, и он,
парень двадцати пяти лет, чрезвычайно ловко вертелся в темной жизни Ямы.
Одно время он завел было лавочку, где продавались лапти и сахар, дуги и
пряники, махорка и сухой лещь, — словом, все, что требовалось в Яме. Хотя
с лавочкой ему не удалось укрепиться, но и тут он, как вьюн, ускользнул
от банкротства, ловко выбрав надлежащее время для прекращения торговли.
Изобретательный на добывание хлеба насущного, он не оставался сложа
руки никогда. Нюх у него был замечательный. Проследит, что за десяток
верст один человек должен заколоть больную свинью, которой переломал
кто-то ноги, — и уж там — покупает больную свинью и везет продавать.
Как ни был далек от Ямы город, но Иван Шаров и там завел приятелей,
с помощью которых всегда мог найти себе занятие. Он постоянно был в раз'-
ездах по каким-то важным делам, в беготне и суете. Жизнь его походила
на мелькание. Если бы мрачная судьба Ямы когда-нибудь вздумала захватить
его в свои об'ятия, он непременно ускользнет, как кусок мыла. Он давно
женился. И жена его как раз приходилась ему в пору. Она могла косить и
жать, сидеть кабатчицей, жить в кухарках — на все руки.
Михайло питал род удивления к Ивану, часто сидел у него, выслушивал
его, хотя сам решительно неспособен был вертеться таким кубарем. Природа
наделила его неповоротливостью и тем древним мужицким свойством, которое
выражается так: думает затылок. Схватить на вилы копну сена, воткнуть
на поларшина в землю соху, поднять колоду — это он понимал и мог, несмотря
на явное слабосилие свое, но чтобы всю жизнь крутиться, ускользать, ловить
случаи, — это было не по его характеру.
—
Не понимаю, как это ты все вертишься? — спрашивал он не раз
Шарова.
—
Без этого нельзя, пропадешь! — возражал последний. —
Надо ловить
случай, без дела сидеть — смерть...
—
Да разве ты работаешь? По-моему, ты только бегаешь зря.
—
Может, и зря, а иной раз и подвернется счастье, а уж тут... На боку
лежа ничего не добудешь. За счастьем-то надо побегать!
Шаров был душой между своими товарищами, Михайлом и Щукиным.
Один год, по его остроумной мысли, товарищи сняли несколько наделов не-
состоятельных мужиков и посеяли лен. Штука немудреная, но Шаров сделал
ее чрезвычайно замысловатою. Дело в том, что несостоятельный мужик бежит
от своей земли не потому, что именно земля ему наскучила, а потому, что
ему надоело платить за нее, и он рад, когда находится человек, который
берет, вместе с удовольствием владеть лишним участком, и неприятность пла-
тить за нее деньгами или спиной. Но Шаров решил, что можно в одно и то же
время взять свое удовольствие и отделаться от неприятности, т. - е. взять наделы
с условием платить за них, но на самом же деле не платить. Он рассуждал
основательно, что если он и возьмет землю, все равно подати несостоятель-
ный хозяин не уплатит, а между тем земля пропадет даром. На этом осно-
вании товарищи взяли несколько участков на имя Щукина. Почему на имя
Щукина — это тоже изобретение Ивана Шарова. Ведь их потянут, если они
не станут платить. Надо было прогнать силой сборщика податей, и сделать
это способен Щукин. В деревне его боялись.
В обыкновенные минуты Щукин был смирный и недалекий человек.
Полное, круглое лицо его ничего не выражало. Уши висели, зубы торчали
наружу — самый обыкновенный деревенский парень и насмешливый человек.
Но достаточно было ничтожного случая, чтобы вызвать с его стороны не-
обузданный поступок. Такие парни, в минуты сознания обиды или просто
неудовлетворенности, дрались, бывало, в кулачные бои, разносили вдребезги
избушку какой-нибудь вероломной солдатки и пр. Но у Щукина уже рано
явилась в поступках определенная точка, преднамеренность. Он питал не-
нависть к сельским властям, но в особенности к Трешникову, местному богачу,
который полгода давал жителям Ямы свой хлеб, а другие полгода сосал из них
кровь. Щукин с величайшим удовольствием готов был сделать ему какую
угодно пакость.
Между другими подданными, Трешников владел и отцом Щукина.
В отце это не вызывало протеста, но сын поступил иначе. Ему тогда было
менее восемнадцати лет. В отместку за все, он выбрал темную ночь, залез
к Трешникову в конюшню и обрезал под самый корень хвост лучшей лошади.
Позор был до такой степени чувствителен, что Трешников взвыл от боли.
Щукин не скрывал, что откарнал хвост именно он сам, и сулил и на будущее
время какое-нибудь посрамление. Трешников, в свою очередь, выместил на
отце, перестал давать ему хлеб, а кровь сосать продолжал, вследствие чего
тот окончательно отощал и умер где-то на чужой стороне на заработках.
Сына Трешников не тронул, пугаясь его угрозы.
У Щукина был другой подобный случай. Некоторое время после смерти
отца он служил ямщиком на станции земских лошадей. Никто из проез-
жающих на него не жаловался. Свое дело он справлял аккуратно, водки
никогда в рот не брал, «на чай» просил стыдливо. Но вышло так, что он
оплошал. Ехал с ним местный становой. Дни стали ненастные. Лил дождь.
Дорога превратилась в сплошное тесто, в котором колеса тонули по самую
ступицу. Лошади измучились. Сам кучер обил все руки, понукая их. Не-
мудрено было разинуть рот от изнеможения. И Щукин прозевал. На косо-
горе, почти под самою деревнею, куда ехал становой, экипаж его повер-
нулся боком, повисел несколько на воздухе и перевернулся, увлекая
пассажира, его вещи и кучера. Щукин воткнулся головой в лужу, сильно
расшибся, но живо выскочил и уже совсем принялся было хлопотать вокруг
барина, как последний, неистово ругаясь, с'ездил ему по голове... Это зна-
чило показать быку красную тряпку или ударить по рогам козла. Щукин
осзкрепел. Глаза его помутились, зубы выставились наружу, и он бросился
на барина с поднятыми кулаками. Тот счастливо ускользнул и пошел
на утек. Щукин за ним. К счастью, становой через неделю захворал, воз-
буждать дело было некогда, а потом его перевели в другое место.
С той поры Федьку Щукина всякий знал. Для дела, придуманного
Шаровым, он как раз годился. Действительно, лишь только сборщик явился
к нему, он бесцеремонно выпроводил его вон. Произошло замешательство.
Земля должна быть оплачена, а между тем никто не платил. Потянули
тех самых несостоятельных хозяев, которые отдали Щукину свои наделы.
Те опять указывали на Щукина. Эта путаница отразилась, в конце концов,
на самом безответном мужике. С него неожиданно потребовали уплаты
за его надел, но так как денег у него не нашли, то его выдрали без всяких
отговорок. Чрезвычайно удивленный такою несправедливостью, он пооче-
редно обошел всех трех товарищей, ругая каждого на чем свет стоит.
Щукин отделался от него, вытолкав его в шею. Шаров заговорил ему зубы.
Но Михайло не мог слова сказать.
В тог же день один Михайло заговорил об этом с товарищами.
—
А ведь жалко беднягу... —
сказал он, сидя у Ивана в избе, где
находился и Щукин.
—
Кого жалко? — спросил последний.
—
Да тово... мужиченка-то, Трофимова...
—
Сам он дурак! А ты тетерев, — презрительно засмеялся Щукин.
—
Да, ведь, он поплатился ни за что.
—
Прямой тетерев! — подтвердил Щукин.
Михайло все-таки стоял на своем, думая, что тот мужик безвинно
потерпел. Но, вместо Щукина, возразил Шаров. Он говорил резонно, с убе-
ждением.
—
Видишь, друг Михайло, — сказал он, — жалости он, действительно,
достоин. Отчего не пожалеть дурака, который не умеет сам защищать себя.
Вреда от жалости нет. Но, скажи мне, пожалел бы кто нас? Ты вот об этом
подумай. Худо нынче тому, кто сам не умеет обороняться. Но жалеть дурака
можно — вреда от этого нет.
На лице Михайлы появилось жестокое выражение. В душе он согла-
сился с товарищем.
У него на этот счет не было определенных мыслей. Ему постоянно
казалось, что во всем мире — он сирота, брошенный человек, забытая тварь
Но это было настроение. С колыбели, когда его кормили жеванным хлебом,
набитым в соску, до последнего дня, когда он стал во главе разрушенного
дома, он ни разу не испытал той нежности, которая смягчает обозленное
сердце. Мякина изуродовала его тело; бесчеловечье, среди которого он рос,
сделало его жестоким. Умственной пищи никто не думал дать ему, а ту
умственную мякину, которою питались его прадеды, он не считал уже годной.
И он вырос столь же темным, как его родители, но более несчастным, чем
они, потому что желания его были широки, а средства все такие же гроше-
вые. Он жаждал счастья и видел, что в Яме никто не знает его. Он стал
тогда ненавидеть и отрицать всю Яму. Он иногда желал убежать из этого
бездольного места. Яма, воспитав его, показала ему свои язвы — бесчело-
вечье, мякину, розги, — и он насквозь пропитался отрицанием. Мало-по-малу
он убеждался, что рассчитывать в жизни ему не на кого, кроме себя. Если
желать что-нибудь получить, то это возможно не иначе, как силой. В про-
тивном случае останешься в дураках. Отца его били, но он живьем не дастся.
На всякое притеснение он станет огрызаться. На бесчеловечье он ответит
собственным зверством. Он ничего не знает, но тем хуже, потому что всем
своим сердцем он чувствует, что жить худо...
Каждый год, в известное время, из деревень идет в большие города
народ с целью получить денег как можно больше. Одни идут на заводы,
другие — в трактиры, третьи — в чернорабочие; кто куда успеет. Половина
этого народа, однако, всегда пропадает зря. Никто из них, идя в город
за деньгами, не знает, каким образом он возьмет их; знает только, что
взять непременно надо, не столько для себя, сколько для той самой де-
ревни, откуда он вышел, и где у отца одного вот-вот уж корову отнять
хотят, уж ухватились за рога и за хвост, тянут в разные стороны за долги,
надо спасать и для этого надо взять в городе денег, иначе корова про-
падет; у другого дома остался брат и этому брату плохо; если не взять
денег, то брата поминай как звали. У третьего, у четвертого, у пятого
и у всех вообще идущих в город, осталась в деревне какая-нибудь пропасть,
которую надо пополнить деньгами. Наконец, и сами эти идущие в город
так наголодались, что нет больше сил терпеть... И вот где пропадает много
народа. Все мысли его так сосредоточены на получке во что бы то ни стало
денег, что он не разбирает уже способов; оттого и в острог попадают, сидят
там, судятся, возбуждая недоумение и в судьях, и в публике. А из разби-
рательства дела по большей части оказывается, что никакой злой воли
в этом лохматом парне нет и не было, когда он учинил мошеничество или
кражу, или другое какое незаконное деяние; у него, напротив, было самое
мирное намерение: купить что следует, а оставшиеся деньги послать в де-
ревню для спасения отца, брата, деда. А мошенничество он совершил потому
собственно, что кроме этого намерения, у него никаких побочных сообра-
жений во время мошеннической получки денег не было.
Приблизительно такое же приключение испытал Михайло Лунин. При-
шел он в город за деньгами. Но деньги зря не валяются. Наконец, он
наткнулся на предприятие, обещавшее большую получку денег, и, ни о чем
не думая, выполнил его... А после этого попал в острог и сидел там. Потом
судился, но на суде обнаружил полную свою душевную наготу, был понят,
оправдан и пущен на волю... Все это произошло с ним так, как с тысячами
других деревенских юношей. Но только дальнейшая судьба его была не по-
хожа на судьбу других. Те, другие, погибали, а он продолжал расти, острог,
где он сидел, не развратил его, а только ужаснул и перевернул все его
мысли. От всех, кто потом знал его и любил, он долго скрывал эту мрачную
тайну своей жизни; и долго ужас и стыд нападали на него, лишь только
ему приходил на память этот темный эпизод его жизни.
Такой же ужас овладел им и тотчас после того, как он, очутившись
на улице, среди толпы людей, изумленно оглядывался по сторонам, не ре-
шаясь сделать шагу от здания суда. Неведомый раньше его дикой натуре
страх всецело завладел им. Он стоял, прижавшись к стене, и испуганно
смотрел на проходящих. Ему казалось, что некоторые из них презрительно
оглядывали его, а на их устах, казалось ему, было написано: мошенник.
Он упал духом. Неужели он — мошенник и таким останется навсегда?
Но все-таки через некоторое время он пошел, сам не зная куда.
У него ничего определенного не было в виду, кроме какого-то смутного
желания вырваться откуда-то... Нет ощущения более странного, нежели эта
внутренняя пустота, в особенности, когда она поселяется в здоровом, моло-
дом теле. Михайло чувствовал, что тело его хочет распасться, развалиться
на куски, лишенные внутреннего содержания и поддержки: оно казалось
ему страшно тяжелым, и он с усилием тащил его вдоль улиц.
Но все-таки он шел, тихо, тяжело и без цели. Так он прошел площадь,
множество улиц, весь город, вышел за пределы его и сел на берегу реки,
не зная сам, зачем он это сделал. Он смотрел на воду, на противоположный
берег реки, на баржи, на пароход, который тянул их, на людей, видневшихся
из-за бортов судна, но едва ли видел все это. Его внутреннее состояние
можно бы выразить так:
—
Господи, да что мне нужно?
Ибо он действительно не знал, что надо ему. Из деревни он убежал
за тем, чтобы нажить немного денег, по крайней мере, сам думал, что
за этим... Теперь же он не понимал, зачем ему деньги. Деньги? Но за них,
пожалуй, влопаешься в какую-нибудь подлость. Хлеб? Но хлеба везде можно
достать. Что же надо ему, деревенскому юноше, рабочему человеку, ода-
ренному какой-то необычайной жаждой борьбы с чем-то, гонимому какой-то
силой, нигде не дававшей ему покоя. И вот все существо Михайлы про-
никнуто было вопросом: что же ему надо? Он для чего-то убежал из деревни,
ищет что-то, ловит какую-то вещь — и сам не знает, что это такое...
Но только не деньги.
Городской шум не доходил до него; город был скрыт от его глаз,
только на небе стоял дым с пылью; обозначавший место, где он раски-
нулся. Место было пустынное: песчаный берег реки, песчаные бугры далеко
по всему берегу, кирпичные сараи, едва поднимавшиеся над землею, — вот
все, что окружало Михаилу. Справа от него спускалась вниз, к реке,
дорога, проторенная лошадьми, ходившими на водопой, и водовозами;
но и на этой дороге долгое время никто не показывался. Михайле стало
жутко. Одиночество смутило его, наконец... А прежде он жаждал везде быть
один, и все люди были для него чужими, подозрительными... В эту минуту
он рад был всякому существу.
Существо это, к радости Михайлы, показалось в образе водовоза,
сидевшего на бочке. Так как водовоз весь был вымазан глиной, вплоть
до ушей, то Михайло заключил из этого, что он работает на кирпичных
сараях, что сейчас же подтвердилось. Водовоз, между тем, заехал в воду,
слез с бочки, сел на песок и неторопливо стал вертеть из газеты сигарку,
после чего закурил ее и стал плевать в воду, наблюдая, куда течение уносит
его слюни. Михайлу он заметил, но, занятый своим делом, долго не пово-
рачивал к нему головы.
Наконец, выкурив сигарку до корня и, не вставая с места, он спросил
юношу ленивейшим тоном:
—
Без работы, должно, находишься?
—
А ты почем знаешь? — возразил Михайло угрюмо.
—
Да уж видно гуся сразу... небось из деревни?
-—
Из деревни. А что?
—
Да так... Знаю сам — денег нет, жрать нечего, отец с матерью
да с ребятами воют, ну, и побежал в город за счастием. А, между прочим,
в городе-то сразу счастья не дают, особливо который ежели не понимает,
где его искать... Знаю все. Я сам, брат, из деревни. Только уж я давно.
Сначала уходил в город по зимам, а на лето домой — убираться. Бегал,
бегал я так из деревни в город, из города в деревню и порешил, потому зря
только ноги обиваешь. Прибежишь зимой в город — тут нет ничего. Взял,
да и прекратил с хозяйством, привез сюда жену, ребят, рассовал всех
кого куды: девочку в трактир в судомойки, мальчишку в трактир на побе-
гушки, жена при мне, я сам у Пузырева, который что прикажет, то и делаю...
Идол, однако, хороший.
—
Это какой идол? — спросил Михайло.
—
Да хозяин наш, Пузырев. Я у него все одно, как домашний. Теперь
он на меня озлился, и я вот воду таскаю.
—
Сколько же получаешь?
—
Всяко. У нас с ним без ряды, — говорю тебе, я у него, как домаш-
ний... Оно бы ничего и в водовозах, да кормит, жид, по-свиному, чисто,
как мы животные какие бесчестные... Оно и это ничего бы, да беспокоит.
Говоря это, водовоз лениво повернулся на другой бок, лицом к Михайле,
и стал ковырять пальцем песок. О воде он, повидимому, забыл и рад был
случаю высказать свои размышления.
—
Ты что же сидишь... разве не побранит хозяин? — спросил Михайло.
—
Ничего, леший с ним! Нельзя уж и отдохнуть? Наплевать! — говорил
лениво водовоз.
Он налил бочку и выехал из воды. Михайло вспомнил, что сейчас он
останется один, без приюта, без цели, с отшибленными руками, опустив-
шийся. Но водовоз как-будто угадал его состояние.
—
А ты, парень, иди к нам на работу! — сказал он.
—
Ты же говоришь, что у вас плохо.
—
Где же лучше-то?.. По крайности кусок хлеба...
—
Да ведь ты сам говоришь, что хозяин ваш — идол.
—
Конешно, идол!., притесняет... Но он ничего. Ежели ему хорошенько
услужить, он помнит...
Михайло с каким-то недоумением замолчал, встал с места и отправился
вслед за водовозом по направлению к кирпичным сараям. Ему было все
равно, лишь бы не остаться наедине с собою. Дорогой они ближе позна-
комились. Михайло, во-первых, узнал, что водовоза зовут Исаем; во-вто-
рых, этот Исай живет теперь под открытым небом, находясь день и ночь
подле сараев, а по окончании кирпичного сезона переберется с женой на двор
хозяина, который помилует его и даст ему более радостное местечко.
Скоро они пришли к сараям. Произошла сцена, чрезвычайно удивив-
шая Михайлу. Исай, вероятно, думал, что хозяин в этот день не явится
на место работ, и без опасения провел на берегу целый час в разговорах.
Но случилось иначе! Едва он остановился с бочкой, как наткнулся на хозяина.
Последний набросился на него с ругательствами: «Где ты был? Тебя туг
ждут, подлеца, а ты и ухом не ведешь! Куда ты провалился, бессовестный?».
Долго бушевал хозяин и привел в такое замешательство Исая, что послед-
ний, как взял в руку черпак, так и застыл с ним. «Что же встал истуканом?
Выливай, дурак, воду, да пошел опять поскорей», закричал хозяин. Это вывело
Исая из столбняка. Он живо вычерпал воду в яму, бормоча что-то под нос
себе, в роде того, что, мол, не птица же он с крыльями, чтобы так скоро
летать, сел поспешно на бочку и что есть духу поскакал за новою водой, —
только бочка загремела... куда и равнодушие девалось!
У Михайлы этот день пропал даром. Без хозяина, который сейчас же
уехал после острастки, он не мог подрядиться на работу, а пока ходил
в город, в дом Пузырева, пока ждал его, а потом торговался, наступил уже
вечер. Но ночь он провел уже на месте. Исай обязательно указал ему голую
землю, где он может лечь, и пучок соломы, который он может употребить
в качестве подушки. Михайло так и сделал: подложил соломы под голову
и лег на землю, прикрывшись кулем. Он вскочил чуть свет, не попадая зуб
на зуб от утреннего холода, проникшего его до мозга костей. В следующие
ночи он, впрочем, лучше приспособился, хотя и продолжал спать на чистом
воздухе.
На другой день он вместе с другими принялся за делание кирпичей.
Способы были такие первобытные, что он в два дня постиг все, относя-
щееся к кирпичам. Сперва месят глину ногами, руками и лопатами — это
он выучил; потом делят на меньшие кучи глину и еще раз месят; потом
берут руками комок липкой глины, шлепают его в станок, притаптывают
ногами и приглаживают с помощью лопат и воды — и кирпич готов.
Следующие уже дни Михайло вел такую несложную жизнь, что потом
никак не в состоянии был припомнить ни одного события, которое разде-
ляло бы один день от другого. Рано по-утру он работал. В восемь или девять
часов завтрак из хлеба, из каши с рыбой или с солониной, или с салом.
Потом опять работа. В девять часов — ужин из хлеба и из каши, на этот
раз без рыбы, без сала и без солонины.
Через неделю, в день расчета, Михайлу обсчитали на двадцать
копеек. В эту первую неделю он протестовал, сверкая глазами. Но в сле-
дующую неделю он только удивился, что его обсчитали на двадцать пять
копеек. А на третью неделю он уже молчал, равнодушно смотря на ладонь,
где лежали деньги. Среда, куда он попал, неумолимо действовала. Между
работниками были мещане из города, крестьяне из деревень и бабы обоих
сословий, но вся эта огромная куча людей молчала, равнодушная, холодная,
потерявшая даже охоту выражать свои нужды. Обед был тухлый — ели.
В субботу обсчитывали — острили.
«У тебя сколько нынче уперли?» —
лениво спрашивает один. —
«Тридцать» — равнодушно отвечает другой.
—
«А у меня даже с карманом!., вот посмотри, кармана-то нету, оторвали,
черти». Смех.
Михайло делал так, как делали другие. Он, не сознавая этого, неза-
метно опускался куда-то глубоко вниз. Никакой своей мысли в это время
у него не появлялось: он думал настолько, насколько это нужно было,
чтобы не принять кирпичи за дерево или чтобы не прикрыться, вместо
рогожи, кирпичами. Он месил глину, ел рыбу «с духом», спал среди природы,
как все прочие товарищи, в конце недели шел за расчетом, подставляя
ладонь, получал, как прочие, молчал и имел угрюмый вид, как все, и опу-
стился на самое дно равнодушия, как все окружающие. Он быстро осовел
и обессмыслел. Во время работы он старался поменьше делать кирпичей
и ждал с нетерпением времени еды, но в особенности ждал, когда наступит
ночь и можно лечь спать, прикрывшись рогожей; но сна ему было мало; он
мечтал о воскресенье, когда он вправе лечь с вечера субботы и проспать
до вечера воскресенья; все другие его мечты за это страшное время носили
тот же характер. Ему стало лень думать, надеяться, желать, и ослабле-
ние всего его существа было такое полное, что он не чувствовал, что
существует.
Рано утром его обыкновенно расталкивал ногой один из распоряди-
телей работ, после чего он вскакивал с наивным видом и бессмысленно при-
нимался соваться, пока новый крикливый приказ из непечатных слов не при-
водил его в себя... и ему тогда не стыдно было этого. Он принимался за работу,
показывая всеми движениями, что он изо всех сил старается, но чуть отвер-
нется десятник, Михайло преспокойно садится возле кучи глины и лениво
глазеет на окрестности по сторонам... и этого тогда не стыдно было ему.
Впоследствии он с негодованием вспоминал все это, но в это время он
не чувствовал ничего, кроме страшной тяжести жизни; вспоминая это время,
он впоследствии говорил, что он потерял даже ощущение жизни, а когда
к нему приходило смутное ощущение бытия, то он старался как можно
дольше спать.
Наружный его вид так изменился, что видевшие его раньше не узнали бы
его: штаны его просвечивали, обнажая многие места; в волосах, всегда
всклокоченных, торчала солома (остатки ложа), лицо, чорт знает, чем было
вымазано. Ему вообще ничего не было стыдно тогда и ничего не хотелось
делать для себя и по своей воле.
Не удивляло Михайлу и оскорбительное отношение безалаберного
Пузырева к рабочим. Приезжая на завод, этот хозяин, человек вообще
пустой, оставался там на каких-нибудь полчаса, но за это время успевал
выругать чуть не всех работающих, не потому, чтобы в этом была какая-
нибудь надобность, а так, по привычке хозяина, который, по его глупейшему
соображению, всегда должен держать себя строго. Иногда же, не находя
предлога к брани в действительности, Пузырев выдумывал его. Подойдет
к станку, потычет тростью в мокрые еще кирпичи, швырнет ногой кучу
высыхающих кирпичей и отыщет-таки виновника.
—
Это кто делал? — спрашивает он, якобы разгневанный.
—
Это я.
—
Ты? Лучше бы тебе не родиться на свет, чем такое безобразие
делать! Это разве кирпич? — спрашивает Пузырев, якобы взволнованный.
—
Кирпич, кажись... —
тупо возражает виновник.
—
Да ты сам посмотри... тут ямы, тут дыры! исковырен весь. Да чем же
ты делал-то его? Иль у тебя руки отсохли? — продолжает гневаться Пузы-
рев, насильно раздражая себя.
Виновник молчит: это лишает хозяйский гнев всякой пищи.
—
А по-моему, как если руки-то у тебя отсохли, так ты хоть бы
носом обчистил кирпич и тогда получай жалованье. А теперь ты заместо кир-
пича наделаешь кизяков или назьму, в котором ты родился, а жалованье
небось просишь... «Пожалуйте, Митрий Иваныч!» — передразнил Пузырев
с гримасой, от которой толпа захохотала.
Хозяин, высказав еще множество таких же пустых соображений, уез-
жал, а товарищи оплеванного поднимали его же на смех...
—
А ну-ка, попробуй носом-то!..
—
И никто не выражал никакой
злобы. Не обижался и сам оплеванный. Но зато, при случае, он, в свою
очередь, сделает что-нибудь, так себе, ни с того, ни с сего, попусту: изломает
станок и бросит его в овраг или пустит в хозяйскую лягавую собаку кир-
пичем и перешибет ей ногу. Да и сделает это без всякой охоты и с страш-
ною ленью. «Никак перешиб ногу евойному легашу... ну, пущай, шут с ним,
ты только молчи!» — говорит он скучно товарищу, который видел, как он
пустил кирпич в собаку.
Первообразом этих людей был Исай. Михайло близко с ним познако-
мился; ночь они иногда близко спали; по праздникам Михайло сидел у него
в квартире в гостях и изредка заходил с ним в портерную.
Портерную Исай, кажется, любил больше всего на свете. Практико-
вать любовь к ней он мог, конечно, только по праздникам. Едва дождав-
шись окончания обедни, он уже сидел там, скрыв от жены часть зара-
ботков. Это ему удавалось всегда, и для этого он пускал в обращение тысячу
хитростей: запрячет деньги в голенище или заткнет их в щель стены, или
в одну из дыр картуза. Жена, конечно, знала, что Исай спрятал часть,
но куда — это редко удавалось ей открыть. Так или иначе, прикопив не-
сколько денег, он садился в портерной и прохлаждался до вечера. Вечером
же он был, обыкновенно, без головы или без ног; лез ко всем драться,
старался побить жену, которая вела его под руку из пивной. Разозлившись,
жена, по приходе домой, клала его на пол и шлепала веником... Но Исай
не обижался поутру. Утром он жалел, что нечем опохмелиться.
Дрался он не потому, что таким способом желал выразить какую-
нибудь внутреннюю боль, а просто потому, что ему скучно становилось.
Нередко он дебоширил в самой портерной. Тогда его вели в кутузку, при чем
провожатые размалевывали его лицо пурпуровыми красками; но Исай поутру
не обижался, признавая очевидную неизбежность мордобоя. Когда его вытал-
кивали из кутузки, он еще удивлялся, что так снисходительно его помиловали.
За вину его, за безобразие его надо бы почище отвалять. Очень просто:
порядок, закон — не безобразничай! А его милостиво только вытолкали из
полиции, дав ему -на прощанье здоровенную затрещину.
Михайло удивлялся, как мало у Исая потребностей и как мало ему
надо было вещей, чтобы удовлетворить его вполне. Он страдал только тогда,
когда у него нечего было есть, когда он не мог выпить пива или когда ему
не давали заснуть. В этих случаях он не только страдал, но делался яростным,
злым, неукротимым. Хозяин Пузырев, больше чем над кем-нибудь другим,
тяготел над ним, безусловно распоряжаясь его жизнью (кажется, Исай был
по уши должен ему)...
Никогда он не возражал хозяину, что такое-то поручение несподручно
ему... Если бы Пузырев приказал ему лезть в воду, Исай сделал бы это;
если бы ему сказали, что вот этого человека надо бить, Исай стал бы бить,
только потребовал бы перед началом дела выпить для храбрости. Иногда
ему не удавалось побывать в портерной, тогда он шел к Пузыреву и отчаянно
грубил ему. Пузырев понимал, к чему клонится вся эта грубость, и выдавал
ему на выпивку, давая слово при первом случае оштрафовать его урезкой
жалованья.
—
Вот за это благодарим, Митрий Иваныч! — говорил с сияющим
от радости лицом Исай, получив удовлетворение.
—
То-то благодарим! Я тебя, подлеца, жалею, кормлю, пою, а ты же
еще по-собачьи лаешь.
—
Простите, Митрий Иваныч, конечно, это я по глупости, как чело-
век необразованный... Да разве я не знаю вашей доброты? Сделайте одол-
жение, это я вполне чувствую потому, что совесть имею... За вашу доброту
я отплачу... Скажите только: Исай! Больше ничего-с! Я готов от души чего
изволите...
—
Как же, жди от вас благодарности. Вам бы только хозяина обма-
нуть... Я тебя, негодяя, содержу, питаю, а ты как с цепи сорвался... Прямо
негодяй!
—
Простите, христа ради! Ругайте, заслужил! А теперь, позвольте, я
пойду выпью за ваше здоровье...
Исай, высказав это, лукаво улыбался, а на лице его отражалось до-
вольство.
Несмотря на отношения, часто явно враждебные между ним- и хо-
зяином, Исай питал к Пузыреву некоторый род любви... По крайней мере,
все лузыревское он считал «нашим»... «Наши лошади супротив других прочих
куды же... У нас карман-то, чай, потолще будет» — хвастался Исай перед
посторонними. Это хвастовство и гордость воображаемым «нашим» были
у него искренни... Когда при нем нехорошо отзывались о Пузыреве, который
в самом деле был неумен, непрактичен, бесхарактерен, как человек, и ро-
тозей, как купец, то Исай выходил из себя. Михайло раз присутствовал при
одном разговоре.
—
Дурак он! Отцовские капиталы только проедает, а чтобы самому—
где же эдакому глупышу. Одно слово — рохля! — говорил один рабочий,
когда дело как-то коснулось Пузырева.
—
Кто? — закричал Исай с негодованием.
—
А вот Пузырев-то твой! Земли больше у помещиков не снимает,
который каменный дом отец ему оставил недостроенный, и тот он продал...
Дурак и есть!
—
Да ты у него был в кармане-то? — спросил Исай, пожирая про-
тивника злобными взорами.
—
В кармане я не был, а так вижу человека, какой он есть. Проест
он скоро и остальное-то... потому сопляк!
—
Сам ты сопляк! Да он купит и перекупит сто... какое сто, тыщу
таких, как ты, подобных жуликов!
—
Что ты ругаешься, Исайка?
—
А то и ругаюсь, что весьма глупо! Кабы мне наврал это под пьяную
руку, так узнал бы, какие есть московские калачи.
Действительно, из-за Пузырева Исай нередко дрался, в пьяном, ко-
нечно, виде, как ни была нелепа подобная ссора.
Прожил он у Пузырева лет двенадцать с перерывом, и за это время
переработал множество работ. Одно время за несомненную честность
Пузырев назначил Исая даже в приказчики, предварительно нарядив его
в приличный костюм. Но Исай не во-время стал пьянствовать, жестоко
дрался с рабочими, которые в свою очередь, потеряв терпение, драли его
и избивали до крови, содержался по два дня в неделю в полиции за дебоши, —
словом, оказался неудачным приказчиком, хотя не перестал быть честным.
Хозяин прямо из приказчиков свергнул его в сторожа — караулить кирпичи,
хранившиеся круглый год за городом. Там ему было так скучно, что он
по торока часов подряд спал. Из сторожей он был уволен за то, что чуть
было не убил колом какого-то проходившего мимо человека, приняв его
спросонья за вора. Это дело доходило до полиции, и хозяин только благо-
дарностью избавил его от тюрьмы. Исай после этого долго был в опале и
прогнан был в среду обыкновенных работников на кирпичных сараях, т. - е.
месить глину, лепить кирпичи и пр. Потом Пузырев взял его в свой город-
ской дом в дворники, из дворников он сделал его кучером, он выглядел очень
красиво, смотрел сурово, руки держал прямо, как палки, и залихватски
кричал: «гись», за лошадьми также хорошо ухаживал. Но однажды, когда
Пузырев торопился куда-то и приказал быстро ехать, Исай так пересолил,
что задавил девочку нищую. Опять в полицию! Дело было потушено, но Пу-
зырев свергнул Исая в водовозы.
На все способный Исай, кроме того, исполнял еще и другие домашние
работы, даже несвойственные мужскому полу. Нередко хозяйка просила его,
за отсутствием няньки, повозиться с ее грудным ребенком. Исай с величай-
шим удовольствием брался за это поручение: носил ребенка на руках
с нежностью кормилицы, возил в коляске, забавлял его разными штуками.
Он так увлекался своей ролью, что совершенно забывал себя, весь отдав-
шись маленькому крошке. Когда тот собирался заплакать, Исай пускал
в ход всевозможные успокоительные средства: мяукал, как кошка, щелкал,
как сорока, мычал, как корова, высовывал язык, дергая себя за нос, или
прятался вдруг под коляску, ложась плашмя на землю. Ребенок, наконец,
забывал свое намерение кричать, пораженный прыжками и метаморфозами
огромного мужичища. Когда же ему хотелось спать, Исай брал его на руки
и убаюкивал его песней, которую тянул хриплым голосом, но тихо, как
будто шептал, при этом раскачивался всем телом монотонно и сам закрывал
глаза, как соловей во время трелей.
Так поступал он на глазах, искренно и из всех сил исполняя всякое
поручение. Искренность его не подлежала ни малейшему сомнению. Пузырев
однажды застрял в весенней зажоре — Исай вытащил его на своих плечах,
а сам пролежал два месяца в горячке. В другой раз он бросился, с риском
быть разбитым на куски, на лошадь, которая трепала Пузырева. Но едва
его спускали с хозяйских глаз, как он делался сам не свой и не знал, куда
деть свои руки, свою голову, свое тело. Когда для него выходил в будни
свободный день, то он убивал его бессмысленно: он тогда или валялся на со-
ломе, или бродил по городу с шальным лицом, заглядывал во все трактиры,
и если ему удавалось встретить приятеля, соглашавшегося вывести его
из такого тягостного настроения, то он сейчас напивался, немедленно всту-
пал в драку с этим же самым приятелем и сейчас же ему раскрашивал
физиономию. Так он наполнял день. Потом внутри у него было пусто. Сам он
никогда не мог придумать порядка для своей жизни и наполнял внутреннюю
пустоту свою тогда только, когда ему приказывали сделать это, сбежать
туда, работать там, умереть вот здесь... И делал, бежал, работал, умирал.
Получив приказание, наполнявшее его пустоту смыслом, хотя и чужим, он
моментально делался из апатичного и тупого существа человеком, способным
на все руки, старательным, умницей.
И он легко принимал все чужое, — все, что ему приказывали, всякий
порядок, не 'И» выдуманный, всякое дело, не им начатое. Легко он сносил и
обиды в жизни, — обиды, неминуемо сопряженные с приказаниями, с чужой
волей, чужими капризами, лишь бы эти приказания исходили от какой-нибудь
силы. А силой для него был всякий, кто держал в руках палку, из чего бы
эта палка ни состояла. Когда эта палка била его, ему было больно, но закон-
ность существования палки не вызывала в нем сомнения.
В глубине души, под самой последней подкладкой его мыслей, он
не признавал за собою «правов», по той причине, что не знал их, не знал
ничего истинно-человеческого, справедливого, идеального; вся жизнь его,
с нежного детства, протекала в принятии собственными ребрами всего бесче-
ловечного, несправедливого, грешного. С этими явлениями грязи и бесчелове-
чия он так сжился, что считал за чистое для себя снисхождение, когда его
Крестьянин!?!! рабочий, Ч. II.
6
тем или иным путем не драли, и все, что выходило из пределов насилия и
неправды, он в глубине души считал хорошим, но неестественным.
Михайло, изучивший его до малейших подробностей, с изумлением
спрашивал себя, как и для чего такой человек существует. Сам он понемногу
стал выходить из того душевного оцепенения, которое овладело им здесь.
А один довольно незначительный случай окончательно привел его в чувство.
Однажды приказчик во время работы разговаривал с господином, которого
рабочие называли Фомичом, произнося это имя с величайшим уважением,
хотя это имя носил простой слесарь... Михайло и раньше много слышал
об этом замечательном человеке, имевшем на него впоследствии такое
огромное влияние, и теперь, увидав его, бросил работу, облокотился на груду
кирпичей и пристально вглядывался в барина (иначе нельзя было, судя по на-
ружности, назвать Фомича); какое-то глубокое раздумье и вместе жгучая
тоска охватили его, когда он так стоял.
Но вдруг приказчик набросился на него.
—
Ты чего стоишь? Дела нет у тебя? пошел работать, негодяй! —
закричал приказчик, не подозревая, с кем имеет дело.
Михайло вздрогнул всем телом, побледнел и моментально очутился
подле самого носа приказчика.
—
Ты что сказал? — спросил он тихо.
Приказчик растерялся.
—
Иди на работу, сказал я...
Приказчику показалось, что Михайло сейчас схватит его и бросит
в яму, подле которой они стояли; он в замешательстве попятился, испу-
ганный зловещим лицом Михайла.
—
Ну, смотри!., вперед язык держи за зубами! — проговорил тихо
последний и пошел на свое место, провожаемый взглядом Фомича, которым
Фомич как бы спрашивал: кто такой этот гордый оборванец?
Вот этот случай и вывел Михаилу из оцепенения. В первую минуту
им овладел страх. «Боже мой, да где же я, куда попал?» — спрашивал он
себя. Затем быстро составил решение — убежать отсюда, дождавшись суб-
ботнего расчета. На своих товарищей он вдруг взглянул со страшною злобою,
а Исая видеть не мог. В этот же день он нашел предлог выпустить целый
заряд злобы.
Это было уже в то время, когда они лежали, приготовляясь уснуть.
Исай по какому-то поводу стал ругать Пузырева и жаловался, что ему
плохо жить тут...
—
Ну, я этого не замечаю что-то... тебе везде отлично, — возразил
Михайло из-под рогожи.
—
Однако же... есть места лучше и есть хуже... какое же сравнение,—
продолжал Исай, громко зевая из-под рогожи. Он не подозревал, какая злоба
бьется под соседней рогожей.
—
Да ты зачем ушел из деревни-то? — вдруг порывисто спросил
Михайло.
тт. Ушел-то? — Ушел потому что — ну ее к ляду.
—
Да отчего же все-таки? Любопытно ведь послушать.
Исай не мог ответить на такой простой вопрос. Говорил он о какой-то
лошади, о каком-то мешке с отрубями, но все-таки не в состоянии был
прямо ответить, отчего он ушел.
—
Часто тебе там рубаху-то заворачивали? — спросил с презрением
Михайло.
—
Да, случалось... как и всем прочим...
—
Так, может, от этого ушел?
—
Конечно, от этого! — обрадовался Исай.
Но Михайло сейчас же уличил его.
—
Да разве тебе здесь лучше, ежели каждую неделю у тебя морда
разбита, бока переломаны?
Исай не мог возразить, хотя что-то бормотал под рогожей.
—
Жрать-то было ли тебе? — презрительно спросил опять Михайло.
—
Как обыкновенно, по обычаю — от Миколы уже не было своего
хлеба. —
Бегал к этому же Пузыреву, Митрию Иванычу, — он в ту пору
хлеба у барина снимал в аренду... Иной раз давал, иной раз прогонял — ну,
тогда точно кушать ничего не было.
—
Так, может, от этого ушел?
—
Вот, вот. От этого ^самого, от недостатка, — обрадовался было
Исай, но Михайло снова припер его к стене.
—
Ну, а здесь-то какое для тебя удовольствие? Денег у тебя нет,
в пище ты на собачьем положении, утром тебя десятник пнет ногой, как
подлеца какого, ругает тебя Пузырев, как свою лошадь. Жену ты не кор-
мишь, детей раскидал, значит, ты и сам не знаешь, зачем ты сюда пришел
и чего ты ищешь! Эх, ты, Исай, Исай! —сказал со злобным смехом Михайло
и далеко отбросил от себя куль, которым был прикрыт.
—
По-моему, тебе везде плохо. Ты сам лучшего-то не желаешь!..
Когда тебя обидит Пузырев, ты хоть бы к мировому пошел, — продолжал
Михайло.
^
..
-
5'
—
Больно ты ловок! Да он такого тебе страху напустит, Пузырев-то,
что и глаз некуда будет спрятать. Жаловаться?., это мы сами понимаем,
да нельзя — хуже себе сделаешь!..
—
возразил горячо Исай, высовывая голову
из-под рогожи.
—
Чем же хуже?
—
А тем и хуже, что он тебя, смутьяна, в один момент прогонит.
—
Ну, и прогонит, а ты ищи лучшего.
—
Чего? Куда? — возразил Исай, потом жалобно проговорил: — Нет,
Мишенька, нашего-то брата нежно нигде по спине не гладят — сделай
одолжение. Он тебе такого мирового подпустит, что по гроб жизни...
Михайло окончательно вышел из себя. В нем проснулась прежняя
дыкость.
—
Эх, вы, крепостные! — вскричал он. —
От вас, от чертей, и всем-то
жить худо, потому что вы сами не желаете хорошего себе... Набьет, идол,
брюхо свое соломой — и доволен, больше не требуется, сыт. Дерут его, как
G*
мерина, а у него хоть бы стыд был — ничего!.. Что ему, идолу, когда он
сызмалетства привык, чтобы драли его по заду. Вот Пузырев уж на что,
и тот покрикивает. Жаловаться на него, как же можно? Господин! Осерчает!
А этот самый господин еще и лицо-то не успел умыть, еще пахнет от него
мужиком, а он уже ломается, кричит, обсчитывает, пхает ногой в бок...
Да и как же ему не ломаться, коли он видит крепостных истуканов. Эх, ты,
раб! А тоже жалуешься, что плохо, когда ты не имеешь понятия, что
хорошо, что плохо, что радость, что пиво, что счастье, что битье по заду...
когда ты не различаешь хлеба от соломы, — чего же тебе нужно? Нет,
если бы ты сам хотел хорошее, понимал бы, что есть хорошее, стыдился бы
худого, так никто бы не смел ломаться над тобой. Кто же меня приневолит
делать, когда я скажу: не хочу!
Исай, слушая эту пальбу по нем, даже сел, выкарабкавшись из-под
рогожи. Но он не столько осердился, сколько был оглушен, пораженный
взрывом злобы, с которой говорил Михайло.
—
Больно ты прыток, — заметил Исай нерешительно.
—
Только от вас и услышишь: «больно прыток, больно ловок!» Вас
по ушам бьют, а для вас ничего... У вас нет понятия, что вы животные,
а не то, что люди, которые, например, не позволят ломаться, не станут
жрать солому... От вас, от подобных истуканов, и всем-то на свете больно
жить, не глядел бы ни на что!..
—
Да ты мне что проповедь-то читаешь, Мишка? Что ты меня
учишь? — сказал удивленно Исай, не зная, сердиться ему или плюнуть.
—
Очень мне надо учить. Вас, дураков и так учат! А мне все равно!
Я вот взял, да и пошел, а вы оставайтесь тут, чорт с вами...
'
День был великолепный, солнечный, теплый, как часто бывает перед
наступлением осени; небо глубокое, воздух чистый и неудушливый. Все это
придало взволнованному юноше необычайную бодрость. Михаиле никуда
не хотелось итти искать работы в такой необыкновенный для него день.
Ощущение жизни было так сильно, мысль для него была такая поразитель-
ная, что он в величайшем возбуждении шагал по направлению к городу и,
придя быстро в середину его, ходил по улицам, площадям и базарам, нигде
не останавливаясь.
Ему казалось, что он открыл глубочайший секрет жизни. Воля! Как
это он прежде не догадался, чего ему надо? И как люди не знают, что лучше
всего на белом свете? Смотря на идущих и едущих людей по улицам, он
радовался до глубины души, что он держит секрет, который вот тут, под
ситцевою рубашкой лежит у него, а они не нашли и не знают его. Ах,
дураки!..
Если в одном месте ему покажется подло, если тут вздумают на него
надеть веревку, он оторвется и уйдет! Никто не в силах его остановить,
обратать и взять, если он сам не захочет влопаться куда-нибудь в рабство
из-за хлеба или из-за денег. Чтобы не сделаться рабом, он будет ходить
из одного места в другое, из губернии в губернию, побывает везде, посмотрит
на все... Для житья ему немного надо, а богатство не обольщает больше его...
Лицо его ярко светилось, взгляд самоуверенно устремлен был вперед,
и он чувствовал, что как будто вырос. Счастливый день! Когда он вырвался
из деревни и летел в город, он, в сущности, также радовался воле, но тогда
эта радость была птичья. Теперь же он сознательно понимал, чего ему
искать, куда итти и как жить на свете. И в первый раз в жизни он был
доволен собою, в первый раз также любил все, что видел, — солнце, небо,
город, людей.
-
Только под вечер он собрался к Фомичу... Почему к Фомичу? На этот
вопрос он едва ли мог бы ответить ясно. Видел этого человека он только
раз, знаком с ним вовсе не был и теперь, вероятно, потому собрался к нему,
что много слышал замечательного об этом человеке. Быть известным
в большом городе множеству черного люда — это много значит для простого
слесаря, каким был Фомич. Говоря о нем, рабочие делались серьезными и
знали его; знали его такие люди, которых он в глаза не видал; даже недавно
пришедшие на заработки через некоторое время уже слышали о нем. Точно
в таком же роде слышал о нем и Михайло и когда рассчитывался на кир-
пичных сараях, то как-то сразу решил: «пойду к Фомичу».
Найти его было легко. Через короткое время, сделав справки лишь
на одной фабрике, Михайло отыскал дом и квартиру Фомича. Было уже
темно, когда он вошел в двери. Свет ярко горевшей лампы его ослепил,
а четверо сидевших за столом и пивших чай одним своим видом так пора-
зили его, что он стал, как вкопанный, у порога. Он уже не сомневался,
что дал промах и попал в другую квартиру, к каким-то господам, а вовсе
не к слесарю Фомичу, но все-таки он спросил прерывающимся голосом:
—
Тут живет Алексей Фомич, слесарь?
—
Здесь! — ответил один из сидевших, не поднимаясь из-за стола...
Михайло взглянул на говорившего и признал Фомича — он самый.
Широкое, добродушное лицо, большие серые глаза, широкая улыбка, не схо-
дившая с его полных губ, маленький носик с пуговку—он! Но одет он был
так хорошо, что трудно было принять его за рабочего. Другие трое произвели
то же впечатление; перед самоваром сидела несомненно барыня, возле нее
сидел несомненно барин; только третий одет был в синюю блузу, грязную
и закапанную маслом, но он так свирепо смотрел, что Михайло сильно
струсил и боялся поднять глаза на этого, повидимому, чем-то разгневанного
человека. Самовар, мебель, стол, комната, - — все это было так чисто и
приятно, что совсем довершило чувство изумления Михаилы. —
«Вот тебе
раз!., а слесарь...»
—
подумал Михайло с быстротой молнии.
Но ему не было времени долго размышлять. Фомич спросил, что ему
надо. И он должен волей-неволей об'яснить цель своего прихода. Выслушав
желание его найти какое-нибудь место, Фомич пожал плечами и задумался.
В комнате воцарилась тишина, которую Михайло истолковал не в свою
пользу. Он сразу сделался опять дикий и угрюмо осматривал комнату.
Наконец, Фомич стал расспрашивать, какую ему надобно работу, что
он, откуда. Михайло рассказал, отрывисто и угрюмо, при чем нисколько
не смягчил своих диких выражений.
Слушая все это, Фомич и его товарищи улыбались. Фомич вспомнил
лицо Михайлы — гордого оборванца, спросил об его имени и предложил
ему сесть.
—
Отчего же нехорошо там? — спросил Фомич с улыбкой.
—
Срамота! — резко возразил Михайло и выразил на лице величайшее
презрение.
—
Хозяин, что ли, нехорош?
—
Нет, хозяин что же, как обыкновенно... А так вся жизнь — чистый
срам, свинская.
—
Грязная, ты хочешь сказать.
—
И грязная, и свинская, и подлая — все есть. Думаешь только о том,
как бы лечь спать, ходишь скот-скотом. В башке целый день ничего. Свин-
ство — больше ничего!
Сидящие переглянулись. По большей части рабочий жалуется на чисто
физические невзгоды: мало пищи, непосильная работа, нет времени выспаться,
плохое жалованье... но в словах Михайлы было что-то совсем другое.
—
Ты говоришь, в башке ничего? — спросил Фомич.
—
Да, ничего. Пустая башка цельный день. To-есть лень подумать,
почистить лицо. Встаешь утром — как бы поскорей обед пришел с тухлой
кашей. Пообедаешь — как бы поскорей под рогожку спать. "Прожил я там
эдак месяца три и сам на себя стал смотреть, как на скота, который, напри-
мер, не понимает. Такая лень на меня напала. Дай мне в ту пору кто-нибудь
по морде, я бы только почесался. Делай из меня что хочешь—ничего не скажу,
как дерево какое. Прожил там три месяца и — боже мой! чисто скот, даже
спокойно, все равно, как свинья залезет в теплую грязь, лежит и довольно
спокойно ей...
—
И ты ушел? — спросил удивленно Фомич.
—
Да, ушел.
Все смотрели на Михаилу и молчали. Опять воцарилась тишина, явив-
шаяся как следствие того впечатления, которое произвел Михайло своим
диким рассказом.
—
Кстати, скажи, пожалуйста, какое это там происшествие вышло
у вас в сараях? Не то кто-то хотел поджечь сараи, не то поджег уже... или
дом Пузырева подожгли... вообще не знаю хорошенько, что это за оказия?—
спросил Фомич.
у
—
Это Исай, — ответил Михайло и вдруг улыбнулся при одном этом
имени.
t
—
Одного Исая я там знавал. Фамилии у него нет настоящей, — пишут
его и Сизов, по названию деревни, и Петров... но он сам говорил, что у него
нет собственной фамилии, а только одна кличка — Исай... Этот самый — и
Фомич описал наружность товарища Михайлы.
і
—
Тот самый.
—
Что же это ему пришло в голову?
—
Да, знать, с пьяну или по глупости... Может быть, через меня и дело
все вышло.
—
Как через тебя! — воскликнули почти все сидящие.
—
Я обозвал его рабом. Он, должно быть, и рассердился и выдумал
такое умное дело.
—
За что же ты обозвал его так?
—
Кто же он? Раб! Из него что хочешь делай. Сам он ничего не может,
а что прикажут. Ей-богу, если бы ему приказали рубить головы, он рубил бы
по ком ни попало. Разве уж опосля увидит, как все это глупо... Всякого чело-
века, который посильнее, он страсть как боится. А своего у него ничего нет,
и заместо головы у него шишка какая-то неизвестно к чему торчит... А жела-
ния его такие, что, например, ведро пива или четверть водки — доволен. Я и
обозвал его рабом... Потом жалко стало...
—
Сильно он огорчился?
—
Кто его знает, а жалко стало... ведь не он один такой... Потому что
лень нападает сопротивляться свиному образу, лень смотреть за собой —
это и я хорошо попробовал сам на себе... Слава богу, что удрал.
—
Так все-таки что же... поджег Исай?
—
Нет, только водки надулся, а на другой день пошел прощения про-
сить у хозяина. Хозяин — ничего, простил... Да и всякий бы простил; жалко
такого дурака... В кутузке сидит.
Каждое слово Михайлы производило впечатление. Он и сам видел, что
на него обратили сильное внимание. Это придало ему бодрости и одушевления.
Но вдруг послышался незнакомый голос.
—
А позвольте спросить у вас, молодой человек, почему вы так даже
низко сравниваете простого рабочего человека?
Это говорил тот человек в блузе, страшных взглядов которого струсил
Михайло в первую минуту прихода.
Но теперь, пристальнее взглянув, Михайло заметил, что в этом странном
человеке есть что-то глубоко забавное.
—
Ну, пошел городить, — заметил презрительно другой господин.
—
Нет, мне таки интересно полюбопытствовать, почему молодой че-
ловек, который есть сам рабочий, вполне низко сравнивает своего брата,
бедного рабочего, а капиталиста хвалит, а?
—
Воронок, молчи, — сказал Фомич просто, и Воронок (так звали
человека в блузе) действительно замолчал, но долго еще поводил своими
страшными глазами, повидимому, довольный своими мудреными словами.
Это замешательство заняло всего одну минуту. Но откровенность Ми-
хайлы была уже спугнута. Все опять обратились к нему. Фомич предложил
еще неловкий вопрос, который окончательно заставил замкнуться Михайлу.
—
Ты сам придумал все эти мысли? — осведомился наивно Фомич.
Михайло удивленно посмотрел на всех, не понимая, о чем его спраши-
вают. Фомич и сам сию же минуту понял всю нелепость своего вопроса и
поправился.
—
Ты грамотен?
—
Нет, — тихо прошептал Михайло. Отчего-то ему вдруг стало стыдно.
Между тем, прежде ему никогда и в голову не приходила мысль о грамоте.
Но, разозлившись на себя за что-то, он угрюмо замолчал и уж крайне не-
охотно отвечал на вопросы.
Это, однако, не ослабило внимания к нему. Видимо, он всем понравился.
Дикость же, вместе с его темными глазами, подозрительно смотревшими, как
у плохо приученного зверька, только возбуждала любопытство к нему.
Фомичу же он, кажется, еще более понравился.
Это решило его судьбу...
—
Вот что, Михайло... не знаю, как тебя звать по батюшке... —
сказал
Фомич, — мне надо самому помощника. Я — постоянным слесарем в одном
большом доме, да заказы часто имею — иногда хоть разорвись. На службу
не пойти нельзя, а сделай не во-время заказ — обижаются заказчики... Помощ-
ника-то я давно искал и перепробовал разных людей, да все как-то попадали
не туда... Так вот, ежели желаешь, поступай ко мне. Пока я тебе положу
немного, а выучишься слесарить, тогда мы поровну... ну, да об этом еще
поговорим... У меня будешь обедать и жить.
Барыня, сидевшая спокойно перед самоваром, вдруг спохватилась, что
до сих пор не догадалась предложить юноше чаю; она живо налила стакан
и пригласила Михайлу присесть к столу. Михайло сконфузился и принялся
обжигать губы, язык, все нутро, что окончательно привело его в смущение,
показавшее, как много было в нем еще юношеской наивности, несмотря
на холодную злость, которою он, повидимому, жил до сих пор. Фомич,
сидевший рядом с ним, добродушно подкладывал ему белого хлеба и наклал,
кажется, фунта три, большую гору перед ним, полагая, что Михайло все это
с'ест мигом. Михайло опалил себе внутренности только одним стаканом и
больше ни к чему не прикоснулся.
С этой минуты он то и дело конфузился. В тот же вечер, когда гости
разошлись, Фомич предложил ему поместиться на ночь в мастерской, нахо-
дящейся в квартире; квартира была маленькая, из трех комнат и кухни.
В двух комнатах помещался Фомич с женой, а третья была мастерская. Поло-
вина ее была занята токарным станком, инструментами, поделками и кусками
стали, но другая половина его комнаты держалась чисто, нося на себе следы
чьей-то заботливой руки. Сюда и привел Фомич Михайлу, а затем пришла
и барыня (которая, к удивлению Михайлы, и была женой Фомича; она
принесла одеяло и подушку и сама приладила в одном углу комнаты
постель.
Оставшись один, Михайло почувствовал, что с ним совершается что-то
необычайное. Он был сам не свой, не знал, что ему и подумать о чужих
людях, которые в первый раз его видят и которые, однако, обошлись с ним
как с близким, родным, с товарищем. Со стороны всех попадавшихся ему
до этого дня людей он встречал злобу, глупость, подозрение и привык видеть
за подкладкой их поступков только грош, гривенник, целковый. Он облоко-
тился на станок и застыл в этой позе. Новое, незнакомое и непонятное для
него чувство симпатии таким могучим порывом налетело на него, что он
не выдержал и заплакал. Слезы катились по его щекам и капали на станок.
Когда Михайло заметил это, он стер мокрое пятно рукавом насухо и торо-
пливо лег в постель, потушив лампу.
В. Вересаев.
в сухом тумане.
Товаро-пассажирский поезд медленно полз по направлению к Москве.
Вечерело, было очень жарко и душно. В вагоне нашем царствовали сонная
скука и молчаливость; пассажиры —все больше из «серой» публики —
спали на скамейках и на пыльном заплеванном полу, либо вяло разговаривали,
куря махорку.
Сидевший против меня меднолитейщик из Москвы молча крутил
свою черную бородку и сумрачно смотрел в окно. Он ездил на побывку
к себе в деревню и теперь возвращался в Москву; в деревне ли у него было
что-нибудь неладно, по характеру ли он был такой, или действовала на него
погода, —• но все время он смотрел сурово и обиженно, как будто все мы
очень досадили ему чем-то.
Погода была странная. Сероватая муть покрывала небо, солнце светилось
сквозь нее бледным пятном; неясный горизонт терялся в густой серо-лиловой
мгле, и трудно было понять, что это там г— тучи, дым* или что другое. Проно-
сившиеся мимо поля, рощи, деревни, — все было окутано синеватой дымкой,
словно туманом; но какой туман мог держаться в этом сухом* раскаленном
воздухе, в котором мгновенно таял валивший из трубы пар. Ни одна травинка
не шевелилась, над полями стояла странная тишина. Что-то непонятное, за-
гадочное было во всей природе, это томило и раздражало*.
—
Вот погода удивительная!—сказал я. —
Должно быть, где-нибудь
леса горят.
—
Это, барин, не леса горят, — возразил плотный, приземистый плот-
ник-рязанец.
—
Это сухой туман.
—
Какой сухой туман?
—
К жаре. Жара, значит, туманною мглою идет по* земле; где прой-
дет, — все посушит на отделку.
—
У нас под Чернью три года назад такой туман на поля пал, — заго-
ворил бледный старик с болезненным лицом, в рваном, заплатанном зипуне.
—
В один день весь хлеб посох. Сыпется зерно, вязать начнет баба, — свясла
в труху рассыпаются; такая спешка пошла — косцу по три с полтиной в день
платили — только коси поскорей!
—
Что же такое туман этот? Пыль, что ли?
—
Зачем пыль? Нет, просто сказать, — сухой туман! — об'яснил
плотник.
Конечно, пылью это быть не могло. Но что же это?.. И
.начинало ка-
заться, что это; действительно, зной принял доступный глазу вид и зловещим
синим туманом стоит над сохнущими полями, высасывая из них последние
остатки влаги.
Старик вздохнул.
—
Подержится так еще денек-другой, — посохнет колос! Думали, пере-
дохнем. годок этот; больно по весне корешок хорош был; ан господь-батюшка
опять прогневался, немилость свою посылает. А уж то-то народ отощал! —
сказал он, помолчав.
—• Отощал, — подтвердил плотник.
—
И-и -и! Не роди мать на свет! Живут неведомо, как! Как только
зиму продержались! А про скотину и не говори. Солома у нас по весне три-
дцать копеек пуд была! Я уж сколько живу, а таких цен не видывал...
Он еще раз вздохнул, почесал себе под зипуном плечо и неподвижно, стал
смотреть в окно — на это странное, мутное и в то же время безоблачное небо.
Поезд пошел тише. Мимо промелькнули три расцепленных товарных вагона,
стрелочник, водокачка. Поезд подошел к станции, дрогнув, остановился и за-
мер, словно мгновенно погрузился в сон.
И .все кругом славно спало. Теперь, когда поезд не шумел, была еще
поразительнее мертвая тишина, царившая над землей. По лугам и пашням,
задернутым синеватою дымкою, молча бродили грачи, разинув клювы. Березы
и липы станционного' садика не шевелились ни листком. Изредка налетит вете-
рок, вяло закачает их пыльные ветви, — и сейчас же упадет, словно изне-
могши от жары. Помощник начальника станции, зевая, расхаживал по плат-
форме. У ограды, как изваяния, стояли два мужика-извозчика, поджидавшие
седоков; они смотрели на поезд, щурясь от солнца, и казалось, будто их заго-
релые лица застыли в неподвижной улыбке.
В вагон вошел стройный парень с картузом на затылке, в желто-корич-
невой бумазейной блузе, испачканной красками, — видимо, маляр. Он с бы-
строю улыбкой огляделся и громко спросил:
—
Местечко найдется, земляки?.. Ну, вот и ладно!—продолжал он,
увидев у окна пустую одиночную скамейку.
—Как раз для нас приготовлена!
Доедем как-нибудь!.. Недалеко ехать-то, — до Серпухова всего! — об'яснил
он неизвестно кому.
—В три часа, чай, доедем.
Маляр сунул под скамейку свой узел, сел, поправил на голове картуз и
сейчас же опять встал.
—
А то нетто водочки пойти выпить? — быстро спросил он не то себя,
не то окружающих.
—
Давно уж буфетчик дожидается, — отозвался кто-то из пассажи-
ров. —
Куда это, говорит, запропал малый?
—
То же и я говорю!.. Значит, работу кончил, расчет получил, —
можно и выпить. Как вы скажете?
—
А ты где работал-то?
-—
А вон за перелеском, графский дом красили. Ворошилов граф — из-
вестнейший. Сыну к свадьбе дом готовит... Наших там артель целая и сейчас
работает... Эй, эй, земляк! — Маляр тряхнул за плечо дремавшего мужика,
у 'Которого свалился с головы картуз.
-—
Чего шапку на пол кидаешь? Уговору
не было! — Он поднял картуз и бросил на колени протиравшему глаза му-
жику. — Ну что ж? Нужно пойти, царапнуть!
Он вышел — и сразу в вагоне опять стало тихо. Я сходил за кипятком,
заварил чай и пригласил к нему своих соседей— -старика, плотника и угрю-
мого литейщика из Москвы. Раздался третий звонок и вслед за ним кондук-
торский свисток. Паро-воз молчал. Маляр воротился и снова заполнил вагон
своим громким, веселым- говором, обращенным неизвестно к кому.
Кондуктор свистнул второй, третий раз. Паровоз помолчал еще некото-
рое время и потом вдруг хрипло и свирепо откликнулся. Маляр засмеялся.
—
Чего ругаешься? Разоспалась машина-то наша! «Отстань ты, гово-
рит, от меня, постылый чорт! Не тревожь!..»
Поезд все не двигался. Маляр с любопытством высунулся из окошка.
Кондуктор свистнул еще раз. Молчание. Где-то далеко раздался сердитый
крик: Наддай!»
—
Вот так так! Не может машина с места сдвинуться, кон-дуктора над-
дают... Пойдем, ребята, подсоблять! —стремительно обратился маляр к окру-
жающим.
Пассажиры высунулись из окон. Паровоз еще раз свистнул дико и
хрипло, словно с перепою, заворчал и вдруг сильно дернул вагоны. Поезд
тронулся.
Мы пили чай и вяло разговаривали, в тон вяло1 ползшему поезду и вяло
дремавшей природе. Маляр был уже на другом конце вагона и громко спорил
о чем-то с сельским священником с седенькой бородкой и в пыльной рясе.
Странно было слышать, среди царившей в вагоне скуки, этот веселый голос
неугомонного и, должно быть, очень счастливого маляра.
Я стал расспрашивать литейщика о его поездке в деревню. О -н сначала
отвечал неохотно, потом постепенно разговорился. Оказалось, у него дей-
ствительно были неприятности: год назад в деревне расхворалась старуха-
мать литейщика, и на помощь отцу ему пришлось отправить из Москвы свою
жену. Прошел год, мать все не поправлялась. Литейщик с'ездил в деревню на
побывку и убедился, что мать его вообще уж больше не работница.
—
Вот так, значит, и пойдет -дело, — раздраженно говорил литей-
щик. —
Жил себе в Москве—-благородно, чисто, все, как следует быть. А те-
перь— я в Москве живи, а семейство в деревне... Разве это порядок?
Старик в зипуне спросил:
!
—
Сын-то ты один у отца?
—
Один.
—
Ну, невозможно! — подтвердил старик. —
Где ж без бабы с хозяй-
ством управиться!
—
О том я и говорю. Старуха на печи лежит, не сходит; до лавки
дойдет—дыхание запирает. С нее не опросишь.
Он помолчал.
—
А только я на то ругаюсь, что привык я, — на преж-нее положение
переходить неохота. Какое я могу иметь удовольствие без жены? Ей о том
и забота, чтобы мужу прохладно было, — насчет ли харчей, насчет ли чего
другого. Слаіва богу, пять лет прожил человеком, на бога не жалился. А теперь
живи неведомо как. Веселое это дело — с квартирными хозяйками каните-
литься! Грязь, бестолочь, порядков никаких нет... Наша работа грязная, а хо-
зяйки квартирные раз в месяц стирают. Что же мне, три дюжины рубашек
держать? А жена на то не смотрит, время ли стирать, нет ли; видит, неак-
куратно муж ходит, и выстирает. Опять с едою: обедаешь в трактирах, в за-
кусочных,—какая же приятность, скажите пожалуйста?
—
Вам, значит, теперь так всегда и придется жить? — спросил я.
—
Так и живи.
—
Да, тяжело.
—
То-то вот я и говорю... А потом и то сказать: раз в год приедешь
домой на недельку, а ведь тоже, извините... Знаете, живой человек! Тяжело
без этого самого... Для чего же я в закон вступал?.. А как вы скажете, —
могу я знать, что там без меня жена делает, как обходится? Баба она молодая,
горячая.
—
И ничего ей не окажешь, — вздохнул старик. —
Бабе тоже без этого
нужда. Горла не перервешь за такое дело. Она скажет: а ты зачем со мной
не живешь?
—• И верно.
—
То ли уж не верно! — Старик снова- вздохнул. —
Бабыунасвде-
ревнях живут все равно, что сироты! Год за годом хитрее идет, жить стано-
вится труднее; земли мало, а народу размножилось, всякий хочет жить, как
пригородный, хочет жить легко. Нынче машина увозит его на четыре года, и
не увидишь сколько времени. Сам-то он там нешто тихо живет? Эх, бра-ат!
—
И многие у вас в -Москве так живут? — спросил я литейщика.—
В Петербурге заводские живут больше с семьями.
—
Нет, у нас в Москве этого мало- .
Все б-о-лыпе артелями- живут, а се-
мейство в деревне... —
Он помолчал. —
У меня товарищ был, мы с ним в па-ре
вместе крупную работу работали-.
Горяч был на работу, — не угоняешься! Все
в деревню посылал, дай, го-во-рит, о-правлю хозяйство, сяду на землю, своим
домом- заживу. Приезжает земляк из деревни. «Дядя Федор, а ведь баба-то
твоя гуляет!..» Не поверил: сплетки, говорит, — мало ли что наплетут! Дру-
гие приехали, — все то же рассказывают: связалась с писарем... Ну, поехал,
посмотрел, — верно! Махнул рукою, воротился, опять у нас работает. О доме
думать перестал, стал водочкой займаться: пропадай все -пропадом... Вот-те и
оправляй хозяйство! —с усмешкой прибавил он.
Вошедший на последней станции маляр уже с десять минут стоял около
нас, облокотившись о спинку скамейки, и внимательно слушал. Вдруг, с своею
быстрою усмешкою, он гро-м-ко сказал:
—
Я так рассуждаю, -что вы неправильно об этом говорите!
—
Это насчет чего? — спросил литейщик.
—
Вообще насчет ваших разговоров. Кто же виноват в том деле, по-
звольте опросить? Говорите: в хозяйстве жена нужна. В хозяйстве? А мне не
нужна?
Близкие пассажиры, привлеченные громким голосом* маляра, один за
другим стали подходить к нашей скамейке. Он продолжал:
—
Значит, поженился, а там — «прощай, Саша, прощай, милая!» Ну
нет, извините, пожалуйста!.. Я и сам женатый, а только поженился* — и обя-
зательно взял жену с собою в Серпухов. Позвольте вам сказать: она мне
самому надобна 1
—
Неспособно мне так-то поступать, — неохотно ответил литейщик.
Маляр удивился.
—
Как тебе неспособно? Почему такое? «Неспособно!» Почему неспо-
собно? — Он с вопросительно-недоумевающею усмешкою оглядел слушате-
лей. —
Не-ет! Поженили меня этак в деревне, —весело продолжал он: — отец
мне и говорит: «Ну, Вася, ты, говорит, поезжай теперь к своему делу, а жена
пущай у нас останется». Ну нет-с, извините, папаша... «Как?! Что?!. Ах, ты,
такой-сякой! Я тебя для чего женил? Чтоб бабу в хозяйстве иметь!» Бабу
в хозяйстве? Эко дело какое! Как же это мы раньше не столковались? Ну, а я
для того женился, чтобы жену иметь!
Кругом засмеялись.
Какой-то длинный парень в серой поддевке быстро поправил себе на
голове картуз и стал энергично чесать в затылке.
—
Если здраво рассуждать, в здравом рассудке...
—
начал он, широко
раскрыв глаза, и замолчал, справляясь с поразившими его словами маляра.
Маляр быстро обратился к нему.
—
Вы думаете, я неправильно говорю?
—
Нет, я говорю... Если здраво рассуждать...
И парень снова замолчал, раскрывая рот, чтобы что-то сказать, и ни-
чего не говоря.
Мой сосед-плотник, все время молча слушавший наши разговоры, теперь
вдруг заволновался, для чего-то поднялся, опять сел...
—
Погоди, я знаю, что тебе на это сказать! — обратился он к маляру,
возбужденно водя руками в воздухе.
—
Вот что. Поженили тебя, — почему?
Баба нужна, бабы нет в доме... Хорошо —погоди!.. Бабы нет. Что же ты без
бабы делать будешь в хозяйстве? Как управишься? Как без бабы управишься?
Голубчик, голу-убчик!... Без бабы хозяйству зарез!.. Вот что я тебе сказал
против этого! — удовлетворенно произнес он, перестав махать руками*.
—
В хозяйстве? — иронически передразнил маляр, но его прервали, и
все сразу заговорили.
—
В город жену свез! — резко сказал широкоплечий извозчик. —
Так
ты, может, граф, получаешь тыщи? Сказал слово! Как жить-то будешь в го-
роде с семейством, подумай ты ,в своей башке!
—
Понятное дело, где прожить, — отозвался из толпы ламповщик с при-
городного завода.—Восемь рублей мне жалованья идет, — обратился он ко
мне: — где же тут с семейством проживешь, рассудите сами. Дай бог на подать
скопить, и то слава те, господи! Вот на мне кафтан, а под кафтаном, может,
нет .ничего!
Маляр решительно отрезал:
—
Не можешь в городе жить? Не лезь не в свое место! В деревню сту-
пай, хозяйствуй!
—
Ас чего хозяйствовать будешь, дурья ты голова, козырь! —вос-
кликнул извозчик.
—
Нас вот пять братов, а надел на полторы души. По
избе построит каждый, — и пахать нечего. Полоска—сюда отвалил, туда
отвалил, и нет ничего... «Хозяйствуй!»... И рад бы хозяйствовать!.. Велика
сладость век в чужих людях жить!
—
Не проживешь нынче с хозяйства, нет! — сказал мой сосед-старик.
—
Есть податели со стороны. —
ну, обернешься как-никак; а без подателей —
не управишься, где там!
—
«Хозя-айствуй!» — еще раз сердито повторил извозчик. —Тьфу!
Глупые теш слова!..
Он махнул рукою и отошел. Возражения продолжали сыпаться одно за
другим. Маляр был разбит по всем пунктам; он не сдавался, но для всех уже
было ясно, что перед ними просто чрезвычайно легкомысленный человек, ко-
торый говорит, сам не знает что.
Разговор разбился на отдельные группы, постепенно захватывая все
больше пассажиров. По всем концам вагона оживленно и взволнованно обсу-
ждалась и опровергалась еретическая мысль, высказанная забубённым ма-
ляром.
Поезд, гремя и колыхаясь; мчался вперед. Тусклое, кроваво -красное
солнце медленно опускалось в грязно-желтую мглу запада. Все та же туманная
дымка теперь еще гуще окутывала поля, и все так же странно и непонятно
глядела природа. На душе у меня было смутно.
Да, маляр судил легкомысленно, — это было ему доказано самыми не-
опровержимыми доводами, на которые возражать было нечего. Хозяйствовать
в деревне! Но уж один грозный сухой туман, стлавшийся по полям, давал на
это такой выразительный ответ, что становилось жутко. А предложение все
порвать и жить в городе звучало прямо насмешкою над многими из тех, к кому
было обращено. И тем не менее... тем не менее еретическая мысль маляра
заключалась, ведь, не в чем ином, как в том, — что человек
женится
для того, чтобы иметь
жену! И сумел же он так искусно по-
ставить вопрос! Недаром все возражавшие, пред'являя свои неопровержимые
доводы, в то же время так сердились и раздражались: маляр был легкомыслен,
рубил с плеча, но — как хотите, а человеку полагается жениться именно для
того, чтобы иметь жену...
В Серпухове с поезда сошел маляр, сошли плотники и мой соСед-старик.
Мы остались с литейщиком. В вагон набились новые пассажиры. Поезд пошел
дальше. Я спросил литейщика:
—
Ну, а отдохнули вы, по крайней мере, в деревне?
—
В деревне-то?.. Как сказать? Для нашего брага в деревне отдых
плохой. Скука! Прожил две недели и не чаял, когда уеду. Ведь тоже, знаете,
привычка требуется. Еду, скажем, взять; деревенская еда известная, — тюря
да лук; народ не балованный. А с отвычки этак поживешь, — живот подводит.
Мне что из того, что говядина у меня по двору гуляет, мне ее в чашке надо;
а тут — нет. Говядину холь, а ешь редьку.
—
Вы-то, я вижу, навряд ли когда захотите перебраться в деревню!
—• Где уж там! — он махнул рукою. —
Я и от работы деревенской от-
вык. Недавно вот покосил день на барском лугу, — мы его помещику миром
убираем за выгон, — так все руки отмахал, по сегодня болят. Да и то ска-
зать, — чем жить будешь в деревне? Ведь в нынешнее время, знаете, не кормит
она, деревня. Наделы у нас малые; летом отработался, а зимою заколачивай
избу да иди, куда хочешь, работы искать; на месте вот как платят: в лесу
колоть-пилить
—
двадцать пять копеек, с лошадью — шестьдесят. А одного
оброку, если на правленские считать, на старосту, на училище, — двадцать
пять рублей заплати за две души. Откуда возьмешь?
—
Так ведь живут же у вас все-таки землею?
—
Где же живут? Без подателей не проживут: сыновья подают со сто-
роны. А если один мужик в доме, то на зиму уходит на место, только баба
остается. Вы извольте сами рассудить: с чего жить? Сена — дай бог, чтоб на
свою скотину хватило, овес — две четверти с двумя мерками отдай в обще-
ственную магазею, остальное своей же лошади скормишь; хлеба — хорошо,
как до Филиппова дня самим хватит... А подати, а одеться? Керосин, спички,
чай, сахар, мелочь всякая? Как крепко ни живи, а без них не обойдешься.
Вот и рассудите, как же тут прожить?
—
Что же вы будете делать, когда ваши старики умрут?
1
—
Тогда без работника не обойдешься; придется работника брать
на лето.
Л
Начиналось что-то непонятное, раздражающее и давящее своею несо-
образностью.
—
Да какая же вам выгода нанимать работника? Что вы имеете от
земли? Что она пять месяцев в году дает хлеб вашей семье?.. Вы вот в месяц
зарабатывает за пятьдесят рублей, — сколько одних этих денег вы в землю
всадите. Сами же вы жалуетесь, что вам без семейства скучно жить. Отчего
вам его не взять к себе? Слава богу, на пятьдесят-то рублей можно прожить
в городе с семейством.
—
А за землей кто будет ходить?
—
Кто! Ну, в аренду можно ее сдать.
—
Как же это сдать в аренду? В аренду сдать — все хозяйство по-
решишь.
—
Да на что оно вам, хозяйство?
Литейщик с недоумением посмотрел на меня.
—
Вы этого, господин, не понимаете, — медленно и поучающе произнес
он, словно говоря с малым ребенком.— Как на что? — Чуть что коснись,—
скажем, работы нет, скажем, заболел, стар стал, — куда денешься? На улице
помирать? А тут все-таки свой угол; сыт не будешь, так хотя с голоду -не
помрешь.
Я замолчал. Литейщик тоже молчал. Потом- заго-ворил о-пятъ:
—
Наша- работа вредная. Медь на грудь садится, все в чахотке .помирает
народ; до сорока лет мало кто доживет здоровым. Куда тогда пойдешь?
В деревню — - больше некуда.
—
Невеселая ваша жизнь будет в деревне.
—
С одной тоски помрешь.
Он задумчиво поглядел в окно.
На м-глистом горизонте, над лесом, алели мутно-пурпуровые пятна. По-
прежнему было душно и тихо. По склонам лощин лепились убогие де-
ревеньки, в избах кое-где засветились огни; окутанные загадочною сухою
мглою, проносились мимо нас эти деревеньки, — такие тихие, смиренные
и жалкие...
Ответ моего собеседника не был для меня новостью; уже много-много
раз приходилось мне слышать гот же до стереотипности тожественный ответ:
«Как порвешь? Чуть что коснись — заболел, стар стал или что, — куда де-
нешься?».
"1
Что и говорить, это ли не основательная причина! Когда человек в конец
измотается на работе, когда, бессильный и больной, с из'еденными чахоткою
легкими, он будет выброшен на мостовую, как негодная -ветошка, — что
тогда?
Тогда себя, мой гордый б ат,
Голодной смертью умори ты...
Лучше уж медленная агония в деревне. Но ведь все-таки же это не
больше, как агония! А право на эту агонию приходится покупать ценою ломки
и калечения всей жизни...
В. Короленко.
ПАВЛОВСКИЕ КУСТАРИ »).
—
Вышел Молотков, сказывают, вышел! — сказал кто-то, пробегая
мимо, и кучка кустарей метнулась за ним. В то же время, в другой стороне
улицы показался фонарь, и за ним, все увеличиваясь и прихватывая за собой
встречных, потянулся целый х-вост народа.
Фонарь остановился у широкой сводчатой двери подвала. Загремели
болты, открылась какая-то темная нора. Скупщик прошел туда, опустил при-
лавок, перегородивший широкий вход, поставил на него фонарь и уселся,
<) Отрывж из «Павловских очерков».
освещенный огнем на фоне этой пещеры. Толпа тотчас же плотно сомкнулась
за ним, теснясь и чуть не влезая друг на друга.
Это значит, что «богачи» засветиTM огни, и началась настоящая
скупка.
Обстановка скупки придумана как бы нарочно для того, чтобы во всяком
стороннем человеке вызвать жуткое чувство. Темная нора, трепетный огонек
сального огарка в. фонаре, освещающий фигуру за прилавком, и напряженные
лица кустарей, напирающих с улицы. Скупщик одет в теплой шубе, кустари
дрожат от пронизывающего ветра. Он сдержан, холоден, спокоен, — они взвол-
нованы. Он развертывает образцы и равнодушно отодвигает одни, назначает
цену за другие. Соответственно с этим на физиономиях мастеров сменяются
выражения: надежды у тех, кто подходит,—страха у тех, чьи образцы в руках
скупщика. —
вражды на лицах отходящих...
—
«Вот паук, раскинувший свою
сеть у входа в пещеру», — невольно приходит в голову при виде этого чело-
века, сидящего у фонаря за прилавком* в середине загороженного входа.
Но, с другой стороны, если бы скупщик не засветил сегодня своего огня,
многие кустари впали бы в уныние. Если бы не вышло их трое или* четверо,
уныние достигло бы значительных размеров. Если* бы <не явился ни один, все
Павлово принуждено было бы голодать целую неделю и, пожалуй, прекратить
работу за недостатком материала.
Итак, выходя, он оказывает этой толпе благодеяние. Он скупит эти
замки и ножи, а отсюда, из его подвала, они разойдутся по всему белому свету,
попадут в Турцию и в Персию, и на далекие недоступные рынки неведомых
стран Средней Азии.
Он здесь не один. Рядом, вдоль улицы и* в переулках, горят такие же
огни, идут те же разговоры. Он знает, что все его соседи будут сбивать цену
до той степени, до какой только масса будет подаваться. И он должен не
отставать от соседей, иначе его товар выйдет дороже, и Москва возьмет
у других.
И вот он окидывает толпу острым, проницательным взглядом. Он ее давно
изучил; он видит, как люди жмутся, точно испуганные бараны, и думает, что
«ноньче народ станет уступать до последнего». Это его не радует и не пе-
чалит, он просто принимает это к сведению.
—
Рука*, что ли, Иван Иваныч? — и кустарь кидает образцы на
прилавок.
Скупщик медленно разворачивает и равнодушно отодвигает товар.
—
Не рука.
Может быть, он и мог бы взять этот товар, но ему нужно укрепить
свое положение и расшатать положение другой стороны. Для него отодвинутые
образцы—несколько гривенников барыша, для кустаря, работавшего их целую
неделю, это новая неделя сравнительной обеспеченности или голода. Кустарь
схватывает образцы и судорожно выбивается из толпы, чтобы бежать к другому
огню, а в оставшейся толпе этот эпизод посеял некоторую долю неуверен-
ности и уныния.
—
Рука, что ли? — спрашивает следующий.
Крестьянин и рабоний. Ч. II.
—
Почем отдашь?
—
По прежнему, Иван Иваныч, как всегда.
—
Без полтины.
—
Много дороже слышали...
—
Надо было отдавать.
И он опять завертывает образцы и отодвигает их, обращаясь к сле-
дующему.
Это он пробует, до какой степени- народ подается. Через некоторое
время, после нескольких уступок, после того, как кустари обежали другие
огни, он уже отлично знает положение сегодняшнего рынка.
Вот перед ним старик, деревенский кустарь, с которым: он ведет дело
давно и с которым пускается иногда в -приятельские разговоры.
—
Не сойдутся опять образцы у тебя с товаром-.
Личка у вас плоха, —
говорит он.
—
Личка у нас ноне, Иван Иваныч, первый сорт. Ноне мы рабочих на-
жали несколько. Забудуть спать-то.
—
Почем?
—
По шести гривен.
—
Уступай, Потапыч, уступай.
—
Уступлено, Иван Иваныч, сами знаете, по восьми брали.
—
Знаю, что по восьми. Да еще уступить надо. Ноне, сам видишь,
до слез уступает народ.
Уступают до слез! Скупщику не нужны эти слезы. Зачем они ем-у?
В общем, человек, все-таки, человек, и слеза народа иному скупщику, может
быть, даже неприятна. Но он ее выжмет. Ему нужна уверенность, что дальше
уже не идет уступчивость, что больше не выжмет ни он, ни его сосед, что
предел уступчивости народа достигнут для данного рынка. Конкуренция —
пресс... Кустарь—материал, лежащий под прессом, скупщик—винт, которым
пресс нажимается. Мне самому пришлось видеть, как во время приемки2),
которая следует за скупкой, торговец взял в руки связку образцов, оглядел
их, посмотрел записанную цену и швырнул с досадой -в общую кучу.
—
Еще упала цена! Все уступают, да уступают. Этот замок полгода
назад шел по рублю, ноне вон по шести гривен валят. Из-за чего работают
только, дьяволы, — за такую цену отдавать!
—
Разве это вам невыгодно? — спросил я, удивленный этою досадой
на дешевизну покупки.
Оказалось, что в данном случае, действительно, ему было невыгодно: на
прежних базарах он запасся большим количеством товара, и если бы цена под-
нялась, он продал бы дешевый товар дороже. Теперь цена -еще упала, и ему
придется, наоборот, дорогой товар пускать по более дешевой -цене. Но он,
') Личить—значит обтачивать поверхность ножей на камне, перед пошровкой.
2) На скупке
принимаются от кустаря образцы, к которым привешивается
ярлычок с обозначением условленной цены. Во время приемки кустарь доставляет
условленное количество самого товара.
конечно, жмет на скупке так, как всегда; необходимо дожать до последней
возможности.
К огню подходит молодой масФер и молча, угрюмо кидает товар на
прилавок. Он, видимо, уже обегал другие огни, слышал цены, но из него
скупщический пресс выжимает не слезу, а угрюмое ожесточение. Скупщик
окидывает его проницательным взглядом и с особенным вниманием присматри-
вается к образцам. Мастер с оттенком презрения наблюдает эту процедуру.
Он знает, что образцы у него безукоризненны, что скупщику это известно,
что именно потому-то он и не может отдать товар так дешево, как отдают
другие. Каждое продолжительное понижение цены понижает также общее ка-
чество товара; форма остается та же, -то вес и работа — другие. Он — артист
своего дела, гордый своим искусствам, один из тех, которые до последней
возможности не идут -на компромиссы...
—
Почем?..
—
Знаете сами, почем брали.
—
Теперь дешевле.
—
А как?
—
Полтина.
Мастер сам- берет образцы с прилавка, не дожидаясь, пока их завернет
скупщик.
—
За полтину этот товарь отдавать — солому надо есть. Не научились
еще дети у нас.
.
—
Научатся, — говорит скупщик хладнокровно.
Много, конечно, нужно упражняться в жестоком деле, чтобы так спо-
койно кинуть ближнему такое слово. Но в этой железной торговле выраба-
тываются и железные сердца, не знающие жалости.
Мне пришлось однажды зайти в дом кустаря. Он сидел больной на своей
постели, встретив меня каким-то лихорадочно-беспокойным взглядом. Раз-
говаривая, он все посматривал в окна и на двери.
—
Вы о чем-то беспокоитесь? — спросил я.
—
Беспокоюсь, верно-.
Баба у меня с образцами послана. Болен сам.
Это в нашем деле, господин, беда большая, что бабу послать к торговцу...
Запугивают их... Ну, вот идет, кажись, погоди-ка ...
В избу вошла молодая жен-щина, села в изнеможении на лавку и как-то
виновато опустила руки на колени.
—
Почем? — спросил мужик угрюмо.
—
По шести.
—
Так -и знал. Это, господин, пятаком дешевле самой низкой цёньг
Говорил ведь я цену тебе?
—
Не берет. Ни почем, говорит, завтра этот товар не возьмут, в по-
следнее и брали.
И вдруг, как-то встряхнувшись и вытирая рукавами слезы, молодая жен-
щина заговорила с истерическою торопливостью:
—
Да еще дает пять с полтиной и смеется: «Бери, грабь, загребай
с меня деньга лопатой». —
«Полно, говорю вам, над беднотой над нашей сме-
яться, Василь Василия! Какая это цена!» —«Да ведь отдают!» — «От нужды
отдают, мол. Плачут, да отдают». — «Какая, говорит, ваша нужда: в своих
домах живете, в калошах ходите, по праздникам' белый хлеб покупаете. Вот
будет нужда, как в прочих местах уже дошел народ: по пяти семей в одну
избу натолкаетесь, на десять человек одна шуба, а о пшеничном хлебе и
думать забудете».
Женщина посмотрела на меня и на мужа обезумевшими, испуганными
глазами.
—
Этому вот милостивому государю кошку дохлую на прилавок бро-
сили, — сказал Аверьян, останавливая меня невдалеке от одного' огня.
Милостивый государь, которому кустари выразили таким оригинальным
образом свое 'внимание, сидел за своим1 прилавком, сохраняя выражение такого
достоинства в лице, как будто ему никто и никогда не бросал на прилавок
дохлых кошек. Только' когда к огню подходили кустари, которых здесь было
меньше, чем у других, и которые, отходя, ругались бесцеремоннее, в его
лице и фигуре проявлялась неожиданно какая-то чисто-ноздревская подвиж-
ность, беспокойная и как будто даже злая.
—
Горшок еще с кашей на ворота' повесили на-днях, — прибавил из тем-
ноты какой-то кустарь к сообщению Аверьяна...
—
Ну-у?!
В восклицаниях Аверьяна слышался восторг.
—
Ах, ты, братец мой. Да кто ж это ему, а?
—
Да уж кто ни сделал, а сделали, — политично ответил кустарь, при-
двигаясь к нам и отчасти опасливо, отчасти с любопытством посматривая на
меня.
—
Приезжие будете?
—
Приезжий.
—
Торгуете?
—
Не торгует он, посмотреть наши порядки приехал, — перебил
Аверьян. —
А ты, дядя, не опасайся, говори, ничего.
—
Нам что опасаться, наше дело сторона, а что действительно, горшок
на воротах висел, сами видели.
—
С пшеном, что ли?
—
Ну, ну!
—
Молодцы ребята! Ну, а он, что же?
—
Леший его знает. Чай, велел, снять, да ссыпал куда. Потом нашему
же брату опять на треть отвалит...
Аверьян отвел меня несколько в сторону-, кустарь, сообщивший о горшке,
последовал за нами, а через минуту к нашей группе присоединилось еще не-
сколько человек, освободившихся уже от образцов.
—
Этак-то лучше, все-таки,— сказал Аверьян, оглядываясь на отдалив-
шийся теперь огонек.
—
Как бы не услыхал. Ему, -ведь, я ноне образцы-то
отдал.
—
Видите ли, господин, -— обратился он ко мне. —
Теперь вот скупка у
нас идет, а вот рассветет начисто, начнется приемка. Понесем товар по
образцам сдавать, да деньги получать по расчету, сколько кому причтется.
Тут вот главная-то у нас путаница и пойдет.
—
Товар, что ли, бракуют?
—
Бывает и это. А главное в расчете. Променом вот донимают, да
третьей частью. Сейчас, например, разделывает он десять человек, приходится
на всех сто рублей, да еще там сколько-нибудь. Вот вынимает он сотельный
монет и дает одному, — разделывайтесь, ребята, как знаете.
—
Это мы так говорим, что связал он нас сотельной бумажкой,—
пояснил другой кустарь из кучки. —
Теперь, чтобы развязаться, надо ему
по две или* хоть по 1Уз копейки отдать промену. Редкий у нас скупщик
без промену торгует.
Я вспомнил, что уже читал об этом своеобразном явлении павловского
рынка. Исследователи остановились перед ним в недоумении. Действительно,
при условии конкуренции между скупщиками, легко сообразить, что в общем,
все-таки, масса сделает соответствующую поправку и скупщику, торгующему
с променом, станет продавать дороже, чем* тому, кто платит без вычета.
Эти соображения я высказал и кустарям*.
—* Так-то оно так, — сказал один. —
Да ведь, поди-ка каждый раз
усчитай, сколько оно там придется. Иной, конечно, смекнет, а другой и
ошибется.
•'
—
Мутную воду любят, вот что. Намутит, напутляет, да тут счистит
пятак, там утянет другой,—глядишь, уж гривенник. Конечно, не разживется
этим, а нашему брату иной раз просто слезы с ними, с путаниками. А то еще
так делают, вон как Кульков. Тот уж и рассчитывает с променом. «Вот, мол,
вам, ребята, следует столько-то, да промену с вас столько-то. Получите». Да
опять ту же сотельную в руки. Как, мол, так: и промен взял, и не меняешь,
такой-сякой?—«Да ведь, вы уж с меня, дескать, за промен подороже и берете,
а денег помельче у меня нет. Ступайте вот к Рогожкдау, он вас развяжет».
А Рогожин — сродник и благолриятель, опять с нас за развязку по 1% ко-
пеечки утянет. Вот этаким способом с нашего брата * по две шкуры
и спускают.
—
Ну, а горшок с пшеном тут при чем же?
—
А это опять статья особая. Горшок обозначает другое. Это, госпо-
дин, насчет третьей части. У которых скупщиков свои лавки есть,
те при расчете третью часть товаром выдают, чаем там, железом, а Портян-
кин вот пшеном стал выдавать. Цену-то ставят дорогую, а товар дают самый
последний.
—
И опять это вам легко сообразить и прикинуть в цене.
—
Ну, не-ет. Тут уж ему приволье, тут его не уследишь, все одно
щуку в мутной-то водице. Сейчас он*, например, чаем выдает. Подите-ка,
поспросите по Павлову, какой чаек, дескать, пьют кустари, *в какую цену?
Все по два рубля, не м*енее-с. И сами скупщики тоже говорят: господами*
живете. Какая бедность! Чаем все двухрублевым балуетесь! А вы, господин,
этого чаю и в рот, пожалуй, не возьмете, вот он нам какой двух-то-рублевый
достается. Ну, конечно, надоест. Смекнем тоже, качнем и сами цену вы-
правлять на замках. Глядь, уж у него чаю и нет. «Пшено, говорит, ребята,
у меня о-отличное». Ну, отличное не отличное, а все по- началу ничего, есть
можно. А как во вкус-то народ войдет, он закупит гнили, да в два-три
понедельника в народ и пустит. Смотришь, хворают у нас ребятишки от
каши, а наконец того замечаем, уж и куры от этого пшена дохнут. Вот за
это за самое и повесили Портянкину горшок.
—
Для сраму, значит, — добродушно пояснил- из кучки какой-то ста-
ричок с серенькою бородкой и -моргающими глазами.
—
Вы, Аверьян Иваныч, ему, кажись, сегодня образцы сдали?
—
Да, ведь, вы вот не взяли, — шутливо отвечал Аверьян, — кому же
мне и сдавать-то?
—
Да это что, — как-то грустно сказал серенький старичок, моргая
глазами и улыбаясь. —
Промен там или треть — это редкий скупщик не
пользуется. А ведь, Портянкин этот прямо от'емом еще берет.
—
Верно, от'емом тоже... бывает...
—
Как еще?
—
Что вы все как да как? — резко сказал Аверьян, несколько сконфу-
женный раньше моим замечанием. —
Да просто, как вот на большой дороге,—
отнял, да и все тут.
—
Закинет товар в кучу, — пояснил старик, — навалит еще на него;
потом, при расчете, полтину или семь гривен и не додаст. Как так? Тут, мол,
не все. —
Знаю, говорит, что не все, да я тебя, подлеца, сколько- ждал, ты все
не шел, так ют штраф с тебя. А ежели, говорит, несогласен, — пошел, бери
свой товар, да убирайся, места у меня не простаивай». А где его разыщешь,
в куче? Да и скупка кончилась. Заплачешь, или обругаешься, да с тем и
уйдешь.
—
А то еще на гуся берет, —-
опять после короткого- молчания вы-
ступил старичок, и на этот -раз на его сером лице появилось что-то вроде
улыбки.
^
—
Ну-ну, — подтвердили другие.
—
На гуся, ей-богу, с меня взял. С зятем я был, с Тимошей. Рассчитал
нас, ан рубля с четвертаком нет. Неверно, -мол, Семен Семеныч. А у нас,
господин, обычай такой, что к празднику, к Вознесеньеву дню, гусей мы
покупаем. Так вот и говорит: гуся я ноне купил, да гусь-то, говорит, под-
жарай.
Все, даже и сам старик, засмеялись.
—
Поджарай, говорит, а цену я дал за него хорошую, полтора рубля.
Так вот на гуся с вас теперича я, говорит, и отчисляю. Четвертак еще вам
уступки делаю, на бедность на вашу.
—
Это уже не со всяким сделает, — сказал, протискиваясь плечом,
низкорослый широкоплечий парень, с черными- сверкающими глазами.
—
На меня бы, я б ему, подлецу, в том случае такого гуся показал... С дураками,
господин, этак-то -можно.
—
Чего с дураками! — заговорило несколько голосов зараз. —
Сам
больно умен. Небось, ребятишки пить-есть запросят, да как на неделю-то
муки да соли не хватает, тут и сам- накланяешься.
—
Не увидит от меня этого, — сказал парень, поводя своими глази-
щами, в которых горело выражение страшной ненависти.
—
А ты послушай, паренек, не знаю, как тебя звать. Я тебе скажу
присказку, — сказал Аверьян. —
Отхватил как-то котище ухо у крысы одной.
Села крыса- в норе и плачется. Как тут подбегает к ней мышонок, да давай
над ней смеяться. «Эка, говорит, дд-у-ура! Ухо коту отдала. Да на меня бы,
да я бы!»... Откуда -ни возьмись на те слова котище — тут как тут. Сцапал
мышонка в рот целиком и держит в зубах, только хвостик мотается. «Что же
ты, миляга? — говорит тут крыса из норы. —
Ты бы, чудачок, не дался. Чать,
сам-от дороже уха. Ухо мое — куда ни шло®...
Все засмеялись. Парень плюнул и быстро пошел прочь. Старичок как-то
передернул плечами и прибавил со вздохом:
—
Да, по нашему так-то: что смирнее, то и лучше.
—
Как не лучше, известно, лучше,—подхватил Аверьян. —Шел как-то
один по дороге. И попадись тут навстречу грабитель: «Давай, говорит,
пальто». А мужичок этакой же смиренной был. Снял пальто и говорит:
«Спасибо, мол, мне же и легче».—«Вот оно что,—говорит охальник.— А я
и не знал, че-м тебе угодить. Так скидай же, милый человек, вдобавок и
жилетку»... Однако, господин, пожалуй, и скупке скоро конец, а архиерея
вы нашего еще не видали. Пойдем-ка-те, я вам самого главного по-кажу.
—
Это к Дужкину, значит, — сказал кто-то в кучке кустарей, рас-
ступаясь, чтобы дать нам дорогу. —
Что же, посмотрите, господин. Ноне он
сам сидит.
Мы с Аверьяном пошли вниз по улице. Сверху, над крышами, немного
светлело, ветер становился пронзительнее, и изморозь крутилась порывистее
и сильнее.
—
Однако, господин, прощенья просим. Мы тут с вами болтаем, а люди
уже и товар сдают. Вон уж и Портянкин огонь погасил. Итти надо.
—
Рано еще, гляди, — сказал смиренный человек.
—
Чай еще станут
по домам пить...
—
Чего -рано тебе!—раздался вдруг около нас бойкий женский голос. —
Чего тебе рано, тебе все рано!.. Только вот стоять на улице, да зубы скалить.
Ну, н-у, пошевеливайся! Сдал, что ли, образцы-то?
И, как это обыкновенно бывает, слишком бойкая жена слишком смирен-
ного мужа, протиснувшись плечом между мной и Аверьяном, схватила смирен-
ного человека за рукав и стала теребить из стороны в сторону.
—
Сдал, что ли, образцы-то? Говори, говори, мучитель!..
—
Сдал.
—• Весь товар продал?
—
Весь!
»
—
Ну, слава-те, господи, владычица небесная!.. Что ж ты торчишь,
коли так? Ступай, ступай... К Овсяккину еще надо...
—
Да ты того, Аннушка, — роптал смиренный человек, слегка упи-
раясь. —
Еще настоишься на холоду, что ты, бог с тобой, торопишься?
Аверьян; с большим вниманием наблюдавший эту сцену, толкнул меня
локтем.
—
Эй, тетка!—крикнул он вслед расходившейся бабенке.— Много ли
под тебя Овсянкин дает, под этакую бойкую?
—
Да уж много ли, нет ли, — обернулась баба, скаля белые зубы и не
выпуская в то же время из рук покорного мужа, — а все мы чего-нибудь
стоим, бабы-те. Вас вот, небось, пьяниц, и в залог не принимают.
—
Закладывать бабу по,вел, — мотнул головой Аверьян в сторону уда-
лявшейся пары.
і
И он об'яшил мне, в чем дело.
В один из прошлых базаров смиренному человеку не удалось сдать свой
товар за сколько-нибудь подходящую цену. На этот случай в Павлове есть
два-три благодетеля, готовые выручить человека за скромное вознаграждение
в размере 2 % в неделю. Один из таких благодетелей, Овсянкин, к которому
сейчас направились супруги, оказал кредит смиренному человеку, конечно,
под обеспечение того же непроданного товара. Теперь, сдав образцы, мастеру
предстоит взять товар у ростовщика, сдать его скупщику, получить деньги
и расплатиться с своим кредитором. Но так как должник, очевидно, не поль-
зуется особенным' доверием благодетеля, то последний не отдает ему товара,
пока не получит долга. Из этого безвыходного положения павловская прак-
тика нашла, все-таки, выход: смиренный человек 'оставляет под залогом...
свою законную супругу, которая дожидается на холоду, у крыльца ростов-
щика, пока муж сдает товар и рассчитывается с скупщиком.
—
Этакой-то залог еще вернее, — прибавил Аверьян. —
Поди-ка он
теперь, замешкайся или наипаче — в кабак, — сохрани господи, — заверни!
Да она ему, на холоду-то настоявшись, голову за этакое дело сорвет. Что,
небось, господин, вам это удивительно? — опросил Аверьян, погладывая на
меня исподлобья иронически прищуренными глазами. —
Я чаю, в прочих ме-
стах вы про этакое дело и не слыхивали?
На этом мы распрощались с Аверьяном. Он отправился к Портянкину,
а я пошел на свою квартиру, на постоялый двор: Совсем уже рассвело, хотя
солнце всходило неизвестно где, за туманными, холодными облаками. Я был
уже на лестнице, по которой с таким трудом взбирался ночью, когда над
Павловым раздался первый хриплый удар большого колокола.
Мои нервы были напряжены частью от бессонницы, частью от зрелища
этих своеобразных форм кустарного быта, так свободно распускающихся на
павловской почве наряду с цветками в «собственных садиках» кустарей.
Поэтому я быстро взбежал наверх, разыскал свою дверь и, отказавшись от
самовара, кинулся на диван в опустевшей комнате, где ночью спали валенщики.
Мне хотелось тотчас же заснуть, пока еще в голову не полезли назойливые
мысли обо всем, что я только что видел.
ш
*
Но едва успев задремать, я опять внезапно проснулся, как будто кто
позвал меня по имени.
В комнате, тщательно прибранной после ночного* беспорядка, было
совершенно тихо. Тикали часы, где-то за дверями женщина убаюкивала ре-
бенка, напевая вполголоса песню. Очевидно, меня старались не беспокоить;
тем не менее, я понял, кто меня разбудил от начинавшейся дремоты: удары
большого колокола один за другим* глухо толкались в тусклые окна, и стекла
в старых рамах как-то жалобно звенели в ответ.
Я зарылся с головою в подушки. Но и тут как будто от стен или
откуда-то из-под полу все бухали надтреснутые, больные звуки.
И вместе с ними в голове толпились фигуры, сцены, разговоры скупки,
толпились беспорядочно и назойливо, как это бывает в бессонницу.
Мы подошли к крохотной избушке, лепившейся к глинистому обрыву.
Таких избушек в Павлове много, и снаружи они даже красивы: крохотные
стены, крохотные крыши, крохотные окна. Так и кажется, что это игрушка,
кукольный домик, где живут такие же кукольные, игрушечные люди.
И это отчасти правда... Когда мы, согнув головы, вошли в избушку,
на нас испуганно взглянули три пары глаз, принадлежавших трем крохотным
существам.
Три женские фигуры стояли* у станков: старуха, девушка лет 18 и ма-
ленькая девочка лет 13. Впрочем, возраст ее определить было очень трудно:
девочка была, как две капли воды, похожа на мать, такая же сморщенная,
такая же старенькая, такая же поразительно-худая.
Я не мог вынести ее взгляда... Это был буквально* маленький скелет,
с тоненькими руками, державшими тяжелый стальной напильник в длинных,
костлявых пальцах. Лицо, обтянутое прозрачной кожей, было* просто* страшно:
зубы оскаливались, на шее при поворотах выступали одни сухожилия... Это
было маленькое олицетворение... голода!..
Да, это была просто-напросто маленькая голодная смерть за рабочим
станком. Того, что зарабатывают эта три женщины, едва хватает, чтобы
поддерживать искру существования в трех рабочих единицах кустарного села.
Но жизнь все-таки тлеет, и все-таки под ее влиянием и здесь, в крохотной
избушке, старое старится, молодое растет. Но только голод и непосильная
работа страшно уравняли старое и молодое; одни глаза девочки, смотревшие
мягко, жалобно, с безмолвным вопросом) и как будто с немою просьбой
о пощаде, сразу указывали возраст этой крохотной кустарной работницы.
Такой детский взгляд выносить очень трудно*. Старики много знают
или... уж очень много забывают. Наконец, старики, так или иначе, погрешали
уже против жизни. Но дети неповинны в ее неправдах, и потому у них
сохраняется какое-то странное инстинктивное сознание или, вернее, воспо-
минание о своем естественном* праве. За что* они страдают? Где тут правда?
Когда такой глубоко-сознательный детский взгляд устремляется на вас, и
в нем светится раннее страдание и этот упорный вопрос, вам нечего ответить,
и вы невольно отворачиваетесь, чтобы только избегнуть этого безмолвного,
тяжелого- упрека...
Эти три существа работают с утра до ночи, занимаясь отделкой замков.
Нищета есть везде. Но такую нищету, за неисходною работою, вы увидите,
пожалуй, в одном только кустарном селе. Жизнь городского нищего, протя-
гивающего на улицах руку, да это -рай в сравнении с этой рабочею
жизнью.
—
Вот она в корню у меня, — указала старуха «а старшую дочь. Та
отличалась от обеих тем, что гораздо более походила на живого человека,
хотя ее лицо тоже было бледно и нездорово. Тем не менее, она отдавала
даже некоторую дань кокетству, если не одеждой, которая была так же
бедна, то хоть прической, по городскому, с чолкой...
Пусть осуждает, кто может.
Я отдал девочке несколько денег и вышел, отвернувшись, чтобы не ви-
деть жалкой улыбки, странно заигравшей на этом ужасном лице. Но я, все-
таки, унес ее взгляд с собой, на темную Павловскую улицу.
Я не привожу вам цифр их работы и заработка. Кругом — на окнах, на
лавке, на стенках — я видел груды отделанных по белому зам-ков, а только
что описанная картина говорит о результатах этой работы красноречивее, чем
могли бы сказать самые точные цифры.
В. Вересаев.
АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ.
Прошло две недели. Была суббота. Андрей Иванович воротился после
шабаша прямо домой и принес Александре Михайловне весь заработок. Уже
вторую неделю он приносил домой деньги целиком до копейки.
Поужинали и напились чаю. Андрей Иванович сидел у стола и угрюмо
смотрел на огонь лампы. Всегда, когда он переставал пить, его в свободное
от работы время охватывала тупая, гнетущая тоска. Что-то вздымалось
в душе, куда-то тянуло, но он не знал — куда, и жизнь казалась глупой и
скучной. Александра Михайловна и Зина боялись такого настроения Андрея
Ивановича: в эти минуты он сатанел, йот него не было житья.
Андрей Иванович послал жену купить «Петербургский Листок», прочел
его от передних до задних об'явлений. Потом стал просматривать взятый им
из мастерской сборник куплетов «Серебряная струна»... Нет, все было скучно
и плоско...
Раздался звонок. Мужской голос спросил Елизавету Алексеевну. Ее- не
было дома» Гость сказал, что подождет, -и п -роше-л в ее каморку. Андрей Ива-
нович оживился: ему вообще нравились знакомые Елизаветы Алексеевны,
а этот, к тому же, по голосу был как будто уже знаком Андрею Ивановичу.
Он прислушался: гость сидел у стола и, видимо, читал книгу. Андрею Ивано-
вичу не сиделось.
—
Что ему там одному сидеть? — обратился он к Александре Михай-
ловне. —
Подогрей-ка самовар, да сходи, возьми полбутылки рому. Пускай
чайку попьет у нас.
Андрей Иванович пошел в комнату Елизаветы Алексеевны. Гость ока-
зался, действительно, знакомым. Это был Барсуков, токарь по металлу из
большого пригородного завода; Андрей Иванович около полугода назад не-
сколько раз встречался с Барсуковым у Елизаветы Алексеевны и подолгу
беседовал с -ним .
—
Это вы, Дмитрий Семенович! — воскликнул Андрей Иванович.
—
То-то я слушаю, — что это, как будто голос знакомый?.. Здравствуйте! Что
же вы тут одни сидите? Заходите к нам, выпейте стаканчик чаю!
—
Да я уж, собственно, пил, — ответил Барсуков и с усмешкой прервал
себя: —• А впрочем... хорошо! Что же так сидеть?
Он пошел с Андреем Ивановичем в его комнату. Андрей Иванович сует-
ливо оправил на столе скатерть.
—
Что это, как вас долго не было видно? Садитесь... Сейчас жена
ромцу принесет, мы с вами выпьем по рюмочке.
Барсуков подошел к Катерине Андреевне, назвал себя и тряхнул ее руку,
потом присел к столу.
—
Да вы, голубчик, оставьте, не суетитесь. Я пить все равно
не буду.
Он уівидел лежавшую на столе «Серебряную струну», перелистал ее и,
отложив в сторону, взял с комода' еще пару книг.
Андрей Иванович законфузился.
—
Э, не смотрите; ерунда! Я их так себе, от скуки, из мастерской
взял. Глупые идеи, нечего сказать: одна только- критика, для смеху... Ну, а вот
оно и подкрепление -нам!
Александра Михайловна принесла -ром.
Андрей Иванович откупорил бутылку, отер горлышко краем скатерти и
налил две рюмки.
—
Пожалуйте-ка, Дмитрий Семенович!.. За ваше здоровье!
—
Нет, спасибо, я не пью!
—
Ну, ну, пустяки какие! По маленькой ничего не значит.
—
Каждый раз у нас с вами та же канитель повторяется. И по- малень-
кой не пью, спасибо!
—
Ну, во-от... —
разочарованно протянул Андрей Иванович. —
Что же
мне, не одному же пить! Маленькая не вредит — что вы? Выпьем по одной!
Ром хороший, рублевый, — он проясняет голову.
Барсуков с усмешкой пожал плечами, поднялся и неловко зашагал по
ком-нате.
—
Что же это такое? Одному и пить как-то неохота...
Он выпил рюмку и крякнул.
—• Нет, Дмитрий Семенович, позвольте вамі сказать откровенно: я на
этот счет с вашими мнениями не согласен. Какой вред от того, что выпить
иногда? Мы не мальчики, нам невозможно обойтись без этого.
Барсуков стоял у печки, заложив руки за спину.
—
Почему? — сдержанно спросил он.
—
Почему? Потому что жизнь такая! — Андрей Иванович вздохнул,
положив голову на руки, и лицо его омрачилось. —
Как вы скажете, отчего
люди пьют? От разврата? Это могут думать только в аристократии, в высших
классах. Люди пьют от горя, от дум... Работает человек всю неделю, потом'
начнет думать; хочется всякий вопрос разобрать по основным' мотивам, —
что? как? для чего?.. Куда от этих дум деться? А выпьешь рюмочку-другую,
и легче станет на душе.
—
Для чего же это бежать от дум-то? Не мешало бы, напротив, осмыс-
лить всякие явления, понять их; почему это должно быть привилегией интел-
лигенции? Вином думы заливать, — далеко не уйдешь.
—
Я не спорю против этого! — поспешно сказал Андрей Иванович. —
Я
сам всегда это самое говорю, — что нужно стремиться к свету, к знанию,
к этому... как сказать? — к прояснению своего разума. А что только выпить
не мешает, — изредка, конечно: от тоски! Когда уж очень на душе рвет!
То-олько!.. А как серый народ у нас, особенно фабричные по трактам, — их
я сам 'Осуждаю: напьются так, что вместо лиц одни свиные рыла видят везде, —
знаете, как известные гоголевские типы, ревизоры'... К чему это? Это — без-
образие, стыд! Настоящая Азия! Я очень даже негодую за это на русского
человека.
'
Барсуков помолчал.
—
В нынешнее время и по трактам, — который народ идет в кабак,
а который в школу, — возразил он. —
Азии-то этой, можеть быть, все меньше
становится с каждым годом.
Андрей Иванович безнадежно махнул рукою.
—
Ну, где тамі Довольно этой Азии у нас, на тысячу лет хватит! Вы
меня извините за выражение, только я о русском человеке очень худо пони-
маю: он груб, дик! Дай ему только бутылку водки, больше ему ничего не
нужно: О другом у него дум1 нет.
Барсуков удивленно' поднял брови.
—• Как это' так — нет? Мало вы, я вижу, знаете. Пригляделись бы, осмо-
трелись бы кругом,-
1-может, и увидели бы. Везде жизнь начинается, везде
начинают шевелиться; каждый хочет жить своим умом, хочет понимать, осо-
бенно из молодых. Стоячая вода всем надоела. Что действительно, старики
это считают излишним, а молодые уже совершенно других убеждений.
Андрей Иванович скептически повел головою.
—
Нет, не согласен! Конечно, я не говорю: механики, наборщики, ну,
там, конторщики, наш брат-переплетчик, — об этих я не говорю. Это' — люди,
можно даже сказать, замечательные, образованные, со знанием. Или вот,
скажем, вы, или Елизавета Алексеевна. А я говорю о сером народе, о фабрич-
ных, о мужичках. Это ужасно дикий народ! Тупой народ, пьяный!
Барсуков слушал, крутил бородку и посмеивался.
—
Да вы, может, не там смотрите? — насмешливо опросил он. —
Ко-
нечно, если по трактирам искать, то трудно найти, или по кабакам... А вы
бы в другом- месте поискали, — в школу бы, скажем, сходили, на курсы.
Может быть, увидели бы поучительное... «Дикие»; «тупые»! —резко произнес
он и перестал смеяться., — Проработает парень двенадцать часов на заводе,
выйдет, как собака, усталый, башка трещит, а бежит на курсы, другой раз и
перекусить не успеет. Это от дикости что ли? К ночи только домой воротится,
а утром рано вставай, опять на работу. От дикости это? От дикости он на
последний грош газетку выписывает?
Барсуков своею неловкою походкою зашагал по комнате.
—
То-то, должно быть, против дикости и старики у нас бунтуются, —
с усмешкою продолжал он. —
Очень недовольны, что их «просвещенных» штс
нятий больше не уважают! Начнет этакий старик поучения читать: вот,
дескать, была у нас на Торжке девушка, и вселились в нее черти; отвезли ее
к какой-то там святой бабушке, продержали год, — как рукой сняло; вышла
на волю, поела окоромното пирожка, и опять в нее черта вселились... А моло-
дой смеется, спрашивает—пирожок-то, значит, чертями был начинен?.. Старик
скажет: гром — оттого, что Ильячпророк по небу катается, а молодой ему:
какой такой Илья-пророк? Это — электричество!.. Какая дикость! «Электри-
чество», а? На курсы вздумал бегать, электричество изучать, кислороды вся-
кие! Уж подлинно — Азия!
—
У вас какие же на этих курсах лекции преподают? — спросил заин-
тересованный Андрей Иванович.
—
Разное преподают, — неохотно ответил Барсуков. —
Химию, фи-
зику, русский язык... алгебру, геометрию...
Он сел к столу и лениво стал прихлебывать чай.
—
Полезные предметы, — сказал- Андрей Иванович тоном-знатока.
—
Предметы необходимые... Знаете, сходимте как-нибудь вместе на
курсы! — предложил Барсуков и оживился. —
Стоит наблюдения. Я курсы
кончил, а другой раз нарочно хожу. Вы мало знаете, потому и говорите...
Какие живые ребята есть, сознательные! Так и рвутся до знания, все хотят
знать в корень. Такого куда ни брось, не заржавеет... И откуда силы берет.
Днем -на работе, вечером на курсах, придет до-мой — отдыха не знает, сейчас
за книгу, другой раз всю ночь просидит... Это, батенька, -не то, что у интел-
лигенции:: ходит себе мальчонка, — в гимназию там, в университет; заботы
ни о чем нет у него, все папаша предоставляет. «Ванечка, миленький, только
учись, пожалуйста!» Протащат это по -всем наукам, а там уже и местечко
готово: пожалуйста, получайте жалованье!..
—
Чорт возьми! Ей-богу, надобно бы сходить посмотреть! — воодуше-
вился Анд-рей Иванович.
—
Много поучительного... Старики уже как косятся! — улыбнулся
Барсуков.
—
«Ученые! — говорят:—курсанты! В студенты, что ли-, записа-
лись? Ничего этого не нужно; грамоту да письмо знаешь, — и дово-ль-но».
Об'яовять им, -на что человеку знание нужно-? Этого они -не поймут,—ну,
—
но—
а между прочим сами замечают, что в нынешнее время везде на заводах
больше ценят молодого рабочего, чем который двадцать лет работает, —
особенно в нашем машиностроительном* деле; старик, тот все только «по на-
выку» может; на двухтысячную дюйма больше или меньше понадобилось, — он
уж и стоп! А для молодого* это* пустяк».
Барсуков оживился. Он рассказывал много и .долго. Андрей Иванович
слушал, и разные чувства поднимались в нем*; он и гордился, и радовался, и
грустно ему было: где-то *в стороне от него шла особая, неведомая жизнь;
серьезная и труженическая, она не бежала сомнений и вопросов, не топила их
в пьяном утаре; она сама шла им навстречу и упорно добивалась разрешения.
И чем больше Андрей Иванович слушал Барсукова, тем. шире раздвигались
перед ним просветы, тем больше верилось в жизнь и в будущее, — верилось,
что жизнь бодра и сильна, а будущее велико и светло*.
—
Нет, в нынешнее время о многом начинают думать, — сказал Бар-
суков. —
Никто не хочет на чужой веревочке ходить. Хотят понять условия
своей жизни, ее смысл...
Он прошелся по комнате, задумчиво остановился у печки.
—
В летошнем году у нас на курсах один, Иван Алексеевич, читал рус-
скую литературу. Между прочим* решал вопрос: какая разница между научной
литературой и художественной? Научная литература, — если, например, иссле-
довать жилище рабочего: сколько кубического воздуха, какой процент детей
умирает, сколько рабочий в год выпивает водки... А художественная литература
то же самое изображает чувствительно: умирает рабочий, — дети голодные,
жена плачет, грязь кругом*, сырость, есть нечего. И он думает: для чего он всю
жизнь трудился, выбивался из сил, для чего он жил? — Барсуков сурово сдви-
нул брови. —
Он жил, а* жизни не видел, видел только ее призрак, сквозь
копоть фабричного дыма... Какая же была цель его существования?
Андрей Иванович порывисто встал и быстро зашагал по комнате.
—
Нет, ей-богу, на курсы ваши поступлю! Дай бог, только- немного по-
правлюсь, сейчас же запишусь!
Два года назад Андрей Иванович однажды* уже сделал опыт, — записался
в школу; но, походив два воскресенья, охладел к ней; не все там было «чув-
ствительно», — приходилось много и тяжело работать, а к этому у Андрея
Ивановича сердце не лежало; притом его коробило, что он сидит за партой,
слоено мальчишка-школьник, что кругом него — «серый народ», к серому же
народу Андрей Иванович, как все мастеровые аристократических цехов, от-
носился очень свысока. Но теперь Андрею Ивановичу все это* казалось очень
привлекательным.
—
Совершенно все это в моем* духе!.. Ей-богу, вот думаешь-думаешь
так о жизни... Какой смысл?.. Зачем?..
Андрей Иванович подвыпил, ему хотелось теперь не слушать, а говорить
самому. Выпивая рюмку за рюмкой, он стал* говорить о свете знания, о* свя-
тости труда, о широком и дружном товариществе...
Пробило десять часов-.
Елизавета Алексеевна не возвращалась. Барсуков
встал уходить. Подвыпивший Андрей Иванович целовал его и жал руки.
—
Вы заходите, Дмитрий Семенович! Я так вам- -рад!.. Голубчик! Знаете,
есть в груди вопросы, как говорится... (Андрей Иванович повел пальцами пе-
ред жилетом), — как говорится,—насущные... Накипело в ней от жизни, хо-
чется с кем-нибудь разделить свои мнения... Да! Вот еще! Я вас, кстати, хочу
попросить: нет ли у вас сейчас чего хорошенького почитать? Недосуг было
это время раздобыться.
—
Да вот, не хотите ли, я Елизавете Алексеевне Гросса принес: «Эко-
номическую систему Карла- Маркса»? Полезная брошюрка. Тогда ей отдадите.
Барсуко-в ушел.
Андрей Иванович быстро расхаживал по комнате. Он чувствовал такой
придав энергии и бодрости, -какого давно не испытывал. Ему хотелось зани-
маться, думать, хотелось широких, больших знаний. Он сел к столу и начал
читать брошюру. В голове кружилось, буквы прыгали перед глазами, но он
усердно читал страницу за страницей.
Глеб Успенский.
СМЕРТЬ МАЛЬЧИКА.
Не знаю, в какой отдел моего мужицкого обозрения девать маленький
деревенский эпизод, которым ознаменовались первые осенние дни в Слепом-
Литвине или, вернее, первый куль нового хлеба.
Была темная, дождливая осенняя ночь; неумолчно и обильно лил дождь,
при порывах ветра начинавший «сечь» в окна и шаркать по крыше... Вся
деревня давным-давно спала мертвым сном; был уж второй час ночи — пора
самая глухая, непробудная: ни одного живого человека не -встретишь на ста
верстах кругом. В такую-т-o пору сидел я за книгой. Какой-то стон и оханье
год окном остановит меня. —
«О-о-о-о!..» «О-о-о-о!..» — слышалось мне,
когда я прислонился к стеклу окна...
—
Ми-хайла-а! — изо всей мочи, напрягая последние истомленные силы,
прокричал стонущий человек и опять устало заохал.
—
Кто тут? — приотворив окно, спросил я.
—
Ох, родимый, мальчишку ищу... с отцом поехал — ни отца, ни маль-
чишки... И что сталось!., о-ох-ох-ох!
Это была женщина.
—
Куда ездил-то он?
—
На мельницу, родной, — молол.
—
Ты была на мельнице-то?
—
Была, была... нету-ти, уехали, да вишь... до дожжа... Хожу, ищу
с коих пор... Видно, что недоброе случилось.
—
Теперь ничего не найдешь, темно!
—
0-ох, не найду!..
Этот разговор разбудил моих сожителей, которые кое-как уговорили
женщину переночевать е кухне или погодить до св-ету. Измученная, она было
согласилась, вошла в кухню, присела, охая и стеная, но не осталась, несмотря
ни на что... «Не дома ли? — твердила. Может, и дома... Куда им деться? Не-
куда... Нет, недоброе... —
Ох, худое-худое...» И наконец-таки ушла. —
«Ми-
хайло-о. ..»
—
слышался ее голос, издалека доносимый ветром.
Чем свет, по деревне разнеслась недобрая весть: на рассвете крестьянка
нашла своих, но в каком1 виде! Муж валялся на поле, верст за десять, и спал
пьяный; в стороне от него паслась высвободившаяся из упряжи лошадь, а под
телегой и под мешками с новой мукой лежал мертвый' мальчик...
Как случилось это несчастие? Никто путем1 рассказать не мог. Разбу-
женный отец только с ужасом таращил глаза и меньше всех знал, что такое
с ним случилось. Он помнил только1, что вчера поехал на мельницу, что взял
с собой шестилетнего сынишку (все человек: подержит лошадь, сумеет ока-
зать «тпру» в то время, когда отец будет на мельнице). Помнит, как он радо-
вался, таская мешки новой муки... Помнит, как под'ехали дядя Егор да дядя
Пахом; ехали они со станции и везли ведро хорошего вина. «Ай, новина?» —
спросил Егор. —
«Она самая!..».
—
«Никак вино везешь?» — «Вино!» —
«Дай стаканчик, я тебе новинки отсыплю». —
«Что отсыпать, давай мешок-
то— пей!» — «Так уж тогда давай всей компанией выпьем, новину обмоем...»
«Выпили по стаканчику, по другому, по третьему.., а тут и не помню». Не
помнит также ничего и дядя Егор, и дядя Пахом1 тоже чуть-чуть что-то доме-
кает... Помнится ему, бытто мальчишки и не было в телеге... —
«Ежели б
был, авось бы заметили, не ввалились бы в телегу целой гурьбой песни
петь...» —«Господи помилуй! уж неужто мы не видали его, да навалились и
задавили?..»
—
«Царица небесная!» — «Да не опал ли мальчик-от?» — «Спал,
спал и есть!»—вспоминает отец. —
«Как же это, господи?» — «Вино-то
дюже забрало!.. Вино хорошее, вино, надо сказать прямо, первый сорт!» —
«Много ль ты его выпил-то?..» — «Да господь его знает... дядя Егор ни бу-
тыли, ни муки не привез, да и то очутился вместе с телегой неведомо где...»
Идут толки, расспросы, но никто путем не знает, как случилось это
несчастие. Кто и когда свалился из телеш, как, кто и где очутился? Разда-
вили ли мальчика люди, или мешки и телега? Всякий помнит только ста-
канчики, а потом ничего и не помнит —потому вито дюже хорошо- попалось.
А мальчик лежит мертвый на лавке, и белым холстом покрыты его изуродо-
ванные члены... Вчера он еще бегал, играл в лошадки, в воров, т. -е. ловил
вора, вел его в арестантскую, кричал: «отдай деньги!», а теперь вот — мерт-
вый... Как? за что? Сразу: бог знает за что, бог знает, почему свалилась
на людей беда, истинная деревенская беда, которая бьет, как громом, никому
ничего не об'ясняя. И пришиблен человек, да как пришиблен! Разбита, как
дерево молнией, мать, ошеломлен и в глубине своей совести1 заклеймен ощуще-
нием ужасного преступления отец, простой, серый, работящий мужик. Есть ли
какая-нибудь возможность распутаться, разобрать что-нибудь в этом глу-
боком несчастии всему этому несчастному народу?.. Облегчит ли кто-нибудь
эту бесконечную боль матери, непостигаемый ужас отца? «Вино дюже
крепко!» —может только сообразить этот несчастный человек во всей массе
нахлынувшего на него горя.
Целый день надо всей деревней, не говоря о- семье маленького покойного,
висело ощущение неразгаданного несчастия, которое -всякому говорило, что
есть над всеми что-то беспощадное, что может грянуть на нас неведомо когда
и разнести вдребезги.
Наконец пронеслась весть: «Становой!»
И всем -стало легче... Хоть кто-нибудь покончит с этим тяжелым недо-
умением. Так, сам по себе, только будешь думать и мучиться, мучиться и
думать, и все-таки ничего, ровн-о ничего не -придумаешь. Становой взял лист
бумаги и написал протокол, в котором была смерть от задавшим телегой.
Понятые подписались и разошлись по домам. Дело конченное. Далее мыслей
начальства не приходится распускать темные мысли мужицкие — не к чему...
Мальчишку зарьгли; и вот из деревенской девушки, из деревенской
молодухи образовалась деревенская женщина с разбитой грудью, с угнетенным
выражением лица и с сознанием, что кет на свете ничего, кроме муки-муче-
нической... А из парня и работящего отца вышел мужик, молчаливый в поле,
молчаливый дома, снимающий молча шапку перед каждым тарантасом и
издали сворачивающий с дороги в грязь, в лужу от всякого встречного: всякий
встречный лучше его, всякий имеет право итти* по дороге, тогда как он — се-
рый мужик, «суконное рыло!».
Н. Некрасов.
ПЛАЧ ДЕТЕЙ.
Равнодушно слушая проклятья
В битве с жизнью гибнущих людей, —
Из-за них вы слышите ли-, братья,
Тихий плач и жалобы детей?
«В золотую пору малолетства
Все живое счастливо живет,
Не трудясь, с ликующего детства
Дань забав и радости берет.
Только нам гулять не довелося
•По полям, по нивам золотым:
Целый день на фабриках колеса
Мы вертим — вертим — вертим*!
Колесо чугунное вертится
И гудит, и ветром* отдает;
Крестьянин и рабочий. Ч. II.
8
Голова -пылает и кружится,
Сердце бьется, все кругом идет.
Красный н-ос безжалостной старухи,
Что за наіми смотрит сквозь очки,
По стенам гуляющие мухи,
Стеньг, окна, двери, потолки, —
Все и все! Впадая в исступленье,
Начинаем- громко мы кричать:
—• Погоди, ужасное круженье!
Дай на-м> память слабую собрать.
Бесполезно плакать и молиться,
Колесо не слышит, не щадит:
Хоть ум-ри — проклятое вертится,
Хоть' умри — гудит —• -гудит — гудит!
Где уж нам, измученным в неволе,
Ликовать, резвиться и скакать!
Если б нас теперь пустили- в поле,
Мы в траву -попадали бы — спать.
Нам домой скорей бы воротиться...
Но зачем- пойдем мы и туда?
Сладко на-м и до-ма не забыться:
Встретит нас забота и нужда!
Там, припав усталой головою
К груди бледной -матери своей,
Заръіда-в н -а -д
- ней и над собою,
Разорвем на части сердце ей...»
А. Чехов.
ВАНЬКА.
Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад
в ученье к сапожнику Аляхину, в ночь под рождество не ложился спать.
Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутрене, он достал из
хозяйского шкапа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и,
разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести
первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, поко-
сился на темный образ, по -обе стороны которого тянулись полки с колодками,
и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам- он стоял перед
скамьей на коленях.
«Милый дедушка, Констентин Макары-ч!—писал он. —
И пишу тебе
письмо. Поздравляю вас с рождеством и желаю тебе от господа бога. Нету
у меня ни -отца, ни маменьки, только ты у меня один остался».
Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение
его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, слу-
жащего ночным сторожем у господ Живаревых. Это маленький; тощенький,
н-о необыкновенно юркий и -подвижной старикашка, лет 65-ти, с вечно смею-
щимся лицом и пьяными глазами. Днем он спит в людской кухне или балагу-
рит с кухарками, ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг
усадьбы и стучит в свою коло-тушку. За ним, опустив головы, шагают старая
Каштан-ка и кобелек Вьюн, проз-ванный так за свой черный цвет и тело длин-
ное, как у ласки. Этот Вьюн необыкновенно почтителен и ласков, одинаково
умильно смотрит, как на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется.
Под его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское ехидство.
Никто лучше его не умеет во-время подкрасться и цапнуть за- ногу, забраться
в ледник, или украсть у мужика курицу. Ему уже не раз отбивали задние ноги,
раза два его вешали, каждую неделю по-р -оли- до полусмерти, но он всегда
оживал.
Теперь, наверно, дед стоит у ворот, щурит глаза на ярко-красные окна
деревенской церкви и, -притоптывая валенками, балагурит с дворней. Коло-
тушка- его подвязана к поясу. Он всплескивает руками, поеживается от холода
и, старчески хихикая, щиплет то горничную, то кухарку.
—
Табачку н-ешто нам понюхать? — говорит он, подставляя бабам свою
табакерку.
Бабы нюхают и чихают. Дед -приходит в неописуемый восторг, зали-
вается веселым- смехом и кричит:
—
Отдирай, примерзло!
Дают понюхать и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и, оби-
женная, отходит в сторону. Вьюн же из почтительности не чихает и вертит
хвостом. А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна,
но видно всю деревню с ее белыми -крышами и струйками дыма, идущими из
труб, деревья, посеребренные инеем, сугробы. Все небо усыпано- весело мигаю-
щими звездами, и млечный -путь вырисовывается так ясно, как будто его перед
праздником помыли и потерли снегом...
Ванька -вздохнул, умокнул перо и продолжал писать:
«А вчерась мне была вы-волочка. Хозяин выволок меня за волосы на
двор и отчесал шпандырем- за то, что я качал ихнего ребятен-ка в люльке и
по нечаянности заснул. А на- неделе хозяйка велела мне почистить селедку,
а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю
тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, -посылают в кабак за- водкой
и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем п-о -падя. А едьг нету ни-
какой. Утро-м дают хлеб, а в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а- чтоб чаю
или щей — то хозяева сами трескают.
«А спать мне велят в сенях, а когда ребятенок ихний плачет, я вовсе не
сплю, а -качаю люльку. Милый дедушка, сделай боже-цкую милость, возьми
меня отседа домой, на деревню, нету никакой моей возможности... Кланяюсь
тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня отседа, а то помру»...
Ванька покривил рот, потер своим черным- платком глаза и всхлипнул.
«Я буду тебе табак тереть, — продолжал он: — богу молиться, а если
что, то секи меня, как Сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне
нету, то я Христа ради попрошусь прикащику сапоги чистить, али заместо
Федьки в подпаски- -пойду. Дедушка милый, -нету никакой возможности, п-росто
смерть одна. Хотел было пешком на дер-евню бежать, да сапого-в нету, морозу
боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и
в обиду никому ее дам, а помрешь, — стану за упокой души молиться, все
равно, как за мамку ТІелагею.
«А Моск-ва го-род большой. Дома все -господские, и лошадей- много-, а овец
нету и собаки не злые. Со звездой тут -ребята не ходят, и на клирос петь
никого не -пущают, а раз я видал в одной лавке, на о-кне, крючки продаются
прямо с леской и на всякую -рыбу, очень стоющие, даже такой есть один
крючок, что -пудовю-го со-ма удержи-т. И видал которые лавки, где ружья
всякие іна м-анер бари-но-вых, так что-, небось, рублей сто кажное... А в мясных
лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, a -в котором месте их стреляют, про то
сидельцы не сказывают.
«-Милый дедушка-, а ко-гда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне
золоченый о-рех и в зеле-ный -сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Иг-
натьевны, окажи — для Ваньки».
Ванька судорожно вздохнул и опять уставился н-а окно. Он вспомнил,
что за елкой -для господ -всегда ходил в лес дед и брал с собой внука. Веселое
было -время! И дед крякал, и мороз крякал, а гладя на ни-х и Ванька крякал.
Бывало, -прежде чем вырубить елку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак,
посмеивается над озябшим Ванюшкой... Молодые елки, окута-нные инеем,
стоят неподвижно и ждут, которой из ни-х помирать. Откуда ни возьмись, по
сугробам летит -стрелой заяц... Дед не может, чтоб не крикнуть: «держи,
держи... держи! Ах, куцый дьявол!».
Срубленную елку дед тащил в господский дам, а там принимались уби-
рать ее...
«Приезжай, милый дедушка, — продолжал Ванька: — Христом богом
тебя молю, возьми -меня отседа. Пожалей ты меня, сироту несчастную, а то
меня все колотят, и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать
нельзя, все плачу. А намедни хозяин колодкой по голове ударил так, что упал
и насилу очухался. Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой... А еще кла-
няюсь Алене, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай.
Остаюсь твой внук Иван Жуков. Милый дедушка, приезжай».
Ванька свернул вчетверо исписанный лист и- -вложил его в конверт, ку-
пленный накануне за ко-пейку... Подумав немного, он умокнул перо и написал
адрес: на деревню, дедушке.
Потом почесался, п-оду-мал и
-прибавил: «Константину Макарычу». До-
вольный тем, что ему не помешали писать, он одел шапку и, не набрасывая
на себя шубейку, прямо в -рубахе выбежал на улицу...
Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали
ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по
всей земле на почтовых тройках пьяными ямщиками с звонкими колоколь-
цами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное
письмо в щель.
Убаюканный сладкими надеждами, он, час спустя, крепко опал... Ему
снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухар-
кам... Около печи ходит Вьюн и вертит хвостом.
И. Вольное.
ДЕТСТВО.
Утром следующего дня Мотя принесла нам в поле завтрак.
—
Приказчик был с нарядом, — сказала она, — беспременно, чтобы
нынче выезжать, а то — штраф большой.
Отец бросил ниву и поехал сеять барскую землю.
Зимой, в бескормицу, Осташков дал соломы мужикам, которая была
ему не нужна, с тем, чтобы они обработали летом по две десятины земли
на двор.
На нашу землю достался пай у оврага. Земля там — волнистая, крутая,
заросшая пыреем и диким клевером. К вечеру пошел небольшой дождь, раз-
рыхлил почву. Отец радовался:
—
Слава богу, как-нибудь осилим... Ишь, соха-то, как по маслу прег.
Поужинав, мы улеглись под телегой, стреножив лошадь на отаве.
Ночью меня разбудил крик и матерная брань. Отбросив полушубок, я при-
слушался.
—
Домой, что ли, приехал, е...с .. ., — а? — кричал чужой мужик. —
Я тебе покажу, как баловаться!
Послышались удары кнута по спине и странный голос отца
—
Что ж вы делаете, Гордей Кузьмич?.. Я на минутку!.. Горде-ей
Кузьми-и -ч!..
Отец будто лаял, когда говорил, или будто кто держал его за глотку.
Началась возня, удары участились и были глухими: словно выбивали
пуховую подушку.
—
За что-о вы, господи! — кричал отец. —
Трава-то так же про
падает!..
А чужой мужик, которого отец величал Гордеем Кузьмичом, сердито
спрашивал:
—
Где оброть, — а? Давай сюда скорее!
—
Где же ее взять? Теперь темно, — отвечал отец.
—
Неси, подлец, всю морду разобью! — орал Гордей Кузьмич и снова
по траве или спине хлопал кнут.
Отец подошел к задку телеги, пошарил там руками и нагнулся к хо-
муту. Рядом с ним стоял высокий человек с ружьем через плечо, держа
в поводу оседланную лошадь. Лошадь била копытом и жевала удила, отчего
они хрустели, а помещичий об'ездчик, обрусевший черкес, ругался матерно,
сопел и чванился.
—
На-те, — сказал отец, подавая оброть.
Чужой мужик, Гордей Кузьмич, от'ехал, и вскоре с луга донеслось:
—
Стой, дохлая стерва! Вся в хозяина — упрямая!..
В воздухе свистнул арапник.
Потом затопало четыре пары ног, зашумел лозняк на дне оврага и —
затихло.
Я дрожал, притаившись.
Отец, подойдя к телеге, упал на землю около заднего колеса и, вце-
пившись в обод пальцами, стал трясти телегу, стукаясь головою о спицы.
После — заплакал, как маленький:
—
Ох! ох! ох!.. Батюшки вы мои! Голубчики милые!.. Ох! ох! ох!..
Смертушка приходит!.. И закатился, раскинув руки и уткнувшись лицом
в сырую землю.
Утром, чуть свет, когда я спал еще, он побежал на барский двор вы-
прашивать загнанную с княжеской отавы лошадь. Возвратился через час,
осунувшийся, серый, усталый. Молча сел на втулку колеса, схватился обеими
руками за волосы и завопил:
—
Где я возьму трешницу? За что-о? - — и
покрутил головою, не то
икая, не то кашляя, не то стараясь удержать рыдания. Под левым глазом
у него синяк — в пятак величиною, на ухе — ссадина.
Перед завтраком опять пошел в имение и возвратился только вечером.
Я же, сидя на телеге, ждал его.
—
А где же отец твой, эй ты, барин? — спрашивали проезжавшие мимо
мужики.
—
Я не знаю, — отвечал я.
—
Вот так штука ! — хохотали они. —
Его, видно, цыган ночью
украл.
-—
Нет, он пошел к Гордею Кузьмичу, к об'ездчику.
Мужики подносили к носу указательный палец, посвистывали и го-
ворили:
4
—
Дело — дрянь... Карюшку, что ль, загнали?
—
Да-а.
—
Эка гадина — мужик, — восклицали они и ехали дальше, потряхи-
вая вожжами:
—
Но-о, матушка! Но-о, Христос с тобой!..
Когда выросла в четыре шага тень от сохи и перестали кусаться мухи,
захотелось есть. Встав на телегу, я осмотрелся и закричал:
—
Тятя-а-а! Иди домой: я е-е -есть хочу-у! Тят-тя-а!
На пригорке, в полуверсте, между кущами деревьев, золотились на яр-
ком солнце соломенные крыши служб, над ними — церковь с бледно- голубым,
под цвет неба, куполом и рыжим восьмиконечным крестом; красные крыши
молочни, кузницы и конского завода — словно яркие платки деревенских
модниц, развешенные на кустах. Между серыми полосами теса белели камен-
ные столбы.— наугольники амбаров с хлебом и зерносушилки; дальше —
пруд и около — высокий, старый лес, откуда выглядывает двух'этажный
барский дом с десятком лучистых окон, светло-серою штукатуркою и зеле-
ными ставнями. Крыша — тоже зеленая. По другую сторону, совсем вдали,
за синим маревом — Захаровна, рядом — Свирепино. Между деревнями и име-
нием — ровная буро-желтая полоса овсяного жнивья, ряды посеревших копей
и два оврага; направо — пашня с рубежами, по которой ползают в сохах
мухи-лошади, а налево — бугристый берег Неручи, изрезанный морщинами,
с каймою чапыжника, лозы и дягиля у воды. В лощине, между нашими
полями и помещичьим имением, лежит Осташково, невидное отселе. Между
ним и деревней, описав кривую, течет Неручь.
—
Тят-тя-а -а!..
Пробежала чья-то рыжая собака, высунув язык. Понюхав колесо,
задрала ногу и начала скрести задними лапами землю.
—
Ты что тут шляешься, нечистая? — схватил я кнут, — колеса
портить?
Собака бросилась вдоль пашни, я — за нею.
—
Ишь, охаверница!
Вывернув в сохе палицу, я счистил деревянной лопаточкой землю
и вытер паклей. Палица блестела, как зеркало, отражая солнце и небо, мое
лицо и облака.
В логу застучали колеса. Показалась желтая дуга с пеньковым поводом
в кольце, грязно-рыжая лошадиная! морда. Мимо проехал Мишка Немченок
с отцом.
—
Ванек! — крикнул Мишка, — что ты делаешь?
—
Палицу чищу, а ты?
—
А я еду домой.
Обождав, когда Мишка уехал, я взобрался опять на телегу и закричал
со слезами:
—
Тятя-а -а! Что ж ты меня бро-о-сил? — и заплакал.
Вдали послышалась песня. Она становилась все слышнее, и вскоре вновь
застучали колеса в логу. Под'ехавший с боронами молодой парень спросил
меня:
—
Чего ты плачешь, мальчуган?
—
Есть хочу, — ответил я.
—
Эх, ты, пахарь, — сказал он,— а где же твой отец?
—
Пошел к барину за лошадью.
—
Эге — сказал парень и тоже свистнул. —
Сролочц!
выругался
он.Давно уж нет? •
.
-•••.,
—
С самого утра,
Он подошел к телеге, пошарил в веретье и сказал, доставая мешок:
—
Вот он — хлеб-от: жуй, сколько душе твоей угодно... Вот и огурцы
соленые.
Принеся из своей телеги квас, перелил его в наш кувшин.
—
Мне его не нужно, — сказал он, — я еду домой.
Когда солнце зашло и небо побагровело, a Земля и жница посерели,
приплелся понурый отец.
—
Ты ел? — спросил он.
—
Ел.
Достав хлеб, отец отломил маленькую корочку, с неохотой пожевал ее,
запивая теплым квасом.
—
Где ты квасу взял?
—
Дядя чужой дал.
—
Дядя?
—
Молодой, на пегой лошади.
—
Сашка Богач, видно, — русый?
—
Да.
Положив в телегу хомут, отец сказал:
—
Пойдем домой.
—
А лошадь как же? — спросил я.
Отец промолчал.
Думая, что он не расслышал, я переспросил. Отец топнул ногой, закри-
чал, замахал руками, матерно ругаясь, и схватил меня за шиворот.
—
Какое тебе дело, — тряс он меня, как котенка.
—
Какое тебе дело!
чтоб тебя чорт задавил!
Дышать было трудно; я крутил головою, упирался руками отцу в живот
и визжал.
Он толкнул меня в спину ладонью, я упал, заорав во всю глотку:
—
Ой, спину повредил! Ой, что-то колет!..
—
Перестань ! — цыкнул отец.
Я вытер глаза и сказал:
—
Теперь я больше не поеду с тобой на пашню: ты дерешься.
—
Нужен ты, как пятая нога собаке! — проворчал отец.
—
Я теперь буду больше с матерью водиться.
—
Хоть с коровой.
—
Вырасту большой — отделюсь от тебя.
—
Замолчи!
—
Что ли, я Карюшку-то увел?.. Ты бы этак по спине-то лучше
об'ездчика хватил...
Отец взялся за голову.
—
Замолчи, Христа ради, сатана!.. Замолчи!..
Мать дома плакала, когда мы поздним вечером вернулись: она знала
о несчастье.
На второй и третий день Гордей Кузьмич Карюшкй не отдал. На че-
твертый— побежала мать упрашивать его сиятельство, но около дома ее
укусила за йоту лягавая помещичья собака, и мать воротилась в слезах.
Пообедав, отец сам пошел — второй раз за этот день.
—
Что хотите, то и делайте со мною, — сказал он в экономии. —
У меня пропадает год. —
И сел на землю у крыльца.
Осташков, князь, назвал его мерзавцем, хамом и свиньей.
—
За такие вещи вас, разбойников, в конюшне надо драть! — покраснел
он и затопал ногами. —
Что-о?
Отец молчал.
—
Избаловались!.. Что-о?
—
Я ничего.
—
Как ты смеешь разговаривать?
—
Пожалейте, бога для.
Узнав, что отец пахал его землю, помещик смилостивился, распоря-
дившись отдать лошадь без денег, но с условием, чтобы он обработал пол-
десятины лишних. Отец поклонился ему в ноги и приехал домой веселый.
Голодная лошадь набросилась во дворе на старую солому.
—
Дай мне хлеба поскорее, я поеду допахивать, — сказал он матери. —
И так почти неделя лопнула.
—
Три рубля, говорит, а где я их возьму — давиться что ли? — бормо-
тал отец, завязывая у окна мешок. —
Три рубля — шутка немалая! Ихний
брат эти три рубля, может, в три дня заработает, а нам надо полмесяца,
да и то — негде... Три целковых — хорош Лазарь?
Обернувшись ко мне, он спросил:
—
Поедешь или нет?
—
Поеду, — сказал я. —
Я теперь на тебя не сержусь.
—
Вот и молодчина, — засмеялся отец. —
И я не сержусь на тебя.
—
Я, тять, и делиться не буду: я только постращать хотел тебя...
ей-богу! — тараторил я, отыскивая лапти.
—
Хорошо,
хорошо, об этом мы дорогою поговорим...
Там
просторнее...
Он посадил меня верхом на Карюшку, сунув в руки мешок с хлебом,
а сам пошел сзади.
—
Ну, трогай, белоногий, — сказал он, хлопая лошадь по крестцам
ладонью.
Ночью пошел дождь. Карюшку привязали за крючья, а сами легли под
телегу, набросав сверху мешков из-под зерна и веретье. К полуночи зашумел
западный ветер, дождь перешел в ливень, под нас ручьями потекла вода;
я промок, перезяб и просился домой, а отец сначала уговаривал тихонько,
а потом прикрикнул. Дождь шел до самого рассвета, днем солнце не выгля-
нуло*, и пашня стала тяжелой, вязкой, липкой, для лошади — непосильной.
Не успели спахать и полосминника, а она была уже в мыле и тряслась.
Отец ввил проволоку в кнут, а на конец его приделал гвоздь. Когда он
стегал этим кнутом лошадь, она ежилась, сжималась, шатаясь, в комок
и раскрывала рот. Правый пах ее, ляжка и бок покрылись волдырями и руб-
цами в большой палец толщиною, из которых текла кровь. К обеду лошадь
стала: она даже и дрожать не могла, когда ее били. Отец был мрачен и зол,
на глазах его блестели слезы, а я, прячась за телегу, навзрыд плакал, глядя
на Карюшку.
В этот день мы отдыхали больше, чем следует. Запрягли лошадь снова
только перед вечером, когда солнце стало на три дуба от заката. Оправив
вожжи и привязав их к рогачам; отец взял в руки страшный кнут. Карюшка,
увидя его, нелепо подобрала зад, согнувшись, как хилый ребенок, и пошла
боком, следуя за отцом. Она сбивалась с борозды, и отец то и дело кричал:
—
Ближе!.. Вылезь!.. Ближе!.. Тпррру-ууу!..
Борозда выходила кривой, с «селезнями». Чем больше отец бил Карюш-
ку, тем она больше кособочилась, и тем хуже была пашня. Остановившись,
отец взял из телеги молоток, сбил с шеловочного гвоздя шляпку и всадил
этот гвоздь в обжу — там, где лошадь терлась левой ляжкой. Взмахнув кну-
том, он крикнул:
—
Но-но!
Карюшка дернула соху, заглядывая, по обыкновению, на правую руку
отца и прижимаясь левым боком к обже. Гвоздь ей впился в тело, царапнув
глубоко по ляжке. Она вздрогнула, метнулась и заржала, таща рысью соху.
Отец, цепляясь за рогачи, не отставал. Через двадцать шагов силы
убыли, ход замедлился, лошадь вывернула ноздри, отец подстегнул. Кобы-
ленка опять вильнула задом, и опять ей впился в ляжку гвоздь; опять брыз-
нула кровь, и опять на теле появилась кровавая борозда. Лошадь опять
засеменила ногами, хрипя и фыркая...
Через три с половиною дня барскую пашню окончили, а еще через
три дня — свою. Лошадь ходила теперь прямо, но на левой ляжке у нее
образовалась полоса, ладони в полторы шириною и ладони в две длиною,
красного, ободранного мяса, из которого сочилась кровь, стекая по ноге
на землю, и на которое садились тучами зеленовато-черные полевые мухи.
Правый бок ее разбух от кнута, глаза обметались гноем, из них стала бить
слеза, а ходила она, раскорячившись...
На трех святителей драловский сотский дядя Левон, Кила-с -Горшок,
наряжал народ на сходку.
—
Эй, вы, слышите? Земский будет! — зычно кричал он, постукивая
в раму батагом. —- Подати!..
Отец возвратился со сходки поздно вечером, когда я спал. За завтра-
ком поутру был угрюм и ни за что обругал Мотю чортом недоделанным,
а мать — несчастно-судорогой.
На сретенье Кила-с-Горшок опять стучал под окнами; земский в этот
раз приезжал с становым и что-то там такое говорил, отчего отец пропадал
весь следующий день.
—
Ни с чем, знать? — встретила его-мать,
..-
Отец так цыкнул на нее, что я со страху подскочил на лавке. Раз-
говора за весь вечер никакого не было.
Чуть свет отец с сестрой долго копались в сарае, потом свели туда
Пеструху — телку. Вслед за ними побежала мать, прикрыв полою самовар,
а за- матерью — я . Отец прятал зачем-то телку между старновкой и стеной,
заваливая сверху и с боков на поставленные ребром жерди соломой. Между
жердями темнела дыра, в которой пугливо возилась Пеструха.
—
Не задохлась бы, — шептала мать. —
Крепки колья-то?
—
Крепки, — говорил отец. —
Вали сверху овсяную солому.
Мотя таскала вилами солому, мать зарывала в мякину самовар и новые
коты, которые лет пять берегла на смерть, а я, стоя с разинутым- ртоім,
дивился.
—
Зачем вы, мама, это делаете, — а?
—
Марш домой!—крикнул отец, грозя веревкой. —Везде, дрянь поспе-
ваешь?—И, понизив до шепота голос, добавил:—Если кому скажешь, изувечу...
По деревне ездили начальники, выбирая подати, недоимку и продо-
вольственные деньги. Они ходили от двора ко двору, ругались матерно,
грозили согнуть в бараний рог и душу вымотать, а следом плелись старшина
со старостой в медалях, понятые и мещане из города на широких розвальнях.
На улицу, прямо на снег, выбрасывали из клетей холсты, одежу,
самовары, сбрую, — все, что можно продать. Скупал рыжий мещанин в кры-
том тулупе. Становой величал его Василием Васильичем и угощал желтыми
папиросами из легкого табаку. Цену назначал становой, старшина поддакивал,
воротя в сторону от мужиков лицо, староста молчал, понятые вздыхали.
Василь Васильич, ткнув ногою вещь, сипло отрубал: беру. —
Работники
тащили скупку в сани, а мещанин, отдуваясь, лез за пазуху, вытаскивал хол-
щевый, засаленный, в поларшина длиною, денежный мешок и отсчитывал
красными озябшими пальцами мелочь. Бабы неточно выли, мужики бухались
в снег на колени перед полицейским, стукались лбами в глубокие калоши,
обметая волосами снег с них, хрипели что-то. Становой благодушно от-
странял ' лежачих, притрогиваясь кончиком- шпаги к спине, или -кричал
то милостиво, то зло.
За добром выводили живность: поросят, коров, птицу. Кур и поросят
совали в широкие мешки, овец бросали, скрутив ноги, в сани, а коров и телят
привязывали к оглоблям и сзади саней. Куры кудахтали, вырываясь из рук,
по улице летели перья, поросята, бабы и дети визжали, коровы угрюмо
мычали, разгребая ногами снег и крутя головою... Нашествие татарское
на Русь!..
Скоро четверо мещанских розвальней нагрузили доверху.
Становой сказал:
—
Не закусить ли теперь нам, Василь Васильич, а?
—
Пора, — ответил тот и, отойдя в сторону, шепнул пару слов работ
нику. Проворный мещанинишко-работник, мальчуган лет девятнадцати,
блеснул глазами, цыркнул, кивнув носом в знак согласия, оправил шапку и,
подойдя к саням, отвернул двум курам головы.
—
Зажарь-ка,
матушка, с маслицем, — сказал Василь Васильич
старостихе.
Возы, нагруженные холстами, обувью, одеждой, утварью и ветошью,
отправили с мальчиком и десятским в город; начальники, ежась от холопа
и потирая руки, полезли к старосте в горницу, сотский побежал за водкой,
понятой — к попадье за мочеными яблоками.
Пока они в тепле кушали, мужики терпеливо ждали у крыльца. Старо-
стина дочь, Палагуша, и сама старостиха то и дело бегали из погреба в кла-
довую, из кладовой в избу, торопливо неся миски с огурцами, кислую капусту,
хрен, ветчину и кринки молока, а мужики завистливо смотрели им в руки
и шептались:
—
Эко, братцы мои, жрать-то охочи!..
—
Еще бы, народ они, того.... привыкли, чтоб послаще и побольше.
—
Вестимо, господа!..
Потом, стоя в дверях, начальники курили и отрыгивались, а осташ-
ковцы, кто ближе, толпились без шапок.
Напившись чаю с кренделями, приступили к описи и распродаже.
Отдохнувшие бабы снова завыли; опять пристав кричал и топал ногами,
а мужики барахтались в снегу.
Дошла очередь до нас, а у нас продать нечего.
—
Беднота несусветная, ваше благородие, — говорит староста, сдерги-
вая шапку. — Ничего у них нету... Один только близир, а не хресьяне, верно
говорю!..
—
Как ты сказал? — повернул румяное лицо начальник.
—
Пыль, говорю, посконная народ тут, а не люди, ваше благородие...
—
Нет, ты какое-то иное сказал слово.
—
Близир, мол, видимость...
—
Ишь ты... Замолчи-ка лучше, долго разговариваешь.
Староста смутился, спрятавшись за старшину. Понятые смотрят
на отца, который посинел.
—
Не робей, Лаврентьич, — тихо говорит отцу Фарносый", — упади
на коленки: зарежьте, мол, а денег ни гроша... Он отходчивый... Покричит-
покричит, а посля — помилует... Главная задача — голод, мол, проели все.
Ишь, шубенка-то у тебя, хуже бороны, прости господи...
Входя уличными дверями в сени, становой стукнулся лбом о притолку
и выругался матерно, поднимая шапку со звездой. Мать со страху схватила
метлу и давай разметать у него под ногами сор, причитая:
—
Батюшка, начальничек наш милый... в кои-то веки к нам загля-
нули...
Урядник толкнул ее в плечо.
—
Отойди, старуха, не мешай, — сказал он.
—
Кланяйся барину в ноги, пень!—подскочила ко мне мать. —
Упади
перед ним!.. Упади!
Увидя Муху на соломе, принялась лупить ее метлою.
—
Что ты, стерва, притаилась, а? Марш на улицу, одежу господам
хочешь порвать, одежу?
Собака огрызнулась.
—
А-а, так ты та-ак?
Мать садану.ла Муху толстым концом метлы по голове.
—; Пошла прочь, паскуда!.. Ишь ты, что надумала! Одежу рвать?..
Чистую одежу рвать?.. А метлы не хочешь?.. Я тебе порву!.. Ты у меня
узнаешь!.. Барыня какая!..
У нее из-под платка выбились волосы, слабо завязанная онуча на пра-
вой ноге сползла, а мать все бегала по сеням, как шальная.
Становой посмотрел, усмехнулся.
•—-
Эко чучело!
И урядник усмехнулся. Старшина заржал по-жеребячьему, писарь тоже
заржал.
Из отворенной полицейскими в избу двери пахнуло теплом. Становой
сморщил рожу, сплевывая:
—
11-пффа! Какой тут смрад!.. Скоты!.. —
и поспешно хлопнул дверью,
выходя на улицу.
•— Где хозяин?
—
Вот мы... вот я!.. —
выступил отец.
—
Подати.
-—
Нету... голод... бьемся... обождите, богом заклинаю!..
Отец опустился на колени. Подбородок у него трясется, широкую,
с проседью, бороду развевает ветром, на лысине в три пятака тают сне-
жинки...
Стоя на коленях, отец часто и невнятно что-то говорит, царапая паль-
цами грудь; Мотя, бледная, с красными пятнами по лицу, трясется и хрустит
пальцами; мать трясется и плачет, а отец по-собачьи смотрит в глаза
уряднику и становому. Я — в толпе ребятишек.
*
-—
Отец твой никак заплакал, — шепчет мне Немченок.
Мне стыдно за него, я возражаю:
—
Это ему ветром в глаза дует, — говорю я горячо. —
Онунас,ты
сам знаешь, какой: молотком слезы не вышибешь!.. Не может он плакать...
Но Мишка ладит:
-—
Плачет, во те крест. Гляди-ка: за нос все хватается!
Тогда я сам сквозь слезы говорю:
—
Погоди, и твой заплачет, как черед дойдет... осталось три дома ..
—
Мы с утра отплакались все разом, — говорит Немченок. —
Отец нас
матом, а мы — в голос... Отец говорит: надо давиться, а мать говорит:
добрые люди скотинку прячут, где получше, а не давятся... Отец корову
и жеребенка свел в овраг, а большую свинью, говорит, девать мне некуда,
и заревел. Черти, говорит, сожрут ее, а не мы, а мать говорит: бог милостив.
Лексеич...
Наклонившись к уху, Мишка шептал:
-—
Отец свинью-то все-таки зарезал... Не паливши, понимаешь, в омет
ее сволок... На куски да в омет... идем, я покажу...
Начальники пошли обыскивать наш двор, а мы с Немченком — за сарай,
в ометы.
—
Сюда иди, сюда! В среднем! — кричал Мишка. —
С того краю!
Увязая по живот в снегу, он бормотал:
—
Сейчас я покажу тебе, где наша поросятина' лежит, сейчас ты,
друг, узнаешь.
Но, завернув за угол, Мишка завыл:
—
Глянь-ко-ся-а!
Четыре здоровенных собаки, раскопав дыру в соломе, жрали мясо.
На снегу алели пятна крови, в стороне крутились белопегий поджарый щенок
и три вороны, из соломы торчала обглоданная кость.
—
Тятя-а! — взвизгнул Мишка, постояв с минуту. —
Тятя!
Несясь вихрем по деревне, так что только развевались из-под шапки
льняные волосы и пятки сверкали, Немченок что есть силы голосил:
—
Собаки, тятя!.. Свинью!.. Только косточки, тятя!..
Стоявшие у крыльца мужики в недоумении обернулись, а отец Немчеи-
ков тут же, на снегу, присел.
—
Что ты, оглашенный ! — цыкнул староста, хватая метлу.
—
Собаки... тятю с'ели! — выпалил Немченок, растопырив руки.
—
Э-э -э . . . К-к-какова тятю, что ттты мелешь, — едва сумел про-
молвить отец Мишкин. —
Ввот я, ввот!.. Что ты, бог с тобой?.. Окстись!..
—
Ветчину сожрали! — кричал Мишка. —
Говорила тебе мать: прячь
подальше, не послушался, — и заплакал, сморщив по-старушечьи лицо- .
—
Головушка ты моя горькая! — схватился за волосы Мишкин отец;
по бледным щекам его покатились крупные слезы.
Трясясь, я, неожиданно для самого себя, завыл, глядя на отца:
—
И нашу Пеструху собаки с'едят!.. Беги скорей в сарай!..
Начальник* круто обернулся.
—
Что ты, мальчуган, сказал? — спросил он у Немченка.
Тот вылупил глаза, раскрыв рот, и поперхнулся. Начальник обратился
ко мне:
—
Что случилось? Чей ты, а?
—
Свой, — скороговоркой ответил я, глотая слезы. —
У Мишки зако-
лоли свинью, а ее собаки слопали в омете, а у нас в сарае телка...
Взглянув на мать и отца, я вспомнил об угрозе и закричал, обливаясь
слезами:
—
Сейчас они меня увечить будут!.. Нету у нас телки, мы продали!
Мишкин отец, сидя на снегу, качался из стороны в сторону, причитая;
мой отец упал становому в ноги, Мотя зарыдала, мужики оцепенели.
С размаха начальник ударил отца кулаком по скуле. Желтая перчатка
на руке его лопнула. Отец ткнулся головою в порог и застонал. Зверем бро-
силась на станового Мотя, вцепившись в рукав. Ее ударили по голове, она
свалилась рядом с отцом, но, вскочив, метнулась снова, а ее опять ударили;
сестра опять упала. Начальник пнул отца в живот ногою, и он скрючился,
скуля, а мать полезла на потолок.
—
Караул!.. Душегубство!.. Спасите!.. —
кричала она и с четвертой
ступеньки шлепнулась на пол.
...
Когда начальники уехали, Мишке вывихнули ногу и возили в город
поправлять, а я с неделю ходил кровью на двор за Пеструху.
*
*
*
И лежал в постели. Мать поила меня грушевым отваром, на живот
клала пареную бузину; отец четвертый день сидел под арестом за подати.
—
Легче? — спрашивала мать.
—
Легче, — отвечал я, глядя в сторону. —
Почему ты за меня не за-
ступилась?
Мать потупилась.
—
Я боюсь его, — ответила она.
В промерзлые окна смотрит февральское солнце; льдинки на стеклах
горят синими и желтыми огнями, по спущенному концу толстой шерстяной
нитки, положенной на подоконник, стекает в черепок вода.
—
Когда он перестанет меня мучить? — спросил я, помолчав.
—
Не знаю... Когда вырастешь большой... Его ведь тоже били...
—
Это не указ.
Приподнявшись на локте, я шепчу, замирая от страха:
—
Если б умер он...
Мать смотрит на меня испуганно и тоже шепчет:
—
Брось... Отец ведь он тебе!..
Но горечь, что скопилась в сердце, кружит голову, подталкивает:
хватая мать за шею, я опять шепчу:
—
Мы лучше б жили, верь мне!.. Я пахал бы, Мотя помогала, а ты
дома с курами да с разной рухлядью... Я не бил бы вас... зачем?
Мать молчит, прижавшись к моему плечу.
—
Или вот что: мне уйти куда-нибудь... Подальше, чтоб не знал он...
—
Ваничка!..
...
—
Он ведь все равно убьет меня когда-нибудь... Кабы сила, его б
надо прикокошить... Топором или чем-нибудь другим... Бацнул, а потом
в навоз... А на улице сказали бы: в Полесье, мол, уехал на пять лет...
—
Он здоровый: ты не сладишь...
—
Сонного...
В сенях звякнула щеколда. Кто-то обивал о стену лапти.
—
Кто там? Если он — молчи, не сказывай, что я надумал... Приста-
вать будет — крепись...
В избу вошла девочка лет девяти и крохотный мальчишка с палкой
выше головы, брат с сестрой по виду.
Наскоро перекрестившись, девочка пропела хриповатым от простуды
голосом:
—
Милостыньку, Христа ради, благодетели... Помяни, господи, роди-
телей ваших в царствии своем...
Передохнув она долго, надрывисто кашляла, согнувшись пополам и за-
крывая белою вязенкой посиневшее лицо.
—
Чьи вы, деточки? — спросила мать.
—
Захаровские... Колотковы...
—
Сиротки, видно?
—
Отца нету...
Мальчик широкими глазами рассматривал избу, подергивая верхней!
губою и оправляя ситцевый платок на голове, которым подвязаны уши,
а девочка стояла молчаливая и сосредоточенная, словно ей было не девять
лет, а сорок или больше.
Из-под печки выбежали голуби. Усталое личико мальчугана засветилось
радостной улыбкой; он завозился и смешно засопел, выдергивая свою руку
из руки сестры.
—
Волкуют али нет иссо? •— крикнул он звонко, обращаясь к матери,
но сейчас же испугался, покраснел и замолчал, уткнувшись в подол девочки.
—
Воркуют, — отозвался я с постели. —
Было две пары, да я одну
продал...
Девочка, кладя в сумку ломоть хлеба, тихо промолвила:
—
Пойдем, Боря...
Брат капризно отмахнулся, расспрашивая меня о голубях. Та при-
тронулась к руке его.
—
Опоздаем, неслух, — улыбнулась она матери, как бы 4 извиняясь
за ребенка.
—
Пускай бы малость отдохнул, — сказала мать. —
И ты присядь
на лавку... Стужа ведь!.,
Девочка подумала, нерешительно переступила с ноги на ногу и снова
молча потянула брата.
—
Полдеревни... Не успеем... —
молвила она.
Но Борька уперся ножонками в пол, одной рукой схватил меня за по-
лушубок, а другою отбивался от сестры.
Девочка еще больше сконфузилась, глядя растерянно на брата, на меня,
на двери и на мать.
—
В каждом вот дворе, где ребятишки, маята с ним, — прошептала
она, глотая слезы.
Мальчик надулся клопом, прижимаясь к постели.
—
Тут тепло, а там молоз, — сказал он в оправдание. —
У меня луки
замелзли...
—
Крендель тебе дам... Пойдем!..
Мальчик оживился.
—
Давай цицяс, — протянул он руку. —
Если дас, пойду.
—
Кабы был он у меня! — пронзительно завыла девочка и, схва-
тив брата в охапку, поволокла его в сени.
Мальчик отбивался, дрыгая ногами, царапаясь и крича на всю избу.
девочка тоже ревела, награждая его подзатыльниками...
*
*
*
Отец пришел из города худой и грязный, влез на печку, не поевши,
и уснул. Мы ходили тихо, разговаривая шепотом.
—
Вашего-то били там, — прибежала с новостью соседка.
—Старик
Федин сейчас сказывал.
—
Ну-ко-ся опять, — всплеснула мать руками.
Мотя искривилась, глядя в угол, лицо ее покраснело, по щекам потекли
крупные слезы.
—
Их бы надо! — сцепив зубы, прошептала она зло. —
За что они...
Их бы надо!..
—
Что ты, девка, обалдела, не проживши веку? - — цыкнула соседка.
—
,
Без пути и там не бьют.
Оказалось, что в полиции мужиков заставили колоть дрова, но отец
наотрез отказался, говоря:
—
Положите цену, зря работать не согласен.
Ключник донес приставу, а пристав отца бил.
—
Я тебя, такой-сякой,
сгною! — кричал он. —
Проси у меня
прощения.
Отец просил.
—
То-то... Пойдешь теперь в работу?
—
Нет.
Пристав снова бил.
—
Становись, разбойник, на коленки!..
Отец становился.
—
Я — начальник, — размахивал руками пристав. —
Как ты смеешь
мне перечить?
Отец молчал, склонив голову. Пристав учил отца до обеда, весь изму-
чился, вспотел, а толку не добился никакого. Рассердившись, затворил его
на хлеб и воду и надбавил сроку на неделю.
Дома, на печи, отец лежал недели полторы. Он не охал, не стонал и пи
на что не жаловался, лежал вверх лицом и глядел в черный, закоптелый
потолок или бесперечь курил. Приходили мужики по делу — он молчал,
оставаясь вдвоем с матерью — молчал, есть слезал, когда все спали.
На четвертый или пятый день у него вышел табак; отец стал курить конопля-
ную мякину вперемешку с полынью. Мать вздыхала. Сестра была пасмурна.
—
Отлежится на печи-то и опять начнет лупить нас чем попало, —
шепнул я матери.
Та мельком взглянула на меня и не ответила ни слова.
—
И охота же ему курить эту пакость, — продолжал я, сплевывая, —
душу всю захватывает... Нету табаку — не надо, подождал бы, когда новый
купится.
—
Пошел прочь! — рассердилась мать, толкая меня в спину. —
Тебя
не спросили, что курить!..
Я обиделся, сел под окно и тоже целый день не разговаривал ни с кем.
—
Все вы, — думал я, — притворушки... Только и делов, чтоб как-
нибудь меня обидеть...
На второй неделе отец засвистел на печи, потом громко засмеялся,
а мы переглянулись.
Крестьянин и рабочий. Ч- Ц .
9
Отец свистел до обеда.
—
Шел бы закусить чего-нибудь, — сказала мать. —
Чтожтывсе
лежишь колодой, а?
Отец засмеялся, но обедать не пошел.
—
Голос подал — значит, встанет, — сказал я сестре.
Шел великий пост. Пригревало солнышко. С крыш текла капель.
В сумерки ударили к вечерне. Потянулся народ в церковь.
—
Эх ты, мать честная, отец праведный! — сказал отец, слезая
с печи. —
Принеси, Матреш, цыбарочку водицы.
Он был черен, как арап, седые, спутанные волосы стали дымчатыми,
в бороде торчали перья.
—
Ну, что, как твои дела? — спросил он, щекоча меня под подборо-
док. —
Много бабок выиграл на масляной?
—
Слава богу, — сказал я отодвигаясь.
Отец вымыл лицо, голову, переменил рубаху и причесался. Мать юлила
около него, подавая чистую утирку, гребешок и бесперечь советуя: —
за ухом-то вытри, за ухом-то!.. Обожди, я тебе ножницами сзади подравняю
волосы, Петрей, чуточку!..
Нарядившись, отец сел на коник, поглядел на всех, оперся о стол лок-
тями, склонил голову и снова засвистел, постукивая лаптем о проножку.
—
Бросил бы, старик, — сказала мать, — жутко ведь!.. Ну, что же
теперь делать? Перестань, пожалуйста!
Отец притворился, что не слышит. Мать уткнулась в угол, скрадывая
слезы.
—
Так-так-так, — сказал он, насвистевшись.
—
Так-так -та -ак !..
Мать повеселела. Ласково притронувшись к плечу его, она спросила:
—
Поговеть не думаешь? Средокрестная неделя уж...
—
Поговеть? — Отец задумался. —
Можно поговеть.
Мать обрадовалась пуще.
—
Поговей! — воскликнула она. —
Вот увидишь, легче станет!
—
Мо-ожно, — повторил отец. —
Отчего нельзя?
Причесавшись еще раз, он пошел к вечерне, а вернулся к третьим
петухам пьянее грязи.
—
Малаша, Ваня, Мотичка, мильге мои! Голубяточки, — крикнул он
с улицы. —
Говельщик ваш идет, встречайте, мать вашу
! Встречайте, сер-
добольные!..
Стуча зубами, мать металась по избе. Я залез под лавку. Мотя
торопливо одевалась.
—
Рцы, ерцы, господи помилуй... Слава в вышних богу... Успокой,
господи, рабов твоих... —
бормотал отец, с трудом переступая иѳбяный порог.
Он без шапки, бледен, с разорванным воротом новой рубахи. Войдя,
ткнул ногою овцу, которая с ягненочком жевала сено у лежанки, осмотрелся
мутным взглядом, мотнул головою, засопел, как боров.
—
Рцы, ерцы, господи помилуй... Еже словом, еже делом... Все живы?
—
Живы, — ответила мать.
—
Живы? Ну, и ладно... Дай поесть... Сущую-рущу, пресвятую бого-
родицу, тебя величаем...
Мать нарезала хлеба, налила похлебки.
—
И во веки веков, аминь... —
Отец дернул за конец столешника, еда
полетела на пол. —
Жарь яичницу!.. Хлеб наш насущный даждь нам днесь;
и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должникам нашим...
—
Батюшка! Петрей! Желанный мой! — закричала мать. —
Окстись,
что ты, пост великий, какую тебе яичницу?
—
Жарь яичницу, а то все окна поломаю! — стукнул отец кулаком
о стол.
Мать заплакала, отыскивая сковороду.
—
Еже словом, еже делом... —
Отец опустился на колени. —
Нет...
не так... постой.
—
Он снял с божницы большой медный крест, родительское
благословение, трижды перекрестился и поцеловал его.
—
Слушай, — сказал он, глядя на крест, — исповедываться буду...
Грехи мои слушай... Двадцать лет не исповедывался, а теперь вот вздумал
на старости годов... Слушай: с восьми лет пью водку и ругаюсь матерно и до
гроба буду пить, понял? С десяти курю табак, с молодых лет бью жену...
завидовал богатым... лошадей увечил, слышишь?.. Много в сердце зла имею...
Не люблю людей... Кругом меня — злодеи, а я —первый... Ну, еще что?..
Эх, боженька!..
—
Отец тихонько притронулся корявым пальцем к распя-
тию. —
Небось, сердишься? — и захлипал. —
Что ж мне делать, если жизнь
моя такая; сердись не сердись, а никому не покорюсь я!.. Хоть на месте
истопчи!.. Хоть по жиле вытащи мою утробу! — заревел отец, бледнея, и схва-
тил с ожесточением распятие...
Остолбеневшая мать пронзительно завыла:
—
Стариче-ек! Опо-омнись!..
Пошатываясь, отец взял ее за руку, поставил- затылком к дверям,
размахнулся и хлестнул кулаком по переносью. Кулак цокнул, мать за-
тылком отворила двери, ахнула и растянулась на полу в сенях. Подбежавшую
сестру отец поставил носом в сени. Падая от подзатыльника, та поползла
раком.
—
Иди, третий... Эй, наследник, где ты?..
Я полез было под печку, ко о-тец вытащил за ногу. Держа на весу, сопел
и матюкался, а я ловил его за штанину. —
Лети, — сказал отец, и я шлеп-
нулся на что-то мягкое: не то на мать, не то на Мотю. Отец затворился.
Пил отец шесть дней. С барышником Хрипуном он заездил лошадь,
рыская по кабакам. На седьмой пришел в одной рубахе, хворый, желтый,
щипаный, лежал без движения долго, ничего не ел, кроме капусты, ни с кем
не -разговаривал. Оправившись, стал работать.
*
*
Из трехлетней школьной жизни я с отвращением и болью вспоминал
случай, когда пьяный поп, наш законоучитель, высек кнутом полкласса,
в том числе и меня. Парфен Анкудиныч заболел и поехал в город к доктору.
Мы сидели одни. Возвращавшийся со свадьбы или похорон о. Андрей услы-
шал, проезжая мимо, шум и песню:
Вот лягушка по дорожке
Скачет, вытянувши ножки,
Ква-ква-ква! Ква-ква-ква!
Часть товарищей, подражая лягушке, прыгала на четвереньках среди
класса; из другого угла пели:
А качи, качи, качи —
Прилетели к нам грачи...
Соскочив с саней, красный от вина и злости, поп широко распахнул
в школу двери и, придерживаясь за притолку, гаркнул:
—
Цыц, мерзавцы! В кабак, что ли, собрались!..
Меховая круглая шапка его — в соломе, на усах и бороде сосульки,
глаза — вытаращенные. Кто-то захихикал. Отец Андрей дернул крайнего,
Игната Маликова, за волосы, опрокидывая на пол.
• — Кто дежурный? — прохрипел он.
—
Я, — поднялся Костя Рукавицын.
-—
Р-розги!
—
Нету... —
Костя побледнел.
—
Р-розги!.,
Костя хуже растерялся. Поп бросил Игната и, подскочив к Рукавицыну,
ударил его ладонью по голове. У Кости потекла из носа кровь. Он завиз-
жал от боли.
—
Я отцу пожалуюсь, — сказал он.
Угроза окончательно взбесила о. Андрея. Выбежав на улицу, он взял
у возницы ременный кнут и выпорол старшее и среднее отделения, приго-
варивая:
—
Рядом — божий храм, а вы песни, прохвосты, горланите!..
Когда приехал Парфен Анкудинович, и мы со слезами стали ему жало-
ваться, он ответил:
—
Ничего я не могу поделать: он заведующий здесь... Терпите...
Школа была церковная.
С глубокой отчетливостью из той же школьной жизни запечатлелась
в душе моей иная сцена.
Раннею весною подвыпивший отец с компанией соседей и родственников,
зайдя однажды в избу, сказал мне:
—
Почитай нам что-нибудь, сынок.
Сынок! Я даже не поверил! Это был первый и единственный слу-
чай в моей жизни, когда он назвал меня сыном своим! Захватило дыхание
от радости, хотелось броситься к нему на шею и заплакать счастливыми
слезами, поцеловать его руки и, крепко прижавшись, самому сказать что-
нибудь ласковое, душевное...
Выло вознесение. Я прочитал им историю праздника. Я с таким увле-
чением сделал это, так мне было приятно и весело, в ушах так сладко
звенело чудесное слово: «сынок», что все невольно залюбовались мною.
А отец подозвал меня ближе к себе, маня пальцем и любовно глядя
добрыми глазами: он гордился мною, старый. Схватив обеими руками мою
голову, он близко-близко наклонился и поцеловал меня.
—
Милый мой, славный Ванюша... дитятко мое...
У него по щекам текли крупные слезы, прячась в широкой бороде,
изрубцованные пальцы перебирали мои волосы, а затуманенные слезами
глаза ласкали и горели.
—
Хороша эта штука — грамота, — сказал кто-то, вздохнув. —
Кара-
пуз еще, мальчонка, а все понимает, не как мы грешные — слепни:
смотрит в книгу, а видим фигу.
—
Учись, родной, учись...— шептал отец.— Я не буду приневоливать тебя
к работе нашей, пустая она и неблагодарная... Учись!.. —
тряхнул он го-
ловою.— Находи свою светлую долю; я не нашел... Искал, а — не нашел...
Он опустил руки, вздохнул и промолвил, глядя в землю:
—
Я бы хотел, чтобы ты хоть один раз в жизни сытно поел... да... и
не из помойного корыта. Я весь век голодал, а работал, как вол, даже
больше... Учись: ты, может быть, пробьешь себе дорогу... Мы умрем скотами,
падалью, а ты — ищи свое счастье и учись, понял?
—
Понял, — прошептал я, прижимаясь к нему.
Отец снова поцеловал меня, трепля по волосам.
—
Эх, ты, Ваня-Ваничка, голубчик ты мой!..
Я разрыдался от счастья.
Ив.
Вольное.
отрочество.
Настоящая глава — одно из грустнейших воспоминаний моего отроче-
ства, и* события, в ней описываемые, а также и последующие, много способ-
ствовали тому, что я, может быть, преждевременно вылупился из отроческой
скорлупы, подняв на свои неокрепшие плечи тяжесть старческих дум.
Петруша, Вася Пазухин и большинство ребят уехали из ночного еще
до солнца. На день в поле остались только дети да те из подростков, у ко-
торых не было дома неотложного дела.
Раннее утро на лугу — бесконечно красивое время: тогда роса горит
и переливается ярчайшими самоцветами, воздух чист и прян, как мед,
а хлеба — в розовом, колеблющемся, необ'ятном покрывале.
Бодрые, обласканные солнышком, мы весело гурьбою выкупались в бо-
чаге, напекли картошек и, усевшись в круг, аппетитно завтракали.
—
Намнемся досыта и — в чехарду, — лукаво щурясь, говорит Алеша
Маслов, востроглазый, продувной мальчишка, подталкивая в бок мешкова-
того Селезня, которому вчера досталось больше всех в «лису». —
Ты
как, Семен?
—
Дыть я, чего ж, — я не сробею... Только чтобы озорства какого
не было, — медленно-, будто вытягивая слова из желудка, сопит тот.
—
По-
божий — согласен, по-чертову — согласья нету...
Слова его внутри бухнут и припадают к языку; он их отдирает,
тужится, мотает головой и, не осилив, сует в рот нечищенную картошку,
пачкая подбородок и губы золой.
—
Поглядыва-ай!.. Поглядыва-ай!..
Надев на палку картуз, из-за холма, в котором будто бы в старое
время хоронили утопленников, нам машет караульщик Пронька, указывая
в даль — на синеющий бугор.
—
Об'ездчик едет!.. Привьет во-спу!..
По пыльной дороге, пока еле видный, мчался верхом человек в красной
рубахе.
Алеша приложил руку к козырьку и, посмотрев, сказал:
—
Никак в сам деле — он... Лошадей надо пересчитать... Ну, да, —
свернул на нашу стежку!..
Неизвестный человек, — об'ездчик, по предположению Алеши и
Проньки — несся во всю прыть, оставляя за собою клубы пыли. Изредка
он взмахивал руками, и тогда рубаха его надувалась пузырем.
Мы встали на ноги.
Вот — ближе, ближе... Лошадь — гнедой масти, во лбу звездочка.
—
Пахом ваш! — закричал Алеша. —
На Красавчике!
—
Да, — Пахом.
Круто осаживая около нас вспенившегося жеребца, работник гаркнул:
—
Марш домой!..
Он бледен, пьян, без шапки, босиком.
Ни слова не говоря, я торопливо схватил оброти.
—
И ты! —Пахом ткнул кнутовищем Селезню. —
Марш все домой!..
—
А что ты нам— хозяин, что ли? — пробовал защищаться Проныка. —
«Марш все домой!» Нам приказано до вечера стеречь.
—
Молчать, кутенок дохлый! — заревел Пахом и хлестнул его-кнутом
по голове. —
Сказал — и слушайся!.. Марш без разговоров!..
—
Я отцу пожалуюсь, — заплакал Пронька, но тем не менее покорно
взял одежу, направляясь к своим лошадям.
Пахом гарцовал и лаялся, как пес; с удил Красавчика сочилась кровь.
Дождавшись, когда все сели на лошадей, он гикнул и помчался тою же
дорогой, что приехал, бросив:
—
Езжай -рысью, кто отстанет — лупка!. .Нынче—- 'пиршество!..
Перепуганные, а некоторые и в слезах, мы молча под'езжали к Мокрым
Выселкам, теряясь в догадках. В поле, несмотря на будни, не было ни одного
человека. Кое-где на пашне серели распряженные телеги; в бороздах,
свалившись на бок или задрав обжи вверх, валялись сохи, опрокинутые бо-
роны; у канавы, между Кукушечьим перелеском и Святым Колодцем, лежал
веревочный кошель, набитый сеном, пыльный шарф, возилки, синий —
из рубахи — мешок с хлебом; в озими — телята, а кругом, на всем простран-
стве— ни души.
—
Не ладно что-нибудь, — промолвил Селезень.
—
К чему бы этак? На
дворе покос, а люди празднуют... Пронька, больно тебя устегнул работник-то?
—
Нет, — погладил! — еще всхлипывая, отозвался тот. —
Тебя бы
этак!..
—
Что ж, я — бит: меня с шести лет в работу впятили... Погодьте,—
никак колокольчик? Ишь ты — даже много!.. Свадьба, что ли, у кого?..
Действительно, из-за осинника кто-то азартно звенел колокольцами.
С еще большим недоумением мы переглянулись, постегивая лошадей, а когда
в'ехали на улицу, перед изумленными глазами открылась такая картина.
Пьяный Шавров, одетый в желтую полушелковую рубаху и плисовые
шаровары, сидел в тарантасе. Жирно политые лампадным маслом волосы его
блестели, расстегнутый ворот рубахи обнажал широкую грудь в рыжей
шерсти; померкнувшие оловянные глаза бессмысленно таращились. Рядом
с ним, по правую руку, вертелся дьячок-приятель, где-то с ног до головы
выделавшийся в навозе; по левую — работник, Вася-батюшка, — чинный и
благообразный, в вышитой темно-красной бордовой рубахе и полосатой,
с хозяйского плеча, жилетке, а на козлах, в сарафане и розовом платке,
успевший уже перерядиться Пахом. В тарантас, пестро украшенный лен-
тами, было запряжено штук двенадцать пьяных баб. У каждой наискось —
через плечо подмышкой — лямка . Бабы — молодые, лучшие из Мокрых Высе-
лок. Впереди их, парами, под предводительством того замухрышки, который
нам играл с Летрушею на дудках, стояли музыканты, держа наготове бала-
лайки, косы, бубны, старые ведра и заслонки из печей; за ними — девки,
переряженные парнями, и парни, переряженные девками; лица парней выма-
заны сажей, а на головах — высокие соломенные колпаки. Сзади тарантаса,
меж полукольца нарядных мужиков и баб, на привязанной к оси корове,
сидел счастливо улыбающийся Влас, закутанный в голубое, байковое
одеяло.
И над всем этим, как кошмар, стоял неистовый хохот, матерщина,
свист и песни. А по задворкам, где на картофельных полосах ходила бес-
призорная скотина, прятались между пучков соломы перепуганные дети и
старухи. С голубого неба радостно светило ласковое солнышко, плыли
шапочками облака, на крышах мирно ворковали голуби и щебетали
ласточки.
Сзади меня, забыв о недавнем огорчении, взвизгивали и, закрывая ла-
донями лица, хохотали Пронька и Алеша. Недалеко от них, став на четве-
реньки, Клим Ноздрин, одетый в вывороченную шубу, лаял на жеребенка-
сосунка, а жена его, хватая Клима за ноги, кричала:
—
Встань, дворной, а то штаны порвешь —они три гривны за аршин!..
Не лай, а то ударю чем-нибудь!..
Жеребенок пятился от Клима и предостерегающе стучал точеной
НОЖКОЙ.
Ѵ
/ . J«S|J
А Шавров, склонив на грудь голову, сидел в тарантасе неподвижно,
временами лишь устало поднимая руку и прикладывая ее, словно силясь что-то
вспомнить, к бледному потному лбу. Это что-то, очевидно; было очень
важное, нужное, спешное, потому что лицо его мучительно кривилось, глаза
еще глубже уходили под щетинистые брови, широкая спина сутулилась,
а плечи низко, безнадежно опускались...
И не в состоянии вспомнить, он, как спросонок, поднимал тупые бес-
смысленные глаза на баб, и тогда руки его плетью падали на колени.
—
Что ты рот распялил, матери твоей калач с изюмом! — раздался
пьяный окрик. —
Покатай меня по улице!
Я вздрогнул. В белой до пят женской рубахе, в холщевом саване па
голове, махая отмороженными култышками, ко мне нетвердою походкой
шел пастух Игнашка Смерд.
—
Покатай, пожалуйста, я тебе дам на подсолнухи!..
Стиснув зубы, сам не зная — за что, я изо всей силы ударил его
толстым кнутовищем по лицу и, рванув поводья, с глазами, полными слез,
ускакал к себе.
Весь двор был застлан веретьями, на которых еще валялись неубран-
ные четвертные бутылки из-под вина, стрелки зеленого лука, серые пятна
рассыпанной соли, обглоданные селедочные головы — остаток пиршества.
По ним бегали собаки, вырывая друг у друга кости, важно разгуливал
индюк и космоногая наседка с цыплятами, а на крыльце, склонив на руки
голову, горько плакала Гавриловна, жена Шаврова.
Бросив лошадям травы, я побежал в избушку, чтобы разузнать у Пети,
что это такое, но, вспомнив, что товарищ в поле, растерянно остановился
у порога.
Вдруг с улицы, очевидно, по данному сигналу, раздался оглушительный
треск и звон заслонок, а за ними сотни пьяных глоток застонали и завыли
что-то.
Я вышел за ворота.
Вытянувшись пестрым холстом, с тарантасом по средине, толпа
неслась, как сумасшедшая, вдоль улицы. Недавней задумчивости Шаврова
будто не было: привстав, держась рукою за дьячка, он гикал, матерщинничал,
подбрасывал картуз; ему подобострастно подражали; Пахом хлестал возжами
по вспотевшим бабам; Вася-батюшка скромно хихикал, а впереди, вокруг,
отступая и сходясь,1танцовали ряженые, дребезжали косы, ведра, прозвонки
и колокольчики...
Приседая на карачки, тощий замухрышка с наслаждением бил ладонью
в бубен, тоненько, надсадливо крича:
Устюшкина мать
Собиралась умирать:
Ползает, икает
Ногами брыкает...
Рядом с ним беременная баба, высоко закинув голову и обнажая синие,
нынготные десны, ревела во всю мочь, прикладывая руку к щеке:
Я-б 6а рлда... тебе воспитала,
Только в грудях нету... моих молока.
Оглядываясь по сторонам, она дергала подбородком, и большой рот ее,
как пушечное жерло, выбрасывал осколки слов:
Пон-несу... эт-ту маль-утку
Ко_сест-ри... це своей ко родной..
Взметая мусор, орава вихрем пронеслась по улице на другой конец
деревни, оставляя за собою груду пьяных, ползавших в пыли на четвереньках.
На обратном пути, против наглухо закрытого* дома Пазухиных*, Шавров
велел остановиться.
—
Почему Егорши нет? — спросил он, глядя на толпу. —
Приказ мой
был, аль нет?
Музыка ударила «камаринского».
—
Помолчите! — ощетинился хозяин. —
Где Егорша с дворянином?
—
Не знаем, — сказал за всех Игнашка Смерд, — спрятался, должно
оыгь...
—
Стучи в двери!
Шавров потен, зол, глаза полуприкрыты.
Клим Ноздрин стал колотить щеколдой.
—
Не слышишь, старый дьявол, — тебя требоват Созон Максимыч! .
Отворяй живее!..
Дом словно вымер. Ноздрин ударил в дверь ногою. К нему подскочили
на подмогу, и шаткие стены задрожали, как живые.
—
Молчит, рвань, — приспичило! — ухмыльнулся Влас.
—
Ужо-ко
слезу я.
Скромный Вася-батюшка, достав из кармана вчетверо сложенный
кубовый платочек, аккуратно вытерся и поглядел на Шаврова.
—
Пойтить, что ли, мне? — вздохнул он и*, соскочив с тарантаса,
обошел вокруг избенки.
—
Все закрыто — со двора и с улицы, — развел он руками. —
Что
за народ, мать их курицу!..
Он неторопливо выдернул из стоявшей поблизости мельницы дубовое
било, попробовал в руке его и, подойдя к окну, со всего размаха ударил
в раму. Стекла взвизгнули, рассыпавшись слезами, внутри кто-то ахнул,
толпа заржала и засвистела.
Так же спокойно, степенно улыбаясь, работник подошел ко второму
окну, поднял било, приловчаясь, но двери из сеней неожиданно раскрылись
настежь ,и на пороге появился бледный, трясущийся Егор с водоносом в руках.
—
Разбойники! Побойтесь бога!.. Братцы!.. Где же ваша совесть?..
Уб-бью, сволочи!..
Егор рванулся за порог, подняв над головою водонос; толпа шарахну-
лась и отступила.
—
Тю-лю! Эй-эй! Га-га!..
—
Бери его, лохматого!..
—
Цель в морду билом! Швыряй билом!..
Опять откуда-то вынырнула жена Клима Ноздрина, схватила мужа
за рубаху, награждая подзатыльниками.
—
У тебя сколько кутят-то, мразь ты этакая, а? Четыре? — вращая
желтыми белками, выла она. —
Оглушат тебя водоносом сдуру, а я с ими
тогда майся! Брѳсь! Уйди, а то ударю чем-нибудь!..
И, обернувшись к Егору, сжала кулаки, оскалив зубы:
—
Ты что же, анафема, разбойничаешь, — а? Захотел в острог?
Ударь только, ударь! Я т-те-бе все бельма выдеру, кудлатому мошеннику!..
Тяжело дыша, растрепанный Егор, как зверь среди борзых, метался
у дверей, отбиваясь от градом сыпавшихся на него палок и кирпичей, но
вскочивший с козел Пахом бросился к старику иод ноги и повалил его
на спину. Выпуская из рук водонос, Егор заплакал, а соседи, с которыми
еще только вчера он беседовал, шутил, рассказывал про сына, схватив его
за ноги и за руки, с песнями и хохотом поволокли по улице...
Другая же часть мужиков, под предводительством Пахома и Власа,
ворвавшись в сени, отшвырнула бросившуюся к ним навстречу старуху Анну,
хватая Васютку.
Еще как только Егор отворял уличные двери, выбегая на улицу с водо-
носом, Вася взял из-под лавки топор, становясь за спиною отца, но когда
Егора повалили и поволокли по улице, а в сени вскочили Пахом и Влас, —
руки его не поднялись на убийство: не то безумным страхом, не то жа-
лостью забилось его сердце, лицо помертвело, топор сам собою выпал.
Две руки схватили его за плечи, другие две рванули назад, он впился
пальцами в скамейку и замер, бледный, будто не живой.
—• Тащи купать! — скомандовал Шавров.
И когда Васю, вместе со скамейкою, которую так и не могли оторвать
от него, волокли по выгону к реке, от сарая, хватая за живот, хохотал
до слез урядник, только что приехавший к Шаврову.
—
Дьяволы!.. Что вы делаете, дьяволы?.. Ох, я умру сейчас! Макси-
мыч, шутоломный! Что ты выдумал?.. Ох, я умру сейчас! Умру!
Он повалился -в бричку и задергался, повизгивая, а белая фуражка
его со звездою откатилась под воротню.
Раскачав, Васю бросили в реку. Он выпустил скамейку и, барахтаясь,
поплыл к мосткам. Его вытащили за рубаху.
—
Бросай еще! — сказал Шавров.
Его снова бросили и снова — до шести—теми раз, до тех пор, пока
он не посинел и не стал падать от слабости. За все время Вася ни разу
не крикнул, не сказал ни слова, крепко-крепко сцепив зубы; одни глаза
огнем горели, но и те к концу стали тухнуть, лицо — млеть, а губы —
вянуть и дрожать...
Когда, брошенный в последний раз, он не мог уже выплыть, Пахому
пришлось доставать его.
—
Будет, что ли? —вопросительно посмотрел Пахом на хозяина,
держа Васю на руках.
—
Будет, — ответил за Шаврова Влас.
Его положили на траву.
—
Очухайся маленько... Это, брат, тебе не серые портки на улицу!..
Вспотевшие, достаточно усталые, мужики неторопливо поплелись
в деревню, к нашему крыльцу.
А там толпились дети, все еще хохочущий урядник, Павла и обходчик
Севастьянов.
—
Погляди-ка на подпаска"! — крикнул мне Алеша Маслов, когда я,
шатаясь, шел к себе в избушку.
Скуля, в грязи и рвоте, у фундамента барахтался Петруша. Скотины
он не пас сегодня: «на пиршестве» его споили, и он где-то спал.
—
Эй, ты — Жилиный! — увидел он меня: — подыми меня, а то я нынче
пьян, — и скверно выругался, высунув язык и передразнивая меня.
—
Севастьянов, дай ему за меня в рыло! Дай!.. —
сквозь икоту про-
лепетал он.
Урядник присел на карачки, раскрыв рот; улыбаясь, Павла скромно
опустила длинные ресницы; ребятишки, как галки, закружились от восторга
и захлопали в ладоши. Схватившись за голову, я закричал.
—
Ты знаешь, что сделали с Васей?! —и помчался куда-то вдоль
деревни, а товарищ, приподнявшись на колени, под неистовый хохот и визг
опять стал ругать меня последними словами и грозить кулаком...
Тогда я думал, что за всю мою жизнь я не прощу Шаврову издева-
тельства над Васей, не прощу его работникам и всем Мокрым Выселкам —
жалким и бессовестным людям, раболепно унижающимся перед разжи-
ревшей мразью.
Я знал, что вся деревня по-уши должна хозяину; знал, что всякого,
осмелившегося итти наперекор ему, Шавров способен пустить по-миру;
знал, что грозная для бедняков полиция — правая рука его; знал и то, что
слова его:«Я им страшнее бога» —не бахвальство. И тем не менее жгучая
ненависть терзала мое сердце, и на глазах навертывались слезы при одном
воспоминании о только что пережитом позоре. В первый раз, совершенно
сознательно, я понял, какая громадная сила — богатство, как из-за денег,
из-за страха быть разоренным, мирные, неглупые и безусловно не злые
люди становятся собаками, которых толстая мошна науськивает на других —
хороших, добрых людей, семейство Пазухиных, в частности —на Васю, ко-
торого в душе они любили и гордились им, — науськивает только потому, что
неумышленно было задето самолюбие. Я ни на минуту не сомневался в том,
что если бы Шаврову пришла в голову шальная мысль приказать мужикам
выпороть среди улицы собственных жен или стариков-отцов, многие из них
спьяна, из угодства, подчинились бы ему и — высекли... Хозяин вырос 6 моих
глазах в громадную, всемогущую, злую силу денег, перед которою все пре-
клоняются, с готовностью исполняя жестокие капризы и самодурство ее.
В этот вечер мне стала понятною прославленность Шаврова, его ум,
сноровка, необыкновенные качества характера и все прочее, о чем так
много и так громко говорили по всей волости его прихвостни и подлокотники.
И мне думалось: умри Шавров, завтра же прославят умным, добросовестным,
рубахой-мужиком слюнтяя Власа.
И первое сознание такой несправедливости было мучительно, как
тяжкая болезнь: вместе с ним в'едалась в мои кости злоба к непорядку,
отвращение к двоедушным людям, и я чуть не рвал на себе волосы, с'едаемый
стыдом, бессильем и обидой...
Давно уже спустился вечер, вызвездилось небо, на деревне примолк
шум и песни, а я все еще сидел за околицей, в хлебах, погруженный в поток
новых, горьких мыслей. Бесконечно было жалко Васю. Представлялось, как
теперь терзается он злобой и желанием отомстить своим обидчикам, и как
сознание бессилия надрывает его сердце.
—
Может быть, вдвоем придумаем? Спалить их разве, сволочи? За одну
беду — семь бед на их проклятые головы!..
Эта новая мысль окрылила меня.
—
Пускай потом острог, Сибирь, пускай рвут тело на куски, зато
злодейство втуне не останется.
И когда решение созрело, я поспешно пошел к Пазухиным.
Ночь была тихая, душная, безросая. Серые избы почернели и разбухли.
В грудах щебня курлыкали жабы, дрались кошки, под поветями пищали и
возились воробьи.
Обычно Вася спал в сенях, на двух прилаженных к стене скамейках,
и я направился туда. Осторожно стукнул. Двери сами собой отворились.
—
Вася!..
На соломе кто-то завозился.
—
Что-ж ты где лежишь? На постель бы шел... Это — я . ..
Я наклонился и... сейчас же отскочил: в лицо меня лизнула Дамка,
их собака, а постель была пуста. Я обшарил сени и чулан, постоял на
крыльце и хотел было уже итти домой, как услышал странный шорох и
хрип со двора.
Закутанный в тулуп, под навесом, на кострике, лежал Вася, а в ногах,
обняв его колени и прижавшись головою к ним, — Шавров, шепча:
—
Детка моя... Вася!.. Детка моя... Детонька умильная!.. Детонька
умильная!..
Высвободив из-под тулупа тонкую, худую руку, Вася молча гладил его
волосы, а Шавров ползал, бился и хрипел, обливаясь слезами.
—
Детонька... детонька... детонька...
Хватаясь за забор, чтоб не упасть, я опустился рядом с ними.
В ту же осень, недели через три после моего прихода, сестру на два-
дцать первом году выдали замуж.
У нас обычай: как только минуло девушке шестнадцать — семнадцать
лет, родители норовят поскорее сбыть ее с рук.
С волею их не считаются, пропивают часто под хмельную руку где-
нибудь у кабака, и нередки случаи, когда невеста видит в первый раз
жениха своего под венцом.
Оставаться в девках считается позором для всего семейства, и мало-
мальски засидевшуюся ходят «напяливать». Это — уж забота матерей. С по-
клонами и просьбами подымают они на ноги многочисленных кумушек, тету-
шек, троюродных сестриц своих — походить по женихам, приглядеться
к «заведению», потолковать. В случае удачи, кумушки и тетки получают
рушники, «штуки» на платье, шали, нарукавники, а за неудачу — выговор.
Те, что с достатком, идут напяливать засидевшихся невест к гольтепе
из хороших, а бедные ищут вдовцов, оховерников, порченых, лоскутников
и пьяниц — таких же несчастных, как сами.
Соблазненные овцой или полутелком, что идет на придачу, хорошей
обужей-одежей, многоречивыми обещаниями «в случае чего помочь»,
а чаще под суровым давлением* родителей, парни, скрепя сердце, женятся
на нелюбимых, надевая на весь век свой ярмо бестолковой жизни, которая
потом переходит в тяжелую повседневную муку неровень.
—
Я у батюшки-то то-то ела и пила, вот так-то обряжалась, а у тебя
что-—-сумка сальная да гашник вшивый! — зудит день и ночь постылая
жена. —
К чему ты меня брал? Да я бы вышла за купца, кабы не ты,
растрепа!..
Начинаются ссоры, побои, увечья. Муж ищет отраду и семью у «вино-
польки», а из жены часто выходит кликуша.
И ее доля нелегка: иной раз из привольной жизни многочисленного,
здорового, трудоспособного и согласного между собой семейства о,на -попадает
в какой-то вертеп. Там она росла незаметной, под опекой и лаской матери,
имея под руками готовый хлеб, а замужество толкнуло ее к голодным и
несчастным людям, выбившимся из сил в борьбе с нуждою. На ее неопытные,
слабые -плечи неожиданно падает вся тяжесть каторжной- работы — ив доме
и в поле; вечно сердце ее терзается заботой о завтрашнем дне, изморенное
тело недоедает, недосыпает.
А если к этому прибавить разутых и раздетых детей, свекровь-змею и
мужа-пьяницу, то станет понятным тот ад, та непрерывная, дикая брань
с упреками, злобой и насмешками, с истерическими воплями, отчаянием, по-
рою с преступлениями, которые составляют неизбежную канву мучительной
крестьянской жизни.
Что же сказать о бедноте, о том, как она живет, женится и умирает.
Измотав всю свою силу и мощь да замужества, надорвав себя часто в три-
надцать—четырнадцать лет, пережив не одну страшную минуту в доме
пьяного отца, покорная и разбитая, вступает бедная крестьянская девушка
в жизнь. Не ждет она о*т этой жизни перемены, на брак смотрит, не как
на светлую зарю счастья, сулящую нечто неизведанное и прекрасное, а как
на необходимость, как на новое, еще горшее тягло.
И редкая из них действительно находит хоть крупицу счастья, редкая
с любовью и восторгом помянет свою молодость — нечем ее помянуть, сле-
зами разве, горем, маятой?..
Много нужно силы душевной, много терпенья и крепости, еще больше
горячей веры в лучшее, которое где-то там дальше, за нами, впереди, чтобы
не умереть, не сойти с ума, не отчаяться и не погибнуть. Нужна своя внутрен-
няя жизнь, тайная и непрерывная работа души, напряженной и тоскующей,
чтобы суметь вырваться из цепких лап невежества, рабства, вопиющей
нужды и холопского деспотизма замордованных людей.
Этой внутреннею силою была крепка душа моей сестры.
Еще на девятнадцатом году Мотю стали звать вековушкою. Все были
уверены в том, что замуж ее не возьмет никто: и потому, что она была
некрасива, и потому, что мы —бедны, и потому, что отец наш слыл
в Осташкове за дерзкого на язык пьяницу и нерачителя в хозяйстве.
Сестра замуж и сама не собиралась: все также нигде не показывалась,
избегая людей и лишних разговоров, просиживая все свободное время
за евангелием.
Скоро, почти все ее подруги вышли замуж и обзавелись детьми.
Приезжая гостить к матерям, забегали навестить Мотю.
—
Ну-ка, девка, погляди сапатенького, — говорили они, показывая
детей. —
Смеется уж, всех узнает, — в отца смышленый... Мой-то, слышишь,
сметливый, первеющий во всей деревне!..
Или:
—
Зубки прорезаться стали: теперь ему гвозди в пору есть, лохма-
тому казютке!
Участливо глядя на сестру, наперебой хвастались новой жизнью, где
«всего вдосталь, говядину едят каждый праздник, чай —-
два раза на неделе,
а по воскресеньям- —
со сдобными лепешками; батюшка-матушка — ласковы,
муж — никак не налюбуется».
—
У тебя вот скоро загуляем,—утешали они Мотю—пьяные напьемся,
песни будем драть на всю деревню!..
Сестра отмалчивалась. Редко когда улыбнется, бросит:
—
Мы уж вино запасаем.
Повидимому она тяготилась их участием и глупой болтовней, потому
что всегда, как только те уйдут, Мотя веселела.
—
Раскудахтались куры трепаные, — вымолвит она, бывало. —
Те-
перь поглядим, что дальше запоете с чая да с говядины-то...
В последних числах октября я ушел с артелью плотников на железную
дорогу — учиться ремеслу и деньги зарабатывать. Мысль о городищенском
училище, о городе, о новой жизни пришлось бросить: дома не было ни хлеба,
ни денег, ни одежи.
—
Ты теперь не маленький, — сказали мне: — пора кормить семью...
Пускай, кто жирен, учится, нам впору дыхать...
Недели через две, смотрю, ко мне приезжает отец.
—
Ты зачем?
—
Зачем, зачем, без дела не приехал бы, — бормотал он, привязывая
лошаденку к коновязи.
—
Раз дело приспичило, значит, и приехал.
Отец подтянул веревку, заменявшую ему кушак, развел руками, по-
глядел на небо и, мигнув мне, выпалил:
—
Намедни Матрешку пропили, вот зачем!.. Просись у хозяина дня
на четыре в отпуск.
Он ухмыльнулся, дернув бородою:
—
Мы, брат, живо: чик-чик и готово, дочь попова!..
—
Как пропили? — остановился я, пропуская мимо ушей подозри-
тельно веселую болтовню его.
Отец осел и, ковыряя кнутовищем стружки у станка, опять забормотал,
воротя лицо по ветру:
—
Разве не знаешь, как девок пропивают? Пропили — и все.
У меня упало сердце.
—
За кого же? Свой деревенский или как? Расскажи хоть толком.
—
А за Мишку Сорочинского! — почему-то слишком весело вос-
кликнул он. —
Тут даже нечего и рассказывать!..
—
За Ми-ишку? — закричал я.
Отец поднял брови.
—
За кого же? Стало-быть — за Мишку!.. Он — мужик не глупый,
верно говорю.
Он засуетился, как побитый.
—
Ну, как тебе сказать? Немного он того... Как будто, видишь ли...
дыть ей-то — тоже двадцать другой год!..
Отец потупился.
—
Опять — вино... Вина он даст на свадьбу... Ты думаешь, что та-ак?
Ого! Я сам — не промах!.. Два ведра вина и семь целковых денег на-чисто...
Пойми-ка, это — загибулю!.. Два ведра!.. Их тоже не купишь — нынче до-
рого все стало... А она — хозяйкой будет... Это, браток, много значит по-
крестьянски... Какая в том беда, что он не молодой?.. Молокосос, по нонеш-
нему времени, хуже — живо убежит в Украйну... А там его ищи-свищи!..
—
Плачет сестра-то? Глядел бы за нею!..
—
Ори, дурак! Язык длинен? — побагровел отец и, вытерев шапкою
потное лицо, потупился. —
Ей плакать не о чем.
Он наклонился к земле, поднял заржавевший штукатурный гвозд и по-
ложил его к себе в карман.
—
Плачет!.. Мелешь ты, чорт знает что!..
Полоса за полосой тянется однообразное жнивье, над ним — отяже-
левшие грачи и голуби. По мелко расчесанной пашне пробивается нежная
фиолетовая озимь. Бодро бежит, потряхивая головою, лошадь; четко стучат
копыта о сухую, гладко прикатанную дорогу. Невесело на сердце. Пред-
ставляется испитое лицо «жениха» Моти — Мишки Сорочинского, мужика
лет тридцати, вдовца, лохмотника, горького пьяницы. Всегда неумытый и от-
того позеленевший; волосы на голове похожи на мочало и пропитаны ко-
потью; шея — тонкая, трясучая, из левого уха течет гной. На плечах —
замызганный, грязный полушубок — дырявый, вытертый, с махрами и «коло-
колушками» да подолу, с холщевыми заплатами на спине и на плечах.
В полушубке много насекомых, так как Мишка не снимает его ни зимой,
ни летом. Войлочная, масляная шапка — как на чучеле.
Еще на значительном расстоянии от него смердит тухлым запахом
курной избы, никогда не мытого тела и собственной нечистоплотностью.
—
Дух этот у меня завсегда, — сам же бахвалится он, скаля желтые
гнилые зубы. —
Захочу — и сей секунд будет по первое число.
По слухам, он страдает нехорошей болезнью, и соседи его избегают:
не пьют из одной кружки, не просят докурить цыгарки, ничего не берут
взаймы.
Избенка его — без крыши и двора. Окруженная бесчисленными под-
порками, стоит она, точно калека у церковной паперти, с краю деревни,
уткнувшись подслеповатыми окнами в овраг. Вместо стекол — в окнах
тряпки и синяя сахарная бумага, пол — земляной; входная дверь сбита
с крючьев и над ней голодной пастью зияет черная дымовая дыра, обметан-
ная сажей и пыльной паутиной. Зимой хижину заносит снегом, весной, к
до троицы, у порога — зеленые лужи, в которых барахтаются чужие свиньи.
Ни скотины, ни птицы нет, землю сам не убирает, отдавая ее исполу
одному из бедняков, вроде Егора Пазухина, и его же презирают за это.
—
Вить это вам, дьяволам, много надо — все никак не нахватаетесь,
все вам больше бы, ну, и копайтесь, как жуки в телячьем навозе, а мое дело
маленькое — покурил Савкова, да на печку, ближе к небушку. Работу,
сказать тебе, дураки одни любят, вот что!.. На чорта, друг с заплатой,
воды не навозишься, хоть лопни... Я так рассуждаю: несчастные вы люди,
вот что, да... Сволочь двужильная!..
И в этой смрадной яме, с постылым человеком, должна жить сестра
моя — Матрена Сорочинская, Мишки-пьяницы, последнего из последних чело-
века, богом данная жена... Эх, ты!..
Демьян
Бедный.
ГОРЬКАЯ ПРАВДА.
У церковки — изба, а за избою — поле.
Здесь, набираяся ума, —
«Ученье — свет, а неученье — тьма» —
Когда-то по складам твердил я в сельской школе.
Под теплым солнышком незримо таял снег.
Весна готовила ковер зеленый лету.
«Ученье — свет...» Как молодой побег,
Я детским разумом тянулся жадно к свету.
Ведя лошадку в степь, подросток-пастушок,
Ржаного хлебушка я брал с собой ковригу
И с хлебом бережно засовывал в мешок
Свою любимую, зачитанную книгу.
Судьбы причудливой игрой,
Заброшенный потом нежданно в город шумный,
Как я завидовал порой,
Подслушав у господ спор непонятно-умный.
Шли — день за днем, за годом год.
Смешав со светом «блеск», на «блеск» я шел упорно,
С мужицкой робостью взирая на господ,
Низкопоклонствуя покорно.
Но смутная душа рвалась на свет дневной,
Больней давили грудь извечные вериги;
И все заманчивей вскрывали предо мной
Иную жизнь, дорогу в мир иной,
Родных писателей возвышенные книги.
От блеска почестей, от сонмища князей,
Как от греховного бежал я навожденья.
В иной среде, иных друзей
Нашел я в пору пробужденья.
Мстя за бесплодную растрату юных сил,
За все минувшие обманы,
Я с упоением жестоким наносил
Врагам народа злые раны.
Не вождь, а воин рядовой,
Я горд был тем, что шел с народной ратью в ногу,
Деля с ней жребий боевой,
Ее печаль и скорбь, и радость, и тревогу.
В дни рати трудовой святого торжества,
В дни рокового испытанья,
Как слышать хочется бодрящие слова
Тех, кем народные питались упованья!
Крестьянин п рабочий. Я . II.
Но слов бодрящих нет, есть злобный суд и брань,
И злая жуть берет от горестного вида,
Что с каждым днем растет, растет меж нами грань,
Что с каждым днем больней обида,
Что со страниц — увы! — когда-то дорогих
Былые образы на нас уже не глянут.
Родной народ, любя писателей своих,
Как горько ими ты обманут!
М. Горький.
как я учился.
Читать сознательно я научился, когда мне было лет четырнадцать.
В эти годы меня увлекала уже не одна фабула книги — более или менее
интересное развитие изображаемых событий, — но я начинал понимать кра-
соту описаний, задумываться над характерами действующих лиц, смутно
догадывался о целях автора и тревожно чувствовал различие между тем,
о чем говорила книга, и тем, что внушала жизнь.
Жилось мне в ту пору трудно — моими хозяевами были закоренелые
мещане, люди, главным наслаждением которых являлась обильная еда, а един-
ственным развлечением — церковь, куда они ходили, пышно наряжаясь, как
наряжаются, идя в театр или на публичное гулянье. Работал я много, почти
до отупения, будни и праздники были одинаково загромождены мелким, бес-
смысленным, безрезультатным трудом.
Дом, в котором жили мои хозяева, принадлежал «подрядчику земле-
копных и мостовых работ», маленькому коренастому мужику с Клязьмы.
Остробородый, сероглазый, он был всегда зол, груб и как-то особенно спо-
койно жесток. У него было человек тридцать рабочих, все — владимирские
мужики; жили они в темном подвале с цементным полом и маленькими окнами
ниже уровня земли. Вечерами, измученные работой, поужинав щами из ква-
шеной вонючей капусты с требухою или солониной, от которой пахло селит-
рой, они выползали на грязный двор и валялись на нем — в сыром подвале
было душно и всегда угарно от огромной печи. Подрядчик являлся в окне своей
комнаты и орал:
—-
Эй, вы, дьяволы, опять на двор вылезли? Развалились, свиньи ! У меня
в дому хорошие люди живут — али им приятно глядеть на вас.
Рабочие покорно уходили в подвал. Все это были люди печальные, они
редко смеялись, почти никогда не пели песен, говорили кратко, неохотно и,
всегка выпачканные землей, казались мне покойниками, которых воскресили
против их воли для того, чтобы мучить еще целую жизнь,
«Хорошие люди» — офицеры, картежники и -пьяницы, они били ден-
щиков до крови, били любовниц, пестро одетых женщин, куривших папиросы,
Женщины тоже напивались и хлестали денщиков -по щекам1. Пили и ден-
щики, пили помногу, на-смерть.
В воскресные дни подрядчик выходил на крыльцо и садился на ступени,
с длинной узкой книжкой в одной руке, с обломком карандаша в другой;
к нему гуськом, один за другим, подходили землекопы, точно нищие. Они
говорили пониженными голосами, кланяясь и почесываясь, а подрядчик орал
на весь двор:
—
Ладно, будет! Бери целковый! А в морду хочешь! Хватит с вас!
Иди прочь... Но!
Я знал, что среди землекопов есть не мало однодеревенцев подрядчика,
есТь родственники его, но он со всеми был одинаково жесток и груб. И земле-
копы были тоже жестоки и грубы в отношении друг к другу, а особенно
к денщикам. Почти каждое воскресенье на дворе разгорались кровавые драки,
гудела трех'этажная грязная ругань. Землекопы дрались беззлобно, как бы
выполняя надоевшую им обязанность; избитый до крови отходил или отползал
в сторону и там молча осматривал свои царапины, раны, ковырял грязными
пальцами расшатанные зубы. Разбитое лицо, затекшие от ударов глаза ни-
когда не вызывали сострадания товарищей, но если была разорвана рубаха —
все сожалели об этом, а избитый хозяин рубахи угрюмо злился, иногда
плакал.
Эти сцены вызывали у меня неописуемо тяжелое чувство. Мне было
жалко людей, не я жалел их холодной жалостью, у меня никогда не возникало
желания сказать кому-нибудь из них ласковое слово, чем-либо помочь изби-
тым — хотя бы воды подать, чтобы они смыли отвратительно-густую кровь,
смешанную с грязью и пылью. В сущности, я не любил их, немножко боялся
и произносил слово «мужик» так же, как мои хозяева, офицеры, полковой
священник, сосед-повар и даже денщики, — все эти люди говорили о мужи-
ках с презрением.
Жалеть людей — это тяжело, всегда хочется радостно любить кого-
нибудь, а любить было некого. Тем горячее я полюбил книги.
Было и еще много грязного, жестокого, вызывавшего острое чувство
отвращения, — я не буду говорить об этом, вы сами знаете эту адову жизнь,
это сплошное издевательство человека над человеком, эту болезненную
страсть мучить друг друга — наслаждение рабов. И вот, в такой проклятой
обстановке, я впервые стал читать хорошие, серьезные книги иностранных
литераторов.
Я, вероятно, не сумею передать достаточно ярко и убедительно, как
велико было мое изумление, когда я почувствовал, что почти каждая книга
как бы открывает передо мною окно в новый, неведомый мир, рассказывая
мне о людях, чувствах, мыслях и отношениях, которых я не знал, не видел.
Мне казалось даже, что жизнь, окружающая меня, все то суровое, грязное
и жестокое, что ежедневно развертывалось передо' мною, — все это не на-
стоящее, не нужное; настоящее и нужное только в книгах, где все более
разумно, красиво и человечно. В книгах говорилось тоже о грубости, о глу-
пости людей, о их страданиях, изображались злые и подлые, но рядом с ними
были другие люди, каких я не видал, о которых даже не слышал, — люди
честные, сильные духом, правдивые, всегда готовые хоть на смерть ради
торжества правды, красивого подвига.
Первое время, опьяненный новизною и духовной значительностью мира,
открытого для меня книгами, я стал считать их лучше, интереснее, ближь
людей, и — как будто — немного ослеп, глядя на действительную жизнь
сквозь книги. Но суровая умница-жизнь позаботилась вылечить меня от этой
приятной слепоты.
По воскресеньям, когда хозяева уходили в гости или гулять, я вылезал
из окна душной, пропахшей жиром, кухни на крышу и там читал. По двору
плавали, как сомы, полупьяные или сонные землекопы, визжали горничные,
прачки и кухарки от жестоких нежностей денщиков, — я посматривал с вы-
соты на двор и величественно презирал эту грязненькую, пьяную, распутную
жизнь.
Один из землекопов был десятник или «нарядчик», как они звали его,
угловатый, неладно сделанный из тонких костей и синих жил старичок Степан
Лешин, человек с глазами голодного кота и седенькой, смешно рассеянной
бородкой на коричневом лице, на жилистой шее и в ушах. Оборванный,
грязный хуже всех землекопов, он был самый общительный среди них,
но они заметно боялись его, и даже сам подрядчик говорил с ним, понижая
свой крикливый, всегда раздраженный голос. Я не раз слышал, как рабочие
ругали Лешина за глаза:
—
Скупой чорт! Иуда! Холуй!
Старичок Лешин был очень подвижен, но не суетлив, он как-то ти-
хонько, незаметно являлся то в одном углу двора, то в другом, везде, где
собиралось двое-трое людей: подойдет, улыбнется кошачьими глазами и,
шмыгнув широким носом, спрашивает:
—
Ну, что, а?
Мне казалось, что он всегда чего-то ищет, ждет какого-то слова.
Однажды, когда я сидел на крыше сарая, Лешин, покрякивая, влез
ко мне по лестнице, сел рядом и, понюхав воздух, сказал:
—Сенцом пахнет... Это ты хорошо место нашел -— и
чисто, и от людей
в стороне... Чего читаешь?
Он смотрел на меня ласково, и я охотно рассказал ему о том, что
читал.
—
Так, —• сказал он, покачивая головой. —
Так, так!
Потом долго молчал, ковыряя черным пальцем руки разбитый ноготь
на левой ноге, и вдруг, скосив глаза на меня, заговорил, негромко и певуче,
точно рассказывая:
—
Был во Владимире ученый барин Сабанеев, большой человек, а
у него — сын Петруша, али — как? Забыл имя! Тоже все книжки читал и
других к тому приохочивал, так его... заарестовали,
—
За что? — спросил я.
—
За это самое! Не читай, а коли читаешь — помалкивай!
Он усмехнулся, подмигнул мне и сказал:
—
Гляжу я на тебя — сурьезный ты, не озоруешь. Ну, ничего, живи...
И, посидев на крыше еще немножко, он спустился на двор. После этого
я заметил, что Лешин присматривается ко мне, следит за мной. Он все чаще
подходил ко мне со своим вопросом:
—
Ну, что, а?
Однажды я рассказал ему какую-то очень взволновавшую меня историю
о победе доброго и разумного начала над злым, о« выслушал меня очень
внимательно и, качнув головою, сказал:
—
Бывает.
—
Бывает? — радостно спросил я.
—
Да, ведь, а как же? Все бывает! — утвердил старик.
—
Вот я тебе поведаю...
И «поведал» мне тоже хорошую историю о живых, не книжных людях,
а в заключение сказал, памятно:
—
Конешно, ты эти дела вполне понять не можешь, однако — разумей
главное, пустяков много, в пустяках запутался народ, ходу нет ему — к богу
ходу нет, значит! Великое стеснение от пустяков, понимаешь?
Эти слова толкнули меня в сердце оживляющим толчком, я как будто
прозрел после них. А ведь, в самом деле, эта жизнь вокруг меня — пустя-
ковая жизнь, со всеми ее драками, распутством, мелким воровством и матер-
щиной, которая, может быть, потому так обильна, что человеку не хватает
хороших, чистых слов.
Старик прожил на земле впятеро больше меня, он много знает и, если он
говорит, что хорошее в жизни, действительно, «бывает», — надобно1 верить
ему. Верить хотелось, ибо книги уже внушили мне веру в человека. Я дога-
дывался, что они изображают, все-таки, настоящую жизнь, что их, так ска-
зать, списывают с действительности, значит — думал я — ив действительности
должны быть хорошие люди, отличные от дикого подрядчика, моих хозяев,
пьяных офицеров и, вообще, всех людей, известных мне.
Это открытие было для меня огромною радостью, я стал веселее смо-
треть на все и как-то лучше, внимательнее относиться к людям, и, прочитав
что-нибудь хорошее, праздничное, старался рассказать об этом землекопам,
денщикам. Они не очень охотно слушали меня и, кажется, не верили мне,
но Степан Лешин всегда говорил:
—
Бывает. Все бывает, браток!
Удивительно сильное значение имело для меня это краткое мудрое
слово! Чем чаще я слышал его, тем более оно будило во мне чувство бодрости
и упрямства, острое желание «поставить на своем». Ведь если «все бывает»,
значит, будет и то, чего мне хочется. Я замечал, что во дни наибольших
обид и огорчений, наносимых мне жизнью, в тяжелые дни, которых слишком
много испытал я, именно в такие дни чувство бодрости и упрямства в дости-
жении цели особенно повышается у меня, именно в эти дни меня с наиболь-
шею силою охватывало юное Геркулесово желание чистить Авгиевы конюшни
жизни. Это осталось со мною и теперь, когда мне пятьдесят лет, останется
до смерти, и этим свойством я обязан священному писанию человеческого
духа — книгам, отражающим великие мучения и пытки растущей души чело-
века, науке — поэзии разума, искусству — поэзии чувств.
Книги продолжали открывать передо мною новое; особенно много давали
мне два иллюстрированных журнала «Всемирная Иллюстрация» и «Живо-
писное Обозрение». Их картинки, изображавшие города, людей и события ино-
странной жизни, все более и более расширяли передо мною мир, и я чувствовал,
как он растет, огромный, интересный, наполненный великими деяниями.
Эта хра-мы и .дворцы, не похожие на наши церкви и до-ма, иначе одетые
люди, иначе украшенная человеком земля, чудесные машины, изумительные
изделия, — все это внушало мне чувство какой-то непонятной бодрости и
вызывало желание тоже что-то сделать, построить.
Все было различно, непохоже, но, однако, я смутно сознавал, что все
насыщено одной и той же силой — творческой силою человека. И мое чувство
внимания к людям, уважение к ним росло.
Я был совершенно потрясен, когда увидел в каком-то журнале портрет
знаменитого ученого Фарадея, прочитал непонятную мне статью и нем и
узнал из нее, что Фарадей был простым рабочим. Это крепко ударило меня
в мозг, показалось мне сказкой.
—
Как же это? — недоверчиво думал я. —
Значит — который-нибудь
из землекопов тоже может сделаться ученым? И я могу?
Не верилось. Я стал доискиваться — нет ли еще каких-нибудь знаме-
нитых людей, которые были бы сначала рабочими? В журналах никого не
нашел; знакомый гимназист сказал мне, что очень многие известные люди
были сначала рабочими, и назвал мне несколько имен, между прочим Стефен-
сона, но я не поверил гимназисту.
Чем больше я читал, тем более книги роднили меня с миром, тем ярче,
значительнее становилась для меня жизнь. Я видел, что есть люди, которые
живут хуже, труднее меня, и это меня несколько утешало, не примиряя
с оскорбительной действительностью; я видел также, что есть люди, умеющие
жить интересно и празднично, как не умеет жить никто вокруг меня. И почти
Е каждой книге тихим звоном звучало что-то тревожное, увлекающее к не-
ведомому, задевавшее за сердце. Все люди так или иначе страдали, все были
недовольны жизнью, искали чего-то лучшего, и все они становились более
близкими, понятными. Книги окутывали всю землю, весь мир печалью о луч-
шем, и каждая из них была как бы душой, запечатленной на бумаге знаками
и словами, которые оживали, как только мои глаза, мой разум соприкасались
с ними.
Нередко я плакал, читая, — так хорошо рассказывалось о людях, так
милы и близки становились они. И мальчишка •задерганный дурацкой работой,
обижаемый дурацкой руганью, я давал сам себе торжественные обещания
помочь людям, честно послужить им, когда вырасту.
Точно какие-то дивные птицы сказок, книги пели и говорили мне,
как заключенному в тюрьме, пели о том, как многообразна и богата жизнь,
как дерзок человек в своем Стремлении к добру и красоте. И чем дальше,
тем более здоровым и бодрым духом наполнялось сердце. Я стал спокойнее,
увереннее в себе, более толково работал и обращал все^меньше внимания
на бесчисленные обиды жизни.
Каждая книга была маленькой ступенью, поднимаясь на которую я
восходил от животного к человеку, к представлению о лучшей жизни и
жажде этой жизни. А перегруженный прочитанные, чувствуя себя сосудом,
до краев полным оживляющей влаги, я шел к денщикам, к землекопам и
рассказывал им, изображал перед ними в лицах разные истории.
Это их забавляло.
—
Ну, шельма,
говорили они. —
Настоящий комедиант! Тебе в ба-
.
лаган, на ярмарку надо!
Конечно, я ждал не этого, а чего-то другого, но... был доволен и этим.
Однако, мне удавалось иногда, — не часто, разумеется, — заставить вла-
димирских мужиков слушать меня с напряженным вниманием, а не раз
доводить некоторых до восторга и даже до слез; эти эффекты еще более
убеждали меня в живой, возбудительной силе книги.
Василий Рыбаков, угрюмый парень, силач, любивший молча толкать
людей плечом так, что они отлетали от него мячиками, этот молчаливый
озорник отвел меня однажды в угол за конюшню и предложил мне:
—
Лексей, научи меня книгу читать, я тебе полтину дам, а не научишь— -
бить буду, со света сживу, ей-богу, вот — крещусь!
И размашисто перекрестился.
Я побаивался его угрюмого озорства и начал учить парня со страхом,
но дело сразу пошло хорошо. Рыбаков оказался упрям в непривычном труде
и очень понятлив. Недель через пять, возвращаясь с работы, он таинственно
позвал меня к себе и, вытащив из фуражки клочок измятой бумаги, забормо-
тал, волнуясь:
—
Гляй! — это я с забора сорвал, что тут сказано, а? Погоди —
«продается дом» — верно? Ну — продается?
—
Верно.
Рыбаков страшно вытаращил глаза, лоб его покрылся потом; помолчав,
он схватил меня за плечо и, раскачивая, тихонько говорил:
—
Понимаешь — гляжу на забор, а мне будто шепчет кто: «продается
дом»! Господи, помилуй... Прямо, как шепчет, ей-богу! Слушай, Лексей, неужто
я выучился — ну?
—
А читай-ка дальше!
Он уткнул нос в бумагу и зашептал:
—
«Двух» — верно? — «етажный, на каменном»...
Рожа его расплылась широчайшей улыбкой, он мотнул головой, выру-
гался матерно и, посмеиваясь, стал аккуратно свертывать бумажку.
—
Это я оставлю на память — как она первая.".. Ах, ты, господи...
Понимаешь? Как будто шепчет, а? Диковинка, брат. Ах, ты...
Я хохотал безумно, видя его густую, тяжелую радость, его детское
милое недоумение перед тайной, вскрывшейся перед ним, тайной усвоения
посредством маленьких черных знаков чужой мысли и речи, чужой
души.
Я мог бы много рассказать о том, как чтение книг — этот привычный
нам, обыденный, но в существе своем таинственный процесс духовного слияния
человека с великими умами всех времен и народов — как этот процесс чтения
иногда вдруг освещает человеку смысл жизни и место человека в ней, я знаю
множество
таких
чудесных явлений, исполненных
почти сказочной
красоты.
Не могу не рассказать об одном из таких случаев.
Я жил в Арзамасе, под надзором полиции, мой сосед, земский начальник
Хотяинцев, особенно не взлюбил меня — до того, что даже запретил своей
прислуге беседовать по вечерам у ворот с моей кухаркой. Полицейского по-
.
ставили прямо под окно мне, и он с наивной бесцеремонностью заглядывал
в комнаты, когда находил это нужным. Все это очень напугало горожан, и
долгое время никто из них не решался зайти ко мне.
Но однажды, в праздник, явился кривой человек в поддевке, с узлом
подмышкой, и предложил мне купить у него сапоги. Я сказал, что мне
не нужно сапог. Тогда кривой, подозрительно заглянув в дверь соседней
комнаты, тихонько заговорил:
—
Сапоги — это для прикрытия настоящей причины, господин писатель,
а пришел я попросить — нет ли хорошей книжечки почитать?
Его умный глаз не возбуждал сомнения в искренности желания и окон-
чательно убедил меня в ней, когда на мой вопрос — какую бы хотел он полу-
чить книгу, кривой обдуманно сказал робким голосом и все оглядываясь:
—
Насчет законов жизни что-нибудь, т. - е. законов мира. Не понимаю
законов этих—как жить и . .. вообще. Тут недалеко казанский профессор-мате-
матик на даче живет, так я у него за починку обуви и за садовые работы, —
я тоже и садовник, — уроки математики беру, только она мне не отвечает,
а сам он — молчаливый...
Я дал ему плохонькую книжку Дрейфуса «Мировая и социальная эво-
люция» — единственное, что нашлось у меня по вопросу.
—
Чувствительно благодарен!—сказал кривой, бережно засунув книгу
за голенище сапога. —
Позвольте прийти к вам для беседы, когда прочитаю...
Только я на этот раз приду садовником, будто малину в саду подрезать, а то,
знаете, полиция очень окружает вас и, вообще, неудобно мне...
Он пришел дней через пять, в белом фартуке с садовыми ножницами,
пучком мочала в руках, и удивил меня своим радостным видом. Его глаз
сверкал весело, голос звучал громко и твердо. Почти с первых же слов он
ударил ладонью по книжке Дрейфуса и заговорил торопливо:
—
Могу я сделать отсюдова такое умозаключение, что бога... нет?
Я не поклонник таких поспешных «умозаключений»,
и потому
начал осторожно допрашивать его, чем привлекает его именно это «умо-
заключение».
—
Для меня это — главнейшее! — горячо и тихо заговорил он. —Я так
рассуждаю, как все подобные: ежели существует господь бог и все в его
воле, стало быть, я должен жить, тихо покорствуя высшим предначертаниям
божиим. Весьма много прочитал божественного — библию, Тихона Задонского
сочинения, Златоуста, Ефрема Сирина и все прочее. Однако, я желаю знать:
отвечаю я за себя и за всю жизнь, или нет? По писанию выходит — нет,
живи, как предуказано, и все науки — ни к чему. Также и астрономия —
фальшь одна, выдумка. И математика тоже и все вообще. Вы, конечно,
с этим не согласны, чтобы покорствовать?
—
Нет, — сказал я.
—
А почему же я должен быть согласен? Вот, вас за несогласность
под надзор полиции выслали сюда, значит — вы решаетесь восставать против
священного писания, потому что я так понимаю: всякое несогласие — обяза-
тельно против священного писания. Из негЪ все законы подчинения, а законы
свободы — от науки, т. -е. от человеческого разума. Теперича дальше: ежели
бог, то мне делать нечего, а без него я должен отвечать за все, за всю жизнь
и всех людей ! Я желаю отвечать, по примеру святых отцов, только иначе —
не подчинением, а сопротивлением злу жизни!
И, снова ударив ладонью по книге, он добавил с убеждением, явно
непоколебимым:
—
Всякое подчинение — зло, потому что оно укрепляет зло! И вы меня
извините — я этой книжке верю! Она для меня, как тропа в дремучем лесу.
Я уж так решил для себя — отвечаю за все!
Мы дружески беседовали до поздней ночи, и я убедился, что неважная
маленькая книжка была последним ударом, оформившим мятежные поиски
человеческой души в твердое религиозное верование, в радостное преклоне-
ние перед красотою и силою мирового разума.
Этот милый умный человек, действительно, честно сопротивлялся злу
жизни и спокойно погиб в 1907 году.
Вот так же, как угрюмому озорнику Рыбакову, книги шептали мне
о другой жизни, более человеческой, чем та, которую я знал; вот так же,
как кривому сапожнику, они указывали мне мое место в жизни. Окрыляя ум
и сердце, книги помогли мне подняться над гнилым болотом, где я утонул бы
без них, захлебнувшись глупостью и пошлостью. Все более расширяя передо
мною пределы мира, книги говорили мне о том, как велик и прекрасен
человек в стремлении к лучшему, как много сделал он на земле и каких
невероятных страданий стоило это ему.
И в душе моей росло внимание к человеку — ко всякому, кто бы он
ни был, скоплялось уважение к его труду, любовь к его беспокойному духу.
Жить становилось легче, радостнее: жизнь наполнялась великим смыслом.
Так же, как в кривом сапожнике, книги воспитали во мне чувство лич-
ной ответственности за все зло жизни и вызвали у меня религиозное прекло-
нение пред творческой силой разума человеческого.
И, с глубокой верой в истину моего убеждения, я говорю всем: любите
книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться в пестрой
и бурной путанице мыслей, чувств, событий, она научит вас уважать человека
и самих себя, она окрыляет ум и сердце чувством любви к миру, к человеку.
Пусть она будет враждебна вашим верованиям, но если Она написана
честно, по любви к людям, из желания добра им — тогда это прекрасная
книга!
Всякое знание — полезно1, полезно и знание заблуждений ума, ошибок
чувства.
і
-
!
Любите книгу — источник знания, только знание спасительно, только
оно может сделать нас духовно сильными, честными, разумными людьми,
которые способны искренно любить человека, уважать его труд и сердечно
любоваться прекрасными плодами его непрерывного великого труда.
Во всем, что сделано и делается человеком, в каждой вещи заключена
его душа; всего больше этой чистой и благородной души в науке, в искусстве;
всего красноречивее и понятнее говорит она в книгах.
И.
Федоров-Омулевский.
забастовка на фабрике.
Прежде, нежели мы приступим к описанию происшествий настоящей
главы, нам, для лучшего уразумения, необходимо сказать несколько об'ясни-
тельных слов. Ельцинская фабрика состояла собственно из двух казенных
заводов — стеклянного, выделывавшего посуду низшего разбора, и суконного,
производившего одно только грубое, так называемое солдатское сукно.
Заводы эти управлялись от казны директором, которому уже непосредственно
подчинены были смотритель и конторщик, тоже числившиеся в коронной
службе. Теперешний директор всего только год тому назад поступил на место
прежнего, но и в это короткое время он успел уже возбудить к себе едино-
душную ненависть фабричного люда. Прежний директор был, так или иначе,
человек справедливый и притом довольно мягкого, уживчивого нрава. Упра-
вляя фабрикой более девяти лет, этот чиновник применился к обычаям та-
мошних рабочих и потому мог, в отношении их, позволять себе иногда даже
и крутые выходки; если он рисковал поплатиться за подобную смелость,
то разве только непродолжительным созерцанием нахмуренных, недруже-
любных лиц да косых взглядов. Тем более резким должен был показаться
для фабрики переход под управление теперешнего директора. Теперешний
директор — переведенный в гражданскую службу полковник, бывший перед
тем ушаковским полицеймейстером, — представлял собою личность, далеко
не похожую на своего предместника. Это был вспыльчивый и вместе с тем
бессердечный, грубый человек — смесь военного задора с гражданским взя-
точничеством. Во время своего полицеймейстерства он буквально нагонял
ужас на более простодушных жителей города; даже уличные ребятишки,
завидев пролетку и белую пару этого господина, с двумя верховыми казаками
позади, рассыпались, как горох, во все стороны. Впрочем, для полной харак-
теристики теперешнего директора Ельцинской фабрики, достаточно было бы
рассказать, что во время производства какого-то следствия о подделке кре-
дитных билетов, он, чтобы добиться сознания от одного татарина, приказывал
производить над ним в своем присутствии операцию примерного повешения
и продолжал ее до тех пор, ока у несчастного не начинало багроветь лицо.
Таков был полковник Оржеховокий. В фабрике сей почтенный муж начал
свою деятельность с того, что прибавил лишний час работы на заводах,
само собой разумеется, в пользу собственного кармана, а отнюдь не в инте-
ресах казны, и до крови избил какого-то фабричного, осмелившегося проте-
стовать против такого незаконного распоряжения. Затем, несмотря на данный
ему при этом урок тем, что многие фабричные не пошли на другой день
на работу, теперешний директор стал от времени до времени наказывать
рабочих розгами — сперва за одни крупные вины, а потом и за мелочи
иногда. Подобная мера исстари считалась здесь верхом позора для всей
фабрики, не говоря уже о том, к кому она применялась: за высеченного
обыкновенно даже не шла замуж ни одна порядочная фабричная девушка.
К этой мере могли безнаказанно прибегать только «деды», не иначе, как
с общего согласия и притом в весьма редких случаях: за последние пять лет
перед управлением Оржеховского так наказаны были всего только трое.
Уже к концу первого полугодия его директорства вся фабрика стояла к нему
в открытой оппозиции; ни одного1 приветливого1 лица не встречал он на заводах.
Но когда новый директор позволил себе дать десять розог за грубость одному
из «дедов», оппозиция эта стала до такой степени очевидна, что Оржехов-
ский поздно вечером не решался даже и с казаками показываться на улицах
деревни. На него пожаловались в город, однако, безуспешно; мало того,
двое мирских ходоков по этому делу за свою смелость были внезапно пере-
ведены на другой завод.
«Деды», в числе пяти человек, выбирались пожизненно всеми без
исключения фабричными из самых умных, честных и стойких стариков
деревни, помимо всякого вмешательства местного начальства, — ив свою
очередь, точно таким же образом избирали уже сами себе старосту,
югласно укоренившемуся обычаю, кандитатами на эту последнюю хло-
потливую должность могли быть только молодые или не очень пожилые
еще, самые ловкие и сметливые фабричные. Староста тоже избирался по-
жизненно. Местное начальство, впрочем, и не признавало de jure этих
общественных властей, но de facto пользовалось ими на каждом шагу, ясно
видя, каким почетным значением пользуются они в глазах своих выборных
и какое огромное влияние имеют на них.
Фабрика не могла, разумеется, стерпеть кровного оскорбления, нане-
сенного ей в лице одного из этих выборных, и решила сама наказать дирек-
тора, чтобы худо ли, хорошо ли отделаться от него раз навсегда. Варгунин,
приезжавший сюда довольно часто, пользовавшийся здесь неограниченным
доверием и общей привязанностью, знал очень хорошо об этом решении:
но, любя вообще народ и предвидя дурные последствия, он посоветовал фабрич-
ным не пускаться на такое рискованное дело, а лучше обождать, пока
сменят директора, и даже обещал похлопотать об этом частным образом
у кого следует. Добрый совет Матвея Николаевича на этот раз однако ж
не был принят; фабричные решительно об'явили ему, что сами проучат
директора. Тогда Варгунин ухватился за последнее средство: он уговорил
«дедов» и взял с них слово, что они ничего не предпримут до следующего
его приезда в фабрику, думая этим выиграть время, пока поулягутся страсти.
Действительно, раза два ему удалось, таким образом, отсрочить катастрофу,
но в последний его приезд «деды» внушительно и напрямик об'явили старику:
—
Тоже и .нам теперича нельзя супротив мира итти. Уж ты там
как хошь, Матвей Николаич, еще раз мы тебя обождем, сделаем тебе ува-
жение, только чур — на другой день быть переполоху, как ты опять пожа-
луешь; да больно-то не мешкай в городе; пожалуй, не утерпят наши робяты,
тогда уже не прогневайся...
Варгунин принужден был дать слово приехать как можно скорее.
У Матвея Николаича была одна из тех любящих и стойких натур, которые
мало думают о себе, когда дело идет о судьбе их любимцев. Он знал, что
«деды» ни в каком случае уже не изменят своего последнего слова, и решился
лично участвовать в фабричном движении, надеясь своей опытностью и влия-
нием на народ отклонить от него какое-нибудь непредвиденное несчастие,
а, может быть, и преступление. Такова была роль, которую Варгунин добро-
вольно назначил себе в этом деле. Матвей Николаич, сам всю жизнь проте-
стовавший в пустыне, был настолько опытен, что мало мог предвидеть хоро-
шего впереди от подобной попытки, но опять и не в его характере было
сомневаться в возможности достигнуть чего-нибудь этим путем. Перед
от'ездом из города он сообщил обо всем Светлову, прося его совета, и, если
можно, помощи, т.- е . личного присутствия на фабрике. В чем другом,
а в этом Александр Васильич не мог отказать никому, тем более Варгунину.
—
Да что же они думают сделать-то? — спросил он у него только,
сейчас же согласившись ехать.
—
Хотят, батенька, потребовать всей фабрикой от директора, чтоб
он немедленно ее оставил, или в противном случае все прекратят работы.
Пускай, говорят, приезжает городское начальство, так мы уже с ним потол-
куем. Вот все, что, по крайней мере, я знаю, батенька.
Варгунин не притворялся: он действительно только это и знал.
Во многих фабричных головах бродила еще вчерашняя вечорка, как уже
с раннего утра стало обнаруживаться особенное движение на улицах фабрики:
то и дело встречались группы рабочих в пять-шесть человек, хотя день был и
не праздничный. Одни из них, постарше, остановись где-нибудь у забора, серь-
езно и с жаром разговаривали между собой вполголоса; другие, помоложе,
взявшись дружно за руки, с вызывающим видом расхаживали взад и вперед,
заломив набекрень шапки и напевая тоже вполголоса любимые фабричные
песни. «Уж как в фабрике у нас» слышалось часто и в разных концах
деревни. Ближайшие соседки беспрестанно обменивались между собой торо-
пливыми визитами, спеша поделиться их результатом с другими. В так назы-
ваемой «сборной избе» степенно и угрюмо совещались «деды», рассылая
с разными поручениями во все концы фабрики любопытных ребятишек, ода-
ренных непобедимым свойством — всегда торчать там, где соберутся взрослые.
Одного из таких гонцов перехватил на улице смотритель. Он шел
сегодня ранее обыкновенного на заводы по распоряжению директора, кото-
рому еще вчера ночью успели доложить о необыкновенно дерзком поведении
старосты; приказано было тщательно переписать на другой день всех, кто
не явится на работу в срок, минута в минуту.
—
Ты куда бежишь, чертенок? — строго остановил смотритель востро-
глазого гонца «дедов».
—
Тятька послал за рукавицами к Софронихе, — ответил тот смело,
не шевельнув ни одной ресницей.
—
Своих-то мало ему, что ли? Да ты мне, чертенок, говори правду,
а то ведь я тебя и за вихры возьму! — пригрозил смотритель.
—
Да я не знаю. Мне тятька сказал: проси у Софронихи рукавицы,
которые она мне новые сошила, — я и бегу.
—
Пропил, видно, старые-то., . —
едко заметил убежденный смотритель
и пошел дальше.
Он завернул сперва на суконный завод: хоть бы один человек явился, —
пустехонько; зашел на стеклянный — та же история; а между тем обычный
час работ уже наступал, и даже прошло минут двадцать лишних. Обстоятель-
ство это было особенно поразительно в отношении стеклянного завода:
там всегда оставалось на ночь несколько человек дежурных рабочих, поддер-
живавших огонь плавильной печи, которая на одни сутки гасилась только
раза два или три в месяц, перед начатием новой серии работ. Смотритель
обыкновенно заглядывал сюда не каждую ночь, а изредка, больше для виду,
во всем полагаясь на старосту; вчера он тоже не был здесь и теперь, к вели-
чайшему своему изумлению, нашел плавильную печь совершенно остывшей,
даже без малейшего намека на ночную работу. Необходимо заметить, что
директор держал этого господина в черном теле и на тугих вожжах; за право
поживляться иногда малою толикой за счет заводов, он подчинил его себе
беспрекословно. Как и всегда бывает в подобных случаях, смотритель, разы-
грывая с одной стороны роль верного директорского пса, с другой — явился
весьма убыточным паразитом в отношении рабочих; поэтому он не на шутку
струсил теперь за свою оплошность и со всех ног кинулся к старосте.
Семен Ларионыч преспокойно сидел у себя на завалинке, беззаботно
поколачивая в нее сучковатой палкой, всегда так магически созывавшей,
бывало, фабричных на обычное заводское дело.
—
Что же ты не гонишь людей на работу? Али одурел со вчерашней-то
вечорки? — крикнул на него впопыхах смотритель, почти прибежавший бегом.
—
И сам не пойду, и людей гнать не стану, — ответил староста убий-
ственно холодным тоном, не допускавшим возражения.
Смотритель растерялся.
—
Ведь они, мошенники этакие, плавильную погасили? Ты чего
смотришь? — спросил он снова, не дав еще себе отчета в значении ответа
старосты.
—
Погашена! Знаю.
Семен Ларионов был невозмутим, как и вчера.
«— Так ты что же?..
—
как-то глухо уже и будто машинально прого-
ворил смотритель.
—
Видишь, — сижу, палкой балую...
«Жила» растерялся еще больше и, повидимому, не знал, что сказать.
—
П-шол за мной к директору! — крикнул он через минуту на всю
улицу, выведенный из себя равнодушием старосты.
—
Неспопутно; мне и тут ладно.
У смотрителя потемнело в глазах от досады и сознания своего началь-
нического бессилия.
—
Ах вы... сволочь этакая! — проговорил он сквозь зубы.
Староста неторопливо поднялся с завалинки.
—
Погляди-ка сюды, ваше благородие, — сказал он бесстрастно: —
Вишь ты эту палку, сколько на ней зубцов? Ежели я тепериче этой самой
палкой рожу тебе смажу... Что будет? — знашь?
И Семен Ларионыч, пристально посмотрев на собеседника, опять так же
неторопливо присел на завалинку.
Смотритель, как угорелый, кинулся со всех ног к директору.
Оржеховский еще спал; ему, может быть, снились теперь те новые
тысячи, которые отложит он в свой карман на будущий год, в ущерб казне
и благосостоянию рабочих. По запертым ставням и наружной тишине в доме
смотритель догадался, что начальство почивает, и, не осмеливаясь тревожить
его покоя, уселся в ожидании на одной из ступенек высокого крыльца;
«жена... семеро детей...»
—
так и сквозило у него на лице. Этот человек
вел жестокую борьбу за свое и их существование: на скольких заводах
ни приходилось ему служить, везде он был верной собакой, и везде на его
долю перепадали одни только крохи. В Ельцинской фабрике дела смотрителя
пошли как будто лучше; правда, он и здесь играл ту же самую жалкую
роль, но зато на этом новом месте его беззастенчивая рука стала ощупы-
вать иногда между крохами и целый лакомый кусок.
«А вот теперь и сменят, пожалуй, директора: опять кусай пальцы...»
—
безотрадно думалось ему.
Какой-то глухой, все более и более усиливающийся шум вывел смотри-
теля из глубокого, продолжительного забытья; он испуганно мотнул головой,
вскочил на ноги и быстро поднялся до самой верхней ступеньки крыльца.
Крыльцо вело со двора прямо во второй этаж и оканчивалось широкой пло-
щадкой перед входной дверью; оттуда, сверху, открывался просторный вид
на улицу. Теперь, стоя на этой самой площадке и держась дрожащими руками
за ее перила, смотритель был поражен необыкновенной, невиданной картиной:
огромная толпа фабричных медленно подвигалась вдоль улицы по направле-
нию к директорскому дому; разноцветные головные платки женщин оживляли
до некоторой степени однообразный и сплошной серый тон дубленых полу-
шубков; фабричные мальчишки густыми кучами юркали сзади. Всмотревшись
в эту исполинскую волну голов, смотритель, хорошо знавший численность
местного населения, не мог не притти к тому ужасному выводу, что тут
была поставлена на нога буквально вся фабрика. Растерянный до отупения,
он вдруг, ни с того ни с сего, опрометью кинулся вниз и со всего размаха
запер отворенную им при входе калитку, как будто эта убогая дверца могла
разыграть роль неприступной скалы в борьбе с надвигающейся все более
народной волной.
Едва захлопнулась калитка, как из углового окна верхнего этажа
высунулась в форточку черноволосая, курчавая голова директора в выши-
той бисером ермолке, и его бледное, с неподвижно-холодными глазами лицо
прямо уставилось на смотрителя, оторопело державшегося обеими руками
за железный засов.
—
Что у вас там опять?.. Что вы тут делаете?.. —
недовольным тоном
крикнул ему Оржеховский.
Из чуткого утреннего сна его именно и вывел отчаянный стук, наде-
ланный смотрителем.
—
Беда, Григорий Николаич: вся фабрика взбунтовалась! — доложил
тот, выбежав на середину двора и подобострастно снимая фуражку.
Присутствие высшего начальства несколько ободрило его.
—
Как «взбунтовалась?». Это еще что такое?., это еще что за но-
вости!..— вспылил директор, хотя и слышавший шум, но не разобравший
сначала, откуда он происходит, — и вдруг глаза его упали на громадную
толпу, которая величаво подвигалась вперед, теперь в каких-нибудь саженях
двадцати от него.
Несмотря на обычную бледность, лицо Оржеховского заметно побелело
еще сильнее.
—
Разбудить казаков!.. Всех разбудить! Чтоб лошади были мигом
оседланы!., и мне! Слышите? — скомандовал он смотрителю, и голова его
в ту же минуту исчезла из форточки.
Конвой директора состоял из двенадцати конных казаков, живших
на том же дворе, в так-называемой «конвойной», налево от крыльца; один
из них — дежурный — спал постоянно в директорской кухне, в нижнем
этаже дома. Смотритель разбудил сперва его и остальную прислугу, немило-
сердно постучав к ним в дверь, и потом уже кинулся в «конвойную». Минут
через пять весь дом был поднят на нога; прислуга обоего пола, как водится
при всякой подобной, внезапной суматохе, бесцельно шныряла теперь взад
и вперед по двору, воображая, что уж и этим она кое-что делает; казаки
торопливо седлали лошадей, отрывочно перебраниваясь между собой. Испу-
ганный, должно быть, всей этой кутерьмой, какой-то гусь с криком выбежал,
махая крыльями, на середину двора и с недоумением поводил во все стороны
вытянутой, как палка, шеей. Неимоверно суетившийся смотритель нечаянно
набежал на него, запнулся, сказал:—Тьфу, ты, пропастина! — и кинулся
наверх к директору.
Директорский дом выходил своим фасадом на небольшую площадь,
примыкавшую справа к той самой улице, по которой двигался народ. Теперь
эта толпа занимала уже всю площадь, обратясь лицом к фасаду; «деды» и
рядом с ними староста стояли впереди, отдельно, недалеко от окон нижнего
этажа. Несмотря, однако же, на близкое присутствие такой огромной толпы,
шуму на этот раз не было слышно: она точно застыла в молчаливом, упорном
ожидании.
Оржеховский в полковничьем мундире, с густыми серебряными эполе-
тами (которых — скажем в скобках — он не имел уже больше права носить,
но которые берег, вероятно, для непредвиденных оказий, вроде сегодняшней),
показался на минуту казакам с площадки крыльца.
—
Совсем? — спросил он у них, очевидно, только для шику.
—
Точно так, васкородие! — ответил ему за всех урядник.
—
Сейчас же сесть на коней и... ждать моих приказаний! — распоря-
дился директор и уже переступил было порог двери, как вдруг снова показался
на площадке. —
Пики, винтовки — все взять... зарядить.,.
И лошадь мне.
Живо! — громко скомандовал он.
Минуты через три казаки сидели уже на конях, вооруженные согласно
приказанию; урядник держал за поводья оседланную директорскую лошадь.
Еще через минуту Оржеховский, стоя перед дверью балкона, выходившего
прямо на площадь, самоуверенно говорил смотрителю, рисуясь перед ним
густыми эполетами:
—
Я им покажу... бунтовать! Вот посмотрите, как они у меня осядут...
Он принял надменную позу и вышел на балкон.
При его появлении толпа на минуту заволновалась и вдруг снова утихла;
густые эполеты только в эту первую минуту произвели на нее некоторое
впечатление. Директору не привыкать было бросать смелый и нахальный
взгляд в лицо подчиненному люду, но теперь, подавленный его количеством,
он чувствовал, что может смотреть свободно только в пространство. Тем
не менее, скользнув смущенно глазами по многочисленным головам толпы,
Оржеховский заметил между ними Жилинского и Варгунина, одетых в фабрич-
ные полушубки. Он распознал бы, вероятно, между женщинами и Христину
Казимировну, если бы она не нарядилась так искусно в старенький костюм
и не закрыла так сильно платком лица; только стоявшего с ней рядом и
тоже одетого в полушубок Светлова не мог ни в каком случае узнать ди-
ректор, ни разу не видев его до того времени. Как бы то ни было, глава
Ельцинской фабрики чувствовал себя в сильном смущении, когда «деды» и
староста, выступив немного вперед, отвесили ему степенный поклон, слегка
дотронувшись до шапок, между тем1 как остальная часть толпы неподвижно
стояла с покрытыми головами.
—
Вы-ы . . . что?., бунтовать вздумали? А? Шапки долой! — крикнул
на нее грозно директор.
Толпа хоть бы шевельнулась.
—
А-а! вы... пьянствовать! Вы... начальству не повиноваться! Да я вас
Запорю... мерзавцы!!. —
опять закричал Оржеховский, уже изо всей мочи,
—
Ты, господин дилехтор, не лайся без пути, — холодно сказал ему
наконец старейший из «дедов»,
выступив вперед еще на один шаг: —
А изволь нас выслушать, как подобает. Мы к тебе пришли, слышь, вот зачем...
—
Да вы-то сами что за люди? Что за птицы? Подстрекатели? коно-
воды?!. Первые у меня в острог пойдете! — не дал ему договорить директор
и злобно ткнул пальцем в ту сторону, где стояла кучка «дедов».
Они о чем-то перешепнулись между собой и обратились к старосте.
—
А мы — выборные... —
сказал Семен Ларионыч. многозначительно
выступая вперед.
*
—
Я знать ничего не хочу! Кто вас выбрал? С чьего разрешения?
По какому праву? — перебил его директор.
—
Уж это ты у «мира» спроси: «мир» выбирал — «миру» про то и
знать, — ответил невозмутимо Семен Ларионыч. —
А ежели ты тепериче
не хочешь по-добру нас выслушать, так опосля, значит, не пеняй: оглобли-то
мы, пожалуй, и поворотим, да как бы твою милость не ушибить, — велики
больно.
—
Ты... каторгу знаешь? бывал? — бесстрастным металлическим голо-
сом обратился Оржеховский к старосте, неподвижно уставив на него свои
холодные глаза.
—
Нет, не ведаю, — не бывал; а любопытен знать: расскажи...
—
будто
льдом обдал его, в свою очередь, Семен Ларионыч.
—
Ну так вот узнаешь ее скоро! — только и нашелся сказать озада-
ченный директор. —
Что вам от меня надо? — крикнул он, помолчав, толпе.
Староста неторопливо кашлянул в руку.
—
А нам вот чего нужно, — заговорил Семен Ларионыч, отчеканивая
каждое слово: — чтоб ты, значит, айда отсюда, чтоб севодне же, значит,
духу твоего у нас в фабрике не было... потому — уж оченно ты «мир»
изобидел; выборного посек; тепериче тоже обобрал кругом фабришных —
обсчитываешь их... Мы тебе, значит, честь честью сказываем: не хочем мы
тебя и честью же просим: уезжай от нас как можно поскорее, — вишь народ
остервенился...
Директор стоял, как пораженный громом, слушая эту краткую, выра-
зительную речь; такой отчаянно-смелой дерзости он не ожидал и чувствовал,
как у него от злости задрожали губы и колени.
—
Так хорошо... поборемся!..
—
тихо, но злобно сказал Оржеховский,
оглянув сверкающим взглядом толпу.— Господин смотритель! — позвал он
громко.
-
"•
Смотритель робко высунулся в дверь.
—
Готовы у вас казаки? Прикажите им отворить ворота и выстроиться...
Я сейчас буду, — распорядился директор. —
Теперь вы у меня держитесь!.,
уносите шкуры! Я знаю, кто вас подучил, — не уйдут и они... Марш на ра-
боту! все!!.
—
попытался он еще раз употребить начальническое влияние.
Но народ попрежнему не двигался с места.
—
Береги лучше свою-то шкуру; она у тя севодне незаконная...
—
крикнул кто-то в толпе, намекая, очевидно, на густые эполеты...
Крестьянин н работай. Ч. Ii .
11
Оржеховский весь позеленел, но промолчал и быстро удалился в ком-
наты. Он машинально обошел их кругом, зарядил в кабинете шестистволь-
ный револьвер, задумчиво повертел его в руках и вышел с ним на площадку
крыльца. Внизу, у последней его ступеньки, поджидал теперь директора один
урядник, держа за поводья двух лошадей — свою и директорскую; осталь-
ные казаки, верхом выстроившись в шеренгу, стояли уже за откры-
тыми настежь воротами, а смотритель тоже верхом боязливо держался
позади них.
Оржеховский торопливо сел на лошадь и, в сопровождении урядника,
выехал за ворота, держа перед собой в правой руке револьвер.
—
Видите вы эту штучку? — показал он его толпе, круто остановив
перед ней лошадь. —
Вот она как действует...
Директор обернулся, прицелился в ставень и выстрелил.
—
Видели? — насмешливо спросил он, под'ехав к окну и указывая
пальцем народу круглое отверстие, насквозь пробитое пулей в ставне.
—
Вот то же самое будет и с теми лбами, кто осмелится меня ослушаться...
Марш все на работу!
Но толпа и теперь была неподвижна.
—
Казаки! — скомандовал директор, желая окончательно постращать
ее: — прицелься в передних.
Казаки, не торопясь, достали из-за плеч винтовки, медленно взвели
курки и без малейшего смущения стали целиться в «дедов»: винтовки были
заряжены одними холостыми зарядами; по расстоянию между командой и
народом они никому опасностью не угрожали.
Толпа, однако», не знала этого; тем не менее в ней только на один
миг пробежало сильное движение, послышался глухой ропот, — и она снова
окаменела.
~
—
А когды так, — вскричал староста Семен, быстро обернувшись и
подмигнув ближайшим фабричным: — так айда же за мной, робяты!
И он кинулся на казаков, как разоренный зверь, которого оцарапала
шальная пуля.
Растерявшись от внезапности его движения, казаки успели только дать
бесполезный залп по воздуху. Толпа загудела и застонала. Передние ряды
ее с криком налетели на казаков, окружили их, стащили с седел, некоторым
связали кушаками руки на спине, отвели всех в «конвойную» и заперли там.
Все это было сделано в какие-нибудь три минуты. Впрочем, сказать по правде,
если казаки сперва немного и сопротивлялись, то, разумеется, больше для
виду, чтоб оградить себя на всякий случай в глазах начальства, они с фабрич-
ными постоянно жили в ладу, водили хлеб-соль, даже имели между ними
своих зазнобушек, — ссориться им, стало быть, не приходилось — не-'
выгодно было.
Между тем, как одна часть толпы распоряжалась таким бесцеремонным
образом с казаками, другая окружила самого Оржеховского, сильным натиском
приперев его к стене дома, меж ставнями. Директор был обезоружен: какой-то
здоровенный фабричный в первую же минуту свалки вышиб у него из руки
револьвер; другой тотчас же отыскал этот револьвер в снегу, осторожно
поднял его и, подавая старосте, сказал:
—
На-кось, Семен Ларионыч, припрячь хорошенько эвту штуку: пускай
нйбольшие в городе поглядят, какими он гостинцами нам сулился...
Бледный, как полотно, с бессильно стиснутыми зубами, Оржеховский
испуганно ждал неизвестной развязки этих бурных сцен.
—
Худо вам... очень вам худо будет!—говорил он, тяжело- дыша.
—
Ничего; сами в деле — сами, значит, и в ответе, — успокоил его
высеченный им «дед».
—
Чего
коня-то
мучишь
напрасно? Слезай! — заметил
кто-то
директору.
—
Да что нам, робяты, долго ли толковать с ним? Давай, стащим его,
коли добром не слезает, — обратился к толпе муж Прасковьи Петровны.
Директор инстинктивно ухватился руками за ставень.
—
Что вы хотите делать со мной?.. —
в ужасе закричал он, теряя
последнее мужество, когда кучка рабочих протянула к нему свои здоровенные
руки. —
Дайте мне только подводу, и я сейчас же уеду... вот вам бог сви-
детель!— указал Оржеховский рукой на небо.
Но он несколько поздно предложил эту полюбовную сделку; в толпе
послышался сдержанный смех.
—
Знамо, что уедешь, коли сами хочем тебя отправить; да только ты
маленько рано каяться-то вздумал: надоть бы еще пострелять в нас, —
сострил кто-то.
'
*"
"
—
Мы те давече добром сказывали: уходи; не послушался, — теперече
пеняй на себя, коли поучим тебя маленечко. Слезавай, слышь! — лукаво
прищурившись, об'явил директору один из «дедов».
—
Слушайте, братцы! — ухватился Оржеховский за последнее сред-
ство:— никого я из вас не выдам... Все забуду; скажу в городе просто,
что сам не хочу здесь служить — надоело... что хотите, то и скажу, только
пустите меня...
—
Ишь! теперь так и «братцы» стали, — саркастически заметил один
кудреватый парень, раза два высеченный директором: — теперь так он
на нас, собака, словно на образа молится...
—
А ты чего лаешься! — важно и строго остановил его староста.
—
Ты говори дело, а не ругайся!
Парень сконфузился и стушевался.
—
Слеза-ай, господин дилехтор! супротив «мира» все едино ничего
не поделаешь, — увещательно обратился Семен Ларионыч к Оржеховскому.
Но тот не трогался с места и еще крепче ухватился за ставень. Он,
од-накож, недолго удержался в этом положении: небольшая кучка фабричных
снова протянула к нему руки и без особенного труда стащила его с лошади:
—
Веди его тепериче, робяты, в сборную; мы сейчас туды прибудем, —
распорядился один из «дедов».
Директора взяли под руки и повели, несмотря на все его просьбы и
сопротивления. Народ с оглушительным шумом хлынул за ним, как одна
бурная волна; бросившиеся вслед за ней ребятишки выказывали почему-то
непомерную радость, толкая друг друга в снег и заливаясь звонким, беззабот-
ным смехом.
—
Ну вас! чего разбесились, черти? Ужо вам староста-то даст знать!—
унимали их, оборачиваясь, пожилые бабы.
Смотритель, верхом ускользнувший в суматохе общей свалки за «кон-
войную» и притаившийся там возле забора, теперь кубарем скатился с лошади,
привязал ее за скобку калитки — и
—
ни жив ни мертв — пустился улепе-
тывать домой по задворкам.
—
Ишь, ка-ак!.. Ишь ка-ак - жа-арит чиновник-от наш! — добродушно
смеялись между собой заметившие его фабричные, и не помышляя, разумеется,
пускаться в погоню за этим1 зайцем, особливо теперь, когда настоящий
зверь был пойман.
Пока толпа шумно подвигалась вперед, Варгунин и Жилинский, поров-
нявшись с «дедами», стали уговаривать их — отпустить директора поскорее
в город, «без всякой расплаты», — как выразился Матвей Николаич. Немного
погодя к ним присоединились Светлов и Христина Казимировна; узнав
в чем дело, они тоже, в один голос, советовали «дедам» принять этот
добрый совет.
Но «деды» твердо стояли на своем.
—
Поучим маленько, тогда и отправим; — говорил они.
—
Ну-с, хорошо*«.: да как вы его поучите*»—нетерпеливо приставал
к ним Варгунин.
—
А так и поучим: постегаем маленько, — сказал староста.
—
Смотрите, батенька! Это ведь острогом пахнет...
—
предупредил
его Матвей Николаич.
—
Сам знаю, Матвей Николаевич, что не пряниками пахнет, да как же
быть-то! «Мир», значит, так решил, а нам супротив «мира» итти не почему
нельзя...
-
-
—
.
.
•rSPK=r
Семен Ларионыч погладил бороду, заложил за спину руки и задумчиво
уставился на землю.
—
В острог, так в острог! — с отчаянной решимостью махнул он вдруг
рукой и опять задумался.
—
Как «мир» хочет, так тому и быть! — единодушно поддержали его
«деды».
-
г
Варгунин не счел деликатным настаивать долее на своем совете; однако
Матвею Николаичу удалось как-то склонить выборных — дать ему честное
слово, что они накажут директора только слегка, для одного виду, — это. была
с их стороны хоть и небольшая, но все-таки уступка. Тем не менее, расхо-
дившаяся не на шутку толпа думала совсем иначе; оказалось, что ее не так
легко уговорить, как «дедов». Жилинский и его гости, даже Христина Кази-
мировна, истощили все свое красноречие, чтобы подействовать на благора-
зумие фабричных, но те и слышать не хотели о каких-либо уступках ; на-
против, эти жаркие увещания, повидимому, еще больше подстрекнули мсти-
тельный инстинкт некоторых горячих голов.
•— Чего с ним попусту-то валандаться! — кричали в толпе, окружавшей
директора: — вали его, робяты, прямо в прорубь! Это дело вернее будет!
—
Туда собаке и дорога! — резко подхватил кто-то.
И толпа, увлекаемая передней кучкой рабочих, сопровождавшей Орже-
ховского, ринулась было в сторону фабричной плотины, где действительно
находилась узкая прорубь, откуда обыкновенно брали воду.
При этом неожиданном движении народа в Светлове внезапно просну-
лась вся его энергия. Александр Васильич быстро отыскал глазами Варгунина,
выразительно махнул ему белым платком и в один миг забежал вперед толпы.
—
Стой на минуту, братцы! — с необычайной силой крикнул он раз'-
яренной кучке рабочих, тащившей Оржеховского, и остановил ее движением
широко распростертых рук. —
Если вы только без согласия выборных тро-
нете директора хоть пальцем, — мы с Матвеем Николаичем первые бросимся
в прорубь! Так и знайте!
—
Да! уж тогда не поминайте лихом!.. —
решительно поддержал
Светлова догнавший его Варгунин.
Толпа на минуту как будто опешила; она, очевидно, была поражена
таким неожиданным оборотом дела. Оржеховский изумленно смотрел во все
глаза на своего нечаянного защитника в полушубке. Наступило угрюмое
молчание.
—
Как же тут теперече быть, робяты? Сказывайте!..
—
надумался
проговорить, наконец, один из главных зачинщиков буйства, нерешительно
обернувшись назад.
Но Варгунин не дал ему дождаться ответа.
—
Как знаете, так и делайте, а мы от своего слова не отступим, —
еще решительнее сказал Матвей Николаич. —
Пойдемте, батенька! — тор-
жественно обратился он к Светлову, подавая ему руку.
Они быстро отделились от толпы и твердо зашагали рука об руку
по направлению к плотине.
—
Эй!.. Матвей Миколаич!.. По-олно!.. Воротитеся!..
—
торопливо
закричало им вслед несколько взволнованных голосов.
Варгунин остановился, слегка обернувшись.
—
В сборную ? — спросил он строго и холодно.
—
В сборную! в сборную! — загудела разом толпа и в одну минуту
изменила направление, хлынув по первоначальному пут
—-
Молодец вы, батенька! Как это вам пришло в голову? — шопотом
говорил Матвей Николаевич Светлову, горячо пожимая ему руку и медленно
поворачивая за толпой. —
Без вас — прощай директор!
—
Вряд ли бы деды допустили до этого? — как бы вопросительно заме-
тил Александр Васильевич.
—
Да уж там они хоть допускай, хоть нет — все равно. Э, батенька!
ведь и деды не застрахованы, коли народ захочет...
—
пояснил Варгунин и
вдруг задумался.
„
Толпа между тем все быстрее и быстрее подвигалась вперед, и наконец
передние ряды ее остановились против крыльца «сборной избы». Туда ме-
дленнно вошли сперва «деды», а за ними — староста и некоторые другие,
более влиятельные фабричные личности. Они совещались там не больше десяти
минут, но Оржеховскому эти десять минут показались длиннее целых суток.
К концу ожидания развязки ему даже сделалось дурно, и он только тогда
очнулся, когда его, по распоряжению вернувшегося из «сборной» старосты,
раздели- и положили на скамью у ворот. Толпа на миг заволновалась — и
вдруг замерла, притаила дыхание...
На глазах всей этой многолюдной толпы, нарушая только своими отчаян-
ными криками ее угрюмое молчание, директор был наказан двадцатью ударами
розог...
На Оржеховском, как говорится, лица не было, когда он встал
с роковой скамейки; густая краска стыда покрывала его вспотевшие
щеки, зубы были лихорадочно стиснуты, а руки в бессильной злобе
сжимались в кулаки. Ни за что в мире не поднял бы он теперь
глаза на эту, обсчитанную им и так позорно наказавшую его, толпу I
Она, действительно, и теперь стояла выше директора: ни во время
наказания, ни после, Оржеховский не услыхал от нее ни одной шутки,
ни одной неприличной выходки, между тем как сам он постоянно острил,
наказывая других. Толпа ограничилась тем, что молча проводила его
обратно до дому.
і,;
Здесь, в какие-нибудь два часа времени, все имущество директора, за ис-
ключением казенной мебели да известного револьвера, было под личным над-
зором старосты осторожно запаковано фабричными в тюки и сложены на три
парные подводы, заранее приготовленные; впереди их стоял во дворе соб-
ственный возок Оржеховского, запряженный тройкой. Пока шли в доме все
эти приготовления к от'езду директора, «деды» потребовали от него, чтобы
он на каждую дверь, за которой хранилось какое-либо имущество казны,
наложил воском казенную и именную печати. Оржеховский на этот раз
повиновался, как ребенок, безучастно понурив совсем сбитую с толку голову,
он шел везде, куда ему указывали выборные. Таким образом сперва были
опечатаны директорский дом и оба завода, а потом — все остальное. Когда
и эти формальности кончились, староста распорядился, чтобы на каждую
из трех подвод уселось по казаку, и послал сказать директору, что «задержки
больше нету».
—
Лошади, смотри, даны вам казенные, — громко обратился в заклю-
чение Семен Ларионыч к уряднику, сидевшему уже на облучке возка: — чтоб
з целости, значит, были доставлены обратно, а не то — сами за них и
ответите...
Староста вдруг остановился и, понизив до шопота свой голос, стал
торопливо говорить что-то уряднику, который в ответ только кивал ему
согласливо головой.
Наконец, показался директор. Непримиримая злоба сверкала в его опу-
щенных глазах, когда рн, не проронив ни слова, садился в свой экипаж.
Толпа так же молча, но как-то внушительно смотрела на него несколькими
сотнями зорких глаз. Семен Ларионыч, степенно перекрестясь, взял под уздцы
тройку, осторожно вывел ее за ворота и пробежал с ней рядом несколько
шагов по улице.
—
Вали теперече с богом! — крикнул он уряднику, пуская лошадей и
отскочив в сторону.
Тройка быстро помчалась.
—
Счастливо оставаться! — не оборачиваясь, успел закричать Орже-
ховский толпе своим резким, металлическим- голосом-.
Глубокий сарказм, злоба и ненависть явственно дрожали в этом послед-
нем приветствии директора.
Когда от'еха-ла последняя подвода, народ несколько минут оставался еще
на месте, молчаливо следя за удалявшимися экипажами и, только потеряв их
из виду, стал медленно, будто нехотя, расходиться. Опять образовались отдель-
ные группы; слышался спор, шли толки.
Какой-то фабричный парень отыскал во дворе директорского дома
метлу и торопливо, с самым серьезным видом замел на снегу свежие следы
начальнического отступления.
Несмотря, однакож, на отсутствие директора, фабрика всю остальную
часть дня вела себя самым приличным образом, хотя и не принималась за ра-
боту. Вечер прошел так же тихо: нигде не затевалось вечорки, даже не видно
было, против обыкновения, ни одного пьяного на улицах; напротив, все это
время на лицах рабочих лежала какая-то сосредоточенная озабоченность,
крепкая, сдержанная дума. «Деды» почти не выходили из «сборной»; староста
Семен, вооружась своей сучковатой палкой, поминутно заглядывал то туда,
то сюда, горячо толковал с молодыми парнями и, -видимо, предупреждал их
о чем-то. Самый ловкий из этих парней был командирован на собственной
«сорви голова» лошадке Семена Ларионыча, верст за пять от деревни — сте-
речь дорогу в город; тройка таких же лихих лошадей стояла во дворе ста-
росты, готовая пуститься в путь по первому его приказу. Словом — по всему
заметно было, что в фабрике ждали чего-то необыкновенного.
Почти в самую полночь, или много что несколькими минутами позднее,
когда Жилинские с гостями только-что встали из-за ужина, все еще толкуя
о происшествиях сегодняшнего утра, — в столовую к ним* торопливо вошел
староста Семен, весь красный, и очевидно, сильно встревоженный.
—
Рота идет!., версты за три отсюда!., с жандармским!..
—
об'явил он,
едва переводя дух.
Присутствующие многозначительно переглянулись, но в первую ми-
нуту никто не проронил ни слова.
—
Так и есть! Так я и думал! — отозвался, наконец, Казимир Антоныч,
досадливо потерев рукою лоб.
—
Скорехонько собрались! — заметил саркастически Варгунин и улыб-
нулся, но как-то тревожно.
—
Теперече вот какое дело-, — сказал Семен Ларионыч, обращаясь
к Жилинскому и отирая с лица пот: — тут, у твоего крылечка, троечка стоит...
лихая, — так надо вам всем1 айда отсюда поскорее!.. Время теперече нельзя
проволочить ни минуты!.. Собирайтесь!
—
Я никогда ни от кого не бегал! — величаво проговорил Жилинский: —
и моя дочь тоже!
—
Да и мы естанемея, — твердо сказал
Светлов, посмотрев
на Варгунина.
—
Разумеется, батенька, останемся, — подтвердил Матвей Николаич.
Староста нетерпеливо и как-то досадливо махнул левой рукой.
—
Да ты не артачься, Казимир Антоныч, — опять обратился он к Жи-
линскому: — я не о тебе хлопочу, а о своих... о своей шкуре... Ежели вас
теперече здесь накроют — нам же хуже будет, скажут: не своим; значит,
умом орудовали дело... Одни-то мы еще так и сяк разделаемся, а ну как
с вами-то застанут — пропадай голова. Ты теперече рассуди: у нас уж это
все уговорено между своими, как быть надо. Коли что пронюхают, — скажем,
что, мол, к тебе точно приезжали гости и, значит, из любопытства вы все,ходили
смотреть, как наши у дилехторского дома выстаивали, а опосля, мол, надо-
быть, испужались, что их ребяты наши изобидеть могут, да и дали лыжи
в город... Понимаешь? Уж мы эту механику начисто подведем... А коли вы
теперече останетесь тут — значит, мол, не боялись, снюхались с фабриш-
ными... Я тебе, ей-богу, дело говорю!
Жилинский стоял в нерешимости.
—
Да так ли это, полно, Семен Ларионыч? — спросил он несколько
подозрительно.
.
~
—
Да уж так... Я тебе говорю: уезжайте! — убедительно продолжал
упрашивать староста. —
Теперече... и нам нельзя тоже остаться без руки
в городе: ваши-то золотые головы нам еще там не раз пригодятся... А насчет
имущества — ты не хлопочи: все будет цело, как есть... за все буду сам
в ответе. Ты ведь меня знаешь не первый год: у меня тоже в мошне-то,
поди, лежит чего-нибудь...
—
Если ты, Семен Ларионыч, действительно, говоришь правду, если
точно ваша польза требует, чтоб мы все уехали отсюда, — - тогда разумеется,
нечего и толковать, я готов, — согласился Жилинский.
Он высказал это согласие так же величаво, как и свой отказ перед тем.
—
Да уж, верно слово; я тебе говорю, что так! —еще раз подтвердил
староста самым убедительным тоном: — только Христа ради не мешкай ты...
А уж мы там дадим весточку в город через своего курьера... хороню знаем
эти порядки...
После минутного совещания решено было ехать всем вместе. В доме,
впрочем, не поднялось после этого никакой особенной суматохи. Жилинский
торопливо обошел все комнаты, везде заглянул зорким хозяйским взглядом,
запер комоды, конторку и шкап с серебром; захватил из кабинета шкатулку
с. деньгами, какие-то бумаги, отдал несколько распоряжений старому слуге,
безгранично к нему привязанному и даже добровольно уехавшему за ним
в ссылку, — и совсем был готов в путь. Христина Казиімировна не уступила
в этом отношении отцу; она собралась еще скорее. Что же касается Светлова
и Варгунина, то им и собираться было нечего — стоило только накинуть
шубы. Семен Ларионыч потому именно и торопил Казимира Антоныча, что уж
никак не ожидал таких коротких сборов. Словом сказать — не прошло и пол-
часа, как все были уже на крыльце. Там их поджидала действительно лихая
тройка, заложенная в те самые широкие пошевни, на которых староста отвез
с вечорки дорогих гостей; на козлах молодцовато сидел знакомый уже нам
муж Парасковьи Петровны.
—
Ну, Лександр Васильич, благодарим тебе покорно: ведь ты наших-то
выручил; а то во какой бы мы беды нажили — смертоубийство ведь! — говорил
староста, усаживая Светлова последним.
—
Не за что, Семен Ларионыч!.. —
взволнованно отозвался Александр
Васильич, горячо пожав его мозолистую руку.
—
Ну, да ладно, свидимся еще, бог даст... всех вас благодарим покорно!
Христина Казимировна, потепле, матушка, закутайтесь... вишь, ведь стужа
ноне. Ты, Петроваша, мотри! леском ужо об'езжай, да ухо-то востре держи...
Ну... до приятного повидания! Вали, парень, с богом! — напутствовал староста
от'езжавших друзей.
Тройка быстро помчалась. Об'ехав по задам фабрику, она круто повер-
нула в лес и стала искусно нырять между кочек сугробов. Среди этих снежных
волн Петрован оказался настоящим опытным и закаленным моряком. Перед
тем, как надо было своротить на торную дорогу, он вдруг нырнул с тройкой
в какой-то глубокий ухаб, задержал лошадей и притаился. Варгунин осторожно
выглянул на дорогу.
—
Видите, батенька? — сказал он шопотом Светлову, указав на тем-
ную, продолговатую массу, которая медленно подвигалась в полверсте от них,
по направлению к фабрике.
—
Да, вижу, — так же тихо ответил Александр Васильич, разглядев
впереди этой темной массы слегка отделившегося от нее всадника.
Через минуту они явственно услышали сперва глухой топот конских
копыт, а потом — мерные и тяжелые человеческие шаги. Это рота переходила
мостик на Ельце.
А. Чехов.
МУЖИКИ.
Лакей при московской гостинице «Славянский Базар», Николай Чикиль-
деев, заболел. У него онемели ноги и изменилась походка, так что однажды,
идя по коридору, он споткнулся и упал вместе с подносом, на котором была
ветчина с горошком. Пришлось оставить место. Какие были деньги, свои и
женины, он пролечил, кормиться было уже не на что, стало скучно без дела,
и он решил, что, должно быть, надо ехать к себе домой, *в деревню. Дома
и хворать легче, и жить дешевле; и не даром говорится: дош стены помогают
Приехал он в свое Жуково под вечер. В воспоминаниях детства родное
гнездо представлялось ему светлым, уютным, удобным, теперь же, войдя
в избу, он даже испугался: так было темно, тесно и нечисто. Приехавшие
с ним жена Ольга и дочь Саша с недоумением поглядывали на большую
неопрятную печь, занимавшую чуть ли не пол-избы, темную от копоти и мух.
Сколько мух! Печь покосилась, бревна в стенах лежали криво, и казалось,
что изба сию минуту развалится. В переднем углу, возле икон, были наклеены
бутылочные ярлыки и обрывки газетной бумаги — это вместо картин. Бед-
ность, бедность! Из взрослых никого не было дома, все жали. На печи
сидела девочка лет восьми, белоголовая, немытая, равнодушная; она даже
не взглянула на вошедших. Внизу терлась о рогач белая кошка.
—
Кис, кис! — поманила ее Саша. —
Кисі
—
Она у нас не слышит, — сказала девочка.
—
Оглохла.
—
Отчего?
—
Так. Побили.
Николай и Ольга с первого взгляда поняли, какая тут жизнь, но ничего
не сказали друг другу; молча свалили узлы и вышли на улицу молча. Их изба
была третья с краю и казалась самою бедною, самою старою на вид; вторая —
не лучше, зато у крайней — железная крыша и занавески на окнах. Эта
изба, неогороженная, стояла особняком и в ней был трактир. Избы шли
в один ряд, и вся деревушка, тихая и задумчивая, с глядевшими из дворов
ивами, бузиной и рябиной, имела приятный вид.
За крестьянскими усадьбами начинался спуск к реке, крутой и обры-
вистый, так что в глине, там-и-сям, обнажились громадные камни. По скату,
около этих камней и ям, вырытых гончарами, вились тропинки, целыми
кучами были навалены черепки битой посуды, то бурые, то красные, а там,
внизу расстилался широкий, ровный, ярко-зеленый луг, уже скошенный,
на котором теперь гуляло крестьянское стадо. Река была в версте от деревни,
извилистая, с чудесными кудрявыми берегами, за нею опять широкий луг,
стадо, длинные вереницы белых гусей, потом так же, как на этой стороне,
крутой под'ем на гору, а вверху, на горе, село с пятиглавою церковью и
немного поодаль господский дом.
—
Хорошо у вас здесь! — сказала Ольга, крестясь на церковь.
—
Раздолье, господи!
Как раз в это время ударили ко всеношной (был канун воскресенья).
Две маленькие девочки, которые внизу тащили ведро с водой, оглянулись
на церковь, чтобы послушать звон.
—
Об эту пору в «Славянском Базаре» обеды... — проговорил Николай
мечтательно.
Сидя на краю обрыва, Николай и Ольга видели, как заходило солнце,
как небо, золотое и багровое, отражалось в реке, в окнах храма и во всем
воздухе, нежном, покойном, невыразимо-чистом, какого никогда не бы-
вает в Москве. А когда солнце село, с блеяньем и ревом прошло стадо, приле-
тели с той стороны гуси, — и все смолкло, тихий свет погас в воздухе и
стала быстро надвигаться вечерняя темнота.
Между тем вернулись старики, отец и мать Николая, тощие, сгорблен-
ные, беззубые, оба одного роста. Пришли и бабы — невестки, Марья и Фекла,
работавшие за рекой у помещика. У Марьи, жены брата Кирьяка, было
шестеро детей, у Феклы, жены брата Дениса, ушедшего в солдаты, — двое;
и когда Николай, войдя в избу, увидел все семейство, все эти большие и ма-
ленькие тела, которые шевелились на полатях, в люльках и во всех углах,
и когда увидел, с какою жадностью старик и бабы ели черный хлеб, макая
его в воду, то сообразил, что напрасно он сюда приехал, больной, без денег
да еще с семьей, — напрасно!
—
А где брат Кирьяк? — спросил он, когда поздоровались.
—
У купца в сторожах живет, — ответил отец: — в лесу. Мужик бы
ничего, да заливает шибко.
—
Не добытчик! — проговорила старуха слезливо. —
Мужики наши
горькие не в дом несут, а из дому. И Кирьяк пьет, и старик тоже, греха
таить нечего, знает в трактир дорогу.ГІрогневалась царица небесная.
По случаю гостей поставили самовар. От чая пахло рыбой, сахар был
огрызанный и серый, по хлебу и посуде сновали тараканы; было противно
пить, и разговор был противный — все о нужде да о болезнях. Но не
успели выпить и по чашке, как со двора донесся громкий, протяжный
пьяный крик:
—
Ма-арья!
—
Похоже, Кирьяк идет, — сказал старик: — легок на помине.
Все притихли. И немного погодя, опять тот же крик, грубый и протяж-
ный, точно из-под земли:
—
Ма-арья!
Марья, старшая невестка, побледнела, прижалась к печи, и как-то
странно было видеть на лице у этой широкоплечей, сильной, некрасивой
женщины выражение испуга. Ее дочь, та самая девочка, которая сидела
на печи и казалась равнодушною, вдруг громко заплакала.
—
А ты чего, холера? — крикнула на нее Фекла, красивая баба,
тоже сильная и широкая в плечах. —
Небось, не убьет!
От старика Николай узнал, что Марья боялась жить в лесу с Кирьяком,
и что он, когда бывал пьян, приходил всякий раз за ней и при этом шумел
и бил ее без пощады.
—
Ма-арья! — раздался крик у самой двери.
—
Вступитесь
христа-ради,
родименькие, — залепетала
Марья,
дыша так, точно ее опускали в очень холодную воду; — вступитесь,
родименькие!
Заплакали все дети, сколько их было в избе, и, глядя на них, Саша
тоже заплакала. Послышался пьяный кашель, и в избу вошел высокий, черно-
бородый мужик в зимней шапке и оттого, что при тусклом свете лампочки
не было видно его лица, — страшный. Это был Кирьяк. Подойдя к жене,
он размахнулся и ударил ее кулаком по лицу, она же не издала ни звука,
ошеломленная ударом, и только присела, и тотчас же у нее из носа пошла
кровь.
—
Экой срам-то, срам, — бормотал старик, полезая на печь: — при
гостях-то! Грех какой!
А старуха сидела молча, сгорбившись, и о чем-то думала; Фекла ка-
чала люльку... Видимо, сознавая себя страшным и довольный этим, Кирьяк
схватил Марью за руку, потащил ее к двери и зарычал зверем, чтобы
казаться еще страшнее, но в это время вдруг увидел гостей, и остановился.
—
А, приехали... —
проговорил он, выпуская жену. —
Родной братец
с семейством...
^
^
Он помолился на образ, пошатываясь, широко раскрывая свои пьяные,
красные глаза и продолжал:
—
Братец с семейством приехал в родительский дом... из Москвы,
значит. Первопрестольный, значит, град Москва, матерь городов... Извините...
Он опустился на скамью около самовара и стал пить чай, громко
хлебая из блюдечка, при общем молчании. Выпил чашек десять, потом скло-
нился на скамью и захрапел.
Стали ложиться спать. Николая, как больного, положили на печи
со стариком: Саша легла на полу, а Ольга пошла с бабами в сарай.
—
И-и, касатка, — говорила она, ложась на сене рядом с Марьей: —
слезами горю не поможешь! Терпи и все тут. В писании сказано: аще кто
тебя ударит в правую щеку, подставь ему левую... И -и, касатка!
Потом ока внологолоса, нараспев, рассказывала про Москву, про свою
жизнь, как она служила горничной в меблированных комнатах.
—
А в Москве дома большие, каменные, — говорила она: — церквей
много-много, сорок сороков, касатка, а в домах все господа, да такие кра-
сивые, да такие приличные!
Марья сказала, что она никогда не бывала ;не только в Москве; но даже
в своем уездном городе; она была неграмотна, не знала никаких молитв,
не знала даже «отче наш». Она и другая невестка, Фекла, которая теперь
сидела поодаль и слушала, — обе были крайне неразвиты и ничего не могли
понять. Обе не любили своих мужей; Марья боялась Кцрьяка, и, когда он
оставался с нею, то она тряслась от страха и возле него всякий раз угорала,
так как от него сильно пахло водкой и табаком. А Фекла, на вопрос, не
скучно ли ей без мужа, ответила с досадой:
—
А ну его!
Поговорили и затихли...
Было прохладно и около сарая во все горло кричал петух, мешая спать.
Когда синеватый утренний свет уже пробивался во все щели, Фекла поти-
хоньку встала и вышла, и потом слышно было, как она побежала куда-то,
стуча босыми ногами.
А. Чехов.
В ОВРАГЕ.
!.
Село Уклеево лежало1 в овраге, так что с шоссе и со станции железной
дороги видны были только колокольня и трубы ситце-набивных фабрик. Когда
прохожие спрашивали, какое это село, то им говорили:
—
Это то самое, где дьячок на похоронах всю икру с'ел.
Как-то на поминках у фабриканта Костюкова старик-дьячок увидел
среди закусок зернистую икру и стал есть ее с жадностью; его толкали, дер-
гали за рукав, но он словно окоченел от наслаждения: ничего1 не чувствовал и
только ел. С'ел всю икру, а в банке было фунта четыре. И прошло уже много
времени с тех пор, дьячок давно умер, а про икру все помнили. Жизнь ли была
так бедна здесь, или люди не умели подметить ничего, кроме этого неважного
события, происшедшего десять лет назад, а только про село Уклеево ничего
другого не рассказывали.
В нем не переводилась лихорадка и была топкая грязь даже летом,
особенно под заборами, над которыми сгибались старые вербы, дававшие ши-
рокую тень. Здесь всегда пахло фабричными отбросами и уксусной кислотой,
которую употребляли при выделке ситцев. Фабрики, — три ситцевых и одна
кожевенная — находилась не в самом селе, а на краю, поодаль. Это1 были не-
большие фабрики, и да всех их было занято около четырехсот рабочих, не
больше. От кожевенной фабрики вода в речке часто становилась вонючей;
отбросы заражали луг, крестьянский скот страдал от сибирской язвы, и фаб-
рику приказано было закрыть. Она считалась закрытой, но работала тайно
с ведома станового пристава и уездного врача, которым владелец платил по
десяти рублей в месяц. Во всем селе было только два порядочных дома, камен-
ных, крытых железом; в одном помещалось волостное правление, в другом,
двух'этажном, как раз против церкви, жил Цыбукин, Григорий Петров, епи-
фанекий мещанин.
Григорий держал бакалейную лавочку, но это только для вида, на са-
мом же деле торговал водкой, скотом, кожами, хлебом в зерне, свиньями,
торговал чем придется, и когда, например, за границу требовались для
дамских шляп сороки, то он наживал на каждой паре по тридцати копеек;
он скупал лес на сруб, давал деньги в рост, вообще был старик оборотливый.
У него было два сына. Старший, Анисим, служил в полиции, в сыскном
отделении, и редко бывал дома. Младший, Степан, пошел по торговой части
и помогал отцу, но настоящей помощи от него не ждали, так как он был слаб
здоровьем и глух; его жена Аксинья, красивая, стройная женщина, ходившая
в праздник в шляпке и с зонтиком, рано вставала, поздно ложилась и весь
день бегала, подобрав свои юбки и гремя ключами, то в амбар, то в погреб,
то в лавку, и старик Цыбукин глядел на нее весело, глаза у него загорались и
в это время он жалел, что на ней женат не старший сын, а младший, глухой,
который, очевидно, мало смыслил в женской красоте.
У старика всегда была склонность к семейной жизни, и он любил свое
семейство больше всего на свете, особенно старшего сына-сыщика и невестку.
Аксинья, едва вышла за глухого, как обнаружила необыкновенную делови-
тость и уже знала, кому можно отпустить в долг, кому нельзя, держала при
себе ключи, не доверяя их даже мужу, щелкала* на счетах, заглядывала лоша-
дям в зубы, как мужик, и все смеялась или покрикивала; и, что бы она ни
делала, ни говорила, старик только умилялся и бормотал:
—
Ай-да невестушка! Ай-да красавица, матушка...
Он был вдов, но через год после свадьбы сына не выдержал и сам же-
нился. Ему нашли за тридцать верст от Уклеева девушку Варвару Николаевну
из хорошего семейства, уже пожилую, ко красивую, видную. Едва она посе-
лилась в комнатке, в верхнем этаже, как все просветлело в доме, точно во
все окна были вставлены новые стекла. Засветились лампадки, столы покры-
лись белыми, как снег, скатертями, на окнах и в палисаднике показались
цветы с красными глазками, и уж за обедом ели не из одной миски, а перед
каждым ставилась тарелка. Варвара Николаевна улыбалась приятно и ласково,
и казалось, что в доме все улыбается. И во двор, чего раньше никогда не было,
стали заходить нищие, странники, богомолки; послышались под окнами жа-
лобные, певучие голоса уклеевских баб и виноватый кашель слабых, испитых
мужиков, уволенных с фабрики за пьянство. Варвара помогала деньгами, хле-
бом, старой одеждой, а потом, обжившись, стала потаскивать и из лавки. Раз
глухой видел, как она унесла две осьмушки чаю, и это его смутило.
—
Тут мамаша взяла две осьмушки чаю, — сообщил он потом отцу.
—
Куда это записать?
Старик ничего не ответил, а постоял, подумал, шевеля бровями, и по-
шел наверх к жене.
—
Варварушка, ежели тебе, матушка, — сказал он ласково: — пона-
добится что в лавке, то ты бери. Бери себе на здоровье, не сомневайся.
И на другой день глухой, пробегая через двор, крикнул ей:
—
Вы, мамаша, ежели что нужно. —
берите!
В том, что она подавала милостыню, было что-то новое, что-то веселое
и легкое, как в лампадках и красных цветочках. Когда в заговенье или в пре-
стольный праздник, который продолжался три дня, сбывали мужикам протух-
лую солонину с таким тяжким запахом, что* трудно было стоять около бочки, и
принимали от пьяных в заклад косы, шапки, женины платки, когда в грязи
валялись фабричные, одурманенные плохой водкой, и грех, казалось, сгустив-
шись. уже туманом стоял в воздухе, тогда становилось как-то легче при мы-
сли, что там* в доме есть тихая, опрятная женщина, которой нет дела ни до
солонины, ни до водки; милостыня ее действовала в эти тягостные, туманные
дни, как предохранительный клапан в машине.
Дни в доме Цыбукина проходили в заботах. Еще солнце не всходило,'
а Аксинья уже фыркала, умываясь в сенях, самовар кипел в кухне и гудел,
предсказывая что-то недоброе. Старик Григорий Петров, одетый в длинный,
черный сюртук и ситцевые брюки, в высоких, ярких сапогах, такой чистень-
кий, маленький, похаживал по комнатам >и постукивал каблучками, как све-
кор-батюшка в известной песне. Отпирали лавку. Когда становилось светло,
подавали к крыльцу беговые дрожки, и старик молодцевато садился на них,
надвигая свой большой картуз до ушей, и, глядя на него, никто не сказал бы,
что ему уже 56 лет. Его провожали жена и невестка, и в это время, когда на
нем был хороший, чистый сюртук и в дрожки был запряжен громадный воро-
ной жеребец, стоивший триста рублей, старик не любил, чтобы к нему под-
ходили мужики со своими просьбами и жалобами; он ненавидел мужиков и
брезговал ими, и если видел, что какой-нибудь мужик дожидается у ворот, то
кричал гневно*
—• Что стал там? Проходи дальшеI
Или кричал, если то был нищий:
—
Бог дасьть!
Он уезжал по делам, жена его, одетая в темное, в черном фартуке,
убирала комнаты или помогала в кухне. Аксинья торговала в лавке, и слышно
было во дворе, как звенели бутылки и деньги, как она смеялась или кричала,
и как сердились покупатели, которых она обижала; и в то же время было за-
метно, что там в лавке тайная торговля водкой уже идет. Глухой тоже сидел
в лавке, или без шапки, заложив руки в карманы, ходил по улице и рассеянно
поглядывал то на избы, то вверх на небо. Раз шесть в день в доме пили чай;
раза четыре садились за стол есть. А вечером считали выручку и записывали,
потом спали крепко.
В Уклееве все три ситцевые фабрики и квартиры фабрикантов Хрыми-
ньгх Старших, Хрыминых Младших и Костюкова были соединены телефоном.
Провели телефон и в волостное правление, но там он скоро перестал дей-
ствовать, так как в нем завелись клопы и прусаки. Волостной старшина был
малограмотен и в бумагах каждое слово писал с большой буквы, но когда ис-
портился телефон, то он сказал:
—
Да, теперь нам без телефона будет трудновато.
Хрымины Старшие постоянно судились с Младшими, иногда и Младшие
ссорились между собою и начинали судиться, и тогда их фабрика не работала
месяц, два. пока они опять не мирились, и это развлекало жителей Уклеева,
так как по поводу каждой ссоры было много разговоров и сплетен. В празд-
ники Костюков и Хрымины Младшие устраивали катанье, носились по Уклееву
и давили телят. Аксинья, шурша накрахмаленными юбками, разодетая, прогу-
ливалась на улице, около своей лавки; Младшие подхватывали ее и увозили
как будто насильно. Тогда выезжал и старик Цыбукин, чтобы показать свою
новую лошадь, и брал с собой Варвару.
Вечером, после катанья, когда ложились спать, во дворе у Младших иг-
рали на дорогой гармонике и, если была луна, то от звуков этих становилось
на душе тревожно и. радостно и Уклеево уже не казалось ямой.
Вл.
Короленко.
в успокоенной деревне.
Я уехал из столицы на рождественские праздники далеко в глушь, в са-
ратовскую деревню. Уединенный помещичий хутор, белые поля, купы деревьев,
все в белом инее. Почта — в 12 верстах, ближайшая железнодорожная стан-
ция — в 16. Газеты привозятся не каждый день, да ведь и читать их необя-
зательно. Одним словом, — отдых среди природы! В одной стороне из-за снеж-
ных сугробов видны крылья мельницы. В другой, над оврагом, выстроились
в ряд избы с соломенными крышами. Две деревеньки. Они теперь, как из-
вестно, уже «успокоены». Едешь по дороге, — попадается крестьянский ме-
ренок с розвальнями, сидящие в санях снимают шапки.
Вспоминаются старые деревенские мотивы: «Вы — наши, мы — ваши»...
Как-то после крещения в ясное морозное утро к хутору под'ехала
пара саней. Шесть мужиков вошло в переднюю, стряхаются, натоптали' сне-
гу. Приехали по своему делу к хозяину хутора. Посоветоваться.
—
В чем дело?
Они рассказывают. И я хочу теперь в свою очередь рассказать читате-
лям про это небольшое, довольно обычное в успокоенной деревне «дело», не
новое, не оригинальное, но все-таки поразительное. Вы читали это десятки
раз, и я тоже. Но мне хочется дать вам хоть раз полную и законченную кар-
тину того, о чем и вы и я читаем ежедневно. Я буду передавать именно так,
как мне рассказано, не прибавляя ни одной черты от себя. Только, во избе-
жание длиннот и повторений, сведу шесть рассказов в один и прибавлю к ним
еще несколько, слышанных от «сторонних свидетелей» впоследствии.
II.
Их шестеро: три отца, да три сына. Чубаровской волости; Сердобского
уезда, деревни Кромщины, крестьяне: Семен Устинов Трашенков, да Семен
Миронов Коноплянкин, да Созон Макаров Еткаренков.
Это — отпы. С ними сыновья: Трашенков Павел, почти еще юноша,
с красивым правильным лицом, да Коноплянкин Абрам (скуластое лицо обще-
деревенского типа), да еще Еткаренков Василий (лицо умное, выразительно-
печальное).
С ними произошла вот какая неприятная случайность.
В деревне Кромщине живет богатый мужик Дмитрий Евдокимов Шесте-
ринин. Мужик — хозяйственный, крепкий, из тех «сильных», на которых те-
перь держится правительственная ставка. Между прочим1 и ростовщик. В ночь
с 27-го на 28-е октября истекшего года у него случилась покража: взломали
кладовую и вытащили два сундука. На-утро сундуки нашлись в овраге, раз-
битые. Большая часть содержимого оказалась налицо: воры, очевидно, искали
денег и ценных вещей. Шестеринин сначала показал убытки на 300 рублей
(в том числе долговые расписки разных лиц), потом свел до 90 рублей. Бабы
жаловались на пропажу холстины да миткаля.
Кто украл, — неизвестно. Надо узнавать.
В роду у Шестерининых есть свой мудрец, Василий Вонифатиевич Ше-
стеринин, который гадает о покражах. Позвали его, и долго вечерами в избе
Шестерининых шло колдовство. «Канифатыч» раскрывает псалтирь и читает
«каку-то псалму». На левой руке у него на палец намотана нитка от клубка.
На клубок надеты замок (или ключ) и ножницы. По прочтении «псалмы» Ка-
нифатыч начинает называть разные имена. На чьем имени ножницы задро-
жат и повернутся, тот и есть вор. Признак: с этих пор он начинает чернеть.
Колдовали, несколько дней; ножницы указывали несколько1 имен, осо-
бенно часто вздрагивали они при имени некоего Григория Чикалова, который,
надо заметить, был в ссоре с Шестериниными. Но Григорий чернеть не чер-
неет...
В это время по деревням много свадеб. В начале ноября «а одной из та-
ких свадеб к Шестеринину подсел Никифор Кожин, мужичонко из таких, ко-
торые смотрят в глаза богатым мужикам. Знал ли он, что на Чикалова ука-
зывают ножницы с клубком, а тот упорно не чернеет, или просто ждал уго-
щения и с этой целью хотел сказать богатею что-нибудь приятное, только
подсел этот Кожин и говорит:
—
Позови меня, Митрий Евдокимыч, к себе. Угостишь, я тебе весточку
скажу, о пропаже об твоей.
Кожина позвали, угостили. В благодарность услужливый человек сооб-
щил, что он живет в экономии помещика Жданова и там же есть работник
Григорий Чикалов. Так вот ему, Кожину, известно, что этот Чикалов в ночь
кражи куда-то отлучался. И знает об этой отлучке Абрам Коноплянкин. Все
это Кожин бессовестно лгал. Впоследствии оказалась, что в ту ночь Чикалов
долго играл в карты с другим работником. Это видели все рабочие и даже ста-
роста... Но «весточка» все-таки была приятная: подтверждались указания
клубка и ножниц, и свидетелем назывался Абрам Коноплянкин, состоявший
в отдаленном родстве с Шестерининым. Значит, подтвердит.
После этого Шестеринин обратился к уряднику, и на сцену выступают
три доморощенных Шерлока Холмса. Первый из них — сам урядник, носящий
странное имя Гая, Гай Владимирович, господин Иванов. С ним — два страж-
ника, имена которых мне сообщить не могли. Впрочем фамилия одного из
них — Борисов. Человек грубый, грузный, тяжелый. Известен уже ранее про-
изводимыми «дознаниями». Особенно говорят о дознаниях в селе Алемасове.
Розыскные таланты его покоятся главным образом на природных дарованиях :
огромный кулак и очень грузное телосложение. «Ударит — с ног долой. По-
сле этого вскочит на человека, топнет раз-другой, — человек делается без
памяти»...
Эта полицейская тройка приступила немедленно к «следственным дей-
ствиям». Было это вечером с 13-го на 14-е ноября, перед самым, значит, кре-
щенским постом; «сильная власть» любезно явилась в дом потерпевшего Ше-
стеринина. В этом доме — три избы. Передняя, в которой производились пер-
Крестьянии и рабочий. Ч. II.
12
вые допросы. Во второй (средней) стоял самовар, водка и обычные деревенские
закуски: курятина и яйца. За -столом происходило обильное угощение: шесте-
рининские бабы то и дело -меняли самовары и подавали новые бутылки. В ком-
нате было людно: кроме трех полицейских и хозяев, тут присутствовал старо-
ста (двоюродный братец хозяина, тоже Шестеринин) и двое десятских, ко-
торых потребовал урядник. Через некоторое время явились еще двое поня-
тых, которых пригласили в середине вечера, и два подводчика1). Очевидно,
господа полицейские и не думали облекать -свои действия покровами- какой бы
то -ни было тайны. Они были уверены и в себе, и в силе своей власти, и в своем
«полном праве».
Была еще третья изба, задняя. Окна в ней были тщательно занавешены...
Прежде всего позвали предполагаемого свидетеля, Абрама Коноплянкина.
Я сказал выше, что он — дальний родственник Шестерининых. Предполага-
лось, что «по родственному» он сразу же сделает всем удовольствие и под-
твердит извет Кожина (который был тут же).
Этот Абрам, рыжеватый парень с широким простодушным лицом, так
передавал мне о своих «'свидетельских показаниях»:
«Позвал меня десятский. Я пришел. В передней избе у Шестерининых
встретил меня урядник и говорит добром-: «Вот, Абрам, скажи, ты видал, что
Григорий Чикалов уходил в ту ночь, как случилась кража?» — «Нет, говорю,
я этого не видал». Урядник вышел в середнюю комнату. Там чай пили. Пого-
ворили что-то между собой. Потом зовут меня. Выходят урядник и два страж-
ника из-за стола, губы обтирают. Урядник опять спрашивает: «Говори, Аб-
рам, ты видал, что Григорий уходил?» — «Никак нет, говорю, не видал».
—
«А как же вот Кожин говорит, видел ты. Говори Кожин: он видел?» Кожин го-
ворит: «Видал. Он с нем спал вместе».
—
«Нет, я говорю, я не с нем спал.
Я на нижних нарах спал с Мироновым. Спросите у людей. Все знают».
При виде такого «упорства» урядник размахнулся и ударил Абрама; по-
том принялись бить его втроем со стражниками. «Говори, что видал»...
—
«Я, говорю, не видал». Урядник —опять по щеке. Я упал. Он м*еня давай -но-
гами топтать. Встал с полу. Тут стражник один ткнул нагайкой в бок, че-
ренок слрмался. Потом да-вай раздевать меня... Я вижу, беда будет. Не дался
раздевать, спутался. И говорю: «Ну, видал. Уходил Григорий. А зачем уходил,
не знаю. Может, до-в-етру»... Меня отпустили. Сел я рядом с Кожиным. Сидим.
Он 'ничего не говорит, и я ничего. Я весь избитый, морда в крови, болит все»...
Таким- необыкновенным искусным и остроумным путем получено второе
свидетельское показание против -Григория Чикалова. Теперь, значит, против
него уже — ножницы, извет Кожина и показание Абрама. Позвали самого Гри-
гория. Его ввели прямо в среднюю избу и поставили перед всей компанией,
у стола с самоваром и закусками.
—• Ну, Григорий, говори, ты куда ходил в ту ночь, когда у них вот
кража случилась?
1) Фамилия «понятых» Митрофан Степанович Илюшин и Василий Филиппович
Танин. Один из подводчиков — Григорий Варламович Хохлов.
—
Да я никуда не ходил.
—
А, ты отказываешься?
Хвать Григория по лицу кулаком, и опять принялись бить втроем. Били
уже не так, как Абрама, который, как-никак, Шестеринину родня. Григорий
«не сознавался».
—
Ну, веди его в заднюю комнату!
То, что должно было происходить в задней комнате, очевидно, уже
входило в область профессиональной тайны и совершалось «при закрытых
дверях». Григория ввели туда, и тотчас Шестеринин родитель и его взрослый
сын навалились снаружи на двери. Оттуда послышались нечеловеческие крики.
Через некоторое время дверь открылась. Вышел Григорий, шатаясь, весь изби-
тый. Рубашка на нем была вся иссечена нагайками. Его заставили умыться.
Увидя в первой избе подводчика Григория Варламова Хохлова, Григорий подо-
шел к нему и сказал:
—
Тезка, сходи к жене, принеси другую рубаху. Вишь, эту «всю
иссекли».
Тот пошел.
Жена рубаху принесла, просится в избу, плачет. Ее не пустили, а Гри-
гория опять повели в заднюю комнату, откуда опять понеслись удары и крики.
Так его три раза выволакивали в беспамятстве, обливали водой и принимались
опять. Били, душили за глотку, рвали губы (мужики говорят: «делали иоче-
зание» до трех раз)... За третьим разом Григорий повинился: уходил, — го-
ворит, — ночью воровать.
Тогда его вывели, умыли опять, посадили на лавку; урядник поднес ему
две чашки водки.
—
Вот видишь, фазу бы так. Ну, теперь говори: кто с тобой был еще,
кому отдали добро да хранение?
Григорий от водки немного ободрился и говорит:
—
Господа, сделайте божескую милость: как же я на людей буду го-
ворить, когда и сам я не бывал и ничего не знаю.
Тогда его повели в заднюю комнату в четвертый раз. Когда его оттуда
опять выволокли и умыли, он признался окончательно и назвал еще двух:
Павла Трашенкова и Еткаренкова Василия.
III.
;
1
Рассказ этих двух молодых людей (и некоторых сторонних свидетелей)
прибавляет новые черты к картине. Урядник и стражники устали. За столом
они сидели уже потные, взопревшие, в одних рубахах. Угощались. Когда вы-
волакивали избитого, то кричали: «Проходную, хозяин!» И им приносили
водки. Павла урядник ударил фазу, не говоря еще ни слова, и свалил с ног,
а затем, когда тот поднялся, размахнулся вторично'. Павел отшатнулся. Дви-
жения урядника уже потеряли отчетливость, и он сшиб руку об стену. Это
его обозлило. Он приказал: «Скрой глаза, опусти руки!» Это, очевидно, —
во избежание «сопротивления при исполнении обязанностей»... Увели опять
в третью комнату. Здесь били сначала нагайками, но черенки у всех трех на-
гаек изломались. Тогда стали бить кулаками, ногами и каким-то железным
прутком. Урядник приставлял к груде револьвер. Павел три раза терял созна-
ние; три раза его выволакивали и обмывали... И это видели все присутствовав-
шие у Шестерининых. Под окнами собирался народ. Стражники отгоняли...
Павел все-таки не повинился. Вышел он из этой переделки без образа чело-
веческого, весь в крови и с выбитыми зубами.
Принялись за Василия Еткаренкова.
Василий — старше двух предыдущих. У него уже четверо детей. Это —
блондин, с широким умным лицом; выражение — подавленное, печальное...
Во время рассказа порой смолкает, опускает голову, чтобы подавить подсту-
пающие к горлу рыдания...
Когда его привел десятник к Шестерининым, усталые стражники лежали
на кровати, отдыхали от работы. Урядник его спросил, потом ударил. Но
стражники, преодолев усталость, поднялись с кровати и говорят:
—
Нечего с нем болтаться. Веди прямо в заднюю комнату.
Здесь сразу его повалили, раздели и начали сечь нагайками. Потом
опять сказали: «Нечего его обрывками сечь. Давай так». И стали бить «так».
Пинали кулаками, сапогами; урядник вскочил на него и топнул. Тогда страж-
ник Борисов говорит:
—
Эх, ты не умеешь.
Сам вскочил на лежачего и топнул два раза. Урядник — сердитый да
легкий. Стражник — тяжелый, грузный.
Василий потерял сознание.
Его тоже выволакивали три раза, обливали водой и принимались опять.
В четвертый раз урядник бил один. Сначала ударил железным прутком по го-
лове, потом приставлял к груди револьвер. Наконец, выхватил шашку, раз-
махнулся. Помещение, пбвидимому, тесновато; урядник саблей расшиб икону,
после чего вбежал один из стражников и отнял шашку.
Урядник после этого вышел, дыша, как «запаленая лошадь», и тоже
лег на кровать, подложив под спину подушки. И здесь произошло заключи-
тельное «служебное действие». Гай Владимирович Иванов чувствовал, пови-
димому, некоторую неудовлетворенность: повинился один Григорий, да и то
неполно. Остальные выдержали истязание (местные жители говорят: «исчеза-
ние»), а между тем начальство уже выбилось из сил. Гай Владимирович ле-
жал на постели «и тяжело дыхал, — уморился». Но сердце у него вое горело
на упорщиков. Поэтому он приказал подвести Павла и Василия к своей по-
стели. Когда их подводили, он, полулежа на подушках, пинал их ногой. «Ши-
банет ногой под грудь, потом кричит: «Подходи, подхода опять! Ведите их!»
Стражники подводят, а он поднимет ногу, опять нацеливается, куда ударить,
чтобы побольнее...
IV.
Ночью, под утро, истерзанных, истоптанных, избитых повезли в Чуба-
ровку. Ктр попадался навстречу этому ночному поезду, те со страхом сво-
рачивали с дорога и крестились, оглядывать на эти сани, в которых видне-
лась темная груда людей, высились полицейские папахи и неслись стоны.
«Пришлось подыматься на гору, — рассказывал мне подводчик Григорий
Варламов Попов. —
Я говорю: «Пожалуйста, ребята, сойдите маленько: не
втащит ведь лошаденка моя. Устала».
Стражники тотчас сошли, а ребята
говорят: «Извини, дядя Григорий, — не сойти нам. Избиты очень». А Василий
Еткаренков говорит: «Вот таперь уже, товарищ, я чую: не жилец я. До лета
не дотяну. Бить-то били, да еще ногами встанут, да прыжком1. Нутреннссти
отбили вовсе». —
И заплакал».
В Чубаровке истязатели подвели итоги. Они оказались неутешительны.
Ведь надо будет доставить «обвиняемых» к следователю. Кроме откровений
клубка и ножниц, да оговора пьяного Кожина, у них было только вымученное
сознание Григория Чикалова. Вдобавок, в числе арестованных и избитых у них
был Абрам Коноплянкин, — только свидетель! Пришлось несколько
оформить это дело. Принялись опять за Григория, и, конечно, он скоро по-
казал, что Абрам воровал с ними вместе. Таким образом уже в Чубаровке
этот свидетель для «законности» стал тоже вором. Затем у Григория стали
требовать, чтобы он указал, куда девалось шестерининское добро. Этого, ко-
нечно, Григорий не мог сказать даже и под кулаками, так как не обладал да-
ром ясновидения. Чтобы иметь хотя временный отдых от истязаний, он начал
путать: показал сначала, что «добро» скрыл Андрей Архипов Чикалов (зять
избитого уже Павла). Андрея арестовали и привезли в Чубаровку, но оговор
оказался явно-невероятным, и Григорий от него отказался. Его, конечно,
стали опять бить. Тогда он повел всех в овраг, заставлял в разных местах
рыть землю, но, конечно, ничего не находилось. Чтобы отучить его от такой
лживости, ему стали рвать рот: «Засунет в рот два пальца и рвет на стороны».
Григорий показал, что «добро» — в деревне Дубровке, у Лаврентия Хохлова.
Отправились в Дубровку, к Лаврентию. «Давай сюда ворованное добро». Так
как Лаврентий отказался, то его тоже принялись бить. Но тут...
В первый еще раз во всей этой истории нашелся, наконец, человек
с некоторым гражданским сознанием, который решился стать против офи-
циально-полицейского разбоя. Дубровский староста надел свою цепь и реши-
тельно заявил, что он не дозволит бить своих односельцев.
—
Подводу дадим. Можете арестовать. А бить не позволяю.
Истязатели отступили перед этим заявлением и увезли всех в Трескино,
где живет пристав.
Зовут этого старосту Степан Николаев Кузнецов.
V.
Мой невеселый рассказ и без того затянулся. Поэтому я опускаю не-
которые черты, которыми, с своей стороны, сочли нужным дополнить «кар-
тину дознания» трестинский урядник и сам г. пристав (обратившие почему-то
особенное внимание на Абрама Коноплянкина)... Достаточно сказать, что
г. пристав нашел, повидимому, «все в порядке», и что теперь уже можно пре-
проводить «преступников» для формального следствия. Так, как были, изби-
тых и изувеченных, их доставили сначала к уездному члену, а затем к судеб-
ному следователю в г. Сердобск.
Я, конечно, не знаю, насколько часто г. судебному следователю приходи-
лось получать от приставов для дальнейшего производства полицейские до-
знания, подготовленные так 'образцово. Во всяком случае, относительно этих
четырех человек было единственное, правда, очень выразительное доказа-
тельство их вины: все они были жестоко избиты. Григорий Чекалов тотчас же
отказался от всех вымученных оговоров. Это, конечно, опять огорчило
урядника.
—
Как же ты сам сознался?
Но Григорий, осмелевший в присутствии следователя, ответил:
—
Дай-ка я тебя начну бить, да топтать, да отливать водой. Небось и
ты признаешься. Кулаки — не пироги. Тут не пожалеешь и родного отца.
Затем «обвиняемые» сослались на десятки свидетелей. Следователь от-
пустил всех четырех с миром, посоветовав на побои подать жалобу про-
курору...
VI.
Мой рассказ кончен. Но читатель, быть может, не посетует, если я до-
полню его еще некоторыми «чертами нравов».
Как отнеслась ко всему этому крестьянская среда? Дом Шестерини-
ных находится в деревне, не в глухом лесу. Все знали,что там происходит.
Наконец, у истязуемых есть родители, родственники, соседи...
Прежде всего о родных. Жена Григория Чикалова приносила рубаху, пла-
кала, просила допустить ее к мужу. Ее прогнали... Один из отцов, человек
храбрый, явился на место. Урядник прежде -всего избил его, чтобы о-н не за-
ступался за преступников. Но все-таки он остался сидеть в передней комнате
с подводчиками. В один из перерывов, когда истязатели подкреплялись и от-
дыхали, а истязуемые умывались, он скромно подсел к стражнику (вероятно,
Борисову), и между ними произошел следующий любопытный -разговор:
Отец: Эх, господа. Напрасно вы это, право напрасно делаете исчеза-
ние. Не виновны эти ребята.
Стражник: Как! Ты это -можешь ручаться?
Отец: Могу поручиться за свово сына вполне.
Стражи и к: Ну, когда так, — доставай двести рублей, клади за руки.
И я тоже- положу. Я тебе говорю: к утру у твоего сына вымучу, что он при-
знается. Тогда пропаж твои деньги. А
-не вымучу, — твое счастье. Бери мои
двести рублей.
Отец, конечно, отказался от такого поощрения стражницкого усердия.
«То-то вот и есть!» — сказал стражник и отправился в заднюю комнату про-
должать свое дело.
Известия о том, что делается у Шестерининых, конечно, разнеслись -по
деревне. По избам не -спали. Бабы плакали. Подходили к дому Шестерининых,
прислушивались с ужасом к стонам, глядели на плотно занавешенные окна
«задней комнаты». Но «престиж полицейской власти» поднят теперь так вы-
соко, что население давно перестало отличать в его действиях «исполнение
обязанности» от самого гнусного злодейства. Поэтому, вместо «сопротивле-
ния», мужики только жались кругом дома, шарахаясь в темноту, когда откры-
валась наружная дверь...
Должно быть, расходившиеся стражники и урядник действительно вну-
шали ужас. Подводчик Григорий Хохлов, которого позвали, чтобы везти аре-
стованных в Чубаровку, вошел к Шестерининым как раз в ту минуту, когда
урядник кричал: «Веда сюда Григория!» Он разумел Григория Чикалова, но
так как подводчик тоже Григорий, то он подумал, что это зовут на истязание
его, и в ужасе кинулся, ища какого-нибудь убежища, чтобы спрятаться. Вот—
истинное торжество сильной власти, прочная основа «успокоения»!
Ночью, когда, наконец, арестованных увезли, бабы шестирининской семьи
принялись за уборку избы, где полицейские пили водку и лили человеческую
кровь. Крови было много на полу, на стенах задней комнаты. «Барана заре-
жешь,— столько крови не будет»,—говорил мне один очевидец. Крестьяне
упорно говорят, что в избу прежде всего пустили собак, которые вылизывали
кровь. Но человеческая кровь смывается не легко: после собак шестерининскме
бабы долго еще мыли и скоблили, но, говорят, не отмыли и не отскоблили и
до сих пор...
На утро страшные вести подняли всю деревню. 15-го ноября, в поне-
дельник, когда урядник был у Шестерининых, ему сообщили, что собрались
«старики» и требуют его на сход. Сход, действительно, гудел, обсуждая со-
бытия страшной ночи. Всем уже было известно1, что ни один из истязуемых
не мог принимать участия в краже: в деревне не скроешь. Нашлись люди, ви-
девшие каждого из заподозренных, а больше всех пострадавший Василий Ет-
каренков гулял на свадьбе в соседней деревне Зыбине, где мужики составили
об этом бумагу с 22 подписями.
Урядник сначала на сход не пошел. Его звали два раза. На третий раз
сход послал уже старосту, того* самого двоюродного брата Шестеринина, ко-
т'опый сидел за столом и пил водку, когда истязали его односельцев. Приказ
«мира» был так решителен, что староста, робевший прежде перед своим бога-
тым родственником и урядником, теперь оробел перед миром и пошел. Уряд-
ник, наконец, явился на сход.
Сначала он тоже несколько растерялся, почувствовал, что перехватил
через край, и что мужичий мир всколыхнулся.
Спустя месяц после происшествия Павел Яковлев Глухов, солидный и
строгий мужик, «ходивший в волостных судьях» и сам не склонный, повида-
мому, «давать потачку», рассказывал мне о том, что было, и в его голосе
еще слышалось глубокое волнение.
—
Я у себя на печи заснуть не мог. Думал, эти ребята к утру кон-
чатся. «Исчезание» было страшное... Кажется, если бы у меня тройку лошадей
свели, — я бы не согласился на этакое дело... Бог с ними. А тут над неповин-
ными чего сделали!..
Мир приступил к уряднику :
—
Вот, г. урядник, мы вас пригласили. Отвечайте миру: какое вы имеете
полное право' лить христианскую кровь? Ведь это страшное дело, — такое
«исчезание». Если их подозреваете, можете арестовать, представить по на-
чальству, куда следует: а вы у Шестеринина допрашиваете? Это вам — кан-
целярия? Где такие законы?
Урядник стал отрицать истязание. Но тут, среди белого дня и на миру
престиж власти упал. Один за другим выступали свидетели: десятские, под-
водчики, понятые, которых он пригласил вчера после первого сознания Чи-
калова. Все говорили открыто, с волнением и негодованием. Положение ста-
новись неприятно.
Но... сход говорил все-таки торжественно и сравнительно спокойно,
спрашивая о законах и праве, а тут, как известно, сильная власть чувствует
себя довольно свободно. Урядник ободрился и в свою очередь перешел в на-
падение.
—
Это дело не ваше! Какое вы имеете полное право вмешиваться в дей-
ствие полиции? Указы знаете? Я вас всех сошлю, потому что я исполняю
службу. Вы еще не имеете полного права требовать меня на сход... За это
ответите строго...
После этого урядник ушел...
Демьян
Бедный.
КЛАД.
Жил да был мужик Ермил,
Всю семью один кормил.
Мужичонка был путящий:
Хоть ложись, да помирай.
Не узнать совсем Ермила:
Злая дума истомила,
Холод-голод у ворот,
Ни гроша на оборот.
То вздохнет мужик, то охнет,
День за днем приметно сохнет.
—
Все,—кряхтит,—пошло б на лад,
Ежли мне б напасть на клад.
Спит бедняк и кладом бредит:
То с лопатой в поле едет,
То буравит огород.
Взбудоражил весь народ,
Перессорил всех соседок.
Сам плюется напоследок
И бранит весь белый свет.
Честный, трезвый, работящий;
Летом — хлебец сеял, жал,
А зимой — извоз держал.
Бедовал и надрывался,
Но кой-как перебивался.
Только вдруг на мужика
—
Подставляй, бедняк, бока —
Прет несчастье за несчастьем:
То сгубило хлеб ненастьем,
То жену сразила хворь,
То до птиц добрался хорь,
То конек припал на ногу...
То, да се, да понемногу —
Дворик пуст, и пуст сарай,
Кладу нет.
—
«Клад не всякому дается:
С заговором клад кладется.
Вишь, — Ермил башкой тряхнул, —
Что ж я раньше не смекнул?»
Мчит он к знахарке Арине.
Баба дрыхнет на перине,
Опивается бурдой:
—
«Что, Ермил? С какой бедой?»
—
«Так и так, — Ермил старухе, —
Как хозяйство все в разрухе...
Что почать? Куда итти?..
Помоги мне клад найти.
Чтоб узнать к нему дорогу,
Нужен чорт мне на подмогу.
Хоть последний самый сорт,
Лишь бы чорт.
Вот в награду... поросенок»...
—
«Ладно... Есть как раз бесенок,
Только мал еще да глуп,
Ты бы дал ему тулуп,
Да еды принес поболе,
Пустьбыонвтеплеивхоле
И подрос, и поумнел.
Клад, не бойся, будет цел.»
У Ермила дух спирает,
Сердце сладко замирает,
В голове и стук, и шум.
Потеряв последний ум,
Бабий брех приняв на веру,
Он ей тащит хлеба меру.
Потерпев денечков пять,
К бабе мчит мужик опять:
—
«Как здоровьице бесенка?»
—
«С'ел и хлеб, и поросенка.
Ты б еще принес муки.»
А меж тем бегут деньки.
Пролетели две недели.
—
«Что ж, бесенок, в самом деле?
Слышь, бабуся, отпусти»...
—
«Дай мальцу-то подрасти»...
—
«Хоть взглянуть!»
—
«Не сглазь заране,
Твой бесенок — вон... в чулане,—
Рад кормежке и теплу,
Под тулупом спит в углу.»
Обнищал Ермил до нитки,
За гроши спустил пожитки,
Дом весь по миру пустил,
Беса малого растил.
Потеряв совсем терпенье,
К бабе в полночь под успенье
Мужичонка прыг в окно.
—
«Бес, бесенок — все равно.
И с бесенком клад достану.»
Подобравшися к чулану
И стрелой шмыгнув туда,
Ищет всюду: «Вот беда!
Бесик... Бесинька... Бесенок...
Не спужался бы спросонок...»
Шарит с пеною у рта.
Ни черта.
—
«Бесик... Бесинька»... Ни звука.
«Что за дьявольская штука?
Тут стена... и тут стена...»
Чиркнул спичкой. —
«Вот те на!
Провалился, что ли, бес-то?
Ну, как есть, пустое место!»
Жалко, братцы, мужика,
Что Ермила-бедняка.
Уж такая-то досада,
Что не там он ищет клада.
А, ведь, клад-то под рукой,
Да какой!
Как во поле, чистом поле,
Реют соколы на воле,
Подымаясь к небесам.
Кабы к ним взвился я сам,
Шири-воли поотведал,
Я б оттуда вам поведал,
Что сейчас наверняка
Не сорвется с языка.
После долгого ненастья
Дождался, Ермил, ты счастья.
Не останься ж в дураках.
Клад теперь в твоих руках.
Этот клад — земля и воля,
Незаплаканная доля.
Крепко кладом дорожи
Да в руках его держи.
Не поддайся мироеду,
Закрепить сумей победу.
Стой, Ермилушка, горой
За народный, вольный строй.
Заступи любому гаду
Путь к отобранному кладу.
Потерявши снова клад,
Жизни будешь ты не рад:
Мироеды-воротилы
Надорвут твои все жилы, —
Впрягши вновь тебя в хомут,
На весь век клещи зажмут.
Будешь в горе и в неволе
Бороздить чужое поле,
И за каторжный свой труд
Получать... железный прут!
Цемьян
Бедный.
кларнет и рожок.
Однажды летом
У речки, за селом, на мягком бережку
Случилось встретиться пастушьему рожку
С кларнетом.
—
«Здорово», — пропищал кларнет.
—
«Здорово; брат,—рожок в ответ:
«Здорово!
Как вижу, ты — из городских...
Да не пойму: из бар, иль из каких?»
—
«Вот это ново»,
Обиделся кларнет: «Глаза вперед протри
Да лучше посмотри,
Чем задавать вопрос мне неуместный.
Кларнет я, музыкант известный.
Хоть, правда, голос мой с твоим немного схож,
Но за талант я свой в места какие вхож...
Сказать вам, мужикам, и то войдете в страх вы!
А все скажу, не утаю:
Под музыку мою
Танцуют, батенька, порой князья и графы.
Вот ты свою игру с моей теперь сравни:
Ведь, под твою — быки с коровами одни
Хвостами машут».
—
«То так», — сказал рожок: «нам графы не сродни.
Одначе помяни:
Когда-нибудь они
Под музыку и под мою запляшут».
И.'Шмелев
РАСЧЕТ.
Из-за двойных рам в нашу комнатку доносится неясный гул со двора.
Мы бросаемся к окнам и видим знакомую картину: дядя Захар рассчитывает
кирпичников.
Это целое событие в нашей монотонной жизни.
Если дядя Захар «рассчитывает», значит — скоро пойдет снег, придет
зима, и нам купят маленькие лопатки; косой дворник Гришка,— так зовут
его все на дворе, — будет ходить в валенках и носить в комнаты осыпанные
снегом дрова, а липкая грязь на дворе пропадет под белой, хрустящей
пеленой.
Этот «расчет», что производится сейчас в маленькой конторе, где на
высоком стуле сидит юркий Александр Иванов, дядин конторщик, — сулит
нам много интересного и помимо идущей зимы. На грязном дворе, на боч-
ках, домах, колодце и даже помойной яме, с прыгающими по ней воронами,
сидят кирпичники. Это особый мир, — люди, мало похожие на окружающих
нас.. Это, пожалуй, даже и не люди, а именно — «кирпичники», появляю-
щиеся на нашем дворе дважды в год: перед зимой, на грязи, когда им дают
«расчет», и весной, когда их «записывают» на завод.
Кирпичники, как и погода на дворе, меняются. Весной они, обыкно-
венно, озабоченно и молча толкутся и поминутно срывают рыжие картузы,
когда конторщик дробью скатывается с галлереи от дяди и, не отвечая на
поклоны, несется с большой книгой в контору. Кирпичники терпеливо, с ран-
него утра до поздней ночи, кланяются всем на нашем дворе: и дворнику
Гришке, который почему-то все время перебирает пятаки на ладони и метлой
гоняет кирпичников с крыльца, и мыкающейся с дойником бабке Василисе,
и кучеру Архипу в плисовой безрукавке, грызущему семечки на крыльце, и
даже нам. Да, это особый народ, эти кирпичники!
Они пришли «оттуда», из того тридесятого царства, которого мы не
знаем, а называем только — «оттуда». Сегодня, в грязный день, они отпра-
вятся «туда».
Весной кирпичники угрюмы, часто поглядывают на стеклянную, свер-
кающую под солнцем галлерею и ждут, ждут... Нас зовут обедать, а кирпич-
ники остаются. Уже пять часов. Нас кличут пить чай, — кирпичники еще
остаются. Мы идем ужинать, и Гришка выталкивает оставшихся, не попав-
ших на завод.
Но теперь, теперь мы знаем, что будет: будет то, что было перед про-
шлой зимой. Как и тогда, кирпичники Гришке не кланяются и шумят, часто
чешут за ухом, смотря на пальцы, и перебирают их. Дверь конторки хлопает,
и Александр Иванов выкликает:
—
Эй, черти, не галди!.. Сидор Пахомов!.. Давай Сидора Пахомова!
—
Курносый, тебя!..
Мы открываем форточку, потому что на дворе происходит что-то
очень интересное: уже раза два в калитку с улицы просовывалась голова
будочника.
—
Живоглот!—доносится знакомое слово. —
Жулик!.. Подавись моим
цалковым!.. Грабь!..
—
Это они дядю, — говорит брат.
—
Нет, это они Александра Иванова... Он, должно быть, деньги у них
взял... —
говорю я.
Высокий, рыжий кирпичник, в измазанных глиной сапогах и в запла-
танном полушубке, трясет кулаком в воздухе.
—
Цыган!..
—
Да, это дядю, — говорю и я.
Мы не понимаем многого; мы только чувствуем. В форточку сквозит,
лица наши синеют от холода, но закрыть мы не в силах.
—
Жулье! — гремит рыжий кирпичник на зеленую дверь конторки
и кричит так, что дребезжат оконные рамы, и мы пугливо отодвигаемся.
—
Народ только грабите!.. Наставили хором-то на нашей копейке!
Страшный человек поворачивается в нашу сторону, и его острые глаза
из-под сбитого картуза скользят по окнам. Мы откидываемся в глубь ком-
наты, но голос уже ворвался через форточку:
—
Подохнешь скоро, Чуркин!..
Вздрагивает зеленая дверь, рокочет блок, и на пороге вырастает Але-
ксандр Иванов в грязной манишке и при цепочке.
—
Кто тебя ограбил, а?., кто? — тоненьким голоском взвизгивает он. —
Как такие слова, а?.. Кто тебя ограбил?..
—
Ты, пес хозяйский... ты!
—
Я? Лахудра!..
Это слово новое, и мы его сейчас же схватываем и начинаем твердить.
—
Сам лахудра!.. Гривну-то сглотал... Что!?...
Александр Иванов замирает в негодовании, готов выпалить весь запас
своих слов, — он умеет! — но кирпичник совсем на него насел и гремит:
—
С тышши по гривне не додал!.. Почем рядил?..
—
Почем?., почем?., ну!?.
—
Вот-те ну!., почем!.. Почем?..
—
По морде тебя, подлеца...Діочем?..
—
Не додал по гривне, Лександра Иваныч... —
гудят кирпичники.— Да
чего тут, Сидор... наплюй... Не задерживай народ... чего там...
—
На! на бумагу!.. На... одень бельмы-то... чти!., сам крест ставил...
На, чорт лохматый... По три с гривной... Так?..
—
За-чем... Ты, это самое погоди... не дрыгай бумагу-то... Эн, она...
цыфря-то... соскоблил ее, видать...
—
Рожу тебе соскоблить! Гришка!., волоки его!., кличь бутошника...
—
Ладно. На суд пойду!..
—
Судись! — взвизгивает Александр Иванов. —
Судись... ступай!..
—
Хозяйская сволочь!!...
—
Что-о?..
—
как гром, прокатывается по всему двору. —
Александр
Иванов!..
Шум оборвался. На галлерее показывается сам дядя Захар, страшный
дядя Захар. Он «рвет подковы» и может кулаком убить лошадь. Это человек
в сажень ростом, черный, с большим черным хохлом и страшными, глубоко
запавшими глазами. Он всегда громко кричит, харкает, дергает глазом и
чвокает зубом. Мы его боимся. В нашем доме его называют крутым и желез-
ным. Смотрит он всегда из-под бровей и никогда не шутит. Когда я хожу
поздравлять его со днем ангела, он только кивнет головой, протянет боль-
шой, железный палец к двери и скажет:
—
Ладно. К тетке ступай... яблоко тебе даст.
Александр Иванов стрелой подлетает к галлерее, прижимает руку
к боковому карману, где у него карандашик и желтый складной аршин, и
об'ясняет все.
—
Цы-ган! — кричит рыжий уже в воротах, но Гришка захлопнул
калитку и задвинул засов.
Рыжий пытается прорваться, но уже поздно.
—
Гришка! — гремит дядя Захар.— Дай ему, подлецу!..
У нас захватывает дух. Мы впиваемся в стекла, высовываем головы из
фортки. Мы видим, как Гришка бьет кирпичника по шее, а тот закрывает
руками лицо и хрипит.
—
Будя, будя...
—
Клади ему, сукиному сыну, полную!., сыпь!.. —
кричит дядя Захар.
—
За што бьешь?.. —
пробуют вступиться кирпичники.
—
Молчать!.. Не давать расчета!..
—
Да мы ничего... Зря егр потому...
Они боятся, что их «выкинут за ворота». А сегодня надо ехать домой.
—
Кто недоволен? — гремит с галлереи. —
Ты недоволен?..
•— За-чем?.. я ничего... я рази што?..
Гришка уже выпихнул Сидора на улицу, где будочник живо отстра-
нил его.
—
Ты недоволен?..
—
Да вить... Уж не обижай, Захар Егорыч... по гривне-то накинь...
—
Рассчитывай чертей!.. А кому не так — в шею...
—
Воля ваша... обижай народ-то... —
говорит кто-то в сторону.
—
Грабь...
Голова дяди скрывается. Тяжелые шаги отдаются по лестнице, и вот
уже он на дворе, — громадный, черный и страшный. Глаза его еще глубже
ушли под лоб.
V
—
Что? — гремит он. —
Граблю??
Еще один момент, и будет... будет то, что было в прошлом году, когда
одного кирпичника обмывали под колодцем. И толпа, и он — меряют друг
друга глазами.
—
Уж рассчитали бы уж... Рассчитайте, ну как по-вашему уж будет... —
слышатся вздохи.
Мы на стороне кирпичников и ругаем дядю. Новое словечко Александра
Иванова произносится часто.
Дядя властно окидывает толпу и уходит. Александр Иванов продолжает
выкликать, кирпичники снова гудят...
Демьян
Бедный.
„ОПЕКУН Ы".
Не только в старину, и ныне
Бывают чудеса:
Про Волка вспомнила Лиса, —
Волк легок на помине:
—
«Хозяйке-кумушке привет!
К тебе я без доклада...»
—
«Ах, что ты, куманек, мой свет,
Я польщена, я очень рада...
Подумать: навестил меня премьер-министр...
Да, кстати... Впрочем, кум, ты так горяч и быстр, —
Не огорчить бы мне тебя своим упреком...
Прости, я не в своем уме...
Но право, милый кум, ты в сане стбЯь высоком
Стал плохо помнить о куме.
Ты, зная, например, как пламенно о курах,
Об этих кротких дурах,
f
Пекусь я, не щадя ни времени, ни сил,
I
Хоть раз бы ты спросил:
«Как курочки твои, кума, живут на свете?»
—
«Постой-ка», — перебил тут Волк: — «постой, кума!
Да ты сама,
Чай, не последнею ты спицей-то в Совете.
А ты меня утешила когда
За все последние года?
Хоть пару ты промолвила словечек
1
Насчет моих овечек?..»
Примета верная, читатель милый мой:
Хороший кум всегда столкуется с кумой.
А овцы знать должны, как знать должны и куры:
Раз речь зашла о них, так быть им всем — увы, —
Одним без шкуры,
Другим без головы.
С. Подъячев.
приезд владельца.
После обеда всех нас, рабочих, «погнали» чинить дорогу, по которой
сегодня к вечеру должен был проехать со станции князь...
«Сам» руководил нами. Дорогу, расстоянием версты в две, до того
места, где начиналась полоса чужой земли, мы по возможности исправили
хорошо: засыпали колеи, спустили кое-где воду, кое-где утрамбовали.
«Сам» похаживал среди нас, помахивал тросточкой, покрикивал
и, видимо, очень трусил и волновался по случаю приезда князя.
—
Скорей, скорей! — понукал*Ьн: — ну, ну, стали! Эй ты, как тебя?..
А, болван! и т. д., и т. д...
Князь приехал к вечеру. За час до его приезда «сам» приказал всем
нам переодеться, переменить грязные рубахи на чистые и явиться, как он
выразился, «в праздничном виде» к парадному крыльцу, встречать князя.
—
Картузов не сметь брать!—добавил он.
Рабочие переоделись, и все, за исключением кузнеца, который куда-то
скрылся, направились к парадному. Позади нас шли бабы, скотницы,
«пололки» и еще какие-то...
На парадном и у парадного, между тем, уже собрались и ожидали- князя
все, проживавшие в имении. Около крыльца стояли какие-то допотопные
старики, какие-то старушонки, бабы... На самом же крыльце и дальше,
на террасе, ожидала аристократия. Здесь были: садовник с женой, какой-то
старый, живущий на покое, бывший дворецкий, тоже с женой, жена «самого»,
два учителя, приехавшие по этому случаю из соседнего села, где была школа,
в которой жена князя состояла «попечительницей», «батюшка», из того же
села, с «матушкой», с двумя дочерьми, сыном и дьяк-оном.
«Сам», одетый в куцую тужурку, с зеленым стоячим воротником
и огромными светлыми пуговицами, толстенький и красный, поставил нас,
рабочих, около крыльца, друг перед другом, так что между нас образовался
проход, по которому, как оказалось, должен был пройти князь...
—
Стоять смирно! — приказал «сам», и рабочие, как школьники,
покорно'замерли в тех позах, какие он придал им...
—
Когда князь слезет, — продолжал он, — пойдет... вы должны ка-
ждый целовать у него руку... Так уж здесь принято! — громко добавил он,
как будто перед кем-то оправдываясь...
—
Знаем, барин-с, знаем!.. Не сумлевайтесь!—ответил ему на-
рядчик — знаем-с!
—
Ну, ты им об'ясни, Егор, как и что...
Он побежал к дороге посмотреть, не едут ли. А нарядчик стал «об'-
яснять нам, как и что...»
—
Вы, дуроломы, мотрите, — зашептал он, делая большие глаза: —
зря-то не суйтесь! Не торопись, не слюнявь руку-то. Как у попа, так и тут...
Мотрите, — он ведь строг: не любит, коли что... У него порядок... Мотрите!...
—
Знаем канитель-то эту, — тихо ответил Культяпка.
—
Тише! — шепотом- и сделав свирепое лицо прошептал нарядчик.—
Едут никак?..
Тройка прекрасных вороных лошадей, запряженных в ландо, тихо
вкатила на площадку и остановилась не около самого парадного крыльца,
а немного поодаль... Здоровенный детина,
«выездной» лакей, соскочив
с козел, отворил дверку, и из ландо вышел князь — высокий, совсем седой
старик в светлом пальто... За ним вышла княгиня, еще не старая, вторая
его жена, грузная, с глазами на выкате, и вслед за ней — какая-то тонкая
особа, с синим лицом, похожая на ободранного зайца.
Князь, кивнув подскочившему управляющему, пошел к парадному,
направляясь сквозь наш «строй»...
Стоявший с краю нарядчик как-то весь изогнулся и, вытянув необык-
новенно гадко губы, первый чмокнул князя в руку и произнес:
—
С приездом, ваше-ся!..
За ним, неловко путаясь, начали «прикладываться», робея и торопясь,
другой, третий, четвертый...
С. Подъяяев.
ужин рабочих.
Работу кончили поздно вечером. Все рабочие, опять по звонку,
отправились на кухню ужинать... Было часов около десяти... В кухне было
полутемно, и поэтому пришлось зажечь лампу. Сели за стол, стряпка подала
щей... Щи были остывшие, почти совсем холодные, разбавленные водой,
противные... Некоторые попробовали, но, хлебнув ложку-другую, бросили
и сидели, насупившись, усталые, голодные и злые... Один только нарядчик
молча и редко хлебал, сурово сдвинув брови и не гл-яря ни на кого... Что-то
упрямое, злобное и вместе с тем затаенное и рабски подлое было в его
фигуре. Все видели и отлично понимали, что делает это он нам «на зло»,
делает в угоду «самому»... Но никто не решался высказать это вслух,
боясь быть завтра же прогнанным.
—
Давай кашу! — крикнул кто-то.
—
Нету каши! — отозвалась кухарка, — кашник
какой! И так
хорош... За обедом жрал... Кака тебе еще каша... Чай знаешь: не -
полагается...
—
Да какого самдели чорта! — закричал вдруг сидевший с краю,
в переднем углу, широкоплечий, черный с суровым лицом, с засученными
по локоть жилистыми руками, мужик, как я узнал после, — кузнец.
—
Не жрамши нам быть! Аль мы за ради Христа здесь живем?.. Идемте
к самому!
Он встал и вылез из-за стола.
—
Идемте! — опять крикнул он и обвел всех глазами. Но никто не
двинулся с места.
—
Тьфу! — плюнул кузнец, — дьяволы! ах вы, злая рота! трусы!..
Я один пойду... мне наплевать... расчет давай... аль я себе хлеба не добуду...
дьяволы!..
Он вышел, сильно хлопнув дверью и громко ругаясь.
—
Ишь,
ловкач!—усмехнувшись,
вымолвил
нарядчик, — харчи
вишь нехороши... Кто я! без него-то, диви, людей нет... Сто человек
на его место, только свисни... Кузнец! мастеровой!.. Ха! Не таким сшибали
рога-то...
Никто не ответил. Все сидели молча и ждали.
Минут через двадцать пришел кузнец и привел с собой «самого».
—
Что такое, а? — закричал «сам» визгливым голосом, весь красный,
с выкатившимися глазами, — что такое... Егор, а?.. Встать! — вдруг прон-
зительно завизжал он на нас, — в -в-статьИ...
Мы все, как школьники, поднялись и стояли в неудобных позах, теснясь
в узких проходах между столом и скамейками.
—
Ну, что такое?
—
Жрать нельзя... падаль!—угрюмо произнес кузнец. —
Собака
жрать не станет... сбесится!..
—
Молчать!- — завизжал управляющий, — не у тебя спрашивают...
Егор, об'ясни...
—
Я, барин, докладывал вашей милости, — начал
нарядчик, выйдя
из-за стола и стоя перед «самим» на вытяжку, — какой народ: все не так
да ни этак... Люди едят, ничего... а им, вишь, плохо... Извольте спросить
у других...
Управляющий обвел нас всех глазами и спросил:
—
Кто недоволен харчами, говорите... ну, кто?
Все молчали, опустив головы... Что-то унизительное, гадкое и жалкое
было в этих опущенных головах.
—
Кто? — опять повторил управляющий.
—
Да вы попробуйте! — сказал я, не вытерпев.
—
Что? — спросил управляющий, сделав большие глаза и дернув голо-
вой кверху, точно лошадь, которую неожиданно ударили по морде.
—
Вот они щи в чашке, — попробуйте, — снова повторил я.
Крестьянин п рабочий. Ч. II .
13
—
Как ты сказал? повтори! — сказал «сам» после продолжительного
молчания, во время которого я чувствовал, что все глаза устремлены на меня.
Я хотел еще раз повторить сказанное и уйти, но в это время к упра-
вляющему подскочила кухарка и затораторила, как сорока:
—
Барин, батюшка, врут они... шти как шти.. . холодные малость —
только и всего... Не диво, что холодные: сколько часов стоят... печка-то
выстыла... За обедом давеча сколько слопали... Добавила водицей, знамо...
только и всего... шти как шти .. . хуч кому хлебать...
—
Ну, что ж вы? — обратился к нам управляющий и, помолчав,
сказал:—Кому не нравится, можете убираться к черту!., завтра расчет...
Я найду таких, кому будет нравиться. —
И повторив еще раз: — К черту! —
торопливо вышел из кухни.
Все молчали... Нарядчик опять забрался на старое место и начал хле-
бать щи... Кузнец дрожащими пальцами вертел папироску.
—
Ловко! — сказал он, — вот так ловко! — И, обратившись к наряд-
чику, крикнул: — А все ты, чорт серый, глот!., погоди, дьявол, погоди!..
—
Не грозись! — спокойно произнес нарядчик, — не страшно.
—
Погоди! — опять повторил кузнец. —
Сволочь... бабник, чорт!
А ты, шкура барабанная, — набросился он на кухарку, — чего егозишь...
хвостом-то вертишь... сво-о -о -лачь!..
—
От сволочи слышу! — огрызнулась кухарка.
—
Трепалка... язва... у -у -у, убить тебя мало! Кабы тебя на мои зубы...
Дурак муж-то глядит... не видит...
—
Чего не видит-то? чего не видит-то? — завизжала кухарка, —
сказывай!
—
Чего... чего... Трепло!.,
снюхались... потрафили друг дружке...
го, го, го!., а муж-то дурак... Эх вы, дьяволы!., тьфу!..
Он плюнул и ушел из кухни на улицу.
—
Слышали, люди добрые!—закричала кухарка, обращаясь к нам —
будьте свидетели!..
—
Не трещи, не трещи, дура, лахудра! — заговорил ночной сторож, ее
муж, — заплевала... Правда-то, видно, бельмы колет.
—
Молчи, гнилой пес... туда же?..
—
Робята! — закричал вдруг кто-то из рабочих, перебивая пере-
бранку,— что ж нам не жрамши быть? Валяй на пятнадцати винтах!., давай
воды... кроши хлеба!
Все дружно и торопливо принялись крошить руками хлеб; наполнили
этим крошевом чашки, налили в каждую из ушата холодной воды, посолили,
«пустили» в каждую чашку по ложке черного горького «постного» масла,
и шурцовка «на пятнадцати винтах» была готова!..
—
Валяй, робята!..
С. Подъячев.
выдача денег.
Время шло... Я втягивался в работу, приглядывался к людям, привыкал
к порядкам...
Прошел май, подошла первая «получка».
В воскресенье, часу в девятом утра, все рабочие собрались в полу-
темной передней, толкаясь и напирая друг на друга... В контору из передней
вела стеклянная дверь, в которую видно было все, что там делалось...
Какой-то коротко подстриженный молодой человек, с маленькими уси-
ками, закрученными кверху, — как оказалось, конторщик, — строчил что-
то, наклонив голову налево и высунув немного язык, в толстую книгу... Упра-
вляющий ходил по комнате из угла в угол, курил сигару, изредка перебрасы-
ваясь словами с нарядчиком, стоявшим в подобострастной позе около
порога...
Ждать нам пришлось долго... Управляющий нарочно испытывал наше
терпение... Мы стояли кучей, не смея присесть, шепотом, как наказанные
дети, разговаривали между собой, и были похожи не на людей, пришедших
получить свои трудовые деньги, а скорее на золоторотцев, ожидающих, когда
им выкинут по пятаку на помин благодетеля. Что-то рабски-приниженное
чувствовалось в рабочих... Вытянув шеи, испуганными глазами заглядывали
они в кантору и стоило кому-нибудь возвысить несколько голос и заговорить
не шепотом, — на него сейчас же набрасывались другие.
—
Тише ты! — раздавался со всех сторон сердитый шепот, —
чо-о -рт! куда пришел?... К жене, что ли?... Деревня! Из-за тебя непонятность
выйдет, лешман!
Наконец, управляющий подошел к конторке, остановился и махнул
рукой нарядчику. Последний, как хорошо выдресированный холуй, со всех
ног бросился к двери и открыл ее настежь.
—
Ти-и -и -ше! — произнес он шипящим голосом, вытягивая губы.
Рабочие, и без того стоявшие тихо, окончательно , замерли.
—
Журлов! — крикнул управляющий.
—
Кузнец! Журлов! — повторил нарядчик, — иди!
В контору вошел кузнец и остановился у порога.
—
Ты что же это, братец, а? — глядя на него из-за конторки, громко
заговорил управляющий, — а?
—
Чего извольте-с? — произнес кузнец.
—
«Чего извольте-с!» — передразнил его управляющий и вдруг закри-
чал:— Ах ты, негодяй! Мерзавец! Вон! Чтоб духу твоего в имении не было!
На твое место уже найден другой... Геннадий Иванович, сколько ему, под-
лецу, приходится?
—
У него вперед забрано-с! — ответил конторщик: — приходится ему
2р.75к.
—
Негодяй! — снова закричал управляющий, — скандалист, пьяница!..
Почему не пришел встречать князя?.. Ка-а-к ты, ты мог ослушаться! а?
Как ты смел отрубить хвост у собаки? Кто наускивал Соплю бить жену... а?
Я вот сейчас урядника позову!.. Вот твои деньги, п-шел!..
Кузнец, молча, с покрасневшим лицом, подошел к конторке, взял
деньги, сунул их в карман и сказал:
—
Спасибо!.. —
И, вдруг, перекосив рот, добавил: — Что ж ты,
сво-о-о-лочь, до сих пор молчал? Я б уж давно место себе нашел... Чорт
паршивый, немецкая образина... провались ты и с кузней своей, тьфу!..
Он плюнул, повернулся и пошел к двери...
—
Помни!—вдруг обернувшись и погрозив кулаком нарядчику,
крикнул он: — Помни!.. Найду тебя! — И он вышел, хлопнув дверью в сенях,
так что затряслась стенка.
—
Головой бы этак стукнулся! — произнес нарядчик: — Разбойник!
—
Держите его! — закричал управляющий, точно прибитый щенок, —
связать его!.. Урядника...
Он, как ошпаренный, выскочил из-за конторки и бросился к двери....
Нарядчик подскочил к нему и осторожно придержал за руку.
—
Батюшка-барин, — заговорил он чуть не со слезами: — плюньте
на него.. Батюшка-барин, — собака лает, ветер носит... Спалит мошенник,
со зла наделает таких делов... Плюньте, не тревожьте себя из-за всякой,
с позволения сказать, стервы-с!..
—
Как он смел! как он смел! — кричал управляющий, топая ногами.
—
Наплевать-с! право — наплевать-с! — твердил нарядчик, — будьте
гожойнььс, — мы его найдем. Не тревожьте себя... Стоит ж, помилуйте-с!..
—
Чтоб духу его не было!., слышишь?.. Если увижу, так и тебя
к чорту...
,
—
Будьте спокойны, не заглянет... За пять верст обходить будет...
Управляющий, фыркая носом и тараща глаза, весь красный, снова
встал за конторку и закричал:
—
Сопля!
—
Сопля! — как эхо — повторил нарядчик.
Худой, длинный, страшный, Сопля переступил порог и остановился,
наклоня голову и глядя в пол.
—
Ты что, — закричал на него управляющий, — чо-о-орт! а? Ты что
это, а? Ах ты, морда!.,
да я тебя!.. Сколько ему? — обернулся он
к конторщику.
—
Все-с!
—
На вот, получи три рубля... Остальные за конторой... п -шел!..
—
Помилуйте-с. .. —
произнес Сопля.
—
Во-о-о -н!—закричал управляющий,—пьянствовать тоже... Мер-р -р -
завцы..
Получив свое «жалованье», я вышел вместе с Культяпкой из конторы
и на пути в кухню спросил у него:
—
Что это, всегда деньги выдают вот этак: с криком и руганью?
—
А ты вот погоди, что по осени будет, — ответил он, — али зимой...
Не приведи бог... Того гляди в рыло за свои кровные получишь... ей-богу.
Зимой нашего брата жмут, как в жоме... не дыши! Теперь еще что...
Теперь царство небесное... теперь мы им нужны... Н-да. А зимой, — он махнул
рукой, — что дадут, то и ладно, и не спрашивай... А коль чуть что, —
за ворота! «Вас, говорят, как собак паршивых, сколько угодно. До Москвы
не перевешаешь...» Что толковать... дело известное... везде эдак-то... Нам,
видно, одна, милок, честь: в рыло да «дурак», «мужик»,
«пьяница»,
«сволочь»... Эх-хе-хе!.. Ну, как же быть-то?., раздавить, что ли, по махонь-
кой, а? Унеси ты мое горе, а? Вмазывай к Лизке... ей-богу, а?.. Что уж...
плачешь да пьешь, один просвет, — истинный господь...
С. Подъячев.
ПОЖАР.
Мы все: дядя Юфим, Тереха и я, по обыкновению, спали в сарае. Дядя
Юфим, как лег с вечера, так сейчас же уснул, а нам с Терехой не спалось.
Мы лежали и разговаривали...
Ворота были открыты, но все-таки было душно... Кругом пищали
комары...
—
Дяденька, пусти-и-и!.. —
передразнивал их Тереха.
Ночь была тихая, теплая. Множество звезд горело и дрожало в темно-
синем небе; в лугах кричали «дергачи», на реке пели соловьи; в селе далеко
лаяли собаки... Все эти звуки не нарушали тишины ночи, а придавали ей
какую-то таинственную, робкую прелесть.
—
Деньков, гляди, через пять получат дома деньги, а? Как думаешь?—
раз десять задавал мне один и тот же вопрос Тереха.
—
Дойдет-ли письмо-то?..
—
Дойдет, получат, — отвечал я, — рады будут!
—
Рады?—переспрашивал он, повидимому, находя в слове «рады»
особую прелесть, и тихо, радостно смеялся.
—
У нас, Павлыч, — шепотом говорил он, — бедно живут... жуть!
А работы много. Мы нешто так работаем, как здесь? Эва! здеся игра — не
работа!.. У нас все ране поспевает: рожь, овес... все! Здесь вон рожь-то
жнут бабы, а у нас косят... Вот, трав у нас мало, покосу...
—
Так как же вы со скотиной-то?..
—
Солома, а то мякоть... Лесов опять тоже нету... Топим соломой...
И хлеб на соломе бабы пекут. Зараз хлеба четыре сажают, во каких,
ровно колеса... жуть! Ешь, ешь их, — индо заплеснеют...
—
Зимой, небось, холодно в избе?
—
Не!., изба махонькая... обвалишь вокруг соломой... по здешнему
пеледа, а по нашему защита. Хорошо у нас зимой, весело... На улице гуляем
с девками... возимся... А то в другую деревню уйдем, а то в избу... огонь
затушим... во пойдет возня с девками — жуть! очень хорошо!.. И девки
у нас не такие, как здеся...
—
Лучше?
—
Знамо, лучше... Здесь что? Жуть! родят здесь девки-то... Все одно,
как бабы, и ничего... так словно и надо... поди-ка у нас!
—
А у вас не родят?
—
Что ты! нешь можно! Да у нас засмеют, со свету сживут, проходу
не будет... А здесь у вас, бестыжие... водку пьют... матеріно ругаются, тьфу!..
Уж очень здесь народ отчаянный... Убьют за грош, истинный господь! Так
и норовят украсть.
—
А у вас, будто, не воруют?
—
У нас? Очень у нас насчет этого строго... У нас раз в деревне
баба одна украла у другой бабы шаль... У -у-у, что тут было. Муж ее бил,
бил, бил, бил... Потом накинул ей на плечи шаль эту самую, да и повел
по деревне... А народ-то за ними, а народ-то за ними... Ведет он ее, а сам
вваливает, а сам вваливает! жуть!.. И за дело: не воруй!
—
Читал ты, Терешка, книжки какие-нибудь? — спросил я.
—
Я-то? — переспросил он, — о, я охотник! Ах, читал я книжку...
хороша... жуть!
—
Какую?..
—
Про казака одного: Тарасом его звали, а по прозвищу Бульбин...
Жуть! истинный господь! Было у него, у этого самого Тараса, два сына...
Андреем да Остапом звать... Так ты что, Павлыч, думаешь, он свого сына
Андрея убил... истинный господь! Как его из пищали полыхнет, так и дух
вон... жуть!.. Уж очинно занятно!..
—
За что ж он его убил?
—
А он измену сделал... из-за девки тут из-за одной дело вышло...
Из-за нее измену сделал. А какой казак-то, ишь, был красавец писанный,
сила!.. А другого, Остапа-то, поляки в полон взяли, голову ему отрубили...
Отец-то как горевал! на его глазах ему и голову-то рубили... Допрежь того
мученью предали, жилы вытягивали... терпел, терпел он... не смог терпеть, —
как взвоет не своим голосом: «Тятька, тятька, ужли не слышишь!»... А он,
Тарас-от, тут же стоял в народе... «Слышу!» байт... У -у-у, что тут пошло,
жуть! Меня индо,—истинный гооподь, — слеза прошибла... уж очень
хорошо!.. А правда ль это, а? Кто ж это за человек, кто такую книжку
составил... а? Башковатый, должно, мужик... Павлыч! не спишь?
—
Да нет!
—
Что ты молчишь все... думаешь... Про что ты думаешь, а? — И видя,
что я не отвечаю, он завозился на месте и громко зашептал: — «богородица,
дево, радуйся! Благодатная Марея»...
Я лежал навзнич, слушал его шептанье и глядел в открытые ворота...
За воротами было тихо и темно... Вдруг, немного погодя, в воротах
стало светло, и отчаянный громкий крик: «горим! горим!» нарушил
тишину ночи.
—
Пожар! — закричал я и, толкнув дядю Юфима, выбежал вместе
с Терешкой за ворота.
—
Скотный двор горит! — закричал Тереха, и мы побежали к месту
пожара.
Горел пока не скотный двор, а огромный омет ржаной соломы, сва-
ленный к скотному двору, к одной из его стен...
Сухая солома, треща и забирая все выше и выше, горела, вспыхивая,
как порох... В какие-нибудь полчаса пылал весь омет и начал загораться
скотный двор...
Все — и рабочие, и управляющий, и князь, и княгиня, — словом все,
кто мог двигаться и смотреть, — прибежали на пожар. Вскоре из соседнего
села и деревень начали прибегать по одиночке и группами мужики, девки,
бабы, мальчишки...
—
Трубу, трубу! — кричал князь, бегая с палкой и с непокрытой
головой около пожара, — где труба... чо-о-о-рт!..
Труба оказалась испорчена и не действовала.
—
Выгоняйте скот!.. Скот выгоняйте!..— кричал князь.— О, чо-о-о-рт!..
Из соседнего села привезли, наконец, общественную трубу и кое-как,
после довольно-таки долгих и бестолковых усилий, наладили и начали «прыс-
кать» из тонкой кишки тоненькой струйкой воды в расходившееся пламя...
Высокий и тонкий Сопля, вооружась концом этой «кишки», само-
отверженно лез почти в самый огонь... Яркое пламя освещало его фигуру,
и эта фигура, без фуражки, с вытаращенными глазами, бледным лицом,
как-то необыкновенно отчетливо выделялась на ярко-огненном фоне, пугая
своим видом.
Бабы и девки, подобрав юбки, бегали с ведрами за водой. Мы, рабочие,
и прибежавшие мужики, бестолково суетились, ничего в сущности не делая
и только крича...
—
О-о-о! А-а -а! — стояло в воздухе, сливаясь с треском огня...
—
Гони скот, скот гони! — кричал обезумевший, растрепанный, бо-
сой, в белых «невыразимых», управляющий.
Перепуганный скот, коровы и телята не шли со двора, и их пришлось
буквально вытаскивать силой.
Между тем, загорелась, вспыхнула как-то сразу, со страшным треском,
деревянная, из тонкой дранки, крыша скотного двора и запылала, как
свечка.
Половина коров и телят остались на дворе. Их уже нельзя было вы-
вести... Двор загорелся со всех сторон.
—
Спасайте! — кричал управляющий, — черти!... Ну, ну!... убью!.,
о-о -о!..
Но спасать уже было невозможно. Крыша вдруг рухнула. Туча искр
взвилась к темно-синему небу... Несколько голубей, мелькая и трепеща кры-
лышками, ворвались откуда-то в этот столб и вдруг куда-то пропали.
Мало-по-малу стихая, охваченный со всех сторон, как огромный ко»
стер, горел теперь двор, далеко освещая окрестность.
—
О, боже мой! о боже мой! — всплескивая руками и, кажется, плача,
маленький и жалкий, взывал управляющий, бегая вокруг пожара...
Пламя стихало... Ветра не было, и опасность другим строениям не
грозила.
Князь подозвал к себе управляющего и громко, так, чтобы все слышали,
крикнул:
—
Что это, а?., поджог?..
Управляющий как-то сжался в комочек и залепетал что-то.
—
Что-о-о? — крикнул князь и прибавил:—Дура-а -а-к!
—
По-по всему ве-ве-роятию ! — вымолвил перепуганный «сам».
—
Что по всему вероятию? — снова крикнул князь, — чо-о -орт!..
—
Поджог-с!
—
Кто же?.. За что?..
Управляющий молчал. В это время, стоявший неподалеку нарядчик,
как-то изогнувшись, крадучись, точно охотник под тетерева, подошел к ним
и заговорил, обращаясь к князю:
—
Вашься, осмелюсь доложить... поджог-с это.
—
Что-о? — закричал князь, тараща на него глаза.
—
Кузнец это, вашь-оя, кузнец... боле некому.
—
Какой кузнец?.. Что такое?..
—
Ах, да! — радостно крикнул управляющий, — я
и забыл... ко-
нечно, он!
—
Да кто он? Об'ясни!—закричал князь и топнул ногой.
Управляющий об'яснил в чем дело.
—
Что же таких негодяев держишь?— опять закричал князь. —
Чо-о -о -рт!.. За урядником послать, живо! Расследовать это дело! По-о-о-д -
лецы!..
Он повернулся и пошел было прочь, но сейчас же снова остановился
и, обернувшись, крикнул:
—
А сторож?.. Где был сторож?.. Позвать сюда ка-а-а-налью!..
—
Сторож! сторож! Сопля!— послышались услужливые голоса со всех
сторон: — иди, князь зовет!.. Оглох, что ли? чо-о -о -рт! тебе говорят!
Мокрый с головы до ног, с покрытым сажей лицом, без картуза, страш-
ный, точно какой-нибудь сказочный злодей, приблизился Сопля к князю и
остановился, приняв необыкновенно робкую и почтительную позу.
—
Ты сторож? — подступая к нему, спросил князь.
—
Я-с, вашь-ся! — прошептал перепуганный Сопля. —
Так точно-с!
—
Ты... а-а-а! что ж ты смотрел, скотина, а?.. —
И, говоря это, князь
совсем близко пододвинулся к нему. —
Что ты смотрел? Я у тебя спра-
шиваю!..
—
Ви-виноват-с!
Князь взмахнул палкой и хотел ударить, но не ударил, а как-то вдруг
круто повернулся и пошел прочь.
—
К чорту его! — крикнул он на ходу, — чтоб духу не было!
Сопля обернулся и, обведя всех нас испуганными, страшными, недоуме-
вающими глазами, согнулся и, как побитая собака, пошел прочь по напра-
влению к кухне.
—
Подлец! Скотина! — крикнул ему вслед управляющий и добавил,
обращаясь к нарядчику:— -Сегодня же чтоб не было его... слышишь!..
—
Слушаю-с
—
ответил нарядчик...
М. Горький.
жизнь рабочей слободки.
Ранним утром каждого дня над рабочей слободкой, в дымном, масляном
воздухе, ревел фабричный гудок, и, послушные зову, из маленьких серых
домов выбегали на улицу угрюмые люди, не успевшие освежить сном свои
мускулы.
В холодном сумерке они шли по узким, немощеным улицам к фабрике,
а она с равнодушной уверенностью ждала их, освещая людям грязную дорогу
десятками своих жирных, квадратных глаз. Грязь чмокала под ногами. Разда-
вались хриплые восклицания сонных голосов, раздражительная ругань рвала
воздух, а встречу людям плыли глухие звуки — тяжелая возня машин, недо-
вольное ворчание пара. Угрюмо и строго маячили высокие, черные трубы,
поднимаясь над слободкой, точно палки.
Вечером, когда садилось солнце, и на стеклах домов устало блестели его
красные лучи, фабрика выкидывала людей из своих каменных недр, словно
отработанный шлак, и они снова шли по улицам, закопченные, с черными
лицами, распространяя в воздухе липкий запах машинного масла и блестя
голодными зубами. Теперь в их голосах звучало оживление и даже радость —
на сегодня кончилась каторга труда, дома ждали ужин й отдых.
День был проглочен фабрикой, машины высосали из мускулов людей
столько силы, сколько им было нужно. День бесследно вычеркнут из жизни,
человек сделал еще шаг к своей могиле, но он видел близко перед собой
наслаждение отдыха, радости дымного кабака и — был доволен.
По праздникам спали часов до десяти, потом люди солидные и женатые
одевались в свое лучшее платье и шли слушать обедню, попутно ругая
молодежь за ее равнодушие к церкви. Из церкви возвращались домой, ели
пироги и снова ложились спать — до вечера.
Усталость, накопленная годами, лишила людей аппетита, и для того, чтобы
есть, много пили, раздражая бессильный желудок острыми ожогами водки.
Вечером лениво гуляли по улицам, и тот, кто имел галоши, надевал их,
если даже было сухо, а имея дождевой зонтик, носил его с собой, хотя бы
светило солнце.
Встречаясь друг с другом-, говорили о фабрике, о машинах, ругали
мастеров, — говорили и думали только о том, что было связано с работой.
Одинокие искры неумелой, бессильной мысли едва мерцали в скучном одно-
образии дней. Возвращаясь домой, ссорились с женами и часто били их,
не щадя кулаков. Молодежь сидела в трактирах или устраивала вечеринки
друг у друга, играла на гармониках, пела похабные, некрасивые песни,
танцовала, сквернословила и пила. Истомленные трудом люди пьянели быстро,
и во всех грудях пробуждалось непонятное болезненное раздражение. Оно
требовало выхода. И цепко хватаясь за каждую возможность разрядить это
тревожное чувство, люди из-за пустяков бросались друг на друга с едким
озлоблением зверей. Возникали кровавые драки. Порою они кончались
тяжкими увечьями, изредка — убийствами.
В отношениях людей всего больше было чувства подстерегающей злобы,
и оно было такое же застарелое, как и неизлечимая усталость мускулов.
Люди рождались с этой болезнью души, наследуя ее от отцов, и она черной
тенью сопровождала их до могилы, побуждая в течение жизни к ряду
поступков, отвратительных своей бесцельной жестокостью.
По праздникам молодежь являлась домой поздно ночью в разорванной
одежде, в грязи и пыли, с разбитыми лицами, злорадно хвастаясь нанесенными
товарищам ударами, или оскорбленная ими, в гневе или слезах обиды, пьяная
и жалкая, несчастная и противная. Иногда парней приводили домой матери,
отцы. Они отыскивали их где-нибудь на улице или в кабаках бесчувственно
пьяными; скверно ругали, били кулаками мягкие, расжиженные водкой тела
детей, потом более или менее заботливо укладывали их спать, чтобы рано
утром, когда в воздухе темным ручьем потечет сердитый рев гудка, разбудить
их для работы.
Ругали и били детей тяжело, но в то же время пьянство и драки моло-
дежи казались старикам вполне законным явлением — когда отцы были
молоды, они тоже пили и дрались, их тоже били матери и отцы. Жизнь
всегда была такова — она ровно и медленно текла куда-то мутным потоком
годы и годы и вся была связана крепкими, давними привычками думать
и делать одно и то же изо дня в день. И, казалось, никто не имел ни времени,
ни желания попытаться изменить ее.
Изредка в слободку приходили откуда-то посторонние люди. Сначала
они обращали на себя внимание просто тем, что были чужие, затем возбуж-
дали к себе легкий, внешний интерес рассказами о местах, где они работали,
потом новизна стиралась с них, к ним привыкали, и они становились незамет-
ными. Из их рассказов было ясно: жизнь рабочего везде одинакова. А если
это так, о чем же разговаривать?
Но иногда некоторые из них говорили, что-то чужое, неслыханное
в слободке. С ними не спорили, но слушали их странные речи недоверчиво.
Эти речи у одних возбуждали слепое раздражение, у других смутную тревогу,
третьих беспокоила легкая тень надежды на что-то неясное, и они начинали
больше пить, чтобы изгнать ненужную, мешающую тревогу.
Заметив в чужом необычное, слобожане долго не могли забыть ему это
и относились к человеку, непохожему на них, с безотчетным опасением. Они
точно боялись, что человек бросит в жизнь что-нибудь такое, что нарушит ее
уныло правильный ход, хотя тяжелый, но спокойный. Люди привыкли, чтобы
жизнь давила их всегда с одинаковой силой и, не ожидая никаких изменений
к лучшему, они считали все изменения способными только увеличить гнет.
И от людей, которые говорили новое — слобожане молча сторонились.
Тогда эти люди исчезали, снова уходя куда-то, а оставаясь на фабрике, они
жили в стороне, если не умели слиться в одно целое с однообразной массой
слобожан.
Прожив такой жизнью лет пятьдесят — человек умирал.
М. Горький.
болотная копейка.
За фабрикой, почти окружая ее гнилым концом, тянулось обширное
болото, поросшее ельником и березой. Летом оно дышало густыми желтыми
испарениями, и на слободку с него летели тучи комаров, сея лихорадки.
Болото принадлежало фабрике, и новый директор, желая извлечь из него
пользу, задумал осушить его, а кстати и выбрать торф. Указывая рабочим,
что эта мера оздоровит местность и улучшит условия жизни для всех, дирек-
тор распорядился вычитать из их заработка копейку с рубля на осушение
болота.
Рабочие заволновались. Особенно обидело их, что служащие не входили
в число плательщиков нового налога.
Павел был болен в субботу, когда вывесили об'явление директора
о сборе копейки; он не работал и не знал ничего об этом. На другой день
после обедни, к нему пришли благообразный старик, литейщик Сизов, высокий
и злой слесарь Махотин и рассказали ему о решении директора.
—
Собрались мы, которые постарше, — степенно говорил Сизов, — по-
говорили об этом и вот послали нас товарищи к тебе спросить — как ты у нас
человек знающий — есть такой закон, чтобы директору нашей копейкой
с комарами воевать?
,
—
Сообрази! — сказал Махотин,'сверкая узкими глазами. —Четыре
года тому назад они, жулье, на баню собирали. Три тысячи восемьсот было
собрано... Где они? Бани нет!
Павел об'яснил несправедливость налога и явную выгоду этой затеи для
фабрики; они оба, нахмурившись, ушли. Проводив их, мать сказала, усме-
хаясь:
—
Вот, Паша, и старики стали к тебе за умом ходить.
Не отвечая, озабоченный Павел сел за стол и начал что-то писать.
Через несколько минут он сказал ей:
—
Я тебя попрошу: сейчас же поезжай в город, отдай эту записку...
—
Это опасное? — спросила она.
—
Да. Там печатают для нас газету... Необходимо, чтобы история
с копейкой попала в номер...
—
Ну-ну! — отозвалась она, пѳспешно одеваясь.
—
Я сейчас...
Это было первое поручение, данное ей сыном. Она обрадовалась тому,
что вот он открыто сказал ей, в чем дело, и она может быть прямо
полезна ему.
—
Это я понимаю, Паша! — говорила она. —
Это уж они грабят!..
Как человека-то зовут? Егор Иванович?
Она воротилась поздно вечером, усталая, но довольная.
—
Сашеньку видела! — говорила она сыну. —
Кланяется тебе. А этот
Егор Иванович простой такой... шутник! Смешно он говорит.
—
Я рад, что они тебе нравятся! — тихо сказал Павел.
—
Простые люди, Паша! Хорошо, когда люди простые... И все ува-
жают тебя.
В понедельник Павел снова не пошел работать, — у него болела голова
Но в обед прибежал Федя Мазин, взволнованный, счастливый и, задыхаясь
от усталости, сообщил:
—
Идем! Вся фабрика поднялась. За тобой послали. Сизов и Махотин
говорят, что лучше всех можешь об'яснить... Что там делается!
Павел молча стал одеваться.
—
Бабы прибежали, визжат!
—
Я тоже пойду! — заявила мать. —
Ты нездоров! Что они там за-
теяли?... Я пойду!
—
Иди! — кратко сказал Павел.
По улице шли быстро и молча. Мать задыхалась от ходьбы и волнения;
она чувствовала — надвигается что-то важное... В воротах фабрики стояла
толпа женщин, крикливо ругаясь. Когда они трое проскользнули во двор, то
сразу попали в густую, черную, возбужденно гудевшую толпу. Мать видела,
что все головы были обращены в одну сторону, к стене кузнечного цеха, где
на груде старого железа и фоне красного кирпича, стояли, размахивая руками,
Сизов, Махотин и Вялов и еще человек пять пожилых влиятельных
рабочих.
—
Вларов идет! — крикнул кто-то.
—
Власов? — Давай его сюда...
Павла схватили, толкнули вперед, и мать осталась одна.
—
Тише! — кричали сразу в нескольких местах.
И где-то близко раздался ровный голос Рыбина:
—
Не за копейку надо стоять, а за справедливость, вот! Дорога нам
не копейка наша, она не круглее других, но она тяжелее — в ней крови
человеческой больше, чем в директорском рубле, вот! И не копейкой доро-
жим, — кровью, правдой, вот!
Слова его сильно падали на толпу и Бысекали горячие восклицания;
—
Верно! Так, Рыбин!
—
Тише, дьяволы!
—
Правильно, кочегар!
—
Власов пришел!
Заглушая тяжелую возню машин, трудные вздохи пара и шелест про-
водов, голоса сливались в шумный вихрь. Отовсюду торопливо бежали люди
и, размахивая руками, вступали в спор, разжигая друг друга горячими,
колкими словами. Безысходное раздражение, всегда дремотно таившееся
в усталых грудях, просыпалось, требовало выхода и, вырываясь из уст, торже-
ствуя летало по воздуху, все шире расправляя темные крылья, все крепче
охватывая людей, увлекая их за собой, сталкивая друг с другом, перерождаясь
в пламенную злобу. Над толпой колыхалась туча копоти и пыли, облитые
потом лица горели, и кожа щек плакала черными слезами. На темных лицах
сверкали глаза, блестели зубы.
Там, где стояли Сизов и Махотин,.появился Павел и прозвучал его крик:
—
Товарищи!
Мать видела, что лицо у него побледнело и губы дрожат; она невольно
двинулась вперед, расталкивая толпу. Ей говорили раздраженно:
—
Куде лезешь, старуха!
Толкали ее. Но это не останавливало женщину; раздвигая людей пле-
чами и локтями, она медленно протискивалась все ближе к сыну, повинуясь
желанию встать рядом с ним.
А Павел, выбросив из груди слово, в которое он привык вкладывать
глубокий и важный смысл, почувствовал, что горло ему сжала острая спазма
боевой радости; его охватило необоримое желание отдать себя своей вере,
бросить людям свое сердце, зажженное огнем мечты о правде.
—
Товарищи! — повторил он, черпая в этом слове восторг и силу.
—
Мы — те люди, которые строят церкви и фабрики, куют цепи и деньги... мы —
та живая сила, которая кормит и забавляет всех от пеленок до гроба.
—
Вот! — крикнул Рыбин.
—
Мы всегда и везде — первые на работе и на последнем месте
в жизни. Кто заботится о нас? Кто хочет нам добра? Кто считает нас людьми?
Никто!
—
Никто! — отозвался, точно эхо, чей-то голос.
Павел, овладевая собой, стал говорить проще и спокойнее, толпа мед-
ленно подвигалась к нему, складываясь в темное тысячеголовое тело. Она смо-
трела в его лицо сотнями внимательных глаз, всасывая его слова, пряталась,
напрягалась.
—
Мы не добьемся лучшей доли, покуда не почувствуем себя товари-
щами, семьей друзей, крепко связанных одним желанием — желанием бо-
роться за наши права.
—
Говори о деле! — грубо закричали где-то рядом с матерью.
—
Не мешай ему! Молчите! — негромко раздались два возгласа в раз-
ных местах.
Закопченные лица хмурились недоверчиво, угрюмо, десятки глаз смо-
трели в лицо Павла серьезно, вдумчиво.
—
Социалист, а не дурак! — заметил кто-то.
—
Ух! Смело говорит! — толкнув мать в плечо, сказал высокий, кривой
рабочий.
—
Пора, товарищи, дать отпор жадной силе, которая живет нашим
трудом, пора защищаться, надо понять всем, что никто, кроме нас самих,
не поможет нам! Один за всех, все за одного — вот наш закон, если мы хотим
одолеть врага!
—
Дело говорит, ребята! — крикнул Махотии. —
Слушай правду!
И, широко взмахнув рукой, он потряс в воздухе кулаком.
—
Надо вызвать директора сейчас же! — продолжал Павел. —
Надо
спросить его...
По толпе точно вихрем ударило. Она закачалась, и десятки голосов
сразу крикнули:
—
Директора сюда!
—
Пусть об'яснит!
—
Веди его!
—
Депутатов послать за ним!
—
Не надо!
Мать протолкалась вперед и смотрела на еына снизу вверх. Она была
полна гордости. Павел стоял среди старых, уважаемых рабочих, все его
слушали и соглашались с ним. Ей нравилось, что он спокоен и говорит так
просто, не злится, не ругается, как другие.
Точно град на железо, сыпались отрывистые восклицания, ругатель-
ства, злые слова. Павел смотрел на людей сверху и искал среди них чего-то
широко открытыми глазами.
—
Депутатов!
—
Сизов пускай говорит!
*
—
Власов!
—
Рыбина! У него зубы страшные!
Наконец, выбрали для разговора с директором троих — Сизова,
Рыбина и Павла — и уже хотели послать за ним, как вдруг в толпе послы-
шались негромкие восклицания:
—
Сам идет!..
—
Директор!..
'
—
Ага-а!
Толпа расступилась, давая дорогу высокому и сухому человеку
с острой бородкой и длинными лицом.
—
Позвольте! — говорил он, отстраняя рабочих с своей дороги ко-
ротким жестом руки и не дотрагиваясь до них. Глаза у него были прищурены,
и взглядом опытного владыки людей он испытующе щупал лица рабочих.
Перед ним снимали шапки, кланялись ему — он шел, не отвечая на поклоны,
и сеял в толпе тишину и смущение, конфузливые улыбки и негромкие воскли-
цания, в которых уже слышалось раскаяние детей, сознающих, что они
нашалили.
Вот он прошел мимо матери, скользнув по ее лицу строгими глазами,
остановился перед грудой железа. Кто-то сверху протянул ему руку — он
не взял ее, свободно, сильным движением тела влез наверх, встал впереди
Павла и Сизова и спросил:
—
Что это за сборище? Почему вы бросили работу?
Несколько секунд было тихо. Головы людей покачивались точно ко-
лосья. Сизов, махнув в воздухе картузом, повел плечами и опустил голову.
—
Я спрашиваю! — крикнул директор.
Павел встал рядом с ним и громко сказал, указывая на Сизова
и Рыбина.
—
Мы трое уполномочены товарищами потребовать, чтобы вы отме-
нилй свое распоряжение о вычете копейки...
—
Почему? — спросил директор, не взглянув на Павла.
—
Мы не считаем справедливым такой налог на нас! —громко сказал '
Павел.
—
Вы, что же, в моем намерении осушить болото видите только же-
лание эксплоатировать рабочих, а не заботу об улучшении их быта? Да?
—
Да! — ответил Павел.
—
И вы тоже? — спросил директор Рыбина.
—
; Все одинаково! — ответил Рыбин.
—
А вы, почтенный? — обратился директор к Сизову.
—
Да, и я тоже попрошу: уж вы оставьте копеечку-то при нас.
И, снова наклонив голову, Сизов виновато улыбнулся.
Директор медленно обвел глазами толпу, пожал плечами. Потом испы-
тующе оглядел Павла и заметил ему:
—
Вы кажетесь довольно интеллигентным человеком,—неужели и вы
не понимаете пользу этой меры?
Павел громко ответил:
—
Если фабрика осушит болото за свой счет, — это все поймут.
—
Фабрика не занимаеуся филантропией ! — сухо заметил дирек-
тор. —
Я приказываю всем немедленно стать на работу!
И он начал спускаться вниз, осторожно ощупывая ногой железо и не
глядя ни на кого.
В толпе раздался недовольный гул.
—
Что? — спросил директор, остановись.
Все замолчали, только откуда-то издали раздался одинокий голос:
—
Работай сам!..
—
Если через пятнадцать минут вы не начнете работать, — я прикажу
записать всем штраф! — сухо и внятно ответил директор.
Он снова пошел сквозь толпу, но теперь сзади него возникал глухой
ропот, и чем- глубже уходила его фигура, тем выше поднимались крики.
—
Говори с ним.
—
Вот-те и права! Эх, судьбишка...
Обращались к Павлу, крича ему:
—
Эй, законник, что делать теперь?
-—
Говорил ты, говорил, а он пришел — все стер!
—
Ну-ка, Власов, как быть?
Когда крики стали настойчивее, Павел заявил:
—
Я предлагаю, товарищи, бросить работу до поры, пока он не отка-
жется от копейки...
Возбужденно запрыгали слова:
—
Нашел дураков!
—
Так и надо!
—
Стачка?
—
Из-за копейки-то?
—
А что? Ну, стачка!
—
Всех за это в шею...
—
А кто работать будет?
—
Найдутся люди!
—
Это которые — Иуды?
И. Шмелев.
человек из ресторана.
Месяца три прошло, уж к сентябрю подвигалось. То каждую неделю
от Колюшки письма получали, а тут — нет и нет. И вдруг опять к нам на
квартиру поход. Ничего не сказали, письма прочли — у Луши в рабочей кор-
зиночке хранились — забрали и ушли. Потом уж пристав мне сказал, что
Колюшка с поселения отлучился.
Так это нас растревожило.
—
Чтож — говорю Луше — плакать? Слезами не поможешь...
Но ведь мать и при том женщина. А господин Кузнецов мне сказал:
—
Ваш сын скоро получит известность!..
Пошел наутро в ресторан, а мне и говорят:
—
В газетах про тебя пропечатали, что твой сын убег, и про обыск.
И показывают. Так я и ахнул. А там все! И мое имя — отчество
и фамилия, и в каком я ресторане, все. А это наш жилец Кузнецов про-
писал.
И вдруг мне Игнатий Елисеич и об'являет:
—
Штросс распорядился тебя уволить. Ступай в контору. Я тебя
не могу к делу допустить.
Сперва и не понял я.
—
Как так уволить? за что — про что?
—
За что, за что! приказал и больше ничего.
Так руки у меня и опустились. Я к Штроссу в кабинет. Допустил.
Сидит в кресле и кофе ложечкой мешает.
—
Да, говорит, что делать! Нельзя тебе больше у нас служить.
А на лицо не смотрит.
—
Мы подвержены... Уж раньше требование было, а я тебя держал,
а теперь все известно, и про наш ресторан... Ничего не могу.
—
Густав Карлыч, — говорю, — за что же? Я двадцать третий год
верой и правдой... интерес ваш соблюдал...
Поплакал я даже в кабинете. А он встал и заходил.
—
Я ничего не могу! И хороший ты слуга, а не могу. Вот, что могу —
сделаю...
Взял со стола трубку телефонную — с конторой — и приказал:
—
Выдать Скороходову в пособие семьдесят пять рублей и залог!
Взяло меня за сердце, и я им тут сказал:
—
Вот как за мою службу! Я все у вас между столов оставил, за каж-
дую стекляшку заплатил... Обижаете!
Он бумагами зашумел и так и покраснел.
—
Не мы, не мы!.. Мы тобой довольны, а у нас правила...
Да, у них правила... У них на все правила. И на все услуги. Деньги,— вот
какие у них правила. И в проходы можно, на это препятствий нет. Пылинку
на столах, соринку с пола следят со всей строгостью. За пягна на фраке
замечание и за нечистые салфетки... Все это очень необходимо. А вот
за двадцать два года...
Посмотрел я на них, как они в кресле сидели, как налитые и в бумагах
по столу искали, и хотел я им от души все сказать. Так вот... хотел им
сказать с глазу на глаз... Да в глотке застряло. Так все у них удобно,
и ковры, и сухарики...
—
Только, конечно, говорю, все помирать будем!..
—
Ну, довольно, довольно!.. Сказал, ничего не могу!..
И замешал ложечкой.
Пришел в официантскую. Посочувствовали, конечно, администрацию
поругали. Ругай, пожалуй... Икоркин очень жалел и руку жал. Сказал, что
в обществе заявит. Очень горячился. Говорю метрдотелю:
—
Вот, Игнатий Елисеич, за хорошую службу мне награда...
А он мне тоже руку пожал и говорит:
—
Жаль, ты очень знающий по делу. Я вот сад на лето сниму и тебя
возьму для ресторана старшим. Наведайся к весне...
Вошел я в наш белый зал. Много я тут сил оставил на паркетах,
а жалко стало... Двадцать два года! Должен же был знать, что не в этих
покоях помирать буду. И людей совестно... Словно как жулика какого вы-
гнали, а сколько я здесь всего переделал и скольких ублаготворил! Следов
не осталось от такой службы — в воздух и в ноги она уходит,..
Дрсстьявпв и рабочий. Ч. Ц ,
и
M. Горький.
в булочной.
Нас было двадцать шесть человек — двадцать шесть живых машин, за-
пертых в сыром подвале, где мы с утра до вечера месили тесто, делая крен-
дели и сушки. Окна нашего подвала упирались в яму, вырытую пред ними
и выложенную кирпичом, зеленым от сырости; рамы были заграждены сна-
ружи частой железной сеткой, и свет солнца не мог пробиться к нам сквозь
стекла, покрытые мучной пылью. Наш хозяин забил окна железом для того,
чтоб мы не могли дать кусок его хлеба нищим и тем из наших товарищей,
которые, живя без работы, голодали; наш хозяин называл нас жуликами
и давал'нам на обед тухлую требушину.
Нам было душно и тесно жить в каменной коробке под низким и тя-
желым потолком, покрытым копотью и паутиной. Нам было тяжело и тошно
в толстых стенах, разрисованных пятнами грязи и плесени. Мы вставали
в пять часов утра, не успев выспаться, и — тупые, равнодушные — в шесть
уже садились за стол делать крендели из теста, приготовленного для нас
товарищами в то время, когда мы еще спали. И целый день, с утра до десяти
вечера, одни из нас сидели за столом, рассучивая упругое тесто и покачи-
ваясь, чтоб не одеревенеть, а другие в это время месили муку с водой.
И целый день задумчиво и грустно мурлыкала кипящая вода в котле, где крен-
дели варились, лопата пекаря зло и быстро шаркала по кирпичу, сбрасывая
скользкие вареные куски теста на горячий кирпич. С утра до вечера в одной
стороне печи горели дрова, и красный отблеск пламени трепетал на стене
мастерской, как-будто безмолвно смеялся над нами. Огромная печь была
похожа на уродливую голову сказочного чудовища — она как-бы высуну-
лась из-под пола, открыла широкую пасть, полную яркого огня, и дышала
на нас жаром и смотрела на нашу бесконечную работу двумя черными впа-
динами отдушин над челом. Эти две глубокие впадины были как глаза —
безжалостные и бесстрастные очи чудовища; они смотрели на нас всегда
одинаковым темным взглядом, как-будто устали смотреть на рабов, и, не
ожидая от них ничего человеческого, презирали их холодным презрением
мудрости.
Изо дня в день в мучной пыли, в грязи, натасканной нашими ногами
со двора, в густой пахучей духоте мы рассучивали тесто и делали крендели,
смачивая их нашим потом, и мы ненавидели нашу работу острой ненавистью,
мы никогда не ели того, что выходило из-под наших рук, предпочитая крен-
делям черный хлеб. Сидя за длинным столом друг против друга, — девять
против дёвяти, — мы в продолжение длинных часов механически двигали
руками и пальцами, и так привыкли к своей работе, что никогда уже не сле-
дили за движениями своими. И мы до того присмотрелись друг к другу, что
каждый из нас знал все морщины на лицах товарищей. Нам не о чем было
говорить, мы к этому привыкли и все время молчали, если не ругались, — ибо
всегда есть за что обругать человека, а особенно товарища. Но и ругались
мы редко — в чем может быть виновен человек, если он полумертв, если он—
как истукан, если все чувства его подавлены тяжестью труда? Но иногда мы
пели, и песня наша начиналась так: среди работы вдруг кто-нибудь вздыхал
тяжелым вздохом усталой лошади и запевал тихонько одну из тех протяж-
ных песен, жалобно-ласковый мотив которых всегда обличает тяжесть
на душе поющего. Поет один да нас, а мы сначала молча слушаем его оди-
нокую песню, и она гаснет и глохнет под тяжелым потолком подвала, как
маленький огонь костра в степи сырой осенней ночью, когда серое небо висит
над землей, как свинцовая крыша. Потом к певцу пристает другой, и — вот
уж два голоса тихо и тоскливо плавают в духоте нашей тесной ямы. И вдруг
сразу несколько голосов подхватят песню, — она вскипает, как волна, стано-
вится сильнее, громче и точно раздвигает сырые, тяжелые стены нашей
каменной тюрьмы.
Поют все двадцать шесть, громкие, давно спевшиеся, голоса наполняют
мастерскую; песне тесно в ней: она бьется о камень стен, стонет, плачет и
оживляет сердце тихой щекочущей болью, бередит в нем старые раны и будит
тоску... Певцы глубоко и тяжело вздыхают; иной неожиданно оборвет песню
и слушает, как поют товарищи, и снова вливает свой голос в общую волну.
Иной, тоскливо крикнув: эх! — поет закрыв глаза, и, может-быть, густая
широкая волна звуков представляется ему дорогой куда-то вдаль, освещен-
ной ярким солнцем, широкой дорогой, и он видит себя идущим по ней...
Пламя в печи все трепещет, все шаркает по кирпичу лопата пекаря,
мурлыкает вода в котле, и отблеск огня на стене все так же дрожит, без-
молвно смеясь... А мы выпеваем чужими словами свое тупое горе, тяжелую
тоску живых людей, лишенных солнца, тоску рабов... Так-то жили мы,
двадцать шесть, в подвале большого каменного дома, и нам было до того тя-
жело жить, точно все три этажа этого дома были построены прямо на пле-
чах наших...
Ф. Шкулев.
ЗАВОД.
Могуч, всесилен, величав,
Дрожит от взмахов, грома стали.
Метают космы жерла труб
В немые дали.
Граничит точно день труда
Сирены горло.
Вздымает тяжесть хобот-кран,
Как воск, металл буравят сверла,
Мелькают блузы, льется пот,
От пара рой седых волокон
Клубится, силится пробить
Просветы окон.
Змеят .приводы шестерни,
Чугун и сталь чеканит молот:
Мы гоним прочь от городов
Проклятый голод.
Во всем симфония труда:
Мелодия, аккорды, ритмы,
И в звуках слышится: пришли
Сюда творить мы!
л.
Куприн:
МОЛОХ.
Еще с утра жены, сестры и матери заводских рабочих, прослышав
о предстоящем пикнике, стали собираться на вокзале: многие принесли
с собою и грудных ребят. С выражением деревянного терпения на загорелых,
изнуренных лицах сидели они уже много часов на ступенях вокзального
крыльца и на земле, вдоль стен, бросавших длинные тени. Их было более
двухсот. На расспросы станцйонного-начальства они отвечали, что им нужно
«рыжего и толстого начальника». Сторож пробовал и!х устранить, но они под-
нята такой оглушительный гвалт, что он только макнул рукой и оставил баб
в покое.
Каждый под'езжавший экипаж вызывал между ними минутный пере-
полох, но так как «рыжего и толстого начальника» до сих пор еще не было,
то они тотчас же успокаивались.
Едва только Василий Терентьевич, схватившись руками за козлы,
кряхтя и накренив всю коляску, ступил на подножку, как бабы быстро окру-
жили его со всех сторон и повалились на колени. Испуганные шумом толпы,
молодые и горячие лошади захрапели и стали метаться: кучер, натянув
вожжи и совсем перевалившись назад, едва сдерживал их на месте. Сначала
Квашнин ничего не мог разобрать: бабы кричали все сразу и протягивали
к нему грудных младенцев. По бронзовым лицам вдруг потекли обильные
слезы...
Квашнин увидел, что ему не вырваться из этого живого кольца, обсту-
пившего его со всех сторон.
—
Стой, бабы! Не галдеть! — крикнул он, покрывая сразу своим
басом их голоса. —
Орете все, как на базаре. Ничего не слышу. Говори кто-
нибудь одна: в чем дело?
Но каждой хотелось говорить одной. Крики еще больше усилились,
и слезы еще обильнее потекли по лицам:
—
Кормилец... родной... рассмотри ты нас... Никак неможно терпеть...
Отошшали... помираем... с ребятами помираем... От холода, можно сказать
прямо дохнем!
—
Что же вам нужно? От чего вы помираете? — крикнул опять
Квашнин. —
Да не орите все разом! Вот ты, молодка, рассказывай, — ткнуд
—
2iâ —
он пальцем в рослую и, несмотря на бледность усталого лица, красивую
калужскую бабу. —
Остальные, молчи!
Большинство замолкло, только продолжало всхлипывать и слегка подвы-
вать, утирая глаза и носы грязными подолами...
Все-таки за раз говорило не менее двадцати баб.
—
Помираем от голоду, кормилец... Уж ты сделай милость, обдумай нас
как-нибудь... Никакой нам возможности нету больше... Загнали нас на зиму
в бараки, а в них нешто можно жить-то? Одна только слава, что бараки, а то
как есть из лучины выстроены... И теперь-то по ночам невтерпеж от хо-
лоду... зуб на зуб не попадает... А зимой что будем делать? Ты хот
наших ребяток-то пожалей, пособи, голубчик, хоть печи-то прикажи
поставить... Пишшу варить негде... На дворе пишшу варим... Мужики наши
целый день на работе... Иззябши... Намокши... Придут домой — обсу-
шиться негде.
Квашнин попал в засаду. В какую сторону он ни оборачивался, везде ему
путь преграждали валявшиеся на земле и стоявшие на коленях бабы. Когда он
пробовал протиснуться между ними, они ловили его за ноги и за полы длин-
ного серого пальто. Видя свое бессилие, Квашнин движением руки подозвал
к себе Шелковникова, и когда тот пробрался сквозь тесную толпу баб,
Василий Терентьевич спросил его по-французски с гневным выражением
в голосе:
—
Вы слышали? Что все это значит?
Шелковников беспомощно развел руками и забормотал:
—
Я писал в правление, докладывал... Очень ограниченное число ра-
бочих рук... летнее время... косовица... высокие цены... Правление не разре-
шило... ничего не поделаешь...
—
Когда же вы начнете перестраивать рабочие бараки? -— строго
спросил Квашнин.
—
Положительно неизвестно... Пусть потерпят как-нибудь... Нам
раньше надо торопиться с помещениями для служащих.
—
Чорт знает, что за безобразия творятся под вашим руковод-
ством,— проворчал Квашнин. И, обернувшись опять к бабам, он сказал
громко:
—
Слушай, бабы! С завтрашнего дня вам будут строить печи и по-
кроют ваши бараки тесом. Слышали?
—
Слышали, родной... Спасибо тебе... Как не слышать, — раздались
обрадованные голоса. —
Так-то лучше, небось, когда- сам- начальник прика-
зал... спасибо тебе... ты уж нам, соколик, позволь и щепки собирать с по-
стройки.
—
Хорошо, хорошо, и щепки позволяю собирать.
—
А то поставили везде черкесов1), чуть придешь за щепками, а он
так сейчас нагайкой и норовит полоснуть...
') В южном крае на заводах и в экономиях сторожами охотнее всего нанимают
черкесов, отличающихся верностью и внушающих страх населению.
—
Ладно, ладно... Приходите смело за щепками, никто вас не тро-
нет, — успокаивал их Квашнин. —
А теперь, бабье, марш по домам, щи
варить! Да смотрите у меня, живо! — крикнул он подбодряющим, молодце-
ватым голосом. —
Вы распорядитесь, — сказал он вполголоса Шелков-
никову, — чтобы завтра сложили около бараков воза два кирпича... это их
надолго утешит. Пусть любуются.
Н. Ляиіко.
в пламени.
1.
Завод графитно-черен, прижат к мути неба и осыпан меркнувшими
звездами. С полей его хлещет белыми плетями крупнущая вьюга. Пустая
дорога зыбится, стонет. Над нею лунами качаются фонари. В их свете от
столба к столбу мелькает пятно. Спешу за ним и узнаю — Егорка.
С осени сидит за верстаком, из чана со скипидаром вынимает шрап-
нельные головки и крючком, паклей стирает с них ржавчину. А знает ли,
знает ли, что гладит тонкими в жилках грязи пальцами? Чудится ли ему,
как рассечет оно воздух, с воем и грохотом вопьется в землю и брызнет телом
и кровью?
—
Шагай! шагай! — кричу.
Он оборачивается и поникает головою. Заглядываю в избитое ветром
лицо, в прикрытые забеленными ресницами глаза и роняю:
—
Еще пяти нет, а ты идешь.
•— Проспать боялся, — сопит он. —
А ты- чего так рано?
—-
Мне надо, — бормочу я и тороплюсь.
Ветер сметает звуки шагов. Тру уши и порывисто режу грудью, лицом
визгливо-голосый холодок. Надо скорее. Вчера мне дали на вечер редкую
книжку. Дома рано погасили свет, — надо до начала работы дочитать ее.
Трубы мутят блеклые звезды. Сквозь хаос мечущегося снега завод
кажется отчалившим в холодное море. Дуй, ветер. Злее, злее хлещите,
волны... В нем много света, тепла, сил... Вот.. Он вздрагивает, озаряет пото-
ками света окна и комкает тьму криком.
Глохнут стоны дороги и плач фонарей.
2.
Из-за всхлипнувшей двери пышет гарью, скипидаром, ржавчиной и
теплом прогретых батарей. А Егорка еще там, на дороге, под плетями.
Лицо вспыхивает. Переплеты ремней и стропил цедят на простывшие
станки свет. Тенью путаю тени, пятнаю серебро ступенчатых шкивов, сти-
раю со станин блеск и качаюсь на стене. Под ногами похрустывают
стружки.
Зажатые в центра винты, насаженные на оправки полуобточенные
шрапнели искрятся в влажных глазах. Отпираю у станка ящик и тянусь
с лампочкой к проводу. Свет выплескивается на меня из колпака, и я сажусь
на ворох кованых снарядных стаканов.
Вынимаю книжку, слушаю, как бы не подошел кто, а строчки топочут
по сердцу, наполняют грудь гулом. И новыми, иными становятся завод,
станки, снаряды, стаканы, мое сердце.
Железо, немое железо, слышишь ли? До голубизны шлифую я тебя.
Каждый удачный стакан из тебя — радость. Но ведь он вылетит из жерла,
пробьет ребра, крышу, может быть, этой мастерской, сломает стропила,
взорвет эти станки... и мой, вот этот... И, может быть, я обагрю его...
3.
Завод криком трясет мастерскую и меня. Строчки скачут быстрее и
перебирают в спине ниточки. На них издалека падает розовый свет.
—
Ах, да погодите, погодите со своими стаканами.
Но в уши впрыгивает крик. Выпрямляюсь и вскакиваю: за станками,
у верстаков, где вытирают шрапнельные головки, на ворохе пропитанной
скипидаром грязной пакли столбом пляшет пламя.
Прячу книжку и бегу. Руки напрягаются. Сейчас ввинчу в гнездо
пожарный рукав, открою кран и буду хлестать ледяной струею в жадные
пасти.
Из пламени полоскою огня выпрыгивает человек, кидается к полу-
собранным машинам и кричит, нет не кричит — клокочет, рвется от боли.
Крик цепенит меня. Пол прихватывает ноги, и я замираю. Сплю, а глаза
до боли открыты. Горящий мчится по главному пролету и горит все ярче.
Разметочные плиты, груды железа скрывают его ноги, и он кажется летящим
индейцем в щите из огненных перьев.
Пламя прыгает на его рукава. Он в муке двигает руками к голове и
вперед. Обливает все пламенным светом и тянет за собой мои глаза. Я не могу
двинуться, дрожу. Руки мои, голова — весь я вместе с ним в пламени, но не
верю, что это живое, что это правда. Это призрак, — слетел со страниц не-
дочитанной книжки и мчится, зовет. Эй, железо, стаканы, снаряды, куда,
куда?
Мелькают люди. Один в папахе порывается схватить горящего,
багровеет в его пламени и отпрыгивает... И жутче хрипит крик, выше взмы-
вают острые перья щита.
Из-за шкапа с чертежами выбегает тень, хочет метлою сбить индейца
с ног, сгибается — и мимо. Меня передергивает. Снимаю пальто и кидаюсь
через станки. Грудь теснит желание обнять горящего и пальто, смять на нем
пламя.
Решетка крайнего станка впивается в блузу и отбрасывает назад. Вы-
рываюсь, а индеец уже вот-вот, — с шипением волос и кожи, с гулом и тре-
ском проносится мимо и через груду литья обмахивает меня гарью.
Карабкаюсь и бегу за ним. Кем-то открытая дверь проглатывает его.
Идущие на работу сбивают его с ног, гасят, кладут на ватный пиджак и
мечутся.
—
Носилки! носилки! — звенит в снежном вихре.
Проталкиваясь, склоняю голову и вздрагиваю: Егорка. Корчится, качает
головою, весь боль, весь судорога. Милый, славный, где и когда обагрятся вы-
тертые тобою головки шрапнелей? Ö, как рады, как рады ветер, холод и снег,
что ты стоном подпеваешь им.
Пожар в мастерской погашен. Нас все больше. Дышим гарью платья,
волос и сочащейся крови.
Нас томит, душит, лихорадит.
Глаза вновь и вновь тянутся к уходящему от -нас родному -пятну на снегу,
но видят не маленького худого Егорку, бредущего по стонущей дороге,
а пришпоренный мукой, пламенный призрак с рвущимися от головы и вперед,
к груди и вперед горящими руками.
А. Серафимович.
среди ночи.
I.
Они взбирались среда молчаливой ночи между угрюмо и неподвижно
черневшими соснами. Под ногами с хрустением расступался невидимый мок-
рый снег или чмокала также невидимая, липкая, надоедливая, тяжело хватав-
шаяся за сапоги грязь.
Внизу, у мо-ря тепло стлалась сіпгая весенняя ночь, а здесь ни одна звезда
не заглядывала сквозь мрачную тучу простиравшейся над головами хвои, и
все глуше, все строже становилось по- мере под'ёма.
Тот, который пробирался впереди и которого также не видно было, как
и всех остальных, остановился, должно быть, снял шапку и стал стирать
взмокший лоб, лицо. И все остановились, смутно выделяясь, шумно дыша,
сморкаясь, вытирая пот, и заговорили разом и беспорядочно.
—
Ну, дорога— могила!..
—
Ложись, зараз закопаем.
—
Братцы, кисет утерял... сука твоя мать!..
Загорелись спички, красновато зажглись двигавшиеся в разных местах
па-пиросы, освещая временами кусок носа, ус, часть заросшей щеки или вы-
ставившийся мохнатый конец сосновой ветви. И когда немного отдохнули и
дыхание стало ровное и спокойное, опять стояло строгое, всепоглощающее
молчание.
>— Вот, когда в Грузии служил, тоже горы... фу-у, ну и высокие... так
Там всегда — зи:ма, и летом — зима, так снег и лежит, на низу — жара,
а там — снег.
Снова слышны тяжелые срывающиеся шаги, глубокое дыхание и хруст
невидимого снега, становившегося морознее, суше, скрипучее. И воздух был
острый, звонкий, покусывавший за уши. Иной раз люди проваливались, слы-
шалась возня, крепкие слова и учащенное, прерывистое дыхание.
Давно погасли папиросы. Последние окурки, тонко чертя огнистый след
и рассыпая золотые искры, полетели и несколько секунд во тьме красновато
светились на снегу и тоже потухли.
—
Должно, года через два дойдем...
—
Сдохнешь где-нибудь под сосной, покеда дойдешь.
—
Да куда мы идем?!., ребята!., киселя хлебать...
—
А все Ехвим... пойдем да пойдем1, а куда пойдем — сам не знает...
И все шли. Нельзя было остановиться, остаться одному, свернуть, пойти
назад. Кругом — кромешная темь, молчаливые сосны. Невидимая тропинка уже
на втором шагу терялась под ногами.
Временами наплывало мутное и влажное, и, хотя было темно, хоть глаз
выколи, оно казалось белесым, бесформенным, меняющимся. Тогда охватывала
расслабленность и апатия, и хотелось лечь на снег и лежать неподвижно в поту
и испарине. Потом так же беззвучно и бесследно проносилось и стояло мол-
чание и нешевелящаяся тьма.
В темноте высоко засветился огонек. Пробираясь, скрипя по холодному
снегу, то и дело подымали головы и глядели на него, а он также же одиноко
глядел на них в пустыне черной ночи.
—
В жисть не узнаешь, где мы теперь.
—
Вот, братцы...
—
Ехвим Сазонтыч, голову тебе оторвем, ежели да как заведешь...
—
Так лезть будем; — скоро до царствия небесного долезем.
—
Ей-богу, долезем... хо-хо-хо!..
И в горах, поглощенных тьмой, хохотом перекликнулись человеческие
голоса.
Ночь сурово покрыла строгой тишиной говорящих.
—
А-а. .. гляди, гляди-! ...
—
Братцы, чего такое?
—
Навождение!..
Посыпались восклицания удивления. Им- ответили ночные голоса. Все
разом остановились. Все попрежнему было поглощено зияющей тьмой, но
снеговая стена, уходившая в черное небо; слабо выступала таинственной си-
невой. Призрачно чудился тихий, странный, неведомый отсвет. По снежной,
едва проступавшей стене двигались гигантские силуэты, также внезапно оста-
новились и стали жестикулировать, как жестикулировали остановившиеся
люди.
Все, как по команде, обернулись. Черная бездна, до- краев заполненная
густой тьмой, простиралась, и не было ей конца и краю. Далеко внизу, на
самом дне, голубым сиянием сияло множество огней. Они ничего не освещали,
кругом было так же мрачно, но казались веселыми, отсвет их добегал через
десяток верст, и от людей призрачно ложились смутные, едва уловимые тени
на слабо озаренный снег.
Это был город.
Долго стояли и молча глядели на далекие сияющие огни.
—
Ночь, а господа самое гуляют по трактирам да по гостиницам, али
в карты.
—
Господа гуляют, а нас нелегкая несет не знать куда.
—
Диковина, далече, а светит.
—
Електричество, известно.
—
Ну, айда, что рот-то разинули, не видали?
Огонек, державшийся среди черноты ночи, пропал, потом опять мельк-
нул, вызывая надежду, снова пропал; и разом раздвинулся между смутно вы-
ступившими соснами красновато освещенный четырехугольник окна, слабо
ложась полосой на снег и ближние стволы.
Все шумно столпились у неясно обрисовавшихся стен и дверей. Стукнули
кольцом, и эхо гор откликнулось, и отзвук длительный, мягкий и унылый да-
леко покатился среди ночи. И ночь простиралась ровная, одинаковая, все-
поглощающая, как будто в ней не было ни леса, ни гор, а одна ненасытимая,
заполненная мраком, звучащая пустота.
—
Эй, дядя Семен, отпирай!
—
...а -а-а -ай!..— м ягко слабея, пропадало во мгле.
II.
Стоны женщины неслись, то слабея, то усиливаясь, то совсем замолкая.
Все те же приступы невыносимой боли, тот же безжалостно давивший, черный
от копоти, потолок и тоненький, как змейка, звук коптящей лампочки в стене.
Бесконечная ночь, упорно-тяжело глядевшая в слепые окна, мутно бе-
лела снегами. Ребятишки, измученные за день, забитые и голодные, в самых
неудобных положениях спали, разметавшись по нарам.
—
О-о.. . о -о -оох-ох-ох... ох... о -о-о!.. Господи, смертынька моя...
ой-ой-ой... батюшки...
Совсем молоденькая, с горячечным румянцем на щеках, со свесивши-
мися на одну сторону волосами, беременная баба в пестрядинной рубахе кор-
чилась на застланной соломой и покрытой дерюгой кровати, и голова ее мета-
лась из стороны в сторону.
Бородатый, лет за сорок, второй раз женатый мужик, с пятерыми детьми
от первой жены, наклонившись, сосредоточенно, молча и неуклюже месил за-
сученными, в волосах, руками тесто. Оно пучилось, лопалось пузырями, на-
зойливо липло к рукам, особенно цепко держалось на волосках, а он хмуро
соскребал и сильным движением сбрасывал плюхавший в общую массу комок.
—• Тять... тять.. . бб. .. бл... бллезли... двя... двя... двя... — торопливо и
сонно забормотал кто-то из ребятишек.
Мягко ступая, степенно вышел на середину кот, прижмурившись, погля-
дел на хозяина, на тоненько поющую лампочку, повел хвостам и так же
медленно и важно направился к печке, свернулся клубочком и, зажмуриваясь,
сладко замурлыкал.
—
О-о-о. .. ооххоо-хо-хо... ооохх!.. смерть моя! Сём, а Сём!..
—
Чево?
—
Помираю я... попа бы... господи...
Она заплакала.
Мужик с одной и той же, никогда не покидавшей, думой на лице молча
месил, потом сосредоточенно стал обирать с мускулистой руки налипшее
тесто.
—
Все бабы родят, не ты первая.
И, помолчав, мотнул головой на нары:
—
Бона... пятеро.
Кот, задремав и заводя веки, перестал мурлыкать. Женщина замолкла.
Только лампочка тоненько тянула жалобу, да ночь мутно глядела в окно, и
все та же, никогда не оставляющая, дума лежала на обветренном, заросшем
бородой, лице мужика.
Нарушая тишину, безлюдье и неподвижный ночной покой, стукнуло сна-
ружи кольцо, послышались голоса, окрип шагов по снегу, и в горах много-
голосно откликнулись ночные голоса, слабея и замирая.
Мужик перестал месить, поднял голову, прислушался и стал счищать
с рук налипшее и падавшее кусками тесто. Кот проснулся и навострил уши.
—
Ты, Ехвим?
—
Я... отворь!
Дверь отворилась, и вместе с клубами холодного воздуха вошел плечи-
стый, с ухватками лесного медведя, парень с голым, безбородым, безусым ли-
цом. За ним, толпясь, стали пробираться другие, заполняя маленький
чуланчик.
—
Во, народу навалило.
Хозяин крякнул.
—
Э-эхх!.. а у меня дела, — и почесал в затылке.
—
Что?
—Жена родит.
—
Ну-у? Что так рано?
—
Да рано... так мекал две недели еще, а она во, не спросилась.
Парень тоже снял шапку и поскреб голову.
—
Эк ты!., куды жа мы теперича?., народ... гляди, сколь пёрли, заму-
чились.
—
Чево стаж?..
—
раздалось из задних рядов, толпившихся перед
дверью.
Хозяин подумал.
—
Ступайте в холодную... и рад бы; сами видите, какие дела...
—
Ну, ничего, не будем1 раздеваться, миром дьгхать станем, обогреем...
чайничек поставить можно?
—
Чайник можно, все одно бабе воду буду греть.
Все повалили из чуланчика в холодную половину шоссейной казармы.
Дыхание тонким паром- носилось в воздухе и играло- радужным ореолом
вокруг принесенной лампочки.
В углу навалены лопаты, кирки, топоры, массивные ломы, опрокинуто
несколько тачек.
Принесли доски, положили концами на обрубки и стали располагаться,
усталые, мокрые и довольные, что добрались.
—
Сказывал до царства небесного долезем, ют и долезли.
Когда вскипел чайник, и все, взяв по крохотному кусочку сахара, во-
оружились, кто потускневшим* от времени стаканом, -кто таким же почер-
нелым блюдцем, кружкой, а то и поржавевшим жестяным черпаком от воды,
стада дуть на дымящийся кипяток, прихлебывая и обжигаясь, — в угрюмом,
холодном и молчаливом до того помещении совсем1 повеселело.
—
Стало быть, зять письмо* получил от свово брата с войны. Пишет,
так что сам -видал: в отдельном -поезде везут нашего енерала в Питербурх,
и он прикованный целями в вагоне, и рука прикована так вот, как присяге
когда приводят, — рассказчик поднял правую руку, сложил два пальца и
среди молчания подержал некоторое время, — а возле, стало, него куча зо-
лота, стало быть, японские деньги. Ей-богу, не вру.
—
Накрыли?
—
Знамо дело!..
- Протить негде — одни деньги... Сам сидит по- колено
в золоте, а рука прикована, как на -присяге...
—
Оххо... ооох... ооо. Царица небесная... Матушка! — глухо и скорбно
проникало из-за стены.
—
Вот и хорошо, пару-другую генералов наших купят, нам прибыль.
—
В Рассей подати* перестанут брать.
—
Нам меньше отседа высылать придется домой.
—
Здорово!
—
Держи карман шире. Тоже не дураков нашли. Она, сказывают, Япо-
ния косоглазая, сколько милльенов тыщ уже с нас взяла. Начальство-то наше,
сказывают, скоро в лаптях пойдет.
—
Как наш брат, мужик.
—• Не пр'изначишь, чи генерал, чи. м -ужик.
—-
Ванька, кабы не прошиблись, т-ебя за генерала не обознались.
Ванька, распаренный, красный, с капельками на ресницах, на носу,
выкатив глаза, сложив трубой губы, с шумом втянул воздух, и дымившийся
кипяток разом исчез с блюдца*, стоявшего перед губами на трех пальцах. Он
перевернул блюдце, положил крохотный огрызок сахара, размашисто пере-
крестился и, обернувшись, бросил крепкое, забористое словцо.
Все засмеялись.
—
По-енеральски.
—
Чисто генерал, и спереду и сзаду.
Те, кто заморил червяка, сплеснув, передавали посудину и огрызок са-
хару дальше. Было человек тридцать — каменщики, плотники, -ремесленники,
несколько человек из местного завода, сторожа шоссейных казарм, черно-
рабочие.
Ремесленники и заводские, щуплые и мелкие ростом, бойкие, подвижные,
в сапогах дудкой, говорили бойко, много, споро, вставляя «ералаш», «безобра-
зие», «ерунда». Чернорабочие и шоссейные — кряжистые, неуклюжие, в лап-
тях, малоречивые, с деревенскими оборотами, наивные своей нетронутой
силой.
Маленький человечек, подмастерье из портняжной мастерской, с тон-
кими, слабыми ют постоянного сидения поджавшись на катке, ногами и, как
писанка, пестрым веснушчатым лицом, залез на опрокинутую тачку и тонким
голосом торопливо прокричал.
—
Товарищи!., вот мы собрались... братцы!., потому жизнь рабочего че-
ловека... так сказать трудящегося люду... потому что, что мы видим?., эконо-
мическое производство капитализма производит буржуазию и кризисы,
а буржуазия и общественный строй — сила, захочет — купит, захочет —
продаст, захочет — дом: выстроит... а куда нашему брату, пролетарию... по-
тому собственно одна голая эксплоатация... хозяин, который на готовых хле-
бах, спит себе с женой или брандахлыстает по театрам да по трактирам,
а, между прочим, рабочий человек когда отдыхает? когда свое семейство
видит? какие радости видит?.. Товарищи, в виду всего этого... единственная
возможность... потому, вспомните веник: раздергай и весь по прутику ломай,
а свяжи,—попробуй-ка переломить'
Он отер зажатым в руке в комок платочком1 выступивший от горячего
чая и внутреннего напряжения пот ка лице и лбу, радостно взглянул на всех,
хлебнул воздух, и, прислушиваясь к важным и торжественным мыслям в го-
лове и ища для них и не находя старых и не справляясь с новыми словами, он
начал снова высоким фальцетом:
—
Братцы, счастье наше в наших руках!., оглянитесь, сколько нас
голодных... и все это—эксплоатация, и все это—"народ... пролетарий... ведь,
ежели все да встанут... все до единого человека, что будет?., товарищи, крик-
немте же ура: пролетарии всех стран, соединяйтесь!»...
Точно радостное похмелье разливалось по всему его тщедушному телу,
пробиваясь на бледных щекаіх непривычным румянцем; Все эти новые понятия,
новые слова,
«буржуазия»
вместо'
«хозяин»,
«эксплоатация»
вместо
«кровь нашу пьют», «пролетарии всех стран, соединяйтесь» вместо «ребята,
не выдавай» — ворвались в его серую, замкнутую жизнь, жизнь изо-двя в день,
которую он проводил, поджав ноги на катке, ворвались чем-то праздничным,
ярким, сверкающим и огромным. И хотя эта серая, скучная жизнь все так же
серо, монотонно тянулась, над ней, как утреннее солнце, заслоняя жестокую,
неумолимую действительность, каторжный труд, стояла радость ожидания ог-
ромного, всеоб'емлющего счастья грядущего освобождения. •
В молчании и неподвижной тишине слушали тяжело и трудно этого
маленького человека с востреньким носом и тонким голосом.
Бородатые, обветренные, изборожденные лица были неподвижны, и было
на них что-то свое, давнишнее и старое, не пускавшее в глубину сознания
эта новые, странные и в то же время близкие в своей новизне и непонятности
слова и мысли. Молодые, безусые, как соколы, приготовившиеся лететь, не
спуская глаз, с напряженным ожиданием глядели на говорившего товарища.
Некоторые из них прошли уже школу известного политического воспитания,
и эти чуждые массе слова, обороты и термины соединялись более или менее
ясно с определенными понятиями, но каждый раз все же звучали ново и при-
зывающе на что-то сильное, большое и захватывающее.
Хозяин то входил, то выходил и теперь стоял опершись о притолоку,
точно подпирая стену, нагнув голову и глядя исподлобья. И все та же одна,
не сходящая с лица, дума лежала на нем.
Кто-то кашлянул. Переглядывались, ожидая, что еще будет. Все свое
тоненько и заунывно тянула лампочка.
С впалой грудью, с втянутыми щеками и длинными морщинами на лбу
вышел слесарь. Он был не стар, а пальто и сапоги были стары, потерты и
рыжи. Он постоял, расставив ноги, сутулый, шевеля черными от масла и
железа пальцами, и вдруг густой, какого не ожидали от него, с хрипотой
голос наполнил казарму:
—
Все на свете меняется, одно, товарищи, не переменится — рабочий
люд, — как был, так и есть гол, как сокол, ни кола, ни двора, один хребет да
руки мозолистые.
—
Правильно, — сдержанно и уірюмо отозвались голоса.
—
О-о-хх . .. ох-ох... ооохх... Мать божия...— тускло и слабо, все же
пытаясь напомнить о себе, проникало скозь стену.
—
Была прежде барщина, теперь барщины нету, ну, что ж, легче стало
народу? как не так! все одно: гни спину по четырнадцать часов в сутки, да
виляй хвостом перед хозяином.
—
Куды-ы!.. легче! кабы не так... по миру идет народ...
—
Край приходит, рази жизнь?., могат
И в пустом, с холодными стенами, помещении шевельнулось что-то жи-
вое, беспокойное, понятное и близкое всем.
—
Так вот, братцы, речь о том, чтобы помочь рабочему люду. Кто ж
ему поможет? не хозяева ли да подрядчики?
—
Помогут! подставляй шею...
—
Жмут они нас, аж сок из нас бегать...
—
Ну попы, может?
—
Тоже... им что! -отзвонил, да с колокольни долой...
—
Ему хабаров набрать, больше ему ничего не надоть...
—
Карманы у них, что твоя мотня, мотаются...
—
Ну так полиция, может?
—
Гляди, эта зараз поможет... Вот, брат второй месяц в больнице.
—
Что?
—
Да помогли... с подрядчиком зарезонился, не доплатил, вишь, — ну,
в участок... теперь ребра заращивают дохтора...
__
—
Так вот, братцы, куда же деваться? на- кого понадеяться?
—
На гроб надейся, больше ничего.
—
В могилу закопают, вот и спокой... тогда все хозяева добрые станут.
И, точно ветер тронул, закачалось, заговорило поверх леса, подержался
над толпой говор укоризны и насмешек. Но и этот говор как бы говорил:
знаем мы это... давно знаем.
—
Э-эххх ввы!. —
тяжелым комом кинул слесарь: — овечье стадо...
козлы отпущения... вас гни, вы кланяться будете да благодарить...
—
Не лайся... что лаешься!..
—
Сам—из Козлова царства...
—
Да што, не правда, что ли? — выкрикнул, раздув ноздри, блестя рас-
косыми глазами мастеровой, в сапогах дудкой и с вытянутой, как у зашипев-
шего гусака, шеей. —
Вон у нас сорок дён стачка была... с голоду пухли...
жена в ногах валяется: «брось».,
у ребят голова не держится, в повалку
лежат... руку бы свою вырвал, сварил... вот... а добились своего, а то
моги-ила!..
—
Тебе хорошо... вишь сапоги-гармония... продашь — восемь целко-
вых, месяц и сыт, а на нас лапти, — угрюмо протянул грязную, обвитую
веревкой по онучам ногу, шоссейный.
•— Не украл... слава те, господи, не доводилось еще... я, брат, их зара-
ботал... во, соком...
—
Стой, ребята, помолчите...
—
Товарищи, не об этом речь...
—-
Это все одно, как у нас в Панафидине... приходит единожды по-
номарь...
—
Помолчите...
—
Братцы, ведь мы все пролетарии, — остро выделяясь из всех голосов,
зазвенел тонкий голос, — все пролетарии, а пролетарии всех стран, соеди-
няйтесь!..
И он оглядывался, ловя блестящими глазами глаза товарищей.
—
Я и говорю, — вдруг снова покрыл всех густой голос, и все голоса
смолкли, — я и говорю, овца, когда с нее шкуру дерут, только мемекает,
а мы — люди. Ежели будем по-овечьи, так и дети, и внуки, и правнуки наши....
Поэтому надо дружно стать всем да не в розницу...
Он с минуту молча оглядел всех. Все слушали и глядели на него.
—
Да ведь понимать надо, за что стоять, чего нужно- добиваться, в чем
спасение рабочего люду...
—
вдруг неистово заорал слесарь: — Бурдюги про-
клятые!.. вот, как собаки, перли сюда по ночам... темь, того и гляди голову сло-
мишь, а почему?., что ж нам о своих делах поговорить нельзя?., как воры...
да ведь люди- мы!., а соберись, зараз за шиворот... бедность заела, хозяева
давят, а на-м нельзя собраться поговорить, обстроить свою судьбу, нас таскают,
избивают по участкам, гноят в тюрьмах, гонят в Сибирь... А от кого это все?.,
ну... пони-маете вы... чего нужно рабочему люду?
Тяжело злыми глазами обвел он всех, торопливо шевеля черными от
масла и опилок пальцами. И среди выжидающего молчания раздался голос:
—
Землицы бы...
В ту же секунду дрогнули- самые стены.
—
Земли... земли!..
—
Наделы нарезать...
—
...
потому земля...
•—
...
кормилица...
—
...
без нее, матушки...
—• . . . куды мы без земли... бездомники...
—
...
семейство, его и не видишь, так и бродишь, как Каин, по чужой
стороне...
Красные, мгновенно вспотевшие лица со сверкающими глазами поми-
нутно оборачивались друг к другу, гневно ловя несогласно мыслящих, тянулись
руки, сжимались кулаки, дергали друг друга за плечи. Не помещаясь в тесной
и низкой казарме, стоял ни на минуту не ослабевающий гул разорванных
голосов, в котором совершенно тонули пробивавшиеся из-за стены стоны.
Точно всплывая в водовороте, оторванно выделилось:
—
Да ты трескать будешь ее, землю-то?
—
Панов покрываете...
—
Голыми руками...
—
Все одно, и с землей сожрет барин да начальство...
—
...
она, матушка, все сделает, все произведет, всем хорошо будет...
•— Вошь земляная... тида!..
—
Да ты, сволочь, старуху обобрал, с которой живешь... все знают...
—
Брешешь!..
—
Помолчите!..
—
А вон у нас как по восьминке на душу...
—
Товарищи!..
—
Братцы пролетарии!..
Хозяин, опершись одной рукой о косяк, другой колотил себя по ситце-
вой рубахе на груди:
—
Десять годов... во... как дикой... сладко, што ль...
Понемногу гомон затихал, и стало слышно:
—
...
о-о-о .. . охо-ооохх...
—
Десять годов бьюсь... зимою во... снегом занесет под крышу, голоса
человеческого не слыхать, так и сидишь... а все зачем? все об одном: вот, вот
сколотишься, соберешь... сколько детей, кажного знаешь, так копейку, ее
кажную знаешь, кажную помнишь... с потом, с кровию, с мясом... а все
зачем?., все об одном... день и ночь... хоть бы четыре десятинки... в веч-
ность... земля-то у нас, господи, боже ты мой!..
Он со страстью, с разгоревшимися глазами бросал кому-то путанные,
неясные, но полные для него всеохватывающего, всеоб'емлющего значения
слова. Десять лет гнездится он в этих безлюдных горах. Рождались и умирали
дети, похоронил одну хозяйку, взял новую, сила не та, поясницу ломит,
старость подбирается, а кругом все те же молчаливые горы так же, как и в
первый момент, равнодушно стоят и не выпускают его, и он дробит булыжник,
ровняет для кого-то ненужное ему шоссе и не знает, когда придет его черед
крестьянствовать,
Дикие, обезумевшие, животные крики ворвались, опрокинув здоровые
мужицкие голоса, из-за стены. Хозяин кинулся к двери.
Среди разбившегося неровного гула голосов вырастал хриплый голос
слесаря. Он со злобой бросал ядовитые, язвительные слова, вставляя неписан-
ные выражения.
—
Задолбили... кабы можно, всю землю забрали, я б и сам в первую
голову... да то-то вот, которые все земли дожидаются, давно без порток хо-
дят, а вон он земли не дожидает, вишь — сапоги гармонией... потому гужом
друг за дружку, а не как вы, как баранье стадо, куда вас гонят, туда и идете
все мордой в землю... э -хх, остолопинье!.. Вон Митрич десять годов из казар-
мы не выходит, все землю дожидает, тут и сдохнет, и отец его сдох, пухлый
с голоду, все дожидался... кабы понимали, анафемы!..
Он ненавидел эту толпу, ненавидел острой, модной ненавистью фана-
тика. Лет двенадцать скитается он из города в город, из мастерской в мастер-
скую, с завода на завод, перебиваясь и голодая с семьей и всегда пользуясь
вниманием полиции. И каждый раз, когда, высланный, он снова пристраивался
и попадал в рабочую толпу, его опять охватывала ненависть, едкая, жгучая
ненависть к этому непроходимому, самопожирающему непониманию и тем-
ноте. И его агитация состояла в том, что он жгуче, отборно клеймил своих
слушателей. Иногда подымался протест, но большей частью покорно сносили
брань и уходили со сходки, унося конфузливо в душе зерно просыпающегося
сознания.
И теперь угрюмо и молча слушали этого лохматого, черного человека,
такого же закорузлого, мозолистого, покрытого морщинами трудовой жизни,
как и они сами. И если они не отказались от того, что было так же неизбежно
и неуничтожимо для них, как жизнь и смерть, то впервые за всю жизнь
в цельном, нетронутом, как гранит, представлении «землица» что-то надтрес-
нуло тонкой, недоступной глазу трещиной.
—
Зачем: мы тут!., на кой дьявол возимся с вами... да пухните себе,
оголтелые черти, пухните с голоду, и чтоб вас били до второго пришествия
в морду, в брюхо, в шею... чтоб вас запрягали в дроги и ездили на вас бес-
перечь полиция, паны и все псы их дворовые... чтобы вас на веревке водили
за шею, как рабочую скотину... чтоб...
—
Тю, скажёный!..
—
На свою голову...
—• Чтоб ты сдох!..
Огонек лампочки побелел, и в углах уже не лежала тьма. Все выступало
без краски, серое, но отчетливое. Прильнув к стеклам; пристально глядело
в окно мутно-матовое, все больше и больше светлевшее. Из-за стены не
доносилось ни звука.
—
Теперича бы выспаться.
—
Выспися... цельное воскресенье.
—
Стало, как в швейцарском королевстве. Там, братцы, народ преде-
ляет. Скажем...
Крестьянин и рабочий. Ч. II.
15
Дверь распахнулась, показался хозяин с засученным» рукавами. На
перекошенном лице дергалась улыбка, прыгала борода:
—
Бог сына дал.
—
А-аа!..
—
Вот это хорошо: работничек в дом.
—
Дай, господи...
—
Поздравляем... дай, господа, благополучие... и чтоб вырос, и чтоб не
по-нашему, а зычно да гордо: сторонись, богачи!..
И в казарме постояло что-то свое собственное, независимое, и всем
почудилось, точно теплый маленький комочек коснулся сердца.
Ш.
Когда вывалили из казармы, совсем рассвело. Неподвижно и важно сто-
яли сосны. Белел снег.
От самых ног необозримо тянулась белесо-молочная равнина тумана,
изрытая, глубоко и мрачно зиявшая черными провалами. Не было видно ни
города, ни долин, ни лесистых склонов, ни синеющей дали, только холодно и
сурово зыбилась серая пелена, бесконечно клубясь и волнуясь. Стояла точно
от сотворения мира ненарушимая тишина, и человеческие голоса одиноко,
слабо и затерянно тонули в ней...
—
Как же спущаться будем: ничего не видать внизу!..
—
А ты не спускайся.
—
Не жрамши?
«Ге-эй, га-алочки, чу-у-ба-рочки»...
—
Вот, братцы, семь годов в городе живу, никогда не видал этого...
равнина, а? будто в церкви, и будто кадила, и дым плавает, а?., семь годов...
—
Когда б могла поднять ты рыло...
—
Ванька, подари сапоги... ах, сапоги!
—
Рылом не вышел... и в лаптях хорош...
«Вставай, по-двмиа-а -айся, ру-усоский нарррод!»...
.. . «народ... рооод... оод»...
—
«Встава-ай на вра-га, брат-ат го-ло-од-ны-ый!»... —дружно подхва-
тили молодые голоса, и над все так же чуждо, сурово и равнодушно волную-
щейся равниной поплыло, теряясь умирающими отголосками:
«... а -а -аат оооо-оодны-ы . ..».
—
Товарищи, кабы да отсюда, да гаркнуть всему рабочему люду, да
так, чтоб по всему миру слыхать было: «пролетарии всех стра-ан, со-еди-
няйтесь!..».
«...аааа. . .аа. . .аай...».
Когда спустились в полосу тумана, за сапоги снова стала хватать тя-
желая липкая грязь, каждый видел в молочно-мутной мгле спину идущего впе-
реди товарища, и отовсюду беззвучно капали с невидимых ветвей холодные
капли.
А. Серафимович.
СЦЕПЩИК.
I
Впрочем, Макар об этом не думал, не задавался такими вопросами; он
просто в шесть часов становился на дежурство, потом к концу 24 часов де-
лался идиотом, потом, дотащившись до своего смрадного, тесного; темного,
а зимою холодного вагона, падал, как сноп, и засыпал тяжелы» сном, потом
просыпался и, если были деньги, напивался пьян, если же их не было, са-
дился чинить себе сапоги, ребятишкам и жене башмаки. Все это он про-
делывал потому, что у него было пятеро ребятишек, жена, отец и теща, и
все они, к его глубокому прискорбию, ели аккуратно каждый день.
Свою семью, ребятишек он любил по-своему. Если бы кого-нибудь из
его ребят задавило вагоном или искалечило, он извелся бы от горя, а тому,
что они хирели от плохой пищи, нищеты и тяжелой обстановки, он не при-
давал никакого значения.
Пил Макар потому, что это была его единственная услада. Кругом была
степь, на много верст безлюдная, и изредка лишь попадались казачьи ху-
тора. Но он дальше своего железнодорожного полотна нигде не бывал. Возле
раскинулся небольшой поселок. В конце его стояла покривившаяся землянка,
где Семеныч тайно торговал водкой и принимал в заклад носильное платье, и
куда Макар нередко заглядывал.
И.
—
Номер триста двадцать шестой, триста сорок девятый...
—
Есть.
—
Пятьсот восемьдесят первый, сто седьмой, — монотонным привыч-
ным голосом читал составитель поездов по бумаге, которую ему выдали
в конторе, номера вагонов, которые он должен был включить в поезд.
—
Есть, есть, — отвечал Макар, загибая на закорузлой руке пальцы.
—
Двести одиннадцатый... У Емелъяныча вчера здорово дрызнули.
—
Есть... Здорово? Небось четверть сожрали?
—
Девяносто пятый, да на карьер под песок две платформы... Чет-
верть! четверть и не полахла. Опосля я две бутылки да Миколай две.
—
Платформы-то я в хвост поставил... Миколка здоровый пить;
в складчину с ним нельзя: не оглянешься, а водки уж нет.
—
Да пусть на второй путь отцепят, чтоб грузить сейчас... У Ми-
колки-то, ушли мы, водка загорелась: бабы прибегали, сказывали, конским
навозом с водой отпаивали, не знаю: отошел ли, нет ли.
—
Сумлеваюсь я только, кабы девяносто пятый дорогой не заболел, не
надежен... А что бабы, так оно как бабье царство есть, так и останется:
у человека водка в нутре загорелась, а они его навозом. Мыслимое ли дело!
Первое средство, ежели у тебя в нутре загорелась водка, купи бутылку, и
как ни міоги скорей, выпей, тут же тебе и зальет все.
Макар сосредоточенно посмотрел на вагон, потом себе на сапоги, и
похлопал их флажком.
—
А надысь у меня загорелась, денег не было, — сбегал к Семенычу, са-
поги новые продал, ну, значит, и утушил; как выпил еще бутылку, она за-
млела, а то бы помереть мог.
Макар разочарованно поворачивал свою ногу, на которой, как зубы,
выглядывали грязные пальцы сквозь дыры сапога.
—
Эти совсем прохудились.
—
Часто она у тебя горит что-то, гляди, кабы тебе совсем не про-
гореть.
—
Не, это без шуток, первое средствие...
—
Ну, айда! Слышь, зовет.
Паровоз действительно давно и настойчиво свистел. Макар торопливо
пробежал к дальним* вагонам, начиная уже с усилием вытаскивать из песка
ноги. Тени от домиков, от вагонов, от телеграфных столбов стали короткими,
солнце подымалось -все выше и выше и жгло, воздух струился.
Кругом все то же: полотно, усыпанное песком, рельсы, шпалы, стрелки,
семафоры и вагоны, вагоны без конца.
И опять бегает по песку Макар, пролезает под буферами, цепляет
крюки, машет флажком, посвистывает, переводит стрелки. Отщипывает по
кусочку хлеб и запихивает на-бегу в рот, хочется поесть, и* некогда присесть,
а до вечера еще далеко, и впереди — долгая, долгая ночь.
III.
Служащие на железной дороге распадаются на белую кость и черную.
К первым принадлежат машинисты, помощники их, механики, вообще искус-
ные рабочие, ко вторым — стрелочники, сцепщики, сторожа, составители. Пер-
вые зарабатывают шестьдесят, восемьдесят и даже до ста рублей в месяц,
вторые получают от 8 до 25 рублей. С первыми начальники станции и всякое
другое железнодорожное начальство обращаются не то, что по-человечески,
но все же терпимо, вторых всячески заушают, не считая за людей. И Макар
по отношению ко всем чувствовал себя так, как вообще чувствуют себя
«макаіры», на* которых валятся все шишки. Всякого начальства он боялся, как
огня. Но жить постоянно в страхе, всегда сознавать себя меньше и ниже
других — для человека невозможно. Он всегда ищет тех, кто стоит еще ниже
его, над кем он может проявить свою власть. Макар тоже искал* этого*, но
не находил, и только*, когда возвращался домой, чувствовал себя господином:
кричал *на жену, под пьяную руку и бивал и награждал ребятишек колотуш-
ками.
С машинистами, с которыми приходилось работать, Макар обращался
заискивающе, они же, всегда угрюмые, смотрели на него свысока. Вот и
теперь он подошел -к Неистово шипевшему номер семьсот тринадцатому и
проговорил заискивающе :
—
Скоро, Карла Иваныч, воду брать пойдете?
Дело-то в том, что, когда дежурный паровоз брал воду, сцепщик мог
эти несколько минут отдохнуть, и Макар давно ждал этого момента. Но
Карл Иванович сердито пробурчал:
—
Когда пойдем, тогда и будем брать.
И опять стал бегать Макар от вагона к вагону.
Стало вечереть. Длинные косые тени потянулись по земле. Страшно
долго тянется время при такой работе, а когда оглянешься, не заметишь, как
и день прошел.
Карл Иванович, наконец, пошел брать воду. Макар влез на площадку
вагона, достал краюху хлеба, ржавую «душистую» тарань и стал закусывать,
обгладывая все до последней косточки. Теперь он позабыл и работу, и де-
журство, и всю окружающую обстановку, и исключительно был занят своей
таранью, с которой меланхолически вел разговоры, поглядывая на следы,
которые оставляли на ней его зубы.
—
Ишь ты ведь какая: просолела вся, а пахнешь. А што ж это, пра-
вильно што ль? Уж ежели соль, то она должна все выіиеть, тоисть, значит,
всякую дрянь, и пахнуть тебе, значит, не зачем. А то на какой же ляд тебя
солить, проваляли бы так, и делу конец.
И Макар опять вопросительно поднес к носу таранью голову и потянул
носом, но тарань все-таки пахла .
—
Нет, без всякого разумения рыба, прямо сказать, ледащая рыба,—
и он, безнадежно махнув рукою, с треском разгрыз таранью голову.
Вдали засвистел паровоз.
—
Ну, напился жеребец.
Макар подобрал крошки, вытер усы, покрестился несколько раз, надел
шапку и побежал к паровозу. Тяжело было бежать, впереди еще двенадцать
часов...
IV.
Стало смеркаться. Видит Макар, из депо вышел один паровоз, за ним,
•немного погодя, другой, — остановились. Машет на переднем паровозе что-то
.Макару машинист, но Макар не обращает внимания, со своим делом еле
управляется.
Смотрит, опять машет машинист и кричит:
—
Ты что же, оглох что ли! докудова дожидать-то будем.
—
Чего надыть?
—
А того надыть — паровозы сцепи, просить тебя...
—
Чего пристали, старший стрелочник-то' на что? Мне что' ль за этим
•смотреть, своего дела не оберешься, а тут еще чужое суют.
Макар уцепился за тронувшийся свой паровоз; надо было «больные»
вагоны из поезда выключать.
А машинист все ругается, грозит жаловаться начальнику. Видно, как
он слез с паровоза и пошел к станции, на платформе подошел к дежурному
по станции помощнику начальника и стал говорить ему что-то*. Минуты через
две окликнули Макара. Макар торопливо прошел на платформу к дежурному
по станции и снял шапку.
—
Ты что же это паровозы* не сцепил?
—
У меня свое дело было, выключаем больные вагоны, а из депо* всегда
старший стрелочник выводит, он и сцепку делает... Вы ничего не изволили
приказать, я и не знал...
—
А-а, не знал!
Помощник начальника размахнулся и... бац. Кулак у него был большой,
костлявый и волосатый, голова Макара сильно мотнулась в сторону, лицо
смертельно побледнело и обезобразилось, под глазами разбитое место налилось
кровью и посинело. Дежурный круто повернулся и ушел. По платформе хо-
дили жандармы, кондуктора. Все делали вид, что ничего не замечают.
Макар mm шапку, растерянно глядел кругом себя помутневшим взором,
постоял и потом тихонько пошел, забывая надеть шапку, к своему паровозу :
дело не ждало.
Снова надо было бегать по песку, пролазить под вагоны, сцепливать,
давать сигналы свистком, флагом, и Макар все это делал, и, казалось, ничто
кругом* не изменилось, но почему же эта едкая горечь и* боль томят душу?
Что особенною случилось? И разве у Макара попрежнему не было пятерых
детей, жеіны, тещи и отца, которые аккуратно ели каждый день? А раз это
остается попрежнему, значит и все остальное остается попрежнему, значит
ничего не случилось; значит надо бегать от вагона к вагону так, как бегал
третьего дня, как бегал все эти* десять лет.
И он продолжал бегать. Приходили и уходили поезда, станционная плат-
форма оживлялась и пустела, наступила ночь. В темноте труднее и опаснее
работать; раза два Макара едва не защемило между (сдвинувшимися буфе-
рами. Часам к двенадцати стал размаривать со*н. Глаза слипаются, походка
стала неверной, спотыкнешься или зацепишься, и конец. И борется с собой
Макар, борется с дремотой, дело ведь не шуточное, жить каждому хочется.
Ко чем ближе подходил рассвет, тем мучительнее становилось работать;
предутренний конец дежурства — самое тяжелое время. Стал цепляться Ма-
кар за рельсы, за шпалы, колени подгибаются, толкается о вагоны, и в го-
лове шумит и звон, с трудом и звуки стал разбирать: иной раз свистнет
паровоз, и не знает Макар, свисток это или так показалось ему. И все, что
кругом делалось, казалось Макару смутным и неясным, точно это был сон,
и давило его что-то, и хотел он проснуться, и не мог.
Видит Макар, не совладать ему с собой, все равно упадет где-нибудь или
повалит его вагоном* и зарежет. Чтоб дотянуть несколько часов до конца
дежурства, неизбежно приходилось прибегать к возбудителю, и Макар, улу-
чив минуту, поплелся в буфет. Плеская водку дрожащей рукой, он опрокинул
одну рюмку, другую. И тогда разом кругом посветлело, предметы стали вы-
пуклее и резче бросались в глаза.
—
Никак ноне с'ел, Макар? — проговорил, прожевывая, один из кон-
дукторов.
И вдруг где-то сидевшая в глубине горечь, едкое чувство обиды и по-
пранного человеческого достоинства, задетые неосторожным вопросом; про-
рвались нестерпимой болью.
—
Да што ж ты думаешь, он имеет полное право бить, значит, по
морде? Кто такие права ему давал? Таких правов нет. А ежели я да не
стерплю, а? Нет, ты скажи, ежели не стерплю я, а? ежели я да протокол
составлю, да в суд подам, а?
—
Не подашь, — спокойно догрызая рыбий хвост, проговорил) кон-
дуктор.
Это подлило масла в огонь. Макар вспыхнул.
—
Не подам? не подам? Нет, подам! потому правов таких нет, чтоб
морду бить людям. Что ж я не человек, скотина што ли? Собаку ткнуть
сапогом, и та визжит, а почему я должен молчать? Жандар, прошу составить
протокол! Протокол прошу составить насчет бою, т. - е., значит, в морду дал
дежурный по станции и разбил глаз.
—
Ну, будет, Макар, -— проговорил старший жандарм, подходя к нему
и фамильярно кладя руку на плечо. —
Ну, что толку, составишь протокол,
тебя же зараз и выгонят. Полинял что ли ты от этого, а что насчет глазу,
так это один пустяк: возьми свинцовой примочки на пятачок, завтра к обеду
ничего не будет. Да я и протокол составлять не буду.
Макар было уже согласился с доводами жандарма; но последние слова
взорвали его.
—
Как! протокола не составите! Что это за порядки! Господа, будьте
свидетели, господин жандарм не хочет протокола составить, что мне морду
избили.
Жандарм поморщился.
—
Ну, ступай в дежурную. На свою голову составляешь.
Протокол был составлен.
Опять бегает Макар, трубит в рожок, накидывает вагонные крюки и,
хотя с трудом, вытаскивает вязнущие в песке ноги, но кажется ему, что
»
ноги стали длиннее, выросли и шагали широко и уверенно. И кругом стало
веселей и просторней, весело накатываются и звенят буферами вагоны, ве-
село посвистывает где-то далеко впереди паровоз. Та горечь, ноющая
боль, что сверлила где-то в глубине души, пропала, и пропала она
в тот самый момент, как он своей закорузлой, черной от нефти и грязи,
дрожавшей от усталости, рукой вывел каракулями под протоколом: Макар
Чушкин.
Уже посерело небо, уже в редевшем сумраке стали: выступать невидные
дотоле дальние вагоны, станционные здания, депо, столбы телеграфные, водо-
качка.
—
Ма-ка -а-а-р!..— пронеслось в утреннем воздухе.
Макар приостановился:
—
Никак кличут?
—
Ма-ка -а-ар...
—
донеслось опять с платформы и потерялось между
станционными зданиями', между вагонами, которые были теперь все видны,
как та ладони.
Макар бегом направился к станции.
—
Иди, начальник кличет.
Держа шапку в руках, он робко вошел в комнату начальника. Тут же
был и дежурный по станции.
—
Ты протокол составил?
—
Я, ваше благор... это я, значит, так... для примеру только... я его
сейчас же порву, ваше благородие...—проговорил Макар, заикаясь, бледный,
как полотно.
—
Вон! Завтра получишь расчет!
Макар стоял, как громом пораженный.
—
Тебе говорят, сейчас же вон!
И начальник взял его за плечи, повернул и вытолкнул из комнаты.
Макар ничего не видел, не слышал, не соображал. Он механически пере-
шел через полотно и огляделся помутившимся взором- .
Солнышко взошло и стояло невысоко- над землей, утренние тени тяну-
лись от вагонов, столбов, землянок, станционных зданий.
Как и вчера зеленел могучий степной простор, синела даль и звучала
радостная «©слышанная песнь весны. Вдали маячили кибитки калмыков и по
степи гнали- табун лошадей. Над полотном в разных местах белым паром
курились парово-зы. Все было по-старому, но Макару казалось, что- он идет
с-реде развалин и кругом- лежат груды обломков.
Над депо белой струей вырвался пар, и гудок далеко зазвучал по степи.
Это теперь Макар покончил бы дежурство и отправился бы к себе домой.
А разве теперь он идет не домой?
Макар постоял с минуту на одном месте и пошел... к Семенычу...
V.
Через полчаса он вышел оттуда, качаясь во все стороны, точно- на
•
палубе во время шторма; прорванных сапо-гов на ногах у него уже не было.
И он направился к своему вагону, рассуждая сам с собой пьяным голосом:
—
Почему? в каком смысле? -морда, напримерыча... значит, чтоб бить
ее... Ты што такое? Сопля, тьфу, растер и нет ничего. И прр-равильио!.. на то
начальники, а ты -слухай его, и производи, какие распоряжения от него есть,
и не думай о себе много-.
Што такое, с'ездил раз? Это даже за честь почитай,
потому что они начальники тебе, т.-е . замест отца, стало быть. Тебя в морду,
а ты кланяйся ниже, благодари, потому для тебя же, дурака, для твоей же
пользы...
Хозяйка увидела издали- Макара.
—
Пьяный! головушка ты моя бедная! Ребятишки, бегите отсюда, вишь
руками размахивает, кабы драться не стал.
Макар, качаясь со стороны в сторону, точно его валяло то туда, то
сюда, босой, подошел и бессильно опустился на стоявший возле ящик с углем.
Хозяйка глянула ему на ноги и так и всплеснула руками:
—
И сапоги пропил! окаянная ты сила, с ума ты сошел, что ли? Вы-
мотал ты душу мою грешную, кровопивец, губитель ты, изверг ты наш не-
счастный. И наказал же господь каторгой! У людей мужики, как мужики: ну,
не без того и выпьют когда, да не тянут же из дому, а этот, что под руку ни
попадется, — все в кабак.
К удивлению Макар не только не бросился на нее бить за это, а за-
плетающимся, коснеющим: языком подозвал оробевших детишек и, обдавая
их запахом перегорелой сивухи, стал гладить по белокурым головкам зако-
рузлой, грязной в нефти, рукой:
—
Соколятки мои, поросяточки... н . .. ничего, привыкайте, набалованы,
каждый день ели... теперя привыкайте штоб, значит, с передышкой... потому
кажный день нам исть никак нельзя, не полагается, не туда рылом вышли...
н... ничего, попостите, ан привыкнете, до всего можно дойти, значит своим
умом... ежели человек умный, то он может исть через день там, скажем, али
через два, потому человек — создание божие, все он превзошел... Милые мои
соколяточк'и... глазеночки-то лупают, ничего не понимают,—и Макар ронял
пьяные слезы на лица притихших ребятишек.
Хозяйка стояла, как онемелая; она не знала, что случилось, но в сло-
вах мужа слышалось что-то грозное и неумолимое.
А. Серафимович.
под
уклон.
Дождь нопрежнему расплывался по стеклам; Поезд, видимо; шел под
уклон, вагоны стало качать, и они скрипели и кряхтели. Белевшие пятна
талого снега и телеграфные столбы проносились мимо с такой быстротой,
что их не улавливал глаз, и вдоль полотна мокрая от дождя земля сливалась
темной полосой.
Сумерки сгущались. Вошел кондуктор, зажег вверху свечу, и от си-
дений, от перегородок, от пассажиров легли, перегибаясь по углам, колеблю-
щиеся тени, скользя и двигаясь по стенке раскачивающегося вагона.
—
Что это такой ход быстрый? — обратился я к кондуктору, прохо-
дившему в другой вагон вправлять свечу.
—
Под уклон тут идем, поезд громадный, товаро-пассажирский, так
за нами тридцать две штуки товарных вагонов груженых, кроме пассажир-
ских, ну и напирают, паровоз-то не осилит, накатываются на него, вот и
летим.
Впереди потянулся жалобный звук паровозного свистка, уносимый вет-
ром и заглушаемый дождем и гулом поезда. Маленький паровозик жаловался
на темноту, на непогоду, на непосильный груз, который на сотнях колес
катился позади* и накатывался, и он ничего* с ним не мог поделать, он жало-
вался и просил помочь тревожными прерывающимися свистками. А под полом
в свою очередь вагонные колеса, сбиваясь, путаясь и перебивая друг друга,
торопливо говорили*: «и мы не поспеваем... сил нет... вагоны качаются... вот-
вот сорвешься с рельса... буксы разогрелись... искры сыпятся... быть беде!.,
трах-трах-трах... трах-трах-трах!..» . И этот призыв о* помощи среди надви-
гающейся дождливой ночи, и тревожный говор колес вселяли беспокойство.
—
Дуем, братцы, здорово, — проговорил фабричный, запихивая в кар-
ман гармонию.
Мужик снял шапку и стал сосредоточенно и не спеша креститься. Ку-
пец тревожно оглядывался.
—
Что же это? Куда кондуктора подевались? Умеют только зайцев
возить. Что же это такое?.. Надо на станции заявить начальнику.
—
Да, заявишь, как тебя прищемит, да кишки выпустит, — вызывающе
бросил рабочий.
—
Все под богом ходим, — проговорил мужик и, полагая, что доста-
точно накрестидся, надел шапку, спокойно уселся и снова уставился в пол.
Среди ночи опять потянулись в голове поезда жалобные, тревожные
призывы о помощи, уносимые ветром. Жуткое ощущение близости беды
охватывает меня, и я, сохраняя внешнее спокойствие, подымаюсь и напра-
вляюсь к двери, чтобы выбраться на площадку, но в дверях сталкиваюсь
с кондуктором.
—
Не извольте беспокоиться, вы лучше, господин, сидите: там, в слу-
чае чего, перво-на -перво... ежели вагоны сойдутся, — утешает он меня, и
я опускаюсь на свое место.
Кондуктор садится против на лавочке, прислоняется головой к стенке
вагона и начинает дремать.
—
Чего он все свистит? — говорю я, чувствуя, что задаю нелепый во-
прос.
—
А это, чтобы вагоны тормозили вручную; ну, только тормоза не
держат, старые.
Он помолчал немного и добавил:
—
Закругление... место скверное.
Опять холодное ощущение ожидания томит душу. Мне хочется раз-
говором подавить это тягостное состояние.
—
Вы давно служите?
Кондуктор нехотя подымает отяжелевшие красные веки:
—
Шестнадцатый год пошел с февраля, — и опять закрывает глаза.
Его добродушное веснушчатое спокойное лицо* ободряюще действует на
меня.
Купец, прислушивавшийся к нашему разговору, вдруг заволновался:
—
Да что же это такое? отчего же меры не принимаются? ты чего же
тут спишь? — накидывается он на кондуктора. —
Зайцев вы молодцы возить,
а вот насчет чего другого прочего, чтоб, значит, пассажиру удобства доста-
вить, об этом вы и в ус не дуете.
Купец, собственно, хотел сказать о мерах, чтобы предотвратить кру-
шение, но из суеверного страха перед словом «крушение» заговорил об удоб-
ствах публики, Кощуктор улыбается полу-виноватой, добродушно-наивной
улыбкой.
—
Как же быть? Мы тут не причинны, господин купец, нам какой со-
став дают, с тем и поезжай... Вагоны старые, тормоза не держат, нас об этом
не спрашивают... Да вы не извольте беспокоиться, зараз с этой горы с'едем,
там ровно пойдет.
Он немного помолчал.
—
А насчет зайцев, вы, господин купец, напрасно, ведь их-то нам не
сладко возить. Его везешь, а сам не знаешь, завтра будешь служить или нет,
'контроль — вот и готов, на улице с семьей. И все-таки возим. А почему?
Он уставился на купца своими добрыми голубыми глазами, мигая крас-
ными веками:
—
Волк, скажем, зверь, и тот, как голод прижмет, прямо на жилье
лезет, на человека, и знает, что убьют, а сам лезет.
Купец сердито отвернулся, неодобрительно строго покачивая головой.
—• Вы семейный? — спросил я.
—
Семья, — проговорил кондуктор, добродушно улыбаясь, — шесть
человек.
—
Учатся?
»
—
Учится один старший, на всех-то нехватает, а старшего учу.
И вдруг по его веснушчатому лицу расплылось радостное, светлое вы-
ражение, и от утла сузившихся глаз побежали: морщинки, как будто человек
сдерживал себя, чтобы не высказать постороннему что-то необыкновенно' ра-
достное и огромной важности.
—
Учу я его, в люди хочу вывести.
И, придвинувшись и наклонившись ко мне, проговорил, улыбаясь гу-
бами, лицом, глазами, — всей своей фигурой, и высоко поднял брови:
—
В гимназии, во втором классе.
Чтобы не обидеть человека, я удивился и спросил:
—
Вот как, в гимназии?
—
В гимназии, во втором классе, — повторил он выразительно, подняв
правую бровь и глядя на меня с восхищением, — во втором классе, шесть
классов осталось. Теперь у них третья четверть кончилась, — продолжал он
таинственно, перестав улыбаться, и погрозив пальцем, как будто сообщал это
под большим секретом. и был уверен, что это между нами останется.
Он вздохнул, казалось, от избытка волновавших его чувств и переложил
ногу на ногу.
—
Вот приеду с наряда, узнаю... Кто его знает как... благополучно ли,
нет ли. Строго у «их, ух, строго!
Мы помолчали немного.
—
Трудно нам в нашем положении; — заговорил он, видимо желая про-
должать разговор о близком: его сердцу предмете, — трудно воспитывать
детей.
—
Он достал завернутый в бумажку порошко'образный табак и, подбирай
все крошки его, осторожно стал крутить папиросу.
—
Сколько я этого зайца поперевозил, пока приготовил Ванятку в гим-
назию, — уму непостижимо. Самому удивительно, как я до сих пор на службе.
Зато, как стал он учиться, земли под собой не слышу. Билеты отбираешь
ІВ поезде, с пассажирами резонишься, а самому все представляется, как Ва-
нятка в класс идет: на горбу ранец, на голове форменная фуражка. Весь
свет особенный стал. Рапортуешь начальнику, а он по-особенному смотрит,
так вот будто и хочет спросить: «ну, что, отдали сына?»... Да, вот кончается
первая четверть, зовут меня в гимназию...
Мой собеседник поднялся на лавку, вытащил из фонаря над дверью
свечку, закурил, снова вставил свечку в фонарь и сел против меня, затяги-
ваясь, пуская дым в сторону и разгоняя его по воздуху рукой, чтоб он не
беспокоил меня. Вагон теперь шел спокойно и ровно, под полом
слышался обычный говор колес, в окна глядела ночь, пассажиры дремали,
свесив головы.
—
Кончается первая четверть, зовут меня в гимназию. Прихожу. До-
жидался, дожидался в передней, все ноги отстоял, все просители, какие были,
все прошли, а я стою. Наконец позвали. Подымаюсь за швейцаром, показал
он дверь, вхожу, за письменным столом директор сидит, строгий да суровый.
Вытянулся я у притолки. «Черемисов?» говорит. —
Так точно. —
«В кон-
дукторах, говорит, служишь?». —Так точно; — «Твой сын, говорит, у нас
в первом' классе учится».
—
Так точно, говорю, ваше превосходительство.
Он — действительный статский советник. Ну, хорошо. —
«Так вот, говорит,
сын твой слаб оказался». Как оказал он это, стало темно у меня в глазах,
а потом все поплыло кругом, и директор, и письменный стол, и окна и стена.
Я к притолке прислонился... —
Что же, говорю, ваше превосходительство,
балуется? —• «Нет, говорит, этого не наблюдалось, слаб оказался по» древ-
нему, по латинскому у него двойка за четверть. Ему необходима помощь.
Пригласите репетитора, пусть хорошенько позанимается». —
Ваше высоко-
превосходительство, говорю, осмеливаюсь вам доложить, трудно мне его
в гимназии содержать. Получаю я, говорю, двадцать один рубль, больше
доходов никаких (про зайцев-то уж ему не сказал), а как репетитору еще
платить, мочи не будет. —
Как рассердится он, как закричит, как затопочет
ногами, я обомлел весь. «Что это, говорит, лезете в гимназию, не имея
средств! Это, говорит, затем, что пробудет ученик два-три года в гимназии
и выбывает. Сколько, говорит, у нас доходит до восьмого класса? И без того
все тыкают, что поступает в гимназию двадцать человек, а аттестат полу-
чают два-три. Гимназия, говорит, не для того, чтобы недоучек плодить;
ежели, говорит, средств нет, так отдай его в слесаря или сапожники». Кричал
он долго, только1 уж не помню я ничего. Не помню, как спустился по лестнице,
как шел по улице, как домой пришел. Выбежала жена, руками всплеснула:
«Где ты пропадаешь, нарядчик два раза присылал». Махнул я на нее, прямо
в дом: «Ванятка!.. Что ты меня режешь!..» . Плачет: «Папаша, по латинскому
никак... папаша.. .». Потерял я голову. Сел сам с ним заниматься. Я ведь сам
в гимназии был, — с достоинством заявил мой собеседник, — из пятого класса
вышел, ну только я все забыл, как есть, как будто утюгом в голове вы-
гладили1, все сравняло, хоть шаром покати... а? удивительное дело: пять лет
грыз, и тебе следа не осталось. Вот стал я с ним заниматься: «Читай». Чи-
тает—амо,иязаним— амо.Чтотакоеамо?Покакомупадежу,икчему
относится? Ну?
—
Он в слезы: «Папаша, не так учишь... у нас не так»... А я взопрел,
голова лопается, а тут нарядчик прислал в последний раз-, что, дескать, ежели
не приду сейчас к наряду — к расчету. Тут уж у меня в голове помутилось.
Как вспомнил я, сколько зайцев перевозил, когда готовил его, а потом зайцы
для платы за нравоучение, зайцы на книги да на мундир, да на ранец, да на
перышки, тетради, нет им числа и краю, .вспомнил, что и вперед, пока кончит,
придется бесчисленно их возить, и все семейство будет дрожать, что вот-вот
из-за него все останемся без куска на улице,—у нас каждый день, почитай,
сменяются целые бригады из-за этих самых зайцев, — свету божьего не
взвидел, ухватил с себя ремень и давай его ремнем... Плачет, кричит, руки
целует: «Папаша!.. Папаша!.. Папаша!..», а я его ремнем, у самого руки
трясутся, а я его ремнем... кровью подплыл...
Лицо кондуктора вытянулось, заострилось, и он, точно его подгоняли,
торопливо стал сосать папиросу.
—
Не помню, как выскочил; как прибежал к нарядчику, как с поездом
пошел... До этого пальцем- его не трогал. Через двое суток ворочаюсь, зараз:
дневник подавай. Принес дневник, гляжу: по латинскому три с минусом.
Обрадовался и боюсь, что это по нечаянности, ухватил опять ремень и давай
его ремнем. Кричит: «Папаша, я стараюсь... я стараюсь... я стараюсь!..», а я
еще!.. Вот с тех пор каждый раз, как ворочаюсь, секу... Он уже знает, уви-
дит в окно, весь побелеет, затрясется, глазами бегает... Иной раз нарочно
лишний раз не в очередь в наряд иду, чтоб, значит, не ворочаться домой,
передышку ему дать, ну, да и поверстных лишних загонишь; как воротишься,—
высекешь. Уж думал я, голову ломал, чтобы не сечь его, а репетитора нанять,
ну, невозможно — десять целковых в месяц, немыслимо, это значит, осталь-
ной семье голодом сидеть. Иной раз так припадает, как контроль зачастит,
что с зайцев целковый в месяц принесешь. Только и есть. В бригаде-то все
ведь делимся, обер-то наружность только одну показывает, что он не ведает,
не знает ничего, потому, в случае чего, вину один кто-нибудь из нас на себя
берет, а обера оберегаем, он в стороне.
Он замолчал и сдунул с папиросы пепел.
—• Худой он у меня, высох, все книжки читает. Мать ругается, чтобы
спать ложился, а он потихоньку возьмет огарок, — свечи у нас от вагонов
остаются, экономия, домой приношу, загородится одеялом на кровати и
читает, а потом- братьям рассказывает про разные страны, государства, про
путешествия. С товарищами не -играет, да и некогда — за уроками все. Гово-
рит, как вырастет, в -монастырь уйдет. Летом- поправляется, летом я его не
бью, веселый такой делается, я его все катаю, с собой бе-ру, любит до страсти,
станции разные, города видит. Иной раз оставишь на станции; купается,
бегает, рыбу ловит, а назад ворочаешься часов через восемь и берешь его.
Никак не дождемся лета.
—
Погубите вы мальчика, забьете.
Он глянул на меня не то виновато, не то полупрезрительно.
—
Моя жизнь, господин, конченная. Шестнадцать лет я только и знал,
что вагон да станции. Дому-то я, почитай, не видал. Приедешь домой, ну,
самоварчик, тепло, семья, да вспомнишь, что время вдет, скорей спать, хоть
отоспишься-то, в вагоне не много наспишь: а там выскочишь, скорей в* наряд,
и опять трясись. Душно, накурено, скучно... Вагон для нас все: и семья, и
церковь, и дом... Да в пассажирском еще хоть тепло, не мерзнешь и на
людях, все с хорошим человеком хоть словом перекинешься, а как на то-
варном, господи, не дай ты. Царица небесная, упаси и избави! Сидишь на
площадке один-одинешенек целыми днями, ветер, дождь, снег насквозь тебя
пробивает, закоченеешь так, что еле слазишь, только тем и держишься,
что водки выпьешь на станции... Половину своего жалования в буфете
оставляем. Не дай, господи... А тут еще то сказать, с другой стороны,
что начальство нас на собачьем положении считает. Как встретился с крас-
ной фуражкой, хоть и не виноват, а у самого, как у собаки, хвост
и уши поджимаются. Правов у нас никаких не признают, а если чуть рот
разинешь... Да что! меня начальник станции два раза по морде с'ездил, —
проговорил он, вызывающе глядя мне прямо в глаза, — и ничего, с'ел...
Мы люди, что ли... так, дикие животные: ее пнул ногой, она даже визжать
не смеет.
Он на минуту смолк, усиленно* затянувшись папиросой.
—
Поопределю ребят — кого в столяры, кого в сапожники, кого в сле-
саря... Известно, какая их жизнь будет: пьянство, драка, мордобой... И мне
не два века жить, помру, что же останется на земле? Вот и тянусь, в вере-
вочку вьюсь, чтобы Ванятку человеком сделать, чтобы память оставить...
Мои кости будут гнить, ребята — кто куда, какую уж им долю господь
положит, потому на всех сил моих нехватает, а Ванятка останется после
нас... Никто не посмеет ему не то, что в морду или в зубы заглянуть, или
обругать, а и грубое слово сказать, все к нему с уважением; не надо ему
будет воровать, зайцев крадучись возить, как отец возил... И я спокойно
в гробе буду лежать, что оставил по себе хоть одного человека вполне. Я,
господин, мясо* дам из себя резать живое, только бы Ванятку довести... Го-
споди!.. ляжешь иной раз *в вагоне в своем отделении, не спишь, глядишь
в темноту, в потолок, и все Ванятка представляется, как ходит, говорит,
какое лицо, на горбу ранец, а на голове форменная фуражка, — не ото-
рвался бы...
Его веснушчатое, добродушное лицо, слегка прищуренные глаза, от ко-
торых бежали морщинки, светились нескрываемым радостным воспоминанием
о сыне, и от всей его фигуры, освещенной неверным колеблющимся пламенем
огарка, веяло простотой и искренностью.
-В голове поезда опять потянулся свисток, но теперь спокойный и
ровный
—
Кизитеринка, — проговорил кондуктор, торопливо докуривая остатки
своей папиросы, которая стала жечь ему пальцы, и на лицо его и на
фигуру набежало обычное выражение, которое бывает у кондукторов, когда
они проходят по вагону, отбирают билеты и заученно выкрикивают скучными
голосами: «Станция такая-то, поезд стоит столько-то».
Он задавил ногой окурок и вышел.
Поезд все больше и больше задерживал ход. Сквозь черное окно; на
стекле которого то и дело появлялись продолговатые капли дождя, загорелся
зеленый огонек стрелки и тихонько проплыл назад. Показались неясные,
темные контуры станционных зданий, платформа, слабо отражавшая в лужах
огни фонарей, тускло светивших сквозь сетку дождя. Вагоны толкнулись, по-
дались немного назад, и ясно стало слышно, как без устали барабанил по
вагонным крышам дождь.
А. Серафимович.
под землей.
Мы вошли в большое кирпичное здание, напоминавшее собой казармы,
фабрику или завод. Узкие почерневшие окна почти не пропускали света.
Было грязно, скользко, сыро, и по каменному из плитняка полу хлюпала вода.
В полумраке, уходя вверх, тянулись, встречаясь друг с другом, какие-то трубы,
канаты, балки, производя впечатление сосредоточенной, скрытой силы. Я все
боялся провалиться ів шахту, которая представлялась мне почему-то просто
дырой в полу, и с напряжением, и с усилием пробирался в полутемноте, по-
тому что со свету почти ничего не мог разобрать.
Возле ходили какие-то люде, черные, насквозь пропитанные углем, сво-
бодно и легко ориентируясь, как давно освоившиеся с обстановкой и место-
расположением.
—
Эй, да где же старший рабочий? — крикнул наш провожатый.
Что-то огромное и громоздкое, с гулом и железным' грохотом, за-
глушая голос нашего проводника, тяжко ударилось обо что-то металличе-
ское; и все кругом дрогнуло и зазвенело. Это было где-то совсем близко, но
я не мог рассмотреть, что это было. Мне в первый момент показалось, что
это лопнул у какой-то гигантской машины рабочий вал, коромысло или еще
какая-нибудь важная часть.
Рабочий возле меня, такой же черный, как и остальные, которого я за-
метил только в этот момент, схватился за выходивший откуда-то металличе-
ский стержень и, быстро наклонившись, качнул его два раза. И это движение
среди чуждой обстановки показалось мне полным значения и особенного
смысла. Раздался резкий со звоном удар, как будто' о медную доску. И опять
то, что за минуту оглушило меня, с таким же треском: и гулом пошло куда-то
вглубь, издавая характерный звук бежавших по валу цепей.
—
Где это мы? — крикнул я, стараясь покрыть гул работавшей
машины.
—
Шахта.
Я осторожно пододвинулся. Огромный мощный сруб подымался из глу-
бины вплоть до крыши. В нем ходила на цепях клетка. Четырехугольное
темное отверстие, как могила, мрачно угрожающе чернело из-под него. Мне
показалось, что оттуда тянулоі холодом и сыростью. Я отодвинулся, невольно
испытывая ту необ'яснимую силу, которая тянет в бездну.
—
Пожалуйте в контору, — проговорил наш вожатый.
Он правел меня в большую грязную комнату, занятую столами, с раз-
бросанными по ним планами, чертежами, картами, образцами угля в кусках
и металлическим изломом. Посредине возвышалась обтертая и вылощенная
руками конторка и на ней огромная книга с замусленными, завернутыми
краями.
«Расчетная книга рабочих рудника такого-то общества». Я перели-
стал несколько страниц. Двенадцать, пятнадцать, восемнадцать рублей в ме-
сяц была обычная средняя плата; двадцать пять — максимальная. Страницы
пестрели многочисленными штрафами и вычетами, понижавшими иной раз
получку на целую семью до десяти рублей.
К нам подошел молодой человек в форме горняка.
—
Студент горного института Н.
Мы познакомились. Он вежливо и предупредительно переложил книгу
на другой стол.
—• Ну, что же, господа, есть у вас во что одеться? Ведь так нельзя
спускаться в рудник.
Я захватил с собой подходящий костюм и длинные охотничьи сапоги,
но мой приятель красовался в чесучовом пиджаке, крахмальной сорочке и
штиблетах,
—
Эдак нельзя. Придется вам: дать рабочий костюм.
Принесли неимовернейшей грязи куртку, шаровары и колоссальные са-
поги, должно быть, из мамонтовой кожи: они не сгибались в ступне.
Мы переоделись. Нам подали по- стеариновой свечке. Это напомнило,
что больше мы не увидим дневного света, и легкая не то тревога, не то
ожидание чего-то шевельнулось в душе.
К нам подошел старший рабочий, гигант с добродушно-угрюмыми чер-
тами серого, точно чугунного, лица, на котором, резко выделяясь, ворочались
белки глаз. Он был черен, как эфиоп, проникающей угольной пылью.
—
Пожалуйте, — проговорил он, обнажая, как кипень, белые зубы,
которые так резко, и даже неприятно-резко выделялись на его иссера-
черном лице.
Мы опять подошли к шахте. Клетка с треском и визгом только что по-
дошла снизу. Из нее вышли двое рабочих и быстро и ловко выкатили из
верхнего отделения вагончик, доверху нагруженный углем.
—
Ну, садитесь.
Мы секунду помялись, уступая друг другу дорогу. Не то что ощущение
страха, а какое-то тайное стремление не отдаваться первой неизвестной, по-
сторонней и неверной силе беспокойно шевельнулось в душе.
«Каждый день тысячи народу спускаются»,
мелькнуло* у меня, и
я влез в клетку, сел на корточки, согнулся и с'ежился весь в комок, — так
она была мала и узка, напоминая собою те клетки, в которых по ярмаркам
развозят зверей содержатели кочующих зверинцев. Ноги раз'езжались
в скользкой черной грязи. Ощущение не то холода, не то сырости охватило
все тело. Ко мне влез мой товарищ, а остальные разместились в верхнем
отделении. Зажгли свечи. Откуда-то сверху на шею капала холодная вода,
неприятно пробираясь за воротник, и попадала в пламя свечи, которая от
этого шипела и трещала.
Возле толпились рабочие и служащие.
—-
Господа, держитесь дальше от стенок, — крикнул кто-то*, накло-
няясь к на*м*. —
Клетка с боков не забрана, вплотную идет по срубу: захватит
руку — вырвет; прислонитесь спиной — из спины клок вынесет.
Перспектива была* не из приятных, и я, и мой приятель изо всех сил
стали подбирать руки, ноги и спину, стараясь все это поместить посредине,
подальше от проклятых стенок.
—
На верху скобки есть, за них держитесь.
Мы пошарили и уцепились за скобки.
—
Ну. готово!
Я видел, как рабочий, быстро наклонившись, опять два раза качнул
длинный стержень. Снова где-то со звоном* ударило в медную доску, маши-
нист в другом отделении пустил машину, нас встряхнуло и против всякого
ожидания стало подымать вверх. Но клетка сейчас же остановилась, на
секунду повисла, вызывая тягостное сознание уходившей под нами темной
глубины, и вдруг ринулась вниз без толчков и сотрясений: люди, балки, окна,
трубы, длинный стержень, красный отблеск отсвечивавших на мокром- полу
лампочек, — все мгновенно, точно подхваченное страшной силой, понеслось
вверх и моментально скрылось в густо наступившей темноте.
В ушах появилось странное ощущение, точно воздух изнутри с силой
распирал барабанные перепонки. Мне чудилось, что я огло*х, да я отчетливо
различал все звуки. Первое время я чувствовал по легким толчкам и по тому,
как из-под ног словно уходили доски, что мы быстро двигаемся вниз, но вдруг
ощущение движения пропало, и в следующее мгновение мне уж почудилось,
что мы несемся вверх.
—
Что это?
—
Это так кажется.
Но ощущение движения вверх все продолжалось. Я осторожно по-
вернулся и поглядел на стены сруба; они со страшною быстротой бежали
вверх, сливаясь желтою полосой и сверкая на пламени свечи тонкими ру-
чейками* бежавшей по ней воды, и истинное впечатление движения сейчас же
вернулось. Я все с напряжением старался удержать свои руки, ноги и спину,
Кроотьянин и рабочий. Ч. И.
16
#
чтоб они не притронулись как-нибудь к этим грозно-убегавшим стенкам. Мой
товарищ, вероятно, испытывал то же, и мы жались друг к другу.
Вдруг нас толкнуло, наша клетка ударилась обо что-то и остановилась.
Красноватые дымные огни среди густой тьмы мрачно горели, точно факелы
в глухую полночь. Темные силуэты людей вырисовывались смутно, и неопре-
деленно. Клетка опустилась вглубь на шестьдесят саженей.
Наш поезд с одним из рабочих, погромыхивая и постепенно замолкая
во мраке, уходит направо. Я приготовляюсь иттв по левому проходу.
—
Нет, нам не туда, — говорит старший рабочий, делает несколько
шагов в сторону и, приподняв, посвечивает своею лампочкой.
В стене обнаруживается, неподвижно чернея, узкая, в полчеловеческого
роста дыра. Тяжелая, синяя мгла, увлекаемая тягой, медленно стекает в нее,
и дымное пламя лампочки, послушно изогнувшись, торопливо бежит туда
густыми, черными клубами дыма.
—
Вы нагинайтесь, пожалуйста, нагинайтесь, как -ни мога больше на-
гинайтесь,— говорит рабочий, стараясь придать возможно больше убеди-
тельности интонации и голосу, — это теперича по диагональному ходу нам
итти, а там и работы скоро.
И, согнувшись почти вдвое всею своею громадною фигурой, он шагнул
в эту мрачную дыру и быстро пошел, слабо посвечивая из-за себя лампочкой.
Я тоже согнулся и последовал за ним, низко опустив свечу. Внизу
блеснула вода. Ноги с усилием и судорожным напряжением1 ступали по из-
рытому неровному дну, ежесекундно обрываясь и скользя по острым камням
и ребрам выбитой каменной породы и с шумом разбрызгивая холодную воду,
которая неприятно обдавала вое лицо. Колени мои приходились почти в уро-
вень подбородка, и я шел, наклонившись вперед .всем телом:, спотыкаясь и
поминутно теряя ревновесие, и тяжело дышал от напряженных усилий не
убиться и непривычного согнутого положения. Ноги принимали; до того не-
естественное положение, что ступня совершенно выворачивалась, и я шел не
на подошве, а на боку сапога и каждую минуту ждал, что выверну себе со-
членение или растяну связки.
Все опасности, обвалы, наводнения, впечатления пройденного, пути и
ожидание чего-то нового, — все было вытеснено из сознания мучительным
физическим напряжением.
Я совершенно позабыл о своем товарище, который шел позади и, ве-
роятно, точно так же бился в этой проклятой дыре, и лишь поспевал за ра-
бочим, который проворно уходил все дальше и дальше.
Наше путешествие в вагончике с цепью казалось теперь верхом ком-
форта. «Боже мой, видно, отсюда уж и не выбраться», — с отчаяньем мель-
кало у меня, и я-продолжал механически переставлять ноги, скользя и по-
минутно хватаясь за влажные скользкие стены, от которых пробегали по
всему телу холод и судорожная дрожь. Низко опущенная голова все больше
тяжелела, наливаясь кровью, и поясницу невыносимо ломило.
Неодолимое желание хоть на секунду разогнуться, расправить смятые,
сдавленные легкие неотступно преследовало; но не хотелось просить остано-
виться, и я напрягал все силы, чтобы не отстать от рабочего, который, как
ни в чем не бывало, торопливо шел, и его огромная спина низко проходила
под самым сводом, а из-за темной фигуры слабо отсвечивал отблеск лам-
почки.
—
А-а!.. Чорт!..
Я присел. Кто-то с силой чем-то тупым и тяжелым ударил меня по
голове. От неожиданности я судорожно закрыл глаза, и миллионы синих искр
посыпались в темноте, моментально потухая, и в то же мгновение заныла
невыносимая сверлящая боль, выжимая слезы, точно у меня ворочались
в мозгу. Шапка вдруг сделалась тесной и стала неловко сидеть на голове.
—
Ах ты, господа, еагинаться надо! — участливо', с беспокойством про-
говорил рабочий, присаживаясь возле на корточки.
—
Больно зашиблись?
—
Что, больно? — осторожно подходя и низко сгибая спину, спросил
приятель.
Мне было и смешно, и совестно, и бессильная злоба душила, так бы
и избил кого-нибудь, но виноватого не было.
—
Длинный этот проход? — спросил я, желая переменить разговор и
чувствуя, как все больше вздувается шишка.
—
Триста саженей. Теперь скоро.
—
Ну, пойдем, — проговорил я так, как будто они были виноваты
в чей-то.
Мы опять согнулись и пошли гуськом. Сильная боль заглушила на время
острое ощущение усталости, и я продолжал с равнодушием отчаяния болтаться
в воде, спотыкаясь и рискуя ежеминутно убиться, ударившись о выступ стеньг.
Где мы были, много ли осталось, сколько прошли, какие повороты де-
лали, были ли теперь день или ночь, — я ничего не знал. Все те же каменные
мертвые громады, совсем' нависшие и узко сдвинувшиеся, — до того узко, что
все время я бился коленями с той и другой стороны. Ничто не менялось во-
круг, и даже мрак, казалось, с трудом пробирался за нами, потому что сла-
бый, мерцающий огонь свечи справа и слева у самого лица освещал влажный
нависший камень.
Как ни уверен я был, что вероятность быть здесь задавленным, убитым
или залитым водой слишком ничтожна, все же в глубине души, как натянутая
струна, независимо от воли постоянно. таилось ощущение какой-то напря-
женности, которая постоянно заставляла меня смотреть за рабочим. Случись
с ним что-нибудь, потухни лампа, уйди он от нас случайно в какой-нибудь
проход, и отчаяние сразу охватило бы нас.
Но он так же спокойно и быстро пробирался своею огромною тушей
между надвинувшихся каменных пластов. Камень уступал дорогу человеку, и
я с уверенностью и надеждой глядел на его широкую и согнутую спину.
Мой товарищ тоже несколько раз охал, приседал и начинал ругаться;
я спрашивал, больно ли он ушибся, и чувствовал некоторое удовлетворение
за ноющую тупую боль в голове, и потом, изукрашенные шишками, мы опять
шли' дальше. Наученный горьким опытом, я пригибался даже больше, чем сле-
довало: колени то и дело стукались О' подбородок.
Сколько времени мы шли, я не знаю. Боль в пояснице, напряжение,
усталость достигли того предела, когда становится уже все равно, и ду-
маешь: «Ну, еще, еще,— ну, пусть так, пусть еще!..» .
Однако всему бывает конец. Шедший впереди рабочий внезапно исче-
зает во мраке. Я испугался и, напрягая последние силы, торопливо выбрался
из прохода.
За поворотом блеснула лампочка рабочего. Он стоял во весь рост и
дожидался нас. Я выпрямился и всей грудью вдохнул кислый, пропитанный
гарью, воздух.
Подошел и товарищ. Мы постояли с минуту. Мрак опять надвинулся со
всех сторон; свода не было видно. Под ногами ощущались рельсы. Я стал раз-
личать тупые, далекие удары, глухо и подавленно доносившиеся откуда-то из
глубины этого мрака, и представление чего-то особенного и важного невольно
приурочивалось к тому месту, откуда они выходили.
—
Посторонитесь,
пожалуйста, — проговорил рабочий,
поднимая
лампу.
Мы прижались к мокрой, скользкой, холодной стене; мимо, на минуту
освещенный лампочкой, прокатился вагончик, доверху напруженный углем.
Рабочий, скользя и упираясь ногами и хрипло дыша, с низко опущенною го-
ловой, катил его, толкая сзади. Это вручную перевозили1 уголь до того
пункта, откуда он уже шел лошадиного тягой.
Мы пошли дальше. Удары во что-то вязкое, странный глухой шорох и
смутный шум доносились во мраке все явственнее. Наш провожатый торо-
пился, как будто чувствуя вину, что мы так долго и неудобно шли. Мы то-
ропливо спотыкались за ним; лишь стараясь не отстать и испытывая напря-
женное и несколько даже тревожное ожидание.
Галлерея опять дошла до глухой стены и влево снова открылся узкий
и низкий ход. Рабочий, согнувшись и низко опустив лампу, пролез туда. Мы
последовали за ним.
Сквозь густую мглу 'впереди в десятке саженей мелькнули красноватые
огни ламп. Удары и характерный обсыпающийся шорох теперь явственно не-
слись оттуда.
Свод понижался все больше и больше; рабочий опустился, наконец, на
колени и полез на четвереньках; мы сделали то же и через минуту очутились
среди странной, невиданной дотоле обстановки. Узкий проход раздался, уходя
в обе стороны в темноту, а сверху, на расстоянии всего полутора аршин,
ровно и гладко тянулась пустая порода. Короткие стойки, плотно упираясь
рядами в верхний и нижний пласты, странно белели древесиной среди этой
непривычной обстановки, поддерживая огромную, давившую их тяжесть
в миллионы пудов. Здесь даже согнувшись нельзя было ходить и только молено
было передвигаться ползком. Это было место выработки угля. Со всех сто-
рон, дымя среди тяжелой, густой мглы, слабо и как-будто с усилием горели
ламіпы, и сквозь дым там и сям смутно виднелись скорчившиеся фигуры молча
работавших или пробиравшихся на четвереньках между стойками рабочих.
Воздух, пропитанный гарью, дымом и испарениями человеческих тел, был
сладковато-приторен и сильно нагрет. Шум врубающихся топоров, осыпаю-
щийся шорох угля, учащенное прерывистое дыхание работающих людей на-
полняли это глухое подземелье.
Я прополз дальше между стоящими по -пути подпорками. Металлический
излом антрацита при слабом меркнущем пламени ламп бросался в глаза.
Мощный пласт его, в полтора аршина толщины, залегал- здесь, зажатый
сверху и снизу между каменными породами, и его оттуда надо было добывать.
И я невольно с каким-то -смешанным1 чувством удивления и почти страха
глядел на эту поблескивавшую на лампах мертвую поверхность уплотненной
массы, требовавшей от людей таких усилий, напряжения и риска. Ощущение
висевшей над головой тяжести давило. Достаточно было малейшего сдвига
почвы, сотрясения, просачивания воды или встречи мягкого -грунта, чтобы вся
эта страшная масса, раздробив -в щепы подпорки, опустилась до* самого пола.
Вязкий глухой удар раздался возле меня, и в то же мгновение черная
туча осколков угля обдала мне лицо, больно просекая кожу. Я отшатнулся
в сторону. Шагах в трех от меня рабочий врубался в каменноугольную массу,
отделяя ее от пола. Он-лежал на левом боку и частью на спине и, держась
обеими руками за длинную рукоять особенного удлиненного топора, с уси-
лием взмахивал им над самым полом, болезненно содрогаясь всем телом от
крайне неловкого положения и усилий попадать в одно и- то же место; голова
тянулась за ударами* и нога -судорожно' подергивались, шурша по мокрому
полу мелким углем. И каждый раз, как кайло глубоко и с силой врубалось
снизу в узкую расщелину, отделяя угольный пласт от каменного .пола, брызги
осколков с шумом вырывались оттуда, с ног до головы -обдавая забойщика. И
он в такт каждому размаху напряженно и* торопливо отворачивал голову,
крепко зажмуривая глаза. Я слышал его подавленное дыхание и тоже зажму-
ривал глаза и прятал лицо за столбик каждый раз, как топор с размаху
уходил совсем с рукояткой в расщелину.
А кругом неслись такие же глухие удары кайл, смутно копошились
неясные фигуры рабочих, с усилием* горели лампы и, покрывая все это, так
же неподвижно-безжизненно стояла сладковатая, густо-синевшая мгла. Мне
становилось трудно дышать. В висках стучало, перед глазами* все слегка шло
кругом, а во рту усиливалось приторное, вызывавшее тошноту, ощущение.
Теперь уже хотелось выбраться отсюда -поскорее, но ни сопровождавшего
рабочего, ни приятеля н-е было, — они проползли куда-то дальше. Мне не
видно было концов лавки 1); она тянулась в обе стороны саженей на три-
дцать. То место, где я мог пробираться только на четвереньках, когда-то
было заполнено углем, рабочие его выбрали и поставили коротенькие стол-
бики, поддерживавшие верхний пласт пустой породы, оставшийся на весу.
4) Лавка — место выработки угля.
Рабочий, врубавшийся возле меня, вывел снизу длинную щель. Он сел,
подогнув голову, и отер грязною рукою пот. Я не мог разглядеть выражения
его лица, но мне видно было, как облипала его тело насквозь смоченная по*
том и сочившеюся по полу водой рубаха. Он пододвинул к себе лежавшие
возле кучкой коротко нарезанные столбики и, вырубив го> углублению в уголь-
ном пласту и в полу, стал косо устанавливать подпорки, чтобы подрубленная
снизу стенка угольного пласта не вывалилась до времени и. не раздавила его.
Через минуту он опять уже лежал на .боку и, дрыгая ногами и корчась, стал
зарубать щель дальше.
На другом конце рабочие на четвереньках таскали 'что-то к выходу, но
сквозь синевшую мглу я не мог разглядеть как следует, что именно они де-
лали. С места же не хотелось сдвинуться: мгла, сырость, грязь, пробиравшаяся
за платье, холодная вода и эта густая нагретая атмосфера, от которой сту-
чало в висках и затруднялось дыхание, нагоняли страшное оцепенение и апа-
тичное ожидание, когда я, наконец, отсюда выберусь.
—
Митька!—послышалось возле меня, и звук человеческого' голоса
сейчас же глухо замер.
—
Иди, што ль!
—
Сейчас! — донеслось без отклика из густой мглы.
Зарубщик забрал оставшиеся жердочки и кайло, отполз от пласта и
сел возле меня,. согнувшись всем своим длинным туловищем. Он был худ,
с узкой запавшею грудью и испитым лицом. Слой угольной грязи придавал
его чертам неподвижность, и только глаза блестели лихорадочно и возбу-
жденно. Мокрая, черная от угля рубаха и порты облипали его, еще более
выказывая худобу тела.
-—
Трудно же у вас тут работать, — проговорил я, желая вызвать его
на разговор.
Он ничего не отвечал и сидел, сумрачно глядя перед собой.
—
Митька! — позвал он опять, не обращая на меня никакого внима-
ния. —
Что ж не починаешь? — и вдруг прибавил раздраженно и злобно
скверное ругательство.
Из мглы, цепляясь спиной за нависнувший потолок, приполз в такой
же черной и мокрой рубахе парень, сел возле, скрючившись, и стал, ухая,
вгонять тяжелым молотом железные клинья между нависнувшим сверху по-
толком и пластом угля, чтоб отделить последний от породы.
—
Да так, господин, работа наша... —
проговорил вдруг рабочий, обер-
нувшись и глядя на меня с раздражением, — кабы ежели шахтеры не руга-
лись нехорошим словом, так святыми бы все поделались, вот как иные
прочие схимники спасаются, молют бога. Вот наша какая работа.
В его словах слышалось раздражение, точно я был в чем-то виноват.
—
Да вот, поглядите, вот он теперича гонит клинья, вот не рассчи-
тает, рухнет пласт, от него лишь мокро останется, да-и нас с вами не помилует.
Забойщик продолжал-бить молотом. Глухо, точно-предвещая что-то не-
доброе, отдавались удары, и толстые концы клиньев, уходя в глубь, станови-
лись с кашей стороны все короче, образуя сверху все более и более заметную
расщелину. Томительное ожидание овладело мной. Я никак не мог освобо-
диться от гнетущего (впечатления, которое производила эта расходившаяся
вверху темная щель.
'
Парень перестал бить; принял одну подпорку, другую... Что-то тяжело
хрустнуло.
—
А что, бывают...
Я не успел договорить: страшный треск и грохот потряс подземелье.
Что-то тяжелое и неуклюжее перевернулось. Все лампы1 разом дрогнули, на
секунду ярко вытянув гаамя. Все заколебалось и, казалось, каждое мгнове-
ние готово было рухнуть среди мглы. Я судорожно попятился к проходу,
поскользнулся и упал. Мимо с шумом пролетели, переворачиваясь в воздухе,
две выбитые страшною силой подпорки. Что-то еще раз ухнуло, каменный
пол под ногам дрогнул, и все успокоилось. Только на том месте, где перед
этим возился рабочий, зияла темная, уходившая в глубь пустота, и перед ней
неподвижною грудой лежал вывалившийся пласт угля в несколько сот пудов
весу.
Отбойщик, изгибаясь и неловко махая под низким потолком, раскалы-
вал его на меньшие куски.
—
Иной раз так-то вываливают пласт, —проговорил, выправляя фи-
тиль в своей лампе, все время спокойно остававшийся на месте зарубщик, —
верхний пласт лопнет, осядет, подпорки в щепки, лавку-то всю со всем на-
родом и накроет. А испужались, барин? — добавил он уже добродушно' и
улыбнулся.
И странно было видеть улыбку на этом суровом и неподвижном от
грязи лице.
—
Мы — народ привычный, а и то иной раз жуть берет.
Он забрал подставки, кайло и лампу, прополз дальше, лег на бок и
опять, болезненно корчась, стал зарубать щель.
А кругом было все то же: доносившиеся отовсюду1 глухие удары, смутно
копошившиеся фигуры, густая сладковатая атмосфера и синевшая повсюду
мгла. Все работали, храня угрюмое молчание, — ни песен, ни говора. Эта
мрачная вечная іночь вытравила- у людей веселость, оживление, шутку, смех,
песни. Каждый, напрягаясь, рубит, раскалывает, загоняет клинья и таскает
куски угля, подавляя в себе отвращение к мертвому труду, и тоску и удру-
чающую апатию, навеваемую окружающей обстановкой. Одно- только по-
стоянное желание, не заглушаемое даже многолетнею привычкой, таится
в душе, сжимая сердце вечно сосущей тоской: доделать работу и выбраться
наверх. Впрочем, и выбравшись наверх, рабочий не видит дневного света: спу-
скаются в шахту до рассвета, а выходят, когда на земле уже почь.
К отбойщику подполз, таща за собой салазки, новый рабочий, и они
вместе, молча, стали нагружать огромные куски разбитого пласта.
Тягальщик, надев лямку, поправил ее на. груди, потом' стал на четве-
реньки и, подогнув голову, изо-всех сил натянул веревку. Но трудно1 было
сдвинуть придавленные тяжелою грудой салазки. Руки и ноги скользили по
мокрому полу. Он цеплялся за все неровности, пробуя ногой и ища точки
опоры, дергая то в ту, то в другую сторону, как лошадь, которая не может
взять сразу нагруженный воз. Раза два я видел, как раз'ехались у него руки
и ноги в полужидкой грязи, сочившейся на полу, и он ударился грудью
о плитняк.
На него тяжело было смотреть, — это была агония труда.Он бился,
скользил и падая, как привязанный на цепи, и пядь за пядью брал расстоя-
ние, и мертвая груда угля понемногу и незаметно приближалась к выходу,
где были проложены рельсы, и уголь перегружали в вагончики.
Он добрался до подпорок возле меня и, опрокинувшись на бок, стал
в них упираться руками и ногами, точно с отчаянием отбивался от кого-то, и
я слышал его порывистое, шумное дыхание и то особенное болезненное крях-
тение, похожее на стон, которое вырывают из груди чрезмерные физические
усилия. Ременная лямка, прижимая взмокшую рубаху, обозначалась по телу
узким и длинным рубцом:
При неверном: колеблющемся свете лампы меня поразило выражение
или, лучше, отсутствие всякого человеческого' выражения на его лице. Что-то
звериное, животное сквозило в этих искаженных чертах, по которым ходила
судорога нечеловеческого напряжения.
И я не в состоянии был оторваться от него и, стиснув зубы, следил за
его движениями.
Он добрался до меня, ослабил лямку и сел, отирая пот, который, сме-
шиваясь с грязью, катился по лицу.
—
Самое чижолое до столбов выволочить;" главное, взяться не за что,
аж ногти' посрываешь,—проговорил он, заметив, вероятно, на себе мой при-
стальный взгляд. —
Дозвольте папиросочку.
Я торопливо достал и подал ему. Он взял и, наклонившись к лампе,
стал закуривать, при чем вспыхнувшая папироса осветила уже обыкновенное
человеческое лицо.
—
С перепою оно действительно трудно, даже вполне довольно уто-
мительно, потому как вчера воскресенье было и праздник.
—
Давно вы тут работаете?
—
Да вот уж другой год маюсь, жисти своей тут решаюсь. На лето,
конечно, уходим.
—
И нынешнее лето уйдете?
—
А то как же? Да ведь это, милый человек, как иные прочие гос-
пода летом на теплые воды, али в за границу ездят, так наш брат — на работы.
Как вылезешь это отсюда, о господи! — кругом весна, солнышко-то, ма-
тушка, так и греет, так печет, аж глазам больно. Станешь на косовицу, али
хлеб подойдет, в артели пойдешь косить, работа веселая, взопреешь — ре-
чушка, али ставок, выкупаешься, тут тебе прохлада, тут тебе благодать, и... и
боже мой! Ляжешь это на спину, — он немного откинулся спиной на нагружен-
ные углем салазки, — и глядишь в небо, и все глядишь в небо, — и он слегка
приподнял голову и поглядел в черный потолок, — аж тебя слезой прошибет.
а то иной раз так и заснешь, и тверезый даже, не то чтобы выпимши. Глав-
ное — свету божьего не видать тут.
—
Зато отсюда заработок домой приносите.
—
Нет, барин хороший, никто ничего отсюда никогда не приносит.
—
Как же, разве тут плохо платят?
—
Нет, даже очень хорошо платят супротив другой работы, особливо,
когда рабочие уходить станут, только все тут оставляем, все до последней
нитки: как пришел голый, так и уходишь голый. На заработки-то пойдешь на
Кубань, али к Кавказу, уж плохой да плохой год, а глядишь, полусотку, али
всю сотню принесешь домой, а тут, може, и больше заработаешь, а ничего не
приносишь, все тут оставляем. Это, господин хороший, сказка есть. Стоят
два столба, и оказано на этих столбах: ежели направо — волк тебя с'ест,
ежели налево — зверь задавит, вот и выбирай, и все одно не минуешь: либо
волк с'ест, либо зверь задавит, так и здесь: как пришел в портках, так и
уйдешь в одних портках, как ты тут ни вертись. Уж капе раз попался сюда —
шабаш, аминь человеку!
—
Так зачем же пить?
—
Эх, господин хороший, непривычны вы — ну, конечно, вам это в ди-
ковинку. Вот вы спрашиваете, зачем1 пить, а вы спросите: зачем бога-господа
забыли, об душе своей не думаем? Вот нас тут в руднике тыщи; две работает,
спросите, который из нас у обедни был, али говел? Церкви божии на што
стоят? Кабаки-то мы знаем, на што. Как вылезешь, так прямо, сколько силы
в ногах, в кабак, хуч праздник, хуч тебе светло-христово1 воскресенье, харю
не обмоешь, натрескаешься — ив грязь. А почему? Може, и самому зазорно,
може, и об душе хочешь вспомнить, в церковь сходил бы, — помирать все
будем.
Он помолчал и понизил голос:
—
Только нам, барин, заклятие положено.
—
Как заклятие? От кого?
—
От бога, известно от кого.
—
За что же проклятие?
—
Вот вы ученый человек, а спрашиваете.— Он опять помолчал и по-
том' проговорил с расстановкой: — за то, что бога обворовываем.
Я пристально посмотрел ему в лицо.
—
Бога обворовываем1, говорю, бог что сказал? Плодитесь и размно-
жайтесь, вот вам, говорит, всякие злаки и произрастание, а чего не нужно,
в землю схоронил, и схоронил не то что на, пришел, да взял, а схоронил,
почитай, саженей на сто, а мы вот влезли, да вытаскиваем. Ну, конечно, гос-
подь осерчал, да это хоть кому доведись. И сделал положение: как спустился
человек — шабаш, не уйтн ему, тут и сгниет. Гляди, иной рваться будет, за
сколько сот верст на работы уходит, сколько времени пройдет, об нем ни
слуху, ни духу, смотришь — ан уж он опять тут, и все с себя до нитки пропьет
и станет заливать глотку, прямо сказать, душу продает. Мы, ведь, света
божьего не видим; тут темь, вылезешь, напьешься, отуманеешь и уж ничего
не видишь и не помнишь, покеда опять не спустишься, так и проводим свою
жизнь; чисто зверьми поделались. Господь и смерть у нас отымает : год, два
пройдет, а там, глядишь, либо голову разбило, либо водой залило, али засыпет,
а то и целый выйдет коли, так ноги, руки сведет. Иной и десять и двадцать
лет проработает, и кубыть ничего-, а-н, -глядишь, в руки, в н-ог,и вступит, его
и свернуло*, и кормят его из черепушечки, сам уж и ложки держать не -может.
От божьего гнева не уйти. Так-то-ся. Я вам, барин, расскажу случай какой
вышел. Надысь так-то трое пошли в галлерею, идут, один потушил лампу...
—
Ефимка, какого же ты дьявола тамі разговоры разговариваешь? Дело
из-за тебя стоит! — и град самых отборных ругательств п-осыпашся на него.
—
Что же я -собака, что ли, что отдохнуть нельзя? — огрызнулся
Ефим.
Он торопливо докурил папиросу, надел лямку, стал на четвереньки и,
упираясь Iруками и ногами, потащил дальше, и* опять с его* лица -сбежало чело-
веческое выражение, и осталось лицо животного, изуродованное судорогами
физических усилий.
Я огляделся кругом: штейгера с товарищем не было* видно. Они, веро-
ятно, были в дальнем- конце лавки. Рабочие, зарубавшие пласт, разбиравшие
уголь и вытаскивавшие его к выходу, красные дымные огни ламп среди сизого
тумана и эта гладкая, мертвая поверхность над головой, — все это приобрело
какое-то особенное значение, роковое и неизбежное. Страх смутный и не-
определенный и- ожидание несчастья -совершенно мимо воли охватывали душу.
Я полез отыскивать своих. Неодолимое желание выбраться, уйти отсюда не-
отступно овладело мною.
Сидя на корточках, штейгер об'яснял приятелю подробности работ,
а тот слушал с растерянным и разочарованным видом: вместо* ожидаемого
мрачного величия, все было просто и* ужасно. Я окликнул их, и мы один за
другим поползли к выходу.
Рабочие -в угрюмом молчании продолжали свое дело, то там, то сям
ползком показываясь из синевшей мглы и не обращая на нас никакого вни-
мания — каждому было самому до себя.
Через несколько минут -мы снова очутились в 'пустынной* галлерее и,
согнувшись, пошли пешком. Свеча у меня потухла, и мне не хотелось делать
усилия зажигать *ее, и я следил за светлым -кружком лампы штейгера, -скользя
и спотыкаясь по мокрому плитняку. Доносившиеся глухие удары и шорох
осыпающегося угля давно смолкли позади нас, и мы шли среди могильной ти-
шины, уно-ся в сознании впечатление оставленных позади людей, угрюмое
молчание и выражение тоски и напряжения на лицах.
Мы следовали за штейгером из одной галлереи в другую и, вероятно-,
прошли около версты.
При дрогнувшем свете лампы впереди смутно обрисовалось во мраке
что-то странное и неопределенное, оставшееся без движения. Был ли это
выступ пласта, или человек — нельзя было разглядеть.
По мере того, как светлый кружок лампы штейгера подвигался вперед,
в темноте выделялись сколоченные п-ерекладинами -полусгнившие доски, зато-
раживая проход. Что-то живое и миниатюрное зашевелилось там. Это ока-
зался мальчик лет десяти. Он побежал- к загораживавшим прох-од воротам
и торопливо отворил их. Ветер со свистом и колебля пламя вырвался с той
стороны, охватил нас холодом1 и сыростью и понесся по галле-рее.
—• Иваська, это ты?
Мы остановились. Он -стоял перед нами, глядя на- нас своими наивными
детскими глазками. По этому проходу редко гоняли вагоны, и наше появле-
ние было для него целым событием. Он был приставлен отворять и затворять
ворота, регулировавшие ток воздуха. Ему не давали лампы, чтобы- не тратить
даром керосина, и он по целым часам сидел возле -ворот среди молчания и
мрака и прислушивался к шороху и падению капель, невидимо пробирав-
шихся в темноте по стенам и монотонно и однообразно падавших со
свода, наводя уныние и тоску. Детская голова, руки и ноги просили
работы, движения, и он мял крошки угля и отковыривал кусочки отгнив-
шей доски.
—
Скучно тебе одному?
—
Нет, оно не скучно, а- только чижало на сердце.
Он перевел на нас свои детские глаза и тоскливо улыбнулся.
Мы постояли с минуту, как будто нам; еще нужно было сказать что-то,
и не находили, что, а потом пошли- дальше. Слышно было, как затворили
сзади ворота, и вокруг снова водворилась мертвая тишина и непроницаемый
мрак неотступно следовал сзади, с боков, спереди. Мы шли теперь к выходу
и мне хотелось скорее воротиться туда, наверх, к себе, к своим; занятиям,
к своей обстановке, к своим близким. Я думал о том, день теперь там или
ночь, и представлял себе улицы, прохожих, дома, деревья, вокзал.
Мне -странно было-, что я выберусь, наконец, из этого мрака, из этой
обстановки, как будто я несколько дней ехал на перекладных среди грязи,
слякоти и непогоды, не отдыхая, не ра-здеваясь, и свыкся со всеми неудоб-
ствами дороги, и странно было, что скоро доеду, и- не нужно будет трястись
и сидеть в сыром- платье, не переменяя неудобного положения.
Мы сворачивали куда-то- вправо, -потом влево, потом вышли в какой-то
широкий проход, где рельсы были -проложены в два пути, по диагональиом-у
ходу, тесному -и низкому, -стукались головами, спотыкались и болтались в в-о -де,
и я не з-нал, откуда и -куда мы идем и в -какой стороне оставленные нами
работы, и машинально тащился за согнутою широкою фигурой молча про-
биравшегося впереди штейгера, —
:
все равно-, мы, в конце концов, должны же
притти к выходу. Мы не попали на поезд и нам теперь -все время нужно было
итти пешком.
«Нет, не скучно, а только чижало на сердце», все звучало среди
темноты, и я старался не думать об этом и отгонял выражение тоски и пе-
чали детских глаз и представлял себе, как я заберусь в клетку, и она быстро
пойдет мимо влажных стенок сруба.
Долго, очень долго мы шли таким образом; вероятно, сделали несколько
верст. Я не знал, возвращались ли мы прежнею дорогой или штейгер вел
теперь нас иными галлереями.
—
А не желаете ли взглянуть на помещение для рабочих лоша-
дей рудника? — проговорил он, приостанавливаясь и посвечивая перед
собой лампой.
•Первое, что я почувствовал, это — радостное облегчение, так как знал,
что конюшни были недалеко от выхода. Мы остановились. Единственное каше
желание было-—• возможно скорее выбраться отсюда, но мы почему-то про-
говорили:
—
Ну, что ж, пойдемте.
Штейгер подошел и отворил в стене небольшую дверь. Горячая атмо-
сфера распаренного навоза и многих десятков лошадиных тел пахнула в лицо
и охватила специфическим запахом и теплом. Мы вошли. Около семидесяти
лошадей стояло по станкам, слабо выделяясь крупами в полутьме. Они были
сыты, с лоснящеюся шерстью. Их здесь отлично кормят и не переутомляют
работой, но многие слепы. Лошади очень быстро теряют зрение в темноте.
Я прислушался: они мерно и звучно жевали сено-, и мне припомнилось поле,
потухающая заря, распряженный воз при дороге и этот спокойный и мерный
звук пережевывания, который всегда вызывает особенное состояние спокой-
ствия и отдыха. Бедные животные! Они уже никогда не увидят солнца, зелени,
степного приволья и сложат свои кости в этих мрачных галлереях.
Мы вышли и прошли на площадку к под'ему. Подошла клетка; все усе-
лись; откинулась железная скобка, а площадка с людьми и со всем, что на
ней было, мгновенно пропала внизу, а мы минуты с две оставались среди
абсолютного мрака и, казалось, без всякого движения. С прежним гулом и
железным грохотом клетка ударилась о перекладины, но это уже не поразило
так ухо, как в первый раз.
Как только со стуком опустилась прихватившая клетку скоба, я вы-
прыгнул на пол.
В окнах виднелся слабый свет угасающего дня, а вместе с ним надежда
и призрак возможного где-то счастья и радости проникли в душу. Никогда
дневной свет не производил такого впечатления, как теперь.
Мы торопливо переоделись и вышли. В воздухе стояла тишина весен-
него вечера. Слабая полоса зари догорала на далеких небесах. Кое-где за-
мерцали звезды. Этот тихий весенний вечер, дома, деревья, заборы, плетни,
окна, вечерняя даль, затянутая легкою дымкою, — все это поразило меня
особенною новизной, чем-то таким; чего я до сегоднешнего дня как будто
не замечал.
Мрачное, угрюмое здание осталось позади, и почерневшая дымовая
труба сумрачно высилась над ним, одиноко выделяясь на вечернем небе.
M. Герасимов.
ШАХТА.
Спустились... Ночь. Глухая темень,
Могильно-гробовой покой.
Но вот кровоточащий кремень
Звездою брызнул под киркой.
В глубоких шахтах наши взоры
Огнями черными цвели,
Просачиваясь в пыль и поры
По жилам угольным земли.
Стучим*, а по телам вспотевшим
Тьма пишет углем* и кремнем*,
То брызги злобнр, ів раны ів'евшись,
Хлестали каменным ремнем.
Нас с углем изрыгнула шахта,
Ночь — как под землей день, черна;
Заря заканчивала вахту
У затухавшего горна.
Блуждали тучи, как минеры,
По шахтам грифельных высот,
А звезды-лампы *в кучах сора
Корявый озаряли овод.
В. Коренъков.
поступление в лампоносы.
Ночью Мишка не спал, все время ворочался с боку на бок и только под
утро уснул. Скоро его растолкал отец, и он, как только очнулся, сейчас же
вспомнил, что этот день является исключительным в его жизни. Вмиг умылся,
одел чистую рубашку, ватный пиджачок и натянул свои жесткие от снега и
воды сапоги, которые называл «крючками». Сначала о*н с отцом пошел
в шахтный ламповый двор. Потом в коридор шахтной конторы. Отец постучал
в грязное замусоленное и* истертое деревянное окошечко; оно открылось, но
Мишка, как ни старался приподняться на своих «крючках», ничего в нем*
увидеть не мог. Он только видел, как отец снял шапку и, с улыбкой поклонив-
шись, подал в окошечко записку и Мишкино временное свидетельство.
Мишка по-своему сообразил, что отца в конторе знают и уважают,
так как конторщик сказал отцу что-то такое, отчего отец стал еще больше
кланяться и улыбаться. Скоро он был свободен от отцовской опеки и, после
соответствующих советов и наставлений, не робеть, не пужаться, шел с до-
кументами в рудничную больницу, находящуюся от рудника в 3-х верстах.
В больнице пришлось ждать медицинского осмотра часа полтора.
Мишкой заинтересовались шахтеры. Стали расспрашивать:
—
Откедова такой ты взялся? Небось, в лампоносы идешь — дело из-
вестное, — обратился к Мишке один шахтер.
—
Да, в лампоносы, а то —• куда-ш . В ремонт не берут, — ответил,
сплевывая набок сквозь зубы, Мишка.
Кто-то с усмешкой заметил:
—
С таким ремонтом наработался бы.
Помолчали и снова спросили:
—
Отец да мать есть?
—
Есть. Бурильщиком отец работает. Братов нету. Сам один я у них.
Надо работать, потому отец старый да хворый. Лита не выходили у мене,
я б давно лампочки таскал.
—• В школе был?
—
Был, да... выгнали. С второго класса ушел. Учительница сволочь, вот
и выгнала. Некогда учиться. Научимся еще. Работать вот надо, тятьке
помогать.
—
Читать, писать умеешь?
—
Писать плохо, читать — могу.
—
Все одинаково, в шахта читать забудешь. Шахта—одно слово,—
авторитетно говорил пожилой шахтер, — плохо, ребят, грамота не знать.
Прописано, пропечатано, а што там—хто зна. Грамотному человеку хорошо.
Грамотного сразу видать. Письмо напишет, об'явление прочитает, книжку
какую умную, аль еще што, а ты — как чурбан. У грамотного и упряжки
прописаны, он им и счет даст и все такое. Ты, малый, книжки читай да пиши,
не то грамоту забудешь. Попомнишь слово мое. Мне умный человек сказывал
это... То сказать, когда читать ему; на работи намается, ни то што книжка,
жисти не рад будет.
—
Ну, чиво там, — перебил Мишка, — я работать люблю. А найбольше
как за деньги работать. Заработаешь — твое. Купишь себе что, хорошо,
—
и он снова сплюнул набок, как взрослый.
—
Да... —
протянул тот же шахтер, — поработай, узнаешь, как
хорошо.
В это время раздался какой-то окрик.
Через минуту Мишку увлекла с собою волна рабочих. Все столпились
у дверей. Грубо осаживал служитель — старик в сером - грязном халате. Он
увидел Мишку, извлек из толпы и, после вышедшего из дверей рабочего,
застегивавшего на-ходу сорочку, толкнул его в дверь. Мишка, смелый и от-
чаянный в каких-угодно драках, смутился необычайной для него обстановкой
кабинета врача. Но ему не дали опомниться, приказали раздеться. От вол-
нения никак не мог расстегнуть ворота рубашки; наконец, после многих
усилий, он расстегнулся. Его, голого, несколько раз повернул врач, спросил, —
«болели ли у него ноги», на что Мишка, помня отцовское наставление, ответил,
что у него никогда ничего не болело. Потом заставили дышать, читать буквы и
цифры сначала одним левым, а затем- одним правым глазом. А когда-, наконец,
врач приказал Мишке одеваться и дать ему приемную, он еще более смутился
и стал шарить по всем карманам. Нечаянно нащупал ее, она попала под под-
кладку через дыру в кармане. Через минуту Мишка получил приемную
обратно, врач крикнул «следующий», и если бы не служитель, позвавший
его к себе пальцем, он не знал бы, что ему делать. Служитель молча взял
у него из руки листок, посмотрел и сказал: «Прошел». Мишка поглядел
сам в приемную, но ничего разобрать не мог.
Здесь снова он почувствовал себя взрослым и вспомнил, что ему нужно
теперь итти в паспортное бюро, в город. Оно находилось по пути Мишкиного
возвращения на шахту. Снова — такой же грязный и темный коридор с мас-
сою маленьких, расположенных почти над самым полом окошек. Мишка
обрадовался, когда на одном из них прочел название своей шахты; смело
постучал в окошко и подал свои документы. Окошко закрылось и долго не
открывалось. Мишка стал побаиваться, что здесь у него получилось что-то
не так. Но вдруг раздался окрик: «Лагутин, Михаил». Он подбежал. Молодой
конторщик с папиросой в зубах спросил, куда он поступает, имя отца,
и сказал Мишке: «В шахтную контору», подавая приемную и длинную кви-
танцию, вместо свидетельства. Мишка обрадовался. Все идет так, как го-
ворил -отец. Он знал, что теперь ему нужно -итти в шахтную контору для
получения медного ном-ера и что, если- он опоздает, завтрашняя «упряжка»
пропадет.
Не долго думая, Мишка пустился бегом. На дороге катались ребята
на санях и на «деревяжках», но он не стал с ними задерживаться и побежал
снова к конторе.
В коридоре Мишка натолкнулся на- неожиданное препятствие: он не
мог достать — постучать в высокое- окошко. Но вошедший в коридор ра-
бочий выручил его из этого положения. Он подал в окошко Мишкины доку-
менты, а потом передал Мишке медный номер. Не видя конторщика, Мишка
услышал его слова: «Через два дня -придешь за книжкой».
Мишка посмотрел на лицевую сторону номера. Номер был круглый и
красивый. На нем он прочел знакомое название шахты, какие-то непонятные
для него буквы и посредине красивые цифры: «101».
С той поры- Мишка органически почувствовал -в себе этот номер. Он стал
нераздельно чувствовать себя с ним. Чтобы потом ему ни приходилось делать,
думать, он постоянно помнил свой номер 101, сжился с ним и где-то внутри
себя чувствовал, что он именно 101, а не какой-нибудь другой, и что он был
сто первым и раньше, а теперь это только подтвердилось.
Свой номер он любил и гордился им. Всегда, подавая в окошко лампу
в обмен на него, Мишка отчеканивал: «сто первый». Шахтеры называли
свои номера иначе. 1.218 называли обычно «двенадцать-восемнадцать» и
проч. Но Мишка этого коверканья не признавал и не понимал такого прене-
брежительного отношения к номеру.
После приемки, радостный и веселый, он возвратился домой. На улицу
не пошел, а стал живо и весело рассказывать отцу и матери о больнице,
о служителе и вообще о приемке. Отец молча и уныло слушал радостную
Мишкину речь. Он знал, что за этим приятным для Мишки днем- идут темные,
безотрадные дни каторжного труда, и что не раз придется сыну пожалеть
о безвозвратно ушедшем вольном и свободном детстве и не раз придется
проклинать этот «радостный» день.
Мишкины обязанности заключались в том, что он, нагруженный десят-
ком горящих тяжелых шахтных ламп, весом каждая до 5-ти фунтов, разно-
сил их по своему участку и обменивал их на потухшие у шахтеров.
Отправлялся Мишка на работу рано — в пять часов утра, а возвра-
щался около 6-ти, а иногда и в семь часов вечера. Работа была тяжелая;
от тяжести ламп ныли плечи и болели руки; но он не падал духом: Взрослые
шахтеры любили его, и он скоро стал известен не только шахтерам и десят-
никам, но и участковому рудничному штейгеру.
Мишкина «упряжка» оплачивалась шестьюдесятью копейками. В пер-
вую получку он получил за 12 «упряжек» ровно 7 рублей; 10 копеек удер-
жали на содержание бани и 10 копеек — на содержание церкви.
Деньги Мишка принес все домой, и из них отец сам дал Мишке
два рубля со словами: «На, Мишь, ты, брат, работник теперь, взрослый».
В эту получку, после долгого перерыва, напился отец Мишки. Он по-
слал его за водкой к соседу-забойщику, и Мишка принес две разливных
бутылки. Отец открыл одну. Мать поставила на стол отваренной картошки,
селедки и огурцов с кислой капустой; уселась сама за стол. Отец посадил
и Мишку.
—
Гуляем нончи, — начал отец, — помочь есть теперича. Получку
Мишка принес.
Отец налил водки в стаканчики и, толкнувши своим стаканчиком дру-
гие, вмиг его осушил. Сморщился, скривился, взял кусочек селедки и кар-
тошки. Крякнул. Мать выпила, тоже поморщилась, закусила. Мишка, зная,
что потом будет интересно и приятно, через силу выпил сразу побольше,
закашлялся, слезы выступили. Отец успел уже осушить третий стаканчик и
продолжал:
—
Эх, Мишка! Молодец ты у меня. Работником Мишка стал. Сына-
работника дождались. Другие получки домой не несут. Сами прогуливают
да пропивают. Мишка наш усю принес. Молодчина! Жисть тижелая только
у нас — вот что; каторжная — можно сказать. Кабы жисть другая, а то
шахта — эвестно, силушек моих сколько она взяла. Здоровым каким- был,
а теперича — што. Эх! — выпил, заставил выпить и Мишку. —
Сам ты работ-
ник нончи. Был и я кадась таким. Привезли земляки мине с деревни. Шонин
Митрий, молодым был тогда, рябого Афанаса отец тоже. Помер уже. Ликсей
Степашок, на откатке был, с истакада свалился, ногу сломал. Свезли в боль-
ницу. Ногу резать стали, не выдержал. Я никак с твоих лет был тогда. Две-
ровым принялся. Поначалу веселый повсегда был. В шахти народ все бойкий
да ловкий был. Не те теперича люди стали. Веселый, а с чего веселым-то
быть, одно еловой молодой, да дурной. А там как пошла жисть. Куды там,—
каторга в сто раз лучше. Теперича работаешь — знаешь за што работаешь,
получка придет, получишь, купишь што. А то коли хозяин с лавки даст
продухту — то и все. Как работаешь, за што, сколько за работу поло-
жено— ничего пезвестно. Денег не видели никогда. Да приди, да попроси ево;
на злого попадешь — морду набьет и выгонит. И все тут. —
Долго еще рас-
сказывал отец. Плакал, ругался, стучал кулаком.
У Мишки кружилась голова, и стали путаться мысли. Отец проклинал
свою жизнь и твердил, что теперь он будет отдыхать. Мишка понял, что
мать уже тоже охмелела; против криков отца она не возражала, а бормо-
тала что-то под нос. Мишка понимал, что.отец выливает наружу все то, что
у него накопилось за всю трудную и безотрадную жизнь.
Он вылез из-за стола. Потянуло на улицу. Жаль было оставаться дома
в таком интересном состоянии, чтоб его никто не видел и не слышал.
На улице он встретил тоже нетрезвого молодого «саночника», имени
которого не знал, а звали его в шахте все «Глазоедкой».
Глазоедка был невысокого роста, с рыжим длинным чубом, с малень-
ким плоским лицом и приплюснутым носом; но что у него было замечатель-
ного, так это глаза, за которые он и получил такую меткую кличку. Они
у него были маленькие, какие-то кругленькие и черные; бегал он ими с не-
обыкновенной быстротой.
Одет был Глазоедка в серый, ватный пиджак «на распашку», из-под
которого была видна розовая рубашка с мелкими белыми пуговицами, опоясан
широким кожаным ремнем; на ногах новые сапоги с лакированными голе-
нищами.
—
Здоров, Глазоедка! — обрадовавшись, сказал Мишка.
—
Здоров, «кронциркуль», куда прешь?
Мишка от своего уличного имени не избавился в шахте.
—
А ты куда? — спросил Мишка.
—
Да я к ребятам, на балганы, идем вместе.
—
Идем, — согласился Мишка и спросил у Глазоедки:
—
Получку большую получил?
—
Не. Шишнадцать рублев всиво. Долги позаплатил, ничево ни оста-
лось с получки.
—
Конторский ты, аль в артели? — спросил опять Мишка.
—
Конторский. Не берут в артель. Кабы земляки мои были — взяли.
Земляков моих тута нетути. Сам я пензенской, здалека.
—
В деревню деньгу шлешь?
—
Не. Никаво у меня. Посылать некому. Мать помёрла вдовой. Один
я бобылем. Все ничиво. Работа чижолая — не боюсь. Здоров сам и ладно.
Крестьянин и рабочий. Ч.'П.
*
^
А вот десятник пристаеть, говорить, набери четверть беленькой, не
то в дворовые переведу. Четверть, сам знаешь, два рубля стоит.
Вот сволочь привязалась... Чиво ты тут поделаешь, — озабоченно го-
ворил Глазоедка.
—
А десятник твой кто? — спросил Мишка.
—
Малый ростом, толстый такой, Иван Никоноров, знашь?
—
Знаю, — отвечал Мишка, — у мине десятник другой, хороший де-
сятник, как за свово повсегда стоить. Лавриненко, Митрофан Стипаныч.
Чиво, чиво, — десятник хороший у мине. Оно твово и в-идать, что сволочь.
Малые — повсегда вредные.
Глазоедка пребил Мишку:
—
Вот один в забое сказывал, на Парамоновском у них десятник
стерва стервой был. Терпели, говорить, терпели, потом и разделались. Зашел
раз в забой и давай орать. Орал ничиво, привыкли ужо. А то номера поза-
писывал, по два рубля штрафу кажному. Крепелыцик в забое был, здоровый
такой, молодой. Сцепись он с десятником. Слово за слово, дале — боле.
Десятник за шиворот ево. Вырвался тот, да энтого по башке топором как
ахнул. Ну, и готово. Капут — десятнику. Спужался крепельщик-то поначалу.
А потом оказывает нам: «Ну, ребята, грех общий, за вас и за себя опрел.
Давайте и концы ховать вместе». Стащили ево все до вагончика. Вбросили,
поверх породы насыпали. Поехал вагончик с десятником «на гора». Днем
аш, вывозил породу коногон. Перевернул вагончик, глидить, скатилось боль-
шое што-то. Он туды, — десятник мертвый. Знали таво десятника все. Поли-
ция была, протокол сняла,, все чисто, как полагается. А хто знает. С кого
начинать? Так и залилось енто дело.
Помолчали, потом Глазоедка добавил:
—
Маво пузатава б, штоб знал. Набери, набери, а набирать с чиво
тут? Паук...
Пришли на казармы.
В «балгане», среди шахтеров некоторые уже знали Мишку. Одни
называли его Лагуткой, а другие — «кронциркулем»'.
В большой, темной и грязной, с низким потолком комнате людей было
очень много; воздух тяжелый, остро пахло водкой, и стоял неугомонный шум.
Одна компания сидела за столом, на котором стояли две пустых и одна на-
чатая бутылки и закуска. Эта группа больше всех шумела, так как каждый
хотел рассказать своему собеседнику свое, а чтобы тот его лучше слышал,
старался кричать, покрывая крик другого...
—
Чихотку, говорю, у мине Василий Иванович-хвершал, прицелил, —
надрывался один.
Другой старался его покрыть:
—
А ты думал десятник — свой брат. Сволочь тоже, однаково, как и
шпегирь. Не нашу, а ихнюю руку держит. Так и смотри за упряжками.
Повсегда ни все запишет...
—
Так что, Васька; конец мне скоро придеть, — кричал чахоточный, —
потому Василий Иванович питание надо, говорить, супы, так и далее, яйцы; а
какие там супы у нас, — бутылку чаю в шахту на усю смену ыоаьмешь,
и все.
Третий орал во-всю:
—
Не я, говорю, виновен тут. Сам, Микит Питрович, приказали рас-
кришть. Я и раскрипил. Дело мое мало,—приказано сделай — и кончено.
Так нет, брат, рублевка штрафу так и присохла, хот ты тут што.
Другая группа, скучившись вокруг табуретки, кто на скамеечках, кто
на ящиках, — играла в карты. Карты Мишке были знакомы еще раньше.
Он с ребятами играл в «гарбу», под спички, под семячки. Здесь играли на
деньги. Скоро одно место освободилось, и Мишка вступил в игру. Он хорошо
знал ее и стал выигрывать. В голове попрежнему сильно шумело, но он
помнил, что он выигрывает. Вдруг началась паника. Все устремились к две-
рям, сбивая друг-друга с ног. Моментально у табуретки остался только
Мишка, возле него Глазоедка и пожилой шахтер. Мишка повернулся и увидел
рудничного полицейского урядника Назарова, в форменном синем мундире
с блестящими погонами, с шашкой и нагайкой в руках. На табуретке валя-
лись карты и рублей шесть денег. Урядник крепко выругался, спросил и
записал фамилию хозяина квартиры, которым оказался Пожилой шахтер.
Тот поднялся и стал просить урядника:
—
Филипп Петров, ей-богу, ни при чем я тут, ребята пришли сами,
потому — получка, и сами водки принесли.
Урядник собрал и забрал с собою карты, сгреб с табуретки в руку
бумажные и серебряные деньги, посмотрел косо на Мишку и, приказав всем
троим притти завтра в контору, во время наряда, вышел. Хозяин стал чесать
затылок, а потом махнул рукой и потащил Мишку и Глазоедку за стол.
Мишка еще немного добавил хмеля и вышел на улицу как-то незаметно не
только для Глазоедки и хозяина, но и для самого себя.
На улице он вспомнил об уряднике и все думал о том, что он сделает
с забранными деньгами. Тут Мишка вспомнил про свой выигрыш и, опершись
на забор, стал вытаскивать из всех карманов деньги и старался их подсчи-
тать; ему это удалось с трудом. Насчитал он больше девяти рублей. Вопрос
о завтрашнем- свидании с урядником его почему-то совершенно не беспо-
коил. Он продолжал стоять, опершись на забор. Ему было приятно от-
дохнуть и привести мысли и впечатления в порядок. Вокруг была обычная
для получки картина. Шахтеры тащили с городского рынка различные по-
купки, кто — сапоги, кто — ситец, рубашку, пиджак... Вот идет молодой
парень, весь в веснушках, с выбившимися во все стороны из-под шапки
длинными русыми волосами, в распахнутой поддевке. В руках новенькая,
переливчатая, цветка «ливенка» в 48 мехов. Он старательно репит на ней
«страдание». С ним целая кампания «стрюков». Гармонист подвыпил, ему —
«море по колена», пилит на «ливенке» и орет во все горло:
На Донской земле привольной
Нашли уголь антрацит,
Там порыли ямы, норы,
Где работают шах-еры.
Первый гудок загудел,—
Шахтер лапотки надел.
Второй гудок загудел,—
Шахтер к шахте полетел.
Рукоятчик не зевай,
Машинисту знать давай.
«Клетка» дернула, рванула,
Аш у сердце колонуло...
Песня лилась дальше и дальше по всему руднику. Знакомая песня
Мишке теперь показалась какой-то особенной, он почувствовал что-то род-
ное, близкое.
А вот по дороге тащит трезвый шахтер свою пьяную жену. У ней
красное, потное лицо, с нависшими на глаза, прилипшими к щекам, черными
волосами. Баба ругалась, часто плевала и старалась высвободиться от мужа,
но тот держал ее цепко. Сзади шел мальчуган лет 8-ми и утирал кулаченком
слезы.
Улицы рудника гудели и шумели; было много пьяных: мужчины, парни,
женщины и даже дети попадались с красными лицами и нетвердой походкой.
Недалеко от Мишки, прямо на замерзшей луже помоев и «жужельницы»
лежал здоровый детина и спал богатырским сном. Одна рука его лежала
«наотлет»; была она грязна, с крупными грязно-желтыми мозолями и чер-
ными прибитыми ногтями. Обут в «опорки». Мишке стало жаль этого де-
тину: он мог замерзнуть. Стал думать, как его отправить домой, но в это
время на казармах раздался дикий крик и свист. Мишка понял, что это
драка. В нем сразу забилось «ретивое», не помня себя, он побежал. Как
только повернул за угол каменного корпуса, глазам его представилась сле-
дующая картина: у круглого бетонного ящика, переполненного мусором и
«жужельницей», один дюжий молодой шахтер, с одичавшими глазами и сце-
пленными зубами, бил другого; тот держал его левой рукой за ворот ру-
башки, а правой небольшим камнем долбил по голове; при каждом ударе
получался глухой звук и по лицу струилась кровь. Жертва с наклоненной
головой вырывалась; несколько раз ему удавалось ногтями зацепить по лицу
бившего, после чего лицо того покрывалось кровавыми полосами.
Несколько дальше группа пьяных шахтеров, человек в пять, теснила
другую группу, при чем первая была вооружена «обушками» и палками, а
вторая вооружалась на-ходу камнями. Но здесь настоящей драки еще не
было. Мишка почувствовал желание помочь отступавшей группе, не зная
ни причины, ни участников драки.
—
Э, гробокопатели... сволочь, — вцепился Мишка в дюжего парня,
вырвал у него камень и с помощью избитого, свалил того с ног. —
Крой его, —
кричал Мишка, — не давай на катушки стать!
Избитый, шатаясь, клал на лежавшего удары каблуками. Тот ворочался
и рычал во-всю. Силился встать, но тщетно. Мишка всякий раз бил его
каблуками по ногам, и он снова падал.
Вдруг над Мишкой закричал кто-то:
—
Стешка, іпо башке обухом режь, не то он тебе добьеть. Обухом,
дьявол...
Кричавшего кто-то толкнул так, что он полетел через Мишку, выронив
обушок. Мишка подхватил обушок и пошел работать в общую свалку.
—
Лешка, Лешка, Лешка, позаду бегать, смотри, Лешка... —
надры-
вался кто-то. .
Другой дико орал:
—
Сеньку косого уходили, убили Сеньку, сволочи! Крой, ребята, за
Сеньку! За нашего Сеньку...
Словно по сигналу, все ринулись и потеснили наступавших. Мишка тоже
орал не своим голосом:
—
Крой гадов за Сеньку, крой, — и он навернул обушком по ногам
бородатого шахтера. Блеснули впалые, горящие, обведенные угольной пылью,
глаза, и бородач, как сноп, свалился.
Молодой озверевший шахтер, без шапки, с рассеченной окровавленной
губой, кричал, оплевывая набегавшую кровь:
—
Да, за Сеньку я... голову разможжу!
Вдруг Мишка почувствовал тяжелый удар кулака, из глаз посыпались
звездочки, в ушах зазвенело, и Мишка, потеряв сознание, грохнулся
наземь.
Очнулся Мишка тогда, когда было уже темно. Возле него — урядник
с городовым, с ним и —- мальчишки
и бабы. Мишка чувствовал в голове тяжелый
свинец и острую щемящую боль под глазом; понял, что его отливали водой,
возле была лужа воды, и стояла баба с ведром. Городовой крикнул Мишке
подняться. Он понял, что теперь не миновать ему кордегардии. Урядник
приказал городовому отвести его и зыкнул на собравшихся:
—
Разойдись!
Мишка побрел с городовым к уряднику во двор. Когда пришли, горо-
довой приказал наносить воды для лошади и коровы, и когда тот наотрез
отказался, городовой обругал его и сказал:
—
Ну, хорошо, подождешь Филипп Петровича, он тебе кожу спустит.
В это время Мишка увидел одного из своих старых приятелей, моло-
дого коногона, с которым когда-то катался на «породе». Он выносил из ко-
нюшни большой лопатой «навоз»; бросил его в кучу, поставил лопату и
подошел к Лагуте.
—
Здоров, ты тоже попал... Рано, друг, рано. Э, да у тебя, братец,
«финарь», вот здорово, ну, рассказывай, где это ты?
—
Да, понимаешь, на казармах маненько подрались, — улыбаясь, на-
чал Мишка, — ну, мене гадина какая-то финарь навернула, не знаю кто,
а то-б я... Жалко и подраться, как следует, не пришлось. А ты чиво попал?—
спросил коногона Мишка.
—
Да што рассказывать. Рассказывать нечего. Шел выпимши, и песню
пел, тут урядник. Захватил. Не жалко — за дело было, а то—так. ..
Через двор шел с охапкой сена другой шахтер. Он вошел в конюшню,
потом вышел и подошел к говорившим-.
—
А ты по каким делам? — улыбаясь спросил у него Мишка.
—
Да это — все одинаково, разви нас за што беруть. Надо
уряднику в дворе, да в конюшни робить, вот и берет, хто на
глаза попадется. Што там. Я вот никак четвертый раз в нево.
Ужо все хозяйство знаю. И де што лежить. Когда лошадь поить,
кормить, корову, — усе одним словом.
—
А ты, должно, за драку? — спросил он Мишку.
—
За драку, да. Работать не буду. Пущай сажаеть, коли провинился
я, а работать на него не стану.
—
Хуже себе сделаешь, а не ему. Час-два поработаешь, и дело- с кон-
цом. Снег там почищешь, воды натаскаешь, — все такое прочее — и домой.
А то морду набьет, да держать, хто зна, скольки будить. Таких он не
любить !
Коногон вытащил жестяную коробочку, в которой всегда носил ма-
хорку, насыпал ее в клочок печатной бумаги, свернул в виде трубки и, вспо-
мнив, что Мишка у него всегда курил, передал ему коробочку. Мишка свер-
нул себе толстую «козью ножку», сладко затянулся, выпустил облако сизого
дыма и сплюнул набок — через щель в зубах. Коногон стал хвалиться, что
сегодня он пропил и проиграл в карты 15 рублей, густо пересыпая свой рас-
сказ «крепкими словами». Тут Мишка вспомнил о своем выигрыше, кинулся
в карманы, — пусто. Ему стало жаль не всех денег, а только двух рублей,
заработанных собственным «горбом»; он рассеянно слушал коногона; хмель
у него уже проходил; боль под глазом беспокоила, и он старался поглубже
затянуться густым табачным дымом, находя в этом облегчение. Вдруг откры-
лась калитка, и во двор вошел сам урядник, за которым Мишка увидел своего
отца. Когда Мишку вел городовой, ребята дали знать домой. Никита не-
охотно пошел к уряднику просить высвободить сына. По дороге встретил
урядника, возвращающегося домой, снял шапку и стал просить, обещая сам
«облупить чертей Мишке». Урядник хорошо знал Никиту, знал уважение,
которое питают к нему все рабочие; его просьбу обещал исполнить и пошел
с ним вместе домой.
Мишка урядника не боялся, но здесь, когда урядник был с отцом; ему
стало как-то жутко. Явилась мысль, что если урядник станет сейчас бить?
Кто Мишке поможет: коногон — побоится помогать, а отец, — он глянул на
длинную тень урядника от фонаря и на маленькую короткую тень отца, и
от этого ему стало- еще более жутко. Отец помог бы, но его помощь никуда
не годится.
Урядник бить Мишку не стал, а, выругав его предварительно, начал:
—
Стыдно тебе, молокососу, отца-старика срамить. Покою от такой
сволочи на руднике нет. Не отец бы- у тебя, так я тебе, сволоченка, погонял
бы. Отца только жалко, а то-б ты у -меня двое суток с конюшни- не вылазил.
Можешь итти. А
-вы
чиво стали, ишь, лодыри! Что я задержал вас, чтоб вы
стояли да смотрели здесь? Что за- народ, эк, разбаловался как, лодырничает
почем-зря: сво-ему уряднику за проступок -поработать не хотят. В холодной
лучше сидеть, что-ли?
Оба принялись за работу. Отец с Мишкой вышли. От отца несло водкой.
По дороге он ничего не говорил и только дома сказал, что это все Мишка
сделал «негоже».
Мишка только теперь вспомнил, что- он. первый раз при отце и матери
открыто, курит. Он поел борща и усталый, разбитый лег спать.
Так кончился для него день первой получки.
М. Горький.
ПЕРВОЕ МАЯ.
Листки, призывавшие рабочих праздновать первое мая, каждую ночь
наклеивали на заборах, они являлись даже на дверях полицейского правления,
их каждый день находили на фабрике. По утрам полиция, ругаясь, ходила по
слободе, срывая и соскабливая лиловые бумажки с заборов, а в обед они
снова летали по улице, подкатываясь под ноги прохожих. Из города при-
слали сыщиков, и они, стоя на углах, щупали глазами рабочих, весело и ожи-
вленно проходивших с фабрики на обед и обратно. Всем нравилось видеть
бессилие полиции, и даже пожилые рабочие, усмехаясь, говорили друг другу:
—
Что делают, а?
Всюду собирались кучки людей, горячо обсуждая волнующий призыв.
Жизнь вскипала, она в эту весну для всех была интереснее, всем несла что-то
новое, одним — еще причину раздражаться, другим —смутно тревогу и наде-
жду, а третьим — острую радость сознания, что это они являются силой,
которая будит всех.
Павел и Андрей почти не спали по ночам, являлись домой уже перед
гудком, оба усталые, охрипшие, бледные. Мать знала, что они устраивают
собрания в лесу, на болоте, ей было известно, что вокруг слободы по ночам
рыскают' рав'еэды конной полиции, ползают сыщики, хватая и обыскивая от-
дельных рабочих, разгоняя группы и порою арестуя того или другого. Порою
ей казалось, что это было бы лучше для них.
И вот он пришел, этот день — Первое Мая.
Гудок заревел как всегда требовательно и властно. Мать, не уснувшая
ночью ни на минуту, вскочила с постели, сунула огня в самовар, приготовлен-
ный с вечера, хотела, как всегда, постучать в дверь к сыну и Андрею, но, по-
думав, махнула рукой и села под окно, приложив руку к лицу так, точно
у нее болели зубы.
По небу, бледно-голубому, быстро плыла белая и розовая стая легких
облаков, точно большие птицы летели, испуганные гулким ревом пара. Мать
смотрела на облака и прислушивалась к себе. Голова у нее была тяжелая,
и глаза, воспаленные бессонной ночью, сухи. Странное спокойствие было
в груди, сердце билось ровно, и думалось о простых вещах.
«Рано я самовар поставила, выкипит! Пускай они подольше поспят
сегодня. Замучились оба...» .
В окно, весело играя, заглядывал юный солнечный луч; она подставила
ему руку и, когда он, светлый, лег на кожу ее руки, другой рукой она тихо
погладила его, улыбаясь задумчиво и ласково. Потом встала, сняла трубу
с самовара, стараясь не шуметь, умылась и начала молиться, истово кре-
стясь и безмолвно двигая губами. Лицо у нее светлело, а правая бровь то ме-
дленно поднималась кверху, то вдруг опускалась.
Второй гудок закричал тише, не так уверенно, с дрожью в звуке,
густом и влажном. Матери показалось, что сегодня он кричит дольше, чем
всегда.
В комнате раздался гулкий и ясный голос хохла:
—
Павел! Слышишь?
Кто-то из них шлепнул босыми ногами о пол, кто-то сладко зевнул.
—
Самовар готов! — крикнула мать.
—
Встаем ! — ответил Павел весело.
—
Восходит солнце! — говорил хохол. —
И облака бегут. Это лиш-
нее сегодня, облака...
И вышел на кухню, растрепанный, измятый сном, но веселый.
—
Доброе утро, ненько! Как спали?
Мать подошла к нему и тихо сказала:
—
Уж ты, Андрюша, рядом с ним иди!
—
А конечно же! — прошептал хохол. —
Пока мы вместе — мы всюду
пойдем рядом, так и знайте!
—
Вы что там шепчетесь? — спросил Павел.
—
Мы ничего, Паша!
—
Она говорит мне — чище умывайся. Девицы будут смотреть! — от-
ветил хохол, выходя в сени мыться.
—
«Вставай, поднимайся, рабочий народ!» — тихо запел Павел.
День становился все более ясным, облака уходили выше, гонимые ве-
тром. Мать собирала посуду для чая и, покачивая головой, думала о том, как
все странно: шутят они оба, улыбаются в это утро, а в полдень ждет их —
кто знает — что?
Чай пили долго, стараясь сократить ожидание. И Павел, как всегда,
медленно и тщательно размешивал ложкой сахар в стакане, аккуратно посы-
пал соль на кусок хлеба — горбушку, любимую им. Хохол двигал под сто-
лом ногами, — он никогда не мог сразу поставить свои ноги удобно, — и,
глядя, как на потолке и стене бегает, отраженный влагой солнечный луч,
рассказывал:
—
Когда я был мальчишкой лет десяти, то захотелось мне поймать
солнце стаканом. Вот взял я стакан, подкрался и — хлоп по стене! Руку раз-
резал себе, и побили меня за это... А как побили, я вышел на двор, увидал
солнце в луже и давай топтать его ногами. Обрызгался весь грязью — меня
еще побили. Что мне делать? Так я давай кричать солнцу: «А мне не больно,
рыжий черт, не больно!». И все язык ему показывал. Это утешало.
—
Почему оно тебе рыжим казалось? — спросил Павел, смеясь.
—
А напротив нас кузнец был краснорожий такой и с рыжей бо-
родой. Веселый и добрый мужик. Так солнце, по-моему, на него было
похоже...
Не стерпев, мать сказала:
—
Вы бы о том поговорили, как пойдете!
—
Все сказано! — ответил Павел.
—
О решенном говорить, только путать! — мягко заметил хохол. —
В случае, если нас всех заберут, ненько, к вам Николай Иванович придет,
и он вам скажет, как быть. Он всем вам поможет.
—
Хорошо! — вздохнув, сказала мать.
—
На улицу бы пойти! — мечтательно проговорил Павел.
—
Нет, лучше дома посиди пока! — отозвался Андрей. —
Зачем на-
прасно глаза мозолить полиции? Ты ей довольно хорошо известен!
Прибежал Федя Мазин, весь сверкающий, с красными пятнами на щеках.
Полный трепета, радости он разогнал скуку ожидания.
—
Началось! — заговорил он. —
Зашевелился народ! Лезет на улицу,
рожи у всех, как топоры. У ворот фабрики все время Весовщиков с Гусевым
Васей и Самойловым стояли, речи говорили. Множество народа вернули до-
мой! Идемте, пора! Уже десять часов!
—
Я пойду! — решительно сказал Павел.
—
Вот увидите, — обещал Федя, — после обеда встанет вся фабрика.
И он убежал.
—
Горит, как восковая свечинька на ветру! — проводила его мать ти-
хими словами, встала и вышла на кухню, начала одеваться.
—
Куда вы, ненько?
—
С вами! — сказала она.
Андрей взглянул на Павла, дергая себя за усы. Павел быстрым жестом
поправил волосы на голове и вышел к ней.
—
Я тебе, мама, ничего не скажу и ты мне ничего не говори! Ладно,
родная?
—
Ладно, ладно! христос с вами! — пробормотала она.
Когда она вышла на улицу и услыхала в воздухе праздничный гул люд-
ских голосов, — гул тревожный и ожидающий, — когда увидела везде в окнах
домов и у ворот группы людей, провожавшие ее сына и Андрея любопытными
взглядами,—в глазах у нее встало туманное пятно и заколыхалось, меняя цвета,
то прозрачно зеленое, то мутно-серое.
С ними здоровались, и в приветствиях было что-то особенное. Слух ее
ловил отрывистые, негромкие замечания.
—
Вот они, воеводы!
—
Нам известно, кто воевода...
—
Да ведь я ничего худого не говорю!
В другом месте на дворе кто-то кричал раздраженно:
—
Переловит их полиция, они и пропадут!
—
Ловила!
Воющий голос женщины испуганно прыгал из окна на улицу.
—
Опомнись! Что ты холостой, что ли? Они холостые — им
все равно!
Когда проходили' мимо дома безногого Зосимова, который получал
с фабрики за свое увечье ежемесячное пособие, он, высунув голову из окна,
закричал:
—
Пашка! Свернут тебе голову, подлецу, за твои дела, дождешься!
Мать вздрогнула, остановилась. Этот крик вызвал в ней острое чувство
злобы. Она взглянула на опухшее, толстое лицо калеки, он спрятал голову,
ругаясь. Тогда она, ускорив шаг, догнала сына и, стараясь не отставать от
него, пошла следом.
Он и Андрей, казалось, не замечали ничего, не слышали возгласов,
которые провожали их. Шли спокойно, не торопясь, и громко говорили о про-
стых вещах. Вот их остановил Миронов, пожилой и скромный человек, всеми
уважаемый за свою трезвую, чистую жизнь.
—
Тоже не работаете, Данило Иванович? — спросил Павел.
—
У меня жена на сносях, — ну, и день такой, беспокойный!.- —
об'яснил
Миронов, пристально разглядывая товарищей, и негромко спросил:
—
Вы, ребята, говорят, скандал директору хотите делать, стекла
бить ему.
—
Разве мы пьяные? — воскликнул Павел.
—
Мы просто пойдем по улице и песни будем петь! — сказал хохол.
—
Вот послушайте наши песни — в них наша вера.
—
Веру вашу я знаю!- —задумчиво сказал Миронов. —
Бумаги ваши
читал. Ба, Ниловна! — вскликнул он, улыбаясь матери умными глазами.—
И ты бунтовать пошла?
—
Надо хоть перед смертью рядом с правдой погулять!
—
Ишь ты! — сказал Миронов. —
Видно, верно про- тебя говорят, что
ты на фабрику запрещенные книжки носила!
—
Кто это говорит? — спросил Павел.
—
Да уж говорят! Ну, прощайте, держитесь солиднее!
Мать тихо смеялась, ей было приятно, что про нее так говорят. Павел
сказал ей, усмехаясь:
—
Будешь ты в тюрьме, мама!
—
Не откажусь! — молвила она.
Солнце поднималось все выше, вливая свое тепло в бодрую свежесть
вешнего дня. Облака плыли медленнее, тени их стали тоньше, прозрачнее.
Они мягко ползли по улице и по крышам домов, окутывали людей и точно
.
чистили слободу, стирая грязь и пыль со стен и крыш, скуку с лиц. Станови-
лось веселее, голоса звучали громче, заглушая дальний шум возни машин и
вздохи фабрики.
Снова в уши матери отовсюду — из окон, с дворов, ползли и летели слова
тревожные и злые, вдумчивые и веселые. Но теперь ей хотелось возражать,
благодарить, об'яснить, хотелось вмешаться в странную, пеструю жизнь
этого дня.
За углом улицы, в узком переулке, собралась толпа, человек во сто, и
в глубине ее раздавался голос Весовщикова.
—
Из нас жмут кровь, как из клюквы! — падали на головы людей не-
уклюжие слова.
—
Верно! — ответило несколько голосов сразу гулким звуком.
—
Старается хлопец! — сказал хохол. —
А ну, пойду, помогу ему!
Он изогнулся и, прежде чем Павел успел остановить его, ввернул
в толпу, как штопор в пробку, свое длинное, гибкое тело. Раздался его пе-
вучий голос:
—
Товарищи! — Говорят, на земле разные народы живут — еврея и
немцы, англичане и татары. А я в это не верю! Есть только два народа,
два племени — богатые и бедные. Люди разно одеваются и разно говорят,
а поглядите, как богатые французы, немцы, англичане обращаются с рабочим
народом, так и увидите, что все они для рабочего — башибузуки, кость им
в горло!
В толпе засмеялись.
—
Ас другого бока взглянем, так увидим, что и француз рабочий, и
татарин, и турок, такой же собачьей жизнью живут, как и мы, русский рабо-
чий народ!
С улицы все больше подходило народа, и один за другим люди молча,
вытягивая шеи, поднимаясь на носки, втискивались в переулок.
Андрей поднял голос выше.
—
За границей рабочие уже поняли эту простую истину и сегодня,
в светлый день первого мая...
—
Полиция! — крикнул кто-то.
С улицы в проулок прямо на людей ехали, помахивая плетками, двое
конных полицейских и кричали:
—
Разойдись!
—
Какие тут разговоры?
—
Который говорит?
Люди хмурились, неохотно уступая дорогу лошадям. Некоторые вле-
зали на заборы. Звучали насмешки.
—
Посадили поросят на лошадей, а они хрюкают: вот и мы воеводы! —
кричал чей-то звонкий, здоровый голос.
Хохол остался один посредине проулка, на него, мотая головами, на-
ступали две лошади. Он подался в сторону, а в то же время мать, схатнв
его за руку, потащила за собой, ворча:
—
Обещал вместе с Пашей, а сам лезет на рожон один!
—
Виноват! — сказал хохол, улыбаясь Павлу. —
Ух, сколько этой по-
лиции на земле!
—
Ладно! — ворчала мать.
•
Ею овладела тревожная, разламывающая усталость, она поднималась
изнутри и кружила голову, странно чередуя в сердце печаль и радость. Хо-
телось, чтобы скорей закричал обеденный гудок.
Вышли на площадь, среди которой стояла церковь. Вокруг нее, в цер-
ковной ограде густо стоял и сидел народ; здесь было сотен пять веселой
молодежи, озабоченных женщин и ребятишек. Толпа колыхалась, люди бес-
покойно поднимали головы кверху и заглядывали вдаль, во все стороны, не-
терпеливо ожидая. Чувствовалось что-то повышенное, некоторые смотрели
растерянно, другие вели себя с показным удальством. Тихо звучали пода-
вленные голоса женщин, мужчины с досадой отвертывались от них, порою
раздавалось негромкое ругательство. Решенное и решившееся сталкивалось
с недоумевающим и боязливым. Глухой шум враждебного трения обни-
мал толпу.
—
Митенька! — тихо дрожал женский голос. —
Пожалей себя!
—
Отстань! — прозвенело в ответ.
А степенный голос Сизова говорил спокойно, убедительно:
—
Нет, нам молодых бросать не надо! Они стали разумнее нас, они
живут смелее! Кто болтную копейку отстоял? Они! Это нужно помнить. Их
за это по тюрьмам таскали, — а выиграли от того все!
Заревел гудок, поглотив своим черным звуком, людской говор. Толпа
дрогнула, сидевшие встали, на минуту все замерло, насторожилось и много
лиц побледнело.
—
Товарищи! — раздался голос Павла, звучный и крепкий. Сухой,
горячий туман ожег глаза матери, и она одним движением вдруг окрепшего
тела встала сзади сына. Все обернулись к Павлу, окружая его, точно кру-
пинки железа кусок магнита.
—
Братья! Вот пришел час нашего отречения от этой жизни, полной
жадности, злобы и тьмы, от этой жизни насилия над людьми, от жизни, в ко-
торой нет нам места, где мы — не люди!
Он замолчал, и все молчали, плотней и гуще сливаясь около него.
Мать смотрела в лицо ему и видела только глаза, гордые, смелые, жгучие...
—
Товарищи! — Мы решили открыто заявить сегодня, кто мы, мы
поднимаем сегодня наше знамя, знамя разума, правды, свободы!
Древко, белое и длинное, мелькнуло в воздухе, наклонилось, раз-
резало толпу, скрылось в ней, и через минуту над поднятыми кверху
лицами людей взметнулось красной птицей широкое полотно знамени рабо-
чего народа.
Павел поднял руку кверху — древко покачнулось, тогда десяток рук
схватили белое гладкое дерево и среди них была рука Матери.
—
Да здравствует рабочий народ! — крикнул он.
Сотни голосов отозвались ему гулким криком.
—
Да здравствует социал-демократическая рабочая партия, наша пар-
тия, товарищи, наша духовная родина!
Толпа кипела, сквозь нее пробивались ко знамени те, кто понял его
значение, рядом с Павлом становились Мазин, Самойлов, Гусевы, наклонив
голову, расталкивал людей Николай, и еще какие-то незнакомые матери
люди, молодые, с горящими глазами, отталкивали ее.
—
Да здравствуют рабочие люди всех стран! — крикнул Павел. И, все
увеличиваясь в силе и в радости, ему ответило тысячеустное эхо потрясаю-
щим душу звуком.
Мать схватила руку Николая и еще чью-то, она задыхалась от слез,
но не плакала, у нее дрожали ноги.
По рябому лицу Николая расплылась широкая улыбка, он смотрел на
знамя и мычал что-то, протягивал к нему руку, а потом* вдруг охватил мать
этой рукой за шею, поцеловал ее и засмеялся.
—
Товарищи! — запел хохол, покрывая своим мягким голосом гул
толпы. —
Мы пошли теперь крестным ходом во имя бога нового, бога света
и правды, бога разума и добра! Крестным ходом мы идем, товарищи, долгим,
трудным путем для человека. Далеко от нас наша цель, терновые венцьг —
близко! Кто не верит в силу правды, в ком нет смелости до смерти стоять
за нее, кто не верит в себя и боится страданий—отходи от нас в сторону!
Мы зовем за собой тех, кто верует в победу нашу; те, которым не видна
наша цель — пусть не идут с нами, таких ждет только горе. В ряды, това-
рищи! Да здравствует праздник свободных людей!
Толпа слилась плотнее. Павел махнул знаменем, оно распласталось
в воздухе и поплыло вперед, озаренное солнцем, красно и широко улыбаясь...
Отречемся от старого мира...
раздался звонкий голос Феди Мазина, и десяток голосов подхватил:
Отрясем его прах с наших ног!..
Мать с горячей улыбкой на губах шла сзади Мазина и через голову его
смотрела на сына и на знамя. Вокруг нее мелькали радостные лица, разно-
цветные глаза — впереди всех шли ее сын и Андрей. Она слышала их го-
лоса — мягкий и влажный голос Андрея дружно сливался в один звук с голо-
сом сына ее — густым и басовитым!:
Вставай, подымайся, рабочий народ,
Вставай на борьбу, люд голодный!..
И народ бежал встречу красному знамени, он что-то кричал, сливался
с толпой, шел с нею обратно, и крики его гасли в звуках песни, — той песни,
которую дома пели тише других, — на улице она текла ровно, прямо, со
страшной силой. В ней звучало железное мужество, и, призывая людей в да-
лекую дорогу к будущему, она честно говорила о тяжести пути. В ее большом
спокойном пламени плавился темный шлак пережитого, тяжелый ком при-
вычных чувств, и сгорала в пепел проклятая боязнь нового:
Мы пойдем к нашим страждущим братьям...
лилась песня, обнимая людей.
Чье-то лицо, испуганное и радостное, качалось рядом с матерью, и дро-
жащий голос, всхлипывая, восклицал:
—
Митя! куда ты?
Мать, не останавливаясь, заговорила:
—
Пусть идет, — вы не беспокойтесь. Я тоже очень боялась, — мой
впереди всех! Который несет знамя —это мой сын!
—
Разбойники! Куда вы? Солдаты там!
И вдруг, схватив руку матери костлявой рукой, женщина, высокая и
худая, воскликнула:
—
Милая вы моя, поют-то как! И Митя поет...
—
Вы не беспокойтесь! — бормотала мать. —
Это святое дело... Вы
подумайте — ведь и христа не было бы, если бы его ради люди не гибли.
Эта мысль вдруг вспыхнула в ее голове и поразила ее своей ясной про-
стой правдой. Она взглянула в лицо женщины, крепко державшей ее руку,
и повторила удивленно улыбаясь:
•— Не было бы христа-то, если бы люди не погибли его, господи, ради!
Рядом с нею явился Сизов. Он снял шапку, махал ею в такт песне и
говорил:
—
Открыто пошли, мать, а? Песню придумали... Какая песня, мать, а?
Царю нужны дал войска солдаты,
Отдавайте ему сыновей ..
—
Ничего не боятся! — говорил Сизов. —
А мой сынок в могиле,-—
задавила его фабрика, да!
Сердце матери забилось слишком сильно, и о.на начала отставать. Ее
быстро оттолкнули в сторону, притиснули к забору, и мимо нее, колыхаясь,
потекла густая волна людей. Она видела — их было много, и это радовало ее.
Вставай, подымайся, рабочий народ!
Казалось, в воздухе поет огромная, медная труба, поет и будит людей,
вызывая неясную радость, предчувствие чего-то нового, жгучее любопытство,
возбуждая смутный трепет надежд, — открывая выход едкому потоку годами
накопленной злобы. Все заглядывали вперед, где качалось и реяло в воздухе
красное знамя.
—
Хором пошли! —ревел чей-то восторженный голос. —
Славно, ре-
бята!
И, видимо, чувствуя что-то большое, чего не мог выразить обычными
словами, человек ругался крепкой руганью. Но и злоба, темная, слепая злоба
раба, горячо лилась сквозь зубы его, щипела змеей, извиваясь в злых словах,
встревоженная светом, упавшим на нее.
—
Еретики! — грозя кулаком из окна, кричал кто-то надорванным
голосом.
И назойливо лез в уши матери чей-то сверлящий визг:
—
Против государь-императора, против его величества-царя? Бун-
товать?
Мимо матери мелькали смятенные лица, подпрыгивая, пробегали муж-
чины, женщины, лился народ темной лавой, влекомый этой песней, которая
напором звуков, казалось, опрокидывала перед собой все, расчищая дорогу.
И в груди матери властно росло желание закричать людям:
—
Родные!
Глядя на красное знамя вдали, она — не видя — видела лицо сына, его
бронзовый лоб и глаза, горевшие ярким огнем веры.
Но вот она в хвосте толпы, среди людей, которые шли не торопясь,
равнодушно заглядывая вперед, с холодным любопытством зрителей, которым
заранее известен конец зрелища. Шли и говорили негромко, уверенно.
—
Одна рота у школы стоит, а другая — у фабрики.
—
Губернатор приехал.
—
Верно?
—
Сам видел, — приехал!
Кто-то радостно выругался и сказал:
—
Все-таки бояться стали нашего брата! И войско и губернатор.
—
Родные! — билось в груди матери.
Но слова вокруг нее звучали мертво и холодно. Она ускорила шаг,
чтобы уйти от этих людей и ей легко было обогнать их медленный, ле-
нивый ход.
И вдруг голова толпы точно ударилась обо что-то, тело ее не остана-
вливаясь покачнулось назад с тревожным и тихим гулом. Песня тоже вздрог-
нула, потом полилась быстрее, громче. И снова густая волна звуков опусти-
лась. поползла назад. Голоса выпадали из хора один за другим, раздавались
отдельные возгласы, старавшиеся поднять песню на прежнюю высоту, толк-
нуть ее вперед:
Вставай, подымайся, рабочий народ!
Иди на врага, люд голодный!..
-
Но не было в этом зове общей, слитой уверенности, и уже трепетала
в нем тревога.
Не видя ничего, не зная, что случилось впереди, но догадываясь, мать
расталкивала толпу, быстро продвигаясь вперед, а навстречу ей задом пяти-
лись люди, одни — наклонив головы и нахмурив брови, другие — конфузливо
улыбаясь, третьи — насмешливо свистя. Она тоскливо осматривала их лица,
ее глаза молча спрашивали, просили, звали...
—
Товарищи! — раздался голос Павла. —
Солдаты такие же .люди, как
и мы. Они не будут бить нас. За что бить? За то, что мы несем правду, нуж-
ную всем? Ведь эта наша правда и для них нужна... Пока они не понимают
этого, но уже близко время, когда они встанут рядом с нами, когда они пой-
дут не под знаменем грабежей и убийств, который лгуны и звери велят им
звать знаменами славы и чести, а пойдут под вашим знаменем свободы и
добра. И для того, чтобы они поняли нашу правду скорее, мы должны итти
вперед. Вперед, товарищи! Всегда — вперед!
Голос Павла звучал твердо, слова звенели в воздухе четко и ясно, но
толпа разваливалась, люди один за другим отходили вправо и влево к домам,
прислонялись к заборам. Теперь толпа имела форму клина, а острием ее был
Павел, и над его головой красно горело знамя рабочего народа. И еще толпа
походила на черную птицу — широко раскинув свои крылья, она насторожи-
лась, готовая подняться и лететь, а Павел был ее клювом.
Н. Ляиіко.
ПЕРВОМАЙСКИЕ ПРОКЛАМАЦИИ.
Земли касаются красные ресницы нашего праздника. Чтобы ярче был
он, мы суетились, горели в последние дни. Чтоб не вспыхнул он, в город вве-
дены солдаты и казаки. Он идет, разгорается, дрожит в усталых глазах.
А гудки зовут, зовут, как всегда. И зов их — боль.
Чочные сторожа срывают, соскабливают белые листы. Всю ночь
с дрожью в руках м.ы притискивали их к шершавым кирпичам и заборам.
Срывайте, срывайте, они в нас.
Из сонно зевающих домов выходят люди и озираются. Не бойтесь, идите.
С реки плывет гул. Берег в дыму, в пару пароходов и шхун, в пыхтеньи.
Запудренная мельница дрожит. Угольщики шаркают графитными лаптями,
пригибаясь к тачкам. Растет шеренга торговок. По мосткам, покачиваясь,
снуют с мешками грузчики в разноцветных по колени рубахах. Напружен-
ные жилы, хрипота голосов, лязг весовых цепей.
—
Эй-эй! Долой сумасшедшие рубахи каторжных будней I
...Судоремонтный завод проглотил тех, чей разгорается праздник. Из
мастерских катятся грохот, дробь и гул. Так, так... Не услышали, не почув-
ствовали...
С тоской вглядываюсь в наклеенное на будку грозное предостереже-
ние и сажусь подле дремлющего заводского полицейского.
—
А-а.. . ты кто будешь? — вздрогнув, почти вскрикивает он и пялит
на меня сонные, тупые глаза.
—
Токарь.
—
А-а, токарь... без дела? Я люблю токарей. Хитрая у вас работа.
Железо, медь или еще что... ржа на нем, а если токарю дать, что хочешь
сделает... Как стекло будет. Дальний?
Оказывается, мы земляки. Это радует его. Он оживает и кладет мне
на колено руку:
—
Вот хорошо-то... Я тебя поставлю на завод... Я могу, — не одного
поставил. Здешний народ, сам знаешь, не то, что наш. Все норовит насчет
этих прокламациев.
Земляк косится на ворота и шепчет:
—
Бунтовать сегодня собирались. Сам читал, своими глазами... Чего
бунтовать? А жизнь чтоб легкая. Чушь, одним словом. Переловить бы их...
мутят которые, да с моста, при всем народе, в воду.
Оборачиваюсь и замечаю: в глазах земляка не тупость, а вера: в жизни
все на своем месте, всякий, тронувший, сдвинувший что-либо в ней с места, —
враг... Вот такой, поди, и в мастерской порта донес на меня. От его лица,
от слов пышет густыми потемками. Чудак: земляков представляет такими же,
как сам. Не поверит, если скажу, что в карманах у меня, под поясом, тысячи
прокламаций, что я буду разбрасывать их. Рассказывает о родине, рассказы-
вает тягуче, любовно, и я порывисто спрашиваю:
—
А тебе не страшно?
—
Чего?
—
Следить за теми, кто с прокламациями?
—
А что же делать, раз надо... Их только распусти...
—
А если убьют?
Лицо земляка сереет.
—
Ну-у, убьют!.. Что ты?
—
А ты разве не думал об этом?
—
А чего тут думать?
—
Чего если? Я к тебе по-доброму, а ты плетешь...
—
Испугался? — вставая, смеюсь я. —
Надо было раньше думать. Те-
перь поздно смеяться...
Шея земляка вытягивается. Он сверлит меня глазами, как будто дога-
дывается, кто я, и не верит себе.
—
На-днях зайду, — говорю я. —
Стереги, спи.
Он молчит...
...
На мосту через железнодорожный путь прячу в карман фуражку и
кидаю в снующих на перроне людей стаю прокламаций. Вижу, как мелькают,
разлетаются они, и мчусь по ступеням.
За лавчонками и ларями снимаю пиджак, надеваю фуражку и выхожу.
У моста снуют вокзальные жандармы.
«Мечитесь, мечитесь».
...Главная улица — лавка. Торгует, блестит, заманивает. Кто хочет
быть счастливым, здоровым, богатым и красивым! Покупайте, покупайте! Не
торгуйтесь, платите больше и будете красивее, здоровее, счастливее, богаче.
Здесь все продается... Выбирайте, глядите, ослеляйтесь и вам захочется
смеяться. Как халва и вакса, как буза — банками, фунтами и бутылками —
продаются ваши мечты. Покупайте!
Если в сердце выцвел смех, в нем родится гнев. Если нет места гневу,
родится злоба, отвращение. Да, да... Вы только вглядитесь...
Среди продажных фунтов, банок, аршинов и бутылок мы сегодня крик-
нем о своем, о непохожем на лавку, где несчастные торгуют счастьем.
Да, крикнем.
Крестьянин н рабочий. Ч. II .
18
...По лицам, по платью и палкам узнаю своих, родных. Они мелькают
среди прохожих, толпятся у книжных витрин, у редакции газеты и афишных
столбов. Так, ждите, ждите. В саду мне шепчут:
—
Перенесено на вечер.
Силы падают. Сажусь на скамью, но в воображении вертятся станки,
машины; в ушах стоит грохот, и сердце дергается. Шагаю.
От фабрики к фабрике, от окон к окнам. Звенит, пыхтит, стучит.
Мелькающие ремни ткут в душе паутину горечи.
Гудки, взревите, сломайте рассчитанный бег звуков. Прочь молотки,
зубила, кронциркуля, верстатки! Ведь, праздник, праздник...
...На берегу, у амбаров, в толпу грузчиков пускаю ватагу прокламаций.
Кто-то сзади впивается в мои плечи:
—
А-а, попался...
Но на его руки падают кулаки:
—
Пусти!
—
Не трогай!
—
Как не трогай?
Вот оно, готовься. Жду ударов, криков... Озираюсь, вижу, как расхва-
тывают прокламации. Несколько человек, отворачиваясь, выталкивают меня
из толпы. Один сипит в затылок мне:
—
Уходи скорее.
Оглядываюсь, ищу его. Спины, плечи, блеск глаз на бронзовых лицах.
Длинные рубахи в пятнах пота. Все свои.
Иду за амбары. Женщины ковыряют иглами мешки и поют уныло. На
улицу бы их, напружить силой голоса и заглушить шум пролеток, музыку
ресторанов и звон денег. Прокричать о боли спин, о грязи и тоске. Светом
глаз, миллионы раз дергавшихся от натуги к небу, затмить блеск фальшивых
зубов, золота, румян, шелка и камней...
...Тает дневной свет. Деревья тянутся ветвями друг к другу, и улица
похожа на ждущий света длинный фонарь. Снуют тени. Тротуары в шорохах.
Мостовая в треске и гуле. Света, больше света! Так, ярче!
Глаза спешат к циферблату. Стрелки, дружнее! Взад и вперед проез-
жают казаки. Впереди, на белой лошади, старик с белой бородой на две сто-
роны. С картины с'ехал, тенью гарцует. Хорош, хорош...
Сад и сквер запружены. Сюда, все сюда! Не верьте треску колес и цо-
канью— замрут. В переулках, во дворах стоят солдаты. Шастают ищейки.
Пусть. Отбивайте сердцами за секундой секунду. Близится, скачет.
Юрка, Крапивин, Голубев, Иваныч — все здесь. Уже умирает раненый
скукой день. Рука в руку. Глаза — в последний раз к циферблату. Еще миг.
Насторожитесь, вспомните пережитое, расцветите мечтами... И в небо, за
звездами. Вот, слушайте, сейчас грянет... Вот:
—
На мостовую-у -у!
Во мне отдается тысячеголосый крик:
—
А-а-а-а! — и раздвигает челюсти.
Весь я, всем, что во мне, вонзаю крики в ревущие «Долой» и «Да здрав-
ствует»... Мой голос — капля, но капля к капле и вверх, — вверх по стволу,
чтоб зеленело, смеялось, шумело, спорило...
Рука сжимает руку. Ее напряжение спешит к сердцу. Так, так. Капля
к капле, кровинка к кровинке, мысль к мысли — спаивайтесь, спаивайтесь.
И в ноіу, тверже, тверже.
—
Долой...
—
Ура-а -а. ..
Впереди, с головы слетает шляпа. Глядите: над нагой головою кровыо
взвивается красное и прыгает в свет. Выше, выше. Древко — свеча. Вот...
С хлынувшего на голову красного m всю улицу, на всю ночь кричит серебря-
ное «Да здравствует»... Эй, чьи руки вышивали, это дрожь ваших пальцев,
блеск стали, искры ваших глаз горят. А к ним наши искры... Ярче, ярче.
Тесней!
—
«Отречемся...»
—
качаются от тревоги и напряжения голоса и под-
хваченные сбоку, сзади, впереди, взлетают.
Громче! День, погоди умирать. Чахнет скука, сбывается весеннее, Зе-
ленеет, шумит, спорит. Мы голосами сплетем тебе венок. Оленем помчишься
с ним по земле. Погоди, погоди... Видишь, как блекнет короста вывесок?
Швыряет волнами плеч. Красное колеблется. Из-за него выступает
морда лошади и белая борода на две стороны. Пойте, громче пойте, голосами
глушите его крики...
Впереди сотни лошадиных морд, сотни картузов и рук с нагайками.
Наши голоса захлестывает вихрь вскриков, стук копыт. Лошади близко,
взвиваются нагайки. Красное дрожит, никнет в топот, рев и треск. Спа-
сайте, спасайте...
Но нагайки секут, свистят, хлещут. Солдаты рядом. Приклад плющит
во мне крик, но рука в руке. Рассеивающая волна плеч и голов мчит нас
вдоль тротуара, и мы разбиваемся о приклады.
Нас вталкивают в переулок, и мы — уже не мы: вокруг чужие, дрожа-
щие. Шипят, ноют, бранят. Юрка, Крапивин, это нас, нас. Мы помешали им
покупать, продавать, выбирать, млеть и щуриться.
Сквозь шипящих и испуганных спешим на соседнюю улицу. Через двор
проникаем в сад и шагаем к выходу, к месту, где сломалась наша песня.
По мостовой катят пролетки, стоит цепь солдат, вереницей едут ка-
заки. Старик впереди. Белый, на белой лошади, гарцует победившей тенью.
—
Юрка, конец...
Не смейтесь, не смейтесь, вывески: мы придем в другой раз, в третий —
пока приклады не разобьются о наши груди.
H. Ляшко.
ПРОПАГАНДИСТ ТЮТЯ.
Еще раз из-за домов колокольня плеснет в окна звоном — и свиданье.
В комнате душно. На улице мешают прохожие. Шагаю по переулкам. Надо
утомить себя, тогда сердце перестанет метаться.
Минута в минуту подхожу к церковке, похожей на девушку в темной
кофте, и сажусь у ограды на балки. Тишина все гуще, и мне кажется, до
утра просижу я один. Кому я нужен? Что я знаю? На что способен? Да, да...
Но кто знает, на что я способен?
Звезды разгораются, мигают. Доносится запах акаций. За кладбищем
поет соловей. За пеленою тишины, среди камней ворочается город. Пусто.
В переулке раздается кашель. Шаги все ближе, громче... «Так»: из-за
угла показывается Иваныч. Рядом с ним шагает незнакомый, огромный. «Вот
оно». Палка в руках незнакомца кажется соломинкой.
—
Вы здесь? Отлично... знакомьтесь, — говорит Иваныч и, назвав не-
знакомца по имени: Тютя, со смехом шепчет мне: — Не смущайтесь, имя
хорошее... Толкуйте без меня, меня ждут.
Тютя садится рядом и закуривает едкую трубку. Гляжу на него искоса.
Расплюснутый нос влеплен в черные усы. Глаза, вероятно, сверлящие. Ворот
рубахи расстегнут, шляпа в руке. Сипит. Раскурив трубку, поднимается и
говорит:
—
Я, знаете, не люблю вот таких закоулков. Словно в лопухах. Лучше
на ходу потолкуем.
Под ногами похрустывает. Тютя мизинцем вжимает в трубку огонь и
неожиданно спрашивает:
—
Вы самостоятельно давно начали жить? А-а... А родители кто? У-у.
Видите, какая штука... М -м ... Молоды вы, да и тот ли вы, о ком мне говорили?
Вы работали в Н-ом порту? Чуть не влетели там? Значит, вы... И все-таки,
знаете, не будем играть вслепую. Может быть, вы расскажете мне, при каких
обстоятельствах, когда вы попали в кружки, что читали... Вообще, расска-
жите немного о себе...
Мне душно и тяжело. Кажусь себе маленьким, обиженным и смятым.
Хочу сказать резкость и уйти. Сжимаю кулаки: «Экзаменовать вздумал» —
и спохватываюсь: «Ведь он прав: кто я? что я?» С трудом разжимаю челюсти
и невнятно бормочу о своем детстве, о мытарствах. Сбиваюсь и еле овладеваю
собою. Говорю о том, где, на каких заводах и фабриках работал, о товари-
щах, о книгах, о планах и сомнениях. Неожиданно замечаю: идем по противо-
положному берегу реки, в шорохах камышей, под мигающими звездами.
Сквозь звуки собственного голоса слышу писк комаров; вижу, как дым
трубки мутит звезды, и обрываю:
—
Вот, кажется, и все.
—
Прекрасно, постоим немного.
С низовья катится песня. Слушать мешает слово Тюти: «Прекрасно».
Кажется, он обрадовался тому, что я умолк. «Разошелся, как на исповеди»,
калю я себя. Крик сирены комкает песню. Тютя трогается и басит:
—
Решили вы верно: главное в том, как жить, а сколько жить, это
почта не важно. Со временем, конечно, это решение даст трещину, а пока
оно кажется цельным. Хорошо, что мы поговорили, а то сомневался. У нас
есть два дела. Какое выберете, то и ваше. Нам нужен товарищ для связи
с типографией. От практической работы ему придется отказываться и вести
жизнь отшельническую... Вот. Теперь второе. В минувшую забастовку же-
лезнодорожным мастерским портили депо мелких степных станций. Они про-
мывали, чинили паровозы, и движение не прекращалось. Решено послать на
ряд станций людей и закрепить, расширить связи. Вот и выбирайте.
Река ломает огни судов и берега. Ее, суда, тени и усеянную золотыми
искрами громаду города я вижу до боли четко. Глотаю воздух, чтобы заглу-
шить стук сердца, и сипло говорю:
—
Меня ко второму тянет.
—
Правильно! — одобряет Тютя. —Живое к живому. Но, раз вы вы-
брали второе, вам придется пока проявить себя здесь. Как? А вот начнем
с того, что вы подготовитесь к завтрашнему собранию пекарей. Не волнуй-
тесь. Вы будете говорить вместо меня, но я буду там же и выручу, если слу-
чится что... С неделю поработаем так, тогда поедете. Не робейте. Быт вы
знаете. Только поменьше треску, жалобности и красот. И не жульничайте,
т. - е. не притворяйтесь всезнайкой. Сделайте работу своей потребностью.
Жертвователи, вздыхатели за нас, страдатели всякие нам не нужны. Это
народ настроения, капризный, скучный... Раз работа для нас будет не дол-
гом, не какой-то обязанностью, а потребностью, мы все одолеем, все вынесем...
Вслушиваюсь жадно, напряженно и чувствую: этой ночи, слов Тюти
не забыть. Они ничего не дают, но то, что мелькало во мне, выпрямляется,
крепнет. Впервые ощущаю, что и я думал.
Город встречает нас звоном. Полночь, а во мне утро. Стою на пере-
крестке с теплом Тютиной руки в руке. Не разжимаю ее. До рассвета хожу
по сонным улицам, боюсь итти к себе, боюсь проспать распускающееся
в сердце.
Время летит.
Никогда я не ощущал себя таким неподвижным. Приходит утро, полу-
дня будто нет, и вдруг сразу ложатся тени вечера. А я не готов, я в лихорадке.
Во мне хаос, отрывки из Дарвина, Молешотта, Маркса, Бокля, Мечникова,
Смита, Липперта и др., др. Во мне мечутся заводы, фабрики, шахты. Во мне
миллионы захлебываются водкой, тысячи томятся в тюрьмах, лежат в боль-
ницах с провалившимися носами, с трухлыми легкими и т. .д.,
ит.д.
Во мне все.
По два раза в день забегает Тютя. Переступив порог, вперяет в меня
колющие глаза и кратко спрашивает:
—
Ну? Как дела?
;
Говорю. Слушает, кивает головою, обрушивает на меня град вопросов
и пыхтит трубкой. Отвечаю. Фыркает, роется в книгах, одни швыряет:
—
К дьяволу дребедень ! — на пол, другие раскрывает и тычет в стра-
ницы пальцем. —
А это что? Надо уметь пользоваться книгой. Она не грам-
мофон.
Вечерами ходим на собрания. Дорогой он уморительно рассказывает
о себе: наборщик, много раз сидел в тюрьме, был за границей, бежал из
ссылки. О самом тяжелом рассказывает со смехом, добродушно. На собра-
ниях подталкивает меня вперед и басит:
—
Сегодня вот этот товарищ будет говорить...
Говорю у пекарей, у столяров, у портных и модисток, у наборщиков,
на массовках. После каждого собрания Тютя высмеивает мою манеру гово-
рить, ударения, примеры. Птичьими, кургузыми, зелеными называет построе-
ния моих речей и тут же ширит, оживляет их.
Я слушаю, и моим зубам, прижатым друг к другу, больно. Дрожу и прячу
дрожь. Насмешки, жестокость, доводы Тюти — ледяная вода. В их холоде
боль и сила. Меня давят, потрясают его опыт, находчивость, добродушие, по-
следовательность и глубина.
Слушая его, минутами задыхаюсь: его душа сплетается с моей, мы одно.
Чудится, я изглодаю томящую меня неуверенность, смирю в себе хаос чувств
и дум, окрепну, вырасту. И не изменю радости роста. Сквозь горе и тьму
пронесу ее.
*
*
*
На зыбком пламени городских огней маячит казачий раз'езд. Вгляды-
ваемся в него и шагаем в сторону, вдоль насыпи... В ушах еще стоит гул
голосов.
—
Сегодня кончается неделя вашего испытания, — тихо говорит Тю-
тя. —
Жалко, но это уже от лукавого. Во всяком случае, вам эта неделя
кое-что дала. Станция, куда вы поедете, стоит в степи. Вероятно, там очень
скучно. Надо быть упрямым и злым с обывательщиной. Глазами впиваться
в нее, как змея впивается в птичку. И глядеть, глядеть, чтоб не опутала она
паутиной пирогов, покоя и прочих прелестей. На станции у нас только один
свой человек — токарь Артем. Толковый, хороший, но мягкосердый. Здесь
работал, женился на кружковой девице. Оба были арестованы. Он выдержал,
а она почти возненавидела наше дело и утащила Артема в степь. Запомните
это, и на поворотах полегче. Вот. Если не поступите там на работу, возвра-
щайтесь. Письмо Артему вам занесут завтра с книгами... Ну, я к вокзалу...
Всего вам... Не поминайте лихом...
—
Хорошо, воздержусь.
На моей ладони тепло Тютиной руки. На губах тепло его губ. Несу их
к городу, несу все, что разбудил во мне Тютя. Может быть, завтра увезу его
в степь и там додумаю, взрощу.
M. Арцыбашев.
РАБОЧИЙ ШЕВЫРЕВ.
Шевырев стоял на заводском дворе и сквозь мутное громадное окно,
перекрещенное железным переплетом, смотрел в машинный зал.
Внутри что-то жужжало и тарахтело, и стекла тихонько дрожали.
Огромные окна, должно быть, давали, внутрь массу света, но со двора, где
так светло и высоко возносилось свободное небо, казалось, что внутри царит
вечный полумрак. Видно было, как таинственно ползали вверх и вниз
какие-то цепи, как стремительно, но, казалось, беззвучно неслись маховые
колеса и бежали бесконечные ремни. Все двигалось, копошилось и ворочалось,
но людей почти не было заметно. Только иногда, среди черных, холодно
отсвечивающих чудовищ, показывалось бледное человеческое лицо с глазами,
как у мертвеца, и сейчас же уходило обратно в мутный мрак, наполненный
гулом и движением. Этот страшный гул, казалось, все наростал и наростал,
но все оставался одним и тем же — тяжким и однообразным. А пыльные
стекла окон сливали все в бесцветный тон, плоский и серый, как на полотне
какого-то огромного синематографа.
У самого окна, на фоне ворочающихся с неуклюжей ловкостью черных
рычагов, колес и поршней, маленькое коленчатое чудовище из стали и же-
леза, уродливо кривляясь и посвистывая в тон общему гулу, быстро стружило
холодную медную чушку, и тоненькие золотые стружки торопливо извива-
лись из-под его острых металлических зубок. Над ним качалась согнутая чело-
веческая спина и двигались большие грязные руки. Это качание было мерно
и монотонно и до странности сливалось в одно с движениями маленького ко-
ленчатого чудовища.
Шевырев внимательно смотрел именно на него. Это был такой же
самый станок, как тот, за который когда-то встал он, полный несбывшихся
надежд, и у которого изо дня в день, с утра до вечера, простоял пять долгих
лет: стоял и здоровый, и больной, и грустный, и веселый, и влюбленный, и
измученный думой о тех, к кому рвалась душа.
Если бы кто-нибудь в эту минуту заглянул в глаза Шевыреву, то пора-
зился бы их странному выражению: они не были холодны и ясны, как всегда;
в них теплела какая-то нежная грусть и остро выглядывала непримиримая,
железная ненависть.
По временам губы его вздрагивали и нельзя было понять — улыбка ли
это, или Шевырев что-то беззвучно шепчет про себя.
Так простоял он долго, потом резко повернулся, точно по команде,
и твердыми шагами пошел прочь.
—
Где контора? — спросил он у первого попавшегося навстречу рабо-
чего с таким бледным и запыленным лицом, что живые человеческие глаза на
нем казались странными.
—
Вон. Второй под'езд, — ответил рабочий и остановился.
—
Записываться?.. Не берут, — прибавил он не то сочувственно, не
то злорадно, и улыбнулся, показав из-под тонких синеватых губ широкие,
белые, как у негра, голодные зубы.
Шевырев спокойно посмотрел ему в лицо, как будто хотел
сказать:
—
Знаю... —
и отворив дверь, вошел в контору.
Там уже ждало человек десять, сидевших вдоль двух высоких белых
окон. На светлом фоне виднелись только темные силуэты и тускло блестел
синеватый блик на чьей-то гладкой лысине, похожей на череп. Безличные
и безглазые силуэты повернулись в сторону Шевырева и опять успокоились
в терпеливом: привычном' ожидании. Шевырев стал у двери и застыл, как
на часах.
Долго было тихо. Только по временам переговаривались, наклоняясь
друг к другу, безглазые черепа у окон да три конторщика, согнувшись на
высоких конторках, шелестели бумагой и так бойко трещали на счетах,
точно показывали свое искусство. Потом, наконец, хлопнула внутренняя
дверь, и толстый, короткошеий человек быстро вошел в контору.
—
Никифоров, штрафную ведомость! — самоуверенным пухлым голо-
сом крикнул он.
Конторщик бросил перо и стал рыться в груде синих книг, но в это
время вставшие при входе мастера, безличные силуэты двинулись со всех
сторон и сразу столпились кругом него. Стали видны их поношенные пиджаки,
рваные шапки, грязные сапоги, серые лица с голодными глазами и повисшие
жилистые руки.
—
Господин мастер! — сразу заговорило несколько разнообразно
хриплых голосов.
Толстый человек грубо и раздраженно выхватил книгу из рук контор-
щика и повернулся к ним.
—
Опять! — неестественно громко крикнул он. —
Ведь вывешено об'-
явление. Ну?
—
Дозвольте об'яснить, — начал
высокий лысый старик, выдвигаясь
вперед.
—
Да что тут об'яснять! Нет работы, ну, и нет!.. Заказов нет... Ну?
Скоро своих рассчитывать будем. Странное дело!
На мгновение все примолкли и как будто потупились. Но высокий лы-
сый старик заговорил надорванным слезливым тоном:
—
Мы понимаем... Конечно, если работы нет... Что ж тут станешь
делать. Только что невмоготу... Голодаем... Нам бы инженера Пустовойтова
повидать.. В прошлый раз они обещали посмотреть...
Его блестящие голодные глазки с мольбой и страхом смотрели на
мастера.
—
Нельзя! — вдруг неожиданно свирепея, отрезал мастер и весь на-
лился кровью.
—
Федор Карлович...
—
настойчиво, как будто ничего не слыша, про-
тянул старик.
—
Я сто раз вам говаривал, — с сильным немецким акцентом, кото-
рого раньше не было слышно, но гораздо тише проговорил мастер, — что ин-
женер тут не при чем!
—-
Да они...
—
Да их на заводе сейчас нет, — перебил немец и отвернулся.
—
А как же, экипаж их у под'езда стоит... —
заметил кто-то из кучки.
Мастер быстро повернулся туда, и лицо его подернулось холодной
злостью.
—
Ну... и стоит! Вам же лучше! — насмешливо выговорил он и опять
шагнул к двери. .
—
Федор Карлович! — поспешно выкрикнул старик, порываясь за ним.
Немец на секунду пристально остановил глаза на его лице и даже не
на лице, а на лысине.
—
А тебе... —
медленно и злорадно выговорил он, — и вовсе ходить
нечего. Какой ты работник!
—
Федор Карлович, — с отчаянным выражением вскрикнул старик, —
помилуйте... разве я... Я завсегда на лучшем счету...
—
То всегда, а то теперь, — притворно небрежно бросил немец, —
устарел, брат, пора на покой.. Лучше и не ходи, все равно!
Он взялся за ручку двери.
—
Помилуйте, я...
Но дверь хлопнула, и старик с размаху уперся в ее желтую, как будто
насмешливую стену. Он постоял, развел руками и повернулся, точно хотел
сказать:
—
Ну, вот... Что ж дальше?
И вдруг все стали надевать шапки и выходить во двор.
Однако, они не расходились и столпились у под'езда, как маленькое
стадо вьючных животных, головами внутрь. Должно быть многим и итти
было некуда, так бесцельно, не то растерянно, не то равнодушно смотрели
они под ноги. Один стал закуривать, а другие внимательно следили за ним.
Измятая папироса долго не раскуривалась.
—
От ветра-то хоть отвернись, — заботливо заметил кто-то.
—
А... чтоб...! — неожиданно* крикнул закуривавший, с силой швырнул
папиросу о стену и стал, точно не знал; что делать дальше.
—
Ведь вот какая история... третий день не евши... —
пробормотал
зеленый парень и неожиданно улыбнулся, как будто ожидая сочувствия остро-
умной шутке.
—
И четвертый не поешь! — совершенно равнодушно отозвался тот,
что закуривал.
Как раз в эту мунуту с другого под'езда быстрой и щеголеватой поход-
кой вышел плотный светловолосый господин с приподнятыми пушистыми
усами. При виде его почти неуловимое движение пробежало в кучке рабочих.
Они как-то нервно дрогнули, двинулись вперед и стали. Только один старик
снял шапку, обнажив свою грязную лысину. По плотному лицу инженера
скользнула короткая тень. Он как-будто хотел что-то сказать, но вместо
того выразительно пожал плечами, укоризненно посмотрел вверх и раздра-
женно крикнул:
—
Степан! Подавай! Какого чорта!..
Толстый кучер с часами на пояснице двинул лошадь к под'езду. Инже-
нер быстро и ловко поднялся на подножку дрожек и плотно опустился на
скрипнувшее кожей сиденье. Рыжий рысак, блестя переливистой шерстью,
разом, точно играя, взял с места; шины колес мягко описали полукруг, и
пролетка легко понеслась в ворота завода. Еще раз она мелькнула на улице
и скрылась.
И сразу рабочие стали расходиться.
Шевырев вышел последним. Он засунул руки в карманы, выпрямился,
высоко поднял голову и быстро пошел по улице.
При водянистом свете осеннего дня большой город казался особенно
грязным и холодным. Прямые, как стрелы, мокрые улицы уходили в синева-
тый тума-н, и там, где люди, лошади, дома и фонари сливались в одну мутную
синеву, призрачно золотился, как будто вися в воздухе, тонкий шпиц адми-
ралтейства.
Шевырев шел по липким от грязи тротуарам, среди разбросанной то-
ропливой и озабоченной толпы, мимо открытых дверей зелено-желтых пив-
ных и красных чайных, мимо бесконечного ряда слепых окон, в несколько
этажей висящих над беспокойной, копошащейся улицей.
Люди шли навстречу, обгоняли, переходили улицу, толпились у лотков,
скрывались под воротами, похожими на погреба, и опять выбегали оттуда.
Местами шел тяжелый и мрачный скандал, и над кучкой каких-то оборван-
цев висела круглая зловещая брань. Все были такие грязные, безобразные,
в таком тряпье, что казалось странным, как они не устыдятся своего звер-
ского вида и не разбегутся во все стороны, чтобы где-нибудь, по лесам и
оврагам, нарыть себе темных нор. А над этой копошащейся в грязи толпой
высоко и стройно стояли электрические фонари и бесконечными линиями
тянулись проволоки телеграфа и телефона.
Из открытых пивных с чадом и гамом, как оголтелые черти, вырывались
хриплые крики граммофонов, а порой, точно комья рвоты из обожравшегося
желудка, вываливались на мостовую пьяные груды, не похожие на людей.
Они или тут же валились в заплеванную грязь, или, толкая встречных, брели
куда-то в сизый туман бесконечной улицы. Где-то вдали раздавались дикие
вопли, и не всегда можно было разобрать, кричит ли это зверь, обезумевший
от голода и боли, или поет пьяный человек.
На перекрестках неподвижно чернели железные фигуры конных городо-
вых и бесстрастно смотрели куда-то поверх толпы. По временам они под-
нимали руки в белых перчатках, а их крупные лошади непонятно качали
большими умными мордами.
*
*
В подвальной кухмистерской, где обедал Шевырев, было шумно, как
на пожаре, и от табаку, пота и кухонного смрада стоял такой плотный лип-
кий пар, что люди тонули в нем, как в болотном тумане.
Шевырев сидел у окна, за которым туда и сюда непрестанной чередой
мелькали человеческие ноги и, поставив локти на мягкую от жира скатерть,
безучастно смотрел в соседнюю комнату, где за разбитым биллиардом дви-
гались в табачном дыму какие-то тени с палками. Сухой треск, хохот и
ругань доносились оттуда. За соседним столиком сидела компания подвы-
пивших сапожников. Один, тощий, отчаянного вида парень, с серьгой в ухе,
видимо забавлял всех, издеваясь над другим., простоватым; мужичоиком, гля-
девшим ему в рот бессмысленно заинтересованными глазками. Парень что-то
врал, врал с азартом, захлебываясь от удовольствия и по временам сам не вы-
держивал, разводил в восторге руками й, поворачиваясь к публике, воскли-
цал блаженным голосом:
—
Вот дурак-то, братцы! Я ему все вру, все вру, а он все верит!.. Как
есть все верит, братцы.
Мужичонка конфузливо улыбался, махал рукой и отворачивался, но па-
рень с серьгой неожиданно ложился грудью на стол, широко раскрывал рот
и начинал торжественным голосом:
—
А то еще, когда я был в Пензе...
Мужичонка вздрагивал, вытягивал шею и покорно устремлял глаза
в рот рассказчику.
Поминутно визжала дверь на блоке и вместе с клубами уличной сы-
рости впускала новых и новых посетителей, которые еще со ступенек лест-
ницы начинали ругаться.
Мрак густел, густел туман, и крик висел под низким потолком, точно
все это: крик, вонь, пар, люди и брань переплетались в один кошмарный гряз-
ный ком, в котором ничего нельзя было разобрать.
За одним столиком с Шевыревым, вскоре после него сел худой длинно-
шеий человек с очень черным и как будто восторженным лицом. Он, оче-
видно, все время находился в страшном волнении: то подпирал голову ру-
ками, то оглядывался по сторонам, то ерзал на стуле, что-то отыскивая
у себя по всем карманам и ничего не находя. По временам он посма-
тривал на Шевырева и, кажется, очень хотел заговорить, но не решался.
Шевырев заметил это, однако смотрел холодно и никакой поддержки не
оказывал.
Наконец, после одной особенно козырной выходки парня с серьгой,
вызвавшей громкий хохот мастеровых и окончательное смущение легковер-
ного мужичонки, длинношеий человек повернулся к Шевыреву и, искательно
улыбнувшись, показал на парня головой.
—
Отча-янной, должно быть, жизни человек! — вежливо заметил он.
—
Да... —
неохотно отозвался Шевырев.
Длинношеий человек, точно этого только и нужно было, ре-
шительно повернулся и с таким видом, как будто махнув на все
рукой, сказал:
—
Вы, товарищ, из наших... рабочий, видно?
—
Да, — опять коротко ответил Шевырев.
Длинношеего человека всего передернуло.
—
Послушайте, можно вас просить... Я только три дня, как приехал
в столицу... Нельзя ли у вас узнать, как мне быть насчет работы. Сле-
сарь я... А?
Глаза его смотрели на Шевырева просительно и робко, но лицо все-
таки сохраняло восторженное выражение.
Шевырев помолчал.
—
Не знаю, — ответил он, — я сам без работы. Работы нигде
нет... Застой. В городе сейчас
несколько
десятков
тысяч безра-
ботных...
Человек с восторженным лицом, слегка открыв рот, молча смотрел на
Шевырева. Потом лицо его стало меняться, бледнеть и распускаться и вдруг
приняло выражение наивного бессильного отчаяния. Он откинулся на спинку
стула и развел руками.
—
Зачем вы сюда приехали? — неожиданно и даже озлобленно спро-
сил Шевырев. —
Неужели вы не знаете, сколько голодного народу сюда едет.
Сидели бы там, где были.
Человек опять развел руками.
—
Нельзя было... Рассчитали по волчьему билету... Что ж станешь
делать?
'йі.; «bf-Äi/säi
—
За что ж так? — почти равнодушно спросил Шевырев.
—
Так. Забастовка. Ну... депутатом товарищи выбрали... Тогда-то не
смели трогать, а теперь, как успокоение пошло, и припомнили, значит...
Ну, и вон!
—
А где вы работали?
—
На копях... В слесарях был.
—
Депутатом были?.. Что же товарищи не выручили?
Шевырев произнес это со странным и недобрым выражением, но смо-
трел в сторону, точно внимательно прислушивался к новой брехне парня
с серьгой.
Слесарь удивленно посмотрел на Шевырева.
—
Какая там выручка!.. Пригнали три роты солдат, пулемет поста-
вили... Вот и все!
—
А вы разве не знали,, что этим кончится?
—
To-есть... в будущем, разумеется... а пока, конечно, знал.
—
Зачем же шли?
—
To-есть как, зачем?.. Товарищи выбрали...
—
А вы бы отказались, — попрежнему безучастно глядя в сторону
возразил Шевырев.
—
Ну, как же так... Если все станут отказываться, тогда что ж...
—
Однако же, против пулеметов лезть все отказались?
—
Это дело другое... Мало ли что, на смерть!.. Люди семейные, жены,
дети.
—
А вы бессемейный?
Слесарь слегка вздрогнул, потупился, потер лоб и тихо ответил:
—
Мать есть...
Он помолчал, глядя в угол, и, Казалось, тоже внимательно слушал
забористого парня с серьгой.
—
И хотел посля того инженер выдать за меня дочь, да я отказался...
—
П-пчему?— с жалостливым недоверием спросил мужичонка, впе-
рив восхищенный взгляд в рот парню.
—
А пытаму, милый человек, что я мастеровой, пролетарий, а она дво-
рянка. Конешно, очень она мне и самому приглянулась, а только нам не рука...
На прощанье, значит, она мне сама шампанского вынесла и говорит: «Я вас,
Елизар Иваныч, очень уважаю и всегда помнить буду...» Ну, и... кольцо зо-
лотое дала... Как же!
—
Ну? — придвинулся мужичонка.
—
Ну, что ж... Кольцо и теперь... в ломбарде за пять целковых лежит.
Нонича я не при деньгах, опосля ужо выкуплю, носить буду... Нельзя, по-
тому— память!
—
А что, братцы, я вам скажу! — вдруг совершенно другим- голосом
сказал парень, поворачиваясь к прочим слушателям, — попал я в Пензе на
аглмцкий завод, братьев Морис называется... Так вот, братцы, штука!.. Штра-
фов никаких, за болезнь без вычету, для рабочих каменные флигеля с ме-
белью... Ну, просто, как в царствие небесное попал... Обращение деликатное,
сам старый англичанин все на вы и за руку, как товарищ все равно... Не то,
что у нас, а прямо, можно сказать, рабочему человеку человеческое житье
предоставлено и...
—
Ну, будя врать! — неожиданно рассердился мужичонка и махнул
рукой с разочарованным видом, — мелет не знай что!.. А я дурак,
слушаю...
—
Ей-богу, верно! — с икренним жаром побожился парень.
—
А ну тебя! — окончательно рассвирепел мужичонка.
—
Вот врет!
Тьфу!
Он сердито встал и отошел в угол, где принялся свертывать ножку,
что-то оскорбленно ворча про себя.
Слесарь быстро пригнулся к Шевыреву и пробормотал:
—
Шестой месяц из дому.. Может и померла старушка с голоду..
Черное лицо его покривилось.
—
Что же, если правду вы говорите, что на работу рассчитывать нельзя,
тогда что же... С моста да в воду?
Он быстро поставил локти на стол и запустил пальцы в вихрястые во-
лосы.
—
Пустое, — возразил Шевырев.
—
А как же иначе? — моментально поднял голову слесарь. —
С го-
лоду умирать, что ли?
Шевырев медленно и недобро улыбнулся.
—
Говорят, смерть от воды — самая мучительная... С голоду, пожалуй,
лучше...
Чернолицый слесарь широко открыл глаза и вопросительно посмотрел
на Шевырева.
—
Да и что вы докажете тем, что утопитесь?.. Одним голодным меньше,
им же лучше!..
—
А что же делать?
—
Ищите работы, если ничего другого не придумаете, — вскользь за-
метил Шевырев.
Слесарь отчаянно махнул рукой.
—
Я шесть месяцев ищу... Нигде не возьмут — политический!.. По
ночлежкам ночую, по три дня голодаю... Теперь на работу стань, пожалуй,
и силы не хватит... Позавчера милостыню просил... До чего дошло!
—
Как?
—
Да так... Попросил и все тут... Шла какая-то барыня, ну, я и по-
просил...
—
Дала?
—
Нет. Говорит, мелочи нет...
-—
Ага, мелочи! — обронил Шевырев одним уголком губ.
Он положил руку на стол и забарабанил пальцами Слесарь .внима-
тельно и безнадежно следил за этим мелким нервным движением. Вокруг
кричали, шумели и ругались, а в биллиардной тупо стучали мастиковые шары
и один, видимо разбитый, катался с грохотом, точно где-то далеко шел поезд.
Парень с серьгой перебрался в биллиардную, и оттуда доносился его зали-
хватский голос. Мимо окна все также, туда и сюда мелькали нога. Казалось
даже, что это одни и те же люди нарочно ходят мимо окна: пройдут и во-
ротятся, постоят за углом и опять пробегут мимо.
—
Ну, хорошо... а добились вы чего-нибудь, по крайней мере? — за-
говорил Шевырев.
—
А как же! — воскликнул слесарь.
С его черным безнадежным лицом произошла мгновенная перемена;
глаза заблестели, голова приподнялась, и прежнее восторженное выражение
разлилось по всей его длинновязой фигуре.
—
У нас, знаете, горнорабочие — самый тупой народ. Да и что с них
спрашивать: целый день, с пяти часов утра до восьми вечера, под землей.
Вечером домой прибежит, поест и спать... А в четыре часа гудок — вставай.
Грязь, вода, простуда, то и дело гляди, взрыв... В нашей шахте два взрыва
было: один раз восемнадцать человек, а другой двести восемьдесят два убило...
Жизнь совершенно каторжная... Если горнорабочего на каторгу сошлют, ему
там лучше покажется!.. Ну, конечно, народ тупой и забитый до бесконеч-
ности. Мастеровые наши, те развитые... Партийный народ... Мы одни и ору-
довали сначала... Трудно было. Шпионство развито — страсть. Чуть что,
сейчас на ухо инженеру: Иванов, Петров, там, нехорошо себя ведут. Ну и в два-
дцать четыре часа, через полицию, вон... Пропаганда страшно• трудна была...
Однако, в конце-концов, раскачали-таки.
Слесарь восторженно и горделиво улыбнулся.
Сразу было видно, каких нечеловеческих усилий стоила ему эта рас-
качка, сколько опасности, страха и муки перенес он, пока работал в темном
подполье, и сколько восторга пережил, когда увидел первый успех.
Шевырев внимательно смотрел на него.
—
Всего добились: представительства рабочих, права собраний, квар-
тирный вопрос поставили, больницу улучшили, прогнали старого доктора...
Скотина был... Библиотеку завели и своего туда посадили...
—
И много народу перебито было? — всколзь заметил Шевырев.
—
Нет, тогда ничего... Солдаты были, но стрелять не смели. Тогда
боялись... А потом, действительно...
Слесарь махнул рукой, и восторженное выражение медленно сошло
с его черного худого лица.
—
Явилась, как водится, черная сотня... Пошел раскол, а начальство,
как увидело, что все пошло в разброд, сейчас же придралось к случаю, и
началось!.. Представителей наших из комиссии вышибли, набрали черносо-
тенников и мастеров, депутатов пересадили по тюрьмам, библиотеку за-
крыли...
—
Вы что ж смотрели?
—
Я тогда в тюрьме был.
—
Да не вы один, а все.
—
To-есть, как все? Депутаты?
—
Не депутаты, а все рабочие.,, которых вы раскачали?
—
Да... я ж говорю, пулеметы поставили против шахты...
—
Ах, да... пулеметы...
—
неопределенно выговорил Шевырев.
Слесарь с минуту молчал, и лицо его все больше и больше кривилось.
—
Знаете... Что они только творили — одному богу известно!.. Все
было: и нагайки, и пальба, и насилия над женщинами... Депутатам больше
всего досталось... Мне еще ничего, потому что меня во-первых арестовали...
А другим попало здорово... Библиотекаря нашего казак к седлу привязал и
погнал рысью в город... Руки у него связаны назад были, так что, если он от-
ставал, то их выворачивало, и он падал в грязь и волочился прямо по земле...
а сзади- ехал другой казак и пикой его колол, чтобы поднять... Ч-ор-т! Многие
плакали, как его гнали...
—
А, плакали! — повторил Шевырев.
В его холодном голосе прозвучало лютое, непримиримое презрение. Но
лицо было попрежнему неподвижно, и только пальцы быстрее барабанили
по столу.
Слесарь, очевидно, понял, потому что глаза его засверкали.
—
Да, плакали! И еще будем плакать... Только плачем-то ведь мы
кровавыми слезами !
Он поднял руку и погрозил черным пальцем. Лицо у него стало ис-
ступленное, точно вся душа напряглась в грозном восторге.
Шевырев холодно улыбнулся.
—
Слишком дешево цените вы свои кровавые слезы! — презрительно
сказал он.
—
Дешево или нет, а они отольются в свое время! — с выражением по-
чти безумной, непреклонной веры ответил слесарь.
—
Отольются ли?.. И когда?.. Когда вы уже с голоду сдохнете?
Слесарь испуганно взглянул ему в глаза. Какая-то страшная борьба
отразилась на его голодном черном лице с блестящими фантастическими
зрачками. С минуту они прямо смотрели в глаза друг другу. Шевырев не дви-
гался. Слесарь вдруг опустил глаза, его длинное тело как-то ослабело, и по-
ложив голову на руки, он упрямо ответил:
•— Ну и сдохну... Разве ;моя жизнь чего-нибудь стоит в сравне...
—
Нет, ничего не стоит! — жестко перебил Шевырев и встал.
Слесарь быстро поднял голову, хотел что-то сказать и опустил ее
опять.
—
Вишь, назюзюкался! — крикнул кто-то из-за соседнего столика и
захохотал пьяным идиотским смехом.
Шевырев немного постоял, подумал. Губы его шевелились, но он ничего
не сказал, криво усмехнулся и, подняв голову, пошел к выходу.
Черный слесарь не поднял лица.
С. Васильченко.
вступление в кружок.
Илья с идущим за ним Матвеем вышел во двор мастерских. Они спу-
стились с насыпи, прошли мимо кузнечного и литейного цехов, перешли
несколько запасных железнодорожных линий, пересекавших двор, и очути-
лись возле вагонного цеха.
Когда они подошли к нему, на площадке стоявшего у входа в цех вагона
показался молодой рабочий.
Матвей узнал в нем того смуглого спутника Ильи, с которым старший
Сабинин проходил сегодня по кузне.
Тот соскочил, и все трое остановились у вагона.
—
Знакомьтесь и разговаривайте, — предложил Илья — а я ухожу.
Брюнет-юноша, с тонким нервным лицом и проницательными глазами,
в куртке и черной с вышивкой рубашке, сунул Матвею руку и остановился
на нем взглядом.
—
Это вы изувечили провокатора Развозова? — сразу сороил он.
—
Да, я с товарищами...
—
Ага, вы! Садитесь сюда,— указал он на рельсы под вагоном, уса-
живаясь туда и сам. —
Нам нужно поговорить.
Матвей сел.
—
Вы прокламации читали? — Недавно распространялись тут.
—
Читал!
—
Ну, как вы относитесь к тому, что в них сказано?
Матвей опустил ладонь на колено и начал ею прихлопывать в такт
словам.
I
—
Я думаю, что все рабочие должны поступить, как в ней сказано:
организовать партию, об'явить борьбу, биться до последнего, чтобы капита-
листов уничтожить.
—
Правильно! А нелегальные книжки вы читали какие-нибудь?
Матвей с недоумением посмотрел.
—
Нелегальные?
—
Да. Так называются запрещенные книжки, которые печатаются и
раздаются исподтишка революционерами рабочим.
—
А разве такие книжки есть?
—
Да, по ним только и можно узнать о социализме.
—
Нет, не читал. За каждую книжку отдал бы всю свою получку.
—
Ага, хорошо! Но вы знаете, что мы в бога не верим?
Матвей посмотрел на испытующе взглянувшего при этих словах на него
рабочего и энергичней хлопнул себя по коленке. Он обрадовался тому, что его
спросили об этом.
—
Я недавно еще сомневался, есть ли бог. А когда прочел прокламацию,
то решил, что рабочим бог нужен так же, как лесному волку подковы.
Верно я думаю?
'т'лХ' • /
—
Ха! — ухмыльнулся теперь агитатор. —
А вы знаете, что с такими
рассуждениями от тюрьмы не спастись?
—
Не знаю, но это все одно. Если все будут как следует думать,
тюрем не хватит.
—
Правильно! А вы знаете, что это может кончиться и виселицей?
Матвей нахмурился, сжав губы, и оттолкнул ногой лежавший перед
рельсами камень.
—
Пускай повесят половину сейчас. Зато потом люди будут жить
по-человечески, вместо всеобщего всемирного свинства, от которого теперь
никто не знает куда деваться...
—
Что же вы будете делать, чтобы добиться лучшего?
—
Буду подговаривать рабочих, чтобы начали бороться. Стану писать
и подбрасывать листки им. Подговорю когда-нибудь, чтобы стачку устроили...
—
Все это вы сделаете сами? — изумился юноша.
Матвей, не понимая удивления незнакомца, в свою очередь поднял
глаза на него.
—
Конечно, сам. Сперва сам, а потом у меня будут товарищи.
—
Ну, это не так просто, — со
смехом возразил агитатор. —
Вы
знаете, что у нас есть уже целая организация, которая делает все, что вы
собираетесь устроить, и все-таки дело идет очень медленно.
Матвей нерешительно посмотрел на собеседника.
—
Не знаю...
—
Ну, вот, в эту организацию войдете и вы. У нас есть интеллигенты-
пропагандисты, которые в кружках занимаются с рабочими. Есть техника,
в которой мы будем печатать листки. И мы соединимся. Сами вы ничего
Крестьянин и рабочий. Ч. II,
19
не делайте. Одному все равно ничего не удастся, а в тюрьме вы очутитесь
скоро. И о нашей организации вы никому не говорите. Мы сейчас, соста-
вляем кружок, хотите вы войти в него?
-—
Конечно; что хотите сделаю, только примите к себе.
—
Ну, так вот. В кружке буду я, Илья будет, вы и еще кое-кто из наших
мастеровых.
—
А моих товарищей можно пригласить в этот кружок?
—
А кто ваши товарищи?
—
Сигизмунд в кузне, брат Ильи — Анатолий, Айзман, подручный
слесарь из сборного цеха.
—
Нет, нельзя пока. И ничего не говорите им ни о кружке, ни о том,
что будете брать у нас запрещенные книжки. Читать книжки давать им
можно.
Матвей разочарованно смолк. Агитатор заметил это и еще раз сказал.
-—
О нашей работе, товарищ, никому нельзя говорить. Только когда
вы убедитесь окончательно, что вас не выдаст тот, кому вы говорите,
да и то лишь о себе, свое мнение, вы можете сказать; о других же,
чтобы не было и разговора. Только конспирация и даеч" нам поставить
дело как следует...
—
Ну, ладно, — согласился Матвей, примиряясь с положением,—Сами
увидите их, тогда убедитесь, что их можно привлекать в организацию. Буду
молчать.
—
Ну, вот. Ваша фамилия Юсаков?
—
Да.
—
Меня по-настоящему зовут Захаром Михайловым. Но в организации
и где-нибудь на стороне меня лучше звать Зекой. Вас будем звать, скажем,
Станко. Так звали одного болгарина-революционера. Если жандармы про
Станко что-нибудь узнают, то и не доберутся до вас.
Матвей кивнул головой.
—
Но лучше всего нам без надобности друг к другу не подходить,
не здороваться и делать вид на улице, что мы не знакомы даже. На-днях
я или Илья вам скажем, где мы первый раз соберемся, завтра передам вам
пару нелегальных брошюр.
Матвей снова кивнул головой в знак того, что понял, доволен и будет
ждать.
Михайлов встал и, подавая руку, сказал с удовольствием:
—
Очень удачно и хорошо вы сделали, что этого провокатора Развозова
уговорили... Всем теперь видно будет, что шутки в этом деле очень плохи.
Вы — молодец! Если все так будут поступать, то мы своего добьемся скоро.
Матвей удовлетворенно пожал руку Михайлова, и новые знакомые
разошлись.
Та пассивная роль занимающегося самообразованием члена кружка,
на которую осуждала Матвея конспирация Михайлова, ни в какой степени
не могла удовлетворить проснувшейся жажды деятельности в молодом
мастеровом.
В кружке говорили об основных понятиях политической экономии.
Экая премудрость прочитать раза три книжку о труде, товаре и тому подоб-
ных вещах!..
Поэтому, после первого же собрания кружка, Матвей решил, не ограни-
чиваясь занятиями, на собственный страх и риск вовлекать в интересы рабо-
чей организации своих, по крайней мере, ближайших друзей. Он не только
прочитывал сам те немногие нелегальные брошюры, которые ему мог дать
в то время Михайлов, но давал читать их Семену Айзману с сестрами, Сигиз-
мунду и Анатолию. Кроме того, узнав от товарищей по кружку,
что главным источником самообразования и для социалистов служит
легальная литература, а также выяснив у них, по каким отраслям
нужны книги для того, чтобы просвещаться, Матвей решил покупать по-
больше книг.
В кружке, кроме Захара, Ильи и его — Матвея, оказались еще двое
рабочих с одного завода в Нахичевани, работница табачной фабрики Елена
и молотобоец из кузни Качемов, участию которого в организации Матвей
больше всего обрадовался, так как теперь в самой кузне он находил едино-
мышленника.
Участники кружка собрались на квартире одного из нахичеванских
своих членов — Грека.
Худощавый интеллигент-пропагандист, в фуражке инженера и с рус-
ской козлиной бородкой, Андрей Николаевич, настоящая фамилия которого
была Шпак, как это скоро узнал Матвей, и который действительно был
инженером-строителем, провел вводную беседу с членами кружка о
значении знания политической экономии для сознательных рабочих
в их борьбе за свое освобождение. Он сам политическую экономию,
видно, знал хорошо и сумел не только заинтересовать кружок, но и убедить
его в необходимости продолжительных самостоятельных занятий предметом.
Матвей решил, как советовал пропагандист, писать конспекты на прочитан-
ные книги.
Но в общем Матвей полагал, что все-таки не в кружковых занятиях
главное.
•
;
;;Г
Поэтому, когда на следующий после занятия в кружке день Михайлов
его вызвал из кузни и сказал, что для Соколова, под видом розыгрыша его
книг, надо произвести сбор денег, потому что в тюрьме у него, кроме тюрем-
ной пищи, ничего не было, Матвей ухватился за это как за первое боевое
задание организации.
Сигизмунд знал, что в пользу Соколова организуется сбор. Но подро-
сток сам не мог принять в этом никакого участия, потому что, как сборщик,
вызвал бы к себе недоверие, а у него самого вся его сосчитанная получка
необходима была, чтобы мать кое-как справлялась с царившей дома нуждой,
близкой к голоду. Поэтому ученик Карпенкова только интересовался резуль-
татами предприятия своих тоіварищей и, подойдя после Качемова к Матвею,
выразил горькое сожаление о том, что он еще не может принимать участия
в делах Матвея.
—
Карпенков, Солдатенков, вы,—сказал он,—все могут дать сколько-
нибудь Павлу в тюрьму, а я не могу; не хватит на хлеб и дрова, если я украду
из получки что-нибудь от матери.
Матвей подумал, что для самого Сигизмунда нужно бы тоже что-нибудь
изобрести: он до сих пор выходил на работу только в теплой рубашке,
не имея ни куртки, ни пальто.
Он успокаивающе кивнул головой товарищу, у которого показались
на глазах слезы.
; fej
—
Я^Мунчик, за тебя внесу на билет. Разве, думаешь, я не знаю, что
ты больше других хотел бы дать.
Сигизмунд, прислонившись к станине молота возле Матвея, благодарно
положил ему на спину руку.
—
Я буду делать все, что вы скажете мне. Вы хороший, Матвей.
Соколов тоже такой был.
Матвей улыбнулся.
Сигизмунд растроганно соскочил с площадки и пошел на свой молот.
А. Бибик.
в рабочем кружке.
.
Раз мимо дрыгалок проходил с зубилъями в руках молодой смуглоли-
цый слесарь. Стройная и крепкая фигура его, шапка черных кудрей, .выбив-
шихся из-под бельгийской фуражки, и резкие линии черных бровей и начи-
навшихся усов делали его заметным. Шел не спеша, гибко и уверенно, изредка
вскидывая в сторону большие темные глаза, подернутые грустью. Когда он
миновал уже Игната, Черницын вдруг позвал:
—
Эй, цыган!
Слесарь шел дальше. Тогда Черницын еще громче крикнул:
—
- Слышь, жигало-жигало! Пусти, а то вырвусь!
Слесарь обернулся и вопросительно посмотрел в сторону окрика. По-
думал. Потом- той же мягкой и решительной походкой подошел к группе
смеявши-хся дрыга-лыциков и обратился прямо -к Черницыну:
—
Ну?
11
Черницын взглянул в его темные глаза, прикинул глазом фигуру — и
сразу сдал.
—
Чего тебе показалось...
—
Ты кричал? — Тонкие ноздри его прямого носа расширились и чуть
запятнились.
Черницын побледнел и, уже путаясь, пробормотал:
—
Так разве ж я тебе, что ли?
Слесарь обдал его презрительной улыбкой и, не торопясь, пошел своей
дорогой.
Сначала Игнаіт не -обратил на это внимания. Показалось только, что
и голос и фигура слесаря очень знакомы. И вдруг вспомнил: Артем-! Бывший
приятель по приходской школе,— «Жук!» Остановил станок и бросился
догонять.
—• Артем! Артем-!
Догнал у самых ворот, радостный.
—
Тебя, брат, и не узнаешь! Изменился за эти три года.
—
Вот не ожидал! Игнат! Где ж ты?
—
Здесь, на стайке. А тьи?
—
Слесарем.
—
Вот здорово-то! Право. Ну, как же ты живешь? Ты ведь думал
в реальное -поступить?
—
-Поступил.
—
А как же ты сюда?..
Артем увял и после минутного молчания ответил:
—
Отца раздавило- . . .
на за-воіде...
-ну, и ушел.
—
Совсем — отца-то? — спросил Игнат недоверчиво.
—
Не-е-т,—неохотно ответил Артем-. —
Пожил немного-. ..
Будучи в школе, Игнат -раза два заходил к Артему и знал его отца. Это
был крепкий и черноволосый, как и Артем, слесарь, хмуроватый на вид, а на
самом деле, — добродушный и даже веселый.
Игнату понравилось, чт-о Артем -говорил ему «-ты», а тот обращался
с -ним, как с большим.
Мысль о смерти как-то -не усваивалась.
Показался мастер и стоять было неловко- .
—
Пойдем в клуб, — предложил Игнат.
В красной будке с десятком сиде-ний никого почти не был-о ... К тому же
лю-ки и желоба были свеже просмолены- и
-п а х ло даже приятно- .
—
Знаешь что, — сказал Игнат, — переходи в токарную, на станок.
—
Зачем? — спросил Артем.
—
Лучше же! и заработок больше... ну, и работа интереснее...
—
А мне не нравится. Нудно. Да и какая это работа? Все
станок делает. Вот рубишь зубилом или пилишь, — так сразу себя
чувствуешь.
Помолчали.
Артем -немножко оживился и спросил:
—
Ты читаешь книжки?
—
Читаю.
—
Какие?
Игнат чуть не признался, что про святых, и с некоторым смущением
ответил:
—
Так... Разные...
—
Эх, брат, какие книжки есть занятные!.. Я из библиотеки беру.
Иногда такие попадаются! Вот вчера взял, — «Спартак» называется... вот
интересно! Там, понимаешь, описывается, как -взбунтовались .рабы... ну, и про-
чее... знаешь что? Хорошо бы читать вместе. Одному скучновато: мыслей
целая куча, а поделиться не с кем.
—
Ладно, — согласился Игнат. —
Да вот что, у меня тут два товарища
есть, так вот бы вместе?
—
Ну, что ж, это еще лучше. Приходите ко мне.
В ближайшее воскресенье Игнат, Павел и Степан, сын Костычева,
длинный и сухой парень, также работавший на дрыгалке, пришли
к Артему.
Все здесь было так же, как помнил Игнат: низкий сводчатый потолок,
полинялая кушетка, пестрая занавеска, закрывавшая печь, у которой вози-
лась мать Артема, старенькая с добрым лицом; несколько* больших карточек
рабочих, снявшихся в своих цехах, и почему-то картина убийства Александра
Второго; на окнах фикус и герань, в просветы которых мелькали на* улице ноги
прохожих. Так же пахло слепка сыростью. Не видно было шустрой сестренки
и брата. У одной стены стояли тиски, и Артем возился с починкой чьего-то
велосипеда. При входе гостей бросил работу, обрадовался.
—
Ну, вот и хорошо. А то сам хотел дочитывать, не терпится. Вот,
братцы, книжка*! Замечательная! Тут прямо-таки другая жизнь! — заговорил
он, возбужденно шагая и ероша волосы. — Да где жизнь — мир другой! Гла-
диаторы, Спартак... Нерое император... это, положим, не так еще... Дерутся
и прочее... А вот как рабы поднялись, вот где здорово! Ведь вы только
подумайте: рабов было *раз *в десять больше, над ними глумились, а они поко-
рялись. Просто животными были! И вдруг, братцы, эти* животные поднялись
и пошли на своих палачей! И Спартак с ними. Эх, — оборвал он вдруг себя, —
всего не перескажешь! Давайте-ка читать сначала!
Взгромоздился на верстак и стал читать. Картинное изображение битвы
гладиаторов сразу же захватило слушателей. Степан увлекся и жадными гла-
зами смотрел на книгу, вздрагивающую в руках чтеца.
...Огромный цирк, сильные и ловкие бойцы, император, молчаливые, как
изваяния, центурионы, тысячи людей, пьянеющих от запаха крови...
В воображении Игната росла и расцвечивалась громадная волшебная
картина иной жизни, иного мира, полного красок, блеска и шума... И перед
мощью этой картины, вся Новоселовка* с ее коробочными домиками и даже
весь город показались вдруг такими жалкими, что Игнат не удержался
и спросил:
—• Неужели все это было?
—
Раз пишут, значит, было, — сердито ответил Степан.
А Павел обоим крикнул:
« — Молчите!
Мать Артема, кончив стряпню, стояла, подперев щеку рукою, и с лаской
смотрела на юношей. Изредка отчего-то вздыхала.
—
А знаете что? — воскликнул вдруг Артем, — мы тоже рабы!
Приятели переглянулись, и Степан сказал обидчиво:
—
Какие мы рабы? Нас никто не бьет!
Артем злорадно ухмыльнулся.
À-a, ты, значит, свободный? А можешь ли tbi встать, когда захо-
чешь? Можешь ли ты обедать не по гудку?
—
А зачем? — возразил Степан. —
Я всегда по гудку обедаю. А за-
хочу, так и с завтрака могу выйти -на работу.
—
С завтрака-?
—
переспросил Артем и рассмеялся. —
Эх, вы-ы, ново-
селовцы!
Забрался снова на верстак и продолжал чтение.
Опять они в Риме. Спартак встречается с Цезарем. Рабы волнуются.
Скоро, скоро- уже произойдет схватка, -грудь с -грудью.
Степан и Павел обменялись какими-то знаками, потом о-ба поднялись
и ушли, как будто по серьезному делу.
—• К барышням, черти, — проворчал Игнат.
—
Не люблю таких, — сказал Артем, шагая по комнате,
Мать его зажгла лампаду, убрала кое-что и, соби-рясь куда-то итти,
спросила:
—
Не нужно ли чего, Темочка?
—
Нет, — сердито ответил Артем. А когда она ушла, кивнул вслед
и улыбнулся:
-і
-
U-gr ||
—
Вечно у нее хлопоты. Там полечит, там- ребят пом-оет.
Заметив, что Игнат смотрит на лампадку, пояснил:
—
Пускай уж... Старуха! Она и мне нацепила крестик, что поделаешь!
А отец... Знаешь, когда он умирал, мать позвала попа: отец только выру-
гался крепким сло-вц-ом. Так и умер...
—
А ты? — с жадным любопытством спросил Игнат.
—
Я по-отцовски,—коротко ответил Артем.
Заглянул в кадку для воды, стоявшую .в углу, и- заворчал:
—
Вот, брат, женщина никогда не скажет, что воды нет, а потам
таскает ведрами. Меня, вишь, жалеет.
Взял ведро и прин-ес со двора воды.
Игнат попросил книгу и собрался домой. Вышли -на улицу. Темнело,
зажигали огни. Улица была короткая и узкая, словно каменная яма. Дребез-
жали извозчики, и душило жаркой пьглыо.
—
А где же тут солнце встает? — сп-рооил Игнат, оглядываясь.
Артем кивнул головой через улицу.
—
Кажется, там. Знаю только, что спускается там, где-то за этими
домами.
Игнат улыбнулся.
—
И звезды какие-то... чахлые... Не любят они огня вашего. Приходи
БОТ когда-нибудь на Новосело-вку. Или в поле пойдем. Вот посмотришь звезды!
И коростели дырчат... Перепела...
—
Пойдем- когда-нибудь. Да дело не в коростелях, бра-т, а в людях.
Знаешь, отец был славный парень. Зашибал иногда, да ведь это ерунда. Зато
как разговорится — только слушай. Читал даже запрещенные книжки.
—
Запрещенные? — дивился Игнат.
—
Ну да, потому, что в них настоящая правда пишется.
—
А кто ж запрещает писать по правде?
Артем посмотрел на него и свистнул.
—
Тю-тю, а ты разве не знаешь? есть, брат, такие... Ну, а мне-то он
не давал читать, — рано, дескать; а так рассказывал много кое-чего. —
«Не
верь, говорил, сытым шарлатанам; которые пугают небом: все дела на земле
решаются»...
С верхнего этажа дома, у которого они стояли, донеслись звуки рояля.
Артем схватил Игната за руку и показал на ярко-освещенные окна.
—
Смотри, бал. Б этом же доме, в подвалах беднота, — голая, -голодная,
болеющая. А там — бал. Помнишь Кляксу? Он у нас всегда задачи списывал,
жирный, как свинья.
—
Так что, он...
—
Ну да. Больше миллиона получил в наследство да половину акций
нашего завода.
—
Эт-от дурак? Что ж он с ними будет делать?
—
Что делать? — Артем язвительно засмеялся. —
Не знаю... А вот,
что мы будем делать — об этом н-е мешало бы подумать.
Однажды Артем забежал на минутку к Игнату в токарную -и радостно
сообщил:
—
Ну, я кое-что нашел. Приходи ко м-не, пойдем кой-куда.
Игнат едва дождался вечера.
В тесной -комнате, под самой к-рышей большого -дома, было душно,
на полу валялись окурки. Среди разбросанных книг и тетрадей лежал кусок
несвежей колбасы и хлеб; на стене были пришпилены несколько открыток.
Человек лет 30, в очках, длинноволосый и по-хожий на Христа, читал. Двое
молодых рабочих сидели на перекошенной кровати, а третий русак в светлой
бороде и с глубокими глазами пристроился на облезлом чемодане. На дру-
гом же столе, с выпадавшей ножкой, сидела девушка-папиросница и стара-
лась быть внимательной.
Рабочие на кровати потеснились, чтобы дать -место Игнату, а Артем сел
в угол, прямо -на полу, охватив нош руками, не пропуская ни слова.
Чтение шло о прибавочной стоимости. Время от времени читавший —
его звали Андреем Ивановичем — останавливался, взглядывал поверх очков
и спрашивал:
—
Так вот, значит... поняли; товарищи?
Двое, сидевшие на кровати, дружно отвечали «да». Русак покашливал
в руку, а девушка краснела и улыбалась. Артем туго-туго напяливал брови-,
а Игнат смотрел на блузу и сапоги, в которые был -одет лектор, и думал:
—
Вот все они, рабочие, надели что было у них лучшего, а этот зачем-то
нарядился.
Чтение тянулось часа два. Под конец девушка отчаянно зевала, у боро-
дача посоловели глаза, а один из молодых явно начал дремать.
-Кто-то осторожно постучал в дверь. Андрей Иваныч вышел и через
минуту вернулся с пачкой тощих брошюр и прокламаций.
—
Ну-с, то-варищи, н-а сегодня довольно.
Раздал кем посылку и, уговорившись насчет некоторых мелочей, рас-
пустил кружок.
Когда остались одни, Артем в радостном возбуждении хлопнул Игната
по плечу и воскликнул:
—
Вот! Я же тебе говорил, что все — в людях! Каждый камень кричал
мне, что я —- рабочий, а те — дармоеды. И вот теперь этот грабеж устанавли-
вается даже наукой. О, чорт возьми! Если взяться за дело, можно испортить
настроение этим господам! Как ты думаешь, дружище?
—-
Я... я думаю, что это... не все еще. Не главное.
—
Т.-е ... как не главное? — удивился Артем.
Игнат ответил не сразу, раздумывая.
—• Главное — отношение человека к природе.
—
Ах, это к богу, что ли?—насмешливо спросил Артем.
Игнат промолчал.
Расходясь по домам, Артем спросил:
—
Так ты не придешь, что ли*?
Настороженный Игнат уловил насмешку. Он вовсе не думал отказы-
ваться — хотя бы уже из-за дружбы, и, промолчи Артем, он пришел бы, но
теперь, сам не зная зачем, ответил:
—
Не приду.
Постояли еще минуту и разошлись, позабыв проститься.
Одним утром во дворе и по всем цехам завода были разбросаны прокла-
мации социалистической партии. А в клубе были даже наклеены. Кое-кто
нашел их в ящике, на станке. Этого не было с самого основания завода и по-
тому взбудоражило всех и вызвало много разговоров. Больше всего занимал
вопрос: кто мог подстроить такую штуку? Многие утверждали, что это про-
делка студентов.
—
Но как же они забрались сюда? — возражал в своем кругу Журба.
—
Ого! — убежденно доказывал Сурков,—студенты — эти, брат, все
могут! Человека резать на части, в кишках, как в макаронах, копаться.
Строгальщик же Перегудов, любивший читать духовные книги, дога-
дывался, что это — дело скопцов, либо штундистов. Только Костычев с пер-
вого же взгляда заключил, что это дело «Сицилии», той самой, что когда-то
царя убила. То же думал и Пастерняк, но помалкивал. Оба они поглядывали
на Никонова, но тот был заметно расстроен и даже выругал Журбу.
В токарную стали заглядывать кузнецы, слесаря, котельщики. Токарный
цех считался наиболее просвещенным, и потому здесь надеялись найти об'ясне-
ние небывалому происшествию. Да и, вообще, любопытно было* послушать,
что толкуют. Увы! — на этот раз и токаря не могли ответить...
За обедом дома Максим завел разговор о разной дряни, которая мутит
людей.
—
Много вреда от них простому народу, — говорил он, будто* и не для
Игната.
—
В одной деревне вот, помню, нагородили всякой всячины про землю
да про волю, мужик и давай галдеть. Ну, пригнали солдат и всыпали- —
так
всыпали, что, должно быть, и по сю пору помнят про землю да про волю. А те,
что подбивали, как провалились.
—
Они добра хотят, — робко промолвил Игнат.
Максим насторожился.
—
А ты -откуда знаешь?
Игнат -густо покраснел и молчал. На заводе, при виде суеты, вызванной
листовками, ему стало, неведомо отчего, весело: что-то так и подмывало его
выйти на середину мастерской и громко, с вызывающей насмешкой, крикнуть:
—
Было ли так? Эх, вы-ьг! То ли еще будеті
Очень коробило сказать это и сейчас, но побоялся драки.
—
Смотри, Игнат, — сказал Максим, не дождавшись ответа. —Не верь
людям. Никому! Каждый человек для себя одного норовит. Это уж я хорошо
зн-аю!
Потом- не вытерпел -и заговорил так, словно Игнату давно перевалило
за двадцать-.
—
Чудаки, право, хоть и студенты и- учатся много. Видан-ное ли дело,
чтобы- плетью можно было обух перешибить?! Эх-е-эх... Бот и Никонов читает
в газете, что есть такие, за народ стараются. Ну, ладно. Так зачем же они
хотят, -например, чтобы восемь часов работать?
—
Может и лучше было бы, — заметила Наталья. —
А тож вон как
извелся. Сорока годов нет, а уже седеешь.
Максим только улыбнулся.
—
Меньше работать — меньше заработать. Сама же завоешь. Конечно,
для поденных -на - руку, а -нам- —
это ни к чему,
—
Почитать нужно... подумать, — добавил Игнат.
—
Думать? О чем?
—
Так... мало ли вопросов...
Максим покачал головой.
—
Брось, говорю тебе, думки эти. Не наше это дело- . .. —
Заметив, что
Катя, раскрыв рот, смотрит на него, он звонко стукнул ее деревянной ложкой
по лбу.
—
Обедай, когда обедаешь! Др-рянь...
Игнат понял, каких усилий стоило отцу говорить с ним по-хорошему,
и замолчал.
Степан и Павел также пошли в кружок, а Игнат уперся. Правда, если бы
ему предложили пойти, он пошел бы и теперь (особенно после того, как под-
метил действие прокламации). Но ему не предлагали. Похоже было, что
и без него могут обойтись.
Журба раз полюбопытствовал:
—
Ты что же отстал от компании?
От обиды Игнат чуть не заплакал.
Потом, на зло приятелям, надел желтые ботинки и рубашку-фантазию,
давно уже купленные матерью. За это Павел сгоряча назвал его буржуем
и перестал здороваться.
Однакоже, как ни храбрился Игнат, а было ему невесело, — так не-
весело, что он стал мечтать о переезде в какой-нибудь другой город, —
всего лучше, конечно, к морю или где есть большие, непроходимые
леса, реки.
Но вот раз пришел Артем и с плохо скрытым лукавством дал ему книгу,
а в ней указал на одну статью.
—
Прочти, — сказал, — а потом потолкуем.
И ушел.
Игнат запустил станок на холостую и присел к ящику.
Книга была томом сочинений Писарева, а подчеркнутая статья: «Про-
гресс в мире животных и растений».
Как начал Игнат, так и не мог оторваться. В центрах давно выгорело
сало и отчаянно пищало. Черницын бросал в ящик гайками и кричал:
—
Эй, филозоп, зачитаешься!
Он не обращал на это внимания; только, когда подошел Золотько,
оставил чтение и принялся за работу.
—
Читаете, молодой человек? — ехидно спросил подмастерье, по-
щипывая бородку. —
Что ж, хорошее дело...
«Штраф!», подумал Игнат, когда Золотько ушел в контору; но это его
не задело: слишком много было в голове огромных мыслей и слишком взвол-
нован был ими.
Придя домой, даже не умылся и тотчас засел за книгу.
К счастью, отец работал вечер.
Читал лихорадочно, с нетерпением перескакивая через фразы и стра-
ницы, и едва мог заставить себя возвращаться и читать пропуски. Наталья то
принималась зудить, то выспрашивала про Максима... Игнат закрыл уши
и не отвечал. Наталья плюнула, наконец, обругала «калмыком» и ушла к со-
седке, муж которой тоже работал вечер.
Наконец, статья была прочитана. Закрыв книгу, Игнат долго еще сидел
над ней и смотрел перед собою неподвижным, далеко ушедшим взором.
И вдруг прежний луч, но более сильный, как яркий метеор, тяжело
прорезал хаос и осветил все, даже то, что лежало на страшной глубине, и все
показалось понятным. Это была одна лишь минута. Но когда она прошла,
прежней тьмы уже не было, и в груди Игната трепетно билась, как только
что пойманная птица, одна правда, один ответ:
—
Так, так не было, — и так не будет.
Не было прежней тревоги. Он был уверен, что она, эта огромная мысль,
осталась у него, если не в голове, то где-то там, внутри.
И, шагая по комнате, он чему-то улыбался и ступал по доска-М: так,
словно нес сосуд с драгоценной влагой и боялся выплеснуть.
Открыв портрет Писарева, долго всматривался в его лицо, будто желая
убедиться, можно ли ему верить. И вдруг порывисто, в бесконечной призна-
тельности поцеловал его. С добродушной иронией взглянул на икону...
Вернулась мать. Она была навеселе.
—
Батько не пришел еще?
Игнат словно издалека смотрел в ее дряблое лицо с небольшим, груше-
видным носом и низким лбом и громко расхохотался.
—
Знаешь, откуда человек
произошел? — спросил он шумно.—
От обезьяны!
Наталья заморгала глазами, и с минуту язык не хотел ей повиноваться.
Развела затем руками и запела:
—
Вот так прекра-асно...
Игнат хохотал.
В это время пришел Максим, — хмурый, озлобленный. Бросил шапку
на стул и простоял с минуту, ни на кого не глядя.
Наталья сразу же стушевалась и, неслышно скользя по комнате, стала
накрывать на стол.
Максим повернулся к Игнату.
—
Ну, сыночек, поздравляю...
—
С чем? — удивился Игнат. А лицо все еще смеялось.
Максима прорвало.
—
Разве-то не тебя оштрафовали?!
Игнат на мгновенье стал озабоченным. Но смех, неудержимый и непо-
нятный, болезненный смех с новой силой брызнул из глаз, заиграл на ярких
губах...
Наталья ни с того, ни с сего брязнула тарелкой и плаксиво восклик-
нула:
—
Какая тебе я обезьяна?!
—
Что-о! — рявкнул изумленный Максим, предчувствуя новое колено
со стороны сына. Игнат расхохотался ему в лицо и, прежде чем Максим при-
шел в себя, сорвал с гвоздя шапку и вышел из комнаты.
Зо воротами перестал хохотать и задумался. Дома теперь неминуема
ссора. Махнул рукой и бодро зашагал к Артему.
А. Яковлев.
ПОРЫВЫ.
И не заметила Маша, занятая своею любовью, как в размеренную
жизнь завода вдруг ворвалось что-то новое. Откуда-то пошли слухи об
увольнениях рабочих, о сокращении заработка, слухи неясные, но сразу за-
ставившие насторожиться. Пожилые семейные люди заволновались. Вече-
рами, на лавочках возле казарм, где был «бабий клуб», говорили уже
не о разбойниках и кладах, а вот об этих слухах. И тревожились.
—
Ежели это правда: куда мы денемся? Куда пойдем?
—
Ну, глядишь, до нас не дойдет.
—
А если дойдет?
—
Авось, бог помилует...
Но бог не помиловал: дошло.
Раз утром — это уже было после Ильина дня — Маша с удивлением
увидела перед контрольной будкой большую шумную толпу рабочих. Гудок
уже прогудел, но никто не шел во двор.
—
О чем тут шумят? — спросила она у бородатого рабочего.
—
Да вот каталям сбавили, а те работать не хотят. И других рабочих
просят не работать, чтобы поприжать контору, — живо ответил рабочий.
Резкие крики стояли над толпой. Рабочие спорили, кричали, ругались.
Каталя — симбирские мужики, все богатыри, как на подбор, стеной стояли
перед будкой, загораживая проход.
—
Выручай, братцы, нынче нас прижали, завтра вас...
—
Правильно! Вместе надо действовать!
—
Как это вместе? Каталя не рабочие. Волга замерзнет, они все
домой уедут. На печке спины греть будут. Их дело особое. Они — мужики...
—
А ты из мужиков давно ли? Две зимы проработал и уже нос
гнешь?
—
Правильно, вместе надо. Поддерживай, ребята!
—
Забастовку об'явить! — крикнул чей-то молодой голос в средине
толпы, — если дадим наступить себе на ногу, нас заедят. Рабочий за рабо-
чего должен горой стоять. Все мы из одной конуры, все одним миром мазаны.
Р^ве теперь время разбирать, что каталя зимой делают?
Толпа примолкла. Кто это говорит? Маша поднялась на цыпочки,
глянула через головы.
—
Ой, батюшки! Это ведь Федор Лысяков. Что с ним такое стало?
—
К конторе! К конторе!..
—
зашумела толпа.
И не через будку, а через ворота, Бсей толпой, шумной, возбужденной
пошли к конторе. Шли, поднимая пыль, решительные. Впереди каталя и
с ними Федор. Загорелась любопытством Маша и тоже вперед пробралась.
Сердце у ней забилось, руки и ноги странно загудели...
Из-за корпусов еще показались рабочие — ночная смена, слились
С толпой, пошли вместе. И суровой молчаливой массой подошли к кон-
торе. А там уже их ждали. Коренастый помощник управляющего стоял
на крыльце. Черный, как жук, злой. Только толпа сгрудилась, он резко
закричал:
-
|-V
-
-
ГТ]
—
Бунт затеяли? Или забыли прошлое? Сейчас же на места! Табель-
щики, идите по мастерским и записывайте, кого нет на работе. Потом мы
поговорим с теми. А вы, — резко сказал он, обращаясь к толпе, — марш
на работу!
Повернулся и пошел с крыльца. Табельщики один за другим стали про-
бираться через толпу, и Павел между ними. Толпа заревела от гнева. Федор
решительно сдернул с себя фуражку, замахал ею в воздухе и закричал:
—
Стой, братцы, так нельзя. Аль мы собаки, что нами собираются
помыкать?
В густом шуме нельзя было разобрать отдельных слов. Видно было, как
рабочие выскакивали на крыльцо конторы, махали руками, что-то кричали
и снова ныряли в толпу.
—
Забастовку, забастовку! — кричали отдельные голоса.
—
Э, какая там- забастовка! Глядите-ка, вон за' табельщиками народ
как повалил.
Глянула Маша — и правда. Пока у крыльца яростно кричали, рабочие
гужом потянули к корпусам за табельщиками. Шли и сами себя смущенно
оправдывали:
—
Нет, не дружный у нас народ...
Сбавили каталям, оштрафовали Федьку, пригрозили уволить, тем дело
и кончилось. Над Федькой смеялись."Кричали ему вслед: «эй, забастовщик!..» .
И над каталями подсмеивались:
—
Ну, что, забастовали? «Стой дружно!..»
Маша тоже подсмеивалась над Федькой. И после этого случая будто
дороже ей стал Павел. Вот он уже не вмешается не в свое дело, над ним уже
никто не посмеется.
Теперь Павел ходил к ней, в ее комнату как жених, открыто — и со-
седи видели. Пили вместе чай — балагурили. Он все такой же был уважи-
тельный, очесливый. Вкривь словечко не скажет.
—
Ну, вот, я же тебе говорила, — шептала Спиридониха Маш% —
я же говорила, что это не парень, а золото. Не чета буяну Федьке. Ты по-
смотри пиджак-то у него. Пиджак один тридцать целковых стоит. Ну, прямо
тебе скажу: выискала ты себе счастье.
И, вдруг заплакав, закрывалась кончиком головного платка и глухо
говорила:
—
Сгубила вот я свою жизнь. Вышла за мово прохвоста. Меня мень-
ковский приказчик сватал, теперь жила бы в холе да в сыти. А я не пошла.
—
Почему же не пошла?
—
Искала лучше чего-то. Я ведь красивая была — вот не хуже тебя.
Все думала, лучше найду. Ну и нашла, убила бобра.
Маша жалостливо смотрела на Спиридониху. Правда, какая она несча-
стная, забитая, во всем у ней нехватки, недостатки.
—
Смотри, Маша, держись за свою судьбу. Прямо тебе говорю,
держись.
—
Да я держусь, — улыбалась Маша.
—
Не упусти смотри.
—
Не упущу.
И правда, как можно упустить свое счастье? Парень такой умный, об-
ходительный. Придет этакий чистенький, усядется за стол, начнет говорить,
как они будут жить после свадьбы, какую квартиру займут, что купят.
И Маше так приятно от этих разговоров. Загорится вся. Свой самовар, своя
кухня, свое все.
—
Я цветы люблю. Ты, Паша, купи цветов.
—
Беспременно. Чего ты хочешь, то и куплю. Вот одеяло тканьевое
купим. Я намедни был у господина Обухова, заведьтающего из бондарной,
знаешь? Что за чистота в квартире! Картины в рамках, все в порядке,
а на кровати тканьевое одеяло. Разговор у меня очень интересный вышел
с господином Обуховым.
—
Какой?
—
Ты, говорит, Павел, слышь, женишься. —
Женюсь, говорю, Ти-
мофей Василия. —
Дело хорошее. Приходи потом в гости с молодой
женой. —
Спасибо, говорю, беспременно приду. Как женимся, так и
пойдем.
Маша краснеет от удовольствия.
—
Не пойду я, — застенчиво улыбаясь, говорит она.
—
Как это? Почему?
—
Боюсь я.
—
Вот так... Разве ты деревенщина? Раз за меня замуж пошла; надо
образованной быть, развязной, с разговором. Ты сообрази, честь-то какая —
сам господин Обухов в гости приглашает.
—
Да, честь большая. С кем бы поговорить об этом? Разве к Спиридо-
нихе сходить? Э, да она сама1 вот идет. Но что с ней? Встревоженная, запла-
канная...
.-і
—
Ведь ушел мой-то. На собрание ушел.
—
На какое собрание?
—
Да, вишь, забастовку хотят делать... Господи, как бы опять какой
беды не случилось. Я к вам, Павел Петрович, с докукой. Поговорили бы вы
там в конторе-то, запретить бы надо.
—
Ничего, не бойтесь, Спиридоновна. Скоро коноводам попадет.
У нас в конторе о них уже поговаривают.
—
А кто коноводы-то? Чтоб им на том свете дороги не найти!
—
Ха... И не узнаете. Федька коновод. Из буянов да в политики попал.
Да потом есть еще два слесаря. Все, как на подбор, неосновательные люди.
Потом из города кого-то приглашают.
—
Ну, таких и не жалко.
—
Попадет им, попадет... *
Большими глазами смотрела Маша на Павла и на Спирпдониху. Что
такое? О чем они говорят? Что за собрание? При чем здесь Федька?
—
Да из-за чего шум-то? — наконец, спросила она.
—
Из-за чего?.. Хотят прибавки и вообще, чтобы ни царя, ни началь-
ства, ни полиции не было, — понизив голову, ответил Павел.
—
Ай, батюшки! — ахнула Спиридониха. —
Вот безтоловщина начи-
нается. Вот уж подлинно без ума, без разума меня матушка породила.
—
А мы почему не пойдем? — спросила Маша.
Павел нахмурился.
—
Ну, это не наше дело. Нам и без забастовок хорошо будет. Пусть
бунтует, кто хочет.
—
Знамо, знамо, — поддержала Спиридониха, — кажнее ваше слове
на месте, Павел Петрович, ну, кажнее слово на месте. На-ка их, чего за-
хотели!
Но и этот случай прошел незаметно для Маши. Правда, она видела, что
на заводе люди стали жить как-то по-новому. Рабочие собираются кучками;
сдержанно о чем-то толкуют. Меньше ругаются, меньше зубоскалят. Часто
говорят о собраниях. Раз за работой Ксюша спела вполголоса новую песенку,
какую Маша раньше не слышала.
—
Отчего ты меня не возьмешь с собою на собрание? — спросила Маша
Ксюшу. /
;»
—• Ну, зачем* это тебе. Ты все со своим Павлом, — ответила Ксюша.
Пренебрежительно так ответила, как будто эта маленькая убогая девушка,
которая перед ней так заискивала прежде, теперь вдруг выросла. Маша
обиделась.
^
—
Ах, так? Ну, что же, и не надо.
И перестала больше думать об этом. Шила себе приданое, мечтала
о тканьевом одеяле, о самоваре, о своей квартире...
И вдруг случились события, которые сразу перевернули всю жизнь за-
вода, а вместе и жизнь Маши.
Как-то ночью из города приехала полиция, жандармы и арестовали
человек двадцать рабочих. Когда арестованных увозили, по всем казармам
слышался истерический плач. Тюрьма — для всех это было страшное слово.
На следующую ночь арестовали еще человек десять. Между другими рабочими
хотели арестовать и Лысякова, но тот успел скрыться.
Пошли слухи, что будут арестовывать всех, кто ходил на собрание.
Рабочие заволновались. Как бы в отместку за аресты, в одну из ближних
ночей кто-то разбил стекла в квартире управляющего и поджег
штабеля леса, заготовленного для заводских построек. У рабочих по-
явились прокламации. Каждое утро на дверях у заводской конторы
и у ворот вывешивались угрожающие об'явления за подписью самого
управляющего, а ночью эти об'явления кем-то срывались и заменя-
лись прокламациями. Имя Федора Лысякова теперь не сходило с уст.
Хотя его никто не видал, но все говорили, что это он действует. Аресты про-
должались. Те из рабочих, кто постарше летами, присмирели, а молодежь,
наоборот, начала бравировать.
—
Тюрьма? Пусть тюрьма. Все в тюрьму пойдем!
Тюрьма скоро стала слишком обычной, и страх перед ней начал исче-
зать. На завод привели стражников. Но в первую же ночь кто-то поджег
дом, где они спали... Кто-то портил дорогие машины и материалы. Работа,
такая налаженная, сразу заколебалась. Все работали плохо, нервничали, не-
уверенные в завтрашнем дне. Молодежь открыто говорила, что надо разбить
тюрьму и освободить товарищей. В городе, где волнения начались еще раньше,
убили пристава. Незнакомые люди появлялись открыто в мастерских,
устраивали сходки. Иногда на этих сходках выступал и Федор, хотя все знали,
что его и день и ночь ищут стражники, Администрация грозила закрыть
завод, но угрозы не действовали. У всех было новое чувство, будто небо сей-
час обрушится на голову.
И вот однажды по всему заводу была расклеена дерзкая грамота:
—-
Ждите, товарищи, решительного боя. Ночью, когда в городе за-
звонит набат, вооружайтесь кто чем может, идите выручать товарищей.
Спиридониха плакала:
—
Господи, вот времена пришли, жизни не рада. Утиши ты, господи,
вражду сердец их. А все эти социалисты окаянные! Не будет им добра ни на
том, ни на этом свете. Жили мы тихо-мирно, а теперь ни одной ноченьки
спокойной. Все ждешь, — вот-вот придут, заберут моего пьяницу.
Маша вспоминала «тихую и мирную» жизнь Спиридонихи, постоянные
ссоры и драки с мужем, постоянную нужду — и смеялась про себя. Ей-богу, ей
нравилось теперь... Жутко, а хорошо. Вечерами, когда вполголоса говорили
о Федьке, он казался ей героем. Одни его ругали, другие хвалили.
—
Это вот молодец! Это вот заварил кашу!
Но словно сжатая двумя стенами — Павлом и Спиридонихой — Маша
молчала, стояла в стороне, занятая своим маленьким личным счастьем...
А весь завод ждал решительного часа. И час пришел.
Ночью тревожно завопил заводский гудок. Маша в ужасе соскочила
с кровати, дрожащими руками оделась в темноте и выбежала на крыльцо.
Из всех дверей бежали рабочие, одеваясь на ходу. Слышались истерические
крики женщин. У ворот завода гудела толпа, вооруженная кольями, желез-
ными палками, охотничьими ружьями. На высоком шесте над толпой разве-
вался красный флаг — при электрическом свете казавшийся темным, почти
черным. Толпа быстро увеличивалась.
—
В город, выручать товарищей ! — слышались крики.
А гудок все выл. И в те короткие моменты, когда он останавливался,
слышно было, как в городе тревожно звонили: дон... дон... дон...
—
Все собрались?
—
Все. Завод остановлен.
—
Ну, двинулись, двинулись.
И толпа, тяжело дыша, как тысячеголовый зверь, пошла к городу.
Вдруг вспыхнула песня: «Дружно, товарищи, в ногу»...
Маша, толкаясь, пробралась к флагу. Там- гуще толпа1. Она вся дро-
жала, как в ознобе. Ей казалось, что вот сейчас откуда-то выскочат страж-
ники, и произойдет страшное. Но их не было. Толпа шла берегом Волги-.
Вот
прошли завод, стали подходить к Белому утесу, за которым открывался
город. Все шли- плотной массой, дышали жарко. И все казалось странно новым,
диковинным. На Волге бежал пароход. И из-за -песен и тяжелого топота не
было слышно его шума. Только бледнели огни. .
-
«Сами набьем мы патроны»..,
.
.
„
•
Маша не знала этой • песни. Она жадно, ловиЛа. отдельные . слова, по-
вторяющиеся припевы и выкрикивала их...
...
Крестьянин и работеіі. Ч. ÏJ,
20
Ей в темноте улыбнулся кто-то. Ее окружили кольцом. Кто-то взял ее
под руку. И она не удивилась. Кто? В темноте она стала всматриваться.
Блеснули чьи-то острые глаза.
—
Федор? Ты?
—
Да, я.
Когда вышли из-за утеса, увидали яркое зарево, стоявшее над городом.
Тревожный набат несся навстречу толпе.
—
Ура! К тюрьме! Выручай!
И Маше казалось, что горячее море движется кругом и что она плывет
в этом море. Вошли в улицы, и песня теперь стала как будто громче и шаги
тревожнее. Толпа будто выросла. Теперь пели во многих местах. Нестройно.
Но все кругом двигалось, колыхалось, и вся улица была запружена черней
могучей толпой.
Вдруг громкий треск раздался далеко впереди. Песня оборвалась.
—
Что это? — раздались тревожные голоса.
—
Стреляют. Держись, товарищи! — закричал пронзительный голос.
Все кругом смешалось. Толпа остановилась, бросилась к заборам. Машу
прижали в какой-то угол. Выстрелы затрещали ближе. Навстречу толпе
кто-то бежал.
—
На мосту солдаты! Берегитесь!
Многие бросились убегать назад, к заводу. Мостовая стала пустеть.
Темные фигуры замелькали на ней. Где-то впереди гремели стекла, разбитые
ударом кола. Зарево красным столбом поднималось до неба, и в , лицах было
видно далеко. Вот вдали показались скачущие всадники. Все бросились врас-
сыпную. Маша, захваченная общей тревогой, тоже куда-то побежала, на-
тыкалась на заборы, толкалась в калитки, чтобы спрятаться во дворе. Но ка-
литки все были заперты. Наконец ей удалось перелезть через какой-то забор,
потом через другой, через третий. Она попала в переулок и долго бежала
по нему, задыхающаяся, перепутанная до смерти. И опомнилась, когда уви-
дела последние домики на окраинах города. Она оглянулась. Над городом
стоял столб пламени — горели амбары недалеко от тюрьмы. Слышались вы-
стрелы, набат, яростные крики и топот скачущих лошадей,,.
Только под утро Маша пришла на завод,
Ф- Гладков.
НЕДРА.
Недалеко от нас косил свой маленький сенокос аграрник Ермолаев.
Он как-то ухитрился засеять три десятины земли и купить казенно-оброч-
ную сенокосную статью. Я его редко видал в последнее время: он хлопот-
ливо ездил по полям, пропадал в лесу, где заготовлял бревна на избу. Он уж«
выписал жену и принял к себе Иванюка — матроса-потемкинца, с которым
они не расставались с самой каторги. Ермолаев горел, напрягался, как табун-
ный конь, и всегда был в движении, и казалось, что этот внутренний огонь
вылетал наружу и воспламенял его веснушчатое красное лицо, рыжую бороду,
рыжие волосы на голове. Иіванюк же был спокоен и суров. Уверенно шагал он
широкими взмахами ног, уверенно и прямо смотрел вперед своими черными,
острыми, как гвозди, глазами, уверенно двигал руками, и когда брался за что •
нибудь, то держал крепко и упрямо.
Ермолаев пришел к нам вечером занять хлеба, который у него
вышел раньше времени. Наши уже ложились спать. Я сидел у ко-
стра и смотрел на огненный вихрь искр, улетавших к небу. Он
подошел шумно и быстро.
—
Ого-го!.. —
крикнул он певуче и молодо, как парень. —
Уж раб пал
на храп?.. Работнички!.. Истинно, что сама природа кормит... Лодыри!..
Хоть бы с девчонками пыграли, снулые!..
—
Ну, ну... не вякай... —
глухо долетело из шалаша. —
А то разом
салазки загнем...
—
А ну, выходи, идоловы лежебоки!.. Трубокуры!.. Портками только
умеете трясти, чалдонье желторотое!.. Ну-ка, дайте трудящему человеку
малый каравай на взыграй...
Он сел около меня на обрубок дерева и потянул руку.
—
А вы что тут, товарищ? Для наблюдения народа?
—
Кошу... в поте лица добываю хлеб...
—
О? Эфто — здорово!., добывать хлеб... в поте... Поглядел я намедни
на наших... Слоны слоняют... комедиянют... народ колдуют... Поди, думают,
что, мол, гамаюны какие... идоловы души!..
—
Ослабли немного, Ермолаев... растерялись... и утратили связи... ну,
и плутают...
—
Это они-то плутают?.. А ты не верь, милый... Веревочка им нужна...
не могут жить без веревочки... не могут быть без хозяина... Кто сам себе
хозяин — нет ослабы... Для него все — край от края —земля для ратая.,,
Все мое и для моей радости...
—• Лютый ты до жизни, Ермолаев...
Он закрутил головой, точно его душил ворот рубахи, и громко
крякнул. Потом шлепнул себя по коленке огромной медвежьей лапой и
крикнул, как хозяин на ленивого работника:
—
В работу идоловых душ!.. Поглядел бы я тогда, как бы они мудрить
стали...
Замолчали на несколько мгновений, не отрывая глаз от вихря искр,
рвущихся из плящущих языков пламени.
На сенокосах чуть слышно тявкали собаки. В пади, в туманном су-
мраке, тревожно пищала козуля. Лес был огромен и дик: деревья неуловимо
мешались со тьмою и сами переходили в ночь. И от этого черного, вещего
безмолвия вздрагивала душа, росла, сдивадзсь с глубиной дебрей И сама де-
лалась вещей и первобытной.
ад*
—
Эх, браток!.. Привезли меня сюда, выпустили... Шатался, шатался..
Побрел в поле... Озимя — в прозелени... Кое-где рожь дожинают — запозд-
нилась... И как подкосило меня... лежу и землю целую... и плачу от радости...
Землица! родненькая!.. Жизнь бы, кажись, отдал, чтобы разок за сохой
пройти!.. Вижу, люди недалеко во ржи —на дожинках.. Побежал эдаким
жеребенком... Бычатся... Ну, я эдак ласковенько: дайте, говорю, братцы,
суслончик один нажать... Господи, и насытился же!.. И порол же!.. Суслонов
десять нажата л...
Пришел Иванюк. Высокий, худой, с горбатым носом, с горящими
живыми искрами в глазах.
—
Что, слега родимая? — оскалил зубы Ермолаев. —
Как же рас-
ставаться-то будем, ежели, скажем, прощенье нам будет?..
—
А на какой перец мне прощенье?
—
Да дьявол ты!.. — х итро подмигнул мне Ермолаев. —
Да ведь...
Не отказался бы, чай?..
—
Кацап — як цап... Народ!.. Освобожденье даст мне сам народ... сам
народ — понимаешь?
—
Жди...
—
Нуждался я в их прощенье... Они — мои враги... Какой у меня раз-
говор с ними?.. Я их буду бить, крушить... грозно!., неизбежно!.. А теперь
я — хладнокровный... твердый, не иначе камень... Я — один, а дюжее их...
Я — здесь, ну, и во прочих местях... Я — это мы... все... революция... рабочий
класс...
Он стоял у костра, недалеко от нас, засунув руки в карманы, и сурово,
пристально смотрел на искры огня.
—
Ведь вот человек, ядри его корень!.. —
изумленно махнул в его
сторону Ермолаев. —
Присудили его*, братец ты мой, на двадцать лет ка-
торги. Кажись, что уж... могила!.. Так -нет... И горя мало!.. И случись,
скажем, оказия эдакая... Гонят его... А на пересылке... каторжане-то ведь
весь народ — чудотворцы... Порешили полет начальнику с третьего этажа
устроить... Стерва был, сукин сын... Ну, под халатик эдаким1 преждевремен-
ным манером*... А этот и вмешайся... Ну, не допустил — шабаш!.. Провокация,
скажем...
Ну, начальник, конечно, ошалел... Ладно... Сейчас — теле-
грамму: так и так, мол, — спас жизнь. Проволочки запели, заще-
бетали...
И из Петербурха — раз! В тот же день: — простить и
ослободить на все на четыре стороны!.. А он, гы-гы. . . что бы ты
думал?.. Привели его в контору. Так и так:.. Скидавай кандалы!..
Ну, он и ляпни: — Я, говорит, вашего прощенья не требовал и не
желаю... Прощать меня не за что... Меня, говорит, ослободит сам на-
род... — Повернулся и — хода... Те — так и ахнули!.. Никогда этого не
бывало, скажем... О -опять — депеша: не хотит, мол, — фордыбачит... Бун-
тует!..А оттуда — раз! — Дать четыре года за непослушность!.. Хы, суета —
скандал... Такой-сякой, не хотишь милости—- к в ак ай!.. А он пялит на
них шары да зубы скалит: хоть бы, говорит, навечно — для меня — пшик.. .
Народ, говорит... Вот башка!..
Иванюк стоял неподвижно, спокойно и сурово. На его лице не вздраги-
вал ни один мускул: он не слышал нас — он думал о чем-то своем, большом
и важном.
—
И когда это опять народ подымется... —
вздохнул Ермолаев. —
Однако, скоро... Скажи ты мне, браток... До коих пор еще терпеть?..
—
Народ подыймется... —
твердо и убежденно отозвался Иванюк.—
Рабочий класс будет, как буря... Зачем дурно тратить слова?.. Я чую
и верю... и живу, и жду...
—
Да скоро ли?.. Коли же будет сей день и час?
—
Может быть, скоро... а может быть, и не скоро... —
сказал я в тон
ему. —
Будем пока отдыхать, дорогой товарищ... Ничего я не могу сказать...
Я только знаю, что это будет... Но не ведаю ни дня, ни часа...
—
Бисовы вы невиры!.. —
свирепо рявкнул Иванюк, взмахнув кулаком
в огненном воздухе, и этот крик и взмах придушили нашу грустную жа-
лобу. — Чекалки вы дурнолетые!.. Летаете по верхам и квохчете, как гиблые
пустоплаксы... Интеллигенты!.. Не слухай их, борода, брось — брешут...
—
Однако, скоро, голова... верно, скоро... Народ-то уж больно сжа-
нули... Чует и страдует душа...
—
Скоро- и>—неизбежно...—т вердо и грозно сказал Иванюк, и эта вера
перевернула меня своей глыбистой силой.—Я знаю. Я чую. Только—жизнь и
рабочий класс... Он -н -е имеет смерти... Революция не гибнет, а только живет.
Его глаза сверкали, как искры костра, и в нем было так много силы
и так он был насыщен жизнью, что моя душа- осветилась восторгом, и где-то
в ее недрах задрожали и забились крылья.
—
Год — два!.. —
убежденно рубил Иванюк:—год — два!.. И грянет
гром и великая буря... год — два!..
—
Ну, уж—и-год — два...— с
-притворным сомнением хитро -усмех-
нулся Ермолаев,—больно уж ты, паря, прыткий...
—
Я тебе говорю: год — два!..
—
Мало ли, что ты говоришь...
—
Год — два, и — больше никаких....
—
У, бык эдакий!..
Ермолаев засмеялся.
—
Ну, и перец!.. Намедни мы с ним пахали... Так он — чо, скажем?..
Пенек ему на борозду угодил... Об'езжать надо*...
Прет и не моргает. .
Лошадь —в сторону... Он ее — на корягу... Орет во всю глотку, как гуран...
А лошадь-то возьми и остановись... Схватил топоришко — хрясь!.. Топо-
рище— вдребезги... Так ведь чо, скажем?.. Так и грохнулся... всей тушей...
Впился ручищами—и давай рвать... Шары кровью налил, зубы оскалил, мур-
зится, как пес... Ведь, скажем, с полчаса бился, а пенек-то все-таки выдрал...
с корнем... и прямо забороздил... Вот башка!..
Иванюк невозмутимо и молча стоял в прежней позе и свертывал себе
цыгарку. Ермолаев встал и взмахнул рукою.
—
Ведь чо—- г ла вное дело?.. Булгачить народ надо.. Булгачить
и — шабаш!..
А Фролов.
на партийной работе.
Через два дня, по поручению Екатеринбургской организации, мы вы-
ехали в Нижний-Тагил, везя с собой литературу. Там мы должны были по-
ставить дело организации рабочих нижне-тагильского чугуно-плавильного
завода и рабочих-шахтеров. Для остановки нам дали адрес зубного врача
Залкинд. Залкинд была женщина, а ее муж был местный партийный работник,
интеллигент.
Нас встретили так же, как некогда встречали мы приезжих партийцев:
приезжие талантливей и умнее местных.
Поселились мы на Тальянке, у портного, в бане, которая стояла на ого-
роде и топилась «по-черному», т.- е . дым выходил не в трубу, а в дыру
в стене, затыкавшуюся тряпкой. Днем мы сидели в бане, как отшельники,
читая книги и готовясь к лекциям, а вечерами ходили по кружкам рабочих.
С вечера топили нам баню, чтобы ночью тепло было. Баня была черная
и всегда угарная. Но было не до роскоши. Главное, мы были в одиночестве,
и нас мало кто знал. Провалиться в заводе ничего не стоило. Все друг друга
наперечет знали, и редко кто наезжал туда. Пришлых рабочих тоже не было;
все местные уральцы, поссесионеры г). Большинство рабочих имело свои
домики, лесные делянки и небольшие участки земли, даваемые заводом.
Рабочий был невольно прикреплен к заводу. Своей лошаденкой он подвозил
дрова, уголь и руду, своей силой плавил чугун. Он мало был похож на рабо-
чего фабрики или завода центральной России. Это был полурабочий, полу-
крестьянин. И характерно: тяжесть жизни острее чувствовали не молодые ра-
бочие, а пожилые. Когда мы впервые явились на собрание, нас поразили бо-
родачи. Что ни лицо, то тип. Бородатые, рослые, слегка напоминающие
украинцев, — да предков их, говорят, и вывез на Урал, к Демидову, Петр
Великий из Украины. Нижне-тагильский завод принадлежал Демидову,
а впоследствии некоему Яковлеву, жившему за границей. Вообще, все вла-
дельцы заводов болтались или в Петербурге или за границей, и только деньги
получали, как прежние помещики, с имений, а делом не занимались. Заводы
устарели, страдали от примитивной техники. Лишь дешевыми рабочими
руками да колоссальным природным богатством держалось производство.
—
Вот земли бы добиться, — мечтали старики. —
Атоунасеекаккот
наплакал, а у завода — девать некуда.
Земельный вопрос для рабочих был важнее рабочего вопроса, как тако-
вого. Уральская земля — не чета другим землям. У нее — сверху лес и хлеб,
а внутри— золото с ллатинкой. Не один из рабочих уходил тайком «счастья
искать»: землю рыть, золото добывать. Кому счастливилось, «хищником» *)
Ц Поссесионер — бывший крепосп ой завода.
*) Хищник — кустарь-золотоискатель,
украдкой на чужой земле добывающий
благородный металл.
становился, в руках забой и лопата, за поясом нож да револьвер. Не сдобро-
вать — его поймают; не сдобровать, ежели и он поймает.
Работа «хищника» — игра картежная. Попал на хорошее место —
загребай золото, не то — роет, роет, только земля бурая, камень упругий
и — ни блесточки. Деньги, время, сила убита. А соседу неподалеку золото
само в руки далось. Искушение! Ночью работают. Лес кругом, горы неболь-
шие, озера зеркальные. До жилья — пушечного выстрела не услышишь. Кто
узнает, что человека убил, да еще «хищника»-преступника? И крадется
свой к своему и вонзает в спину нож острый, заберет место и золото.
В полицию никто не заявит о пропаже человека, потому—сам на такое
дело пошел, что убить может. Еще участниками сочтут и засудят, что во-
время власти не донес о том, чем занимался убитый. Так и гибнут люди бес-
следно в глуши Урала.
Рабочий — везде одинаков. Везде он ценит в своих руководителях сме-
лость, остроту слова и простоту жизни. Ради успешности работы в нижне-
тагильской организации мы стали ходить к рабочим не только для того, чтобы
проводить собрания, а просто так, по-обывательски, в гости. Зайдешь вече-
ром, глядишь, сосед приплелся, а там — еще кого-нибудь кликнут, тары-
бары; смотришь: чай, за чаем — разговор. Начнешь рассказывать о сто-
личной жизни богачей и рабочего класса, о его борьбе за свою жизнь, о же-
стокостях правительства к рабочим. Коснешься рабочего -класса вообще
и его значения в жизни, а как заговоришь о нужде рабочей, о его болестях,
о семейном бытии, да о трудностях женщины в домашнем хозяйстве, да как
это сдобришь все юмором, да посыпешь насмешкой, а в заключение гвоздь
забьешь, что, де, и мы, рабочие, тоже люди, тоже жить хотим, да и не глупее
бар-белоручек, — тут тебе рабочий — весь твой.
—
Ты, — говорит, — наш насквозь, жизнь нашу разумеешь.
И не знает, куда посадить тебя.
Попадешь иной раз к обеду:
—
Садись, Аркадий, запросто. Только извини, брат, — простая
пища.
_
—
Не беспокойся, — говоришь, — не разносолы и мы ели.
—
Да нешто я не знаю, — свой человек.
А сам моргает жене, чтобы та почище что-нибудь поднесла. Сядешь
за стол и — пошел уписывать за обе щеки похлебку с луком. И есть не хо-
чется, и не дюже вкусно, а ешь, — нужно. Откажись, — человека обидишь.
Подумает: «О нужде рабочей сладко поешь, а его хлебом-солью брезгаешь.
Барин!»
Своей простотой, рабочим языком, панибратской жизнью, за словом
в карман не лазили, — no-нравились мы нижне-тагильцам. Дело преуспевало.
Организация крепла. Центр создали из рабочих. Говорим рабочим:—«Бе-
рите сами свою партию в руки, на других не надейтесь. Другие с тобой до
поры, до времени, а пробьет жестокий час твоей борьбы с врагами, они от
тебя отвернутся. Не по дороге им с тобою. Прямолинеен ты, а другие изгибы,
извивы любят. Их жизнь, что цветок тропический, в какую оранжерею
ни посади, расти будет, лишь тепло да свет были бы. А твоя жизнь — дуб
кряжистый, нигде, кроме свободы, не распустится».
Одиноко рос рабочий, угрюмо, без ласки. Учить никто не хотел, а ра-
ботать заставляли. В землю загнали, и там, во тьме, рыли рабочие по всем
направлениям, добывая золотые блестки — золото, лоснящийся уголь, медь
и железо. Неохотно уступала им свои богатства земля-матушка. Упорство-
вала. Заливало шахты, огнем сжигало, пугало. Но не запугало. Одни уми-
рали, другие шли на смену. И то, что миллионы лет было схоронено в земле,
рабочие вытащили наружу и, не улыбаясь солнцу, зажгли заводы, осветили
тьму ночи, убрали золотом животы и руки богачей, окутали землю ветками
чугунных рельс и, тяжело вздыхая, прокляли этот мир.
—
Тяжела и страшна эіга жизнь, — сказала раз жена Залкинд, кутаясь
в теплый платок и ежась на диване, как бы от сильного холода. Холод этот
был у нее внутри. Молодая, красивая, она была заброшена в захолустный
уральский завод. Когда бы ни вышла она на улицу, — все завод и завод.
Днем дымный и закопченный, а ночью, — как дьявол глазастый, огнеды-
шащий, гремящий и клокочущий расплавленным чугуном*. Его словно боялись
на горе построить, и стоял он в котловине, между двух возвышенностей,
окраин рабочих, и в темени, как пожар, заливал окрестность заревом*. Это
было солнце рабочих, которые вылезали из шахт только ночью. Это был
кошмар для лежавших на диване.
—
Я одного не пойму, как это вы могли бросить Петербург, где
свет, блеск и жизнь, — и
приехать сюда, в эту скучную глушь.
Здесь нет людей.
'
іЬѴИ-MijJ
Затосковал Генашка. Надоела ему наша баня. Чуть свободная минутка,
к Залкинд бежит. Чисто у нее, уютно, просторно и красиво. Есть с кем
душу отвести. Молодая женщина скучает, в столицу рвется. Общий язык
нашли — красоту. Оба были с голосами; дуэтом пели. Замечаю: страдает мой
Генашка, а сказать прямо, что ему надоело все, смелости не хватает. Да и сам
чувствую, что с его голосом ;и уменьем петь не с рабочим ему дорога,
а иная. Сцена его манит. Артиста слава.
—
Думаю в Екатеринбург перекочевать, — говорит он мне. —
Ссылка
здесь.
В сравнении с центром, жизнь в Нижнем-Тагиле напоминала отчасти
ссылку. Завод — заводом, а местечко — местечком. Скучное, пустынное.
Выглянешь днем из окна бани: пустошь огородная, далеко за ней гора
шапкой, елью покрытая, зеленая, на снегу торчит. На улице — ни души, одни
коровы прогуливаются. Сидим, бывало, в своей дыре, и такая вдруг тоска
возьмет, что так и хочется кинуть все и бежать.. Но... нельзя! На посту
стоишь, пока не снимет разводящий, хоть умри, а стой. И многие умирали,
умирали разі-юй смертью. Один ее нашел в открытом бою, с оружием в руках,
другого она подкараулила безоружным, третий в тюрьме богу душу отдал.
Сибирская тайга не мало схоронила. А чахотка? Иваненко умер от нее,
в Крыму умер, у моря, что лазурными волнами било в бока Ялты. И нас чуть-
чуть не настигла неизбежная.
Вернулись мы как-то в свою баіню, после топки, и спать завалились.
Еще в постели почувствовали, что угаром пахнет. Все встать да встать —
и уснули с мыслью, что встать надо и дверь открыть — проветрить. Генашка
к стене лег, я — с*краю.
Открываю глаза, — все кружится, и голова свинцовая. Хочу встать —
и двинуться невмоготу.
Силой воли столкнул себя с постели на пол и сознание потерял.
Очнулся, дверь открыл, к Генашке бросился, — лежит бледный, глаза от-
крытые, словно стеклянные, и смотрит ими жутко.
—
Геннадий ! — ору.
Сил не хватило с кровати стащить. Уткнулся в стену парень и как
ледяной стал. Я побежал через двор к портному; и снова упал, уже у него.
Очнулись мы оба на дворе. Мороз — воробьи мерзнут. А нас положили
на снег голова с головой и обе головы водой обливали. Когда мы пришли
в себя, нам стало смешно, а в бане жить уже не хотелось.
Генашка тотчас же уехал.
Расставаться было трудно; привязались друг к другу, полюбил я его,
как молодого способного парня. Своими песнями он делал не меньше, чем
какой-нибудь оратор. Кончится массовка, Генашка дубинушку затягивает,
как хватит, аж лес дрожит, воодушевит всех, зажжет — и уходят бодрые.
Пошли мы после Тагила разными дорогами. Его екатеринбургская органи-
зация оставила в городе, использовав как певца, устраивая концерты- для
усиления материальных средств партии, а меня бросила как агитатора по
заводам. Когда налегке в путь пускаешься, еще ничего, а с грузом— -
с литературой — много возможностей в тюрьму попасть. Но каждому видно
на роду написано, что с ним произойдет — и, уж как ты ни финти, а слу-
чится то, что должно случиться. Выбрался я как-то в Невьянский завод
с двумя чемоданами литера-туры и прокламаций по поводу государственной
думы и выборов в не-е; ехать інадо было частью по железной дороге, а тридцать
верст — на почтовых. Ни место не знакомо, ни люди, да и обычаи не те, что
в России.
Увидали меня ямщики в ямщицкой, когда лошадей просил, да и говорят:
—
Поедете, барин, в чем есть, али доху достанете? Морозно сегодня.
—
Нет, — говорю, — у меня дохи.
—
Холодновато будет в этой одеженке-то. Студенты, знать, будете!
—
Да. На практику, в завод еду.
—
Эй, вы, заливные! щелкнул ямщик, хлестнув пару, казалось, замо-
ренных кляч. Рванули они с места, только снег столбом, да колокольчик-
шатун под дугой загремел.
—
Через час на станции будем,—кинул ямщик, — сменим лошадок
и — дальше.
Дорога до забода малонаселенная; изредка деревушка встретится, а то
все небольшие горы, вроде кочек полевых, ельник, покосы. Все засыпано
глубоким и голубым, искрящимся на солнце, снегом. Блестит так, что глаза
слезятся. Мороз безветреный, хлесткий, настоящий • сибирский. Меня
в моем пальтишке и штиблетах до костей пробирало. Чтобы не замерзнуть,
я брался руками за задок, да бегом. Побегу, побегу — сяду; так и доехал,
не замерзнув.
В Невьянский приехал под вечер. Заводишка небольшой, весь на виду.
Сразу заметили, что новый человек прибыл. Остановился у сына священника,
тов. Васи. Быстро спровадили часть литературы, а остальное я должен был
в Алапаевку отвезти, где была историческая алапаевская республика. Вече-
ром этого дня собрал местную организацию. Меня, как и в Нижнем-Тагиле,
поразило то, что преобладающим элементом организации были пожилые
рабочие.
—
Молодежь у нас баловством больше занимается, — виновато гово-
рили старики.
Слушали доклад охотно, народу рабочего в хату набралось довольно;
все задавали вопросы, что надо делать, чтобы, в конце-концов, сломить прави-
тельство Николая. Вопросы экономические тут были уже на втором плане.
Близость Алапаевского завода, в котором рабочие в 1905 году учредили свою
республику, примечательно отражалась на невьянцах. Они уже боролись не
только словом, но и делом. Среди невьянской администрации было, между
прочим; особое лицо, которое организовало отпор действиям местных рабочих.
И когда это лицо сидело у себя дома у окна, кто-то из рабочих подо-
шел и через окно уложил его на месте, незадолго до моего приезда. Харак-
терно: чтобы не раздражать рабочих, местная заводская власть не придала
этому делу гласности и не пыталась найти стрелявшего, зная, что он из ра-
бочих. Рабочие невьянские были боевые.
На другой день рабочие завода, узнав, что в Невьянск приехал «сту-
дент-оратор», потребовали устройства общезаводского
митинга. Интерес
к свободному слову «студента», нарочно присланного из Екатеринбурга, был
столь велик, что даже местные лавочники и те просились у рабочих, чтобы
им позволили быть на собрании. Назначили место и время.
Администрация не допустила и решила арестовать «студента», т. -е .
меня. Так как все более или менее революционно настроенные рабочие за-
вода им были известны, то часа за три до собрания местная власть — в лице
пристава, его помощника и нескольких человек стражников, — запрягли
лошадей в розвальни и поехали с обыском почти из двора во двор. Рабочих
не трогали, искали только «студента».
Таким образом, собрание было сорвано. Меня решили во что бы то ни
стало спасти. Из дома сына батюшки меня отправили в церковную школу
и просили смотреть все время в окно. Было условлено: как только увижу
я, что мимо едет лошадь, запряженная в сани с угольной кошелкой, момен-
тально выскакиваю и бросаюсь в кошелку, в которой меня отвозят в надеж-
ное место.
А товарищи рабочие все время следили, куда местная власть путь
держит — по обыскам.
Сижу в школе. Тут же учительница и еще кое-кто, кто в курсе дела,
и страшно волнуются. Они тоже ждут обыска, но боятся не за себя, а за меня.
У меня настроение поганое, потому что сам не в состоянии скрыться, ибо
место незнакомо; все происходит не в большом городе, а в местечке, где все
люди друга друга, как облупленного, знают.
Гляжу в окно, — жду. Ночь лунная, белая. Как днем, все видно.
—
Едут, — говорят мне, — готовьтесь.
Я, не долго думая, выскочил из школы и, как только сани поровнялись
с церковью, — бултых в корзинку.
—
Залазьте под сено, — кто-то произносит.
Я зарылся в сено.
Привезли меня к рабочему, в доме было очень много народа, и все, оче-
видно, знали, что меня хочет арестовать власть, и не хотят выдать меня ей
рабочие.
—
Теперь вам нечего бояться, — встретили меня, — вы
вне опас-
ности. Сюда уже не придут. Нужно только завтра же отправить
вас на чугунку.
Дело было в субботу. Утром узнали, что на почтовую станцию дали
знать: в случае, придет студент нанимать лошадей, задержать его.
У застав, по дороге в Алапаевку и на железнодорожную станцию Не-
вьянок, выставили стражу. Больше дорог не было: лес да горы. Рабочие при-
задумались.
—
Стой! — сказал один, — есть выход.
День был базарный. Из недальних деревень приехали крестьяне, кто
с чем. Пошли на базар, нашли крестьянина, своего видно, с парой лошадей,
из деревни, где пересадка почтовая, и сговорились с ним, чтобы он меня довез
до станции. Меня одели в пимы, в крестьянскую доху, шапку с рукавицами
дали, положили в сами чемодан с литературой, и я с крестьянином, — он
впереди на одной лошади, я сзади на другой, — как
мужичок, выехал
спокойно из завода, не внушив никакого подозрения стоявшим у заставы
стражникам.
До деревни крестьянина доехали благополучно, но дальше он везти
меня отказался, ссылаясь на то, что лошади такого перегона не вынесут.
И мне ничего не оставалось, как итти на почтовую станцию нанимать почто-
вых. Разделся я у него, взял свой чемодан и пришел на станцию.
В большой почтовой избе я застал лишь одного ямщика, пожилого
мужчину, который сидел на табурете и подшивал пимы.
Я поздоровался и попросил поскорее дать мне лошадей до станции,
чтобы успеть к поезду.
—
А вы откуда будете, барин? — вдруг спросил меня ямщик, не обо-
рачиваясь.
Я насторожился. Вопрос был неуместен.
—
Я из Алапаевки, от отца Александра еду.
—
А-а, из Алапаевки. Спешить некуда. Еще нагуляетесь. Вы, вот,
пройдите-ка в приезжую, чайку попейте, а я тут сбегаю сейчас, в одно место.
Торопиться некуда.
Он говорил спокойно и, мне показалось, насмешливо. Он замышлял не-
ладное. Он надел шубу, и я видел в окно, что он пошел на деревню.
«Ну, думаю, за властью пошел, чтобы арестовать меня». Бежать не-
куда. До станции верст восемнадцать, мороз градусов под сорок, дороги
безлюдны, кругом снег, лес, горы. Пойдешь — замерзнешь, да и пойти-то не
дадут, тут же дорогой сцапают. И чемодан с литературой деть некуда. По-
пался, как кур во щи. Были со мной кое-какие документы, сжевал и вы-
плюнул.
Сижу и жду, представляя себе картину, как меня сейчас арестуют,
куда-нибудь посадят, потом повезут в город, опять в тюрьму и — новое дело.
Смотрю, ведет мой ямщик человек шесть каких-то мужиков, среди них
большой бородатый старик вроде старосты. Все идут в ямщицкую.
Так и решил: идут арестовывать.
Вошли.
—
Я и говорю, Яфим, как только студент приедет, так значит и аре-
стовать яво приказано. Он во-во здесь будя. Больше ему некуда деваться.
—
А вот этого-то барина как же — из Алапаевки-то, яво же отправить
надыть.
*
\
Бородатый заглянул в приезжую и, должно быть, увлеченный охотой
на студента, совершенно не обратил внимания на меня.
—
А ты яво с Митькой отправь, а сам сиди да жди, он скоро будя.
Весь этот разговор я вначале принял за шутку надо мной, а когда они
ушли, я скорехонько торопить стал Яфима, чтобы он запрягал.
Пришел молодой парень Митька, с которым я и выехал.
Дорогой он рассказал мне, что в Невьянский завод приехал какой-то
студент из самого Петербурга, привез народный манифест о свободе, а его
велено арестовать, если он появится на почтовой станции.
—
Вот темнота наша, — добавил он, — хорошего человека и арестовы-
ваем сами.
—
Ну, а ты бы не арестовал, если бы он тебе попался? — спрашиваю
у него.
—
Я то, — ухмыльнулся Митька, — я бы у яво манифест попросил,
а сам он, — иди куда хошь. Нетто таких людей сажают?
—• Эй, вы, ну-ли, что заснули, — махнул юнутом.
И свистнув, понесся. Навстречу ехали крестьяне, возвращаясь до-
мой с базара. На мне была большая казацкая шапка с белым верхом и, едучи
на паре почтовых, в хороших санках, я крестьянам казался, вероятно, властью:
все они раскланивались.
В другое время, может быть, этого бы не сделал, а тогда горячая кровь
была, молодая. Понравился мне Митька-ямщик.
Говорю ему: — На-ко, друг. Почитай на досуге. —
И дал пачку
прокламаций.
Митька обернулся ко мне лицом и сказал:
—
А, ведь, я знал, что вы — тот самый и есть, кого арестовать
велено.
И мы с ним аккуратненько стали кидать в сани едущих крестьян и на
дорогу прокламации.
После поездок в Нижний Тагиль и Невьянск меня оставила организация
в Екатеринбурге. Генашка поступил в церковный хор певчим; ему надоело
жить за счет организации; я остался партийным профессионалом. Жили мы
у Патрикеева, занимая одну комнату. Сам Патрикеев участия в жизни орга-
низации не принимал, но дом его был открыт для всех партийных работ-
киков.
Сюда приходили все, кому было не лень. Дом был вроде проходного:
бесхозяйственный, особенный. Хозяин никогда дома не бывал: днем на
службе, вечером в клубе, ночью — где придется. Избегал дом. А жена его--
красивая, молодая, но больная, — ничем не интересовалась. Запрется в своей
комнате и сидит, на свет не выглядывая, бледная, заплаканная, с одинокими
черными думами. Она безумно любила мужа, но зная, что ее болезнь
мешает ей его привязать к себе, сильно страдала. Муж тоже любил ее,
и крепко любил; другой раз придет домой, увидит ее, страдающую, при-
ласкает, но холодной лаской, братской. А потом опять скроется. Приготовит
прислуга обед, подойдет время обеда, — ни хозяина, ни хозяйки, а кто из
партийной публики есть в доме, тот и кушает. Прислугу Аннушку распро-
пагандировали так, что она принадлежала больше организации, чем Патри-
кеевым. В доме — холодно. Комнат много, а везде беспорядок: где лежат
книги, где белье грязное, — как сняли, так и оставили, — остывший
чай с мухами в стаканах, которые стояли на подоконниках, на
столе и даже на раскрытых книгах. Куски колбасы и корки хлебные
со стола не убирались. Только приберет Аннушка, — придет кто-ни-
будь и снова насорит.
И тихо в доме никогда не было, — вечно народ, разговор, споры. Люди
сходились однородной организации, а тактика намечалась разная: одни гово-
рили, что надо итти в думу и внутри нее вести работу, способствующую орга-
иизациии масс, а Другие утверждали: долой думу, нужно усиление подпольной
работы и подготовка к вооруженному восстанию.
Приехавший из Мотовилихи партийный работник, рабочий Михаил
и его жена, гимназистка Маруся-татарка, •— боевики, — занялись специально
организацией боевых дружин и добыванием оружия. Другая партийная ста-
рая работница Маня все время стояла на том, что беевьши дружинами с пра-
вительством не справиться, а вооружить всех рабочих у организации
средств нет.
—
Мы их достанем, — твердил Михаил. .
Обдумывались планы экспроприации, чтобы достать средства для уси-
ления организации.
Другая часть товарищей тоже усиливала организацию материальными
средствами, устраивая концерты. ...
Один такой концерт, -при ближайшем участии Генашки, был дан в дво-
рянском собрании. Сбор был большой, успех крупный, он-то и определил
Константинову дальнейший путь его жизни.
—
Я партийными делами, Аркашка, больше не занимаюсь. Кончено.
Хочу служить только искусству.
Партийная жизнь, всегдашние споры, безалаберность быта, быта кочев-
ников, разногласия, — все это отшатывало его от организации рабочих.
Его тянул блеск театра, слава подмостков.
—
Ты — не рабочий, — говорили ему, когда он, не скрывая, высказы-
вал мысль, что больше в организации работать не может. —
Ты — типичный
интеллигент, индивидуалист.
—
Нет, врете, я рабочий! — сопротивлялся Генашка. —
Я больше
рабочим принесу пользы своим голосом, чем распространением про-
кламаций.
До хрипоты спорила с ним Маруся-татарка. Эта женщина была сильна,
как мужчина, и любила бороться: придет к Патрикееву, облапит мужчину
и волей-неволей заставит с нею бороться. И часто валила его на пол. Муж ее,
Михаил, был ей под стать: медведистый, лохматый, точно вырубленный. Лицо
его никогда не улыбалось, глаза были злые, и насупленный низкий лоб говорил
за то, что этот человек никогда не знал нежной ласки матери. Каждое его
слово было как брошенный тяжелый камень. Говорил он всегда о бомбах,
оружии и вооруженном восстании. С рабочими был связан кровью и из всего
им прочитанного хорошо помнил одно1: «дело освобождения рабочих — дело
рук самих рабочих». Интеллигенцию ненавидел.
—
Им с кадетами дорога, а у рабочих им делать нечего, — говорил.
Кадетов же он считал злейшими врагами, как партию снотворных
порошков, усыпляющих красивыми словами пробуждавшееся народное со-
знание. Знал кадетов не по теории, а на практике, — по собраниям.
Когда кадетская партия увидела, что сидеть только в Питере и торчать
на глазах правительства Николая, убеждая отдельных членов правительства
в необходимости конституционной монархии с кадетскими министрами, —
дело не яркое, и что такой работой не создашь себе особой популярности,
она решила рассыпаться по городам, агитировать, тем более, что это им не
возбранялось, и за это их ни оптом, ни в розницу не арестовывали, не са-
жали и не ссылали.
Вынуждала их на агитационную работу подпольная с. -дем. рабочая
партия, все укреплявшаяся и усиливавшаяся. Кадетам" надо было итти в цареву
думу, это была еще давнишняя мечта. А с. -дем. критиковали вкось и поперек
думу, говоря: не ждите от нее ничего путного.
От кадетов выехали самые лучшие силы — Родичев, Милюков, Кизе-
веттер. Последний посетил Екатеринбург. Собрание было устроено в театре.
Народу собралось — театр ломился. Послушать пришли не только барышни,
гимназисты и студенты, но промышленная и торговая буржуазия и даже ра-
бочие. Пожилой человек, европейская известность, образованный, умный,
он красиво1 стал говорить о думе, ее значении и о кадетской партии В его речи
не было ни одного резкого выражения: тактичность, корректность, мягкость.
Говорил, точно масло лил. Зал рукоплескал.
Только рабочие, сбившись кучкой, угрюмо молчали. Речь Кизеветтера
им нравилась, но программа кадетов была так тонка, что когда ее мозоли-
стые мозги рабочих начинали обдумывать, она рвалась, как гнилая паутина.
—
Уж ежели землю отбирать, — так отбирать без выкупа. Уж ежели
свобода, — так свобода прямая, без переулков.
Не одного меня взбудоражила тогда речь кадетского оратора. Многие
из нас чувствовали необходимость выступить с критикой программы и так-
тики кадетской партии, но боялись, — не полиции, что была тут же, а знаний
Кизеветтера, его образованности.
Лишь буйная молодость, неудержимая, гневная и подчас дикая, — за-
ставила тогда меня выступить против европейской известности.
Я попросил слова. Взобрался на театральные подмостки.
Полицейский до этого сидел, а при моем появлении встал. Публика
уперлась в меня глазами. Чутьем догадывались, что я — противник. В перед-
них рядах пренебрежительно улыбались: «Туда же лезет!»
Похолодело под сердцем. Хмелем гнев ударил в голову. Словно не ауди-
тория была в театре, — а враги. Даже в рабочих рядах сомнение было, вы-
держу ли? — Красивую девушку заметил, жгучую, как итальянку. Одобри-
тельно глядела. Глазами ободряла.
Вспомнил, как говорят наши партийные товарищи в столицах, — тихо,
не спеша, обдумывая каждое слово.
Начал. Ехидничать уже давно научился. Отдал должное блестящему
таланту Кизеветтера. Себе отступление сделал, что рабочий — я, немного
знаний пустил в ход, и смело, словно университет кончил, чужим остроумием
рассмешил, а потом, как долго сдерживаемый горячий конь, стал бросать
собранию те смелые пламенные мысли, что рождались только в подпольи,
чего никогда не мог сказать ни один кадет.
И если в одном случае человек идет за красотой, то в другом — за
смелостью и силой.
А кадетская красота без смелости и силы — все равно, что поп без
обедни.
И мне аплодировали не только рабочие, но весь зал, вся молодежь.
Лишь полицейский остался недоволен и закрыл собрание.
С.
Васальчгнко.
проба сил
Матвея стачка застигла в поисках работы. Возвращаясь в этот день
из города, ой догнал несколько групп мастеровых, живших в Гниловской
станице, и уже одно ТО, что они, возбужденно разговаривая, шли домой
в необычное время, взволновало его догадкой о том, что в мастерских что-то
произошло.
Он немедленно подошел к двум рабочим, которых встречал, когда еще
работал сам в кузне, и прямо спросил:
—
В чем дело, товарищи, разве сегодня мастерские не работают?
Те обернулись к Матвею.
-—-
Стачка началась! Завтра возле мастерских собрание...
—
Все бросили работать?
—
Все.
—
А какие требования?
—
Еще не пред'явлены.
Матвей, вместо того, чтобы итти домой, повернул обратно к городу.
Он пошел было искать на Темернике Ставского или Михайлова.
Но по дороге встретившиеся новые знакомые мастеровые сказали
Матвею, что Ставский и Михайлов выступали на летучем собрании забастов-
щиков возле мастерских.
Тогда Матвей направился к Качемову, застал его на квартире и узнал
от него все подробности начала стачки и законспирированное местопребы-
вание Ставского в одной интеллигентной семье. Однако итти туда Матвей
не решился, откладывая разрешение вопроса на завтра, когда, по словам
Качемова, Ставский снова должен был явиться на собрание.
На собрании Ставскому было не до Матвея. Едва увидев его и догада-
вшись, чего от него хочет Юсаков, Ставский, еще не переодетый для высту-
пления на митинге, на полминуты остановился, отвел его в сторону и, по-
здоровавшись, торопливо заявил:
—
Если хочешь что-нибудь делать, то обожди пока, а- самое лучшее,
сиди дома. В комитете я о тебе скажу, и когда ты будешь нужен, тебя найдут.
Матвей с разочарованным удивлением посмотрел на товарища.
—
Посидеть дома?—протянул он. —
Так просидишь и революцию*...
—
Ну, тогда полагайся на собственную инициативу, но сейчас, все
одно, самостоятельно пока ничего не делай. Через несколько дней, когда со-
бытия развернутся, дело найдется всем. А если ты будешь сейчас вертеться
везде и мозолить шпикам глаза, то и потом пользы от тебя не будет ни-
какой...
Матвей решил последовать совету товарища, но он hç мог спокойно
сидеть дома и начал болтаться на митингах, стараясь возможно меньше
встречаться с товарищами и прячась за спинами незнакомых с ним рабочих.
Только от Моргая он не захотел прятаться, когда тот увидал его, и пошел
с рессорщиком к нему домой.
Как-то Матвей вспомнил о Тихорецких мастерских, в которых теперь
работал Павел Соколов, первый из известных Матвею по имени социал-де-
мократов.
'
«Сигизмунд, — соображал Матвей, — знает, адрес Соколова и с удо-
вольствием поедет; -чтобы познакомить меня с ним.. А тому, может .быть,
будет полезно узнать, что происходит в Ростове...»
И Матвей решил ехать в Тихорецкую.
—
Ваня, — обратился он к Ставскому, — я
намереваюсь
поехать
в Тихорецкую. Поеду, узнаю, как там дело, сообщу сюда вам, и, может быть,
вы что-нибудь решите.
—
А у тебя там связи есть? — схватился сейчас же за предложение
Ставский.
—
И связи не нужно. Там работает Соколов, который был арестован
в сборном цехе в прошлом году.
—
О, чорт! Это же Америка! Не езжай, а лети прямо. Скажи Соко-
лову, что если еще они присоединятся к нам, то у правления дороги гайка
сразу ослабнет. Сговорись с ним, и немедленно же сюда к нам, скажешь, как
дело. Тебе деньги на дорогу нужны?
—
Лучше, если вы дадите, потому что иначе я у матери возьму
последнее.
—
Есть. Осадчий, дайте Матвею десять рублей, он поедет в Тихо-
рецкую. Из комитетских я вам возвращу.
Теперь ему нужно было найти Сигизмунда. Это было не трудно, так
как забытый подросток находился здесь же.
День был рабочий. Вызывать Соколова из мастерских, по мнению
Матвея, было бы неосторожно, принимая в расчет цель свидания; поэтому
товарищи, посоветовавшись, решили провести весь день в каком-нибудь
укромном месте.
Когда стало смеркаться, Матвей решил, что пора итти.
Соколов снимал частную квартиру у какого-то обывателя. Чтобы
не вызывать лишних подозрений у квартирохозяина Соколова и его соседей,
Матвей сам в дом не пошел, а направил на квартиру Соколова только
Сигизмунда, чтобы вызвать товарища, несомненно находящегося под надзо-
ром местных властей, на улицу.
—
Пойдемте к степи, — предложил он, когда Сигизмунд и Соколов
вышли из домика.
Матвей вполголоса начал рассказывать то, что сам уже знал о стачке.
Возникла она так-то. Требований столько-то и такие-то. Стачка не только
не будет сломлена, а, наоборот, к ней несомненно примкнет еще ряд пред-
приятий. Лучше всего, однако, было бы, если бы стачечников поддержали
не пекаря и рабочие других профессий, а тихорецкие мастерские этой же
дороги. Возможно ли присоединение в критический момент Тихорецкой?
Есть здесь хоть группа сознательных рабочих? Велась хоть какая-нибудь
агитация или пропаганда?
Соколов был достаточно осведомлен, чтобы ответить на все эти вопросы.
Со времени золотовского бунта, вспыхнувшего после самоубийства
изнасилованной девушки-, в тихорецких мастерских признаков готовности
к выступлению не было. Часть активных рабочих вроде литейщика Конда-
кова была арестована, часть раз'ехалась сама. Собственно пролетарского
элемента в мастерских только две трети. Часть рабочих не только работает
в мастерских, но еще занимается хозяйством. Сознательность на самой
21
Крестьянин и рабочий. Ч. П.
низкой ступени, но недовольство есть, ибо заработная плата еще ниже, чей
в Ростове. Много значит, что тут есть сезонные рабочие. Есть и нечто
вроде подпольной группы, которую самому Соколову удалось создать. При
наличии этих условий, можно попытаться выступить, раз это необходимо
будет ростовцам1 для успеха стачки.
—
Как вы это сделаете? — спросил Матвей.
—
Только с помощью ростовской же организации...
—
Каким образом?
Соколов посмотрел на Сигизмунда, попутно улыбнувшись ему, перевел
взгляд на более возмужалого Матвея и подумал, что не мешало бы кому-
нибудь сюда приехать постарше.
—
Вам придется приехать сюда еще раз и сделать сообщение
о стачке,—сказал он.— Недурно, чтобы вас было человека два-три, постарше,
чем Сигизмунд.
—
Когда надо приехать?
—
Дня через два-три, пока я подготовлю тут почву.
—
Хорошо. Я приеду с парой товарищей постарше. Если прокламации
будут, куда вам их привозить?
—
Прокламации очень нужны. Надо найти здесь на Церковной улице
учительницу Лупани, Ольгу Алексеевну. Если кто явится к ней, то пусть
скажут: «Я родич того человека, который вам подарил пять рублей на ка-
лоши». Это товарищ, которому можно оставить все, что будет прислано,
и она передаст мне. Она по паролю тоже будет знать, что это из Ростова...
Она квартирует при училище.
—
Хорошо. Значит, через два дня мы будем- .
До свидания.
Матвей повез к Лупани прокламации для Соколова. Когда- он возвра-
тился, против стачечников оказались стянутыми войска, и все стало говорить
о готовящихся репрессиях. Ставский, увидев его, заявил, что стачка тихо-
рецких мастерских нужна во что бы то ни стало, и предложил Матвею
опять поехать туда, подобрав себе для этого товарищей.
Матвей сговорился с Ильей и Качемовым, последний предложил еще
одного мастерового из колесного цеха, некоего Кравцева, и четверо товари-
щей поехали, получив от Михайлова командировочные деньги на дорогу от
имени комитета.
Когда они вечером сошлись, то у Матвея уже созрел план, не отклады-
вая дела в долгий ящик, немедленно итти к мастерским, дождаться возле
проходной будки, пока рабочие начнут выходить с работы, и здесь же под
воротами устроить летучий митинг.
Вот и гудок. Еще полминуты, и в дверях проходной показались две
ленты рабочих.
—
Товарищи! Стойте, не расходитесь. Мы от ростовских стачечников.
Товарищи, стойте! Стойте!
Рабочие сначала растерянно, а затем заинтересованно окружили
скамью, на которой стоял Качемов, взволнованно размахивая руками
и крича, чтобы мастеровые не расходились.
Матвей взобрался рядом с ним на скамью и толчком заставил товарища
замолчать. Затем он взмахнул снятой с головы шапкой рабочим.
—
Товарищи! Вот уже две недели почти, как наши мастерские в Ро-
стове не работают... - —смело и звонко крикнул он толпе, волнуя ее своим
под'емом. —
К нам присоединились пекаря, табачники, целый ряд заводов.
Мы забастовали, так как у нас уже начинают лезть к рабочим с зуботы-
чинами. Мы выставили требования, чтобы рабочих не считали хуже ссбак,
-а относились к ним по-человечески. Вместо того, чтобы хоть рассмотреть
наши требования, нас начали арестовывать, и теперь по всему Темернику
появилось столько войска, что с ним можно смело итти покорять Турцию
и завоевать какое-нибудь новое государство. Может быть не сегодня, так-
завтра эти войска уже начнут рубить нас, когда мы покажемся за ворота,
чтобы поговорить друг с другом. И вот мастеровые ростовских мастерских
прислали нас к вам спросить вас: — что же, товарищи, знаете вы обо всем,
что у нас делается? Будете ли вы работать на одного нашего хозяина, пра-
вление Владикавказской железной дороги, если вы знаете, что ваш зарабо-
ток обеспечивается тем, что нас, может быть, завтра же расстреляют? Без
крайней необходимости, товарищи, мы не хотели вовлекать вас в нашу борьбу,
мы с самого начала думали, что обойдемся без вашей помощи. Но теперь,
когда уже весь Ростов знает, что к нам прислали казаков, чтобы расстре-
лять нас, мы решили обратиться к вам. И вот мы много говорить не будем,
а только спросим вас: за нас вы, товарищи, или против нас? Отвечайте. Если
вы за то, чтобы нас разгромили, то вы и не кряхтите, как-будто вы ничего
не знаете, а прямо скажите нам, что вы нам не товарищи, и мы повезем ваш
ответ ростовским рабочим. Если же вы за нас, то тогда нечего и говорить,
а надо собраться бросить работу и сказать, что громить нужно не только
ростовских рабочих, а также и тихорецких, а, может быть, по всей линии.
Посмотрим, что из этого выйдет. Отвечайте, товарищи, — что же нам пере-
дать в Ростове?
Еще прежде, чем кончил призывную и неожиданно страстную,
заставившую заволноваться рабочих, речь Матвей, рядом с ним на
скамье оказался какой-то местный мастеровой, который, не дав рас-
сеяться впечатлению от речи юноши, принял брошенный им рабочей
толпе вызов:
—
Товарищи! Я из механического цеха, токарь. Мы такие же масте-
ровые, как и рабочие в ростовских мастерских. Сегодня против них при-
слали войско, а завтра и нас будут поливать свинцом. Что же,
разве мы не присоединимся к своим товарищам? Давайте крикнем
на всю дорогу: долой кровопийц! Кто за стачку, товарищи, кри-
чите ура, чтобы ростовские товарищи знали, что мы выступаем для их
поддержки. Ура, товарищи!
—
Ура! Стачка! Стачка! Долой самодержавие! Долой правление!
Да здравствуют ростовские мастеровые!
Но, возвратившись в Ростов, Матвей узнал, что здесь был произведен
расстрел, и стачка оказалась разгромленной.
Он ужаснулся от того, что здесь произошло, и с трепетом стал ждать
сведений — как развернулись события в Тихорецкой. Скоро он узнал, что
и там произведено зверское нападение на рабочих и расстрел их.
Вставал вопрос о том, как выехать для эмигрирования за границу
Ставскому и Захарову.
Матвей, немного подумав, предложил:
—
Пойдемте вечером ко мне на квартиру в Гниловскую. О том, что
вы можете день-два пробыть у меня в станице, никому и в голову не придет.
А там вы осмотритесь и на маленькой станции в двенадцати верстах от го-
рода сядете в поезд, так что вас никто и не увидит. До границы доедете,
а там обычным путем, по явкам*, найдете контрабандистов, и все готово.
—
Хорошо... Организуй это дело. Обещаем за это тебе присылать всю
новую нелегальщину из-за границы.
Одну ночь у него проспали преобразившиеся в пассажиров товарищи,
а рано утром, к отходу поезда, Матвей провел их на удаленную от города
станцию, купил билеты, дал им несколько полученных от Клары Айзман
адресов ее подруг, по которым можно было присылать в заграничных кон-
вертах нелегальные издания, и напутствовал уезжающих пожеланием успехов:
в неизведанной эмигрантской жизни.
М. Горький.
9 января 1905 года.
I.
...
Толпа напоминала осенний, темный вал океана, едва разбуженный
первым порывом бури; она текла вперед медленно; серые лица людей были*
подобны мутно-пенному гребню волны.
Глаза блестели возбужденно, но люди смотрели друг на друга, точно'
не веря своему решению, удивляясь сами себе. Слова кружились над толпой,
как маленькие серые птицы.
Говорили негромко, серьезно, как бы оправдываясь друг перед другом
—
Нет больше возможности терпеть, вот почему пошли...
—
Без причины народ не тронется...
—
Разве «он» *) это не поймет?..
Больше всего говорили о «нем»,
убеждали друг друга, что «он» —
добрый, сердечный и — поймет, все поймет. Но в словах, которыми рисовали:
его образ, не было красок. Чувствовалось, что о «нем» никогда не думал»
») Т.- е . Николай И.
-серьезно, не представляли его себе живым, реальным лицом и даже плохо
понимали, зачем «он», и что может сделать. Но сегодня «он» был нужен, все
торопились понять его, и не зная того, который существовал в действитель-
ности, невольно создавали в воображении своем нечто огромное. Велики
были надежды и требовали великого для опоры своей.
Порою в толпе раздавался дерзкий человеческий голос-
—
Товарищи! Не обманывайте сами себя...
Но самообман был необходим, и голос человека заглушался пугливыми
?и раздраженными всплесками криков толпы.
—
Мы желаем открыто!..
—
Ты, брат, молчи!
—
К тому же отец Гапон!..
—
Он знает, как надо!..
Лица у толпы еще не было, было только неясное очертание чего-то
•широкого, расплывчатого, мягкого. Взволнованное, оно нерешительно пле-
скалось в канале узкой улицы, разбиваясь на отдельные группы; сливалось
густою толпой, гудело, споря и рассуждая, толкалось о стены домов и снова
заливало средину улицы темной, жидкой массой; в ней чувствовалось смутное
брожение сомнений, было ясно видно напряженное ожидание чего-то всем
нужного, что осветило бы путь к цели верою в успех и этой верой связало,
сплавило все куски в одно крепкое стройное тело.
День был такой же пестрый, как настроение толпы. На небе, между
• серых облаков, являлось солнце, освещало лица холодным блеском и исче-
зало вновь, покрывая их одноцветной тенью неуверенности.
Переливаясь из улицы в улицу, масса людей быстро росла, и этот рост
внешний постепенно вызывал ощущение внутреннего роста, будил сознание
.права народа-раба просить у власти внимания к своей нужде.
—
Мы тоже люди, как-никак . ..
—-
«Он», чай, поймет, — мы просим...
—
Должен понять!.. Не бунтуем!..
—
Опять же отец Гапон...
—
Товарищи! Свободу не просят...
—
Ах, господи!
—
Только бы допустили нас...
—
Да погоди ты, брат!
—
Гоните его прочь, дьявола!..
—
Отец Гапон лучше знает, как...
Лица загорались, глаза сверкали ярче, ускорялся шаг, быстрота движе-
•шя тела еще больше волновала душу. Все увеличивалась масса толпы,
на улице стало теплее, голоса звучали с большей силой.
—
Не надо нам красных флагов! — кричал лысый человек. Размахивая
шапкой, он шел во главе толпы, и его голый череп тускло блестел, качался
;в глазах людей, притягивая к себе их внимание.
—
Мы к отцу идем!..
—
Так!
—
Верим ему!..
—
Не даст в обиду!
—
Красный цвет — цвет нашей крови, товарищи!—упрямо звучал
над толпой одинокий, звонкий голос.
—
Нет силы, которая освободит народ, кроме силы самого народа!
Толпа, опьяняясь своим настроением, обрадованная тем, что, наконец,
пришло оно и крепко обняло ее, ворчала:
—-
Не надо!..
—
«Он» поймет...
—
Вот человек, ах ты!..
—
Ежели до него допустят...
—
Смутьяны, черти!..
—
Отец Гапон-— с крестом, а он —с флагом!
—
Молодой еще, но тоже, чтобы командовать!..
—
Мы желаем мирно.
Наименее уверовавшие шли в глубине толпы и оттуда раздраженно
и тревожно кричали:
—
Гони его с флагом!..
Ког^а толпа вылилась из улицы на берег реки к Троицкому мосту
и увидела перед собой длинную ломаную линию солдат, преграждавшую ей
путь на мост, — людей не остановила эта тонкая серая изгородь. В фигурах
солдат, четко обрисованных на голубовато-светлом фоне широкой реки, не
было ничего угрожающего, они подпрыгивали, согревая озябшие ноги, ма-
хали руками, толкали друг друга. Впереди, за рекой, люди видели темный
дом,— - там
ждал их «он», хозяин дома. Великий и сильный, добрый и лю-
бящий, он не мог, конечно, приказать своим солдатам, чтобы они не допускали
до него народ, который его любит и желает мирно говорить с ним о своих
нуждах.
Но все-таки на многих лицах явилась тень недоумения, и люди впереди
толпы замедлили свой шаг. Иные оглянулись назад, другие отошли в сторону,
все старались показать друг другу, что о солдатах они знают, это не уди-
вляет их. Некоторые спокойно поглядывали на золотого ангела, блестевшего
высоко в небе над унылой крепостью, другие улыбались. Чей-то голос, со-
болезнуя, произнес:
—
Холодно солдатам!..
—
Н-да-а!..
—
А надо стоять!
—
Солдаты — для порядка!
—
Спокойно, ребята!.. Смирно!..
—
Иди, иди!..
—-
Ура, солдаты! — крикнул кто-то.
Офицер в желтом башлыке на плечах выдернул из ножен саблю и тоже
что-то кричал навстречу толпе, помахивая в воздухе изогнутой полоской
стали. Солдаты стали неподвижно плечо к плечу друг с другом.
—
Чего это они? — спросила полная женщина.
Ей не ответили. И всем как-то вдруг стало трудно итти.
—
Назад! — донесся крик офицера.
Несколько человек оглянулись — позади их стояла плотная масса тел,
из улицы в нее лилась бесконечным потоком темная река людей, толпа,
уступая ее напору, раздавалась, заполняя площадь перед мостом. Несколько
человек вышли 'вперед и, взмахивая белыми платками, пошли навстречу
офицеру. Шли и кричали:
—
Мы к государю нашему!..
—
Вполне спокойно!..
—
Назад! Я прикажу стрелять!..
Когда голос офицера долетел до толпы, она ответила его словам гулким
эхом удивления. О том, что не допустят до «него»,
некоторые из толпы
говорили и раньше, но чтобы стали стрелять в народ, который идет к «нему»
спокойно, с верою в его силу и доброту, это нарушало цельность созданного
образа. «Он» — сила выше всякой силы, и ему некого бояться, ему незачем
отталкивать от себя свой народ штыками и пулями... Угроза стрелять была
необ'яснима, обидна...
Худой высокий человек с голодным лицом и черными глазами вдруг
закричал:
—
Стрелять! Не смеешь!..
И, обращаясь к толпе, громко, злобно, продолжал:
—
Что! Говорил я — не допустят они!..
—
Кто? Солдаты?
—
Не солдаты, а там!..
Он махнул рукой куда-то вдаль.
—
Выше которые... Ага! Я же говорил!
—
Это еще неизвестно!..
—
Узнают, зачем идем, — пустят!..
Шум рос. Были слышны гневные крики, раздавались возгласы иронии.
Здравый смысл разбился о нелепость преграды и молчал. Движения людей
стали нервнее, суетливее; от реки веяло острым холодом. Неподвижно бле-
стели острия штыков.
Перекидываясь восклицаниями и подчиняясь напору сзади, люди дви-
гались вперед. Те, которые пошли с платками, свернули в сторону, исчезли
в толпе. Но впереди все — мужчины, женщины, подростки — тоже махали
белыми платками.
—
Какая там стрельба! К чему она? — солидно говорил пожилой
человек с проседью в бороде. —
Просто они не пускают на мост... дескать,—г
идите прямо по льду...
И вдруг в воздухе что-то неровно и сухо просыпалось, дрогнуло, уда-
рило в толпу десятки невидимых бичей. На секунду все голоса вдруг как бы
замерли. Масса продолжала тихо подвигаться вперед.
—
Холостыми...
— не то сказал, не то спросил бесцветный голос.
Но тут и там раздавались стоны, у ног толпы легло несколько тел.
Женщина, громко охая, схватилась рукой за грудь и быстрыми шагами
пошла вперед, на штыки, вытянутые навстречу ей. За нею бросились еще
люди и еще, охватывая ее, забегая вперед нее.
И снова треск ружейного залпа, еще более громкий, более неровный.
Стоявшие у забора слышали, как дрогнули доски, точно чьи-то невидимые
зубы злобно кусали их. А одна пуля хлестнулась вдоль по дереву забора и,
стряхнув с него мелкие щепки, бросила их в лица людей. Люди падали по-двое,
по-трое, приседали на землю, хватаясь за животы, бежали куда-то, при-
храмывая, ползли по снегу, и всюду на снегу обильно вспыхнули яркие
красные пятна. Они расползались, дымились, притягивая к себе глаза... Толпа
подалась назад, на миг остановилась, оцепенела, и вдруг раздался дикий,
потрясающий вой сотен голосов. Он родился и потек по воздуху непрерыв-
ной, напряженно дрожащей, пестрой тучей криков острой боли, мести,
ужаса, протеста, тоскливого недоумения и призывов на помощь-
Солдаты стояли неподвижно, опустив ружья к ноге, лица у них были
тоже неподвижные, кожа на щеках туго натянулась, скулы остро высуну-
лись. Казалось, что у всех солдат — белые глаза и смерзлись губы...
В толпе кто-то кричал истерически громко:
—
Ошибка! Ошибка вышла, братцы!.. Не за тех приняли!.. Не верьте!.
Иди, братцы!., надо об'яснить!.. Ах, господи!., ведь это что же?
—
Гапон — изменник! — вопил подросток-мальчик, влезая на фонарь.
—
Что, товарищи, как встречают вас?..
—
Постой!., это ошибка!., не может этого быть, ты пойми! Али ты
не человек?..
—
Это вы не люди, вы — овцы, стадо, и вот как вас!..
—
Пропусти!., сторонись!..
—
Дай дорогу раненому!..
Двое рабочих и женщина вели высокого худого человека; он был весь
в снегу, из рукава его пальто стекала кровь. Лицо у него посинело, заостри-
лось еще более, и. темные губы, слабо двигаясь, прошептали:
—
Я говорил... не пустят... они его скрывают... что им —народ...
—
Ребята!.. Конница!
—
Беги!..
Стена солдат поколебалась и растворилась, как две половины деревян-
ных ворот; танцуя и фыркая, между ним проехали лошади, раздался крик
офицера, над головами конницы взвились, разрезав воздух, сабли, замахну-
лись все в сторону. Толпа стояла и кричала, волнуясь, ожидая, не веря.
Стало тише.
—
Ма-арш! — раздался неистовый крик.
Как будто вихрь ударил в лицо людей, и земля точно обернулась
кругом под их ногами, все бросились бежать, толкая и опрокидывая друг
друга, кидая раненых, прыгая через трупы. Тяжелый топот лошадей настигал,
солдаты выли, их лошади скакали через раненых, упавших, мертвых,
сверкали сабли, порою был слышен свист стали и удар ее о кость. Крик
избиваемых сливался в гулкий и протяжный стон.
—
А-а-а!..
Солдаты взмахивали саблями и опускали их на головы людей, и вслед
за ударами тела их наклонялись на-бок. Лица у них были красные, безглазые
и точно опухшие. Ржали лошади, страшно оскаливая зубы, взма-
хивая головами...
Народ загнали в улицы...
II.
...Вокруг жилища царя стояли плотной, неразрывной цепью солдаты,
; под окнами дворца на площади расположилась конница. Запах сена, навоза,
лошадиного пота окружал дворец; лязг сабель, звон шпор, команда, топот
колебался под окнами.
Со всех сторон на солдат напирали плотной массой люди, десятки
тысяч возмущенных, холодно озлобленных людей. Говорили они спокойно,
но как-то особенно веско, новыми словами и с новой надеждой, едва ли
ясной длзя них. Стояла рота солдат, опираясь одним плечом о стену здания,
другим— о железную решетку сада-; она преграждала дорогу на площадь
ко дворцу.
Вплоть к ней; лицом к лицу подошла толпа, бесчисленно большая,
немая, черная.
—
Расходись, господа! — вполголоса говорил фельдфебель, безуспешно
стараясь спрятать обеспокоенные глаза. Он ходил вдоль фронта, отодвигая
людей от солдат руками и плечом, стараясь не видеть человеческих лиц.
—
Почему вы нас не пускаете? — спрашивали его.
—
Куда?
—
К царю!
Фельдфебель на секунду остановился и с чувством, похожим на уныние,
s воскликнул:
—
Даяже говорю —- нет его!
—
Царя нет?
—
Ну да. Сказано вам нет, и — ступайте!
—
Совсем нет царя? — настойчиво допрашивал иронический голос.
Фельдфебель снова остановился, поднял руку.
—
За такие слова... берегись!
И другим тоном об'яснил:
—
В городе нет его.
Из толпы ответили:
—
Нигде его нет!
—
Кончился!..
—
Расстреляли вы его, дьяволы!
—
Вы думаете — народ убиваете?
—
Народ не убьешь... Его на все хватит...
—
Вы царя убили... понимаете?
—
Отойди, господа!.. Не разговаривай!
*
—
Нет, врешь!.. Я поговорю.
В другом месте старичок с бородкой клином воодушевленно говорил
солдатам:
—
Вы — люди, мы — тоже. Сейчас вы в шинелях, завтра—в кафтанах.
Работать захотите, есть понадобится. Работы нет, есть нечего. Придется
и вам, ребята, так же вот, как мы... Стрелять, значит, в вас надо будет?
Убивать за то, что голодаете, а?
Солдатам было холодно. Они переминались с ноги на ногу, били каб-
луками в землю, терли уши, перебрасывая ружья из рук в руку. Слушая речи,
вздыхали, двигали глазами туда и сюда, чмокали озябшими губами. На лицах,
посиневших от холода, лежало что-то однообразно-унылое, растерянное,
туповатое, глаза мигали, прятались. Лишь некоторые из них, прищуриваясь,,
как бы целились во что-то, крепко стиснув зубы, должно быть, с трудом
сдерживая злобу против этой массы людей, ради которой приходится мерзнуть.
От их серой, скучной линии веяло усталостью, бессилием, тоской.
Люди стояли против них грудь с грудью и, поддаваясь толчкам сзади«,
порою толкали солдат.
—
Тише! — негромко отзывался серый человек.
Иные брали солдат за руки, горячо говоря им что-то. Солдаты слушали
мигая, лица кривились неопределенными гримасами, и нечто жалкое, робкое-
являлось на них.
—
Не трог ружо! — сказал один из них молодому парню в мохнатой
шапке. А тот тыкал солдата пальцем в грудь и говорил:
—
Ты солдат, а не палач... Тебя позвали защищать Россию от врагов
внешних... а заставляют расстреливать народ... Пойми! Народ — это и есть
Россия.
—
Мы не стреляем! — отвечал солдат.
—
Гляди — вон стоит Россия, русский народ! Он желает видеть своего-
царя!..
Кто-то перебил речь, крикнув:
—
Не желает!
—
Что в том худого, что народ захотел поговорить с царем о своих
делах? Ну, скажи, а?
—
Не знаю я, — сказал солдат, сплевывая.
Сосед его добавил:
—
Не велено нам разговаривать...
—
Солдаты, — говорил плотный мужчина, с большой бородой и голу-
быми глазами. —
Кто вы? Вы — дети русского народа. Обеднял народ, забыт
он, оставлен без защиты, без работы и хлеба. Вот он пошел сегодня просить
царя о помощи, а царь велит вам стрелять в него, убивать. Солдаты! Народ—
отцы и братья ваши — хлопочет не только за себя, но и за вас. Вас ставят
против него, против народа, толкают на отцеубийство, братоубийство. По-
думайте! Разве вы не понимаете, что против себя же идете?
Этот голос, спокойный и ровный, хорошее лицо и седые волосы в бороде,
весь облик человека и его простые верные слова, видимо, волновали солдат..
Опуская глаза перед «го взглядом, они слушали внимательно, иной, покачи-
вая головою, вздыхал, другие хмурили брови, оглядывались, кто-то не-
громко посоветовал:
—
Отойди!., офицер услышит!
Офицер, высокий, белобрысый немец с большими усами, медленно
шел вдоль фронта и, натягивая на правую руку перчатку, сквозь
зубы говорил:
—
Ра-азойдись!.. па-ашел прочь!.. Что? Па-агавари, я тебе пагаварю!..
Лицо у него было толстое, красное, глаза круглые, светлые, но без
блеска. Он шел не торопясь, твердо ударяя ногами в землю, но с его прохо-
дом время полетело быстрее, точно каждая секунда торопилась исчезнуть,
боясь наполниться чем-то оскорбляющим, гнусным. За ним вытягивалась не-
видимая линейка, равняя фронт солдат; они подбирали животы, выпячивали
груди, посматривали на носки сапог. Некоторые из них указывали людям
глазами на офицера и делали сердитые гримасы. Остановись на фланге,
офицер крикнул:
—
Смирно-о!
Солдаты всколыхнулись и замерли.
—
Приказываю разойтись! — сказал офицер и не торопясь вынул из*
ножен шашку.
Разойтись было физически невозможно, — толпа густо залила всю ма-
ленькую площадь, а из улицы, в тыл ей, все шел и шел народ.
На офицера смотрели с ненавистью, он слышал насмешки, ругатель-
ства, но стоял под их ударами твердо, неподвижно. Его взгляд мертво осма-
тривал роту, брови чуть-чуть вздрагивали. Публика шумела, ее раздражалс-
это спокойствие, слишком нечеловеческое, чтобы быть уместным в эти
минуты.
В нем чувствовалось явное презрение к людям, к народу.
—
Этот скомандует!
—
Мясник!..
—
Он без команды готов рубить!..
—• Ишь, вытащил селедку-то!..
—
Эй, барин! Убивать готов?
Разрастался бурный задор, являлось чувство какой-то беззаботной
и безнадежной удали, крики звучали громче, насмешки — резче.
—
Эй, барин! Убивать готов?
Фельдфебель взглянул на офицера, вздрогнул, побледнел и тоже быстро-
вынул саблю.
Вдруг раздалось тревожное, зловещее пение рожка. Публика смотрела
на горниста — он так странно надул щеки и выкатил глаза, рожок дрожал-
в его руках и пел слишком долго. Люди заглушили гнусавый, медный крик
громким свистом, воем, визгом, возгласами проклятий, словами укоров, сто-
нами тоскливого бессилия, криками отчаяния и удальства, вызванного ощу-
щением возможности умереть в следующий миг и невозможности избежать-
смерти. Уйти от нее было некуда. Несколько темных фигур бросились на
землю и прижались к ней, иные закрывали руками лица, а человек с большой
бородой распахнул на груди пальто и стоял впереди всех, глядя на солдат
голубыми глазами. И говорил, все говорил им что-то, неслышное, утопавшее
в хаосе криков.
Солдаты взмахнули ружьями, взяв на прицел, и все оледенели в одно-
образной, сторожкой позе, вытянув к толпе штыки.
Было видно, что линия штыков висела в воздухе неспокойно, не-
ровно— одни слишком поднялись вверх, другие наклонились вниз, лишь не-
многие смотрели прямо в груди людей, и все они казались мягкими, дрожали
и точно таяли.
Чей-то голос громко, с ужасом и отвращением крикнул:
—
Что вы делаете? Убийцы!
Штыки сильно и неровно дрогнули, испуганно сорвался залп, люди по-
качнулись назад, отброшенные звуком, ударами пуль, падениями мертвых
и раненых. Некоторые стали молча прыгать через решетку сада.
Брызнул еще залп... И еще.
Мальчик, застигнутый пулею на решетке сада, вдруг перегнулся и
повис на ней кверху ногами. Высокая, стройная женщина с пышными воло-
сами тихо ахнула и мягко упала около него.
—
Проклятые!.. —
крикнул кто-то.
Толпа угрюмо и медленно подвигалась вперед, убирая мертвых и ране-
ных. Несколько человек стало рядом с тем, который говорил солдатам,
и тоже, перебивая его речь, кричали, уговаривали, упрекали, беззлобно,
с тоской и состраданием. В голосах все еще звучала наивная вера в победу
правдивого слова, желание доказать бессмыслие и безумие жестокости, вну-
шить сознание тягостной ошибки. Старались и хотели заставить солдат
понять позор и гадость их невольной роли...
Офицер вынул из чехла револьвер, внимательно осмотрел его и пошел
к этой группе людей. Она сторонилась от него не спеша, как сторонятся от
камня, который не быстро катится с горы. Голубоглазый, бородатый чело-
век не двигался, встречая офицера словами горячей укоризны, широким же-
стом указывая на кровь вокруг.
—
Чем это оправдать? Подумайте! Нет оправдания!
Офицер встал перед ним, озабоченно насупил брови, вытянул руку.
Выстрела не было слышно, был виден дым, он окружил руку убийцы раз, два,
три. После третьего раза человек согнул ноги, запрокинулся назад, взмахивая
рукой, и упал. К убийце бросились со всех сторон,—он, отступая, совал ко всем
свой револьвер... Какой-то подросток упал под ноги ему, он его ткнул шашкой
в живот... Кричал ревущим голосом, прыгал во все стороны, как упрямая
лошадь. Кто-то бросил ему шапкой в лицо, бросали комьями окровавленного
снега. К нему подбежали фельдфебель и несколько солдат, выставив вперед
штыки, тогда нападавшие разбежались. Победитель грозил саблей вслед им,
а потом вдруг опустил ее и еще раз воткнул в тело подростка, ползавшего
у его ног, теряя кровь.
И снова гнусаво запел рожок. Люди быстро очищали площадь перед
этим звуком, а он тонко извивался в воздухе и точно дочерчивал пустые
глаза солдат, храбрость офицера, его красную на конце шашку, растрепав-
шиеся усы.
Живой, красный цвет крови раздражал глаза и притягивал их к себе,
возбуждая хмельное и злобное желание видеть его больше, видеть всюду.
Солдаты как-то насторожились, двигали шеями и, кажется, искали глазами:
еще живых целей для своих пуль...
Офицер стоял на фланге и, взмахивая шашкой, что-то кричал, отры-
висто, гневно, дико...
С разных концов в ответ ему неслись крики:
—
Палач!
—
Мерзавец!
г->ч,'-
-
-V.r
.'Ю-.,,!
.
<
V- "I
•
v:v,
-.
-'
.'...:..
'с.'-'.:.
'
' г»"'"-• '
!''.eu '
И.)
ri£
•'j'istTK'-'l
-
#
sflp-t
*
-
•
;.;
....,
"
-
•
'
'
'
-
—
I1;•'
Ä-£
,:,
"'
V.
V',..,
.
.....
_
ОТДЕЛ ВТОРОЙ.
ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ.
„В.
Александровский.
во
1.
Тайна в глазах.
Взгляды порывисты, цепки.
Что-то растет.
Кто-то огромный идет.
Черные куртки и кепки
Плавают в сером тумане.
Втиснуты сжатые руки
В карманы.
В темных углах
Страх.
Мрут и рождаются звуки.
Там, на крутых поворотах,
Гаснут огни.
Плотно закрыли ворота
Грязные пасти домов.
Чу... Шопот шагов.
Это — они...
Зовы во мгле задрожали:
—
Братья... Братья...
Лязг беспорядочный стали,
Злые проклятья.
Ширится тайна. Растет.
Небо краснеет.
Время не ждет,
,В муках Великая зреет,
.Идет.
стаhие.
Выстрелы, гулкие, четки.
Стекла посыпались на тротуар.
Пороха запах.
Стоны короткие.
Резкие крики. Пожар.
Прошлое будущим стиснуто в
пах,
Смерть ему! Смерть!
Улицы ревом наполнились.
Сроки исполнились,
Вспыхнѵла твердь.
2.
Проклятое слово —
Измена, —
Кривлялось, шипело кругом —
И души одело, как пена
Прибоя.
Впивались сурово
Друг-другу в глаза,
И ждали:
Сейчас разразится гроза,
И вспыхнувший гром
Нас выбросит скоро из строя...
С какою бы силою сжали
Упругие руки
Преступное горло шпиона...
Томились.
Искали.
Под тяжестью муки
Хватались за нож.
И вдруг,
Из-за темной колонны
Глаза засветились,
И ярко мерцали
В них ложь
И испуг.
Рванулись.
Схватили
Десятками рук,
И пальцы, как клещи, сомкнулись,
И в миг погасили
Испуганный звук.
Скрывались в тумане. Тайком.
Шуршали ногами усталыми...
А сзади оставленный дом
Окрасился лентами алыми.
3.
Беспощадна смерть была
В ярком зареве восстанья,
Здесь сквозь злую боль страданья
Жизнь борьбой сердца зажгла.
В гуще серого тумана,
С свежей раной,
Перевязанной небрежно,
У ворот стоит рабочий,
Чутко вслушиваясь в мглу.
Завязался жаркий бой
Вновь.
И мятежно
Всколыхнулся воздух ночи.
В нижнем этаже к стеклу
Чья-то голова прильнула
И отпрянула: там кровь.
Зубы вдруг заскрежетали
Точно ржавое железо,
Вспыхнул местью взгляд.
Волны гула
Трепетали
То усиленно, то реже,
Звали смелых
На защиту баррикад.
Окровавленное тело,
Как пружина,
Снова ринулось в туман, —
Цепи там рвались стальные
Молодого исполина,
Там тиран,
Что гнет ковал,
Умирал.
Золотые,
Огневые
Змеи жалили ДОАІЭ.
Тени таяли ночные,
Гасла тьма.
4.
Рассвет.
В людей превращаются тени
И тайны в глазах уже нет,
В них светится жажда сражений,-
Побед.
Справляет свой праздник Борьба-
Откуда-то звонко
Горниста труба
Запела во вражеском стане,
И тотчас же тонко
Свистнули пули
В тумане.
Как улей,
Народ всколыхнулся.
Мускулы рук задрожали.
Рванулся
Вверх окровавленный флаг.
Ждали:
Подступит ли враг?
Нет.
Не идет.
Так развернутым строем,,
Братья, вперед!
На гребне побед.
Мы старое сроем,
Раздавим,
И в этой борьбе
О себе
Мы вечную память оставим.
Враг сломлен. Разбит.
Сквозь полог туманный и дымный
Лучи свои солнце струит,
А толпы — восторги и гимны.
5.
Знамена. Плакаты.
И лозунги, бурей рожденные;
—
Вся власть Советам!
—
Долой соглашателей!
Гимны. Оркестров раскаты.
В солнце влюбленные
Жизни ваятели
Розовым, утренним светом
Хмельны.
Кружатся в воздухе песни,
Как птицы,
Счастьем они рождены;
В улицах узких им тесно,
К небу взвиваются.
Радость, Ееликая радость на лицах :
ПраЗдник Труда.
Красные флаги
Виснут с домов.
Машут из окон руками.
Дышат отвагой
Лица стрелков.
Красная арка
Цветами
Украшена.
Злоба, горевшая ярко,
Погашена.
Ныне крылаты
Души борцов.
Реют знамена, плакаты,
Гимны из солнечных слов.
Вс.
Иванов.
МИТИНГ.
От солнца, от влажного ветра бороды мужиков желтовато-зеленые,
спутанные, как болотная тина, и пахнут мужики скотом и травами.
У телег пулеметы со щитами, похожими на зеленые тарелки, пулемет-
ные ленты, винтовки.
На телеге с низким передком, прикрытый рваным брезентом, метался
раненый. Авдотья Сещенкова поила его из деревянной чашки и уговаривала:
—
А ты не стони, пройдет!
Потная толпа набилась плотно между телег. И телеги, казалось, тоже
вспотели, стиснутые бушующим человечьим мясом. Выросшие из бород-
мутно-красными полосками губы блестели на солнце слюной.
—
О-о -о-у -у-у!
Вершинин с болью во всем теле, точно его подкидывал на штыки этот
бессловный рев, оглушая себя нутряным криком, орал:
—
Не давай землю японсу-у!.. Все отымем! Не давай!..
И никак не мог закрыть глотку. Все ему казалось мало. Иные слова
не приходили:
Крестьянин и рабочий. Ч. II.
22
—
Не да-ва-й!..
Толпа тянула за ним:
—
А-а-а!..
И вот, на мгновенье, стихла. Вздохнула.
Ветер отнес кислый запах *пота.
Партизаны митинговали.
Лицо Васьки Окорока рыжее, как подсолнечник, буйно металось
в толпе и потрескавшиеся от жары губы шептали:
—
На-ароду-то... Народу-то, милены товарищи.
Высокий, мясистый, похожий на вздыбленную лошадь, Никита Вершинин
орал с пня:
—-
Главна: не давай-й! Придет суда скоро армия... советска, а ты не
давай., старик!
Как рыба, попавшая в невод, туго бросается в .мотню, так кинулись все
на одно слово:
—
Не-е-да-а-авай !
И казалось, вот-вот обрушится слово, переломится и появится что-то
непонятное, злобное, как тайфун.
В это- время корявый мужичонка, в шелковой малиновой рубахе, при-
жимая руки к животу, пронзительным голосом подтвердил:
—
А верю, ведь: верна!
—
Потому за нас Питер... ници... пал!., и все чужие земли! Бояться
нечего... Японец — что, японец — легок.. Кисея!..
—
Верна, парень, верна! — визжал мужичонко.
Густая потная тысячная толпа топтала его визг.
—
Верна-а...
—
Не да-а -ай!..
—
На-а!..
—
О-о-о -у-у-у!..
—
О-о!!!
П. Орешин.
mикула.
Он восстал, черноземный и серый,
Вечный сеятель солнечной ржи.
Кистенем да неистовой верой
Размахнулся Микула-мужик.
Он по старой старинушке — колом,
Он по царской короне — дубьем.
По широким полям и по селам
Раскололся малиновый гром.
Зарумянилось облако в небе,
Грохнул колокол в серых полях.
Запрокинулся месяц, как гребень,
В золотых, как снопы, волосах.
j
Красный день развеселые зенки
Пялит на поле спелое ржи,
Где блестят, как иконы на стенке,
Золотые кривые ножи.
Размахнулся Микула рядниной,
Поднялся головой до небес.
Стонет тяжко под красной дубиной
Злых врагов пошатнувшийся лес.
Где взмахнет — ляжет улочкой ворог,
Где ударит — мокренько-мокро.
Зачерпнула деревни и горы
Даль в свое голубое ведро.
—
В колья Русь, древнецарскую суку
С золотыми ресницами ржи!
—
Матка-Русь, дай пропятую руку,
Язвы, язвы твои покажи!
Лупит с розмаху старый Микула,
Необхватный народушко-сноп,
По купецким откормленным скулам
Кистенем да в напудренный лоб.
Глаз Микулы востер да и зорок.
Кистенем — и навстречу, и вслед.
.Где взмахнет — ляжет улочкой ворог,
А ударит — и признаку нет.
Отречемся от старого мира,
От царей и постылых князей.
Сгинь навеки, царева секира,
С солнценосных мужицких полей!
На хлебах, на скирдах голодали,
Подыхали под плетью господ.
На земле, точно в темном подвале,
Жил великий рабочий народ!
Добрый батюшка-царь на престоле
Кровь живую хлестал до-пьяна .
Колосись, благодатная, в поле —
•На Руси — золотая весна!
Сгиньте с вольной земли, толстосумы,
Сундуков и червонцев рабы.
Ой, красны замурудные шумы,
Клекот орлей крылатой судьбы.
Мы запеним весеннее море,
Соколами всклекочем в зарю.
Гой, не колокол бьет на соборе —
Молот в кол на могилу царю!
Отгремела царева секира,
На крови — повалился чертог.
Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног!
*
*
Мы верим! Вселенную сдвинем!
Уж мчится сквозь бурю и гром
В распахнутой настежь ряднине
Микула на шаре земном!
Микула — набат и возмездье —
Вошел во всемирный пожар,
Чтоб кинуть в иные созвездья
Земли загоревшийся шар.
И вольно Микуле отныне
Златым кистенем на ходу
С высокой небесной твердыни
Сшибать за звездою звезду!
Не даром земля всколыхнула
ѵ
Просторов и дней глубину,
Не даром селянин-Микула
Снял с неба кошолку-луну.
И кинул ее через плечи
С рядниной своей заодно,
Чтоб красному ветру навстречу
Горстями рассыпать зерно.
Глядите, вы, спящие ныне:
-t
Уж мчится сквозь бурю и гром
В распахнутой настежь ряднине
Микула на шаре земном!
Be.
Иванов.
в ожидании врага.
Мужики лежали в кустах, курили, приготовлялись ждать долго и спорно.
Пестірые пятна рубах -—
десятками, сотнями росли с обеих сторон насыпи,
между раз'ездами — почти на десять верст.
Лошадь — ленивая, вместо седла — мешок. Ноги Вершинина болтались,
и через плохо обернутую портянку, сапог больно тер пятку.
—
Баб чтоб не было, — говорил он.
Начальники отрядов вытягивались по-солдатски и бойко, точно успо-
каивая себя военной выправкой, спрашивали:
—
Из городу, Никита Егорыч, ничего не слышно?
—
Восстание там.
—
А успехи-то как? Ваенны?
Вершинин бил каблуком лошадь в живот и, чувствуя в теле сонную
усталость, от'езжал.
—
Успехи, парень, хорошие. Главное, — нам не подгадить !
Мужики, как на покосе, выстроились вдоль насыпи.
Ждали.
Непонятно — незнакомо пустела насыпь. Последние дни, один за дру-
гим уходили на восток эшелоны с беженцами, солдатами — японскими, аме-
риканскими и русскими.
Где-то прервалась нить, и людей отбросило в другую сторону. Говорили,
что беженцев грабят приехавшие из сопок мужики, и было завидно. Броне-
поезд No 14.69 носился один между станциями и не давал солдатам бросить
все и бежать.
Партизанский штаб заседал в будке стрелочника. Стрелочник тоскливо
стоял у трубки телефона и спрашивал станцию:
—
Бронепоезд скоро?
Около него сидел со спокойным лицом партизан с револьвером, глядя
в рот стрелочнику.
Васька Окорок подсмеивался над стрелочником:
—
Мы тебя кашеваром сделаем. .Ты не трусь!
И, указывая на телефон, сказал:
—
С луной, бают, в Питере-то большевики учены переговаривают?
—
Ничо не поделаешь, коли правда.
Мужики вздохнули, поглядели на насыпь.
—
Правда-то, она и на звезды влезет.
Штаб ждал бронепоезда. Направили к мосту пятьсот мужиков, к на-
сыпи на длинных российских телегах привезли бревна, чтоб бронепоезд
не ушел обратно. У шпал валялись лома — разобрать рельсы.
Знобов сказал недовольно:
—
Все правда да правда! А к чему и сами не знаем. Тебе с луною-то,
Васька, для чего говорить?
—
А все-таки, чудно! Может захочем на луне-то мужика построить.
Мужики захохотали.
—
Ботало!.
—
Окурок!
—
Надо, чтоб народу лишнего не расходовать, а он тут про луну. Как
бронепоезд возьмем, дьявол?
—
Возьмем!
—
Это тебе не белка, с сосны снять!
В это время приехал Вершинин. Вошел, тяжело дыша, грузно положил
фуражку на стол и сказал Знобову.
—
Скоро-ль?
Стрелочник сказал у телефона:
—
Не отвечают.
Мужики сидели молча. Один начал рассказывать про охоту. Знобов
вспомнил про председателя ревкома в городе.
—
Этот, белобрысый-то? — спросил мужик, рассказывавший про охоту,
и тут же начал врать про Пеклеванова, что у него лицо белее крупчатки
и что бабы за ним, как лягушки за болотом, и что американский министр
предлагал семьсот мильярдов за то, чтоб Пеклеванов перешел в американ-
скую веру, а Пеклеванов гордо ответил: «Мы вас в свою — даром не возьмем».
—
Вот стерва, — восторгались мужики.
Знобову было почему-то приятно слушать это вранье и хотелось рас-
сказать самому. Вершинин снял сапоги и начал переобуваться. Стрелочник
вдруг робко спросил:
—
Во сколько? Пять двадцать?
Обернувшись к мужикам, сказал:
—
Идет!
И точно, поезд был уже у будки, — все выбежали и, вскинув ружья,
залезли на телеги и поехали на восток к взорванному мосту.
—
Успеем! — говорил Окорок.
Вперед послали нарочного.
Глядели на рельсы, тускло блестевшие среди деревьев.
—
Газобрать бы, и только.
С соседней телеги отвечали:
—
Нельзя. А кто собирать будет?
—
Мы, брат, прямо на поезд!
—
В город вкатим!
—
А тут собирай.
Окорок крикнул:.
—
Братцы, а, ведь, у них люди-то есть!
—
Где?
—
У Незеласовых-то! Которые рельсы ремонтируют — есть-то люди!
—
Дурной, Васька, а как мы их перебьем? Всех.
И, разохотившись на работу, согласились:
—
Все можна... Перебьем!..
—
Нет, шпалы некому собирать.
Все время оглядывались назад — не идет ли бронепоезд. Прятались в лес,,
потому—люди теперь по линии необычны,—поезд несется и стреляет в них.
Стучали боязливо сердца, били по лошадям, гнали, точно у моста их
ждало прикрытие.
В верстах двух от домика стрелочника, на насыпи увидали верхо-
вого человека.
n
—
Свой! — закричал Знобов.
Васька взял на прицел.
—
Снять его?
—
Какой чорт свой, кабы свой—- не цеплялся-б!
Син-Бин-У, сидевший рядом с Васькой, удержал:
—
Пасытой. Васька-а!..
—
Обождь! — закричал Знобов.
Человек на лошади подогнал ближе. Это был мужик с перевязанной
щекой, приведший американца.
—
Никита Егорыч здеся?
—
Ну?
Мужик, радуясь, закричал:
—
Пришли мы туда, а там — казаки. Около мосту-то! Постреляли мы,
да и обратно.
—
Откуда?
Вершинин под'ехал к мужику и, оглядывая его, спросил:
—
Всех убили?
—
Усех, Никита Егорыч. Пятеро — царство небесное!..
—
А казаки откуда?
Мужик хлопнул лошадь по гриве.
—
Да ведь мост-от, Никита Егорыч, не подняли.
Мужики заорали:
—
Чего там?
—
Правокатер!
—
Дай ему в харю!
Мужичонко торопливо закрестился.
—
Вот те крест — не подняли. У камня, саженях в триста, сами себя
взорвали. Должно, динамит пробовать удумали. Только штанину одну с мясом
нашли, а все остальное... Пропали...
Мужики молчали. Поехали вперед. Но вдруг остановились. Васька с пере-
косившимся лицом закричал:
—
Братцы, а ведь уйдет броневик-то! В город! Братцы!..
Из лесу ввалилась посланная вперед толпа мужиков.
Один из них сказал:
—
Там бревна, Никита Егорыч, у моста навалены, на насыпь-то.
Отстреливаются от казаков. Ну, их немного.
;— 'Гуда к мосту итти? — спросил Знобов.
Здесь все разом почему-то оглянулись. Над лесом тонко стлался дымок.
—
Идет! — сказал Окорок.
Знобов повторил, ударяя яростно лошадь кнутом.
—
Идет!..
Мужики повторили':
—
Идет!
—
Товарищи! — звенел Окорок, — остановить надо!
Сорвались с телеги. Схватив винтовки, кинулись на насыпь. Лошади
ушли в травы и, помахивая уздечками, щипали.
Мужики добежали до насыпи. Легли на шпалы. Вставили обоймы. При-
готовились.
Тихо стонали рельсы — шел бронепоезд.
Знобов тихо сказал:
—
Перережет — и все. Стрелять не будет даже зря!
И вдруг, почувствовав это, тихо сползли все в кустарники, опять обна-
жив насыпь.
Дым густел, его рвал ветер, но он упорно полз над лесом.
—
Идет!., идет!.. —
с криком бежали к Вершинину мужики.
Вершинин и весь штаб, мокрые, стыдливо лежали в кустарниках. Васька
Окорок злобно бил кулаком по земле. Китаец сидел на корточках и срывал
траву.
Знобов торопливо, испуганно сказал:
—
Кабы мертвой!
—
Для чего?
—
А вишь по закону — как мертвого перережут, поезд-то останавли-
вается. Чтоб протокол составить... свидетельство и все там!..
—
Ну?
—
Вот кабы трупу. Положил бы его. Перережут и остановятся, а тут
машиниста, когда он выйдет — пристрелить. Можно взять.
Дым гудел. Раздался гудок.
Вершинин вскочил и закричал:
—
Кто хочет, товарищи, на рельсы чтоб, и перережет!.. Все равно
подыхать-то. Ну? А мы тут машиниста с поезда снимем! А только вернее,
что остановится, не дойдет до человека.
Мужики подняли тела, взглянули на насыпь, похожую на могильный холм.
—-
Товарищи! — закричал Вершинин.
Мужики молчали.
Васька отбросил ружье и полез на насыпь.
—
Куда! — крикнул Знобов.
Васька злобно огрызнулся:
—
А ну вас к..! Стервы...
И, вытянув руки вдоль тела, лег поперек рельс.
Уже дышали, гукая, деревья и, как пена, над ними оторвался и прыгал
по верхушкам желто-багровый дым.
Васька повернулся вниз животом. Смолисто пахли шпалы. Васька на-
сыпал на шпалу горсть песку и лег на него щекой.
Неразборчиво, как ветер по листве, говорили1 в кустах мужики. Гудела
в лесу земля...
Васька поднял голову и тихо бросил в кусты:
—
Самогонки нету?., горит!..
Палевобородый мужик, на четвереньках, приполз с ковшом самогонки.
Васька выпил и положил ковш рядом.
Потом поднял голову и, стряхивая рукой со щеки песок, посмотрел
на гул: голубые гудели деревья, голубые звенели шпалы.
Приподнялся на локтях. Лицо стянулось в одну желтую морщину, глаза,
как две алые слезы...
—
Не могу-у!.. душа-а!..
Мужики молчали.
Китаец откинул винтовку и пополз вверх:
—
Куда? — спросил Знобов.
Син-Бин-У, не оборачиваясь, сказал:
—
Сыкмуучна-а!.. Васикьа!
И лег с Васькой рядом.
Морщилось, темнело, как осенний лист, лицо желтое. Шпалы плакали.
Человек ли отползал вниз по откосу, кусты ли кого принимали — не знал,
не видел Син-Бин-У . . .
—
Не могу-у!.. братани-и!.. —
плакал Васька, отползая вниз.
Слюнявилась трава, слюнявилось небо...
Син-Бин-У был один.
Плоская изумрудноглазая, как у корбы, голова пощупала шпалы; ото-
рвалась от них и, качаясь, поднялась над рельсами... Оглянулась.
Подняли кусты молчаливые мужицкие головы со ждущими голодными
глазами.
Син-Бин-У опять лег.
И еще потянулась изумрудноглазая корба — вверх, и еще несколько сот
голов зашевелили кустами и взглянули на него.
Китаец лег опять.
Корявый палевобородый мужичонко крикнул ему:
—
Ковш-то брось суды, манза!.. Да и ливорвер-то бы оставил. Куды
тебе его?.. Ей!.. А мне сгодится!..
Син-Бин-У вынул револьвер, не поднимая головы, махнул рукой, будто
желая кинуть в кусты, и вдруг выстрелил себе в затылок.
Тело китайца тесно прижалось к рельсам.
Сосны выкинули бронепоезд. Был оін серый, квадратный, и злобно-
багрово блестели зрачки паровоза. Серой плесенью подернулось небо, как
голубое сукно были деревья.
И труп китайца Син-Бин-У, плотно прижавшийся к земле, слушал гул-
кий перезвон рельс...
Be. Иванов.
обстрел бронепоезда.
Мужики прибывали и прибывали. Они оставляли в лесу телеги с женами
и по тропам выходили с ружьями на плечах на опушку. Отсюда ползли
к насыпи и окапывались.
Бабы, причитая, встречали раненых и увозили их домой. Раненые,
которые посильнее, ругали баб матерной бранью, а тяжело раненые, подпры-
гивая на корнях, раскрывали воздуху и опадающему желтому листу свои
"голые куски мяса. Листы присыхали к крови выпачканных телег.
Рябая маленькая старуха с ковшом святой воды ходила по опушке и
с уголька обрызгивала идущих. Они ползли, сворачивали к ней, и пропол-
зали тихо, похожие на стадо сытых возвращающихся с поля овен,
Вершинин на телеге за будкой стрелочника слушал донесения, которые
читал ему толстый секретарь.
Васька Окорок шепнул боязливо:
—
Страшно, Никита Егорыч?
—
Чего? — хрипло спросил Вершинин.
—
Народу-то темень!
—
Тебе что, — ты не конокрад. Известно — мир!..
Васька после смерти китайца ходил с'ежившись и глядел всем в лицо
с вялой виноватой улыбочкой.
—
Тихо* идут-то, Никита Егорыч; у меня внутри неладно.
—
А ты молчи, и пройдет!
Знобов сказал:
—
Кою ночь не спим, а ты, Васька рыжий, а рыжая-то, парень,
с перьями.
Васька тихо вздохнул:
•— В какой-то стране, бают, рыжих в солдаты не берут. А я у царю-то,
почесть, семь лет служил — четыре года на действительной, да три войны
германской.
—
Хорошо, мост-то не подняли... —
сказал Знобов.
—
Чего? —• спросил Васька.
—
Как бы повели на город бронепоезд-то? Даже шпал не хотели раз-
бирать, а тут тебе мост. Омраченье!..
Васька уткнул курчавую голову в плечи и поднял воротник.
—-
Жалко мне, Знобов, китайца-то! А, думаю, в рай он уйдет—за кре-
стьянскую веру пострадал.
—
А дурак ты, Васька.
—
Чего?
—
В бога веруешь.
—
А ты нет?
—
Никаких!..
—
Стерва ты, Знобов. А, впрочем, дела твои, братан. Ноне свобода,
кого хочешь, того и лижи. Только мне без веры нельзя — у меня вся семья
из веку кержацкая, раскольной веры.
—
Вери-ители!..
Знобов рассмеялся. Васька торопливо вздохнул:
—
Пусти ты меня, Никита Егорыч, — постреляю хоть!
—
Нельзя. Раз ты штаб, значит, и сиди в штабной квартире.
—
Телеги-то!
Задребезжало и с мягким звоном упало стекло в стрелочной. Снаряд
упал рядом.
Вершинин вдруг озлися и столкнул секретаря:
—
Сиди тут. А ночь как придет — пушшай костер палят. А не то слезут
с поезда-то и е лес удерут, либо, чорт их знает, што- им В1 голову придет.
Вершинин погнал лошадь вдоль линии железной дороги вслед убегающему
бронепоезду:
—
Не уйдешь, курва!
Лохматая, как собака, лошаденка трясла большим, как бочка, животом.
Телега подпрыгивала. Вершинин встал на ноги, натянул вожжи:
—
Ну-у!
Лошаденка натянула ноги, закрутила хвостом и понесла. Знобов, под-
скакивая грузным телом, крепко держался за грядку телеги, уговаривая
Вершинина.
—
А ты не гони, не догонишь! А убить-то тебя за дешеву монету
убьют.
—
Никуда он не убежит. Но-о, пошел!
Он хлестнул лошадь кнутом по потной спине.
Васька закричал:
—
Гони! Весь штаб делать смотр войскам! А на капитана етова
с поездом его плевать. Гони, Егорыч!.. Пошел!
Телеги бежали мимо окопавшихся мужиков. Мужики подымались
на колени и молча провожали глазами стоящего на телеге, потом клали вин-
товки на руки и ждали проносящийся мимо поезд, чтобы стрелять.
Бронепоезд с грохотом, выстрелами несся навстречу...
Васька зажмурился.
—
Высоко берет, — сказал Знобов, — вишь
не хватат. Они там,
должно, очумели, ни чорта не видят!
—
Ни лешева! — яростно заорал Васька и, схватив прут, начал сте-
гать лошадь.
Вершинин был огромный, брови рвались по мокрому лицу.
—
Не выдавай, товарищи!
—
Крой ! — орал Васька.
Телега дребезжала, об колеса билась лагушка, из-под сиденья валилось
на землю выбрасываемое толчками сено. Мужики в кустарниках не по-сол-
датски отвечали:
—
Ничего!..
И это казалось крепким и своим, и даже Знобов вскочил на колени m
махая винтовкой, закричал:
—
А дуй, паря, пропадать, так пропадать!
Опять навстречу мчался уже нестрашный бронепоезд, и Васька грозил
кулаком:
—
Доберемся!
Среди огней молчаливых костров стремительно в темноте серые коробки
вагонов с грохотом носились взад и вперед.
А волосатый человек на телеге приказывал. Мужики подтаскивали бревна
на насыпи и, медленно подталкивая их впереди себя, ползли. Бронепоезд под-
ходил и бил в упор.
Бревна были, как трупы, и трупы, как бревна — хрустели ветки и
руки, и молодое и здоровое тело было у деревьев и людей.
Небо было темное и тяжелое, выкованное из чугуна, и ревело сверху
гулким паровозным ревом.
Мужики крестились, заряжали винтовки и подталкивали бревна. Пахло-
от бревен смолой, а от мужиков потом.
Пихты были, как пики, и хрупко ломались о броню подходившего
поезда.
Васька, изгибаясь по телеге, хохотал:
—
Не пьешь, стерва. Мы, брат, до тебя доберемся. Не ускочишь. За-
дарма мы тебе китайца отдали?
Знобов высчитывал:
—
Завтра у них вода выдет. Возьмем. Это обязательно.
Вершинин сказал:
—
Надо в город-то на подмогу итти.
Как спелые плоды от ветра, падали люди и целовали смертельным по-
следним поцелуем землю.
Руки уже не упирались, а мягко падало все тело и не ушибалось больше—
земля жалела. Сначала их были десятки. Тихо плакали за опушкою, на про-
секе бабы. Потом сотни — и выше и выше подымался вой. Носить их стало
некому, и трупы мешали подтаскивать бревна.
Мужики все лезли и лезли.
Броневик продолжал жевать, не уставая и, точно теряя путь от дыма
пустующих костров, все меньше и меньше делал свои шаги от будки стрелоч-
ника до деревянного мостика через речонку.
Потом остановился.
Тогда-то далеко еще до крика Вершинина:
—
Пошел!.. Та-ва-ри-щи!..
Мужики повели наступление.
Падали, отрываясь от стальных стенок, кусочки свинца и меди в тела,,
рвали груди; пробивая насквозь, застегивая навсегда со смертью в одну
петлю.
Мужики ревели:
—
О-а -а -ао!!!
Травы ползли по груди, животу. О сучья кустарников цеплялись лица,
путались и рвались бороды и из потного мокрого волоса лезли наружу губы:
—
О-а -а -ао!!!
Костры остались за спиной, а тут недалеко стояли темные, похожие
на амбары вагоны, и не было* пути к людям, боязливо* спрятавшимся за сталь-
ными стенками.
Партизан бросил бомбу к колесам. Она разорвалась, стукнувшись
у каждого в груди.
Мужики отступили.
Светало.
Когда при свете увидели трупы, заорали, точно им сразу сцарапнули
со спины кожу, и опять полезли на вагоны.
Вершинин снял сапоги и шел босиком. Знобов, часто приседая, почти
на четвереньках осторожно и, почему-то обходя кусты, полз. Васька Окорок
восторженно глядел на Вершинина и кричал:
—
А ты, Никита Егорыч, Еруслан!
Лицо у Васьки было веселое, и только на глазах блестели слезы.
Броневик гудел.
—
Заткни ему глотку-то, — закричал пронзительно Окорок и вдруг
поднялся с колен и, схватившись за грудь, проговорил тоненьким голоском,
каким говорят обиженные дети:
—
Господи... и меня!..
Упал.
Партизаны, не глядя на Ваську, лезли к насыпи, высокой желтой, по-
хожей на огромную могилу.
Васька судорожно дрыгал всем телом, торопясь куда-то, умер.
Партизаны опять отступили.
На рассвете приехал Пеклеванов.
Вс.
Иванов.
распропагандировали.
Мужик с перевязанной головой бешено выгнал обратно из переулка
•свою игренюю лошадь.
Тело его влипло в плоскую лошадиную спину, лицо танцовало, тряслись
кулаки и радостно орала глотка:
—
Мериканца пымали, біратцы-ы!..
Окорок закричал:
—
Ого-го-го!..
Трое мужиков с винтовками. показались в переулке.
Посреди их шел, слегка прихрамывая, одетый в летнюю фланелевую»
форму, американский солдат.
Лицо у него было бритое, молодое. Испуганно дрожали его открытые
зубы, и на правой щеке, у скулы, прыгал мускул.
Длинноногий седой мужик, сопровождавший американца, спросил:
—
Кто у вас старшой?
—
По какому делу? — отозвался Вершинин.
—
Он старшой-от, он! — закричал Окорок. —
Никита Егорыч Верши-
нин! А ты рассказывай, как пымали-то?
Мужик сплюнул и, похлопывая американского солдата по плечу так,
точно тот сам явился, со стариковской охотливостью стал рассказывать.
—
Привел я его к тебе, Никита Егорыч. Вознесенской мы волости.
Отряд-от наш за японцем пошел далеко-о!
—
А деревень-то каких?
—
Селом мы воюем. Пенино село, слышал может?
—
Пожгли его, бают?
—
Сволочь народ! Как есть все село, паря-батюшка, попалили, вот
и ушли мы в сопки!
Партизаны собрались вокруг, заговорили:
—
Одну муку принимаем! Понятно!
Седой мужик продолжал:
—
Ехали они двое, мерйканцы-то. На трашпанке в жестянках молоко
везли. Дурной народ, воевать приехали, а молоко жрут с щиколадом.
Одного-то мы сняли, а этот руки задрал. Ну, и повели. Хотели старосте
отдать, а тут ишь — целая компания.
Американец стоял, выпрямивіігись по-солдатски, и, как с судьи, не спус-
кал глаз с Вершинина.
Мужики сгрудились.
На американца запахло табаком и крепким мужицким хлебом.
От плотно сбившихся тел шла мутившая голову теплота и поднима-
лась с ног до головы сухая, знобящая злость.
Мужики загалдели:
—
Чего-то!
—
Пристрелить его, стерву!
—
Крой его!
—
Кончать!..
—
И никаких!
Американский солдат слегка сгорбился, и боязливо втянул голову
в плечи, и от этого движения еще сильнее захлестнула тело злоба.
—
Жгут, сволочи!
•—-
Распоряжаются!
—
Будто у себя!
—
Ишь забрались!
—
Просили их!
Кто-то пронзительно завизжал.
—
Бе-ей!..
В это время Пентефлий Знобов, работавший раньше на владивосток-
ских доках, залез на телегу и, точно указывая на потерянное, закричал:
—
Обо-ждь!..
И добавил:
—
Товарищи!
Партизаны посмотрели на его лохматые, как лисий хвост, усы, на рас-
стегнувшуюся прореху штанов, через которую виднелось темное тело, и
замолчали:
—
Убить завсегда можно! Очень просто. Дешевое дело убить. Вон их
сколь на улице-то наваляли. А по моему, товарищи,—распропагандировать
-его — и пустить. Пущай болынецкую правду понюхат. А я так полагаю!
Вдруг мужики густо, как пшено из мешка, высыпали хохот:
—
Хо-хо-хо!..
—
Хе-кхе!. .
—
Хо-о!..
—
Прореху-то застегни, чорт!
—
Валяй, Пентя, запузыривай!..
—
Втемяшь ему!
—
Чать тоже человек...
—
На камне и то выдолбить можно.
—
Лупи!!.
Крепкотелая Авдотья Стещенкова, подобрав палевые юбки, наклони-
лась и толкнула американца плечом:
—
Ты вникай, дурень, тебе же добра хочут.
Американский солдат оглядывал волосатые красно-бронзовые лица
мужиков, расстегнутую прореху штанов Знобоза, слушал непонятный говор
и вежливо мял в улыбке бритое лицо.
Мужики возбужденно ходили вокруг него, передвигая его в толпе, как
лист по воде; громко, как глухому, кричали.
Американец, часто мигая, точно от дыма, глазами, поднимая кверху
голову, улыбался и ничего не понимал.
Окорок закричал американцу во весь голос:
—
Ты им там- раз'ясни. Подробно. Не хорошо; мол.
—
Зачем нам мешать!
—
Против свово брата заставляют итти!
Вершинин степенно сказал:
—
Люди все хорошие, должны понять. Такие ж крестьяне, как и мы,
скажем, пашете и все такое. Японец, он што, рис жрет, для него по-дру-
гому говорить надо!
Знобов тяжело затоптался перед американцем и, приглаживая усы,
сказал:
—
Мы разбоем не занимаемся, мы порядок наводим. У вас,
поди, этого не знают за морем-то, далеко, да и опять и душа-то
у тебя чужой земли...
Голоса повышались, густели.
Американец беспомощно оглянулся и проговорил:
—
I dont understand! *).
Мужики враз смолкли.
Васька Окорок сказал:
—
Не вникат. По-русски-то не энат, бедность!
Мужики отошли от американца.
Вершинин почувствовал смущение.
—-
Отправить его в обоз, что тут с ним чертомелиться, — сказал он
Знобову.
Знобов не соглашался, упорно твердя:
—
Он поймет!.. Тут только надо!.. Он поймет!..
Знобов думал.
Американец, все припадая на ногу, слегка покачиваясь, стоял. Чуть
заметно, как ветерок стога сена, ворошила его лицо тоска.
Син-Бин-У лег на землю подле американца, закрыв ладонью глаза,
тянул пронзительную китайскую песню.
—
Мука-мученическая, — сказал тоскливо Вершинин.
Васька Окорок нехотя предложил:
—
Рази книжку каку?
Найденные книжки были все русские.
—
Только на раскурку и годны, — сказал Знобов, — кабы с кар-
тинками.
Авдотья пошла вперед, к возам, стоявшим у поскотины, долго рылась
в сундуках, наконец, принесла истрепанный, с оборванными углами учебник
закона божия для сельских школ.
—
Може по закону? — спросила она.
Знобов открыл книжку и сказал недоумевающе:
—
Картинки-то божественны! Нам его не перекрещивать. Не попы.
—
А ты попробуй, — предложил Васька.
—
Как его. Не поймет, поди!
-—
Может поймет. Валяй!
Знобов подозвал американца:
—
Эй, товарищ, иди-ка сюда!
Американец подошел.
Мужики опять собрались, опять задышали хлебом, табаком.
—
Ленин, — сказал твердо и громко Знобов и как-то нечаянно, словно
оступаясь, улыбнулся.
Американец вздрогнул всем телом, блеснул глазами и радостно
ответил:
—
There's a chap!2).
Знобов стукнул себя кулаком в грудь и, похлопывая ладонью мужиков
по плечам и спинам, почему-то ломаным языком прокричал:
') Я не понимаю.
2) Это—молодей.
—
Советска республика!
Американец протянул руки к мужикам, щеки у него запрыгали и он
возбужденно закричал:
—
That is pretty indeed1).
Мужики радостно захохотали.
—
Понимает, стерва.
—
Вот сволочь, а!
—
А Пентя-то, Пентя-то по-американски кроет!
—
Ты инхних-тО' буржуев по матушке, Пентя!
'Знобов торопливо раскрыл учебник закона божия и тыча пальцами
в картинку, где Авраам приносил в жертву Исаака, а вверху на облаках
висел бог, стал раз'ясиять.
—
Этот с ножом-то — буржуй. Ишь брюхо-то выпустил, часы с ца-
почкой только. А здесь, на бревнах-то, пролетариат лежит, понял? Про-
ле-та -ри-ат.
Американец указал себе рукой на грудь и, протяжно и радостно
заикаясь, гордо проговорил:
—
Про-ле-та -ри-ат!..
Мужики обнимали американца, щупали его одежду и изо всей силы
жали ему руки, плечи.
Васька Окорок, схватив его за голову и заглядывая в глаза, востор-
женно орал:
—
Парень, ты скажи та-ам. За морями то...
—
Будет тебе, ветрень, — говорил любовно Вершинин.
Знобов продолжал:
—
Лежит он — пролетариат, на бревнах, а буржуй его режет. А на
облаках-то: японец, американка, англичанка — вся эта сволочь, империа-
лизма самая сидит.
Американец сорвал с головы фуражку и завопил:
—
Империализм!
Знобов с ожесточением швырнул фуражку о земь.
—
Империализм с буржуями — к чертям!
Син-Бин-У подскочил к американцу и, подтягивая спадающие штаны,
торопливо проговорил:
—
Русики ресыпубылика-а. Кытайси ресыпубылика-а . Американысы
ресыпубылика-а пухао. Нипонсы, пухао, надо, надо ресыпубылика-а. Кыра-
а-сна ресыпѵбылика нада, нада...
—
И, оглядевшись кругом, встал на цишчкм и, медленно подымая боль-
шой палец руки кверху, проговорил:
—
Шанго.
Вершинин приказал:
—
Накормить его надо. А потом вывести на дорогу и пустить.
Старик конвоир спросил:
') Это великолепно.
—
Глаза-то завязать, как поведем. Не приведет сюда?"
Мужики решили:
—
Не надо. Не выдаст.
IX.
Партизаны с хохотом, свистом вскинули ружья на плечи.
Окорок закрутил курчавой рыжей головой, вдруг тонким, как паутина
голоском затянул:
И какой-то быстрый и веселый голос ударил вслед за Васькой.
«Я рассеявши тшел, во зеленый сад вошел —
Много в саду вишенья, винограду, грушенья.»
И тут сотня хриплых, порывистых, похожих на морской ветер, мужиц-
ких голосов подняла и понесла в тропы, в лес, в горь::
Партизаны, как на свадьбе, шли с ревом, гиканьем, свистом в сопку.
Шестой день увядал.
Томительно и радостно пахли вечерние деревья.
Н. Тихомиров.
«Я рассею грусть тоску по зеленому лужку.
Уродись моя тзска мелкой травкой-мѵравой.
Ты не сохни, ты не блекни, дзетами расцвети»...
«Я рассеявши пошел.
Во зеле-ый сад вошел.
—
Э-э-эт...
—
Сью-ю-ю. . .
БРАТЬЯ
Мы с тобой родные братья:
Я — рабочий, ты — мужик,
Наши крепкие об'ятья —
Смерть и гибель для владык
Награжу тебя я щедро
За твои труды и снедь.
Наши руки мощью дышут,
Наши груди крепче лат,
Наши очи местью пышут,
Постоим за брата брат!
Я кую, ты пашешь поле,
Оба мы трудом живем,
Оба рвемся к светлой воле,
С бою каждый шаг берем.
Мы с тобой родные братья:
Я — рабочий, ты — мужик,
Наши крепкие об'ятья —
Смерть и гибель для владык.
Я сверлю земные недра.
Добываю сталь и медь,
Крестьянин и рабочий. Ч. II .
23
А. Блок.
ДВЕНАДЦАТЬ.
1.
Нерный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер —
На всем божьем свете!
Завивает ветер
Белый снежок.
Под снежком —• ледок,
Скользко, тяжко,
Всякий ходок
Скользит — ах, бедняжка!
От здания к зданию
Протянут канат.
На канате — плакат:
«Вся власть Учредительному Собранию!»
Старушка убивается — плачет,
Никак не поймет, что значит,
На что такой большой плакат,
Такой огромный лоскут?
Сколько бы вышло портянок для ребят,
А всякий — раздет, разут...
Старушка, Как курица,
Кой-как перемотнулась через сугроб.
—
Ох, матушка-заступница!
—
Ох, большевики загонят в гроб!
Ветер хлесткий!
Не отстает и мороз!
И буржуй на перекрестке
В воротник упрятал нос.
А это кто? — Длинные волосы
И говорит вполголоса:
-*- Предатели!
—
Погибла Россия!
Должно быть, писатель —
Вития...
А вон и долгополый —
Сторонкой — за сугроб...
Что нынче невеселый,
Товарищ поп?
Помнишь, как, бывало,
Брюхом шел вперед,
И крестом сияло
Брюхо на народ?
Вон барыня в каракуле
К другой подвернулась:
—
Уж мы плакали, плакали...
Поскользнулась
И — бац — растянулась !
Ай, ай!
Тяни, подымай!
Ветер веселый
И зол, и рад.
Крутит подолы,
Прохожих косит,
Рвет, мнет и носит
Большой плакат:
«Вся власть Учредительному Собранию!»
И слова доносит:
.. . И у нас было собрание...
„..Вот в этом здании...
.. . Обсудили, - —
Постановили:
На время — десять, на ночь — двадцать пять..
.. .И меньше — ни с кого не брать...
.. . Пойдем спать...
Поздний вечер.
Пустеет улица.
Один бродяга
Сутулится,
.Да свищет ветер...
Эй, бедняга!
Подходи —
Поцелуемся...
Хлеба!
Что впереди?
Проходи!
Черное, черное небо.
Злоба, грустная злоба
Кипит в груди...
Черная злоба, святая злоба...
Товарищ! Гляди
В оба!
2.
Гуляет ветер, порхает снег.
Идут двенадцать человек.
Винтовок черные ремни,
Кругом — огни, огни, огни.
В зубах — цыгарка, примят картуз,
На спину б надо бубновый туз!
Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!
Тра-та -та !
Холодно, товарищи, холодно!
•— А Ванька с Катькой в кабаке..
—У ей керенки есть в чулке!
-— Ванюшка сам теперь богат...
—
Был Ванька наш, а стал солдат!
—
Ну Ванька, сукин сын, буржуй,
Мою попробуй, поцелуй!
Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!
Катька с Ванькой занята —
Чем, чем занята?..
Тра-та -та!
Кругом — огни, огни, огни...
Оплечь — ружейные ремни ..
Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!
Товарищ, винтовку держи, не трусь!
Пальнем-ка пулей в Святую Русь —
В кандовую,
В избяную,
В толстозадую!
Эх, эх, без креста!
3.
Как пошли наши ребята
В Красной гвардии служить —
В Красной гвардии служить —
Буйну голову сложить!
Эх, ты, горе-горькое,
Сладкое житье!
Рваное пальтишко,
Австрийское ружье!
Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови —
Господи, благослови!
4.
Снег крутит, лихач кричит,
Ванька с Катькою летит —
Электрический фонарик
На оглобельках...
Ах, ах, пади!
Он в шинелишке солдатской
С физьономией дурацкой
Крутит, крутит черный ус,
Да покручивает,
Да пошучивает.
Вот так Ванька — он плечист!
Вот так Ванька — он речист!
Катьку-дуру обнимает,
Заговаривает...
Запрокинулась лицом,
Зубки блещут жемчугом...
Ах, ты, Катя, моя Катя,
Толстом орденькая...
5.
—
У тебя на шее, Катя,
Шрам не зажил от ножа.
У тебя под грудью, Катя,
Та царапина свежа!
Эх, эх, попляши!
Больно ножки хороши!
В кружевном белье ходила —
Походи-ка, походи!
С офицерами блудила •—
Поблуди-ка, поблуди!
Эх, эх, поблуди!
Сердце екнуло в груди!
Помнишь, Катя, офицера
Не ушел он от ножа...
Аль не вспомнила, холера?
Али память не свежа?
Эх, эх, освежи,
Спать с собою положи!
Гетры серые носила,
Шоколад Миньон жрала,
С юнкерьем1 гулять ходила —
С солдатьем теперь пошла?
Эх, эх, согреши!
Будет легче для души!
6.
.. . Опять навстречу несется вскачь,
Летит, вопит, орет лихач...
Стой, стой! Андрюха, помогай!
Петруха, сзаду забегай!
Трах-тарарах-тах-тах-тах-тах !
Вскрутился к небу снежный прах!..
Лихач — и с Ванькой — наутек...
Еще разок взводи курок!
Трах — тарарах! Ты будешь знать
Как с девочкой чужой гулять!
Утек, подлец! Ужо, постой,
Расправлюсь завтра я с тобой!
А Катька где? — Мертва, мертва,
Простреленная голова!
Что, Катька, рада? — Ни гу-гу...
Лежи ты, падаль, на снегу!
Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!
•
7.
И опять идут двенадцать,
За плечами — ружьеца,
Лишь у бедного убийцы
Не видать совсем лица...
Все быстрее и быстрее
Уторапливает шаг.
Замотал платок на шее —
Не оправится никак...
—
Что, товарищ, ты невесел?
—
Что, дружок, оторопел?
—
Что, Петруха, нос повесил?
—
Или Катьку пожалел?
—
Ох, товарищи, родные,
Эту девку я любил...
Ночки черные, хмельные
С этой девкой проводил...
Из-за удали бедовой
В огневых ее очах,
Из-за родинки пунцовой
Возле правого плеча,
Загубил я, бестолковый,
Загубил я сгоряча... ах!
—
Ишь, стервец, завел шарманку,
Что ты, Петька, баба, что-ль?
—
Верно, душу наизнанку
Вздумал вывернуть? Изволь!
—
Поддержи свою осанку!
—
Над собой держи контроль!
—
Не такое нынче время,
Чтобы няньчиться с тобой!
Потяжеле будет бремя
Нам, товарищ дорогой!
И Петруха замедляет
Торопливые шаги...
Он головку вскидавает,
Он опять повеселел...
Эх, эх!..
Позабавиться не грех!
Запирайте этажи,
Нынче будут грабежи!
Отмыкайте погреба —
Гуляет нынче голытьба!
8.
Ох, ты, горе-горькое!
Скука скучная,
Смертная!
Уж я времячко
Проведу, проведу...
Уж я темячко
Почешу, почешу...
Уж я семячки
Полущу, полущу..
Уж я ножичком
Полосну, полосну!..
Ты лети,' буржуй, воробышком!
Выпью кровушку
За зазнобушку,
Чернобровушку...
Успокой, господи, душу рабы твоея...
Скучно!
9
Не слышно шуму городского,
Над невской башней тишина,
И больше нет городового —
Гуляй, ребята, без вина!
Стоит буржуй на перекрестке
И в воротник упрятал нос.
А рядом жмется шерстью жесткой
Поджавший хвост паршивый пес.
Стоит буржуй, как пес голодный,
Стоит безмолвный, как вопрос.
И старый мир, как пес безродный,
Стоит за ним, поджавши хвост.
10.
Разыгралась чтой-то вьюга,
Ой, вьюга, ой, вьюга!
Не видать совсем друг друга
За четыре за шага!
Снег воронкой завился,
Снег столбушкой поднялся...
—
Ох, пурга какая, спасе!
—• Петька! Эй, не завирайся!
От чего тебя упас
Золотой иконостас?
Бессознательный ты, право,
Рассуди, подумай здраво —
Али руки не в крови
Из-за Катькиной любви?
—
Шаг держи революционный !
Близок враг неугомонный!
Вперед, вперед, вперед,
Рабочий народ!
11.
.. . И идут без имени святого
Все двенадцать — вдаль.
Ко всему готовы,
Ничего не жаль...
Их винтовочки стальные
На незримого врага...
В переулочки глухие,
Где одна пылит пурга...
Да в сугробы пуховые —
Не утянешь сапога...
В очи бьется
Красный флаг.
Раздается
Мерный шаг.
Вот — проснется
Лютый враг...
И вьюга пылит им в очи
Дни и ночи
Напролет...
Вперед, вперед,
Рабочий народ!
12.
.. .Вдаль идут державным шагом...
-—Кто еще там? выходи!
Это — ветер с красным флагом
Разыгрался впереди...
Впереди — сугроб холодный.
—
Кто в сугробе — выходи!
Только нищий пес голодный
Ковыляет позади...
Отвяжись ты, шелудивый,
Я штыком пощекочу!
Старый мир, как nçc паршивый
Провались — поколочу !
...Скалит зубы — золк голодный
Хвост поджал — не отстает —
Пес голодный —пес безродный...
Эй, откликнись, кто идет?
—
Кто там машет красным флагом
—
Приглядись-ка, эка тьма!
—
Кто там ходит беглым шагом,
Хоронясь за все дома?
•
—
Все равно, тебя добуду,
Лучше сдайся мне живьем!
—
Эй, товарищ, будет худо.
Выходи, стрелять начнем!
Трах-тах -тах!.. И только эхо
Откликается в домах...
Только вьюга долгим смехом
Заливается в снегах...
Трах- —т ах —тах.
Трах—тах—тах !
...Так идут державным шагом —
Позади голодный пес,
Впереди — с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Исус Христос.
Демьян
Бедный.
в огненном кольце.
1 мая 1918 года.
Еще не все сломили мы преграды,
Еще гадать нам рано о конце.
Со всех сторон теснят нас Злые гады.
Товарищи, мы — в огненном кольце!
На нас идет вся хищная порода.
Насильники стоят в родном краю.
Судьбою нам дано лишь два исхода:
Иль победить, иль честно пасть в бою.
Но в тяжкий час, сомкнув свои отряды
И к небесам взметнув свой алый флаг,
Мы верим все, что за кольцом осады
Другим кольцом охвачен злобный враг, —
Что братская к нам скоро рать пробьется,
Что близится приход великих дней,
Тех дней, когда в тылу врага сольется
В сплошной огонь кольцо иных огней.
Товарищи! в возвышенных надеждах,
Кто духом пал, отрады не найдет.
Позор тому, кто в траурных одеждах
Сегодня к нам на праздник наш придет.
Товарищи, в день славного кануна
Пусть прогремит наш лозунг боевой:
—
Да здравствует всемирная коммуна!
Да здравствует наш праздник трудовой!
Л.
Сейфуллина.
КРАСНАЯ ГВАРДИЯ.
В назначенный час со всех улиц потянулось к Исполкому свободное,
наемное войско. Бурливая, дерзкая, разная по одежде толпа. Шли с винтов-
ками. Одни в шинелях по-солдатски, другие в крестьянских азямах и тяжелых
пимах, третьи в городской рвани и опорках на ногах, четвертые — чужаки
в своей одежде, военнопленные. После всех отдельно прибыла киргизская
часть. Впереди несли красное знамя и на пике металлический полумесяц
с бубенчиками. Низкорослые, кривоногие, скуластые шли нестройными ря-
дами и пели гортанными голосами киргизскую песню. Будто играли на какой-то
полузабытой, но в нем родной всем и волнующей, дудке. И в ответ этой
дикарской пеоне с под'еэда Исполкома раздались взмывающие дерзостью к
новизной слова приветствия:
... —
Красная гвардия, первое в России свободное войско трудящихся,
охрана революции...
Это соединение киргизской песни, бестолкового гомона разношерстной,
по виду убогой, разногласной, разноязычной толпы, собравшейся на улице
мещанского захолустья, и слов огромного масштаба, истинно торжествен-
ных, бьющих отвагой вызова всем, всем, всем, было дико, страшно и бодрило
душу величием, непонятным' рваной кучке — рати смельчаков, появившихся
во всех городишках вз'ерошенной РСФСР, чтоб лечь перегноем ее полей.
Эти большие слова были для них только звоном своего села. Чтобы
была своя пашня, чтоб проткнуть пузо своему кулаку Миколай Степанычу,
чтоб разогнуть свою спину, из своей глотки услышать крик вольный, непри-
вычный: наша власть! Но чутьем, всему живому, а им, простым и цельным
сугубо свойственным, ощутили они широкую радость дерзости.
Оттого и трезвые в этой толпе казались пьяными. Охмелели буйным
хмелем задора. Стреляли в воздух из винтовок, орали, не сердито, а задор-
ливо ругались. Шестнадцатилетний белобрысый паренек, путаясь в длинной,
будто тятькиной, шинели, удивленно-весело кричал:
—
Эй, товарищи, затвор я потерял! Эй, эй, затвору никто не видал?
Бородатый фронтовик добродушно-снисходительно выругался:
—
Сучий сын, сопля. Теперь орудуй без затвора!
—
Затвор потерял, вояка! Титьку мамкину возьми заместо затвора!
—
Зеленый еще! Доспеет, солдатом будет.
—
Ничего, я без затвору... Я и так... его мать, казака раство-
рожу. Ничо!
И лихо, с выкриком, песню поддержал:
...к ружьям привинтим штыки.
Другой, такой же зеленый и радостный, кричал в кучу смешавших свои
ряды киргиз.
—
Эй, вон ты, крайний, как тебя?.. Малмалай-Далмалай, скажи: «про-
летарии всех стран». Не знаешь? Не умеешь?
—
Се умем! Мал-мал казак стрелю!
Смешанный гомон, бестолковая брань разношерстных, таких непохожих
на старую армию, пьяных задором, присутствие в рядах и от водки пьяных,
были противны многим в прихлынувшей посмотреть толпе. Люди, видящие
только то, что можно пощупать, окружали толпу красногвардейцев враждеб-
ным гулом.
—
Да, армия! От первого выстрела убежит.
—
Затворы растеряли! Штаны-то на ногах, аль тоже потерял?
—
Сыно-о -чек, и что ты с ними взялся? Вернись, убьют!
—
Фронтовиков-то и не видать. Эти навоюют.
—
Начальники все пьяные! Армия!
—
Они начальникам-то своим в харю плюют! Дисциплина!
—
Како войско, за деньги ежели?
—
Пленных с собой понабирали! Со своими воюют, а чужаков к себе!
—
Эх, Россия, Россия, пропала! Совсем пропала!
Но и в этот гул вплетались крики своих красногвардейцев.
Артамон Пегих, не думая о том, услышат ли его, отзовутся ли, вопил:
—
Которы нашенски сельчане... Митроха Понтяев, ай хто! Держись!
Нашенская волость в большевиках состоит... Держись, ребята!
-—
Голубчики! И одежонки-то военной не на всех!
—
Ничо, не баре, выдюжат!
—
Чо шипишь, чо шипишь, пузата? Охвицериков твоих не видать?
Змеюга!
—
А ты сам-от игде видал армию? В кабинетах своих? «Не стара
армия». И где ты от военной службы прятался? Каку армию видал? Ну!..
На под'езде появился высокий, очкастый член военно-полевого штаба.
Опять загремели, колотя захолустный покой, большие слова:
—
Нигде в мире нет Республики Советов. В Европе гнет капитала...
«Белобрысый» понял, что Красная гвардия должна пригрозить Европе
и радостным ребячьим выкриком из рядов отозвался.
—
Застрамим Европу, товарищи!
Ванька румяный, радостный, тоже будто хмельной, Софрона в толпе
.за рукав поймал.
—
Тятька, определи меня с ними! Чтобы взяли!..
Голос просительный ребячьим стал, а то всегда говорил как большой,
грубовато и степенно. Не побоялся бы и без позволенья отца удрать, но резче
взрослых, сильнее ощутил великость больших слов, в маленьком городке
взметнувшихся, и увидал себя таким, каким был мальчишкой, которому еще
доверия нет.
—• Определи, тятька!
—
Ах, ты, шибздик! Рано. Определю еще...
Шаршавой рукой смазал Софрон Ваньку по лицу.
В. Кореньков.
из шахтеров в красногвардейцы.
Время летело. Всюду, по всей необ'ятной России шли словесные состя-
зания: говорили все — кому не лень было. Наиболее развитые и сознатель-
ные рабочие и крестьянские массы видели, что свержение царского престола
оказалось недостаточным для освобождения от гнета. У крестьян — враг-
помещик остался на месте, в имении; у рабочих — также дело не измени-
лось: они попрежнему работали по 10, а то и по 12 часов в день и знали,
что попрежнему работают на своих хозяев — эксплоататоров, — и, таким
образом, вся наиболее развитая и наименее темная рабоче-крестьянская масса
понимала, что переворот произошел только формально — в верхушке госу-
дарства, а сущность дела совершенно не изменилась. В толщу трудового
народа, в его обычную повседневную жизнь ничего существенно-нового
не влилось и не обещало влиться в будущем при таких условиях.
Началось охлаждение, а потом недовольство. Наиболее сознательные
и разбирающиеся рабочие стали все больше интересоваться большевистскими
ораторами, увеличивавшимися с каждым днем, проникаться их боевыми жиз-
ненными лозунгами, прямыми, ясными и смелыми, разрешающими все боль-
ные вопросы рабочей жизни.
Мишка все свое время отдавал митингам, собраниям. Оставался после
возле спорящих групп, проводя часто, таким образом, ночи напролет. Посе-
щал все заседания районного Совета в городе. Бывал много раз в помещении
фракции большевиков. Мучился тем, что он не может себе ясно представить,
разобраться в вопросах, за которые шли ожесточенные споры.
Он чувствовал себя на стороне большевиков, но почему он с ними,
а не с другими, об'яснить не мог.
Но вот рудник облетело известие, что в Петрограде арестовано Вре-
менное Правительство выступившими рабочими, петропрадскимі гарнизоном
и моряками, іпод руководством большевиков. Власть теперь перешла в руки
выборных советов. Потом стало известно, что такие же события произошли
в Москве; что е Москве несколько дней шли бои с юнкерами, офицерами и ка-
детами, но и конце концов рабочие взяли верх.
На руднике же и в городе власть продолжала оставаться в руках разо-
гнавшего Совет казачьего гарнизона, верного Временному Правительству.
Скоро, в один из зимних дней, на рудник привезли винтовки с патро-
нами, стали раздавать их рабочим, желавшим вступить в ряды Красной гвар-
дии для завершения завоеваний новой Октябрьской революции.
Как только узнал об этом Мишка, он немедленно поспешил в казарму,
где производилась раздача винтовок. Возле казармы многолюдно. Шум и гам.
Некоторые шахтеры радовались, другие смотрели на все это с боязнью.
Мишка протолкался в казарму. В казарме еще больший шум и галда. За сто-
лом1 худенький человек, в дымчатых очках, с большой шевелюрой. Он опра-
шивал получавших винтовки и записывал в книгу. Мишка был приподнят,
чувствовал, что совершает что-то великое и важное. Не разбираясь еще
в подробностях целей и задач Красной гвардии, инстинктивно понимал, что
он — на верном пути, что он взял винтовку для завоевания лучшей жизни
и освобождения от гнета, тьмы и невежества всех рабочих. Он знал эту
великую задачу, но не знал, каким образом, какими средствами она будет
разрешаться. Было ясно о^но, что выполнение этой задачи связано с кровью
и боями: ведь не даром же получил винтовку и патроны.
Возвращаясь домой, он нагнал парня тоже с винтовкой. Парень шел,
опустивши голову, в раздумье. Мишка хлопнул его по плечу и бодро сказал:
—
Не журись, брат, это дело не плохое. С винтовкой не пропадем, —
либо умрем, либо жить будем, как следует, по настоящему.
—
Не журюсь я. А так как-то. Хто зна, што дальши будить. Ты один,
наверно, а я прошлым летом как женился. Сам знаешь, — отвечал тот.
—
На руднику давно ты?
—
Третий месяц.
—
А работаешь где?
—
Слесарем — на поверхности. В шахту не хочу. Сроду в шахти не был.
Монтер зовет на ремонт труб в шахту. Говорит, гривенник наброшу. Без
привычки в шахти боюсь. Я привык у хозяев, да по селам работать, на заводи
работал, а в шахти боюсь.
• Слесарь пригласил Мишку зайти к нему, поговорить о Красной гвардии,
о революции. Мишка согласился. Зашли.
Поставили в угол винтовки. Жена слесаря сейчас же обрушилась
на мужа:
—
Зачем это ты взял винтовку; что забыл, что женился, что ли?
Знала б, замуж не пошла. Без тебя — холостых, что ли, мало, да бессемей-
ных. Зачем тебе все это нужно. Какое нам дело? Работаешь, зарабатываешь,
и будем жить.
Жена стала плакать, а потом решительно заявила:
—
Не сдашь винтовку обратно, брошу, уйду, куда глаза глядят; никогда
к тебе не вернусь, — как
хочешь, так и делай, а от своих слов я не
откажусь.
Мишка горячо защищал слесаря, уговаривал ее со всем пылом и энер-
гией. Старался изо всех сил убедить в необходимости вступления в ряды ра-
бочей Красной гвардии каждому сознательному и честному рабочему, неза-
висимо от того — семейный он, или нет. Но жена слесаря не внимала горячим
доказательствам. Мишка затем добавил, что он не считается с тем, что
обрекает дряхлого старика-отца и мать на тяжелые последствия, ид»
в Красную гвардию. Но слесарша заявила, что если бы Мишка был женатым,
его жена также не согласилась и бросила бы его.
Снова слезы и крики...
Мишка плюнул на все. Он видел, что слесарь ничего не возражает жене.
Взял винтовку и стал уходить. Слесарь, неловко чувствуя себя, проводил
Мишку за дверь и уверял, что он останется тверд до конца, и просил зайти
завтра, — хотя по всему было видно, что в свое решение он сам не верил.
Дома Мишке пришлось встретиться с бурчанием матери на счет того,
что он плохо делает, бросая стариков на гибель, но он с этим бурчанием
не считался.
На другой день он все-таки зашел к слесарю. Его не было дома. Жена
встретила Мишку с радостным лицом и попросила подождать, так как муж
должен сейчас притти.
Он уселся в углу на скамейку и стал осматривать комнату. В комнате,
как и вчера, было чистенько и уютно. На окне куча инструментов, два
внутренних замка с торчащими ключами, механизм стенных часов, колесики
и прочее; возле окна табуретка с привернутыми тисками; на табуретке два
молотка, зубило и кусок железной проволоки. Молодой слесарь был спо-
собный парень и горазд на ремонт всяких вещей. Стоило только раз ему
разобрать вещь, чтобы вникнуть в смысл и назначение всех ее отдельных
частей, колесиков, винтиков, и после этого он с успехом производил ремонт.
Эта работа была слесарю хорошим подспорьем.
—
Дорого все теперь. Страсть, как дорого. Двое нас с Гаврюшей.
На шахти работает, дома сколька работает, и не хватает, — говорила сле-
сарша Мишке, — в потребиловку селедки хорошие доставили. Принесла вчера,
на книжку взяла. Сели с Гаврюшей и поели все. Хорошие такие, жирные.
Сегодня велел еще взять. Вы не брали?
Мишка рассеянно слушал.
А слесарша много говорила о всякой ерунде и. ни слова о Красной
гвардии, о винтовке, стоявшей в углу. Возле винтовки лежала туго набитая
патронами брезентовая сумка.
Вот вошел слесарь. Мишка не узнавал его: вчера он был дру-
гим человеком. Видимо, слесарь смутился Мишкой: на веселом лице
легла легкая тень.
Пожал руку Мишке, бросил на окно шапку и уселся рядом с ним.
—
Ну, как, брат, не передумал? — спросил он Мишку.
Мишка ответил резко и прямо:
—
Такие дела, брат, не передумываются. Если я решил что, то кончено.
Он понял, что слесарь по своей мягкости подчинился влиянию жены.
Слесарша смотрела на Мишку победоносно.
Мишка поднялся и сказал:
—
Ну, что-ж, брат, это хорошо, что ты решил не итти в Красную
гвардию. Очень даже хорошо.
Слесарь и жена его удивились и смотрели на Мишку вопросительно.
Он поспешил рассеять их недоумение:
—
Я понимаю так. Хорошо, что ты сейчас бросаешь винтовку, и гвар-
дия отдаст винтовку другому, а вот, если-б ты не бросил сейчас, то бросил бы
в бою, а нас, брат, мало, силы наши считанные; да и такие, что сегодня
берутся, а завтра бросают..., с такими много не навоюешь.
Мишка подал руку слесарю. Тот задержал руку и спросил:
—
Ты в штаб?
—
Да, — ответил Мишка.
—
Так пойдем вместе.
Жена испугалась и опять накинулась на мужа:
—
Так ты, что-ж, меня обманывать хочешь?
—
Да, нет, Фрося, я-ж винтовку сдавать. Сейчас приду.
Слесарь одел сумку с патронами, взял винтовку в руки и вышел...
Мишка, разозлившись на эту злосчастную бабу, не попрощался с ней. Когда
вышли, слесарь сказал:
—
Эх, имел винтовку, и ни разу не стрельнул. Подожди-ка, я вот
ворону на столбу подстрелю.
Крестьянин и рабочий. Ч. II.
24
На телефонном столбе сидела ворона. Слесарь вложил патрон в вин-
товку, прицелился и выстрелил. Ворона улетела. Слесарь проговорил:
—
Не попал, чорт возьми, — жалко. —
Повесил на плечо винтовку и
пошел с Мишкой.
—
Нет, ты все-таки подумай про мое положение: ведь семейный я,
а баба говорит, — коли пойдешь в гвардию, меня не знай больше. Ну, вот
видишь, — как тут.
Мишка еще больше разозлился.
—
Сам ты баба, мать твою... Такая сволочь Красной гвардии не нужна.
—
Не ругайся ты, я тебе ж не обидел, а чего ж ты ругаешься, — - оби-
делся слесарь.
Мишка прибавил шагу и пошел быстро в ту же казарму, где вчера
нолѵчил винтовку.
Там и сегодня продолжалась раздача. Дым стоял коромыслом; шум и гам
сильней вчерашнего. Из казармы выходили шахтеры с винтовками и опоясан-
ные патронными лентами. Мишка встретил здесь Глазоедку. Он тоже вступил
в Красную гвардию.
Они обрадовались друг другу. Пошли вместе на шахтный двор.
—
Да, прошло время. Нас теперь уж голыми руками не возьмешь.
А ты што такой паршивый стал, худой уж больно ты? — обратился к Мишке
Глазоедка.
—
В тифу лежал, думал каюк будет. Ни черта, — все прошло. Жалкую,
не был, когда эта самая революция началась. Непонятно мне многое оттого.
Отчего, — то, другое, третье?
—
А что тебе не понятно? Мне все понятно.
—
Да, вот, чиво им нужно большевикам и меньшевикам. Царя ски-
нули, ну и работай, — чиво тут спорить? — ответил Мишка.
—
Э, чудак ты большой, Мишка. Ты поотстал здорово. Нельзя им
вместе работать. Потому меньшевик руку помещикову тянет, а большевик
помещика врагом злейшим почитает. Дороги-то у них разные. Меньшевик
говорит: «Не отбирай землю, фабрики у буржуев», а большевик за это жйсть
кладет. Большевик говорит, •— отнять усе, отдать мужикам бедным да рабо-
чим. Потому, оставь усе у богачей, жизнь наша лютей прежней будет. Царя
обратно повернуть помещики. И на щот войны. Большевик против войны,
войны нам* не надо. Зачем нам убивать друг друга. В войне энтой интересу
нашего нет, интересы только богатых, — за них война. А меньшевик —
за войну. Одно слово, толыки большевик нашу рабочую линию держит, все
прочие — сволочь одна. Я, брат, митингов, собрания ни одного не пропущал.
Потому и* понятно мне. Ничего, Мишка, узнаешь и ты все. Вместе будем,
ладно?..
—
Ну, да, вместе. А как тебя звать, Глазоедка?
—
Звать меіня Андреем. Да никто так *не зовет мене. Глазоедка да
Глазоедка.
—
Ну, ладно, Андрей, дай пять, вместе повсегда будем.
Крепко сжали друг другу руки.
Вступая в Красную гвардию, Глазоедка имел классовое сознание и не-
большое политическое развитие.
Мишку Глазоедка поражкл своим перерождением. Словно перед Миш-
кой был не прежний забитый и темный Глазоедка, а кто-то другой, прошед-
ший хорошую революционную подготовку. Глазоедка уже не раз говорил
на митингах, но был у него один недостаток: не хватало запаса слов для
выражения мыслей; он подбирал слова по-своему, горячо жестикулируя,
как бы заполняя тем пустые места своей речи.
Через несколько дней Мишка слышал речь Глазоедки на митинге Крас-
ной гвардии. Глазоедка горячился, кипел и бурлил. Видно было, что мысль
у него в своем развитии далеко ушла от медленного развития речи. Бросал
слова целиком, в сыром виде, не старался отделывать и комбинировать^
Горячность, революционный дух, воля, преданность данному делу сквозили
во всей речи. Такое состояние позволяло Глазоедке не волноваться и не сму-
щаться. То, что он себя так свободно и прямо чувствовал перед массой,
придавало речи авторитетность.
Мишка был бесконечно рад новому хорошему другу.
Когда организовывалась Красная гвардия на руднике, в городе были
казаки, стоявшие за свергнутое временное правительство.
На первый день Рождества, в разгар гулянья, на руднике паника.
К Мишке забежали два красногвардейца. Сообщили, что сейчас же
необходимо бежать в штаб и быть ко всему готовым; ожидалось что-то
серьезное, что именно, — сами они еще не знали. Мишка «нахватил» на себя
пиджак и шапку, схватил винтовку, сумку и, под слезы и причитывания
перепугавшейся матери, бегом бросился в штаб. Отца дома не было.
Там стояли уже красногвардейцы, и со всех сторон бежали новые,
словно муравьи.
Командир в очках, раздававший винтовки, был верхом на лошади.
Мишка узнал, что их отряд взял шесть рудничных лошадей с конюшни.
На руднике не было казаков, — они были все в городе. Чувствовалось
боевое настроение.
Когда собрались все красногвардейцы, их построили, и командир обра-
тился с речью:
—
Товарищи, по полученным нами сведениям, со станции наступают
наши.
Мощное ура прокатилось по отряду.
—
Товарищи, наш долг, наша прямая обязанность поддержать всеми
силами это наступление. Поэтому ближайшей нашей задачей предстоит: как
только услышим артиллерийскую стрельбу, немедленно двинуться на город
и освободить его от казаков. Товарищи, наш отряд не силен, как военная
боевая единица, но он силен своим революционным духом, своим револю-
ционным под'емом, правотою своего дела — освобождения угнетенных масс.
Товарищи, я открыто заявляю и предупреждаю всех, что силы неравны. Что
только наше мужество, наша стойкость и самоотверженность, наша готов-
ность, не задумавшись, отдать жизнь за власть рабочих, — могут служить
залогом в нашей победе. Товарищи, нам нужны только сильные духом и
готовые на все товарищи, а потому я предлагаю, пока не поздно, всем тем,
кто не уверен в своей твердости и самоотверженности, — немедленно оста-
вить наши ряды. За оставление наших рядов сейчас, только сейчас, пока
еще не поздно, никаких преследований не будет.
Командир сделал паузу. Все стояли, как вкопанные. Он закончил свою
речь повышенным голосом:
—
Итак, товарищи, к нашей чести, в нашем отряде нет таких робких,
слабовольных, трусливых, которые могли бы подорвать нашу мощь, наше
единство, нашу революционную волю.
В этот момент раздались далекие орудийные выстрелы. Оратор закри-
чал не своим голосом:
—
Товарищи, — наши близко. Они нас зовут. Вперед, за освобождение-
рабочего класса!
Громовое ура- прокатилось по руднику, и отрад с песнями двинулся.
Когда были близко возле города, на шахтах и заводах раздались тревожные
гудки. Это был сигнал для решительного совместного наступления Красной
гвардии.
Отряд двинулся бегом. Вот они уже на улицах небольшого города.
Жители робко и несмело выглядывали из-за углов. Зная силы казачьего
гарнизона, они удивлялись смелости и отважности этих оборванных и беспо-
рядочных красногвардейцев.
Бежали молча. Впереди, на лошади, командир, с ним рядом помощник-
молодой революционер-подпольник, местный заводский рабочий. Мишка »
Глазоедка бежали рядом.
Уже близка городская площадь, на площади почта и банк. Здесь уже
безусловно есть казаки. Вдруг раздался оглушительный залп, и человек пять
в отряде свалились. Командир что-то приказал своему помощнику, и тот,
с лицом, полным отваги и храбрости, взял с собою 15 красногвардейцев и
скомандовал: «Выбить обстреливавших казаков».
В число их попали и
Мишка с Глазоедкой. Мишка пожалел, что ему не придется принимать-
участия в генеральной схватке с казаками на площади.
Группа в 15 человек со своим новым командиром отделилась, повер-
нула в тот переулок, из которого их обстреляли. Новые ружейные выстрелы
с резким треском. Свалилось еще двое. Теперь стало видно, откуда стреляли.
Стреляли с чердака высокого дома. Командир приказал всем перебежать
на другую сторону переулка. Мишка сначала не понял, зачем это он делает.
Оттуда они были хорошей мишенью для казаков. Но думать долго не при-
шлось. Командир отхватил, не растегивая, вместе с пуговицами, полу своего
пальто, выхватил из-за пояса блестящую бомбу и опытной рукой швырнул
ее, пришпорив лошадь. Через мгновение вместе с оглушительным взрывом
чердак превратился в развернутое гнездо с обвалившейся трубой. За облом-
ками три казака, из которых двое были мертвые, а третий — офицер,
в новой шинели, стонал и взывал о помощи. Командир повернул лошадь
обратно и скомандовал — оцепить дом, предупреждая, что внизу безусловно
есть еще казаки. Все ребята были охвачены бешеным желанием ринуться
и расправиться с остатками подлых казаков, дерзко вырвавших из их рядов
несколько товарищей. Дом был оцеплен. Ребята галдели, шумели и ругались.
Командир приказал смолкнуть. Тишина. Только стоны, плач и про-
клятия смертельно контуженного офицера.
Командир громко приказал сдаться добровольно тем, кто находится
в доме. Никто оттуда не ответил. Тогда он, соскочив с лошади, ринулся
к двери. Дверь была заперта изнутри. Три сильных удара прикладом. Дверь
с петель. Командир рванулся вперед, но Мишка и Глазоедка преградили ему
дорогу:
—
Ты, брат, у нас хороший командир, жизнь твоя нужней нашей, —
и Мишка ринулся вперед, за ним Глазоедка и другие.
В первой комнате два казака бросили винтовки и подняли руки вверх;
третий, у противоположной стены, прицелился из «Нагана». Нажал курок
и... осечка. Мишка ринулся к нему. В один миг казак свалился с разбитым
черепом. Мишка бросился к двум другим. Полный зла и ярости, под острым
впечатлением чувства смерти, тем же прикладом раскроил голову второму
казаку. Убить третьего ему не пришлось; это сделал Глазоедка. Бросились
к другой комнате. Потолок свесился посредине. Неслись слабые стоны при-
давленного казака. Глазоедка пролез под обломки, нашел его, — стоны
прекратились. Офицера на чердаке тоже прикончили.
Мишка подобрал «Наган» в карман. Все стали выходить. На минуту
он окинул взглядом первого убитого казака. Казак, пожилой, здоровый, ши-
рокоплечий детина, лежал боком; физиономия все покрыта кровью; на голове
зияла ямка с провалившимися в нее черными сочнопропиганными кровью
волосами. Он вспомнил, что от его удара прикладом был слышен треск
черепа, и из-под приклада разлетелись брызги крови.
Остальные ребята перешарили весь двор. Командир сидел уже на ло-
шади.
К Мишке подошел Глазоедка:
—
Дай пять.
Мишка протянул руку, и Глазоедка сжал ее до боли.
-—
Молодец, брат, герой, — волнуясь, говорил Глазоедка.
Но ему пришлось прервать свою речь. С площади принеслось дружное
ура. Посыпались ружейные выстрелы, потом механически-точные, отрывистые,
четкие звуки пулемета. Вся группа, только что принявшая «боевое кре-
щение», бегом двинулась к площади. Там они увидели, что отряд конных
казаков отступал в одну из улиц, на ходу отстреливаясь. Пулемет был уже
наш, и своею работою бодрил и без того бодрых красногвардейцев.
Казаки с площади в'ехали в улицу, перестали отстреливаться и с кри-
ками и гиканьем пришпорили «во-всю» лошадей. Скоро скрылись они
в другую улицу, преследуемые погоней.
На площади собрались оставшиеся. Здесь были как местные красно-
гвардейцы, так и пришедшие со станции. Оказалось, что у наступавших
было только одно орудие и 6 снарядов.
Подбирали убитых и раненых красногвардейцев и казаков. Всех ране-
ных отвезли в рудничную больницу.
В эту ночь Мишке пришлось дежурить в штабе, который располо-
жился в двух'этажном здании клуба. Отвага и подвиг выдвинули Мишку,
он был временно назначен в штабе руководить и распоряжаться патрулями.
Ночью Мишка мало был в штабе, а верхом на лошади с двумя красногвар-
дейцами об'езжал патрули. В патрулях был и Глазоедка.
Днем стало известно, что казаки отступили на 25 верст.
Красногвардейские части ждали с севера подкрепления для дальней-
шего наступления. Почти все рудники и заводы Донбасса были в наших
руках.
На третий день после боя были похороны жертв.
Ровно в 12 часов дня раздались протяжные 4 гудка на всех шахтах,
извещавшие о похоронах. Рабочие, вместе с семьями, поплелись к боль-
ничному бараку...
Многочисленная толпа; из барака выносят и поднимают на руки
23 черных гроба, с красной матерчатой отделкой. Заиграл оркестр похорон-
ный марш. Слышен плач женщин. Хороший зимний день, -—
тихо и солнечно.
Процессия многолюдна. Мишка шел в строю. Он думал о том, что только
осечка спасла его. Сказал об этом Глазоедке и добавил:
—
Жалко было бы умереть тогда, не сделамши ничего, потому знаю, —
принесу еще пользу революции.
На крышках гробов дрожали венки с красными и черными лентами.
Впереди много красных и черных знамен. Когда смолкал оркестр, сменял его
тысячный хор, певший: «Вы жертвою пали в борьбе роковой». Мощно под-
хватывались слова: «Враги, палачи...» и неслись дальше и дальше.
Снова жалобно играл оркестр. Толпа молчала. У всех общие мысли.
Каждый кипел злобой и местью к врагам, отнявшим жизнь у борцов за ве-
ликое и правое дело, за желание свободно вздохнуть, высвободиться
от беспросветного гнета и произвола. Хмурые все и мрачные. Трупы несли
на кладбище к большой братской могиле.
У могилы начались речи. Первым говорил товарищ Кабан, — простой
рабочий, старый революционер. Рослый и широкоплечий, с большой головой,
крупными чертами лица и несколько сутулой фигурой. Говорил он, отчека-
нивая каждое слово, и слово «товарищи» произносил с ударением на послед-
нем слоге: «товари-щи». Говорил со снятой шапкой:
—
Товарищи, сегодня мы опускаем в могилу наших первых револю-
ционных борцов, положивших жизнь за нашу идею. Товарищи, вечная память
нашим товарищам, павшим от пули наемных и подлых врагов, защищающих
интересы помещиков и буржуазии. Они положили жизнь для нашего овла-
дения рудниками и городом. Постепенно рудник за рудником, город за горо-
дом, деревню за деревней мы будем освобождать от ненавистной нам власти
помещиков и капиталистов. Мы будем брать их, несмотря на наши жертвы,
несмотря на наши крупные недостатки в военном искусстве,'несмотря на все
трудности, ибо, товарищи, мы сильны этой самоотверженностью, мы сильны
этими подвигами наших товарищей, которые смело шли в бой на врага и пали
в славном бою. Их мы сегодня печально опускаем в могилу. Эта печальная
картина, эта грусть и тоска о павших товарищах не трусость и слабость
вызовут в нас, а еще большую революционную волю, еще больший железный
дух, стойкость и еще большее упорство— -продолжать до конца то дело,
за которое отдали они свои молодые жизни. Опуская их в могилу, мы
клянемся, что положим все наши силы, все наше уменье и всю нашу жизнь
за то, чтобы великие жертвы, утрата дорогих товарищей, не были напрасными,
не достигшими своей цели. Товарищи, многие из вас, здесь стоящих, опу-
скают в могилу братьев, отцов и друзей, а все мы — наших верных и слав-
ных товарищей, и все мы, как один, должны твердо и решительно, здесь,
у свежей могилы заявить: Товарищи, вы не даром шли, не напрасно отдали
свои жизни, вы не напрасные, случайные жертвы революционного порыва,—
мы исполним свою клятву и довершим наше дело, через груды трупов мы
придем к нашей заветной цели —• мировому коммунизму. Вечная память
павшим борцам, железная революционная стойкость й твердость да будет
с нами!
Речь Кабана произвела на Мишку потрясающее впечатление. В ней
сказано было все; все мысли, которые были у него в то время.
Много говорили еще после Кабана, но не так сильно и глубоко.
На другой день Кабан набирал свой отряд из наиболее отважных и
отчаянных ребят. Мишка и Глазоедка немедленно вступили к нему.
С. Обрадован.
ШАХТЕР.
Полдня без солнечных улыбок,
С неутомимостью крота,
Сжат, сдавлен черной лапой глыбы,
Дроблю глухую грудь пласта.
Речь коротка. Отяжелела
В плече железная кирка.
Усталостью туманны мысли.
Туманами задымлен взгляд
И на закатном коромысле
В огне повисшая бадья.
Лишь смятое воспоминанье
Еще со мной, во тьме, во мне:
О русом солнце, о журчаньи
Ручья с лучами, о весне.
Туман в лугах, у черных гор,
Овечьим стадом пал на пахоту,
Где вечер, сумрачный шахтер,
Идет в полуночную шахту....
Окончен день. Сигналы к смене...
Под'ем недолог... Стоп! И вот —•
Как добрый пес, к больным коленям
Ворча, вечерний ветер льнет.
Эй, вечер! Лунною киркой
Рой и дроби руду потемок,
Чтоб, взорванный к утру зарей,
Был Полдень солнечен и емок...
Идем дорогой почернелой.
Истома отдыха сладка.
В. Кириллов.
проводы красноармейцев.
«Варшавянка» гремит над вокзалом,
А закат источает кровь.
На плакате огненно-алом
Ро-Со-Фе-Со-Ре — звездная новь...
Озаряет решимость взоры
Устремленных в битву людей...
Даль грядущего выткет узоры
О титанах бессмертных дней.
Я любуюсь гордою силой,
Красотой непреклонных лиц.
Верю: старый мир постылый
Навсегда опрокинут ниц.
Не погибнет в веках бесследно,
Кто во имя Коммуны пал...
Над вокзалом гремит победно
Огневой Интернационал.
В. Вересаев.
встреча с махновцами.
Леонид по делам ехал на автомобиле в Эски-Керым. Катя попросилась
с ними до Арматлука, — она беспокоилась, как там сейчас с отцом и
матерью.
После обеда выкатили они из города еще с одним товарищем. Длинный,
с изможденным, бритым лицом, он сидел в уголке сидения, кутаясь в пальто,
хоть было жарко.
У Кати в душе было обычное для нее теперь тошнотное омерзение
от всего, что пришлось испытать и видеть в последние две недели. Но мча-
лась машина, теплый ветер дул навстречу и шевелил волосы, в прорывах
гор мелькало лазурное море. И смывалась с души чадная муть, и запол-
нялась она золотым звоном солнца, каким дрожал кругом сверкающий воз-
дух.
В степи шел сенокос, трещали косилки, по дорогам скрипели мажары
с сеном. От канонады на фронте по всему Крыму лили в апреле дожди, урожай
пришел небывалый.
Спутники Кати вполголоса разговаривали между собою, обрьшая
фразы, чтобы она не поняла, о чем они говорят. Фамилия товарища была
Израэльсон, а псевдоним — Горелов. Его горбоносый профиль в пенснэ ка-
чался с колыханием машины. Иногда он улыбался милою, застенчивою
улыбкою, короткая верхняя губа открывала длинные четырехугольные зубы,
цвета старой слоновой кости. Катя чувствовала, что он обречен смерти,
и ясно видела весь его череп под кожей, такой же гладкий, желтовато-бле-
стящий, как зубы.
По обрывкам фраз Катя понимала, о чем у них речь, и ей было смешно.
Когда разговор кончился, она, как всегда, срыву сказала:
—
На днях у нас на пленуме в Наробразе выступил представитель
совета профсоюзов. Вот была речь! Как-будто свежим ветром пахнуло
в накуренную комнату!
Леонид пренебрежительно спросил:
—
Что ж он у вас такое говорил?
—
Говорил о диктатуре пролетариата, что они выгоняют жителей
из квартир, снимают с них ботинки, и что в этом вся их диктатура. А что
прежде всего нужно стать диктатором над самим собою, что рабочие должны
заставить всех преклониться перед своей нравственной высотой, перед своим
уважением к творческому труду.
Леонид переглянулся с Гореловым и засмеялся.
—
Вот интеллигентщина!
Лицо его стало неприятным и колючим.
—-
И говорил еще, что рабочий класс в самый ответственный момент
своей истории лишен права свободно думать, читать, искать.
Леонид прервал ее:
—
Интересно, — какого он цеха?
—• Иглы.
—
Ну, так! Значит, портной. Не мастерок ли? Они сейчас велико-
лепно зарабатывают на общей разрухе, спекулируют мануфактурой, под
видом родственничков набирают подмастерьев и эксплоатируют их совсем,
как раньше.
—
Само собою! Раз не ваш, значит, — спекулянт и буржуй!
—
Скажите, пожалуйста, чем всего больше озабочен! Что бур-
жуазию выселяют из ее роскошных особняков и отводят их под
народные дома, под пролетарские школы и приюты! Какая трога-
тельная заботливость!.. Вообще, необходимо обревизовать все эти вы-
боры. Дело очень темное.
—
Темное,
несомненно, — отозвался Горелов и мягко обратился
к Кате. —
В провинции сейчас это то-и -дело наблюдается: более достаточные
рабочие мелко-буржуазного склада пользуются темнотой истинно-пролетар-
ской массы и ловят ее на свои удочки.
—
Ничего! Скоро просветим!- — сказал Леонид. —
Кто сам босой, тот
не будет плакать над ботинками, снятыми с богача.
—
А наденет их и будет измываться над разутым.
Леонид задирающе усмехался.
—
Конечно!
—
А у тебя у самого очень хорошие сапоги.
Леонид оглядел свою ногу, подтянул лакированное голенище и, дразня,
спросил:
—
Правда, недурные сапожки?
Под колесами выстрелило, машина остановилась. Шоффер слез и стал
переменять камеру.
Качаясь в седлах, мимо проскакали два всадника с винтовками за пле-
чами. Через несколько минут, догоняя их, еще один промчался карьером,
пригнувшись к луке и с пьяною беспощадностью сеча лошадь нагайкою.
Леонид глядел им вслед.
—
Махновцы. Рассыпались по окрестностям и грабят, сволочь этакая.
Когда мы от этих бандитов избавимся!
Поехали дальше. Через пару верст лопнула другая шина. Шоффер
осмотрел и сердито сказал:
—
Нельзя ехать, камер больше нету. Чиненые-перечиненые дают,
так лохмотьями и расползаются.
Дошли пешком до ближайшей деревни. Леонид пред'явил в ревкоме свои
бумаги и потребовал лошадей. Дежурный член ревкома, солдат с рыжими
усами, долго разбирал бумаги, скреб в затылке, потом заявил, что лошадей
нету: крестьяне заняты уборкой сена. Леонид грозно сказал, чтобы сейчас же
была подана линейка. Солдат вздохнул и обратился к милиционеру, расхля-
банно сидевшему с винтовкою на стуле.
—
Гриша, сейчас Софронов проехал из степи с сеном. Скажи, чтоб дал
лошадей. Станет упираться, арестуй.
Милиционер ушел, за ним ушел и солдат. В комнате было тихо, мухи
бились о пыльные стекла запертых окон. На великолепном письменном столе
с залитым чернилами бордовым сукном стояла чернильная стклянка с затыч-
кою из газетной бумаги. По стенам висели портреты и воззвания.
Горелов, уткнув бритый подбородок в поднятый воротник пальто, дре-
мал в углу под портретом Урицкого. Желтели в полуоткрытом рту длин-
ные зубы.
Катя вышла на крыльцо. По горячей пыли дороги бродили куры,
с сверкавшей солнцем степи неслось сосредоточенное жужжание косилок.
Леонид тоже вышел, закурил о зажигалку и умиленно сказал:
—
Вот человек — Горелов этот! В чем душа держится, зимою перенес
жесточайшую цынгу; язва желудка у него, катарр. Нужно было молоко пить,
а он питался похлебкою из мерзлой картошки. Отправили его в Крым
на поправку, он и тут сейчас же запрягся в работу. Если бы ты знала, —
какой работник чудесный, какой организатор!..
Через полчаса под'ехала линейка. На козлах сидел мужик с войлочно
лохматой бородой, с озлобленным лицом.
Поехали дальше. Запыленное красное солнце спускалось к степи. Опять
скрипели мажары с сеном, у края шоссе, по откосам, остро жвыкали косы
запотелых мужиков, в степи стрекотали косилки. Группами или в одиночку
скакали к городу махновцы, упитанные и пьяные.
Леонид спросил возницу:
—
Здорово вашего брата обижают махновцы?
Мужик краем глаза поглядел на него и неохотно ответил:
—
Мужика всякий обижает...
И отвернулся к лошадям. Помолчал, потом опять поглядел на Леонида.
•— Войдет в хату, — сейчас, значит, бац из винтовки в потолок !
Жарь ему баба куренка, готовь "яичницу. Вина ему поставь, ячменю отсыпь
для коня. Все берет, что только увидит. Особенно до вина ярые.
Проехала подвода, тяжело нагруженная боченками вина, узлами.
Вокруг нее гарцовали два махновца. Третий, пьяный, спал на узлах, с свесив-
шеюся через грядку ногою, а лошадь его была привязана к задку. Возница-
татарин с угрюмым лицом, бережно, для виду, подхлестывал перегруженных
кляч.
Леонид засмеялся.
—
Какие вы близорукие, обыватели российские ! — обратился он
к Кате. —-
Не умеете вы нас ценить. Кабы не мы, по всей матушке-Руси
шныряли бы вот этакие шайки махновцев, петлюровцев, григорьевцев, как
в смутное время или в тридцатилетнюю войну. И конца бы их царству
не было.
—
Вот и при вас шныряют, а вы смирненько смотрите.
—
Погляди, шныряют ли у нас в России. Дай нашим сюда подтянуться,
увидишь, долго ли будут шнырять.
Катя кивнула на мужика.
—
Он не только про махновцев говорил. Cкaзàл — всякий мужика
обижает.
Леонид потянулся и зевнул.
Они ехали по мягкой дороге рядом с шоссе. Шоссе внизу делало крутой
изгиб вокруг оврага. За кучею щебня, как раз на изгибе шоссе, вздымался
странный темный шар. Мужик завистливо поглядел и пощелкал языком.
—
Ка-кого коня загнали!
Лежала великолепная кавалерийская лошадь с вздутым животом, с да-
леко закинутою головою; меж оскаленных зубов длинно высунулся прику-
шенный фиолетовый язык, остеклевшие глаза вылезли из орбит.
—
Загнал с пьяных глаз, меравец! — с отвращением сказал Леонид.
Проехали. Катя еще раз оглянулась на лошадь. По ту сторону оврага,
над откосом шоссе, солдат с винтовкою махал им рукою и что-то кричал,
чего за стуком колес не было слышно. Вдруг он присел на колено и стал
целиться в линейку. Катя закричала:
—
Смотрите, что он делает!
—
Тпру!
'
Мужик натянул возжи. Линейка стала.
Солдат ленивою походкою, не спеша, шел к ним, с винтовкой в левой
руке, с нагайкою в правой. Был он лохматый, здоровенный, с картузом
на затылке, с красным лицом. Подошел и с пьяной серьезностью коротко
сказал:
—• Ваши документы!
На груди его был большой черно-красный бант.
Леонид с уверенностью человека, имеющего хорошие документы, не-
брежно протянул ему бумажку. Махновец стал разбирать.
—
По-ли-ти-чес-кий комис-сар...— Он уставился на Леонида — Совет-
чик? Не годится документ.
Леонид насмешливо спросил:
—
Почему?
-—
Мы -на вашу Советскую власть плюем. Нам эти документы ни к чему.
—
А для чего вам, товарищ, документы? По какому праву вы их
требуете?
—
Плюем на вашу власть. Мы только батьку Махно одного знаем.
Он нам приказал: «бей жидов, спасай Россию»! Приехали к вам сюда поря-
док сделать. Обучить всех правильным понятиям... —
Он озорным взглядом
оглядел Леонида и, как заученно-привычный лозунг, сказал: — бей белых,
пока не покраснеют, бей красных, пока не почернеют... Ты кто?
Леонид резко ответил:
—
Я тебе показал документ, знаешь, кто я, — чего еще спрашиваешь!
—
Молчи...! — Он замахнулся на Леонида нагайкой. —
Кто ты?
Леонид пожал плечами.
—
Кто! Ну, коммунист.
—
Нет, кто ты?
Катя рассмеялась.
—
Да неужто ж сами не видите? Русский, русский! Не еврей!
Широкая рожа солдата расплылась в улыбку.
—
Хе-хе.. Верно!.. А ты, — он уставил на нее палец, —ты жидовка!
—
Вот так так! Я двоюродная сестра его!
—
Сестра!.. Знаем, что за- сестры! Повидали их на войне. —
И изви-
вающимися гадюками поползли в воздухе циничные, грязно-оскорбительные
догадки.
Потом он сказал:
—• Слезайте все долой!.. Слышь, земляк! Конь у меня занедужил, вон
лежит. Повезешь в город.
Мужик сердито ответил:
—
Дохлый твой конь, ай не видишь? Куда его везть!
—
Отойдет. Поворачивай!
—
Да что вы, товарищ!.. Разве линейка подымет лошадь? Вон мажара,
чего ж вам лучше!
Навстречу ехала пустая мажара, ів ней сидели два грека. Они согнулись
и глядели в сторону. Махновец властно сказал-:
—
Стой!
Греки притворились, что не слышат, и продолжали ехать. Махновец
деловито упер приклад в бедро и выстрелил в небо. Греки- моментально
остановились. Он не спеша отдернул затвор и опустил винтовку.
—-
Слезай!
Греки слезли.
—
Кто такие?
—
Крестьяне, товарищ. За сеном едем.
—
Вина не везете?
—
Поглядите сами, пустая арба... Можно ехать?
Махновец отрицательно мотнул головой и повернулся к вознице
линейки.
—
Ты мне ручаешься за них?
Мужик усмехнулся в войлочную свою бороду.
—• За кого такое?
—
Вот за ЭТИІХ. — Он указал на пассажиров.
—
Я-то что тут? По наряду взяли меня. Кто такие, — почем я знаю.
—
Ты мне за них отвечаешь. Ежели что, — на мушку тебя.
Странно было Кате. Пять мужчіин окружало его, а он, один против
всех, командовал над ними и измывался, и винтовка беззаботно висела за
плечами.
Махновец опять повернулся к грекам.
—-
Вон конь мой лежит. Под'езжайте, подберем его... В город свезете.
Старший из греков поспешно ответил:
—
У нас лошади слабые, не вытянут.
Катя быстро наклонилась к Леониду и топотом спросила:
—
Неужели у тебя нет револьвера?
—
Ч-чорт! Такая глупость! Забыл.
Глаза Кати потаенно блеснули, и в ответ им сверкнуло в душе Леонида.
Он слегка побледнел и слез с линейки, разминая нош.
Махновец в колебании оглядывал линейку. Ему хотелось еще поозор-
ничать, но он не знай, как.
Горелов, сгорбившись и уткнувшись подбородком в воротник; все
время неподвижно сидел на той стороне линейки, спиною к махновцу. Вдруг
взгляд махновца остановился на его горбоносом, изжелта бледном профиле.
—
Ты... —
зловеще протянул махновец. —
Поди-ка сюда, жидовская
харя! — И спокойной рукою он взялся за револьвер у пояса.
Катя быстро переглянулась с Леонидом. И дальше все замелькало,
сливаясь, как спицы в закрутившемся колесе. Леонид охватил сзади махновца,
властно крикнул: «товарищи, вяжите его!» и бросил на землю. Катя соско-
чила с линейки, а мужик, втянув голову в плечи, из всей силы хлестнул кнутом
по лошадям. Горелов на ходу спрыгнул, неловко взмахнул руками и кувырк-
нулся в канаву. Греки вскочили в мажару и погнали по дороге в другую
сторону.
Махновец бился под Леонидом, но Катя сразу почувствовала, что он го-
раздо сильнее,—ее поразили его крепкие, круглые плечи. Рука с револьвером
моталась в воздухе над ЛеонидаTM и старалась повернуть револьвер на него.
Не умом соображая, а какою-то властною, взмывшею из души находчивостью,
Катя схватила руку с револьвером, — на длинных ногах неуклюже подбегал
Горелов, — и всею грудью навалилась на руку. Рука бешено дернулась, про-
ехала выступающими частями револьвера по Катиной щеке и опять взвилась
в воздух. Махновец изогнулся, сбросил с себя Леонида, в упор выстрелил
в набегавшего Горелова и подмял под себя Леонида. Рука с револьвером
упиралась в землю. Катя схватила валявшуюся на земле винтовку с оборван-
ною перевязью, изо всей силы ударила прикладом по руке. Револьвер выва-
лился. Она подняла, беспомощно оглядела его. Попробовала поднять курок, —
не поддается.
—
Товарищ Горелов! Револьвер, стреляйте! Я не знаю,
как
выстрелить!
Горелов, в окровавленном пальто, лежал на дороге, закинув голову, и
хрипел. Мелькнула в глаза далекая линейка на шоссе, — она мчалась в гору,
мужик испуганно оглядывался и сек кнутом лошадей. Махновец душил
Леонида.
Катя завизжала, с бурным разбегом налетела, охватила руками голову
махновца и вместе -с ним- упала иа-земь. Локоть его больно ударил ее с размаху
в нижнюю часть живота, но ее руки судорожной, мертвой хваткой продолжали
сжимать потную, лохматую, крутящуюся голову. Выстрел раздался, где-то
за спиной, голова в руках глухо застонала, еще выстрел.
—
Бросай!—• задыхаясь, крикнул Леонид.
Катя вскочила. Махновец, с раздробленным коленом, с простре-
ленным животом, пытался подняться, ерзал по земле руками и ру-
гался матерными словами. Леонид выстрелил ему прямо в широкое
скуластое лицо. Он дернулся, как будто ожегся выстрелом и, сник-
нув, повалился боком на землю.
—
А Горелов где?
Горелов неподвижно лежал с открытыми, без блеска, глазами, с тем
неожиданным, чуждым выражением, которое накладывается на лицо смертью.
И ярко желтели оскаленные, длинные зубы.
Вдруг Катя испуганно крикнула:
—
Смотри!
Солнце уже село, и вдали, из-за горба шоссе, на красном фоне зари
вырастали, подпрыгивая, два черных силуэта всадников с винтовками.
-—-
Махновцы! Удирать! — хрипло сказал Леонид. —
Погоди! Придется
отстреливаться.
Он снял с убитого подсумок с патронами, взял винтовку, револьвер.
—
Айда!.. Только бы до гор добраться... Пока еще под'едут, разберут,
в чем дело. Не беги, пока на виду.
Не спеша, они сошли к мосту, спустились в овраг и побежали по бело-
каменистому руслу вверх. Овраг мелел и круто сворачивал в сторону. Они
выбрались из него и по отлогому скату быстро пошли вверх, к горам, среди
кустов цветущего шиповника и корявых диких слив. Из-за куста они огляну-
лись и замерли: на шоссе, возле трупов, была уже целая куча всадников,
они размахивали руками, указывали в их сторону. Вдоль оврага скакало
несколько человек.
—
Бежим! — коротко бросил Леонид.
Пригнувшись они побежали меж кустов к горам. Тонко-, по-осиному,
жужжа, над головами пронеслась пуля, и долетел звук выстрела. Путь пере-
секал овраг, они перебрались через него. Вскоре другой.
Катя крикнула смеясь:
—
Смотри, как хорошо! Ведь это им загораживает дорогу. Либо при-
дется слезать с лошадей, либо ехать в обход!
Скакало к откосу уж человек пятнадцать, и на скаку стреляли. Слыша-
лись выстрелы, но свиста пуль не было. Поднималась гора, с поперечными,
параллельными друг другу овечьими тропками.
—
Ну, только бы по ней взобраться, — тут цель для них хорошая,
а там лучше будет... Не трусь, Катька!
—
Дурак ты, Леонидка! — отозвалась Катя, — так чуждо совался его
призыв в тот радостно-огненный вихрь, в котором крутилась ее душа.
Они карабкались в гору, цепляясь за колючие плети цветущих
каперсов.
И теперь вдруг кругом защелкало по камням, запылилось по сухой земле.
Катя с жадным любопытством оглянулась. Всадники, спешившись, спускались
в поперечный овраг, другие стреляли с колена.
Гребень горы с алыми маками. Большие камни. По эту сторону оврага
два махновца садились на коней. Леонид бросился за камень и прицелился.
Катя, с отколовшейся, растрепанной косой, с исцарапанной револьвером
щекою, стояла, забывшись, во весь рост и упоенно смотрела. Струистый
огонь, уверенный, резкий треск. Один из махновцев схватился за ногу и
опустился на-земь.
Леонид сердито крикнул:
—
Дура, ложись же! Чего стоишь!
Еще раз он выстрелил, еще, и они побежали. За гребнем горы тянулось
широкое ущелье, густо заросшее лесом...
Темнело. Катя с Леонидом сидели под нависшим камнем, за струисто-
ветвистыми кустами непроглядной дерезы. По лесу трещали шальные вы-
стрелы махновцев, иногда совсем близко слышался их говор и ругательства.
Леонид спросил шопотом:
—
Что это у тебя?
Рукав Катиной кофточки был густо смочен кровью, капли крови чернели
на ее серой юбке. В сумерках глаза Леонида засветились теплой лаской.
—-
Ну, с боевым крещением! Ранена... Снимай кофточку.
•— Ерунда какая! Что это? Я ничего и не чувствовала.
—
Снимай.
Стаскивая рукав, Катя почувствовала в руке боль. Стыдясь своих
нагих рук и плеч, она взглянула на руку. Выше локтевого сгиба, в измазан-
ной кровью коже, чернела маленькая дырка, такая же была на противопо-
ложной стороне руки. Катя засмеялась, а сама побледнела, глаза стали бледно-
серыми, и она, склонившись головою, в бесчувствии упала на траву.
Л. Сейфуллина.
КУЛАЦКАЯ РАСПРАВА.
Всю свою жаркую страсть и тоску по Павлу Вирка в заботы и
хлопоты по его делу вложила. Акгыровка стояла в стороне. Казаки рас-
праву чинить в ней еще не появлялись. Но властно наложили руку на всех
Павловых пособников кержаки с горы — Кожемякин и еще пятеро богатеев.
Ездили с возами в казачий лагерь, оттуда привозили приказы. Десять мужи-
ков из акгырской бедноты и восьмерых из бараков отвезли в город, в тюрьму.
С десяток в волости пороли нещадно. Вир-ку тоже в волость таскали на до-
прос. Она отвечала сдержанно и покорно, чтоб Павла не подвести. Только
глаза прятала-:
—
Ничего не знаю. Не венчанная, ведь, жена, так... полюбовница.
Взял и уехал. Теперь, может, с другой тешится. Где, -нету слуху. Я вот
тяжелая, да еще двоих на меня кинул. Кабы знала где, сама бы хоть за себя
наказала бы его. Не смолчала бы, выдала. Все одно, он со мной жить не будет.
Вновь поставленный председатель волостной управы кулаком по столу
стукнул:
—
Врешь, б...., потаскуха! Как провожала его, видали люди.
—
Прово-жала, просила- не бросать одну с детьми-, без всякого запаса.
А куда уехал, не сказал.
Три- дня в холодной при волости отсидела. Потом опять пытали му-
жики. Уж не про Павла, а про пособников его и про то, кто к большевикам
сейчас льнет. Вирка упорно отзывалась незнанием, только -все на обиду
от Павла жаловалась, что с детьми без помощи всякой бросил ее. Помаяли и
отпустили. Тяжелевший с каждой неделей Виркин живот не мешал ей в по-
тайных углах со своими видеться, быстро ходить и еще работой себе пропи-
танье добывать. А тут еще Павел два наказа в тайности -выполнить велел.
Один: за десять верст в деревню письмо верному человеку отнести.
Другой: мужика одного целую неделю прятать. Когда первый наказ
передали ей, вздохнула она. Потом сказала
худощавому старику
в беженской одежде:
—
Сама пойду. Кого пошлешь? Сноровку надо, а главное, чтоб без
страху.
И ходила сама за десять верст будто бы в больницу. В том селе как раз
больница была. Обратно чуть нош- тащила по -неровной снежной дороге. Но
дотащила, и концы чисто схоронила.
Другое было трудней. Но все-таки уберегла в подполье. Даже сосед-
ские бабы ничего не унюхали. И чем больше старалась, тем дороже станови-
лась ей ее вторая тайная жизнь. Теперь с подлинной верой говорила своим
при- встречах:
—
Хочь мы и пропадем, а тем помогать надо. Совсем задавили мало-
мощных.
Видеться было трудно. В деревне каждый вздох слышен, и каждая новая
щепка на дворе заметна. Но вот пришел слух, что Павлов отряд к Акгыровке
подвигается. Павел на словах с парнишкой безусым, но строгоглазым
передал:
—
Хорошо, кабы вы с затылку их нажгли. Какое-нибудь восстанье бы
наладили.
Вирка с этой вестью пошла в бараки. Постройку давно забросили, но
беженцы и бездомные, работавшие раньше на дороге, в бараках жить оста-
лись. Шибко шла, но чутко ушами и глазами за дорогой следила. Никого не
встретив, дошла. В большом бараке жило трое одиноких мужиков и четверо
семейных. И все были одного большевистского толку. Оттого Вирка без
опаски вошла. Но разговор не сразу начала:
—
Здравствуйте-ка! Тетка Дарья дома, что ль?
Дарья от печки отозвалась:
—
Здесь, дома. Ты чего, Вирка?
—
Да вот к тебе, пощупай-ко ты меня... В поівмвалках ходишь, знаешь.
Что-то больно одышка замаяла. Скоро ль разрожусь?
Дарья усмехнулась:
—
И щупать нечего. Так видать, не боле недели носить. Да ты говори
дело-то. Тут никого чужих нет. Сейчас мужиков со двора позову.
Когда собрались, Вирка дрогнувшим голосом сказала:
—
Ну, мужики, зачинать драку надо.
И, откашлявшись, уж спокойно и ровным голосом рассказала, что Па-
вел передал.
Мужики не сразу отозвались. Долго, раздумчиво молчали. Первый, бе-
лесый и хлипкий, Васька Дергунцов заговорил:
—
Нет, товарищи, нам это дело не сделать. Напуган сейчас народ, не
подобьешь. Мается, а молчит.
И другой, с седоватыми, коротко и неровно стриженными волосами,
подтвердил:
—
И думать нечего! Как блох переловят.
—
Подождать надо. Может, как совсем близко наши к деревне уж по-
дойдут, тогда. А сейчас никак нельзя.
Вирка поднялась. Глядя хмуро, исподлобья, спросила:
—
Это и весь сказ?
—
А дак чего же?
—
Больше ничего нельзя?
—
Дело не выйдет.
—
У наших там войско. Пусть уж стараются как-нибудь к нам про-
браться, тогда подмогнем. А сейчас ничего не сделаешь.
—
Ах, вы, собаки! Мне ли, бабе, да еще какой, дурной бабе, учить вас?
Али там корить? А вот приходится. Словами только блудили, а как до дела
час дошел, дак слюни пускаете? Нельзя так, мужики! Нельзя, братцы вы мои,
товарищи! Какая жизнь-то у вас. долго еще протянете? Кто говорил: стоять
до последнего. До чего жидка в страхе душа у человека. Сволочи вы! Не хо-
Крестьянші и рабочий. Ч. II .
25
тите, не надо. Еще людей наберу. Мне не поверят, жизни своей поверят, что
нельзя боле ждать.
Глаза у ней ж-гли « молили, а голосом твердым говорила:
—
Придет час, вернутся наши. Тогда опять к ним лицом, а не задницей
повернетесь? Ну, дак ладно, я одна, баба, вот в тягости, одна- пойду дело за-
водить. Охота дале в голоде, да в побоях жить — живите. Вот этот кобе-
лишка-то хилой тявкал: сердце чешется против кержацкого на-сильничанья.
А теперь еще казаков ждать будут! Все о-дно не помилуют, хуть вы -им ноги
все .излиж-ите! Давно косо глядят, чуют, какая дума-то- у вас. Наши подходить
станут, -все одно с -вами расправятся. Ну, ладно, нечего -мне с вами, видно, и
разговаривать.
Пошла было к двери. Но мужики опять загалдели. Ругали Ви-рку, спо-
рили, а все же порешили сделать, как Павел указывал.
Вирка со светлым лицом уходила. Будто на большую радо-сть спешила
итти, а н-е на трудное дело. Седоватый стриженный сказал ей со смехом:
—
Ты, баба, выходит, у на-с и за командира, и за попа полкового. Ишь
ты, начесала сколь. Целу проповедь высказала.
А командир чуть домой дошел. По доро-ге схватки начались. Но все же
сама за бабкой Козлиіхой:
—
Айда, скорей. Рожать, -видно, я наладилась.
В избе у себя Вирка- дол-го не хотела лечь. Ходила по избе, крепко
стискивала зубы.
Козли-ха прикрикнула на нее:
—
Чего ты -молчком? Кричи, кричи, легч-е будет. Первый раз эдакую
каменную бабу вижу. Без крику рожать собирается.
Вирка улыбнулась коротко и тускло. И опять, сморщившись, сказала
порывисто :
—
Пускай с радостью-ю на све-ет выходи-ит. Шибко долго я его
ждала-а. . . Не хочу кричать, хочу в легкости родить его.
И крикнула только раз. Коротко, сильно. Будто не от боли, а от вос-
торга. И тогда несказанная легкость усладила тело, услышала на диво звон-
кий крик рожденного.
—
Ишь ты, какого орластого выродила. Да большой. Отцу поглянется.
Ты чего? Не сомлела.
—
Не-ет. Покажи... Сыно-ок!
—
Откуда узнала? Ишь ты, дошлая. Ну-к, пущай полежит, потружусь
околи тебя.
Недолго Вирка на сына радовалась. Через пять дней, ко-гда ждала
от ово-их извещенья, как у них там -наладилось, ночью -в дверь тревожно и
тихо кто-то застучал. Вирка к двери, спросила шопотом:
—
Кто?
Бабий напуганный -голос сказал:
—
Открой скорейча, впусти.
Но в -избу Дарья не дошла, -из -сеней тихо спросила:
—
Козлиха-то у тебя?
—
Тут, сегодня пришла, заночевала. А что?
—
Где она?
-—
На печке спит.
—
Буди скорей, пущай возьмет ребенка, а сама айда, беги не медля.
Через огород туды, к речке, а там тебя Парфен ждет.
—
Да ты что? Ребенка-то я как...
—
Ребенка, а коль саму прикончут? Павлу надо успеть слушок подать,
а то втяпается. Да собирайся ты, буди Козлиху. Чего стоишь?
—
Дак чего ты сразу...
—
Казаки приехали, у Кожемятова сейчас. Ко же м ят о-в батрачишка-то
с им ездил. Слыхал, что пронюхал. Анисим дознался про наше дело. С доно-
сом в станицу ездил. Ну, только называл, что тебя да мово мужика. Мой-то
схоронился, айда, беги. Ой, кабы меня тут не застали. Дак огородом-то...
Огородом к реке.
И нырнула в темноту. Бирка взяла ребенка из зыбки:
—
Баушка, баушка!.. Нако-сь.
—
Ну, чего ты взгомозилась? На печку его, ко мне? Ну, давай.
Сильно вздрогнула, будто от тела оторвала теплый живой сверток и
подала старухе. С лицом настороженным, без слез, без вздохов, быстро на-
кинула платок и полушубок и выбежала из избы.
—
Бирка-а! Бирка, ты куда? Что это, ооподи, попритчилось что ли,
с ней что?..
Поняла только, когда в дверь, оставленную после Бирки без запора,
ввалились казаки и мужики. Поняла, поглядела спокойно и стала унимать
заплакавшего мальчишку :
—• Ну-у, ну-у, распелся на ночь глядя. Ш-ш -ш!
—
Ты, старая хрычовка, где баба?
—
Убегла куда-то. Я не спрашивала, мне на што? Думала, скоро вер-
нется. Мне чего? За ей не побегу, не молодая.
Рыжеусый казак шашкой погрозил:
—
Сказывай, а то- не удержишь башку на плечах.
—
Она и то плохо держится. А чего я скажу? Убегла, слова не сказала.
Хуть кишки выпусти, — чего я скажу боле? Не налезай на дите-то, злыдень.
Задавишь неповинную душеньку.
Анисим Кожемятов сказал чернявому офицеру:
—
Ничего теперь, 'ваше благородие, не добьешься. Она правды ста-
рухе-то не скажет. Следить за избой надо.
А седой, худощавый и строгий, похожий на святителя с иконы старого
письма, Антип-кержак сказал:
—
Пущай ребенок с бабой тут остаются. Сама придет. Молоко ее
к дитю приведет.
На том и порешили. Караульщики во дворе в хлевушках запрятались.
Днем искали, не нашли. Три ночи караулили. На* четвертую, уж за полночь,
в самый глухой и темный час, насторожился под навесом рыжеусый кержак
и шею вытянул. С огорода темная женская фигура 'Двигалась. Дыханье, как
охотник, видя зверя, затаил. И Вирка шла легкой сторожкой поступью зверя.
Как волчица к волченку своему пробиралась. Будто след нюхала, выгнув шен>
и влекомая своим запахом, — запахом крови, из ее жил взятых, — шла кор-
мить или выручать детеныша своего.
У самой двери в сенцы была, когда крикнул резко рыжеусый другим,
укрывшимся темнотой :
—
Имай! Держи ее! А-а, поймал! Беги, Сычев, зови его благородье.
Вирка закричала пронзительным, долгим криком и забилась в дюжих ру-
ках приземистого казака.
—
Стой... Стой! увертливая какая! А, ты кусаться, стерьва! Стой!...
Вирка рванулась, высвободила руку и с большой силой ударила казака
в переносицу. Выгнулась всем телом, ударила ногой его в пах. Казак взвыл
от боли и выпустил ее. Но подоспел рыжеусый, скрутил ей руки за спиной
Она билась, качала казака во все стороны. Он неловко повернулся, заступил
ногой за ступеньку крыльца и упал. Падая, увлек за собой Вирку. Она закри-
чала еще раз резко, пронзительно- и смолкла. Затылком ударилась об острую-
железную -скобу для отскребанья грязи, -вбитую на доске около крыльца. И
тогда же из избы донесся живой и требовательный плач ребенка. Виркины
глаза встрепенулись в последнем трепетанья и погасли...
J1. Сейфуллина.
0
САМОСУД.
На углу высокого крыльца большой аптеки высокий, в шапке с одним
ухом, остановил купцов. Разом насела на них толпа. Деревенские всех от-
швырнули и били истово, сильно, деловито. Будто цепами хлеб молотили. Сол-
датки пронзительно визжали, совались бестолково к лежащим на земле куп-
цам и в толпу. Гукались длинными похабными фразами и причитали о своей
скверной жизни.
Прискакал конный отряд милиции. Начальник милиции был впереди..
Расталкивая конем толпу, он кричал:
—
Эй вы, прекратите! Эй вы слу...
Докончить он не успел. Прасковья Семенчихина вцепилась ему в пра-
вую ногу и потащила с лошади. Дюжая плечистая солдатка обняла его с дру-
гой стороны руками у пояса. Он только успел подумать:
—
Зачем она руки мне в карманы?
И полетел с лошади вниз головой.
—
Вот тебе, командер! Постой на голове.
Ткнули бабы его головой в снег, а у пояса держат. Задрягал ногами
в воздухе начальник. Толпа орет, гогочет.
—
Вот так бабы! Выучили на голове стоять.
Прасковья приговаривала:
—
Гладкий жеребец! ЛяіЬки-те, как у борова.
—
А ты его еще пощупай. Хорошень!
—
Га-га-га .. . Го-го-го...
—
Бей Зеленкова! Он на нас поездил!
—
Подымай купцов! Еще водить!
Начальник милиции еле вырвался из бабьих рук. В разорванных штанах,
избитый. Рад был, что каким-то чудом револьвер со шнура не оторвали. Но
стрелять не решился. Побежал в Исполком. Там члену военно-полевого штаба
обо всем доложил. Оправдывался:
—
Какое стрелять? Разорвали бы на куски, только выстрели. Весь
в синяках. Исщипали, подлюги!
Член военно-полевого штаба, высокий большеносый человек в очках
смеялся:
—
Ну, как вас бабы учили? А?
В Исполком прибежал трясущийся, с отвислой нижней губой, бывший
председатель уездной земской управы, купец Титов. Пропустили к больше-
носому.
—
Что надо?
—
Спасите... спрячьте... Самосуд... Меня ищут тоже.
Высокий презрительно и спокойно сказал:
—
Спрятать могу только в тюрьму. Сейчас напишу ордер. Идите, там
примут.
—
Благодарю вас... век не забуду... Спасибо... Ордерочек-то скорее:
Высокий засмеялся, написал ордер, отдал Титову и, поправив на голове
кожаную фуражку, пошел на главную улицу, где ревела толпа. Когда проби-
рался сквозь нее, видел: га крыльцо аптеки вскочил высокий, тонкий юноша
с бледным до синевы лицом и горящими глазами. Юношеский голос вырвался,
резким, звенящим, отчаянным выкриком:
—
Товарищи!.. Товарищи!..
Желтолицый в папахе оглянулся и заревел:
—
Племянник будет Зеленкову.
—
А-а -а . Во-о-о ... Ага-а . ..
В. Кириллов.
греми, безумствуй...
Греми, безумствуй, гроза святая,
Смятенье, ужас вокруг разлей, —
Мы долго ждали, изнемогая,
Молниеносных твоих конец.
Нас истомили судьбы оковы,
Удушье ночи, покой гробниц,
Нам сладок бури язык суровый,
И вихрь мятежный, и блеск зарниц.
Гремите громы, все потрясая, —
Мир возродится от красных бурь.
Мы верим, знаем: заря святая
Огнями счастья зажжет лазурь.
А. Малышкин.
на последнего врага.
Керосиновые лампы; пылали в полночь. Наверху, на штабном теле-
графе несмолкаемо стучали аппараты: бесконечно ползли ленты, крича корот-
кие тревожные слова. На много верст кругом- — в
ноябрьской ночи — армия,
занесенная для удара ста тысячами тел, армия сторожила, шла в ветры по
мерзлым; большакам, валялась по избам, жгла костры в перелесках, скакала
в степные курганы. За курганами гудело море. За курганами, горбясь черной
скалой, лег перешеек в море — в синие блаженные островные туманы. И ар-
мия лежала за курганами, перед черной горбатой скалой, сторожа ее зоркими
ползучими постами.
Лампы, пылающие в полночь, безумеющая бессонница штабов. Респуб-
лика, кричащая в аппараты, гул стотысячных орд в степи; это развернутый,
но не обрушенный еще удар по скале, по последним: армиям противника, сбро-
шенного с материка на полуостров.
В штабе армии, где сходились нити стотысячного, за керосиновыми лам-
пами работали ночами, готовя удар. Стотысячное двигалось там отраженной
тенью по веерообразным маршрутам — на стенах, закругляя щупальца в хищ-
ный смертельный сдав. Молодые люди в галифе ползали животами по стенам—
по картам, похожим «а гигантские цветники, отмечая тайные движения, что
за курганами, скалами, перешейками1: они знали все. В абстрактной выпук-
лости линий, цветов и значков было:
громадный ромб полуоостро'ва в горизонталях синего южного моря. Ромб
связан с материком узким двадцатапятиверстным в длину перешейком;
в ста верстах западнее перешейка еще одна тонкая нить суши от ромба
к материку, прерванная проливом по середине;
на материке перед перешейком цветная толпа красных флажков: N ар-
мия, и красные флажки против тонкой прерванной нити — соседняя Заволж-
ская армия; и против той и другой — с полуострова — цветники голубых
флажков: белые армии Дайра.
Путь красным армиям преграждался: на перешейке Даирской скалой,
пересекавшей всю его восьмиверстную ширину, от залива до залива, с сетью-
проволочных заграждений, пулеметных гнезд и бетонных позиций тяжелых ба-
тарей, воздвигнутых французскими инженерами — это делало недоступной
обрывающуюся на север, к красным, террасу; перед Заволжской армией —
проливом; пролив был усилен орудиями противоположного берега и баррика-
дирован кошмарной громадой взорванного железнодорожного моста. За укре-
плениями были последние. Страна требовала уничтожить последних.
Керосиновые лампы пылали за полночь. В половине второго зазвонили
телефоны. Звонили из аппаратной: фронт давал боевую директиву. Галифе
торопливо слезали со стен, бежали докладывать начальнику штаба и коман-
дарму. У аппаратов, ожидая, стояла страна.
И минуту спустя прошел командарм: близоруко щурясь, выпрямленный,
как скелет, стриженый ежиком, каменный, торжественный командарм N, взяв-
ший на материке восемь танков и уничтоживший корпус противника. В вет-
хих скрипучих переходах штаба, ведущих на телеграф, отголосками — через
стены выл ветер, переминались и шатались деревья, черным хаосом скакала
ночь. И казалось, с облаками бурь, с гулом двигающихся где-то масс затихли
и стали времена в вещем напряжены!...
От командующего
фронтом.
«Секретная. Вне всякой очереди. Командармам' N-й, Заволжской, Конно-
Партизанской.
Дополнение директиве приказываю:
Перейти наступление рассвете 7 ноября.
Заволжской армии произвести демонстративные атаки переходимый
вброд Антарский пролив, дабы привлечь себе внимание и силы противника.
N-й армии, усиление коей переданы две конно-партизанские дивизии,
прорвать укрепления Даирской террасы, ворваться плечах противника Дайр
и сбросить море.
Конно-партизанекой армии двигаться фронтовом резерве; N-й армии
стремительно выдвинуться полуоостров и отрезать отход противнику к ко-
раблям Антанты.
Вести борьбу до полного уничтожения живой силы противника».
Из кабинета командарма отрывистый звонок летел в оперативное.
—
Ветер?
Галифе, звякая шпорами, почтительно наклонялись к телефону.
—
Северо-западный, девять баллов.
Каменная черта на лбу таяла — в жесткую, ироническую улыбку: над
теми, дальними, что за террасой. Счастливый, роковой ветер дул, ветер побед.
И начальник штаба бежал с приказом из кабинета на телеграф. В при-
казе было: начать концентрацию множеств к морю, к перешейку; нависнуть
молотом над скалой... Аппараты простучали в пространства, в ночь — коротко
и властно.
А в ночи были поля и поля: земля черная молча лежала. Дули ветры по
межам, по .невидимому кустарнику балок, по щебнистым пустырям там, где
раньше были хутора, скошенные снарядами по дорогам, истоптанным* тыся-
чами тысяч — теперь уже умерших и утихших — по дорогам, до тишайшей
одной черты, где лежали, зарывшись в землю, живые и сторожкие; и впереди
в кустарнике на животах лежали еще: секрет. Туда дули ветры.
И -все-таки в черной н-очи, впереди, видели —
-не глаза, а что-то еще
другое — темный, от века поднятый -массив, лютый и колючий; и за ним чу-
десный Дайр — синие туманы долин, цветущие города, звездное море...
*
в селе Таганка штабы двух дивизий: Железной, численностью и оби-
лием вооружения равняющейся почти армии; неделю назад дивизия, выполняя
директиву командарма N, разбила белый корпус и захватила восемь танков;
и Пензенской — эта дивизия, окровавленная и полууничто-женная, зарывшись
в землю, принимала на себя удары врага, пока Железная сложным обходом
выполняла маневр.
В школьной избе, в штадиве Железной, в присутствии начальников ди-
визий и штабов, командарм излагал план операции.
Противник имел численно меньшую армию, но эта армия была сильна
испытанным офицерским составом и мощью усовершенствованной военной
техники. У красных были множества: множествами надлежало раздавить и
мстительное упорство последних, и хитрость культур.
Армия противника стояла за неприступными укреплениями террассы,
пересекающей все пути на полуостров. Надо было преодолеть террасу. Бро-
сить массы за террасу уже значило победить.
Армия, атакующая в ярости террасу — под ураганным огнем артиллерии
и пулеметов противника — обратилась бы в груду тел. Исход был или в дли-
тельной инженерной атаке, или в молниеносном маневре. Но страна требовала
уничтожить последних сейчас. Оставался маневр.
Дули северо-западные ветры. По донесениям агентуры, ветры угнали
в море воду из залива, обнажив ложе на м-но-го верст. Ринуть множества в об-
ход террасы — по осушенным глубинам — прямо на восточный низменный бе-
рег перешейка, проволочить туда же артиллерию, обрушиться паникой, огаем,
ста тысячами топчущих ног на тылы хитрых, запрятавшихся в железо и камни.
—
Надо спешить, пока ветер не переменился и вода не залила про-
странств, — сказал командарм. —
Общее наступление назначаю в ночь на
седьмое ноября. Остальные части армии одновременно атакуют террасу
с фронта. Если так, — мы прорвем преграду с малой кровью.
Собрание молча обдумывало. Начдив Пензенской, тощий, впалогрудый,
похожий на захолустного дьякона (он и был дьяконом до войны), заволновался
и замигал.
—
План верный, товарищ командующий, что и говорить, а мои ребята
хоть и через воду—- .все равно перепрут. Только я ведь докладывал: разутые,
раздетые все, как один. Железная после операции -вся оделась — они, изволите
видеть, первые склады захватили. А за что мои страдали? Как?
—
Относительно обмундирования мне известно, — сказал командарм,—
но нет нарядов из центра. И вообще... у республики едва ли есть. За террасой
все оденутся!
Он встал каменный, чужой мирным сумеркам избы.
—
Оперативных поправок нет?
Очевидно нет: вее молчали. План был принят — он висел над глухой
сосредоточенностью полей. В них снилась невозможная горящая ночь.
В пасмури слышались, близились идущие шумы. Как в бреду, где-то в да-
леком кричали лошади и люди.
Командарм вышел на улицу.
В сумерках, жидко дрожавших от множества костров, шли горбатые
от сумок, там и сям попыхивая огоньками цыгарок. Земля гудела от шагов,
от гнета обозов: роптал и мычал невидимый скот. В избах набились вповалку,
до смрада: в колеблющейся тусклости коптилок видно было, как валялись по
лавкам, по полу, едва прикрытому соломой, стояли, сбиваясь головами, у коп-
тилок, выворачивая белье и ища насекомых. Между изб пылали костры; и там
сидели и лежали, варили хлебово в котелках, ели и тут же, в потемках, при-
саживались испражниться; и вдоль улиц еще и еще горели костры, галдели
распертые живьем избы, и смрадный чад сапог, пота ног, желудочных газов
полз из дверей.
Командарм подошел к костру. На колодах кругом сидели несколько;
кто-то, сутулясь, мешал ложкой в котелке: обветренный и толстомордый па-
рень, оголившийся до пояса, несмотря на мороз, озабоченно искал в лохмотьях
вшей и бросал их в костер; и у костра лежал пожилой, в австрийской шинели
и кепи, глядя на огонь из-под скорбных полузакрытых век; и лежали еще без-
ликие. Сколько бездомных костров видели они в далеких затерянных ски-
таньях... Из тьмы подошел командарм, на него взглянули мельком: велик мир,
бесконечны дороги, много людей подходит к бездомным кострам...
Полуголый рассказывал:
—
Есть там железная стена, поперек в море уперлась, называется тер-
раса. Сторона за ней ярь-пески, туманны горы. Разведчики наши там были,
так сказывают, лето круглый год, по два раза яровое сеют! И живут за ней
эти самые элементы, в енотовых шубах, которые бородки конусами: со всей
России туда набежались. А богачества-а -а! Что было при старом режиме, так
теперь все в одну кучу сволокли!
—
И опять они хозяева, — сказал лежачий у костра.
Полуголый обозлился и хлестнул об землю лохмотьями.
—
Хозяева, в душу их мать!..
—
Подожди, домой придешь, и ты хозяином будешь!
—
До-мо-ой! А ежели вот у этого, — парень ткінул пальцем в пожилого
в кепи, — и дома-то нет, кругом один тернаценал остался? Што?
Лежавший поднял на него мутные добрые глаза.
—
У бедных дому нема. Една семья, една хата—интернационал.
—
Эх, друг! — хлопнул его по спине парень и заржал. —
Все книжки
читаешь, умна-ай!
Сутулый от котелка хихикнул.
—
А ты, Міикешин, все больше насчет жратвы? Имнаетерка-то где?
Ох, и жрать здоровый, чисто бык!
—
Верно, что бык, — отозвались лежавшие.
—
У нас у деревне у дяде бык был, такой же на жратву ядовитый, так
уби-или!
—
Ха-ха-ха!
Мм-кешин тоже смеялся, открыв широкий крепкозубый рот.
—
Вот когда в Цаіплеве стояли, — сказал он. —
так кормили: поше-
нишный хлеб, аль сала, аль свинина, прямо задарма. Вот кормили! А теперь
народу нагнали, братва все начисто пожрала. Вот мы этих енотовых пощу-
гіам, погоди погуля-ам!
Кто-то из лежавших изумленно и смутно грезил, корчась в нагретой
стуже.
—
Боже ж, какая есть страна!..
—
А може брешут, — хмуро сказал другой; оба легли на локтях, стали
глядеть на огонь задумчиво и неотрывно.
Сутулый исподлобья взглянул на командарма, греющего- руки над ко-
стром, и спросил:
—
Вот вы, може, ученый человек будете-, скажите: правда ли, если мы
этих последних достанем, так там- столько- добра напа-сено, что, скажем, на.
весь бедный класс хватит? Или как?
Командарм улыбнулся каменной своей улыбкой и ничего не ответил.
Что сказать? Он знал, что над этой ночью будет еще, горящая и невоз-
можная; в огненной слепоте -рождается мир из смрадных кочевий, из по-
строенных на крови эпох...
Из потемок о-глянулся: у костра -сели в -кружок, около полуголого, хле-
бали- из котелка, говорили что-то, показывая в темь: наверно, о той же чу-
десной стране Дайр. В
- иэба-х хлопали дв-ер-и, кто-то, оберегая смрадное тепяо,
кричал: — Лазишь тут, а затворять за тобой царь будет?.. За околицей, в тем-
ном, цвела чудесная бирюзо-вая полоса от зари: в улицах топало, гудело же-
лезом, людямм, телегами, скотом-, как в XII столетии. И так было надо: гул
становий, двинутых по дикой земле, брежущий в потемках рай, — в этом было
мировое, правда.
Пели рожки над чадными становьями пеших. В морозных улицах, гру-
дясь у котлов, наедались -на дорогу ; котлы и -рты дышали паром; костры стлали
мглу, -в поля. А небо под туч-ами гасло, день стал дикий, бездонный, незакон-
ченный; тело отяжелело от сырости, а еще надо было ломить и ломить в ве-
треные версты, в серую бескрайнюю безвестень. Где еще они, ярь-пески,
туманные горы?
Микешин от скуки покусал сала, потом подошел к впа-логлазому в кепи,
лежавшему у завалины с книжкой, и сказал тоскливо:
—
Юэеф, што ты все к земле да к земле прилаживаешься? Вечер тоже
лежал... Тянет тебя, что ли? Нехороший это знак, кабы не убили.
Юзеф слабо- улыбнулся из-под полузак-ры-ты -х век.
—
А что же, у меня никого нема. Ни таты, ни мамы. За б-едних умереть,
хорошо, бо я сам быв бедний.
За околицей налегло сзади ветром, забираясь под шарф и под дырявый
пиджак. Микешин глядел на шагающего рядом Юзефа: и о чем он думает,
опустив в землю чудные свои глаза? И дума эта вилась будто по миру кру-
гом в незаконченном дне, в бездоеных насупленных полях — о чем? В дали,
в -горизонты падали столбы, ползли обозы, серая зер-нь батальонов, орудия. По
дорогам, по балкам, по косогорам ть-мы -тем шли, шли, шли...
И еще севернее — на сотню верст — где в поля, истоптанные и сожжен-
ные войной, железными колеями обрывалась Россия — ветер стлал серой по
земской, по межам, по перелескам,, по льдам рек, голым еще и серым — где
в степных мутях свистками и гудками жила узловая станция —кишел народ,
мятый, сонный, немытый, івалялся на полах и на асфальте; на -путях стояли
эшелоны, грузные от серого кишащего ж-ивья, и платформы с орудиями, кух-
нями, фуражом, понтонами — шли тылы и резервы N армии на юг, к террасе.
И еще с севера, скрипя и лязгая, шли загруженные эшелоны, перекошен-
ные от тяжести, вдавливающие рельсы- в грунт, с галдеж-ом, скандалами, пес-
нями. С вагона кричало написанное мелом: даешь Дайр! Эшелоны шли с се-
вера, из России, из городов: в городах, были голод и -стужа, топили заборами,
лабазы с былым обилием стояли наглухо забитые, стекла выбиты и запаути-
нены, базары пусты- и безлюдны. Но- в голодных и холодных городах все-таки
било ключом, кипело, живело и вот изрыгЕло на ю.г громадные эшелоны —
за хлебом, за теплом, за будущим. С севера великим походом шли города
в ю-г; телами пробить -гранитную скалу, за которой страна Дайр.
Из грязных теплушек валил дым: топили по-черному, разжигая костры
на кирпичах, прямо на полу и, когда холодно, ложась животом на угли. Но
чем южнее, тем неузнаваемей и чудесней становилась все для северных — оби-
лием былого, уже затерянного в снах; а на узловой станции, преддверии юга,
продавали давно невиданное —• белый хлеб, сало, колбасу. Распоясанные, за-
сиженные -ко-потью, сбегав куда-то, возвращались и, задыхаясь, кричали в ва-
гоны своим: «Б-ратва, айда, здесь вольная торговля, ий-богу!» — «А де ж ба-
зар?» — «А там за водокачкой»... За водокачкой стояд-і телеги с мясом и ту-
шами, бабы с горшками и тарелка-ми, в которых было тепло-жирный бор-ш,
с мясом, стояли с салом, коржами, молоком, буханками пшеничного...
И из эшелона бежали туда косяками с бельем, с барахлом, навив его на руку
для показа; и тут же сбывали за водокачкой и проедали, садясь на корточки
и хлебая теплый борщ, таща в вагоны сало, мясо, буханки.
Поезда шли только на ю-г, на се-в -ер не давали паровозов силой. Едущие
на север жили на станции неделями, обносились, обовшивели, очумели- от дол-
гого лежанья по перронам и подам, но- надежды уехать все-таки не было. На-
прасно представитель военных сообщений, черненький, ретивый, в пенснэ и
кожаном, бегал по станции, звонил в телефон, висел над аппаратами в теле-
графной, ггисал, высунув язык от гонки: на Узловой пробка, на Узловой ка-
тастрофическое положение и саботаж, самовольная прицепка паровозов,
угрозы оружием: «Прошу виновных привлечь к суду ревтрибунала, единствен-
ная мера — расстрел»... напрасно с пеной на губах кричал озлобленной, по-
нурой и голодной толпе, ловившей его на перронах, что первый же паровоз —
тот, который подпиливается сейчас в депо, пойдет на север — все шло своим
чередом, как хотелось молоту множеств, падающему в неукоснительном и чу-
довищном ударе на юг. И на паровозе, предназначенном на север и чистя-
щемся в депо, кричало уже на чугунной груди мелом: даешь Дайр! —у депо
дежурили суровые и грубые с винтовками на перевес: ждали. И на перронах
ждали, глядя в провалы путей жадными, впалыми и полубезумными глазами —
видели только муть, тоску, безнадежъе...
А в отяжелевших от сырости эшелонах ухало и топало. Из дверей чер-
ный ядовитый дым полз на пути, в дыму кричали:
—
Ох-хо-хо! Безгубный шинель загнал! Полпуда сала, три четверти
самогону! Гуля-ам!
Чумазый плясал над дымным костром распоясанный, с расстегнутым
воротом гимнастерки. В теплушке словно медведями ходило.
—
Крой, Безгубный! Ах, ярь-пески, туманы, горы! Зажваривай! Не
бойсь, там те и без шинели жарко будет!..
—
На теплы дачи едем!
Из депо выкатился паровоз, тяжко пыхтя; машинист, перегнувшись над
сходней, курил и хмуро ждал. Платформу запрудили едущие на север с меш-
ками, с узлами, зверели/толкались кулаками и плечами, пробиваясь к путям,
чтобы не опоздать и не умереть. Ждавшие с винтовками вывели паровоз на
круг, схватились за рычаги и повернули чугунную грудь к югу. Начальник
эшелона вынул наган из-за пояса и сказал машинисту: «веди к эшелону на
одиннадцатый путь».
Машинист хотел' протестовать, но подумал, бросил
с сердцем окурок и повел. Помощник успел сбежать.
По эшелону обходом кричали:
—
Эй, кто за кочегара поедет? Товари-шши!
—
Вали Безгубнова, он летось у барина на молотилке ездил, всю меха-
низьму знает! Погреется заодно без шинели-то!
—
Безнгуб-на -а-а-ай!
Паровоз стал под эшелон. На платформах завыло: обманутые материли,
махали кулаками, выбегали на рельсы, дребезжали по стеклам- станции, грозя
убить. Черненький бегал вдоль вагонов, теряя пенснэ, и исступленно
кричал:
—
Это бандитизм! Разбой! Вы все графики спутали, вы подводите под
катастрофу всю дорогу! Помните — это даром не пройдет!.. Я по проводу
в Особый Отдел!
—
К чорту! — отмахивался начальник эшелона. —
У меня боевой при-
каз в двадцать четыре часа быть на месте — плевал я на ваши графики. Де-
журный, отправление!
—
Расстрел!.. —
вопил черненький.
В эшелонах зазвякало, задребежало, рявкнуло тысячеротым ура и по-
шло всей улицей.
—
Дае-о -о -ошь!
На под'еме за станцией паровоз забуксовал: перегруженный эшелон был
не под силу. Распоясанные выскакивали из дыма и галдежа на насыпь, рвали
ногтями мерзлый песок, подбрасывали его на рельсы, чтобы не скользило; под-
талкивали, подпирая плечом, и в то же время откусывали от пшеничной бу-
ханки и пропихивали за отторбучееную щеку.
—
Таврило, крути! Ташши, миленок!
—
Безгубна-а-ай, подава-а -ай!
—
Гого-го!.. Гаврюша, крути!..
—
Ташши!..
В перелески, в мунтую поземку волокли красную громадину плечами,
а впереди черный, с налитыми огнем глазами, натужно пыхтел, крича хрип-
лыми гулами в степь: дае-о -о -ошь!..
На побережьи готовились к смотру красных войск.
С севера пришли армейские и дивизионные автомобили со штабами.
С курганов открывался плац, в песках, под полуобгорелой ржавой крепостью,,
оставшейся от древних степных царств; там знамена и серые квадраты ба-
тальонов зыблились под ветром, как поле; от опушки изб кольцам теснился
глазеющий народ. Был день перед боем, день, нахмуренный в беэвестье.
На плаху среда поля вбежал без шапки косматый, чернобородый, ярост-
ный. Шинель, сбитая ветром, сползла с плеч. Волосатые голые руки выкину-
лись из гимнастерки, кричали в поле, в толпы, в бескрайный ветреный день:
—
То-ва-ри-шши!
О последних черных силах, о солнечных рубежах, за которыми счастье,
хлеб и вечера, как золотеющая рожь. Кричал о подвиге им, подошвами аме-
риканских ботов истоптавшим Россию. Хмурые батальоны1 молчали; бесшумно
знамена плескались над плахой в желтом свечении горизонтом. А в горизон-
тах лежали поля, рыжие, пустые, холодные; и бесконечная тусклая свинцо-
восгь вод, уходящих в муть: там была жуткая лютая грань, оплаканная ма-
терями.
Гигантское полотно колыхалось за плахой. И как призраки—в серых
ветрах дня Красный и Черный всадники сшиблись в вышине грудями огнегла-
зых, бешено вздыбленных коней. Кто кого раздавит в сумерках полей, в смер-
тельной схватке... А за ними уходит ночь и бреэжут рассветы красной золо-
теющей рожью.
Это есть наш последний и решительный бой.
Оркестры играли. Просторы мощно и задумчиво разверзались, грустью
наплывали замедленные певучие ветры; колыхались знамена застывших ба-
тальонов. Перетянутые ремнями накрест ротные семенили перед фронтом..
Около командарма, в центре круга, собрались начдивы, начальники штабов
Начальник Пензенской дивизии, мигая озябшими веками, нагибаясь, обидчиво
говорил:
—
Вы на моих-то картинок обратите внимание, товарищ командую-
щий. Не солдаты, а босая команда! Где же справедливость, а?
С рядов летела придушенная команда:
—
Ра-вня-а-айсь!
И вдруг, после паузы застывших движений — ревом барабанов и труб
ударили два оркестра. Колоннами повзводно шли батальоны. Тысячи ног били
по песку мерно и четко. И в степи — от медных и певучих стенало откли-
ком — гортанно и грустно: пело о бурях и прекрасных веках.
Был на рубеже времен желтый день в полях; и в нем торжественный це-
ремониал толп на пепелище пышного когда-то степного царства, командарм, и
штабы, вытянувшиеся, пронизанные трепетом- идущего-, и іветры, и безвестье
неизжитых, неизволнюванных дней...
И под пенье гортанных торжественных фанфар видел командарм — шли .
наступая, ряды, кося глаза ему в грудь. И впереди всех двое — их встречал он
где-то: они запомнились навсегда, как рыжий день, как мерзлые пустые поля.
Крайний с фланга рослый -парень -с красным -обветренным лицом, в черном за-
платанном пиджаке, в опорках, укутавший шею в красный дырявый шарф; и
рядом с ним в австрийской аккуратной шинели- и кепи, усатый, пожилой,
с крупными прозрачными глазами.
П-ели трубы, тысячи ног били © песок, и желто просвечивали поля — без-
граничные-; и эти двое шли (за ними еще тысячи и тысячи безликих, обречен-
ных) ; в пенье фанфар шли упоенные — на крыльях сказок о прекрасных -ве-
ках — парень в дырявом шарфе — закинув голову и орлом глядя вперед — дру-
гой, опустив веки- (крупные и впалые), утонув в далекие брезжущие сны...
Проходили- ветераны Пензенской дивизии. Командарм знал эти изранен-
ные, окровавленные остатки.
—
Спасибо, товарищи!
—
Служ-ба-<ре-®о-лю-ции!
Железные птицы гудели- в зените. Закат из-за далеких- рубежей дрожал
в облаках и на крыльях птиц червонной дрожью. Как ветры, бесконечные, без-
ликие привлекались ряды, в безвестье, в забвенные волны. И вдруг прекрас-
ным- стал вечер; или чудесным -переход фа-нфар: будто уже нет тех, ком-у надо
завтра умереть, будто, прошли века, прошумели все бури и стерлись все пись-
мена, и в успокоительных прекрасных временах поют чудесные песни о -них,
полузабытых тенях...
Проходили части Железной дивизии, с причудливым разнообразием об-
мундированные: в гусарских венгерках, в офицерских шинелях -стального
цвета. В командарма впиів-ались огрубевшие от боев и походов глаза — ив них
было то же оторванное, чуждое уюту, бездомное, как у него самого. Шли ту-
помордые броневики, безглазые и безлюды-е, слепо поводя щупальцами пуле-
метов. Рыча, гиганскими гусеницами, ползли глыбастые и суставчатые танки,
те самые, о взятии которых насмешливо кричали советские радио в Париж;
- еще не смыта была внутри кровь перерезанных белых танкистов. И белы-е тан-
кисты, оставшиеся в живых, вели танки церемониальным маршем; дойдя до
командарма, они заставили вертеться волчком их чудовищные, потрясающие
землю тела: танки отдавали честь командарму. И шла суета сует. Газетные
корреспонденты бегали в соседние избы, лезли в погреба заряжать фотогра-
фические камеры, народ глазел и ахал. Сумерки падали, омрачая пески.
Вечерея, уходили ряды вдаль, в темно-кровавую пыль, в навсегда. Суро-
вей и настойчивей дул ветер на залив. В волны, в муть гортанно грустили
трубы, уходя в бесконечное.
Красноармеец Микешии, сидя .перед пылающей печкой в волостном ис-
полкоме, где разместился взвод, доел последнее сало, аккуратно подрезая
его ножичком, обтер тряпичкой рот и, посасывая зубом, оказал товарищу, что
лежал животом на полу:
-— • Кончил, Юзефка. Ну, и сала же попалась вкусная, лихо ее забери...
И лег рядом.
В избу вошел секретарь исполкома, кривой инвалид, которого заели
:в боковушке солдатские вши. От бессонницы решил кое-что поделать для зав-
трашнего праздника-годовщины, полез по лавкам протирать портреты вождей,
потом из канцелярского шкафа достал два красных свертка. Солдатам крикнул:
—
Помогите што ль лозунга-то развесить, эй!
Никто не встал: все спали, а то нежились, жмурясь и затягиваясь из цы-
гарок. Кривой протянул один плакат .над окном, но для другого не хватило ме-
ста, да и работать одному разонравилось. Микешкн поднял голову и от без-
делья разбирал:
Мы — миру — путь — укажем — новый.
Секретарь сел на печке, к теплу и прикурнул. В полночь велели соби-
раться. Взводу назначено было итти в головной колонне, роздали ножницы для
резки проволоки и гранаты. Микешин подтянул ремешок, поглядел на спящего
секретаря и взял, подмигнув, оставшийся красный сверток.
Ночь стояла без дна, без края; после тепла сонно и дрожко зяблось.
Ротный обходил, считая людей.
—
Первое дело, братва, не шуметь, ни гу-гу... Мы его на печке живьем
сцапаем! Слушать команду...
В бездонно-черном белые пожары далеко-далеко играли, трепетали, ка-
чались, вспыхивали огоньками: это вправо нервничали за террасой, щупая
ночь прожекторами и ракетами. На заливе и впереди стоял глухой морок,
шуршала и тревожно гудела только где-то земля. То шли к берегу тьмы тем
с прибрежных деревень, волоча за собой артиллерию.
—
Взвод, ар-рш...
Прошли мимо темных ометов за околицу, полезли под откосы. За от-
косами начиналось высушенное ветрами морское ложе. Микешин отошел
в сторону, снял опорки и быстро, на ходу, перекрутил ноги плакатом : старые
обмотки истлели, а братва говорила, что придется лезть через море. Впереди
колыхались по земле багровые тени — это на берегу, сзади; жгли костры,
чтобы не сбиться идущим.
И справа далеко-далеко шли и качались белые пожары.
Они светили в пустые поля, где не шел никто... А в сухое море сползли
из мрака тьмы тем, уже железом орудия загромыхали по откосам, под мягкое
глухое рычанье скатываясь в неезженный морок. Головные ушли далеко. По-
немногу скрывались костры, только зарева их тлели обманно, призрачно. Ми-
кешин сказал Юзефу: «Друг за дружку давай держаться, братишка»... И вот
стало все глухо, черно и мертво, как на дне.
Через час взводный учуял что-то впереди и прошипел: «ложись!» Тогда
пригнулись к земле и поползли дальше, сжав зубы...
Так начался знаменитый удар командарма N.
Всю ночь молчали аппараты.
И с рассвета тусклые облака пошли от моря на страну. В пространства,
ползли полчища облакоів — неслышно, могуче, бездонно. На рассвете тре-
вожные звонили в кабинет к командарму: — Дуют ветры южных румбов, во-
семь баллов... —
из бессонного кабинета верные и четкие шаги отзвучали,
в сумерках коридоров к аппаратам. Свинцовый рассвет глядел в окна: рас-
свет ли, день ли, годы ли? И опять —
—
С частями за заливом связи нет. Слышна канонада на побережьи...
Перед террасой с севера лежали полки: ждали. Вот-вот должно было:
вспыхнуть зовами, заревами в далеком — за террасой, загудеть из моря в не-
дра смятенных, неверящих еще; и тогда, с севера ощетиненным потоком взре-
веть на террасу — в крик, в крошево, в навстречу. Но в облаках, тяжких, ли-
завших угрюмые, лютые массивы, уже шел рассвет; за массивами нетревожи-
мые — караулили тысячи хитрых, настороженных; и далекие молчали... На
рассвете, не дождавшись, потоком разоренных, опасливо припибающихся
к земле, хлестнуло на терраг.у и — разбилось о камни : отхлынув, легло чело-
вечьими грудами во рвах, в мглистых плоскостях плацдарма...
С моря дул ветер.
И с моря бежало ручейками, серо-гряэными озерами — бежало хлябями
тусклых высот; затопляло дно залива, взрыхленное ступнями тысяч. В сля-
котях. в озерах, глубиневших каждую минуту, хлопали резервы, брошенные
в догонку ушедшим.
Свинцовым поясом стояли воды у берегов, в водах тонули дороги. Не
было дорог.
И опять —
—
Немедленно, по приказанию командарма...
—
Все меры исчерпаны. Связи нет...
На рассвете грозой пробило из-за моря. Это они, прижатые к берегу
множества — прижатые к морю — в туманы били грозой. В море шли резе-
рвы, изнемогая, по колена в .воде; с материка выгоняли деревни в воду — мо-
стить плотины — задержать море. Деревни хлюпали базарами в воде, пута-
лись ленивыми, вязнущими телегами, плотины росли — осклизлые, зыбкие,
седые — и таяли тотчас; ветер и воды пожирали их.
Командарм стоял у аппаратов — серый, как тень, от железной бессон-
ной ночи, может быть, единственной в жизни и в истории. Аппараты молчали...
и вдруг — из дальнего — из прорвавшихся ослепительных снов — крикнуло
грозой :
—
Есть! В 12 часов без выстрела форсирована терраса.
Противник бежал, угрожаемый красными дивизиями с тыла. Соединив-
шиеся части атакуют первую линию Эншуньских укреплений.
Армия была за террасой. Рубеж был пройден. Полки лежали на солон-
чаковом плато перешейка — перед последней тройной линией заграждений,
опутавших узкие дефиле озер.
Сквозь шестидесятиверстную даль — через шипы железных проволок—
через гарь боя — и командарм видел уже счастливую синь долин...
Армейские автомобили мчали к террасе... Конно-партизанским диви-
зиям, еще замешкавшимся у залива, было приказано: стянуться на перешеек
через террасу. Но через террасу был переход в двенадцать верст; а с пере-
шейка уже дышало гулом, дрожанием недр: там начиналось... И, хрипя от не-
терпенья и злобы, конные свалились под берег, ордой забурлили — в воды,
в кипящую муть...
Демьян
Бедный.
ГЛАВНАЯ УЛИЦА.
Движутся, движутся, движутся, движутся,
В цепи железными звеньями нижутся,
Поступью гулкою грозно идут
Грозно идут,
Идут,
Идут,
На последний, на главный редут!
***
Главная улица в панике бешеной.
Бледный, трясущийся, словно помешанный,
Страхом смертельным внезапно ужаленный,
Мечется — клубный 'делец накрахмаленный,
Плут-ростовщик и банкир продувной,
Мануфактурщик и модный портной,
Туз-меховщик, ювелир патентованный, —
Мечется каждый, тревожно-взволнованный
Гулом и криками, издали слышными.
У помещений с витринами пышными,
Средь облигаций меняльной конторы, —
Русский и немец, француз и еврей,
Пробуют петли, сигналы, запоры:
—
Эй, опускайте железные шторы!..
Крестьянин н рабочий. Ч . П .
26
—
Скорей!..
—
Скорей!..
—
Скорей!..
—
Скорей!..
—
Вот их проучат, проклятых зверей,
Чтоб бунтовать зареклися навеки!
С грохотом падают тяжкие веки
Окон зеркальных, дубовых дверей.
—
Скорей!..
—
Скорей!..
—
Что же вы топчетесь, будто калеки?
Или измена таится и тут?!
Духом одним с этой сволочью дышите?
—
Слышите?..
—
Слышите?..
—
Слышите?..
—
Слышите?..
—-
Вот они!.. Видите?.. Вот они, тут!..
—
Идут!
—
Идут!
*
*
*
^
С силами, зревшими в нем, необ'ятными,
С волей единой и сердцем одним,
С общею болью, с кровавыми пятнами
Алых знамен, колыхавших над ним,
Из закоулков,
Из переулков
Темных, размытых, разрытых, извилистых,
Гневно взметнув свои тысячи—жилистых,
Черных, корявых, мозолистых рук,
Тысячелетьями связанный, скованный,
Бурным порывом прорвав заколдованный,
Каторжный крут,
Из закоптелых фабричных окраин
Вышел на Улицу новый хозяин, —
Вышел — и все изменилося вдруг:
Дрогнула, замерла Улица Главная,
В смутно-тревожное впав забытье, —
Воля стальная, рабоче-державная,
Властной угрозой сковала ее:
—
Это — моё!!
Улица эта, дворцы и каналы,
Банки, пассажи, витрины, подвалы,
Золото, ткани, и снедь и питье,—
Это — моё!
Библиотеки, театры, музеи,
Скверы, бульвары, сады и аллеи,
Мрамор и бронзовых статуй литье, —
Это — -моё!
Воем ответила Улица Главная.
г
тал богатырь. Загражден ему путь.
) Хищных стервятников стая бесславная
Когти вонзила в рабочую грудь.
Вмиг, ощетинясь штыками и пиками,
Главная Улица — страх позабыт! —
Вся огласилася воплями дикими.
Гиком и руганью, стонами, криками,
Фырканьем конским и дробью копыт.
Прыснули злобные, пьяные шайки
Из полицейских, жандармских засад:
—
Р-рысью... в атаку!
—
Бери их в нагайки!
—-
Бей их прикладом!
—
Гони их назад!
—
Шашкою, шашкой, которые с флагами,
Чтобы вперед не сбирались ватагами,
Знали-б, ха-ха, свой станок и верстак,
Мать их растак!!..
—
В мире подобного нет безобразия.
—
Темная масса.
—
Татарщина.
—
Азия!
—
Хамы!
—
Мерзавцы!
—
Скоты!
—
Подлецы!
—
Вышла на Главную рожа суконная!
—
Всыпала им жандармерия конная!
—
Славно работали тоже донцы!
'Видели лозунги?
—
Да, ядовитые!
-—
Чернь отступала, заметьте, грозя.
—-
Правда ль, что есть средь рабочих убитые?
—
Жертвы... Без жертв, моя прелесть, нельзя!
-—
Впрок ли пойдут им уроки печальные?
—
Что же, дорвутся до горшей беды!
Вновь засверкали витрины зеркальные,
Всюду кровавые смыты следы.
Улица, злого полна ликования,
Залита светом вечерних огней.
Чистая публика всякого звания
Шаркает, чавкает снова на ней,
Чавкает с пошло-тупою беспечностью,
Меряя срок своих чавканий вечностью,
Веруя твердо, что с рабской судьбой
Стерпится, свыкнется «хам огорошенный»,
Что не вернется разбитый, отброшенный,
Глухо рокочущий где-то прибой!
*
*
*
т
Снова...
Снова...
Бьет роковая волна...
Гнется гнилая основа...
Падает грузно стена.
—
На!..
—
На!..
—
Раз-два,
Сильно!!
Раз-два,
Дружно! !
Раз-два,
В ход!!..
Грянул семнадцатый год!
—
Кто там?
Кто там
Хнычет испуганно: — «стой»?
—
Кто по лихим живоглотам
Выстрел дает холостой?
—
Кто там виляет умильно?
К чорту господских пролаз!
—
Раз-два,
Сильно!!
—
Е-ще
Раз!!
—
Нам подхалимов не нужно.
Власть — весь рабочий народ!
—
Раз-два,
Дружно!!
—
Раз-два,
В ход!!
—
Кто нас отсюдова тронет?
Силы не сыщется той!
Главная Улица стонет
Под пролетарской пятой!!
Эпилог:
Петли, узлы— -колеи исторической...
Пробил—второй или первый? — звонок,
Годы мучений, борьбы титанической,
Вот наш победный, терновый венок!
Братья, не верьте баюканью льстивому:
—
«Вы— победители! падаем ниц!»
Хныканью также не верьте трусливому:
—
«Нашим скитаньям не видно границ!»
Пусть наша Улица будет задворками
Перед Проспектом иным. Мировым.
Разве не держится он лишь подпорками
И оболыценьеім, уже не живым?
Мы, наступая на нашу, на Главную,
Разве потом не катится вспять?
Но, отступая пред силой неравною,
Мы наступали. Опять и опять.
Красного фронта всемирная линия
Пусть перерывиста, пусть не ровна,
Мы ль разразимся словами уныния?
Разве не крепнет, не -крепнет она?
Стойте ж на страже добытого -муками,
Зорко следите за стрелкой часов,
Даль сотрясается бодрыми звуками,
Громом живых, боевых голосов.
Братья, -всмотритесь в огни отдаленные.
Вслушайтесь в дальний рокочущий шум:
Это резервы идут закаленные!
Трум-ту-ту-тум!
Трум-ту-ту-тум!
Движутся, движутся, движутся, движутся,
В цепи железными звеньями нижутся,
Поступью гулкою грозно идут,
Грозно идут,
Идут,
Идут,
На последний, всемирный редут!!
В.
Каллиопе.
матросам.
Герои, скитальцы морей, альбатросы,
Застольные гости громовых пиров,
Орлиное племя, матросы, матросы,
Вам песнь огневая рубиновых слов.
Вы — солнце, вы — свежесть стихии соленой,
Вы -— вольные ветры, вы — рокоты бурь,
В речах ваших звоны, морские циклоны,
Во взорах безбрежность — морская лазурь.
Врагам не прощали вы кровь и обиды
И знамя борьбы поднимали не раз,
Балтийские воды и берег Тавриды
Готовят потомкам пленительный сказ.
Как бурные волны, вы грозно вливались-
Во дни революций на Невский гранит,
И кровью орлиной не раз омывались
Проспекты, панели асфальтовых плит.
Открытые лица, широкие плечи,
Стальные винтовки в бесстрашных руках,
Всегда наготове для вражеской встречи, —
Такими бывали вы в красных боях.
Подобно утесам, вы встали, титаны,
На страже Коммуны, на страже свобод.
У врат лучезарных, где вязью багряной
Сверкает бессмертный Семнадцатый Год.
Герои, скитальцы морей, альбатросы,
Застольные госта громовых гтироів,
Орлиное племя, матросы, матросы,
Вам — песня поэта, вам— слава веков
1918 г.
И. Бабель.
I.
замостье.
Начдив и штаб его лежали на скошенном поле в трех верстах от За-
мостья. Войскам предстояла ночная атака города. Приказ по армии требовал,
чтобы мы ночевали в Замостье, и начдив ждал донесений о победе.
Шел дождь. Над залитой землей летели ветер и тьма. Все звезды были
задушены раздувшимися чернилами туч. Изнеможенные лошади вздыхали и
переминались во мраке. Им нечего было дать. Я привязал повод коня к моей
ноге, завернулся в плащ и лег в яму, полную воды. Размокшая земля открыла
мне успокоительные об'ятия могилы. Лошадь натянула повод и потащила
меня за ногу. Она нашла пучок травы и стала щипать его. Тогда я заснул
и увидел во сне клуню, засыпанную сеном. Над клуней гудело пыльное золото
молотьбы. Снопы пшеницы летели по небу, июльский день переходил в вечер,
и чащи заката запрокидывались над селом.
Я был простерт на безмолвном ложе, и ласка сена под затылком сво-
дила меня с ума. Потом двери сарая разошлись со свистом. Женщина, одетая
для бала, приблизилась ко мне. Она вынула грудь из черных кружев корсажа
и понесла ее мне с осторожностью, как кормилица пищу. Она приложила
свою грудь к моей. Томительная теплота потрясла основы моей души, и капли
пота, живого, движущегося пота закипели между нашими сосками.
—
Марго, — хотел я крикнуть, — земля тащит меня на веревке своих
бедствий, как упирающегося пса, но все же я увидел вас, Марго...
Я хотел это крикнуть, но челюсти мои, сведенные внезапным холодом,
не разжимались. Тогда женщина отстранилась от меня и упала на колени.
—
Иисусе, — сказала она, — прими душу усопшего раба твоего.
Она укрепила два истертых пятака на моих веках и забила благовон-
ным сеном отверстие рта. Вопль тщетно метался по кругу закованных моих
челюстей, потухающие зрачки медленно повернулись под медяками, я не мог
разомкнуть моих рук и... проснулся.
Мужик со свалявшейся бородой лежал передо мной. Он держал в руках
ружье. Спина лошади черной перекладиной резала небо. Повод тугой петлей
сжимал мою ногу, торчавшую кверху.
—
Заснул земляк, — сказал мне мужик и улыбнулся ночными, бессон-
ными глазами, — лошадь тебя с полверсты протащила...
Я распутал ремень и встал. По лицу моему, разодранному бурьяном,
лилась кровь.
Тут же, в двух шагах от нас, лежала передовая цепь. Мне видны были
трубы Замостья, вороватые огни в теснинах его гетто и каланча с разбитым
фонарем. Сырой рассвет стекал на нас, как волны хлороформа. Зеленые
ракеты взвились над польским лагерем. Они затрепетали в воздухе, осы-
пались, как розы под луной, и угасли.
И я услышал отдаленное дуновение стона. Дым потаенного убийства
бродил вокруг нас.
—
Бьют кого-то, — сказал я, — кого это бьют?..
—
Поляк тревожится, — ответил мне мужик, — поляк жидов режет ..
Мужик переложил ружье из правой руки в левую. Борода его сверну-
лась совсем на бок, он посмотрел на меня с любовью и сказал:
—
Длинные эти ночи в цепу, конца этим ночам нет. И вот приходит
человеку охота поговорить с другим человеком, а где его возьмешь, другого
человека-то?..
Мужик заставил меня прикурить от его огонька.
—
Жид всякому виноват, — сказал он, — и нашему, и вашему. Их
после войны самое малое количество останется. Сколько в свете жидов
считается?
—
Десять миллионов, — ответил я и стал взнуздывать коня.
—
Их двести тысяч останется, — вскричал мужик и тронул меня
за руку, боясь, что я уйду. Но я взобрался на седло и поскакал к тому месту,
где был штаб.
Начдив готовился уже уезжать. Ординарцы стояли перед ним на вы-
тяжку и спали стоя. Спешенные эскадроны ползли по мокрым буграм.
—
Прижалась наша гайка, — прошептал начдив и уехал.
Мы последовали за ним по дороге в Ситанец.
Снова пошел дождь. Мертвые мыши поплыли по дорогам. Осень окру-
жила засадой наши сердца, и деревья, голые мертвецы, поставленные на обе
ноги, закачались на перекрестках.
Мы приехали в Ситанец утром. Я был с Волковым, квартирьером штаба.
Он нашел для нас свободную хату у края деревни.
—
Вина, — сказал я хозяйке, — вина, мяса и хлеба!
Старуха сидела на полу и кормила из рук спрятанную под кроватью
телку.
—
Ниц нема1), — ответила она равнодушно.
—
И того времени не упо-
мню, когда было.
Я сел за стол, снял с себя револьвер и заснул. Через четверть часа
я открыл глаза и увидел Волкова, согнувшегося над подоконником. Он писал
письмо к невесте.
«Многоуважаемая Валя, — писал он, — помните ли вы меня?»
Я прочитал первую строчку, потом вынул спички из кармана и поджег
кучу соломы на полу. Освобожденное пламя заблестело и кинулось ко мне.
Старуха легла на огонь грудью и затушила его.
—
Что ты делаешь, пан? — сказала старуха, и отступила в ужасе.
Волков обернулся, устремил на хозяйку пустые глаза и снова принялся
за письмо.
—
Я спалю тебя, старая, — пробормотал я, засыпая, — тебя спалю
и твою краденую телку.
І) Нет ничего.
—
Чекай '), — закричала хозяйка высоким голосом. Она побежала
в сени и вернулась с кувшином молока и хлебом. Мы не успели с'есть и поло-
вины, как во дворе застучали выстрелы. Их было множество. Они стучали
долго и надоели нам. Мы кончили молоко, и Волков ушел во двор для того,
чтобы узнать в чем дело.
—
Я заседлал твоего коня, — сказал он мне в окошко, — моего про-
строчили, лучше не надо. Поляки ставят пулеметы в ста шагах.
И вот на двоих у нас осталась одна лошадь. Она едва вынесла нас
из Ситанца. Я сел в седло, а Волков пристроился сзади.
Обозы бежали, ревели и тонули в грязи. И утро сочилось на нас, как
хлороформ сочится на госпитальный стол.
—
Вы женаты, Лютов? — сказал вдруг Волков, сидевший сзади.
—
Меня бросила жена, — ответил я и задремал на несколько мгно-
вений, и мне приснилось, что я сплю на кровати.
Молчание.
Лошадь наша шатается.
—
Кобыла пристанет через две версты, — говорит Волков, сидящий
сзади.
Молчание.
—
Мы проиграли кампанию, — бормочет Волков и всхрапывает.
—
Да, — говорю я.
Сокаль, сентябрь 1920.
И. Бабель.
И.
тимошенко и мельников.
Тимошенко, наш начдив, забрал когда-то у Мельникова, командира
первого эскадрона, белого жеребца. Это была лошадь пышного экстерьера,
но с сырыми формами, которые мне всегда казались тяжеловатыми. Мельни-
ков получил взамен вороную кобыленку неплохих кровей и с гладкой рысью.
Но он держал кобыленку в черном теле и жаждал мести и ждал своего часу,
и он дождался его.
После июньских неудачных боев, когда Тимошенку сместили и заслали
в резерв чинов командного запаса, тогда Мельников написал в штаб армии
прошение о возвращении ему лошади. Начальник штаба наложил на про-
шение резолюцию: «возворотить изложенного жеребца в первобытное со-
стояние» — и Мельников, ликуя, сделал сто верст для того, чтобы найти
Тимошенку, жившего тогда в Радзивилове, в изувеченном городишке, гіохо-
') Подожди.
жем на оборванную салопницу. Он жил один, Смещенный начдив, и лизуны
из штабов не узнавали его больше. Лизуны из штабов удили жареных куриц
в улыбках командарма и, холопствуя, они отвернулись от прославленного
начдива.
Облитый французскими духами и похожий на Петра Великого, он жил
в опале, с казачкой Павлой, отбитой им у еврея интенданта, и с двадцатью
кровными лошадьми, которых мы все считали его собственностью. Солнце
на его дворе напрягалось и томилось слепотой своих лучей, жеребята на его
дворе бурно сосали маток, конюхи, с взмокшими спинами, просеивали овес
на выцветших веялках, и только Мельников, израненный истиной и ведомый
местью, шел напрямик к забаррикадированному двору.
—
Личность моя вам знакомая? — спросил он у Тимошенки, который
лежал на сене и посмеивался и розовел.
—
Видал я тебя, как будто, — ответил Тимошенко и зевнул.
—
Тогда
получайте резолюцию
начштаба, — сказал
Мельников
твердо, — и прошу вас, товарищ из резерва, смотреть на меня официальным
глазом.
.
—
Можно, — примирительно пробормотал Тимошенко, взял бумагу и
стал читать ее необыкновенно долго. Потом он позвал вдруг казачку, чесав-
шую себе волосы в холодку, под навесом.
—
Павла, — сказал он, — с утра, слава те, господи, чешемся, напра-
вила бы самоварчик.
Казачка отложила гребень и, взяв в руки волосы, перебросила их
за спину.
—
Цельный день сегодня, Константин Василъмч, цепляемся, — сказала
она с ленивой и победительной усмешкой, — то того вамі, то другого.
И она пошла к начдиву, неся грудь на высоких башмаках, грудь, из-
мятую за ночь и шевелившуюся, как животное в мешке.
—
Цельный день цепляемся, — повторила женщина, сияя, и застегнула
начдиву рубаху на груди.
—
То этого мне, а то того, — засмеялся начдив, вставая, обнял Пав-
лины отдавшиеся плечи и обернул вдруг к Мельникову помертвевшее лицо.
—
Я еще живой, Мельников, — сказал он, обнимаясь с казачкой,—
я еще живой, еще ноги мои ходят, еще кони мои скачут, еще руки мои тебя
достанут и пушка моя греется около моего тела.
Он вынул револьвер, лежавший у него на голом животе, и подступил
к командиру первого эскадрона.
Тот повернулся на каблуках, шпоры его застонали, он вышел со двора,
как ординарец, получивший эстафету, и снова сделал сто верст для того,
чтобы найти начальника штаба, но тот прогнал от себя Мельникова.
—
Твое дело, командир, решенное, — сказал начальник штаба, —
жеребец тебе мною дазворочен, а .докуки мне без тебя хватает...
Он не стал слушать Мельникова и возвратил, наконец, первому эс-
кадрону сбежавшего командира. Мельников целую неделю был в отлучке.
За это время нас перегнали на стоянку в Дубенские леса. Мы разбили там
палатки и жили хорошо. Мельников вернулся, я помню, в воскресенье утромг
двенадцатого числа. Он потребовал у меня бумаги больше дести и чернил.
Казаки обстругали ему пень, он положил на пень револьвер и бумагу и писала
до вечера, перемарывая множество листов.
—
Чистый Карл Маркс, — сказал ему вечером военком эскадрона,—
чего ты пишешь, хрен с тобой?..
—
Описываю разные мысли, согласно присяге, — ответил Мельников и-
подал военкому заявление о выходе из коммунистической партии большевиков.
«Коммунистическая партия, — было сказано в этом заявлении, — осно-
вана, полагаю, для радости и твердой правды без предела и должна также
осматриваться на малых. Теперь коснусь до белого жеребца, которого я от-
бил у неимоверных по своей контре крестьян, имевший захудалый вид, и мно-
гие товарищи беззастенчиво надсмехались над этим, видом, но я имел силы,
выдержать тот резкий смех и, сжав зубы, за общее дело выхолил жеребца
до желаемой перемены, потому я есть, товарищи, до белых коней охотник
и положил на них силы, в малом количестве оставшиеся мне от империалист-
ской и гражданской войны, и таковые жеребцы чувствуют мою руку, и я
также могу чувствовать его бессловесную нужду, и что ему требуется, но не-
справедливая вороная кобылица мне без надобности, я не могу ее чувствовать
и не могу ее переносить, что все товарищи могут подтвердить, как бы не до-
шло до беды. И вот партия не может мне возворотить, согласно резолюции,,
мое кровное, то я не имею выхода, как писать это заявление со слезами,,
которые не подобают бойцу, но текут бесперечь и секут сердце, засекая
сердце в кровь...»
Вот это и еще много другого было написано в заявлении Мельникова,,
потому что он писал его целый день, и оно было очень длинно. Мы с воен-
комом бились над ним с час и разобрали до конца.
—
Вот и дурак, — сказал потом военком, разрывая бумагу, — - приходи
после ужина, будешь иметь беседу со мной.
—
Не надо мне твоей беседы, — ответил Мельников, вздрагивая, —
проиграл ты меня, военком.
Он стоял, сложив руки по швам, дрожал, не сходя с места, и озирался
по сторонам, как будто примериваясь, по какой дороге бежать. Военком
подошел к нему вплотную, но не доглядел. Мельников рванулся и побежал
изо всех сил.
—
Проиграл, — закричал он дико и влез на пень и стал обрывать
на себе куртку и царапать грудь.
—-
Бей, Тимошенко, — закричал он, падая на землю, — бей враз.
Тогда мы потащили его в палатку, и казаки нам помогли. Мы вскипя-
тили ему чай и набили папирос. Он курил и все дрожал. И только к вечеру
успокоился наш командир. Он не заговаривал больше о сумасбродном своем
заявлении, но через неделю поехал в Ровно, освидетельствовался во врачеб-
ной комиссии и был демобилизован, как инвалид, имеющий шесть поранений.
Так лишились мы Мельникова. Я ужасно был этим опечален, потому
что Мельников был тихий человек, похожий на меня характером. У него
одного в эскадроне был самовар. В дни затишья мы пили с ним горячий чай.
И он рассказывал мне о женщинах так подробно, что мне было стыдно
и приятно слушать. Это, я думаю, потому, что нас потрясали одинаковые
страсти. Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому
ходят женщины и кони.
*
*
*
Четыре месяца тому назад наш бывший начдив забрал у Мельникова,
командира первого эскадрона, белого жеребца. Мельников ушел тогда
из армии, и сегодня Тимошенко получил от него письмо.
Мельников — Тимошенко:
«...И никакой злобы на Буденную армию больше иметь не могу, стра-
дания мои посередь той армии понимаю и содержу их в сердце чище святыни
А вам, товарищ Тимошенко, как всемирному герою, трудящаяся масса Ви-
тебщины, где нахожусь председателем уревкома, шлет пролетарский клич —
«даешь мировую революцию» — и желает, чтобы тот белый жеребец ходил
под вами долгие годы по мягким тропкам для пользы всеми любимой свободы
и братских республик, в которых особенный глаз должны мы иметь за властью
на местах и за волостными единицами в административном отношении»...
Тимошенко — Мельникову:
«Неизменный товарищ Мельников! Которое письмо ты написал до меня,
то оно очень похвально для общего дела, тем более, сказать, после твоей
дурости, когда ты застелил глаза собственною шкурою и выступал из ком-
мунистической нашей партии большевиков. Коммунистическая наша партия
есть, товарищ Мельников, железная шеренга бойцов, отдающих кровь по пер-
вому ряду, и когда из железа вытекает кровь, то это вам, товарищи,
не шутки, а победа или смерть. То же самое относительно общего дела, кото-
рого не дожидаю увидеть расцвет, так как бои тяжелые, и командный состав
сменяю в две недели раз. Тридцатые сутки бьюсь арьергардом, заграждая
непобедимую Первую Конную и находясь под действительным ружейным,
артиллерийским и аэропланным огнем неприятеля. Убит Тардый, убит Лух-
маников, убит Лыкошенко, убит Гулевой, убит Трунов, и белого жеребца
нет подо мной, так что, согласно перемене военного счастья, не дожидай
увидеть любимого начдива Тимошенку, товарищ Мельников. С тем прощай,
товарищ Мельников».
Д.
Петровский.
снежный рейд червонных казаков.
Садилась вьюга на коней —
Сменяла седоков.
—
«Сюда, ко мне. Даешь левей!»
Кричал ей Примаков.
То вьюга шла циклоном в рейд
На Городьково — Льгов:
Бела, как враг, чинила вред
Ушедшим в тыл врагов.
И не бряцая, шли полки,
И мчался арьергард.
На расстоянии руки
Отставший окликал: «Братва!»
Не видел брата брат.
Не оставалось ни следа
В снегах копыт, колес.
—
Сдувала снежная яга
И лапал стремена мороз.
Шли арьергардом латыши
И мчалась Черказдив:
Скакали, пики притушив,
Белее вьюжных див.
Ведут в обход проводники,
Но путает метель,
Не врут крестьяне бедняки:—
На расстоянии руки
Не кони и не седоки,
А скачет белой —тень.
Идет в степи сквозной редут
С проводниками без дорог:
Казак, облапив гриву, спит,
Хоть до костей продрог.
—
«Заедем на ночь в Мармыжи,
В Ольшанке станет штаб.
Братва! эй—на хвосте держись,—
Дороженька нашлась!»
Вот и Ольшанские зады:
Псы лают, хлеб пекут,
По избам сладок хлебный дым,—
Продрог казацкий ус:
—
«Братва, маленько под'едим!»
Пылает там печкой уют...
И селезенки у коней
Захоженных поют...
Нижни деревеньки,
Ниже сядь! —
Пики, в стремя бренькнув,
Уж висят.
Налетят кубанцы
На рысях.
Станут улыбаться —
Нож в усах.
—
Влево: рейд по Реут!
За рекой
На заре зареют —
Взять рукой —
Вражьи — не метелей ли
Флажки?
Длинны наши пики, —
Берега узки...
Опять седлает вьюга хвост,
Опять летят следы теней,
Следы телег, колес,
Свидетель подвига все злей —
Метельный арьергард — занос —
Поет на-веселе.
J1. Сейфуллина.
ванька софронов.
Ванька Софронов поразил его и отца. Требовательно, с дерзкой усмеш-
кой в серых глазах, он задавал инструктору вопросы о новых порядках^
о распределении земли, об отношении города к деревне.
—
Дать-то еще ничего не дали, а шерсть собрали! На ново войско
то и дело: полушубки, валенки, хлеб! У хозяйства дело делать не дают. Все
мужики в представителях да делегатах. Как мужицко хозяйство будет? Войну,
-сказали, кончам, а еще друг с дружкой схватились.
В дерзости слов, которые бросал срывающимся напряженным голосом,
•в вызывающей усмешке глаз — смятенная ищущая мысль.
Хотел инструктор отделаться фразой «лес рубят — щепки летят», но,
.неожиданно для себя, обнял за плечи Ваньку, стал ходить с ним по комнате
и посыпал мелкий, но четкий горох своих слов, зазвучавший глубокой полно-
той человеческой искренности.
Говорил о том, что пластом тяжелым земля придавила деревню. Была
сытее, но темнее, глуше. Миллионы народа жили, как кроты, с тяжелыми
мыслями, с упорством мертвых, отживших верований, с тупой покорностью
всякой палке. Все условия быта обрекали на продолжение такого существо-
вания. Кто приобретал знание, в деревню больше не возвращался. Огромная
могила при жизни для миллионов людей: только труд, пьянство, дикие суеверья.
Пока царил прежний порядок, ни школы, ни туманные картины, ни раз-
говоры изменить порядка не могли. Они только толкали к тому, что совер-
шилось. Надо было разрушить систему этого порядка.
—
Я не буду тебе рассказывать, что надо для города, а для деревни
ладо: облегчить труд, освободить человеческие силы для того, чтобы ум рабо-
тал. Для облегчения труда нужны машины. Везде, где можно, освободить
тело человека от натуги. Машины делают в городах. Чтобы их сделать так
много, как надо, необходимо освободить рабочих от хозяев, устроить хорошо
их жизнь. Освободили. А чем кормить? Деревня для своего освобождения
.должна тянуться.
Он говорил долго и в общем несвязно. Когда замолк, Ванька Софронов
•сразу простым детским голосом вывод сделал:
—
Стало, деревню отменят? Привезут туда всякие машины, все по го-
родскому устроют. Вон что!
Видно было, что он еще не решил, хорошо ли это — отмена деревни.
Но глаза его засветились мягким блеском. Он застенчиво улыбнулся, бережно
•снял руку инструктора со своего плеча и выбежал из библиотеки.
Софрон не верил своим глазам и ушам. Старшего сына своего он два
раза бил мужицким боем, потом старался не замечать. Сквернослов, куриль-
щик, забияка он не был изувечен мужиками только потому, что отец в силу
вошел. Кроме похабной частушки и дерзких ответов, дома от него ничего
не слыхали. А сейчас он так глубоко, хозяйственно язвил инструктора, что,
видно много узнал за это время и передумал. Знал все мужицкие тревоги.
Инструктор взволнованно сказал:
—
Д-да. Умный мальчишка! Замечательный молодняк у России.
И Софрон раздумчиво, как будто размышляя, ответил:
—
Да, пожалуй, эдаких никто задницей не придавит! Вырвутся!
Неожиданной волной колыхнулось отцовское удовлетворенное чувство.
—
Мой халиган-то. Сын.
—
Замечательный мальчишка.
Демьян
Бедный.
юнон гвардии.
Время темное, глухое...
И забитость, и нужда...
Ой ты, времечко лихое,
Мои юные года!
Перед кем лишь мне, парнишке,
Не случалось спину гнуть?
К честным людям, к умной книжке
Сам протаптывал я путь.
Темь. Не видно: ров иль кочка?
Друг навстречу или гад?
Сиротливый одиночка,
Брел я слепо, наугад.
Вправо шел по бездорожью,
Влево брал, наискосок, —
И дрожал пугливой дрожью
Мой незрелый голосок.
Нынче красной молодежи
В дядьки я уже гожусь.
На ребяческие рожи
Все гляжу — не нагляжусь.
Зашумит ли резвым роем
В светлых залах новых школ.
Иль пройдет военным строем
Предо мною Комсомол,
Я, состарившись наружно,
Юным вновь горю огнем:
—
«Гей, ребятки! В ногу! Дружно!
Враг силен. Да шут ли в нем?
Враг стоит пред грозной карой,
Мы — пред заревом побед!»
Юной гвардии от старой
Героический привет!
В. Кириллов.
молодежи.
Бурями смятый, измолотый
Молотом тяжких лет,
Тебя окликаю, молодость,
Тебе, молодежь, привет.
Буен, размашисто-звонок
Дней раскованных бег,
Мир распахнул спросонок
Радугу — путь для всех.
В прошлом плелись закоулками,
Там,* что ни шаг, — овраг.
Звонами мерными, гулкими
Ваш раздается шаг.
Прошлое насмерть заколото,
Новому сказано: быть —
Солнечно, весело, молодо;
Дряхлое все — в гробы.
Юношам — пенные, полные
Чаши кипящих дней,
Девушкам — алые молнии
В шелк шаловливых кудрей.
Смейтесь, весенним гомоном
Плавьте последний лед.
Все, что томило — сломано.
Молодость, выше взлет.
Книгою, циркулем, молотом,
Бей лихолетье лет.
Тебе эта песня, молодость,
Тебе, молодежь, привет.
Л. Сейфуллина.
в медико-педагогическом городке.
I.
Его поймали на станции. Он у торговок с'естные продукты скупал.
Привычный арест встретил весело. Подмигнул серому человеку с винтовкой
и спросил:
—
Куда поведешь, товарищ, в ртучеку или губчеку?
Тот даже сплюнул.
—
Ну, дошлый! Все, видать, прошел.
Водили и в ортчека. Потом отвели в губчека. В комендантской губчека
спокойно посидел на полу в ожидании очереди. При допросе отвечал охотно
и весело.
—
Как зовут?
—
Григорий Иванович Песков.
—
Какой губернии? — брезгливо и невнятно спрашивал комендант.
—
Дальний. Поди-ка и дорогу туды теперь не найду. Иваново-Возне-
сенскай.
—
Как же ты в Сибирь попал?
—
Эта какая Сибирь! Я и подале побывал.
Сказал и гордо оглядел присутствующих.
—
Да каким чортом тебя сюда из Иваново-Вознесенска принесло?
Степенно поправил:
—
Не чортом, а поездом.
На дружный хохот солдат и человека, скрипевшего что-то пером на бу-
маге, ответил только солидным плевком на пол.
—
Поездом, товарищ, привезли. Мериканцы. Детей питерских с учи-
тельем сюда на поправку привезли. Красный крест, что ли, ихний. Это дело
не мое. Ну, словом, мериканцы. Ленин им, што ль, за нас заплатил: подкор-
мите, дескать. Ну, а тут Колчак. Которые дальше уехали, которые померли,
я в приют попал да в деревню убег.
—
Что ты там делал?
—
У попа в работниках служил. Ты не гляди, что я худячий. Я, брат,
на работу спорый!
—• Ну, а добровольцем ты у Колчака служил?
—-
Служил. Только убег.
—
Как же ты в добровольцы попал?
—
Как красны пришли, все побегли, и я с ими побег. Ну, никому меня
не надо, я добровольцем вступил.
—-
Что ж ты от красных бежал? Боялся, что ли?
—
Ну, боялся... Какой страх? Я сам красной партии. А все бегут,
и я побег.
Солдаты снова дружно загрохотали. Комендант прикрикнул на них
и приказал:
—
Обыскать.
Также охотно дал себя обыскать. Привычно поднял руки вверх. Весело
поблескивали на желтом детском лице большие серые глаза. Точно блики
солнечные все скрашивали. И заморенное помятое личико, и вз'ерошенную,
цвета грязной соломы, вшивую голову. У мальчишки отобрали большую сумму
денег, поминанье с посеребренными крышками, фунт чаю и несколько аршин
мануфактуры в котомке.
—
Деньги-то ты где набрал?
—
Которые украл, которые на торговле нажил.
—-
Чем же ты торговал?
—
Сигаретками, папиросами, а то слимоню што, так этим.
—
Ну, хахаль! — подивился комендант. —
Родители-то у тебя где?
—
Папашку в ерманску войну убили, мамашка других детей народила.
Да с новым-то и с детьми за хлебом куды-то уехали, а меня в мериканский
поезд пристроили.
И снова ясным сиянием глаз встретил тусклый взор коменданта. Тот
головой покачал. Хотел сказать: «Пропащий». Но свет глаз Тришкиных
остановил. Усмехнулся и подбородок почесал.
—
Что ж ты у Колчака делал?
—
Ничего. Записался да убег.
—
Так ты красной партии? — вспомнил комендант.
—
Краснай. Дозвольте прикурить.
—
Бить бы тебя за куренье-то. На, прикуривай! Сколько лет тебе?
—
Четырнадцатый с Григория святителя пошел.
—
Святителей-то знаешь? А поминанье зачем у тебя?
—
Папашку записывал. Узнает —• на небе-то легче будет. Мать забыла,
а Гришка помнит.
—-
А ты думаешь на небе?
—
Ну, а где? Душе-то где-нибудь болтаться надо. Из тела-то чело-
вечьего вышла.
Комендант снова потускнел.
—
Ну, будет! Задержать тебя придется.
—
В тюрьму? Ладно. Кормлют у вас плоховато... Ну ладно. Посидим.
До свиданьица.
Гришку долго вспоминали в Чеке.
Крестьянин и рабочпЬ. Ч. II .
27
Из тюрьмы его скоро вызвала комиссия по делам несовершеннолетних.
В комиссии ему показалось хуже, чем в Губчека. Там народ веселый. Смея-
лись. А тут все жалели, да и доктор мучил долго.
—
И чего человек старается? — дивился Гришка. —
И башку всю раз-
мерил, и пальцы. Либо подгонял под кого? Ищут видно с такой-то башкой...
Нехорошо тоже голого долго разглядывал. В бане чисто отмыли, а док-
тор так глядел, что показалось Гришке: тело грязное. Потом про стыдное
стал расспрашивать. Нехорошо. Видал Гришка много и сам баловался. А гово-
рить про это не надо. Тошнотно вспоминать. И баловаться больше не охота.
Когда от доктора выходил, лицо было красное и глаза будто потускнели.
Разбередил очкастый.
Но вечером в приюте с малолетними преступниками был опять весел.
Пищу одобрил.
—
Это, брат, тебе не советский брандыхлыст в столовой. Молока дали.
Каша сладкая. Мясинки в супе. Ладно!
Ночью плохо было. Мальчишки возились, и «учитель» покрикивал.
Чем-то доктора напомнил. Гришка долго уснуть не мог. Дивился.
—
Ишь ты! От подушки, видать, отвык. Мешает.
И всю ночь в полуяви, в полусне протосковал. То мать виделась. Голову
гребнем чешет и говорит:
—
Растешь, Гришенька, растешь, сыночек! Большой вырастешь, отдох-
нем. Денег заработаешь, отца с мамкой успокоишь... Родненький ты мой!
И целует.
Чудно! Глаза открыты, и лампочка в потолке светит. Знает: детский
дом. Никакой тут матери нет. А на щеке чуется: поцеловала. И заплакать
охота. Но крякнул, как большой, плач задержал и на другой бок повернулся.
А потом доктор чудился. Про баб вспоминал. Опять тошнотно стало. Опять
защемило. Молиться хотел, да «отчу» не вспомнил. А больше молитвы
не знал. Так всю ночь промаялся.
Пошли день за днем. Жить бы ничего, да скучно больно. Утром накор-
мят и в большую залу поведут." Когда читают. Да все про скучное. Один был
мальчик хороший, другой плохой... Дать бы ему подзатыльник, хорошему-то!
А то еще учительши ходили.
—
Давайте, дети, попоем, и поиграем. Ну, становитесь в круг.
Ну и встанут. В зале с девчатами вместе. Девчата вихляются и все одно
поют: про елочку, да про зайчика, про каравай, А то еще руками вот этак
разводят и головой то на один бок, то на другой:
—
Где гнутся над омутом лозы...
Спервоначалу смешно было, а потом надоело. Башка-то, ведь, тоже
не казенная. Качаешь ей, качаешь, да и надоест. Лучше всего был Интерна-
ционал! Хорошее слово, непонятное. И на больших похоже. Это, брат, тебе
не про елочку!
—
Вставай, проклятьем заклейменный...
Хорошо! А тоже надоело. Каждый день велят петь. Сам-то бы когда
захотел попел. А когда и не надо. Все-таки за «Интернационал» Жорже ко-
рявому морду набил. Из буржуев Жоржа. Тетя какая-то ему пирожки носит.
Так вот говорит раз Жоржа Гришке:
—
Надо петь: весь мир жидов и жиденят.
А Гришка красной партии. Знает: и жиды люди. Это Советскую власть
ими дразнят. Ну и набил морду Жорже. С тех пор скучно стало. За Советскую
власть заступился, а старшая тетя Зина и Константин Степаныч хулиганом
обозвали. А как белье казенное пропало, их троих допрашивали. Троих,
воры которые были. Гришка дивился:
—
Дурьи башки! Чего я тут воровать стану? Кормлют пока хорошо
Что, что воры? Сам украдешь, коли есть нечего будет. Вот сбегу, тогда
украду.
Крепла мысль: сбежать. Скучно, главное дело. Мастерству обещали
учить — не учат. Говорят, инструменту нет. А эту «пликацию» из бумаги-то
вырезывать надоело. Которую нарезал и сплел, всю в уборной на стенке на-
лепил и карандашом подписал:
—
Тут тебе и место сия аптека для облегчения человека Григорий
Песков.
Писать-то плохо писал, коряво, а тут ясно вывел. С того дня не взлю-
били его воспитатели. И не надо. Этому рыжему, Константин Степанычу,
только бы на гитаре играть да карточки снимать. Всех на карточки пересни-
мал, угрястый! Злой. Драться не смеет, а глазами, как змея, жалит. Глядит
на всех —чисто нюхает: что ты есть за человек. Сам в комнате в форточку
курит, а ребятам говорит:
—
Курить человеку правильному не полагается.
Куренье — дело плевое. Вот сколько не курил. Отвык, и не тянет.
А как заведет Константин Степаныч музыку про куренье, да начнет вынюхи-
вать и допрашивать, кто курил, охота задымить папироску. А тетя Зина всех
голубчиками зовет. По головке гладит. Липкая. Самой не охота, а гладит.
И разговорами душу мотает.
—
Это нехорошо, голубчик! Тебя пригрели, одели, это ценить надо,
миленький. Пуговки все застегивать надо и головку чесать. Ты уже большой
Хочешь, я тебе книжечку почитаю? А ты порисуй.
Ведьма медовая! Опять же анкетами замаяла. Каждый день пишут ре-
бята, что любят, чего не любят, чего хотят и какая книжка понравилась.
И тут Гришка ее обозлил. В последний раз ни на какие вопросы отвечать
не стал, а написал:
—
Анкетов никаких нилюблю и нижалаю.
Побелела даже вся. А засмеялась тихонечко, губы в комочек собрала
и протяжно так да тоненько вывела:
—
У-у, а я тебя не люблю! Такой мальчик строптивый.
Ну и не люби. Жоржу своего люби. Тот все пуговки застегивает и ли-
сточек разлинует, и на все вопросы как требуется отвечает. А как спиной
повернется, непристойное ей показывает. Девчонки все пакость. У тети Зины
научились тоненькими голосами говорить и лебезят, лебезят. А потихоньку
с мальчишками охальничают. Манька с копей ничего. Песни жалостные поет
«
27*
и книжку читать любит. А сама из воску чисто и все перхает. Недужная.
Но и с ней Гришка не разговаривает, боится. Нагляделся на девченок-то
и не любит их. Никого Гришка не любит. И опротивело все: и спальни с оди-
наковыми одеялами, и столовая с новыми деревянными столами. Бежать!
В монастыре детский их дом был. За высокими стенами. И у ворот часовой
стоял. Гришка рассуждал:
—
Правильно. Правонарушители мы. Так и пишемся — малолетние
правонарушители-.
Важно! По-простому оказать воры, острожники, а гю гра-
мотному пра-ва-на-ру-шители.
Это название нравилось также, как «Интернационал». Гришка гор-
дился им и часовым у ворот. Но теперь часовой мешал. Удрать охота.
Весна пришла. На двор как выйдешь, тоска возьмет. Ноздри, как у со-
баки, задвигаются, и лететь охота. Солнышко подобрело и хорошо греет.
Снег мягким стал. Канавки уже нарыли, и вода в них под тоненьким, тонень-
ким ледочком. Сани по дороге уж не скрипят, а шебаршат. Лошадь копытами
не стук-стук, а чвак-чвак... Веточки у деревьев голые, тоненькие, а радост-
ные. Осенью на них желтые мертвые листы трепыхались, а зимой снег. Теперь
все сбросили. Легонькие стали, чисто расправились после хвори. Дышат не на-
дышатся. У неба пить просят. Мальчишки за оградой целый день на улице
криком и визгом весну славят. Ой, удрать охота!.. На дворе хорошо, когда
по своему играть дают. А как с учителями хороводы, да караваи — не охота.
В лапту — можно.
Монашки во дворе жили. Стеснили их, а выселить еще не выселили.
И утром и вечером скорбно гудел колокол. Черные тени из закутков своих
выходили и плавно, точно плыли, двигались к церкви. Она в углу двора была
и входом главным на улицу выходила. Шли монашки молодые и старые, но все
точно неживые двигались. Не так, как днем по двору или в пекарне суетились.
Тогда на баб живых походили, с ребятами ругались и визжали. А ребята их
дразнили. В колодец плевали, а один раз в церковь дверь открыли и
прокричали:
—• Ленин, Троцкий, Сафнарком!
Монашки в губнаробраз жаловались. С тех пор война пошла. Веселее
жить стало.
Л. Сейфуллина.
на
кладбище.
Вот один мужик на станции про себя рассказывал, сколько ему по
разным городам шманаться пришлось. И говорит: «Планида у меня такая
беспокойная». Гришка тогда засмеялся. Со всеми вместе, а не понял. А теперь
вспомнил, к себе применил:
—
Планида у меня беспокойная.
Сейчас, к слову оказать, ребятам там «бутендброты» с чаем дают,
а Гришка по улице ходит да слушает, как в животе урчит. Назад туда
не охота все-таки . Да брюхо-то несговорное. День протерпит, два, а там
и замает человека. И припасы — ау! Все изничтожили. Шестеро их на
кладбище прячется. Пятерых Гришка сыскал, которые склад губнаробра-
зовский с кучером обворовали да из приемника сбежали. Ну, на кладбище
на ночевки пристроились. Деньги у тех-то были, да и Гришка с себя рубаху
да штаны верхние продал. Пальто казенное на худенькое сменял. Придачу
дали. Все проели. Днем по городу канючили без опаски. Кому надо искать?
Новых ребят каждый день приводят. Разве на плохого человека попадешь,
привяжется.
—
Кто ты есть? Откуда?
А хороший пройдет себе по своим делам, куда ему полагается. И не
посмотрит!
Нынче день плохой выдался. Гришка у советской столовой стоял, никто
билетика не дал. В детской, когда без карточек с тарелок доедать дают,
а нынче погнали. «Рабкрину» какую-то ждут. В один дом сунулся.
—
Подайте христа ради:.. Отца на войне убили, мамка от тифу
в больнице померла.
Взашей вытолкали.
—
Иди, говорят, у комиссаров своих проси. Развели вас, пусть кормят.
Дивится Гришка.
—
Дак нетто нас комиссары развели? Отцы да матерья. А к им
подбросили. Ну, дак, говори с дураками! А есть охота. Столовые уж закры-
вают. Эх ты, незадача какая вышла!
С горя дал башкиренку -— тоже у столовой стоял — по уху, а тот
ловкий. Кулаком в живот. Охнул, отдохнул да дальше пошел.
—
Товарищ... дайте на хлеб...
—-
Пшел с дороги. Сколько развелось, и мор не берет.
—• Ишь, пошел, портфельчиком помахивает! Скупяга толстозадая!
Мальчишка папиросами торгует, к нему подошел.
—
Почем десяток?
—
Проваливай, шпана! Эдаки папиросы не тебе курить.
Гришка глаза прищурил.
—
Ох, какой зазнаистый! А може у меня десять тыщ есть.
—
Есть у тебя десять тыщ, других омманывай. Ну-ка, покажи!
—
Стану я всякому показывать. Може и побольше были.
—
Были да сплыли. Проходи, проходи, а то в морду дам!
—
А ну, дай!
—
И дам!
-—
А ну, попробувай!
—
А попробую!
Встали посреди панели и друг на друга наскакивают. А тут барыню
какую-то нанесло.
Это что такое? Ты торгуешь, мальчик?
А у того папироски-то в ящике в руке. Сдуру-то и сунься.
—
Высшего сорту. Сколько? Десяток?
А она его за рукав.
Пойдем-ка в милицию. Приказ о детской спекуляции читал?
Неграмотный? К родителям сходим.
Тот упирается, а она тащит. А Гришка, понятно драть. Чуть не
влопался. Ладно, баба сырая, а то обоих бы захватила. Ну денек!..
А денек уж сгасал. Печальным, серым стало небо. Одна полоска веселая
розовая осталась. Да не греет. Люди в дома заспешили. Ветер злее задул.
Путаются ноги одна за другую, а делать нечего. Поплелся на кладбище.
Между вокзалом и городом, на пустыре оно. Стенами каменными огорожено,
а калитка не запирается. Деревья на нем сейчас от ветру скрипят. И снег
не весь растаял. Студеные ночи бывают. Но в яме у них, в углу меж двух
стен, потеплее. Два раза осмелели: костер жгли. Но часто нельзя. Дознаются.
Пришел Гришка со вздохом, а там радость ждала. Ребята пищу «на-
стреляли» и Гришке оставили. Две девчонки от сытости песню тихонько
заиграли. А они, мальчишек четверо, друг другу про день свой рассказывали.
В яме сидели плотно. Тесно, а лучше. Теплее да и по ночам не страшно.
А то ночью на кладбище жуть сходила. Когда ветер шумит и темно —
лучше. А когда месяц на небо выпялится и тихо кругом — страшнее. Далеко
собаки пролают. Там,, где живые. А здесь тихо. Одно слово — могила.
Чудится, затаился кто-то и рот зажал, чтобы не дышать, а сам смотрит.
Из ямы выглянешь, кресты месяц освещает. Все кресты да памятники стоят
прямо, застыли. Тоже будто затаились, а грозят, а грозят. Сегодня ночь тем-
ная, ветреная. Ветром живую жизнь от города доносит. Васька конопатый,
как сытый, всегда рассказывает. И нынче начал. Девчонки тоже замолчали,
слушать стали.
Разговор зашел, что, бывает, живых хоронят. Васька и рассказ повел.
—
А вот я вам, товарищи, расскажу, какой случай был. В одном
городе... Ну дак вот, барышня одна так-то... Не то реалистка, не то емна-
зистка... Пришла ето домой да «ах, ах»... да... «Ах, папаша, ах, мамаша,
помираю». Дрыг-брык да на пол упанула. Мамашка ето к ей, папаша к ей,
а она «помираю да помираю». Ну, канешно, сичас за дохтуром. Дохтура
привезли. Вот так и так, господин дохтур, памирать хочет. Дохтур ее вызво-
лять. Ну, канешно, и квасом и шиколатом, а она, «нет*, нет, помираю».
Дрык-брык, и не дышит. Ну дохтур уехал, канешно. Маманька это повыла,
повыла, да в гроб ее обрядили. Ну и схоронили. Вот эдак же на кладбище.
Она, канешно, там лежала, лежала, да давай шебаршиться. Слушает сторож:
шебаршится! Слушал, слушал да к отцу с матерью барышниным. Они людей
понабрали, могилку разрыли, а она уж вдругорядь померла, канешно.
А, видать, шебаршилась. Ножку одну вот этак под себя подвернула. И говорит
тогда дохтур: с ей был листаргический сон. И в газете так пропечатали.
Я тогда маманьке с папанькой своим приказал: меня не хороните, пока
я не прокисну и не протухну. Да-а .
Ребята слушали, затаив дыхание. А как кончили, Полька дура завыла:
«боюсь».
Гришка ее урезонивал.
—
Дура, чего воешь? Набрехал все Васька.
А Васька божится.
—
Ей-бо, лопни мои глаза, в газете было пропечатано. Не то реали-
стка, не то емназистка.
Петька-старшой, сам парнишка, ровесник Гришкин, а строгий.
Командир здесь. Он прикрикнул:
—
Реви, реви, кобыла. Сторож услышит, он те пострашнее Васькиного
покажет. А ты, пустобрех, заткнись!
Васька обозлился.
—
Ишь ты! «Заткнись»! Я, штоль, в газетах печатал? А вот как
дам тебе бляблю харошую, так поверишь.
В это время в лесу: бах-бах! За стеной кладбищенский лес сразу начи-
нался.
Дети затихли.
—
Стреляют, — прошептала Анютка.
Тихо сказала, но страха в голосе уж не было. Не в первый раз они
выстрелы слышали.
Гришка в темноте деловито брови нахмурил.
—
Это которых на растрел. Контр-революционеров.
—
А пошто? — Полька пискнула.
Петька отозвался:
—
Вот, дура. Который раз тебе говорю: супротив Советской власти
которые.
Завозился молчаливый Антропка.
—
А я боюсь, когда человеков стреляют. Больно.
А в лесу опять: бах-бах! Затаились. Слушали с любопытством.
Мертвых боялись, а смерти еще не знали. И не пугала мука тех,
в кого бахали. Антропка только задрожал. Он войну в своем селе
видал. У него сердце в комочек захватило. И тоскливо, слезы про-
глотив, тихонько сказал:
—
В тюрьму бы их луч'че.
Петька презрительно сплюнул.
—
А который подлец бесконечный, сам сколько поубивал. Его- как?..
—
А в тюрьму его...
—
А он убегет, да опять убьет.
—
А солдатов к ему приставить, он не убегет...
—• А он солдатов убьет.
—
А у него ривольверту нету, не убьет...
Крыл Петьку. Подумал и сказал только.
—
Ты дурак, Антропка!
А Гришка ничего не говорил, а думал.
—
Как в их стреляют, жмурят они глаза али нет?
И увидал вдруг словно: жмурят. Сердце, как у Антропки, защемило.
Затихли выстрелы. Дети выжидали: не будет ли еще? Не дождались.
Пришел сон, веки смежил, и всякие мысли отвел. Антропка только во сне
взвизгивал тихонько.
Утром, как солнышко обогрело, все стало живым и радостным: Тьма
скрылась и тоску с собой унесла. За стеной кладбищенской в Губчека и
в расстрел играли. Петька председателем Губчека был. В одной руке
будто бы револьвер держал, а другой из пулемета стрелял. Польку с Анюткой
расстрелять водили. Антропка с Гришкой расстреливали. Гришка весело
командовал:
—
Глаза жмурьте! Жмурьте глаза!..
В звонких детских криках не было ни кощунства,, ни жути, ни гнева.
Они в простоте жизнь больших воспроизводили. А солнышко грело жарко.
Будто лаской своей обещало: новую игру еще придумают, эту забудут.
День веселый удался. Парижскую коммуну праздновали. В детской
столовой без карточек кормили. Кладбищенские жильцы в близкую очередь
попали и покормились. А потом по улицам с народом за красными флагами
ходили. Интернационал пели. На площадях ящики высокие красным обтя-
нули. На них коммунисты руками размахивали и про Парижскую коммуну
что-то кричали. Один Гришке больше всего поглянулся. Большой да кудла-
тый, орластый. Далеко слышно! ГІо ящику бегает, патлами трясет, а потом
как по стенке ящика ударит кулаком:
—
Шапки долой! Буду говорить о мучениках коммуны!
Здорово и ятно рявкнул. Гришка слова запомнил, а потом сам в толпе
кричал:
—
Шапки долой, буду говорить о мучениках коммуны!
Около бабы какой-то закричал, она ему затрещину влепила.
—
Свиненок, вопит без ума! Кака така коммуна-то не знает, а орет!
Гришка голову, где влетело, погладил и дальше радостный помчался.
Как не знает? Знает. Коммуна это у коммунистов, а Парижеска... Город
такой есть. За Москвой где-то. Слыхал еще в детском доме: «большой город
Париж, в его приедешь — угоришь».-
Нет, Гришка, брат, знает. И снова
в буйном восторге заорал:
.. . сваею собственной рукой.
Народ опять остановился. Не то баба, не то барыня на ящике тонень-
ким голосом визжала. Что — не разберешь, а смотреть на нее смешно.
Расходуется. Гришка ее тоже тоненьким голоском передразнил: и-ти -ти -ти!
И дальше пошел. А из толпы пьяненький выскочил.
Пальто чистое и шапка с ушами длинными на-бок, а на груди бант
красный прилеплен. Худенький, щербатенький и глазом косит. А сам руками
машет и орет:
—
Товарищи, прашу вас апракинуть капитал!
Его за пальтишко хозяйка его, видно, ухватила, а он рвется
к «ящику»:
—
Убедительно -прашу вас апракинуть капитал!
Подлетели к нему два конных и под ручки подхватили. В толпе захо-
хотали:
—
Вот-те опрокинул капитал.
—
И чем натрескался? — завистливо удивился хриплый бас.
Гришке новая радость. К кладбищу с криком звонким летел.
—
Товарищи, прошу вас опрокинуть капитал!
Однажды ночью кладбище оцепили. Крупного кого-то искали, а нашли
Гришкину коммуну. И в призрачный час предрассветный, спотыкаясь спро-
сонок, плелись малолетние правонарушители знакомым путем. Усталые
красноармейцы ругались, но не били.
А. Безыменский.
пять песен человека
I.
II.
Солнце! Наш огненный лебедь!
Годы века увезут!
Будет бездельничать в небе!
Много есть дела внизу.
Ветер, конь неудержимый,
Распластался, как всегда.
Стой, летящий, стой! Пришли мы
Взять тебя на повода.
Будет ленивую спину
Шара земного калить!
•Удила тебе мы вложим,
В сотнях седел полетим...
Мы твои направим вожжи
Лишь куда мы захотим.
Время настало —в машину
Силу огнистую влить.
Мы Коммунизма орлята
С волей железной в груди.
Солнце! Бери регулятор!
А не захочешь — дадим!
Путь тебе отрезать в поле
Только мы дерзнуть могли.
Будь конем у новой воли,
Новой, радостной земли!
В связки лучи твои свяжем,
Пустим их пламенный ток,
Место тебе мы укажем, —
Смело берись за станок.
Каплями-искрами мечет
Мощная водная даль, —
III.
Будешь от века до века
Двигать машиновый лес...
Гей, послужи человеку,
Красный рабочий небес!
Словно из доменной печи
Вытекла жидкая сталь.
Вылившись бурно на камень,
Формы не хочет она.
Морем, ручьями, реками
Плещет свободно волна.
Небо играет с ней в жмурки.
Ветер ведет хоровод...
В руслах пуховых, как в бурке,
Прячутся плечи у вод...
Дважды на пурпурном ложе
Красятся воды в заре...
Бу-дет! Конец мы положим
Праздной, ленивой игре!
Море и реки направим
Мы по иному пути, —
Двигать громады заставим,
Горы железа нести.
Белым, расплавленным углем
Пищу движенью дадим,
Силой чудовищной ухнем, —
Сделаем все, что хотим.
Каплями красного пота
Мы не играли в борьбе.
Все мы возьмем на работу!
Все покорим мы себе!
IV.
Эй, земля, дрожи пред мощью
Новых, солнечных людей.
Вышла смело рать рабочья
На простор твоих полей.
Мы сады взрастим в пустыне,
С толщей дебрей вступим в бой...
Наша воля не остынет
Пред гигантскою борьбой.
Между гор межи прорубим,
Сотни гор совсем снесем,
Если надо — взрежем глубь их, —
Раз пошли мы — мы пройдем!
В сеть дорог тебя оденем,
Пустим чудо-поезда,
И из праха, как виденья,
Выйдут наши города.
В грудь твою мы путь пророем...
Мы весь мир своим трудом
Завоюем, перестроим,
Вздыбим, взрежем и — возьмем.
Мост воздушный перекинем1
К Марсу! В царство всех планет.
Покоряйся блузам синим,
Эй, земля! — Исхода нет.
V.
Вот оно, царство Свободы!
В жизни мы видим мечту!
Людям подвластна природа,
Люди творят Красоту.
Души, как вереск, сухие
В прошлом исчезли навек.
Правит землею стихия
Только одна — Человек.
В жизни живой, многоликой,
Мира Идей и Труда -—
Этой стихии великой —
Не исчерпать никогда.
А. Неверов.
БАБЫ.
Действие 2-е .
На кровати стонет Катерина. На лавке сидит Федосья. Ночь. Густой полу-
мрак. Перед иконами горит восковая свеча. Сторож на колокольне бьет
11 часов. С улицы доносятся далекие звуки гармоники. Под окнами с песнями
проходят парни, девки. Стук в окно.
Федосья. Батюшки, кто это там?
Катерина. Девки балвают.
Федосья. Девки ли? Не он ли, пес? (Подходит к окошку, снова
садится.) А свекор что? Неужто не заступится?
Катерина. Заступится! Он и натравил всех больше. Начал Фильке
жужжать каждый день.
Федосья. Старый дурак!
Катерина. Старый он, погляди-ка в него хорошенько.
Федосья. А что? (Катерина молчит.) Али приставал?
Катерина. Зажги лампу, мама, темно.
Федосья. Ой, доченька, не надо зажигать. Кабы не пришел он
на огонь. (Подходит к Катерине.) Ты чего намекнула — говори!..
Катерина. Устала я.
Федосья. Ну, что молчишь? Сказывай, коли замахнулась.
(Стук в окно.)
Катерина. Постой, мама, не зажигай.
Федосья. Темень-то какая, ничего не видать.
Голос (за окном). Отоприте!
Катерина. Спроси, мама, спроси.
Федосья. Кто тут?
Голос (за окном). Я, я!
Катерина. Домашка это, отопри, мама.
Федосья.
Напугала как, провалиться бы ей. (Прижимает левый
бок.) Думала — он. Сердце-то... так и прыгает.
(Уходит в сени.)
Катерина
(одна). Каждый день будешь бояться. Выйти нельзя
никуда. Станет караулить. А я одна, и заступиться некому. Возьмет
да ударит чем-нибудь из-за угла.
Федосья (в сенях). Это кто с тобой?
Домна (в сенях). Свой, свой, не бойся.
Федосья. Ну, идите, запру. Полуношники!
(Входят Домна с Иосифом.)
Домна. Где она тут? Жива?
Катерина. Иди сюда, садись .(Всматривается в Иосифа). А это кто
с тобой?
Иосиф. Здравствуйте, пани! Не узнаете?
Катерина. А -а, Иосиф! Садитесь вот на лавку.
Иосиф. По-жалуйста. По-жалуйста. Не беспокойтесь! (Садится.)
Федосья (Входит.) Ну, и напугали вы меня. Сердце-то... так
и прыгает.
Домна. Погоди, тетка, не так запрыгает.
Федосья. Тьфу тебе на язык! Не себе желаешь.
(Вглядывается
в Иосифа). Что-то не узнаю.
(Иосиф поднимается.)
Домна. Писарь это- волостной.
Иосиф. Здравствуйте, бабушка!
Федосья. Во-он это кто*! Осип. Сиди, сиди. Не к добру пришел.
Помилуй бог, Филипп, — не расхлебаешь.
Домна (Катерине). Ну, как дела?
Катерина. Боюсь, кабы Филька не пришел. Зажги огонь-то, мама.
Федосья. Сейчас. (Возится около лампы, спички гаснут.) Опять
подмочили— не горят.
Иосиф (любезно). По-звольте я.
Федосья. Сиди, сиди, чивый больно. Одна я зажгу.
Домна. Окошки надо закрыть. Тетка, дай чего-нибудь.
Федосья. Чего я тебе дам? (Подает шаль). Ладно, что ли?
Домна. Ладно, сойдет.
Катерина. Не надо бы закрывать, Домашка.
Домна (снимает с себя полушалок). А это мы вот чем закроем.
(Закрывает второе окно). Что, видно, пуганная ворона куста боится. (Са-
дится около Катерины). Ну, рассказывай.
Ка-терина. Чего буду рассказывать?
Домна. За что он тебя избил?
Катерина. Выпытывал, с кем гуляла я здесь.
Домна. Разве ты гуляла?
Катерина. Кабы гуляла — не досадно.
Домна. А про свекора ему говорила?
Катерина. Нет.
Домна. Дура. Все помалкиваешь? Чего дожидаешься? Э-эх, разиня!
Мало тебя учат, еще бы надо. Она молчит. Молчанием хочет выиграть. Нет,
матушка моя, молчанием да смирением ты не выиграешь. Чего боишься?
Возьми да расскажи, как он приставал к тебе — пускай тогда перекусаются
между собой.
Федосья. Али приставал?
(Ей не отвечают).
Катерина. Как я скажу? У них поножовщина выйдет.
Домна. А тебе что? Пускай режутся, чорт с ними. Ты эту дыру
все-равно не закроешь собой. Только хуже сделаешь. Узнает Филька от
людей, тебя же обвинит. Подумает, что с ним жила, ты же будешь виновата.
Как не верти, а тебе и так и этак хуже выходит. Отруби сразу и — больше
ничего.
Федосья. Ну, ну, сватушка! Теперь я понимаю. Хорош кобелек.
Домна (Катерине). Или больно по сердцу пришелся тебе — терпишь
от такого мозгляка. Нынче побьет, завтра побьет, а она перед ним на колен-
ках стоит, руки готова целовать. Али клином свет сошелся?
Федосья. Испохабил он ее всю. Ляжет ночью и давай зубами грызть,
а заступиться некому. Беда наша, Осип. Вот и с вами теперь греха не мало.
Нагнали не знай чьих отколя, и путаетесь. Вы — к нам, наши — к вам .
Всех перемешали. А сердце у нас, миленький, бабье. Полюбит татарина —
татарин мил будет. Разве я не знаю? Ты вот не русский, а может быть милее
русского ей. (Показывает на Дожну). Вижу я, меня не проведешь.
Домна. Ты чего выдумываешь, тетка?
Федосья. Ладно егозить, вижу я. Не в обиду тебе говорю. Мы не
виноваты, коли так устроено. Сердце у нас больно обиженное. Подойди
к нему с лаской, обогрей — баба на плаху пойдет за одно ласковое слово,
потому что за людей нас никто не считает. А мужья наши, прости господи —
говорить уж не хочется. Они думают, на постель нам некого положить.
А вот и неправда. Это после приходит и не наша вина...
Домна. Ты что разошлась?
Федосья. Разойдешься! У нас ведь род несчастный. Мой покойный,
не тем будь помянут, тоже хорош был кобелек. Сколько раз я плакала от
него! А все за сердце за свое. Грешница, прости меня, господи! Стисну
бывало зубы и лежу с ним, как мертвая. Не в радость был. (Ухо-
дит в чулан).
Катерина. Какая ты счастливая, Домашка!
Домна. Позавидовала?
Катерина. Да как же! Живешь по своей воле — никто не указчик.
А тут одни побои.
Домна. И ты устрой, чтоб никто не бил.
Катерина. Как устроишь?
До м н а. Кто умеет — просто.
Катерина. Я вот не умею.
Домна. Можно поучиться.
Иосиф (закуривает). ГІани Домна, скоро вы?
Домна. Сейчас. Подожди немного:
Катерина. Всю жизнь ласкового слова не слыхала. Думала, на войне
убьют—-
опять пришел. Мама вон все виновата.
Федосья (из чулана). Разве их узнаешь! За родством погналась, за
богатством.
Домна (Катерине). На сколько он приехал?
Катерина. На три месяца по болезни.
Домн а. По какой болезни?
Катерина. Я не знаю.
Домна (тихо). Может быть солдатская у него? Может быть, гнилой
он? Смотри, голубушка, будешь выть, если и тебя заразил.
Катерина. Все равно — один конец.
Домна. Зря болтаешь. Сколько раз будешь жить? Десять что ли?
Только ведь раз — раз'единый раз. Ну, и живи. А голову не вешай и слезами
не откупайся — грош им цена. По ведру в день выливай — не плюнет никто.
Надо по другому обдумать, пока не заколотили совсем. Хочешь, я
научу тебя.
Катерина. Ну?
Иосиф (Домне). Пане, ходит кто-то под окном.
Домна. А ты испугался?
Иосиф. Пожалуйста, не смейтесь. Я только предупреждаю. Мне же
очень жалко пани Катерину.
Домн а. Жалко? А меня не жалко?
Иосиф (пожимает плечами). Не понимаю.
Домн а. Бить, так всех будут: и ее, и меня, и тебя. Ты ведь не
русский.
Иосиф. Пане, не шутите.
Д о м н а. Пришел сюда и рашоряжаешвся русскими бабами.
Катерина. Домашка, что это ты?
Домна. А тебе какое дело? (Нервно смеется). Ну, не сердитесь. Кто
там ходит? Иосиф, не хмурься!
Катерина. А тьг потише. Нарочно что ли делаешь?
Федосья (выходит из чулана). Ты не егозись, Домашка, тут не до
шуток.
Иосиф (пожимает плечами). Не по-нимаю.
Д о м н а. Ну, ладно, не буду я. Сяду вот и буду сидеть как мертвая.
(Делает неподвижную позу).
Федосья. Ты не егозись — смела больно.
Домн а. Испугалась я, Тзьгк проглотила.
(Стук в окно).
Катерина. Господи, Домашка, брось! Мама, кто это?
Федосья. Чует сердечушко, чует. Так и знала я, будет беда. (Кру-
жится по избе. Иосиф стоит около стола, заложив руки в карманы. К нему).
Сядь хоть ты, христа ради, сядь. Убьют они нас из-за тебя. (Иосиф) садится,
взволнованно кусает губы). Брось курить-то, брось! (Домне). Шут тебя при-
нес с ним — греха-то не мало.
Домн а. Ну, заметалась.
Федосья. Замечешься — за нас заступиться некому.
(Стук в окно).
Катерина. Домашка, не уходи, боюсь я.
До м н а. Я не собираюсь.
Федосья (в окно). Кто тут?
Голос (с улицы). Отопри на минутку!
Федосья. Да кто ты?
Голос (с улицы). Али не узнала?
Федосья (облегченно). Сват идет. Отпирать что ли?
Домна. Может,оннеодин?
Федосья. Сватушка, один ты?
Голос (с улицы). Один, один, не бойся.
Федосья. Отопру пойду. Али не надо?
Катерина. Домашка, как по-твоему?
Д о м н а. По-моему отпереть надо. Поглядим, какой он.
Федосья. Убрала бы ты Осипа куда-нибудь.
Домна Куда я его уберу? Чай, он не иголка.
Федосья. Поговори вот с ней. Посади вон в чулан. Выйдет чего —
не пеняй.
Домна. Я s ответе.
Федосья (машет рукой). Провалиться бы тебе!
Голос (с улицы). Сваха, скоро что ли ты?
Федосья (суетится). Сейчас, сейчас. Не к добру все это начинается.
Зачем он идет?
Домна. Иди, а то рассердится.
Федосья. Ты мной не верти, матушка моя, я тебе не девчонка.
Г леди-коси, чего она делает. Все на смешки поднимает.
Голос (с улицы). Сва-а -ха!
Федосья. Сейчас, сейчас, чулки не найду. (Уходит).
Домна (шепчет Катерине). Хочешь, угостим его?
Катерина. Кого?
Домна. Фильку. Штучка у меня одна есть. Дашь, и ножки вытянет.
(Лезет за пазуху).
Катерина. Ой, не надо! Христа ради не надо!
Домна. Да ты слушай.
Катерина. Нет, нет, не надо. Погоди. Идут. Иосиф, уйдите, обидят
они вас. Спрячьтесь!
Иосиф. Пани, так же не можно. Не могу же я уйти.
Катерина. Уйдите, уйдите!
Дом н а. Он гордый, не уйдет. (Берет Иосифа за руку).
Иосиф. Пани!
До мн а. Ну, скажи, ты ведь не уйдешь?
Тихон Кузьмич (в сенях). Как крепко заперлись! Денег что ли
накопили?
Федосья (в сенях). Ну, денег. Найдешь у нас денег. Иди, сватушка,
я запру. Ветер больно отворяет.
Тихон Кузьмич. Да, нынче дует.
Катерина. Домашка, идут.
Домна. Ну, нерусский, смотри! (Отскакивает, садится на кровать,
Иосиф вызывающе смотрит на дверь.)
Тихон
Кузьмич (входит пьяненький). О, тут гости! (Смотрит на
Иосифа). Ну, вот и мы зараз. Здорово живете!
(Молчание.)
Федосья (входит). Добро пожаловать, сватушка. Добро пожаловать.
Садись.
Тихон
Кузьм и ч. Сядем. Мы народ не такой, который ежели.
Постоим. (Домне). Здравствуй, солдатка!
Домна. Кушай.
Тихон Кузьмич (протягивая руку). Давай руку!
Домна. И так хорошо.
Тихон Кузьмич. Хм! Д-да-а . (Иосифу). Здравствуй, неприятель!
(Иосиф волнуется. Поднимается, снова садится). И ты не хочешь? Оно, ко-
вешно, образованные.
Домна. Какой он тебе неприятель?
Тихон Кузмич. А как же? Чай, мы с ним воюем. Кто у меня
племяша убил? Может быть он. Вот, значит, и враг он мне приходится.
Неприятель.
Федосья. Сватушка, здесь неприятелев нет. У меня в дому все хо-
рошие люди,
Тихон К у з ь м и ч. А ты уж обиделась! Рассердилась? Чай, я шучу.
Ты, значит, характера моего не знаешь. А иша — сваха. Чай, мы с ним
друзья, с Оской-то. Кредитные! (Хлопает по плечу Иосифа). Верно пан?
Айда, поднесу. Хошь? Осип? Айда гулять, всю Рассею наскрозь пройдем.
Иосиф. Спасибо, я не пью.
Тихон Кузьмич. Не пьешь? Хм. Ты только нюхаешь? Оно, ко-
нешно, ежели которые. Здравствуй, сваха.
Федосья. Здравствуй, сватушка. Здравствуй. (В сторону). Так бы
вот и нахаркала в зеньки кобелю.
Тихон Кузьмич (ломается). А я к тебе в гости пришел, сваха.
Рада, что ли?
Федосья. Хорошим людям мы всегда рады. Добро пожаловать
(В сторону). На-ка, выкуси.
Т и X о н Кузьмич. Я не больно хороший. Так себе мужичишка
курносый. А ежели кто меня уважает, для того и я золотой человек. Слышишь,
сваха? Золотой я человек для того. А который под меня подкапывается — по-
глядим. И мы силешку имеем. Не больно так очень большую, а ежели ударим
вот этой штукой, (показывает на карман), пожалуй, редкий устоит на но-
гах— переломится. (Пауза). Сваха, ставь самовар, коли ты мне рада, почай-
ничаем. Я и то думаю: дай, мол, к свахе Федосье схожу. Сама она не ходит
ко мне. Дай я проведаю. Может быть нездоровится ей. Подхожу, а у свахи
огонек горит. Что такое? Окошки под занавесками. Не иначе, вечеринка
какая. (Иосиф поднимается.) Ты что торопишься? Мы покалякаем с тобой.
Иосиф. Я по-русски не говорю.
Тихон Кузьмич. Ну, давай по-немецки. Я по всякому умею.
Гута-мона-вари-мар-и
—
дать тебе по шапке. Видал? Это по-вашему.
Домна (волнуется). Дядя Тихон, за что Филька избил Катерину?
Тихон Кузь м и ч. Мы ничего не знаем. Спроси у Фильки.
Домна. Бесстыдники вы, живодеры.
Тихон Кузьм и ч. А ты с какого бока тут?
Домна. Напали два чорта, осилили?
Катерина. Брось, Домашка.
Домна. Чего бросать? На потеху что ли ты им далась?
Тихон
Кузьмич. Ты, девка, вот что. Придержала бы язык —
лучше будет.
Домна. Не тебя ли испугалась?
Тихон Кузьмич. Меня бояться нечего, а тебе лучше молчать,
коли хвост замаран.
Домна. Не намекай, ты мне не тятенька родной, как хочу, так и живу.
Хочу вот так, хочу вот этак. (Разводит руками.) Какое вам дело? Вот ты
молчи, у тебя замаранный хвост.
Федосья. Сватушка, Тихон Кузьмич!
Тихон Кузьмич (смотрит на Катерину). Я всегда жалел ее, как
родную.
Д о м н а. Жалел волк кобылу.
Федосья. Сватушка!
Тихон Кузьм и ч. Катерина, разве я обижал тебя?
Домна. Говори, не бойся.
Федосья. Сватушка, Тихон Кузьмич! Господь-то батюшка все
видит.
Тихон Кузьмич (на Федосью). Постой ты юлить! Мы с тобой
после поговорим- .
Чего под ноги лезешь? Катерина, когда я обижал тебя?
Катерин а. Замучили- вы
-меня!
Федосья. Эх, сват, с-ват, сватушка! Не потерпит тебе господь, не
потерпит.
Тихон Кузьмич (тревожно). Вы что? Чего?
Д о м- н а . Кто за ней под сараем бегал? Не ты? А потом сына натравил?
Федосья. Бесстыдник, бессовестный!
Тихон Кузьмич. А-а, вы вон чего! Этим вы не закроетесь,
голубушки. (Громко.) Я вас выведу.
Домна. Н-е кричи! Заездил одну, еще захотелось?
Тихон Кузь-м-ич. Я
-вам
покажу, как поклеп наводить. Они све-
кора примазали, потаскухи, старика. А я дурак не -пойму. Они: вон куда заги-
бают. Ну, сваха, теперь я раскусил тебя. (Поворачивается к Иосифу, стучит
по столу кулаком). Зачем он здесь? А? Зачем этот человек вот здесь сидит?
(Иосифу). Ты зачем сидишь?
Крестьянин и рабочий, Ч. II.
Иосиф. Пан!
Тихон
Кузьмич.
Не прикидывайся дурачком! Сказывай, по
какому делу!
Домна. (Подступает к Тихону Кузьмичу). Дядя Тихон, ты его
не тронь!
Тихон Кузьм- и ч. Я его так трону—песок посыпитея.
Домна. Не тронь ты его — хуже будет! (Тихон Кузьмич стоит уди-
вленный. Стук в окно. Голос Фильки: «Отпирай»).
Федосья (мечется в испуге). Батюшки, господи, Домнушка! Филипп
идет. Родные мои. Филипп идет.
Тихон Кузьм и ч. Заюлила !
Катерина. Идут? Опять бить?
Домна. Сиди, сиди1!
Тихон Кузьмич. Нам бояться нечего; мы не какея шбудь. (Дви-
гается к дверям).
Филька (с улицы). Закрылись? (Стучит кулаком в раму).
Домна (Тихону). Ты куда бежишь?
Тихон Кузьмич. Мы не бежим. Нам бояться нечего.
Федосья. Господи, царица небесная, матушка!
Катерина. Пустите меня, не держите!
Иосиф. Пане, не пугайтесь. Рада бога, не пугайтесь.
Голос (в окошко). Тетка Федосья, отпирай! Староста пришел.
Филька. Отпирай! (Бьет по стеклу. Просовывает руку, срывает
шаль).
Голос. Стой, Филипп, не гожа! Зачем окошки бить? Окошки не ви-
новаты.
Катерина,
(хочет спрыгнуть с кровати). Пустите! (Ее держат
Иосиф с Домной, Тихон Кузьмич в это время скрывается, отпирает двери).
Федосья. Доченька, господь с тобой! Доченька!
Катерина. Мама, да не могу я больше.
Иосиф. Пане, пане, не путайтесь.
Катерина. Иосиф, уйди христа' ради отсюда: убьют они тебя.
Домн а. Пусть только тронут.
Катерина. Ах, господи, один конец!
Иосиф. Пане, не пугайтесь. (Входят Филька со старостой. Филька
пьяный, в руках у него толстый сучок).
Филька (стучит сучком в половицу). М-м ... Мамаша! По какому
праву заперлась? От кого занавесилась?
Федосья. Что ты, что ты?
Филька, (замахивается на нее сучком). Замолчь!
Иосиф. Что ви хотите?
Филька. Морду бить тебе. У -у сволочь! (Замахивается сучком).
Иосиф (дико). Пан!
(Домна делает движение броситься к Иосифу).
Староста. Постой, Филипп, не гоже.
Филька. Дядя Иван, разве я могу терпеть?
Староста. А ты возьми да потерпи. Лучше будет.
Филька. Не могу я терпеть.
Староста. Постой, Филипп, по порядку надо. Садись. Это мы сейчас
разберем (Иосифу). Ну, рассказывай, Осип, каким путем ты попал сюда, по
.какому делу. Скрываться будешь, хуже будет.
Иосиф. Господин староста!
Дом н а (перебивая Иосифа). Go мной пришел. Шла и его захватила.
Староста. А он тебе с какой родни?
Д о м и а. Это не ваше дело. Муж мой. Любовник
Филька. Видал?
Староста. Постой, постой.
Филька. Башки вертеть надо, душить.
Дом н а. Лишних нет.
Филька. Видал?
Староста. Да стойте что ли вы!
Домна. Это вас не касается — с кем я живу. Полюбила и живу.
Староста. Дружка завела?
До мн а. Да, дружка.
Староста. А ты можешь это самое, если у тебя муж при
живности?
До м н а. Чего хочу, то и могу. Моя воля.
Ст а р о с т а. Погодь, погодь, тут дело сурьезное.
Филька. Господин староста, я не могу больше терпеть. В сердцах
-я
теперь, могу человека убить. Не ручаюсь я за самого себя, — было бы вам
известно. Горит во мне, ножом режет. (Иосифу.) Уйди отсюда!
Домна. Нет,оннеуйдет.
Иосиф. Господин староста, позвольте мне с вами говорить.
Филька. Дядя Иван, я больше не могу. Куда хошь девай меня — не
могу я глядеть на этого человека, (Иосифу). Уйди!
Иос иф. Я же не виноват.
Филька. Уйди!
Староста.
Отойди маленько. Видишь, человек в расстройстве.
(Иосиф отходит).
Ф и л ь к а. Разве я не имею права, ежели моя жена не желает со мной?
Ты вот староста. Скажи мне при всех: имею я право или нет? Скажешь, что
я не имею — сейчас уйду и разговаривать не буду. Пускай ее — как хочет,
так и живет. Она — себе, я — себе.
Староста. Конешно, темное дело. Надо правду говорить — большое
дело, сурьезное. Катерина, желаешь ты с ниім по суглаеу жить?
Федосья. Не отдам я свою дочь на растерзание — будя. Пущай
лучше убьют меня на месте, а родное детище мне дороже. За что он ее
тиранит?
Филька. Ты не закрывай, старая ведьма. Сводница ты!
Староста. Постойте. Я так думаю теперь: к примеру скажем — Ка-
терина: отрезанный ломоть. Муж побил, муж и помиловат, на то он и муж.
Разве можно в женском положенье волю давать? Когда это сроду было, чтобы
баба бегала. Ну, уйдет иной раз до вечера, подуется немножко в сердцах,
а потом опять назад. Всячина бывает, без этого не обойдешься.
Федосья. Не отдам я свою дочь, не отдам.
Староста. Зря, Федосья, звонишь. Раньше бы не отдавала, а теперь-
закон — ничего не поделаешь.
Домна. А кто писал ваш закон?
Филька. Я писал,
Д ом н а. Ты писал, мы перепишем.
Филька. Молчи !
До мн а. Нет, ты молчи. Я уж молчала.
Староста. Бросьте, надо дело говорить!
Домна (передразнивая). Закон! А это закон — они гнилыми прихо-
дят домой? Через кото у нас носа проваливаются? Это можно им? Они — му-
жики? По-своему живут? Ну, пускай и с нас не спрашивают. Мы тоже не де-
ревянные. У них — воля, и у нас — воля.
Староста. Ты только смутки разводишь, девка.
До м н а. А вам бы эдак чай: бьют — молчи, гниешь — молчи?
Староста. Зря долбишь. По-вашему все равно не будет.
Домна. Ну, и по-вашему тоже. Отошла цена.
Староста. Катерина, будешь ты по сугласу жить?
Катерина (после паузы). Не буду.
Филька. Что это такое? Жена не хочет с мужем жить.
Староста. Постой, по порядку надо допросить. (Катерине). Значит,,
ты не хочешь с ним жить по сугласу?
Кате ри н а. Не могу я больше. Силы моей нет. И не мил он мне.
Филька. Это я тебе не мил?
Катерина. Мама!
Филька. Больно не мил?
Федосья. Доченька, господи! Иван Клементьич!
Филька. Ты погоди маму звать. Больно- не мил?
Домна (загораживая Катерину, кричит на Фильку). Не лезь!
Федосья. Домнушка, старики ! Да что- это такое?
Филька. Говори в последний раз: не мил?
Катерина (стоит во весь рост на кровати, прижавшись к стене).
Мама!
Федосья. Осип, голубчик!
Иосиф. Господин староста, так нельзя. Что вы делаете?
Филька. Молчи, австрийская морда!
Иосиф. Пан, ви нисколько не ругайтесь! Пусть ви меня убейте, но я
с этого места не пойду.
Федосья. Искусал он ее всю, живого пятнышка не осталось.
Филька. За дело. Не води шашни.
Федосья. Да с кем?
Ф и л ь к а. Муж на войне страдает, а она по задворкам шляется.
Домна. Ты укажи нам того человека, с кем она шлялась. Кто тебе
говорил про нее? Поставь их на одну доску.
Староста. Говори, Филипп, без свидетелей нельзя.
Филька. Тятя говорил, вот кто.
Д о м- н а. А ты про тятю ничего не слыхал? Спроси у жены, она тебе
скажет. Не тятя твой бегал за ней, когда тебя не было дома? Не он ее за
-подол ловил? Теперь она виновата?
Филька. Врешь ты!
Федосья. Бесстыдник он бессовестный, а еще отец родной!
Домна. Унеговонкакая шея— бынья!
(Филька стоит пораженный).
Староста. Стойте! Зря болтать не надо. Есть у вас свидетели?
Домна (показывает на Катерину). Вот свидетель, перед вами.
Староста. Ей верить нельзя, надо постороннего. Вы можа нарочно
•сговорились.
Домна. Мы под присягу пойдем.
Староста. Ну, как, Филипп, думай, в тупик зашли.
Филька. Все на меня.
Староста. Катерина, правда? Донимал тебя Тихон?
Катерина. Правда.
Староста. Может быть шутил он? Для смеху? сказывай — тут дело
сурьезвое.
Катерина. Замучил он меня. Спать заставлял с собой вместо жены.
Филька (вскакивает). Молчи!
Катер и н а. Проходу не давал.
Филька (иступленно). Молчи!
Домна (загораживает Катерину). Драться мы не дадим.
Катерина. Не могу4 я больше терпеть. Тошно мне. Убейте лучше
сразу !
(Глубокое молчание. Филька перед кроватью со стиснутыми кулаками
медленно опускает руки, несколько секунд стоит неподвижно, уронив голову.
Молча уходит из избы. Перешагнув порог, останавливается, мучительно трет
ладонью по лбу. Подавленный душевным волнением, с горечью
говорит:
Эх, отец!).
Занавес.
В.
Александровский.
девушке - красноармейцу.
1.
Было радостно и неловко,
Что среди огрубевших нас,
Ты стреляла в цель из винтовки,
Крепко жмуря левый глаз.
Ты готовилась стать солдатом...
Я всегда за тобой следил,—
Мне хотелось твоим быть братом,
Чтобы чувствовать больше сил.
Говорили о постороннем—
О театре, о южных ночах...
Был задор в прощальном поклоне
И в серо-светлых глазах.
2.
Грозные, тревожные недели,
Южные, отважные солдаты.
Гудки паровозов пели,
Вокзал дымился космато.
Стройными сплоченными рядами
Строились на выгнутых платформах,
Вагоны пустыми ртами
Солдат глотали проворно.
Встретился с задорными глазами,
Дрогнули приподнятые брови...
Прощай! Не забудь. Память
Тебе венок приготовит.
3.
Кровью дни задымились,
Зубы оскалил голод;
Надеждой слабых кормили,
Как тревога колола.
Слабла жизнь от усилий,
Уголь завяз. Без топки...
А вести дни приносили
Все хуже, хуже для робких.
Мертвых очередь ждала,
Густо росли могилы...
Рожденье смертью венчалось.
Гасли, таяли силы.
Не было в жизни нежных,
Стала война понятной:
Вдали на равнинах снежных
Спасут кровавые пятна.
Бронированные поезда
Открыли смертоносные пасти.
Отправлялись на фронты.
Мучительно было ждать,
Когда разорвется на части
Черная муть горизонтов.
Осторожный язык телеграмм-
Будил на окраинах тревогу
И слепые порывы...
На рынке, толпясь, по утрам
Говорили тихо, но много,
Глухо, злобно и лживо.
Эшелоны, один за другим,
Отправлялись на юг и на север
В поредевшие части...
Мы верили: победим, —
Россия взлелеяла в чреве
Вечное право на счастье.
5.
И вот, однажды, при разгрузке-
Больных и раненых солдат
Я встретил серовато-тусклый
Твой взгляд...
Внезапно стало тесно в горле,
Подался к каменной стене...
Ты руку левую простерла
Ко мне...
"Тебя внесли на перевязку...
О чем-то нужном не спросил...
Шатался я в тумане вязком
Без сил...
Не знал, что ты мне дорога так,
Что впереди еще предел...
Вокзал, дымящийся космато,
Гудел.
6.
В лазарете было тихо, сонно,
Не мешала старая сиделка,
Обегало белые колонны
Солнце шустрой, шаловливой бел-
кой...
Ты рассказывала. Хрупкий голос
Обрывался часто ниткой прелой,
Все тревоги быстро раскололись,
И мечта опять заголубела.
Города победы опьяняли,
Кровь погибших удобряла топи...
Эти дни бушующие пряли
Боевые лозунги в Европе.
7.
И снова вокзал. Улыбалась
Редкому счастью ты.
Снова «ура» рождали
Вагонов рты.
Ты уезжала вторично.
Слепо цвели огни,
Не было жизни личной
В эти дни...
8.
.. . Убита...
Так что же?
Капли крови
Рубинами блещут
На красных знаменах...
Великое — вечно.
О, сколько юных
Выпьют напиток
Бессмертья
М. Герасимов.
чил
За многодумной ригой,
Шурша осторожно,
Качалась колючей чилигой
Душа,
Купаясь в дорожной и тинной пыли,
Такая твердая,
Такая необласканная и дикая,
Что даже скотина колола морды.
Раз прохожие барышни
С кокетливыми глазками
И розами, дрожащими на щеках,
ИГА.
Шли мимо дорогой и рожью,
Чиликали и смехом щелкали:
—
Смотрите, чилига,
Немного похожа она
На мимозу,
Как полыхает цветенья
Маленький огонь!
Одна, срывая куст,
Занозила безмозольную ладонь.
Ушли с хрустом,
Неприлично ругая
Чилижный куст
И укус.
На заре пришла другая,
Фабричная,
Пела зычные песни.
—
Чилига, ну, что такая скучная,
Такая неприветливая и постная,
Только цветики пылкие,
Нестехлипор
Тебе мир постыл,
Когда тобою на конюшнях
Девушек секли крепостных
И кровь ржавыми жилками
По коре застыла.
Ну, ладно, будешь мне другом.
Шла босая росистым лугом,
Слушая благовест птичьего пения,
И пальцами, закаленными о железо,
Срезая веник.
Он стал нутром,
Другом фабричной.
Каждое утро,
Когда даже зычные гудки труда
Еще по воздуху алому не хлопали,
Ласково сжимала его,
И он ловко гнал по полю пола
Маленькие ст;ада
Сора и бумажек.
А заутренний гудок ближний
Всем кричал в уши:
Имейте веник чилижный, —
Чистить бумажные души!
С. Есенин.
русь советская.
Тот ураган прошел. Нас 'мало уцелело.
На перекличке дружбы многих нет.
Я вновь вернулся в край осиротелый,
В котором не был восемь лет.
Кого позвать мне? С кем мне поделиться
Той грустной радостью, что я остался жив?
Здесь даже мельница — бревенчатая птица
С крылом единственным — стоит, глаза смежив.
Я никому здесь не знаком.
А те, чтб помнили', давно забыли.
И там, где был когда-то отчий дом,
Теперь лежит зола, да слой дорожной пылі
А жизнь кипит.
Вокруг меня снуют
И старые и молодые лица.
Но некому мне шляпой поклониться,
Ни в чьих глазах не нахожу приют.
И в голове моей проходят роем думы.
Чтб Родина?
Ужели это сны?
Ведь я почти для всех здесь пилигрим угрюмый
Бог весть с какой далекой стороны.
Иэто я!
Я, гражданин села,
Которое лишь тем и будет знаменито,
Что здесь когда-то баба родила
Российского скандального пиита.
Но голос -мысли сердцу говорит:
«Опомнись! Чем же ты обижен?
Ведь это только н-овый с-вет -горит
Другого поколения у хижин.
Уже ты стал немного отцветать,
Другие юноши поют другие песни.
Они, пожалуй, будут интересней —
Уж не село, а вся земля им- мать».
Ах, родина! Какой я стал смешной!
На щеки впалые сухой летит румянец.
Язык сограждан стал мне как чужой,
В своей стране я словно иностранец.
Вот вижу я:
Воскресные сельчане
У волости, как -в церковь, собрались.
Корявыми немытыми речами
Они свою -обсуживают «жись».
Уж вечер. Жидкой позолотой
Закат обры-згал серые поля.
И ноп» босые, как телки под ворота,
Уткнули по канавам тополя.
Хромой красноармеец с ликом сонным,
В воспоминаниях морщиня лоб,
Ра-сказывает важно о Буденном,
О том, как красные отбили Перекоп.
«Уж мы его —и этак и раз-этак, —
Буржуя энтого... которого... в Крыму»...
И клены морщатся ушами длинных веток,
И бабы -охают в немую полутьму.
-С горы идет крестьянский комсомол,
И под гармонику, наяривая рьяно,
Поют агитки Бедного Демьяна,
Веселым криком оглашая дол.
Вот так страна!
Какого ж я рожн-а
Орал в стихах, что я с народом -дружен?
Моя поэзия здесь больше -не нужна.
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.
Ну, что ж!
Прости, родной приют!
Чем сослужил тебе, и тем уж я доволен.
Пускай меня сегодня не поют —
Я пел тогда, когда был край мой болен.
Приемлю все.
Как есть всё принимаю.
Готов итти по выбитым следам.
Отдам всю душу октябрю и маю,
Но только лиры милой не отдам*.
Я не отдам ее в чужие руки, —
Ни матери, ни другу, ни жене.
Лишь только мне она свои вверяла звуки
И песни нежные лишь только пела *мне.
Цветите, юные! И здоровейте телом.
У вас иная жизнь. У вас другой напев.
А я пойду один к неведомым пределам,
Душой бунтующей навеки присмирев.
Но даже и тогда,
Когда на всей планете
Пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть, —
Я буду воспевать всем существом в поэте
Шестую часть земли
Названьем кратким «Русь».
С. Есенин.
на
родине.
Я посетил родимые места,
Ту селыцину, где жил мальчишкой,
Где каланчой с березового вышкой
Взметнулась колокольня без креста.
Как много изменилось там
В их мирном неприглядном быте.
Какое множество открытий
За мною следовало по пятам.
Отцовский дом не мог я распознать;
Приметный клен уж под окном н*е машет,
И на крылечке не сидит уж мать,
Кормя цыплят крупитчатою кашей.
Стара, должно быть, стала...
Да, стара.
Я с грустью озираюсь на окрестность.
Какая незнакомая мне местность.
Одна, как прежняя, белеется гора,
Да у горы высокий, серый камень, —
Здесь кладбище.
Подгнившие кресты,
Как будто в рукопашной мертвецы,
Застыли с распростретыми руками.
По тропке, опершись на подожок,
Идет старик, сметая пыль с бурьяна.
—
Прохожий! Укажи, дружок,
Где тут живет Есенина Татьяна?
—
Татьяна? Гм... Да вон за той избой.
А ты ей что? Сродни?
Аль, может, сын пропащий?
—
Да, сын, но что, старик, с тобой?
Скажи мне:
Отчего ты так глядишь скорбяще?
—
Добро, мой внук,
Добро, что не узнал ты деда.
—
Ах, дедушка, ужели это ты?
И полилась печальная беседа
Слезами теплыми на пыльные цветы.
—
Тебе, пожалуй, скоро будет тридцать...
А мне уж девяносто... скоро в фоб.
Давно пора бы было воротиться.
—
Он говорит, а сам все морщит лоб.
—
Да... время!..
—
Ты не коммунист?
—
Нет.
—
А сестры стали комсомолки.
Такая гадость! Просто удавись!
Вчера иконы выбросили с полки.
На церкви комиссар снял крест.
Теперь и богу -негде помолиться.
Уж я хожу украдкой- нынче в лес,
Молюсь осинам —
Может пригодится...
Пойдем' домой — ты все увидишь сам.
И мы идем, топча межой кукольни,
Я улыбаюсь пашням и лесам,
А дед с тоской глядит на колокольню
—• Здорово, мать! Здорово!
И я опять тяну к глазам' платок.
Тут разрыдаться может и корова,
Глядя на этот бедный уголок.
На стенке календарный Ленин.
Здесь жизнь сестер,
Сестер, а не моя.
—
Но все ж готов упасть я на колени,
Увидев вас, любимые края.
Пришли соседи... Женщина с ребенком,
Уже никто меня не узнает.
По-байроноівски наша собачонка
Меня -встречала с лаем у ворот.
Ах, милый край! Не тот ты стал, не тот.
Да уж и я, конечно, стал не прежний.
Чем мать и дед грустней и безнадежней,
Тем веселей с-естры смеется рот.
Конечно, мне и Ленин не икона,
Я знаю мир... люблю мою семью...
Но отчего я все-таки с поклоном
Сажусь на деревянную скамью.
«Ну, говори, -сестра»...
И вот сестра разводит,
Раскрыв, как библию, пузатый «Капитал»,
О Марксе, Энгельсе...
Ни- при какой погоде
Я этих книг, конечно, не читал.
И мне смешно, как шустрая девчонка
Меня во всем за шиворот, берет...
По-байроновски наша собачонка
Меня встречала с лаем у ворот.
В.
Александровский.
Я стихами по горло сыт,
Очертели мне лунные ночи,
Пусть болотом всосет меня быт, —
Быт крестьянина и рабочего-.
Брошу сердце тяжелой гирей
В этот свет, в эту темь, в эту грязь...
Ну, какой же я к чорту лирик,
Если кровь у меня бунтаря?
Ну, какая же радость и польза
О высотах читать и писать,
Если в бородах вши еще ползают,
Если лешие бродят в лесах?
И сказать нужно ярче и проще:
Разве там не болотное дно,
Где рыдает гармоника тощая,
Где режутся в двадцать одно?
Где еще на глухих перекрестках
Чертят ведьмы клюкою круги,
Где в тоскующих бревнах и досках
Нет ни сказок, ни песен других...
Я стихами по горло сыт,
Очертели мне лунные ночи,
Пусть болотом всосет меня быт, —
Быт крестьянина и рабочего.
Л.
:
Сейфу ллина.
на
выборах.
Ясный, ведренный, весь пр-озоло-ченный день выдался, когда подводы
из Акгыровки в волость двинулись. Длинной цепью по дороге телеги. В них
мужики и бабы в праздничных полушалках. Детные с грудными на руках.
Волость, деревянный дом с высоким крылечком, на выезде села, почти
в поле, окружен подводами был. Как табор цыганский шумливый и пестрый.
Крыльцо серело солдатскими шинелями.
В большой горнице, где на стенах висели пустые рамы от портретов
царя и царицы, большая пыльная икона и новые приказы, стоял длинный стол.
Сбоку -около него деревянный крашеный, и-з города присланный ящик. За сто-
лом, с деревянными от напряженья сохранять спокойный и важный вид лицами,
сидела комиссия. Посредине председатель, учитель волостного села. У него
был тик и прыгала левая бровь. Но разговаривал он внушительно. Все время
делал указания, как подходить, опускать. Лишние расспросы обрывал:
—
Раньше надо было на собраньи хорошенько слушать.
Павел, красный и потный, но с уверенным и спокойным .взглядом,,
у самого ящика сидел. На улице и на крыльце стоял шум разговоров,
восклицаний и смеха. А в горнице, где ящик, стояла тишина. Нарушали ее
только подходившие к урне. Мужики подходили поспешным шагом, супили
брови, опускали листок в молчаньи. Бабы со сконфуженным смешком,.
с присловьем. Сначала молились в угол на икону, потом уж оглядывали
ящик и дрогнувшей рукой долго толкали листок в отверстие. Почти каждая
спрашивала:
—
Куды класть-то? В этот в самый? А как класть-то?
Разбитная, смешливая солдатка опустила листок и, сверкнув смею-
щимися глазами, сказала:
—
Баба и та в счет пошла. А ну, бабы, не подгадь, клади за пятый...
Учитель сердито крикнул:
—
Агитация у ящика запрещена. Опустила и уходи.
—
Чего-й-то. Ты больно-то не ори, отошло ваше время орать-то.
Пятый самый правильный.
Крепкотелую, но слепую старуху ввели под руки две молодые бабы.
Она, шаря кругом невидящими неподвижными тускло-синими глазами,
спросила:
—
Где икона-то? Что-й-то сбилась я в углах с перепугу-то.
Покрестилась истово и громко торжественно сказала:
—
Помоги, господи, не в зло, а в добро. Допусти постараться в дело.
Поклонилась поясным поклоном и позвала:
—
Ну-к, Марька, веди, где тут ящик-то? Куды совать, направь руку-то
мою.
Председатель завозился на стуле и крикнул:
—
Нельзя, нельзя. По закону лишена права голосовать. Слепые не
допускаются...
Старуха властно оборвала:
—
А ты что за человек и какой такой закон? Бог обидел, и люди
обидеть хочут? Я листок за десять верст пешком несла... И я сыновей для
войны родила, и я над землей тужилась, а мне нельзя. Кажи, Марька, куды
опускать. Не может он не допускать меня!
—
Но я не имею права. В законе ясно сказано...
И за столом, и в дверях, даже за открытым окном на улице начался
шум:
—
Пусть опускает! Для бедного народу, будто бы, старается, а она
из бедных бедная.
—
Правда, пешком шла. Лошади не достали нигде, а на чужую подводу
некуда.
—
Сами семьями приехали. Чать не виновата, что ослепла?
—
Опускай, бабушка, не слушай! Теперь слобода, а они все с издевкой.
—
Опускай, опускай! Покажи ей щелку-то, эй, востроносая, покажи,
говорю!
—
Энтот там расселся посередке-то. И вытряхнуть недолго, коль
бедным запрет делает.
Суслов привстал и громко утвердил:
—
Опускай, бабушка. Всякому закону по делу да по нужде должно
быть послабленье. Не старые времена. Теперь для человека легкости хотят,
а не обиды.
Председатель развел руками, еще сильней задергал бровью и смирился:
—
Ну, опускай, только чтоб мне в ответе не быть.
Старуха опустила листок и опять помолилась:
—
Господи, помоги.
Бабы увели ее.
В горницу ворвался косоглазый мальчишка в черном бешмете, в поры-
жевшей тюбетейке на бритой голове и с длинным кнутом в руках. Прямо
к столу кинулся.
—
Тебе чего, малайка? Куда лезешь?
—
Башкирскай листка номр втарой айда давай. Отбирай мужикам.
Ваша ни нада, наша ни хватаит. Ваша вота.
Вынул из-за пазухи кипку смятых листков и бросил на стол:
—
Айда отбырай пыжалыста скарей, наша волость ждут. Вирхом ска-
кал, шибко лошадь гнал!
Председатель выругался и замахал руками. Писарь сбоку на стуле сидел.
Быстро встал, достал со шкафа пачку листов и сунул башкиренку:
—
Дуй!
Тот блеснул косыми глазами, взял листки и убежал из горницы. Учитель
вздохнул, потер лоб и покачал головой. Народ подходил. На улице шум
все сильней становился. Солдаты смотрели в окна с улицы и громко
определяли:
—
Это краснорожий номер первый. Эй, Павел, садани его от ящика.
Злой мужичий голос с улицы крикнул:
—
А за пятый — самая прохвостная. Конокрад битый нашинский
пятый номер понес, я видал.
—
Прошу без агитации. Где милиционер?
Солдат, стоявший у ящика, громко и наставительно об'явил:
—
Когда мы на фронте выбирали, дак у нас так-то было постановлено.
Председатель завопил:
—
Послушайте, товарищ, уходите от ящика! Вы не имеете права второй
раз голосовать. Чортова окраина! Выбираем не в один день с другими,
а с запозданьем, вот и... Я вам говорю, вы не имеете права! Я сообщу — все
выборы пропадут. Опротестуют.
—
А тебя кто тянет сообщать?
—
Да ведь я же обязан.
—
А ты для нашего брата старайся, а не против нас! Мы кровь про-
ливали, да не смей в своей волости.
И потянулся к ящику. Но Суслов удержал его за рукав:
—
Не скандаль, нельзя. Еще, правда, всем навредишь.
—
Дак и ты против солдат?
—
Говорю, не скандаль. Уходи!
Тот сплюнул, но Павла послушался, скомкал листок и бросил его
на пол.
А у стола новая заминка. Кривоногий, встрепанный мужиченка совал
председателю штук шесть листков.
—
Который тут третий? А? Я заспешил, да спутал. Ровно отдельно-
клал, а на же поди, сбилси. Ну-к, покажи.
—
Да понимаете вы, тайное, тайное! Нельзя показывать.
—
А какие тут тайности! Все знают. Я сперва-то за пятый хотел;
да на третий меня сбили. А который лучше-то?
Председатель безнадежно схватился обеими руками за голову:
—
Совершенно невозможно. Раз'ясняли, все деревни из'ездили. Да
что же теперь делать?
Суслов засмеялся, встал, взял мужиченку за плечи и вывел его из гор-
ницы. Дальше гладко дело шло. Только шум с улицы мешал.
Вдруг опять зычный голос на улице шум покрыл:
—
Мокрушкин со своего хутору! целу подводу с первым номером
привез. На тройке приехали. Не пущай его!
Но толпа привычно расступилась перед Мокрушкиным. Он, сверля
встречных черными острыми глазками, сладким голоском теноровым
отшучивался:
—
А кто видал, что первый? Я второй привез. За башкир, они —
народ покладливый. Они мне больше русских по душе. От них, можно
сказать, жить начал. Я за башкир. Второй, второй номер.
Угрюмый длинный солдат зло оборвал его:
—
От их награбастал землю-то под хутор, обжулил! Знаем, мертвые
под приговором о продаже-то подписаны.
И кривоногий мужиченка поддержал:
—
Погоди, дай срок, все на-чистоту выведем, а землю-то для тру-
дящего подай. У тебя отберем... Пятнадцать работников, на-ко.
Но Мокрушкин, не смущаясь, пробирался вперед с длинным хвостом
приехавших с ним на двух тройках и по одиночке на пяти подводах. Ответил
опять шутливо:
—
А я к башкирам подамся, в их веру. Теперь свобода вероисповеда-
ний... А они еще землицы мне удружат. На наш век простачков еще хватит.
К башкирам, к башкирам я...
Два дня тянулись выборы. Во всей округе разгорелись страсти. В день
подсчета солдаты тесным кругом сдавили стол с комиссией. Щупали листки
глазами, орали, ругались. Но подсчет все-таки удалось закончить. Ящик про-
вожали доброхотцы конные разного настроения. Все опасались, чтоб подвоха
не вышло.
С тех выборов разгорячился народ. И каждый день все больше будо-
ражливым приходил. В Акгыровке загалдели те, кто раньше голосу не пода-
вал. Беднота и с постройки рабочие требовали землю и мир. Павел Суслов
их коноводом стал. В конце зимы, когда большевистское начальство над всей
страной власть взяло, и он главным в волости утвердился. Колгота по разно-
племенному уезду большая шла.
Василий
Казин.
ручной лебедь.
Спозаранок
Мой рубанок,
Лебедь, лебедь мой ручной
Торопливо
И шумливо
Мною пущен в путь речной.
Плавай, плавай,
Величавый,
Вдоль шершавого русла,
Цапай, цапай
Цепкой лапой
Струи стружек и тепла.
Лебедь мчится,
И клубится
Шумный, шумный водопад,
И колени
В белой пене
Утопают и кипят.
Василий
Казин.
руб
Живей рубанок, шибче шаркай,
Шушукай, пой за верстаком,
Чеши тесину сталью жаркой,
Стальным и жарким гребешком!
О, вейтесь, осыпайтесь на пол
Вы, кудри русые с доски!
Ах, Еас не мед ли где закапал:
Как вы душисты, как сладки!
О, помнишь ли, рубанок, с нами
Она прощалася, спеша,
Потряхивая кудрями
И пышно стружками шурша.
Hок.
Я в то мгновенье острой мукой
Глубоко сердце занозил
И после тихою разлукой
Тебя глубоко запылил.
И вот сегодня шум свиданья,
И ты, кудрявясь второпях,
Взвиваешь пыль воспоминанья
О тех возлюбленных кудрях.
Живей, рубанок, шибче шаркай,
Шушукай, пой за верстаком,
Чеши тесину сталью жаркой,
Стальным и жарким гребешком.
Василий
Казин.
ЛЕНИ И.
В чьем сердце не биенье — бой!
О, зоркий вождь, ты на высотах гор,
Чье сердце — красное, живое знамя! Где пролетарии — вулканы,
скалы,
О, буревестник мировой,
кряжи, —
Бушующий мильонными руками!
Где пролетарии твой взор,
Крестьянин п рабочий. Ч. II .
29
Твой взор поставили на страже.
Историю, работницу времен,
Упавшую перед парадным ходом,
Циклоном толп влеком и вдохновлен,
Стремительно повел заводом.
И вот грохочет Новый Год —
Короны падают, как звезды ночью
пылкой,
И содрогается громоотвод,
Воздвигнутый
над биржей — Учре-
дилкой.
Сигнальным Октябрем
Россия вспыхнула, и в муках бури
Коммуну мы куем, куем
Тяжелыми молотами диктатуры.
Европы грудь
Вздымается в мозолистом восстанья,
Готова глубоко вдохнуть
Советов свежее дыханье.
Несется и трясет гроза
Зевоту Будды, Брамы и Шамана,
И отряхает раб раскосые глаза
От векового сонного тумана.
Вселенная меняется лицом,
Вселенная на капитал восстала
Широким огненным кольцом
Рабочего Интернационала.
В чьем сердце не биенье—бой!
Чье сердце — красное, живое знамя!
О, буревестник мировой,
Бушующий миллионными руками!
J1. Сейфуллина.
в библиотеке.
В библиотеку прошла. Там мужиков уж много набилось. Артамон
Пегих допрашивал.
—
Этта самый Ленин и есть?
Софрон гордо, как своего знакомого, представил:
—
Владимир Ильич Ульянов-Ленин.
Артамон голову на бок, губами пожевал:
—
Ничо, башка уемиста, мозговита. И глазом хитер. Волосьев только
на голове мало.
Софрон заступился:
—
Ты столь подумай, сколь он, и у тебя волос вылезет!
—
Знамо, ихо дело — не нашинско. Волосья ни к чему. Таскать за их
некому. А форму-то для него не установили еще?
—
Каку форму?
—
Ну, обнаковенно, царску. С пуговицами там, с медалями, с аполе-
тами. Эдак-то, в пинжаку не личит. Для Рассей срамота: не одела, мол,
свово-то!
Софрон засмеялся и к Антонине Николаевне повернулся:
—
Необразованность наша! Все на старо воротит.
Антонина Николаевна по умному брови собрала и наставительно
сказала:
—
Новое правительство — от рабочих и крестьян, потому и в одежде
не хочет роскоши.
Артамон Пегих, приподняв клочковатые седые брови, зорко осмотрел
ее с ног до головы, губами пожевал, но ничего не сказал. К портрету
Троцкого повернулся:
—• Этот ничо из себе, бравый! И шапка господска. Случаем, не
из жидов?
Софрон грозно прицикнул:
—
Ну, ты! Теперича жидам отмена вышла. Есь еврей такой же чело-
век, как мы. Почитай вон у Максима Горького, как над ими при царе-то
измывались.
Артамон Пегих губами пожевал:
—
Горького-то всем хватило тады. Все испили, зато теперь и в боль-
шевики записались. Сладкого-то мало ели. А я не для укору, у нас в Небес-
новке свое субботники есь. Парень бравый!
На столе, в рамке красного дерева, стояла кабинетного размера кар-
точка Луначарского. Но подписи на ней не было. Антонина Николаевна
и то не знала. Спросила.
—
А это кто?
Софрон смутился.
—
Кажется, по земельному делу комиссар. Что-й-то я запамятовал,
Артамон Пегих успокоил:
—
Должно, сродственник Ленину какой.
Небесновцы на портреты мало смотрели. Больше читали через стекло
названия книг. Кочеров пустой передний угол заметил и одобрил:
—
Икону не навесили, это правильно! Всякому вхоже. Мы вот,
к слову, икон не соблюдаем, башкирин тоже в нашей волости водится. Эдак-то
для всех равно.
Артамон Пегих вздохнул:
—
Да уж-чо весить-то? И православны-то отбились! Тады за веру
поругались да человека укомплектовали. Не примат нас теперь икона-то.
Ы-хы-хы!
Бабы у плаката сгрудились. Ульяна-солдатка сочувственно сказала:
—-
Милай, в роте-то все почернело, как орет. Чо это он?
Но никто ей не ответил. Софрон властно об'явил:
—
Ну, буде, покамесь, глазеть, граждане. Завтра часы установим, когда
за книжками ходить, тогда пожалуйте. А сейчас закрыть пока надо.
Артамон Пегих затылок почесал:
—
Ладно. А по часам-то уж небесновски пущай ходют. У их есь.
А мы по брюху: до обеду да опосля до ужину. Прощенья просим. Занимайтесь!
За Артамоном пошли и остальные.
Jl. Сейфуллина.
СЕНОКОС.
День за днем, как костяшки на счетах, отбрасывает жизнь в расход;
взятое у нее, изжитое время. С закономерностью неумолимой приводит
смену весен и зим, никогда не сбиваясь и не путая сроков, определяя каждому
дню пребывания в жизни его тревогу и успокоенье, скорбь и радость.
И чем ближе живое к началу бытия, тем непреложнее для него устав этой
смены.
Там, за гранью, где город погнал соки жизни в голову, заставил
шириться ум человека и сделал его дерзким и творящим всегда, — нет
времени, твердо положенного, приказывающего: не раньше, не после, твори
свое сейчас. А здесь, в деревне, где земля, выставляя свое плодоносное,,
готовое для зачатья или приносящее уже плоды чрево, устанавливает сроки,
в какие ей нужны силы крепкого выдубленного для работы над ней мужиц-
кого тела — властен закон установа жизни. И в ненасытимости поглоще-
ния этих сил жесток.
Здесь у людей крепок хребет, густ в жилах настой звериной крови,
плодовито, как у земли, чрево. Но жадна и скупа душа, всегда мучимая соби-
раньем, жаждой накопления плодов земных для огромной утробы всех, кто
живет, рождает или мыслит, кто сцепляет звенья для продления жизни.
Здесь у людей темным и старым, как земля, задавлена творящая сила чело-
веческого ума, и обречен человек под гнетом тяжелой хозяйки-земли быть
слепым и безжалостным даже к себе. Оттого туго открываются двери его
души и звериной хитростью оберегает он их от широкого взмыва боли
и восторга, и только во хмелю распахивается, темный, большой, о духе,
запертом в сильном теле, тоскующий. А хмель радостный сходит на него,
когда земля властно позовет: твори, пришел час.
Приказала земля мужикам Интернационаловки, Тамбовско-Небесновки
тож, готовиться к сенокосу. Загудели, заворошились, высыпали на улицу
из домов своих, приспособленных, как у зверя, только для зимней спячки,
не для наслаждения уютом и домашним покоем. Мужики в будничных
портках и рубахах, но живой, говорливой, как в праздник, толпой шли,
собирались у большой артельной кузницы на выезд из Небесновки. Пря-
ный густой аромат распаренной солнцем земли, приносимый ветром с полей,
и здоровый звериный запах навоза с дворов, как вино, тревожили кровь,
радостным пьянящим ударяли в голову, омолаживали глухие голоса стари-
ков, крепили нутряным, грудным звуком звонкие выкрики молодых, серебром
переливали детские слова-колокольчики. Во хмелю нынешней радости было
новое. Заовражинские, которым в прошлые годы было положено только
отраженный от хозяев сеет радости принимать и супиться от мысли: чего коса-
ми начиркаешь, гудели нынче густо, как сильные. Оттого, что длинной ратыо
выстроились у кузницы машины и для их покоса, солнце и радость сделали
морщины на лице Артамона Пегих лучами, грязно-серые волосы — серебри-
стыми. Маленький и сухонький, сегодня он, будто, распрямил батрацкой
работой согнутую спину и повыше, казалось, стал. Как хозяин заботливый
кричал:
—
Софрон, а Софрон! Слышь ты, Артамоныч, сколь кузнецов-то
у нас?
—
Деся-ать!
—
Хватит-ли по машинам-те?
И тревожным перекатом по заовражинским :
—
А и то, хватит-ли?
Втянув черную лохматую голову в плечи, Редькин острые скулы свои
и ямы худых щек к солнышку поднял. Будто тепла просил. И блики радост-
ные лицо оживили, оттого и голос с меньшей натугой, чем всегда,
прохрипел:
—
Савоська... это нашинский... Постаратся. Его для надзору поста-
вим. А надо, так все мы закузнечим. Было б над чем!..
Сектант Глебов — с него солнышко хмару сегодня не сгоняло — угрюмо
отозвался:
—
Кузнецы!.. Над машиной-то сноровку надо. Эндаки, как Пегих да
Редькин, накузнечут... Каки целы зубья-то, и те переломают.
Софрон насмешливо оборвал:
—
Ничо, не сокрушайся об нас, не труди печенку. Переломам, новы
наварим. Сами не сумем, тебя приспособим. Потрудись, мол, товарищ Глебов,
для черноты крестьянской! Э-э -х, табачком побалуюсь. Весело!
И непривычными пальцами начал свертывать папиросу. Живя бок-о -бок
с сектантами, мало курили интернационаловские мужики.
Кривошеий Савоська от двери кузницы крикнул:
—
А ты, Софрон, махры-то из городу для кузнецов расстарайся.
Уважим! А энти, псы-то, гавкают, знамо, со зла. Мы свое справим, вы поспе-
вайте. Вот, к слову сказано, лобогрейка. А почему? А потому — лоб греет.
За ей поспевай в ногу. Как под музыку, паря!
—
Махорка запасена. Айда, музыку только готовь, поспеем. Мужицки
раскоряки подладливы, только поучи. На войне не под эдаку музыку поспе-
вали! Штой-та, Жиганов Алексей Иваныч нонче смирен. Мир радуется, а он
рота не раскрывает. Ай матюком подавился?
—
Ха-ха-ха-ха!
—
Го-го-го!..
—
Подавишься! Прятал, прятал машины для себе, а теперь айда-ка
к Софрону наймайся.
—
Наймем* ли чо ли, братцы, Жиганова-то в 'работники? А?
Жиганов сплюнул, белками синими сверкнул, но ответил спокойно:
—
Не было б нас, и машинов-то взять негде было бы. А от работы
мы не отлыним. Как, Софрон, нас в коммуны-то примате?
—
А, реготали, а теперь учуяли?
Редькин завопил:
—
Эдаки коммунщики только за машинами за. своими тянутся. Чтоб
не выпустить! По шеям их!..
—
Знамо без их!.. Пущай сено у нас покупают.
—
Не примать!
—
А чо не принимать? Пущай идут в долю. С лошадьми они,
Софрон спор прекратил:
—
Пущай в ровнях с нами побатрачат. Примам. Главное дело, лошадны.
—
Правильно-о!
Артамон Пегих справился:
—
Сено-то как, на душу делить? А на душу дак примай, каки охотятся.
—
Айда в школу, в коммуны записывать!
—
Чо и во сне не метилось, увидать привелось. Ко-ом-му-ны! Ну, ну!...
Ну, поглядим. Либо волосья клоками, либо се«о стогами.
Повалили к школе. В кузнице началась жаркая музыка работы. Редькин
около машин остался. Все ему казалось, что отнимут их. Надо сторожить
верным глазом. Деревня жила переливами возбужденных человеческих голо-
сов. На дворах звонко и горячо переругивались бабы:
—
Таку недопеку ничем в коммуну примать, лучче чушку! Скоре .
повернется. Я смехом, а ты и...
—
Смя-яхом! «Айдате с нами»... Ды, маменька, стыдобушка сказать
людям: с Касатеньковой Марькой связались. В девках-те люде обегали, до
двадцатого году просидела. И мужика-то по себе нашла...
За кузницей на лужайке дети звенели:
!
—
Которы машины жигановски, теперь нашински!
—
Как раз! Вашински! А нашински?
—
И вашински!
—
А жигановски?
—
«Вставай, проклятьем заклейменный... своею собственной рукой»...
—
Ах, ты, холера тебе задави! Седьмой год, а туды-же «вставай про-
клятый». Иди в избу, пока не взгрела!
—
А ты, тетка, не лайся на его. Старый прижим-то отошел!
Весь день хлопотливый, горячий, ароматом с поля обвеянный, был
суматошно радостен. В одно утро выборные от коммун выехали луга делить.
Шумной, говорливой толпой провожали их мужики и бабы. Выстроились
верховые с деревянными саженями в руках.
—
Ну, анжинеры, не подгадьте мерялкой-то своей.
—• Чо остерегаешь? Сажени-то, знаешь, стары, меряны.
Гикнул передний верховой, отозвались остальные: мужики, выборные
от коммун и ребятишки-добровольцы. Из-за радости буйной степной
с мужиками выпросившиеся. Взбрыкнули ногами сивки, каурки, бурки
и понеслись шумным отрядом в степь.
А степь разнотравная ластится. Белым ковылем кланяется. Мигает
несчетными белыми, красными, голубыми глазами-цветами. Богатство свое
показывает. И жужжит, и звенит в воздухе голос ее: в птичьих трелях,
в трескотне кузнечиков, в шуршаньи букашек. Будто и не умирала зимой..
И все в ней пахнет сладостно. Цветы ароматны, травы ароматны, и русское
небо бледноватое, кажется пахнет солнцем. Ветер дымок донесет, и он
в степи горяч, пряп и ароматен. Полынь, трава горькая, и та «а расцвете
острый, до боли сладостный запах дарит. Степь вся гулкая и отзывная. О -го-
го-го! А-а -а-а! Гулом далеко-далеко. Слуш-а -ай! Степь голос человеческий
передает. Слушай, зверушка, птица, букашка, слушай голос человеческий!
А-а-а!.. Грудь сама для крика ширится.
Спешились с коней. Зашагали с деревянными саженями своими.
—
Стой, стой!.. Ты как шагашь? Стой!
—
«Шагашь!» Каке нога есь, тоими шагаю!
—
Ге-ге-ге! Нет, браток, надувательское время отошло! Начинай
отседова!
А степь отзывается: а-а -а!..
Ребятишки перепелок шарили по кустам. Орали, будто подряд на крик
взяли, Ванька Софронов всю ученость свою в траве растерял. Прыгал на
одной ножке и пел звонко, заливисто:
—
Этта сама-д-перепелкл,
Этта сама-д-перепелка,
Переп-е -лка-а!..
—
Дедушка Артамон, перепелку не пымал?
Артамон похвалиться захотел' увидал в траве и схватил... вместо пере-
пелки змею. Кинул с размаху.
—
Ах ты, тварюга проклята! И очень просто, вот така обжалиг.
Глебов густо захохотал. И он в степи перостел и повеселел.
—
Вот оно, дед Артамон, как чужу-то землю размерять! Заместо
птицы — змея в руку!
Ванька 'за Артамона задорно Глебову ответ прокричал:
—
Ничо, змеев-то мы назад вам вернем. Пользуйтесь, вы с ними родня.
Глебов звонко, увесисто, по-матерному выругался, но больше не язвил.
Хоть и не смолкал в разговоре. Целый день луга оглашались меткими
мужицкими словами. Для того, что знали, видели и понимали, был у них язык
ярок и хваток, переливался образами, как степь цветами.
Косить, обычно, начинали после Петрова дня. В этот год порядок на-
рушили. Выехали на целую неделю раньше. Старики ругались:
—
Обычай рушите! Не зря установ: сыра земля.
—
Ничо, мы горячие, высушим!
Первым двинулись машины. За ними уемистые рыдваны с бабами, дет-
скими зыбками, бочками, палатками, ведрам«, одеждой, котелкам« и чашками.
Когда приехали, закачалась степь от разноголосья. Земелькали по степи бабьи
головы, повязанные платками с красным по желтому, с белым по красному,
разноцветными.
Участок Артамоновской коммуны у леска начинался. Лесок кудрявый,
маленький. Издали был в степи, как букет небольшой на столе. А под'ехали,
увидели: тенистый и приютный с родником студеным.
Завозились на стану бабы, заплакали ребятишки. Двинули мужики
машины на луг. Демьян Колосов, заовражинский, на лобогрейке выехал.
И вид у него был встревоженно-радостный, такой-же, как в детстве, когда
мальчишкой в первый раз на поезд попал.
Скоро на стану одна Дарья Софронова кашеварить осталась. Далеко-
далеко, куда хватал глаз, все двигались по степи люди. Ванька Софроінов
пересчитывал:
—
Нашинска коммуна — восемь семей. Мужиков с мальчишками —
тринадцать, баб — семнадцать. Пантелевска коммуна — девять семей... Ничо,
на луга силу двинули...
—
Ва-п-ныка! Вань! Чо растопырилш, иди!
—
А-а -а!
—
Но-но-но! Но-о! Пантелей, поспе-в -ашь?
—
Поспем!.. Уля-а, ровне греби!..
У Аксиньи солдатки голос сам из груди вырвался.
—
И э-эх да травушка под косы-ыньку лягда.
Прилипли к телу потные рубахи, красным цветом прожгла кровь лицо,
устали ноэдри втягивать запах ароматной смерти травы, налились тяжестью
натуги спины, а передышку ни одна коммуна не об'являла. Не хотели сдавать,
вытягивая свое тягло. Наконец, прокричал своим Артамон, что шабашить
пора. Стали замолкать машины и на других участках.
—
Мам-к -а-а! Пошевелив-ай! Обедать идем!
—
Айда-те-е! Три раза кликала!
А. Гастев.
БАШНЯ.
На жутких обрывах земли, над бездною страшных морей выросла
башня, железная башня рабочих усилий.
Долго работники рыли, болотные пни корчевали и скалы взрывали при-
брежные.
Неудач, неудач сколько было, несчастий!
Руки и ноги ломались в отчаянных муках, люди падали в ямы, земля
их нещадно жрала.
Сначала считали убитых, спевали им песни надгробные. Потом поми-
рали без песен прощальных, без слов. Там под башней погибла толпа безы-
мянных, но славных работников башни.
И все ж победили... и внедриTM в глуби земли тяжеленные, плотные
кубы бетонов-опор.
Бетон — это замысел нашей рабочей постройки, работою, подвигом,
смертью вскормленный.
В бетоны впились, в них вросли, охватили огнем их железные лапы —
устои.
Лапы взвились, крепко сцепились железным об'ктьем; кряжем поднялися
кверху и, как спина неземного титана, бьются в неслышном труде-напря-
женьи и держат чудовище-башню.
Тяжела, нелегка эта башня земле. Лапы давят, прессуют земные
пласты. И порою как будто вздыхает сжатая башней земля; стоны несутся
с низов подземелья, сырых необ'ятных подземных рабочих могил.
А железное эхо подземных рыданий колеблет устои и все об умерших,
все о погибших за башню работниках низкой железной октавой поет.
На лапы уперлись колонны, железные балки, угольники, рельсы.
Рельсы и балки вздымаются кверху, жмутся друг к другу, бьют и ловят
друг друга, на мгновенье как будто застыли крест-на-крест в борьбе и опять
побежали все выше, вольнее, мощнее, друг друга тесня, отрицая, и снова
прессуя стальными крепленьями.
Высоко, высоко разбежались, до жути высоко, угольники, балки
и рельсы ; их пронзил миллион раскаленных заклепок, — и все, что тут
было ударом отдельным, запертым чувством, восстало в гармонии мощной
порыва единого... сильных, решительных, смелых строителей башни.
В. Кириллов.
двенадцать месяцев.
О, сестры нежные и братья, —
Свидетели бессмертных дел,
Благословите свой удел
И сроки вашего зачатья.
Нет счастья выше и святей,
Нет величавее сказанья,
Нет краше, радостней преданья
Багряной сказки наших дней.
Двенадцать месяцев горит,
Цветет чудесная комета,
Республика Коммун, Советов —•
Социализма красный щит.
Двенадцать огненных страниц,
Как зори райские, алеют,
Двенадцать светозарных птиц
Над миром величаво реют.
И с лучезарной высоты
Во мглу и хаос злобно-дикий
Роняют красные гвоздики
Грядущей радости цветы.
Двенадцать месяцев горит
Заря Вселенского рассвета —
Республика Коммун, Советов —
Социализма красный щит.
В. Кириллов.
25 октября.
Есть дни величавей столетий...
Играй, моя песня, гори!
Этот день осенний светит
•Светом неумирающей зари.
Дни брели бродягами хилыми,
Пропадая в тумане и мгле,
Этот встал над седыми могилами
Женихом невесте — земле.
Никогда не забудут потомки
Бурный Смольный с жужжаньем улья
И сжигавшие страх и потемки —
Пламя слов и костер патруля.
Каждый был на голову выше,
Каждый был окрылен и силен.
Верю: даже созвездия слышат
Этих дней полыхающий звон.
Были пьяны, хмельны без водки,
От зари до зари без сна,
Было новое даже в походке,
В каждом взоре — огонь и весна.
А. Костерин.
власть советам.
Зал бывшего губернаторского дома.
Разбежались широким полукругом холодные, белые колонны. Разбе-
жались и застыли — стройные, молчаливые, с кудрявыми головками.
А на хорах, над колоннами и внизу по скамьям, столам и стульям —
плотное многорукое человеческое тело.
Сегодня решают —
—
Власть Советам!
Пришли сюда от дымных заводов, от промыслов, забрызганных чер-
ной кровью, из казарм, прокисших портянками и вшивыми телами. Воля
казарм, заводов, промыслов бросила их сюда, в зал с белыми колоннами,
сбила в клубок —
—-
выноси нашу боль,
—
вырви нудный ком из глотки...
Конференция фабрично-заводских, промысловых и солдатских коми-
тетов.
Председатель — Степан Шаумян.
Спокоен. Дрожат лишь нервно-прозрачные ноздри и верхняя губа...
Докладчик — Алеша.
Обросший, корявый. Голос — густой, утроб-
ный — мечется по залу.
И Алеша мечется по тесной эстраде. Волосатые кулаки тяжело долбят
что-то кому-то в тупую голову...
Вдруг вспыхнет в углу:
—
Вы губите Россию и революцию!..
Конференция охнет, загудит. Загудят хоры — солдатские и матросские
шинели.
—
Довольно!.. Слыхали!.. Долой большевиков!.. Буржуйские собаки!..
Предатели!...
Дергаются ноздри и губа Шаумяна. Бледнеет темно-матовое лицо.
Нет, не бледнеет, а светлеет, прозрачным
станет,
непроницаемо-
спокойным...
Минуту смотрит на пенистый, гулкий прибой... Крепнет ветер —будет
буря..
Волосатый Алеша злобно смотрит на прыгающих по скамьям людей..
Прикушены слова плотно сжатыми зубами.
Шаумян поднимает руку.
—
Тише, товарищи...
Где ж услышать голос в вихревой пляске заводских и солдатских
глоток!
Но тонкая рука над головами — она крепко держит сотни нитей —
и, вздернутая на дыбы, конференция ворчливо затихает... Звонок....
—
и тишина...
Алеша срывается с места — душно, тесно на узкой эстраде. Стреми-
тельно разворачивается мысль. Не уложить, не втиснуть ее в скудные ленивые
слова...
—
Пролетарии Питера и Москвы взяли власть в свои руки... Сейчас
там развертывается невиданная борьба... Неужели бакинские рабочие
в тумане меньшевистских бредней и правых эс-эров забудут своих това-
рищей?..
Нет, не вдавить в бледные, ненужные слова всю нудную боль, зревшую
годами!
Задохнулся на миг, исподлобья взглянул на конференцию под ногами
и хрипло бросил: —Власть Советам!..
Заклубилась конференция, вздыбилась сотнями рук и гулких голосов:
—
Браво-о!.. Власть Советам!.. До-о-лой!..
Содокладчик — меньшевик. И так же рвут его доклад с хор и со
скамей плеском, криками... Час за часом...
За столом на эстраде председатель все так же спокоен. Лишь чаще
вздрагивают ноздри, губа. Матовая бледность не сходит с лица.
Меньшевики, правые эс-эры, дашнаки составили крепкий, сильный
блок. Не менее сильны и большевики. Многоликие, плотно набитые хоры
гулом одобрения провожают большевистских ораторов.
Оттого так душно в белом зале, оттого часами бьется и задыхается
конференция.
Лидер меньшевиков Атабеков рвет черную бороду. Смахивает пот
с широкого лба. Подбежит к эс-эрам, дашнакам и вновь набегает на первые
ряды — поймать бы те нити, что крепко держит председатель-большевик.
Две резолюции. Голосуют. Результаты:
Большевики — 300,
социалистический блок — 350,
воздержались
остальные.
Мигнула тишина и прорвалась:
—
Браво-о!.. Переголосовать!.. Долой-о -й!..
Скамьи, стулья трещат, грохочут. Свист. Крики и проклятья...
Степан не дрогнул. Лишь расширились черные глаза. Подошел к рампе—
тонкий, высокий. Над кипящим котлом1 матово-бледное лицо.
—
Товарищи...
Конференция стоя затихает.
—
Товарищи, в голосовании не приняла участия почти половина
конференции... В таком вопросе, это равносильно непринятию обеих
резолюций... Большинство социалистического блока на 50 голосов —
ничтожно... Я предлагаю дать слово нескольким товарищам из воз-
державшихся...
Продирается по скамьям бушлат и орет:
—
Дай слово!., от черногородцев!..
Взгромоздился на эстраду черным пятном, кепку долой.
—
Товарищи, мы не можем голосовать ни за ту резолюцию, ни за
другую. Потому, что мы такое? Нас послали сюда, а не сказали, за кого
•голосовать... Я сейчас, скажем, стану голосовать за большевиков, или, там,
за блок, а на заводе мне башку отвертят.. Я так полагаю, что надо этот
вопрос обсудить в районах, по заводам — тогда и решать...
У Степана в глазах насмешливые искорки — выход найден в простых
словах. Взмах руки, несколько слов, и конференция затискалась в дверях —
решили через неделю вновь собраться, а сейчас в районы, на заводы...
Всю неделю заводы толпились на митингах. Горласто перекликались
гудками, клочья дымных сгустков шваркали по ветру...
Час работают — два митингуют...
И вновь зал с холодными белыми колоннами, хоры трещат под напором
необузданной волны с заводов и казарм.
За столом президиума матово-бледное лицо. Вздрогнули ноздри губа,
—
Товарищи...
Жидкий звонок.
—
Тш-ш ... тсс... тише...
Ушел в скамьи, хоры, спрятался за колонны неровный гул.
Напряглись жилы. Кровь к вискам... Душно... Сейчас...
Недолго продолжалась борьба.
Председатель-большевик, вздрагивая ноздрями, знал выношенную боль.
Спокойно отхватывал омертвевшие, негодные куски на теле конференции..
Отбрасывал. Отброшенные задыхались, захлебывались истошным криком...
То бледнеет, то темнеет лицо Шаумяна. Подошел к рампе:
—
Голосую...
За большевиков — 730, против — 170.
Хоры ревом надавили скамьи. Скамьи трещат —
—
Власть Советам...
Взмывает из рядов один к президиуму. Беспомощно машет руками:
—
Товарищи, я эс-эр, но завод приказал голосовать за большевиков...
и я голосовал... что я должен был делать...
И другой и третий... десятки...
—
Завод... митинг... общее собрание... всю неделю зубами рвали...
.приказали... вот мандат...
А те, что с таким надрывом, с мучительной натугой были отброшены,
бросили лидера своего в истеричной пляске на зстраде:
—
Мы не признаем... мы требуем... Конференцию подтасовали... Мы
не подчиняемся решению и организуем комитет спасения революции...
Ощетинилась конференция:
—
Вон!., мерзавцы!., лакеи!., предатели!..
А председатель-большевик спокойно стоит в сторонке. Слушает одним
ухом и тихо говорит с Алешей. Чуть вздрагивают прозрачные ноздри, пощи-
пывает бородку. Он знает выношенную боль, знает, о чем перекликались
гудки месяцы и годы...
М. Колосов.
тринадцать.
I.
Ваньке тринадцать и сказываются тринадцать во всем. Словно трина-
дцать крохотных бесов прыгают они на Ванькиных радостях и тихо жмутся
при его грусти. И сам Ванька маленький, щуплый, похожий на облезлого ко-
тенка, кажется жертвой своих тринадцати. Это не он радостно шмыгает по
•отделениям, визжит и пожимает руку каждому встречному, когда от их фа-
брики в Московский Совет проходит коммунист, и не он в исступлении сви-
стит и тоненьким голоском кричит —«долой», когда какой-нибудь меньшевик
.пы т ается «околпачить» его товарищей.
Это — тринадцать.
Сам же Ванька тих и скромен, скромен и робок.
И когда случается — сгущается над фабрикой гроза закрытия, всем
нутришком своим чует Ванька, как тревожатся его тринадцать, и от этого
выступают серые ложбинки на покатом детском лобике, и уже не звенят
в коридорах бубенчики его гортани. Тихой тенью бродит синяя промас-
ленная блуза и не знает, куда податься.
К директору трусит Ванька, хоть и знает, что директор—красный,
свой директор-рабочий и коммунист.
Угнетает что-то обстановка в кабинете. Веет от нее великой стро-
гостью, и кажется, что вот-вот раздавят Ваньку, маленького, надвигающиеся
стены, а на стенах: «говорите кратко», «время — деньга»* и еще много кар-
тинок пснаклеено, и сам старый Ленин, Владимир Ильич, дорогой и близкий,
промеж них. улыбаясь, опрашиваіег:
—
Ванька, зачем пришел? Такой-сякой, не мешай директору!..
И надо, значит, по коридору во двор и через двор в ремонтную, рядом
во флигель, где на маленькой двери — прописью скромно:
«Здесь помещается ячейка РКСМ».
Ваньке тринадцать, а в уставе четырнадцать. Так и сказано: членом
союза может быть каждый рабочий подросток в возрасте от че-
тырнадцати.
А покамест можно с совещательным. Ах... как не хочется быть сове-
щательным— - больно обидно: Гришка-то ведь— -ч лен решающий, а в одном
классе и в одной мастерской... Федька, Сенька, Васька, Стенька, Ванька
Длинный тоже •— чем они?
Вся беда >в тринадцати.
И когда, бывает, на собрании выносят резолюции, и целый лес рук
вырастает над белокурым мхом голов, так и хочется, хочется поднять руку
заодно оо всеми, а боязно —вон, кажется, каждый- смотрит и говорит:
«Ванька, не забудь устав».
Вечером в клубе собирается вечеровать фабрика. Взрослые — в чи-
тальне за газетой, молодежь — кто та что.
В зале полутемь. Из вереницы карточек, воззваний и плакатов
выделяется только «Свод законов о труде», а под «сводом» группа ребят
слушают Митрия — первого члена «Бюро».
Митрий говорит о боге.
И похоже, будто в голове у Митрия—- динамо, из динамо тонкие
невидимые ремешки в пятнадцать головенок. Ворочаются мозговые ме-
ханизмы.
Манька взвизгнула:
—
Ах! Ванька, Ванька, гут...
И запела:
Ванька-Ванюшка,
Ростом с понюшку,
Все комсомольцы,
Все народовольцы.
Одни беспортошник,
Один безбилетник,
Скажи, шпингалет,
Где твой билет?
Ванька вздрогнул, и ремешок порвался.
Митрий мягко:
—• Ну, чего мешаешь? Слушай лучше — о чем говорят.
—
:
А чего говорят-то? Ерунду разводите... А брата ты не защищай —
•он сам за себя постоит.
Федька шепнул:
—
Ванька, дай-ка ей раза...
—-
Ну ее...
И злоба шевельнулась в Ваньке.
А Манька с девками подалась к парням, обложили их плотным
кольцом.
—
Расскажи, Митрий, из «Огней революции».
Белым облаком рассеивалась злоба. Черный ком зашевелился, полыхнул
.язык из-под .нагретых губ:
—
Верно; даешь «Огней революции».
Ночью, в темной затхлой комнате спит Ваныка с братом Митрием
в одной кровати. Сгагт Митрий сладко, крепко, широко ноэдригг горячим
носом, обдает вокруг дыханьем потным и горьким- .
Смотрит Ванька долго на решающее лиц-о брата, жадно ловит перебои
сердца, дышит опертым -воздухом и- потихоньку:
—
Митрий, а Митрий...
—
Чего?
—
Я обсчет ячейки...
—
Ну, чего, опять со школой?.. Завтра, завтра...
—
Нет, я не об том-...
—
Все равно—-завтра: спать надо...
—
Почему это так, с четырнадцати?
—
Что с четырнадцати?
—
В уставе...
—
В как-о -м уставе?
—• В -рекесемовском...
—
В рекесемовском потому, чтоб шпингалеты, как ты, в союз не лезли.
ГТонял?
•— Понял. Только, Митрий... чем я хуже других?
Голос у Митрия злой и брюзгливый.
—
Нельзя... Знает -ведь, что нельзя, а тоже лезет... Заправил и ни-
каких... Спи вот лучше, и нечего арапа заливать...
Поздней ночью воет по округе ветер, пляшет, словно бесшабашный
комсомолец. Мигают звезды разными оттенками — кто согласен, кто не со-
гласен, и кончается собрание под утро.
И когда уже нет ветра и нет звезд, и густой туман заволакивает ауди-
торию неба, — черный кожаный Петро дергает тоненький нерв фабрики, и
орет фабрика во всю фабричную глотку :
—
У... у... у... у...
Медленно подымается в доме мать. Слышно, как возится она за пере-
городкой, сводится рот от сладкой зевоты:
—
Ох-ох-ох... Грехи наши тяжкие...
Белые ползут по стенкам тени, светлыми барашками карабкаются по
карнизам, путаются в бороде у Маркса. И уже знает Ванька, что сейчас про-
снется отец и скажет мягко: «Мать, а мать, самоварчик бы», а потом громче:
«Эй, комсомол, слышь — старуха-то по нас убивается». И кажется Ваньке,
будто нарочно это отец про комсомол... Знает ведь, что безбилетный
Ванька.
Утром урчит самовар, как старый резец по железу, утром на стеклах
окон соки ушедшей ночи. Отец и Митрий пьют чай и смотрят в сизую муть,
толкуют о партработе. Мать приглядывает за Ванькой: руки жилистые —
в подбородок, глаза умильные, ласковые:
—
Пей, пей, Ватаошка, с хлебцам, сынок. Исхудал ты совсем в Рекесеме
вашем...
В сердце у Ваньки кипятком обида.
II.
Ночью, в черной затхлой комнате, спит Ванька вместе с братом
Митрием в одной кровати. Спит Ванька. Снится ему, будто причалил к ли-
верскому отделению паровое огромной мощности. «Ух» — рявкнул, дернул,
и пошел, пошел к Москве-реке, а Москва-река и не река вовсе —-
море, море
социальной революции. Паровоз, не думая, — на волны. Плещут волны через
крышу, заливают нутро паровоза. Полыхает пламя топки, обжигает жадные
языки моря, и шипят, шипят тяжелые поленья.
У топки кочегаром Ванька-.
Пузырями, пузырями кожа; набегают белыми буграми, лижут их и раз-
рывают волны. «Ах... уйтить бы от собачьей то-пки, прыгнуть бы в об'ятья
волнам, освежить бы тело». Только слышит Ванька:
—
Что, устал, товарищ Назарен-ко?
Глянул. Видит — Ленин.
Пена в сердце. Бесы в пене. Эх... и пляшут, сучьи дети.
—
Нет... не устал, товарищ Ленин...
—
А как думаешь, довезе-м до коммунизма?
—
Довезем, товарищ Ленин.
—
Ну, тогда валяй, братец, отселе недалече...
—• Есть, товарищ Ленин.
Пузырями, пузырями кожа: набегают белыми буграми, лижут их и раз-
рывают волны.
Вдруг —стоп... остров.
На острове лето. Струится солнце. Ластится ветерок. Цветут дома.
Выходят люди.
—
Здравствуйте, товарищ Ленин, а это кто с вами?
—
Это комсомолец Назаренко.
—
Нет, не комсомолец я, товарищ Ленин, — по уставу не хватает
года.
—
Ах, вот как?
И вдруг вынимает Ленин новенький комсомольский билет и подает
Ваньке. Видит Ванька в нем свою фамилию, имя... Ах...
—
Ванька, а Ванька!
—
Что, товарищ Ленин?
Продирает сонные глаза и видит Митрия.
—
Что, где билет, билет?..
—
Какой билет?..
—-
Союзный билет...
—
Чей?
—
Мой.
—
Откуда?
—-
Товарищ Ленин дал...
И вдруг понял Ванька, что снился Ленин, и больше нет ничего.
С горечью рассказал Митрию.
Тронуло Митрия:
—
Вижу, Ванька, будешь ты комсомольцем, что надо. Только* мы
с тобой теперь в одном- положении — тебе в Комсомол, а мне в партию...
Так же, как и ты, страдаю: молод, говорят...
Тихим звоном отозвались в сердце слова брата.
—
Верно, верно, Митрий, нам как раз по -году не хватает. Давай
уговор — в будущем годе сразу вступать.
—
Есть такое дело.
Шелестели- языками до рассвета.
Снова урчит самовар, как старый резец по железу. Снова на
стеклах окон соки ушедшей ночи. Отец и Митрий молча слушают
Ванькин сон.
—
Ох-ох-ох...— крестится мать: — ну и сны же у тебя, сынок...
Робко подкладывает Ваньке хлеба.
Ванька совсем не видит матери, не замечает отца и брата.
—
И вот, стоит это он самый и говорит: «как думаешь, то-
варищ Назаренко, довезем до комунизма?» — «Довезем, говорю, то-
варищ Ленин!»
И, чего не случалось ни разу — чувствует Ванька: вытянулась сильная
рука отца, -вот прикоснулись шершавые волосы, словно метелка черная бо-
рода. Цок-цок — жгучие губы в маленький лобик.
Крестьянин и рабочий. Ч. II.
30
—
4t>6 —
III.
В ремонтной, на видном месте, выклеил старый Петро:
Правительственное
сообщение
В связи с значительным ухудшением болезни, с сего числа* выпускается
бюллетень о здоровьи В. И. Ленина.
У видного места с раннего утра толпятся люди. Читают и расходятся
молча. Морщатся лбы, ежатся плечи, стынут глаза в подземельях век.
—
Плохо с Владимиром* Ильичом...
—
Плохо...
А *в ячейке PK СМ читает секретарь:
Циркулярное
письм*о.
О 25-летнем юбилее РКП (большевиков)
Лучшим подарком для партии от Комсомола* безусловно будет передача в пар-
тию отборных ребят ив рабочих ячеек
Секретарь М. К .
В этот день не клеилась на фабрике работа. У работниц рвались нитки
на басонах, и проворные руки неумело боролись с цепкими стальными пау-
ками. У ткачей неправильно шел узор, останавливались машины, и прозор-
ливые опытные очи не могли сразу нащупать причину порчи.
В ремонтной, в пуговичной, в барабанном то же, и даже старый кузнец,
весь лохматый и заросший, никогда ни с кем не говоривший, кроме своих
инструментов, обжег длинную седую бороду, после чего сказал Ваньке (за-
менял Ванька дедова подручного):
—
Эх, нейдет чтой-то...
И лотом, насупив брови и прикрыв огонь:
—
Слухай, юнец, хоть ты и комсомолец и во всем, как и в работе,
ни чорта не смыслишь, одначе спрошу тебя, потому негоже мне старому
взрослых куммунистов об этом спрашивать. Не люблю я их — не настоящие
они куммунисты, только смотрят свой карман, а хозяйского глазу ни-ни.. .
Ванька Щуплый вытер пот рукой и нос рукой. Выпрямился и заерзал
главами по старику.
—
Я, Антипыч, охотно...
—
Охотно, это я и так знаю, что охотно—побалакать, дашь бы не
работать—знаю вас, сукины дети... А вот ты скажи мне...
Голос его задрожал.
—
Что, это верно, что Ильич того... плохо...
—• Верно, Антипыч.
Старик тихо на железный пень, три больших креста на грудь, шепотом:
«не приведи господь»...
Ванька- неуверенно :
—-
Что, никак за Ильича, старик?..
Губы старика шамкнули:
—• А то за кого же?..
Радость полыхнула Ваньке в мозг. Звончато, задорно крикнул:
—
Ведь коммунист он...
Дед встал, выпрямился в богатырский рост и пробурчал:
—
Давай работать, неча трепатню...
И поперхнулся. И когда снова пьглал огонь, пыхтели меха и шипело
•железо, дед медленно' и нехотя под той железу:
—
Что же с того, што куммунист: всякие бывают куммунисты. Были бы
все, как он, и куммунизма не надо бы, а то только что название одно...
А в басонной и ремонтной собирались группами и толковали. И никто
не просил расходиться Молодежь даже во двор вышла; Манька Шустрая
глаза в землю, смирна, как курица.
—-
Ребятки, где бы нам- секретаря сыскать?
—
В Райком ушел...
—• А Митрия?..
—
Тоже...
С'ежияись в комочек и сердца, челноками мечутся предчувствия.
А в окне Ванька. Хочется Ваньке к своим. С дрожью в хитрость:
—-
Я, Антипыч, сбегаю раз-раз... Все доподлинно узнаю...
—
Што ж, иди...
Зазвенел, забрызгался звоночек в фабзауче. Высыпали фабзайчата.'
Длинный Петька впереди крикнул.
—• Што это вы, ребята, носы ооустимши?
Манька злобно:
—
Не знаешь разве?
Длинный Петька в вид ораторский:
—
Знаю, ну и что ж?., польза-то какая в отчаивании этом?.. Тут
помощь нужна, врачи нужны, потому никакой бог над нами не сжалится,
а врачей и без нас дадут. Наше же дело, ребятки, вот в чем: получился
ноне циркуляр в ячейку об юбилее партии. Надо в партию подарочек получше
флотского заправить—вот вам, чорт 'вас ешь, и помощь Ильичу... Потому
работничков в партии мало—заработался Ильич...
Отлегло немножко у ребят — будто длинный Петька длинным- дулом
дунул в сердце и прочистил и раздвинул сжавшиеся стенки. Заискрились, за-
цвели глаза из-под открытых век.
Ванька Щуплый бойко:
—
Братцы, кого же передать-то?
—
Ясное дело не тебя, шпингалета...
Ой, как укололо Ваньке в грудь, как вдарило в мозг, в глотке что-то-
пересохло, посвежели белки в глазах. Замешался и прошептал:
—
Нет... Я не про себя, конешно...
—
А не про себя, так и не суйся...
Стушевался Ванька, а хотелось ему первым делом в'ехать в морду
кулачишком Маньке и потом сказать всем громко: «Знаете ли вы все, ежели-
хотите знать, вот Митрий, которого вы наверно выберете, до самых тех пор-
не пойдет в партию, покуда меня в комсомол не примете, потому такой
у нас уговор был — обоим нам по году не хватает». Но не сказал — пусть
лучше сам заявит Митрий на собрании.
А Манька Шустрая сосредоточенно:
—
Кого же нам, в самом деле, выставить?..
1 Сенька задумчиво:
т
—
Думаю, ребятки, что это дело «Бюра», кого предложат, того и
выставим, потому...
Длинный Петька оборвал, кривляясь:
—
По/тому, потому — балда ты... во что, коли хочешь знать. Кой
к чорту комсомолец, ежели все у него бюро, а самодеятельности — ни -
на грош...
—
А бюро на что ж, по-твоему, в курьерах бегать?
Манька примиряюще:
—
Бросьте, ребятки, из пустяков, — конечно, обсущгь надо...
Сенька, чуя пораженье, вздыбился и руки в кулаки.
—
Ну, и пусть обсудить, а вот теперь какая я балда, скажи... Какая-
я баліда?
•
Жжжах Длинного под правый бок.
—
Вот какая я балда!.. Видал балду?.. —
кричал и пенился.
Петьку Длинного перекосило:
—
Ах, с сучьевого завода, постой-ка, я те вылущу суконную харю...
Вот, вот тебе, фашицкое отродье...
Завязалась драка. Помаленьку в драку все. Ванька с радостью за
Маныку; норовил фонарь под глаз, да мимо, не достать Ваньке проклятого-
глаза; в ярости под грудь начал.
Из ремонтной — беспартийные рабочие, из басонной — работницы.
—
Ай, ай, поглядите-ка, что делается, чем комсомол занимается...
По двору мастер. Увидал и крикнул:
—
А ну, расходись — после шаломыжитъ будете...
И когда расходились, радовался Ванька, чуял, — близится заветное-
желанье, близко. Вот штука будет на поругу Маньке.
А на завтра собирались комсомольцы в клубе. Секретарь лартейный,
Павел Мироныч, о партии, о Ленине, о комсомольцах. Мол, нужны сейчас по-
мощники Владимиру Ильичу — умаялся больно. А помощников готовит ком-
сомол — вот и вышло время на 'помощников.
Все ясно, все понятно Ваньке, только что ежели вдруг да согласится
Митрий?.. как подденут Ваньку ребята, что скажет токарь Володин?.. Нет,.
•не может этого быть, ведь уговаривались, и потом Мироныч скажет, что
нельзя — по устройству не хватает году.
Представитель, бойкая голова, сразу двумя звонками звякает, — одним
медным, другим глоточным- —
свое дело знает.
—
Товарищи, бюро ячейки выдвигает Солодкову Анну, 19 лет, и Наза-
ренко Митрия, 17 лет. Ребята, кажется, всем известные, а свое согласие
из'явили.
Голоса в ответ пчелиным -гулом: — Есть... знаем... поддерживаем..
обоих и думали...
Смотрит Ванька в сторону брата, видит —
- орят глаза по-необычному.
Что же это, Мироныч?..
Ничего, Мироныч.
—
Итак, считаются принятыми.
И уже не слышит Ванька, что говорят дальше, чует только — мутно,
мутно в голове; кругом, кругом ребята, кругом столы и стулья...
—
Ах... что это, никак дуірно Ваньке?
—
Ну, конечно...
Зазвенели, завизжали голоса, загудели, закричали, загорланили:
—
С чего это он?
—
Никак с радости, брат-то его Митрий в партию передан...
—
Нет, не с радости, вишь они сговаривались вместе подаваться: один
в партию, другой в комсомол, ну с обиды значит...
—
Ах, вот как... Он еще не комсомолец разве?..
—
Именно, что тринадцать ему, и, главное, один у нас такой всего-
навсего, а то организовал бы пионеров...
А. Безыменекий.
петр смородин.
Не п-рославим — покажем того,
Кто заводской чеканкой высечеь.
Я хочу -показать -одного,
Чтобы в нем -говорили- тысячи.
Этот гимн Комсомольской Весне
И стальной большевицкой породе
Назову я не песнью пеонёй,
А просто:
Петр Смородин.
1
Живая струя потока.
Рабочий.
Комсомолец.
Коммунист.
Вот он:
По паспорту — токарь,
А по анкете — цекист.
2
Знаю: в пути его
Столько нагрузки!
День перейти
Словно івзятъ окоп.
Ах, у Прошлого такой узкий
Каменный, тупой лоб!
Думало, можно такого
Выжать, скрутить, одолеть
Грохотом станковым
И, подымающим- плеть,
Гнетом, трудом острожным...
А он доказал ему вмиг,
Что грамоту пить можно
Из
Ворованных книг.
Мог он — парнишка неловкий —-
Водку в пятнадцать пить
И первым, при забастовке
Горн потушить.
Мог матерщинничать люто,
Бросить листовку... он мог,
Трое не евши суток,
Другу отдать кусок.
Знать, что восстанье близко.
Гнету готовить гроб...
Ах, j Прошлого такой низкий
Каменный тупой лоб!
3
И вот
Люди труда без родины,
Сам он, завод и станки
Взяли Петра Смородина
В большевики.
Красным семнадцатым годом,,
Крикнувши миру: — даешь!
Дали Петра коноводом,
Дали Петра в молодежь.
Вот он пылающей речью
Старый ворочает мир,
Миг — и винтовку на плечи.
Он полковой командир.
В Пскове ли; Ямбурге, Нарве
Белогвардейцев бьет,
Миг — ив заводском зареве
Снова тачает болт.
Миг — и в Цека галдежит...
Чрез комсомольский -ров
В армию молодежи
Льет большевицкую кровь...
Вот заседаний сотни.
Тезисы. Книга. Листки.
Митинг. Ячейки. Субботник^
Фабрики. Села. Полки,
Эпос,
Эпос величавый!
Партия! PK СМ!
В них
Каждый тезис корявый
Стоигг
Десятков
Поэм.
4
Вот он теперь в кабинете.
Рабочий.
Комсомолец.
Коммунист.
Пишет Смородин в анкете:
Цекист.
Вместо винтовки тяжелой
Держит бумагу, перо.
Вновь заседания, школы
Пленум Цека, Оргбюро.
Только подчас, без причины,
Так себе, в воздух ли, в свет,
Плюнет, заржет матерщиной —
Грязью проклятых лет.
Странного много на свете.
Есть и еще грехи.
Знаю: Смородин Петя
Пишет тайком стихи...
Целые дни приемы,
Шефство, ячейки, бюро...
Переменились хоромы,
Тем же осталось нутро.
Вечером, тем же парнем;
Приподымая Петра,
С Энгельсом, Марксом, Бухариным,
Проговорит до утра.
Пишет ребятам знакомым...
Знает
Наверняка:
Там где-то
Будущие наркомы
Ждут у сохи и станка.
Вот он всегда перед нами,
С жизнью его грозовой,
Руганью, гневом, грехами —
Живой.
5
Говорят мне опять: — нельзя
Памятник личности высечь.
Петя! Тебя я взял
Потому, что ты сколок с тысяч!
В этой песне о нынешнем дне
(В звуке имени: Петр Смородин)
Только гимн Комсомольской Весне
И стальной большевицкой породе.
Знаю, знаю: ты первый ждешь,
Чтобы имя твое смыли*,
Чтобы новый сверкающий дождь
Смыл бы все имена и фамилии...
Лейся в жизнь, человеческий дождь!
Гряньте, вспышки ликующих молний!
Вот она, дат она,
Рабочая
Молодежь!
Родина моя —
Комсомол мой!
А.
Безыменскш.
КЛУБ.
...Как отрадно притта в этот клуб.
Отдохнуть и побить баклуши.
Прикорнуть где-нибудь в углу,
Нашу жизнь поглядеть и послушать.
Каждый он — это новый я.
Я пораньше
Или я попозже...
Может, только походка души своя —
То же тесто
И большевицкие дрожжи.
Мысли, мысли! Готовы ли вы?
Вот он:
Лик братвы.
Митинг о разверстке на диване.
Зоечка тайно любуется на фуіакш.
Петька на рояли барабанит
Кулаком.
Невдалеке — рояль вторая.
Сторож Ахрютка, шкет и барбос,
Еле-еле пальчиком ударяя,
Бубнит Марсельезу под нос.
Кто-то в углу наслаждается репой.
Предгубкомол подает самовар.
Двое райкомовцев с миной свирепой,
Строчат циркуляр.
Ося с великою мукой, ворча,
Книгою мысли целинные пашет.
Ванька показывает, хохоча,
Спину, излупцованную папашей.
—
Братцы, скорее! Помыть полы!
Вышли — пропали.
Сенька высовывает из-под полы
Стянутый шпалер.
Возле Валютой собрался сход.
Перекривляет пьянчужку брата.
—
Вот так, ребята, у брата живот.
Просто могила денатурата!
У комсомольцев, у нас, у всех
Нету охоты ни плакать, ни охать,
Только нас тронешь — сыплется смех.
Только заденешь — хохот.
(Где же ты, где же ты, жизнь, улеглась?!
Там улеглась, под надвинутой кепкой,
Там, возле кругов у огненных паз
И под ремнем, перетянутым крепко...)
Очередь, очередь! Чаю стакан!
Машет буфетик хвостом своим длинным.
С радостью завтра —опять к верстакам.
Радость сегодня — китайский с ландрином.
.. . Я по читальне — и замер совсем.
Здесь тишина — нетревожимым гостем.
Здесь тишина, а бывают все...
Тише, мой шаг... не хрустите, кости...
Библиотекарь и двое других,
Как комиссары по тюрьмам, с обходом.
Наших друзей среди этих книг
И политических нам — на свободу!
Пушкин и Гоголь, Бальзак и Шекспир...
Братцы, Плеханыч!—Встречаем любовно.
Княжеских пленников выпустим в мир...
Библия? Снова в тюрьму! Уголовный!
В зале большой заседают кружки.
Литературный кружок, политграма...
Мысли — как гвозди: Слова — молотки.
Взмахи — неловки. Но бьют прямо.
Вдруг...
О,, громче, сердце, кричи!
Вижу глазами
Из искры пламя.
Там, над тетрадкой,
Сидят бородачи
С комсомольцами-учителями.
Вот он, рабочий, из тех, кто был
Мозгом: — огонь, а губами — как рыбы,
Пишет — ведь пишет! — «мы не рабы»...
Сам он недавно с подполья прибыл.
Целое ухо снес офицер.
На голове, где седые нити,
Выжгли бандиты
«РСФСР»...
Знаю: не дрогнул, как с дыбы слезал.
Крикнул лишь:—Смерть буржуазному змею!
Тут же
Огромная повисла слеза
Над первой
Каракулькой
Своею.
содержание.
Стрг
Предисловие J1. В
.
3
ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ,
волчья
воля.
«Крестьянская реформа» и пролетлрско-крестьянская революция. И. Ленин («Со-
циал-Демократу 1911 г. No 21—22)
9>
Как подлиповцы работали на заводе. Ф . Решетников.
«Подлиповцы>
14
Разоренье. Глеб Успенский . .
16
Проезжая степная дорога. А. Левитов.
«Иочь>
28
Расправа. А . Левитов
30-
Железная дорога. Н . Некрасов
37
Нравы Растеряевой улицы. Глеб Успенский
42
Кузнец. Глеб Успенский. «Из деревенского дневника»
56
Подгородный мужик. Глеб Успенский. «Из деревенского дневника>
60
Бабий заработок. Глеб Успенский. «Из деревенского дневника»
65
Снизу вверх. И . Петропавловский-Каронин
66
В сухом тумане. В. Вересаев
89-
Павловские кустари. Вл. Короленко.
«Павловские очерки»
96-
Андрей Иванович. В. Вересаев. «Два конца»
106
Смерть мальчика. Глеб Успенский. «Из деревенского дневника»
Ill
Плач детей. И . Некрасов
113
Ванька. А. Чехов
114
Детство. Ив. Вольное. «Повесть о днях моей жизни>
117
Отрочество. Ив. Вольное. «Повесть о днях моей жизни» ....
•
133
Горькая правда. Демьян Бедный
144
Как я учился. М. Горький
146
Забастовка на фабрике. И. Федоров-Омулевский.
«Шаг за шагом»
154
Мужики. А. Чехов
169*
В овраге. А . Чехов
173
В успокоенной деревне. Вл. Короленко.
«Картинки подлинной действитель-
176
Клад. Демьян Бедный
184
Кларнет и рожок. Демьян Бедный
186
Расчет. И . Шмелев
187
«Опекуны». Демьян Бедный
190
Приезд владельца. С. Под'ячев. «Среди рабочих»
191
Ужин рабочих. С. Под'ячев. «Среди рабочих»
192
Выдача денег. С. Под'ячев. «Среди рабочих»
19S
Пожар. С. Под'ячее. <Среди рабочих»
•
197
Жизнь рабочей слободки. М . Горький. с Мать*
201
Болотная копейка. М . Горький
203
Человек из ресторана. И . Шмелев
208
В булочной. М . Горький. сДвадцать шесть и одна*
210
Завод. Ф. Шкулев
211
Молох. А. Куприн
212
В пламени. Н. Ляшко
214
Среди ночи. А . Серафимович
216
Сцепщик. А . Серафимович
« 227
Под уклон. А. Серафимович
233
Под землей. А . Серафимович
239
Шахта. М . Герасимов
253
Поступление в лампоносы. В. Кореньков. < Мишка Лагутин»
•—
Первое мая. М . Горький. <Мать*
263
Первомайские прокламации. Н . Ляшко. ^Крепнущие крылья>
272
Пропагандист Тютя. Н . Ляшко. «Крепнущие крылья
276
Рабочий Шевырев. М . Арцыбашев
279
Вступление в кружок. С. Васильченко.
«Приключения подпольщика»
288
В рабочем кружке. А. Бибик. «К широкой дороге»
292
Порывы. А. Яковлев
300
Недра. Ф. Гладков. <Изгон*
305
На партийной работе. А . Фролов. <Воспоминания рядового рабочего*
310
Проба сил. С . Васильченко. <Приключения подпольщика*
319
9 январл 1905 года. М . Горький
324
ОТДЕЛ ВТОРОЙ.
За власть Советов.
Восстание. В. Александровский
335
Митинг. Вс. Иванов.
«Бронепоезд No 14—69>
337
Микула. П . Орешин
338
В ожидании врага. Вс. Иванов. <Бронепоезд No 14—69»
340
Обстрел бронепоезда. Вс. Иванов. <Бронепоезд No 14—69*
345
Распропагандировали. Вс. Иванов. «Бронепоезд No 14—69»
348
Братья. И . Тихомиров
353
Двенадцать. А. Блок
354
В огненном кольце. (1 мая 1918 года.) Демьян Бедный
364
Красная гвардия. Л . Сейфуллина. <Перегной*
—
Из шахтеров в красногвардейцы. В. Кореньков. сМишка Лагутин*
366
Шахтер. С. Обрадович
375
Проводы красноармейцев. В . Кириллов
376
Встреча с махновцами. В. Вересаев. <В тупике*
.
—
Кулацкая расправа. Л. Сейфуллина. іВиринея*
384
Самосуд. Л . Сейфуллина.
«Перегной*
388
Греми, безумствуй, гроза святая! В. Кириллов
389
На последнего врага. А. Малыіикин. іПадение Дайра*
390
Главная улица. Демьян Бедный
401
Матросам. В . Кириллов
406
Замостье. И. Бабель.
«Конармия*
407
Тимошенко и Мельников. И . Бабель. <Конармия*
409
Снежный рейд червонных казаков. Д . Петровский
412
Ванька Софронов. Л . Сейфуллина. <Перегной*
413
Юной гвардии. Демьян Бедный
415
Молодежи. В. Кириллов
—
В медико-педагогическом городке. Л . Сейфуллана. <.Правонарушители»
416
На кладбище. Л. Сейфуллина. <Правонарушители»
420
Пять песен человека. А. Безыменский
425
Бабы. А. Неверов
427
Девушке-красноармейцу. В. Александровский
4-38
Чилига. М. Герасимов
439
Русь Советская. С. Есенин
4
440
На родине. С . Есенин
442
Я стихами по горло сыт. В . Александровский
.
...
•
445
На выборах. Л. Сейфуллина. <Виринея*
—
Ручной лебедь. В. Казин
449
Рубанок. В. Казин
:
—
Ленин. В. Казин
—
В библиотеке. Л . Сейфуллина.
- .Перегной*
450
Сенокос. Л. Сейфуллина.
-. Перегной*
452
Башня. А . Гастее
456
Двенадцать месяцев. В. Кириллов
457
25 октября. В . Кириллов
458
Власть Советам. А. Костерин. <Восемнадцатый годочек*
—
Тринадцать. М . Колосов
461
Петр Смородин. А. Безыменский
469
Клуб. А . Безыменский. <Комсомолия»
473
.
ф;
ш ч.*??
;»
Ш'
*
.
.
.
•
-
.
у
--пг,
.Ли»'.г-
.-Ьи»:/ >. Д (J: I <••'
.
•
.... ..
в;й-.ЛЩ/»'
v-'T.;-;
•'''.v.
..••..':* ,V. j)i!tHOtj I : ..
. йдтклл
' iiïî
,
'qt;
ч..... .
:
ri
.
Л', «.qodi.. q'
...
w.. ;.
.s -мьГл-«?
.
':
.
.-.
'
••?"'.
.
.
Л--.. •
. »ѵЫуѴУ,'.. -
Ж «WOïfcSllïr ß
.
:
,.
. ' -.-y-лV
vijiSji Щ о'ШЫ
.
.
• ' i'.bOî ÜiKW'.l, V . V.^.ï УЛК "»'"
V..:іJ
!..
,
.
W .УУ-Ыг,;
V.
If. .зддгчфКХ фи
Ші
.ш
А
.
.
.
.,
...
V. »>>, г • I.V. 1 л I'): .».>•'.S«.' А -
'
ttär^b
А.
'
А-?
•
'"
7
,|0
•
.
•
".i§>:--
. .>'
Wy -А»? , ~yV
.
••.
» ...
-
....
А"..".
•'
.,;
•'ft
4
•
?.,
t'i yvvî* v
.
.
. ...... >4,; Ч
.
у,.
-
,
щ
•
Mч
:
.,Щ,у.
.. ' !vy;yïW '4
..
.У
ад,
..,
•...••
:
.i .V.
•.';•••
:1
••
'
m
m
•
а
•
•
•
•Ä: *.
г,,•-