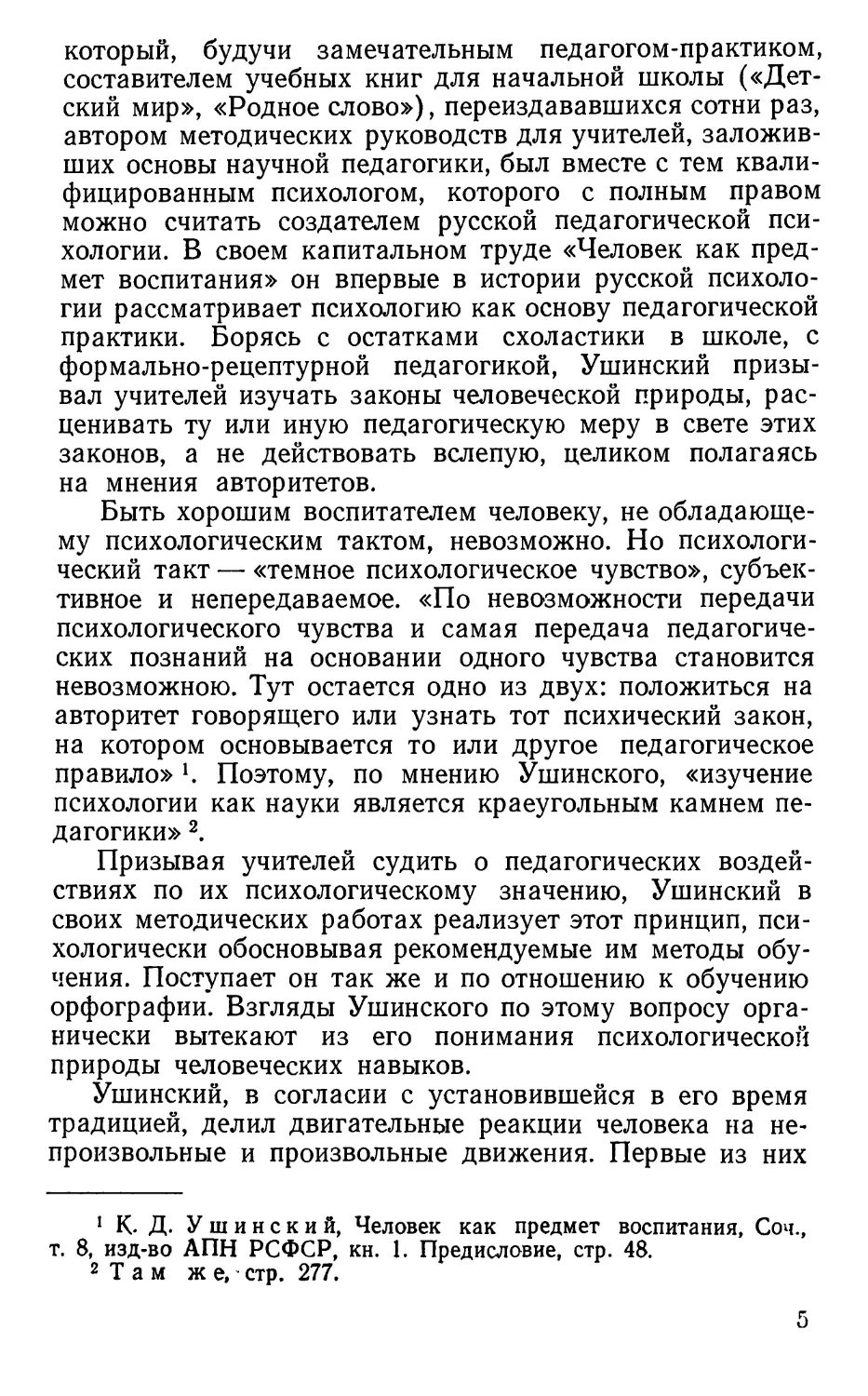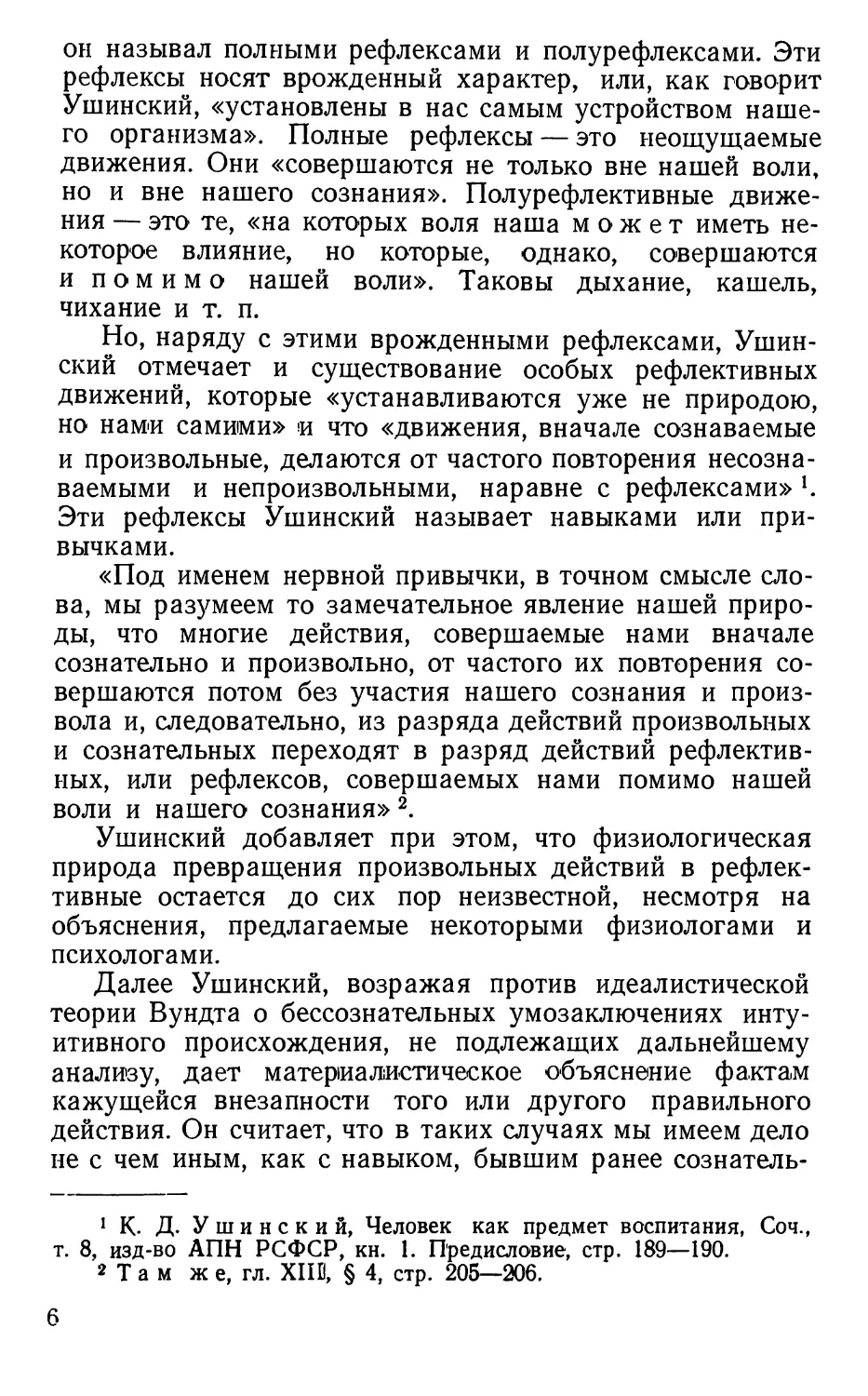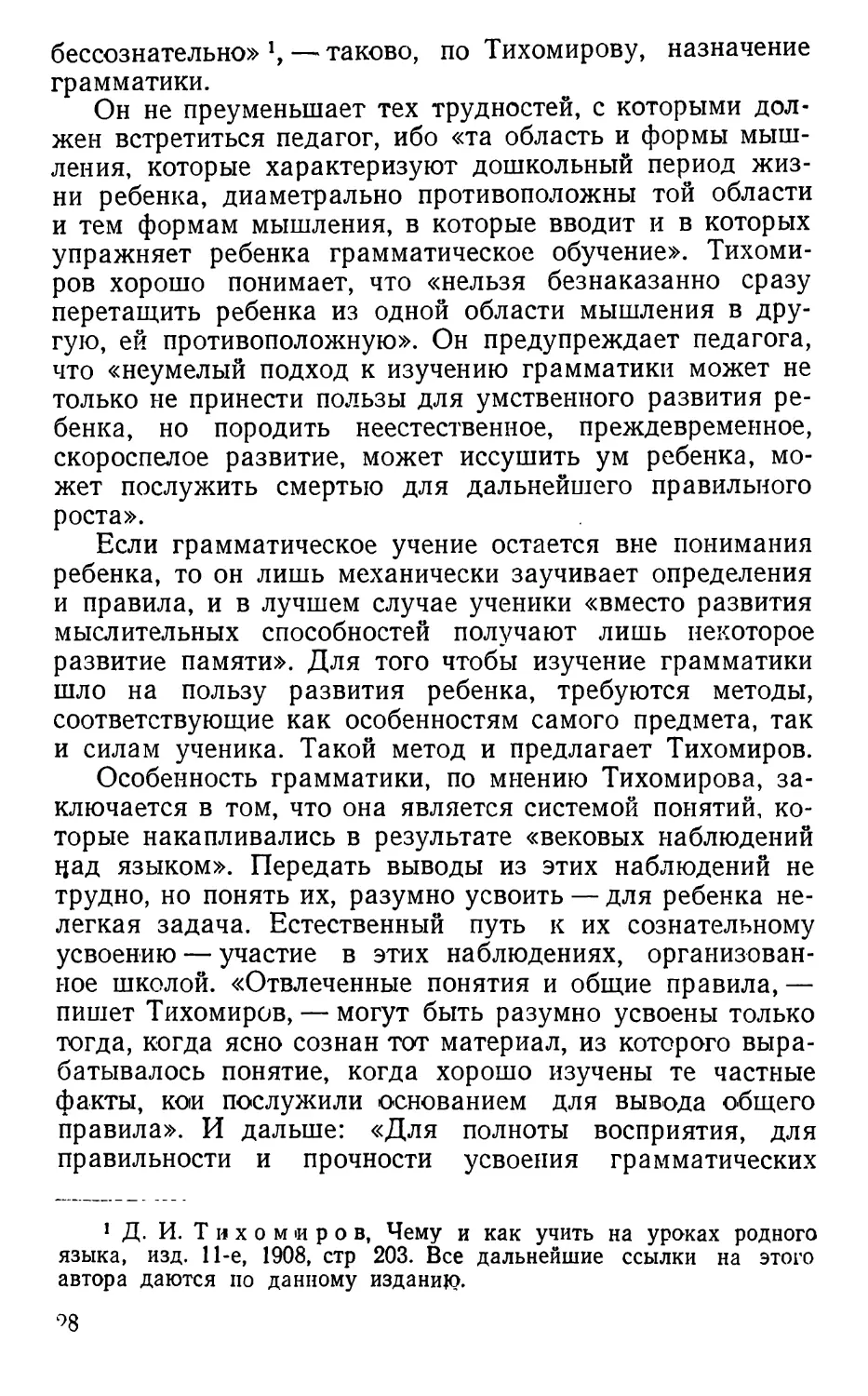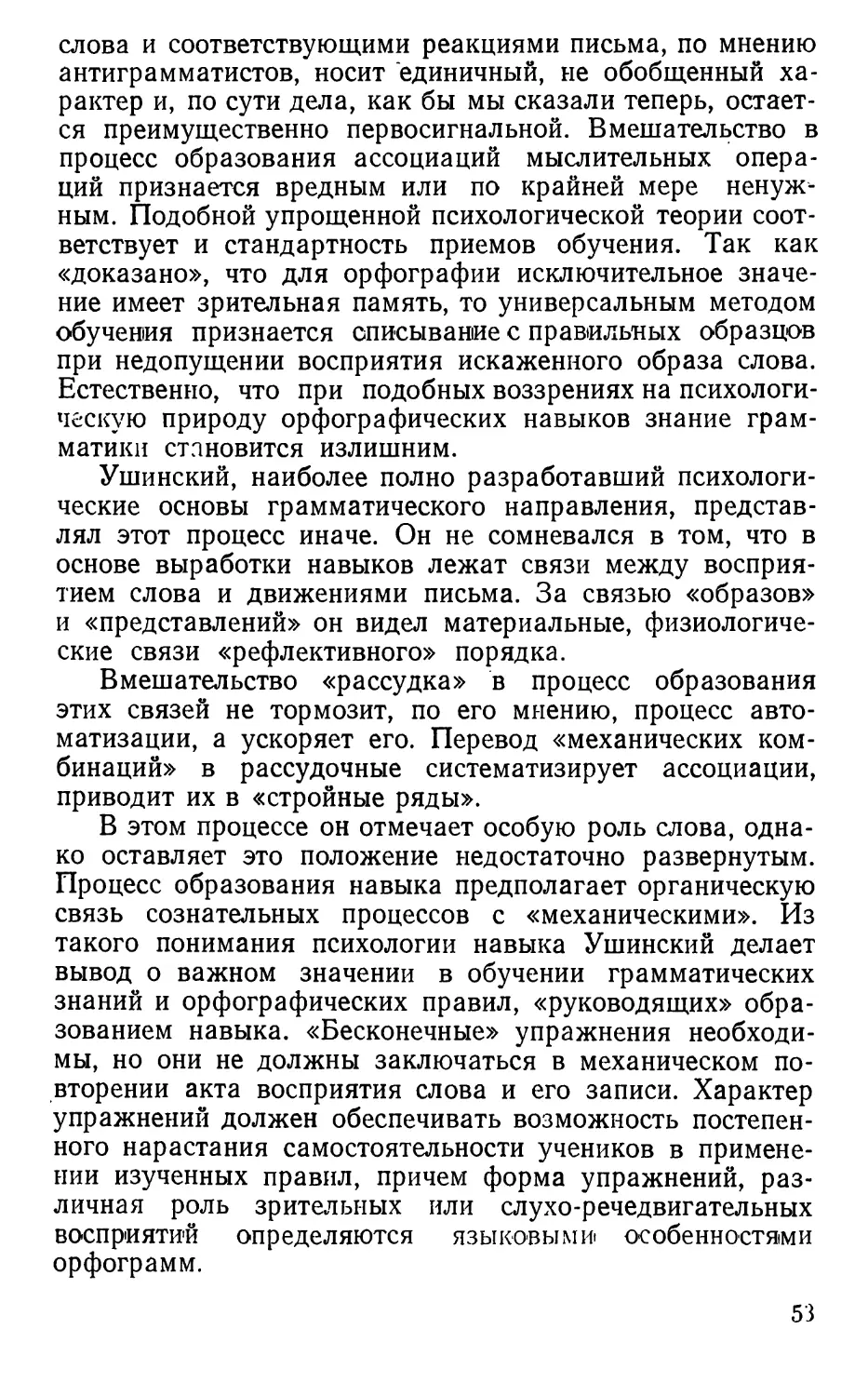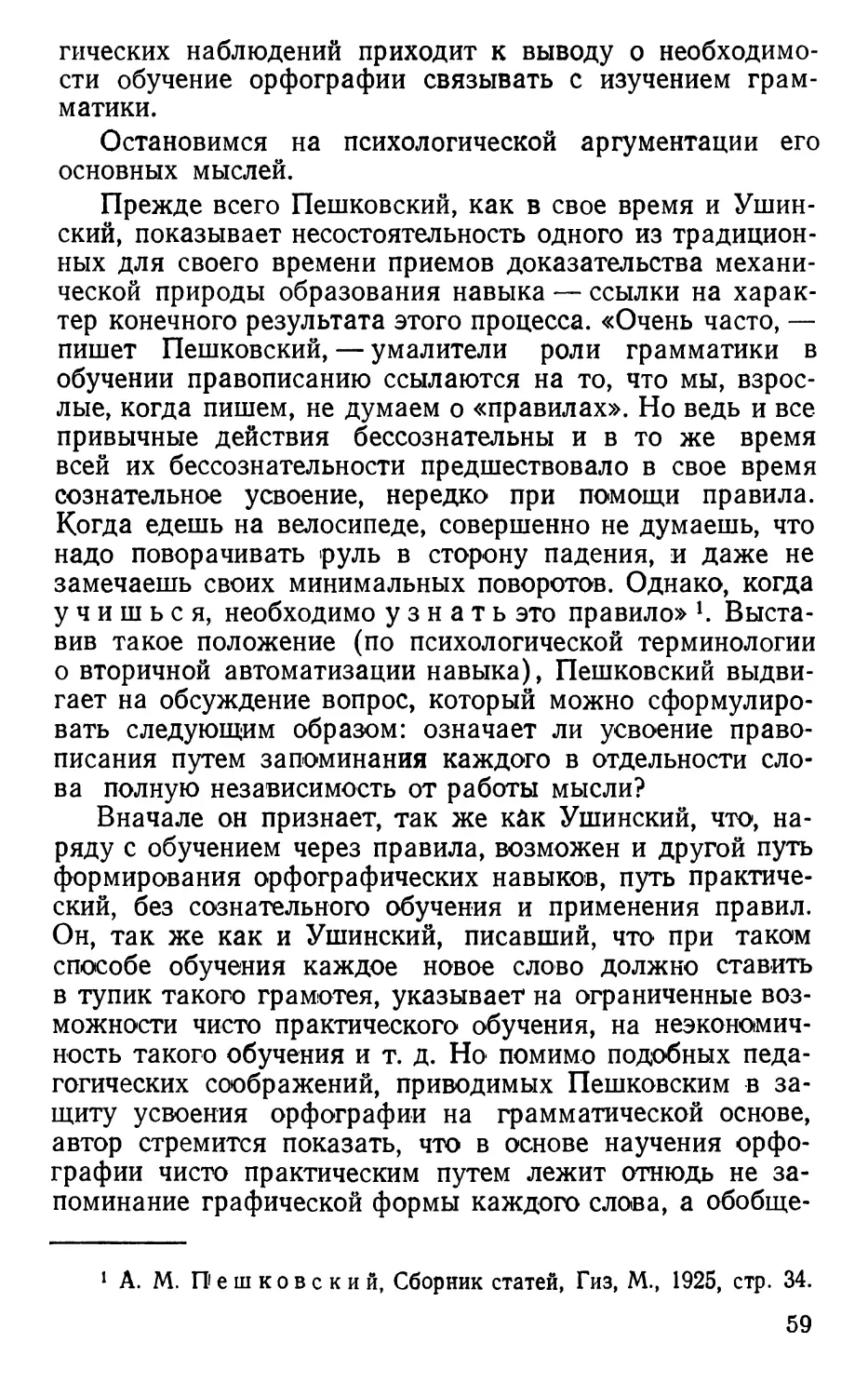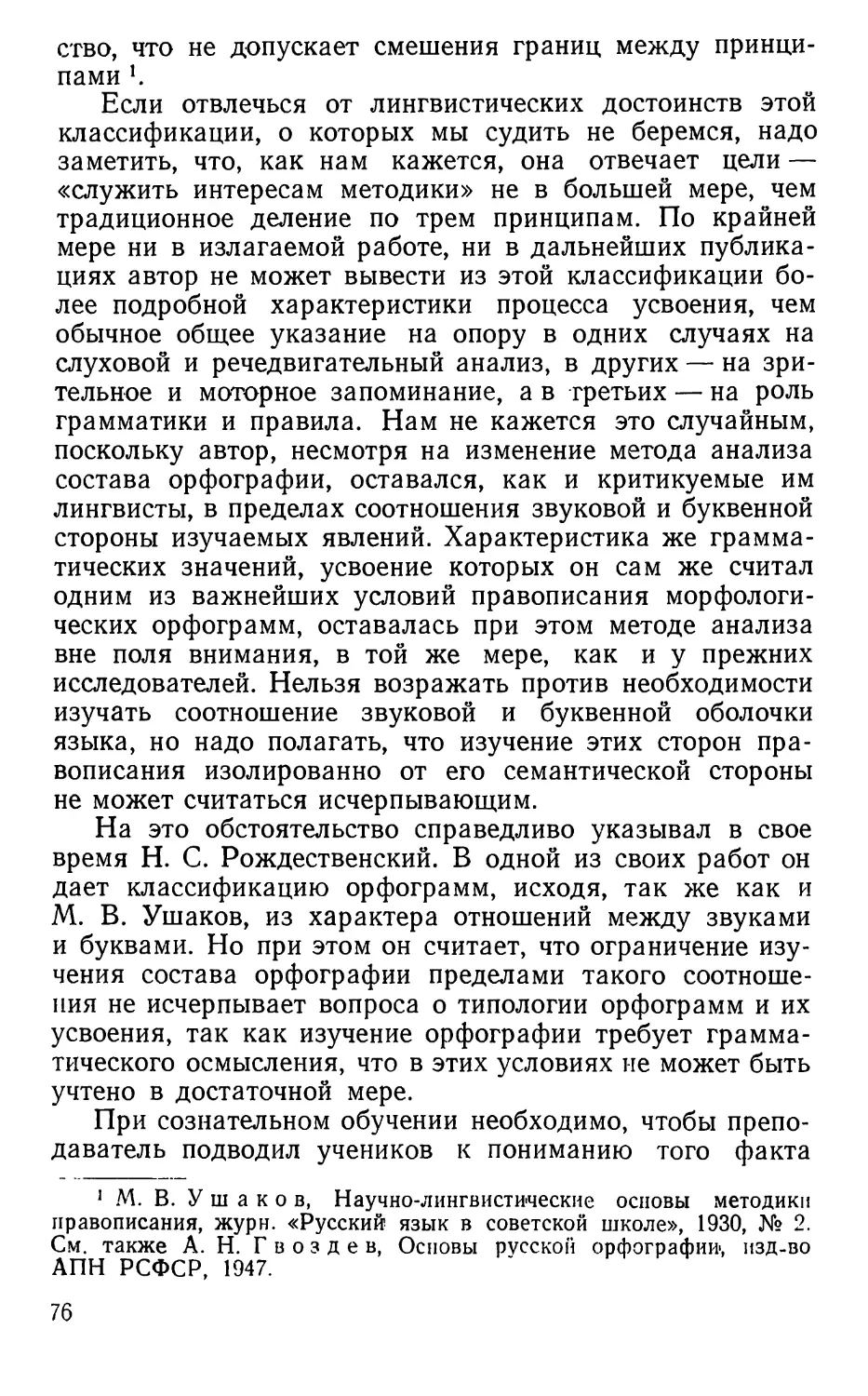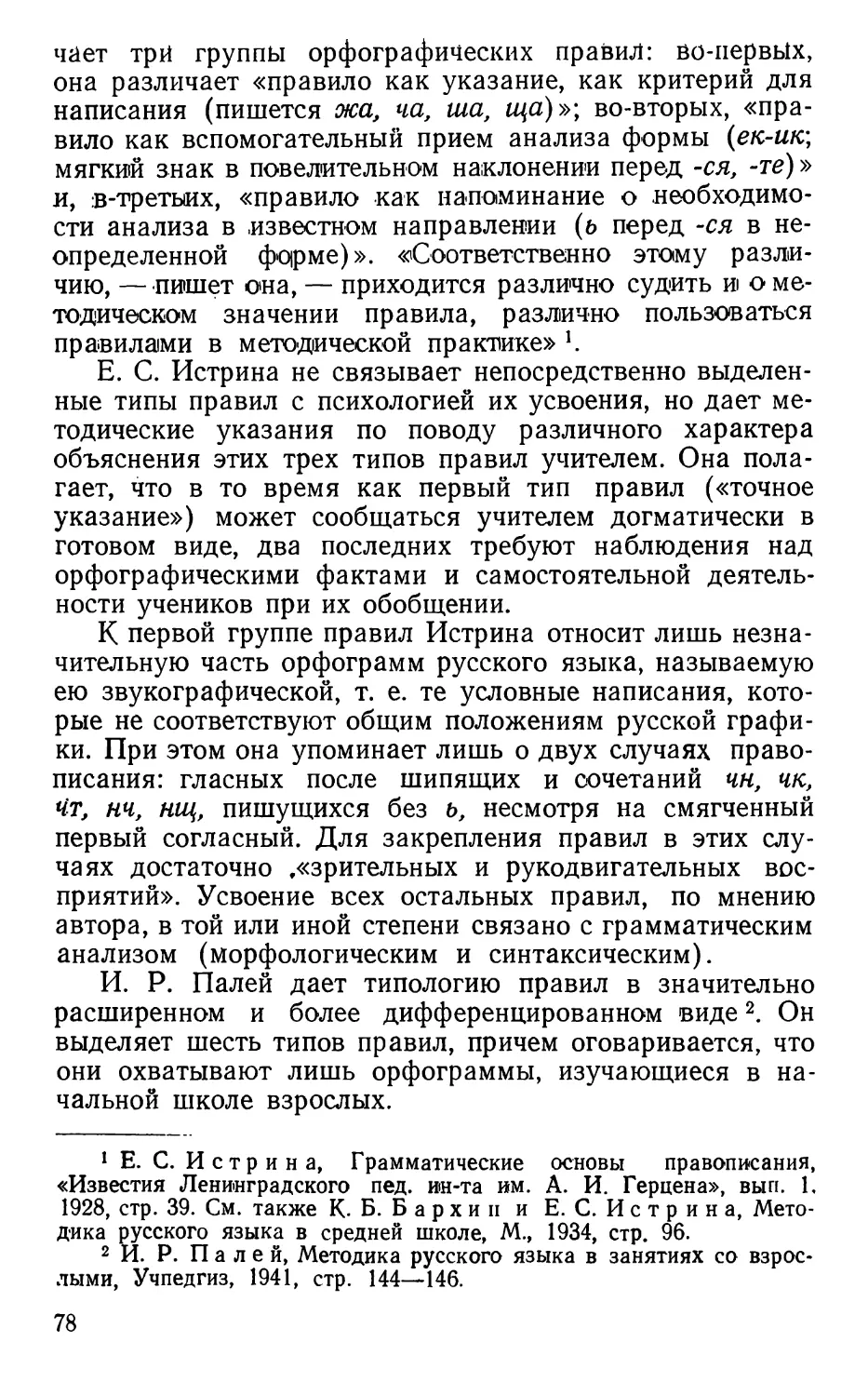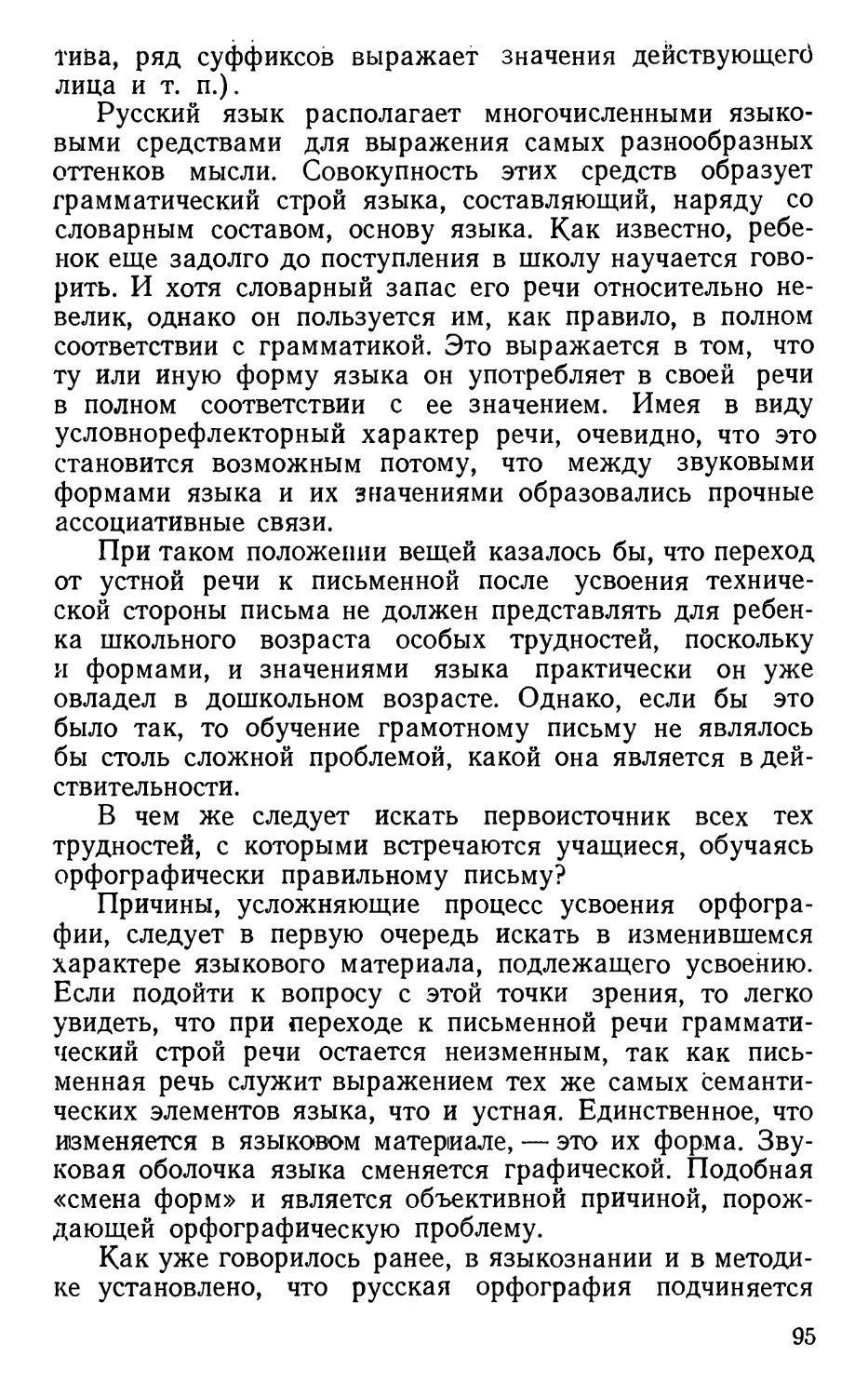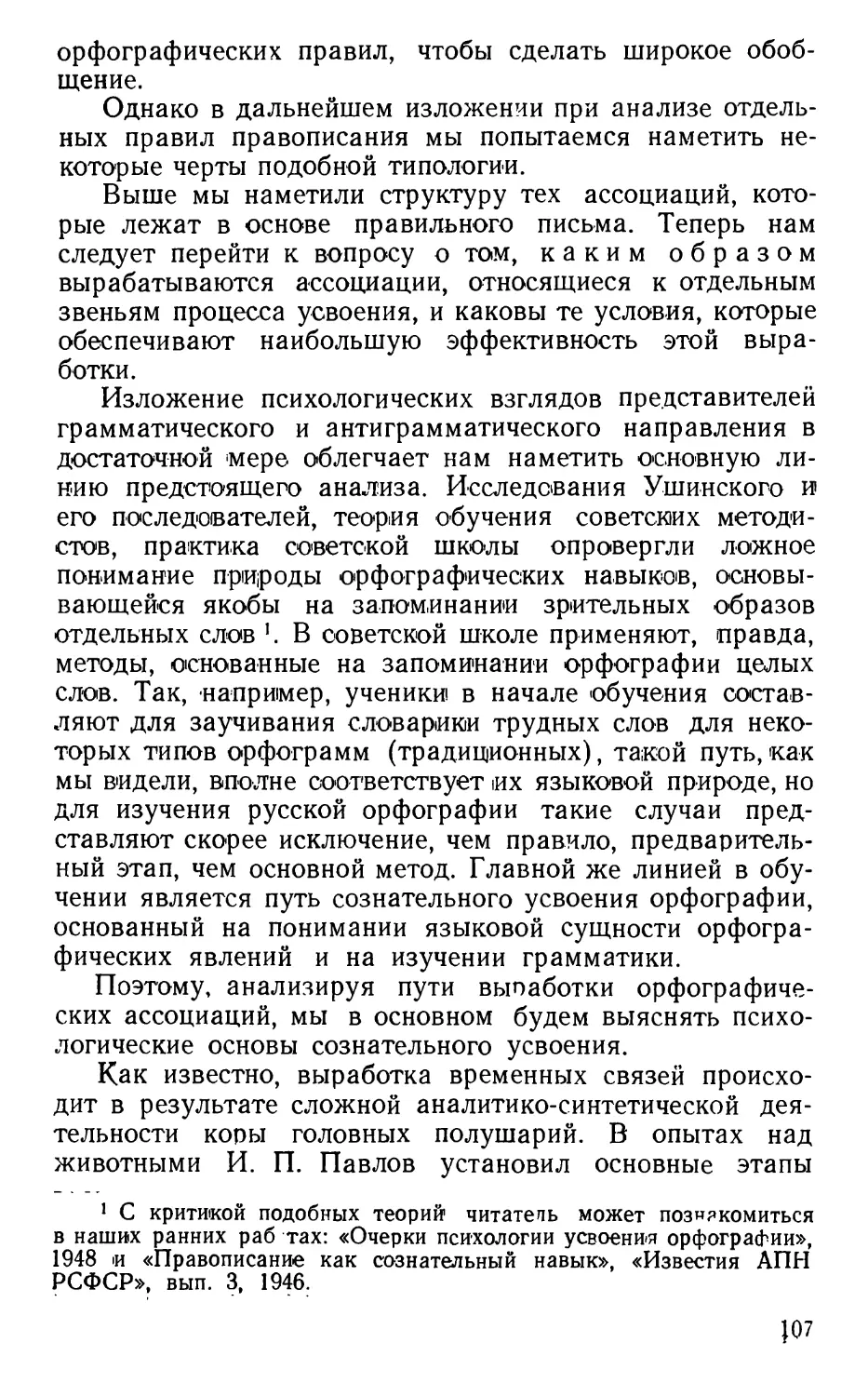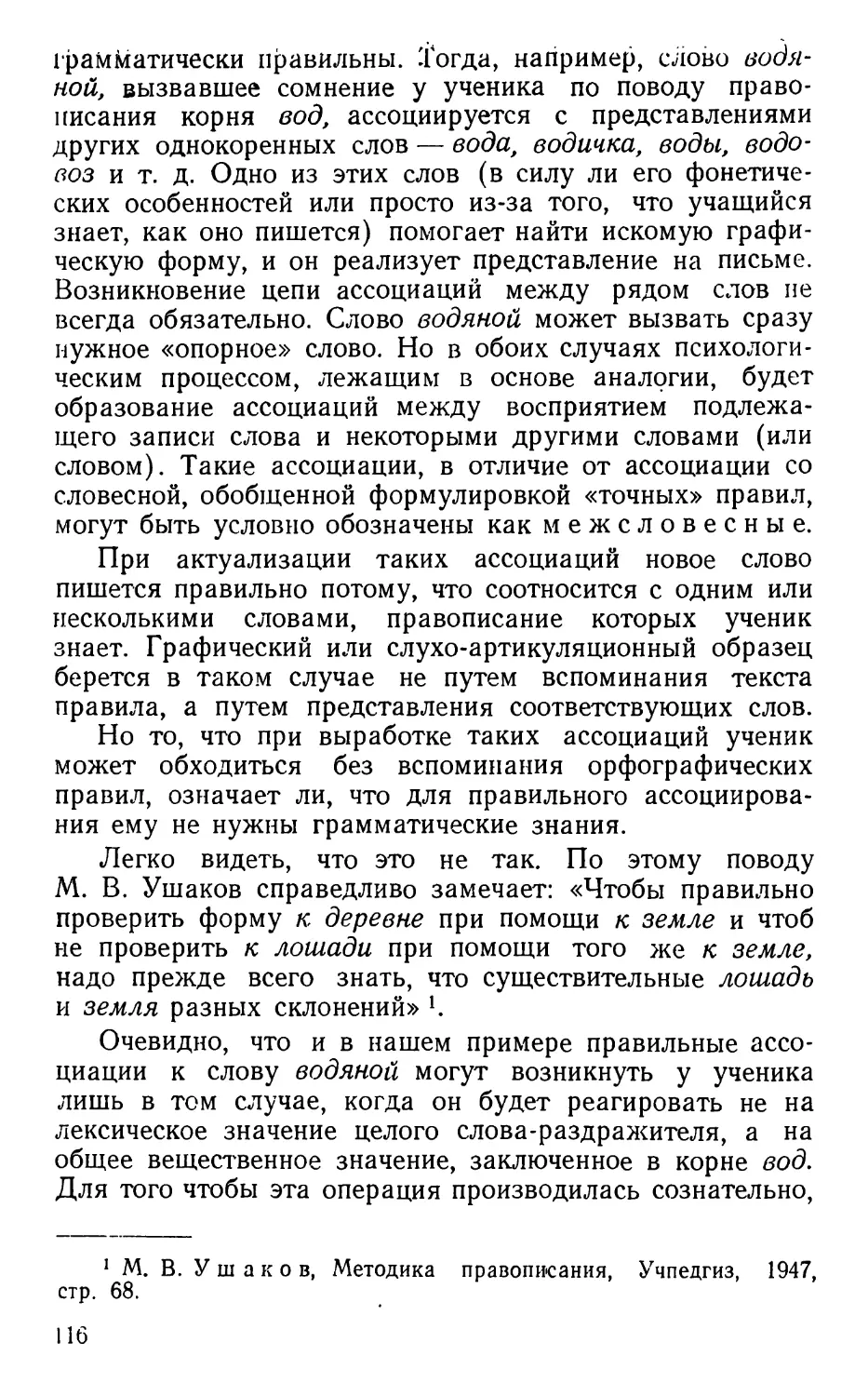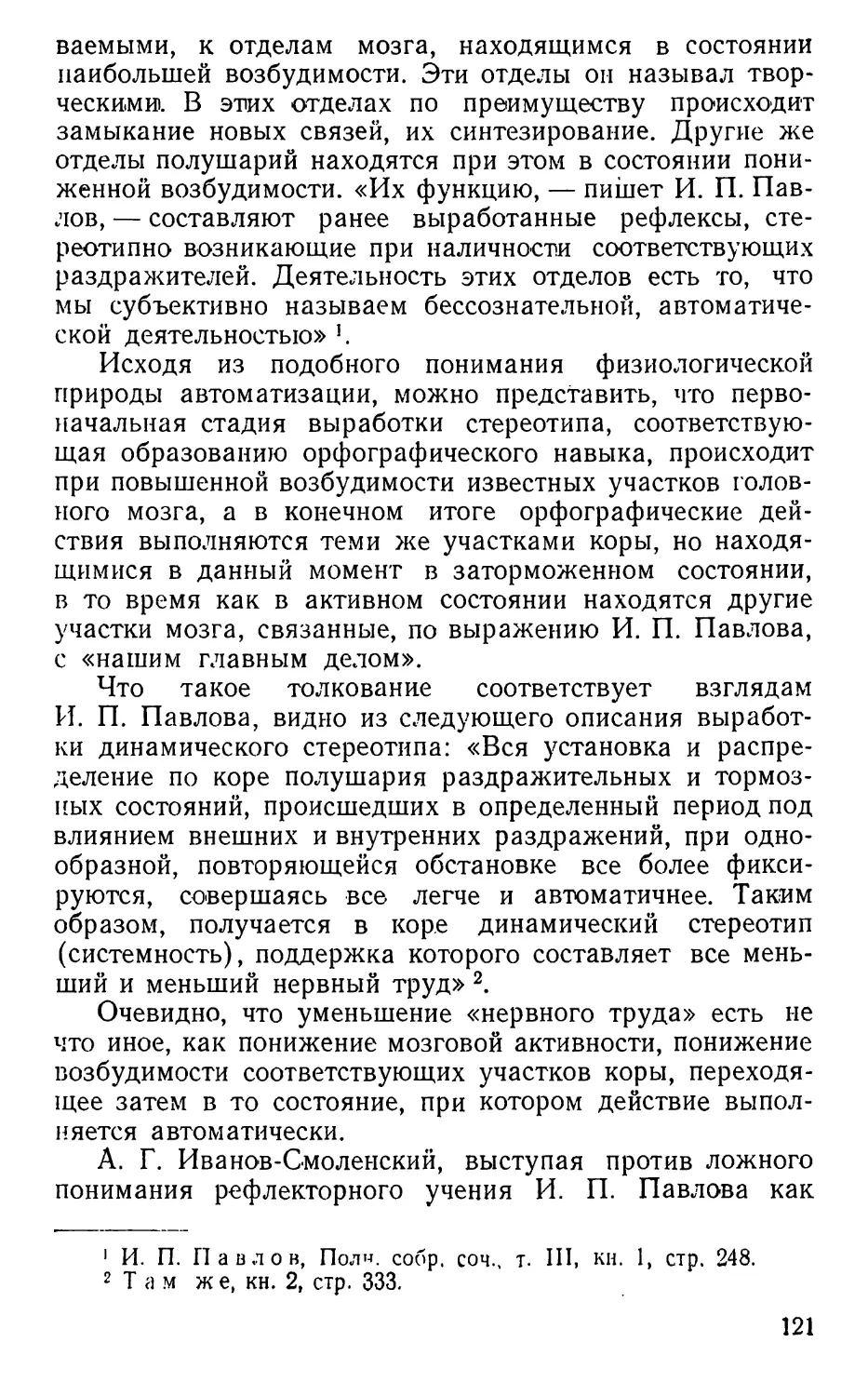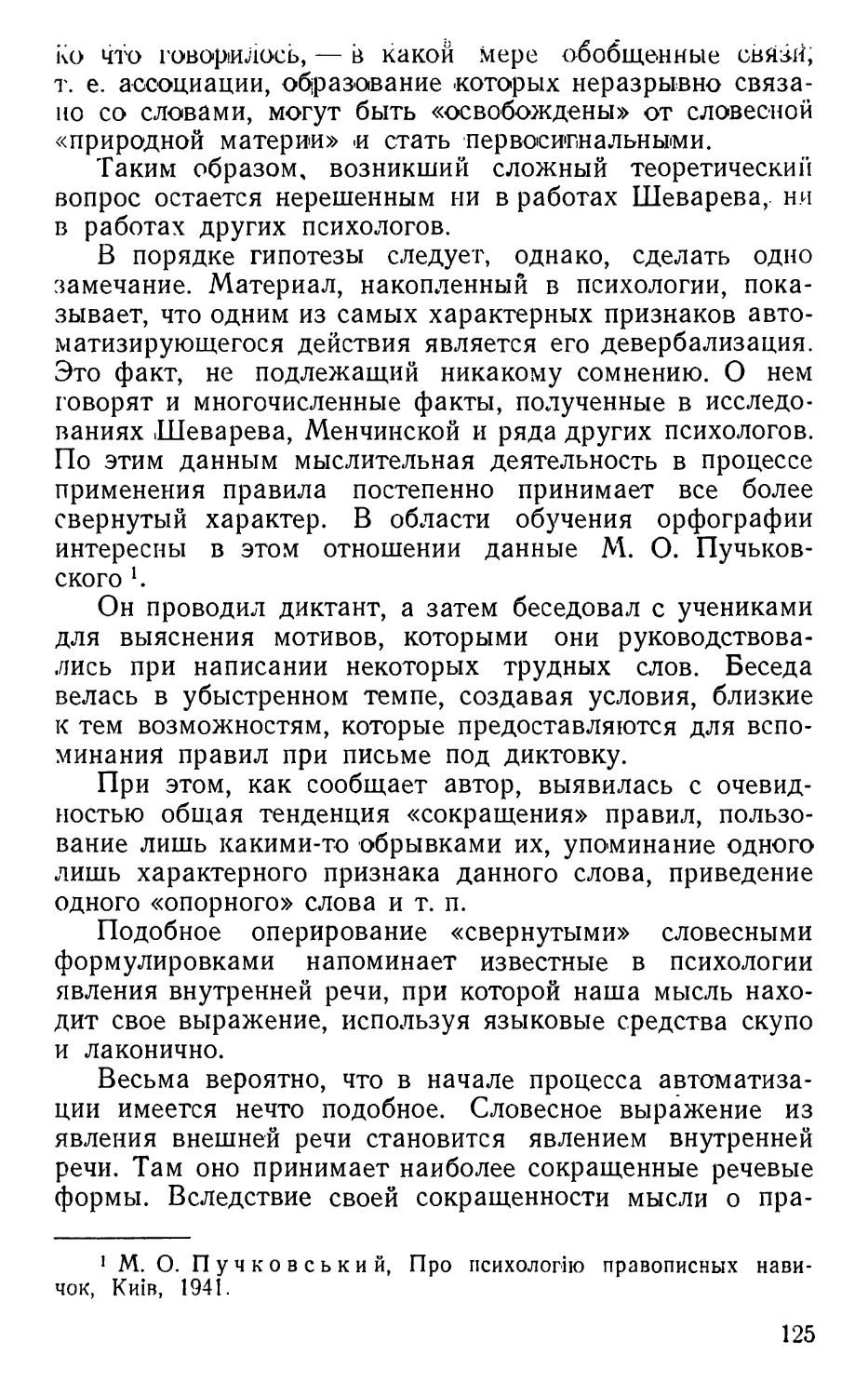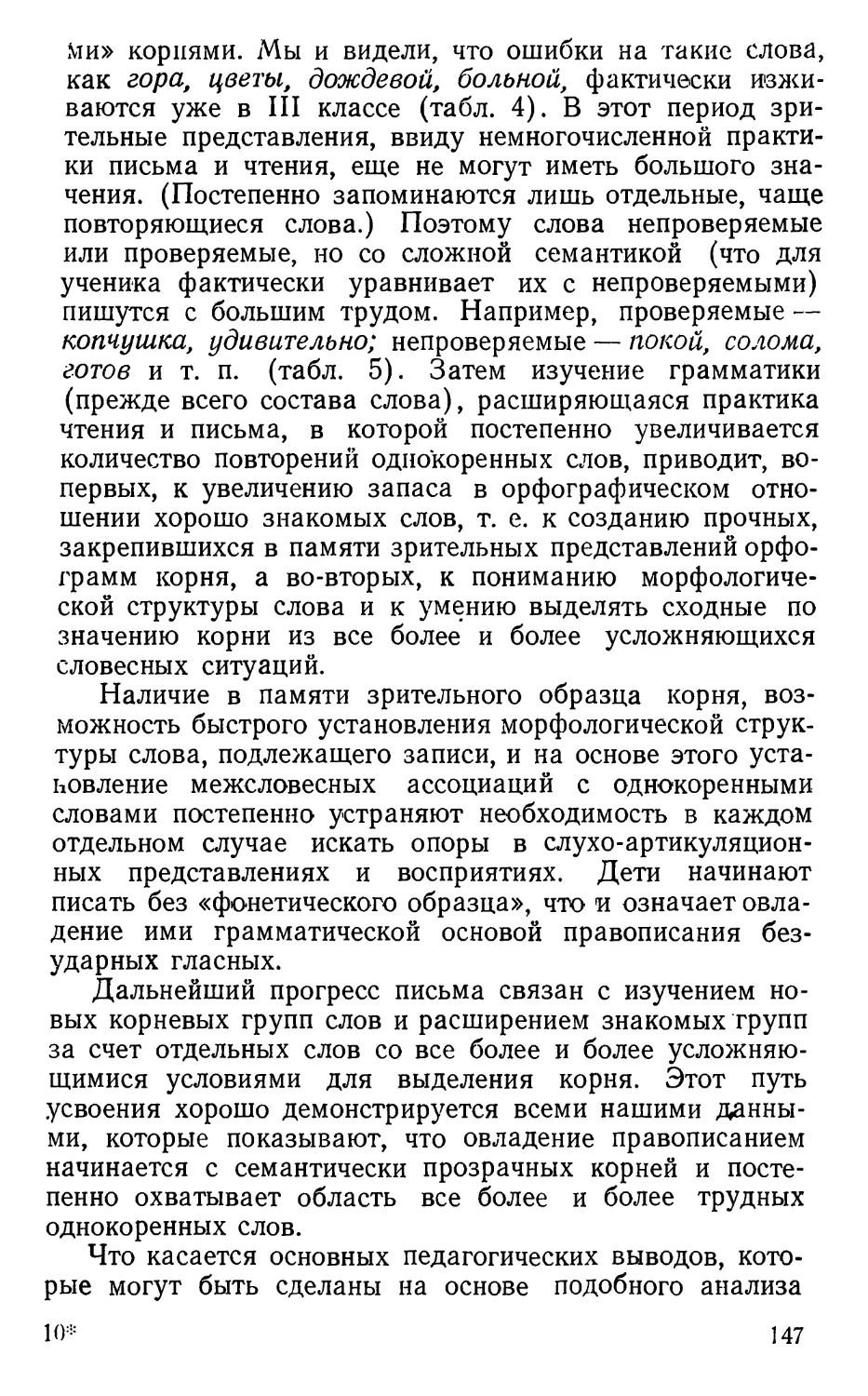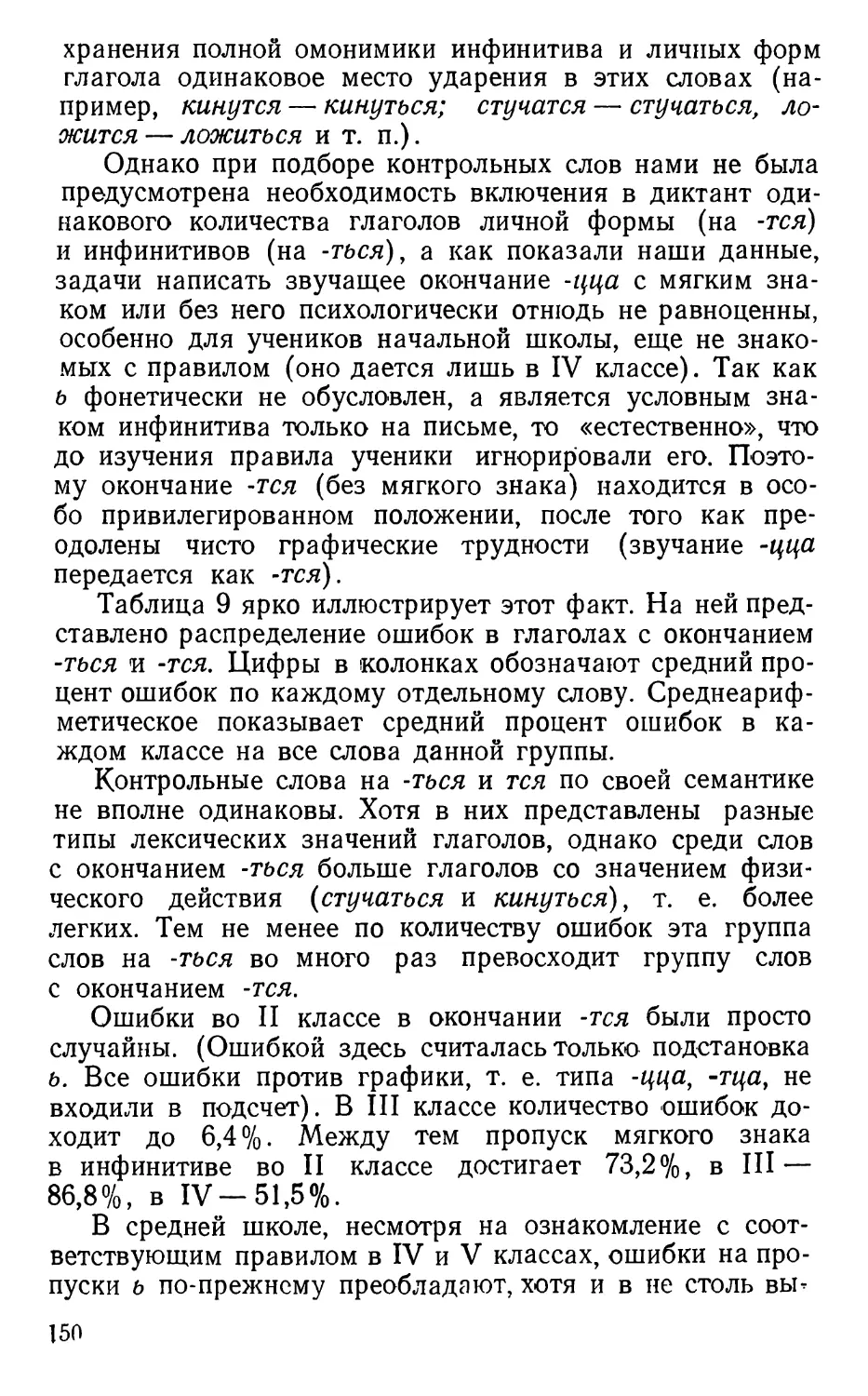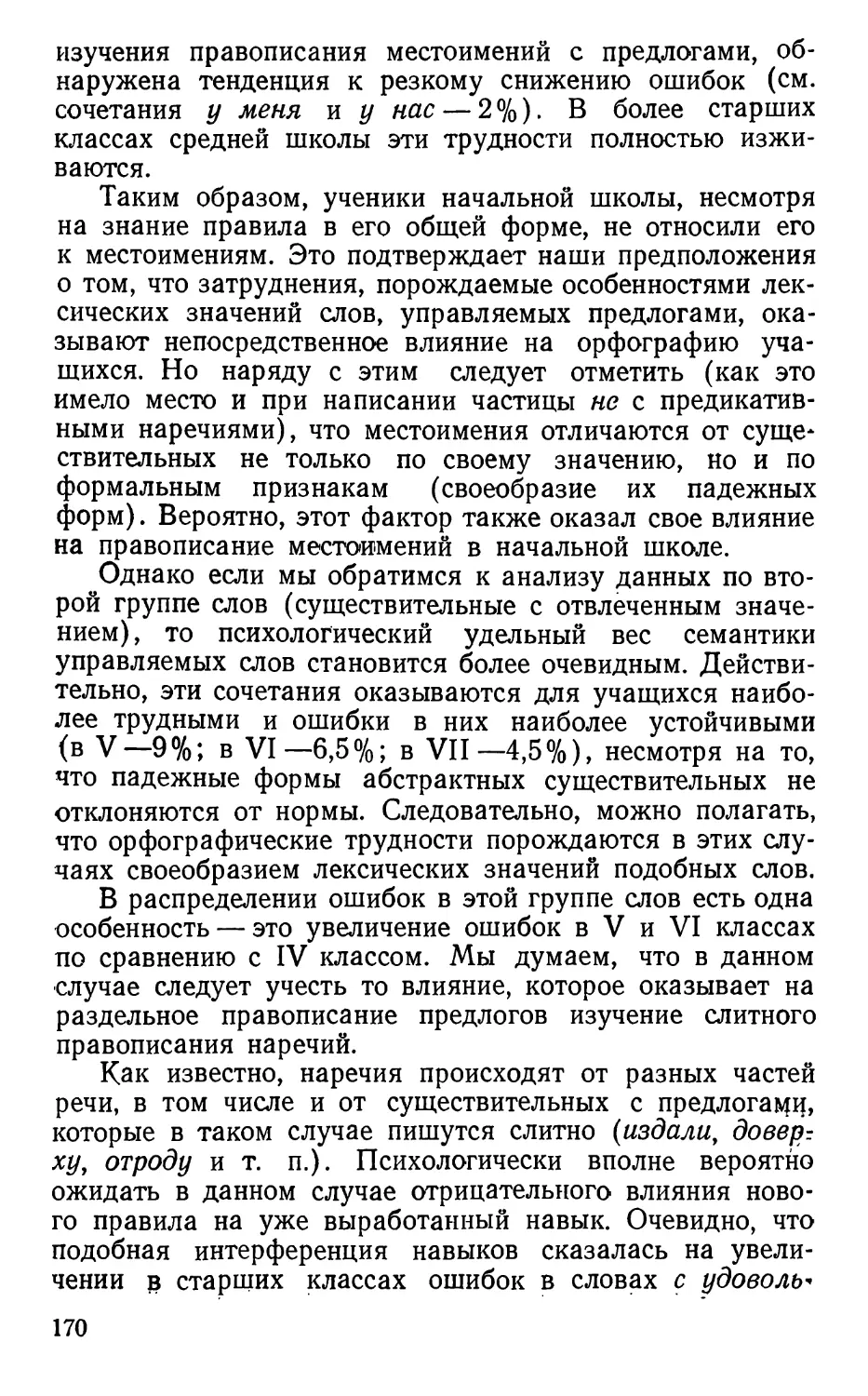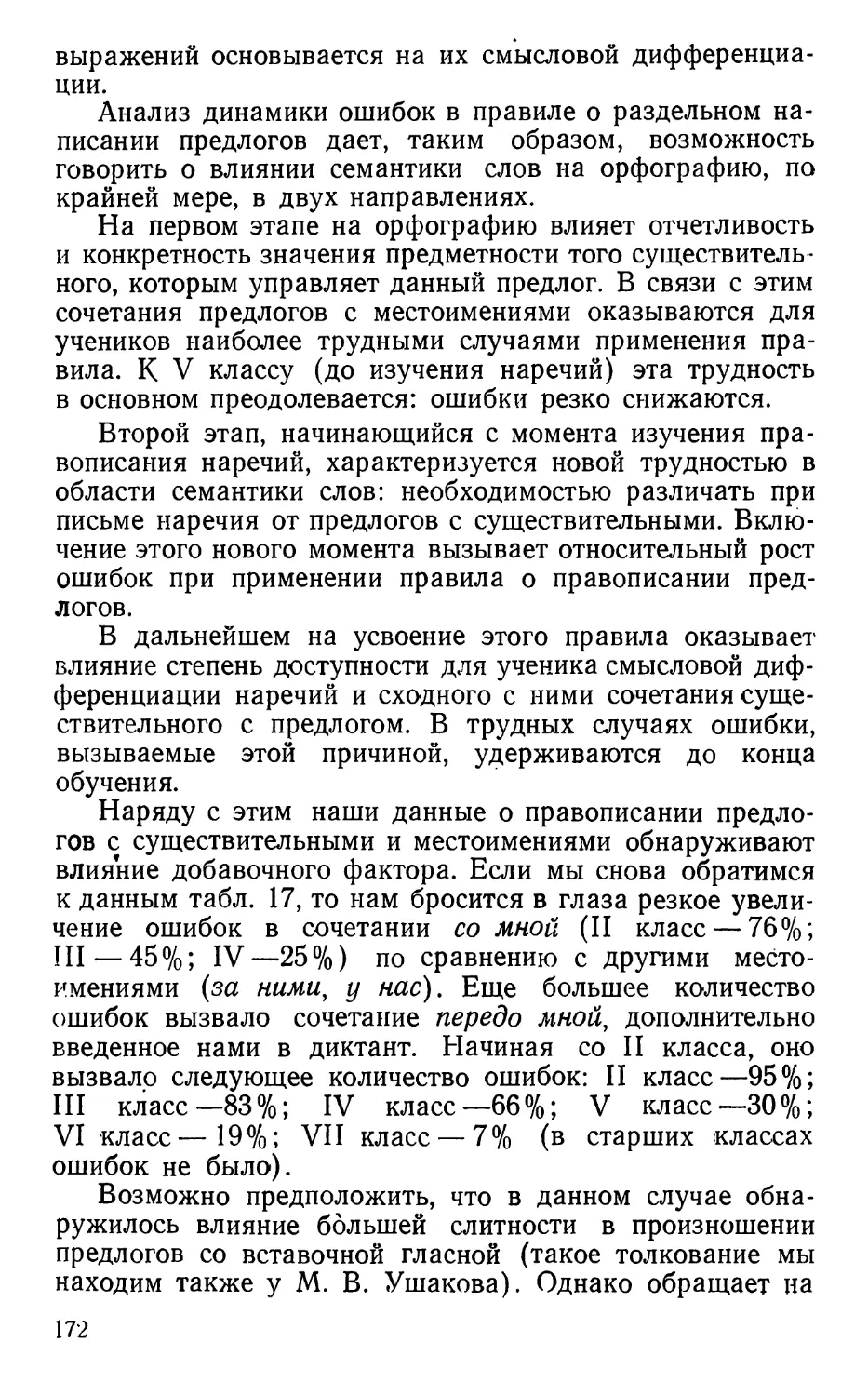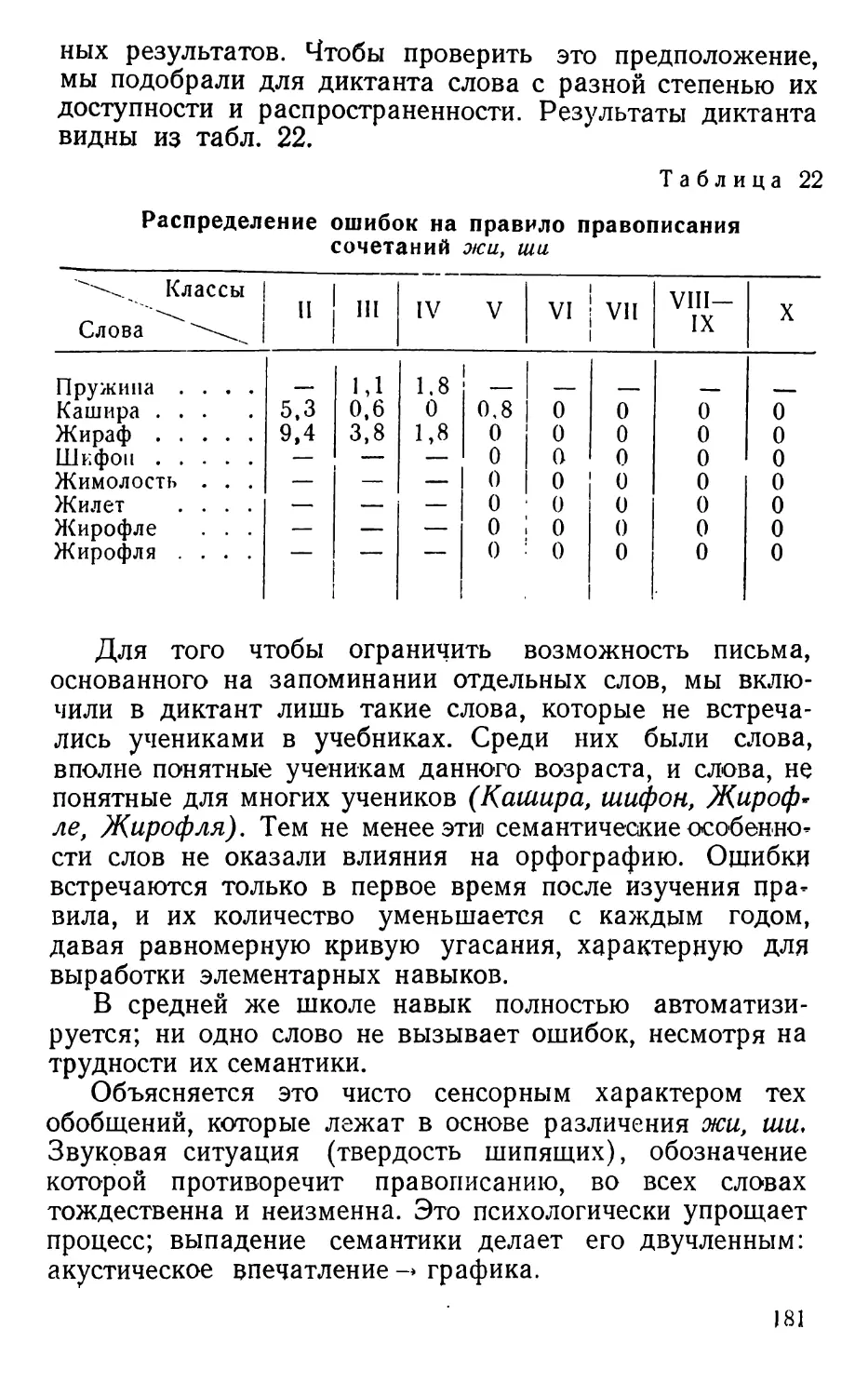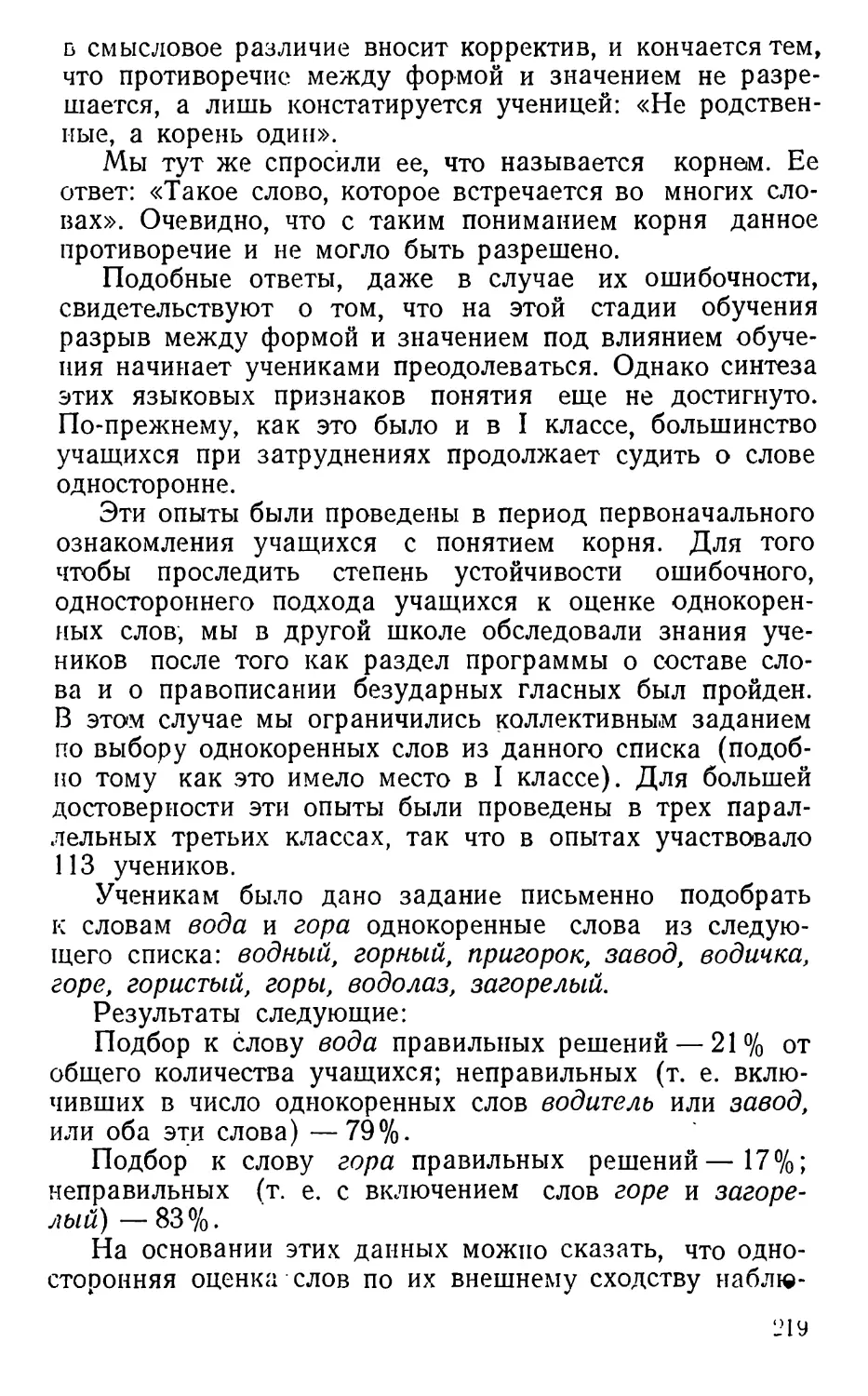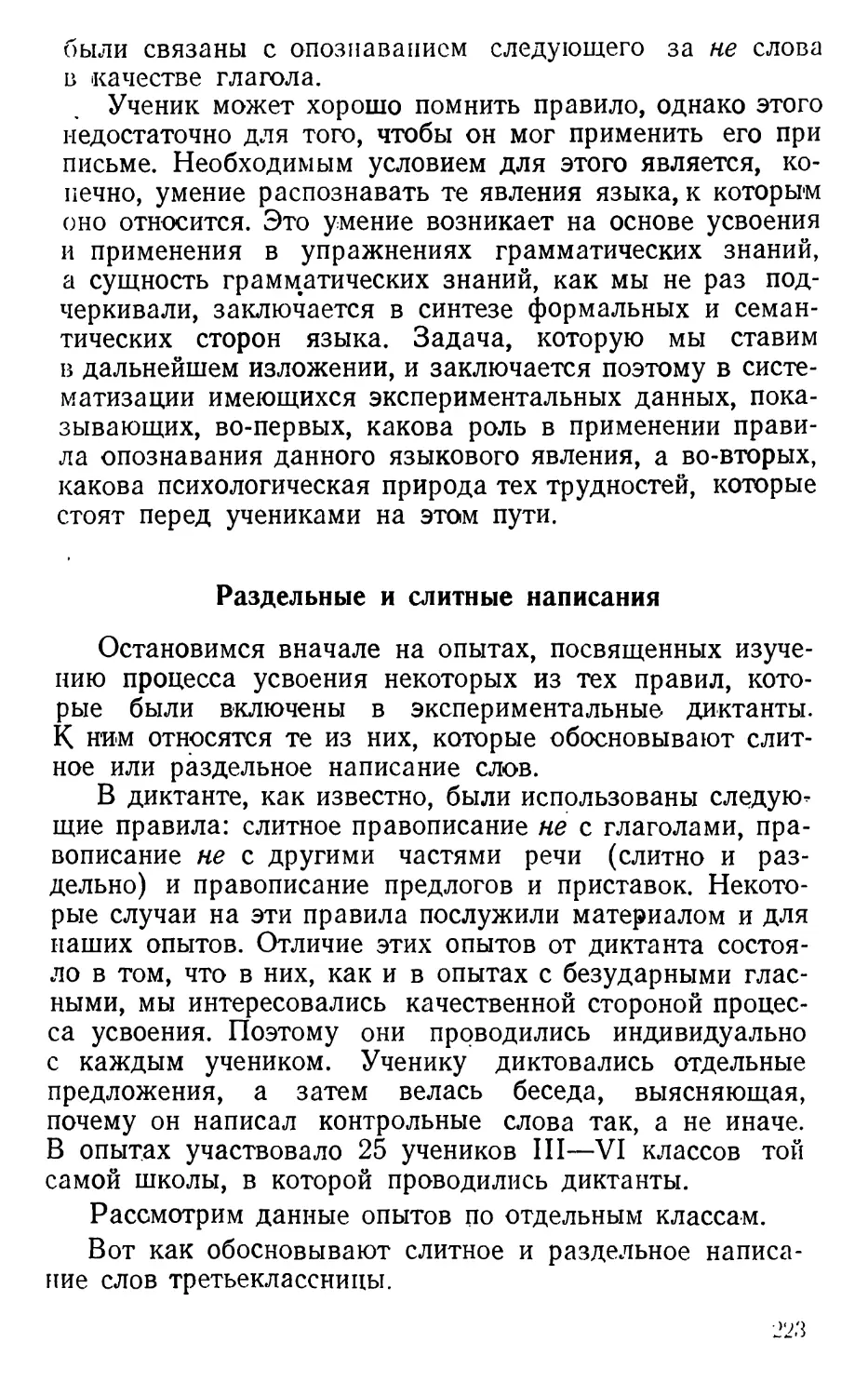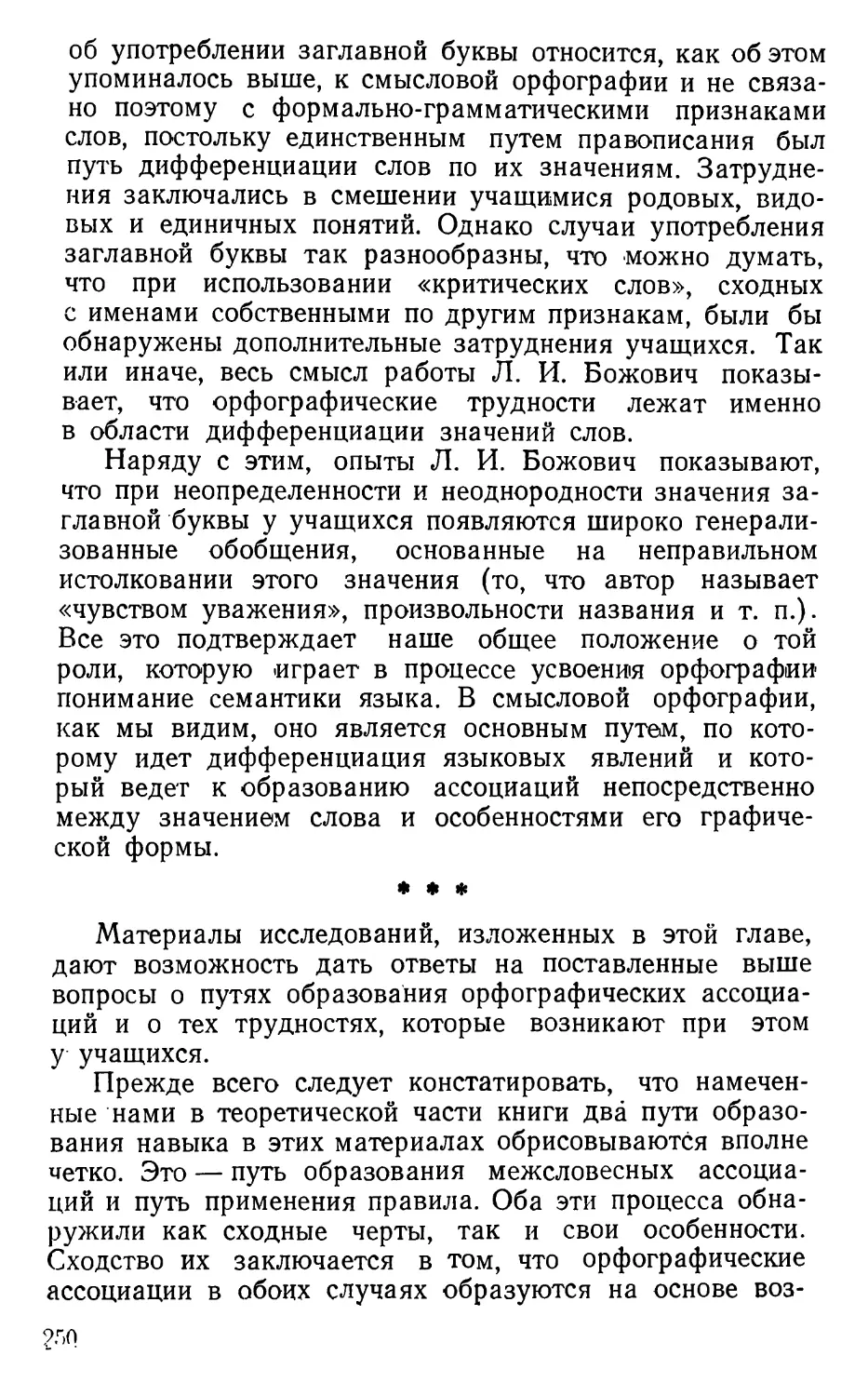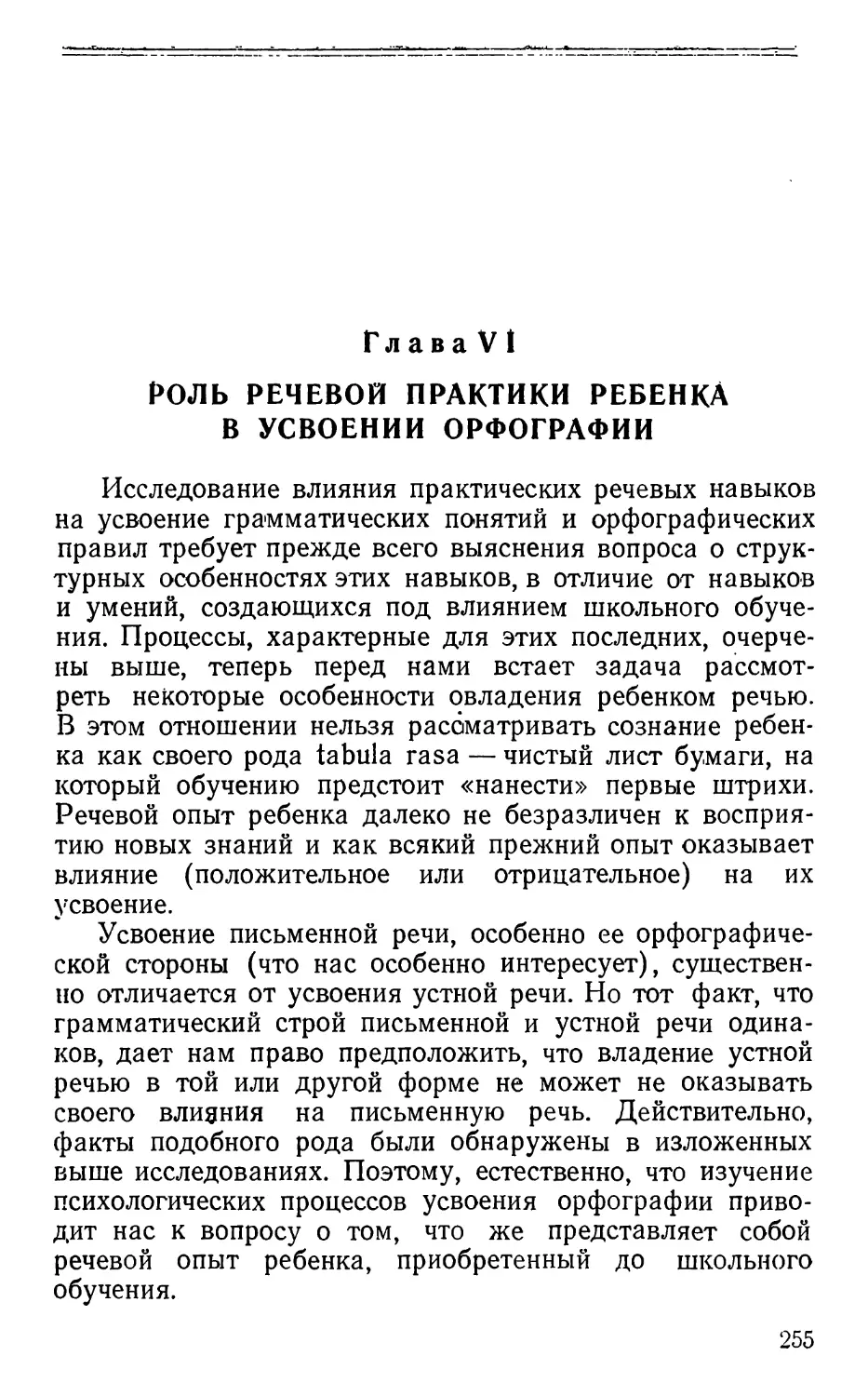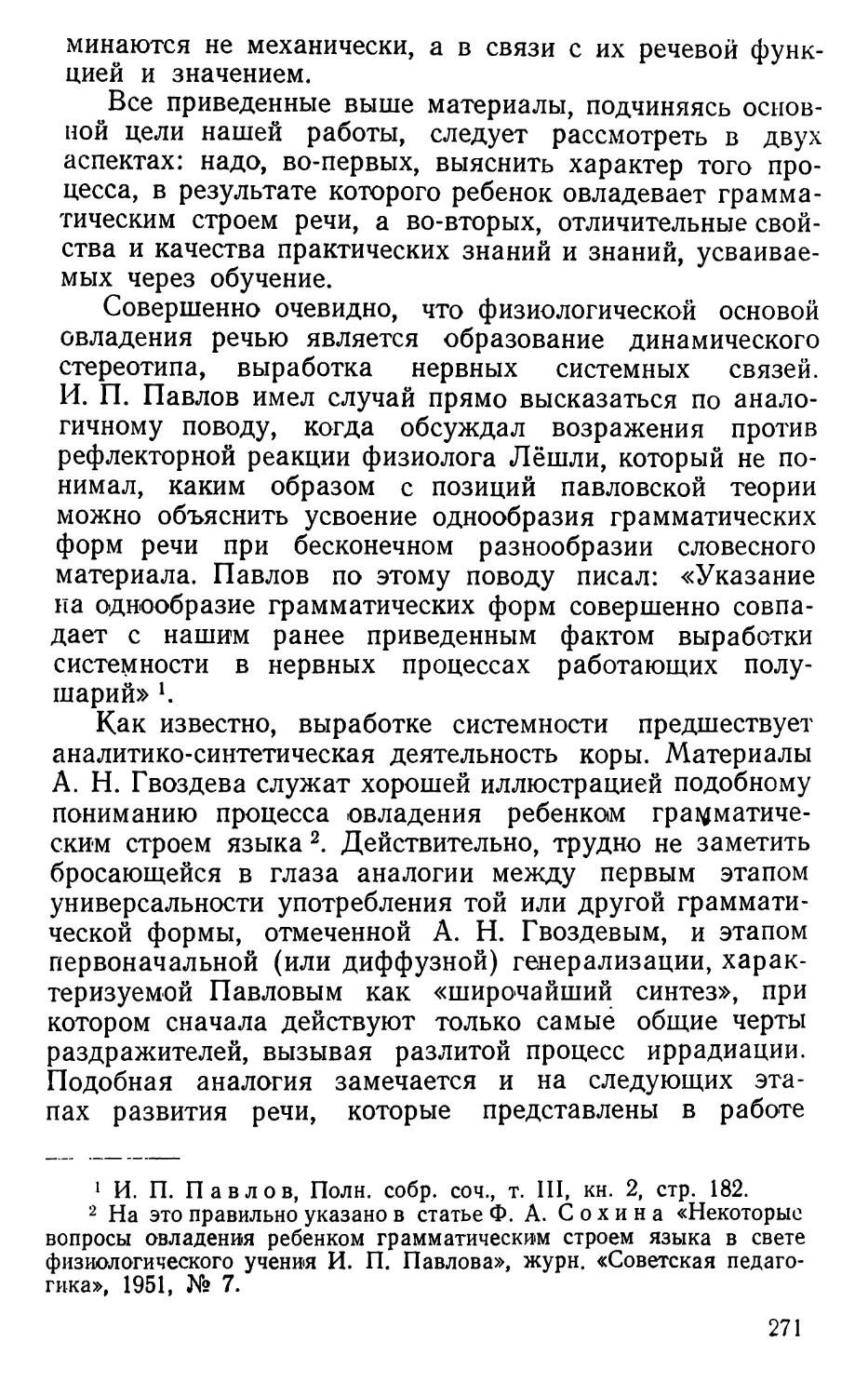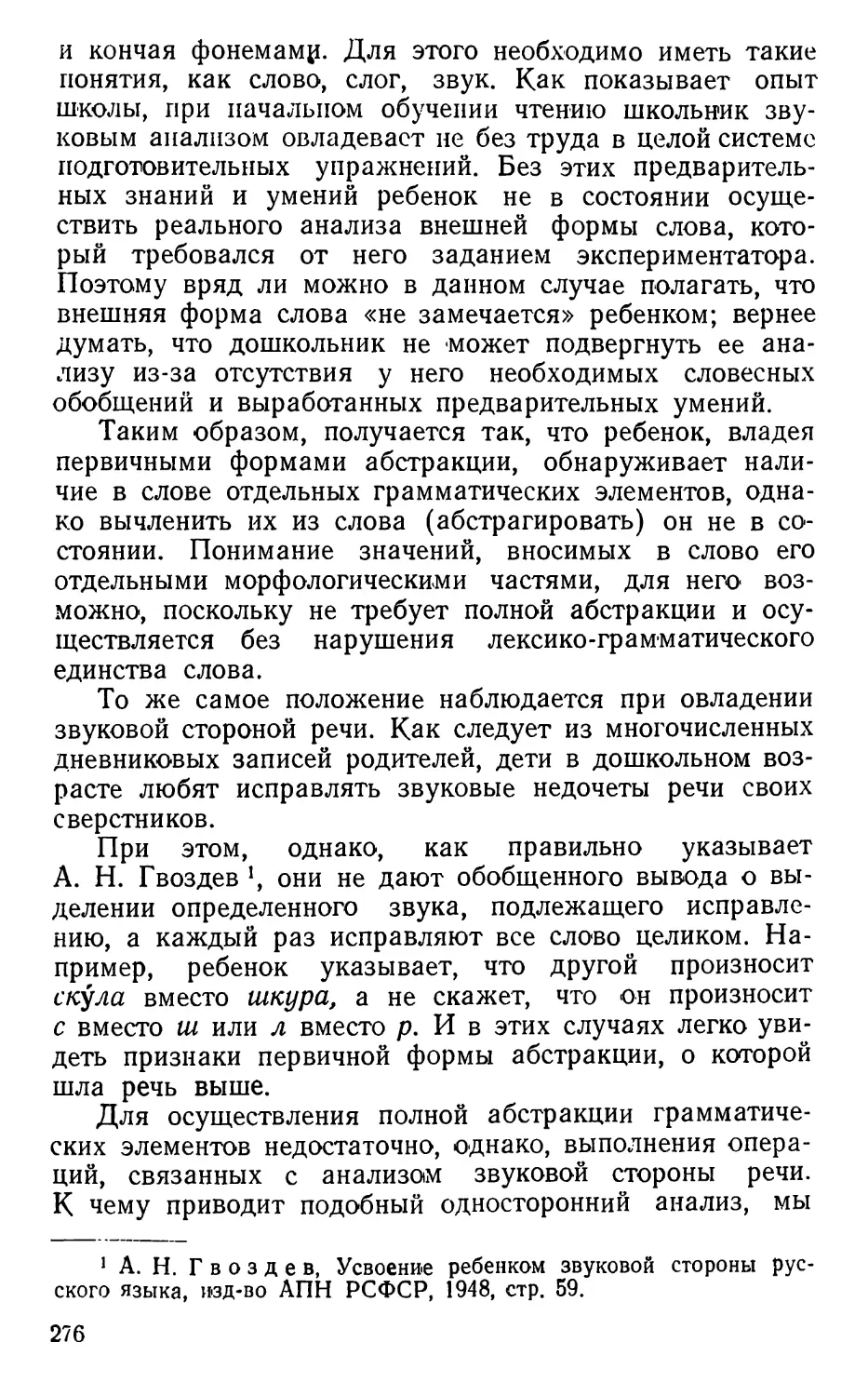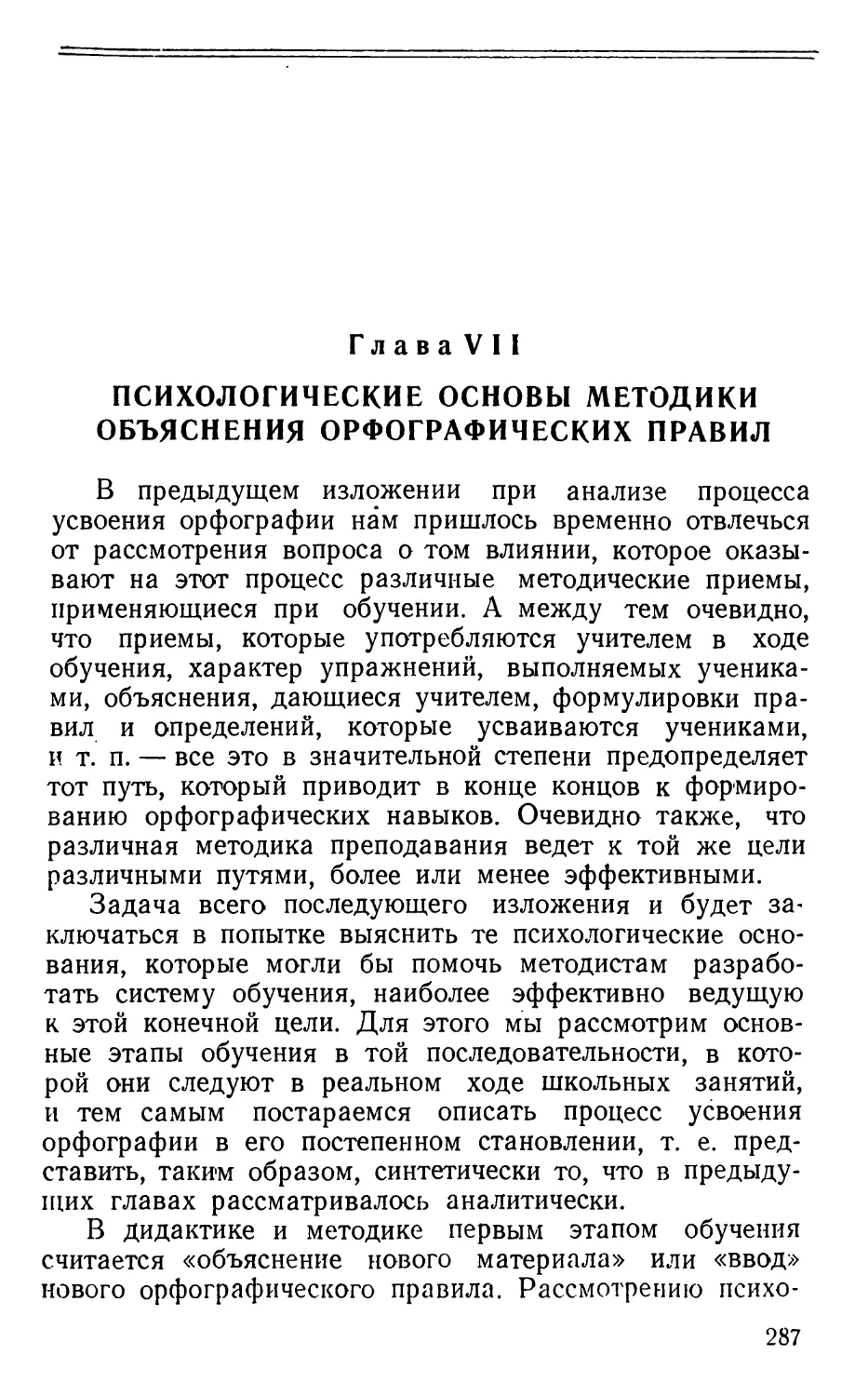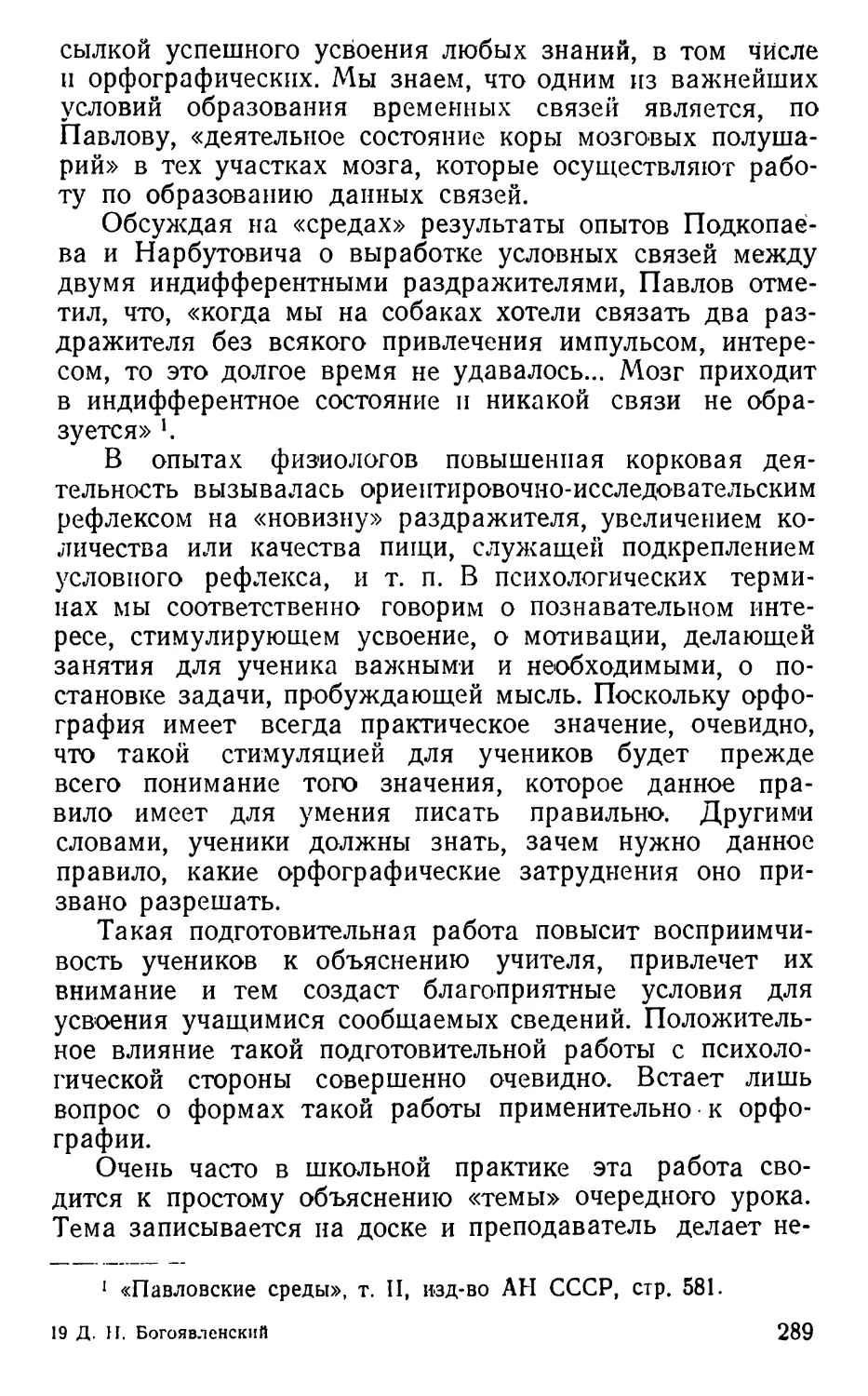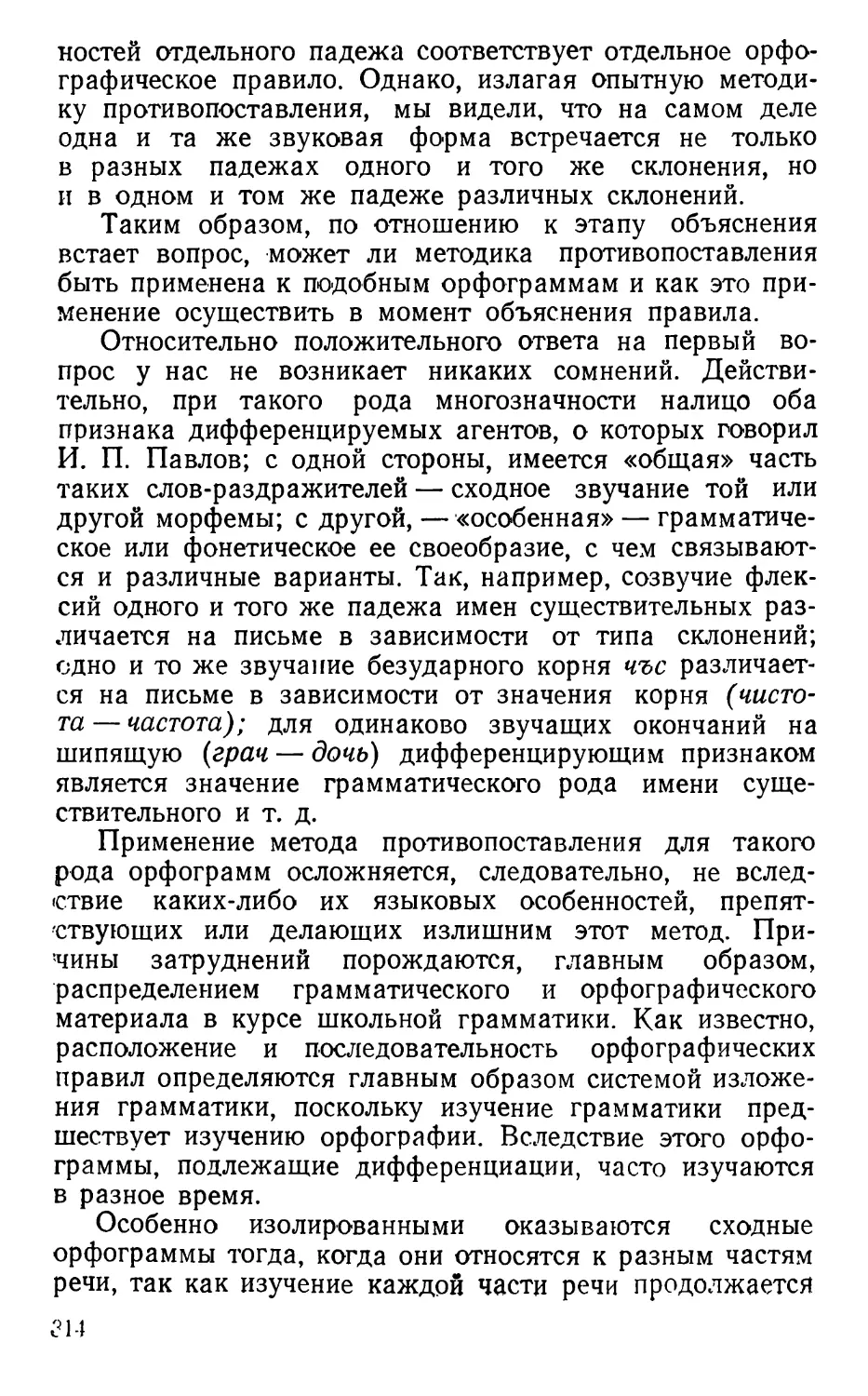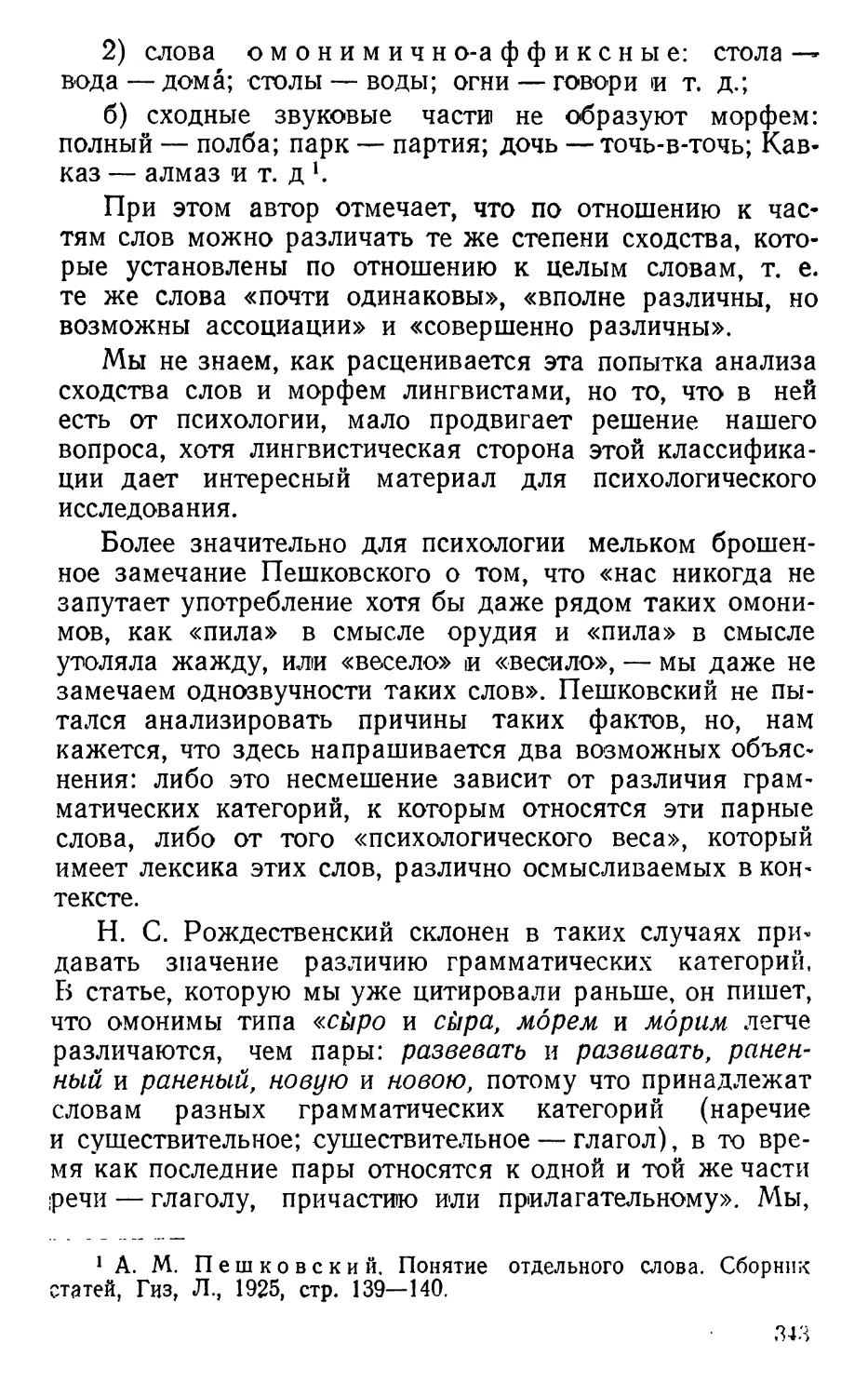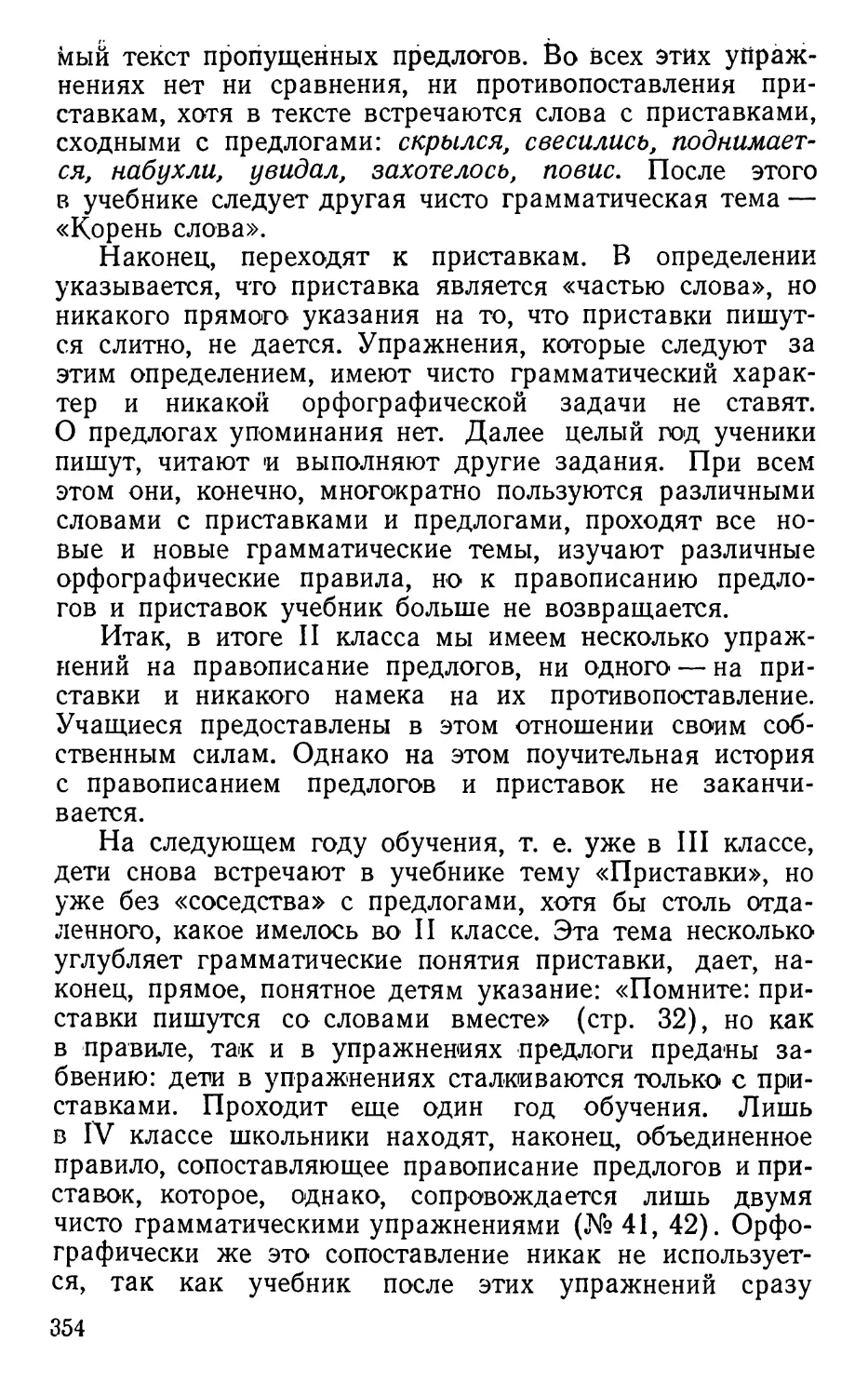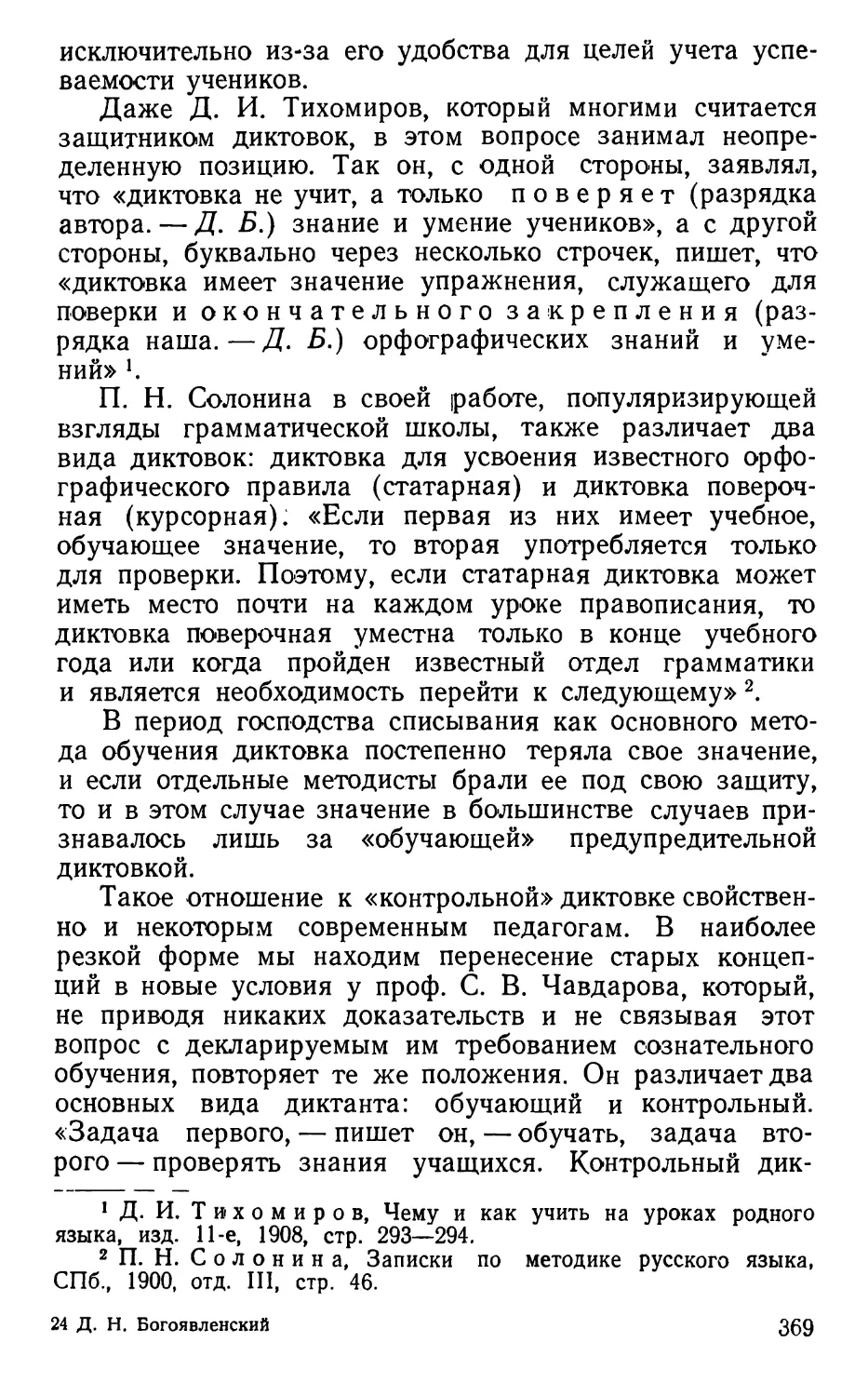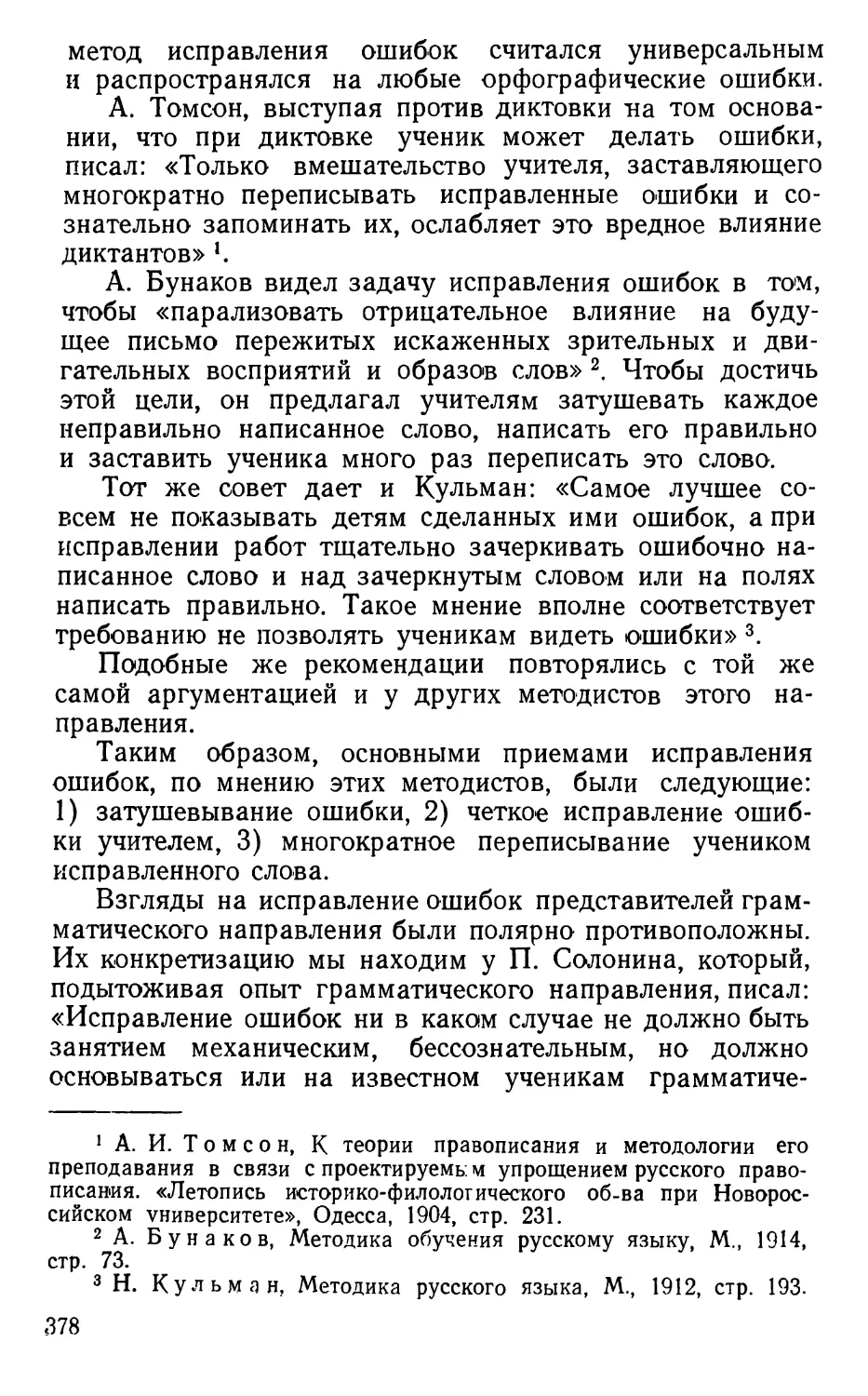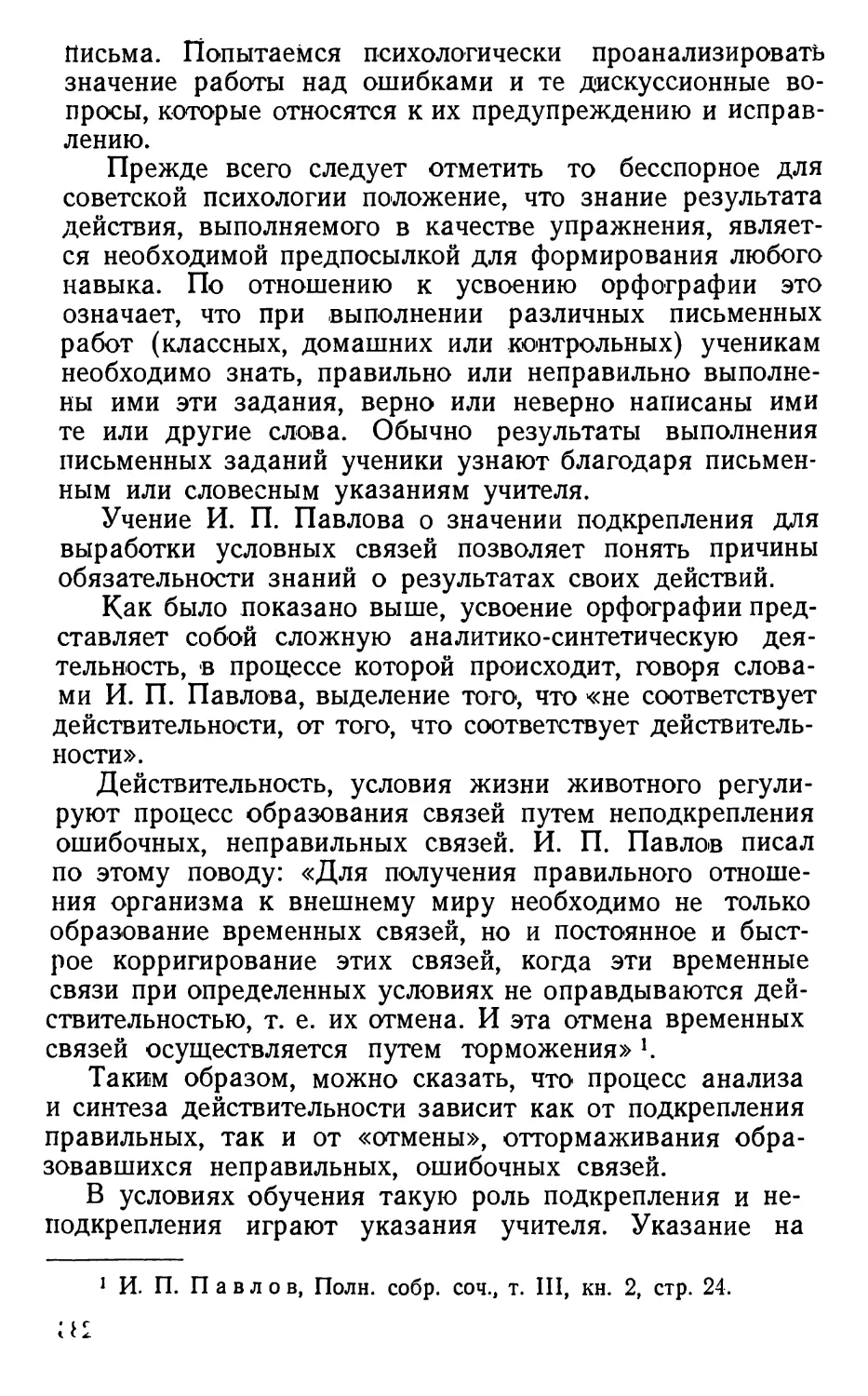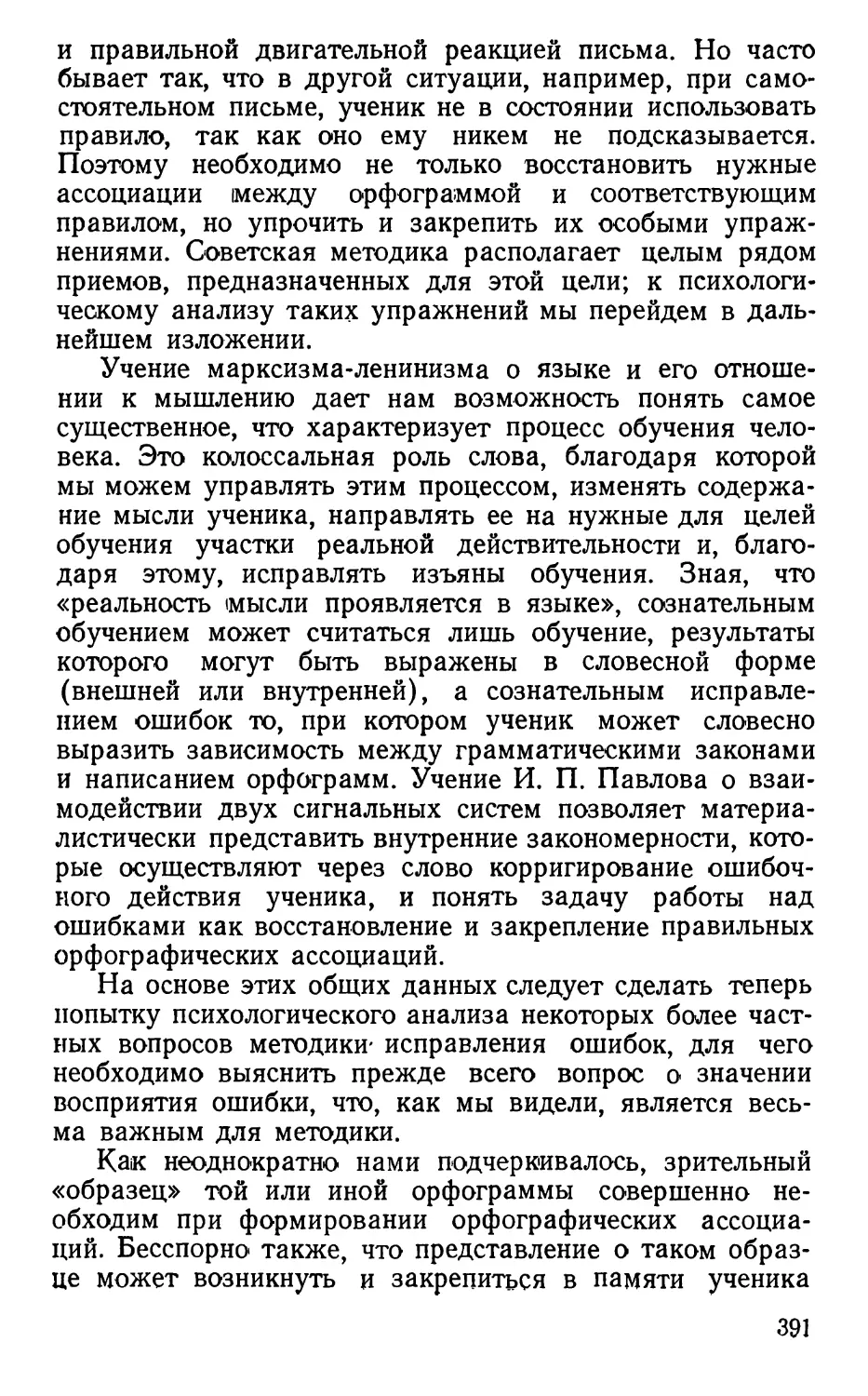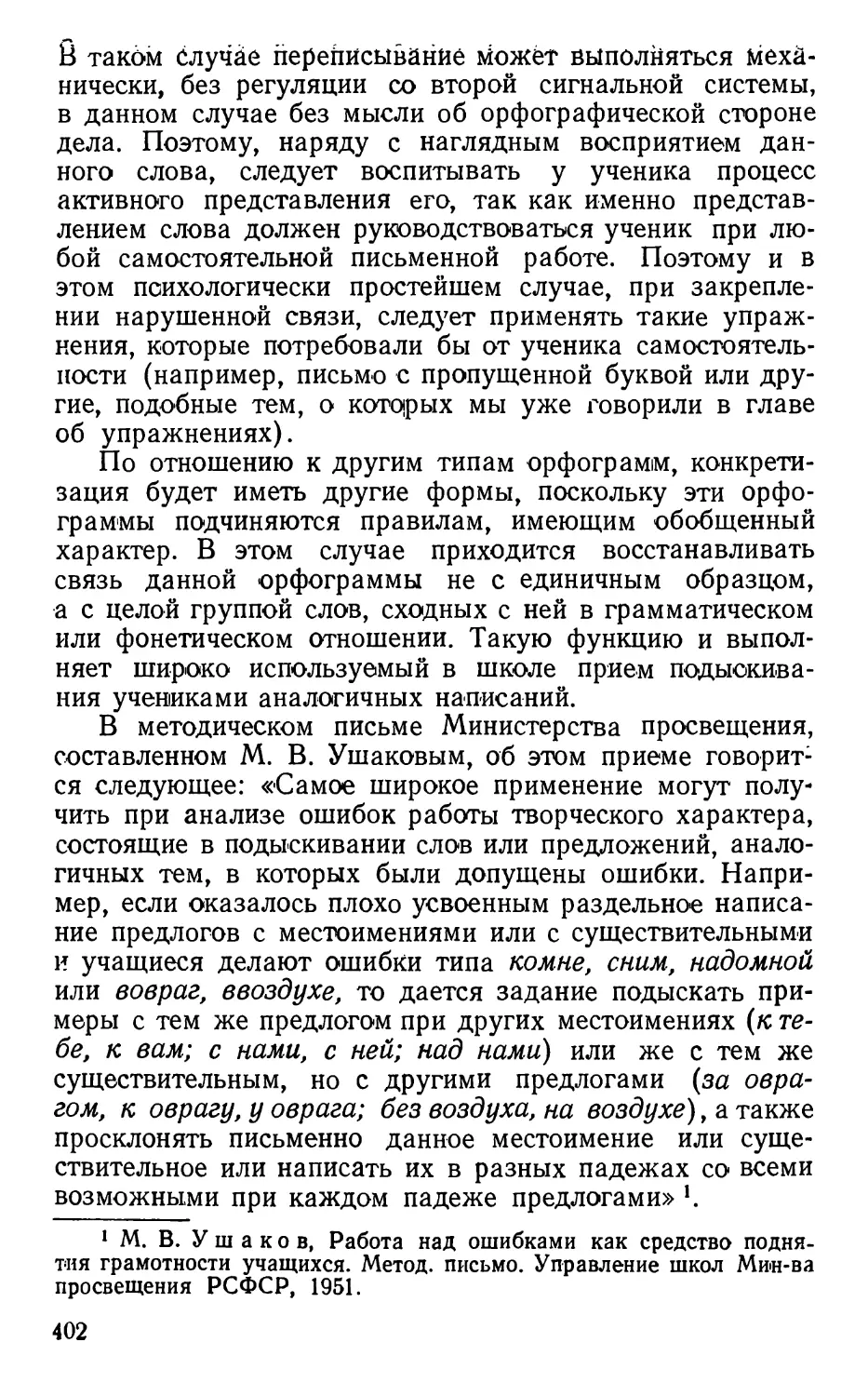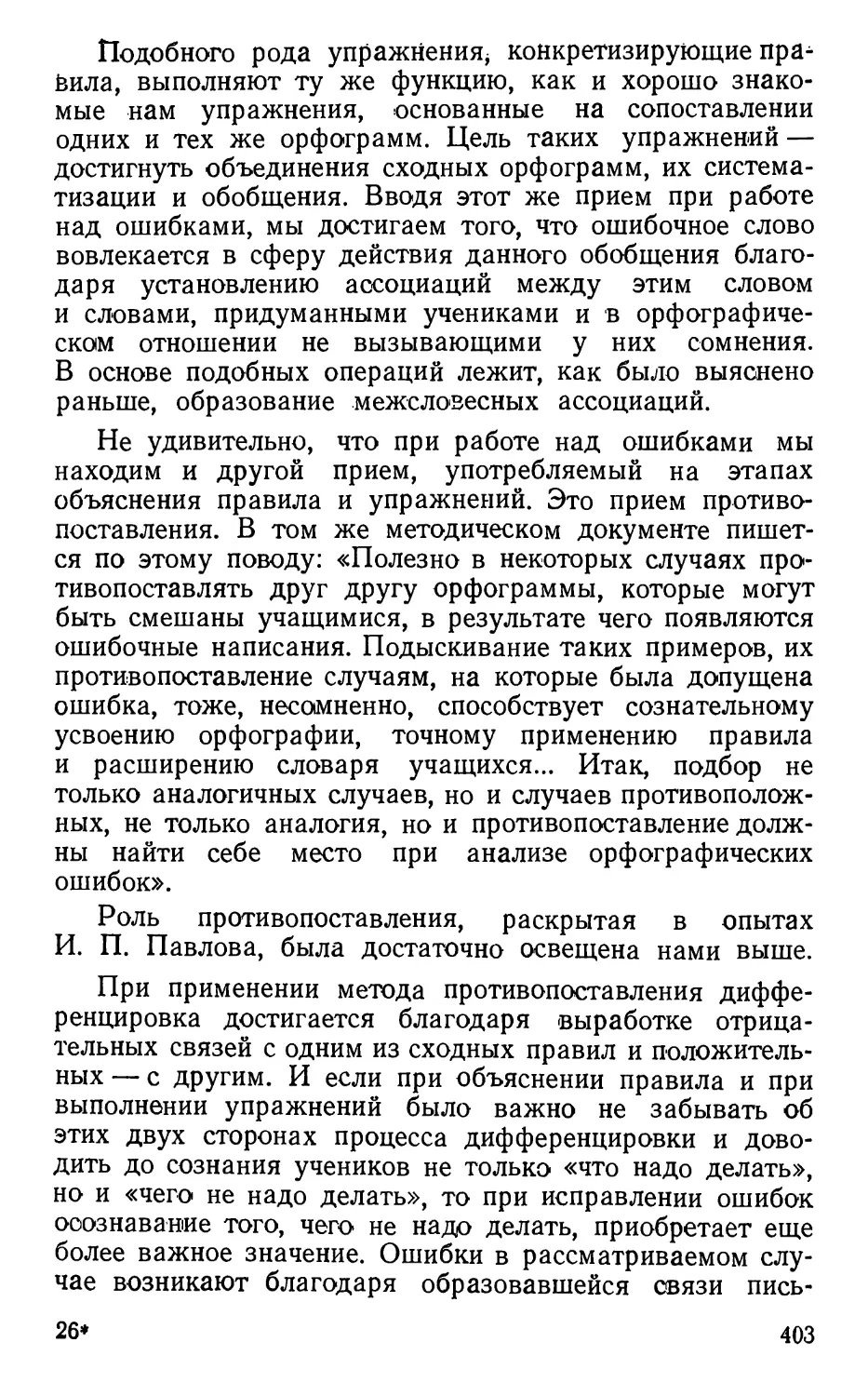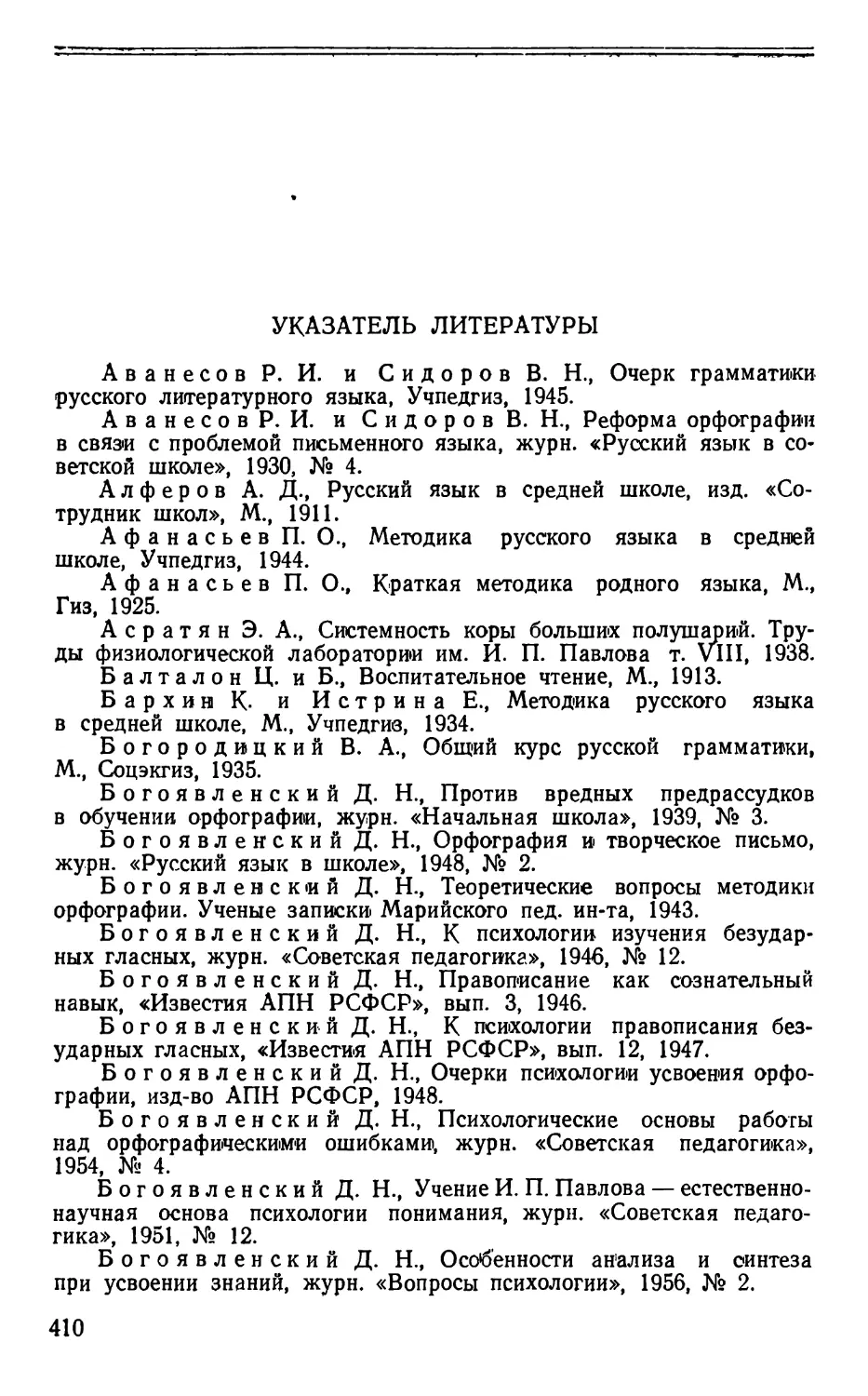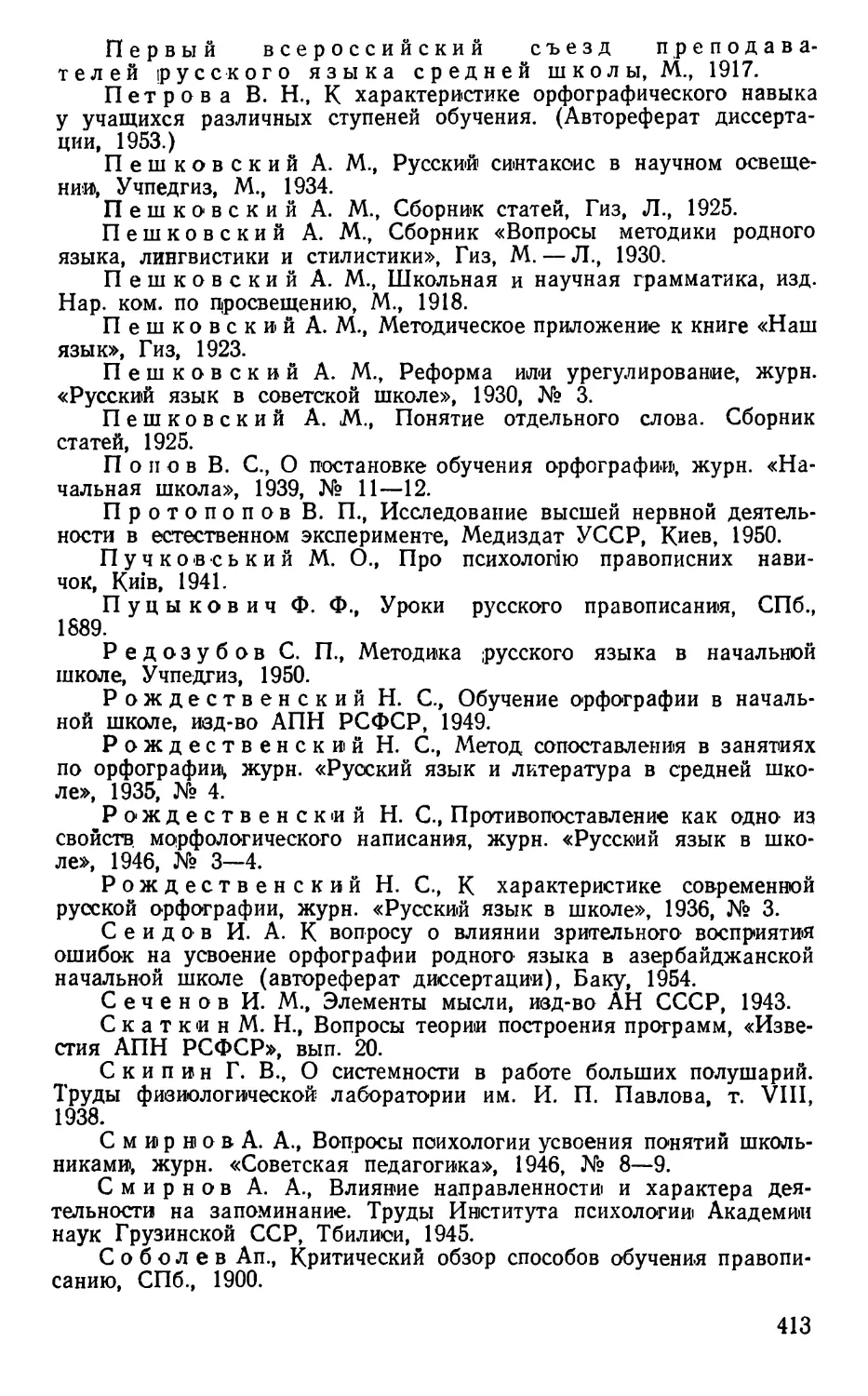Текст
АКАДЕМИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСФСР ИНСТИТУТ психологии
ПСИХОЛОГИЯ УСВОЕНИЯ орфографии
ИЗДАТЕЛЬСТВО академии педагогических наук РСФСР МОСКВА 1957
Глава I
психологические взгляды РУССКИХ ПЕДАГОГОВ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА
НА ОБУЧЕНИЕ ОРФОГРАФИИ
Психолог, исследующий проблемы обучения, не может при обзоре истории вопроса обойти вниманием труды педагогов и методистов. Это вполне естественно, так как отрасль собственно педагогической психологии возникла лишь на рубеже XX в., в то время как педагогика имеет за собой многовековую давность. Изучая работы педагогов и методистов, исследователь получает возможность представить себе картину исторического развития данной отрасли обучения, на фоне которой отдельные проблемы, возникавшие перед педагогикой, представляются в своем истинном значении.
Изучая историю методики, психолог не только знакомится с конкретным содержанием обучения и частными приемами и методами, применяемыми при обучении, но и находит, что особенно ценно, их теоретическое обоснование. В подобных дидактических обобщениях отдельных приемов и методов обучения психологические взгляды авторов играют, как правило, весьма важную роль, так как всякая педагогическая теория в той или иной степени связана с определенной психологической теорией, а каждый педагог, имея дело с воспитанием детей, в той или иной степени является психологом. Поэтому вслед за К. Д. Ушинским мы можем сказать, что педагогическая литература представляет для (изучения психологии значительный интерес, потому что «она знакомит нас с психологическими наблюдениями множества умных и опытных
пёдагогов и, главное, направляет нашу собственную мысль на такие предметы, которые легко могли бы ускользнуть от нашего внимания» L
Для нашего исследования эти теоретические высказывания прйобретают особое значение в связи с тем, что в методике орфографии психологические проблемы всегда привлекали внимание методистов и педагогов. Начиная ё 40-х годов прошлого века и до советского периода, среди методистов шла упорная борьба по вопросам о наи-лучшйх методах преподавания. При этом выявились две разные школы, два различных направления — «грамматическое» и «антиграмматическое», получившие это название из-за различного отношения их сторонников к роли грамматики в обучении орфографии. Однако, как мы увидим в дальнейшем, такое, как будто чисто методическое, разногласие определялось глубокими расхождениями в основных методологических и психологических позициях сторонников того и другого направления. Поэтому изложению психологических основ обучения орфографии мы сочли необходимым предпослать краткий обзор психологических взглядов наиболее видных методистов, представителей того и другого направления.
Поскольку мы не задаемся целью дать исчерпывающий исторический обзор развития методики орфографии, а интересуемся лишь психологической стороной вопроса, наше дальнейшее изложение будет не столько хронологическим, сколько систематическим.
ГРАММАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Наша задача облегчается тем, что четко наметившееся разделение методистов на два «лагеря» дает нам возможность сосредоточить внимание на взглядах лишь наиболее ярких представителей того или другого методического течения, чего вполне достаточно для того, чтобы получить обобщенное представление о тех психологических теориях, которые привлекались педагогами для обоснования приемов обучения орфографии.
Основоположником и блестящим выразителем идей грамматического направления является К. Д. Ушинский,
1 К. Д. У ш и н с к и й, О пользе педагогической литературы, Избр. пед. соч., Учпедгиз, 1945, стр. 42.
который, будучи замечательным педагогом-практиком, составителем учебных книг для начальной школы («Детский мир», «Родное слово»), переиздававшихся сотни раз, автором методических руководств для учителей, заложивших основы научной педагогики, был вместе с тем квалифицированным психологом, которого с полным правом можно считать создателем русской педагогической психологии. В своем капитальном труде «Человек как предмет воспитания» он впервые в истории русской психологии рассматривает психологию как основу педагогической практики. Борясь с остатками схоластики в школе, с формально-рецептурной педагогикой, Ушинский призывал учителей изучать законы человеческой природы, расценивать ту или иную педагогическую меру в свете этих законов, а не действовать вслепую, целиком полагаясь на мнения авторитетов.
Быть хорошим воспитателем человеку, не обладающему психологическим тактом, невозможно. Но психологический такт — «темное психологическое чувство», субъективное и непередаваемое. «По невозможности передачи психологического чувства и самая передача педагогических познаний на основании одного чувства становится невозможною. Тут остается одно из двух: положиться на авторитет говорящего или узнать тот психический закон, на котором основывается то или другое педагогическое правило» Ч Поэтому, по мнению Ушинского, «изучение психологии как науки является краеугольным камнем педагогики» 1 2.
Призывая учителей судить о педагогических воздействиях по их психологическому значению, Ушинский в своих методических работах реализует этот принцип, психологически обосновывая рекомендуемые им методы обучения. Поступает он так же и по отношению к обучению орфографии. Взгляды Ушинского по этому вопросу органически вытекают из его понимания психологической природы человеческих навыков.
Ушинский, в согласии с установившейся в его время традицией, делил двигательные реакции человека на непроизвольные и произвольные движения. Первые из них
1 К. Д. Ушинский, Человек как предмет воспитания, Соч., т. 8, изд-во АПН РСФСР, кн. 1. Предисловие, стр. 48.
2 Т а м же, стр. 277.
он называл полными рефлексами и полурефлексами. Эти рефлексы носят врожденный характер, или, как говорит Ушинский, «установлены в нас самым устройством нашего организма». Полные рефлексы — это неощущаемые движения. Они «совершаются не только вне нашей воли, но и вне нашего сознания». Полурефлективные движения — это те, «на которых воля наша может иметь некоторое влияние, но которые, однако, совершаются и помимо нашей воли». Таковы дыхание, кашель, чихание и т. п.
Но, наряду с этими врожденными рефлексами, Ушинский отмечает и существование особых рефлективных движений, которые «устанавливаются уже не природою, но нами самими» и что «движения, вначале сознаваемые и произвольные, делаются от частого повторения несознаваемыми и непроизвольными, наравне с рефлексами» !. Эти рефлексы Ушинский называет навыками или привычками.
«Под именем нервной привычки, в точном смысле слова, мы разумеем то замечательное явление нашей природы, что многие действия, совершаемые нами вначале сознательно и произвольно, от частого их повторения совершаются потом без участия нашего сознания и произвола и, следовательно, из разряда действий произвольных и сознательных переходят в разряд действий рефлективных, или рефлексов, совершаемых нами помимо нашей воли и нашего сознания» 1 2.
Ушинский добавляет при этом, что физиологическая природа превращения произвольных действий в рефлективные остается до сих пор неизвестной, несмотря на объяснения, предлагаемые некоторыми физиологами и психологами.
Далее Ушинский, возражая против идеалистической теории Вундта о бессознательных умозаключениях интуитивного происхождения, не подлежащих дальнейшему анализу, дает материалистическое объяснение фактам кажущейся внезапности того или другого правильного действия. Он считает, что в таких случаях мы имеем дело не с чем иным, как с навыком, бывшим ранее сознатель
1 К- Д. Ушинский, Человек как предмет воспитания, Соч., т. 8, изд-во АПН РСФСР, кн. 1. Предисловие, стр. 189—190.
2 Та м ж е, гл. XIID, § 4, стр. 205—206.
ным действием при условии, что самый факт выработки нами «позабыт». К таким «позабытым» навыкам он относит по преимуществу те навыки, которые выработаны в младенческий период.
Объясняя, почему именно процесс выработки навыков в этот период «позабывается», Ушинский ссылается на то значение, которое имеет для памяти «дар слова». «Память младенца, — пишет он, — очень свежа и восприимчива; но в ней недостает именно того, что связывает отрывочные впечатления в один стройный ряд и дает нам потом возможность вызывать из души нашей впечатление за впечатлением, — недостает дара слов а... Если привычка сделана нами, хотя и сознательно, но в тот период нашей жизни, когда мы не обладали еще даром слова, то, без сомнения, .мы не можем припомнить, как мы сделали ее, хотя она в нас остается» Ч
Как мы видим, теория навыка, разработанная Ушинским, отличается тем, что сознательность и автоматизм по этой теории не противопоставляются друг другу как взаимоисключающие явления, а рассматриваются как характерные черты различных стадий формирования навыка. Такое понимание психологической природы навыков находит свое отражение и в педагогических взглядах Ушинского.
В материалах к ненаписанной им третьей части «Педагогической антропологии», которая, по мысли автора, должна была представить практическое применение общих психологических идей, изложенных им в первой и второй частях работы, Ушинский неоднократно возвращается к этой теме.
Рассматривая вопросы выработки навыков чтения и письма, он пишет: «Всякий, кто учил детей чтению, письму и началам наук, заметил, без сомнения, какую важную роль играет при этом навык, приобретаемый учащимися от упражнения и мало-помалу укореняющийся в его нервной системе в форме рефлективных бессознательных или полубессознательных движений... Здесь вы беспрестанно замечаете, что от понимания ребенком, как что-нибудь должно сделать (произнести, написать), до легко
1 К. Д. Ушинский, Человек как предмет воспитания, Соч., т. 8, изд-во АПН РСФСР, кн. 1, гл. XIII, § 10, стр. 212.
го и чистого выполнения этого действия проходит значительный период времени, и как от беспрестанных упражнений в одном и том же действии оно мало-помалу теряет характер сознательности и свободы и приобретает характер полубессознательного или вовсе бессознательного рефлекса, освобождая сознательные силы ребенка для других, более важных душевных процессов» 1.
Та же идея единства «чисто рефлективных» и сознательных процессов выступает в разработанной Ушинским теории памяти. Как известно, Ушинский различал память механическую и память рассудочную. Механическая память является, по Ушинскому, «материальной основой всякого учения, как бы оно рассудочно ни было, и оказывается исключительно возможной там, где нельзя построить никакой рассудочной ассоциации. Вспоминая собственное имя, год, число жителей и т. п., мы не можем опираться на рассудок, и запоминание основывается здесь чисто на механической, рефлективной связи одной нервной механической привычки с другою». «Из этого мы можем вывести, что рассудочная память без механической совершенно невозможна и что рассудок приводит только в новые рассудочные ассоциации следы представлений, удерживаемые и воспроизводимые механической памятью» 1 2.
Ушинский в равной мере критически относится как к старой схоластической школе с преобладающими в ней .методами, основанными на механическом заучивании, так и к «новой рассудочной», пренебрегающей накоплением фактов. Он рисует картину того, что происходит в «крайне схоластической голове», и сравнивает ее с сундуком скряги, где бесполезно и для него самого и для света скрыты богатые сокровища. В этой голове «целые ворохи знаний улеглись механическими рядами, не знающими о существовании друг друга, так что противоположнейшие факты и мысли самых противоречащих свойств, которые должны бы были вступить в смертельную борьбу между собою, если бы увидели друг друга, лежат мирно в темноте». В противоположность этому «крайне рассудочная голова» напоминает ему мота, который в своем движении
1 К. Д. Ушинский, Материалы к 3-му тому «Педагогической антропологии», Соч., т. X, изд-во АПН РСФСР, 1950, стр. 385—386.
2 Там же, стр. 411—416.
вперед, «спеша от одной рассудочной категории к другой, не заботится о приобретении положительных знаний, а какие приобретает, то растеривает по дороге».
Ушинский рекомендует избрать средний путь, избегающий крайностей обоих этих направлений. По его мнению, «должно обогащать человека знаниями и, в то же время, приучать его пользоваться этими богатствами» L Как по отношению к навыкам, так и по отношению к памяти Ушинский подчеркивает, что в основе обоих этих процессов лежит одно и то же физиологическое явление, которое он называет то «нервной привычкой», то «рефлективной связью» одной нервной привычки с другой. Сознательные процессы, которые происходят и в том и в другом случае, не отделяются и не противопоставляются их материальной основе. Навыки создаются путем «беспрестанных упражнений», для запоминания нужны «постоянные повторения». Упражнения и повторения закрепляют рефлективные связи. Осмысление связывает их в «один стройный ряд», систематизирует ассоциации.
Какую же роль играет сознательная деятельность при образовании навыков? Как изменяет процесс образования навыка вмешательство сознания? — эти вопросы остались неосвещенными Ушинским в его теоретических трудах. Но при рассмотрении конкретных проблем обучения все эти вопросы находят там свое отражение. Наиболее полно можно представить себе взгляды Ушинского по этому поводу при рассмотрении работ, связанных с преподаванием грамматики и орфографии.
Положение Ушинского о сознательном происхождении навыков позволяет ему представить себе процесс усвоения орфографии как процесс, тесно связанный с отчетливой и ясной работой мышления, направленной на анализ грамматических и орфографических обобщений.
Основной проблемой был для него вопрос о соотношении в обучении орфографии правила и «механических» упражнений. Во времена Ушинского в немецкой педагогике была распространена теория, по которой основным методом выработки орфографического навыка считалось списывание. Родоначальником этой теории был немецкий педагог и дидакт Борман. По его мнению, в основе усвое
1 К. Д. Ушинский, Материалы к 3-му тому «Педагогической антропологии», Соч., т. X, изд-во АПН РСФСР, 1950, стр. 420.
ния орфографии лежит процесс постепенного накопления зрительных «образов» слов, которые приобретаются учеником исключительно благодаря зрению. «Каждое слово, — писал Борман, — имеет свою физиономию, которую можно узнать только в лицо». Поэтому он призывает учителей: «Оберегайте ученика со всей заботливостью от всякого вида неправильно написанного слова, пусть он со всем прилежанием запечатлевает правильные образы слов, и помогайте ему приобрести привычку эти образы слов изображать в письменном виде» Ч
Эта цель наилучшим образом достигается списыванием, которое и объявлялось Борманом единственным приемом обучения.
Другие немецкие педагоги (как, например, Дистер-вег), не отвергая необходимости списывания, защищали право на существование и «слуховых» методов (слуховой анализ, диктант и т. п.). Дистервег, возражая Борману, писал: «Несомненно, этим путем можно научить орфографии; тысячи научились и еще учатся сейчас. Да и сам метод весьма несложный. Наконец, надо сказать, что роль зрения при правописании отрицать никак нельзя. Но тем не менее мы не можем считать, что- Борман прав, когда он отбрасывает все закономерности и в с е правила. Не г л а з у, но у х у принадлежит в языке первое место, и элементарная школа не должна учить чисто механическим путем»1 2 (разрядка Дистервега.—Д. Б.).
Основное возражение Дистервега, таким образом, сводится к подчеркиванию в обучении орфографии роли слуха.
Этими двумя мнениями об особенности орфографического навыка и исчерпывались основные психологические проблемы обучения орфографии. Они сводились к различной оценке роли исходных восприятий, вопрос же о роли сознательности в обучении орфографии был совершенно чужд теориям типа бормановской и остался мало разработанным у Дистервега.
Ушинский резко выступил против механистического понимания психологии орфографического навыка. Дилемме
1 Борман, Простейший способ обучения орфографии, изд. 1-е, 1840 /на немецком яз.).
2 А. Дистервег, Руководство для немецких учителей, 4-е немецкое изд., 1850.
«слух» или «зрение», ставшей со времен Бормана основной дискуссионной проблемой среди немецких методистов, он противопоставил свою теорию образования навыка, основанного на знании грамматики и орфографических правил.
«Некоторые из педагогов, — писал Ушинский, — как, например, Борман, думают даже все изучение правописания ограничить одной перепиской с верных образцов в том расчете, что при частой переписке слова глаз, наконец, механически привыкает видеть его написанным так, а не иначе. Но Борман забывает, что для такого изучения правописания нужно много переписывать и что переписка не только не дает голове развивающей работы, но, напротив, мешает ей работать гораздо более, чем рубка дров, ходьба или какая бы то ни была другая, чисто физическая деятельность, отчего отличные писари, с самого детства занимающиеся этой работой, отличаются замечательным тупоумием» Ч
Не списывание как один из возможных методов обучения орфографии критикует, следовательно, Ушинский а механичность приема, предлагаемого Борманом. Ушинский считает такую «переписку» неприемлемой для школы, противоречащей основным педагогическим принципам.
«...Правила навыком не усваиваются, — пишет Ушинский в другом месте, — хотя и можно усвоить навыком соблюдение какого-нибудь правила, даже не имея понятия о самом правиле. Так усваивают себе орфографию писари, много переписывавшие с правильных образцов. Но такое усвоение было бы слишком длинно и тягостно для детей, если бы на помощь к нему не было призвано сознание правил, по которым пишется так, а не иначе» 1 2.
Теоретически возможно, следовательно, по Ушинскому, выработать навык механическим путем, но этот путь антипедагогичен и не эффективен. Путь, который противопоставляется Ушинским бормановской «переписке», идет к образованию навыка через «сознание правил». «...Нельзя никак сказать, — продолжает развивать эту мысль Ушинский, — чтобы без грамматики, одним навы
1 К- Д. V ш и н с к и й, Руководство к преподаванию по «Родному слову». Избр. пед. соч., Учпедгиз, 1945, стр. 446.
2 Т а м же, стр. 423.
ком, еще легче было выучиться правильно писать, чем с помощью грамматики. Нужны десятки лет и беспрестанное списывание с образцов, написанных грамматически, чтобы одним навыком (курсив наш.—Д. Б.), без всякой помощи грамматических правил, выучиться писать правильно, да и то всякое новое слово будет ставить в тупик такого грамотея... для усвоения правильного письма детьми, конечно, нужна практика, но практика, руководимая грамматикой» Ч
В этой лаконичной формуле — «практика, руководимая грамматикой», — сделавшейся крылатым выражением, заключается самое существо теории сознательного навыка, разработанной Ушинским. Как легко видеть, эта формула представляет собой лишь практическое применение той общей теории о непроизвольных движениях, которые ведут свое происхождение от движений «в начале сознаваемых и произвольных».
Следует, однако, заметить мимоходом, что Ушинский вступает в противоречие с этой теорией в том случае, когда, возражая Борману, признает все же возможным образование у человека чисто механической привычки. Несомненно, что и «переписка», приводящая к овладению грамотным письмом, не может быть отнесена, с точки зрения Ушинского, к чисто рефлективным движениям, а в какой-то мере должна носить сознательный характер.
Итак, согласно Ушинскому, в школе нужно вырабатывать навык, опирающийся на работу мысли, на усвоение грамматических закономерностей и орфографических правил.
Встает, таким образом, вопрос о работе в школе над грамматическим правилом.
Известно, что Ушинский изучение грамматики в школе рекомендовал проводить на основе наблюдения учеников над живой речью. «Так как грамматика, — писал он, — есть результат наблюдений человека над собственным языком, а не язык результат грамматики, то самый рациональный прием изучения грамматики будет такой, при котором стараются обратить внимание дитяти на то, как он говорит, и только руководят его наблюдением
1 К. Д. Ушинский, Руководство к преподаванию по «Родному слову». Избр. пед. соч., Учпедгиз, 1945, стр. 423.
над теми грамматическими законами, которым он бессбл знательно подчиняется в своей речи, усвоенной подражанием» Ч
Ушинский считает, что задача обучения грамматике должна заключаться в том, чтобы помочь ребенку имеющийся у него богатый речевой опыт осознать с помощью грамматических правил.
Возникает, следовательно, вопрос о соотношении практических и теоретических знаний и о наилучшем способе перестройки первых в процессе обучения.
Этот вопрос Ушинский выделяет в качестве общего дидактического вопроса и рассматривает на страницах своего теоретического труда «Педагогическая антропология». Там в главе о памяти, — главе, частичное изложение которой сделано нами выше, — он обсуждает его следующим образом: в развитии человека рассудочному усвоению предшествует деятельность по преимуществу механического характера. Задача обучения состоит в том, чтобы привести в стройную систему усвоенные подобным образом мысли и факты. Для этой цели обучение с первых же шагов своих должно обращаться также и к рассудку в той мере, «насколько это допускается современным развитием рассудка в воспитаннике».
Наилучшим методом «перевода механических комбинаций в рассудочные мы считаем, — пишет Ушинский, — для всех возрастов, и в особенности для детского, метод, употреблявшийся Сократом и названный по его имени сократическим»1 2.
Положительной чертой этого метода Ушинский считает самостоятельность мысли ученика. Путем вопросов учитель, не сообщая ничего нового, приводит существующие ряды и группы представлений в новую рассудочную систему, заставляя их, сталкиваясь, или разрушать друг друга, или примиряться в их соединяющей и уясняющей мысли.
Такой метод, по его мнению, имеет то преимущество, что избавляет учителя от преждевременного сообщения детям тех или иных рассудочных комбинаций, которые, не будучи понятны ученикам, ложатся механиче-
1 К. Д. Ушинский, Избр. пед. соч., Учпедгиз, 1945, стр.434.
2 К- Д. Ушинский, Соч., т. X, изд-во АПН РСФСР, 1950, стр. 421.
Упражнениям Ушинский уделяет много внимания. В полном соответствии со своим пониманием психологической природы навыков он видит в них ту «практику», которая необходима для их формирования. «Ученик, знающий и понимающий отлично все грамматические правила, — пишет он, — будет непременно делать ошибки в письме, если не имеет механического навыка писать правильно» \
«Для грамотности мало того, чтобы человек знал грамматические правила (а их множество), но необходимо, чтоб он привык мгновенно выполнять их» 1 2.
Следовательно, для грамотного письма нужен «механический навык», необходимо «мгновенное» выполнение правил. Эти результаты достигаются «практикой», упражнениями.
Какие же требования следует предъявить к организации этой практики в школе для того, чтобы добиться успеха? Решая этот вопрос, Ушинский на первое место выдвигает требование систематичности упражнений: «Систематичность упражнений, — пишет он, — есть первая и главнейшая основа их успеха, и недостаток этой систематичности — главная причина, почему многочисленные и долговременные упражнения в орфографии дают весьма плохие результаты» 3.
Эта цитата общеизвестна. В современных педагогических сочинениях она приводится часто, но редко, кто задается при этом вопросом, на чем же, собственно, основывается это, по сути дела, догматическое утверждение Ушинского. Нередко его понимают весьма упрощенно, как требование определенной частоты повторений, достаточной тренировки и т. п. Однако, как мы видели, Ушинский о «беспрестанных упражнениях» говорит особо, здесь же он подчеркивает другую сторону этого вопроса. Повод для различного толкования даёт, надо признаться, сам Ушинский, поскольку требование систематичности по отношению именно к орфографическим упражнениям он теоретически не обосновывает.
Мы полагаем, что значение систематичности для данного конкретного вида упражнений непосредственно выте
1 К. Д. Ушинский, Избр. пед. соч., Учпедгиз, 1945, стр. 396.
2 Т а м же, стр. 421.
3 Т а м же, стр. 440.
кает из той роли, которую отводил Ушинский систематичности в приобретении любых знаний. Действительно, по Ушинскому, орфографический навык возникает на «рассудочной» основе, на основе грамматических знаний. Именно при помощи грамматики происходит, как мы видели, «перевод механических комбинаций в рассудочные». По поводу необходимости систематического изучения грамматики Ушинский пишет: «Только система, конечно, разумная, выходящая из самой сущности предметов, дает нам полную власть над нашими знаниями. Голова, наполненная отрывочными, бессвязными знаниями, похожа на кладовую, в которой все в беспорядке и где сам хозяин ничего не отыщет» L
Поэтому естественно полагать, что когда Ушинский говорит о систематичности орфографических упражнений, он, в сущности, конкретизирует свой тезис о грамматическом «руководстве» формирования орфографического навыка. Орфография, по Ушинскому, следовательно, представляется не суммой разрозненных правил, а цельной системой, в которой отражены те же закономерности языка, которые формулируются грамматикой.
Таким образом, принимая все это во внимание, мы вправе были ожидать, что Ушинский раскроет те грамматические основания, на которых, как это следует из его взглядов на «руководящую роль» грамматики, нужно строить систему орфографических упражнений. Ушинский, действительно, рекомендует такую систему для начальных классов школы, но строит ее на других основаниях.
Как известно, центральным звеном в занятиях родным языком у Ушинского является развитие речи. «Первая цель (преподавания русского языка. — Д. Б.) —развитие дара слова» 1 2, — пишет Ушинский. Или еще: «Из всего нашего изложения’ первоначальной дидактики родного языка видно само собою, что главное, центральное занятие, вокруг которого более или менее группируются все остальные и по которому мы располагаем даже и самую нашу грамматику, есть практическое упражнение в языке, устное и письменное» 3.
1 К- Д- У ш и н с к и й, О первоначальном преподавании русского языка. Избр. пед. соч., Учпедгиз, 1945, стр. 353.
2 К. Д. Ушинский, Избр. пед. соч., Учпедгиз, 1945, стр. 338.
3 Там же, стр. 440.
Развитие речи сохраняет подобное центральное место и в системе письменных работ учащихся. Отдельные упражнения этой системы прежде всего служат целям развития «дара слова». Достаточно привести лишь простой перечень письменных упражнений, рекомендуемых Ушинским, чтобы стало очевидным это «основание» системы.
Первый годучения
1. Разложение слова на слоги и слога на звуки; складывание слов из звуков.
2. Списывание отдельных слов с размещением их по разрядам, чтобы «не оставлять голову без работы».
3. Самостоятельное придумывание и самостоятельная запись отдельных слов, например всех птиц, которые знает ученик, и т. п.
4. Переписка этих слов, исправленных в классе, в чистовую тетрадь.
5. Письмо целых предложений в ответ на вопросы.
Второй год учения
1. Письменное изложение деловой статьи по вопросам на доске — от детализирующих вопросов к одному общему.
2. Формулировка ответов на вопросы; сначала устная, потом письменная.
3. Сравнение двух предметов (устное, а затем письменное) .
4. Письмо наизусть выученного текста с последующим самостоятельным исправлением ошибок по книге.
Третий год учения
Здесь Ушинский рекомендует целый ряд творческих письменных работ:
1. Письменные ответы с формулировкой основных мыслей статьи.
2. Сравнительные описания, самостоятельное описание без сравнения.
3. Письменное изложение рассказов после чтения его учителем и составления вопросов к нему.
4. Составление писем по данным образцам; сначала устное, потом письменное.
2 Д. Н. Богоявленский
17
После этого Ушинский пишет: «Рядом со всеми этими упражнениями третьего (курсив Ушинского.— Д. Б) года учения должна идти диктовка, которая в первые два года учения была бы преждевременной... Диктант должен повторяться как можно чаще: если возможно, то через класс, но от каждого урока не должен отнимать более четверти часа» Ч
Если рассмотреть отдельные упражнения в той последовательности, которую им придал Ушинский, то не трудно заметить, что здесь Ушинскому вполне удается выдержать тот основной принцип, то «основание» системы, которой должны, по его мнению, соответствовать упражнения в «даре слова».
С точки зрения развития речи можно согласиться в основном с подобной системой. Она действительно дает упражнения в порядке возрастающей самостоятельности ученика в использовании своей письменной речи. Но можно ли систему работ по развитию речи отождествлять с системой работ по орфографии? Если при решении этого вопроса исходить из воззрений на природу орфографического навыка самого Ушинского, изложенных выше, придется, несомненно, ответить отрицательно. Бросается в глаза полное игнорирование Ушинским грамматической основы орфографических упражнений, значение которой он сам же подчеркивал.
Как используется в этих упражнениях грамматика, которая должна «руководить практикой»? Какие цели должны ставиться перед учеником, когда ему предлагаются те или иные упражнения? Как сочетаются в них элементы сознательности и «практики»? На это нет ответа з предлагаемых Ушинским упражнениях. Нет потому, что в них орфография подчинена задачам развития речи, а из орфографических упражнений остается списывание (для развития механизма письма), письмо наизусть выученного и диктант, который рекомендуется проводить через день. Вопрос о соответствии и связи работ по орфографии с работами по развитию речи — вопрос сложный, до сих пор еще четко не разработанный методикой, практически разрешается Ушинским лишь в плане развития речи. Таким образом, Ушинский, отлично понимая теоретиче-
1 К. Д. У ш и н с к и й, Избр. пед. соч.» Учпедгиз, 1945, стр. 450.
ски значение системы 6 орфографических упражнениях, практически оставляет этот вопрос нерешенным.
Значение, которое придавал Ушинский развитию речи, выразилось также и в его совете совмещать упражнения в орфографии с письменным «толковым изложением своих или чужих мыслей». Лишь для «учеников очень отставших, — пишет он, — следует письменное выражение своих мыслей вовсе отложить на некоторое время и ограничиваться одним устным до тех пор, пока правописание, на которое в то же время следует налечь, сделает возможным передачу и собственных мыслей ученика на письме» Ч
Однако это исключение для отсталых учеников не противоречит общим теоретическим взглядам Ушинского, так как основной психологический смысл систематичности он видел в постепенном нарастании самостоятельности учеников.
«Стремление души к самостоятельности» Ушинский считает непременным следствием «основного закона духа» — «душевного стремления к сознательной деятельности». Из этих изначально существующих «стремлений души» Ушинский выводит ряд «воспитательных правил», главнейшее из которых состоит в том, что «свобода (в смысле самостоятельности.—Д. Б.) воспитывается не отсутствием стеснений, но, напротив, преодолением их»... «При этом большая разница: само ли дитя преодолеет стеснение или оно будет преодолено другими»1 2. Это правило имеет огромное значение для педагогики. «Воспитатель, — пишет Ушинский, — должен с самого начала предоставить питомцу как можно более самостоятельности в деле его умственных приобретений... Пусть ребенок проверяет прочтенное собственными опытами и наблюдениями: пусть он привыкает немедленно применять каждое вновь приобретенное практическое правило и вместе с тем приучается к деятельности в тех условиях, которые он может ясно представить и оценить» 3.
Мы видим здесь, если отбросить идеалистическую терминологию о «душе» и ее «стремлениях», ту же основную мысль, которую Ушинский развивает, излагая пре
1 К. Д. У ш ин ски й, Избр. пед. соч., Учпедгиз, 1945, стр. 442.
2 К. Д Ушинский, Материалы к 3-му тому «Педагогической антропологии», Соч.» т. X, и>зд-во АПН РСФСР, 1950, стр. 500.
3 Т а м же, стр. 472.
имущества сократического метода объяснения правила: методы обучения должны стимулировать самостоятельность мышления ученика, учитель не должен навязывать ему новых мыслей, к ним ученик должен приходить, преодолевая «стеснения» от столкновения различных, на первый взгляд, противоречащих мыслей. Но следует отметить и то новое, о чем говорит здесь Ушинский: самостоятельность ученика должна выражаться в его практической деятельности, в применении на практике вновь приобретенных правил. Это требование Ушинского непосредственно относится к упражнениям; оно показывает, в чем должна проявляться самостоятельность ученика.
Действительно, обсуждая вопросы развития речи или, по терминологии Ушинского, развития «дара слова» путем упражнений, он писал: «Они (т. е. упражнения. — Д. Б.) должны быть по возможности самостоятельными, т. е. действительными упражнениями, а не кажущимися только... Упражнения дара слова должны идти систематически, не должно подавлять развития этой способности чрезмерными требованиями, а всякий раз — давать такие упражнения, для выполнения которых требовались бы уже силы, приобретенные этой способностью. Всякое новое упражнение должно находиться в связи с предыдущими, опираться на них и делать шаг вперед... Систематичность в упражнениях должна также выражаться в большем или меньшем участии, которое учитель, смотря по силам детей, принимает в их упражнениях. Чем более развивается дар слова в детях, тем меньше должен помогать им учитель, тем самостоятельнее должны быть их упражнения» Ч
Здесь Ушинский конкретизирует свои общие взгляды на систематичность: для того чтобы упражнения вызывали самостоятельность, они должны быть посильны детям, логически связаны друг с другом и должны предоставлять все больший простор деятельности учеников.
Ушинский в данном случае свои методические рекомендации относит только к развитию «дара слова», не затрагивая совсем вопроса о грамматических и орфографических упражнениях. Flo поскольку он исходит при этом из своих общих представлений о важности «стремле
1 К. Д. У ш и н с к и й, Избр. пед. соч., Учпедгиз, 1945, стр. 338—342.
ния к самостоятельности», мы полагаем, что методический принцип постепенного нарастания самодеятельности можно целиком отнести и к орфографическим упражнениям. Однако практического руководства по этому вопросу Ушинский не оставил.
Таким образом, мы можем представить, что те требования, которые предъявлял к упражнениям Ушинский, в противоположность бормановской «механической переписке», состоят в следующем:
а) они должны часто повторяться («беспрестанные упражнения»);
б) обеспечивать возможность применения правил;
в) быть систематическими, с постепенным увеличением самостоятельности учеников.
Выше мы уже указывали на то, что Ушинский придавал большое значение связи преподавания грамматики с «живой речью» ученика. Грамматика, по его мнению, должна усваиваться из наблюдений ученика над теми грамматическими законами, которыми он бессознательно подчиняется в своей речи. Такое значение живой речи вытекало для Ушинского из той роли, которую он отводил в обучении родному ' языку «чутью», или «инстинкту», языка, развитому еще в дошкольный период.
Этот вопрос затрагивал и Ф. И. Буслаев. Он писал, что грамматика не может быть самостоятельной систематической наукой в первоначальном обучении, ибо в школе следует идти, подчиняясь тем же естественным законам природы, по которым до школы «узнание родного языка совершается при темном сознании, как бы инстинктивным подражанием» L Основываясь на распространенном в его время педагогическом принципе «природо-сообразности», Буслаев предлагал начинать обучение систематической грамматике не ранее 10—12 лет, а до тех пор давать чисто пропедевтический курс, лишь практически развивающий способность к «инстинктивному подражанию» детей. По вопросу о времени начала занятий грамматикой Ушинский расходился с Буслаевым. Возражая ему, он писал:
«...Мы можем считать доказанным, что не только бессознательный навык, но и изложение грамматических
1 Ф. Буслаев, О преподавании- отечественного языка, Учпедгиз, 1941, стр. 54.
ния к самостоятельности», мы полагаем, что методический принцип постепенного нарастания самодеятельности можно целиком отнести и к орфографическим упражнениям. Однако практического руководства по этому вопросу Ушинский не оставил.
Таким образом, мы можем представить, что те требования, которые предъявлял к упражнениям Ушинский, в противоположность бормановской «механической переписке», состоят в следующем:
а) они должны часто повторяться («беспрестанные упражнения»);
б) обеспечивать возможность применения правил;
в) быть систематическими, с постепенным увеличением самостоятельности учеников.
Выше мы уже указывали на то, что Ушинский придавал большое значение связи преподавания грамматики с «живой речью» ученика. Грамматика, по его мнению, должна усваиваться из наблюдений ученика над теми грамматическими законами, которыми он бессознательно подчиняется в своей речи. Такое значение живой речи вытекало для Ушинского из той роли, которую он отводил в обучении родному ' языку «чутью», или «инстинкту», языка, развитому еще в дошкольный период.
Этот вопрос затрагивал и Ф. И. Буслаев. Он писал, что грамматика не может быть самостоятельной систематической наукой в первоначальном обучении, ибо в школе следует идти, подчиняясь тем же естественным законам природы, по которым до школы «узнание родного языка совершается при темном сознании, как бы инстинктивным подражанием» L Основываясь на распространенном в его время педагогическом принципе «природо-сообразности», Буслаев предлагал начинать обучение систематической грамматике не ранее 10—12 лет, а до тех пор давать чисто пропедевтический курс, лишь практически развивающий способность к «инстинктивному подражанию» детей. По вопросу о времени начала занятий грамматикой Ушинский расходился с Буслаевым. Возражая ему, он писал:
«...Мы можем считать доказанным, что не только бессознательный навык, но и изложение грамматических
1 Ф. Буслаев, О преподавании отечественного языка, Учпедгиз, 1941, стр. 54.
понятий и правил должны найти себе место в низших классах предварительно перед изучением грамматики» !.
Именно потому, что педагог может опереться на «чутье языка» ребенка, на его речевой опыт, можно, не откладывая обучения грамматике, постепенно вести работу над осознанием грамматических правил.
Говоря о соотношении практических и теоретических знаний о языке, Ушинский писал: «В прежнее время это (усвоение грамматики.—Д. Б.) была первая и даже единственная цель, теперь она часто вовсе забывается. И то и другое вредно: исключительное изучение грамматики не развивает в дитяти дара слова, отсутствие грамматики не дает дару слова сознательности и оставляет дитя в шатком положении: на один навык и развитый инстинкт слова, во всяком случае, положиться трудно; но знание грамматики без навыка и развития дара слова также ни к чему не ведет» 1 2.
«Не должно забывать, — пишет Ушинский далее, — что сколько бы мы ни вносили сознательности в нашу речь, многое зависит от верности и развития нашего словесного инстинкта, ребенок четырех или пяти лет, никогда не слышавший какого-нибудь глагола, а тем менее каких-нибудь грамматических правил, по большей части начинает спрягать новый для него глагол правильно, вследствие бессознательного инстинктивного навыка. Этот инстинкт не только должно приводить в сознание грамматикой, но и усиливать его беспрестанным упражнением» 3.
Те «сокровища родного языка», которыми бессознательно владеет ребенок, должны быть в процессе обучения грамматически осознаны. Но грамматические знания могут быть полезны обучению лишь в той мере, в какой они связываются с живой речью, этим источником всяких знаний о языке. Следовательно, обучение грамматике не должно выхолащивать живого содержания, дающегося непосредственным речевым опытом ребенка, а развивать и усиливать его. Таковы основные идеи Ушинского, которые заставляли его придавать чутью языка в изучении грамматики такое большое значение. Можно без преувеличения сказать, что, не приняв этого во внимание, не
1 К. Д. У шински й, Избр. пед. соч., Учпедгиз, 1945, стр. 424.
2 Т а м же, стр. 349.
3 Т а м же, стр. 35L
льзя себе ясно представить и всей системы обучения родному языку, которой он придерживался.
Несмотря на это, мы не находим у Ушинского достаточно обоснованного психологического анализа природы такого «чутья» и его происхождения. Наиболее часто он характеризует этот «инстинкт» термином «бессознательный» или «полусознательный». Лишь однажды Ушинский пытается объяснить эти термины. «Мы успокаиваем себя обыкновенно, — пишет Ушинский, — фразой, что ребенок говорит на родном языке так себе, бессознательно, но эта фраза ровно ничего не объясняет; если ребенок употребляет кстати тот или другой грамматический оборот, делает в разговоре тонкое различие между словами и грамматическими формами, — это значит, что он сознает их различие, хотя не в той форме и не тем путем, как бы нам хотелось» !.
Говоря об элементе осознавания, который сопутствует правильному различению форм языка, Ушинский делает очень важный шаг по пути психологического анализа «чутья языка». Таким кажется нам и его замечание об иной «форме осознавания», по сравнению с грамматической, которая характерна для чутья языка. Однако естественно, что на том уровне развития психологии, на котором она находилась во времена Ушинского, дальнейшее углубление этого анализа оказалось для Ушинского невозможным.
Какова природа этой другой «формы осознавания»? Каковы ее отличительные психологические черты? На эти вопросы у Ушинского нет ответа.
Влияние идеалистических идей, которое, как известно, в значительной степени отражалось на взглядах Ушинского, не позволило ему последовательно придерживаться материалистического объяснения и относительно происхождения «словесного инстинкта». Как видно из приведенных выше высказываний Ушинского, чутье языка наравне с «даром слова» он рассматривает как врожденную душевную способность, как своего рода «дар», изначально заложенный в душе ребенка. Эта идеалистическая концепция стоит в явном противоречии с развитой Ушинским позднее (в «Педагогической антропологии»)
1 К. Д. Ушинский, Избр. пед. соч., Учпедгиз, 1945, стр. 207—208.
мыслью о том, что даже такие, с точки зрения идеалистов, «неразложимые» и наследственно передаваемые явления психики, как представления о времени и пространстве, вырабатываются в процессе индивидуального и общественного опыта.
Однако в другом месте Ушинский вносит категорические коррективы в свое первоначальное представление о происхождении языка и речи. «Не нужно большой наблюдательности и большой учености, — пишет он, — чтобы видеть, что язык, которым мы обладаем, не есть что-нибудь, прирожденное человеку, и не какой-нибудь случайный дар, упавший с неба, но — плод бесконечных долгих трудов человечества, начавшихся с незапамятных времен и продолжающихся до настоящего времени в наследственной передаче от племени к племени и от одного поколения к другому» Ч
Указав, что историческое развитие языка обусловлено развитием общества, Ушинский останавливается и на онтогенезе развития речи и говорит уже не о «даре слова», а о языке, «усвоенном ребенком вследствие врожденной ему подражательности и вследствие заразительности нервных рефлексов» 1 2.
Таким образом, можно сказать, что Ушинский, преодолев влияние идеалистических теорий, пришел в конце концов к правильному материалистическому пониманию происхождения языка и речи, а вместе с тем и того «чутья языка», которое не является врожденным инстинктом, а приобретается ребенком в ходе его речевого развития.
Таков сжатый очерк взглядов Ушинского по тем вопросам, какие имеют непосредственное отношение к психологии усвоения орфографии. Из него мы можем увидеть, как глубоко и разносторонне обосновывает психологически свою методическую систему Ушинский. Основным звеном его психологических взглядов является, несомненно, теория о сознательном происхождении навыка. Во многом предвосхищая те выводы, к которым пришла по этому поводу советская педагогическая психология, он в механичности и рассудочности навыка видит две стороны одного и того же единого, психологически
1 К. Д. У ш и н с к и й, Избр. пед. соч., Учпедгиз, 1945, стр. 425.
2 Т а м же, стр. 426.
очень сложного процесса овладения деятельностью, в основе которого лежит физиологический процесс выработки связи «двух или многих нервных привычек». Эти связи образуются в процессе «повторений и непрестанных упражнений». Повторения и упражнения могут быть «чисто механическими»; но такого рода методы не должны культивироваться в школе, и поэтому с первых же шагов обучение должно обращаться к рассудку.
Очень ценна, с нашей точки зрения, теория Ушинского о «переводе механических комбинаций в рассудочные», которая раскрывает внутреннюю сторону процесса приобретения знаний. Если принять во внимание, что под механическими комбинациями Ушинский понимает, по сути дела, данные нашего непосредственного опыта, а под рассудочной деятельностью приведение в порядок этих данных под влиянием правила или вообще слова, то невольно напрашивается аналогия с современным материалистическим пониманием соотношения чувственных и рациональных элементов нашего познания. Особенно это становится очевидным, когда Ушинский утверждает, что рассудочная деятельность не вносит чего-либо нового по сравнению с тем, что предоставляется ей «механической памятью», т. е. непосредственным опытом человека, а лишь систематизирует этот опыт.
Связь данных чувственного опыта и рассудочной деятельности представляется Ушинскому основой всякого человеческого знания. Поэтому лишь непониманием или просто незнанием теории Ушинского можно объяснить выступления некоторых критиков (например, Фармаков-ского, 1907), пытавшихся доказать, что Ушинский якобы является сторонником механического образования навыка, поскольку он главное значение придавал привычке и будто бы совершенно непоследовательно, наряду с этим, признавал и правила.
Все то, что мы говорили о взглядах Ушинского, свидетельствует, напротив, что та руководящая роль, которую он отводил грамматическим правилам, органически вытекает из его психологических воззрений на процесс усвоения знаний, в том числе и на выработку орфографического навыка.
Грамматические знания, оказывая свое регулирующее влияние на весь ход формирования орфографических навыков, в свою очередь возникают из данных непосред
ственного речевого опыта, из наблюдений за явлениями живой речи учеников, в «какой-то форме» осознаваемых ими.
Перевод в разряд «рассудочных комбинаций» результатов непосредственного наблюдения рисуется Ушинским как активный процесс самостоятельного мышления ученика, направляемый учителем. (Вспомним требование Ушинского: «Чем меньше помощи, тем лучше».) Знание правил должно закрепляться «беспрерывными упражнениями». Но упражнения рассматриваются Ушинским не только как простые механические повторения одних и тех же движений письма. Такие упражнения, несмотря на их многочисленность, не могут обеспечить необходимого школе эффекта. Упражнения должны давать простор самодеятельности ученика, точно так же, как это происходит при усвоении нового правила. Поэтому они должны быть систематическими, т. е. следовать в таком порядке, который мог бы обеспечить постепенно нарастающее повышение самостоятельности учеников.
Ушинский не раскрывает того, каким образом различные уровни самостоятельности можно обеспечить при обучении орфографии, но совершенно несомненно, что достижение самостоятельности возможно лишь в том случае, когда процесс выполнения упражнений носит сознательный характер. Достижение самостоятельности, по Ушинскому, не зависит от того, в какой форме фиксируются в памяти учеников те или иные языковые факты, поэтому для него традиционная проблема того времени — «слух» или «зрение», — предлагаемая в такой общей форме, не имела принципиального значения. Действительно, как мы видели, среди рекомендуемых Ушинским упражнений находятся и диктант, и списывание, и письмо наизусть.
Заслугой Ушинского является выдвижение вопроса о роли в обучении «чутья языка». Психологический анализ всех фактов, относящихся к этому вопросу, был, как мы видели, недостаточен, но в общем педагогическом плане требование Ушинского связывать преподавание грамматики с «живой речью» учащихся и до сего времени не потеряло своей актуальности в борьбе со всякого рода пережитками схоластических методов обучения.
Таковы в общих чертах те основные психологические вопросы, которые разрабатывались Ушинским и которые.
легли в основу грамматического направления. Богатство и глубина идей педагогической системы Ушинского определили то огромное влияние, которое она оказала на последующее развитие методической мысли. Целый ряд виднейших педагогов продолжал развитие идей, высказанных Ушинским. К рассмотрению их взглядов мы и переходим в дальнейшем изложении.
ПОСЛЕДОВАТЕЛИ К. Д. УШИНСКОГО
Сторонников грамматического направления, созданного Ушинским, несмотря на некоторые отличия их взглядов, объединяла его теория о сознательном происхождении орфографического навыка и признание ведущей роли грамматики в обучении орфографии.
«Правописание получает практическое значение только с того времени, когда пишущий получил возможность писать правильно без участия сознания, т. е. когда знание перейдет в навык»1, — пишет известный педагог Н. А. Корф. В полном соответствии с теорией Ушинского, Ф. Ф. Пуцыкович формулирует то же самое: «Навык действительно необходим, но навык разумный, навык, идущий следом за знанием, из него вытекающий и на нем основывающийся» 1 2.
Естественно, что, разделяя идею Ушинского о «разумном навыке», его последователи придавали большое значение вопросу об усвоении грамматических знаний и правил, необходимых при обучении орфографии. Особенно полно и систематично излагает свои взгляды по этому поводу блестящий теоретик и практик Д. И. Тихомиров.
Д. И. Тихомиров представляет себе ребенка, «который мыслит и говорит, нимало не подозревая, что совершает это в силу логических законов и грамматических правил», и считает, что задача школьного обучения — внести принципиально новое в подобное положение вещей. «Грамматическое учение с первого же шага ставит для себя целью изучение языка, правил, законов, форм языка, т. е. изучение отвлеченного; грамматическое учение требует сознательного отношения к тому, чем ребенок владел
1 Н. А. К о р ф, Первоначальное правописание, СПб., 1882, стр. 4.
2 Ф. Ф. Пуцыкович, Уроки русского правописания. СПб.,
бессознательно»1,—таково, по Тихомирову, назначение грамматики.
Он не преуменьшает тех трудностей, с которыми должен встретиться педагог, ибо «та область и формы мышления, которые характеризуют дошкольный период жизни ребенка, диаметрально противоположны той области и тем формам мышления, в которые вводит и в которых упражняет ребенка грамматическое обучение». Тихомиров хорошо понимает, что «нельзя безнаказанно сразу перетащить ребенка из одной области мышления в другую, ей противоположную». Он предупреждает педагога, что «неумелый подход к изучению грамматики может не только не принести пользы для умственного развития ребенка, но породить неестественное, преждевременное, скороспелое развитие, может иссушить ум ребенка, может послужить смертью для дальнейшего правильного роста».
Если грамматическое учение остается вне понимания ребенка, то он лишь механически заучивает определения и правила, и в лучшем случае ученики «вместо развития мыслительных способностей получают лишь некоторое развитие памяти». Для того чтобы изучение грамматики шло на пользу развития ребенка, требуются методы, соответствующие как особенностям самого предмета, так и силам ученика. Такой метод и предлагает Тихомиров.
Особенность грамматики, по мнению Тихомирова, заключается в том, что она является системой понятий, которые накапливались в результате «вековых наблюдений цад языком». Передать выводы из этих наблюдений не трудно, но понять их, разумно усвоить — для ребенка нелегкая задача. Естественный путь к их сознательному усвоению — участие в этих наблюдениях, организованное школой. «Отвлеченные понятия и общие правила, — пишет Тихомиров, — могут быть разумно усвоены только тогда, когда ясно сознан тот материал, из которого вырабатывалось понятие, когда хорошо изучены те частные факты, КО1И послужили основанием для вывода общего правила». И дальше: «Для полноты восприятия, для правильности и прочности усвоения грамматических
1 Д. И. Тихомиров, Чему и как учить на уроках родного языка, изд. 11-е, 1908, стр 203. Все дальнейшие ссылки на этого автора даются по данному издание.
знаний нужно сделать ученика участникам в наблюдениях над языком, нужно вести его по тому же пути, по которому шло человечество, созидая грамматику». Таким образом, исходною точкою в восприятии грамматических знаний должно служить не сообщение и объяснение грамматического термина, не сообщение готового определения и правила, а наблюдение над языком. Отсюда Тихомиров формулирует свое первое положение: «Приводи к грамматическому знанию через наблюдение»
Но наблюдение дает лишь разумение, как говорит Тихомиров. Для дальнейшего усвоения недостаточно также одного лишь заучивания определений и правил, нужны практические упражнения. Тихомиров так теоретически раскрывает роль упражнений в процессе обучения: «Переходя от наблюдения над живой речью к обобщению, к определению, к правилу, ученик мыслит от частного к общему. После сообщения грамматического понятия, после вывода правила ученик упражняется в применении общего к частному; исходя из общего понятия, ученик частный факт подводит под общее понятие или правило» 1 2.
Так Тихомиров приходит к своему второму выводу: «Приобретенные через наблюдения знания тотчас же применяй к практике».
Мы видим, что Тихомиров развивает в основном те же идеи, что развивал и Ушинский при анализе «сократического» метода. Интересно, однако, с психологической точки зрения, подчеркивание Тихомировым различия психологической природы практических языковых знаний ученика и соответствующих грамматических понятий.
По словам Тихомирова, они «диаметрально противоположны» друг другу, так как грамматические знания всегда носят отвлеченный характер. Он не развивает этой мысли более подробно, но предупреждает учителя об опасности чисто вербального усвоения определений и правил в том случае, когда оно не подготовлено непосредственными наблюдениями над фактами языка и их анализом; нельзя безнаказанно «перетащить ребенка из одной области мышления в другую».
1 Д. И. Тихомиров, Чему и как учить на уроках родного языка, изд. 11-е, 1908, стр. 208.
2 Т а м же, стр. 214.
Четко и определенно формулирует Тихомиров своё правило о связи между грамматической теорией и практикой ребенка: грамматические знания должны быть «тотчас же» применены к практике. Под практикой Тихомиров, так же как и Ушинский, подразумевает упражнения. Роль упражнений двойная. С одной стороны, они необходимы для того, чтобы «правописание стало бессознательной привычкой», с другой стороны, они нужны и для полного усвоения самого правила, потому что первое знакомство с правилом, как бы ни было оно хорошо подготовлено, дает, по Тихомирову, только «разумение».
«Грамматические знания, — пишет по этому поводу Тихомиров, — могут служить средством к правильному письму только при условии полнейшего их усвоения; а такое усвоение приобретается временем, путем продолжительных упражнений».
Как мы видели выше, вопрос об орфографических упражнениях у Ушинского остался недостаточно разработанным. Его последователи восполняют этот пробел. Они, так же как и Ушинский, считают, что в усвоении орфографии не может быть какой-либо универсальной формы упражнения, подобно пресловутому списыванию с правильных образцов. Но они более определенно, чем Ушинский, выбор упражнения ставят в зависимость от языковых особенностей орфограммы.
Тихомиров, например, пишет, «что форма для орфографических упражнений определяется сущностью того случая, над которым должен упражняться ученик» Ч
Еще более точно определяет упражнение Аполлос Соболев: «Учитель, — пишет он, — на практике должен прежде всего и главным образом иметь в виду свойство орфограммы и отношение ее к сознанию ученика и уже в зависимости от этого выбирать то или другое упражнение и способ ведения его»... «Одно и то же упражнение в одном случае может быть очень пригодным и полезным, а в другом — неуместным и вредным» 1 2.
При обучении орфографии могут найти себе место как упражнения, основанные на слуховых впечатлениях,
1 Д. И. Тихомиров, Чему и как учить на уроках родного языка, изд. 11-е, 1908, стр. 291.
2 Ап. Соболев, Критический обзор способов обучения правописанию, СПб., 1900, стр. 82.
гак и упражнения, в основе которых лежит списывание. Тихомиров, например, перечисляет целый ряд орфограмм, не подчиняющихся правилу, правописание которых должно основываться или на слухе, или па зрении. Упоминает Тихомиров и о случаях в орфографии, «где руководителем является смысл речи».
Но наиболее важным, по его мнению, является руководство правилами. Здесь, наряду со старым испытанным приемом — диктовкой, грамматическое направление выдвигает на первое место упражнения в виде «орфографических и грамматических задач».
В этих «задачах», как отмечает Тихомиров, «вполне должна найти себе место самодеятельность ученика» Ч
«В наблюдениях над примерами и в выводах из этих наблюдений ученик работает не самостоятельно, а под руководством учителя; в упражнениях же предоставляется полный простор его самодеятельности (разрядка Тихомирова.—Д. Б.)... Замечено, что эти упражнения нравятся детям: удовольствие ребенка и объясняется его самодеятельностью» 1 2.
Что надо понимать под этой самодеятельностью, Тихомиров раскрывает следующим образом: «Ребенок только тогда воспользуется известным ему правилом, когда он в состоянии будет предварительно верно ответить самому себе на поставленные им же самим вопросы. К какому отделу правил относится данный случай правописания? К какому разряду слов относится данное слово? Какая это форма? Какое правило правописания относится к этой форме? Таким образом, пользование правилами обусловливается твердостью знаний грамматических: только отчетливое знание грамматических форм дает ответы на вопросы орфограф и и»3 (разрядка Тихомирова. — Д. Б,).
Такая «самодеятельность» ученика в упражнениях возникает тогда, когда эти упражнения дают ему возможность применения изученных ранее правил. В этом — главное для выбора формы упражнений.
Таким образом, мы видим, что последователи Ушинского в теорию упражнений ввели много нового по срав-
1 Д. И. Тихомиров, Чему и как учить на уроках родного языка, изд. 11-е, 1908, стр. 289.
2 Т а м же, стр. 214.
3 Т а м же, стр. 286.
йенйю со своим учителем. Если Ушинский «основание» системы упражнений видел в развитии речи, то для последователей Ушинского основной смысл упражнений — решение орфографических задач. При этом упражнения могут принимать различные формы, в том числе и диктовки и списывания. Выбор этих форм зависит от особенностей данного орфографического обобщения, и потому они могут быть очень разнообразными.
На разработку отдельных видов упражнений большое влияние оказал выдвинутый Тихомировым принцип «уединения трудности». Исходя из психологических соображений о трудности одновременного решения нескольких задач, он предложил на первых порах обучения какому-нибудь правилу предлагать такие упражнения, при выполнении которых ученику нужно было самостоятельно писать лишь орфограммы на пройденное правило.
Так появилась своеобразная форма списывания, при которой основной текст предъявлялся ученику в правильном виде, но на месте отдельной буквы оставлялся пропуск, ставился знак вопроса или крестик. Заполнить эти пропуски и надлежало ученикам. Развивались и многообразные формы диктантов: предупредительный, диктант с последующим орфографическим разбором, выборочный диктант и т. п. В осуществлении принципа «орфографической задачи» появились различные «задачники по правописанию».
Таким образом, можно сказать, что основное внимание «грамматистов», последователей Ушинского, было обращено на разработку теории и практики орфографических упражнений. Был установлен принцип разнообразия упражнений в зависимости от различного характера орфограмм, а в отношении орфограмм, подчиняющихся правилам, в осуществление принципа самостоятельности была предложена основная форма упражнений — «орфографическая задача». Практически это привело к тому, что методика орфографии в ближайшие годы после смерти Ушинского обогатилась самыми разнообразными приемами обучения орфографии, многочисленными видами упражнений. Если, как мы помним, Ушинский в свое время мог рекомендовать как частные приемы обучения лишь списывание, слуховой диктант и письмо наизусть, то к началу XX в. были разработаны почти все те методиче-
ские приемы, которыми и до сих пор пользуется советская школа.
В этом мы видим огромную прогрессивную роль, которую сыграли последователи Ушинского в развитии методики обучения орфографии в русской школе.
Но следует отметить два принципа, выдвинутых Ушинским и не нашедших у его последователей достаточного развития. Это вопросы о системе упражнений и о связи преподавания грамматики и орфографии с «живой речью», а между тем оба эти вопроса постоянно вставали перед школьной практикой.
В это время усиленная разработка новых методических приемов и видов упражнений привела к тому, что их постепенное накопление стало идти чисто эмпирическим путем, разрозненно, без надлежащего осмысления всей системы приемов в целом.
Отдельные авторы методик сводили изложение вопросов орфографии к механическому перечислению «приемов» обучения. Учителя часто терялись перед такими «коллекциями», не зная, что же им выбрать из всего этого богатства. Очень выразительно звучал, например, один «призыв о помощи» того же Ап. Соболева. Он жалуется на бессистемность предлагаемых учителю методических приемов. «Следует, — пишет он, — требовать от руководства, чтобы оно указало главное основание, из которого логически вытекают различные практические советы и наставления, как вести дело, оно (руководство) сообразно со своим названием должно дать учителю руководящее начало, путеводную нить, чтоб он не затерялся в лабиринте... бесчисленных по разнообразию приемов, какие существуют в школьной практике при обучении орфографии» Подобное положение, создавшееся в школе, указывает, несомненно, на отставание разработки теории обучения от возросших потребностей практики.
Второй недостаток этого этапа развития методики заключался в том, что Тихомиров и многие другие сторонники грамматического направления, занявшись разработкой вопроса о связи орфографических упражнений с грамматикой, впали в крайность, противоположную Ушинскому. Орфографические упражнения оказались у них оторванными от творческих работ по развитию речи.
1 Ап. Соболев, см. цитированную работу, стр. 30.
3 Д. Н. Богоявленский
33
И практика скоро вскрыла ошибочность их позиций. Многие учителя, добросовестно изучавшие с учениками орфографические правила и проделавшие с ними много упражнений по учебникам Тихомирова, Пуцыковича и других «грамматистов», стали замечать, что их ученики хорошо пишут диктанты, но не справляются с орфографией в изложениях и сочинениях. Этот факт не нашел у грамматистов теоретического объяснения. Тогда среди практиков возникло движение «в защиту живого слова» (В. П. Шереметевский и др.).
Правильная критика этого недостатка методической системы грамматистов была, однако, перенесена, и уже неправильно, на основной принцип грамматического направления — на принцип обучения орфографии на грамматической основе. Так постепенно, в противовес грамматическому направлению, в методике орфографии начали развиваться «антиграмматические» взгляды.
АНТИГРАММАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Зарождение антиграмматического направления в методике орфографии — вопрос мало исследованный. Существующие обзорные работы (В. Фармаковский, 1907; Н. Державин, 1923) связывают появление антиграмма-тических тенденций с именами Н. Бунакова, К. Житомирского и И. Соломоновского. Однако эти сведения по меньшей мере неполны, поскольку в этом перечислении совсем не упоминается имя такого крупного педагога, как Шереметевский.
Первые выступления противников грамматической школы относятся исследователями к 80—90-м годам прошлого столетия. К концу же первого десятилетия 900-х годов мы встречаемся с цельным «антиграмматическим» направлением методики орфографии, вполне оформившимся и оказывающим большое влияние на практику. Такой быстрый расцвет новых методических идей, подвергших сомнению основной методический тезис грамматистов о роли грамматики и правил в обучении, обусловливается, по нашему мнению, тем, что критика теории и практики грамматического направления шла почти одновременно от практики, от лингвистики и от буржуазной, так называемой экспериментальной педагогики.
Для того чтобы выяснить психологические основания этой критики, следует рассмотреть все эти основные .линии.
Возражения практического характера мы находим у Бунакова, Шереметевского и Соломоновского.
Известный педагог и методист Н. Бунаков излагает свои взгляды по этому вопросу в своем методическом руководстве L
Бунаков не отрицает необходимости изучать грамматику, но полагает при этом, что судьба орфографии зависит более от навыков, нежели от твердого знания правил. Это, как думает Бунаков, легко видеть каждому: мы пишем «доброго», вопреки произношению, не потому, что каждый раз принимаем во внимание историческое происхождение этого окончания и основанное на нем грамматическое правило, а потому, что привыкли так писать, — сама рука, помимо сознания, пишет правильно.
Вредным для школы Бунаков считает злоупотребление диктовками и пренебрежение работами творческого характера. В школе создается положение, как будто «правописание составляет единственную цель всех письменных школьных занятий, а не употребление языка как орудия и средства для выражения собственных мыслей пишущего».
Ограничение письменных работ диктовкой, свидетельствует Бунаков, приводит к тому, что ученики, безошибочно пишущие под диктовку, оказываются весьма безграмотными в собственных сочинениях и письмах. Поэтому применение диктанта в качестве формы проверки грамотности не достигает цели. Но тем не менее Бунаков не возражает против применения диктовки наряду с другими письменными работами, так как диктант «приучает детей схватывать чужую речь, так сказать, на лету и переводить ее с возможной скоростью на бумагу».
Таким образом, во взглядах Бунакова мы находим прежде всего совершенно правильную критику таких методов преподавания орфографии, которые отрывают ее изучение от работ, связанных с развитием речи. Как мы видели, такой точки зрения придерживался и Ушинский,
1 Н. Бунаков, Родной язык как предмет обучения в начальной школе, изд. 10-е, СПб., 1887.
и она сама по себе не затрагивает грамматических основ методики орфографии. Эта критика касается лишь недостатков той практики грамматического направления, которые выразились, как мы уже отмечали, в пренебрежении одним из важнейших принципов методической системы Ушинского — связи орфографических работ с работами творческого характера.
Более существенным в этом отношении являются те рассуждения Бунакова, в которых он касается психологических основ обучения орфографии. Сама постановка вопроса о том, что важнее — «правило» или «навык», является сама по себе несовместимой с психологической теорией навыка Ушинского. После тонкого психологического анализа, который лежал в основе его теории, наивной и эмпирической должна показаться попытка Бунакова судить о психологии орфографического навыка по характеру конечного продукта уже автоматизированной деятельности. Однако именно на подобном механическом противопоставлении «сознания» и «навыка» и на суждении о психологической природе навыка по характеру письма грамотного человека основаны, как мы увидим дальше, наиболее существенные «теоретические» возражения большинства сторонников антиграмматического направления.
Другим представителем «раннего антиграмматизма» был В. П. Шереметевский. В истории методики он известен как «ярый противник» диктовок и защитник «живого слова». В основе критики «диктантомании», царящей, по мнению Шереметевского, в школе, лежит, как и у Бунакова, правильная мысль о необходимости не забывать при обучении орфографии основной цели — развития речи. С этой стороны его критика не содержит еще ничего «антиграмматического». Но у Шереметевского осуждение диктовок имеет под собой не только практическую, но и теоретическую почву. Так как в методиках эта сторона взглядов Шереметевского нашла лишь незначительное освещение, мы остановимся на ней более подробно. Дело в том, что Шереметевский снова начинает на русской почве дискуссию о преимуществах «слуха» или «зрения», несостоятельность которой, как казалось, была уже достаточно доказана работами Ушинского и его последователей. Сам Шереметевский при этом решительно заявляет себя сторонником «зрения».
В шутливой форме свои взгляды он выражает в следующем четверостишии:
Когда в руке перо, Пусть ухо Будет глухо, Но зрение остро.
Ту же мысль он выражает в тезисах своего доклада «Об орфографии вообще и о письме под диктовку, как упражнении элементарном, в особенности», прочитанном им в 1883 г. «Орфография есть искусство графическое (зрительное), а потому письмо со слуха под диктовку вообще нецелесообразно». А отсюда в качестве вывода: «Упражнениями, более целесообразными для основания грамотного письма в элементарном возрасте, следует признать те, которые развивают именно память зрения и зоркость орфографическую» Ч
В этих положениях ярко проявляется тенденция вновь свести весь вопрос об усвоении орфографии к проблеме «слуха» или «зрения» при игнорировании сознательных процессов мышления ученика. Такая точка зрения логически приводит к неправомерной универсализации приемов обучения в зависимости от формы восприятия: если все дело в «зрении», то наилучшим методом должно быть списывание. Вместе с этим полностью исключается возможность дифференцированного подхода к орфограммам, намеченного в общих чертах последователями Ушинского. А между тем именно дифференциация языковых особенностей орфограмм позволила Тихомирову и Соболеву практически опровергнуть кажущуюся несовместимость слуховых и зрительных методов.
Хотя Шереметевский и не говорит ничего о механической природе усвоения орфографии, тем не менее преувеличенная оценка роли «зрения» приводит его к недооценке роли грамматики.
С одной стороны, он признает полезность в начальной школе таких упражнений, как, например, этимологический анализ состава слова (основа, окончание, корень, суффикс, приставка), подбор слов разных корней, группировка слов по разрядам (части речи) и т. п. Смысл таких упражнений, по сути дела, заключается в том, что
1 В. П. Шереметевск п й, Соч.. М, 1897, стр. 33.
они подготавливают последующее грамматическое обобщение. Но Шереметевский боится всякой «теории». Он предлагает оставлять знания ученика на «практическом» уровне. Он пишет, что при обучении грамматике на всем протяжении начальной школы надо соблюдать следующие условия: «1) чем меньше теории, тем лучше, 2) чем позднее начинается изучение теории, тем лучше, 3) чем медленнее идет изучение теории, тем лучше» L
В таком чересчур «осторожном» отношении к теории Шереметевский расходится с Ушинским, который считал необходимым рассматривать подобного рода упражнения лишь как подготовку для перевода практических знаний в «рассудочные».
Недооценка теории остается характерной для Шере-метевского и по отношению к орфографии. Для правописания корней слов, в связи с выдвигаемой им идеей «корнесловной или этимологической грамматики», он, по-видимому, признавал важность грамматических обобщений. Так, например, в одном месте он бросает вскользь замечание, что «орфография слова есть не что иное, как биография слова». Но делая такое исключение для правописания корней слов, он ничего не говорит о роли грамматики при усвоении правописания других морфем. Не упоминает он и об «орфографических задачах», дающих возможность сознательного применения грамматических знаний. По-видимому, кроме правописания корней, вся остальная часть орфографии должна усваиваться, по мнению Шереметевского, «зрительной памятью». По крайней мере, составителям учебников он дает следующий совет: «Составителям, не пренебрегающим зрением, я посоветовал бы составить пособие с таким заглавием: «Прописи правописания, сборник примеров на главнейшие правила для упражнения в списывании с книги и с памяти», пожалуй, с таким эпиграфом: Не верь уху, а верь глазу: ибо свой глаз — алмаз. Если орфография, как и каллиграфия, есть искусство графическое, то, по моему разумению, и пособия для нее должны быть прописи» 1 2.
Кроме Шереметевского, среди первых противников грамматической школы следует отметить И. Соло м о
1 В. П. Шереметевский, Соч., М., 1897, нр. 139.
2 Т а м же. стр. 30.
н о в с к or о, который развивал в значительной степени более радикальные взгляды. В своей ранней статье, опубликованной в 1883 г.1, он выступает против грамматики1 как основы обучения орфографии. «Требовать применения правил орфографии для детей, не умеющих письменно излагать своих мыслей, то же самое, что требовать знания грамматики от субъекта, не умеющего говорить. Научите попугая или годичного ребенка грамоте, и я поверю, что диктовка полезна для орфографических и стилистических целей».
В своих более поздних статьях 2 Соломоновский приходит к выводу, что орфография усваивается чисто механическим путем и что изучение правил приносит лишь вред. Он приводит пример, когда одна учительница, обучавшая, по совету автора, без правил, под влиянием товарищей по школе все же одно правило сообщила ученикам. В результате она пришла к выводу, что это не пошло на пользу ученикам. Соломоновский пишет дальше: «Я объяснил ей, что так всегда бывает, что после второго правила дети будут путать еще больше, после третьего — еще больше, и когда безграмотность их достигнет наивысшей точки, что бывает обыкновенно на 2—3 году такого обучения, тогда наступает поворот, дети начинают мало-помалу приходить в себя, ориентироваться в правилах, и в 5—6 году обучения у них устанавливается довольно сносная грамотность». В дальнейшем Соломоновский пытается и «теоретически» аргументировать подобное якобы разрушающее влияние сознательного изучения правил орфографии тем, что если взрослый пишет грамотно чисто механически, не думая о правилах, то, следовательно, орфография есть дело навыка механического. Введение же в обучение всякого элемента сознательнограмматического отношения к фактам языка лишь осложняет процесс обучения.
Таковы типичные высказывания разных представителей нового течения в орфографии. Под их влиянием целый ряд педагогов (Зимницкий, Баранов, Вахтеров и др.) в своих пособиях, как методических, так и учебных, старались соединить обе точки зрения: с одной стороны, сохранить как методы преподавания и диктант, и списы
1 «Русский филологический вестник», 1883, № 4.
«Педагогический сборник», 1897, № 2.
вание, с другой, — оставаясь в вопросе о роли грамматики в обучении на позициях грамматической школы, учесть и новые идеи о механичности этого процесса. В результате создаются методические построения беспринципно-эклектического характера.
Наглядным примером такого подхода может служить статья Зимницкого «О совместном методе обучения» \ Все три «фактора» правописания: зрение, слух, сознание, которые автор хочет «примирить» между собой, механически перемешиваются в его «совместных» уроках: для большей верности Зимницкий меняет от урока к уроку последовательность методов, опирающихся на тот или иной «фактор». Если один урок начинается списыванием, продолжается диктовкой на то же правило и оканчивается снова списыванием, то другой — начинается диктовкой и оканчивается списыванием и т. п. Путем подобной механической перетасовки Зимницкий намечает восемь возможных типов урока, полагая, таким образом, полностью «уравнивать» влияния этих «факторов». Сходны по своему эклектизму и взгляды Вахтерова, который, выступив вначале в качестве сторонника грамматического направления, в более оозднее время1 2, утверждал, что правописание есть столько же дело памяти, сколько и сознания. Отношения между тем и другим он представляет упрощенно, рядоположенно, и поэтому признает, что в обучении с одинаковым правом могут применяться как «механические», так и «сознательные» методы.
Ранний период антиграмматизма характеризуется критикой идей грамматического направления, опирающейся в основном на практический опыт авторов. В тех случаях, когда они обсуждают практические вопросы, как, например, вопрос о чрезмерном распространении в школе диктовок, практический опыт подсказывает им правильное решение. Там же, где сторонники новых идей пытаются дать своим выводам психологическое обоснование, там их рассуждения о природе орфографического навыка становятся поверхностными, мало обоснованными, что особенно бросается в глаза по сравнению с широкими психологическими обобщениями Ушинского.
1 Впервые опубликована в журн. «Русская школа», 1897, № 3—6.
2 См., например, журн. «Русская школа», 1899, № 5—6, 7—8.
Неполноценность психологической теории порождала эклектические выводы, в которых механически совмещалось признание важной роли в обучении орфографии грамматики и текстуального списывания, «сознание» и другие «факторы» рядополагались, и вместе с тем неправомерно универсализировалась роль зрительной памяти.
В этот период сомнений и колебаний, в период поисков «руководящего начала» взгляды антиграмматистов получили неожиданное подкрепление со стороны лингвистов.
В лингвистике в это время шел интенсивный пересмотр научных позиций и принципов. Оформлялись два направления: психологическое, идейным вдохновителем которого был проф. А. А. Потебня, и формальное, во главе с акад. Ф. Ф. Фортунатовым. Не имея возможности подробно рассмотреть эти новые идеи, мы отметим только, что на смену методических направлений они оказали влияние лишь косвенно тем (по крайней мере, на первых порах), что развенчали в глазах учительства научность той самой логической грамматики, которая со времен Буслаева преподавалась в школе. С этой стороны, несмотря на все различие в сущности психологической и формальной школ языковедения, их позиция по отношению к логико-грамматической системе буслаевской грамматики была одинакова: обе школы исходили в своих построениях из ее критики.
В 1903 г. был созван Первый съезд преподавателей русского языка в военно-учебных заведениях, на котором лингвисты выступили с предложением «реформы» школьной грамматики.
Ф. Ф. Фортунатов в своем докладе «О преподавании грамматики русского языка в средней школе» 1 предъявил школьной грамматике ряд обвинений, упрекая ее в отсталости и архаичности. Школьные учебники, по его мнению, «представляют подражания оригиналам, возникшим задолго до появления научного исследования человеческого языка». А само «изучение грамматики родного языка в средней школе дает в настоящее время очень нежелательные результаты в том отношении, что вносит в умы учеников путаницу понятий о явлениях, фактах языка
1 См. «Труды Первого съезда преподавателей русского языка в военно-учебных заведениях», СПб., 1904.
вообще и нередко вызывает поэтому отвращение к теоретическому изучению языка».
Л. В. Щерба (тогда еще молодой доцент) к тезису о том, что «существующие грамматики русского языка никуда не годятся», добавил требование изменить и сам метод преподавания. Вместо изучения учебников грамматики обучение, по его мнению, должно в низших классах идти совсем без учебников и сводиться «к наблюдению и группировке явлений языка самими учениками».
Пропаганда новых идей языкознания на этом съезде имела огромное значение для методики преподавания орфографии. Если и до этого раздавались голоса, умалявшие значение грамматики в обучении орфографии, то теперь такое мнение как бы санкционировалось новейшими достижениями языкознания. По словам представителей этой науки, ненаучная грамматика не может оказывать помощь в орфографии. Усвоение же настоящей науки о языке, основанное на историческом изучении фактов речи, возможно только в старших классах; следовательно, в низших классах, когда закладывается фундамент грамотного письма, занятия грамматикой должны быть сведены к минимуму.
Вот таким или подобным образом преломились новые идеи в практике многих учителей и методистов. «Что же делать? — спрашивает Н. Кульман. — Ответ не труден. Старую школьную грамматику с ее чисто теоретическим характером и исключительной логико-грамматической основой надо уничтожить. Нельзя оставлять в школе то, что противоречит требованиям элементарной научности и вместе с тем не помогает никаким практическим задачам» !. Следовательно, умаление роли грамматики в обучении правописанию — таков косвенный результат, к которому привела критика старой школьной грамматики со стороны лингвистов.
Со времени данного съезда сомнение в целесообразности изучения грамматики для усвоения правописания стало как бы апробированным наукой.
Но пока это еще было отрицательным решением вопроса. Для создания новой методики правописания ощущалась необходимость в положительной теории, которая
1 И. К. Кульман, Методика русского языка, СПб., 1913, стр. 111.
могла бы дать ответ, какие же методы обучения следует одобрить, если авторитет грамматики как основы преподавания был подорван.
Такое якобы научное решение вопроса о лучших методах обучения орфографии неумеренными противниками грамматики было заимствовано у буржуазных психологов Германии. Речь идет о «новых» методах, «экспериментально» разработанных представителями буржуазной эмпирической психологии Лаем и Мейманом.
И. Т. Костин — педагог, автор известной книги, посвященной резкой критике этих «научных» данных, детально рассматривает все те основания «новых» методов, которые в качестве «научных» выдвигает Лай, и доказывает их несостоятельность 1.
Он показывает, что результаты опытов Лая, проведенных, как известно, на материале бессмысленных слогов, не могут быть перенесены в школу, «потому что дети оперируют лишь словами, имеющими смысл», и «ни одна школа не может делать своей задачей практику в области бессмысленного».
Он считает, что применение в опытах Лая подобного материала дает возможность судить о закономерностях исключительно механической памяти, а не такого психологически сложного процесса, как обучение орфографии.
Возражает он и против механического списывания, которое, по Лаю, должно быть универсальным методом обучения. «Дело в том, — пишет он, — что метод немецкого профессора, около которого теперь поднят такой «шум», глубоко антипедагогичен: из всех письменных работ списывание имеет наименьшее образовательное значение», так как сводит обучение грамотному письму к дрессировке. Утверждение механичности процесса усвоения орфографии он считает ложным и в противовес выдвигает теорию «разумного» навыка, разработанную Ушинским.
Костин протестует и против того, что при перенесении методов, практикуемых в немецкой школе, забывают об особенностях русской орфографии, построенной преимущественно на этимологическом принципе, обусловливаемом богатством «флективного начала». Поэтому, заклю-
1 И. Т. Костин, Правописание и экспериментальная психология, М, 1912.
чает он, «метод механического списывания совершенно не соответствует природе и внутренним требованиям орфографии». Метод списывания может иметь место, но «строго ограниченное требованиями грамматики».
Защищая принцип сознательного усвоения, Костин отвечает и русским противникам диктовок. Диктант как прием обучения он оценивает именно с этой точки зрения. «Как бы и что бы против диктанта ни говорилось, — пишет он, — диктант по самой природе своей — метод сознательного приобретения навыков правильного письма. При диктанте ученик неизбежно мыслит». В заключение автор приходит к следующему практическому выводу: «Увлечение русской школы методом списывания достаточных оснований не имеет».
Несмотря на то, что, кроме Костина, против механистических теорий буржуазной психологии выступил целый ряд опытных педагогов-практиков (Воскресенский, Литвиненко и др.), выводы «экспериментальной школы» для большинства методистов стали именно тем якобы научным основанием, которого недоставало для подкрепления антиграмматических взглядов. Ими «на веру» принимаются основные положения немецких «экспериментаторов», из них делаются методические выводы.
Если усвоение орфографии — процесс чисто механический, основанный на запоминании «образов слов», то, следовательно, рассуждали наиболее ярые последователи Лая, нет необходимости привлекать к обучению грамматические и орфографические правила; если, по Лаю и Мейману, наилучший способ для запоминания этих «образов» — зрительное восприятие, то, следовательно, методом обучения должно быть исключительно списывание с готового текста. Диктовки, а также «орфографические задачи» в виде списывания с пропущенными буквами и т. п. должны быть изгнаны из школьной практики как несоответствующие этим «научным» положениям.
К антиграмматистам крайнего направления, последовательно проводившим в жизнь подобного рода воззрения, относятся Ц. и Б. Балталон, Томсон, Фармаковский, Зачиняев и др.
Так, Ц. и Б. Балталон после ссылки на данные Лая пишут: «Уже из одного только ознакомления со сложной психофизиологической природой процесса письма можно заключить, что этот процесс должен иметь свою самостоя-44
тельную организацию навыков движения, независимую от мышления, следовательно, от усвоения правил орфографии; ясно, что если бы даже могли существовать простые, применимые правила орфографии для каждого момента письма, то им нечего было бы делать в этом процессе ввиду его быстроты, автоматичности и независимости от процессов мышления» !.
А. И. Томсон заявляет, что «писать можно научиться только посредством писания», что «наиболее целесообразный прием, посредством которого можно без околичностей и тормозящих условий научиться писать правильно, это — писать правильно1» 1 2.
Сначала Томсон допускал возможность использования при письме некоторых правил, «которые определяют кратко и ясно явления, встречающиеся во многих случаях». После того как он, по его собственным словам, ознакомился с новыми данными немецкой экспериментальной педагогики, он отбрасывает эту оговорку. «Почти все думают, — заявляет он, — что грамотность заключается в знании, где какую ставить букву, и что в этом умении ставить правильно буквы заключается цель обучения письму. Вследствие этого, при обучении правописанию в школе заставляют учить разные правила и перечни слов, по которым, по долгом размышлении, можно определить, где поставить какую букву. Не замечают, что грамотность должна быть в мускулах и нервах руки, в рукодвигательных и зрительных представлениях» 3.
По Томсону, следует полностью устранить из процесса обучения правописанию всякое участие мышления человека. «Находят еще, — пишет он дальше, — что механическое усвоение правописания не отвечает законам человеческого мышления. Но ведь это бессмысленные слова. Причем тут мышление? Нужно писать гак, как пишут грамотные. Вникните в процесс грамотного писания и узнаете, что у грамотного рука автоматически производит Движение».
1 Ц. и Б. Б а л т а л он, Воспитательное чтение, М., 1913, стр. 67.
2 А. И. Т о м с о н, К теории правописания и методологии его преподавания в связи с проектируемым упрощением русского правописания. «Летопись историко-филологич. об-ва при Новороссийском университете», т. XI, Одесса, 1904, стр. 228—237.
3 А. И. Томсон, Общее языковедение, Одесса, 1906, стр. 404.
Следовательно, под влиянием «теории образов» Томсон «выправляет» свою непоследовательность, подчеркивая полную механичность процеоса усвоения орфографии, т. е. независимость его от всякого рода интеллектуальных операций.
Отношение Томсона к упражнениям определяется целиком этой позицией. Правильное письмо — это универсальный метод, а диктовки приносят только вред. «Усиленными занятиями одной диктовкой можно и из грамотного... превратиться в неграмотного», потому что при диктовках возможны ошибки, запечатление неверного образа слова, а «написав раз слово неверно, ему (ученику) предстоит в будущем уже двойная работа: запомнить верное и забыть неверное» Ч
Взгляды Балталона и Томсона в достаточной мере характерны и для других представителей крайнего анти-грамматизма.
Из группы «умеренных» прежде всего следует отметить Кульмана как методиста, на убеждениях которого особенно отчетливо вскрывается влияние и новой школы в языкознании, и «новейших» достижений в психологии, и собственного педагогического опыта, предохраняющего его от чрезмерного увлечения этими «достижениями». В результате Кульман сформулировал ряд положений, которые характерны для так называемого элементарнопрактического направления.
В своей работе Кульман, как уже указывалось, приходит к выводу о ненужности и вредности «старой школьной грамматики с ее чисто теоретическим характером и логико-грамматической основой» 1 2.
Но сравнительно-исторический метод обучения грамматике, рекомендуемый представителями нового течения в языкознании, так сложен, что он доступен только старшим классам средней школы. Между тем обучение орфографии производится в младших классах, а природа русской орфографии такова, что для ее усвоения нужны некоторые элементарные грамматические сведения. Поэтому, по мнению Кульмана, совсем отказаться от грамматики нельзя, но нужно подчинять ее преподавание
1 А. И. Томсон, К теории правописания, Одесса, 1904, стр. 230—231.
2 Н. Кульман, Методика русского языка, СПб., 1913.
исключительно практическим целям «усвоения орфографии, пунктуации и отчасти стиля».
Так обосновывает Кульман свое первое положение о грамматике как «служанке правописания». Переходя к рассмотрению методов обучения орфографии, Кульман излагает данные опытов Лая, ио берет от пих только практическую сторону: во-первых, обоснование списывания в противовес диктовке; во-вторых, необходимость предупреждения ошибок.
Опираясь на эти два положения, Кульман отвергает проверочную диктовку как метод обучения орфографии, «так как ученики при диктовке упражняются в сущности в неправильном письме», а принципу же предупреждения ошибок, который он формулирует так: «Никогда, по возможности, не допускай своих учеников ни видеть ошибок, пи делать их», он придает роль основного критерия для оценки приемов обучения. Вопрос о том, что опыты Лая, прежде всего, утверждают универсальность метода списывания-копирования и тем самым сводят к нулю значение грамматики, Кульман обходит молчанием и тут же путем простой ссылки «на особенность русской орфографии» приходит к выводу о недостаточности одного списывания и утверждает, что, наряду со списыванием, допустимы и иные приемы обучения..., где элемент сознательности пролагает пути для быстрого распознавания различных орфограмм. Поэтому он рекомендует и «объяснительную» диктовку, и «зрительный диктант». Даже «научно обоснованному» списыванию сплошного текста предлагает «предпослать урок, посвященный осознанию того или другого орфографического правила и построенный таким образом, чтобы ученики сами это правило установили». В таких утверждениях сказывается уже практический опыт Кульмана, делающий для него невозможным слепое следование теории, противоречащей фактам обучения. Но предложить какую-нибудь цельную теорию он не может, а идти за «устарелой» концепцией грамматической школы — не хочет.
Начав с доводов «науки», Кульман в конце концов, чувствуя свою теоретическую беспомощность, рекомендует учителям в выборе методов следовать... своему педагогическому чутью. «Педагогическое чутье и такт подскажут учителю в каждом отдельном случае, к какому сочетанию приемов следует прибегнуть».
Таким образом, Кульман в одних своих положениях полностью опирается на механистические концепции, отрицающие значение словесно-логического мышления, другие же методические рекомендации строит на противоположном принципе — сознательном усвоении правописания, не замечая несовместимости этих исходных точек зрения.
А. Д. Алферов в дискуссии об орфографии совершенно правильно считает центральным вопросом вопрос о «механической», или «сознательной», природе обучения. Он пишет по этому поводу: «Первое, на чем приходится остановиться при попытке выяснить этот вопрос о наилучших приемах обучения, — это необходимость отдать себе отчет, нужно ли стремиться к тому, чтобы орфография усваивалась только механически или и сознательно. Ввиду того, что за последнее время особенно часто настаивают на механическом обучении правописанию, остановимся несколько за и против обоих принципов обучения в деле орфографии» Ч Дальше он указывает на общепедагогическое значение сознательного отношения и, подобно Кульману, на целый ряд отделов в орфографии, «в которых одной привычкой нельзя обойтись». Но так как, по его мнению, «всякое механическое усвоение становится автоматическим и как всякое автоматическое усвоение оно отличается прочностью, долговременностью и безошибочностью», ему кажется, что «больше надежды можно возлагать на механическое усвоение».
Однако как практик он сознает и те преимущества, которые приносит принцип сознательности. Поэтому в заключение Алферов приходит к выводу, что «правильнее было бы использовать в этом деле выгоды того и другого начала». Или, как он пишет дальше: «Нам лично кажется, что такое обращение к зрению, слуху, мускульнодвигательному чувству и сознанию, — действительно наиболее целесообразный прием».
Такая «теория» развязывает руки автору, когда он соответственно с ней намечает отдельные приемы работ. Удобна она и для разрешения традиционного спора между диктантом и списыванием. Алферов в этом отношении идет дальше Кульмана, который, защищая преиму-
1 А. Алферов, Русский язык в средней школе, М., 1911, стр. 125—128.
щества «объяснительного» диктанта, осуждал проверочный.
А. Д. Алферов являлся одним из немногих специалистов своего времени, которые считали целесообразной формой диктовки не только объяснительную, но и проверочную. Он хорошо понимает, что защита проверочного диктанта в корне противоречит данным так называемой экспериментальной педагогики, на которые он же опирается, аргументируя эффективность описывания. Но тем не менее Алферов полагает, что именно вопрос о диктантах представляет тот случай, «когда практика преподавателя может и должна вносить некоторые поправки в теоретические указания хотя бы и весьма авторитетных психологов». И поэтому Алферов выступает в защиту диктанта как активного метода, при котором ребенок поставлен перед необходимостью «решать задачи».
Таким образом, мы видим, что Алферов, как и Кульман, руководясь «чутьем» педагога и переходя от теоретических обоснований к практике, начинает защищать методы, психологическая природа которых в корне противоречит рекомендациям сторонников Лая и Меймана.
Если теперь подытожить взгляды «умеренных» сторонников этого направления, то можно отметить следующие характерные черты:
1. Признание важнейшим методом обучения списывание в полном соответствии с доказательствами «экспериментальной педагогики».
2. Полное отрицание в связи с этим пользы для обучения проверочной диктовки (исключение составляет Алферов).
3. Противодействие безоговорочному отрицанию роли правил.
4. Попытки эклектически преодолеть механистические теории, рядополагая отдельные виды восприятий (зрение, слух, моторика) и «сознание».
5. Полное единодушие в признании универсальности принципа «предупреждения ошибок» как основного критерия методов обучения орфографии.
Для психолога из последующего развития идей анти-грамматического направления интересна теория так называемого «сознательного списывания», выдвижение которой связано с именем В. А. Флерова, известного
4 Д. II. Богоявленский
49
методиста, составителя весьма популярных в свое время букварей, книг для чтения и методических пособий.
Флеров наиболее полно изложил свои идеи в докладе на Первом всероссийском съезде преподавателей русского языка средней школы, состоявшемся в Москве в 1917 г. (декабрь, январь) *,
В начале доклада «Сознательность письма как принцип обучения» Флеров делает признание, что применение в школе списывания с готового текста, практиковавшегося в осуществление принципов «экспериментальной школы», не дало ожидаемых положительных результатов «в смысле выработки навыка писать-мыслить, не думая о правилах письма». Это произошло, по мнению Флерова, потому, что «графическая наглядность не устраняет вопиющего зла современной постановки письма — письма механического, бессознательного».
Можно было бы думать, что подобная непригодность методов должна потребовать пересмотра той теории, на которой они основаны. Однако Флеров не делает таких выводов. В своей книжке, к которой он отсылает читателей 1 2, он выступает как убежденный сторонник этой теории, обоснованной «научными авторитетами». Мы находим там положения, уже известные по работам других антиграмматистов. «Надо, — пишет Флеров, — учить детей всматриваться в правильные начертания слов и запоминать их». Это необходимо потому, цитирует он дальше Меймана, что «при письме главное внимание должно быть обращено на выработку точных зрительных представлений о формах и на возможно более непосредственное автоматическое соединение этих представлений с движениями, выполняемыми при письме».
Таким образом, не может быть сомнений в том, что Флеров полностью разделял механистические взгляды на природу письма Меймана и Лая. О какой же «сознательности» в таком случае может идти речь?
Об этом мы узнаем из следующего тезиса Флерова:
«Рядом с принципом графической наглядности в обучении правописанию должен быть проведен принцип идеографической наглядности, или сознательности пись
1 Тезисы доклада В. А. Флерова, стр. 14.
2 В. А. Флеров, Наглядность письма в освещении современной психологии, СПб., 1912, стр. 13.
ма, в смысле осознания содержания орфограмм. Ни одного записываемого слова без живой мысли». Как следует из дальнейшего, под неточным выражением «содержание орфограмм» и под мудреной «идеографической наглядностью» Флеров имеет в виду понимание смыслового содержания речи. Таким образом, становится ясным, что «принцип сознательности», провозглашенный торжественно как поправка к «научной» теории механистов, по существу подменяет сознательное отношение к орфографической и грамматической сторонам языка, так сказать «орфографическую сознательность» (о которой шла речь в школе Ушинского), сознательностью смысловой, т. е. пониманием содержания списываемого текста.
Очевидно, что сознательность «орфографическая» и смысловая психологически совсем не тождественны. Понимание смысла речи в одинаковой степени необходимо и при чтении, и при письме. В этом смысле напоминание Флерова о важности этой стороны обучения полезно. Для обучения орфографии, однако, специфично осознавание не только того, что пишется, но и того, как пишется. Принцип же «идеографической» сознательности этого вопроса не затрагивает. Можно признавать важность понимания смысла записываемого текста, но оставаться в то же время на позициях антиграмматистов.
Чтобы ни у кого не возникало сомнений по этому поводу и для того чтобы предупредить применение в школе приемов, подобных «орфографическим задачам», Флеров предлагает (а съезд принимает) следующий дополнительный тезис: «Всякого рода упражнения, носящие характер искушения или испытания, напр., в виде пропуска сомнительных букв и т. п., нежелательны» L
Таким образом, мы видим, что выдвижение принципа «идеографической» сознательности не внесло и не могло внести ничего оригинального в представление о психологии орфографического навыка, свойственного антиграмматистам.
Однако о нем стоило упомянуть, поскольку провозглашенный Флеровым принцип «сознательности» оказал не только положительное влияние тем, что обратил снова внимание педагогов на смысловую сторону письма, но
1 Материалы Первого всероссийского съезда преподавателей русского языка средней школы, М., 1917, стр. 28.
и внес немало путаницы в их умы употреблением термина «сознательность» именно в этом смысле.
Смешение понятий «орфографической» и смысловой сознательности практически привело к смешению орфографических упражнений с упражнениями логическими и упражнениями по развитию речи. Считалось многими, что если упражнение в списывании поставлено так, что требует понимания логического смысла списываемого текста, то тем самым такое упражнение полностью отвечает принципу сознательного обучения орфографии. Во многих учебниках и советского периода получили, например, большое распространение так называемые упражнения на списывание со вставкой пропущенных слов, причем эти слова в готовом виде печатались под текстом упражнения в отделе «Для справок», откуда ученик должен был выбирать подходящее по смыслу слово и вставлять в текст. Как легко заметить, такое упражнение, действительно, предупреждает бессмысленное списывание, но не ставит перед учеником никакой специальной орфографической задачи: пропущенные слова он может скопировать, не думая об орфографии, в полном соответствии с рецептами антиграмматистов. А между тем авторы учебников и методик, рекомендующих упражнения такого рода, не сомневались, что они реализуют на практике принцип сознательного обучения орфографии.
* * *
Если обозреть теперь те главные психологические проблемы, которые возникали в истории методики вплоть до советского периода, то естественно прийти к выводу, что все они связаны с одной общей проблемой: психологией формирования орфографического навыка. В зависимости от того или иного представления о психологической природе этого процесса решались по-разному и вопросы методики.
Психологические взгляды сторонников грамматического и антиграмматического направления представляются в этом отношении как полярно противоположные. Первые видят в навыке «разумное», сознательное начало, вторые подчеркивают его исключительно механическую природу, понимая под этим независимость образования навыка от мышления. Ассоциация между слуховым или зрительным восприятием (или представлением) целого
слова и соответствующими реакциями письма, по мнению антиграмматистов, носит единичный, не обобщенный характер и, по сути дела, как бы мы сказали теперь, остается преимущественно первосигнальной. Вмешательство в процесс образования ассоциаций мыслительных операций признается вредным или по крайней мере ненужным. Подобной упрощенной психологической теории соответствует и стандартность приемов обучения. Так как «доказано», что для орфографии исключительное значение имеет зрительная память, то универсальным методом обучения признается списывание с правильных образцов при недопущении восприятия искаженного образа слова. Естественно, что при подобных воззрениях на психологическую природу орфографических навыков знание грамматики становится излишним.
Ушинский, наиболее полно разработавший психологические основы грамматического направления, представлял этот процесс иначе. Он не сомневался в том, что в основе выработки навыков лежат связи между восприятием слова и движениями письма. За связью «образов» и «представлений» он видел материальные, физиологические связи «рефлективного» порядка.
Вмешательство «рассудка» в процесс образования этих связей не тормозит, по его мнению, процесс автоматизации, а ускоряет его. Перевод «механических комбинаций» в рассудочные систематизирует ассоциации, приводит их в «стройные ряды».
В этом процессе он отмечает особую роль слова, однако оставляет это положение недостаточно развернутым. Процесс образования навыка предполагает органическую связь сознательных процессов с «механическими». Из такого понимания психологии навыка Ушинский делает вывод о важном значении в обучении грамматических знаний и орфографических правил, «руководящих» образованием навыка. «Бесконечные» упражнения необходимы, но они не должны заключаться в механическом повторении акта восприятия слова и его записи. Характер упражнений должен обеспечивать возможность постепенного нарастания самостоятельности учеников в применении изученных правил, причем форма упражнений, различная роль зрительных или слухо-речедвигательных восприятий определяются языковыми особенностями орфограмм.
Таким образом, выполнение упражнений рассматривается Ушинским и его последователями как сознательная деятельность, в процессе которой вырабатывается целый ряд умений соотносить орфографические действия с «отчетливым знанием грамматических форм», умений, переходящих затем в навыки. Такой теории упражнений был чужд эклектизм, характерный для взглядов тех методистов, которые придерживались так называемой теории «факторов» (например, Зимницкий). Ошибочность этой «теории» заключалась в том, что ее сторонники рассматривали процесс обучения как механическую сумму влияний «слуха, зрения, моторики и сознания». Мышление при таком понимании не включалось в саму деятельность ученика, качественно перестраивая ее, а протекало как бы параллельно с ней и потому могло, по произволу автора, то прибавляться к «сумме» факторов, то вычитаться из нее. Естественно, что подобные эклектические построения, основанные на идеалистическом противопоставлении сознания и деятельности, не могли дать научного объяснения изучавшимся фактам.
Как мы видели, в педагогической системе взглядов Ушинского важная роль отводилась связи обучения с непосредственным языковым опытом ребенка.
Этот опыт выступал для Ушинского в качестве «словесного инстинкта», или «чутья языка». Несмотря на то, что анализ этих понятий не получил у него должного завершения, тем не менее постановка вопроса о важной роли в обучении грамматике подобных практических знаний о языке сама по себе свидетельствует о глубине психологических взглядов Ушинского и его последователей на процесс усвоения грамматических знаний.
Глава II
ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ УСВОЕНИЯ ОРФОГРАФИИ В СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ
Развитие методических идей в области орфографии в советский период можно разделить на два этапа — до и после исторических постановлений партии и правительства о школе в 1931 и 1932 гг.
Первый этап, как известно, характеризовался господством в школе всякого рода прожектерских идей, вроде так называемой «комплексной системы преподавания» и «метода проектов», в основе которых лежала антиленин-ская идея постепенного отмирания школы. Систематическое изучение грамматики, как и других теоретических дисциплин, было нарушено. Те или другие знания вводились в школу лишь постольку, поскольку они были необходимы для «практических дел». Орфографию ученики изучали также от случая к случаю, на безграмотность письма внимание обращалось лишь постольку, поскольку ошибки ученика снижали «социальную значимость» письма. Орфографические упражнения были заброшены, так как «надо с самого начала не бояться утонуть в море орфографических ошибок — бросить ученика в свободное изложение своих мыслей, наблюдений» (Афанасьев). Естественно, что при таких взглядах на обучение нельзя было говорить о какой-либо связи орфографических умений с грамматическими знаниями.
Постановления партии и правительства о школе разоблачили вредную антиленинскую теорию отмирания школы и привели к коренному изменению всей школьной системы обучения. Перелом наступил и в области преподавания орфографии. В школу был введен систематиче
ский курс грамматики, параллельно с грамматикой вводились и орфографические правила, закрепляемые специальными орфографическими упражнениями. Борьба за грамотное письмо сделалась важнейшей задачей школы. В советской дидактике, освобожденной от пут ложных «теорий», прочно утвердилось требование строить обучение на сознательной и активной деятельности учащихся.
В советской психологии появились исследования, посвященные изучению психологических основ обучения орфографии, резко критикующие механистические и идеалистические «теории» буржуазной психологии.
Первый послереволюционный период методики орфографии с полным правом можно представить как непосредственное продолжение развития тех тенденций, которые были характерны и для предреволюционных методических взглядов.
Для этого периода было характерно дальнейшее развитие тех тенденций во взглядах на обучение орфографии, которые обнаружились в последние годы, непосредственно предшествующие Октябрьской революции. На съезде словесников, состоявшемся в начале 1917 г., отчетливо вскрылось разочарование многих его участников в тех методах обучения, которые основывались на анти-грамматических теориях. В первые же годы послереволюционной жизни школы противоречия во взглядах грамматистов и антиграмматистов стали обнаруживаться все с большей очевидностью, и вскоре вокруг вопроса о роли грамматики в усвоении орфографии вновь разгорелась ожесточенная борьба.
Ряд методистов (П. О. Афанасьев, В. А. Малаховский, Н. С. Державин и др.) еще продолжал развивать идеи антиграмматистов. Так, например, Афанасьев, автор распространенных методик русского языка, в 1925 г. в защиту своих взглядов приводил все те же знакомые нам аргументы теоретиков антиграмматизма. Он ссылался на данные «психофизиологии письма, подтвержденные опытами Лая», охотно цитировал Томсона, говорящего о вреде изучения правил, приводил доказательства Шереметевского против диктанта и приходил в концов концов к выводу, что не следует придавать большого значения знанию правил, утверждая, что «наиболее пригодным средством для усвоения правописания оказывается списывание».
В итоге Афанасьев сформулировал следующие, по его мнению, «прочно установленные и научно доказанные» положения:
«1. Диктант слуховой, особенно проверочный (названный Шереметевским «карательным»), ни в коем случае не может служить средством изучения правописания.
2. Бесспорно установленным нужно считать принцип предупреждения ошибок, т. е. недопускание неверных зрительных и рукодвигательных ощущений».
В оценке роли правил Афанасьев занимал такую же половинчатую, колеблющуюся позицию, которая уже знакома нам по взглядам «умеренных» противников грамматической теории. По этому поводу он писал:
«3. Не следует придавать большого значения знанию правил правописания. Но, с другой стороны, было бы противоположной крайностью и отрицать, как это склонны делать некоторые методисты, всякое значение за знаниями правил правописания».
Но вслед за этим он формулировал положение, исключающее это признание, хотя и скромной, но положительной роли правил.
«4. «Писать можно научиться только посредством правильного писания», говоря афоризмом Томсона. Но исключительно правильное писание возможно только при списывании. В конце концов, таким образом, наиболее пригодным средством для усвоения правописания является списывание» Ч
Если Афанасьев признавал за правилами хотя и скромное, но положительное значение, то В. А. Малаховский, полностью становясь на позиции Томсона, считал, что правила приносят обучению только вред1 2.
Показательным для характеристики методических взглядов этого первого послереволюционного периода являются резолюции некоторых учительских собраний, конференций. В качестве примера обратимся к резолюции VI Всероссийской конференции по ликвидации неграмотности, происходившей в 1927 г.
В той части резолюции, которая посвящена вопросам методики письма, говорится, между прочим, следующее:
1 П. О. Афанасьев, Краткая методика родного языка, Гиз, 1925, стр. 72.
2 В. А. М а л а х о в ск и й, Очерк по методике русского языка, Гиз. 1928.
«8. Для подведения учащихся к грамотному письму (относительно) в школе малограмотных нужны приемы наиболее быстрые и действительные. Заучивание правил не должно иметь место в школах малограмотных (проф. Томсон). Правила даются не в грамматической терминологии, а как соответствующий вывод на основании наблюдения над текстом...
12. Основной принцип приобретения орфографических навыков — недопущение ошибок — «Писать можно научиться только посредством правильного писания» (Томсон, Шапошников).
13. Одно из средств недопущения ошибок — списывание с правильного текста (Лай)» L
Приведенные примеры в достаточной мере характеризуют психологические взгляды некоторой части методистов. Мы не находим в них ничего принципиально нового по сравнению с уже известными нам взглядами сторонников антиграмматического направления: полное отрицание положительной роли грамматики и «частичное» признание грамматики, списывание как основной универсальный метод обучения и недопущение неверных зрительных образов слов как критерий для выбора письменных упражнений. В основе таких взглядов по-прежнему лежали психологические теории, по которым усвоение орфографии представлялось как процесс постепенного накопления «зрительных образов», т. е. запоминание правописания отдельных слов, поддерживаемое повторным зрительным восприятием и моторно-двигательными реакциями письма.
Но наряду с подобными взглядами в рассматриваемый период существовали и другие точки зрения. Двадцатые годы нашего столетия отмечены зарождением или, вернее, восстановлением теорий обучения орфографии, признающих основой обучения неразрывную связь орфографии с грамматикой. По свидетельству методистов (Н. Каноныкин, А. Текучев и др.), почетную роль в возрождении грамматических теорий обучения орфографии сыграл А. М. Пешковский. В своей работе «Правописание и грамматика в их взаимоотношениях в школе» 1 2 он на основе ряда лингвистических соображений и психоло-
1 Материалы VI Всероссийской конференции по ликвидации неграмотности, изд-во «Долой неграмотность», 1928, стр. 87.
2 А. М. Пешковский, Сборник статей, Гиз, М., 1925, стр. 105.
гических наблюдений приходит к выводу о необходимости обучение орфографии связывать с изучением грамматики.
Остановимся на психологической аргументации его основных мыслей.
Прежде всего Пешковский, как в свое время и Ушинский, показывает несостоятельность одного из традиционных для своего времени приемов доказательства механической природы образования навыка — ссылки на характер конечного результата этого процесса. «Очень часто, — пишет Пешковский, — умалители роли грамматики в обучении правописанию ссылаются на то, что мы, взрослые, когда пишем, не думаем о «правилах». Но ведь и все привычные действия бессознательны и в то же время всей их бессознательности предшествовало в свое время сознательное усвоение, нередко при помощи правила. Когда едешь на велосипеде, совершенно не думаешь, что надо поворачивать руль в сторону падения, и даже не замечаешь своих минимальных поворотов. Однако, когда учишься, необходимо узнать это правило» Выставив такое положение (по психологической терминологии о вторичной автоматизации навыка), Пешковский выдвигает на обсуждение вопрос, который можно сформулировать следующим образом: означает ли усвоение правописания путем запоминания каждого в отдельности слова полную независимость от работы мысли?
Вначале он признает, так же как Ушинский, что, наряду с обучением через правила, возможен и другой путь формирования орфографических навыков, путь практический, без сознательного обучения и применения правил. Он, так же как и Ушинский, писавший, что при таком способе обучения каждое новое слово должно ставить в тупик такого грамотея, указывает на ограниченные возможности чисто практического обучения, на неэкономичность такого обучения и т. д. Но помимо подобных педагогических соображений, приводимых Пешковским в защиту усвоения орфографии на грамматической основе, автор стремится показать, что в основе научения орфографии чисто практическим путем лежит отнюдь не запоминание графической формы каждого слова, а обобще-
1 А. М. Пешковский, Сборник статей, Гиз, М., 1925, стр. 34.
59
Н'ия языкового порядка, образованные, как он выражается, «в подсознательной сфере».
И в этом отношении Пешковский сходится с Ушинским, подчеркивающим, как мы видели, роль чутья, инстинкта языка.
Но Ушинский, во-первых, не делал попыток раскрыть более конкретно это понятие; во-вторых, не применял данное понятие к обучению орфографии. Пешковский же делает шаг вперед в обоих отношениях: он и квалифицирует подобное чутье как особое обобщение, и рассматривает его роль в отношении усвоения орфографии.
Выдвигая свое положение об обобщающем характере деятельности и в случае так называемого практического обучения, обучения без правил, Пешковский сопровождает свое утверждение рядом весьма тонких психологических наблюдений.
Он рассуждает следующим образом:
.«Возьмем, например, хотя бы то же правило об i дореволюционной орфографии и представим себе, что какой-либо учитель старого времени захотел бы (по приказу или экспериментально) выучить учеников правильно употреблять эту букву, не давая правила. Что произошло бы? Можно с уверенностью сказать, что прежде всего процесс усвоения соответствующих орфограмм страшно замедлился бы, и ошибки на i заняли бы столь же почетное место во всех классах гимназии, как ошибки на 4 (фактически ошибки на i исчезали в первую очередь и уже у первоклассников были немыслимы). Далее можно думать, что в случаях, поддержанных грамматическими ассоциациями (хотя бы и подсознательными), эти ошибки исчезли бы раньше и некоторое время ученики писали бы син/й, син/е, чтенге, в чтенш, но еще прием, приурочивать, влияние, миллион L
Из этих случаев слова с приставкой при усвоены были бы опять-таки раньше, чем слова без всякой грамматической аналогии, и такие ошибки, как миллион (рядом, конечно, с обратного типа ошибками: старгна, мглый), дотянулись бы, вероятно, до университета. В отдельных
1 П р им е ч а и ие. По правилам дореволюционной орфографии «I» писалось перед гласными и й. В сложных словах перед гласной, начинающей второе слово, писалось и (ниоткуда); лишь приставка при всегда писалась через i. (Д. Б.)
случаях отдельные ученики сами открывали бы закон употребления I, и эти ученики уже не делали бы ошибок на эту букву... Но это уже было бы обучением по правилам, только скрытым учителем и открытым под давлением горькой нужды самими учениками»
Пешковский противопоставляет здесь традиционному «запечатлению образа слова» грамматические ассоциации, возникновение которых повышает и ускоряет обучение. Обобщения грамматически сходного материала, лежащие в основе таких ассоциаций, иногда осознаются детьми, «открывающими» правило. Таким образом, Пешковский в практическом обучении усматривал ту же интеллектуальную основу, что и при обучении по правилам. В другом месте Пешковский высказывается по этому поводу совершенно определенно. «Дети, — пишет он, — не знающие ничего ни о прилагательном, ни тем менее о родительном падеже его, могут приучиться писать формы доброго, синего и т. д. через г, а слова логово, зарево, здорово, заново и т. д. через в. Очевидно, у них представление о родительном падеже единственного числа прилагательного в подсознательной сфере образовалось» 1 2.
Таким образом, по Пешковскому, известные из жизни случаи усвоения правописания без изучения грамматики и орфографических правил не служат еще доказательством того, что процесс учения сводится к простому запоминанию каждого отдельного слова. Он полагает, что в таком случае, вопреки способу обучения, у детей под влиянием практики письма складываются свои «правила», остающиеся чаще всего в «подсознательной сфере».
Если не считать неудачного термина «подсознательный», некритически заимствованного Пешковским из распространенных в то время идеалистических психологических теорий, существо гипотезы Пешковского лишено какого-либо налета мистицизма.
По Пешковскому, такие «подсознательные обобщения» являются результатом предварительной мыслительной деятельности учеников, и возможность их возникнове
1 А. М. Пешковский, Вопросы методики родного языка, лингвистики и стилистики, Гиз, М., 1930, стр. 35—36.
2 А. М. Пешковский, Сборник статей, Гиз, М., 1925, стр. 40.
ния обусловливается объективными причинами: характером тех или иных языковых фактов (прежде всего типичностью и регулярностью усваиваемых орфограмм) и практикой письма.
Пешковский указывает на ограниченность таких «подсознательных» обобщений. Он пишет, что, помимо огромной орфографической практики, требующейся для их выработки, необходима, как выражается Пешковский, «сравнительная прозрачность данного грамматического явления». Он приводит ряд примеров, где, по его мнению, такие обобщения могут образовываться лишь с большим трудом или совсем не образовываться, и объясняет это языковыми особенностями таких орфограмм.
Как мы указывали выше, Ушинский и его последователи считали возможным формирование навыка двумя психологически резко отличающимися путями: «механическим» и «сознательным», и выбирали для обучения последний путь, основываясь главным образом на соображениях педагогического характера. Пешковский же считал, что процесс формирования проходит фазу отвлечения и обобщения (если факты языка допускают это), «подсознательную» при практическом методе обучения и сознательную при обучении посредством грамматики.
Таким образом, в теорию орфографического навыка, разработанную Ушинским и его последователями, вносится существенное дополнение.
С подобным пониманием Пещковским психологической природы формирования орфографических навыков были связаны и его взгляды на роль в этом процессе грамматических знаний.
Он считал, что ограниченность «подсознательных обобщений» делает их педагогически неполноценными. Необходимо поэтому «подкрепить подсознательные ассоциации грамматической работой».
«Грамматика же (в своей описательной части), — писал он, — как раз и занимается переводом подсознательных языковых явлений в сознательные. Другими словами, грамматика как наука производит коллективными силами как раз то, что каждому надо проделать индивидуально» 1.
1 А. М. П'е ш к о в с к и й, сб. «Вопросы методики родного языка, лингвистики и стилистики», Гиз, М.—Л., 1930, стр. 12.
Из подобных теоретических предпосылок Пешковский приходит к выводу о необходимости восстановить в правах преподавание в школе грамматики. «Окончательный мой вывод: полная необходимость обучения грамматике при обучении орфографии».
Пешковский не ограничился лишь общим утверждением о необходимости грамматики. В дальнейших высказываниях он касается также вопроса, в чем же именно заключается положительная роль грамматики.
Решение этого вопроса Пешковский связывает с тем значением, которое он придавал семантической стороне грамматических явлений. Однако раньше, чем излагать взгляды по этому поводу Пешковского, следует дать краткую справку о взглядах филологов на языковую природу русской орфографии в связи с вопросами о ее реформе.
В свое время еще В. К. Тредиаковский предлагал в орфографии руководствоваться исключительно фонетикой и «писать по звонам». Я. К. Грот видел задачу исследователя орфографии в установлении того, «насколько верно и точно звуки могут быть изображены придуманными для них общеупотребительными начертаниями» *, Ф. Е. Корш называл орфографию «общедоступной передачей звуков», а Р. Ф. Брандт, настаивая на фонетической реформе орфографии, объявлял существующую орфографию лженаучной и утверждал, что если «мы пишем вместо того, чтоб говорить, следовательно, естественно писать так, как говорят». Для достижения же подобной, по его мнению, идеальной орфографии необходимо «провозгласить положение, чтоб каждому звуку языка соответствовала определенная буква — и только одна, а не несколько, каждой же букве — определенный звук» 2. Все трудности орфографии объяснялись им лишь несоблюдением этого правила и «мудрствованием грамматистов», проявляющемся в «засорении» орфографии случаями этимологического написания, противоречащими произношению.
Из этих высказываний, типичных для «фонетистов», явствует, что фонетическая теория правописания сводила
* Я. К- Грот, Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого доныне, СПб., изд. 2-е, 1876.
3 Р. Ф. Бр а н дт, О лженаучности нашего правописания, 1901, стр. 3.
исследование природы русской орфографии в основном к выяснению отношений между звуком й буквой, оставляя в стороне семантическую сторону письма.
Подобная тенденция вызвала в среде лингвистов сильное противодействие. Одним из наиболее принципиальных критиков ее был А. И. Томсон. В противовес фонетистам он подчеркивал, что основная задача письменной речи заключается не в копировании звуков, а в передаче значений мысли. Поэтому в проблеме «точности или неточности передачи звуков речи не может быть принципиального вопроса... С научной точки зрения оправдывается всякое письмо, посредством которого мы безошибочно передаем наши мысли» Ч Тем более, что, несмотря на общность целей устной и письменной речи, «письмо в значительной степени такой же самостоятельный язык, как устная речь, от посредничества которой даже звуковое письмо более или менее эмансипируется» 1 2.
Анализируя те средства языка, которые служат для выражения мысли, Томсон особо выделяет морфологические части слов («морфологические принадлежности»), которые являются кратчайшими единицами речи, носителями определенных значений.
Руководствуясь этими соображениями, Томсон, в противовес фонетическому принципу письма, выдвинул принцип морфологический, согласно которому правописание определяется в конечном счете ассоциациями между начертаниями и значениями морфологических частей слова. «Как представление об отдельном звуке или комплексе звуков, напр., слоге или ряде слогов, вызывает соответствующие фонетические единицы начертаний, так и значения морфологических частей слов вызывают вместе с звуковыми представлениями их и соответствующие морфологические единицы начертаний. В первом случае единицами письма будут разные буквосочетания или отдельные буквы, во втором — начертания морфологических частей. Ввиду этого я назвал первый способ или
1 А. И. Т о м с о н, К теории правописания и методологии преподавания его в связи с проектируемым упрощением русского правописания, «Летопись историко-филологического об-ва при Новороссийском университете», т. XI, Одесса, 1904, стр. 85—86.
2 T а м же, стр. 133.
принцип писания — фонетическим, второй — морфологическим» 1.
При этом Томсон считал, что для грамотного человека звуковая сторона морфологической части является несущественной при писании, а «существенными являются только значения и графические изображения их». Отсюда вытекало требование Томсона к правописанию: «Нужно, чтобы одинаковые начертания морфологических принадлежностей слов всегда обозначали только такие морфологические принадлежности, которые имеют одинаковые значения» 1 2.
Работы Томсона справедливо считаются в современной литературе первыми, указавшими на важнейшее свойство русской орфографии — ее морфологичность, заключающуюся в принципе единообразного написания одинаковых по значению морфем языка. В последующие годы морфологический принцип утвердился во мнении почти всех без исключения лингвистов как наиболее существенный для русской орфографии, и морфологичность письма стала доказательством необходимости строить обучение орфографии на грамматических основах. Но Томсон как лингвист разошелся во мнениях с Томсоном как методистом. Он не сделал по отношению к орфографии тех выводов, которые естественно вытекали из его лингвистических исследований. Он не смог преодолеть неверной теории запоминания целых образов слов и, как мы уже указывали в первой главе, вошел в историю методики как крайний сторонник антиграмматического направления. Поэтому новаторская идея Томсона о значении семантической стороны языка для правописания осталась методически не использованной.
Заслуга Пешковского заключается, по нашему мнению, именно в том, что он, разделяя основные мысли Томсона о роли значений в языке, развил эти идеи, применил их к обучению орфографии и сделал попытку психологически обосновать влияние грамматических знаний на усвоение орфографии.
1 А. И. Томсон, К теории правописания и методологии преподавания его в связи с проектируемым упрощением русского правописания, «Летопись историко-филологического об-ва при Новороссийском университете», т. XI, Одесса, 1904, стр. НО.
2 Т а м же, стр. 166.
5 Д. Н. Богоявленский 65
Основная мысль Пешковского, как и Томсона, заключается в том, что характерной особенностью всякой грамматической формы, каждой морфемы является наличие в них двух сторон: внешней звуковой и внутренней значащей. В языке эти две стороны слиты воедино, и потому каждая грамматическая форма представляет собой, как выражался Пешковский, звукозначение.
Поэтому истинное грамматическое знание состоит в понимании отношений между грамматическими значениями и их звуковой формой. Пешковский осуждал тот метод грамматического разбора, когда ученику предлагается определять грамматические формы отдельно от их значений или наоборот. «Мы считаем, — писал он, — что именно в установлении связи между значениями и звуками должна состоять работа ученика» L Он считал одним из важнейших вопросов методики грамматики выяснение того пути, по которому следует вести преподавание, чтоб эту связь сделать понятной для учеников: идти ли от значения к звукам или от звуков к значению. Пешковский пишет, что, создавая свой учебник «Наш язык», он строил его с таким расчетом, чтобы ученик при анализе грамматических фактов постоянно шел от звуков к значениям, так как именно этот путь он считал наиболее доступным для ребенка 1 2.
Подобное понимание существа грамматических явлений определило понимание Пешковским вопроса о связи грамматических знаний и орфографических умений. Он, так же как и Томсон, считал, что природу русского правописания нельзя свести к отношению между буквами и звуками, что в основе правописания лежит морфологический принцип единообразного написания одних и тех же' значащих частей слова. Это свойство орфографии отражается и на процессе письма. «Пишущий и молча читающий не должны воспроизводить в своем воображении соответствующего звука в его живом трепете, — писал Пешковский, — они либо переживают это звучание в крайне скомканном, зачаточном, атрофированном виде, либо со
1 А. М. Пешковский, Школьная и научная грамматика, изд. 2-е, М., 1918, стр. 61.
2 А. М. Пешковский, Методическое приложение к книге «Наш язык», Гиз, 1923.
всем не переживают его, т. е. прямо ассоциируют мысли -и значения с буквами (курсив автора.—Д. Б.)»1.
В другом месте он выражается еще категоричнее: «Правописное искусство всецело зиждется на прочности зрительных и рукодвигательных образов слов со значениями языка» 1 2.
Поскольку грамматика, по Пешковскому, изучает отношения между значениями и формами языка, постольку знание и понимание грамматических фактов не может не оказывать своего положительного влияния на обучение орфографии тем, что «подсознательные грамматические ассоциации», возникающие у учеников даже без знакомства с грамматикой, превращает в осознанные правила правописания.
Пешковский далее указывал, что грамматические значения не однородны по своему характеру, и потому их усвоение — процесс различной сложности. С одной стороны, он выделял реальные значения корней слов, усвоение которых, по его мнению, не требует грамматических знаний, а опирается исключительно на установление ассоциаций между образами слов и наглядными представлениями предметов и явлениями реального мира. С другой стороны, усвоение правописания других морфем (префиксы, инфиксы, суффиксы, флексии и служебные слова) требует отвлечения зрительного и рукодвигательного образа их от реальных образов и связи с тем, что в грамматике называется формальным, или грамматическим значением. А между тем, писал Пешковский при обсуждении методических приемов обучения, «нередко упускается из вида кардинальный факт: разнородность того, с чем приходится связывать образы слов, разнородность самих значений языка». «Я имею в виду деление этих значений на реальные и грамматические. Это два ряда образов, психологически противоположных друг другу» 3.
В этих высказываниях мы видим, во-первых, то, что сближает взгляды Пешковского с Томсоном: это тот анализ грамматических фактов, который подчеркивает исключительную важность их семантической стороны. Но если Томсон не делает из этого выводов по отношению к
1 А. М. Пешковский, Реформа или урегулирование, журн. «Русский язык в советской школе», 1930, № 3.
2 А. М. Пешковский, Сборник статей, Гиз, М., 1925, стр. 34.
3 Т а м же, стр. 34.
методике грамматики, то Пешковский формулирует их достаточно определенно: цель обучения грамматике состоит в выявлении отношений между звуками и значениями. Если Томсон не видел связи между обучением грамматике и орфографии, то Пешковский основу взаимоотношений грамматики и орфографии усматривал именно в том, что усвоение грамматических значений языка является тем средством, благодаря которому «подсознательные грамматические ассоциации» становятся осознанными. И, наконец, если Томсон, говоря о методах обучения орфографий, непоследовательно оставался на позициях теории «образов слов», то Пешковский предлагал варьиро-вать эти методы в зависимости от характера значений, лежащих в основе написаний тех или других морфологических частей слова. Последнее положение Пешковского приобретает особое значение потому, что оно указало путь для разработки дифференцированного подхода к обучению орфографии, вопроса, который, как мы увидим в дальнейшем, стал предметом методических Изысканий позднейших Советских Методистов.
Таковы основные положения Пешковского, характеризующие его понимание некоторых вопросов психологии обучения орфографии. Их новизна заключается в том, что Пешковский не только вновь возродил теорию грамматистов о сознательной природе орфографического навыка, опирающегося на грамматические обобщения, но попытался вскрыть и тот характер отношений, который при орфографическом письме существует между усвоением грамматики и орфографии. Основу сознательного обучения орфографии он видел в знании грамматической структуры языка, в понимании значений и функций морфем языка и в установлении ассоциаций между значениями и графическим образом морфем. Несомненно, Пешковский углубляет и конкретизирует грамматическую теорию орфографии Ушинского, так как отвечает на вопрос, в чем именно заключается роль грамматики для сознания пишущего, — на который грамматисты не давали ответа.
Однако, как известно, если Пешковский в области лингвистического исследования создал стройную систему взглядов, то методические взгляды его остались мало систематизированными. Отсюда вытекает противоречивость и ошибочность некоторых из них.
Прежде всего следует отметить, что Пешковский недооценивал роли устной речи в образовании тех «подсознательных» обобщений, которые, по его мнению, оказывали существенное влияние на усвоение орфографии. Основной упор он делает в этих случаях на практику письменной речи, считая, что письменная речь «особая, самостоятельная» и что, следовательно, грамматические ассоциации возникают у учащихся лишь в процессе письма. При этом Пешковский упускал из виду, что, наряду с существенными различиями, существующими между устной и письменной речью, письменную речь роднит с устной единство грамматического строя языка, а стало быть, и единство языковых значений. Поэтому, если придавать, как делал это Пешковский, большое значение усвоению семантики языка, то следует признать, что усвоение форм и значений (как реальных, так и грамматических) может происходить не только в орфографической практике ребенка, но и в практике устной речи.
Многочисленные наблюдения за развитием речи ребенка показывают, что подобного рода обобщения грамматических форм, хотя и не вполне осознанные, играют большую роль в овладении ребенком речи. На это, как мы видели, указывал еще Ушинский, выдвигая понятие «чутья языка». Таким образом, нет достаточного основания полагать, что при овладении орфографическим письмом предшествующее речевое развитие ребенка не влияет на выработку ассоциаций орфографического рода.
Противоречит общему духу взглядов Пешковского и то, что он для усвоения правописания корней слов рекомендует «зрительный метод», основанный на повторном восприятии начертаний слов, «как при усвоении слов иностранного языка», причем существо зрительного метода заключается, по Пешковскому, в «автоматической ассоциации зрительно-рукодвигательных образов слов с их значениями» L В основе такого исключения правописания корней из области орфографии, усваиваемой на основе предварительной обобщающей работы мышления, лежит неправильное представление Пешковского о том, что усвоение значения корня слова происходит на на-
1 А. М. Пешковский, d6. «Вопросы методики родного языка, лингвистики и стилистики», Гиз, М., 1930, стр. 9.
глядной основе. Он считает, что для усвоения корня достаточно связать в воображении ребенка данное слово с наглядными представлениями предметов и явлений реального мира. Так, по поводу корня слова деревня Пешковский пишет: «Он (этот корень. — Д. Б.) должен быть как можно теснее связан с так называемым «значением» слова, т. е. в данном случае с картиной ряда изб, овинов, изгородей, поросенка, кур, петухов и т. д.» L
Важность наглядных представлений для усвоения значения целого слова вряд ли можно оспаривать, нельзя отрицать также, что понимание слова является основой для понимания его корня. Но поскольку корневое значение по своей природе абстрактно, его усвоение не может сводиться к воспроизведению связанных с ним наглядных представлений. Наоборот, слишком большая связанность с наглядным образом может оказать тормозящее влияние на установление сходства данного корня с другими однокоренными словами, реальное значение которых расходится со значением исходного слова. Факты подобного рода «узости обобщения» хорошо известны психологам, а практика школы постоянно встречается с ошибками учеников, вызванных именно этим психологическим фактом (однокоренные слова не признаются таковыми вследствие различия их лексических значений: час — часовой, жар — жаркое, стол — столяр и т. п.).
Таким образом, нет никаких оснований исключать правописание безударных корней из числа орфограмм, требующих для своего усвоения отвлечения и обобщения. Пешковский, безусловно, прав, когда говорит о психологической разнородности усвоения значений корней как значений реальных или лексических и усвоения тех значений, которые Пешковский называет «формальными». Это различие, несомненно, отражается и на процессе усвоения орфографии, но принципиальной психологической «противоположности» (как выражается Пешковский) между ними не существует. Усвоение как реальных, так и формальных значений требует сложной абстрагирующей деятельности сознания.
1 А. М: Пешковский, Сборник статей, Гиз, М„ 1925, стр. 34.
* *
Постановления партии и правительства ‘ о школе в 1931 и 1932 гг. полностью восстановили в правах систематическое преподавание грамматики. Тем самым были осуществлены чаяния передовой педагогической мысли. Путанице, которую вносили противники преподавания грамматики в дискуссию о «пользе и вреде» грамматических знаний для усвоения орфографии, был положен конец. Освободившись от пут ложных теорий, сковавших прогрессивное развитие дела обучения и воспитания, учителя и методисты всю свою энергию отдали решению тех новых задач, которые были поставлены перед школой этими постановлениями.
Борьба за культуру устной и письменной речи, за орфографическую грамотность письма стала одной из первоочередных задач школы. В области обучения орфографии задача повышения успеваемости прежде всего потребовала разработки таких методов обучения, которые наилучшим способом могли бы использовать те знания, которые давались ученикам на уроках грамматики. Многие методы, разработанные ранее грамматистами, нашли при этом свое применение, но вместе с тем была начата большая теоретическая и практическая работа по дальнейшему улучшению обучения на основе связи грамматики с орфографией.
К сожалению, мы не знаем работ, освещающих историю развития методики орфографии этого периода существования советской школы. Но надо полагать, что мы не ошибемся, если скажем, что в основном то новое, что было сделано в этот период, связано прежде всего с разработкой вопросов дифференцированного подхода к обучению орфографии.
Вопрос о дифференциации методов обучения орфографии исторически был тесно связан с изучением состава русской орфографии. Работы Томсона продолжали другие лингвисты (Д. Н. Ушаков, В. А. Богородицкий, Л. В. Щерба и др.). В результате их исследований были намечены три основных «принципа» русской орфографии: фонетический, этимологический (или морфологический) и традиционный (или исторический). В наиболее распространенном толковании проявление фонетического принципа усматривалось в подчинении орфографического
написания орфоэпическому произношению; к традиционным орфограммам относили написания, не имеющие грамматических аналогий, встречающиеся наиболее часто в словах иностранного происхождения; наконец, морфологическими орфограммами считали написания, единообразно обозначающие одни и те же морфемы независимо от их произношения.
В соответствии с различной языковой природой этих трех видов орфограмм методистами рекомендовались различные методы их изучения: фонетическая орфография требовала изучения методами, основывающимися на слуховом и речедвигательном анализе слов, традиционная— на зрительно-двигательном запоминании, а морфологическая — на изучении грамматических правил.
Однако различение методов при обучении правописанию орфограмм, соответствующих этим трем принципам русской орфографии, нельзя полностью считать достижением данного периода развития методики. Известно, что Буслаев и Ушинский выделяли орфограммы, для которых достаточно знать общее правило: «пиши, как слышишь», а Тихомиров и некоторые другие грамматисты указывали на необходимость запоминать отдельные слова, не охватываемые правилами. Как среди грамматистов, так и среди их противников характер усвоения этих орфограмм не вызывал особых сомнений. Как мы видели, споры и дискуссии велись вокруг методов обучения правописанию морфологических написаний.
Общественное признание важнейшего значения грамматики в обучении правописанию поставило перед методикой задачу дальнейшей разработки дифференцированного подхода в обучении орфографии. Наиболее остро ощущалась необходимость провести типизацию орфограмм внутри морфологической орфографии. К заслугам А. М. Пешковского поэтому надо отнести то, что он первый поставил этот вопрос и выдвинул теоретический принцип, который, по его мнению, должен быть применен к исследованию этого вопроса. Основание разнородности усвоения этих орфограмм он видел, как это уже отмечалось нами, в различии грамматических значений. Но сам он проводил это различение лишь-по отношению к корневым орфограммам и орфограммам, оформляющим формальные грамматические значения.
Вопрос о дальнейшей дифференциации орфограмм и
методов их изучения Пешковским не затрагивался, да и то, что им было в этом отношении сделано, носило скорей характер отдельных замечаний, чем систематического исследования вопроса.
Тем не менее идея Пешковского о типизации орфограмм в зависимости от грамматической функции, выполняемой той или другой морфемой, нашла свое отражение в работах других методистов (М. В. Ушаков, FL С. Рождественский, Е. С. Истрина, И. Р. Палей и др.).
М. В. Ушаков считал, что вслед за признанием важности морфологического принципа следует сделать ряд конкретных методических выводов. «Во-первых, — писал он, — нужно признать очень большое значение за тем, в какую морфологическую часть слова входит данная орфограмма. Особенности этих морфологических частей — не менее важный, не менее «принципиальный» признак, чем единообразие обозначения или проверяемость сопоставлением. От характера этих значений зависит вся сумма методических приемов (разрядка наша.—Д. Б.), рассчитанных как на сознательное усвоение, так и на механическое запоминание. Орфограмма корня гораздо легче, например, поддается механическому запоминанию, чем орфограмма окончаний» !.
Автор, к сожалению, не развивает более подробно этой мысли, поэтому остается неясным, в какой мере языковые различия орфограмм влияют на психологию процесса письма, но свою идею он воплощает в практическом руководстве для учителей (Методика правописания, изд. 1-е, 1936; изд. 2-е, 1947).
В этой книге, в отличие от традиционного способа изложения — описания различных видов методических приемов безотносительно к случаям их применения, свои методические указания Ушаков приурочивает к орфограммам, подчиняющимся разным принципам правописания, а внутри морфологической орфографии — к разным морфемам.
Он выделяет орфограммы, обозначающие звуки в опорном положении, орфограммы корней и приставок и, наконец, правописание флексий, различных частей речи.
1 М. В. У ша ко в, Еще раз о принципах нашего правописания, журн. «Русский язык и литература в средней школе», 1935, № 4.
Применительно к отдельным видам орфограмм находят свое место самые разнообразные методы и виды упражнений. Однако следует отметить, что если выбор того или иного упражнения в книге Ушакова в достаточной мере обоснован теми или другими свойствами орфограммы, то оценка их психологической роли остается у него мало разработанной.
В своей «Методике» он касается психологических вопросов лишь в очень общей форме, говоря о «первенствующей роли сознательности» и необходимости «в зависимости от характера орфограммы, то применять правило, то полагаться на зрительную память»
Говоря, например, о правописании — ци-цы, Ушаков пишет, что «в помощь зрительно-двигательному запоминанию в начальной школе может быть дано... правило». Для правописаний корней, по’ его мнению, «большое значение имеет зрительно-двигательное запоминание... меньшее значение имеют правила и обобщения», хотя в дальнейшем он правильно подчеркивает важность сопоставления однокоренных слов, составления «гнезд» корней и упражнений, выполняемых «как определенные грамматические задания». В отношении правописания флексий Ушаков советует, наоборот, меньше надеяться на зрительно-двигательное запоминание и больше привлекать грамматику и т. п.
Такое рядоположение «зрительно-двигательного запоминания» и правила, при котором их роль в процессе письма измеряется в количественных терминах «больше» или «меньше», не могло обогатить представления о психологических особенностях усвоения отдельных видов орфограмм. В таком подходе многое еще напоминает эклектизм пресловутой «теории факторов». Во втором издании книги даже эти общие указания на психологическое своеобразие усвоения отдельных типов орфограмм автором были по большей части изъяты, и методические рекомендации приняли вид догматических утверждений, не подкрепленных психологическим анализом. В результате — в соответствии с дифференциацией орфограмм по их принадлежности к той или другой морфеме
1 М. В. Ушаков, Методика правописания, Учпедгиз, М., 1936, стр. 12.
были распределены и методы обучения, но зависимость между методом и типом орфограммы осталась не раскрытой. Поэтому «Методика» М. В. Ушакова при всем ее практическом значении оставляет психологические вопросы обучения без рассмотрения.
Гораздо больше внимания М. В. Ушаков уделил теоретическим вопросам, связанным с лингвистической характеристикой свойств русской орфографии. В этом отношении он значительно углубил понимание «трех принципов» русского правописания. Традиционное распределение орфограмм, согласно этой теории, кажется ему слишком схематичным и не вполне последовательным. Одним из недостатков теории «трех принципов» он видит в том, что она не учитывает методических интересов. Для того чтобы исследование состава русской орфографии могло оплодотворить методические искания, он выдвигает другой метод исследования.
Если до сих пор при изучении этого вопроса отношения между звуками и буквами определяли, отправляясь от написаний, рассматривая, какие звуки соответствуют каждому из них, то, по его мнению, более плодотворным является обратный метод: отправляясь от звуков, рассматривать, какие написания им соответствуют. Ценность такого анализа Ушаков видит в том, что такой путь соответствует процессу, который совершается при письме. Применив этот принцип анализа, М. В. Ушаков выделил следующие группы орфограмм: а) определяемые произношением, б) не определяемые произношением. В первом случае между данным звуком и данной буквой существуют постоянные отношения и наблюдается соответствие произношению. Во втором случае этого соответствия не существует: при одном и том же произношении написа* ние может быть различным. Так, например, звуку а в безударном положении могут соответствовать и а (трава) и о (вода). В этой группе он выделяет такие орфограммы, которые могут определяться произношением, но не прямо, а косвенно, путем сопоставления с другими словами, морфологически родственными данному слову. Автор полагает, что подобная классификация, хотя и имеет сходство с «традиционными тремя принципами» (определяемые произношением — фонетический; косвенно определяемые — морфологический; не определяемые — условный, или традиционный), но имеет то преимуще
ство, что не допускает смешения границ между принципами Ч
Если отвлечься от лингвистических достоинств этой классификации, о которых мы судить не беремся, надо заметить, что, как нам кажется, она отвечает цели — «служить интересам методики» не в большей мере, чем традиционное деление по трем принципам. По крайней мере ни в излагаемой работе, ни в дальнейших публикациях автор не может вывести из этой классификации более подробной характеристики процесса усвоения, чем обычное общее указание на опору в одних случаях на слуховой и речедвигательный анализ, в других — на зрительное и моторное запоминание, а в третьих — на роль грамматики и правила. Нам не кажется это случайным, поскольку автор, несмотря на изменение метода анализа состава орфографии, оставался, как и критикуемые им лингвисты, в пределах соотношения звуковой и буквенной стороны изучаемых явлений. Характеристика же грамматических значений, усвоение которых он сам же считал одним из важнейших условий правописания морфологических орфограмм, оставалась при этом методе анализа вне поля внимания, в той же мере, как и у прежних исследователей. Нельзя возражать против необходимости изучать соотношение звуковой и буквенной оболочки языка, но надо полагать, что изучение этих сторон правописания изолированно от его семантической стороны не может считаться исчерпывающим.
На это обстоятельство справедливо указывал в свое время Н. С. Рождественский. В одной из своих работ он дает классификацию орфограмм, исходя, так же как и М. В. Ушаков, из характера отношений между звуками и буквами. Но при этом он считает, что ограничение изучения состава орфографии пределами такого соотношения не исчерпывает вопроса о типологии орфограмм и их усвоения, так как изучение орфографии требует грамматического осмысления, что в этих условиях не может быть учтено в достаточной мере.
При сознательном обучении необходимо, чтобы преподаватель подводил учеников к пониманию того факта
1 М. В. Ушаков, Научно-лингвистические основы методики правописания, журн. «Русский язык в советской школе», 1930, № 2. См. также А. Н. Гвоздев, Основы русской орфографии', изд-во АПН РСФСР, 1947.
языка, что звуки связаны со значением, что звуки способствуют различению слов. «Ведь орфография, — пишет он, — 1) система (лучше системы) соотношений одних написаний с другими родственными и противоположными написаниями, 2) система соотношений написаний с звуковым составом языка, 3) система соотношений с морфологическим строем слова. Урегулировать, правильно воспитать это соотношение и должна школа» L
Итак, на примерах разобранных работ можно видеть, что, во-первых, вопрос об улучшении методов обучения орфографий в изучаемый нами период в представлении методистов тесно связывался с вопросом об их дифференциации в зависимости от языковых особенностей орфограмм; во-вторых, что такими основными особенностями признавались: 1) соотношение фонетйки и написания и 2) соотношение орфограммы с ее грамматическим значением. Приходится также признать, что попытки авторов перейти от такого научно-лингвистического описания фактов языка к обоснованию методов обучения не пошли далее указаний на некоторые общие психологические особенности этих методов.
Однако в методике орфографии можно обнаружить тенденцию разрешить вопрос о дифференциации методов преподавания, исходя из изучения не только особенностей орфограмм, но и характера орфографических правил. Такое направление анализа, с нашей точки зрения, представляет то преимущество (для решения психологических вопросов), что приближает исследователя к реальной орфографической деятельности ученика, поскольку правило как особый род задачи предопределяет до известной степени характер деятельности ученика при ее решениях. Поэтому, типизируя правила, исследователь должен неизбежно, хотя бы гипотетически, представлять при этом не только лингвистическую, но и психологическую сторону дела.
В этом отношении заслуживает рассмотрения анализ правил, предложенный Е. С. Истриной, а также И. Р. Па-леем. Петрина, исходя из классификации орфограмм, произведенных ею на грамматических основаниях, приходит к некоторым методическим обобщениям. Она наме-
1 Н. С. Рождественский, К характеристике современной русской орфографии, журн. «Русский язык в школе», 1936, № 3.
чает трй группы орфографических правил: во-первых, она различает «правило как указание, как критерий для написания (пишется жа, ча, ша, ща)»\ во-вторых, «правило как вспомогательный прием анализа формы (ек-ик\ мягкий знак в повелительном наклонении перед -ся, -те)» и, в-третьих, «правило как напоминание о необходимости анализа в известном направлении (ь перед -ся в неопределенной форме)». «Соответственно этому различию, — пишет она, — приходится различно судить и о методическом значении правила, различно пользоваться правилами в методической практике» L
Е. С. Истрина не связывает непосредственно выделенные типы правил с психологией их усвоения, но дает методические указания по поводу различного характера объяснения этих трех типов правил учителем. Она полагает, что в то время как первый тип правил («точное указание») может сообщаться учителем догматически в готовом виде, два последних требуют наблюдения над орфографическими фактами и самостоятельной деятельности учеников при их обобщении.
К первой группе правил Истрина относит лишь незначительную часть орфограмм русского языка, называемую ею звукографической, т. е. те условные написания, которые не соответствуют общим положениям русской графики. При этом она упоминает лишь о двух случаях правописания: гласных после шипящих и сочетаний чн, чк, Чт, нч, нщ, пишущихся без ъ, несмотря на смягченный первый согласный. Для закрепления правил в этих случаях достаточно /<зрительных и рукодвигательных восприятий». Усвоение всех остальных правил, по мнению автора, в той или иной степени связано с грамматическим анализом (морфологическим и синтаксическим).
И. Р. Палей дает типологию правил в значительно расширенном и более дифференцированном виде1 2. Он выделяет шесть типов правил, причем оговаривается, что они охватывают лишь орфограммы, изучающиеся в начальной школе взрослых.
1 Е. С. Истрина, Грамматические основы правописания, «Известия Ленинградского пед. ин-та им. А. И. Герцена», вып. 1. 1928, стр. 39. См. также К. Б. Б а р х и п и Е. С. И с т р и н а, Методика русского языка в средней школе, М., 1934, стр. 96.
2 И. Р. Палей, Методика русского языка в занятиях со взрослыми, Учпедгиз, 1941, стр. 144—146.
1. Орфограммы, опирающиеся на прямое правило, не допускающее никаких отклонений. (Пример: правило о правописании гласных после шипящих.)
2. Орфограммы, опирающиеся на прямое правило, осложненное обратными вариантами. (Правило о правописании цы и ци.)
3. Орфограммы, опирающиеся на грамматические понятия и требующие различных проверок. (Примеры многочисленны: безударные гласные в корне, предлоги и приставки, различение -тся и -ться в глаголах и т. п.) Автор замечает при этом, что подавляющее большинство орфограмм этой группы имеет «обратные варианты».
4. Орфограммы, опирающиеся только на смысловые признаки. (Пример: большая буква в именах собственных.)
5. Орфограммы, опирающиеся на слуховые признаки. (Пример: ь как знак мягкости.)
6. Орфограммы, опирающиеся только на зрительнодвигательные впечатления (непроверяемые безударные гласные, традиционные написания).
По сравнению с классификацией Истриной в этой классификации имеется ряд дополнительных групп правил. Так, с психологической точки зрения важно выделение орфограмм, требующих слухового анализа, орфограмм, носящих «смысловой характер», орфограмм, опирающихся на «зрительно-двигательные впечатления». С логической точки зрения, эту классификацию можно упрекнуть в невыдержанности логического основания деления. Так, первые два типа характеризуются особенностями самого правила («прямое» без вариантов и с вариантами), последние же три типа (4, 5, 6) характеризуются безотносительно к характеру правил на основе особенностей самих орфограмм; третий тип (опирающийся на грамматические понятия и требующий проверок) совмещает признак первых двух типов («непрямое») и в го же время характеризуется опорой на грамматику. Но если считаться только с признаками первого ряда, как относящимися непосредственно к характеристике тех действий учащихся, которые необходимы для выполнения правила, то мы увидим, что, помимо признаков «прямого» и «косвенного» характера правил (что отмечается и в классификации Истриной), автор вносит весьма существенный
признак Правила: отсутствие Или наличие указанных в нем вариантов написаний.
И. Р. Палей отмечает далее, что усвоение подавляющего большинства орфограмм, опирающихся на грамматические понятия, осложняется тем, что они имеют обратные варианты. Например: в словах дуб и суп в конце произносится один глухой звук п, а буквы пишутся различные.
Учащимся приходится при этом видеть и писать два различных варианта одной и той же грамматической части слова. От ошибок в таких случаях долгое время ограждает только напряженная работа сознания. Правила, не осложненные вариантами (например, правило о правописании приставок от, под, над, которые всегда пишутся одинаково), усваиваются легче, потому что такая орфограмма «усваивается не только с помощью правила, а и зрительно-двигательным путем».
Исследования Истриной и Палея, направленные на установление типологии правил, вносят в вопрос о дифференцированном подходе к обучению орфографии новый и весьма важный элемент. Истрина, вводя понятия «правила — указания», «правило — прием анализа», «правило, указывающее лишь направление анализа», и Палей, различающий усвоение правил с вариантами или без них, делают предметом исследования не только языковые особенности орфограммы, но и способы деятельности учителя и ученика. Поэтому следует признать, что избранный ими путь анализа правил дает возможность пойти дальше в разрешении чисто методических вопросов, чем одно исследование состава орфографии, хотя, конечно, исследование характера правил невозможно без научного понимания природы орфографии. Однако разработка вопроса о типологии правил должна опираться не только на гипотетически предполагаемые особенности деятельности ученика, но и на научно установленные психологические закономерности процесса усвоения этих правил.
Аполлос Соболев в 1900 г. писал: «Орфограмма, ее положение в грамматике и отношение к познающим силам ученика являются краеугольным камнем методики правописания» Ч Это совершенно правильное положение
1 Ап. Соболев, Критический обзор способов обучения правописанию, СПб., 1900, стр. 87.
Соболева требует для своей реализации совместной работы методистов и психологов.
При этом условии вопрос о типологии правил и их усвоении может быть изучен более глубоко и всесторонне. Дальнейшее наше изложение покажет, что психологические исследования в значительной своей части были посвящены именно этому вопросу.
В этих исследованиях предметом изучения были особенности усвоения учащимися отдельных орфографических правил.
Те затруднения, с которыми столкнулись методисты при попытках классифицировать правила по их языковой природе в единстве с психологической характеристикой их усвоения, не могли затормозить реализации идеи дифференцированного обучения в чисто практическом плане.
Мы уже видели, что именно такой путь изложения избрал в своей «Методике правописания» М. В. Ушаков еще в 1936 г. С тех пор характерной чертой развития советской методики орфографии стало решение методических вопросов дифференцированно по отношению к отдельным орфографическим правилам, к отдельным орфографическим «темам». На «Педагогических чтениях», организуемых Академией педагогических наук, в методических журналах стали все чаще появляться работы, посвященные разработке методики преподавания безударных гласных, правописанию глагольных окончаний, правописанию гласных после шипящих. Следует указать также на работы монографического типа: М. В. Ушаков «Изучение приставок пре- п при-» и П. П. Иванов «Опыт изучения безударных гласных в начальной и средней школе».
Надо учесть и ту большую работу по детализации методов обучения орфографии, которая проводится учителями в методических объединениях, на учительских конференциях и т. п. и мало еще находит свое отражение в печати. Все это свидетельствует об активной работе, которая проводится советскими методистами и педагогами в данном направлении.
Такая конкретизация разработки методики орфографии представляет резкий контраст с тем временем, когда методические вопросы решались без учета языковых и
психологических особенностей усвоения орфограмм й когда учитель становился в тупик перед вопросом, какие же рекомендуемые методикой приемы обучения следует применять в том или ином конкретном случае.
Признание органической связи обучения орфографии с изучением грамматики, попытки методистов приспособить методы обучения к особенностям грамматического строя языка сказались не только в стремлении детализировать методику, но и в тенденции вскрыть некоторые общие психологические закономерности усвоения орфографии. Эти общие черты усвоения пытались установить, опираясь, во-первых, на изучение особенностей грамматического строя языка как определенной системы языковых явлений, взаимосвязанных и взаимообусловленных, и, во-вторых, на непосредственные данные психологии об особенностях мыслительной деятельности ученика. Практически такая постановка вопроса привела к выдвижению методов обучения, основывающихся на сравнении и противопоставлении орфографических фактов.
Еще Пешковский указывал на то, что выделение грамматикой различных грамматических форм стало возможным благодаря тому, что слова в языке образуют два соотносящихся друг к другу ряда: сходные по своим вещественным частям, но различные по формальным (например, стекл-о, стекл-а, стекл-янный, стекл-яшка, стекл-ышко и т. д.) и, наоборот, различающиеся вещественными частями и сходные по формальным (например, стекло, окно, весло, сукно, долото и т. д.). Осознание этих черт сходства и различия и привело лингвистов к выделению в словах русского языка их основных морфологических элементов и в первую очередь вещественных стекл- и формальных (-о) частей. Такое разделение слов на части и объединение их в однородные группы могло произойти, как указывал Пешковский, лишь в результате сравнения. «Мы сравниваем, — пишет Пешковский, — одно слово с другими словами, на него похожими. Так, мы сравниваем £го со словами стекла, стеклу, стеклом, стеклянный, стеклышко, стекляшка, застеклить, стеклярус и т. д. От этого сравнения у нас выделяется в сознании сходная во всех этих словах часть — стекл. В то же время мы сравниваем слово стекло и с такими словами, как весло, помело, перо, серебро, полотно, сукно, долото, кольцо и т. д. От этого сравнения у нас выделяется 82
сходная часть о. Таким образом, стекло распадается на стекл-\-о» Ч
В дальнейшем Пешковский показывает, что выделение других морфологических элементов слова (суффиксов и приставок) также основывается на подобном сравнивающем изучении других рядов слов, частично сходных и частично различных.
Подходя, таким образом, к особенностям грамматического строя языка, Пешковский, с одной стороны, дает лингвистическую характеристику грамматического строя языка как системы соотносящихся друг с другом грамматических форм, с другой — указывает на психологические черты того процесса, на котором основывается осознание данных закономерностей языка. Это выделение форм языка путем их сравнения.
Но, как мы видели, Пешковский применил свой метод (следуя в этом за некоторыми другими лингвистами) исключительно к изучению грамматики, не делая при этом выводов по отношению к орфографии.
Первые попытки перенести на орфографию метод сопоставления были сделаны Н. С. Рождественским.
Рождественский в одной из своих работ1 2 отмечал, что, несмотря на то, что наличие связи между грамматикой и орфографией общепризнано, практически в школе эта связь осуществляется чисто внешне, терминологически. «Правила правописания, — писал он, — даются как особый, изолированный ряд, не имеющий внутренней связи с тем, что изучается в другом, грамматическом ряду». «Не видя в орфографии системы, не понимая ее основных тенденций, ученики обычно представляют себе правописание как свод разрозненных, не объединенных между собою правил и еще более многочисленных исключений к ним». Между тем, указывает Рождественский, русское правописание, будучи морфологическим, представляет собой систему, основанную на аналогиях и противопоставлениях. Отсюда он заключает, что в соответствии с природой орфографии основным методом изучения должен быть метод сопоставлений орфографических
1 А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, Учпедгиз, изд. 4-е, М., 1934, стр. 11—13.
2 Н. С. Рождественский, «Метод сопоставления в занятиях по орфографии», журн. «Русский язык и литература в средней школе», 1935, № 4.
фактов языка. Вместе с тем, аргументирует дальше автор, «мы не должны забывать, что усвоение орфографии в значительной мере мыслительный процесс, а сущность последнего заключается, как известно, в установлении связей и отношений: мы все познаем через сравнение». В качестве. практических мер автор предлагает применять в школе методы, основанные на сопоставлении с родственными формами слов, аналогию, отыскивание опорной орфограммы.
Наряду с сопоставлением Рождественский указывает на необходимость применять в обучении и противопоставления, т. е. «одно и то же написание, — писал он, — будучи аналогично другому в каком-то отношении, может быть противопоставлено в другом отношении третьему».
Автор приводит ряд примеров с целью показать, что таким методом школа пользуется издавна, но что этот прием применяется не систематически и без ясного осознания его значения. Между тем, по его мнению, сопоставление и противопоставление как методы обучения должны найти в преподавании широкое применение.
Н. С. Рождественский в ряде последующих работ развивает и уточняет эти общие положения. Наиболее четкие и ясные формулировки по этому поводу мы находим в его статье «Противопоставление как одно из свойств морфологического правописания» L
В этой работе автор приводит систематический и подробный обзор, как он выражается, «дифференцирующих написаний», которые служат на письме для различения значений омонимных корней, приставок, суффиксов, флексий.
Переходя к использованию метода противопоставления при объяснении правила, автор указывает, что при объяснении нового правила большое значение имеет возникновение в сознании ребенка определенной проблемы, вопроса — как писать. Наилучшим же условием для этого является использование учителем противопоставления двух омонимных орфограмм, например, деревне и деревни. Далее Рождественский показывает, что противопоставление играет большую роль и на следующих этапах
1 Н. С. Рождественский, «Противопоставление как одно из свойств морфологического написания», журн. «Русский язык в школе», 1946, № 3—4.
обучения, так как, выполняя те или другие орфографические упражнения, ученики все время должны пользоваться как сравнением, так и противопоставлением — необходимыми условиями сознательного усвоения.
Для психолога особенно интересна книга Рождественского «Обучение орфографии в начальной школе».
В этой книге автор делает попытку научного обоснования практических приемов обучения и с этой целью привлекает не только лингвистический, но и психологический материал. Отдельную главу этой книги Рождественский посвящает теоретическим вопросам, связанным с психологией орфографического навыка. Он характеризует психические процессы, которые протекают на разных этапах обучения: а) восприятие орфограммы, б) внимание, в) осмысление орфографического явления, г) обобщение, перенос, д) распознавание орфограмм и воспроизведение правил, е) автоматизация орфографического навыка.
При анализе основных методов обучения орфографии Рождественский, рассматривая эти методы в зависимости от характера орфограмм, вместе с тем психологически их обосновывает. Здесь он указывает на важность создания «проблемной ситуации», на роль различных умственных операций: индукции, дедукции, анализа и синтеза. Важное место занимает также психологическая оценка таких видов упражнений, как списывание, диктант, орфографические задачи и т. д. По-прежнему много внимания уделяется психологической роли приемов сопоставления и противопоставления.
Таким образом, усвоение орфографического навыка представляется автору как сложный процесс, анализ которого не может свестись к выделению лишь определенных его сторон. О психологической сложности обучения орфографии писали и до Рождественского многие методисты, признававшие роль правила. Но до сих пор это в значительной мере оставалось простой декларацией, так как это признание не подкреплялось дальнейшим .психологическим анализом. Рождественский переступает эту границу и, опираясь на данные советской психологии, раскрывает психологическое содержание процесса усвоения орфографии. Автор придерживается правильных теоретических взглядов по этому поводу. По его словам, обучение орфографии — единый процесс, причем это
единство процесса создается единством психической деятельности обучающегося ребенка. В этом процессе «одни моменты в работе переходят в другие, следовательно,, и отдельные методы и приемы обучения переходят друг в друга, переплетаясь и смешиваясь» Ч
Но эти правильные теоретические взгляды ему не всегда удается реализовать при подходе к конкретным фактам обучения. В этом нельзя винить автора, так как и психологии до самого последнего времени был свойственен не изжитый еще функционализм, что препятствовало пониманию психологии конкретной деятельности как целостного процесса. Тем не менее на примере книги Рождественского становится ясно, что обращение к психологии играет большую роль в научном обосновании методики обучения орфографии.
Подытожим кратко все сказанное об особенностях развития психологических взглядов советских методистов на обучение орфографии.
Первые годы существования советской школы ознаменовались возрождением взглядов, по которым формирование орфографических навыков и умений представлялось как сложный процесс, характеризующийся активной работой мышления и лишь постепенно переходящий в автоматизированное письмо. В связи с этим был вновь поставлен вопрос о связи орфографии с грамматикой.
Постановления партии и правительства о школе полностью восстановили в правах преподавание в школе грамматики как основы изучения русского языка, открыв тем самым широкие возможности дальнейшей разработки методических вопросов об особенностях обучения орфографии на грамматической основе. Это отразилось на методике прежде всего в том отношении, что было отброшено представление антиграмматистов о существовании единого универсального метода обучения орфографии, который сводился к созданию наилучших условий для запоминания «образов слов». Встал вопрос о дифференциации методов обучения, основанных на грамматике. В связи с этим возникла потребность конкретизировать общее представление о грамматических обобщениях как основе навыка.
1 Н. С. Рождественский, Обучение орфографии в начальной школе, изд-во АПН РСФСР, 1949, стр. 184.
Пешковский в свое время выдвинул положение о роли грамматической семантики в усвоении орфографии. Задачу грамматического обучения орфографии он увидел в создании прочных связей значений морфем с их графическим образом и двигательными реакциями письма. Он не развил этого положения, но указал, что при таком понимании психологического механизма орфографии методы обучения должны варьироваться в зависимости от характера грамматических значений, языковая природа которых весьма разнообразна. Но сам он иллюстрировал это положение лишь на различии психологических основ правописания корней в противоположность остальным морфемам, причем такое противопоставление, как мы указывали, являлось неправомерным. В дальнейшем точка зрения Пешковского нашла сторонников среди других методистов, практически была в той или другой степени реализована (М. В. Ушаков), но дальнейшей психологической разработке не подвергалась.
Другая линия в разработке вопросов дифференциации методов обучения связана с чисто лингвистическим исследованием основ русской орфографии. Различия в психологии усвоения правописания намечались прежде всего в отношении орфограмм, реализующих три разных «принципа»: фонетический, морфологический и традиционный. Фонетическое письмо, как непосредственно определяемое произношением, требовало методов, основанных на слухо-речедвигательном анализе. По отношению морфологической группы написаний общепринятым положением явилось признание необходимости основывать обучение на орфографических правилах, предписывающих единообразное написание одних и тех же морфем; для усвоения традиционных написаний рекомендовалось запоминание графического образа слов. Можно поэтому сказать, что если ранее под единицей орфографии упрощенно понималось целое слово, то теперь слово рассматривалось как сложный комплекс различных морфем, входящих в его состав, а грамотное письмо — как умение одинаково обозначать при письме различных слов одни и те же морфемы.
После Пешковского каких-нибудь новых исследований психологических особенностей такого письма не производилось, но была сделана попытка систематизировать приемы обучения вокруг правописания одних и тех ?ке
морфем (М. В. Ушаков). Другая попытка дифференцировать методы обучения была связана с анализом орфографических правил. Поскольку каждое правило не только нормирует правописание, но и заключает указания на тот или иной способ действий ученика, необходимых для правильного письма (подбор опорных форм, выделение морфемы, определение варианта правописания и т. п.), постольку анализ правил дает по сравнению с анализом орфограмм дополнительные возможности для конкретизации психологии их усвоения. Тем не менее этот анализ не был основан на изучении реального процесса усвоения, и потому по необходимости мог быть лишь гипотетическим.
Наряду с разработкой вопроса о дифференцированном подходе к обучению орфографии внимание методистов привлекли проблемы, связанные с характеристикой общих психологических черт процесса сознательного усвоения орфографии. Как мы видели, еще Пешковский предложил новое понимание основ орфографического навыка (ассоциация: значение графический образ слова), позднее Рождественский обратил внимание на роль сравнения в качестве важнейшего условия усвоения орфографии. При этом он исходил из понимания природы русской орфографии как системы соотносящихся языковых фактов. Поэтому его аргументация в защиту методов сопоставления и противопоставления носила в основном лингвистический характер.
Психологические данные привлекались им лишь в самой общей форме — в виде указания на общепризнанное в психологии значение сравнения в мыслительной деятельности. Вначале Рождественский был склонен переоценивать роль процесса сравнения (на что в свое время указывал М. Ушаков) и придавать методам сопоставления и противопоставления значение универсальных методов. Позднее он более широко раскрывает психологическую сложность орфографического навыка и, привлекая данные советской психологии, указывает, помимо сравнения, на значение других мыслительных операций.
Однако отсутствие общей психологической теории усвоения орфографии не дало ему возможности представить психологию усвоения орфографии как единый целостный процесс и установить органическую связь между отдельными психологическими Моментами обучения.
Глава III
ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПСИХОЛОГИИ ПРАВОПИСАНИЯ
Предшествующий анализ психологических взглядов дореволюционных и советских педагогов дал возможность представить с достаточной ясностью те вопросы, которые были поставлены перед ними реальной школьной действительностью. Основной проблемой, решение которой определяло выбор тех или иных методических путей обучения орфографии, была проблема психологической природы орфографического навыка. В результате долголетней дискуссии этот вопрос нашел свое решение в трудах советских педагогов, в практике советской школы. Всеобщее признание получил принцип сознательного усвоения орфографии, по которому основой обучения орфографии полагались грамматические знания учащихся, а само обучение строилось на изучении орфографических правил и на выполнении разнообразных орфографических упражнений.
Тем самым были подтверждены основные взгляды грамматистов на орфографический навык как на такой навык, в выработке которого принимают участие сложные мыслительные процессы.
Советская школа, однако, не остановилась на решении этого основного вопроса. Как мы видели из предшествующей главы, советские педагоги сделали дальнейший вклад в разработку теоретических вопросов и практических мероприятий, вытекающих из признания сознательной природы орфографических навыков.
В противоположность подобному положению в методике и практике школы советская психология до самого
последнего времени значительно отставала в разработке проблем усвоения орфографии.
Количество психологических работ, посвященных проблемам орфографии, весьма незначительно; кроме того, большинство из них имеет скорее отношение к раз^ работке частных вопросов усвоения отдельных орфографических правил, чем к выяснению наиболее основных, принципиальных проблем обучения.
Между тем в практике школы накоплен богатейший материал, который далеко не полностью психологически осмыслен советскими педагогами. Поэтому многие методические рекомендации до сих пор основываются на чисто эмпирических наблюдениях, на личном опыте педагогов. и потому носят характер догматических утверждений, не имеющих под собою ни силы научной доказательности, ни теоретической обобщенности.
Обобщить накопленные практикой факты, перевести их в систему научных понятий — решению этой задачи, стоящей перед современной методикой, во многом могут помочь психологические исследования общих проблем сознательного усвоения орфографии, анализ психологической природы орфографических навыков, формирующихся на грамматической основе, анализ психологического механизма орфографического навыка на разных этапах обучения. В настоящей главе мы сделаем попытку наметить решение некоторых общих проблем психологии орфографического навыка для того, чтобы в дальнейшем рассмотреть под этим углом зрения отдельные практические вопросы обучения.
Советская психология, основываясь на принципах материалистической диалектики, рассматривает психическую жизнь как отражение внешнего материального мира, осуществляемое через посредство высшей нервной деятельности. Рефлекторная теория деятельности мозТа, разработанная в трудах И. М. Сеченова и И.'П. Павлова, подводит под это общее положение марксизма естественнонаучную базу и показывает, что самые сложные психические явления (такие, как воля и мышление) имеют своим первоисточником раздражения, падающие на нервную систему из окружающего мира.
В области познавательных процессов, к которым относятся процессы усвоения школьных знаний, к таким воздействиям внешней среды относится прежде всего тот
учебный материал, который предстоит усвоить учащимся. Различия процессов усвоения отдельных школьных дисциплин стоят в прямой зависимости от различия в характере усваиваемого материала. Существование отдельных частных методик служит этому наглядным доказательством. Советской дидактикой разработаны общие принципы обучения. Но эти принципы по-разному претворяются в жизнь при преподавании химии и истории, ботаники и литературы, геометрии и русского языка.
Необходимость применения различных приемов обучения вызывается в большой степени психологической спецификой усвоения этих дисциплин, а эта специфика определяется вполне объективными причинами — различием характера учебного материала, различием объектов познания. Поэтому психолог, изучающий процесс познания, должен начинать свое исследование с анализа содержания данной области знания. Он должен знать не только отдельные факты — явления и закономерности данной науки, он должен также хорошо представить себе те общие принципы, которые лежат в основе этих фактов, превращающие разрозненные понятия и представления в систематическое познание, отражающие сущность предмета во всех его связях и опосредствованиях. Подобное знание объекта познания помогает правильной постановке исследования: нахождению тех узловых моментов деятельности, которые имеют решающее значение для правильного отображения действительности, для адекватного познания сущности познаваемого. В одинаковой степени оно предупреждает возможные ошибки в истолковании фактов, возведение частных закономерностей в степень общего закона, полученного при анализе усвоения материала какого-нибудь одного типа, одной стороны изучаемых фактов.
В области психологии правописания пренебрежение принципом зависимости процесса усвоения от особенностей языкового материала часто приводило к ложным, неправильным взглядам на вопросы методики преподавания. К этому сводился, например, основной порок как «слуховой», так и «зрительной» теорий обучения орфографии, которые пропагандировали в качестве универсальных методов или слуховой анализ, или зрительное восприятие. Нельзя отказать в известной правоте и той •и другой теории. Но дело в том, что слуховой анализ
играет основную роль в обучении лишь по отношению к фонетически обусловленным орфограммам, а зрительное восприятие и зрительная память являются лишь одним из моментов усвоения орфографии (и, как мы увидим позднее, далеко не основным).
Ошибочность обеих этих теорий заключалась в том, что, не считаясь с особенностями языкового материала, они неправомерно универсализировали выводы, имеющие лишь частное значение. Отсюда естественным следствием была их практическая бесплодность, так как известно, что дискуссия между сторонниками «слуховых» и «зрительных» методов, продолжавшаяся около столетия, так и не привела к открытию единственного, универсального метода обучения. В советское время подобная постановка вопроса была признана неправильной, в результате чего в обучении нашли свое место и «слуховые», и «зрительные» методы. Возникновение подобных дискуссий объяснялось, конечно, не личными качествами и лингвистической неподготовленностью их участников (среди них имелись весьма квалифицированные научные деятели и педагоги), но, с одной стороны, тем состоянием языкознания, которое видело в орфографии лишь буквенное обозначение звука, а с другой, — порочной методологией буржуазных психологов, сводящих процесс усвоения орфографии к механическому запоминанию. Наиболее примитивным и наивным выражением этой тенденции являлись опыты Лая, послужившие началом целого ряда подобных же «исследований», результаты которых, полученные на материале бессмысленных буквенных сочетаний, переносились на усвоение орфографии и объявлялись «психологическими законами» усвоения орфографии любой языковой системы. На этих примерах мы видим, к чему приводило неправильное, ограниченное представление о языковой основе орфографии и принципиальный отказ от учета особенностей объекта усвоения. Таких примеров история методики обучения орфографии, к сожалению, насчитывает большое количество. Метафизическое рассмотрение психологических закономерностей изолированно от рассмотрения сложного характера языковых явлений было также основной причиной бесплодности некоторых психологических исследований.
Подобная ненаучная методология исследований орфографии преодолена в трудах советских методистов. Ей 92
противопоставлен принцип дифференцированного подхо да к обучению правописания орфограмм с разной языковой характеристикой. Очевидно, что и для психологов, изучающих процессы усвоения орфографии, предварительным условием должен явиться анализ языковой стороны русской орфографии.
Для психолога, в отличие от лингвиста, изучение языковых фактов и закономерностей не является, однако, самоцелью. Для него важно определить, основываясь на некоторых общих теоретических положениях, каким образом особенности языкового материала отражаются на процессе усвоения «и какова при этом психологическая структура деятельности ребенка.
Такими общими теоретическими положениями будет служить для нас понимание психологической природы навыков, опирающееся на учение И. П. Павлова о выработке системных ассоциаций, копирующих изучаемую языковую действительность.
Всякое обучение является, по Павлову, образованием условных временных связей, причем «временная нервная связь есть универсальное физиологическое явление в животном мире и в нас самих. А вместе с тем оно же и психическое — то, что психологи называют ассоциацией, будет ли это образование соединением из всевозможных действий, впечатлений или из букв, слов и мыслей» Ч
Исходя из понимания структуры навыков как некоторой упроченной системы ассоциаций, соответствующей сущности изучаемых явлений, становится понятной необходимость предварительного анализа языковых фактов.
Подобный анализ необходим для того, чтобы составить ясное представление о том, какие элементы языкового материала должны составить содержание тех ассоциаций, которые предстоит образовать и упрочить путем обучения. Знание общих закономерностей формирования навыков и содержания психических процессов должно помочь исследователю представить психологическую структуру того конечного продукта, к которому должно привести обучение. В свою очередь, психологический анализ результатов обучения необходим для оценки эффек-
1 И. П. Павлов, Собр. соч., т. III, кн. 2, изд-во АН СССР, стр. 325.
тивности различных методических Приемов, применяемых педагогами.
Поэтому в данной главе нам прежде всего следует остановиться на некоторых особенностях языковой природы русской орфографии, оказывающих на процесс усвоения орфографии существенное влияние.
Советское языкознание в полном соответствии с марксистско-ленинским учением о неразрывной связи мышления и языка рассматривает каждое языковое явление как единство содержания и формы, т. е. единство определенного языкового значения и его звукового выражения. Можно сказать поэтому, что тот или другой звук или звукосочетание, выявляющиеся в речи, выполняют речевые функции постольку, поскольку они выражают определенное языковое содержание. Значения отдельных структурных элементов языка весьма разнообразны. В слове лингвистика выделяет ряд языковых значений соответственно с его морфологической структурой. Реальное значение целого слова складывается из значений составляющих его морфем. Лексика слова выражается теми морфемами, которые входят в основу слова, — это корни слов, которые являются носителями наиболее существенного вещественного значения слова, суффиксы и приставки, которые вносят в это значение дополнительные смысловые оттенки. Синтаксические, или релятивные, значения выражаются в языке флексиями, или окончаниями слов, которые, не изменяя смысла слов, передают отношения между отдельными словами в предложении. Так, например, в слове подводниками корень вод выражает основную идею слова, соотносимую с определенным явлением реальной действительности, суффиксы под- и -ник дополняют и индивидуализируют это значение и, наконец, флексия -ами в предложении «Подводниками достигнуты большие успехи» указывает на агента действия глагола достигнуть.
Кроме того, язык располагает средствами для выражения ряда других грамматических значений. Так, например, флексии слов одновременно с синтаксической функцией служат для различения числа и рода имен существительных, некоторые глагольные суффиксы служат для различения отдельных форм глагола (суффикс л — прошедшего времени, суффиксы ть — чь — инфини
тива, ряд суффиксов выражает значения действующего лица и т. п.).
Русский язык располагает многочисленными языковыми средствами для выражения самых разнообразных оттенков мысли. Совокупность этих средств образует грамматический строй языка, составляющий, наряду со словарным составом, основу языка. Как известно, ребенок еще задолго до поступления в школу научается говорить. И хотя словарный запас его речи относительно невелик, однако он пользуется им, как правило, в полном соответствии с грамматикой. Это выражается в том, что ту или иную форму языка он употребляет в своей речи в полном соответствии с ее значением. Имея в виду условнорефлекторный характер речи, очевидно, что это становится возможным потому, что между звуковыми формами языка и их значениями образовались прочные ассоциативные связи.
При таком положении вещей казалось бы, что переход от устной речи к письменной после усвоения технической стороны письма не должен представлять для ребенка школьного возраста особых трудностей, поскольку и формами, и значениями языка практически он уже овладел в дошкольном возрасте. Однако, если бы это было так, то обучение грамотному письму не являлось бы столь сложной проблемой, какой она является в действительности.
В чем же следует искать первоисточник всех тех трудностей, с которыми встречаются учащиеся, обучаясь орфографически правильному письму?
Причины, усложняющие процесс усвоения орфографии, следует в первую очередь искать в изменившемся характере языкового материала, подлежащего усвоению. Если подойти к вопросу с этой точки зрения, то легко увидеть, что при переходе к письменной речи грамматический строй речи остается неизменным, так как письменная речь служит выражением тех же самых семантических элементов языка, что и устная. Единственное, что изменяется в языковом материале, — это их форма. Звуковая оболочка языка сменяется графической. Подобная «смена форм» и является объективной причиной, порождающей орфографическую проблему.
Как уже говорилось ранее, в языкознании и в методике установлено, что русская орфография подчиняется
Трем принципам: фонетическому, морфологическому и традиционному.
К фонетическому письму относится графическое обозначение звуков речи, находящихся в сильной позиции (гласные под ударением, согласные перед гласной и т. п.). По отношению к таким звукам можно условно говорить о соответствии звукового впечатления с его графическим обозначением. Для таких случаев не существует никаких орфографических правил, кроме указаний учителя вроде «пиши, как слышишь». Проблема фонетического письма, таким образом, — проблема чисто графическая. Для правильного письма в таких случаях требуется выработка чисто графических навыков — умения обозначать буквами алфавита звуки, находящиеся в сильной позиции. Эти навыки основываются на выработке соответствующих звуко-буквенных ассоциаций. При таком фонетическом письме звуки непосредственно ассоциируются с буквами, причем эти ассоциации имеют универсальное значение — они не зависят ни от изменений лексики слова, ни от различий в его морфологическом составе.
Для усвоения подобного типа орфограмм необходимыми моментами следует считать поэтому различение определенной звуковой ситуации и выбор, в зависимости от ее звуковой характеристики, того или иного графического знака. Психологическая сложность различения варьируется в связи с природой данной фонетической ситуации, передаваемой на письме. Звуковой анализ, необходимый для различения, основывается на хорошо развитом фонематическом слухе. Но как бы ни сложен был этот анализ, он не выходит за пределы анализа слухо-речедвигательных восприятий, всегда связан с дифференцировкой чисто фонетических ситуаций. Следует подчеркнуть, что в языке имеется огромное количество фонетических написаний и что в начальный период обучения ученики обучаются письму слов, которые состоят из звуков, находящихся в сильной позиции, благодаря чему ассоциации между слухо-артикуляционным восприятием и графическим изображением в значительной степени упрочиваются. Этот факт не остается, как мы увидим далее, безразличным для обучения орфографическому письму.
Объективными языковыми особенностями фонетиче-
ских написаний, определяющими характер психологических операций, необходимых для выработки правильной орфографии, являются, следовательно, во-первых, позиционные особенности звуков в слове (сильная позиция); во-вторых, однозначный характер графической передачи таких звучаний.
В этом отношении фонетическим написаниям противостоят написания морфологические и смысловые. Особенность морфологических написаний нам уже известна. Они подчиняются принципу единообразного написания тождественных морфологических частей слова.
В этом случае часто возникает ситуация несоответствия звуков их привычному буквенному выражению, что означает невозможность для учащихся руководствоваться при письме исключительно восприятием звучащих форм речи. Это обстоятельство и служит причиной собственно орфографических трудностей.
От каких же языковых особенностей морфологической орфографии зависит появление подобных трудностей и какой же путь ведет в данном случае к образованию правильных орфографических ассоциаций? Отвечая на эти вопросы, мы тем самым обращаемся к анализу наиболее существенных вопросов усвоения орфографии.
В языковом отношении морфологическая орфография отличается от фонетической прежде всего тем, что имеет самостоятельное смыслоразличительное значение. В морфологической орфографии графическая форма данной морфемы постоянна и неизменна, между тем как звуковая форма подвергается значительным изменениям. Последнее объясняется тем, что звуковая речь, отражая в основном морфологическую структуру слова, до известной степени нарушает принцип единообразия звукового выражения морфем, так как на ее строении отражаются не только закономерности грамматического строя, но и физико-физиологические законы произношения.
Вследствие этого, когда звуки, составляющие морфемы, вместо сильной позиции занимают слабую (как это бывает при перемене места ударения в слове, при изменении фонетического окружения), их звучание изменяется. В лингвистике имеются точные данные, как изменяются в одной и той же морфеме гласные звуки, бывшие под ударением, в том случае, когда они попадают в слог, находящийся перед ударным слогом, после ударного сло-
7 Д. Н. Богоявленский
97
га и т. п. Все это можно найти в соответствующих лингвистических работах и учебниках, поэтому нам не имеет смысла задерживаться на этом вопросе. Нам важно лишь подчеркнуть, что в таких случаях пишущий воспринимает в одной и той же морфеме иной звук по сравнению со звуком, находящимся в сильной позиции. С психологической точки зрения, суть вещей не изменится, назовем ли мы такие звуки вариантами основных фонем или их разновидностями, как это делают некоторые лингвисты. Нам важно лишь знать, что когда изменяется реальный звуковой раздражитель, соответственно этому с неизбежностью должны меняться физиологические основы его восприятия, а стало быть, и само восприятие. А отсюда следует, что, если ученик в таких случаях будет следовать за своими восприятиями и не принимать в расчет никаких грамматических соображений, он неизбежно нарушит орфографические нормы письма.
Расхождение звуковых и графических форм языка в таких случаях бывает различной степени. В морфемах, состоящих из сочетаний нескольких звуков, изменение звучания касается иногда лишь отдельных звуков. Так, например, в корневой морфеме вод в словах водяной, водовоз и т. п. в положение слабой позиции попадает лишь гласный звук о, согласные же этой морфемы сохраняют сильную позицию. В корне кос в слове косьба подвергаются изменению и безударный звук о, и конечный звук морфемы с, который по фонетическому закону ассимиляции уподобляется по звонкости следующему за ним звонкому б. Морфемы же, состоящие из одного звука, как, например, многие падежные флексии имен существительных, естественно, полностью изменяют свою звуковую форму.
Но, что важно отметить, при всех этих изменениях значение морфем остается тем же самым.
Подобные языковые особенности морфологической орфографии вносят существенные изменения в психологические процессы, необходимые для правильного усвоения данного типа орфограмм.
Как и при фонетическом письме, исходным раздражителем и в этом случае является звуковая речь. Поэтому восприятие и анализ звуковой реальности языка являются совершенно необходимыми начальными звеньями про
цесса усвоения таких орфограмм. Но по своему характеру процесс различения и выделения определенных звуковых комплексов происходит здесь на другой основе, чем при фонетическом письме. Если при фонетическом письме анализ носил чисто сенсорный характер, не выходящий за пределы реального анализа данных чувственного восприятия, то при выделении морфем требуется не только уметь различать отдельные звукосочетания, но и соотносить их с присущими им языковыми значениями и грамматическими функциями. Для того чтобы к этому имелась возможность, нужны операции, требующие высокого развития способностей абстрактного мышления.
Приведем примеры анализа, необходимого для правильного выделения отдельных орфограмм. Предположим, что ученикам диктуются предложения со словами типа: водица — водиться, курица — курится и т. п.
Окончания -ться или -тся—омонимы как по отношению друг к другу, так и по отношению к окончаниям слов на -ца. Фонетический анализ, следовательно, не может дать оснований для их различения на письме. Для того чтобы дифференцировать на письме окончания -тся {-ться) от окончаний -ца, нужно прежде всего в словах водица и курица увидеть значение предметности, а в словах курится и водиться — значение действия или состояния, так как графемы -ца в глаголах не бывает.
Такое различение требует, во-первых, владения абстрактными грамматическими понятиями «части речи», во-вторых, чтобы дифференцировать окончания -тся (курится) и -ться (водиться), требуется выделение этих звуковых элементов из целого слова как определенных грамматических форм, имеющих свое особое грамматическое значение: -тся — личная форма глагола, обозначающая в предложении действие, производимое определенным лицом, в определенное время (настоящее или будущее); -ться — форма инфинитива, имеющая неличное значение. Такое различение требует владения еще более абстрактными грамматическими понятиями, и только оно может привести в данном случае к дифференциации морфем, сходных по звучанию, но различных по своим грамматическим значениям.
В подобном грамматическом анализе приобретает особо важное значение обнаруживание тех отношений, кото-
рые существуют между звуковой формой и ее значением. Эти отношения, как мы уже упоминали, могут устанавливаться в практической речевой деятельности (в этом случае некоторые психологи говорят о «дограмматичс-ских связях», о неосознанных обобщениях), могут осознаваться на основе изучения грамматики. В последнем случае мы будем иметь пример сознательного усвоения.
Оба эти процесса качественно различны. Об этих различиях будет сказано ниже. Но в обоих случаях установление отношений между языковыми формами и их значениями по своему психологическому механизму есть не что иное, как образование ассоциаций между формой и значением, так как необходимым условием выделения из слова данного звукосочетания (например, -ца) как определенной грамматической категории (инфинитив, 3-е лицо глагола или имя существительное) является появлением в сознании тех или других семантических признаков, с которыми эти звуковые формы связаны в реальной языковой действительности.
Мы видим, таким образом, что при морфологическом письме орфографически правильная реакция ученика не может являться непосредственным ответом на звуковой раздражитель, как это наблюдается при фонетическом письме. Ассоциация между звуковым раздражителем и графическим его коррелятом опосредствуется значением морфемы; данное звуковое сочетание, прежде чем вызвать ответную реакцию, должно быть опознано со стороны его языкового значения.
Такое различение семантики морфемы может быть достигнуто лишь тогда, когда между звуковой формой и ее значением в прошлом опыте ученика выработаны ассоциативные связи или системы таких связей (так как грамматическое понятие с психологической стороны само по себе представляет систему ассоциаций).
Если такие ассоциации не актуализируются при восприятии или представлении тех или иных выделенных из слова звукосочетаний, то эти последние остаются в сознании ученика лишь фонетическими явлениями и потому могут вызывать к действию лишь те ассоциации, которые установлены в практике фонетического письма. Наоборот, если связи между звуковой формой и ее значе-100
нием выработаны, то восприятия звуковых раздражителей могут вызвать у пишущего представление или понятие о языковом значении этих раздражителей. Правильное орфографическое действие следует тогда не на лишенное речевого смысла сочетание звуков, а на то языковое значение, звуковым выразителем которого оно служит.
Следовательно, в качестве первого звена орфографических ассоциаций при морфологическом письме выступает ассоциация: звуковая форма (выделенная в слове или словосочетании) -> значение. Такие ассоциации лежат в основе усвоения грамматических понятий, поэтому их можно назвать грамматическими.
Однако для осуществления орфографического действия выработки подобных ассоциаций недостаточно. Как мы говорили выше, для этого необходима «смена форм» — звуковой формы данной морфемы на ее графическую форму. Совершенно очевидно, что подобная смена не может быть произведена пишущим без знания графической формы, т. е. без запоминания образца орфографически правильного написания данной морфемы. (Забегая несколько вперед, следует сказать, что основная роль большинства орфографических правил и заключается в том, что они дают такие образцы письма.)
Действительно, если предположить, что на уроках грамматики мы обучаем учеников различать и выделять отдельные морфемы исключительно на материале звуковой речи, то, без сомнения, мы сможем научить их правильному грамматическому анализу. Другими словами, мы сможем выработать первый тип ассоциаций (звуковая форма — значение). Тем не менее такое понимание языковых форм не может само по себе обеспечить правильное их написание в той части, в которой «произношение расходится с правописанием».
Для того чтобы это было возможно, необходима выработка ассоциаций между значениями языка, облеченными в звуковую форму, и теми же значениями, имеющими графический образ.
Наличие таких ассоциаций означает, что ученик имеет закрепленные в памяти зрительные представления графических образцов. Эти представления оживают в сознании учеников под действием тех звуковых раздражите
лей, которые связаны с теми же языковыми значениями, что и эти зрительные представления
Благодаря таким ассоциациям, которые в отличие от первого звена могут быть названы собственно орфографическими, исходные слуховые и слухо-артикуляционные восприятия через посредство понимания семантики отдельных элементов языка переводятся в зрительные представления, а эти последние вызывают правильные орфографические действия.
К морфологической орфографии в русском языке примыкают некоторые написания, которые не связаны с обозначением морфем, а непосредственно передают средствами, специфически присущими письму, те или иные логические, смысловые оттенки речи. К такой категории орфографии лингвисты относят употребление заглавной буквы в именах собственных, интервалы между словами, слитное и раздельное написание частицы не и некоторые другие.
Заглавная буква в именах собственных не обозначает никакой морфемы и не передает, таким образом, никакого грамматического значения. Она служит для различения чисто смысловых оттенков речи. В то время как слово Орел, написанное с заглавной буквы, обозначает город, слово орел, написанное со строчной буквы, соотносит это слово с понятиями другого рода; путем интервала разделяются в письменной речи комплексы звуков, обозначающие разные понятия. Слитное написание частицы не указывает на лексическую целостность данного слова, выражающего отрицательное понятие (невежда, неприятель, неяркий и т. д.); раздельное написание — отрицание понятия {не приятель, а просто знакомый; свет не яркий, но достаточный и т. п.).
Как видно из этих примеров, соблюдение подобных правил письма не требует различения и выделения отдельных морфологических элементов слова, но это не означает, что семантика языка, взятая в более широком значении, не играет при этом роли.
1 Механизм таких ассоциаций в какой-то мере напоминаем те условные временные св^зи, которые обнаружены школой И. П. Павлова при сочетании двух сложных раздражителей имеющих в своем составе тождественный компонент. В данном случае в качестве такого общего компонента выступает значение.
Очевидно, что если мы знаем соответствующие правила, то для того чтобы написать слово орел с заглавной или строчной буквы, надо понимать различный смысл этих слов; или для того, чтобы оставить интервал между двумя звукосочетаниями, надо понимать, что мы пишем слова, обозначающие разные понятия; чтобы написать, например, слитно и раздельно слово неприятель, следует понимать смысл целого предложения. Таким образом, в такой смысловой орфографии (как мы условно ее обозначаем за неимением в лингвистике определенного обобщающего термина) графическая форма, как и в морфологической орфографии, служит для выражения различных языковых значений. Только значения эти другого рода, чем значения отдельных морфем. С другой стороны, общее, что роднит подобную смысловую орфографию с морфологической, является фонетическая необусловленность обоих написаний. В смысловой орфографии возможность следовать за фонетикой полностью исключается, так как, например, размер букв или раздельность написания (в большинстве случаев) не имеют соответствующих коррелятов в звуковой речи. В то же время и смысловые, и морфологические написания играют в письменной речи смыслоразличительную роль. Поэтому, с психологической точки зрения, нет оснований как-то выделять в нашем анализе общих проблем орфографии смысловую орфографию в отличие от морфологической. Мы полагаем, что при рассмотрении общей теории правописания те положения, которые высказаны нами по отношению к морфологической орфографии, могут быть в равной степени отнесены и к смысловой. Морфологическая и смысловая орфограмма может быть объединена в один общий тип, который, в отличие от фонетического письма, лучше всего именовать семантической орфографией.
Таков в общих чертах механизм процесса усвоения морфологической орфографии в том идеальном случае, когда он протекает в полном соответствии с языковой сущностью данного типа орфограмм.
Обратимся теперь к рассмотрению особенностей написания традиционной орфографии. Конечно, как в морфологической, так и в традиционной орфографии имеется немало случаев совпадения произношения с правописанием. По отношению к таким орфограммам можно ска-
зать все то, что уже говорилось по поводу фонетической орфографии. Поэтому в дальнейшем речь будет идти лишь о таких традиционных написаниях, особенностью которых является несоответствие правописания произношению.
Однако, если в морфологической и смысловой орфографии это несоответствие обусловливается смыслоразличительной функцией, которую выполняют такие орфограммы, обозначая на письме различие отдельных структурных элементов языка, то традиционные написания такой функцией не обладают. Как известно, традиционные написания не имеют грамматических соответствий в русском языке; они единичны, неповторимы, так как в своем большинстве представляют заимствования из иностранных языков. Поэтому их графическое изображение носит чисто условный характер (по терминологии некоторых лингвистов, они и обозначаются как «условные»). Естественно, что психология их усвоения отличается от вышеописанных двух типов орфограмм. Графическую форму таких орфограмм приходится запоминать «персонально».
Однако и в данном случае мы не можем свести психологический процесс исключительно к «зрительной памяти», к зрительно-двигательному навыку. Надо иметь в виду, что эти зрительные представления не бессмысленны, а потому не могут представлять полной аналогии с запоминанием бессмысленных слогов. Надо помнить, что и в данном случае зрительные представления отражают формы слова, имеющего свое значение. А потому и процессы памяти, направленные на запечатление этой формы, неотделимы от процессов понимания этих значений. Поэтому и в случаях традиционного написания мы не можем говорить о проявлениях механической памяти.
Понимание значения слова является тем процессом, который резко отделяет такие случаи запоминания от запоминания бессмысленного материала. По отношению к орфографии это хорошо известно на практике. Для педагогов азбучной истиной является то положение, что при запоминании орфографии единичных «трудных слов» в первую очередь надо знакомить учащихся с их смыслом. Без соблюдения этого правила запоминание орфографии слова представляется трудно осуществимым. Однако, несмотря на то, что семантика языка оказывает 104
свое влияние на усвоение орфограмм традиционного написания, они отличаются от семантической орфографии тем, что языковой анализ ограничивается лишь выделением целого слова на основе его лексического значения и не распространяется на его грамматическую структуру. Полная структура ассоциаций имеет в данном случае в качестве первого члена сложное образование: зрительное представление -* значение слова. В про-цессе же письма образуется ассоциация между подобным семантико-зрительным представлением слова и соответствующим орфографическим действием.
Рассмотрение структуры правильных орфографических навыков с точки зрения определенной физиологической и психологической теории их образования дало возможность выделить три группы орфограмм, тип усвоения которых находится в зависимости от их объективной языковой характеристики.
Группа фонетических написаний осуществляется путем реализации ассоциаций следующей структуры: слухоартикуляционное восприятие — зрительное представление - письменная реакция. Традиционные написания требуют образования ассоциации типа: слухо-артикуляционное восприятие слова -► семантико-зрительное представление его -* письменная реакция. В основе семантической орфографии как морфологической, так и смысловой лежат наиболее сложные системы ассоциаций: слухо-артикуляционное восприятие -► смысловое или грамматическое значение — зрительное представление -* реакция письма. Такова схема структуры навыков, относящихся к основным трем типам орфограмм.
Однако психологическая характеристика усвоения всего разнообразия орфографических правил русского языка далеко не исчерпывается подобной общей характеристикой. Усвоение их индивидуализируется в зависимости от тех дополнительных особенностей, которыми отличаются отдельные орфографические правила. В фонетической орфографии такая индивидуализация вызывается характером той звуковой ситуации, которую в процессе письма учащимся приходится различать и выделять. Как на пример подобного различия можно указать на усвоение написания твердых согласных и обозначение мягкости согласных через посредство мягкого знака или путем Йотирсвапных гласных. Педагоги хороню знают, что
если первые усваиваются учащимися легко, попутно с прохождением алфавита, то обозначение мягкости согласных вызывает особые трудности, требующие выделения особых орфографических «тем» и в программе, и в учебниках. Затруднения здесь связаны как с различением мягкости звучания, так и с различением способов ее обозначения на письме.
В семантической орфографии к различным трудностям звукового анализа добавляется трудность, связанная с анализом смысловых, лексических и грамматических значений, а так как эти значения весьма разнообразны в языке, обладают различной степенью абстрактности, то и процессы их различения и выделения усложняются в разной степени.
Кроме того, чтобы решить орфографическую задачу, часто бывает необходимо, помимо опознавания основного значения данной морфемы, выделять ряд дополнительных особенностей ее употребления. Так, например, в правописании падежных окончаний имен существительных недостаточно, например, в сочетании слов на лошади и на лошадке усмотреть в конечном звуке падежную флексию, выражающую значение, присущее предложному падежу, а необходимо определить также и начальную форму слова, род, число и тип склонения этих слов. Каждая из этих операций, в свою очередь, опирается на грамматические понятия различной сложности. В силу этого процесс усвоения написания таких орфограмм в значительной мере усложняется. Одним словом, ввиду того, что грамматические и смысловые основы написания орфограмм весьма разнообразны, то и процессы усвоения правильного письма также значительно индивидуализируются.
Учитывая такие особенности русской орфографии, следует считать глубоко правильным основное направление в развитии методики, требующее дифференцированного подхода к обучению разным типам орфограмм.
Такая типологизация особенно важна внутри семантической орфографии. Однако до сих пор, как мы это видели, подобной классификации в методике еще не создано.
В педагогической психологии также нет для этого достаточного материала. Еще слишком мало имеется у нас исследований, посвященных усвоению отдельных
|С6
орфографических правил, чтобы сделать широкое обобщение.
Однако в дальнейшем изложении при анализе отдельных правил правописания мы попытаемся наметить некоторые черты подобной типологии.
Выше мы наметили структуру тех ассоциаций, которые лежат в основе правильного письма. Теперь нам следует перейти к вопросу о том, каким образом вырабатываются ассоциации, относящиеся к отдельным звеньям процесса усвоения, и каковы те условия, которые обеспечивают наибольшую эффективность этой выработки.
Изложение психологических взглядов представителей грамматического и антиграмматического направления в достаточной мере облегчает нам наметить основную линию предстоящего анализа. Исследования Ушинского и его последователей, теория обучения советских методистов, практика советской школы опровергли ложное понимание природы орфографических навыков, основывающейся якобы на запоминании зрительных образов отдельных слов ’. В советской школе применяют, правда, методы, основанные на запоминании орфографии целых слов. Так, например, ученики в начале обучения составляют для заучивания словарики трудных слов для некоторых типов орфограмм (традиционных), такой путь, как мы видели, вполне соответствует их языковой природе, но для изучения русской орфографии такие случаи представляют скорее исключение, чем правило, предварительный этап, чем основной метод. Главной же линией в обучении является путь сознательного усвоения орфографии, основанный на понимании языковой сущности орфографических явлений и на изучении грамматики.
Поэтому, анализируя пути выпаботки орфографических ассоциаций, мы в основном будем выяснять психологические основы сознательного усвоения.
Как известно, выработка временных связей происходит в результате сложной аналитико-синтетической деятельности коры головных полушарий. В опытах над животными И. П. Павлов установил основные этапы
1 С критикой подобных теорий читатепь может познакомиться в наших ранних раб тах: «Очерки психологии усвоения орфографии», 1948 и «Правописание как сознательный навык», «Известия АПН РСФСР», вып. 3, 1946.
подобной деятельности: этап первичной (или диффузной) генерализации, на котором ответная деятельность организма вызывается целым рядом сходных раздражителей, как имеющих значение для ориентировки животного в окружающей среде, так и не имеющих; этап дифференцировки (или специализации) раздражителей, в процессе которой из этих раздражителей начинают вызывать известные реакции лишь некоторые из них, имеющие непосредственное отношение к данной, конкретной жизненной обстановке, и, наконец, процесс высшего синтеза (или принцип системности), благодаря которому животное реагирует на данную совокупность раздражителей как на нечто единое и цельное, несмотря на частичное изменение создавшейся жизненной ситуации.
Для выработки дифференцировки и системной деятельности коры необходим целый ряд условий, основным из которых является, по Павлову, повторное предъявление раздражителей, сопровождаемое подкреплением (обычно пищевым) правильных ответов и неподкрепле-нием неправильных. В результате всех этапов аналитикосинтетической деятельности у животного образуются условные связи как между отдельными раздражителями, входящими в данную систему, так и между системой этих раздражителей и ответными движениями животного. По мере укрепления этих связей путем повторения вырабатывается динамический стереотип: данная система раздражителей вызывает одни и те же шаблонные действия.
Физиологическим механизмом навыков у человека является также образование стереотипов, так как основные законы высшей нервной деятельности одинаковы для животных и для людей.
Однако ставить в один ряд дрессировку животных и обучение человека означало бы допустить грубую методологическую ошибку против материалистической теории развития человеческого сознания и вступить в противоречие с действительностью школьной практики.
Овладение в процессе труда речью положило резкую грань между животным миром и человеком. Язык и речь приобрели величайшее значение для поведения человека, в том числе и для обучения.
Учение И. П. Павлова о взаимодействии двух сигнальных систем дает естественнонаучное обоснование
подобной роли языка в развитии сознания Человека. «Чрезвычайная прибавка» к механизмам нервной деятельности, которую человек получил в виде второй сигнальной системы, осуществляет высшую отражательную функцию мозга, которая связана с языком, с речевым мышлением.
Вторую сигнальную систему Павлов, как известно, называл высшим регулятором человеческого поведения.
Регуляция со второй системы вносит существенные различия в тот процесс образования временных связей, выработка которых, по И. П. Павлову, является физиологической основой обучения. Такие изменения зависят от того, что всякое слово есть обобщение и отвлечение от действительности.
При образовании условных рефлексов у животных, обладающих только первой сигнальной системой, регуляция их поведения совершается исключительно через изменение внешней среды, посредство-м изменения непосредственных раздражителей, имеющих первосигнальный характер. Павлов писал, что «животные сносились и сно--сятся с окружающим миром только при помощи тех впечатлений, которые они получали от каждого отдельного раздражителя в виде всевозможных ощущений зрительных, звуковых, температурных и т. д.» !.
Слова (устной или письменной речи), воспринимаемые зрительно или на слух, также являются реальными раздражителями.
Но слово, по выражению И. П. Павлова, есть такой «многообъемлющий раздражитель», который «заменяет массу ощущений» и может вызвать все те действия, которые обусловливаются этими раздражителями. Поэтому регуляция деятельности человека становится возможной без воздействия непосредственных раздражителей, падающих на нервную систему из внешней среды. Реальную систему раздражителей заменяет здесь словесное описание или указание. В таком случае регуляция со второй сигнальной системы происходит, как выражался И. П. Павлов, «на основе общих понятий о времени, пространстве, причинности и т. д.» 1 2.
1 «Павловские среды», т. III, стр. 318.
2 Т а м же, стр. 231.
Однако, по учению И. П. Павлова, вторая сигнальная система находится в тесном взаимодействии с первой. Это означает, что слово способно играть свою регулирующую роль только тогда, когда оно непосредственно или через посредство промежуточных слов-понятий связано в прошлом опыте с соответствующими впечатлениями от непосредственной, реальной действительности. В противном случае, когда смысл слова представляется смутно или совсем непонятен, мы будем иметь дело с «верба-лизмом» — употреблением в речи слов или предложений безотносительно к их содержанию. Школе хорошо известны такие факты формального усвоения учащимися правил, определений научных понятий и закономерностей. В таких случаях мы имеем неправильное соотношение работы первой и второй сигнальных систем. Системы нервных связей, оживляемых в мозгу данными словами, не соответствуют в той или другой мере тому участку реальной действительности, который при правильном научном мышлении заменяется этими словами.
При этом, однако, надо иметь в виду, что, наряду с внешней речью, имеется и речь внутренняя, речь беззвучная, которая является основой мышления «про себя». Поэтому было бы ошибочным считать, что правильное мышление обязательно связано с произносимыми вслух словами.
Речевые формы, характерные для «внутреннего произнесения», находятся в таком же отношении к замене впечатлений реальной действительности, как и слова внешней речи. Хотя Мы не имеем никаких физиологических данных о роли слова в явлениях внутренней речи, тем не менее очевидно, что эти явления относятся также к деятельности второй сигнальной системы.
Таким образом, регулирующее участие второй сигнальной системы в выработке системных нервных связей коренным образом изменяет процесс образования условных рефлексов, происходящий на уровне первой сигнальной системы.
Вмешательство в процесс обучения слова сказывается на его результатах. Опыты учеников И. П. Павлова (Н. И. Красногорского, А. Г. Иванова-Смоленского и др.) показали, что процесс образования временных связей у детей протекает легче, быстрее и точнее при так называемом «словесном подкреплении», чем без него.
Если предшествующий опыт ребенка обеспечивает понимание словесной инструкции, то условные реакции образовываются сразу, не требуя дополнительных повторений. Физиологи в таких случаях, вслед за Павловым, говорят о «внезапности» образования новых связей.
Изложенные теоретические положения и физиологические данные о роли слова имеют общее значение для любой деятельности человека. Наша задача состоит в том, чтобы рассмотреть с этой точки зрения основные проблемы усвоения орфографии.
Такими проблемами при сознательном усвоении орфографии являются, в первую очередь, вопросы о роли грамматики и орфографических правил. Значение этих факторов заключается в том, что владение грамматическими понятиями и орфографическими правилами означает возможность образования орфографических ассоциаций через посредство воздействия слова, т. е. через регуляцию со второй сигнальной системы.
Основное назначение грамматики при анализе отдельных структурных элементов языка заключается в установлении отношений, существующих в языке между формой данных грамматических категорий и их языковым значением, так как структурные элементы выделяются в грамматике не только по их звуковым формам, но и по их языковым функциям. Грамматические ассоциации лежат, как это было выяснено выше, в основе усвоения морфологической орфографии. Для того чтобы сознательно устанавливать подобные связи, необходимо владение грамматическими понятиями. А как всякое понятие, понятие грамматическое представляет собой обобщение и отвлечение.
При этом усвоение грамматических понятий требует высокого развития обобщающей и абстрагирующей мыслительной деятельности, потому что существо грамматических понятий требует не только отвлечения от предметов и явлений реального мира, что свойственно всем понятиям, но и отвлечения от конкретного смысла слов, обобщающих наши непосредственные впечатления от этого мира. Грамматические обобщения служат как бы вторым «этажом» абстракций, надстраивающимся над первичными словесными обобщениями.
Таким образом, осознать те отношения, которые существуют между звуковой формой и значением, можно,
Лишь выразив эти отношения в словесной форме (термй-ны, определения, правила). Лишь словесное выражение языковых закономерностей дает возможность произвольно оперировать понятиями, различать и выделять отдельные структурные элементы языка в соответствии с их значениями, другими словами, осознавать морфологический строй языка.
Благодаря всему этому образование «грамматических ассоциаций» производится наиболее эффективным способом.
В свете изложенного становится понятной и роль орфографического правила. Как мы указывали выше, понимание языковых значений не ведет еще само по себе к усвоению графических норм письменной речи. Для этого необходима выработка ассоциаций между значимыми элементами языка, воспринимаемыми слухо-речедвигательно, и представлением графической формы тех же элементов. Роль орфографических правил и заключается в том, что они устанавливают определенные отношения между языковыми обобщениями и их графической формой.
Регулирующая роль большинства правил, действительно, заключается в том, что они дают графические образцы написания и содержат указание на то, какой грамматической категории принадлежит эта форма (например: «окончания 3-го лица глаголов пишутся через -тел»; «наречия на шипящую пишутся с ь» и т. п.). Исключением из такого типа правил являются те из них, которые не фиксируют конкретных форм письма, а содержат лишь указания на прием, который должен применить ученик, чтобы определить искомую графическую форму (например, прием определения правописания безударных корней слова и так называемых сомнительных согласных).
Очевидно, что эффективно выполнять свою роль правило может лишь тогда, когда зрительное представление графического образца прочно закреплено в памяти ученика в неразрывной связи с данным грамматическим значением, осознаваемым путем предварительного усвоения грамматики. Психологически это означает, что усвоение правила, за которым лежат определенные языковые обобщения, есть процесс осмысленного запоминания,
Основанного на тесном взаимодействий Первой и второй сигнальных систем.
Такое толкование принципиально отличается от попыток некоторых буржуазных ученых свести процесс усвоения орфографии к процессам механического, т. е. преимущественно первосигнального характера. (Как известно, например, свои «закономерности» усвоения орфографии Лай и его многочисленные последователи выводили на основе опытов с запоминанием бессмысленных слогов и слов.)
То, что правило является обобщением, означает, что зрительное представление данной орфограммы не является обозначением какого-нибудь единичного явления языка, как это имеет место, например, при традиционных написаниях. Так как правило, благодаря слову, оперирует грамматическими понятиями, указывая на связь данной графической формы с ее значением, действие по правилу приобретает обобщенный характер. Графическая форма данного конкретного явления служит для обозначения одних и тех же структурных элементов языка, встречающихся в любом фонетическом, грамматическом и синтаксическом окружении. Можно сказать поэтому, что те ассоциации, которые вырабатываются при усвоении орфографических правил, имеют обобщенно-избирательный характер.
Действие по правилу в терминах логики обычно обозначается как процесс подведения под правило частных случаев орфографии. Очевидно, что это может осуществиться лишь в том случае, если, говоря о случаях осознанного применения правила, между правилом в его обобщающей словесной формулировке и данным типом орфограмм существуют прочно закрепленные ассоциации. Если имеется правило: «Все наречия на шипящую пишутся с 6», то очевидно, что при встрече с наречием подобного типа ученик должен вспомнить именно это правило, а не какое-нибудь другое. Столь же очевидно, что для того чтобы актуализировалась эта ассоциация, ученик должен опознать данное слово как наречие. Это может произойти в том случае, если в действие вступит ассоциация грамматического порядка: звуковая форма наречия его языковое значение.
Так как правило имеет обобщенный характер, то любое встреченное впервые наречие данного типа при проч
ности этих обоих видов ассоциаций будет писаться правильно вне зависимости от второстепенных, в данном случае фонетических и лексических, особенностей нового наречия. Таким образом, выработку необходимых ассоциаций через посредство правила можно рассматривать как регуляцию письма, осуществляющуюся посредством вспоминания правила и оперирования грамматическими понятиями, заключенными в правиле.
Подобная регуляция основана на том, что нужные графические формы, их образцы ученик вспоминает одновременно с восстановлением в памяти в полном или сокращенном виде текста правила.
Однако не только знание правил открывает пути для образования орфографических ассоциаций. Если при вспоминании правила учащийся находит искомую графическую форму в словесной формулировке правила, то при так называемом письме по аналогии он может найти ее при помощи вспоминания слов, знакомых ему в орфографическом отношении и содержащих данную орфограмму.
В практике школы этот прием, наряду с применением правила, с давних пор получил широкое распространение. На нем основан целый ряд способов обучения, известных под названием «подыскивания опорных слов», или метода «подстановки». Более того, некоторые орфограммы по своим языковым особенностям таковы, что их правописание не может быть обобщено в правила, дающие определенные графические образцы. Мы уже упоминали выше, что к таким орфограммам относятся широко распространенные в письменной речи безударные корни слов и так называемые «сомнительные согласные» (согласные звуки в слабой позиции: снег, лее, травка и т. п.). Правила, относящиеся к таким орфограммам, сообщаются уже в начальной школе и обычно формулируются следующим образом.
Правило о безударных гласных: «Для того чтобы узнать, как пишется безударная гласная в корне, надо подобрать другое однокоренное слово с ударением на этой гласной» (вода — воды). Правило о сомнительных согласных: «Для того чтобы проверить правописание глухих или звонких согласных, надо изменить слово так, чтобы после согласной стояла гласная» (снег — снега, травка — травинка).
Так как гласные и согласные весьма разнообразны, то в правиле невозможно фиксировать определенный графический образец. Находить эти образцы должен сам ученик, а для этого правило рекомендует определенный прием — подыскание опорного слова, т. е. прием, основанный на аналогии. Некоторые методисты широко обобщают подобный прием, рекомендуя применять его не только к правилам вышеприведенного типа, но и при изучении орфограмм, позволяющих использовать точное правило.
Так, С. П. Редозубов пишет: «Главнейшим правилом правописания в III классе является: «Безударные окончания пиши так, как пишутся ударные окончания в словах, относящихся к одной и той же грамматической группе (на башне — на стене; красная, синяя — голубая; видишь — сидишь)»1. Автор переносит этот прием на правописание падежных окончаний существительных и прилагательных и также на личные окончания глаголов, хотя ко всем таким орфограммам имеются точные правила.
В своей методике так же широко рекомендуют применять прием опорных слов А. И. Воскресенская и М. Л. Закожурникова: «Дети должны твердо запомнить, что безударные окончания пишутся так же, как и ударные, и знать правило: «Безударные окончания проверять ударными» 1 2.
Особенно значительную роль в обучении отводит аналогии Н. С. Рождественский, так как приемы сопоставления и противопоставления, рекомендуемые им, есть не что иное, как приемы, основанные на аналогии.
В чем заключаются психологические особенности такого письма «по аналогии»?
Очевидно, что различие письма по аналогии и письма с применением правила состоит в том, что в первом случае пишущий не вспоминает правила, а отыскивает искомую графическую форму, ассоциируя данное слово со словами, которые могут помочь ему в разрешении возникшего сомнения. Предположим, что эти ассоциации
1 С. П. Редозубов, Методика русского языка в начальной школе, Учпедгиз, 1950, стр. 132.
2 А. И. Воскресенская и М. Л. Закожурникова, Практическое руководство к преподаванию русского языка в начальной школе, Учпедгиз, 1950, стр. 210.
грамматически правильны. Тогда, например, слово водяной, вызвавшее сомнение у ученика по поводу правописания корня вод, ассоциируется с представлениями других однокоренных слов — вода, водичка, воды, водовоз и т. д. Одно из этих слов (в силу ли его фонетических особенностей или просто из-за того, что учащийся знает, как оно пишется) помогает найти искомую графическую форму, и он реализует представление на письме. Возникновение цепи ассоциаций между рядом слов не всегда обязательно. Слово водяной может вызвать сразу нужное «опорное» слово. Но в обоих случаях психологическим процессом, лежащим в основе аналогии, будет образование ассоциаций между восприятием подлежащего записи слова и некоторыми другими словами (или словом). Такие ассоциации, в отличие от ассоциации со словесной, обобщенной формулировкой «точных» правил, могут быть условно обозначены как межсловесные.
При актуализации таких ассоциаций новое слово пишется правильно потому, что соотносится с одним или несколькими словами, правописание которых ученик знает. Графический или слухо-артикуляционный образец берется в таком случае не путем вспоминания текста правила, а путем представления соответствующих слов.
Но то, что при выработке таких ассоциаций ученик может обходиться без вспоминания орфографических правил, означает ли, что для правильного ассоциирования ему не нужны грамматические знания.
Легко видеть, что это не так. По этому поводу М. В. Ушаков справедливо замечает: «Чтобы правильно проверить форму к деревне при помощи к земле и чтоб не проверить к лошади при помощи того же к земле, надо прежде всего знать, что существительные лошадь и земля разных склонений» L
Очевидно, что и в нашем примере правильные ассоциации к слову водяной могут возникнуть у ученика лишь в том случае, когда он будет реагировать не на лексическое значение целого слова-раздражителя, а на общее вещественное значение, заключенное в корне вод. Для того чтобы эта операция производилась сознательно,
1 М. В. У ш а к о в, Методика правописания, Учпедгиз, 1947, стр. 68.
знания о морфологическом составе слова являются обязательными L
При установлении грамматического родства слов особо важную роль играет семантическое сходство структурных элементов слова {гора — горный), поскольку звуковая тождественность отдельных звукосочетаний далеко не всегда означает и грамматическую тождественность {гора — горячо).
Поэтому при выработке межсловесных ассоциаций, равно как и при применении правил, усвоение учащимися грамматических понятий играет решающую, роль. Это вполне естественно, так как, пользуется ли ученик правилом, ищет ли он искомую графическую форму путем аналогии — первым звеном орфографических связей является опознание данной морфемы, которое может быть правильно осуществлено лишь при наличии ассоциации между звуковой формой и ее языковым значением. Л знание этих отношений дается грамматикой.
Не следует думать, что путь межсловесных ассоциаций используется учащимися лишь в строго ограниченных случаях: при изучении правил определенного типа или усвоения приемов «подстановки». О том, что прием аналогии широко используется учащимися, свидетельствуют ошибки учеников, вызванные так называемой «ложной аналогией». На подобного рода ошибки имеются указания как в работах психологов (Л. И. Божович, Д. Н. Богоявленский), так и методистов (особое внимание им уделяют Н. С. Рождественский и М. В. Ушаков). Но можно думать, что ошибочные аналогии являются лишь частным проявлением действия межсловесных ассоциаций, приводящих к правильному письму и вследствие этого остающихся вне поля зрения педагогов и исследователей.
Однако надо отметить, что проблема соотношения при письме «действия по правилу» и «действия по аналогии» все еще ждет своих исследователей. Эта проблема актуальна не только по своему теоретическому значению, но и для решения чисто практических задач. В ка-
1 Мы не касаемся здесь вопроса о возможности- образования таких ассоциаций на основе так называемого «чутья языка». Ввиду важности этого вопроса он будет особо рассмотрен нами в дальнейшем изложении.
кой мере, например, целесообразна тенденция некоторых методистов (о которых мы говорили выше) изучать па основе применения аналогий правописания таких орфограмм, написание которых может регулироваться знанием обобщенных «точных» правил. Не будут ли навыки, созданные таким путем, носить слишком узкий, недостаточно широко обобщенный характер? Материала для решения этого важного вопроса в психологических исследованиях еще недостаточно.
Характеристика двух путей выработки орфографических навыков показывает психологическую сложность и своеобразие этих процессов. Сложность эта объясняется тем, что образование правильных орфографических ассоциаций требует активной мыслительной деятельности учащихся, т. е. регуляции со второй сигнальной системы. Тем не менее основные этапы аналитико-синтетической деятельности, намеченные И. П. Павловым, отчетливо выступают и из нашего материала; но, благодаря вмешательству в процесс усвоения слова, эти этапы приобретают весьма своеобразный характер.
Первичная генерализация проявляется при обучении орфографии в тех хорошо известных школьной практике случаях, когда границы применения нового орфографического правила неправомерно расширяются и под правило подводятся орфограммы, к нему не относящиеся. Такую форму генерализации можно условно назвать внутр и по н яти й но й.
Она вызывается неадекватным усвоением грамматического понятия, лежащего в основе правила. Из среды признаков, характеризующих содержание понятия и образующих синтетическое целое, фактически действующими оказываются лишь некоторые из них, в то время как другие остаются как бы замаскированными. Действующий признак неправомерно универсализируется, приобретая, таким образом, генерализованный характер и подменяя целостное понятие. В силу этого ученик начинает судить о языковых фактах односторонне, без учета других признаков, имеющих ограничительное или уточняющее значение.
Такую односторонность мы обнаружили, например, при усвоении младшими школьниками правописания корней. Для одних из них универсальное значение в суждениях о корневой родственности слов приобрело внешнее 118
(звуковое и графическое) сходство или различие слов, для других, наоборот, определяющее значение приобрела смысловая сторона речи. В результате первые («формалисты») под понятие однокоренных слов подводили любые слова, в которых встречались сходные звукосочетания (часы — чистота — число и т. п.), а другие («семантики») однокоренными считали слова со сходным лексическим значением {горячий — теплый и т. п.), в то же время слова грамматически родственные, но с различными лексическими значениями (сторож — сторожка и т. п.) не признавались ими за однокоренные. Умножать примеры не имеет смысла, потому что большинство ошибок по ложной аналогии может быть иллюстрацией подобной внутрипонятийной генерализации по сходным несущественным признакам.
Наряду с этим наблюдается проявление м е ж п о н я-т и й н о й генерализации. В данном случае генерализующее значение приобретает не какой-нибудь отдельный элемент понятия или правила, а все правило, адекватно усвоенное и применяемое учениками. Правило в таком случае как бы втягивает в сферу своего действия ряд фактов и явлений, не относящихся к делу, и наблюдается то явление, которое в психологии принято называть неправильным переносом.
Так, после изучения правила о правописании слов мужского рода на шипящую без мягкого знака {врач) наблюдается распространение этого способа написания на слова женского рода {дочь) и, наоборот, изучение правила о правописании слов женского рода с мягким знаком оказывает обратное влияние на ранее усвоенное правило о правописании слов мужского рода..
Приведенные факты очень близки к тем явлениям, которые в психологии навыка известны под названием ассоциативного и ретроактивного торможения. Но если под этими терминами обычно понимаются затруднения в заучивании двух разных ответов на один и тот же раздражитель, то в нашем примере существенным является то обстоятельство, что одно и то же действие следует на объективно различные раздражители, которые под влиянием изучения правила субъективно воспринимаются учениками как идентичные. Это позволяет понять торможение правильных ответов учеников как проявление закона
иррадиации возбуждения от воздействия предшествующих раздражителей.
Вторым этапом аналитико-синтетической деятельности является, как известно, дифференцировка, специализация раздражителей. В нашем материале этому соответствует умение различать и выделять данный структурный элемент языка из сложного контекста. Особенностью такой специализации, как мы старались это показать выше, является образование ассоциации между звуковой формой и ее значением. Следовательно, основным дифференцирующим признаком является в данном случае языковое значение этого звукосочетания. Опознать некоторое звукосочетание как языковое явление означает увидеть в нем определенный языковой смысл, различить его языковую функцию. Все это требует сложной мыслительной работы по усвоению различных грамматических понятий, во время которой и происходит дифференциация отдельных грамматических категорий.
Благодаря слову, которое закрепляет основные существенные признаки понятия, достигается высший синтез аналитико-синтетической познавательной деятельности. Этот этап характеризуется умением ученика различать и выделять грамматические формы, отвлекаясь от всего лексического, синтаксического и фонетического контекста, в окружении которого они выступают. Специальные упражнения закрепляют после этого ассоциации между данным языковым значением, облеченным в звуковую форму, и графической формой того же самого значения. Таково самое общее представление о динамике процесса усвоения орфографических навыков, учитывающее основные этапы аналитико-синтетической нервной деятельности.
Орфографические навыки, как и всякие другие, характеризуются своей автоматазированностью. Грамотный человек пишет правильно, не вспоминая правил, хотя при необходимости он снова может вернуться к процессам анализа и синтеза, характерным для предыдущих стадий усвоения.
Физиологические основы подобной автоматизации ранее осознаваемых действий в общем виде раскрыты в трудах И. П. Павлова и его учеников.
Как известно, И. П. Павлов относил возникновение тех действий, которые в психологии называются осозна-120
ваемыми, к отделам мозга, находящимся в состоянии наибольшей возбудимости. Эти отделы он называл творческими. В этих отделах по преимуществу происходит замыкание новых связей, их синтезирование. Другие же отделы полушарий находятся при этом в состоянии пониженной возбудимости. «Их функцию, — пишет И. П. Павлов, — составляют ранее выработанные рефлексы, стереотипно возникающие при наличности соответствующих раздражителей. Деятельность этих отделов есть то, что мы субъективно называем бессознательной, автоматической деятельностью»
Исходя из подобного понимания физиологической природы автоматизации, можно представить, что первоначальная стадия выработки стереотипа, соответствующая образованию орфографического навыка, происходит при повышенной возбудимости известных участков головного мозга, а в конечном итоге орфографические действия выполняются теми же участками коры, но находящимися в данный момент в заторможенном состоянии, в то время как в активном состоянии находятся другие участки мозга, связанные, по выражению И. П. Павлова, с «нашим главным делом».
Что такое толкование соответствует взглядам И. П. Павлова, видно из следующего описания выработки динамического стереотипа: «Вся установка и распределение по коре полушария раздражительных и тормозных состояний, происшедших в определенный период под влиянием внешних и внутренних раздражений, при однообразной, повторяющейся обстановке все более фиксируются, совершаясь все легче и автоматичнее. Таким образом, получается в коре динамический стереотип (системность), поддержка которого составляет все меньший и меньший нервный труд» 1 2.
Очевидно, что уменьшение «нервного труда» есть не что иное, как понижение мозговой активности, понижение возбудимости соответствующих участков коры, переходящее затем в то состояние, при котором действие выполняется автоматически.
А. Г. Иванов-Смоленский, выступая против ложного понимания рефлекторного учения И. П. Павлова как
1 И. П. Павлов, Поли. соор, соч., т. III, кн. 1, стр. 248.
2 Т а м же, кн. 2, стр. 333.
учения о «бессознательной» деятельности, пишет, что этот термин неприложим к моменту образования в коре новой связи, к моменту замыкания, а также к более или менее значительному периоду времени, когда новая связь еще легко изменчива и неустойчива. «Лишь по мере возрастающего упрочения, — пишет он, — под влиянием многократного повторения реакция становится все более непроизвольной, «бессознательной» и автоматизированной (вторичная автоматизация)»1.
Наконец, Н. И. Красногорский находит возможным говорить об особой «автоматической фазе рефлекса». «В этой стадии, — пишет он, — скрытый период условного ответа укорачивается, сфера динамического влияния условного рефлекса на кору суживается, и он протекает все более концентрированно, не вызывая общего понижения возбудимости коры. Вследствие этого кора как целое становится снова открытой для новой приспособительной деятельности» 1 2.
Изложенные взгляды физиологов на образование навыков вполне подтверждают установившуюся точку зрения в советской психолопии на навык, как на вторично автоматизированное действие, и позволяют понять процесс автоматизации как постепенное снижение возбудимости в участках мозга, связанных с актуализацией прежде образованных связей, причем это снижение достигается путем упрочения нервных связей через посредство повторения.
Таким образом, наиболее общая физиологическая закономерность, лежащая в основе процесса автоматизации, может быть обозначена как закрепление, упрочение нервных связей, точно отдифференцированных в прошлой деятельности.
Но, чтобы не сделать из этого положения неправильных выводов о роли повторения в духе механистических теорий бихевиоризма, по которым роль повторения сводилась к закреплению связей между стимулом и реакцией, без учета корковых процессов, неразрывно связанных у человека с работой второй сигнальной системы,
1 А. Г. И в а н о в-С моле некий, Опыт систематического экспериментального исследования онтогенетического развития корковой динамики» человека, ВИЭМ, 1940, стр. 12.
2 Н. И. Красногорский, «Журнал высшей нервной деятельности», т, 1, вып. 6, стр. 794,
следует иметь в виду, что повторяться должна, кратко говоря, условнорефлекторная деятельность в целом, а не только ее начальное и конечное звено. А так как структурной особенностью сознательного усвоения орфографии являются ассоциации, реализуемые вербально, то повторная деятельность ученика должна быть организована так, чтобы в ней повторялись не только восприятия тех или иных орфограмм и соответствующие реакции письма, но и та сложная аналитико-синтетическая деятельность, которая обусловливает правильность этих реакций и в основе которой лежат второсигнальные временные связи. Ограничивать роль повторения исключительно сферой первосигнальной деятельности означало бы, по нашему мнению, нарушение павловского принципа взаимодействия первой и второй сигнальных систем.
Если известные в психологии факты о девербализации автоматизированных действий привести в согласие с павловской теорией об уменьшении траты нервной энергии, то можно полагать, что наиболее характерным признаком становления навыка является уменьшение этой траты прежде всего во второй сигнальной системе. Действительно, психологические представления об автоматизации навыков характеризуют этот процесс именно как постепенный переход от развернутого процесса суждений и умозаключений к свернутому процессу, во время которого цепь логических операций сокращается, постепенно приводя к непосредственному, моментальному выполнению действия «без размышлений». Поскольку все мыслительные операции совершаются средствами речи (внешней или внутренней), то очевидно, что подобное «свертывание» их свидетельствует о постепенном уменьшении регулирующей деятельности второй сигнальной системы. Это и приводит к тому положению, когда мы пишем по правилам, не осознавая и не вспоминая их.
Но означает ли это, что в данном случае процессы правильного письма передаются под исключительный контроль первой сигнальной системы, т. е. то, что мы начинаем руководствоваться лишь нашими восприятиями и представлениями и тем самым мы как бы полностью зачеркиваем грамматический опыт, полученный при обучении, и возвращаемся на первый, «дограмматический» этап усвоения. Мы полагаем, что это не так. Грамматические знания, несмотря на девербализацию процесса
письма, несомненно, переводят его на некоторую высшую ступень грамотного письма, по сравнению с его начальной стадией. С другой стороны, грамматические понятия (как всякие абстракции от чувственного опыта) не могут функционировать, не будучи облечены в словесную форму. Это несомненное положение несовместимо с предположением о полной передаче регуляции процесса письма в первую сигнальную систему, систему бессловесных нервных связей.
На эти вопросы, как и на другие, относящиеся к взаимодействию обеих сигнальных систем при автоматизации сложных навыков, в физиологических исследованиях мы не находим ответа.
Среди психологических исследований интересную попытку вскрыть психологический механизм автоматизации сложных навыков представляют работы П. А. Шеварева и ряда его сотрудников L Автор отмечает, что при достаточном закреплении навыка мы действуем по правилу, но само правило не осознается. Это становится возможным, потому что этап отчетливого сознавания правила сменяется действием на основе особого вида связей, образовавшихся в итоге применения правила. Этот тип связей автор называет «правилосообразными», или «обобщенными».
Обобщенность этих связей обеспечивает известную вариативность, подвижность навыков — возможность правильного выполнения действия в условиях частично измененной ситуации. Связям обобщенного характера противостоят связи «единичные», или «конкретные». Они отличаются от первых своей шаблонностью и актуализируются лишь при данной конкретной ситуации (например, заучивание таблицы умножения).
Эти положения, несомненно, правильно отмечают известные в психологии особенности функционирования так называемых сознательных навыков — их обобщенность и вариативность. Но вопрос о психологической природе «обобщенных» связей в отличие от единичных остается открытым, и по поводу понятия «обобщенная связь» можно высказать те же сомнения, о которых толь-
1 П. А. Ш е в а р е в, «Ученые записки Института психологии», 1941 и «Известия АПН РСФСР», вып. 3, 1946: см. также диссертации Н. Ф. Талызиной, С. Ф. Жуйкова, Н. К. Индик и др.
ко что говорилось, — в какой мере обобщенные связи, т. е. ассоциации, образование которых неразрывно связано со словами, могут быть «освобождены» от словесной «природной материи» -и стать перво1СИГ|Нальны1МИ.
Таким образом, возникший сложный теоретический вопрос остается нерешенным ни в работах Шеварева, ни в работах других психологов.
В порядке гипотезы следует, однако, сделать одно замечание. Материал, накопленный в психологии, показывает, что одним из самых характерных признаков автоматизирующегося действия является его девербализация. Это факт, не подлежащий никакому сомнению. О нем говорят и многочисленные факты, полученные в исследованиях Шеварева, Менчинской и ряда других психологов. По этим данным мыслительная деятельность в процессе применения правила постепенно принимает все более свернутый характер. В области обучения орфографии интересны в этом отношении данные М. О. Пучьков-ского Ч
Он проводил диктант, а затем беседовал с учениками для выяснения мотивов, которыми они руководствовались при написании некоторых трудных слов. Беседа велась в убыстренном темпе, создавая условия, близкие к тем возможностям, которые предоставляются для вспоминания правил при письме под диктовку.
При этом, как сообщает автор, выявилась с очевидностью общая тенденция «сокращения» правил, пользование лишь какими-то обрывками их, упоминание одного лишь характерного признака данного слова, приведение одного «опорного» слова и т. п.
Подобное оперирование «свернутыми» словесными формулировками напоминает известные в психологии явления внутренней речи, при которой наша мысль находит свое выражение, используя языковые средства скупо и лаконично.
Весьма вероятно, что в начале процесса автоматизации имеется нечто подобное. Словесное выражение из явления внешней речи становится явлением внутренней речи. Там оно принимает наиболее сокращенные речевые формы. Вследствие своей сокращенности мысли о пра-
1 М. О. Пучковський, Про психолопю правописных нави-чок, Кшв, 1941.
Виле, процессы умозаключения становятся все более «мгновенными». Это означает, что «думание» как процесс требует все меньшей траты нервной энергии во второй сигнальной системе, ибо при таком сокращении мыслительных процессов одно «подуманное» слово служит пусковым механизмом для целого ряда сложных систем нервных связей, сложившихся ранее в первой сигнальной системе, и прежде всего для оживления правильных зрительных представлений графических форм письма. Известная степень «сокращенности» словесных стимулов переживается субъективно как мгновенное действие.
Но это не означает,, что процесс перешел полностью в сферу действия первой сигнальной системы. В той мере, в какой мы при письме осознаем смысловую сторону речи и употребляем структурные элементы языка в соответствии с их значением, мы, переставая осознавать в словесной форме их грамматические особенности, тем не менее продолжаем различать их при письме.
Сохранение при автоматизированном письме подобного различения семантической стороны грамматического строя языка одно лишь может объяснить возможность различными графическими способами обозначать омонимные звуковые формы; например, один и тот же звук, средний между е и и, встречающийся в разных падежах имен существительных, писать либо через е, либо через и, в зависимости от падежного значения. Хотя грамотный человек не вспоминает при этом соответствующих правил и не думает о грамматической категории падежа, он продолжает понимать смысл речи, а вместе с тем те отношения между мыслимыми объектами, которые он должен выразить в письменной форме.
Так как в русском языке эти отношения выражаются падежными флексиями, то он по смыслу речи один и тот же конечный звук слова обозначает в одном случае буквой и (например, письмо подруги, родительный падеж), а в другом буквой е (письмо подруге, дательный падеж).
Таким образом, мы полагаем, что в орфографическом навыке остаются до конца не автоматизируемые элементы, которые связаны с пониманием строя языка в той мере, в какой это необходимо для правильной передачи мыслимого содержания речи. В основе такого понимания лежат ассоциации между тем или иным языковым значе-126
нием и его графической формой, закрепленные в обучении.
Такое понимание процесса автоматизации вновь подводит нас к проблеме «чутья», или «чувства языка», которая была поставлена в работах Буслаева, Ушинского, Пешковского. На рассмотрении этого вопроса мы остановимся дальше. Здесь же следует лишь отметить, что в нашем случае подобное «чутье языка» качественно отличается от того чутья, которым обладает ребенок до обучения грамматике. Это отличие заключается в том, что если чутье ребенка выражается в непроизвольном правильном употреблении речевых форм, то под влиянием обучения смутное понимание семантической функции этих форм легко может снова оказаться отчетливо осознаваемым, словесно выраженным и потому произвольно функционирующим.
Глава IV
РОЛЬ ОВЛАДЕНИЯ СЕМАНТИКОЙ ЯЗЫКА В УСВОЕНИИ ОРФОГРАФИИ
При изложении общих психологических взглядов на процесс усвоения орфографии мы старались придать этому изложению наиболее систематизированный характер, сознательно воздерживаясь при этом от приведения фактического материала, обосновывающего наш теоретический анализ вопроса. Настоящую и две последующие главы книги мы специально посвящаем обсуждению основных выдвигаемых нами положений в свете имеющихся экспериментальных данных.
В общей теории усвоения орфографии центральное место занимает мысль о той особой роли, которую играет в процессе усвоения понимание языковых значений структурных элементов языка. Этот фактор входит обязательным компонентом в оба звена орфографических ассоциаций (грамматического и собственно орфографического).
Легко видеть, что от признания или отрицания этого положения зависит судьба всей орфографической теории. Если мы в этом вопросе займем отрицательную позицию, то тем самым мы будем принуждены отвергнуть все те теории обучения, которые строятся на грамматической основе, ибо суть грамматики и заключается в раскрытии тех отношений, которые существуют в языке между формальными и семантическими признаками языкового явления.
На такой путь и становились, как известно, антиграмматисты.
Признание же этого положения обосновывает, во-первых, грамматическую основу навыка и, во-вторых, рас-128
крывает его психологическую структуру, показывая, в чем же именно заключается роль грамматики в обучении орфографии. Грамматическое направление обучения утверждало значение грамматики либо исходя из общих психологических представлений о природе навыков, либо основываясь на эмпирических наблюдениях за эффективностью обучения. Попытки конкретизировать . психологические обоснования были сделаны Томсоном и Пешков-ским, но, как мы видели, их соображения по этому поводу носили скорее характер догадок, чем научно обоснованных выводов.
Исходя из этого, мы сочли необходимым в особой главе привести и рассмотреть те экспериментальные материалы, которые освещают вопрос о роли понимания языковых значений в усвоении орфографии.
Для большей ясности изложения мы систематизировали имеющиеся материалы в следующем порядке:
1) материалы, дающие положительный или отрицательный ответ на этот вопрос;
2) материалы, раскрывающие качественную характеристику взаимоотношения понимания значений и орфографического навыка.
Для нашей цели нам следовало располагать фактами из области усвоения орфографии самых различных типов орфограмм на разных этапах обучения. Изучение усвоения одного какого-нибудь правила было бы недостаточно. Необходимо было иметь факты, обладающие достаточной степенью типичности и распространенности. Данные, полученные при изучении усвоения орфографии отдельными учениками, очевидно, не обладали бы такими качествами.
При всех этих условиях поставленную задачу возможно было решить, лишь имея материал, на основании которого можно было установить, имеется ли какая-нибудь непосредственная зависимость между степенью понимания данного языкового значения и правильностью орфографического действия учащихся.
Материала, отвечающего всем этим условиям, ни в методических, ни в психологических работах обнаружить не удалось. Поэтому для выяснения «интересующего нас вопроса мы провели самостоятельное исследование. Метод, избранный нами, можно было- бы назвать проведением «экспериментальных диктантов».
9 Д. Н. Богоявленский
129
При таком методе сохранялись все условия, необходимые для эксперимента. В диктант можно включить контрольные слова на разнообразные правила, он может быть проведен в разных классах, и, наконец, результаты диктанта легко поддаются статистической обработке, а стало быть, дают возможность судить о степени типичности наблюдаемых фактов. Однако для того, чтобы диктант мог считаться «экспериментальным», необходимо было, как и во всяком эксперименте, варьировать изучаемый признак данного явления при равных прочих условиях. Так как мы изучали влияние на орфографию семантических признаков языковых явлений, то, естественно, такими варьирующимися признаками должны были быть значения одних и тех же языковых единиц при стабильности их звуковых форм.
Следовательно, роль вариации этого признака можно проследить, изучая успешность правописания учеников «внутри» одного и того же орфографического правила, так как только в этом случае остальные условия остаются инвариантными (характер звуковой формы раздражителя и письменной реакции учащихся, система методических воздействий: способ изучения правила, характер упражнений и т. п.).
При этих условиях трудности, возникающие при письме слов и их элементов, различающихся лишь одним семантическим признаком, мы с правом будем относить за счет различного понимания учащимися языковых значений. Так как значения структурных элементов языка являются абстракциями от всего частного и конкретного, что содержится в словах и предложениях, то, изменяя содержание материала, от которого учащемуся предстояло отвлечься, чтобы понять значение тех или иных категорий языка, мы могли влиять на процесс понимания значений, ставя учеников в условия, то затрудняющие, то облегчающие выделение и обобщение одних и тех же значащих элементов слова.
Вместе с тем постоянной величиной должен был оставаться и характер методических приемов, применяемых при обучении
1 Для нашей цели поэтому не могли быть использованы школь* ные контрольные работы, так как при составлении их текстов под* бор слов на одно и то же правило обычно бывает случайным.
Что касается принципа отбора орфографических правил, включенных в диктанты, то для того, чтобы решить вопрос о том, насколько широко распространяется влияние семантики на орфографическую успешность, мы старались обеспечить наличие в диктантах орфограмм разных типов. В итоге в диктанты были включены слова на следующие восемь правил.
1. Правописание безударных гласных в корне слова.
2. Правописание безударных падежных окончаний имен существительных.
3. Правописание глагольных окончаний -тся, -ться.
4. Правописание мягкого знака после шипящих в конце слова.
5. Раздельное правописание предлогов.
6. Раздельное правописание отрицания не с глаголами.
7. Слитное или раздельное правописание не с другими частями речи.
8. Правописание сочетаний жи, ши.
Первые четыре правила этого списка принадлежат к собственно морфологической орфографии: все они регулируют правописание той или другой морфемы, но по характеру морфем и по отношению к фонетике каждое из них имеет свои особенности. Более подробно об этом будет сказано при изложении результатов диктанта по каждому правилу. Здесь следует лишь отметить, что первые два правила, несмотря на то, что принадлежат по своей фонетической природе к одному и тому же типу (безударность гласных), по своей семантике представляют существенное различие: в то время как морфема корня служит для выражения определенных вещественных значений слов, падежные окончания, выражающие синтаксические (или релятивные) значения, служат в языке показателями отношений слов в предложении.
Для различения на письме отдельных грамматических категорий часто служит наличие или отсутствие буквы ь. Мы взяли два таких случая: ь как показатель инфинитива в отличие от грамматической категории 3-го лица (-ться .и -тся) и ь как показатель женского рода имени существительного в отличие от существительного мужского рода (дочь, но врач). Таким образом, в данном случае мы имеем дело с орфограммами, различающими на письме разные грамматические категории.
Три других правила: правописание (раздельное) предлогов, отрицания не с глаголами и другими частями речи — представляют собой правила, выходящие за пределы собственно морфологической орфографии, поскольку они регулируют раздельное написание частей речи — служебных слов — от самостоятельных. Эти случаи .в определенной степени примыкают к общему правилу о раздельном написании отдельных слов, по которому комплекс звуков, обозначающих одно понятие, изображается на письме раздельно от звукового комплекса, обозначающего другое понятие. По нашей терминологии, эти случаи относятся к смысловым написаниям. Следует думать, что семантическая характеристика разделяемых на письме звукокомплексов играет при этом не меньшую роль, чем в случаях строго морфологического написания.
От раздельного написания самостоятельных слов случаи, включенные нами в диктант, отличаются тем, что во-первых, предлоги и отрицательная частица не не выражают самостоятельных понятий, а, во-вторых, пишутся не только раздельно, но и слитно в тех случаях, когда служат в качестве приставок для образования новых понятий (например, не приятель и неприятель, по дороге и подорожник и т. п.). Для наших целей подобные свойства таких орфограмм представляли значительный интерес.
Таким образом, в диктанты были включены слова, типичные для морфологической и смысловой орфографии. При этом большинство правил (такие, как правило о безударных гласных, о падежных окончаниях, о слитном и раздельном правописании) относится к числу правил, наиболее трудно усваиваемых в школе.
Так как русская орфография по своей природе морфологична, то основная масса орфографических правил, изучаемых в школе, относится к одному из этих типов правил. Однако есть незначительное число орфографических правил, которые регулируют правописание не морфем, а тех или иных устойчивых буквенных сочетаний, вне зависимости от того, в какую морфологическую часть слова они входят. В таком случае данная орфограмма не имеет смыслоразличительного значения, так как ее графическая форма не обусловливается морфологически; правописание объясняется, например, исторической традицией. Для наших целей наличие в русском
языке таких семантически не обусловленных орфограмм представляло исключительный интерес, так как давало возможность проверить нашу гипотезу своего рода доказательством от противного в том случае, если усложнение семантики слов не оказало бы влияния на правописание таких орфограмм. Из того небольшого количества правил, относящихся к этому типу, мы выбрали распространенное правило о правописании сочетаний жи, ши, которые, в отличие от твердого современного произношения, обозначают на письме буквой и свойственную ранее русскому языку мягкость шипящих.
Большинство этих правил относится к группе, которую мы обозначали как «точные» правила. От этих правил отличается правописание безударных корней. Текст этого правила характерен тем, что не дает точного графического образца написания корней. Сравнение данных о правописании корней с другими правилами может послужить, таким образом, выяснению вопроса о роли понимания значений как при образовании орфографических ассоциаций с помощью правила, так и путем образования межсловесных ассоциаций.
По каждому из перечисленных выше правил в диктанты включалось несколько контрольных слов, каждое из которых ученики писали один раз. Эти слова отличались друг от друга некоторыми особенностями, которые в той или другой степени затрудняли понимание значения и опознавание той морфемы, написание которой регулировалось данным правилом. (Подробности отбора слов будут изложены ниже при описании результатов диктанта по каждому типу правил.)
Всего было составлено три варианта диктантов: для II класса, для III и IV и, наконец, для остальных классов средней школы. Одни из контрольных слов повторялись во всех вариантах, являясь своего рода «сквозными» словами; другие были включены лишь в тексты диктантов того или другого варианта, что объяснялось объемом программных требований начальной и средней школы.
Диктанты состояли из отдельных предложений.
В диктантах для начальной школы употреблялись простые или короткие сложносочиненные предложения; для средней школы синтаксис предложений усложнялся соответственно требованиям программы.
Диктанты проводились учителями в присутствии экспериментаторов L Последние производили как проверку диктантов, так и подсчет ошибок. Следует отметить, что за ошибку считалось не только неправильно написанное слово, но и слово, исправленное учеником, хотя бы и правильно, так как для нашей цели важно было учесть не столько конечный результат письма, сколько наличие орфографической трудности. Поэтому цифровые данные ошибок, приводимые нами ниже, не могут считаться показателем школьной успеваемости, — они значительно снижают ее.
В письме диктантов принимало участие 1128 учащихся, которые по отдельным классам распределялись следующим образом:
Классы II III IV V VI VII VIII—IX* X
Количество учащихся 188 183 170 133 117 161 85 91
Учитывая, что на каждое правило в диктанте имелось по нескольку орфограмм, можно считать полученные данные в статистическом отношении достаточно достоверными.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПРАВИЛАМ
Безударные гласные в корне слов
В соответствии с задачей исследования в правописании безударных гласных нас интересовал вопрос, в какой мере на орфографической успешности отразятся те особенности контрольных слов, которые, как можно предполагать, затрудняют понимание учащимися значения их корней и вследствие этого опознавание их.
Некоторые условия, затрудняющие понимание значения корня, нам удалось выяснить ранее. Из них мы исхо-
1 Эта работа выполнялась нами в сотрудничестве с В. Н. Один-цовой.
2 Данные по VIII и ИХ классам ввиду их сравнительной малочисленности при подсчете были объединены.
дили при подборе контрольных слов диктантов. Особенности этих слов были следующие:
1. Значение корня понятно ученикам, с этим корнем они часто встречались в простых словах. В диктанте же эти корни включались в слова, лексическое значение которых затушевывало значение корня, благодаря различным аффиксам, придающим словам добавочные значения.
Например: копчушка (тот же корень в знакомых словах копоть, копченый и т. п.); прикорнул (тот же корень в слове короткий, корточки и т. п.).
2. Значение корня мало доступно школьникам, ввиду необычности для них соответствующих понятий (воплотить — плоть; удивительно — диво; палатка — палаты).
3. Значение корня не может быть осмыслено из-за объективных особенностей слова: неясной этимологии слова (например, насекомое) или иностранного происхождения (шинель, дифирамбы, гортензия). Такие слова сближаются по характеру усвоения со словами традиционного написания.
4. Омонимике корни с усложнением их смысловой дифференциации: чистота — частота; спеши — спиши; седеть — сидеть, в которых семантические различия корней легко устанавливаются; с другой стороны, уравнение — поровняться, где различение значения корней равн — ровн сильно затруднено.
5. Корни слов с легкой семантикой, вполне доступные ученикам, например, гора, цветы, дождевой, пригодиться, приготовить и т. п.
Сопоставление орфографической успешности в письме, с одной стороны, слов с простой, очевидной для учащихся семантикой корня, а с другой — слов с разной степенью усложнения их корневых значений могло, по нашему мнению, в той или другой мере способствовать выяснению интересующего нас вопроса.
Кроме отбора контрольных слов по этим признакам, мы подбирали как «легкие», так и «трудные» слова таким образом, чтобы среди них были слова, проверяемые сопоставлением с «проверочным» словом, в котором данный корень находится в ударном положении, и слова непроверяемые, т. е. не имеющие в языке однокоренных слов с ударением на корне.
Сопоставление результатов диктанта этих двух групп
слов должно было обнаружить, в какой мере успешность правописания зависит от проверяемости и непроверяемое™ ударением. Таким образом, мы могли бы проверить, насколько правильно широко распространенное среди некоторых методистов и педагогов мнение о том, что сопоставление с «проверочным» словом, т. е. с фонетическим образцом, является единственным средством обучения правописанию безударных корней на грамматической основе. Усвоение же непроверяемых корней, при котором возможность такого сопоставления исключена, происходит будто бы исключительно путем зрительно-двигательного запоминания каждого отдельного слова и потому представляет по сравнению с проверяемыми словами значительную трудность.
В противоположность такому мнению, мы полагаем, что процесс усвоения орфографии безударных корней может иметь в своей основе грамматические обобщения и в том случае, когда ученики имеют дело с «непроверяемыми» словами. В данном случае сопоставление происходит не с фонетическим, т. е. слухо-артикуляционным «образцом», а со зрительным, т. е. с представлением графического изображения данного корня, полученным учащимися в результате прежних «встреч» со словами данного корня и закрепленным в памяти повторностью восприятия. В связи с этим нам казалось, что правописание непроверяемых корней не должно принципиально отличаться от проверяемых.
Мы полагали далее, что опора на слухо-артикуляционное представление при «проверке» не имеет такого исключительного значения, которое склонны придавать ей многие авторы, даже и при письме «проверяемых» корней. Мы думаем, что роль «зрительного образца» должна расти вместе с расширением словарного запаса школьника, вместе с увеличением его практики в чтении и письме. В конце концов под влиянием обучения посредствующее звено (слухо-артикуляционный образец) может постепенно выпадать, и акт письма в таком случае может осуществляться при актуализации прямой ассоциации: значение корня -► зрительное представление о его графической форме.
Изучение динамики ошибок учащихся в разных классах в «проверяемых» и «непроверяемых» словах может дать некоторый материал для решения этого вопроса,
Имея все это в виду, мы систематизировали данные диктантов по двум основным направлениям:
а) сравнение количества ошибок в «легких» и «трудных» словах;
б) сравнение количества ошибок в «проверяемых» и «непроверяемых» словах.
Рассмотрим сначала материалы по группам «легких» и «трудных» слов. В нижеследующих таблицах цифры обозначают проценты ошибок по отношению к общему количеству слов, фактически написанных всеми учениками данного класса (пропуск слов в работах учащихся при подсчете не принимался во внимание). Отсутствие ошибок обозначается в таблицах нулем, черточки в таблице показывают, что слово не было включено в вариант диктанта по данному классу.
Таблица 1
Распределение ошибок в группе „легких" слов
Классы Слова^^\ И III IV V VI VII VIII— IX X
С горы . . . 7 0 0 0 0 0 0 0
Цветы . . . 3 — 1 0 0 0 0
Дождевой . . 7 2 1 ' 0 0 0 0 0
Больной . . 16 4 0 — — — — __
Пригодиться . — — — 5 0 0 0 0
Приготовить . 16 3 1 5 5 с 0 0
Покой .... 20 9 5 3 0 0 0 0
Солома . . . — 9 10 1 0 0 0 0
Тревога . . . — 30 16 1 1 0 1 0
Велика . — 23 6 3 0 0 0 0
Среднеарифмет. 11,5 10,0 4,9 2,1 0,7 0 0 0
В табл. 1 приводятся данные по тем словам, которые мы заранее отнесли к «легким» для усвоения орфографии. Среди них находятся как проверяемые (с горы, цветы, дождевой, больной, пригодиться), так и непроверяемые (приготовить, покой, солома, тревога, велика). Мы видим, что количество ошибок, довольно значительное во II и III классах, уже в IV классе падает до 4,9%, а начиная с V класса, снижается почти до нуля.
Другая картина распределения ошибок рисуется по табл. 2. Здесь как по проверяемым словам (копчушка, удивительно, воплотить), так и по непроверяемым (насекомое, палатка, шинель) количество ошибок по сравнению с «легкими» словами значительно увеличивается. Кроме того, ошибки в этих словах носят устойчивый характер. Лишь в VIII—X классах ошибки становятся сравнительно редкими, но даже и в этих классах они держатся на уровне пяти процентов.
Таблица 2
Распределение ошибок в группе „трудных" слов
"^хКлассы Слова\ II III IV V VI VII VIII—IX X
Насекомое 59 34 15 12 2 1 0 0
Палатка . . — 44 35 41 33 26 7 8
Шинель . — 22 14 21 11 7 4 7
Копчушка . 39 37 46 42 28 15 6 5
Удивительно 53 46 44 30 6 3 3 0
Воплотить . — — — 60 34 23 12 7
Среднеарифм. 50,3 36,6 30,8 34,3 19,0 12,5 5,3 4,5
Различная динамика ошибок по этим двум группам особенно бросается в глаза и при сравнении среднеарифметических величин.
Таблица 3 Распределение ошибок по группам „легких" и „трудных" слов
Как видно из этой таблицы, усвоение правописания безударных гласных семантически трудных слов настолько разнится от семантически легких, что можно было бы подумать, что перед нами динамика ошибок на два различных орфографических правила. По всем классам школы количество ошибок на слова с трудной семантикой 138 I
корня в несколько раз превосходит количество ошибок на семантически легкие слова. Эта закономерность отчетливо выражена в общешкольных процентах успеваемости (24% и 3,6%). На основе этих данных мы имеем право сделать вывод, что те особенности в характере значения корней, о которых мы говорили вначале, действительно играют весьма существенную роль в усвоении правописания безударных гласных в корне слов.
Обратимся теперь к сравнению правописания «проверяемых» и «непроверяемых» слов. Для этого перегруппируем все вышеприведенные слова вне зависимости от особенностей их семантики только по этим признакам. Таблицы распределения ошибок примут тогда следующий вид (см. табл. 4 и 5).
Таблица 4
Распределение ошибок по проверяемым словам
^\Классы Слова\^ II III IV V VI VII VIII—IX X
С горы . . 7 0 0 0 0 0 0 0
Цветы . . 3 — 1 0 0 0 0
Дождевой . 7 2 1 0 0 0 0 0
Больной . . 16 4 0 — — — — —
Пригодиться — — — 5 0 0 0 0
Копчушка 39 37 46 42 28 15 6 5
Удивительно 53 46 44 30 6 3 3 0
Воплотить . — — — 60 34 23 12 7
Среднеарифм. | 20,8 17,8 18,2 1 19,7 1 9,7 5,8 3,0 1,6
Таблица 5
Распределение ошибок по непроверяемым словам
^хКлассы Слова^\ II III IV V VI VII VIII—IX X
Приготовить 16 3 1 5 5 0 0 0
Покой . . . 20 9 5 3 0 0 0 0
Солома . . — 9 10 1 0 0 0 0
Тревога — 30 16 1 1 0 1 0
Велика . . — 23 6 3 0 0 0 0
Насекомое 59 34 15 12 2 1 0 0
Палатка . . — 44 35 41 33 26 7 8
Шинель . . — 22 14 21 11 7 4 7
Среднеарифм. 37,7 21,7 | 12,7 10,9 1 6,5 4,2 1,5 1,8
Обратим внимание на среднеарифметические величины ошибок по каждому классу (см. табл. 6).
На этой таблице мы видим, что средний процент ошибок по двум данным группам слов по всей школе почти совпадает (12% и 12,1%). Расслоения ошибок, подобно тому, какое имело место по отношению к семантически легким и трудным словам, наши данные не обнаруживают. Это обстоятельство доказывает, что фактор «проверяемости» или «непроверяемое™» слов, рассматриваемый как их объективный языковой признак, сам по себе не оказывает на усвоение правописания решающего влияния. Этот вывод можно считать достаточно обоснованным, если принять во внимание, что он получен на основе обработки нескольких тысяч орфограмм, написанных школьниками.
Эта же таблица обнаруживает и другой интересный факт. Если сравнить количество ошибок по отдельным классам, то окажется, что во II и III классах количество ошибок на «непроверяемые» слова (во II классе значительно, а в III классе в меньшей мере) превосходит количество ошибок на «проверяемые» слова. Начиная же с IV класса, наблюдается обратное соотношение: непроверяемые слова дают меньшее количество ошибок, чем проверяемые. Это означает, что «проверка» написания безударного корня его ударным образцом (слухо-артикуляционное восприятие) на начальной ступени обучения имеет определенное значение для усвоения правописания, ко что в дальнейшем роль слухо-артикуляционных мо
ментов как поддержки правописания в значительной стё-пени утрачивает для школьника свое значение.
Таким образом, наше предположение об изменении в процессе обучения правописанию взаимоотношения слухо-артикуляционных и зрительных восприятий и представлений находит в этом факте свое подтверждение. По-видимому, действительно значение слухо-артикуляционного образца постепенно уменьшается в проверяемых словах; по отношению же к непроверяемым словам его влияние вообще исключено. Но если письмо остается при этом орфографически правильным, то это возможно лишь в том случае, когда вместо правильных слухо-артикуляционных представлений ученик пользуется правильными зрительными представлениями, зрительным «образцом» корня.
Обратимся теперь к анализу результатов по группе слов-омонимов. Омонимы — это слова, тождественные в произношении, но различные по значению и правописанию. В диктанте у нас были введены следующие омонимы: 1) седеть, имеющий в речи вариант сидеть; 2) спеши (вариант спиши); 3) чистота (частота); 4) уравнение (омонимный корень «ровн»); 5) прикорнул (аналогия с курнуть, курить}, В то время как первые три пары слов-омонимов легко различаются по значению, дифференциация последних, надо полагать, должна вызвать известные трудности, зависящие от семантики их корней. В слове прикорнул значение корня непонятно для ученика (ни в одном классе школы он не разъяснялся), и, следовательно, связь прикорнул с знакомыми словами того же корня короткий, корточки и т. п. не была выработана.
Что же касается корней равн — ровн, то их смысловое различие (равный и ровный) в слове уравнение настолько стирается, что, не запомнив орфографии этого слова «персонально» (на уроках математики, начиная с V класса), определить, к какому варианту корня относится это слово, для учащихся является весьма трудной задачей. Поэтому для наших целей было интересно выяснить, окажут ли указанные смысловые трудности различения контрольных слов от их вариантов влияние на результаты диктанта.
Табл. 7 представляет результаты диктантов по словам-омонимам.
Таблица 7
Распределение ошибок в словах-омонимах
^\Классы Слова\ 11 111 IV V VI VII VIII—IX X
Спеши . . 47 15 19 14 5 2 0 1
Чистота . . — 15 11 4 2 0 1 2
Седеть . . — 60 38 57 25 34 10 4
Уравнение . — 69 79 — — — — —
Прикорнул 51 45 38 62 54 33 23 18
Мы видим на этой таблице, что количество ошибок в словах спеши и чистота значительно меньше, чем в словах уравнение и прикорнул. В то время как первые два слова дают равномерное уменьшение ошибок из класса в класс, причем ошибки в старших классах являются скорее случайностью, чем правилом, вторая пара слов вызывает резкое повышение ошибок, которые по отдельным классам доходят до 62, 79%; при этом по слову прикорнул ошибки отличаются особенной устойчивостью (даже в X классе зафиксировано 18% ошибок).
Эти результаты подтверждают наши предыдущие выводы о том, что затруднения в определении семантики корня непосредственно отражаются на орфографической успешности. Следует, однако, отметить, что для дифференциации значений корней слов-омонимов имеет значение не морфология слова и не только особенности лексических его значений, как это было до сих пор, но и логический смысл того предложения, в которое включен данный омоним, так как именно этот контекст создает необходимые условия для того, чтобы истолковать значение слова-омонима в том или ином смысле. Таким образом, по отношению к правописанию слов-омонимов можно сказать, что они относятся к смысловой орфографии.
Именно этим влиянием синтаксического контекста объясняется большое количество ошибок в слове седеть, что, казалось бы, противоречит нашим предположениям. Ключ к истинному пониманию происхождения многочисленных ошибок в этом слове мы нашли в самостоятельных высказываниях учеников средней школы, имевших 142
место Непосредственно после проведения диктанта. Оказалось, что предложение, в которое было включено слово седеть, давало возможность понять это слово и как сидеть, что при составлении текста диктантов осталось экспериментаторами не замеченным. Но эта ошибка составителей сослужила в данном случае известную пользу, так как дала возможность отчетливо вскрыть роль семантики целого предложения.
Нам осталось рассмотреть еще один вопрос. В диктант мы включили, наряду с распространенными словами с непроверяемым корнем (палатка, шинель, насекомое), такие слова, с которыми большинство учащихся, по нашему предположению, если и встречалось в своей письменной речи, то встречалось очень редко (дифирамб, гортензия). В других отношениях они не отличались от употребительных слов: они так же непроверяемы, как шинель, палатка и др., и их этимология так же неизвестна ученикам. Между тем различная степень употребления этих слов в речи школьника бросается в глаза.
Данные по этим словам могут быть сведены в табл. 8.
Таблица 8
Распределение ошибок в словах с различной степенью употребительности
Классы Слова 11 III IV V VI VII VIII—IX X Среднеарифметическое
Насекомое 59 34 15 12 2 1 0 0 15,4
Шинель — 22 14 21 11 7 4 7 12,3
Гортензия — — — 31 16 30 35 24 27,2
Дифирамб . — — — 48 50 66 49 55 53,6
Как по характеру распределения ошибок по классам, так и по общешкольному среднеарифметическому разница между первыми двумя словами и двумя последними весьма значительна. В то время как насекомое и шинель дают из класса в класс равномерно снижающееся количество ошибок, ошибки в словах гортензия и дифирамб остаются на очень высоком уровне, не обнаруживая до конца обучения сколько-нибудь заметной тенденции^ к
снижению: дифирамб в V классе — 48%, в X — 55%; гортензия (соответственно): 31 —24 %.
Так как языковые особенности всех четырех слов (не-проверяемость корня, неясная этимология) одинаковы, а в то же время повторяемость слов в речи школьника различна, мы вправе заключить, что наши данные обнаруживают некоторую прямую зависимость между трудностью правописания и частотой повторений слов или их корней.
Действительно, частота повторений слов насекомое и шинель постепенно увеличивается вместе с расширением круга знаний учащихся, вместе с увеличением практики в области устной и письменной речи. Вместе с этим из класса в класс уменьшается и количество орфографических ошибок в корнях этих слов.
Повторяемость же в речи слов гортензия и дифирамб растет весьма незначительно. Если можно думать, что слово гортензия как название цветка могло встречаться в практике отдельных учащихся вне школы, то относительно слова дифирамб, в настоящее время почти вышедшего из употребления, предположить это весьма трудно.
Эти факты хорошо иллюстрируют наше общее положение о той роли, которую в создании орфографических ассоциаций играет, наравне с пониманием значений, запоминание их графических форм. Трудность написания таких традиционных слов, как гортензия и дифирамб, состоит в том, что ученику, образно говоря, неоткуда взять графический образец письма, так как такие слова не подчиняются правилам, а также не имеют аналогии с другими словами. Образец письма может быть получен только из практики. Поэтому фактор частоты восприятия выступает здесь наиболее очевидно.
Значительно сложнее представляется нам вопрос о роли частоты повторений продуктивных корней, т. е. тех корней, которые имеют в языке широкое распространение. Такие корни, допуская грамматическое обобщение, могут писаться по правилу морфологической орфографии.
Напомним о некоторых фактах, с которыми мы уже встречались выше. В числе «проверяемых» слов мы обнаружили ряд слов, трудных для правописания. Наиболее трудные из них были: копчушка, удивительно, воплотить (табл. 2) и прикорнуть (табл. 7) . Общешкольное среднеарифметическое ошибок по этим словам сле-
дующее: копчушка — 27,2, удивительно — 23,1, воплотить— 29,2, прикорнуть — 40,5. Таким образом, по своей трудности для учащихся они не уступают, а даже несколько превосходят только что рассмотренный ряд непроверяемых слов.
Между тем по продуктивности и частоте повторения своих корней они не идут ни в какое сравнение с единичными написаниями, вроде слов дифирамб и гортензия.
Так, слово копчушка имеет аналогичные корни со словами: копченый, копоть, коптилка; удивительно — диво, дивный, удивительный, удивляться; воплотить — плоть, плотный, плотина, уплотнять; прикорнуть — короче, короткий, корточки, укорачивать и т. д.
Учащиеся в своей письменной практике часто встречались с различными словами, производными от этих корней как в безударном, так и в ударном положении корня. Поэтому относить трудность правописания этих слов за счет малой распространенности данных корней в речи учащихся не представляется возможным.
Сравнительную трудность их усвоения следует, по нашему мнению, искать в том, что между данным словом и целым рядом однокоренных, неоднократно встречающихся в речевой практике школьников слов не возникало необходимых ассоциаций и, таким образом, для учащихся контрольные слова оставались в той же мере «единичными», как дифирамб и гортензия. Поэтому «повторяемость» корней прошла для обучения бесследно, обобщение правописания корня не состоялось. Эти слова оказались не включенными в те межсловесные ассоциации, которыми были связаны между собой знакомые однокоренные слова.
Почему это произошло, мы уже видели выше: потому, что подобные межсловесные ассоциации могли возникнуть лишь на основе понимания сходства значений корней этих слов, а в «трудных» словах значения корней для учеников были непонятны. Одним словом, можно сказать, что в данном случае повторение одних и тех же корней не давало эффекта, так как оно не соединялось с осмыслением корней и не вело поэтому к переносу зрительных и слухо-артикуляционных представлений формы корня со знакомых слов на вновь встретившиеся.
10 Д. Н. Богоявленский
145
Материалы данного исследования обнаружили, таким образом, три существенных факта. Первый из них заключается в том, что вновь подтвердилось наше положение, что в усвоении правописания безударных гласных корня понимание учащимися корневых значений играет весьма значительную роль. Это вытекает из всех данных нашего исследования. Второй состоит в том, что «проверка» корня путем сопоставления его со слухоартикуляционным образцом не является непременным и обязательным условием правописания корней слов и что усвоение может опираться на зрительное представление графемы корня. Это подтверждается одинаковой трудностью непроверяемых и проверяемых слов, а также постепенным уменьшением роли «проверок» по мере продвижения обучения. Наконец, третий факт—различная роль частоты повторений для «единичных» написаний и для слов, поддающихся грамматическому обобщению. Для последних выявилась решающая роль образования межсловесных ассоциаций на основе сходства значения корня.
При сопоставлении этих, а также ранее полученных фактов можно представить общую картину усвоения правописания безударных корней в следующем виде.
Усвоение правописания корней при опоре на грамматику происходит постепенно в процессе сравнения с однокоренными словами и различения от слов с другим корнем. Обучение постепенно приводит ученика к умению абстрагировать значение данного корня от частных и конкретных значений различных слов, в которых он встречается. В этом процессе сопоставления и различения корень получает свое обобщенное значение. Сложность этого процесса различна и находится в зависимости от различий объективных языковых условий — характера лексики слова и значения корня.
В начале обучения, когда понимание особенностей морфологического строя языка недоступно ученикам, усвоение правописания безударных корней опирается главным образом на фонетический образец корня. Понимание сходства значений корней проверяемого слова и проверочного обязательно и для этой ступени, иначе проверка может быть ложной. Ученики первых классов могут овладеть поэтому лишь проверкой слов с «легки-
Ми» корнями. Мы и видели, что ошибки на такие слова, как гора, цветы, дождевой, больной, фактически изживаются уже в III классе (табл. 4). В этот период зрительные представления, ввиду немногочисленной практики письма и чтения, еще не могут иметь большого значения. (Постепенно запоминаются лишь отдельные, чаще повторяющиеся слова.) Поэтому слова непроверяемые или проверяемые, но со сложной семантикой (что для ученика фактически уравнивает их с непроверяемыми) пишутся с большим трудом. Например, проверяемые — копчушка, удивительно; непроверяемые — покой, солома, готов и т. п. (табл. 5). Затем изучение грамматики (прежде всего состава слова), расширяющаяся практика чтения и письма, в которой постепенно увеличивается количество повторений однокоренных слов, приводит, во-первых, к увеличению запаса в орфографическом отношении хорошо знакомых слов, т. е. к созданию прочных, закрепившихся в памяти зрительных представлений орфограмм корня, а во-вторых, к пониманию морфологической структуры слова и к умению выделять сходные по значению корни из все более и более усложняющихся словесных ситуаций.
Наличие в памяти зрительного образца корня, возможность быстрого установления морфологической структуры слова, подлежащего записи, и на основе этого установление межсловесных ассоциаций с однокоренными словами постепенно устраняют необходимость в каждом отдельном случае искать опоры в слухо-артикуляционных представлениях и восприятиях. Дети начинают писать без «фонетического образца», что и означает овладение ими грамматической основой правописания безударных гласных.
Дальнейший прогресс письма связан с изучением новых корневых групп слов и расширением знакомых групп за счет отдельных слов со все более и более усложняющимися условиями для выделения корня. Этот путь усвоения хорошо демонстрируется всеми нашими данными, которые показывают, что овладение правописанием начинается с семантически прозрачных корней и постепенно охватывает область все более и более трудных однокоренных слов.
Что касается основных педагогических выводов, которые могут быть сделаны на основе подобного анализа 10* 147
динамики ошибок учащихся, то их можно кратко сформулировать следующим образом.
В основу обучения правописанию безударных гласных следует положить семантико-морфологический анализ слов с тем, чтобы обеспечить осмысленное запоминание орфографии корня. Словесный материал должен быть систематизирован таким образом, чтобы учесть индивидуальные особенности отдельных типов корней и их различную трудность для понимания школьниками разного возраста. Для выработки навыка правописания данного корня каждое новое слово с этим корнем должно вводиться в систему однокоренных слов, уже изученных ранее. С каждым корневым гнездом следует работать систематически, учитывая, что повторение корня необходимо как для осмысления, так и для его запоминания. Нам кажется, что для рационализации приемов обучения *было бы целесообразно на основе изучения опыта школы разработать перечень корневых гнезд, трудных в орфографическом отношении, и распределить их по годам обучения.
Правописание глагольных окончаний -тся, ться
Правило о правописании -тся и -ться служит для различения на письме формы -тся, имеющей значение 3-го лица глаголов настоящего или будущего простого времени, и -ться, обозначающей инфинитив, — глагольную категорию, не содержащую указания ни на действующее лицо, ни на какие-либо временное отношения.
Поэтому нужно полагать, что для усвоения правописания -тся и -ться необходимо:
1. Опознавание слов с окончанием -тся, -ться, как глаголов, в отличие от других частей речи, особенно от существительных с одинаково звучащим окончанием -цца, например, курица — курится, молодица — молодится и т. п.
Можно предполагать, что «узнавание» глаголов будет неодинаковым, особенно для младших школьников, в зависимости от разного лексического значения глаголов физического действия (стучаться, ложиться и т. п.), состояния (веселиться, бояться и т. п.), обозначения психических процессов (слушаться и т. п.).
2. Различение одинаково звучащих окончаний -ться и -тся на основе понимания семантических различий 148
глагольных категорий инфинитива и 3-го лица настоящего и будущего времени.
Последнее различие является наиболее существенным и имеет непосредственное отношение к данному правилу. Очевидно, что для дифференциации глагольных форм •тся и -ться главную роль играет противопоставление «внеличного» и «вневременного» значения инфинитива значениям изъявительного наклонения, предполагающего агента действия и указывающего на время протекания процесса.
Экспериментальная проверка этого положения возможна путем сопоставления правописания окончания -тся в личных и безличных глаголах. Безличные глаголы интересны в том отношении, что в них форма и значение находятся в иных отношениях, чем в личных глаголах. По своему значению они также «внеличны», как и инфинитив: действие, обозначаемое безличным глаголом, не может быть отнесено к действующему лицу; но безличные глаголы сохраняют при этом форму личных (-тся пишется без мягкого знака, например, смеркается). Значение безличных глаголов, таким образом, расходится с формой, обычно выражающей (в личных глаголах) действие, производимое третьим лицом.
Поэтому, если, как мы полагаем, семантика различных грамматических форм оказывает непосредственное влияние на орфографию, правописание -тся в безличных глаголах должно вызвать большие затруднения, чем в личных, так как частичное совпадение значений инфинитива и безличных глаголов затрудняет их грамматическую дифференциацию.
Руководствуясь этими соображениями, мы подобрали контрольные слова для диктанта, которые были распределены на следующие группы:
1. Глаголы, обозначающие физические действия: стучаться, кинуться, ложиться, как глаголы с наиболее наглядно выраженным значением реального действия.
2. Глаголы, обозначающие состояния или психические процессы: веселиться, нравиться, бояться, беспокоиться, слышится.
3. Безличные глаголы: спится, придется, нездоровится и т. п. При подборе контрольных слов былр предусмотрено (там, где это было необходимо) для со
хранения полной омонимики инфинитива и личных форм глагола одинаковое место ударения в этих словах (например, кинутся — кинуться; стучатся — стучаться, ложится — ложиться и т. п.).
Однако при подборе контрольных слов нами не была предусмотрена необходимость включения в диктант одинакового количества глаголов личной формы (на -тся) и инфинитивов (на -ться), а как показали наши данные, задачи написать звучащее окончание -цца с мягким знаком или без него психологически отнюдь не равноценны, особенно для учеников начальной школы, еще не знакомых с правилом (оно дается лишь в IV классе). Так как ь фонетически не обусловлен, а является условным знаком инфинитива только на письме, то «естественно», что до изучения правила ученики игнорировали его. Поэтому окончание -тся (без мягкого знака) находится в особо привилегированном положении, после того как преодолены чисто графические трудности (звучание -цца передается как -тся).
Таблица 9 ярко иллюстрирует этот факт. На ней представлено распределение ошибок в глаголах с окончанием -ться и -тся. Цифры в колонках обозначают средний процент ошибок по каждому отдельному слову. Среднеарифметическое показывает средний процент ошибок в каждом классе на все слова данной группы.
Контрольные слова на -ться и тся по своей семантике не вполне одинаковы. Хотя в них представлены разные типы лексических значений глаголов, однако среди слов с окончанием -ться больше глаголов со значением физического действия (стучаться и кинуться), т. е. более легких. Тем не менее по количеству ошибок эта группа слов на -ться во много раз превосходит группу слов с окончанием -тся.
Ошибки во II классе в окончании -тся были просто случайны. (Ошибкой здесь считалась только подстановка ь. Все ошибки против графики, т. е. типа -цца, -тца, не входили в подсчет). В III классе количество ошибок доходит до 6,4%. Между тем пропуск мягкого знака в инфинитиве во II классе достигает 73,2%, в III — 86,8%, в IV —51,5%.
В средней школе, несмотря на ознакомление с соответствующим правилом в IV и V классах, ошибки на пропуски ь по-прежнему преобладают, хотя и в не столь вьь
Таблица 9
Распределение ошибок в окончаниях -тся и -ться
^Классы Слова II III IV V VI VII VIII—IX 1 X
Окончание -тъея
Волиться 74 98 57 — — -
Стучаться 72 72 51 — — — — —
Кинуться — 79 45 13 1 7 0 0
Бояться 80 87 46 11 7 2 0 0
Тратиться — — — 25 13 11 4 2
Беспокоиться .— 96 49 26 14 11 7 8
Пригодиться 76_ _89_ 61 46 40 38 5 2 1
Среднеарифм. 73,2 86,8 И,5 24,2 15 13,8 3,2 2.4
Окончание -тся
Ложится 0 6 6 13 11 8 5 10
Веселится 2 6 8 9 9 9 5 3
Нравится 1 7 9 15 10 14 4 4
Слышится — 6 5 6 4 3 0 0
Спится — । 7_ ! 16 21 _П_ 21 21 16
Срр-лсари |'м. 1 1 6,4 8,8 12,8 9 11 7 6,6
сокой степени, как в начальной школе; затем показатели ошибок постепенно сближаются, а с восьмых классов начинают преобладать ошибки на вставку лишнего мягкого знака.
Таким образом, до введения правила о правописании инфинитива типичной для учеников является опора на произношение данного звукосочетания, и у них нет оснований для вставки мягкого знака, не имеющего соответствия в фонетике.
Однако некоторое количество учащихся начальной школы все-таки употребляет ъ. Выяснить причины, вызывающие такие «неестественные» реакции учеников, данное исследование не может. Действуют ли здесь эпизодические указания учителя при исправлении ошибок, сказывается ли собственный опыт учащихся в чтении и
письме или проявляется влияние каких-либо других моментов, можно оказать лишь после специального изучения.
Выяснилось лишь, что вставка лишнего ь и пропуск его — ошибки, психологически не равноценные. Поэтому, если мы желаем выяснить влияние семантики, то необходимо производить сравнительный анализ ошибок лишь внутри каждой из групп -тся и -ться.
Группой, в которой отдельные семантические категории оказались представленными наиболее богато, является группа контрольных слов на -тся. В нее вошли два слова — ложится и высунутся из категории физических действий, пять глаголов, обозначающих состояние или психические процессы: веселится, нравится, слышится, лишится и омолодится и три безличных глагола — спится, придется, нездоровится.
Поэтому в дальнейшем анализе мы остановимся на разборе ошибок со вставкой лишнего ь. Результаты диктанта по данной группе слов приводятся в табл. 10.
Таблица 10
Распределение ошибок в окончании тся по отдельным семантическим группам слов
^\Классы Слова^\ II III IV V VI VII VIII—IX X
Физическое
действие
Ложится 0 6 6 13 11 8 5 10
Высунутся — 4 5 1
Среднеарифм. — 5,0 5,5 — — — — —
Состояние или психи-
ческий процесс
Веселится 2 6 8 9 9 9 5 3
Нравится 1 7 9 15 10 14 4 4
Слышится —. 6 5 6 4 3 0 0
Лишится — 6 2 1 3 4
Омолодится — — — 9 11 14 7 5
Среднеарифм. 1.5 6,3 7,3 9 7,2 8,2 3,8 3,2
Продолжение
\1<лассы Слова II III IV V VI VII VIII—IX X
Безличные глаголы Спится 7 16 21 11 21 21 16
Придется — — — 32 11 11 2 4
Нездоровится — — — 33 32 17 17 14
Средпеарифм. 7 । 16 28,7 1 18 .16,3 13 11,3
Сквозным словом из категории глаголов «физического действия» было лишь одно слово лежится. Поэтому какие-либо выводы здесь невозможны. Но количество ошибок в ложится и в добавочном слове высунутся примерно такое же, как и в группе глаголов «состояния». Можно предположительно сказать, что в данном случае различие лексических значений глагола не оказало заметного влияния на орфографию: глаголы «состояния» опознаются, по-видимому, так же легко, как и глаголы «физического действия».
Другие результаты дает сравнение написания личных и безличных глаголов.
Здесь прежде всего мы обнаруживаем факт, кажущийся на первый взгляд парадоксальным, — ученики II и III классов допускают меньшее количество ошибок, чем ученики старших классов. Однако, учитывая предыдущие данные о правописании -тся, можно представить себе, что здесь проявляется та же тенденция фонетического письма без мягкого знака и что, следовательно, такая грамотность есть своего рода «грамотность неведения». Глагольная семантика не оказывает своего влияния, и проблема -тся в дограмматический период остается проблемой чисто звуковой орфографии и сводится в основном к различению звучащего -цца от графического -тся.
Другой характер носит распределение ошибок в личных и безличных глаголах в классах средней школы, т. е. после изучения соответствующего правила. Правописание безличных глаголов оказывается значительно более труд-
ной задачей, чем личных для школьников всех классов без исключения. Приводимая ниже таблица распределения ошибок ярко выражает эту закономерность.
Таблица 11
Распределение ошибок в окончании -тся в средней школе
Классы С лова V VI VII VIII -IX 1 X 1 Средне-арифмет.
Личные глаголы . 9 7,2 8,2 3,8 3,2 6,3
Безличные глаголы 28,7 18 16,3 13 11,3 17,4
Средний процент ошибок по всем классам по личным глаголам равняется 6,3%, в то время как по безличным он достигает 17,4% (увеличение почти в три раза). Примерно то же самое соотношение ошибок сохраняется и по отдельным классам.
Ученики V класса в безличных глаголах допускают ошибок в три раза больше, чем в личных; в VI классе — в 2!/2 раза; в VII — почти в два раза; в VIII—IX классах— в три раза; в X классе — почти в три раза; при этом ошибки в безличных глаголах удерживаются в значительном количестве вплоть до конца школьного обучения (X класс — 11,3%).
На основании этих данных мы вправе заключить с большой долей вероятности, что на правописание безличных глаголов оказывает влияние та особенность их семантики, которая вступает в сознании ученика в конфликт с их формой: эти глаголы имеют личную форму (3-го лица единственного числа), но по значению они безличны и совпадают в этом отношении с безличностью инфинитива. Подобное сходство грамматических значений затрудняет, очевидно, дифференциацию двух глагольных форм, что и приводит к орфографическим ошибкам.
Психологический механизм правильного написания -тся в глаголах на основании этих данных возможно представить следующим образом. С акустически-артику-ляционной стороны восприятия окончаний -тся и -ться 154
ничем не различаются. Даже целые слова с этими окончаниями, воспринимаемые на слух, при равенстве фонетических условий не дают оснований для подобного различения, например стучаться и стучатся. Можно сказать, таким образом, что звуковые раздражители в обоих случаях одинаковы. Однако эти звукосочетания как структурные элементы языка выполняют различные семантические функции, указывая на различные отношения между словами. Эти функции обнаруживаются лишь в контексте речи, минимально — в словосочетаниях, например, он стучится и нельзя стучаться. Поэтому очевидно, что различение значения инфинитива и значения третьего лица требует прежде всего понимания смысловых отношений слов в предложении, соответствующих отношениям реальных явлений и предметов. Лишь на этом фоне может произойти выделение в сфере слухового восприятия данного звукокомплекса. Разрешение же орфографической задачи зависит от тех ассоциаций, которые возникают у ученика в связи с пониманием различного смысла слов с данными окончаниями. При сознательном обучении это различие осознается как признак определенной грамматической категории (инфинитива и третьего лица). Двигательная реакция письма возникает либо непосредственно в ответ на подобное различение грамматической категории, либо опосредствованно через вспоминание соответствующей словесной формулировки правила, в котором фиксируется данная орфографическая норма. Но в том или другом случае решающая роль принадлежит актуализации ассоциаций между осознаванием значения морфемы и представлением о ее графическом образе. Так как непосредственные раздражители, воспринимаемые слухо-речедвигательно, ничем не различаются, следует думать, что различение значений данных морфем, неразрывно связанное с пониманием всего контекста речи, остается неавтоматизированным компонентом навыка на любой стадии его формирования.
Можно также полагать, что семантические особенности безличных глаголов влияют на орфографию и косвенным путем, затрудняя подстановку вопросов что делает? и что делать? — практического приема, распространенного в школе, так как отсутствие в глаголах значения лица, производящего действие, делает постановку таких вопросов психологически бессмысленной.
Правописание отрицательной частицы не с глаголом
Правило о правописании не с глаголами является наиболее легким по сравнению с правилами, регулирующими правописание этой частицы с другими частями речи: «Отрицание не с глаголами пишется раздельно», так сформулировано это правило в учебнике под ред. Л. В. Щербы, по которому учились наши ученики. Это правило универсально, легко запоминается и почти не имеет исключений. Тем более интересно было проверить, в какой мере можно проследить влияние семантики на таком «легком» правиле, где всякие побочные затруднения заранее исключены.
Единственное затруднение, которое, с нашей точки зрения, может влиять на правописание, заключается именно в грамматическом значении глагола как части речи, так как для применения этого правила необходимо различить в каждом конкретном случае, что отрицание не употреблено с глаголом, а не с другими частями речи.
Поэтому мы сохранили в диктанте те же две основные группы слов, что и в предшествующем правиле. Это личные и безличные глаголы. Безличные глаголы в силу особенности их семантики, описанной выше, теоретически рассуждая, должны были вызвать дополнительные трудности в определении их «глагольности» по сравнению с личными глаголами и поэтому вызвать большее количество ошибок.
Особой группой слов на это правило были вспомогательные глаголы типа стать и быть, а также так называемые отглагольные или предикативные наречия типа нужно, видно и т. п. Вспомогательные глаголы, как известно, употребляясь в качестве связки, утрачивают в речи реальное значение, выражение которого становится функцией именной части сказуемого. В отглагольных наречиях, как показывает само название, значение глагольности также сильно затушевывается присущими им семантическими признаками наречия (прежде всего потеря личных и временных значений).
Эти семантические различия закрепляются и в форме слова: оно приобретает типичное для наречий и кратких прилагательных окончание о. Несмотря на такие особенности отглагольных наречий, правило о правописании не полностью применяется и к ним, но ни в учебниках, ни
в программах не выделяется в особую группу. Нам казалось, что определение «глагольности» вспомогательных глаголов и подобных наречий представит для учеников в силу утраты ясных глагольных признаков еще большие трудности, чем безличные глаголы.
Таким образом, в диктанте были представлены три группы слов: А — личные глаголы, Б — безличные, В — вспомогательные глаголы и отглагольные наречия (для краткости в дальнейшем мы будем называть эту группу вспомогательными глаголами).
Результаты диктанта могут быть представлены в виде таблицы (табл. 12).
Таблица 12
Распределение ошибок На правило „Правописание не t глаголами" по отдельным группам глаголов
Классы
Слова
II
III
IV
VI
VII I VIII—IX
Группа А бегать пошли играть плачьте соблаз-
Не Не Не Не Не
НИЛ
Не счита-
лась
Среднеарифм. | 23,5 | 10,3 | 1,3
Группа Б
Не спится
Не посилится
Не следовало
Не хочется
20
14 13
20 12
27
5 | 0 | 1 I 0
10
14
0
о
2
0
5,1
V
X
и х а
3
5
2
Среднеарифм. | 23,б| 20,?| 14,з| 12 | 4 | 6
1 10,6
Группа В Не видно 33 16 14 9 9 5
Не стало 30 23 19 19 8 4 0
Не нужно 39 32 37 23 18 14 14
Не было — 39 28 — — —
Среднеарифм. 34,5 { 3,2 | 1 25 18,7 11J 9 1 6,3
2,7|* 17,6
3
0
5
Эти данные полностью подтверждают наши предположения. Несмотря на то, что во всех случаях идет речь о применении одного и того же правила, результаты сильно видоизменяются в зависимости от того, с какими глаголами употребляется частица не. Наиболее легкими для усвоения оказываются слова, относящиеся к группе Д, глаголы с наиболее ярко выраженными признаками глагольности.
Ошибок в этой группе слов по всем классам, кроме II, значительно меньше, чем в других группах. Наибольшие трудности представляет для учащихся правописание слов, относящихся к группе В. На всем протяжении обучения эта группа дает максимальное количество ошибок. Несмотря на общепризнаваемую «легкость» этого правила, ошибки в этой группе слов в сравнительно большом количестве удерживаются и в старших классах (VII класс —9%; VIII—IX — 6,3%; X —2,7%). Ошибки в применении этого правила к безличным глаголам (группа Б) занимают среднее место, но, так же как и в группе В, удерживаются до конца обучения, хотя и не в столь значительном количестве (VII класс—6%; VIII — IX—4,5%; X — 1 %).
Динамика ошибок по классам также не одинакова. Группа А обнаруживает резкое падение ошибок в IV классе (именно в этом классе ученики начинают изучать это правило), и уже к VI классу ошибки в словах этой группы почти совсем не встречаются. Иной характер носит динамика ошибок в двух других группах. Ошибки снижаются постепенно и медленно. Изучение правила (судя по данным IV и V классов) не вызывает такого повышения процента успеваемости, как это имело место в словах группы А.
Эти данные достаточно убедительно показывают те «узкие места», которые имеются в усвоении этого правила. Несомненно, что методисты должны обратить на это внимание. Нам кажется, что радикальным методическим средством будет являться выделение трудных групп слов в особые орфографические «темы» обучения. Правда, в V классе ученики знакомятся с понятием безличных глаголов, но это изучение идет в чисто грамматическом плане без учета орфографических целей и без специальных орфографических упражнений. Между тем, как мы видели, непосредственная связь орфографии с грамматикой
пеоб,ходима для преодоления трудностей как в правиле -тся, -тъся, так и для правописания частицы не. Что же касается предикативных наречий, то здесь дело целиком предоставлено самотеку. На всем протяжении обучения эти случаи применения правила нигде не обобщаются, и борьба с такими ошибками проводится обычно от случая к случаю.
Правописание не с другими частями речи
Языковая природа правила о правописании отрицательной частицы не с другими частями речи гораздо сложнее. Правило не содержит прямого однозначного указания о правописании этой частицы, поскольку частица не может писаться с прилагательными и существительными как раздельно, так и слитно. В нем имеются лишь указания на те приемы, к которым должны прибегать ученики для определения способа правописания. В учебнике под редакцией Л. В. Щербы, по которому велись занятия в школе, оно формулируется по отношению к существительным следующим образом:
«Частица не пишется с существительными слитно:
1) если без частицы не существительные не употребляются: невидимка, ненастье;
2) если прибавлением частицы не образуется новое слово, которое можно заменить другим, близким по значению словом: неприятель — враг; несчастье — беда;
Частица не пишется при существительных раздельно, если имеется или подразумевается противопоставление: «Это не правда (а ложь)».
Изучалось это правило в средней школе раздельно по отношению к существительным, прилагательным и наречиям, причем каждый раз повторялись примерно те же «случаи» правописания, как и в приведенном правиле.
Обобщения всех этих случаев, выявляющего языковой принцип двойственного написания частицы не, в школе не давалось, хотя в лингвистических и методических работах иногда указывается, что основанием для слитного и раздельного написания частицы не служит различение отрицательного понятия от отрицания понятия, причем по законам морфологии русского языка в первом случае частица входит в качестве приставки в состав данного слова, а во втором — остается за его графическими границами.
Если это так, то очевидно, что в основе правописания Не с другими частями речи лежит различение иногда очень тонких смысловых оттенков отрицательного понятия от отрицания понятия: неприятель — не приятель. Часто встречаются такие случаи, когда слитное или раздельное написание находится в зависимости от замысла автора, от понимания окружающего контекста речи. Это такие случаи, когда подобный «замысел» автора можно йонять лишь при чтении, а не при слушании данного текста, и потому при диктантах допустимы оба варианта написания. Все это создает много затруднений, давно известных учителям, причем все эти случаи хорошо иллюстрируют важное значение для успешности орфографического обучения семантического анализа речи.
Приняв во внимание подобный языковой характер правила, мы ввели в диктант несколько слов и выражений, в семантическом отношении отличающихся друг от друга. Из практики школы известно, что наиболее легким для усвоения является случай правописания не в словах, не употребляющихся без этой частицы. Психологически это вполне понятно, поскольку ученики с самого начала обучения привыкают объединять графически все звуки, которыми передается значение целого слова, т. е. определенное понятие. В этих случаях отрыв не от слова лишает его всякого смысла (например, ненависть). Вероятно, что ученики с некоторым стажем обучения совсем бы не делали ошибок в таких словах, если бы они одновременно не привыкли видеть это не написанным изолированно и даже учить о раздельном написании не с глаголами. Неверное перенесение подобного рода обобщений на слова, не употребляющиеся без не, психологически является вполне возможной причиной ошибок.
Исходя из этого, мы ввели в диктант несколько слов, не употребляющихся без не. «Сквозными» словами были ненастье и невидимка — слова, достаточно знакомые младшим школьникам из чтения детских книг и учебника по чтению, но редко встречающиеся в учебниках по орфографии. Третьим «сквозным» словом было небылицы. Это слово, малопонятное ученикам начальной школы, было введено нами для сравнения с первыми, легкими по смыслу словами.
Мы предполагали, что непонимание лексического значения слова лишает ученика возможности судить о его КО
целостности и потому должно вызвать больше ошибок, чем в хорошо знакомых словах. Кроме этих слов, для средней школы были введены несколько прилагательных также без не не употребляющихся. Результаты диктанта показаны в следующей таблице.
Таблица 13
Распределение ошибок в словах, не употребляющихся без не
^Классы Слова~\ II III IV V VI I VII 1 VIII-IX X
Ненастье 2 4 0 0 0 0 0
Невидимка 8 5 4 3 2 0 0 0
Небылицы 41 i 35 18 8 0 0 0 0
Недоумение I - — 2 1 1 0 0
Неимоверный 6 1 4 0 2
Невылазной — , — — 8 7 6 1 0
Среднеарифм. (без слова» небылицы") 8 3,5 4 3,8 2 2 0,2 0,4
При рассмотрении этой таблицы надо иметь в виду, что правило о правописании не к моменту диктанта в V классе было уже пройдено, в программе же начальной школы оно, как известно, отсутствует. Тем не менее во II—IV классах количество ошибок в словах ненастье и невидимка сравнительно невелико. Иначе обстоит дело с ошибками в слове небылицы, которое дает в II, III и IV классах соответственно 41, 35 и 18% ошибочных написаний. Эти факты, по-видимому, подтверждают наше предположение о положительном влиянии на орфографию непосредственного впечатления о целостности слова в «легких» по смыслу словах и об отрицательном влиянии непонимания слов с трудной семантикой.
В старших классах смысловые трудности слова небылицы ликвидируются благодаря изучению грамматики и расширению лексики учеников, вместе с тем ликвидируются и орфографические ошибки. Небольшое количество ошибок дают и дополнительные слова, диктовавшиеся только в средней школе.
И Д. Н. Богоявленский
161
Другую картину представляет усвоение орфографии слов, пишущихся с не и раздельно и слитно. Представление об этом дает табл. 14.
Таблица 14
Распределение ошибок в словах и выражениях, пишущихся с не двояким способом
Классы III IV V VI VII VIII-IX X
Слова^^ 11
Меня ждала неудача 70 48 33 18 4 4 0 0
В непогоду мне не спится 14 5 1 1 0
Его молчание невольно заставляет беспокоиться 9 2 1 2 0
С богатырских плеч сняли голову не большой горой, а соломинкой 19 34 32 4 9
Не веселую, братцы, вам песню спою 35 69 81 71 88
Петя мне не приятель, а просто сосед 23 14 17
Не пригож лицом, да хорош умом 3 29 25 35 49 68 49 58
Среднеарифм. — 30,3 25 21,6 i 27,1 31,1 21,1 25,8
Если сравнить среднеарифметические проценты ошибок, приведенные в табл. 13 и 14, то различие их бросается в глаза. Для наглядности представим их в виде сводной таблицы.
Таблица 15
Слова, не употребляющиеся без частицы не
Слова, пишущиеся двояким способом
0,4 3,2
25,8 26,0
Количество ошибок в словах, пишущихся двояким способом, во много раз превышает по каждому классу количество ошибок в словах, не употребляющихся без не. Эта закономерность ярко выражается и в общешкольных средних числах ошибок (26,0 и 3,2). Таким образом, эти данные вполне подтверждают общее мнение учителей о сравнительной легкости усвоения орфографии слов, не употребляющихся без не.
Однако распределение ошибок по отдельным словам второй группы не происходит равномерно, что позволяет произвести дальнейшую внутригрупповую дифференциацию по крайней мере по средней школе, где количество контрольных слов было больше, чем в начальных классах.
Если подсчитать среднеарифметические числа ошибок в старших классах по первым трем словам — неудача, непогода, невольно — и по трем последним — не веселую, не большой, не пригож, — то различие между ними станет очевидным: первые слова значительно легче для правописания, чем последующие (табл. 16).
Таблица 16
Среднеарифметические числа ошибок на „легкие** и „трудные** слова второй группы
Классы Слова V VI VII VIII—IX X
Первые три слова 13,7 3,7 2,0 1 0
Последние три слова 29,7 50,7 60,3 41,3 51,6
Интересно отметить, что по отношению к трем последним словам, кроме огромного увеличения количества ошибок, меняется и характер движения ошибок по отдельным классам. В то время как в первых словах мы имеем постепенное уменьшение ошибок из класса в класс, в последних — количество ошибок в VI и VII классах по сравнению с V значительно увеличивается (50,7 и 60,3) и фактически остается на этом же уровне и в X классе (51,6).
Особенно большое количество ошибок дают в старших классах предложения не веселую, братцы, вам песню спою и не пригож лицом, да хорош умом. В то же время бросаются в глаза смысловые особенности этих предложений. Они иллюстрируют ту произвольность авторского замысла, о которой мы говорили выше, вскрыть которую при слуховОхМ восприятии отдельных предложений очень трудно Ч В отношении первого предложения огромное большинство учеников во всех классах, руководствуясь, по-видимому, формальным моментом правила — писать частицу не слитно, когда нет противопоставления,— собственно говоря, не делало ошибок, когда писало слово невеселую слитно. Правда, в правиле есть оговорка, что противопоставление может «только подразумеваться». Но узнать о том, «подразумевает» ли что-нибудь автор или нет, в данном тексте невозможно, не видя, слитно или раздельно написана у автора частица не. Получается замкнутый круг, разорвать который можно, лишь проникнув в семантику речи.
Некоторое отличие представляют собою особенности семантики второго предложения. В этой пословице противопоставляется внешность человека его внутренним качествам, и в этом обобщенном значении употребляется лицо и ум. Поэтому не пригож пишется отдельно. Противопоставление выражено и формально союзом да в противительном значении. Повидимому, именно благодаря этому последнему обстоятельству, «ошибок» здесь несколько меньше, чем в предыдущем предложении. Однако большинство учеников в старших классах пишет не пригож слитно. Очевидно, на такое правописание оказывала свое влияние непротивопоставляемость лица
1 Обозначение нами одного ив вариантов написания «ошибочным» является вследствие этого чисто условным.
и ума в прямом их значении, что как бы затушевывало противительное значение союза да, и все предложение для учеников приобретало примерно следующий смысл «Непригож лицом — умом же хорош».
Кроме того, в обоих этих случаях на слитное правописание влиял, вероятно, формальный прием подстановки синонимов, рекомендуемый правилом (невеселую — грустную; непригож — дурён), применение которого правилом не ограничивается, а между тем, как известно, этот прием не имеет универсального значения.
Конечно, наш анализ носит гипотетический характер. Для его подтверждения необходимы дополнительные данные, добытые в индивидуальных экспериментах с учащимися. Только тогда можно охарактеризовать с полной уверенностью психологическую сторону этих фактов. Однако огромное количество ошибок в «трудных» предложениях говорит о том, что правила школьной грамматики неспособны разрешить данной проблемы правописания во всем ее объеме теми догматическими рецептами, в которых языковая сущность правила обходится молчанием и в которых нет даже упоминания о зависимости правописания не от смыслового задания речи.
В плоскости решения интересующего нас вопроса — отношения семантики речи к орфографии — этот раздел, подтверждая данные предшествующих опытов, вносит и нечто новое. Это новое заключается в том, что если в правописании корней выявилась роль в усвоении орфографии понимания той части слова, которая обладает вещественным значением, а в правописании -тся и -ться, и отрицания не с глаголами — понимания абстрактных грамматических значений (глагол, инфинитив, третье лицо), то в данном случае обнаруживается зависимость правописания от понимания смысла широкого синтаксического контекста предложений.
Раздельное правописание предлогов
Одним из отличий письменной речи от устной являются некоторые дополнительные средства выражения значений языка, которые становятся возможными ввиду приобретения речью пространственных (графических) форм, требующих зрительного восприятия вместо слухового.
Таким дополнительным смыслоразличительным средством, присущим исключительно письменной речи, служит' расчленение единого потока звучащей речи путем, интервалов на отдельные слова.
В русском языке выделяются слова, имеющие «само.-стоятельное» значение, и так называемые «служебные»,, или «вспомогательные», слова, т. е. предлоги, союзы и частицы. Слитное же написание некоторых служебных слов приобретает уже другой смысл — оно придает словам новые оттенки значений (такие изменения мы видели только что па примере со слитными и раздельными написаниями частицы не).
Как известно, предлоги выражают различные отношения существительного к другим самостоятельным словам предложения, поэтому предлоги употребляются всегда в связи с существительными (или со словами, имеющими значение существительного); вне этой связи они утрачивают речевое значение.
Имея в виду подобную особенность употребления предлогов, мы представили себе, что определенное значение для психологии усвоения правила о раздельном правописании предлогов должно иметь выделение существительного как самостоятельного слова речи со стабильным предметным значением, в противоположность предлогу, не обладающему такой независимостью семантики.
Чем очевиднее и понятнее для ученика «предметность» следующего за предлогом существительного, тем легче для него становится применение правила о раздельном правописании предлогов.
Для экспериментальной проверки подобного предположения достаточно было бы сравнить написания предложных сочетаний двух вариантов: письмо предлогов с существительными, предметное значение которых для учеников вполне доступно, и сочетания предлогов с такими словами, «предметность» которых выражена неясно. Такие «экспериментальные» слова нам не надо было придумывать, их создал сам язык (мы говорим о местоимениях) .
Местоимения, хотя и являются самостоятельными словами, но «не имеют определенного реального значения и получают его только в контексте речи, в зависимости от того, на какое слово или на какое явление нашего опыта
указывает данное местоимение. Они могут как бы замещать в речи слова с конкретным реальным значением, что и послужило поводом назвать их местоимениями, т. е. заменителями имен, слов» Ч
Среди различных групп местоимений имеются местоимения-существительные, которые, как и имена существительные, употребляются с предлогами.
Можно предположить, что такие особенности семантики местоимений не остаются безразличными при усвоении раздельного написания предлогов, ибо вместо выделения реальных значений существительных ученику приходится иметь дело со своего рода их алгебраическими выражениями, о предметном значении которых приходится лишь догадываться на основе общего смысла речи.
Кроме того, вследствие особенности семантики местоимений, чрезвычайно затрудняется применение учащимися приема «вставки» слова между предлогом и существительным, приема, рекомендуемого большинством учебников.
Руководствуясь этими соображениями, мы ввели в диктант две основные группы слов: предлоги с местоимениями и предлоги с существительными.
Для диктанта нами были взяты личные местоимения, которые в большей степени, чем другие разряды местоимений, знакомы учащимся начальной школы. Это обстоятельство следует учитывать при оценке результатов диктанта.
Существительные, относящиеся ко второй группе слов, в свою очередь, делились на две подгруппы: существительные с конкретным значением (главным образом для начальной школы) и существительные, обозначающие отвлеченные понятия (нетерпение, удовольствие). Последние слова были введены нами для выяснения, в какой мере отсутствие наглядно представляемой предметности существительных отразится на их правописании.
В результате обработки диктанта нами получены следующие данные (см. табл. 17).
При рассмотрении этих данных следует иметь в виду, что раздельное написание предлогов в школе изучается несколько раз. Во II классе программой предусматрива-
1 Р. И. А в а н е с о в и В. Н. С и д о р о в, Очерк грамматики русского литературного языка, Учпедгиз, 1945, стр. 150.
Распределение ошибок на правило „Раздельное написание предлогов*
’ —— Классы Слова II III IV Среднее V VI VII VIII—IX X Среднее
I. Словас конкретным I !
з н ач е н и е м
Со старухой 9 1 0
За рекой . . . . 10 1 0
У леса 3 0 0
У дома 0,6 0 0
Среднеарифметич 5,6 0,5 0 2,0 i
II. Слова с отвлеченным 1
значением
С нетерпением 51 9 2 2 6 4 2 2
С удовольствием 35 20 9 16 7 5 0 0
Среднеарифметич 43 14,5 5,5 9 6,5 : 4’5 1 1 10,6
III. Предлоги с местоимениями
Со мной 76 45 25 — — — — —
За ними — 10 5 — — — — —
У меня — — — 2 0 0 0 0
У нас . . • .... 10 6 2,6 2 1 0 0 0
Среднеарифметич | 43 30,5 | ! 10,8 | 1 2 | 0,5 0 1 0 1 0 1 10,8
лось «практическое знакомство с предлогами и раздельным письмом их от слов, обозначающих предметы», а в учебнике1 дается соответствующее правило, причем упражнения в учебнике II класса строятся на употреблении предлогов исключительно с существительными конкретного значения. В III классе специальной темы о предлогах нет. Но фактически с предлогами ученики имеют дело, изучая падежи существительных. Здесь также изучаются и местоимения, но особо вопрос о правописании их с предлогами не выделяется.
Об употреблении предлогов с местоимениями впервые' говорится в IV классе, где имеется специальная тема «Предлог». Здесь дается сопоставление предлогов и приставок. Ко времени проведения нами диктанта ни местоимения, ни предлоги в IV классе еще не изучались. Учитывая это обстоятельство, следует себе представить, что ученики первых четырех классов в наших опытах знали правило о раздельном написании предлогов, многократно упражнялись в его применении, но частный случай этого правила — сочетание предлогов с местоимениями — специально не изучался.
Письмо учеников начальной школы могло, следовательно, основываться главным образом на несистематической практике. Теоретически же наиболее трудные случаи правописания предлогов с существительными обобщены не были. Начиная же с V класса, обучение этому правилу можно считать законченным.
Анализ данных, представленных на табл. 17, позволяет прийти к выводу, что наиболее легкими для правописания оказались предлоги, употребленные с существительными конкретного значения. Ошибки в таких предложных сочетаниях, как со старухой, за рекой и т. д.,. уже с III класса были случайными. На втором месте по» своей трудности оказалось правописание тех же предлогов, но с местоимениями со мной, за ними, у нас. Ошибки на такие сочетания в большом количестве (10,8%) зарегистрированы нами даже в IV классе. Лишь в V классе, т. е. по условиям наших опытов после специального
1 Говоря об учебниках, мы имеем в виду учебники, употреблявшиеся в школе в период наших опытов, а именно: В. Г. Поляков и В. М. Чистяков, Русский язык (для всех классов начальной школы); Грамматика русского языка, под ред. акад. Л. В. Щ е р б ы (для средней школы),
изучения правописания местоимений с предлогами, обнаружена тенденция к резкому снижению ошибок (см. сочетания у меня и у нас — 2 %). В более старших классах средней школы эти трудности полностью изживаются.
Таким образом, ученики начальной школы, несмотря на знание правила в его общей форме, не относили его к местоимениям. Это подтверждает наши предположения о том, что затруднения, порождаемые особенностями лексических значений слов, управляемых предлогами, оказывают непосредственное влияние на орфографию учащихся. Но наряду с этим следует отметить (как это имело место и при написании частицы не с предикативными наречиями), что местоимения отличаются от существительных не только по своему значению, но и по формальным признакам (своеобразие их падежных форм). Вероятно, этот фактор также оказал свое влияние на правописание местоимений в начальной школе.
Однако если мы обратимся к анализу данных по второй группе слов (существительные с отвлеченным значением), то психологический удельный вес семантики управляемых слов становится более очевидным. Действительно, эти сочетания оказываются для учащихся наиболее трудными и ошибки в них наиболее устойчивыми (в V—9%; в VI—6,5%; в VII—4,5%), несмотря на то, что падежные формы абстрактных существительных не отклоняются от нормы. Следовательно, можно полагать, что орфографические трудности порождаются в этих случаях своеобразием лексических значений подобных слов.
В распределении ошибок в этой группе слов есть одна особенность — это увеличение ошибок в V и VI классах по сравнению с IV классом. Мы думаем, что в данном случае следует учесть то влияние, которое оказывает на раздельное правописание предлогов изучение слитного правописания наречий.
Как известно, наречия происходят от разных частей речи, в том числе и от существительных с предлогами, которые в таком случае пишутся слитно (издали, доверь ху, отроду и т. п.). Психологически вполне вероятно ожидать в данном случае отрицательного влияния нового правила на уже выработанный навык. Очевидно, что подобная интерференция навыков сказалась на увеличении в старших классах ошибок в словах с удоволь
ствием и с нетерпениям. У нас имелась возможность проверить это предположение на правописании двух пар омонимов (предлог с существительным и наречие): наудачу —на удачу и наверх —на верх, также включенных в диктант.
Таблица 18
Распределение ошибок в омонимах
Классы V VI VII VIII-IX X
Слова
Ему нельзя было рассчитывать на удачу 2 5 6 4 2
Они поднялись на верх горы 2 10 6 9 8
Шар поднялся наверх и исчез из глаз ... ... 81 15 32 14 2
Он плохо подготовился и пошел на экзамен наудачу . . 96 37 34 7 9
На этой таблице мы видим, что наречия наверх и наудачу в V классе, где ученики еще не закончили изучения правописания, вызывают массу ошибок: 81 и 96% учеников пишут их раздельно. Наоборот, в том же классе существительные на удачу и на верх дают минимальное количество ошибок (2%). Здесь, очевидно, действует привычная установка на раздельное написание предлогов. В старших же классах наблюдается обратное явлёние: раздельное написание на удачу и на верх вызывает увеличение ошибок по сравнению с V классом, в то время как количество ошибок в слитном письме наречий наверх и наудачу резко падает. То, что эти ошибки в старших классах остаются тем не менее в большом количестве, объясняется, повидимому, тем обстоятельством, что правописание таких омонимов требует очень тонкого различения их «предметности» и «наречности». Учителя хорошо знают, как трудно иногда ученикам определить грамматическую природу таких сочетаний, как в дали и вдали, на встречу и навстречу и т. п.
С психологической точки зрения, здесь случай, аналогичный слитному и раздельному правописанию частицы не, так как в обоих правилах орфография омонимных
выражений основывается на их смысловой дифференциации.
Анализ динамики ошибок в правиле о раздельном написании предлогов дает, таким образом, возможность говорить о влиянии семантики слов на орфографию, по крайней мере, в двух направлениях.
На первом этапе на орфографию влияет отчетливость и конкретность значения предметности того существительного, которым управляет данный предлог. В связи с этим сочетания предлогов с местоимениями оказываются для учеников наиболее трудными случаями применения правила. К V классу (до изучения наречий) эта трудность в основном преодолевается: ошибки резко снижаются.
Второй этап, начинающийся с момента изучения правописания наречий, характеризуется новой трудностью в области семантики слов: необходимостью различать при письме наречия от предлогов с существительными. Включение этого нового момента вызывает относительный рост ошибок при применении правила о правописании предлогов.
В дальнейшем на усвоение этого правила оказывает влияние степень доступности для ученика смысловой дифференциации наречий и сходного с ними сочетания существительного с предлогом. В трудных случаях ошибки, вызываемые этой причиной, удерживаются до конца обучения.
Наряду с этим наши данные о правописании предлогов с существительными и местоимениями обнаруживают влияние добавочного фактора. Если мы снова обратимся к данным табл. 17, то нам бросится в глаза резкое увеличение ошибок в сочетании со мной (II класс — 76%; III — 45%; IV—25%) по сравнению с другими местоимениями (за ними, у нас). Еще большее количество ошибок вызвало сочетание передо мной, дополнительно введенное нами в диктант. Начиная со II класса, оно вызвало следующее количество ошибок: II класс—95%; III класс—83%; IV класс—66%; V класс—30%; VI класс—19%; VII класс — 7% (в старших классах ошибок не было).
Возможно предположить, что в данном случае обнаружилось влияние большей слитности в произношении предлогов со вставочной гласной (такое толкование мы находим также у М. В. Ушакова). Однако обращает на 172
себя внимание, что не все подобные предлоги вызывают аналогичные трудности (например, за ними). В чем тут дело, мы не знаем, но если высказанное предположение верно, то это означает, что на правописание некоторых предлогов с местоимениями, наряду с грамматическими особенностями последних, влияние также оказывают и некоторые фонетические условия.
Из подобной характеристики процесса усвоения правописания предлогов можно сделать, как нам кажется, некоторые педагогические выводы.
Во-первых, необходимо уже в начальной школе продуманно вводить в упражнения существительные не только с конкретным, но и абстрактным значением, обращая на них особое внимание.
Во-вторых, нельзя считать нормальным существующее положение, когда вплоть до IV класса правописание предлогов с местоимениями предоставлено самотеку.
Так как невозможно «наложить запрет» на употребление таких сочетаний на письме (если даже исключить их из упражнений, они будут необходимы учащимся в творческих работах), то следует дать обобщенное правило о их правописании, хотя бы дограмматическим способом, в непосредственной связи с правилом о раздельном написании предлогов. Здесь, следовательно, надо применить принцип осознания типичных вариаций несущественного признака.
В-третьих, необходимо серьезно продумать, каким образом предупредить те сомнения учащихся в применении правил о раздельном написании предлогов, которые появляются у них вновь в связи с изучением наречий. Этот вопрос является, пожалуй, самым трудным для методики, поскольку он связан с необходимостью урегулировать правописание наречий, по отношению к которым дать обобщающее правило представляет значительную трудность.
Правописание е-и в падежных окончаниях существительных
Синтаксические и грамматические условия, в которых употребляются существительные, столь многочисленны и разнообразны, что для определения их влияния на правописание падежных окончаний потребовалось бы провести, вероятно, целый ряд самостоятельных исследований.
Наша работа тем более не может претендовать на полное освещение этого вопроса, поскольку мы изучали одновременно ряд других правил. Однако мы включили в текст диктанта несколько существительных для выяснения лишь одного вопроса: оказывают ли влияние на правописание безударного падежного окончания е трудности в понимании значения целого слова. При подборе слов мы руководствовались общим правилом: варьировать характер лексики слов, оставляя прочие условия их употребления одинаковыми. Так, контрольные существительные были употреблены в одном и том же падеже, в одном и том же предложном сочетании. Все слова были I склонения, но по своему значению слова делились на конкретные и абстрактные.
В результате мы получили две группы таких экспериментальных слов: конкретные — в соломе, в Африке;. абстрактные — в путанице, в суматохе, в неразберихе.. Диктант дал результаты, приведенные в табл. 19.
Таблица ГУ
Распределение ошибок в падежных окончаниях имен существительных
\Классы Слова II III IV V VI VII VIII—IX X Среднее
В соломе 18,8 6,0 1,2 — — — — — 8,7
В Африке 37 6,6 6 2,5 0,9 0 0 0 6,6
В путанице 62,2 21,4 9,5 Н,7 1,0 2,5 2,9 2,2 14,1
В суматохе 36 26 18 21 9,0 2,6 3,0 0 14,4
В неразбе-
рихе — 17 28 31 19 7 15 6 17,6
По этим данным видно, что слова в суматохе, в неразберихе и в путанице оказались для учеников почти всех классов более трудными для правописания, чем остальные слова. Это обстоятельство особенно ярко выступает при сравнении среднеарифметических ошибок, вычисленных отдельно для конкретных и абстрактных слов (табл. 20).
Распределение ошибок в конкретных и абстрактных словах
Классы II III IV V VI VII VIII-IX X Среднее
Конкретные 27,6 6,3 3,6 2,5 0,9 0 0 0 5,1
Абстрактные 49,2 21,4 18,5 21,2 9,7 4,0 6,9 2,7 16.7
Мы видим из этой таблицы, что расхождение между семантически легкими и трудными словами наблюдается в течение всего школьного обучения. Особенно значительно это различие в младших классах. Но постепенно оно сглаживается за счет уменьшения количества ошибок в абстрактных словах. Тем не менее общешкольный процент ошибок (5,1% и 16,7%) показывает резкое расхождение ошибок по этим двум группам слов.
Таким образом, оказывается, что абстрактные слова вызывают большее количество ошибок в падежных окончаниях, по крайней мере, при употреблении их с предлогами, указывающими на конкретные пространственные отношения (как это имело место в наших опытах). В чем тут дело, без дополнительных индивидуальных опытов сказать трудно. Можно лишь предположить, что значения падежных окончаний, указывающих вместе с предлогами на наглядно представляемое положение предметов в пространстве (в соломе и т. п.), становятся для ученика менее очевидными в тех случаях, когда речь идет об абстрактных или мало знакомых предметах (в суматохе и т. п.). Во всяком случае сам факт большего количества ошибок в падежных окончаниях слов, трудных для понимания, по-В1идимому, не случаен. Одновременно с нами он был обнаружен и в исследовании С. Ф. Жуйкова, который показал на массовом материале, что ошибки в падежных окончаниях слов, непонятных для учеников, возрастают примерно на 10%. по сравнению со словами, легкими для понимания'.
1 С. Ф. Ж у й к о в, К вопросу о формировании орфографических навыков, журн. «Советская педагогика», 1954, № 1.
Правописание ь после шипящих в существительных женского рода
В основе правила об употреблении ь в словах женского рода (мышь, ночь, дочь и т. п.) в противоположность мужскому (врач, плющ, сторож и т. д.) лежит различение категории грамматического рода имен существительных.
Современные лингвисты (акад. В. В. Виноградов, Р. И. Аванесов и В. Н. Сидоров) отмечают, что различия в роде существительных не отражают для современного языкового мышления каких-либо различий в смысловом отношении. «Невозможно, например, сказать, что лежит в основе распределения по родам таких существительных, как: ручей, поток, пруд (мужской род); река, струя (женский род); озеро, море (средний род); во всех этих случаях, а их большинство, родовые различия у существительных, так как они не определяются значением, являются различиями чисто формальными» !.
Акад. В. В. Виноградов отмечает, что «у подавляющего большинства имен существительных, у тех, которые не обозначают лиц и животных, форма рода нам представляется немотивированной, бессодержательной»2.
Однако, несмотря на подобную произвольность категории рода и несмотря на то, что определения этого понятия в школьных учебниках не дается, хорошо известно из практики, что школьники не испытывают особых затруднений в определении таких, казалось бы, исключительно трудных, абстрактных признаков существительных, как их грамматический род.
Могут сказать, что здесь помогает учащимся прием подстановки «родовых» слов (мой, моя, мое), который рекомендуется методикой. Но в таком случае следует задуматься над тем, может ли ученик выбрать правильное родовое слово, если он не знает заранее, к какому роду относится данное существительное?
Здесь создается точно такое же положение, которое отмечал в свое время Пешковский в отношении различения падежей путем подстановки к ним падежных вопросов. На этом основании он сомневался в целесообразно-
1 Р. И. Аванесов и В. Н. Сидоров), См. цит. выше работу.
- В. В. Виноградов, Русский язык, Учпедгиз, 1947, стр. <58.
сти йзучения падежей по вопросам, хотя практика школы весьма продуктивно использует этот прием.
Между тем с психологической точки зрения в подобном «замкнутом круге», чтобы узнать род или падеж, надо подставить родовое слово или падежный вопрос, но чтобы подставить их, надо заранее знать род или падеж существительного — в подобном замкнутом круге нет ничего иррационального. В другом месте мы уже указывали1, что подстановка падежного вопроса возможна именно потому, что опирается на предшествующий речевой опыт ребенка, в котором развивается правильное употребление падежей в соответствии с их значениями.
То же самое можно сказать и о категории рода, вероятно, и о многих других грамматических понятиях, которыми ученик оперирует свободно, несмотря на то, что они теоретически остаются не раскрытыми.
В отношении различения категории рода следует иметь в виду, что хотя значение рода не может быть раскрыто более или менее содержательно, тем не менее неразличение этой категории нарушает систему правильных согласований слов в живой речи. (Нельзя, например, сказать широкое река, синий небо и т. п.) Обучаясь говорить, ребенок практически усваивает (при помощи взрослых, путем подражания) род существительных именно благодаря такой синтаксической функции рода в речи. Он правильно употребляет в речи род существительных, и потому его «шокирует» всякое искажение в согласовании «родовых слов» с существительным типа: «Я увидел моего сестру». То, что при этом решающее значение имеет именно практика речи, доказывают общеизвестные факты обучения русскому языку в национальных школах, где такого рода ошибки в речи начинающих обучение далеко не являются исключениями.
Итак, хотя род имен существительных признается лингвистами для большинства слов чисто формальной категорией грамматики, объединяющей слова с одной и той же системой падежных окончаний, ребенок при изучении родного языка имеет свои особые средства определения этой сложной категории речи.
1 См. Д. Н. Богоявленский, Очерки психологии усвоения орфографии, изд-во АПН РСФСР, 1948, стр. 77.
Но практический речевой опыт ребенка ограничен фактическим объемом его словаря. Нами было обнаружено ранее,1 что, безошибочно определяя до изучения понятия корня корневое «родство» слов с доступным ему корневым значением, ребенок испытывает значительные затруднения, как только сталкивается с однокоренными словами, не входящими в его активный или пассивный словарь.
В отношении усвоения рода следует ожидать, что различение этой грамматической категории будет тем более затруднительно для ученика, чем менее употребительно в его речи данное слово, чем менее доступно для него его значение.
Поскольку для соблюдения орфографического правила о подстановке ь в словах женского рода после шипящих такое различение необходимо (так как употребление ь в таких случаях фонетически не обусловлено), то следует предположить, что эти трудности отразятся и на орфографии.
Чтобы проверить правильность такого суждения, мы включили в диктант несколько контрольных слов, употребительность которых в детской речи неодинакова. В качестве употребительных слов фигурировали ночь и мышь, в качестве менее распространенных слов — мощь, дрожь, пустошь. В число контрольных слов было включено также слово молодежь с тем предположением, что собирательное значение этого слова может затушевать родовой признак.
Большинство слов диктовалось только в начальной школе, поскольку эти слова постепенно входят не только в пассивный, но и в активный словарь школьника и потому не были бы показательными в этом отношении для старших классов.
Результаты диктанта приводятся в табл. 21.
При рассмотрении этой таблицы надо иметь в виду, что правило об употреблении мягкого знака проходилось в III классе и к моменту диктанта было уже изучено. Мы видим, что во II классе, т. е. до изучения правила, все три слова — ночь, мышь и молодежь — вызывают очень большое количество ошибок. Это подтверждает выводы о
1 Д. Н. Богоявленский, Цит. выше работа.
РаСпрёделейие ошибок на употребление b в именах существительных женского рода
\1Классы Слова II III IV V VI VII VIII—IX X
Ночь . . 46 7 1 0 0 0 0 0
Мышь .. 71 18 2 — — — — —
Мощь . . . - 14 16 13 4 3 3 1
Дрожь . . — 41 14 — — — — —
Пустошь . — 46 30 14 3 0 1 0
Молодежь 98 62 20 — — — — —
естественном пропуске фонетически не обусловленного мягкого знака, которые были сделаны нами по результатам диктанта на глагольные окончания -тся и -ться.
Что касается классов, уже изучавших правило, то неравномерность распределения ошибок в «легких» и «трудных» по значению словах выявляется достаточно ярко. Правда, сравнительно большой процент ошибок дает в III классе слово мышь, по сравнению со словом ночь> но здесь выступает обстоятельство, непредусмотренное нами, а именно: мышь часто в речи детей младшего возраста оказывается мужского рода. Вероятно, это и способствовало увеличению ошибок в III классе. Но уже в IV классе количество ошибок в слове мышь снижается до двух процентов. Тем не менее, по данным всех классов, слова ночь и мышь являются самыми легкими. В нарастающем порядке увеличиваются ошибки в словах мощь и пустошь, удерживаясь в большом количестве в V классе {мощь — 13%; пустошь—14%) и оставаясь в меньшем количестве в старших классах. Слово молодежь вызывает наибольший процент ошибок во II и III классах (98 и 62%), но уже в IV классе уступает слову пустошь (соответственно 20 и 30%).
Таким образом, мы видим, что усвоение орфографического правила о ь после шипящих, подобно другим рассмотренным правилам, нельзя охарактеризовать однозначно. Применение одного и того же правила вызывает различной степени трудности в зависимости от семантической характеристики отдельных слов (в данном случае их лексических значений), оказывающих влияние на понимание.
Мы lie предполагаем, однако, что степень доступности Значений слов является единственной причиной орфографических затруднений ученика. Как и в других правилах, имеется, по всей-вероятности, целый ряд других особенностей языкового материала, который также не остается безразличным для усвоения. Для выявления их требуются специальные исследования. Так и по данному правилу нами оставлен без изучения вопрос о роли синтаксического контекста фразы.
Вполне допустимо предположить, что наличие, например, в предложении определений или сказуемого, согла-суемых с существительными и принимающих родовые окончания, окажет свое влияние на различение рода данного существительного и, следовательно, на его правописание. Например, сирокко дует — согласования в роде нет; сирокко дул — есть согласование в роде сказуемого; знойный сирокко дует — согласование в роде прилагательного. Но чтобы проверить это предположение, следовало бы включить подобный материал в наши диктанты. Мы не сделали этого, так как данный вопрос требует особого изучения.
Правописание гласных после шипящих
Правописание сочетаний жи и ши резко противостоит всем изученным выше правилам, поскольку оно относится к чисто звуковой орфографии и не имеет смыслоразличительного значения. Это, как известно, объясняется чисто историческими причинами, а именно тем, что ж и ш когда-то произносились мягко и после них, следуя за фонетикой, писали и. Эта манера письма осталась, хотя данные звуки отвердели и эти сочетания произносятся нами твердо, как жы и шы. Таким образом, из трех факторов правописания — семантики, фонетики и графики — в данном случае семантика выпадает. Правило приобретает поэтому условный догматический характер и морфологически никак не обусловливается.
С психологической точки зрения это означает, что все те орфографические трудности, которые в предшествующих правилах были связаны с семантикой орфограммы, не должны иметь места при усвоении правописания гласных после шипящих. Следовательно, при сохранении нашего принципа подбора материала — вариации значений — мы должны ожидать отрицатель
ных результатов. Чтобы проверить это предположение, мы подобрали для диктанта слова с разной степенью их доступности и распространенности. Результаты диктанта видны из табл. 22.
Таблица 22
Распределение ошибок на правило правописания сочетаний жи, ши
Классы Слова 1 III IV V VI ! V1I 1 VIII— IX X
Пружина .... — 1,1 1.8 1 —
Кашира ... 5,3 0.6 0 0.8 0 0 0 0
Жираф 9,4 3,8 1,8 0 0 0 0 0
Шифон — — — 0 0 0 0 0
Жимолость . . . — — — 0 0 0 0 0
Жилет .... — — — 0 0 0 0 0
Жирофле . . . — — — о : 0 0 0 0
Жирофля .... — — — 0 0 0 0 0
Для того чтобы ограничить возможность письма, основанного на запоминании отдельных слов, мы включили в диктант лишь такие слова, которые не встречались учениками в учебниках. Среди них были слова, вполне понятные ученикам данного возраста, и слова, не понятные для многих учеников (Кашира, шифон, Жироф-ле, Жирофля). Тем не менее эти семантические особенно-сти слов не оказали влияния на орфографию. Ошибки встречаются только в первое время после изучения правила, и их количество уменьшается с каждым годом, давая равномерную кривую угасания, характерную для выработки элементарных навыков.
В средней же школе навык полностью автоматизируется; ни одно слово не вызывает ошибок, несмотря на трудности их семантики.
Объясняется это чисто сенсорным характером тех обобщений, которые лежат в основе различения жи, ши. Звуковая ситуация (твердость шипящих), обозначение которой противоречит правописанию, во всех словах тождественна и неизменна. Это психологически упрощает процесс; выпадение семантики делает его двучленным: акустическое впечатление -♦ графика.
Однако при исследовании этого правила мы натолкнулись на непредвиденные трудности. Работая с учениками в индивидуальном порядке над другим орфографическим правилом, мы продиктовали ученику IV класса предложение: Маше нравится в деревне. Ученик сделал ошибку: Маши. Экспериментатор указал, что «здесь надо писать е». На это ученик уверенно ответил: «Нельзя е после ш, надо и писать». Экспериментатор предложил подумать, так ли он говорит. Ученик: «Так. Мы учили — жи, ши пишется с и». Экспериментатор указал на правило о правописании падежных окончаний. Ученик неуверенно исправил свою ошибку.
Учителя, к которым мы обратились по поводу этих ошибок, подтвердили, что подобное расширительное толкование правила " достаточно типично для начальной школы
Другой ряд фактов, требующих своего истолкования, мы получили при анализе ошибок в экспериментальном диктанте.
В сводке ошибок, которая дана в предыдущей таблице, учитывались лишь ученические написания жы, шы, т. е. ошибки против данного правила. Как мы видели, в средней школе таких ошибок не делается. Но обнаружился другой тип ошибок, а именно: употребление после шипящих буквы е. Приводим количественную сводку этих ошибок (табл. 23).
Таблица 23
Распределение ошибок е вместо и после шипящих
Слова
Класс ы
V | VI
VII х
1Л
В шинели . В жилете Шифоном . Жирофле . Жимолость
21 11 7 4 7
33 17 30 12 25
35 47 29 17 23
35 23 25 12 25
Без 1 О II [ И б О 1 <
1 О подобных же фактах сообщает В. Е. Г м у р м а н: «Ученик пишет «лошидь», «голуби на крыши» и поясняет: «После ш нужно писать «»; журн. «Советская педагогика», 1946, № 4—5.
В противоположность полному отсутствию в средней школе ошибок типа ы вместо и, ошибки, подсчитанные в этой таблице, прежде всего поражают своей массовостью и устойчивостью. В правописании таких слов, как жилет, шифон, Жирофля, ошибаются или, вернее, сомневаются (учитывая наше определение «ошибки») 25% учеников X класса. В то же время бросается в глаза, что среди данных слов выделяется слово жимолость, в котором не сделано ни в одном классе ни одной ошибки.
Таким образом, мы обнаружили два рода сомнений учащихся: первое — предпочтительное написание и не только вместо ы, но и вместо других гласных, второе — письмо е вместо правильного и. Причина первого затруднения становится очевидной, если принять во внимание методику обучения этому правилу, обычную не только для школы, где проводились наши опыты, но рекомендуемую в методических пособиях и закрепленную в учебниках.
Во II классе ученики заучивают правило в следующей форме: «жи, ши пиши через и». Никаких ограничений при этом не дается. Напротив, большинство методистов энергично протестует против рекомендуемого некоторыми из них указания на фонетические условия, при которых это правило следует применять (т. е., когда после шипящих слышится ы, надо писать и). В методике для начальной школы дается указание: «Написание жи, ши, ча, ща, чу, щу усваивается, по преимуществу, зрительно-моторным путем. Совсем не следует говорить учащимся II класса, что одни из них пишутся, как слышатся (ча, ща, чу, щу), а другие — иначе, чем слышатся (жи, ши)» LB методике для средней школы: «Надо знать правила о правописании сочетаний жи, ши; ча, ща; чу, щу. Правила должны формулироваться в категорической форме: не следует расплывчатыми (?!) формулировками правил (слышится так, писать надо так) провоцировать ошибки» 1 2.
1 Н. П. К а н о н ы к и н и Н. А. Щербакова, Методика русского языка в начальной школе, Учпедгиз, 1939,, стр. 204.
2 П. О. Афанасьев, проф. Методика русского языка в средней школе, Учпедгиз, 1944, стр. 188.
В соответствии с такими методическими указаниями происходит подбор упражнений, выполняя которые ученику не приходится отдавать себе отчет о границах применения правила. Поэтому нет ничего удивительного, что дети на первых порах, слепо следуя за правилом, всюду после ж и ш пишут и. Приходится удивляться обратному, что ученики научаются в конце концов правильно писать такие орфограммы вопреки правилу. Это становится возможным лишь потому, что они в практике письма доходят до обобщений более точных, чем то, что преподносит им учебник в виде правила.
Более сложным представляется нам второй вопрос — об ошибках е вместо и. Прежде всего следует отметить, что все ошибки подобного рода встречаются в безударном положении слогов жи и ши (в шинели, в жилете, шифоном и т. д.), в противоположность жимолости, написанной без ошибок. В таких случаях «фонетическая ситуация» изменяется, гласный звук произносится неясно, чем отличается от твердого ы в словах под ударением (жир, шило); вследствие этого применение правила к таким акустическим впечатлениям затрудняется. С другой стороны, написание е в таких случаях может быть вызвано аналогией с письмом е после шипящих без ударения (шептать, желудей, чернота и т. п.). Перед столкновением этих двух правил ученики остаются беспомощными, потому что в школьной грамматике дается по этому поводу лишь очень неясное указание. Естественно поэтому, что ошибки в этих орфограммах приобретали массовый характер.
Можно полагать, что мы имеем здесь дело с интерференцией трех орфографических навыков, формирующихся под влиянием трех правил, сходных в том отношении, что все они регулируют правописание гласных после шипящих. Следовательно, обучение этим правилам должно проходить таким образом, чтобы создать необходимые условия для их дифференциации. В психологических и физиологических исследованиях намечен для этого твердо установленный эффективный путь. По отношению к орфографии мы разбирали этот вопрос в другом месте \ так что нет необходимости вновь останавли-
1 Д. Н. Богоявленский, Очерки психологии усвоения орфографии, изд-во АПН РСФСР, 1948, стр. 93.
ваться на нем. Скажем лишь, что психологический смысл этого пути заключается в. осознании различительных признаков этих правил, что достигается в процессе их сопоставления и противопоставления. Нет сомнения, что дифференциация данных правил и должна идти по этому же пути. Конечно, дело не должно ограничиваться сравнением лишь словесных формулировок этих правил.
Важно, чтобы и орфографические упражнения на эти правила носили характер «перемежающегося противопоставления» (И. П. Павлов). Соблюдение этих условий поможет устранить интерференцию навыков на основе выработки точных дифференцировок.
Результаты исследования позволяют ответить положительно на вопрос о том, влияет ли на усвоение орфографии понимание языковых значений. Как мы видели, это влияние обнаружилось на орфограммах самых различных типов: и на тех, в основе усвоения которых лежит, по нашим теоретическим выводам, образование межсловесных связей (например, безударные гласные корня слова), и на тех, усвоение которых связано с применением правил (падежные окончания, правописание предлогов и приставок, слитное и раздельное написание частицы не и др.). Тем самым надо считать доказанным, что грамматические обобщения служат основой усвоения не только тех орфограмм, правописание которых регулируется «точными» правилами, но и тех, по отношению к которым такие правила неприменимы, как это имеет место в правописании безударных гласных. Данное положение наблюдалось в различных типах семантических орфограмм. Влияние семантики обнаружено по отношению к орфографическим правилам самого разного типа.
При этом выяснилось, что на правописание влияет понимание учащимися:
1) лексического значения целого слова (правописание безударных корней, ь после шипящих, предлогов с существительным, падежных окончаний);
2) значения морфемы (корень, глагольные суффиксы -ться и -тся);
3) значения слова как части речи («глагольность» в правописании частицы не\ «предметность» в правописании предлогов; отрицание не с наречиями);
4) широкого контекста (правописание не слитно и раздельно, эпизод со словом седеть).
С другой стороны, на примере правописания жи, ши удалось выяснить, что на правила, основанные на чисто сенсорных обобщениях звуковой стороны речи и имеющие поэтому догматический характер, непосредственное влияние понимания семантики не распространяется.
Каково психологическое значение этих фактов?
Наш материал обнаружил закономерность, относящуюся ко всем правилам морфологической и «смысловой» орфографии, — это расслоение кривых ошибок «внутри» одного и того же правила. В одной группе слов на данное правило допускалось значительно большее количество ошибок, чем в другой. Так как обе группы слов подчинялись одному и тому же правилу, то объяснить эту разницу «незнанием» правила не представляется возможным. Скорее можно предположить, что в одном случае (письмо с минимальным количеством ошибок) имелись условия, благоприятствующие актуализации ассоциаций между данными словами и соответствующим правилом, в другом — условия, тормозящие такие ассоциации.
В чем заключалось различие этих условий, мы знаем. В наших опытах трудные слова подбирались таким образом, что их языковые особенности затрудняли понимание значения данной грамматической категории и тем самым препятствовали ее опознаванию и выделению из словесного контекста. Этим разрывалась связь между грамматикой и орфографией. Грамматическая абстракция и основанные на ней языковые обобщения, лежащие в основе правил, не могли влиять на орфографические действия учащихся.
Таким образом, можно видеть, что факты, полученные в результате исследования, подтверждают наши теоретические положения о той роли, которую играют в усвоении орфографии грамматические обобщения, основанные на ассоциациях типа: звуковая форма — значение. Заторможенность таких ассоциаций приводит к невозможности актуализировать собственно орфографическое звено ассоциаций между значением и графической формой данного языкового явления как через посредство вспоминания правила, так и путем установления межсловесных правил.
Глава V
ПУТИ ОБРАЗОВАНИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ АССОЦИАЦИИ
МЕЖСЛОВЕСНЫЕ АССОЦИАЦИИ
При рассмотрении общих вопросов усвоения орфографии нами были намечены два пути образования орфографических ассоциаций: 1) путь межсловесных ассоциаций и 2) путь применения правил. Экспериментальные диктанты дали нам факты, показывающие, что при обоих способах образования ассоциаций понимание семантики слова и его морфологических элементов имеет важнейшее значение. Чисто количественная методика этого исследования не дала возможности раскрыть все психологические особенности этих процессов. Для восполнения этого пробела мы провели ряд других исследований. Особенно значительны материалы, относящиеся к описанию процесса образования межсловесных ассоциаций при усвоении правописания безударных гласных в корне слова.
Данные экспериментальных диктантов показали, что орфографическая успешность письма во многом зависит от того, как понимают учащиеся корневые значения слов. Какую же роль играет понимание в процессе усвоения правописания безударных гласных, определяемом нами как процесс образования межсловесных связей? С этой целью мы провели специальные опыты с письмом незнакомых учащимся слов.
Замысел этих опытов заключается в следующем. Мы видели по данным диктанта, что в малознакомых словах с «трудными» корнями ученики допускали много ошибок.
Теперь нам важно было проверить, как будут писаться совсем не знакомые ученикам слова в том случае, если мы предварительно проведем работу над разъяснением их корней, т. е. создадим нужные ассоциации между графической формой и значением корней таких незнакомых слов, не сообщая их учащимся, а работая над другими однокоренными словами. Если правы сторонники теории запоминания целых «образов слов», то очевидно, что слова, «образ» которых никогда не воспринимался учениками, могли быть написаны правильно лишь случайно, т. е. не более чем в 50% случаев. Если же правильны наши соображения о роли понимания значений корня, соединенного со знанием его графической формы, то мы должны были обнаружить определенный эффект предварительного обучения, несмотря на новизну этих слов для учащихся.
Методика этих опытов была такова. Нами были взяты четыре слова. Два из них — покой и готов — с непроверяемыми, а два — копченый и ползет — с проверяемыми корнями. В двух классах (II и III) была проведена следующая работа. Прежде всего мы должны были сформировать у учеников нужное обобщение, т. е. добиться того, чтобы они усвоили графическую форму корней данных слов и понимали значение их, устанавливая смысловое сходство с другими однокоренными словами. Это было тем более необходимо, что по существовавшим тогда программам понятие корня во вторых классах не изучалось, а в третьих соответствующая тема была только что пройдена, и нельзя было ручаться, что ученики полностью овладели применением этого понятия на практике.
Работа в школе началась с проведения диктанта, в текст которого были включены по два контрольных слова от каждого экспериментального корня. Через два дня был проведен первый урок, связанный с исправлением ошибок в диктанте и посвященный целиком работе над этими корнями: ученики писали эти слова, выделяя корень, к проверяемым словам находили слова-«провер-ки», а затем ко всем словам коллективно подбирали «родственные» (термин для II класса), «однокоренные» (для III класса) слова. Все эти слова учениками записывались в тетради, и в каждом из них путем подчеркивания выделялся корень. Подобная же работа была проведена еще раз через два дня. Таким образом, учащимся 188
была дана возможность получить понятие об обобщенном значении корня, а также о его правописании. Через промежуток времени (13 дней), во время которого ни в классных, ни в домашних работах слова с данными корнями не употреблялись, во всех классах был проведен диктант со включением однокоренных, но не знакомых учащимся слов по одному из каждого корневого гнезда (копчушка, выползок, приготовишка, покойницкая). Никаких указаний на связь диктанта с предыдущей работой с этими корнями не делалось. Для того чтобы учащиеся имели возможность самостоятельно устанавливать значение корней этих слов, значение слов объяснялось следующим образом:
Покойницкая — это помещение, куда кладут покойников. А почему так называют умерших? Потому что умерший навсегда успокоился, лежит покойно.
Приготовишки — так называли раньше учеников приготовительных классов, потому что они еще только готовились к настоящему учению (в I классе), приготовлялись к нему, учились читать^ писать, считать.
Копчушки — небольшие рыбки, продающиеся в магазинах; они копченые, поэтому и называются копчушками.
Есть такие червяки, которые после дождя любят выползать из-под земли; они ползут по траве, по дорожкам, поэтому такие черви называются выползками.
Объяснения (без отступлений от текста) повторялись учителем дважды перед диктантом. Все эти работы проводились учителями по заранее разработанной, одинаковой методике в присутствии экспериментатора. Опыты охватили 177 учеников, прошедших все этапы работы.
Диктант незнакомых слов дал следующие результаты. (См. табл. 24, стр. 190.)
Результаты диктанта, как это можно видеть из таблицы, вполне оправдали наши ожидания. В трех незнакомых словах учащиеся допустили ничтожное количество ошибок (0,6, 3,4 и 4,5%). Лишь слово копчушка дало повышенный процент ошибок (около 24%), что, по наше* му мнению, следует объяснить отдаленностью значения слова от проверочного слова копоть, а также чередованием звуков в данном корневом гнезде: копот-копт-копч. Но даже и этот процент ошибок далек от того, чего следовало ожидать, если бы ученики писали эти слова наугад,
Таблица 24
Распределение ошибок при письме незнакомых слов
(после предварительной подготовки)
Слова Абсолютное количество ошибок Средний процент ошибок
Непроверяемые Покойницкая 6 3,4
ударением Приготовишка 1 0,6
( Проверяемые I Копчушка 41 23,7
ударением ] Выползок 1 8 4,5
что неизбежно в том случае, если теория «целых образов слов» была бы Верна. (В скобках отметим также, что проверяемые слова не оказались в особом привилегированном положении по сравнению с непроверяемыми, — факт, подтверждающий данные экспериментального диктанта.) Несмотря на очевидность такого истолкования полученных данных, мы для проверки провели диктант с теми же самыми незнакомыми словами в других классах, где никакой предварительной работы с корнями этих слов не было. Методика проведения диктанта не изменилась. В опытах участвовало 76 учащихся II класса, прошедших раздел программы «Родственные слова».
Этот диктант дал следующие результаты:
Таблица 25
Распределение ошибок при письме незнакомых слов (без предварительной подготовки)
Слова Абсолютное количество ошибок Средний процент ошибок
Непроверяемые Покойницкая 47 60,2
ударением Приготовишка 26 34,2
Проверяемые I [ Копчушка 60 80,0
ударением | [ ВЫПОЛЗОК 28 36,8
Как мы видим, этот диктант дал совсем иные результаты. Количество ошибок в корням незнакомых слов во много раз превышает количество ошибок в первом диктанте. Это подтверждает, что причину успешности первого диктанта надо искать не в запоминании «образов» слов, а во влиянии на орфографию предшествующей работы учеников с однокоренными словами, и потому можно полагать, что в процессе письма сознательно, или не давая себе отчета, ученики устанавливали между «новыми» и «старыми» словами какие-то ассоциации.
Что же это за ассоциации и какие психологические процессы необходимы для их возникновения?
Чтобы ответить на эти вопросы, следует проанализировать сначала, что же «знакомого» могли найти ученики в новых никогда не виденных и даже не слышанных ими словах*
В свете данных экспериментального диктанта ответ па этот вопрос напрашивается сам собой. Если неизвестным, подлежащим определению, является форма (в данном случае графическая), то единственным «знакомым» элементом может быть ее содержание, т. е. в данном случае значение корня. Однако предположим, что семантика языка не играла в сближении слов никакой роли, а на успешность письма оказали влияние какие-то более привычные, чаще встречающиеся в практике письма буквосочетания, не имеющие смысла. Например, в слове копчушка ученики правильно писали коп якобы потому, что это буквосочетание чаще встречалось им, чем кап; или сочетание пол (в слове выползок) — чаще, чем пал, и т. д. Мы просмотрели по толковому словарю под ред. проф. Д. Н. Ушакова все доступные детям слова с подобными буквосочетаниями. За исключением приставки по, очень распространенной в русском языке в начале слов, по отношению к другим подобным сочетаниям нам не удалось установить какой-нибудь определенной тенденции. Таким образом, если даже допустить влияние приставки по на правописание слова покойницкая, то по отношению к другим словам это предположение не имеет под собой фактической основы. . Следовательно, нельзя объяснить успех в написании незнакомых слов образованием чисто внешних связей, безотносительных к семантике языка.
Но о какой семантике можно говорить в этом случае? Можно предположить сначала самое простое, а именно, что это «знакомое» дети находили в лексических значениях слов (мы употребляем этот термин для обозначения смысла целых слов, обозначающих определенные понятия). Однако простое сравнение значений незнакомых слов и тех, которыми ученики оперировали при подборе корневых гнезд (т. е. слов, имеющихся в словаре ребенка), не позволяет допустить и этого предположения.
Действительно, такие слова, как покойницкая и покой, спокойно, покойный (типичные для лексики учеников); выползок и полз, ползать, ползучий; копчушка и копоть, коптеть; приготовишка и готов, готовиться и т. д., по своим лексическим значениям, по тем предметам или понятиям, которые они обозначают, с житейской точки зрения очень мало похожи друг на друга (покойницкая — дом; покой — состояние; копчушка — рыба; копоть— сажа и т. д.). Остается единственно возможное объяснение: очевидно, что ученики руководствовались здесь не столько сходством конкретных понятий, обозначаемых словом, сколько сходством корневых значений, т. е. той общностью смысла, которую придает однокоренным словам их корневая часть. Такое понимание общего смысла слов, несмотря на различие их лексических значений, предполагает с необходимостью абстрагирование и обобщение значения корня. Необходимым условием этого является также понимание целых слов, так как корень в производных словах приобретает свое значение только в целом слове.
Таким образом, единственно возможное объяснение правильного письма незнакомых слов можно дать, лишь признав, что в основе этого процесса лежит образование межсловесных связей на основе сходства корневых значений «незнакомых» и «знакомых» слов. Образование таких смысловых ассоциаций приводит к переносу представления о графической форме корня, усвоенного в предварительных упражнениях, на новые слова. Весь процесс письма незнакомых слов может, следовательно, быть выражен в такой схеме: запоминание графической формы корня в связи с его значением -* установление сходства семантики корней незнакомых слов со знакомы-192
ми перенос графической формы корня из одной словесной ситуации в другую. Таков, по нашим данным, психологический механизм так называемого письма по аналогии.
Эти данные позволяют, таким образом, понять функциональную роль понимания семантики корня и его зрительного представления, которую они играют в образовании межсловесных ассоциаций. Однако такое соотношение этих моментов устанавливается лишь в конечном итоге обучения. Между тем процесс обучения, как и всякий процесс познания, не является простым зеркальным отражением явлений и связей реального мира. Переход от незнания к знанию, от явлений к сущности полон противоречий, отклонений от правильного пути познания. Так и в нашем случае следует ожидать, что в процессе аналитико-синтетической деятельности ученика, необходимой для выработки правильных межсловесных связей, встречается ряд трудностей, лишь постепенно преодолеваемых с помощью обучения. Знать характер этих трудностей столь же важно, как и знать правильный путь усвоения.
Для установления правильных ассоциаций между однокоренными словами, как мы видели, решающее значение имеет момент установления сходства слов на основе тождественности их корней. Этот процесс мы и подвергли специальному изучению. Цель изучения — получить дополнительный материал к результатам экспериментального диктанта, выяснив, в чем именно заключаются причины ошибок учащихся, количественный анализ которых был дан нами выше.
Изложение экспериментальных данных начнем с опытов, проведенных нами с учениками I класса. Первоклассники были интересным объектом для исследования, так как в грамматическом отношении они представляли почти нетронутую почву. Некоторые сведения о предложении, о словах-названиях и т. п. сообщались им чисто пропедевтически. Никаких сведений ни теоретических, ни практических о составе слов учащиеся не имели. Не знакомились они и с правилом о безударных гласных. По орфографии ученики изучали главным образом звуковое письмо: написание твердых и мягких согласных; букв е, ю, ё, э; мягкий знак в конце и середине слов и т. п. Вводя в программу занятий упражнения по подбору
«родственных» слов, мы тем самым могли изучать характер межсловесных ассоциаций учеников в его, так сказать, «чистом» виде, не затушеванном различиями в предшествующей грамматической подготовке учеников. Совместно с учителями и методистом нами была разработана методика пропедевтических упражнений в подборе однокоренных слов, был подобран материал исходных слов-раздражителей. Занятия по подбору слов проводились в двух параллельных первых классах одной из женских московских школ. На всех занятиях одного из этих классов присутствовал автор этих строк.
Экспериментальные занятия начались в IV четверти учебного года. До этого экспериментатор часто посещал класс, помогал учительнице, беседовал с ученицами. Дети вполне освоились с ним и совершенно перестали его стесняться. (Очень важное обстоятельство для успешности проведения индивидуальных бесед с учащимися.)
Всего в классе в течение полутора месяцев занятий был проведен подбор однокоренных слов к исходным 32 словам. Все эти слова были хорошо знакомы детям. На уроке давалось для подбора «похожих» два-три слова. Исходные слова предъявлялись учителем устно. По очереди вызывались желающие отвечать. Экспериментатор записывал ответы детей. Работа нравилась ученикам. Обычно вслед за предъявлением слова учителем в классе сразу же подымалось много рук, что означало просьбу учеников вызвать их для ответа. Каждый ученик говорил лишь одно слово, а затем уступал свою очередь следующему. Имея в виду орфографические цели, некоторые из придуманных учениками слов учитель записывал на доске, подчеркивал корни слов, обращая внимание детей на орфографию корня и, подводя их к обобщению, давал следующую формулировку: «В похожих по смыслу словах сходные части пишутся одинаково».
Результаты этих классных опытов показали, что дети, несмотря на отсутствие у них каких-либо теоретических понятий о составе слова и о корне, поняли задание — «подобрать похожие по смыслу слова» — после 2—3 примеров, приведенных учителем, и, как уже указывалось, в дальнейшем активно и с большой охотой участвовали в работе. Количество ошибок, допущенных при этом учащимися, было сравнительно незначительно. Приводим их полный список (в таблице слева направо: порядковое 194
место слова в экспериментах, исходное слово-раздражитель, ошибочный ответ).
Таблица 26
Список ошибок при подборе родственных слов
Порядковый номер слов Слова-раздражители Ответное слово Порядковый номер слов Слова-раздражители Ответное слово
1 Коньки Кукла 16 Холодная Морозный
4 День Деньги 1 17 Вода Води
6 Бегать Едут | Водик (?)
7 Солнце Соль 18 Река Ручеек
Сила Море
Сон Водолаз
8 Свет Цветы 22 Летает Парашют
10 Большая Бомбардиров- 24 Светило Лампа
щик Больной (о солнце)
11 Лед Лен 25 Дорога Домой
12 Возили Вожжи 28 Жили Желе
13 Корм Корка 30 Береза Бирюза
14 Коса Кость 32 Нос Носила
15 Метет Метка ! Нес
Всего ошибочных ответов было 25. Происхождение ошибок не во всех случаях очевидно: по-видимому, в некоторых случаях между словом-раздражителем и ответной реакцией ученика имелись пропущенные звенья. Но большинство ошибок допускает отнесение их за счет неправильного сближения слов по чисто внешним признакам: сходство звучания или написания. Например: день — деньги; солнце — соль; лед — лен; жили — желе и т. п.; или за счет смысловой близости лексических значений слов: бегать — едут; холодная — морозный; река — море; или, наконец, за счет включения слов в одну и ту же воображаемую ситуацию: летает — парашют; дорога — домой; коньки — кукла.
Каковы бы причины этих ошибок ни были, в действительности все они показывают, что межсловесные ассоциации возникали в этих ошибочных случаях не на осно-ве понимания отвлеченной «идеи» слова, что соответствовало бы значению корня, а на основе каких-либо других несущественных для грамматики признаков, одни из которых относятся к внешней стороне слов, а другие — к их смысловой характеристике.
Для того чтобы уточнить характер этих ошибочных ассоциаций, мы провели с учениками этого класса дополнительные индивидуальные опыты. В этих опытах учащимся (каждому в отдельности) давали два задания: во-первых, самостоятельный подбор родственных слов (такая же работа, как и в классных опытах); во-вторых, подбор однокоренных слов из текста, который состоял из изолированных слов разных корней (в перетасованном порядке). По ходу выполнения этих заданий экспериментатор вел беседу, стараясь вызвать учащихся на объяснения по поводу подбираемых ими слов. Во время этих бесед экспериментатор предлагал ученику для оценки дополнительные слова, анализ которых помогал определить степень устойчивости критериев оценки слов учащимися.
Таким образом, нами были проведены опыты с 31 учеником данного класса. Лишь один ученик, сильно отстающий и недостаточно развитый, не мог дать ответов по поводу этих заданий. Результаты опытов с ним поэтому исключены нами из обработки. Все остальные в достаточной мере активно участвовали в беседе.
Обратимся к анализу этих данных. В первую очередь рассмотрим результаты самостоятельного подбора родственных слов.
Исходными раздражителями служили три слова: часы, жара и гора.
Надо заметить, что условия подбора слов в индивидуальных опытах отличались от классных тем, что в то время как в классе ученик мог ограничиться при подборе только одним словом, сразу пришедшим ему в голову, в индивидуальных опытах экспериментатор давал инструкцию: «Придумать все слова, какие ты можешь», и во время опыта при затруднениях ученика неоднократно требовал продолжать подбор. Мы ввели это изменение для того, чтобы проследить, каким образом отра
зится постепенное истощение запаса слов ученика на характере словесных ассоциаций. При анализе ошибок учащихся это обстоятельство следует учесть. Поэтому мы приводим количественную сводку ошибок по каждому из первых трех слов, подобранных учащимся, и отдельно по •всем остальным. Табл. 27 дает об этом представление.
Таблица 27
Распределение ошибок по порядку слов
Общее количество ошибок В первом слове Во втором слове В третьем слове В остальных словах
абсол. кол-во ’/о абсол.; 0/ кол-во! ' 1 |абсол. ! кол-во % абсол. кол-во % абсол. кол-во %
52 100 4 | 7,7 | 1 i '° 19,2 20 । 38,4 1 18 1 34,8
Как видно из этой таблицы, ошибки распределяются в нарастающем порядке от первого слова к последующим, причем количество ошибок в третьем слове ассоциированной цепи слов в пять раз превышает ошибки в первом слове. Уменьшение количества ошибок в остальных по порядку словах (34,8%) по сравнению с третьим словом (38,4%) в данном случае не показательно, так как большинство учащихся не давало при подборе более трех слов. Эти данные указывают, что правильность в подборе родственных слов в значительной степени зависит от наличного запаса слов у учеников. Вероятно, этот факт объясняется тем, что процессы вспоминания и воспроизведения слов находятся в индукционных отношениях с процессами их оценки, в результате чего один и тот же учащийся, только что правильно подбиравший слова, при затруднении начинает производить эту операцию по каким-то несущественным признакам.
Каковы эти признаки, должен показать качественный анализ ошибочных словесных реакций, к которому мы и переходим.
Вот те ошибки, которые были допущены учащимися. (В скобках указывается количество повторений данного слова у разных учащихся.)
К слову час: чашка (3), чайник (2), чин (1), читают (2), чай (2), чистый (1), черта (1), часто (1), что (1), чего (1), минута (1), секунда (1), чугун (1).
К слову жара: жук (1), журавль (2), жаба (2), жалко (1), жгет (2), жир (3), жирный (1).
К слову гора: горький (3), горько (5), горчит (1), горесть (1), горит (2), горела (2), горек (1), город (1), горелка (1), горлица (1), горечь (1), горе (1), горло (1), Гарик (1).
Среди этих слов выделяются прежде всего, как и в классных опытах, ассоциации, навеянные, по-видимому, внешней аналогией. Их огромное большинство (типа час — чай и т. п.). Лишь одну ассоциацию: жара — жгет (искаженное жжет) — можно отнести к ситуативному сближению слов и две (час — минута; час — секунда) — за счет логического сближения понятий.
Однако для окончательного суждения о характере образования межсловесных ассоциаций следует обратиться к анализу ответов учеников в беседе с экспериментатором.
Анализ этих данных приводит прежде всего к выводу, что тип ошибок является в той или иной степени устойчивым для того или иного ученика. Это позволяет говорить об индивидуальных особенностях учеников, проявляющихся в типе их межсловесных ассоциаций. Имеющийся материал позволяет видеть по этому признаку три группы учащихся.
Первую из них характеризует ассоциация по сходству внешней формы слов (для краткости назовем таких учеников «формалистами»). Из общего числа 30 учеников их оказалось 13.
Вторую группу характеризуют ассоциации по сходству понятий или предметов, обозначаемых словом, т. е. по сходству лексических значений целых слов, или по ситуативному сближению. Назовем этих учеников «наивными семантиками». В эту группу входят 12 человек.
Наконец, третья группа носит смешанный характер. Ученики, относящиеся к ней, не обладают устойчивостью в типе ассоциаций. Наивно-семантическое обоснование подбора слов перемежается с формальными оценками. Таких учеников было всего 5 человек.
Рассмотрим мотивировочные суждения «формалистов». Приведем выписки из протоколов опытов.
Ученица X.
Подбирает следующие слова к слову часы. Ученица: Час, что, чего.
Экспериментатор: Почему что?
Ученица: Потому что ч. Одно и то же, что что, то и часы.
Экспериментатор: А похоже ли на слово часы — часовой?
Ученица: Похоже, слышится то же. Экспериментатор: А слово чугун? Ученица: Похоже, потому что ч. Экспериментатор: А слово Ваня> Ученица: Непохоже, потому что другая буква. Подбор к слову жара.
Ученица: Жарко (долгая пауза), очень жарко. Экспериментатор: Ну, а слово жарит: мама жарит картошку. Подойдет?
Ученица: Жарит похоже, потому что буква ж. Экспериментатор: А жук?
Ученица: Тоже подходит.
Дается упражнение на выбор родственных слов к слову соль из следующего текста: соль, солонка, посолить, стол, солонина.
Ученица: Солонка подходит, потому что слышится с.
Посолить — нет, потому что здесь слышится первая буква п, а там первая буква с.
Стол — не подходит.
Экспериментатор: Почему?
Ученица (долго думает, но молчит): Солонина — тоже не подходит (тоже объяснить не может).
Из этой записи видно, что ученица судит о сходстве слов по внешнему сходству первых звуков или букв слов. Однако чересчур резкое расхождение значений слов (стол, солонина) ее затрудняет. Она уже не делает попытки сослаться на формальное сходство, но дать себе отчет в разнице этих слов она не в состоянии.
Для контраста приведем выписки из записей ответов ученицы Ш. («наивный семантик»):
Подбор к слову часы.
Ученица: Час (пауза) —минута. Экспериментатор: А какое слово я тебе даю?
Ученица: Часы.
Экспериментатор: Ну вот подбери еще.
Учен ища (пауза): Секунда.
Экспериментатор: А подойдет к слову часы — часовой?
Ученица: Нет.
Экспериментатор: Почему?
Ученица: Потому что часы показывают время, а часовой стоит на посту и охраняет границы.
Экспериментатор: А часовщик?
Ученица: Подойдет, потому что он чинит часы.
Подбор к слову жара (после долгого думанья): жарко (пауза), жаркое лето (пауза), нежаркое.
Экспериментатор: А слово жаркое?
Ученица: Нет, потому что жаркое — жареное мясо, и его едят, а жару как же есть.
Экспериментатор: А жарища?
Ученица: Подходит, потому что жарища — это так солнце греет, а жара тоже от солнца... и эти два слова сходятся в смысле.
Подбор к слову гора.
Ученица: Гора—горища, горы (пауза).
Экспериментатор: Ну, а слово город подойдет?
Ученица: Нет, потому что горы — это каменные такие возвышения, а город — это такие дома. Ну как у нас здесь город Москва.
Экспериментатор: А слово гореть?
Ученица (уверенно): Нет. Это когда огонь горит, бросают туда что-нибудь и горит. А гореть не подходит по смыслу.
Дается упражнение: выбор однокоренных слов из смешанного набора слов.
К слову светает подбирает: светляки, светлый, свет, светит, а на слове свечка останавливается.
Ученица: Свечка похожа (думает), т. е. свечка не будет (похожей).
Экспериментатор: Почему?
Ученица: Потому что светает, когда солнце восходит, а свечку ее зажигают, когда уже темно.
Запись опытов показывает, что ученица Ш. руководствуется в подборе слов семантикой их. Здесь мы имеем ассоциации по логическому родству понятий: «часы —• 200
минута, секунда»; по функциональному признаку: «жаркое едят, а жару нельзя; город — это дома, а горы—это каменные возвышения» — и некоторые другие. Характерны также ответы, обнаруживающие ситуативное сближение: «часовщик подойдет, потому что чинит часы; свечка не подходит, потому что, когда светает, свечку тушат». При этом ученица дает себе отчет о том признаке, по которому ею производится оценка слов: «слова сходятся по смыслу». Эти два типа ассоциаций — формальные и смысловые — являются типичными для большинства школьников. Для них суждения о родстве слов по одному из признаков — формальному или смысловому — являются устойчивыми.
Попытки синтетических суждений на основе объединения этих признаков мы обнаруживали в «смешанной» группе.
Приводим запись беседы с ученицей О.
Подбор к слову часы.
Ученица: час, часов, часики (пауза), чашка (пауза), чашки, чайник.
Экспериментатор: Почему чашка? Чем она похожа?
Ученица: Они одинаковы — две буквы ча одинаковы.
Экспериментатор: Ну, а слово чугун?
Ученица: Нет. Потому что разные слова чугун и часы\ три буквы пишется у час, а чугун больше букв, и они не одинаковы по смыслу.
Экспериментатор: А часовой?
Ученица: Подойдет, потому что одинаковые буквы, только вой лишнее.
Подбор к слову жара.
Ученица: Жарко, жаркое, жарь, жар (пауза), жаркое.
Экспериментатор: А слово жук годится?
Ученица: Нет, потому что это разные слова, буквы не одинаковые.
Экспериментатор. А что значит разные слова? Ученица: Это жук и жара — не одно и то же. Экспериментатор. А слово тепло подойдет?
Ученица (долго думает): Нет, потому что буквы разные, и они сами не подходят.
Экспериментатор: Чем же они, кроме букв, не похожи?
Ученица не может ответить.
Экспериментатор: А слово холодно?
Ученица: Нет. Они по смыслу не одинаковы и буквы тоже.
Подбор к слову гора.
Ученица: Горы (пауза), горько, горький (пауза), горчит.
Экспериментатор: А слово город?
Ученица: Да, потому что у них буквы одинаковы, и по смыслу они одинаковы.
Экспериментатор: Какие же слова называются похожими?
Ученица: У них после г пишется о.
Экспериментатор: Чем же они должны быть похожими.
Ученица: Буквами.
В упражнении по поводу слова свеча.
Ученица: Свеча подходит к слову светает, потому что, когда зажигаешь, — светло.
Экспериментатор: А если не зажигать?
Ученица: Не будет похожей.
Экспериментатор: Почему?
Ученица: Свечка — это трубочка и фитилек там, а светает — это когда рассвет утром бывает.
Ответы ученицы О. характерны тем, что она пытается при оценке слов принимать во внимание и сходство внешней формы, и семантику слова (см., например, пару часы и чугун, жара и холодно). Но одновременно с этим при затруднениях, даже при свободном ассоциировании, у нее появляются формальные ответы: чашка, чашки и чайник — на слово часы; горько, горький, горчит — на слово гора. Но такие ответы появляются после долгих пауз, показывающих истощение запаса слов. Интересно также, что несмотря на то, что ученица О. смогла по отношению к некоторым конкретным словам словесно сформулировать свой критерий оценки: «У них буквы разные и по смыслу они не подходят», попытка экспериментатора выяснить, сможет ли она обобщить свой принцип оценки, отвлекаясь от конкретного материала, не достигла успеха. На вопрос экспериментатора, чем же слова должны быть похожими, ученица дает
односторонний формальный ответ: «Буквами». Эпизод со словом свечка показывает, что понятие «смысл» имеет у нее наглядно-ситуативный характер: слово свечка, в зависимости от ситуации, так же как у ученицы Ш., может быть «похожей» и «не похожей» на слово светает. Неумение абстрагировать значение корня, необходимое для установления грамматического сходства слов, проявляется и там, где при разведении лексических значений слов форма корня остается той же (час—часовой). В этом случае мотивировка сходства слов становится односторонне формальной: подойдет, потому что одинаковые буквы, «только вой лишнее». Там же, где разведение значений слов сопровождается резким изменением их формы (часы — чугун), ученица не колеблется и указывает на оба признака несоответствия слов.
В этих записях встречаются почти все типы оценочных суждений учащихся о сходстве слов. Тем не менее для большей иллюстративности приведем дополнительные примеры.
Формальные оценки
Ученица Р.
Час — часовщик.
Ученица: Часовщик подойдет, потому что на всех словах буква ч. К чашка? Тоже, потому что на часах буква ч и на чашке.
Ученица Т.
Час — чугун.
Ученица: Чугун похоже. Первая буква ч.
Экспериментатор: А вот стрелки на часах (показывает) ?
Ученица. Нет, потому что первая буква должна быть ч, а тут с. (Ситуативное сближение предметов не изменяет формальной установки.)
Жара — жаркое.
Ученица В.: Жаркое не подойдет, потому что жара на конце р и а, а жаркое к и о.
Гора и город.
Ученица: Нет. Гора на конце ра, а город буква т.
Ученица С.
Час — часовой.
Ученица: Похоже... Буквы похожи и слова похожи.
Экспериментатор: Какие слова?
Ученица: Ну эти, как его... слоги.
Час — чайка.
Ученица: Похоже... буквами.
Час — чугун.
Ученица: Нет, потому что после ч идет у, а в часах — и, а г там нет.
Жара — жарить.
Ученица: Перед и буквы подходят, а ть не подходит.
Жара — жук.
Ученица: Нет, потому что в слове жара нет у.
Экспериментатор пробует исправить неправильную установку ученицы С., объясняет, что ее последние ответы неправильны, так как у этих пар слов разный смысл, и предлагает ей: «Теперь ты не думай о буквах, похожи или нет».
Жар — жаркое.
Ученица: Нет (решительно). Есть лишние слоги.
Экспериментатор: А ты не думай ни о буквах, ни о слогах.
Ученица молчит.
Экспериментатор: Думай по смыслу.
Ученица: И по смыслу не подходят.
Экспериментатор: Чем не подходят?
Ученица: Не знаю.
К следующему слову гора подбирает: горки, горы, горечь, горько, горький.
Экспериментатор: Не думай пока о буквах; проверь, подходят гора и горько по смыслу?
Ученица долго думает и не отвечает.
Экспериментатор: Ну, скажи, гора какая бывает?
Ученица: Гора... с нее на санках катаются, крутая бывает.
Экспериментатор: А горько когда бывает?
Ученица: Когда в рот возьмет лекарство больной.
Экспериментатор: Ну, теперь скажи, похоже гора на горько?
Ученица (смеясь): Нет, горку в рот не возьмешь.
В дальнейшем ей предлагается выбрать подходящие слова к слову соль из следующего списка: солонка, посолить, солонина, соленый. Солонку она признает не
похожей, но обосновать ответ не может. Все другие слова отвергает на основе их буквенного несоответствия.
Эта беседа показывает, что формальная установка у ученицы С. весьма прочна, и попытки «переучивания» во время эксперимента не достигают цели. Ответы «формалистов» достаточно стереотипны. Они обращают внимание только на звуковую или буквенную сторону слова и игнорируют смысловую. Попытки экспериментатора указать некоторым из них необходимость принимать во внимание и смысловые признаки не могут изменить характера их оценок. Поэтому можно думать, что здесь мы имеем дело с достаточно упроченной установкой учащихся.
Семантические оценки
Часы — чугун.
Ученица С.: Нет, часы ходят, а в чугуне варят.
Часы — часовщик.
Ученица: Подходит, потому что часы ремонтирует. Часы — часто.
Ученица: Нет, потому что вы ходите в кино часто, а часы не ходят в кино.
Экспериментатор: А можно про часы сказать: часы тикают часто.
Ученица: Можно.
Экспериментатор: А тут часто тоже не подходит или подходит?
Ученица: Нет.
Экспериментатор: Почему?
Ученица молчит.
Светает — свечка.
Ученица: Нет, потому что, когда ее не зажигают, — это просто трубочка.
Экспериментатор: А если ее зажечь?
Ученица: Тогда она будет подходить, потому что она светится.
Жара — жаркое.
Ученица: Подойдет, потому что жаркое теплое и жар теплый.
Жара — журавль.
Ученица: Не подойдет. Журавль не похож на жар. Он длинный, а жар не ходит.
Соль — солонка.
Ученица: Нет, потому что солью солили мясо П все. А солонка только стоит.
Ученица 3.
Часы — часовой.
Ученица: Нет, потому что это часы ходят, а он не ходит.
Экспериментатор: А если часовой будет Ходить?
Ученица: У часов стрелки, а у него ноги.
Ученица М.
Жаркое — теплое.
Ученица: Подходит, потому что жаркое и теплое Подходят.
Экспериментатор: А холодное?
Ученица: Нет. Холодное — очень холодно. (Даже резкое разведение формы слов жаркое — теплое не ому* щает ученицу.)
Ученица Ш.
Г ора — горько.
Ученица: Нет. Потому что это гора, а это горько; гора большая, а горько — ничего не видно, а гору видно.
Соль — солонка.
Ученица: Нет не будет, потому что это соль, а это — банка.
Ученица Т.
Соль — посолить.
Ученица: Похоже.
Экспериментатор обращает внимание на разницу буквенного состава слов.
Ученица: Все равно. Это соль... посолить щи... потому что говорится — соль, посоли.
После разбора некоторых слов, при котором вопрос о форме слов не поднимался, ученица самостоятельно обобщает: «Свеча подходит (к светает), когда свечу зажгут, светло бывает. Это одно и то же, только буквы разные».
Ученица А.
Стрелка — выстрел.
Ученица: Подходит. Из пулемета, ружья можно и стрелкой выстрелить.
Экспериментатор: А стрелка у часов подходит?
Ученица: Нет. Ими не стреляют.
Этот материал, так же как и протокол беседы с ученицей Ш., показывает, что сближение слов происходит на основе их лексических значений. Учащиеся сравнивают не слова, а предметы и понятия, которые ими обозначаются. Особенно ярко такая «наивно-семантическая» основа ассоциаций проявляется в тех случаях, когда учащимся предлагаются для оценки слова, резко отличающиеся по форме, но близкие по значению (жара — теплое). Ученица полностью игнорирует формальные различия слов и реагирует лишь на их смысловую близость. Нельзя думать, что при этом различие форм слов не замечается учащимися. Ученица Т. по поводу пары «светает — свечка» отмечает это различие: «Это одно и то же, только буквы разные», тем не менее признает их сходство (в данном случае правильно). Такой «смысловой» подход к словам предохраняет учащихся от тех грубых ошибок, которые типичны для «формалистов», но тем не менее он свидетельствует об отсутствии у учащихся грамматически правильного суждения о родстве слов на основе синтеза формальных и семантических признаков, в отвлечении от конкретного содержания слов. Конкретно-наглядная основа суждений учащихся приводит к таким языковым курьезам, когда одно и то же слово (стрелка) в зависимости от той или иной наглядной ситуации, с которой оно связывается (ученица А.), меняет свои грамматические свойства. «Смысловая близость» слов у таких учащихся носит диффузный характер, потому что не связывается в их сознании с определенной языковой оболочкой — морфемой корня.
Смешанный тип
К смешанному типу мы отнесли учащихся, в ответах которых, наряду с семантическими критериями оценки, встречаются и формальные. В приведенных записях
(ученица О.) формализм в ответах встречался главным образом при каких-либо затруднениях, причем намечалась тенденция к синтезированию обоих признаков. Однако встречаются и такие ученицы, у которых оба Признака рядоположены: в одних случаях они привлекают один признак, в других — другой. Вот пример:
Ученица Д.
Подбирая слова к часы, жара, гора, Д. поступает, как всякий «семантик». Часовой для нее «не подходит», потому что часы — «это, где время написано, а часовой стоит на посту». К слову жара она подбирает, наряду с однокоренными словами, и такие, как тепло, теплые дни. Жаркое отвергает, потому что — «это мясо, а жара — это лето». Не сомневается она при оценке пары слов: гора — гореть: «Гора — это, где ребята катаются на санках, а гореть — это, где огонь горит».
Но в серии слов с часами слово часто отвергается по следующему мотиву: «Здесь под конец написано та, а часы — си ы». В упражнении в выборе однокоренных слов к речной она не находит ни одного «похожего» слова. Когда экспериментатор просит ее привести основания, почему ей «не подходят» слова реки, речка, речушка, она ссылается на буквенное несоответствие. Пара слов выстрел — стрелка не подходят друг к другу, «потому что там первое в, а тут с». Остальные предложенные слова также оцениваются ею только с формальной стороны. То же самое мы видим у ученицы В. Во всех случаях она действует, как «семантик». Но в середине опытов на пару слов соль — солонка она реагирует таким образом: «Подходят».
Экспериментатор: Чем?
Ученица: Потому, что со.
Экспериментатор: А слово сосед подходит? Ведь тут также со?
Ученица (смущенно): Нет, не похоже.
Экспериментатор: А солонка?
Ученица: Тоже нет; потому что там стеклянная банка, а тут соль, чем солят.
В дальнейшем В. уже не сбивается с «наивно-семантических» позиций. Явный «семантик» также ученица Ф. Но к слову жара она подбирает слово жирные. Но на
вопрос экспериментатора она быстро исправляет ошибку, говоря: «Нет, не похоже, потому что жара на улице, а тут свинья жирная или поросенок». Экспериментатор дает ей слово жаркое.
Ученица: Подойдет.
Экспериментатор: Чем?
Ученица (после молчания): Потому что у жары впереди три буквы жар и тут то же самое.
В дальнейшем формализм в ответах не проявляется.
Ученица М.
К слову часы подбирает: час (пауза), часовой, часики, часто.
Экспериментатор: Почему часто?
Ученица: Потому что сначала идет час, а потом только та.
К слову гора подбирает в числе других слов слово горячо. На вопрос экспериментатора, чем похоже, — отвечает: «Гора начинается с га и здесь тоже га». Во всех других случаях в ее ответах обнаруживается обычный для нее смысловой подход.
Нам еще не совсем ясны все приведенные здесь случаи «соскальзывания» на формальные ответы. Но некоторые из них, как у ученицы О., естественнее всего объяснить затрудненностью в выявлении семантических различий слов. Типично, например, что слово часто, где корневое значение слова не ясно для учеников, как раз и вызывает это явление. Однако такие случаи, как формальный подход при оценке слов речной, река, речка и т. п., с конкретным и понятным для учеников значением корня, мы объяснить этим не можем. Можно думать, что здесь оказал свое влияние переход от слухового восприятия слов к зрительному (при чтении текста упражнения). Однако у других учениц этот момент не вызывал столь резкой «смены установки». Поэтому это предположение нуждается в проверке.
Следует отметить, что все пять учениц, отнесенных нами к «смешанному» типу, по характеру большинства своих ответов относятся к «семантикам» и, наоборот, у нас не было таких случаев, когда смысловые оценки слов наблюдались у «формалистов». Объяснение ошибок со стороны экспериментатора различно действовало на
14 Д. Н. Богоявленский
209
тех и других. Как мы видели, «переучивание» формалистов не оказывало существенного влияния на последующую оценку ими слов, в то время как «семантики» перестраивались значительно легче. Смысл этой перестройки заключался в том, что признак смыслового сходства слов в понимании «семантиков» имел чересчур широкое, в значительной степени диффузное значение. На основе такого смыслового сходства часто признавались однокоренными словами слова-синонимы {жара — тепло, летает — парашют и т. п.) и в то же время отрицалось сходство слов в силу различия лексических значений слов (час — часовой, светает — свечка и т. п.). Опора на формальное сходство корней ограничивала подобное неправомерное расширение или сужение семантики корней и помогало детям избегать односторонних семантических оценок. Но эта перестройка не означала еще, конечно, формирования правильных грамматических обобщений, основанных на синтезе значения и формы корней. Этого нельзя было добиться без усвоения детьми понятия корня.
В конце IV четверти в обоих экспериментальных классах была проведена коллективная, подытоживающая работа. Ученикам было предложено письменно выбрать однокоренные слова к гора, солнце и белый из следующего списка слов, написанных учительницей на доске: гора, солнце, белый, солнечный, горе, белье, солить, горный, беда, солнышко, побелить.
При объяснении задания указывалось, что в этом списке могут встретиться слова неродственные и что их выписывать в тетради не нужно.
Всего в опыте принимало участие 61 человек. Все они участвовали в классных работах по подбору слов. При обработке материалов за ошибку считалось как включение в список неоднокоренного слова, так и пропуск однокоренных.
Результаты выполнения задания можно видеть на табл. 28.
Эти данные показывают прежде всего, что для умения подбирать однокоренные слова проведения с учениками лишь одних практических занятий недостаточно. Несмотря на значительное количество занятий, во время которых производился этот подбор и учителя разъясняли ошибки учащихся в подборе отдельных конкретных слов, отсутствие у учеников сформированного понятия корня
Распределение ошибок в подборе однокоренныз [ слов
Слова 1 ХГ , I Характер и абсо-' лютное количество • ошибок Процент
1 неправильно 1 упомя- | нуто пропущено ошибок
Солнечный Солить Солнышко 1 Горный Горе । Белье ! Беда ' 1 Побелить I 18 — 44 17 2 1 6 14 18 3,3 29,5 1,6 9.8 72,1 22,9 27,9 29,5
приводит, как мы видим, к большому количеству ошибок. (Надо заметить, что безошибочно решили задания всего лишь 7 человек из 61.) Сближение учениками таких слов, как солнце — солить (29,5%), гора — горе (72,1%), белый — беда (27,9%) показывает, что подбор слов производился учениками по сходству буквенного состава слов. В то же время слова, сходные по форме и значению корней, но резко различающиеся по лексическим значениям, значительным количеством учеников небыли признаны за родственные (белье — 22,9%, побелить — 29,5%). Наоборот, слова, близкие по лексическим значениям (солнышко, солнечный, горный и т. п.) в громадном большинстве случаев легко ассоциировались с исходным словом. Таким образом, этот коллективный опыт показывает типичность явлений наивного семантиз-ма и формализма, которые мы обнаружили в индивидуальных опытах.
По поводу опытов с подбором родственных слов следует отметить еще одно обстоятельство. В I классе тема
«Состав слова» еще не изучалась и, следовательно, ученики этих классов теоретически не были знакомы с по-нятием корня. Казалось бы, что без теоретического знакомства с понятием корня решение задачи — подбора однокоренных слов — невозможно. На самом же деле, как мы отмечали, после двух-трех примеров, приведенных учительницей, первоклассники поняли задание и производили подбор однокоренных слов, почти не допуская ошибок в первом из подобранных слов как в классных, так и в индивидуальных опытах. Опыты с незнакомыми словами, о которых шла речь выше, производились с учениками II и III классов, причем второклассники с понятием корня знакомы не были. Тем не менее анализ ошибок учеников II и III классов не обнаружил сколько-нибудь значительного превосходства в написании незнакомых слов третьеклассниками. Следовательно, второклассники, не владея сознательно понятием корня, могли успешно сближать слова по их корневым значениям.
Возникает вопрос, каким образом дети могли выполнять операции, требующие применения определенного научного понятия, не будучи с ним знакомы.
Очевидно, что если у них не было научных понятий, закрепляющих в данном случае в словесной форме отношения между формой и значением корней слов, то у них, тем не менее, имелись какие-то ассоциации между этими элементами языка, выработанные в процессе практического владения речью, актуализация которых и позволяла образовывать межсловесные ассоциации при определенных благоприятных условиях (доступность значения слова и корня, запас слов и т. п.).
Нам кажется несомненным, что здесь мы имеем дело с проявлением того, что называлось педагогами (Ушинский, Пешковский и др.) «чутьем языка», «подсознательной грамматикой» и т. п. В данном контексте мы не можем рассматривать по существу эту важную проблему (речь об этом будет дальше), но нам хотелось в связи с этим отметить, что до сих пор в психологии имелись материалы, свидетельствующие о роли подобного «чутья языка» при так называемом словотворчестве дошкольников, при котором они обнаруживали удивительное понимание морфологических частей слова и их умелое использование. Создавалось впечатление, что
в школьном возрасте ребенок будто бы утрачивает свои «лингвистические» способности. Отмеченные нами факты показывают обратное. Несомненно, что и в школьном возрасте эти знания остаются и в той или иной степени оказывают свое влияние на усвоение как грамматических понятий, так и на выработку орфографических навыков.
Опыты с подбором однокоренных слов были проведены нами также в период изучения учащимися понятия корня во II классе другой московской школы. В этих опытах, так же как и в только что описанных, были проведены коллективные и индивидуальные эксперименты.
В коллективных опытах мы задались целью проверить наше предположение, положенное в основу составления текста экспериментальных диктантов и отчасти подтвердившееся в опытах с первоклассниками, о том, что нарушение грамматически правильных ассоциаций зависит от затруднений в понимании учащимися корневых значений слов.
Поэтому, если первоклассникам мы давали, как правило, исходные слова с конкретными и понятными ученикам корнями, то здесь, наряду с такими словами, мы ввели слова, лексическое значение которых, хотя и было хорошо знакомо ученикам, но значение их корней без специальных знаний морфологии слов было недоступно ученикам.
Всего было дано четыре слова: в качестве легких корней мы взяли так называемые корневые, или непроизводные, слова: воз и вол. В качестве трудных — слова заметка (корень мет) и обнажились (коуемъ нож). Эти корни, в отличие от первых, в изолированном виде не имеют значения. Отсюда их большая абстрактность. Кроме того, корень мет имеет два варианта значений: значение знака (метка) и значение кидать, бросать (метать). Корень нож (обнажаться) чужд активной речи учащихся благодаря своей архаичности: для учеников его значение было весьма неопределенно.
К этим словам учащимся предлагалось подбирать родственные слова.
Вот те ряды слов, которые были получены при коллективном проведении работы (повторяющиеся слова не приводятся):
Воз — возы, возовый, возилыцик, вести, ИЗВОЗЧИК, возить, возит, возим, возил, завозил, везут, подвозил, навозил, привозил, возок, подвез, привез, отвез, повозил, возочек.
Вал — валы, валик, Валовая (улица в Москве), валит, завал, перевал, навал, валять, провал, сваливать, свалил, навалил, подвал, привалил, перевалить, свалка.
Заметка — метка, заметка, примета, заметил, меткий, металл1, приметил, металлический, наметал, заметал, метаться, комета, метать, сметать, предмет, метро, метрика, сантиметр, миллиметр, пулемет, пулеметчик, гранатометчик, миномет, геометрия.
Обнажались1 2 — диктовалось предложение: «Леса с печальным шумом обнажались» из известного ученикам стихотворения Пушкина. После записи учениками были придуманы и записаны следующие слова: обнаженный, обнажение, нагой, обнажить, обнажился, обнажался, обнажился, обножится, обножка, обножачка, обнож, нож, ножик, обножья, обножа.
Можно видеть, что в подборе слов к «легким» корням не было сделано ни одной семантической ошибки (наблюдались лишь редкие случаи нелитературного словообразования (возовый, возильщик и т. п.). Кроме того, учениками приводились слова с изменением гласных корня (вести, отвез и т. д.); очевидно, что при понимании значения корней расхождение их внешней, звуковой формы не оказывало влияния на подбор.
Другую картину мы имели при подборе слов к мало или совсем непонятным корням. В этом случае мы находим большое количество семантических ошибок или даже бессмысленных буквосочетаний. Подбор таких слов, как металл, комета, метро, метрика, сантиметр, миллиметр, геометрия, к корню мет, и таких, как обножка, обножачка, обнож, нож, ножик, обножья, показывает, что непонимание значения корней приводит к ошибочным аналогиям по чисто внешнему формальному сходству корней. Особенно заметным влияние внешнего сходства обнаруживается при выполнении работы письменно, как это имело место со словом обнажались. Имеющееся
1 В разрядку даются слова, придуманные учащимися ошибочно.
2 В этом случае подбор производился письменно.
в этом случае восприятие графической формы корня приобретает особую внушающую силу. Ученики, которые при диктовке корень написали через о (нож), писали проверочные слова именно с этим корнем, а написавшие его через а (наж) — приводили «проверки», тождественные этой форме. Обнаружив такое совпадение, мы дали для проверки дополнительное слово с трудным корнем: становится. Через а (т. е. правильно) этот корень написали 16 человек — и все 100% их «проверок» были с той же формой корня; 17 человек написали «сто-новится» — все их проверки (стон, стой, стойка и т. п.) отражали сделанную ошибку. Подобные «проверки» мы часто наблюдали и в других опытах, в тех случаях, когда ученикам предлагалось писать проверочные слова непосредственно после диктанта. Вот наиболее характерные ошибки в проверочных словах, повторяющих ошибку записи:
Написано: Проверка:
кочаются зарявела дедами (вм. рядами)
заархи запахи
кочка
рявкнул
ред (даже ударение поставлено)
запух
запбх (снова „подгон-
ка" ударения) и т. д.
В этих случаях ученики соблюдали требования подбора ударных слов. Под его влиянием они полностью игнорировали семантику корня, прибегали к своего рода «подгонке» ударения, но во всех случаях отправным моментом является ошибочная форма корня. Однако такое искажение семантики слов встречается значительно реже, чем игнорирование ударения при сохранении ошибочной формы корня:
Написано: Проверка:
рубина с/плрожка за/швела галубое ко чаются рыбинка слгарожевой рпвет галубка кочай и т. п.
Такие типы «проверок» встречаются часто, они хорошо известны учителям. Во всех этих случаях мы имеем одно и то же: ошибочно написанный корень повторяется в проверочном слове. Это явление мы в свое время назвали «гипнозом ошибок», но было бы правильнее квалифицировать его, как «гипноз» формы, оказывающей свое влияние при различных обстоятельствах, среди которых особенно важной является отсутствие понимания корня.
Мы дополнили классные опыты индивидуальными. В этих опытах перед испытуемыми ставилась та же задача, что и первоклассникам: подобрать к данному слову как можно больше однокоренных слов. Каждый раз, как тот или другой испытуемый останавливался, экспериментатор настойчиво предлагал продолжать опыт.
В качестве исходных были взяты слова, значение корней которых было вполне доступно для учеников: вал, свалка, толпа, слон, реветь, готовый, копченый. Предъявление исходного слова и подбор родственных слов производились устно. К каждому слову было подобрано в среднем по пять слов. Так как в опыте участвовало 12 человек и каждому предъявлялось по четыре-пять слов, — всего родственных слов было получено свыше двухсот. Из этого числа лишь пять слов были подобраны с нарушением семантики слов.
Как показали наблюдения за учащимися во время опытов, они часто испытывали затруднения в подборе слов, долго думали, заявляли, что «больше не знают», начинали повторять уже сказанное или «сочинять» слова того же корня (например, ревливый, толповщик, свальщик и т. п.), но не уходили от смысла данного корня. Наконец, несмотря на просьбы экспериментатора, испытуемые не могли продолжать опыта.
Вот примеры рядов слов, подобранных отдельными испытуемыми (значками п1, п2, п3 обозначается сравнительная величина пауз-задержек).
Ученица Г. — к слову слон: слоненок, слоно-ват (п2), слониха (п2), слоневод (п3), слопокорм (п4), слономойка.
Ученица К. — к слову толпа: толпы, толповой, толпятся (п1), толпник (п2), толпитесь (п2), толп-иая (п3), натолпиться.
Ученица В. — к слову реветь: рев (п1), ревел (п1), ревела, ревет, заревела, реветь (п2), заревел (п2), пере-ревел, переревела, наревел (п2), поревел (п1), срсвел.
Аналогичные данные были получены и от других учеников. Бросается в глаза, что значение корпя, хорошо понимаемое учениками, выказывает удивительную стойкость и, несмотря на самые неблагоприятные условия, продолжает до конца определять подбор родственных слов. Переход на чисто внешние ассоциации (по созвучию), имевший место у первоклассников при истощении лексики, наблюдался лишь в пяти случаях.
Результаты как классных, так и индивидуальных опытов говорят об одном и том же. Они показывают, какую важную роль в установлении правильной аналогии между однокоренными словами играет смысловой критерий. Тем самым они согласуются и с данными экспериментального диктанта, и с результатами опытов с письмом незнакомых слов. Затруднение в понимании корня, препятствуя образованию правильных связей между однокоренными словами, легко приводит к ошибочным аналогиям по сходству внешних, несущественных признаков слов, что, в свою очередь, служит причиной орфографических ошибок. С другой стороны, восприятие формы ошибочно написанного корня слова при недостаточном понимании значения затрудняет опознавание корня и потому легко может служить источником ошибочных аналогий. Последнее весьма примечательно. Получается так, что при исправлении своих ошибок, т. е. именно тогда, когда правило должно вступить в действие, зрительное восприятие учеником ошибочно написанного слова затрудняет образование правильных межсловесных ассоциаций. Не удивительно, что все эти обстоятельства, связанные с пониманием значения корня, отрицательно влияют на орфографию.
В индивидуальные опыты, помимо свободного ассоциирования, входили также задания по оценке пар слов, предложенных экспериментатором. (Подобно тем, которые давались в I классе.) Нет необходимости подробно останавливаться на них, потому что они дали результаты, аналогичные тем, что проводились в I классе \
1 Подробное изложение результатов этих опытов дано нами в статье «К психологии правописания безударных гласных», опубликованной в «Известиях АПН РСФСР», вып. 12.
Коллективные опыты показали, что формальные оценки сходства однокоренных слов весьма частое явление при затрудненном понимании значений корней и на этом этапе обучения. Индивидуальные опыты также обнаружили подобный тип оценок слов, но наряду с этим, в них, так же как и в I классе, были обнаружены и ответы наивно-семантического порядка. Обе тенденции на этой стадии обучения были обнаружены также в исследовании Л. И. Божович Ч
По сравнению с первоклассниками, здесь лишь более значительное количество «смешанных» ответов, т. е. совмещение у одной и той же ученицы как формальной, так и смысловой оценки слов. Однако эти сценки уже не рядоположены, а взаимно корректируют друг друга.
Ученица Я.
Плакать — реветь.
Ученица: Будут родственными (задумывается). Нет, не будут.
Экспериментатор: Почему?
Ученица: Коренное слово рев, а здесь не рев.
Экспериментатор: А почему же ты сначала сказала, что родственные?
Ученица: Потому что, когда я заплачу и реву, все равно ведь; потому я и спутала.
Здесь ошибка анализируется самой ученицей и видно, что она была вызвана лексическим сходством слов. Но тут же ученица вносит поправку, основанную на различии внешней формы корней.
В скрытом виде сопоставление формы и значения корней находится в опытах ученицы Н., которая по поводу той же пары слов говорит: «Нет. Они родственные, но не однокоренные... Не подходят». По поводу пары слов уха — ухо ученица М. колеблется: «Не родственные, нет, родственные (задумывается). Нет, не родственные, а корень один». По-видимому, резкое смысловое различие слов сначала приводит М. к отрицанию родственности, потом ей бросается в глаза сходство внешней формы слов, и она признает их родственными, но затем
1 Л. И. Божович, Психологический анализ употребления правила на безударные гласные корня, журн. «Советская педагогика», 1937, К? 5—6.
в смысловое различие вносит корректив, и кончается тем, что противоречие между формой и значением не разрешается, а лишь констатируется ученицей: «Не родственные, а корень один».
Мы тут же спросили ее, что называется корнем. Ее ответ: «Такое слово, которое встречается во многих словах». Очевидно, что с таким пониманием корня данное противоречие и не могло быть разрешено.
Подобные ответы, даже в случае их ошибочности, свидетельствуют о том, что на этой стадии обучения разрыв между формой и значением под влиянием обучения начинает учениками преодолеваться. Однако синтеза этих языковых признаков понятия еще не достигнуто. По-прежнему, как это было и в I классе, большинство учащихся при затруднениях продолжает судить о слове односторонне.
Эти опыты были проведены в период первоначального ознакомления учащихся с понятием корня. Для того чтобы проследить степень устойчивости ошибочного, одностороннего подхода учащихся к оценке однокоренных слов, мы в другой школе обследовали знания учеников после того как раздел программы о составе слова и о правописании безударных гласных был пройден. В этом случае мы ограничились коллективным заданием по выбору однокоренных слов из данного списка (подобно тому как это имело место в I классе). Для большей достоверности эти опыты были проведены в трех параллельных третьих классах, так что в опытах участвовало 113 учеников.
Ученикам было дано задание письменно подобрать к словам вода и гора однокоренные слова из следующего списка: водный, горный, пригорок, завод, водичка, горе, гористый, горы, водолаз, загорелый.
Результаты следующие:
Подбор к слову вода правильных решений — 21% от общего количества учащихся; неправильных (т. е. включивших в число однокоренных слов водитель или завод, или оба эти слова) —79%.
Подбор к слову гора правильных решений—17%; неправильных (т. е. с включением слов горе и загорелый) — 83%.
На основании этих данных можно сказать, что односторонняя оценка слов по их внешнему сходству наблю
дается и после работы с учащимися над понятием корня. Как известно из психологии, усвоение научных понятий — это длительный процесс, совершающийся при применении данного понятия в разных условиях и лишь постепенно приводящий от заучивания определения понятия к правильному оперированию им. У нас нет данных, показывающих завершение этого процесса. Но судя по приведенным фактам, нельзя думать, что затруднения учащихся на каком-то этапе обучения снимутся сразу, и умение разбираться в составе слов приобретет черты автоматизированного навыка.
Правильно определить корень слова, как известно, требует знания этимологии слова, его происхождения и т. п. Часто эта задача является трудно выполнимой без специальных лингвистических знаний. Поэтому, несомненно', что даже при хорошем усвоении морфологического принципа строения слов русского языка, ученики часто будут стоять перед трудностью выделения корня, связанной с непониманием его значения. Примером этого может служить хотя бы слово прикорнул, значенье корня которого оставалось непонятным для учеников самых старших классов. В таких случаях вполне возможны «ложные аналогии» (в данном случае со словами корня курить). Основные пути таких ложных аналогий в. достаточной мере выявлены в наших -материалах: это образование .межсловесных ассоциаций по сходству внешних признаков слов или по близости их лексических значений.
Если при этом графическая форма искомого корня расходится с графической формой ассоциируемых слов, то такое сопоставление может служить причиной орфографических ошибок.
Таковы те факты, которые показывают, почему, создавая затруднения в понимании корневых значений слов, мы в экспериментальном диктанте неизменно получали увеличение количества орфографических ошибок на любой ступени обучения.
Результаты экспериментов, приведенные в этой главе, позволяют сделать следующие выводы.
Опыты с незнакомыми словами дают материал, подтверждающий наш теоретический анализ относительно одного из путей усвоения орфографии. Как мы видели, корни незнакомых слов большинством учащихся писа
лись правильно, так как при этом образовались ассоциации со словами одного и того же корня, правописание которого предварительно было усвоено. Ассоциации по сходству возникали при условии тождественности корневых значений и различии реальных (лексических) значений слов.
Опыты с подбором родственных слов, а также с их сравнением, позволили вскрыть те трудности, с которыми при этом встречаются учащиеся на начальных этапах обучения. Обнаружилось, что при установлении сходства или различия корней сказываются особенности нагляднодейственного мышления ребенка. Это сказалось в той роли, которую играли в процессах сравнения и различения слов наглядно выраженные несущественные черты внешнего (звукового или графического) сходства слов или конкретные логические значения целых слов. Обобщения, которые основывались на этих признаках, приобретали односторонний характер: неправомерно генерализованными оказывались либо отдельные внешние черты слова, либо его смысловая сторона, что затрудняло выделение общего, абстрактного значения корня. Преодоление этих трудностей учащимися возникало при усвоении понятия корня как понятия, синтезирующего формальную и семантическую- стороны этой морфемы.
Опыты с корнями различной семантики (вал, воз, мет, наж и др.) обнаружили основное условие, соблюдение которого являлось необходимой предпосылкой для возникновения грамматически правильных межсловесных ассоциаций. Оказалось, что понимание учащимися смысла целого слова является для этого недостаточным. Индивидуальные опыты подтвердили данные, полученные статистическим путем при проведении экспериментальных диктантов, а именно то, что для этой цели необходимо понимание учащимися абстрактного значения корня.
В случаях непонимания значения корня или его неправильного понимания у учащихся, даже старших возрастов, возникали вновь те тенденции ассоциирования по внешним, несущественным с грамматической точки зрения признакам, которые были характерны для учеников младшего возраста.
В опытах были получены также факты, вскрывающие влияние на процессы ассоциирования неправильного восприятия (зрительного) формы корня, что на практике
встречается в письменных работах учащихся. В этом случае ошибочно написанный корень, по-видимому, затрудняет понимание его значения, благодаря чему открывается путь для ложных ассоциаций по сходству внешних признаков слов (см. опыты со словами обнажается, становится и др. на стр. 214, 215).
Большое влияние оказывает на установление межсловесных ассоциаций предшествующая речевая практика ребенка. Приведенные факты показывают, что в процессе свободного ассоциирования дети до изучения грамматики легко справляются (в пределах одного слова) с задачей подбора однокоренных слов с понятными для них корнями. Так как такой подбор невозможен без отвлечения значения корня от конкретного смысла слов, то, по-видимому, следует полагать, что эта абстракция ими действительно при этом подборе совершается. Однако, каковы именно психологические особенности подобного «чутья языка», на нашем материале вскрыть нельзя.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ
Как было уже сказано выше, наряду с образованием межсловесных ассоциаций имеется другой путь выработки орфографических навыков посредством применения «точных» правил. Знание таких правил дает возможность получить ответ по поводу искомой графической формы слова, не прибегая к сопоставлениям с другими родственными грамматическими словами. Для этого достаточно данное слово «подвести под правило», что и осуществляется актуализацией ассоциаций типа: восприятие морфемы -* текст правила.
Необходимыми элементами таких ассоциаций являются, во-первых, запоминание графической формы данного языкового явления (как пишется) и, во-вторых, опознавание самого явления как определенной морфемы или как единицы языка, имеющей определенное значение. При этом, основываясь на данных экспериментального диктанта, можно полагать, что основные трудности в применении правила заключаются именно в его грамматической части. Как мы видели, например, применение такого простого для запоминания правила — «Не с глаголом всегда пишется раздельно» — вызывало разной степени трудности в зависимости от тех усилий, которые
были связаны с опознаванием следующего за не слова в качестве глагола.
Ученик может хорошо помнить правило, однако этого недостаточно для того, чтобы он мог применить его при письме. Необходимым условием для этого является, конечно, умение распознавать те явления языка, к которым оно относится. Это умение возникает на основе усвоения и применения в упражнениях грамматических знаний, а сущность грамматических знаний, как мы не раз подчеркивали, заключается в синтезе формальных и семантических сторон языка. Задача, которую мы ставим в дальнейшем изложении, и заключается поэтому в систематизации имеющихся экспериментальных данных, показывающих, во-первых, какова роль в применении правила опознавания данного языкового явления, а во-вторых, какова психологическая природа тех трудностей, которые стоят перед учениками на этом пути.
Раздельные и слитные написания
Остановимся вначале на опытах, посвященных изучению процесса усвоения некоторых из тех правил, которые были включены в экспериментальные диктанты. К ним относятся те из них, которые обосновывают слитное или раздельное написание слов.
В диктанте, как известно, были использованы следую^ щие правила: слитное правописание не с глаголами, правописание не с другими частями речи (слитно и раздельно) и правописание предлогов и приставок. Некоторые случаи на эти правила послужили материалом и для наших опытов. Отличие этих опытов от диктанта состояло в том, что в них, как и в опытах с безударными гласными, мы интересовались качественной стороной процесса усвоения. Поэтому они проводились индивидуально с каждым учеником. Ученику диктовались отдельные предложения, а затем велась беседа, выясняющая, почему он написал контрольные слова так, а не иначе. В опытах участвовало 25 учеников III—VI классов той самой школы, в которой проводились диктанты.
Рассмотрим данные опытов по отдельным классам.
Вот как обосновывают слитное и раздельное написание слов третьеклассницы.
У чси и ца Л. (отличница)
Пишет предложения со словами не играть, не бегать, не гулять правильно и мотивирует: «Потому что играть — это отдельное слово». Такое же обоснование дает и другим словам.
Дается предложение с наречием невольно. Пишет раздельно. «Потому что вольно — это одно слово, а не — это уже другое слово».
Предложение со словом ненастье. Пишет правильно.
— «Настье — так не выражаются, поэтому ненастье пишется вместе».
Дается предложение: «В сказках много небылиц». Ученица думает, потом пишет не отдельно. Опять думает. Исправляет ошибку.
— «Думала, есть ли слово былица. А потом подумала — такого слова нет, а небылицы есть».
Здесь достаточно четко выясняется основной критерий, с которым ученица оценивает написания — это смысловая самостоятельность слова, идущего после не. Во всех случаях, кроме невольно, это правильно разрешает вопрос.
Ученица Н. (хорошо успевающая)
Предложения со словами не играли, не спится, не стало («не стало больше теплых дней») пишет правильно.
— «Не играли, потому что это предлог. Не спится тоже я думала, что это предлог». Так же объясняет правописание не стало.
Экспериментатор: С каким же словом здесь связан предлог?
Ученица: Не... дней. Нет, не... стало дней.
Слово ненастье пишет верно.
Ученица: Потому, что это одно слово ненастье. Так же объясняет правописание слова невольно.
Сочетание на удачу пишет верно и объясняет: «Потому что удача одно слово, а на — предлог».
В этом случае ученица опирается на известное ей правило о раздольном написании предлогов, по ошибочно относит к предлогам частицу не, что не отражается па 224
прабильйости раздельного написания глаголов. Наряду с этим использует, как и ученица Л., признак смысловой самостоятельности слов ненастье и невольно.
Ученица Ч. (хорошо успевающая)
Также опирается на понятие предлога и на смысловую самостоятельность слова.
Сочетание с удовольствием пишет верно.
Ученица: Не надо вместе, потому что есть такое слово удовольствие.
Сочетание в непогоду пишет сначала вместе, потом думает и отделяет в: «Потому что в здесь предлог. Можно сказать в погоду».
Предложение Навоз накладывали на воз пишет верно.
Ученица смеется и говорит: «Все равно не ошибусь, я это правило знаю. Здесь слово навоз, а там слово воз, а то бы получилось два одинаковых слова: навоз накладывали навоз».
Даже в более трудном случае — сочетании предлога с местоимением при написании со мной — она опирается на аналогию с употреблением мною без предлога: «Потому что мной можно сказать: мною было сделано что-нибудь».
Ученицы Г. и Е. (обе посредственно успевающие)'
Обе пользуются при определении раздельного или слитного правописания правильным приемом — подстановкой вопроса от предлога к управляемому слову, но неправильно переносят этот прием на определение правописания отрицательной частицы не.
Вот пример правильного употребления приема: сочетание со мной пишет слитно, потом исправляет: «Потому что я поставила вопрос: с кем? — со мной».
А вот их неправильные ответы: сочетание в непогоду (мне не спится) пишет: вне погоду — и мотивирует: «Потому что поставила вопрос: вне что мне не спится? Вне погоду».
Ошибочное написание не настье мотивирует так: «Потому что можно поставить вопрос: во что? — в не настье».
Ошибка: небегали. Мотивировка: «Задаю вопрос: Что они не делали? — Небегали. По-моему, отдельно
писать нельзя». Но так же мотивируется и раздельное написание не с глаголом—не спится.
— «Потому что мне... в погоду... что?.. Что мне в непогоду делается? Не спится».
Здесь, следовательно, отрицание не смешивается с предлогами, к которым относится прием подстановки вопросов. Грамматического значения подстановки вопроса от предлога, вскрывающего смысловые отношения между предлогом и управляемым словом, они не усвоили и потому этот прием употребляется ими чисто формально для обоснования как раздельного, так и слитного написания частицы не.
В этих примерах встречаются два способа определения правописания. Некоторые ученицы пытаются это сделать, используя свои грамматические знания о предлоге.
Ученица Н. оперирует грамматическим термином «предлог», но обнаруживает при этом (относя к предлогам и отрицание не), что действительные грамматические функции предлогов ею не поняты. Ту же ошибку мы нашли и у слабых учениц в отношении использования приема подстановки вопроса. Значительно большую роль играет в ответах учеников выделение предлогов и частицы посредством определения смысловой самостоятельности следующего за предлогом слова.
Несмотря на то, что в момент проведения опытов ученицы еще не проходили правило о раздельном написании не с глаголами, подобный критерий позволяет им правильно писать и объяснять такие орфограммы, как не играли, не бегали и т. п., а также случаи употребления не со словами, без не не употребляющимися. Смысловая самостоятельность слова опознается учениками в одних случаях непосредственно путем соотнесения его значения с реальными предметами и явлениями, которые оно обозначает. Если при этом речь идет о знакомых вещах, то в ответах ученика чувствуется непосредственность и уверенность, что мы видим, например, в ответе ученицы Ч. по поводу предложения: «Навоз накладывали на воз». В других случаях дети обращаются к практике речи и ищут в ней ответа на вопрос, употребляется ли в речи данное слово без частицы не. При морфологически неясной для них структуре слова (небылицы) это сопоставление, как, например, у учени-226
цы Л., происходит не без труда. Но в обоих этих случаях дети по существу руководятся одним и тем же обобщением: слова, имеющие законченный смысл, пишутся отдельно от других слов. Такого «правила» нет в учебнике; по учебнику учащиеся III класса знакомились лишь с правилом: «Предлоги у, в, на и другие пишутся отдельно». Полагаем, что его не могли сообщить и учителя (поскольку в такой универсальной форме оно неверно). Надо думать, что такое обобщенное правило сформировалось самостоятельно в практике устной и письменной речи учеников. Следует отметить, что ассоциация между признаком смысловой законченности и раздельным написанием настолько упрочена, что поддается словесному выражению (см., например, ответы учениц Л. и Ч.).
Смысл всего изложенного заключается в том, что основные трудности в применении правила вызываются его грамматической частью, что в данном случае сводится к опознаванию и выделению предлогов и частицы не от других слов при помощи грамматического или смыслового анализа речи.
IV класс. Основным экспериментальным материалом в IV классе были предложения, записываемые учениками под диктовку экспериментатора в следующем порядке:
1. На воз накладывали сено.
2. За дачу заплатили дорого.
3. Я наудачу свернул направо.
4. Навоз возили на поля.
5. Задачу решила легко.
6. На экзамене нельзя рассчитывать на удачу.
После записи учащимся предлагался вопрос: «Есть ли здесь похожие слова?»; все ученицы, ссылаясь на сходство звучания и написания, легко находили парные слова. Затем по поводу написания парных слов велась беседа. Приводим типичные рассуждения учащихся.
Ученица В. (хорошо успевающая)
В дикганте одна ошибка: наречие наудачу написано раздельно.
Находит «похожее» слово к сочетанию на воз и объясняет: «Одинаковое произношение и буквы, а разница — первое на воз пишется отдельно, а навоз вместе».
Экспериментатор: Как ты узнала?
Ученица: На — предлог, воз — существительное. И еще можно вставить слово, например, на небольшой воз. А там навоз — приставка и корень.
Экспериментатор: А как ты это докажешь? Ученица ссылается на невозможность вставки слова. Экспериментатор: А есть еще похожие слова? Ученица указывает на предложное сочетание на удачу и наречие наудачу и тут же исправляет ошибку, соединяя в наречии приставку на с остальным словом.
Экспериментатор: Почему ты решила, что ошиблась?
Ученица: Я неправильно написала.
(Думает и снова разъединяет на и удачу.)
Экспериментатор. Почему ты думаешь, что надо отдельно?
Ученица: Удача будет существительное, потому что можно задать вопрос: что?
Экспериментатор: Задай.
Ученица: Удача что? Потом можно склонять по падежам. Потом нет же такого слова — наудача.
Ответы В. позволяют выделить следующие признаки, на которые она опирается, объясняя написанное: 1) отличие предлогов от существительных; 2) возможность «вставки» слова; 3) вопрос «что?» к существительным; 4) склоняемость существительного; 5) неупотребительность в речи начальной формы существительного с предлогом; 6) неупотребительность слова в речи.
Бросается в глаза общее «грамматическое» направление этих ответов: ученица в качестве критериев орфографии своего письма использует прием «вставки», обычно рекомендуемый в школе, для опознавания существительного указывает основные грамматические признаки этой части речи. При этом непосредственные суждения о слове по его смыслу, характерные для III класса, отсутствуют. Даже при суждении об употребительности в речи слова наудачу она судит опосредствованно, через обращение к начальной форме слова, что обычно применяется в практике грамматического разбора для определения типа склонения существительных. Неправильное применение такого приема к наречию и приводит ее к ошибке. Такой «грамматический» характер рассуждений свойственен и некоторым другим ученицам.
Учен и ц а Б. (отличница)
При обсуждении правильно написанных «парных» слов на воз и навоз она рассуждает следующим образом: «Это похожие слова. Только в первом случае на — предлог, а воз — существительное; а во втором навоз — одно существительное».
Экспериментатор: А как ты узнала?
Ученица: Потому что в первом слове воз стоит в винительном падеже. Отвечает на вопрос: на что? Здесь предлог. (Думает)... Нет, не так. И во втором случае («навоз возили на поля») тоже в винительном падеже. Но нельзя же сказать, что на воз возили на поля.
Здесь также отмечается стремление ученицы держаться строго грамматических обоснований. Однако при затруднении она обращается к непосредственному смыслу речи. Приведем еще пример.
Ученица А. (отличница)
По поводу пары слов: на воз и навоз.
Ученица: Потому что в первом случае предлог на, а навоз — существительное.
Экспериментатор: А как ты узнала?
Ученица: На воз — воз — имя существительное, а если бы существительным было навоз, то на него сено накладывать нельзя.
Здесь также имеется попытка обосновать грамматические признаки слов непосредственным смыслом речи.
Анализ ответов более слабых по успеваемости учеников (получающих по русскому языку, как правило, посредственные оценки) обнаруживает большую связанность «грамматических рассуждений», бедность грамматического анализа, его меньшую конкретность.
Ученица К.
По поводу пары слов: на воз и навоз.
Экспериментатор: Почему ты написала различно?
Ученица: Потому что предлоги от существительных пишутся отдельно.
Экспериментатор: А в другом случае?
Ученица молчит.
Экспериментатор: Ты правильно написала?
Ученица (после паузы): Там на тележку какую-нибудь накладывали сено, а здесь возили удобрение какое-нибудь.
Пара слов: За дачу и задачу.
Ученица: За дачу — это за дом какой-нибудь, а задачу — это какую решают.
Ученица М.
По поводу пары слов: за дачу и задачу.
Экспериментатор: Почему задачу по-разному написала?
Ученица: Здесь существительное с предлогом, а существительное пишется отдельно. А там в задачу слово нельзя вставить.
Пара слов: на воз и навоз.
Ученица: Здесь воз — существительное.
Экспериментатор: А почему ты так думаешь?
Ученица: Потому что отвечает на вопрос: кто? что?
Экспериментатор: А во втором случае?
Ученица: Там тоже воз — существительное.
Экспериментатор: Там навоз или воз — существительное?
Ученица: Навоз.
Экспериментатор: Почему?
Ученица: Я поставила вопрос что? — навоз.
Экспериментатор: А разве нельзя та-м ответить: что? — воз.
Ученица: Можно. Потому что тут на воз клали, а там возили навоз.
Ученица К. знает правило о раздельном написании предлогов от существительных, но при различении этих частей речи не использует каких-либо грамматических признаков, а опирается на непосредственный смысл речи. Ученица /М., помимо правила, употребляет также приемы «вставки» слова и подстановки вопросов — кто? что? В этом отношении ее ответы более развернуты, чем у К. Однако она использует при различении имен существительных лишь один прием подстановки вопроса,
который, будучи применен изолированно от других признаков этой части речи, не помогает решить задачу. Лишь опираясь на смысловое различие парных слов, она выходит из затруднений.
Приведенные примеры анализа своего письма характерны и для других учениц IV класса (всего мы провели опыты с десятью ученицами). Правило о раздельном написании предлогов они хорошо знают, его применение связывают с выделением предлога и выяснением характера слова, управляемого предлогом. Основные трудности возникают именно при этой операции. Заметно повышается удельный вес использования грамматических признаков имени существительного и практических приемов его опознавания («вставка» слов, подстановка вопросов) по сравнению с преобладающей смысловой оценкой самостоятельности слова, характерной для III класса. Но этот переход на грамматический путь анализа вызывает в рассуждениях некоторых учащихся ошибки, основанные на поверхностно-формальном использовании грамматических знаний.
Мы продолжили эти опыты с ученицами V и VI классов. Для письма и разбора им был предложен текст с отрицанием не перед глаголами и с некоторыми наречиями. Хорошо успевающие ученицы (4 человека) не испытывали при письме никаких затруднений и давали грамматически правильные обоснования написания. Вот пример такого анализа.
Ученица Т.
Сочетание: не играть, не бегать — пишет верно. Сразу ссылается на правило: не с глаголами пишется отдельно.
Даются сочетания не стало, не спится. Пишет верно и обосновывает: «Тут, я думаю, глаголы спится и стало».
Даются предложения: «На экзамене нельзя рассчитывать на удачу», «Я наудачу свернул направо».
Ученица объясняет без труда: «В первом случае отдельно, потому что существительное с предлогом; во втором — вместе, потому что это наречие».
Экспериментатор: Как ты узнала?
Ученица: Здесь вопрос — на что? а там — куда? А вообще, я как-то сразу чувствую. Я и в диктанте сначала напишу, а потом — правило. Иногда это сбивает.
Экспериментатор: А вставкой вопроса пользуешься?
Ученица: Нет.
Предложение: На встречу гостям вышла делегация.
Ученица (думает): Затрудняюсь. Если встречать она вышла, то это существительное. А если случайно они идут и встретились, то это вместе надо писать. Тут я не вполне понимаю смысл.
Экспериментатор: Переделай предложение, чтобы было ясно.
Ученица: На встречу с писателями выехало несколько человек. Здесь отдельно. Навстречу мне шел мальчик. Здесь вместе.
Пример с ученицей Т. интересен тем, что опознавание частей речи в легких случаях у нее следует непосредственно вслед за пониманием смысла предложения. По ее свидетельству, при письме она не вспоминает правила, а сразу «чувствует», как надо писать. По-видимому, здесь та стадия девербализации навыка, которую обычно называют автоматизированным действием. Трудный случай с предложным сочетанием на встречу обнаруживает, что то, что она в легких случаях «чувствует сразу», является не чем иным, как пониманием заключенного в словах общего значения «предметности» и «наречно-сти». Когда эти значения «чувствуются» ученицей, она, не думая о правилах, пишет правильно. Очевидно, что в основе письма в таком случае лежат упроченные ассоциации: между пониманием языковых значений и орфографическим действием. У этой ученицы узнавание глагольности слов не спится, не стало не вызвало затруднений. Правильно написали их и остальные три сильные ученицы из VI класса.
Между тем, по данным наших диктантов, эти глаголы давали большой процент ошибок. Данные, полученные от V класса, подтверждают этот факт. Из трех учениц этого класса, участвующих в опытах, две написали сочетания не с этими глаголами ошибочно. Вот выписки из протоколов опытов с ними.
Ученица С. (хорошо успевающая)
Пишет сочетания: не играли, не спится, не стало.
Мотивирует следующим образом: «Отрицание не пишется отдельно тогда, когда без не не употребляется, 232
а вместе тогда, когда употребляется и можно подставить вопрос: не играли — не что делали?
Экспериментатор: Теперь проверь не спится.
Ученица думает и молчит.
Экспериментатор: Ну, о чем ты думаешь?
Ученица: Сомневаюсь. Тут тоже можно подставить вопрос: «не что делает? Не спится».
Экспериментатор: А не стало?
Ученица: Не стало — сюда вопроса не подставишь... А это слово самостоятельное: стало приближаться лето.
В этом случае ученица прямое правило, относящееся к правописанию не с глаголами, не вспоминает. Вместо этого она ссылается, подобно третьеклассницам, на прием подстановки вопросов, относящихся к предлогам, и на употребительность слова, но формулирует это неверно и окончательно запутывается.
Ученица Б. (посредственно успевающая)
Пишет: нестало, неспится.
Мотивирует: не пишется отдельно, когда существительное и прилагательное без не не употребляются.
Экспериментатор: Почему не стало написала вместе?
Ученица: Стало — такого слова нет, значит вместе; не спится — оно без не не употребляется.
Экспериментатор: А разве нельзя сказать: мне спится хорошо?
Ученица: Можно. Надо раздельно.
Экспериментатор: А какие части речи здесь? Подчеркни глаголы.
Ученица подчеркивает не играли и не спится.
Экспериментатор: А не стало, какая часть речи?
Ученица: А не стало — это прилагательное. Надо вместе, потому что прилагательное не употребляется без не.
В этом случае не стало опознается ученицей как прилагательное. По-видимому, вследствие этого вспоминается правило, относящееся не к глаголам, а к правописанию не с прилагательными и существительными. Формулировка этого правила неверная. Применение его
противоречиво. Эта путаница в вербальной сфере применения правила соединена с утратой непосредственного понимания смысла слов. Для Б. слова стало нет в речи, а не спится без не не употребляется.
По приведенным материалам можно представить основные моменты процесса овладения данным правилом.
Вначале критерием «отдельности» слова служит его лексика безотносительно к грамматической характеристике слова. На этом уровне цельность слова вытекает из непосредственно очевидного для учащихся значения слова (воз — это одно, а навоз — это другое) или из бессмысленности слова при отбрасывании частицы не (настье — так не выражаются). Под влиянием обучения проблема «отдельности» слова приобретает грамматический смысл: отдельное слово для ученика — это уже существительное или глагол. Поэтому для доказательства правильности написаний учащиеся начинают использовать различные грамматические признаки этих частей речи. Применение этих признаков у некоторых учениц производится чисто формально, без понимания существа дела; например, подстановка вопросов после частицы не, поиски начальной формы у наречия и т. п.
На определение грамматической категории слов оказывают влияние и особенности их семантики. Такие слова, как не спится, не стало, вызывают у учащихся затруднения, не имевшие места по отношению к словам с типично выраженным значением физического действия — не играть, не бегать и т. п. Постепенно намечается согласованное применение формально-грамматических и семантических признаков данной части речи. Происходит своего рода грамматизация суждений учеников.
Здесь мы не задаемся целью дать исчерпывающую характеристику процесса усвоения этих правил. Нам важно было показать, что при применении правил психологическим «центром тяжести» являются умственные операции, направленные на выделение и опознавание того или иного языкового явления. Приведенный материал, как нам кажется, достаточно освещает этот вопрос. Основной трудностью в данном случае было не запоминание текста правила: большинство наших испытуемых правила знали хорошо. Трудности, которые возникали перед ними, были связаны с смысловой и грамматической квалификацией слов. При этом решающую роль играло 234
определение учащимися смысловой самостоятельности или несамостоятельности воспринимаемых звуковых комплексов. Это определение основывалось либо на понимании лексических значений слов, либо на выяснении грамматических функций данного сочетания.
Пути, ведущие к этому, как мы видели, требовали смыслового и грамматического анализа речи, применения различных приемов, вроде «вставки», подстановки вопросов и т. п. Лишь в процессе подобной сложной аналитико-синтетической деятельности учеников происходило сознательное выделение объекта правила, обеспечивающее верное применение правила.
В свете этих данных становятся понятными результаты экспериментального диктанта, показавшие, что создание условий, затруднявших для учащихся смысловую или грамматическую квалификацию слов, соединенных с предлогом или отрицанием, приводило к снижению орфографического уровня письма.
Правописание ъ после шипящих в существительных женского рода
Это правило, так же как и предыдущее, относится к разделу «точных» правил. Оно содержит указание на то, что ь пишется в единственном числе имен существительных женского рода и не пишется в словах мужского рода. Следовательно, сознательное применение этого правила предполагает различение грамматического рода имен существительных. Выше мы приводили характеристику, даваемую этой грамматической категории лингвистами. Они определяют род как чисто формальную грамматическую категорию, объединяющую слова с одинаковыми падежными окончаниями и не имеющую соответствия с понятием естественного пола живых существ. В то же время известно, что в школе не дается никакого теоретического определения этому понятию, вместо чего уже ученикам начальных классов предлагается при определении рода пользоваться приемом подстановки так называемых «родовых слов» (мой, моя, мое; он, она, оно).
Нас интересовало выяснить, как при этих условиях происходит применение правила, предполагающего использование понятия, грамматическое существо кото-
рого остается для учеников неизвестным. Для этой цели мы провели индивидуальные опыты с 25 ученицами III —VI классов, в основном теми же, которые принимали участие в только что описанном эксперименте. При изложении результатов диктантов мы приводили некоторые данные из этих опытов; теперь остановимся на них более подробно.
Прежде всего следует отметить сразу тот факт, что по отношению к словам, понятным для учащихся и употребительным в их речи, мы не имели случаев неправильного определения рода, независимо от ступени обучения. Ученики начальной школы пользовались при этом исключительно приемом подстановки «родовых» слов, а ученики, начиная с V класса (главным образом хорошо успевающие), привлекали иногда и формальные признаки слов (окончания именительного падежа), например, ученица Т. (VI класс).
Предлагается для определения рода существительных предложение «Белая береза стояла над обрывом».
Ученица: Береза — женского рода.
Экспериментатор: Как узнала?
Ученица: Вопрос она, моя-, окончание — а.
Экспериментатор: А еще какие признаки?
Ученица: Больше нет.
Экспериментатор: Разбери слово обрывом.
Ученица: Мужского рода. В именительном падеже без окончания. Вопрос — мой или он.
Среди учениц начальной школы были иногда такие, которые забывали, что надо делать, чтобы ответить на вопрос экспериментатора о роде. Но достаточно было напомнить о приеме подстановки слов мой, моя, мое и т. п., как правильный ответ следовал без колебаний: «Береза — моя; обрыв — мой».
Иногда экспериментатор, испытывая степень уверенности учеников в правильности ответов, предлагал им в качестве решения неправильное согласование: мой береза, моя обрыв и т. п. Но дети неизменно отвергали подобные подвохи, говоря: «так не выражаются», «так не подходит» и т. п.
Следовательно, прежде всего надо констатировать тот факт, что, несмотря на незнакомство учеников с понятием грамматического рода, ученики разных классов школы легко определяли род знакомых слов путем под-236
становий «родовых» слов. Так как в основе приема подстановки лежит соблюдение принципа согласования слов, то очевидно, что умение правильно согласовывать слова ученики приобрели в практике речи, и этим практическим умением они пользовались при определении грамматического рода. Новым при этом были лишь термины (мужской род, женский род, средний род), которые дифференцированно обозначали три возможных случая согласования.
Получив такие однозначные данные, мы решили затруднить использование приема подстановки, предложив для определения рода редко встречающиеся и потому мало понятные детям слова. Мы исходили при этом из следующих соображений, если, как утверждают некоторые лингвисты, понятие рода есть чисто формальная категория, то непонимание значения слова не должно было сказаться на определении его рода. Если же в понятии рода остаются смысловые элементы, соответствующие естественным различиям по полу живых существ, то, лишая для учеников слово его смысла, мы тем самым уничтожаем возможность опереться на эти элементы и, следовательно, затрудняем определение рода.
Применение малознакомых слов имело и психологическое значение, поскольку вскрывало те признаки грамматического порядка, которые играют роль в определении учащимися рода помимо дограмматического приема подстановки слов.
Те факты, которые нам удалось обнаружить в опытах, имеют, нам думается, отношение к обоим аспектам этого вопроса.
Основным экспериментальным материалом в этих опытах нам служили два имени существительных: сивуч и кижуч.
Лексическое значение их не было знакомо учащимся (лишь один ученик VI класса знал слово сивуч). Определить род этих слов по окончанию при слуховом восприятии тоже не представлялось возможным, так как конечный звук всех слов ч всегда мягкий (написание ь в словах женского рода в таком случае фонетически йе обусловлено). Эти слова предлагались ученикам для записи как в изолированном виде, так и в составе предложений: 1) сивуч — это морской зверь, 2) кижуч — это морская рыба.
Эти предложения были продиктованы учащимся II—X классов. Результаты диктанта приведены в табл. 29.
Т а б л и ц а 29
Распределение ошибок в словах сивуч и кижуч
В этой таблице обращает на себя внимание значительное преобладание ошибок (подстановка мягкого знака) в слове кижуч по сравнению со словом сивуч, в то время как слово сивуч дало в среднем по всем классам 9,1% ошибок, в слове кижуч количество ошибок возросло до 35,1%. Таким образом, эти данные показывают, по-видимому, что смысловая разница обоих предложений решающим образом сказалась на орфографии учеников.
Обратимся к анализу результатов индивидуальных опытов.
Прежде всего следует отметить, что у всех без исключения учениц, даже слабо успевающих третьеклассниц, восприятие этих слов неизменно вызывало в памяти именно то правило, которое предназначено регулировать правописание таких слов. Следовательно, ассоциации — восприятие слова правило — были у них достаточно упрочены и дифференцированы. Трудности и колебания учениц начинались тогда, когда им предстояло определить род этих существительных.
Нижеприведенная запись опыта с сильной ученицей VI класса 3. дает представление о характере этих трудностей.
Ученица 3.: пишет в предложении слово сивуч правильно, написав же слово кижуч, спрашивает экспериментатора: «А какой это род?»
Экспериментатор: А зачем тебе надо знать?
Ученица: Если женский род, то надо мягкий знак, если мужской, то не надо.
Экспериментатор: А ты как думаешь?
Ученица: Я не знаю... мужской род (неуверенно). Экспериментатор: А как вас учили узнавать род?
Ученица: Подставить слова мой или он.
Экспериментатор: Ну, поставь.
Ученица: Кижуч — мой.
Экспериментатор: А сивуч?
Ученица: Мой сивуч.
Экспериментатор: А моя сивуч разве нельзя?
Ученица (улыбается): Нет.
Экспериментатор (дополнительно) диктует изолированное слово Кивач. Ученица пишет Кивач и останавливается.
Экспериментатор: Ну, надо или не надо 6? Ученица: Не знаю.
Экспериментатор диктует ей окончание предложения «это водопад на севере» и спрашивает: «Ну, как теперь думаешь?»
Ученица: Это мужского рода. Экспериментатор: Почему? Ученица: Кивач — это водопад. Род совпадает. Это мужского рода.
Эта запись показывает, что ученица хорошо знает правило, но затрудняется в определении рода слова кижуч. Подстановка родового слова производится ею верно. Она даже улыбается при предположении, что можно сказать моя сивуч. Но изолированное слово Кивач снова приводит ее в затруднение, но оно сразу же снимается, как только ей разъясняется смысл слова: Кивач — это водопад. Установление такой смысловой ассоциации разрешает для нее и грамматическую проблему: раз Кивач — это водопад, а водопад мужского рода, следовательно, Кивач тоже мужского рода — к такому заключению приходит она в конце концов, неправильно путая при этом логические и грамматические понятия. Подобного рода умозаключения мы в развернутом виде получили от другой сильной ученицы IV класса.
Ученица Б. пишет сивуч без ь, а кижуч — с мягким знаком и объясняет: «Сивуч — это морской зверь, значит
мягкого знака писать не надо; кижуч — название рыбы, рыба — женского рода, значит пишем мягкий знак».
Приведенные факты не единичны, а являются характерными и для учащихся V и VI классов. Вот несколько примеров: приведем лишь выдержки из протоколов опытов с ученицами V и VI классов.
Ученица Р. (V класс, слабо успевающая)
По поводу предложения «Сивуч — это морской зверь» говорит: «Сивуч — мужской род».
Экспериментатор: Почему?
Ученица: Потому что он зверь, а зверь мужского рода.
По поводу предложения «Кижуч — это морская рыба», пишет кижуч с мягким знаком и объясняет: «Потому что рыба — женского рода».
Экспериментатор (дает предложение): Лещ — это рыба.
Ученица (уверенно): Мужской род. Лещ — она, оно не скажешь.
(Ученица не замечает своего противоречия. Знакомое слово лещ вызывает правильную подстановку слова мой.)
Ученица С. (V класс, сильная)
Слово Кивач (изолированно).
Ученица (уверенно): Мужского рода. Он — Кивач; она — не подходит.
Предложение «Кижуч — это морская рыба».
Ученица: Кижуч — это она. Мы будем узнавать по морской рыбе — рыба ведь женского рода.
Предложение: «Сивуч—это морской зверь».
Ученица: Без ь. Сивуч — это мужского рода, потому что можно поставить он. Потом — это зверь, а зверь мужского рода.
Предложение: «Видгощь — это большая деревня».
Ученица: Видгощь — будет она. Видгощь — это деревня, тоже женского рода.
Предложение: «Быдгощ — это город в Польше».
Ученица: Мужского рода, потому что Быдгощ — он и, кроме того, это город. (Два слова почти одинако-
вне по фонетическому составу под влиянием разного смысла оцениваются по-разному.)
Так выясняется направление мысли, по которому суждение учащихся о роде находит опору в предметном значении слова; при этом грамматический род незнакомого слова неправомерно определяется по родовым признакам другого . слова, обозначающего данный род предметов, без учета грамматических признаков определяемого слова. Нельзя поэтому думать, что для процесса осознавания учеником грамматического рода понимание •смысла .слова не имеет существенного значения. То, что ученики не использовали в данном случае основной формальный критерий рода — систему падежных окончаний — не может, по нашему мнению, уменьшить значения смыслового признака, поскольку очевидно, что для того, чтобы правильно просклонять слово кижуч, сивуч и т. п., надо заранее знать, к какому (II или III) склонению оно относится, а определить тип склонения, не зная рода; в данном случае фактически невозможно. Несмотря на сугубую формальность понятия рода, оно, по-видимому, не является исключением из других грамматических категорий языка, а представляется понятием, синтезирующим формальные и семантические языковый признаки.
Систематизируем теперь случаи с определением рода незнакомых изолированных слов. В эксперименте изолированные слова (как правило, Кивач) предлагались 14 ученицам. Две из них не пробовали решить вопрос подстановкой родовых слов и потому их ответы не могут приниматься во внимание. Все же остальные двенадцать учениц путем подстановки правильно определили род. Среди них имеются представители всех классов: III класс — две ученицы; IV класс — три; V класс — три; VI класс — четыре. По успеваемости они также были различны. Тем не менее, как правило, подстановку родовых слов все они производили уверенно и легко. Вот отдельные примеры:
Ученица Ч. (III класс, отличница)
Пишет Кивач.
Экспериментатор: Почему так?
Ученица: Потому что Кивач — что? — он.
Ученица К. (IV класс, слабо успевающая)
Э кспер и м е нтато р: Надо ь?
Ученица: Не надо, потому что подставлю слово мой.
Экспериментатор: А моя?
Ученица: Нет.
Экспериментатор: Попробуй, скажи.
Ученица: Моя Кивач (смеется) — нельзя.
Ученица С. (V класс, хорошо успевающая)
Ученица (уверенно): Кивач — мужской род. Он — Кивач. Она Кивач — не подходит.
Ученица Б. (V класс, слабо успевающая)
Ученица: Кивач — мужской род. Экспериментатор: Почему? Ученица: Потому что Кивач — он.
Ученица К. (VI класс, слабо успевающая).
Ученица: Кивач — мужской род. Экспериментатор: Почему?
Ученица: Один Кивач, мой Кивач, оканчивается на шипящую.
Экспериментатор: А моя подойдет?
Ученица: По-моему, нельзя... Моя Кивач даже как-то не звучит.
Ответы остальных учениц однотипны.
Полученные данные представляют значительный интерес. То, что к хорошо знакомым словам подстановка родовых слов происходила правильно, можно объяснить, о чем уже говорилось, влиянием предшествующей речевой практики. Но в словах типа Кивач и т. п. ученикам значение слова неизвестно, формальные признаки — родовые окончания слов—одни и те же. На каких же объективных признаках таких слов ученицы могли основывать свои уверенные подстановки родовых слов мужского рода?
Здесь можно сделать лишь одно предположение. Незнание учениками лексического значения слов еще не означает новизны для них отдельных морфологических частей таких слов. Слова: сивуч, кижуч, Кивач — состоят
из корня и суффиксов -уч и -ач, придающих словам, как и всякие суффиксы, дополнительные смысловые оттенки. Особенностью этих суффиксов, по определению лингвистов, является то, что они, будучи малопродуктивными, т. е. редко участвуя в словообразовании, тем не менее употребляются лишь в именах мужского рода L
В школьных учебниках нет упоминания об этих суффиксах, но, по-видимому, нашц данные показывают, что при бессодержательности для учащихся лексических значений слов и их корней единственными приметами рода, в данном случае, могли служить только суффиксы -уч-и -ач-. Можно, следовательно, полагать, что в опытах с незнакомыми словами мы вновь натолкнулись на проявление «чутья языка», выработанного в процессе речевой практики, как и «чувство согласования» слов. В данном случае, однако, это «чутье» проявилось в очень тонком различении родовых значений суффиксов -уч-, -ач-.
Изучение материала по применению правила о подстановке мягкого знака после шипящих позволяет сделать следующие выводы.
Как в случаях слитного и раздельного написания слов, так и при правописании ь после шипящих обнаруживается, что центральным звеном в процессе сознательного применения правила являются умственные операции, связанные с выделением из текста и опознаванием определенных языковых категорий (в данном случае грамматического рода существительных). Это выделение приводит к правильному письму, благодаря знанию соответствующих правил и их вспоминанию при письме.
При применении как первого, так и второго правила была обнаружена важная роль понимания языковых значений (смысловая самостоятельность слова в первом и лексическое значение слова и смысл предложения — во втором). Подобное понимание обеспечивало как нахождение границ слова, так и определение рода имени существительного.
1 В. В. Виноградов, Русский язык, Учпедгиз, 1947, стр. 98—110.
В. А. Богородицкий, Общий курс русской грамматики, Соцэкгиз, М., 1935, стр. 142—154.
Вместе с тем различный характер трудностей учащихся при применении обоих правил показывает зависимость этих трудностей от различия тех объективных языковых явлений, которые лежат в основе этих правил.
Понимание лексического значения имен существительных вполне обеспечивало правильное определение его графических границ при сочетании с предлогом (за исключением наречий). Ученики в данном случае могли в начале обучения не опираться на грамматические признаки имени существительного. Смысл слова ощущался ими непосредственно, а трудности возникали лишь при неясности значения слова.
Для правописания отрицания не с глаголами важную роль играло узнавание учащимися следующего за отрицанием слова как глагола.
Степень легкости определения «глагольности» слова зависела от определенности значения действия, выражаемого данным словом (глаголы стало, спится вызывали уже затруднения). Трудность здесь заключалась в необходимости отвлечения от особенностей конкретного значения слова при абстрагировании признака действова-ния. Мы не говорим уже о тех затруднениях «частного» порядка, которые порождались у некоторых наших учеников недостаточной дифференциацией сходных правил, регулирующих написание не с разными частями речи.
Наконец, специфические трудности наблюдались нами при определении рода. Ввиду того, что ученикам не сообщалось определения понятия рода, основной путь для опознавания рода имен существительных заключался в опоре на «чувство согласования» слов. При этом интересно отметить, что в данном случае этот путь при условии знакомства с лексическими значениями слов давал почти безошибочные результаты как у слабых, так и у сильных учащихся, как у третьеклассниц, так и у учениц старших классов. Даже по отношению к незнакомым словам, как только что было отмечено, в большинстве случаев он приводил к правильному определению рода и к правильной орфографии. Если мы вспомним, как трудно дается при изучении иностранных языков (например, французского и немецкого) правильное употребление артиклей, то можно сказать с уверенностью, что подобное безошибочное определение рода имени существительного опирается на практическое владение рус
ской речью. Опора на живую речь и дает возможность дифференцировать такие грамматические категории, теоретическое определение которых неизвестно ученику.
Небезынтересен также и другой путь, которым пользовались учащиеся при определении рода незнакомых слов, когда опора на формальные признаки исключалась. Этот путь, который мы назвали «поиском смысла», показывает, что в число признаков, необходимых для осознавания понятия «грамматический род», включаются и лексические значения слов, раскрываемые в данном случае лишь из контекста всего предложения.
Раскрытие значения слова в предложении давало возможность некоторым ученикам при определении рода не обращаться к подстановке родовых слов, а действовать непосредственно, но уже не по отношению к заданному слову, а к знакомому им смысловому эквиваленту, что и приводило при расхождении рода этих двух слов к нарушению того ряда соотносимых слов, которое закреплено языковыми нормами. Однако можно полагать, что вскрытая здесь в онтогенетическом плане тенденция к смысловой соотнесенности слов при определении их рода имеет какое-то отношение к филогенетическому процессу установления таких грамматических категорий.
Правописание заглавной буквы в именах собственных
Наряду с правилами, проанализированными нами выше, мы имеем возможность остановиться еще на одном правиле, экспериментально изучавшемся Л. И. Божович. Мы говорим об исследовании, посвященном психологическому анализу усвоения правописания заглавной буквы L Использование автором как количественных, так и качественных методов анализа делает его особенно интересным для наших целей.
Правило о правописании заглавной буквы в именах собственных относится большинством методистов к условным правилам, применение которых требует якобы лишь запоминания относящихся к правилу групп имен собственных.
Соответственно этому распространенному представлению «правило», дающееся в учебниках начальной шко-
1 Л. И. Божович, Значение осознания языковых обобщений в обучении правописанию, «Известия АПН РСФСР», вып. 3, 1946.
лы, представляет собою лишь перечень отдельных случаев его применения. В учебнике П. О. Афанасьева и И. Н. Шапошникова, по которому учились дети во время проведения опытов Л. И. Божович, приведены три таких случая, изучение каждого из которых занимало один урок: 1) правописание большой буквы в именах, отчествах и фамилиях; 2) в. названиях городов, сел, деревень и рек; 3) в кличках животных.
Никакого обобщенного понятия об имени собственном не давалось до V класса. Упражнения, проводившиеся после изучения правила, были направлены на закрепление именно данного случая и никак не были связаны с другими случаями.
Таким образом, в начальных классах как «правила», так и упражнения не способствовали пониманию общего значения заглавной буквы, а фиксировали внимание учеников на частных случаях ее употребления; в то же время все случаи употребления заглавной буквы не сообщались, что вообще, конечно, не представляется возможным из-за их большого разнообразия. Благодаря этому создавалось положение, близкое к тому, что имелось при изучении понятия рода.
Как же ученики справлялись при этих условиях с орфографическими трудностями?
Для выяснения этого вопроса Л. И. Божович проанализировала около двух тысяч письменных работ учащихся II—V классов. К сожалению, она ничего не сообщает о том, в какой мере ученики правильно употребляли заглавную букву в случаях, не предусмотренных правилами. Это было бы наиболее убедительным доказательством наличия у них самостоятельного обобщения, а что такое положение имеет место, хорошо известно из практики: дети начинают писать с заглавной буквы не только те группы имен существительных, которые перечислены в правилах, но и другие, сходные с ними (например, названия не только рек, но и озер, морей; не только городов, но и фабрик, колхозов и т. п.). Однако эти наблюдения педагогов нуждались бы в экспериментальном уточнении и прослеживании границ такого переноса.
Л. И. Божович же сосредоточила свое внимание лишь на ошибках учеников. Помимо ошибок «памяти», по терминологии автора, происходящих от несоблюдения изу-246
ченных правил (петя, коля, Казань, волга, ока и т. п.), она выделила в работах учащихся ошибки, заключающиеся в употреблении заглавной буквы на месте строчной (например, в названиях пород птиц: Орел, Соловей, Сокол; в названии пород деревьев: Ива, Пихта, Пальма и т. п.). Эти ошибки наблюдались и непосредственно после изучения правила (по существующим тогда программам, во II классе), но достигали максимального количества на втором году изучения (в данном случае в III классе); в дальнейшем (в IV, V и VI классах) их количество в подобных словах, которые автор называет «критическими», также значительно превышало количество ошибок, сделанных в именах собственных.
На основе этих фактов Л. И. Божович приходит к заключению о том, что «процесс усвоения не сводится к простому, догматическому заучиванию всех случаев написания... но включает какие-то интеллектуальные процессы, очевидно, связанные с овладением понятия имени собственного; об этом, в первую очередь, свидетельствуют ошибки на «критические» слова, возникающие и увеличивающиеся в ходе обучения». И дальше она поясняет, что возникновение таких ошибок связано с тем, что «ученики, начиная вдумываться в правописание изучаемых слов, распространяют понятие имени собственного на слова, которые таковыми не являются».
В дальнейшем Л. И. Божович в индивидуальных опытах с учениками пыталась выяснить, какие же именно интеллектуальные процессы приводят к образованию обобщенного понятия имени собственного, и приходит к тому, что сначала эти процессы протекают для учеников неосознанно, в виде «чувства имени собственного», а потом весь процесс переходит «в план интеллектуальный, становящийся предметом сознания». Нарастание ошибок в «критических словах» и соответствует этому второму этапу усвоения. При этом попытка ученика вникнуть в логическое содержание понятия, лежащего в основе правила, приводит к неизбежной путанице из-за отсутствия у него правильно сформированного понятия.
Л. И. Божович приводит в качестве примера ряд записей бесед с учениками разных ступеней обучения Приводим в выдержках одну такую запись с учеником III класса.
— Когда ты пишешь большую букву?
— В именах, отчествах, фамилиях, в названиях сел, городов, рек, в кличках животных.
— Напиши мне предложение: «На берегу Оки росла плакучая ива».
Ученик пишет название реки не задумываясь; на словах плакучая ива задерживается.
— Я не знаю, что писать с большой буквы: плакучая или ива. Я думаю, «Плакучая Ива» — это ведь все относится к названию дерева.
— Напиши теперь другое предложение: «Зацветали яблони и груши».
(Пишет быстро и без ошибок.)
— Почему же ты написал яблони и груши с маленькой буквы?
Ученик (с удивлением). Как, а разве с большой?
— Но ведь ты написал плакучая ива с большой буквы. •
— Да, то специальное название дерева, а яблони и груши это просто деревья.
— А если бы я сказала: «Это — яблоня-антоновка», как бы ты написал?
— Я бы написал с большой.
— А как ты напишешь название цветка роза?
— С большой... нет с маленькой буквы... нет, не знаю, роз много, хоть это и название, но это ведь не собственное имя.
— Напиши мне такое предложение: «На выставке Саша увидел много разных собак: здесь был и шпиц, и такса, и лягавая, и гончая».
Ученик пишет шпиц и такса с большой буквы, однако перед словом лягавая задумывается и потом быстро зачеркивает все, что написал, и пишет с маленькой буквы.
— Почему ты так написал?
— Большую букву мы пишем в кличках, а это не клички — это породы собак.
— Что мы имеем в виду, когда говорим «имя .собственное»?
— Ну, как что? Собственное имя это и значит собственное: Петя, Ваня, Коля... или фамилия какая-нибудь, или там название реки или города.
Л. И. Божович правильно заключает из подобных рассуждений ученика, что трудности в письме «критических» слов — ива, роза и т. п. — являются следствием того, что эти видовые понятия рассматриваются как собственные имена по тому признаку, что они индивидуализируют предмет по сравнению с более общими родовыми понятиями — «дерево» и «цветок». Следовательно, в этом случае мы обнаруживаем у ученика известное самостоятельно возникшее обобщение, характеризующееся признаком индивидуализирующего значения заглавной буквы.
Анализ ответов других учеников позволил автору выделить и некоторые другие признаки (значения) заглавной буквы, улавливаемые учениками. Сюда относятся: произвольность названия (имя собственное дается предмету нарочно, чтобы отличить его от других) и «чувство уважения» к некоторым предметам, которые поэтому пишутся ими с заглавной буквы (Командир, Герой, Подвиг, Красное Знамя и т. п.).
О чем же говорят все эти факты?
Если принять во внимание, что в основе языкового обобщения, о котором говорится в опытах Л. И. Божович, лежит понимание значения того или другого языков вого явления, то данные этих опытов можно понять следующим образом. В правилах, с которыми имели дело в опытах ученики, сообщались лишь отдельные, частные значения слов, которые следовало обозначать на письме изменением формы и величины начальной буквы. Следовательно, для того чтобы писать правильно, ученики, во-первых, должны знать правила и, во-вторых, понимать эти значения и отличать их от сходных значений слов, на которые эти правила не распространяются. С первой задачей ученики справились легко, так как те ошибки «памяти», о которых говорит Л. И. Божович, изживались уже на начальных этапах обучения.
Эти данные вполне согласуются с теми, которые <мы сообщали выше, говоря о правилах слитного и раздельного правописания слов и об употреблении ь после шипящих. Это сходство наших данных с данными Л. И. Божович продолжается и далее. Основные трудности учащихся в наших опытах были связаны с выделением и опознаванием объекта правила. Опыты Божович ярко демонстрируют тот же самый факт. Поскольку правило
об употреблении заглавной буквы относится, как об этом упоминалось выше, к смысловой орфографии и не связано поэтому с формально-грамматическими признаками слов, постольку единственным путем правописания был путь дифференциации слов по их значениям. Затруднения заключались в смешении учащимися родовых, видовых и единичных понятий. Однако случаи употребления заглавной буквы так разнообразны, что можно думать, что при использовании «критических слов», сходных с именами собственными по другим признакам, были бы обнаружены дополнительные затруднения учащихся. Так или иначе, весь смысл работы Л. И. Божович показывает, что орфографические трудности лежат именно в области дифференциации значений слов.
Наряду с этим, опыты Л. И. Божович показывают, что при неопределенности и неоднородности значения заглавной буквы у учащихся появляются широко генерализованные обобщения, основанные на неправильном истолковании этого значения (то, что автор называет «чувством уважения», произвольности названия и т. п.). Все это подтверждает наше общее положение о той роли, которую играет в процессе усвоения орфографии-понимание семантики языка. В смысловой орфографии, как мы видим, оно является основным путем, по которому идет дифференциация языковых явлений и который ведет к образованию ассоциаций непосредственно между значением слова и особенностями его графической формы.
♦ ♦ *
Материалы исследований, изложенных в этой главе, дают возможность дать ответы на поставленные выше вопросы о путях образования орфографических ассоциаций и о тех трудностях, которые возникают при этом у учащихся.
Прежде всего следует констатировать, что намеченные нами в теоретической части книги два пути образования навыка в этих материалах обрисовываются вполне четко. Это — путь образования межсловесных ассоциаций и путь применения правила. Оба эти процесса обнаружили как сходные черты, так и свои особенности. Сходство их заключается в том, что орфографические ассоциации в обоих случаях образуются на основе воз-
пикающих языковых обобщений, закрепленных в слове — в том или ином грамматическом термине. Выработка этого обобщения происходит благодаря пониманию языкового значения, или языковой функции, данного явления. Действительно, мы видели, что при образовании межсловесных ассоциаций важнейшую роль играет абстрагирование морфемы (в нашем случае — корня слога), которое становится возможным при условии понимания значения корня. Ни сходство внешней формы корня, ни сходство лексических значений слов сами по себе не могли привести к правильным результатам.
При применении правил о раздельном написании предлогов и отрицательной частицы обнаружилась необходимость опоры на понимание языковой функции предлога, которая обозначается в грамматике понятием управление и которая в начальных классах определялась учениками через посредство подстановки вопроса и вставки слова. В других случаях ученики достигали успеха, опираясь на понимание цельности и самостоятельности значения слова, сочетающегося с предлогом или с отрицательной частицей. Под влиянием обучения признак лексической самостоятельности слова постепенно уступал место опознаванию данного слова как определенной части речи (имя существительное, глагол), причем требовалось различение грамматических значений «предметности» и «действования». В употреблении на письме заглавной буквы основную роль играло понимание особенностей лексических значений слов (единичность понятия в противоположность родовым понятиям и т. п.).
Во всех этих случаях, независимо от того, вырабатывается ли правильное орфографическое действие путем возникновения межсловесных связей или через ассоциацию с правилами, эти процессы носили сложный аналитико-синтетический характер и были направлены на опознавание и выделение данного языкового явления. Для успешности этой деятельности требовалось понимание отношений, существующих в языке между формой и значением, что достигалось благодаря привлечению грамматических знаний. Различие же этих двух способов заключается лишь в том, откуда учащиеся получали необходимые им графические образцы письма. При правописании безударных гласных они брали его из слов,
ассоциируемых с исходным словом-раздражителем, во всех других случаях они получали его, вспоминая данное правило. В первом случае необходимой предпосылкой для успеха такого поиска правильного образца являлось наличие определенного запаса слов, которые были зрительно «знакомы» ученику, либо таких, произношение которых было в состоянии разрешить орфографические трудности (например, гласный звук находится под ударением). Во втором — знание «точного» правила, в тексте которого этот образец указан (например, не с глаголами пишется отдельно). По-видимому, второй способ получения образца не исключает использования первого. Однако в наших опытах мы не обнаружили случаев замены правила ссылкой на аналогию. Поэтому, как мы уже указывали выше, считаем, что этот вопрос нуждается в специальном изучении.
Поскольку в процессе сознательного усвоения орфографии требуется опознавать и выделять языковые явления, постольку орфографические задачи тесно переплетаются с задачами чисто грамматическими, и выработка орфографического навыка зависит в такой же степени от знания правил, как и от умения по ходу письма узнавать, определять и дифференцировать языковые объекты правил.
В приведенном выше анализе различных правил тесная связь применения правила с грамматическими знаниями учашихся обнаружилась очень ярко. Как мы видели, основные затруднения школьников находились именно в этой плоскости. В правописании корней, предлогов и частицы не, существительных женского рода на шипящую, в употреблении заглавной буквы — главное, что затрудняло учащихся, это различение объектов правил от явлений, кажущихся школьникам -по каким-либо несущественным признакам сходными с ними.
Мы видим, что на начальных стадиях обучения обобщения школьников, с одной стороны, отличались широкой генерализацией и неправомерно распространялись на языковые явления, грамматически отличные от объекта правила. Так. за корень слова принимались сходные буквенные сочетания в любом слове: отрицательная частица не принималась за предлог: употребление заглавной буквы распространялось на слова, обозначающие видовые и родовые понятия и т. п. С другой стороны, происходило 252
неправомерное сужение границ данного понятия: однокоренными словами считались школьниками лишь слова с близкими лексическими значениями, глаголами — лишь слова с явно выраженным значением физического действия и т. п. Одним словом, в усвоении грамматических понятий, служащих опорой орфографии, проявлялись те же самые закономерности, которые были обнаружены рядом советских психологов по отношению к усвоению понятий из других школьных дисциплин Ч
Выделение и опознавание объектов правил было, таким образом, результатом сложной аналитико-синтетической деятельности учащихся, в процессе которой постепенно образовывались точные дифференцировки, основанные на понимании функций и значений тех или других языковых явлений.
Затруднения школьников, которые были обнаружены в исследованиях, и были проявлением процессов, предшествующих подобной дифференциации, и наоборот, мы видели на примере успевающих школьников, что их письмо отличалось непосредственным, идущим почти одновременно с восприятием текста, опознанием языковых явлений, являющихся объектами правил. Так, ученица Т. (VI класс) сумела хорошо выразить эту особенность своего письма, заявив, что «сразу чувствует» характер языкового явления и не нуждается в правилах, о которых она может вспомнить лишь после записи. Такое письмо, которое принято называть «автоматическим», свидетельствует о выработке дифференцировок и образовании прочных ассоциаций между звуковой формой данного языкового явления и его значением (смысловым Или грамматическим). Опознавание и выделение объекта правил происходит при этом, минуя промежуточные этапы грамматического или смыслового анализа, требующие рассуждений и умозаключений; письмо таких учащихся находится на стадии девербализации.
Приведенные исследования, наряду с теми фактами, которые позволяют представить себе процессы, лежащие в основе осознанного использования грамматических понятий, дают также богатый материал, свидетельствую-
1 А. А. Смирнов, Вопросы психологии усвоения понятий школьниками, журн. «Советская педагогика», 1946, № 8—9; см. также «Известия АПН РСФСР», вып. 28, под ред. Н. А. Менчинской.
щий об участии в выработке орфографических навыков тех знаний о’ языке, которые сформировались у школьников в процессе практического владения речью. Насколько об этом позволяют судить полученные факты, роль этих знаний в семантической орфографии двоякая.
Во-первых, большую роль играет словарный запас учеников, определенный минимум которого необходим для образования межсловесных связей; правописание некоторых орфограмм выясняется прямым сопоставлением с речевыми фактами (смысловая самостоятельность слова, употребительность или неупотребительность слова без не); в случаях смысловой орфографии (употребление заглавной буквы и др.) орфография слова непосредственно обосновывается анализом логического содержания текста.
Во-вторых, как показывают факты, касающиеся подбора однокоренных слов и определения грамматического рода приемом подстановки «родовых слов», практические знания о языке дают возможность учащимся без изучения соответствующих отвлеченных грамматических понятий, на «дограмматической» ступени обучения, выполнять операции, требующие умения оценивать слово по абстрактным признакам данной грамматической категории. Другими словами, экспериментальным путем нами было обнаружено то явление, которое в трудах Ушинского, Пешковского и других педагогов получило наименование «чутья языка», «чувства языка», «подсознательной грамматики». Эти обозначения при анализе конкретного материала употреблялись и нами. Однако неизученность психологической природы этого явления заставляет нас специально остановиться на рассмотрении этого вопроса в следующей главе.
Гл а в a V 1
РОЛЬ РЕЧЕВОЙ ПРАКТИКИ РЕБЕНКА В УСВОЕНИИ ОРФОГРАФИИ
Исследование влияния практических речевых навыков на усвоение грамматических понятий и орфографических правил требует прежде всего выяснения вопроса о структурных особенностях этих навыков, в отличие от навыков и умений, создающихся под влиянием школьного обучения. Процессы, характерные для этих последних, очерчены выше, теперь перед нами встает задача рассмотреть некоторые особенности овладения ребенком речью. В этом отношении нельзя рассматривать сознание ребенка как своего рода tabula rasa — чистый лист бумаги, на который обучению предстоит «нанести» первые штрихи. Речевой опыт ребенка далеко не безразличен к восприятию новых знаний и как всякий прежний опыт оказывает влияние (положительное или отрицательное) на их усвоение.
Усвоение письменной речи, особенно ее орфографической стороны (что нас особенно интересует), существенно отличается от усвоения устной речи. Но тот факт, что грамматический строй письменной и устной речи одинаков, дает нам право предположить, что владение устной речью в той или другой форме не может не оказывать своего влияния на письменную речь. Действительно, факты подобного рода были обнаружены в изложенных выше исследованиях. Поэтому, естественно, что изучение психологических процессов усвоения орфографии приводит нас к вопросу о том, что же представляет собой речевой опыт ребенка, приобретенный до школьного обучения.
В предыдущих главах мы уже отмечали, какое большое значение придавали передовые русские педагоги, в первую очередь Ушинский, «словесному инстинкту» или особому «чувству языка», которое возникает в процессе речевого развития ребенка.
Как Ушинский, так и Буслаев на подобном практическом владении речью целиком основывали те пропедевтические занятия русским языком в младших классах, которые предшествовали изучению грамматики.
Но они понимали также, что школа не может ограничиться лишь развитием и укреплением того «дара слова», которым владеет ребенок, так как он владеет речью «при темном сознании», «инстинктивным подражанием». Задача школы — подобное «правильное действование» сочетать с «разумением законов, коим подлежит дёйство-вание». Буслаев писал по этому вопросу: «Метода первоначальному преподаванию отечественного языка должна быть генетическая, основывающаяся на постепенном развитии в дитяти врожденного дара слова: она следит за ходом самой природы, безусловно подчиняя ей предмет преподаваемый. По этой методе ученику не дается ничего нового, но только уясняется и приводится в сознание то, что он уже имеет»-1.
Ушинский задачу обучения видел в том, что оно должно: «во-первых, развить ту Врожденную душевную способность, которую называют даром слова; во-вторых, ввести детей в сознательное обладание сокровищами родного языка и, в-третьих, усвоить детям логику этого языка, т. е. грамматические его законы в их логической системе»1 2.
Мы видим, таким образом, что важность детских знаний о языке для обучения учитывалась передовой педагогической мыслью еще в прошлом столетни.
В психологии к этому же выводу пришел в свое Время и Л. С. Выготский. Он писал: «Ребенок дошкольного возраста владеет уже всеми грамматическими формами. Ребенок в школе за время обучения родному языку не приобретает существенно новых навыков грамматических и синтаксических форм и структур. С этой точки зрения
1 Ф. И. Б у с л а е в, О преподавании отечественного языка, Учпедгиз, 1941, стр. 66.
2 К- Д. У ш и н с к и й, Избр. пед. соч., Учпедгиз, 1945, стр. 338.
обучение грамматике является действительно бесполезным делом. Но ребенок научается в школе, и в частности благодаря письменной речи и благодаря грамматике, осознавать, что он делает, и следовательно, произвольно оперировать своими собственными умениями. Самое его уменье переводится из бессознательного, автоматического плана в план произвольный, намеренный и сознательный» Ч
Однако в этих высказываниях языковым знаниям ребенка дается лишь негативная характеристика. Как «грамматисты», так и психологи отмечают лишь их неосознанность и непроизвольность.
Между тем, для того чтобы понять, какое влияние оказывает подобное чувство языка на обучение, необходимо иметь определенное положительное представление о содержательной стороне и особенностях функционирования тех практических речевых знаний ребенка, о которых идет речь.
Если мы обратимся с этой целью к традиционной буржуазной психологии речи, мы не найдем в ней удовлетворительного ответа на эти вопросы.
По одним из этих теорий процесс развития речи ребенка сводился к чисто количественному накоплению запаса слов, что якобы зависит исключительно от частоты употребления того или другого слова в речи ребенка.
Интеллектуалистические теории (Штерн и Бюлер), наоборот, считали, что основные этапы в развитии речи представляют собой не что иное, как «открытие» ребенком основных языковых принципов. Так, Штерн полагал, что ребенок в возрасте от 1,5 до 2 лет неожиданно приходит к осознанию, что каждая вещь имеет название: это «открытие» перестраивает отношение ребенка к речи и делает его сознательным. Бюлер дополнял это «открытие» другим, которое, по его мнению, сводится к тому, что ребенок на более поздней стадии речевого развития догадывается о роли флексий в языке как выразителей смысловых отношений между словами в предложении, а поэтому овладевает синтаксисом речи.
Таким образом, сложный процесс овладения речью примитивно понимался либо как результат механиче
1 Л. С. Выготский, Мышление и речь, Соцэкгиз, М., 1934, стр. 213.
17 Д. Н. Богоявленский
257
ского запоминания, либо осознанность речевых форм предполагалась в самом начале развития в виде особой «сверхчувственной интуиции» и не нуждалась, таким образом, в своем дальнейшем раскрытии.
Естественно, что подобные теории не могли внести что-либо положительное в вопрос о происхождении и психологической характеристики «чувства языка» у ребенка.
Советская психология совсем иначе рассматривает развитие речи. Развитие речи — это сложный творческий процесс, протекающий в единстве с развитием мышления ребенка и с усложнением его речевой деятельности. Содержательная сторона этого процесса характеризуется различными взаимоотношениями между формами языка и их значениями.
Основными этапами развития речи следует считать: овладение словом как цельной единицей речи; овладение грамматическим строем языка и, на основе этого, развитие связной речи.
Однако не все эти этапы одинаково хорошо изучены. До самого последнего времени внимание исследователей больше всего привлекал первый этап — овладение словом. В многочисленных исследованиях было показано, что наиболее глубокие изменения в этом процессе связаны с постепенным изменением в семантической структуре слова. После этапа «слово-предложение», на котором речь ребенка имеет скорее выразительную, чем обозначающую функцию, слово у ребенка начинает быть тесно связанным с предметом или явлением, которое это слово обозначает. Слово в этот период является как бы именем предмета, будучи ассоциативно связанным лишь с определенным индивидуальным предметом.
В дальнейшем слово приобретает обобщенное значение. Оно перестает обозначать единичный предмет, а начинает относиться к целому ряду предметов, становясь обобщением их сходных существенных признаков. Дальнейший процесс заключается в развитии значения слова. Примитивное и скудное содержание первичных слов вместе с умственным ростом ребенка и расширением его жизненного опыта, его речевой практики постепенно обогащается, пока не приходит в соответствие с их общественно-исторически сложившимся содержанием.
Такое полное овладение значением слов является часто длительным процессом. Дети разного уровня развития по-разному обобщают явления жизни. Слова ребенка могут не соответствовать словам взрослого по своему объему — быть шире или уже по значению; в их основе могут лежать несущественные признаки; обычно они беднее по своему содержанию, чем слова взрослых. Иногда усвоение значения слов требует специального обучения (например, усвоение научных терминов) и из вопроса развития речи становится особой проблемой педагогической психологии.
Из всего этого видно, что основным содержанием процесса развития речи, наряду с овладением формой слова, является постепенное изменение тех обобщений ребенка, которые отражают объективное значение слова. Но развитие речи ребенка нельзя ограничить овладением лишь целых смысловых единиц языка, каковыми являются слова и предложения. В речи ребенка есть целый период аморфного строя речи, во время которого он начинает употреблять предложения, состоящие из отдельных, изолированных слов, грамматически не связанных между собою. В этом случае синтаксические отношения слов, не будучи выражены в речи ребенка, могут быть поняты лишь в связи с той конкретной ситуацией, в которой возникает это предложение. Для того чтобы речевым способом выразить отношения, существующие между вещами и явлениями реальной действительности, т. е. для того чтобы перейти от аморфного строя к флективному, характерному для русского языка, ребенку необходимо овладеть теми формами, которые выработаны для их передачи общественно-исторической языковой практикой.
В русском языке, как языке флективном, подобные отношения выражаются флексиями слов, предлогами и союзами. Лишь овладев этими формами языка, ребенок получает возможность перейти от аморфного строя речи к связной, развернутой, фразовой ее форме. Поэтому никакая психологическая теория речи не может быть признана удовлетворительной, если она не отвечает на вопрос о том, каким образом ребенок овладевает этими речевыми средствами.
С другой стороны, овладение значениями целых слов как изолированных смысловых единиц языка не является 18* 259
единственным путем овладения его лексическим составом. Если бы ребенок должен был овладевать последовательно значением каждого отдельного слова, то был бы необъясним тот скачок в развитии словаря двухлетнего ребенка, который, как показывают все наблюдения, происходит у него. Если отбросить, как ненаучную, «теорию открытий», то этот скачок можно объяснить, лишь допустив, что ребенок усваивает не только значение целых слов, но и значение отдельных элементов слова (приставок, корней и суффиксов), т. е. тех элементов, на которых в русском языке основано словопроизводство. Овладевая значениями и функциями структурных элементов языка, ребенок получает возможность сначала понимать, а потом и употреблять в речи новые слова, в которых повторяются эти элементы, и, таким образом, избавляется от необходимости заучивать каждое слово в отдельности.
Другими словами, основной пружиной развития речи необходимо признать овладение ребенком формами словопроизводства и словоизменения.
Обратимся сначала к вопросу об овладении ребенком формами словопроизводства. Чрезвычайно трудно было бы вскрыть, каким путем ребенок идет в обогащении словаря, если бы его употребление слов было всегда правильным. Однако дети обычно допускают при этом весьма характерные ошибки, и именно их анализ дает возможность представить себе, что при овладении лексикой языка ребенок использует все те возможности, которые предоставляет ему знакомство с морфологической структурой слова.
Мы говорим о неологизмах ребенка, о его «словотворчестве». Неоднократно было отмечено, что около двух лет в речи ребенка начинают появляться такие словообразования, какие он не мог заимствовать из речи взрослых путем простого копирования.
Он говорит колоток (от слова колотить) вместо молоток, копатка вместо лопатка, вытонула вместо выплыла, почтанник (от слова почта) вместо почтальон (примеры К. Чуковского), молоточить вместо молотить, производит машинский от машина, отзаборил (отделил), накрапивила (от крапива), рубщик вместо дровокол, ломучий (от ломать) и т. д. (примеры А. Н. Гвоздева).
Эти детские новообразования слов замечательны тем,
что они совершаются ребенком в полном согласии с грамматическим строем языка, с законами словопроизводства. Детское словотворчество свидетельствует о том, что, овладевая речью, ребенок расширяет свой словарный запас не только путем усвоения «целых слов», но использует для этого морфологические элементы языка. Чтобы проверить подобный факт, мы провели небольшое исследование, поставив целью выяснить, в какой мере ребенок понимает и употребляет в словообразовании некоторые суффиксы. Первая серия опытов была посвящена проверке понимания суффиксов -енок-, -ище-, -ниц-н -щик-.
Для того чтобы обнаружить, понимает ли ребенок значение этих суффиксов, мы употребляли в опытах слова с суффиксами, образованными от незнакомых ребенку основ: лар, объясняемое ребенку, как зверь; лафит — сладкий квас и кашемир — красивая материя. Опыты производились в индивидуальном порядке с детьми в возрасте 5—6 лет. Мы объясняли значение экспериментального слова, сопровождая его’описанием ряда наглядных признаков ««зверя», «кваса» и материи. А затем спрашивали ребенка: «А как ты думаешь, кто такой ларенок, ларище, лафитница, кашемирщик?» Если ребенок затруднялся с ответом, задавали вспомогательные вопросы: «Какая разница между ларом, ларенком и ларищем? Какая разница между кашемиром и кашемирщиком и т. д.?»
В случаях непонимания ребенком задания мы вводили эти слова в «сказку» и рассказывали ее ребенку. Вот пример одной из них:
«Жил был в лесу лар. (Ты знаешь, кто такой лар? Это зверь с большой шерстью, зубастый, с очень коротким хвостом.) Он ходил по лесу один и ему было очень скучно. Однажды к нему прибежал ларенок, они стали жить вдвоем, и лару стало веселее. Они выстроили избушку и стали там жить. Раз они спали и проснулись: кто-то ломился в их дверь. Ларенок выглянул в . окно и увидел чужого лар ища».
Далее рассказывалось о том, как лар и ларенок обманули ларище и спаслись. При составлении этой «сказки» избегались всякие указания на рост и величину ларов.
В опытах со словом лар участвовало восемь детей пяти-шестидетнего возраста. Все они правильно ответили
на контрольные вопросы. Некоторые сразу, а некоторые после прослушивания сказки. Вот примеры их ответов:
НадяМ.
Экспериментатор: Кто такой лар?
Надя: Зверь.
Экспериментатор: А ларище?
Надя: Тоже зверь.
Экспериментатор: Какая же между ними разница?
Надя: Лар большой.
Экспериментатор: А ларенок?
Надя: Маленький.
Юля Д.
Экспериментатор: Кто такой лар?
Юля: Маленький ребенок.
Экспериментатор: А ларище?
Юля: Это мама, она ломала дверь, чтобы их скушать и насытиться.
Экспериментатор: Ну, а кто больше: лар или ларище?
Юля: Ларище.
Нина М. (без сказки)
Экспериментатор: Кто такой ларенок?
Нина: Это зайка такой.
Экспериментатор: А ларище?
Нина: Не знаю. (Она же после сказки правильно указывает разницу в величине зверей).
Опыты показали, что суффиксы -енок- и -ище- хорошо понимаются детьми, несмотря на то, что им приходилось иметь дело с новыми, незнакомыми словами.
Однако суффиксы -щик- и -ниц- оказались не столь знакомыми. После сказки, в которой говорилось о том, что такое кашемир и как он выделывается из тонких ниточек, но не упоминалось слово кашемирщик, из пяти детей только двое правильно по суффиксу определили слово кашемирщик.
Экспериментатор: Кто такой кашемирщик?
Нина: Это дядя.
Экспериментатор: Что он делает?
Нина: Вертит ручкой, получается кашемир.
В других случаях дети отвечали, что кашемирщик,— это «такая машина» или просто отказывались отвечать, говоря, что они «позабыли». Более легким для детей оказался суффикс -ниц-, однако и с ним они справлялись труднее, чем с суффиксами -енок- и -ище-.
Данные этих опытов подтверждают результаты предшествующих наблюдений, показывая, что понимание значения отдельных морфологических элементов речи открывает ребенку смысл новых, незнакомых ему слов.
Незнакомые слова, образованные при посредстве знакомых суффиксов, легко дифференцируются детьми по их смысловым признакам, вносимым суффиксами.
Но возникает вопрос, какую роль при этом играет внешняя форма изменяемых слов. Этот вопрос имеет особое теоретическое значение для различения практических речевых знаний от знаний грамматических. Школьник, изучивший морфологический состав слов, может не только увидеть смысловые различия слов с разными суффиксами, но сумеет без труда выделить суффикс из состава слова, так как значение суффикса прочно ассоциировалось с конкретной формой его выражения.
В какой мере различение смысловых оттенков слов, вносимых суффиксами, связано у дошкольника с различением материальных элементов слова, служащих носителями этих различий? Этот вопрос связывается, таким образом, с проблемой абстракции при овладении речью. Не касаясь существа этой проблемы, нам хотелось выяснить эти вопросы по отношению к данному конкретному случаю. С этой целью мы пробовали обратить внимание детей, правильно различавших смысловые оттенки1 слов с уменьшительными и увеличительными суффиксами, на формальные различия слов: лар, ларенок, ларище, При этом мы разъясняли задачу детям примерно так: «Ты правильно сказал, чем отличаются звери: один маленький, другой большой, а ты обрати внимание теперь на самые слова, которые я говорю: лар — ларенок\ в чем у них разница?»
Несмотря на неоднократную устную экспозицию этих слов, ни один из детей, легко справлявшийся с установлением смысловых различий этих слов, не мог дать в данном случае никакого ответа. Дети смущенно улыбались или просто молчали, не делая попыток звукового анализа слов.
Вслед за первой серией опытов с теми же детьми были поставлены другие опыты. Вторая серия опытов отличалась от первой тем, что в них проверялось активное словообразование ребенка. В них мы давали ребенку непроизводное слово и предлагали произвести от пего слово с определенным смысловым оттенком. В данном случае требовалось произвести уменьшительные слова. Для того чтобы словопроизводство ребенка было самостоятельным, в качестве исходных слов мы давали такие, уменьшительная форма которых или вообще малоупотребительна в языке, или необычна для речи ребенка.
Таким образом, в отличие от предшествующей серии, в этих опытах данным было значение суффикса, искомым — его языковая форма. Мы знакомили ребенка с исходным словом, спрашивали его, что оно значит, видел ли он когда-нибудь этот предмет и дополнительно рассказывали ему о нем, показывали картинки п т. п., а затем задавали следующие вопросы: «Скажи, как будет называться детеныш страуса, жирафа?» и т. д.
Результаты опытов показаны на табл. 30.
Таблица 30
Исходное Количество испытуемых Словопроизводство детей
слово
Жираф 9 Жиравенок, жиленок, жиравики (мн. ч.) журавчики, жуожЬки, жирафленок (2) журавель, жирафчик
Овес 5 1 Овсенок (2), овесленок, овесчик и один отказ от словообразования
Желудь | 5 Жуленок, желудепок (2), желудчик (2)
Дуб | 5 ! Дубепок (3), дубик, дубчик
Лев • । 7 1 Львенок (2), левенок, левчонки (мп. ч.), ребенок, лефенок, левчик
Страус | 1 5 ! Страуски (2), стравипки (мн. ч.), страусенок (2)
Пузырек | 9 ! Пузыренок (3), маленький пузырек (2), бутылочка (2), пузыречек
Продолжение
Исходное . слово Количество испытуемых Словопроизводство детей
Нос | 5 Носенок (2), нос, носик (2)
Волк 1 4 1 Волчатки (мн. ч.) (2), волчонки (мн. ч.) (2)
Гвоздь I 3 1 Гвоздичек, гвозденок, гвоздички
Примечал и с. Цифры в скобках показывают количество испытуемых, даплих одинаковые ответы.
Как видно из этой таблицы, от детей было получено в общей сложности пятьдесят семь ответов. Только один из них («журавель») не отвечает смысловому заданию — дать уменьшительное слово. В одном случае мы встретились с отказом от словообразования. Во всех других ответах смысловое задание было выполнено, дети ни разу не употребили при словообразовании никаких других суффиксов, кроме уменьшительных. Вот эти суффиксы: -енок-, -ик,- -чик-, -к-, -ечек-, -очк-, -ичек-, -ичк-.
Очевидно, что дети не случайно из всего богатства суффиксов русского языка выбирали именно те, которые передают значение уменьшительности; наоборот, такой выбор показывает, что дети полностью владеют обобщенными значениями данных суффиксов.
То обстоятельство, что словообразования детей не совпадали часто с литературными нормами языка, не противоречит этому основному факту. «Свободное» пользование суффиксами показывает лишь, что дети еще не дифференцируют некоторые дополнительные условия употребления уменьшительных суффиксов. Так, например, дети употребляют суффикс -енок- одинаковым образом как к одушевленным, так и к неодушевленным предметам (жирафленок, левенок и пузыренок, дубенок и т. д.), в то время как по грамматическим правилам суффикс -енок- употребляется только в словах, обозначающих одушевленные предметы, и т. д.
Это же касается многих других случаев употребления суффиксов, которые показывают, что дети в данном слу
чае нарушали некоторые нормы языка. Однако следует заметить, что разграничение употребления некоторых суффиксов условно или вызывается чисто фонетическими причинами.
Так, например, от основы слова на г, к, х производятся лишь формы с суффиксом -ок- {круг — кружок, бок — бочок); от основ на шипящие, наоборот, употребляется только суффикс -ик-, например, ключик, дождик и т. п. Для образования же уменьшительных слов от других основ возможны оба эти суффикса {дуб — дубок — дубик).
Во всяком случае к семилетнему возрасту ребенок овладевает большим разнообразием суффиксов русского языка. А. Н. Гвоздев, наблюдая развитие этой стороны речи своего сына, перечисляет свыше шестидесяти разнообразных суффиксов только одних лишь имен существительных, использованных в неологизмах ребенка L Среди этих суффиксов встречаются разные категории значений: суффиксы уменьшительные и ласкательные, суффиксы, обозначающие детенышей, увеличительные суффиксы, суффиксы действующих лиц, женских особей, предметов, состояния и действия и некоторые другие. Однако, несмотря на их разнообразие, обращает на себя внимание отсутствие суффиксов, служащих для образования отвлеченных имен существительных типа: -ость-, -есть- {смелость, свежесть); -ота-, -ета- {доброта, нищета); -изна-{белизна). Последнее обстоятельство подкрепляет наши данные о суффиксах -ниц- и -щик-.
По-видимому, последовательность усвоения суффиксов русского языка в большой мере зависит от их значения. Усвоение суффиксов отвлеченных имен существительных требует определенного уровня умственного развития ребенка. Только при этом условии слова с такими суффиксами могут войти в речевую практику ребенка, а в дальнейшем абстрагироваться как значащие элементы языка.
Все эти факты, относящиеся к процессу словообразования, показывают, что ребенок при овладении словарем опирается не только на усвоение целых слов, взятых
1 А. Н. Гвоздев, Значение изучения детского языка для языковедения, журн. «Родной язык и литература в трудовой школе», 1928, № 3.
им из речи взрослых, но использует при этом значения отдельных грамматических элементов слова. Это дает ему возможность понимать новые слова и самому создавать их из известных ему корней, приставок и суффиксов, т. е. творчески использовать словообразовательные особенности грамматического строя русского языка. Поэтому представление об обогащении словаря ребенка только путем запоминания целых слов следует признать по крайней мере недостаточным. Приведенные нами данные позволяют понять этот процесс как процесс творческий, направленный на овладение словообразовательными элементами языка, на конструирование речи.
Однако для того чтобы правильно понять процесс развития речи, важно не только изучение продуктов этого развития, но и такой анализ этого процесса, который мог бы ответить не только на вопрос, что приобрел ребенок, но и на вопрос, к а к он это сделал. Этот момент до сих пор в нашем изложении оставался недостаточно освещенным, так как он требует генетических методов исследования.
Такого рода материал мы находим в работе А. Н. Гвоздева Ч
Важность этого исследования для психологии речи заключается прежде всего в его методе. Это генетическое исследование речи ребенка, в котором автор-лингвист систематически фиксировал все формы языка, последовательно появлявшиеся в речи ребенка, и прослеживал их дальнейшие изменения.
Данные А. Н. Гвоздева показывают, что процесс выделения из целых слов морфологических элементов языка начинается в возрасте 1 года 10 месяцев. О самостоятельности их употребления свидетельствуют «ошибки» речи ребенка, подобные тем, которые имеют место в неологизмах. «Ошибаясь», ребенок создает такие формы, которые он не мог услышать от взрослых. Когда, например, он говорит ищитъ вместо искать, то он образует глагольную форму, употребляя отдельные морфемы: -ищ — основа настоящего времени и суффиксы —и-и -ть-> выделенные им из других слов. А. Н. Гвоздев
. 1 А. Н. Гвоздев, Формирование у ребенка грамматического строя русского языка, изд-во АПН РСФСР, 1949.
отмечает, что морфологические элементы начинают выделяться одновременно в ряде грамматических категорий (глаголов, существительных и т. п.). Он приводит далее материалы, свидетельствующие о том, что уже к трем годам ребенок использует в речи весь основной инвентарь приставок, суффиксов и флексий, который имеется в русском языке. Но овладение склонениями и спряжениями как определенной системой окончаний с правильным чередованием и ударениями продолжается до 7 лет (а в деталях и позже).
Такое изучение последовательного появления в речи ребенка отдельных морфем полностью подтверждает то предположение, которое мы высказали, обсуждая опыты с суффиксами. А. Н. Гвоздев также приходит к заключению, что последовательность, в которой происходит овладение отдельными морфемами, зависит от характера их значений. Так, например, наиболее легкими для ребенка оказываются значения: множественного числа существительных; уменьшительные и неуменьшительные существительные; повелительное наклонение и прошедшее время глагола. Эти и некоторые другие значения усваиваются ребенком еще до двух лет. Они отличаются наибольшей конкретностью и наглядностью или особо важной ролью, которую играют в общении ребенка (например, повелительное наклонение, выражающее разные желания).
Более трудные отвлеченные значения усваиваются ребенком в последнюю очередь. Так, например, такая, казалось бы, «простая» с формальной стороны грамматическая категория, как условное наклонение (частица бы, присоединяемая к форме прошедшего времени), начинает появляться в речи ребенка лишь около трех лет, несмотря на то, что форма прошедшего времени давно уже фигурировала в его речи. Автор при этом замечает, что препятствием к использованию условного наклонения служит, по-видимому, лишь то, что оно выражает нечто только предполагаемое, а не реально существующее.
Исключительно сложным оказывается также усвоение категории рола, ввиду отсутствия у него отчетливого значения, несмотря на то, что род встречается ребенку на каждом шагу. Эти примеры показывают, что на овладение грамматическими категориями оказывает влияние 268
характер их значений (абстрактность) и их практическая роль в жизни ребенка.
На трудность усвоения оказывает свое влияние и многоформенность выражения одного и того же значения, например, различные формы одного и того же падежа у существительных разных типов. Так из всех форм винительного падежа ребенком усваивается прежде всего винительный падеж с флексией у (сестру), ввиду того, что эта флексия однозначна и не дублируется в других падежах. Некоторое время эта флексия становится для ребенка универсальным средством выражения значения винительного падежа любого слова (дай листочку; гони барашку; рубить полену),
В то же время одно и то же значение творительного падежа, выражающееся, однако, разными флексиями (-ой и -ом), или трудно дифференцирующиеся значения некоторых суффиксов усваиваются нелегко и постоянно смешиваются друг с другом. Ребенок говорит мамочком (мамочкой), ложком (ложкой), за супой (за супом), под комодой (под комодом), или ножник и ножинщик, вруновка и вруниха и т. д.
Эти данные показывают, что для усвоения морфем важнейшим фактором является их регулярность. О значении регулярности упоминал еще Штерн ’, а позднее Гильом1 2, но они не могли удовлетворительно объяснить ни этого, ни других аналогичных факторов, показывающих, что частота употребления в языке той или другой морфемы не является еще гарантией ее усвоения. Между тем роль регулярности становится очевидной, если принять во внимание, что она означает не что иное, как более закономерно выраженную связь определенного значения с определенной формой, благодаря чему обобщение значения этой формы, ее осмысливание находится в особо благоприятных условиях.
При анализе опытов с суффиксами мы уже отмечали, что дети, правильно понимая значение уменьшительности суффиксов, однако используют их (различные формы с известной свободой. А. Н. Гвоздев также констатирует подобное положение. В речи ребенка наблюдается пе
1 В. Штерн, Психология раннего детства, СПб., 1915, стр. 95.
2 P. G u i bl a u m е, Le developpement des elements formels dans le langage de 1’enfant. —- Journ. d. Psych, normale et pathologique, 24, 1927.
риод, когда морфологические элементы, различные по форме, но с одним и тем же значением, часто смешиваются, употребляются один вместо другого. Так, например, дифференциация значений множественного и единственною чисел происходит очень рано (1.11), но различия в форме выражения числа у существительных, принадлежащих к разным склонениям, не вполне усваиваются и в шесть лет. Основные значения падежей усваиваются уже к двум годам, тогда как дифференциация падежных окончаний существительных в пределах одного и того же падежа происходит в возрасте 5—7 лет. Таким образом, в детской речи постоянно возникает такое положение, когда та или иная категория языка по значению употребляется правильно, но по форме хаотично.
Отсюда А. Н. Гвоздев делает вывод, что «усвоение известного грамматического значения последовательно опережает усвоение его внешнего выражения» и что «семантика является тем первичным ядром, которое в дальнейшем направляет усвоение всех грамматических средств выражения отдельных категорий».
Таким образом, исследование речи в генетическом плане показывает, что, действительно, основной движущей пружиной развития речи является семантика языка, а самый процесс представляется в виде постоянных активных «поисков» ребенком языковых средств для выражаемых им значений при постепенном приближении к той системе грамматических форм, которая характерна для данного языка.
Можно, таким образом, утверждать, что все главные события, развертывающиеся в процессе развития речи, связаны с усвоением ребенком грамматических элементов языка. Поэтому, изучение словаря и синтаксиса речи ребенка, не учитывающее этого фундаментального факта, не может дать полной картины психологии овладения речью.
Следует представить, что лишь на начальной стадии развития речи запоминание готовых словесных шаблонов исчерпывает содержание этого процесса. Как только у ребенка образуется известный запас целых слов или словосочетаний, главенствующую роль начинают играть выделенные ребенком грамматические элементы языка. Они усваиваются постепенно, и отдельные формы запо
минаются не механически, а в связи с их речевой функцией и значением.
Все приведенные выше материалы, подчиняясь основной цели нашей работы, следует рассмотреть в двух аспектах: надо, во-первых, выяснить характер того процесса, в результате которого ребенок овладевает грамматическим строем речи, а во-вторых, отличительные свойства и качества практических знаний и знаний, усваиваемых через обучение.
Совершенно очевидно, что физиологической основой овладения речью является образование динамического стереотипа, выработка нервных системных связей. И. П. Павлов имел случай прямо высказаться по аналогичному поводу, когда обсуждал возражения против рефлекторной реакции физиолога Лёшли, который не понимал, каким образом с позиций павловской теории можно объяснить усвоение однообразия грамматических форм речи при бесконечном разнообразии словесного материала. Павлов по этому поводу писал: «Указание на однообразие грамматических форм совершенно совпадает с нашим ранее приведенным фактом выработки системности в нервных процессах работающих полушарий» L
Как известно, выработке системности предшествует аналитико-синтетическая деятельность коры. Материалы А. Н. Гвоздева служат хорошей иллюстрацией подобному пониманию процесса овладения ребенком грамматическим строем языка 1 2. Действительно, трудно не заметить бросающейся в глаза аналогии между первым этапом универсальности употребления той или другой грамматической формы, отмеченной А. Н. Гвоздевым, и этапом первоначальной (или диффузной) генерализации, характеризуемой Павловым как «широчайший синтез», при котором сначала действуют только самые общие черты раздражителей, вызывая разлитой процесс иррадиации. Подобная аналогия замечается и на следующих этапах развития речи, которые представлены в работе
1 И. П. Павлов, Поли. собр. соч., т. Ill, кн. 2, стр. 182.
2 На это правильно указано в статье Ф. А. С охи н а «Некоторые вопросы овладения ребенком грамматическим строем языка в свете физиологического учения И. П. Павлова», журн. «Советская педагогика», 1951, № 7.
Л. Н. Гвоздева как постепенная дифференциация отдельных грамматических форм и, наконец, употребление их в полном соответствии с их языковыми значениями и функциями.
Здесь, несомненно, проявляются те процессы высшей нервной деятельности, которые характеризуются все более и более «дробным» анализом действительности и вызываются действием дифференцировочного торможения. Этот анализ приводит, по словам Павлова, к такому положению, когда «начинают действовать более специальные компоненты раздражителей» L
Подобный процесс специализации раздражителей протекает тем быстрее и успешнее, чем более «отдалены» друг от друга дифференцируемые раздражители. Этим, очевидно, объясняются факты, приводимые А. Н. Гвоздевым, которые свидетельствуют о том, что сначала ребенком усваиваются наиболее общие категории языка, а затем происходит дифференциация частных категорий, находящихся вну1ри более широких.
Однако для психолога важно знать не только общую формулу процесса, но и его содержательную сторону. С этой точки зрения важно отметить, что признаками, по которым происходят как обобщение грамматических форм, так и их дифференциация, являются значения языка. Нельзя не отметить полного совпадения этого положения, относящегося к овладению устной речью, ? теми фактами, которые мы приводили выше в отношении дифференциации форм письменной речи. Это вполне естественно, так как овладение грамматическим строем языка является необходимым условием формирования навыков как в области устной, так и письменной речи.
Но, несмотря на подобное общее сходство структуры практических и- «сознательных» речевых навыков, между ними имеются существенные различия. Обычно это различие в психологии определяется как различие между «неосознанностью» и «осознанностью» языковых средств, непроизвольностью и потенциальной произвольностью употребления их в речи. Подобная характеристика, конечно, верна, но она слишком обща и мало содержательна, так как не раскрывает внутренней специфики этих
1 И. П. Павлов, Поли. собр. соч., т. 111, кн. 2, стр. 180—181.
Навыков, а лишь констатирует их функциональные особенности.
Правда, некоторые психологи (Выготский, Лурия и некоторые другие) видели специфику практических речевых навыков в том, что ребенок, правильно употребляя в речи слово, не в состоянии сделать предметом своего сознания его звуковую форму. По их мнению, за каждым словом ребенок видит предмет или явление, которое обозначается словом. За отношениями слов — отношения вещей, а самих слов он не замечает, так же как не замечается обычно прозрачное стекло. Но в такой форме подобная теория («слово — стекло») вызывает возражения, во-первых, потому, что она, разрывая слитность восприятия материальной оболочки и семантики слов, допускает возможность мышления помимо языковых средств, а во-вторых, потому, что она не приложима к объяснению основного факта развития речи — правильного различения и употребления морфологических элементов языка, поскольку их значения всегда абстрактны и «увидеть» их невозможно. Если по отношению к различению лексических значений слов эта теория с некоторыми поправками соответствует наблюдаемым фактам наивного «семантизма» ребенка, то вопрос о грамматической абстракции представляется нам более сложным явлением, чем это изображается по данной теории.
Именно потому, что грамматические понятия, категории представляют собой отвлечение от того частного и конкретного, что заключается в словах и предложениях, психологической основой их различения, понимания, употребления является процесс абстрагирования. Поэтому различие между практическими и «сознательными» знаниями о языке следует прежде всего искать в различиях абстрагирующей деятельности дошкольника и школьника. Эта тема по отношению к языковому материалу совсем не разработана и требует специальных исследований. Наш материал может послужить лишь для первоначальной ориентировки в этой сложной проблеме.
Описанные выше опыты с уменьшительными и увеличительными суффиксами обнаружили, как уже было отмечено, следующий факт. Дети легко улавливали смысловые различия слов с разными суффиксами, но не были при этом в состоянии отметить сопутствующие
смысловым изменениям изменения в звуковом составе этих слов.
Выходило так, что смысловые изменения ребенок замечает, а формальные — нет.
На первый взгляд этот факт как будто хорошо объясняется теорией «слово — стекло». На самом же деле объяснения здесь нет, поскольку причины, вызывающие различные реакции детей на смысл и на форму слова, остаются неизвестными. Полагать же, что «неза-мечание» звуковых форм относится к области восприятия, конечно, абсурдно'. Мы думаем, что подобные реакции детей объясняются особенностью их абстрагирующей деятельности, особой формой абстракции и обобщения. В одном случае ребенок судил о значении суффиксов -ёнок-, -ище- в контексте целого слова, что не требовало от него выхода за пределы понимания лексики слова и отвлечения от его конкретного смысла. Другой характер носило задание экспериментатора указать звуковые различия слов. Выполнение этого задания означало выделение из слова определенной части, что невозможно без предварительного анализа сопоставляемых слов, т. е. того процесса, который лежит в основе абстрагирования. Следовательно, различия этих двух процессов заключаются в форме или типе абстракции.
В первом случае особенность абстракции состоит в том, что абстрагируемый признак (суффикс) не извлекается из слова, но замечается в его составе, что при известных условиях приводит к возможности обобщения слов, обладающих этим признаком. Это та форма абстракции, которая в свое время была обозначена Г. Я. Трошиным как abstractio in concrete Такая форма абстракции по отношению к языковому материалу оказывается по всем данным доступной без специального обучения.
Во втором случае требуется осуществление полной абстракции — abs.tractio vera 1 2, для которой характерно полное отвлечение признака от реального предмета и представление его как отдельного объекта мысли. Это — та форма абстракции, которая не может быть осуществле
1 Абстракция в конкретном, неполная абстракция.
2 Подлинная, истинная абстракция.
на без словесного обозначения выделяемого признака и потому становится возможной лишь при1 сознательном усвоении гра1М1матикн языка с ее системой понятий и определений.
Правомерность выделения особого рода низшей формы абстракции, обнаруженной психологами, подтверждается опытами, проведенными физиологами над животными при выработке условных рефлексов на комплексные раздражители. И. П. Павлов и его ученики отмечали различное действие одного и того же компонента комплекса в зависимости от того, находится ли он в составе комплекса или действует изолированно. Так, например, А. Г. Воронин, обобщивший подобные исследования, сообщает: «Роль отдельного компонента велика в том случае, если он находится в составе цепи раздражителей, если же он действует изолированно, то воспринимается животным, как другой раздражитель» *. При этом наблюдались случаи, когда данный раздражитель имел в составе комплекса определенное сигнальное значение (изъятие его из комплекса тормозило выработанную условную связь), в изолированном же виде он утрачивал это значение.
Если рассматривать, как это делают физиологи, слово в качестве комплексного раздражителя, то подобные факты представляют известную аналогию с явлением «abstractiio in concrete».
В нашем случае наличие в составе слова данных суффиксов вызывало определенное понимание слова (в увеличительном, уменьшительном и т. п. значениях), но это не означало, что эти же суффиксы в изолированном виде имели для ребенка какое-нибудь значение, так как выделить их из слова он не был в состоянии. Конечно, при всем сходстве этих операций мы имеем и существенные различия в той мере, в какой первосигнальные процессы различаются от второсигнальных.
Первым необходимым условием осуществления полной абстракции является выработка приемов звукового анализа, при котором слитный поток речи может расчленяться на отдельные элементы, начиная от слова
1 А. Г. Ворони и, Анализ и синтез сложных раздражителей у высших животных, 1952, стр. 110.
и кончая фонемамр. Для этого необходимо иметь такие понятия, как слово, слог, звук. Как показывает опыт школы, при начальном обучении чтению школьник звуковым анализом овладевает не без труда в целой системе подготовительных упражнений. Без этих предварительных знаний и умений ребенок не в состоянии осуществить реального анализа внешней формы слова, который требовался от него заданием экспериментатора. Поэтому вряд ли можно в данном случае полагать, что внешняя форма слова «не замечается» ребенком; вернее думать, что дошкольник не -может подвергнуть ее анализу из-за отсутствия у него необходимых словесных обобщений и выработанных предварительных умений.
Таким образом, получается так, что ребенок, владея первичными формами абстракции, обнаруживает наличие в слове отдельных грамматических элементов, однако вычленить их из слова (абстрагировать) он не в состоянии. Понимание значений, вносимых в слово его отдельными морфологическими частями, для него возможно, поскольку не требует полной абстракции и осуществляется без нарушения лексико-грамматического единства слова.
То же самое положение наблюдается при овладении звуковой стороной речи. Как следует из многочисленных дневниковых записей родителей, дети в дошкольном возрасте любят исправлять звуковые недочеты речи своих сверстников.
При этом, однако, как правильно указывает А. Н. Гвоздев !, они не дают обобщенного вывода о выделении определенного звука, подлежащего исправлению, а каждый раз исправляют все слово целиком. Например, ребенок указывает, что другой произносит скула вместо шкура, а не скажет, что он произносит с вместо ш или л вместо р. И в этих случаях легко увидеть признаки первичной формы абстракции, о которой шла речь выше.
Для осуществления полной абстракции грамматических элементов недостаточно, однако, выполнения операций, связанных с анализом звуковой стороны речи. К чему приводит подобный односторонний анализ, мы
1 А. Н. Гвоздев, Усвоение ребенком звуковой стороны русского языка, изд-во АПН РСФСР, 1948, стр. 59.
видели на тех ошибках в оценке грамматических категорий, которые совершали ученики-«формалисты». Сенсорный анализ звуков речи должен идти параллельно с «умственным», направленным на семантическую характеристику форм языка, и поэтому грамматической абстракцией может считаться лишь та, которая основана на понимании отношений, существующих в языке между формой и значением. Предварительным условием такой абстракции должна быть, следовательно, выр-аботка ассоциаций между данным звуковым комплексом и его языковым значением. Подобные ассоциации могут образовываться лишь при словесной регуляции. Дошкольник не может осознать эти отношения именно потому, что они не могут быть выражены ни- во внешней, ни во внутренней речи. У него просто нет для этого необходимых словесных средств. Эти средства и дает ему изучение грамматики.
Владение грамматическими понятиями, определениями и правилами означает возможность образования ассоциаций, лежащих в основе абстракции, через посредство воздействия слова, через регуляцию со второй сигнальной системы. Изучение грамматики приводит к осознанию зависимостей, существующих между формами и значениями языка, позволяет словесно обозначать грамматические категории, словесно описывать их, и, благодаря этому, произвольно оперировать ими.
Это помогает дифференцировать отдельные структурные элементы языка, выделять из потока живой речи отдельные звукосочетания соответственно их значениям, осознавать морфологический строй языка. Можно сказать, таким образом, что наиболее общим признаком практических знаний о языке является особая форма абстракции грамматических элементов языка, которая осуществляется без полного выделения их из состава слова, в противоположность «сознательным» знаниям, которые характеризуются полной абстракцией, осуществляемой в процессе анализа языкового материала при помощи слова.
Обратимся теперь снова к тем проявлениям чувства языка, с которыми мы сталкивались при анализе процесса усвоения школьниками отдельных орфографических правил. Вспомним, во-первых, факты, обнаруженные при усвоении правописания безударных корней. Мы
отмечали выше, что школьники правильно подбирали родственные, однокоренные слова, не владея понятием корня и, следовательно, не имея возможности делать это осознанно. В первом классе почти абсолютно правильное решение этой задачи относилось к первому подобранному слову, в подборе же следующих по порядку слов замечалось постепенно возрастающее количество ошибок.
Во вторых и третьих классах все ассоциации с знакомыми словами (воз, вал и т. п.) были грамматически правильны, несмотря на истощение лексики учеников. Факты подобного рода можно умножить, использовав данные одного массового опыта, опубликованные нами ранее1. В этих опытах мы собрали около 23 000 слов, подобранных 1664 учащимися III и IV классов для проверки правописания безударных корней. При этом обнаружилось, что подавляющее большинство этих слов было подобрано правильно, без нарушения единства семантики корней. Ошибки такого рода составили лишь 5,7% от общего количества неправильных проверочных слов. (Основным типом ошибок было несоблюдение принципа подбора ударных форм корня.)
Таковы факты, характеризующие выполнение заданий по подбору «родственных» (однокоренных) слов.
Выполнение этих заданий свидетельствует о почти безошибочном умении учащихся сопоставлять и обобщать слова по сходству их корней.
Между тем данные, полученные в индивидуальных опытах по этим же классам, дают противоположные результаты: у учащихся появляются в большом количестве ошибки, типичные для «формалистов» и «наивных семан-тиков».
В указанной выше работе мы пытались дать объяснение этому, казалось, парадоксальному факту. Мы говорили тогда о различии психологических задач, стоящих перед учащимися при выполнении работ двух типов: свободного ассоциирования (при подборе слов) и сознательного применения школьных знаний (при оценке парных слов). В первом случае ученики действовали, руководствуясь непосредственным впечатлением от слова, и могли опираться на чувство языка, в то время как во
1 Д. Н. Б о го я в л е и с к и й, К психологии- усвоения правописания безударных гласных, «Известия АПН РСФСР», вып. 12, 1947.
втором от них требовалась мотивировка своего выбора, связанная с осознанием своих действий. Это все верно, но слишком общо и неопределенно. После анализа структуры речевых навыков дошкольника представляется возможность сделать это более конкретно.
Существо дела заключается в том, что в процессе «свободного ассоциирования» (термин, конечно, весьма условный) ученик может правильно (с грамматической точки зрения) выполнить задание, осуществляя неполную абстракцию; он оказывается в состоянии обобщать слова по семантике их корней, не производя расчленения слова на части и не выделяя той из них, которая обусловливает это сходство. А способность к подобной форме абстракции является, как мы видели, отличительной чертой практических знаний о языке.
Задания «с мотивировкой» требуют от учеников «осознанного» отношения к слову. Теперь мы знаем, в чем же заключается подобного рода «осознанность». Когда школьника спрашивают, почему он считает родственными или неродственными слова: час — часовой, жара и жарить, гора и горько и т. п., — он при правильном ответе не может оставаться в сфере диффузного, нерасчленен-ного впечатления от слова. Он должен соотнести свою оценку с точно объективированными признаками слова (звуковым и графическим), что может осуществляться лишь путем полной абстракции. Подобная операция требует сложной аналитико-синтетической деятельности, основанной на соответствующих умениях и знаниях; требует нарушить цельность слова, а для этого в речевой практике ребенка не создано необходимых предпосылок. Вследствие этого попытки, которые делает в данном направлении школьник, приводят его к неправильным обобщениям. Правильное же обобщение формируется параллельно с успехом в области приобретения знаний и умений в ходе школьного обучения.
Выделение различных форм абстракций дает возможность понять и другие проявления «чувства языка», отмеченные в предыдущей главе. Так, например, становятся ясными те психологические условия, которые приводят к безошибочному определению рода имен существительных путем подстановки «родовых» слов учениками начальной школы при полном игнорировании ими формальных признаков (окончания слов). Выделение этих при
знаков из изолированного слова требует анализа слова и может осуществиться лишь в процессе полной абстракции (выделение окончаний как родовых примет). При этом лексико-грамматическая цельность слова должна быть нарушена.
Другое положение создавалось при подстановке родового слова. В этом случае ученик судил о роде существительного, включенного в целое словосочетание, и род существительного определял по согласованию с ним «родового» слова, что не требовало полной абстракции, а давало возможность судить о правильности согласования на основе сопоставления с стереотипами устной речи. Если ученик запомнил, что сочетаемость слова с мой, моя, мое соответствует грамматическому термину род, то в остальном он мог полагаться на умение правильно согласовывать грамматические формы слов, приобретенные им еще в дошкольном возрасте.
Как мы помним, школьники почти безошибочно определили род неизвестных им слов с суффиксами -ач-, -уч-, несмотря на то, что они не знали о принадлежности этих суффиксов к приметам слов мужского рода. Здесь обнаруживается аналогия с пониманием дошкольниками уменьшительных и увеличительных суффиксов. Род этих существительных тоже «понимался» в целом слове или словосочетании (в тех случаях, когда ученики подставляли родовые слова), но никто из школьников, даже старших классов, не мог выделить суффиксов, потому что отношения между суффиксами и родовыми категориями ими не осознавались.
Эти примеры показывают, что высказанное нами предположение о психологических отличиях структуры практических и теоретических знаний о языке не вступает в противоречие с фактами, но помогает более содержательному их истолкованию. Поэтому мы полагаем, что оно может служить отправным пунктом для других исследований, основанных на более точных, лабораторных методах. Эти же факты позволяют представить, что так называемое чутье языка оказывает влияние на процесс усвоения орфографии благодаря тому, что помогает заметить в слове или словосочетании наличие определенных структурных элементов языка, не прибегая к грамматическому анализу. По нашей теории, это означает, что при этом мы имеем дело с упроченными ассоциа
циями между звучащими формами языка и их значениями.
Можно думать поэтому, что если при этих условиях учащиеся имеют до изучения соответствующего правила достаточную практику в письменной речи, то вполне вероятно упрочение и второго орфографического звена, связывающего звуковую форму с ее графическим обозначением. Ученик при этом может писать грамотно не потому, что он запомнил «персонально» правописание данного целого слова, но потому, что он запомнил часто повторяющийся правильный графический образец той или другой морфемы, опознаваемой в процессе неполной абстракции.
Другими словами, здесь мы подходим к вопросу о возможности овладевать практически не только нормами устной речи, но и орфографическим письмом. Как мы помним, об этой возможности писали в свое время Ушинский и Пешковский, но в то время как Ушинский предполагал здесь действие одной памяти, Пешковский говорил о проявлении «подсознательной грамматики», т. е. допускал возможность обобщений.
В н'астоящее время этот вопрос может быть вновь поставлен на обсуждение в связи с интересными фактами, вскрытыми в исследовании С. Ф. Жуйкова Ч Автор, основываясь на большом статистическом материале, установил, что еще до изучения правил ученики III класса писали правильно свыше 79% безударных падежных окончаний имен существительных (е-и) в понятных им словах и около 73% в словах незнакомых. Такой процент успешности письма нельзя считать случайным. Очевидно, что в действиях учеников проявлялась определенная закономерность, а правильное письмо окончаний незнакомых слов показывает, что такое письмо нельзя объяснить только заучиванием правописания целых слов.
Автор пишет, что в основе такого письма лежат условные связи особого рода, «которые образуются воздействием языкового материала, языковой «природной материи», без формулирования грамматических правил». Это объяснение нельзя считать исчерпывающим, так как оно не дает ответа, как именно образуются такие связи.
1 С. Ф. Ж у й к о в, К вопросу о формировании орфографических навыков, журн. «Советская педагогика», 1954, № 1.
Между тем здесь возникают два вопроса: 1) откуда ученики .могли узнать правильные графические образцы окончаний, если им «точных» правил не сообщали; 2) чем они руководствовались при выборе одного из двух окончаний (е-и), употребляющихся в разных падежах. Дать общий ответ на первый вопрос не представляет труда; очевидно, что графические образцы могли быть «взяты» учениками только в процессе чтения и письма. Об этом говорит сам автор. Но более детальный анализ влияния на орфографию предшествующего опыта школьника в области письменной речи требует специальных исследований.
Для обсуждения второго вопроса следует представить ту психологическую ситуацию, которая создавалась для ученика при письме падежных окончаний незнакомых слов. Жуйков проводил все свои опыты, предлагая ученикам заполнять пропущенные окончания слов, включенных в предложение. При этом лексическое значение отдельного слова оставалось для ученика непонятным, в то время как синтаксическая роль слова могла быть установлена из смыслового соотношения с другими словами предложения.
Действительно, по данным Жуйкова, следует, во-первых, что установление синтаксической роли слова с пропущенным окончанием не вызывало особых затруднений. Из всего огромного количества материала не было ни одного случая, когда бы в окончаниях таких слов писались какие-нибудь другие буквы, кроме е или и вроде: Он вышел из деревню или пошел к речку и т. п. Ученики, перед тем как приступить к письму, прочитывали слова с пропущенным окончанием; большей частью они сразу правильно решали эту задачу, когда же делали ошибки, то быстро поправлялись и приступали к письму. Таким образом, устная речь была посредствующим звеном в решении данной орфографической задачи. А так как выражением синтаксических значений в устной речи, как мы знаем, владеет уже дошкольник, то вполне естественно, что это умение предохраняло учеников от смешивания основных фонем в слове. Следовательно, здесь мы имеем факт, аналогичный тому, который наблюдался нами при определении учащимися рода существительных путем подстановки родовых слов. Пра
вильные ассоциации возникали путем сопоставления с нормами устной речи.
Остается вопрос о способе различения вариантов одной и той же фонемы (е или и). Для письменного обозначения этих фонем необходима дифференциация морфологических элементов письма. Так как буквы е и и употребляются в различных падежах, то очевидно, что при правильном, не случайном их написании различение падежных значений, выражающих различные отношения слов в предложении, играло определяющую роль. Очевидно, что учащиеся писали в незнакомых словах те же окончания, что и в знакомых, выражающих однотипные отношения. Но так как у учеников обучением не было создано средств и умений для грамматического анализа и абстракции (они правил еще не изучали), то надо предполагать, что и в этом случае учащиеся действовали с успехом в той мере, в какой они улавливали различное функциональное значение окончаний из понимания смысла целых предложений, подобно тому, как дошкольники в наших опытах замечали разные суффиксы в целых словах. Это и являлось предпосылкой для написания того или иного варианта падежных окончаний. Следует думать, таким образом, что и здесь мы имеем дело с проявлением неполной абстракции, обеспечивающей самостоятельные обобщения учеников.
Однако в практике письменной речи, наряду с правильными ассоциациями, приводящими к написанию нужного окончания, создавались и неправильные. Так, например, Жуйков констатировал, что сочетание имени существительного с предлогом у вызывало стойкое ошибочное написание окончания е. В других случаях процент успешности письма значительно уступал общим средним данным.
Как указывает автор, нередко «дограмматические связи» тормозят формирование связей, лежащих в основе знания и применения правил. Эти факты говорят о недостаточности для усвоения правописания неорганизованной практики в письме и о невозможности в некоторых случаях выработать правильные орфографические ассоциации без знания соответствующих правил.
Но основной материал этого исследования показывает, что практический способ образования орфографических ассоциаций вполне возможен. Однако то, что мы
могли узнать о психологических особенностях речевого опыта, трудно согласовать с оценкой Ушинским этого способа как чисто механического; на примере успешного письма незнакомых слов мы видели, что «каждое новое слово» отнюдь не ставит в тупик такого «грамотея», как полагал Ушинский. И, по-видимому, напрасно отказывал он казенному писарю в наличии того «инстинкта языка», который он считал одним из важнейших факторов в овладении ребенком грамматическими знаниями.
Те данные, которые мы могли привести, показывают, что влияние этого фактора не ограничивается областью усвоения грамматики, а распространяется и на приобретение орфографических навыков и, может быть, в гораздо большей степени, чем это допускал в свое время Пешковский.
Вместе с тем все эти данные подкрепляют то наше мнение, по которому в орфографическом навыке следует полагать наличие известных не автоматизируемых элементов. Гипотеза о неполной абстракции объясняет не только явления «чувства языка» в устной речи, но дает возможность понять до некоторой степени и тот уровень осознавания грамматических элементов языка, который неотделим от понимания смысловой стороны речи и который поэтому проявляется и в орфографическом письме в той мере, в какой это письмо отражает грамматический строй языка.
Анализ процесса речевого развития ребенка дал нам возможность представить себе характер практических знаний языка, которыми обладает ребенок, приступающий к обучению; анализ отдельных моментов обучения показал, что эти знания не только не утрачиваются в школьном возрасте, но продолжают играть весьма важную роль в усвоении грамматических и орфографических понятий и правил.
Основной линией речевого развития ребенка, как показало это исследование, является усвоение основных элементов языка, образующих его грамматический строй. Содержательная сторона этого процесса в своих важнейших чертах может быть охарактеризована как постепенное установление определенных отношений между отдельными языковыми значениями и их формами. При этом усвоение значений опережает усвоение форм,
и дифференциация форм языка происходит в той мере, в какой ребенок овладевает их значениями.
К школьному возрасту ребенок практически овладевает грамматическим строем языка, т. е. употребляет формы соответственно их значению. Однако он не может подвергнуть анализу и абстрагировать отдельные грамматические элементы языка, а лишь отмечает их наличие в целых словах тем, что правильно реагирует па изменение формы слова. При этом он не осознает тех отношений, которые существуют между отдельными языковыми значениями и их формами; понимая отдельные морфемы, он тем не менее не связывает их с определенными частями слова, так сказать, не локализует их в слове. Оттенки значений, которые вносятся в слово теми или другими аффиксами, не могут быть вследствие этого осознаны и отвлечены от слова. Эти морфемы понимаются ребенком лишь постольку, поскольку они меняют значение слова.
Для того чтобы ребенок мог осознанно относиться к строению речи и ее языковым закономерностям (чего требует от него обучение), необходимо обратить его внимание на внешнюю сторону речи. Между тем это не так просто сделать. Единый звуковой поток речи лабилен и изменчив и потому труден для наблюдения. Интонационно-мелодическое членение речи не совпадает с грамматическим. Первые попытки членения речи обычно идут по линии выделения цельных структур, имеющих, с точки зрения ребенка, определенную смысловую законченность.
Как свидетельствует опыт школы, выделение самостоятельных слов как цельных смысловых единиц речи не представляет в условиях обучения особой трудности. Но дальнейшее членение слов на звуки требует овладения специальными приемами звукового анализа, а абстрагирование и обобщение морфологических частей слова невозможно без выработки ассоциаций между выделяемыми звукокомплексами и их языковыми значениями и функциями. Грамматика как учение о значениях и формах языка и призвана это сделать. Она вычленяет из речи отдельные формы языка, подвергает анализу их содержание и систематизирует их. В результате значения речи осознаются как имеющие точно очерченные формы, а формы наполняются определенным осозпан-
ным содержанием. Таким образом достигается синтетическое понимание языковых явлений, соответствующее их природе. В то же время это не есть возвращение к старому, к тому неразложимому синтезу формы и содержания, которое свойственно практическим речевым обобщениям ребенка. Это тоже синтез, но синтез сознательный, к которому учащиеся приходят па основе предварительного аналитического изучения языка, что и создает им возможность давать себе отчет в тех закономерностях, которые обусловливают это единство.
Наряду с пониманием смысловой стороны речи происходит «отмечание» в форме неполной абстракции всех разнообразных языковых форм и значений, что является существеннейшим фактором, характеризующим сознательные орфографические навыки.
Результаты предварительной аналитической работы, связанной с изучением грамматики, сказываются и в том, что при необходимости такое целостное восприятие речи может быть вновь подвергнуто сознательному анализу, а процессы, осуществляющие этот анализ, вновь стать вербализированными. Это представляет огромное преимущество навыков, основанных на теоретических знаниях о языке, по сравнению с практическими навыками и умениями.
Г л а в a V I I
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ОБЪЯСНЕНИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ ПРАВИЛ
В предыдущем изложении при анализе процесса усвоения орфографии нам пришлось временно отвлечься от рассмотрения вопроса о том влиянии, которое оказывают на этот процесс различные методические приемы, применяющиеся при обучении. А между тем очевидно, что приемы, которые употребляются учителем в ходе обучения, характер упражнений, выполняемых учениками, объяснения, дающиеся учителем, формулировки правил и определений, которые усваиваются учениками, и т. п. — все это в значительной степени предопределяет тот путь, который приводит в конце концов к формированию орфографических навыков. Очевидно также, что различная методика преподавания ведет к той же цели различными путями, более или менее эффективными.
Задача всего последующего изложения и будет за-ключаться в попытке выяснить те психологические основания, которые могли бы помочь методистам разработать систему обучения, наиболее эффективно ведущую к этой конечной цели. Для этого мы рассмотрим основные этапы обучения в той последовательности, в которой они следуют в реальном ходе школьных занятий, и тем самым постараемся описать процесс усвоения орфографии в его постепенном становлении, т. е. представить, таким образом, синтетически то, что в предыдущих главах рассматривалось аналитически.
В дидактике и методике первым этапом обучения считается «объяснение нового материала» или «ввод» нового орфографического правила. Рассмотрению психо-
логических особенностей этого этапа и будет посвящена данная глава.
Орфографическое правило предназначено регулировать графические нормы письменной речи. Поэтому под правилом в этом широком смысле можно понимать всякое указание, нормирующее правописание хотя бы и отдельных, изолированных слов, относящихся к так называемым традиционным написаниям.
Однако в школьной практике термин правило употребляется в более узком значении. Под правилом обычно понимаются указания нормативов более обобщенного характера, относящихся к целому ряду однородных языковых фактов. В этом смысле мы и будем в дальнейшем употреблять этот термин. Следует сделать еще одну оговорку. В морфологической орфографии графические нормы устанавливаются, как правило, единообразно для данной грамматической категории, например, окончание е для дательного падежа I склонения имен существительных, окончание -ешь для 2-го лица I спряжения, а окончание -ишь для II спряжения и т. п.
Таким образом, сознательное усвоение орфографического правила становится возможным при усвоении той грамматической категории, письменное выражение которой нормируется правилом. Школьное обучение обычно и строится так, что сначала идет работа над усвоением понятия, выражающего основные признаки данной грамматической категории, т. е. над выяснением ее функции в речи, ее значения и ее форм, а затем обращаются к рассмотрению правописания в том случае, если оно не совпадает с произношением.
Таким образом, обычно сообщению орфографического правила предшествует работа по выяснению грамматической сущности того явления, о котором идет речь в правиле. Однако надо иметь в виду, что в момент введения орфографического правила грамматическая работа не может считаться вполне завершенной. Обычно усвоение грамматических понятий продолжается и тогда, когда начинается орфографическая работа. Тем не менее к моменту объяснения правила ученики соответствующей грамматической терминологией обычно уже владеют.
Переходя к вопросу об объяснении правил, прежде всего следует остановиться на тех психологических условиях, которые носят общий характер и являются предпо-288
сылкой успешного усвоения любых знаний, в том числе и орфографических. Мы знаем, что одним из важнейших условий образования временных связей является, по Павлову, «деятельное состояние коры мозговых полушарий» в тех участках мозга, которые осуществляют работу по образованию данных связей.
Обсуждая на «средах» результаты опытов Подкопаева и Нарбутовича о выработке условных связей между двумя индифферентными раздражителями, Павлов отметил, что, «когда мы на собаках хотели связать два раздражителя без всякого привлечения импульсом, интересом, то это долгое время не удавалось... Мозг приходит в индифферентное состояние и никакой связи не образуется» L
В опытах физиологов повышенная корковая деятельность вызывалась ориентировочно-исследовательским рефлексом на «новизну» раздражителя, увеличением количества или качества пищи, служащей подкреплением условного рефлекса, и т. п. В психологических терминах мы соответственно говорим о познавательном интересе, стимулирующем усвоение, о мотивации, делающей занятия для ученика важными и необходимыми, о постановке задачи, пробуждающей мысль. Поскольку орфография имеет всегда практическое значение, очевидно, что такой стимуляцией для учеников будет прежде всего понимание того значения, которое данное правило имеет для умения писать правильно. Другими словами, ученики должны знать, зачем нужно данное правило, какие орфографические затруднения оно призвано разрешать.
Такая подготовительная работа повысит восприимчивость учеников к объяснению учителя, привлечет их внимание и тем создаст благоприятные условия для усвоения учащимися сообщаемых сведений. Положительное влияние такой подготовительной работы с психологической стороны совершенно очевидно. Встает лишь вопрос о формах такой работы применительно к орфографии.
Очень часто в школьной практике эта работа сводится к простому объяснению «темы» очередного урока. Тема записывается на доске и преподаватель делает не-
1 «Павловские среды», т. II, изд-во АН СССР, стр. 581.
сколько разъясняющих замечаний обычно такого типа: «Мы будем сегодня изучать правописание суффиксов прилагательных, чтобы узнать, когда они пишутся через одно н, а когда через два я».
Подобное «разъяснение» учителя иногда дополняется словесным указанием на то, что «по слуху такие окончания различить нельзя».
Необходимость сообщения цели урока, как момента, организующего урок, переключающего внимание ученика на новую работу, не может оспариваться. Однако такое чисто словесное объяснение далеко не всегда может вызвать необходимую активность ученика, пробудить в нем интерес к данному орфографическому вопросу. Мы полагаем, что здесь создается такая ситуация, при которой словесные разъяснения данной темы в значительной степени теряют свое значение из-за того, что они не основываются на непосредственном опыте учащихся, не сталкивавшихся до сих пор с подобного' рода трудностями.
По-видимому, подобную недейственность словесных раздражителей следует понимать в рамках вопроса о взаимодействии двух сигнальных систем, поскольку слова-раздражители такого (словесного) описания трудностей, не находя опоры в «прежних ассоциациях» первой сигнальной системы, утрачивают свою стимулирующую функцию.
Очевидно, что для того, чтобы значение нового правила было осознано учеником, следует недостающий непосредственный опыт «организовать» на уроке наново и уже после этого, опираясь на этот опыт, перевести работу в план словесных обобщений. Другими словами, здесь, как и во всех других случаях, когда учитель сталкивается с недостаточностью непосредственного опыта учащихся, необходимо ввести элемент наглядности.
Вопрос о том, в каких формах это следует делать, требует специальных психолого-педагогических экспериментов, поскольку до сих пор он остается почти не разработанным. Но нам думается, что организация подобного непосредственного опыта в орфографии в общей форме может быть определена как столкновение учащихся с данной орфографической трудностью. Учащийся под руководством учителя должен убедиться, в чем за-290
ключается эта трудность и в том, что он самостоятельно, опираясь на свой прежний опыт, преодолеть ее не в состоянии. У него появится внутренняя потребность найти выход из этого положения и вместе с тем и интерес к правилу, в пользе которого он убеждается на собственном опыте. И если после этого учитель обобщит словесно назначение правила, подлежащего изучению, его слова, опирающиеся на непосредственный опыт учащихся, приобретут для них особое значение, стимулирующее их активность.
Организация на уроке работы учащихся, приводящей к созданию установки, благоприятствующей активному восприятию нового материала, может поэтому считаться предварительным этапом урока с объяснением нового правила.
Следующий этап урока посвящается собственно «объяснению». Во всяком орфографическом правиле, как это было показано выше, можно выделить две части: грамматическую и собственно орфографическую. Поэтому наиболее общая цель объяснения правила должна заключаться в том, чтобы, во-первых, опираясь на предшествующее изучение грамматики, сделать ясным для учеников, к какому языковому факту относится данное правило, а во-вторых, установить ассоциации с графическим обозначением данной грамматической категории.
Однако это общее назначение правил не исключает большого разнообразия их типов. В предыдущей главе мы показали их функциональное различие, зависящее от особенностей семантики данной грамматической категории; здесь же должна идти речь о различии тех задач, которые ставятся перед учеником тем или иным правилом. С этой точки зрения орфографические правила могут быть разделены на три основные группы.
К первой группе относятся правила, имеющие однозначный характер. Их можно также назвать «безусловными», или одновариантными, поскольку на их усвоение не влияют никакие другие условия, а сводится оно к установлению ассоциации между определенной грамматической категорией и единообразной формой ее выражения (иногда с незначительными исключениями).
Вот примеры таких правил:
«В родительном падеже единственного числа имена прилагательные имеют окончание -ого, -его».
«Прилагательные с суффиксами -ан-, -ян- пишутся с одним я».
«Частицы -то, -либо, -нибудь, кое- пишутся через черточку».
«Окончание глаголов второго лица единственного числа пишется с мягким знаком после ш».
«В неопределенной форме глагола после т или ч пишется мягкий знак».
«В конце наречий после шипящих пишется ь» и т. д.
Задача, которую ставят такие правила перед учеником, психологически проста: ученик, умеющий опознавать данную грамматическую категорию в ее звуковом выражении, должен запомнить ее графическое обозначение.
Вторая группа орфографических правил, так же как первая, содержит прямое указание о правописании данных орфограмм. Однако при этом для выражения одной и той же грамматической категории имеются два варианта правописания, употребление которых обусловливается иногда грамматическими, иногда фонетическими дополнительными признаками орфограммы. Эти правила можно назвать обусловленными, или двухвариантными.
Вот примеры таких правил:
«Суффиксы прилагательных -ев-, -еват-, -евит- пишутся после мягких согласных, а также после шипящих и ц: полевой, рыжеватый, кочевой, молодцеватый, глянцевитый. После других согласных пишутся суффиксы -ов-, -о ват-, -овый-: березовый, красноватый, деловитый».
«Приставки на з — раз, воз, из, низ, без, чрез пишутся то с буквой з, то с буквой с. Буква с пишется перед глухими согласными, в остальных случаях пишется буква з».
Иногда различение вариантов зависит от места ударения в слове:
«После шипящих и ц в ударных окончаниях пишется о, в неударяемых е: межой — кожей; плющом — товарищем и т. и.».
«В словах на ья в окончании родительного падежа множественного числа пишется ей, если на нем ударение; если же на нем нет ударения, то пишется -ий (статей, шалуний)».
Здесь для одних и тех же суффиксов или приставок, имеющих одно и то же грамматическое значение, на письме имеется два варианта обозначений. Выбор одного из них обусловливается дополнительными признаками — в данных случаях фонетическими условиями: особенностями предшествующих или последующих согласных или местом ударения в слове.
Графическая двузначность правописания одной и той же морфемы, обусловливаемая грамматически, видна из следующих примеров.
Двузначность правописания одного и того же корня в глаголах: умереть — умирать, стереть — стирать, коснуться — касаться, положить — полагать и т. д., обусловливается изменением вида глагола, т. е. дополнительным признаком, имеющим грамматический характер.
«В прилагательных, образованных при помощи суффикса -н- от имен существительных с основой на н, пишется два н: каменный, сонный».
В данном правиле выделение дополнительного признака связано со словообразовательным моментом (найти основу слова) и фонетическим (определить конечный звук основы).
«После шипящих ж, ч, ш, щ буква ь пишется в окончаниях именительного и винительного падежей единственного числа женского рода: рожь, ночь, мышь, вещь. В существительных мужского рода буква ь не пишется: сторож, врач».
Здесь для различения двух вариантов написания одинаково звучащих окончаний одного и того же падежа требуется привлечь дополнительный грамматический признак — род имен существительных.
«Частица не пишется отдельно от существительных, прилагательных и наречий, когда дальше идет или подразумевается противопоставление».
Выбор одного из вариантов написания определяется дополнительным условием — различением реального смысла целого предложения (т. е. выходит за пределы морфологической семантики).
Третья группа правил отличается от двух первых тем, что не содержит определенного указания па то или иное правописание орфограммы. Правило сводится к рекомендации некоторого приема, применение
которого ведет к правильному решению орфографической задачи.
Например:
«Чтобы правильно написать безударный гласный в корне, нужно изменить слово (или подобрать другое слово того же корня) так, чтобы этот гласный оказался под ударением».
«Чтобы не ошибаться на письме, необходимо взять другое слово того же корня. Если в корне имеется данный согласный звук, то его нужно писать и во всех производных словах того же корня». (Правило о так называемых непроизносимых согласных.)
«Нужно отличать на письме предлоги от приставок. Между предлогом и самостоятельным словом можно вставить другое слово, а после приставки вставить слово нельзя».
«Чтобы проверить, какую согласную следует писать на конце слова, нужно изменить слово так, чтобы после согласного звука был гласный».
В таких случаях учащийся не может применить правило непосредственно, он должен проделать некоторую предварительную работу, своего рода «эксперимент», и уже после этого решить вопрос правописания. Так, например, в правиле о безударных гласных он должен придумать однокоренное слово с ударением на гласном корня; в правиле о так называемых сомнительных согласных — так изменить данное слово, чтобы сомнительная согласная оказалась в сильной позиции (перед гласными и некоторыми согласными).
Однако подобных правил в школьном курсе незначительное количество. Особенность их, как об этом указывалось ранее, заключается в том, что указание графической формы грамматических категорий заменяется в правиле рекомендацией приема, позволяющего найти нужный графический образец иными способами. Подобные приемы «подстановки», «проверки», «вставки» особенно распространены в период первоначального обучения или тогда, когда формирование соответствующих грамматических понятий признается для школьников затруднительным. Но цель их та же — дать учащимся средство для различения грамматических категорий и способа их графического обозначения.
Так, часто правило о правописании -ться в инфинитиве и -тся в личных формах глагола заменяется практическим приемом подстановки вопросов что делать? и что делает?
Иногда такие приемы (особенно — подстановка вопросов) , не будучи рекомендованы в учебнике, тем не менее употребляются в практике наряду с «настоящими» правилами. Например, в учебнике для V и VI классов под редакцией Л. В. Щербы правило о правописании прилагательных в творительном и предложном падежах единственного числа излагается чисто аподиктически. «В творительном падеже единственного числа мужского и среднего рода пишется -ым, -им, а в предложном падеже пишется -ом, -ем». В школьной же практике наряду с правилом применяется и прием подстановки вопросов каким? и о каком?, ударные окончания которых подсказывают правописание прилагательных, отвечающих на эти вопросы. Методисты обычно санкционируют применение подобных практических приемов, но указывают при этом, что использование метода подстановки не должно идти за счет знания и умения учащихся различать соответствующие грамматические категории.
Эта группа правил ставит, таким образом, перед учащимися задачу, отличную от первых двух. Задача эта состоит в овладении приемом, рекомендуемым правилом.
Первый и второй типы правил являются наиболее многочисленными.
Остановимся на их анализе.
Как нетрудно видеть, самое существенное различие этих двух групп заключается в том, что первая из них определяет отношение между данной грамматической категорией и ее графической формой однозначно: разновидностей написания данной грамматической категории нет. Вторая группа правил регулирует такие случаи, при которых этой однозначности не наблюдается, одна и та же грамматическая категория имеет два графических способа выражения. В первом случае предшествующее изучение грамматики обеспечивает знание грамматической категории, о которой идет речь в правиле, новым для учащихся должно явиться лишь разрешение конфликта между звучащей и графической формой ее вы
ражения. Во втором — грамматическая категория также известна ученикам, орфографическое правило также противопоставляет графическую форму звуковой; но, помимо этого, правила второго типа требуют от учащегося дополнительного анализа тех условий, от которых зависит выбор того или иного варианта написания.
Действительно, если учащиеся усвоили на занятиях по грамматике, например, понятие о неопределенной форме глагола и ее окончаниях, то в занятиях по орфографии они фиксируют, что буква ь является обязательным показателем этой формы на письме, вне зависимости от того, соответствует это произношению (ходить, читать ит. п.) или не соответствует (лечь, увлечься, прогуляться и т. п.). Когда учащимся дается правило о правописании наречий на шипяшую, то, если они усвоили отличительные признаки этой части речи, правило сообщает им лишь особенности правописания окончаний наречий, которые не могут быть подсказаны фонетическим анализом, например употребление буквы ь после шипящих (настежь, навзничь) и т. д.
Для правил второй группы недостаточно усвоения понятия о данной грамматической категории. Недостаточно, например, иметь понятие о приставках и различать их в звуковом оформлении. В орфографическое правило о приставках на з (раз-, воз-, низ- и др.) включено указание на звуковой анализ последующих согласных (глухих или звонких). В правило о правописании глаголов типа: умереть — умирать и т. п., — указание на вид глагола, в других правилах — на место ударения в слове и т. д.
Этот дополнительный анализ основывается также на предшествующих знаниях, однако применение этих знаний в данных конкретных условиях, применительно к орфографической цели, является для учащихся новым моментом, о котором на грамматических занятиях речи не было.
Естественно поэтому, что психологические особенности этапа «объяснения» правил будут различными для каждого из указанных типов. Проследим за этим различием при условии нормальной предшествующей грамматической подготовки учащихся.
Наиболее простым представляется объяснение «одновариантных» правил. Понимание таких правил может
быть достигнуто «с места». Сообщение учителя может иметь чисто инструктивный догматический характер, если предшествующий грамматический опыт учащихся достаточен по своему объему и следы образованных прежде ассоциаций достаточно «свежи».
«Всегда пишите ь в конце наречий после шипящих» — к подобной краткой инструкции может быть сведен в таком случае весь этап «подачи» орфографического правила 1-го типа, особенно тогда, когда предшествующий этап «столкновения с трудностями» наглядно демонстрировал ученикам практическое значение этого правила.
В таком случае достаточно подобной словесной инструкции, чтобы замкнуть связи между новым раздражителем — буквой ь — и имеющимся прежним опытом учащихся, относящимся к конкретным словам — наречиям. Психологически мы такое замыкание, следуя за И. П. Павловым, назовем пониманием. И тогда цель этого этапа будет достигнута.
В школьной практике очень часто нельзя уловить грань между занятиями по грамматике и орфографии. Графическую форму выражения той или иной грамматической категории учащиеся узнают иногда одновременно с первичным знакомством с этой категорией. Этому способствует то обстоятельство, что грамматический анализ школа, как правило, производит по печатному тексту учебников или по тексту, написанному на доске, т. е. через посредство зрительных восприятий учащихся.
Так, например, огромный раздел грамматики — правописание флексий при склонении или спряжении — изучают на уроках таким образом, что учащиеся, узнавая, например, грамматические признаки того или иного падежа, одновременно узнают его орфографическую форму. «Родительный падеж единственного числа отвечает на вопрос: кого? чего? Обратите внимание, что в словах женского рода на а, он пишется через ы, или и». Или при чтении и разборе образцов склонений: «Запомните, как пишется окончание родительного, дательного и предложного падежей». Такого рода совмещение грамматических и орфографических задач мы часто можем наблюдать на уроках в самых различных классах. Не затрагивая вопроса о границах, при котором такое совмещение целесообразно для орфографических целей, мы хотели бы подчеркнуть здесь, что такое «объяснение»
правила может происходить только по отношению к правилам первого типа.
Другое дело, если учитель не уверен в характере знаний учеников, необходимых для понимания правила «с места». В таком случае преподаватели обычно говорят о необходимости предварительно повторить, «мобилизовать» знания учащихся. Психологически это вполне целесообразно. Мы в таких случаях должны найти какие-то другие способы, чем употребление слов учителем («наречие», «шипящий», «окончание» и т. п.), для того чтобы избирательно «оживить» именно те, а не другие «прежние ассоциации» учеников.
Следует рассмотреть психологическую роль двух способов такой «мобилизации знаний», типичных для школы.
Первый из них — это словесное воспроизведение учащимися соответствующих определений и грамматических понятий.
Психологически это может быть квалифицировано как элементарная ступень помощи. Действительно, если мы до формулировки правила, т. е. до употребления грамматических терминов, обобщающих определенные факты языка, предложим ученикам конкретизировать их посредством перечисления существенных признаков (чем обычно и является определение), то тем самым мы «оживим» предшествующий опыт учеников и отвлеченные грамматические термины, употребленные в правиле, смогут наполниться конкретным содержанием; это поможет учащимся «вспомнить», что такое «наречие», «шипящие» и т. п.
Однако, как мы уже указывали в теоретической части работы, взаимодействие второй сигнальной системы с первой может происходить по-разному. Возможно, что словесное воспроизведение определений учащимися не связывается с определенными словами, морфемами, звуками. В таком случае у них воспроизводятся лишь чисто вербальные ассоциации между данным термином, например наречие, и признаками данного понятия, содержащимися в определении.
В таком случае «мобилизация знаний» окажет ученику в понимании правила лишь очень слабую помощь. Наоборот, чтобы действительно мобилизовать знания, необходимо восстановить нарушенное соотношение между 298
работой первой и второй сигнальных систем, связав словесные обозначения признаков данного грамматического понятия с реальными языковыми фактами. В этом и заключается основная психологическая роль второго способа, применяемого в школьной практике.
В общих чертах этот способ сводится к тому, что учащиеся не только повторяют грамматические определения, но и приводят конкретные примеры, иллюстрирующие их ответы, или производят вначале выборочный грамматический анализ (разбор) таких примеров, выделяя при этом конкретные формы выражения тех или иных грамматических категорий и их признаки. В нашем примере о правописании наречий при таком способе внимание учащихся будет сосредоточено на анализе наречий как части речи, на «разборе» их грамматических особенностей и т. п. Обобщенное понятие «наречие» при этом раскрывается на ряде конкретных примеров. Благодаря такому приему конкретизации понятий учащиеся будут наилучшим образом подготовлены для того, чтобы в дальнейшем букву ь «с места» связать с представлением о словах данного типа. Легко видеть, что оба эти способа «мобилизации знаний» содействуют укреплению ассоциаций грамматического звена правила и представляют собой работу, необходимость которой определяется недостаточной прочностью и конкретностью знаний, полученных на уроках грамматики.
Но для образования собственно орфографических ассоциаций является очень важным связь между данной грамматической категорией и ее правописанием устанавливать не только словесно, но на основе непосредственных зрительных восприятий данных орфограмм. Конечно, как мы уже говорили, в таких психологически несложных правилах, как наше примерное правило, ученики, образуя такую ассоциативную связь «с места», т. е. отнеся букву ь именно к наречиям, могут соединять словесную инструкцию с конкретными зрительными представлениями соответствующих слов (особенно в том случае, если учитель включает в формулировку правила устные примеры таких слов). Однако этого может и не произойти: учащиеся поймут правило, но не «увидят» конкретных слов, а если такое «оживление» следов в виде воспроизведения представлений слов и произойдет, то, как известно, воспроизведенные представления,
при равных прочих условиях, обладают меньшей силой, чем непосредственные восприятия.
Поскольку непосредственно воспринимаемые раздражители в орфографии действуют через зрительный анализатор, педагогическая необходимость сопровождать объяснение правила зрительно воспринимаемыми примерами вряд ли требует дополнительных аргументов. Именно при этом условии орфографическое правило не только опосредствованно, но и непосредственно будет связано с языковым материалом. Тем самым будет установлено правильное соотношение между деятельностью первой и второй сигнальных систем. В какой форме это сделать, совместить ли эту задачу с этапом «столкновения с трудностью», предъявлять ли наглядный материал до словесной формулировки правила или после нее — по отношению к данному типу правил и при нормальной грамматической подготовке учеников, — не имеет, как нам кажется, большого значения.
В итоге, этап «объяснения» первого типа правил, с психологической точки зрения, должен включать моменты: 1) «столкновение с трудностью» — в данном случае расхождение письма с произношением; 2) словесная инструкция (через учителя или учебник); 3) зрительное восприятие орфограмм. В результате этого этапа достигается «понимание» правила: ученики выделяют данную грамматическую категорию как объект правила и получают, пока еще не соединенные с двигательными реакциями письма, зрительные образы данных орфограмм.
Объяснение правил второго типа осложняется, как было уже показано, двузначностью правила, требующей анализа дополнительных условий, определяющих выбор варианта правописания. Мы не будем останавливаться в дальнейшем на тех моментах «объяснения» правила, которые по своей психологической роли сходны с только что описанными. Такими будут показ практического значения правила и «мобилизация» грамматических знаний (если в этом ощущается необходимость). Здесь, так же как и в первом случае, учащиеся должы сначала столкнуться с невозможностью разрешить орфографические затруднения, копируя произношение, но лишь в самых общих чертах, не разрешая вопроса о двух вариантах правописания. При «мобилизации знаний» приводятся в готовность не только знания основных грамматических
категорий, к которым относится данное правило, но и знания, относящиеся к тем дополнительным признакам, которые обусловливают наличие вариантов. Так, например, правило> о правописании суффиксов -ик- и -ек- потребует не только знаний, что такое суффикс, как он выделяется в слове и т. д., но и знаний о «беглом» е. Другие правила требуют умения учащихся различать место ударения в слове, производить фонетический анализ состава слова и т. д.
Основная отличительная черта данного типа правила — его двузначность, определяя задачу, стоящую перед учащимися, определяет и характер его «введения». Новым психологическим моментом, помимо использования грамматики или фонетики, является здесь дифференциация вариантов правописания. От этого изменяется и структура тех ассоциаций, которые должны быть установлены в обучении. Прямая связь между грамматической категорией и ее письменным выражением усложняется необходимостью различения дополнительных языковых признаков. Этот процесс как бы вклинивается между двумя крайними членами данной орфографической связи. Таким образом, при пользовании правилом этого типа ученик должен последовательно решать две задачи: определить грамматическую категорию (падежное окончание, суффикс, глагольное окончание и т. п.), к которой относится правило, и произвести дополнительный анализ данного конкретного слова, в конечном счете определяющий выбор одного из двух вариантов.
Поэтому для учителя при объяснении правила встают три новые задачи: 1) показать двухвариантность правила; 2) вскрыть зависимость, существующую между дополнительными признаками слова и характером написаний; 3) показать учащимся приемы данного дополнительного анализа.
Эти новые задачи значительно усложняют процесс понимания правила. Они требуют от учащихся большой работы по анализу языкового материала, выделению отдельных элементов, их обобщения и различения. Поэтому, с психологической точки зрения, для таких правил вполне целесообразен тот путь объяснения, который, по аналогии с методом введения нового понятия, обычно носит название индуктивного. Под этим термином мы будем разуметь такой метод, при котором обобщение,
заключающееся в орфографическом правиле, будет раскрываться учащимся постепенно в процессе анализа конкретного языкового материала и заканчиваться умозаключением — формулировкой правила.
Для решения основной задачи дифференциации двух вариантов правописания на практике существуют два способа такого анализа. При первом дифференциация производится последовательно. Сначала учащиеся анализируют и выделяют условия, необходимые для первого -из вариантов: например, правописание приставок раз-, воз-, низ- и т. п. через с в зависимости от следования за ними глухих согласных (растопить, раскрыть, бескрылый и т. п.). Эта связь упрочивается упражнениями. После этого переходят ко второму варианту правописания и поступают таким же образом. Затем, когда обе эти связи упрочены, переходят к сравнению и дифференциации двух вариантов.
Возможен, однако, и второй, так сказать, параллельный метод объяснения. При нем дифференцируемые варианты противопоставляются друг другу с самого начала, дифференцирующие признаки орфограмм сравниваются и абстрагируются. Устанавливается зависимость между данным признаком и соответствующим вариантом написания. Формулируется правило. Такова схема этих двух приемов.
Каковы же психологические особенности усвоения при этих двух способах?
И. П. Павлов, анализируя особенности раздражителей, подлежащих дифференцировке, писал: «Мы и здесь можем представить себе, что сходственные агенты, близкие к агенту условного рефлекса, как бы состоят из двух частей (как и тормозная комбинация) — одной общей с условным раздражителем и другой особенной. Первая есть причина того, что близкие агенты действуют подобно выработанному условному раздражителю. Вторая сначала дает основание для временного ориентировочного рефлекса... а впоследствии—для развития постоянной и окончательной дифференцировки близких агентов» 1.
Этот павловский анализ может быть применен к любому двухвариантному правилу. Действительно, в разбираемом нами случае задача, стоящая перед учеником,
1 И. П. Павлов, Поли. собр. соч., т. IV, стр. 131.
состоит в том, что, получая (в диктанте) в качестве раздражителя слово с одной из этих приставок (раз — рас и т. д.), он должен реагировать на этот сходный агент различно, в зависимости от «особенных» черт слова с этой приставкой (характер последующих согласных).
До обучения подобные раздражители вызывают диффузную генерализованную двигательную реакцию: письмо с и з следует хаотически, в результате же обучения должна быть выработана специализация письменной реакции. Следование за приставкой глухого согласного звука должно вызывать написание буквы с; следование звонкого — з. Таким образом, в словах на двухвариантное правило всегда могут быть выделены «общая» и «особенная» части. Возникает вопрос, какие приемы обучения наиболее эффективны для выработки дифференцировки — «последовательный» (раздельный) или «параллельный» (одновременный).
Ответ на этот вопрос мы также находим у И. П. Павлова: «Как же происходит специализация условного раздражителя, дифференцирование внешних агентов? Сначала нам казалось, что здесь имеют место два приема. Один — это только многократное повторение определенного агента в качестве условного раздражителя с постоянным подкреплением безусловным рефлексом. Другой — перемежающееся противопоставление этого определенного, постоянно подкрепляемого условного раздражителя с близким ему агентом, но не сопровождаемым безусловным раздражителем.
В настоящее время мы склонны признавать действительность только последнего приема. С одной стороны, мы имели условные раздражители, повторенные тысячекратно, и которые, однако, через это одно не делались узко специализированными. С другой — было замечено, что даже однократная проба каждого из родственных агентов без подкрепления и редко (через дни и даже недели) такое же применение ряда их (каждый раз все нового агента), при повторениях с подкреплением основного условного раздражителя, ведет, однако, к специали-зировавию его. Поэтому мы постоянно пользовались вторым приемом, во всяком случае несравнимо скорее приводящим к цели дифференцировки агентов» L
1 И. П. Павлов, Там же, стр. 129—130.
И. П. Павлов пишет здесь о двух приемах выработки дифференцировки, — аналогичных тем приемам, о которых шла речь выше. Один — «это только многократное повторение определенного агента», без сопровождения его дифференцировочным раздражителем; другой — «перемежающееся противопоставление» двух раздражителей. В условиях первой сигнальной системы первый прием не приводил к специализации раздражителей даже при тысячекратном повторении; при втором—дифференцировка вырабатывалась даже при однократном повторении раздражителей. Различная эффективность этих приемов была настолько очевидна, что И. П. Павлов и его ученики пользовались в своих работах исключительно вторым приемом.
Как мы уже говорили в первых главах этой книги, прием противопоставления широко пропагандируется рядом советских методистов. Однако сравнительному изучению в экспериментальных условиях методы «последовательного» и «параллельного» изучения правил не были подвергнуты.
Этот пробел был восполнен психологическим исследованием Л. А. Шварц1, которая провела такое сравнительное изучение двух приемов в условиях, полностью совпадающих даже по своему материалу (орфографическому) с теми, о которых идет речь в настоящей работе.
Исследуя пути устранения репродуктивного торможения, она сравнивала два способа усвоения орфографических правил. При одном способе сходные правила изучались последовательно, вне зависимости одного правила от другого; при другом — одновременно, путем их сравнения и различения. Чтобы уравнять условия опытов, правила были составлены экспериментатором. Испытуемые предупреждались, что эти правила — незнакомого им иностранного языка.
Кроме двух сходных правил, в целях контроля одновременно давались два других правила, резко отличные друг от друга. Таким образом, каждый испытуемый изучал четыре правила.
1 Л. А. Ш в а р ц, «Роль сопоставлений при усвоении сходного материала», «Известия АПН РСФСР», вып. 12.
Вот Пример э!их правил:
Первая пара правил:
1. В начале слова пишется т, а произносится 5; например, тесир.
2. Н перед гласными удваивается; например, ринно. Вторая пара правил:
3. В начале слова произносится и пишется д, если после д следует звук щ например, диаро.
4. После б перед гласной всегда пишется у, которое при чтении не произносится.
Первое и третье правило — сходные; второе и четвертое — различные. Различны также и правила, входящие в каждую пару.
Методика опытов «без сопоставления» заключалась в том, что испытуемый сначала заучивал первую пару правил. После заучивания он упражнялся в письме экспериментальных слов под диктовку. После диктовки каждое ошибочно написанное слово переписывалось. Затем давалось вторичное упражнение, обычно выполнявшееся без ошибок. После «закрепления» первого правила так же изучалась вторая пара правил, после чего проводился контрольный диктант на все четыре правила непосредственно после упражнений, через день и через 7 дней. Ошибки в диктантах служили показателем усвоения. Ошибок в сходных правилах (1 и 3) было значительно больше, чем в контрольных правилах (2 и 4).
Опыты с «сопоставлением» отличались тем, что после заучивания правил, упражнения на взаимно смешиваемые правила были «перемежающимися», так как в них входили слова на оба правила. Перед упражнениями оба правила испытуемыми сравнивались.
В результате успешность письма на взаимно смешиваемые правила в первом случае была равна 72% правильно написанных слов, а во втором (при сопоставлении) резко увеличилась (94%). В то же время взаимно не смешивающиеся правила (2 и 4) в обеих сериях опытов дали одинаковую успешность (89 и 90%).
На основе всех этих опытов автор пришел к выводу, что «торможение возникает лишь в тех случаях, когда заучивание происходит в условиях, ограничивающих сопоставление и различение тех звеньев материала, кото
рые могли бы тормозить друг друга и, наоборот, торможение отсутствует там, где сопоставление и различение имеют место».
Л. А. Шварц проверила эти результаты, полученные в лабораторном эксперименте, на школьном обучении. Для этого она, во-первых, сопоставила результаты обучения, полученные при применении учителями по отношению к одному и тому же правилу двух разных методов обучения, а, во-вторых, применяя метод противопоставления, провела переучивание нескольких учеников, делавших много ошибок.
В первом случае она сравнила результаты обучения в отношении двух правил: правописания приставок на з и с (раз, воз, низ и др.) и правописания падежных окончаний е-и в именах существительных первого склонения. Результаты ее наблюдений таковы: в тех случаях, когда при обучении не проводилось сопоставления разных вариантов правописания одной и той же морфемы (приставки) или двух различных грамматических категорий (разные падежи), орфографическая грамотность была значительно ниже, чем в тех случаях, когда работа по сопоставлению имела место.
Опыты с переучиванием проводились над шестью учениками, делавшими много ошибок в падежных окончаниях существительных на е-и и во взаимно смешиваемых окончаниях прилагательных -ым, -им, -ом, -ем. Переучивание заключалось в упражнениях, при выполнении которых смешиваемые окончания сопоставлялись и • выяснялись условия различения обоих вариантов. С каждым испытуемым было проведено три занятия по 30 минут. Через несколько дней педагог дал контрольный диктант на эти правила. Шесть учеников, прошедшие через переучивание, не сделали ни одной ошибки в семи контрольных словах на это правило.
Изложенные результаты подтверждают, что павловский прием противопоставления создает столь же благоприятные условия для выработки дифференцировки со второй сигнальной системы, как и с первой. Но наблюдения и опыты Шварц над применением этого приема в школьной практике носят эпизодический характер и потому недостаточно убедительны. Однако мы имеем возможность привлечь к обсуждению данного вопроса результаты обучения по методике противопоставления,
доложенные на «Педагогических чтениях» в 1951 г. В. К. Успенской, учительницей 74-й школы Москвы.
Опытное обучение осуществлялось ею в течение двух лет в III и IV классах, под руководством старшего научного сотрудника Института психологии С. Ф. Жуйкова Ч Опытная методика была применена в отношении целого раздела программы — правописания взаимно смешиваемых падежных окончаний (е-и) имен существительных всех трех склонений. Разработанная методика обучения отличалась в основном от обычно принятой тем, что ведущим принципом всей работы был принцип сопоставления и различения взаимно смешиваемых окончаний, начиная с уроков грамматики, на которых ученики впервые знакомились с образцами склонений, и кончая упражнениями, которые были основаны на «перемеже-вании» слов со смешиваемыми окончаниями. Порядок и последовательность дифференциации окончаний е-и были таковы: прием сопоставления и различения окончаний сначала, при изучении образца склонения, применялся по отношению к разным падежам данного склонения, затем по мере знакомства учащихся с другими склонениями — по отношению к одному и тому же падежу разных склонений.
Постепенно, по мере изучения всех трех склонений, учащиеся усваивали всю систему взаимно смешиваемых окончаний в их сопоставлении и различении. Не делалось при этом исключения и для так называемых слов особого склонения на -ий, -ие, -ия, которые по программе проходятся изолированно от основных трех типов склонения (в V классе). Учет орфографической успешности проводился через определенные промежутки времени на том же самом материале как в опытных, так и в контрольных классах, обучавшихся по обычной методике.
По этой методике изучение правописания падежных окончаний проводилось последовательно, по отдельным склонениям; изучение падежей каждого склонения сначала проходило в чисто грамматическом плане: устанавливались падежные окончания всех падежей, о взаимно смешиваемых окончаниях в лучшем случае делались словесные указания на необходимость их «запомнить»; с необходимостью их различения ученики сталкивались
1 См. по этому вопросу цитированную выше его статью.
лишь при переходе к письменным упражнениям поели заучивания всех образцов окончаний; работа по сопоставлению и различению окончаний одних и тех же падежей в разных склонениях не проводилась до окончательного изучения всех трех склонений, но и здесь она выражалась в лучшем случае в словесном анализе и составлении графической схемы окончаний, без специализированных упражнений на правописание различных окончаний внутри одного и того же падежа.
Различие обеих методик, следовательно, заключалось в том, что в опытной методике противопоставление проводилось с самого начала, каждое новое окончание усваивалось в связи с прежде усвоенными, сопоставление и различение вырабатывалось в процессе активной деятельности учеников, для чего применялись особые приемы и упражнения, разработанные В. К. Успенской.
Результаты сравнительного учета показали полное превосходство опытной методики не только по отношению к параллельным, контрольным, но и к «старшим» классам: так, на первом году обучения (III класс) опытный класс дал лучшие результаты не только по сравнению с другими третьими классами, но и по отношению к IV классу; на следующий год (IV класс) — по сравнению с V классом.
Все эти данные позволяют, как мы полагаем, составить вполне обоснованное представление о методе «противопоставления» (применяя павловский термин) как наиболее эффективном, по сравнению с методом изолированного усвоения варианта правописания.
Следовательно, при анализе этапа «объяснения» нам следует остановиться на вопросах, связанных именно с этим методом.
Вернемся для этого к тем намеченным выше задачам, которые возникают при «объяснении». Первой из них является показ двух вариантов правил. Учащиеся должны увидеть, что одна и та же грамматическая категория на письме обозначается двояким способом. Наиболее эффективно эта задача решается методом «столкновения с трудностью», о котором шла речь выше. Однако двухвариантность правила придает этому моменту некоторое своеобразие. Выше говорилось лишь о выяснении общего противоречия произношения и правописания.
В данном же случае, помимо этой трудности, ученикам предстояло сделать выбор между правильными вариантами и найти основание для их различения.
Если строить методику объяснения правила на принципе противопоставления, то учитель должен «показать» оба варианта одновременно.
Сначала обращается внимание учеников на несоответствие произношения правописанию (методом столкновения с трудностью), а затем учащимся предлагается на конкретных примерах убедиться в том, что одно и то же звукосочетание при письме изображается двояким способом. Этим самым перед ними ставится основная задача: как узнать, когда следует употреблять тот или другой вариант.
После этого начинается основной этап объяснения правила: анализ фактического материала и выведение правила. Понимание нового правила облегчается в том случае, когда знакомство с ним вырастает из активной деятельности учеников.. Именно в этом следует видеть психологическое значение индуктивного метода. Ученик, опираясь на наблюдения над отдельными конкретными фактами языка, при помощи учителя приходит к необходимым обобщениям. Поэтому большое значение приобретает характер того материала, который анализируется учащимися.
Для целей первоначального знакомства с правилом следует подбирать наиболее типичные для данного правила языковые факты, в которых наглядно и полно раскрывались бы отношения его отдельных элементов, наиболее ясна была бы их взаимозависимость. Примеры, которые служат отправной точкой для этого анализа, должны играть для учителя-словесника такую же роль наглядного пособия, какую для естественника играют предметы и явления окружающего мира. Поэтому удачный подбор их имеет огромное значение для хода анализа. Еще Тихомиров подчеркивал, что примеры, заключая в себе все признаки, необходимые для объяснения правила, не должны вместе с тем заключать ничего лишнего, ничего сомнительного. Всякого рода факты, которые могли бы усложнить анализ и отвлечь мысль ученика в сторону, не должны вводиться на этапе объяснения правила.
Вот почему с психологической точки зрения следует
подвергнуть сомнению господствующее в методике до самого последнего времени мнение, что примерный материал должен всегда состоять либо из связного текста, либо, во всяком случае, из цельных предложений. Мы полагаем, что применительно к орфографии вопрос о материале решается в зависимости от языкового характера дополнительных признаков, дифференцирующих написания. Если варианты правила обусловлены синтаксически (например, правописание флексий), то, очевидно, для анализа необходимы или предложения, или цельные отрывки; если различительные признаки относятся к фонетике или морфологии слова, то часто введение сложного текста лишь затрудняет процесс анализа, между тем как анализ отдельных слов может облегчить задачу и тем самым способствовать лучшему пониманию правила.
Анализ подобранного таким образом материала направляется на выделение в нем существенных элементов правила и, прежде всего, той грамматической категории, о правописании которой идет речь, а затем тех дополнительных дифференцирующих признаков, которые обусловливают двоякое обозначение этой категории на письме.
В связи с этим следует различать два процесса: обобщение сходных случаев написания (внутри каждого из вариантов) и различение самих вариантов. Для того чтобы образовалось обобщение, необходимо проводить наблюдение и анализ ряда однородных случаев (например, ряд слов с приставками на з). Поэтому выделение сходных элементов правила должно проводиться на ряде однотипных слов или словосочетаний, достаточном для того, чтобы ученики поняли, что правило относится к типу слов или словосочетаний, однозначных в том или другом отношении.
Покажем это на примере объяснения одного из типичных двухвариантных правил — правописании приставок на з и с (раз, без, из, воз и т. п.).
Так как это правило не требует синтаксического анализа, то обычно материалом для анализа служат отдельные слова, попарно противопоставляемые друг другу. На доске они располагаются примерно так:
разбить — распилить
безбородый — бесплатный
возделать — воскликнуть
избить — испортить
«извергать — «исходить
чрезмерный — чересполосица
Учитель обычно начинает анализ с задания найти и подчеркнуть в каждом слове приставку. Это задание и является тем, что можно назвать 'выделением объекта правила, т. е. первого, грамматического звена, необходимого для образования в дальнейшем орфографических ассоциаций.
Как было показано выше, такая работа требует сама по себе сложной абстрагирующей деятельности учеников, направленной на анализ морфологической структуры слова. Степень трудности выполнения такой задачи определяется поэтому предшествующей грамматической подготовкой учащихся. Но так или иначе, выполняя это задание, ученики различный лексический материал группируют по одному общему (в данном случае грамматическому) признаку.
После подобного грамматического анализа возможно перейти к орфографическому наблюдению и анализу. При двухвариантном правиле эта задача сводится прежде всего к обнаруживанию этих вариантов. Опытный педагог обычно задает учащимся примерно следующие вопросы: «Сравните теперь парные слова двух столбцов. Есть ли в них одинаковые приставки? Как они произносятся? А как пишутся?»
Подобные задания приводят к тому, что сходный в грамматическом отношении ряд распадается на две группы слов, различающихся в орфографическом отношении: приставки с буквой з и приставки с буквой с. Это является результатом образования новых обобщений материала в процессе сопоставления слов-примеров в каждом из столбцов.
Следующее задание учителя ставит перед классом основную орфографическую проблему: «Почему же мы в одном случае пишем одну и ту же приставку через з, а в другом — через с?» Судьба этого вопроса различна. При легких правилах (подобно нашему) в классе обычно находятся ученики, которые сразу догадываются, в чем тут дело, но при более сложных для этого требуется последующий анализ. Цель его — выделение дифференцирующих признаков. В этом случае учитель облегчает
учащимся эту задачу, направляя ход анализа. «Обратите внимание на те буквы, которые следуют за приставками. Произнесите буквы левого столбца; теперь правого. Подчеркните их».
В результате, дифференцирующие звуки и буквы выделены в каждом слове, но еще не обобщены и не подведены под понятие глухих и звонких согласных. Для этой цели необходимо вновь сопоставление сходных фактов каждого ряда слов. В результате этого приема должно быть достигнуто обобщение дифференцирующих признаков, которые в нашем примере носят фонетический характер. С этой целью учитель дает примерно следующие задания: «Сравните те звуки, которые следуют за приставками в левом столбце. Как мы называем такие звуки? А какие согласные следуют за приставками в правом столбце?» В итоге — обобщение: налево все согласные звонкие, направо — глухие.
После такого фонетического анализа и обобщения снова возвращение к результатам уже проведенного орфографического анализа слов: «А как пишутся приставки в левом столбце? А в правом?» Эти вопросы служат цели образования ассоциаций между дифференцирующими признаками и соответствующим вариантом написания.
Теперь проделана вся подготовительная работа по анализу и синтезу наглядного материала. Выделены все существенные элементы правила. Сходные элементы обобщены и подведены под знакомые ученикам грамматические или фонетические понятия. Обобщенные дифференцирующие признаки противопоставлены друг другу, с каждым из них связан тот или другой орфографический образец.
Остается лишь обобщить всю предшествующую работу и решить основной вопрос, поставленный вначале, т. е. вывести орфографическое правило из работы над материалом. Это и является целью заключительного вопроса учителя: «Не сможете ли теперь сказать, в каком случае эта приставки пишутся через з, а в каком — через с?»
После подобной предварительной работы дети обычно без труда осознают наметившуюся закономерность и формулируют сущность правила. Учителю остается лишь исправить детские формулировки, дать правило 312
в развернутом виде и прочесть его с учениками по учебнику.
Подобная организация урока характерна тем, что она вызывает активную мыслительную деятельность учащихся. Учитель направляет и руководит этой деятельностью, ставя последовательно перед учениками ряд задач, решение которых подготавливается сравнением приставок, сравнением выделенных согласных и пониманием, на основе использования прежних знаний, обобщенного «типа» этих звуков. В результате устанавливаются новые ассоциации, дифференцирующие варианты написаний: «тип» глухих согласных — буква с\ «тип» звонких — буква з.
Однако подобное понимание не обеспечивает само по себе образования орфографического навыка. Для выработки навыка в школе применяются разнообразные упражнения. Но вопросы, связанные с психологией орфографических упражнений, мы рассмотрим в следующей главе.
Чтобы закончить изложение вопроса об «объяснении» двух первых типов правил, следует остановиться на рассмотрении таких случаев, когда применение метода противопоставления становится возможным не только по отношению к «двухвариантным», но и к однозначным правилам. До сих пор под «двухвариантностью» мы подразумевали варианты, указываемые в тексте одного и того же школьного правила. В этом случае применение метода противопоставления подсказывается учителю самой формулировкой правила.
Вопрос о вариантах не исчерпывается этими наиболее очевидными случаями. Многозначные (взаимно смешиваемые) орфограммы часто относятся к самым различным правилам. Многозначность отмечается как «внутри» одной части речи (например, падежные окончания разных склонений), так и среди различных частей речи (например, многозначное правописание окончаний на шипящую в именах существительных, кратких прилагательных, повелительной форме глагола и в наречиях),
О примерах такой многозначности мы уже говорили в этой главе. Так, правило о правописании окончаний определенного падежа в определенном склонении имен существительных было отнесено нами к однозначным правилам, так как грамматическому изучению особен-
ностей отдельного падежа соответствует отдельное орфографическое правило. Однако, излагая опытную методику противопоставления, мы видели, что на самом деле одна и та же звуковая форма встречается не только в разных падежах одного и того же склонения, но и в одном и том же падеже различных склонений.
Таким образом, по отношению к этапу объяснения встает вопрос, может ли методика противопоставления быть применена к подобным орфограммам и как это применение осуществить в момент объяснения правила.
Относительно положительного ответа на первый вопрос у нас не возникает никаких сомнений. Действительно, при такого рода многозначности налицо оба признака дифференцируемых агентов, о которых говорил И. П. Павлов; с одной стороны, имеется «общая» часть таких слов-раздражителей — сходное звучание той или другой морфемы; с другой, — «особенная» — грамматическое или фонетическое ее своеобразие, с чем связываются и различные варианты. Так, например, созвучие флексий одного и того же падежа имен существительных различается на письме в зависимости от типа склонений; одно и то же звучание безударного корня чъс различается на письме в зависимости от значения корня (чистота— частота); для одинаково звучащих окончаний на шипящую {грач — дочь) дифференцирующим признаком является значение грамматического рода имени существительного и т. д.
Применение метода противопоставления для такого рода орфограмм осложняется, следовательно, не вследствие каких-либо их языковых особенностей, препятствующих или делающих излишним этот метод. Причины затруднений порождаются, главным образом, распределением грамматического и орфографического материала в курсе школьной грамматики. Как известно, расположение и последовательность орфографических правил определяются главным образом системой изложения грамматики, поскольку изучение грамматики предшествует изучению орфографии. Вследствие этого орфограммы, подлежащие дифференциации, часто изучаются в разное время.
Особенно изолированными оказываются сходные орфограммы тогда, когда они относятся к разным частям речи, так как изучение каждой части речи продолжается 214
в школе значительный период времени. Так, например, о правописании ь после шипящих (врач — дочь) ученики V класса узнают при изучении имени существительного; о созвучной краткой форме имен прилагательных (горяч) спустя Р/2—2 месяца; об употреблении ь в окончаниях неопределенной и повелительной формы глагола (прилечь, спрячь) еще через такой же промежуток времени, а с ь в наречиях (вскачь) лишь на следующий год.
Естественно, что при таком распределении во времени изучения отдельных правил трудно как будто говорить о противопоставлении, и в то же время при выработке навыков трудно избежать их интерференции. Однако педагогический опыт передовых учителей показывает, как это мы видели на примере работы В. К. Успенской, что в некоторых случаях объединение нескольких правил в одну группу вполне возможно без какого-либо нарушения грамматической системы. Такая систематизация орфографических правил легко осуществляется в пределах одного какого-нибудь раздела грамматики и труднее — между разными. Но и в этом последнем случае, по-видимому, она не является абсолютно исключенной, по крайней мере при теперешнем распределении грамматического материала между начальной и средней школой.
Специальное исследование этих возможностей выходит за рамки нашей психологической работы, но можно привести ряд примеров, где сопоставление и противопоставление орфограмм, относящихся к разным разделам грамматики, становится возможным. Так, например, вполне возможно в V классе правило о правописании ъ после шипящих в именах существительных мужского и женского рода распространить на правописание наречий и повелительного наклонения глаголов. Это становится практически осуществимым, потому что для такого расширения правила у учащихся имеется необходимая грамматическая база. Наречие и повелительное наклонение ими изучены в начальной школе в объеме, вполне достаточном для усвоения орфографического правила. Экспериментальная проверка эффективности подобного сближения правописания падежных окончаний имен существительных на ий, ия, ие с основными типами склонений была показана в работе Жуйкова и Успенской. Изучение этих орфограмм в начальной школе при противопоставлении их окончаниям
I и II склонения помогло выработке нужных дифференцировок, и уже в начальной школе эти «трудные» случаи орфографии почти не давали ошибок.
В некоторых случаях разбросанность орфографического материала можно объяснить лишь формальным пониманием систематичности грамматического материала. Так, например, в стабильном учебнике грамматики одно и то же правило о правописании о и е после шипящих в ударных и безударных падежных окончаниях имен существительных, имен прилагательных и в суффиксах предлагается для изучения несколько раз и никак не обобщается, хотя очень легко поддается примерно такому расширению: после шипящих в таких-то случаях под ударением пишется о, а без ударения е. Сделать это вполне возможно потому, что соответственные понятия о прилагательных и суффиксах у учащихся уже имеются.
Отсутствие обобщения этих сходных правил препятствует выработке четкой дифференциации между ними и отличающимися от них правилами о правописании суффиксов глаголов и страдательных причастий, где после шипящих под ударением пишется не о, а е (ё) — раскорчевывать, лишенный, уличен. Ученикам приходится проделывать сложную работу по припоминанию всех тех многочисленных «мелких» правил, относящихся к одной и той же орфограмме, хотя все эти правила легко могут быть объединены и противопоставлены: в суффиксах всех частей речи после шипящих под ударением пишется о, а в глаголах — е (ё).
Такая же излишняя перегрузка учащихся запоминанием частных правил, вместо одного общего, имеется и в правиле о- слитном и раздельном правописании частицы не с именами существительными, прилагательными, глаголами и наречиями. В школе это правило изучалось и запоминалось учениками несколько раз почти в тех же самых Формулировках (см. тот же учебник под ред. Л. В. Щербы), по-видимому, лишь потому, что по грамматике эти части речи изучаются в определенной последовательности. А между тем и здесь возможно обобщенное правило о слитном написании частицы не противопоставить правилу о ее раздельном написании L
1 В настоящее время это сделано составителями нового учебника С. Е. Крючковым и С. Г. Бархударовым,
Конечно, вопрос о конкретном материале, Поддающемся обобщению и противопоставлению, требует детального изучения как с языковой стороны, так и с методической. Здесь нам хотелось лишь подчеркнуть его важность с точки зрения психологии усвоения орфографии.
Как мы видели из приведенных примеров, систематичность, последовательность и распределение орфографического материала не всегда в точности соответствуют той системе расположения грамматических сведений, которой издавна придерживаются школьные программы и учебники.
Это происходит потому, что в то время как грамматика является сводом правил, относящимся к устной речи, орфография изучает речь письменную и потому, наряду с грамматическим осмыслением, усвоение орфографии требует систематизирования сходного и различного материала с чисто орфографической точки зрения. Объектом изучения при этом становятся созвучные сочетания, различно обозначаемые при письме, вне зависимости от отношения к той или иной грамматической категории (например, употребление и неупотребление мягкого знака после шипящих).
Вопрос о введении таких объединенных правил может решаться двояким способом в зависимости оттого, может ли противопоставление таких объединений происходить одновременно при первом же знакомстве с данным орфографическим правилом, т. е. в момент его объяснения, или сначала должно происходить это объяснение на одном материале, а потом на следующем этапе усвоения этого правила расширяется объем его или противопоставляется данный вариант другим вариантам.
Этот вопрос не изучался ни путем психологического, ни путем педагогического эксперимента. Решать его, следовательно, возможно пока чисто теоретически. Теоретически данный вопрос можно сформулировать следующим образом: следует ли сначала закрепить и упрочить первый навык, а затем присоединить к нему правило, противоречащее первому, или, наоборот, не лучше ли к специализации правил приступать тогда, когда усвоение первого правила еще не перешло в навык.
Очевидно, что обсуждаемая нами ситуация принципиально не отличается от той, по поводу которой мы при-
Ьодилй павловское положение о наиболее эффективном методе дифференцировки. Следует также вспомнить опыты И. П. Павлова с перестройкой хорошо выработанных условных рефлексов, которая всегда требовала очень длительной и упорной работы. Мы можем, наконец, опереться в данном случае на экспериментально установленный И. П. Павловым и его учениками факт, что перестройке легче всего поддаются новые, неупроченные условные связи. Аналогичные данные имеются и в психологии, с ее учением об интерференции навыков, и в эмпирическом опыте, свидетельствующем о том, что переучивание труднее, чем учение заново. Все эти данные вполне соответствуют нашему частному случаю, когда у нас на одну и ту же звуковую форму требуется сначала выработать одну условную реакцию, а затем другую.
Следовательно, можно полагать, что и в обучении орфографии момент противопоставления одного правила другому даст тем больший эффект, чем ближе он будет смещен к начальному моменту образования ассоциации, т. е. если будет проведена ранняя дифференцировка. Поэтому, если по методическим соображениям второе правило не может быть «введено» одновременно с первым в момент объяснения (подобно тому, как это было сделано на уроках В. К. Успенской), то специализацию правил следует производить в период упражнений по закреплению первого правила; наконец, если и это окажется невозможным, то на методе противопоставления должно быть построено объяснение второго правила.
Так, например, при объяснении правило о правописании шипящих в кратких прилагательных (типа горяч) можно сравнить с ранее изученным правилом о правописании шипящих в именах существительных мужского и женского рода (ночь — грач). Такое сравнение дает возможность учащимся объединить в одну орфографическую группу орфограммы типа горяч и грач и разграничить написания типа горяч и ночь.
Мы видим, таким образом, что понимание правила двухвариантного типа достигается в результате сложного аналитико-синтетического процесса. В результате анализа конкретных орфографических фактов учащиеся абстрагируют те признаки, в зависимости от которых употребляются эти варианты, обобщают их, опираясь на свои прежние грамматические знания и, наконец, форму-318
лируя правило^ устанавливают определенную зависимость между этими дифференцирующими признаками и соответствующими вариантами правописания.
В результате такого объяснения учащиеся при письме получают возможность на сходные звуковые раздражители отвечать двумя разными условными реакциями. Подобное изучение учениками правила сильно отличается от той работы, которая требуется от них при объяснении правила одновариантного типа, где зависимость между орфографическим и грамматическим фактами является однозначной. Наоборот, большое психологическое сходство наблюдается между процессами, характерными для двухвариантных правил, и правилами третьего типа, которые мы условно обозначили, как «правило-эксперимент».
Особенность этого типа правил заключается, как об этом говорилось выше, в том, что само правило не дает каких-либо определенных вариантов, а предлагает прием, которым должны пользоваться ученики для определения правописания.
Наиболее типичными в этом отношении являются правила о правописании безударных гласных в корнях слов и так называемых сомнительных согласных. Психологической основой приема «проверки» в обоих правилах является, как мы уже указывали, установление межсловесных ассоциаций по заданному сходному признаку.
Если иметь в виду, что мы оставляем временно вопрос об упражнениях, то объяснение общего правила о том, как следует проверять эти орфограммы, не представляет большой сложности для усвоения, даже для учеников II класса, где оба эти правила проходятся. При объяснении правила ученики должны усвоить основное: безударные гласные или согласные перед другой согласной (а также в конце слов) произносятся не всегда так, как пишутся; соответствующий подбор аналогичных слов помогает узнать их правописание.
Первая задача решается уже на этапе «столкновения с трудностью» или, другими словами, при сопоставлении обычным путем произношения и правописания. В психологическом отношении этот момент объяснения правил третьего типа ничем не отличается от соответствующего этапа в правилах первого типа. Учитель обращает внимание учеников на произношение данной орфограммы
И Противопоставляет йройзйоШеййю йрайопйсание. Как мы уже говорили, это противопоставление будет нагляднее и убедительнее, если оно явится результатом самостоятельных попыток учеников справиться с данной орфографической трудностью.
Последующий этап анализа, однако, имеет свои особенности. Здесь не требуется сравнения двух орфографических вариантов, как это было при объяснении двухвариантных правил. Подлежат сравнению парные звучащие формы, первая из которых — «сомнительная», вторая — «очевидная». В результате слухо-речедвигатель-иого анализа выделяются их различительные признаки: место ударения (для правила о безударных гласных) и наличие гласных звуков после согласной (для правила о сомнительных согласных).
Второй момент анализа состоит в сравнении каждой из парных звуковых форм с соответствующей графемой (например, произношение слов плод — плоды с их правописанием). Результат такого сравнительного анализа должен выразиться в установлении соответствия между измененным звучанием «сомнительных» звуков и их графической формой (например, звук д в слове плоды пишется в соответствии с произношением). В заключение делается вывод, обобщающий данные анализа отдельных слов, — формулируется правило.
В школьной практике подобное объяснение проходит обычно следующим образом. На доске пишутся примеры: Наш СССР силен и молод — В гербе Союза серп и молот; Его успехи все растут — В Союзе уважают труд.
Сравнивается первая пара предложений. Обращается внимание на одинаково звучащие слова молод и молот. Устанавливается, что правописание их различается последними буквами.
Обращается внимание на различную семантику слов. Так же изучается правописание слов растут и труд.
Делается вывод о невозможности в таких случаях (без дальнейшего уточнения) писать по произношению; вместе с тем перед учащимися ставится задача: как же узнать, в каких случаях конечные согласные пишутся в соответствии с произношением, а в каких — иначе. Этим заканчивается первый этап объяснения правила.
Затем учитель переходит к анализу основного материала. Производится сопоставление «сомнительной» фор-320
мы слова с ее «проверочным» вариантом. Дается примерная таблица слов.
Молод — молодой Пруд —- пруды
Снег — снега Лез — лезу и т. д.
Учитель предлагает учащимся обратить снова внимание на несоответствие правописания с произношением в словах левого столбца. Затем он предлагает ученикам сравнить попарно произношение слов левого и правого столбцов. Фиксируется обобщение: в словах правого столбца конечные согласные звучат иначе, чем в словах левого, а именно — так, как пишутся.
Ставится вопрос, снова формулирующий задачу, но уже более конкретно: «Почему эти согласные в словах правого столбца стали «ясно слышимыми»? Как мы •изменили эти слова?»
При необходимости учитель направляет самостоятельный анализ учеников примерно следующими «наводящими» вопросами: Какая буква появилась после согласной д в слове молодой? А в слове пруды, снега и т. д.? А как мы называем такие буквы, как о, ы, а?
И, наконец, следует обобщающий вопрос: «Что же надо сделать для того, чтобы выяснить (проверить) правописание конечных согласных?» В ответ на этот вопрос ученики с помощью учителя приходят к предварительной формулировке правила: «Чтобы узнать, как пишется конечная согласная, надо изменить слово так, чтобы после нее следовала гласная». Во многих случаях этим выводом и заканчивается объяснение правила. Некоторые учителя, однако, подводят учащихся путем сопоставления конечных согласных в словах левого столбца к обобщенному выводу, что в конце слов не произносятся звонкие согласные звуки и что вместо них произносятся соответствующие глухие.
Из этого примерного описания мы видим, что процесс объяснения по своей структуре представляет много сходного с объяснением двухвариантных правил. Так же, как и в двухвариантных правилах, здесь налицо все основные этапы объяснения: выделение существенных элементов правила, этап обобщения и момент вывода.
Однако, как мы отмечали выше, правила третьего типа не дают графических образцов для письма, что было характерным для правил первого и второго типа.
После объяснения такого правила ученики узнают лишь технику его применения. Это не представляет особых трудностей, если знания отдельных элементов правил (глухость и звонкость согласных, понятие об однокоренных словах, ударение) уже достаточно упрочены. Но легкость понимания правила не всегда соответствует легкости усвоения правописания. С этим фактом мы уже встречались при анализе правописания безударных корней слов. Мы видели там, что трудности при применении этого правила возникают в процессе установления межсловесных связей по сходству их корней, а поскольку в безударных корнях встречаются любые гласные или согласные, то очевидно, что и в этих правилах трудности возникают в конце концов из-за явления многозначности.
Так, например, различно произносимые звуки а, е, и (мьасо, миесной) на письме передаются одинаково через я (мясо, мясной). Или, наоборот, одинаково звучащие варианты гласных звуков передаются на письме различно (травй, столы).
Следовательно, за кажущейся легкостью усвоения правила этого типа скрывается та же трудность, что и в двухвариантных правилах. Эта трудность связана с необходимостью дифференцированного подхода к произносительной стороне речи. Поэтому не следует полагать, что при усвоении третьего типа правил процессы сопоставления или противопоставления не играют роли или их роль по сравнению с двухвариантными правилами незначительна. Напротив, здесь они выражены в наиболее яркой форме, но они развертываются в своем конкретном виде не столько в процессе объяснения правила, сколько на следующем этапе обучения при самостоятельном применении этих правил на письме, когда перед учеником встает задача определить тот или иной вариант правописания. Как мы видели на примере безударных гласных, решение этой задачи требует как сопоставления, так и дифференциации значений корней слов.
И в этом типе правил применение метода сопоставления и противопоставления является столь же необходимым, как и по отношению к правилам второго типа
Если подвести теперь итоги всему сказанному об объяснении правил, вне зависимости от их типов, то можно дать следующую общую психологическую характеристику этого этапа обучения.
«Понимание» правила является результатом активной деятельности ученика; степень сложности этой деятельности зависит от структуры правила. В результате объяснения должны быть образованы первоначальные связи между орфограммой и определенной грамматической категорией.
В простейших случаях (одновариантные правила) устанавливается прямая ассоциация (например, родительный падеж прилагательных имеет окончание -ого, -его; звукосочетания жи, ши всегда пишутся через и). Понимание правила здесь может быть достигнуто путем словесного объяснения. Наиболее существенным условием понимания в этом случае являются достаточно прочные предварительные знания учеников о тех языковых фактах, к которым относится правило. В данном случае новым является лишь запоминание графического образца.
В двухвариантных правилах при сходстве звучаний графически различно оформляется одна и та же грамматическая категория (например, суффиксы -ек, -ик). В таких случаях установления прямой ассоциации между грамматической категорией и ее графической формой недостаточно. Необходима предварительная дифференциация слов, относящихся к данной категории, по дополнительным дифференцирующим признакам. Объяснение правила состоит тогда в выделении этих дифференцирующих признаков внутри данной грамматической категории и в установлении ассоциаций с соответствующими вариантами написания.
Выделение и обобщение дополнительных признаков представляют собой обычно новую для учеников работу, хотя и основываются на предшествующих знаниях учеников. Вследствие этого попытки образовать «с места» необходимые связи в данных случаях не всегда приводят к успеху; при этом объяснение правила достигает большей эффективности, когда опирается на реальный анализ наглядного языкового материала. Существенным моментом этого анализа является прием противопоставления, при котором один вариант написания противопоставляется другому. Значение этого метода выходит за пределы первоначального понимания правила. Как показал школьный опыт и специальные психологические исследования, осознание различия орфограмм при объяс
нении правила оказывает положительное влияние на весь последующий процесс формирования орфографического навыка.
Аналитико-синтетическая работа учащихся при объяснении правила опирается на чувственно (зрительно и слухо-речедвигательно) воспринимаемые формы языкового материала. (Например, ученик видит написание слов «плод — плоды», произносит их вслух, сравнивает их произношение, выделяет различное произношение буквы д.) Очевидно, что в данном случае анализ совершается с участием первой сигнальной системы, несмотря на то, что производится над словами, служащими обычно раздражителями второй сигнальной системы. Это происходит потому, что, во-первых, слово не выступает здесь как средство общения в обычной своей роли «сигнала сигналов», а становится предметом нашего изучения; во-вторых, потому, что значение слова немыслимо без фонетического или графического оформления, а эта материальная сторона слова всегда воспринимается через периферийный аппарат наших анализаторов. Следовательно, чем большую роль в анализе словесною материала занимает анализ чувственно воспринимаемых форм языка, тем большее участие принимает в этом процессе первая сигнальная система. В этом смысле анализ конкретного языкового материала при объяснении правила можно рассматривать как прием обучения, опирающийся на языковую наглядность и представляющий одну из форм реального анализа, а реальный анализ в противоположность умственному, как известно, является наиболее доступной формой и потому содействует наилучшему пониманию правила.
При объяснении правила, как мы видели, важнейшее значение имеют вопросы и задания учителя, которые направляют ход аналитико-синтетической работы учащихся. Мы знаем, что особо важным свойством второй сигнальной системы является ее регулирующая функция, благодаря которой образование временных связей происходит избирательно «на основе общих понятий» (Павлов). Указания учителя регулируют умственную деятельность школьника посредством постановки последовательно сменяющихся задач, направленных на анализ и синтез изучаемого материала.
Таким образом, объяснение правил, идущее индуктивным путем, основывается на таком взаимодействии первой и второй сигнальных систем, при котором процесс анализа начинается с непосредственно воспринимаемого языкового материала, причем по мере продвижения этого анализа его результаты обобщаются в слове.
Такой анализ, как мы видели, состоит в узнавании и выделении элементов правил, предполагает обобщение сходных элементов, которые, будучи противопоставлены друг другу, связываются с соответствующими вариантами правописания.
Отличие дедуктивного метода заключается в том, что он рассчитан на замыкание связей со второй сигнальной системы сразу, без предварительной аналитико-синтетической работы, характерной для индуктивного метода.
При дедуктивном методе в орфографии тот или иной графический знак непосредственно соотносится с определенной грамматической категорией или обобщенной фонетической ситуацией, хорошо известной ученикам. Физиологическим механизмом такого «соотнесения» является образование связей не между участками коры, находящимися в состоянии возбуждения от раздражения периферического конца анализаторов (как это имеет место при индуктивном методе), а между двумя очагами «следов» прежних ассоциаций, «оживляемых» словами учителя.
В том случае, когда эти «следы» свежи, когда слова учителя, выражающие те или иные понятия, вызывают сразу необходимые промежуточные понятия и представления языкового характера, тогда новые орфографические ассоциации могут возникнуть «с места». В этом случае для понимания правила необходимость в предварительном анализе и синтезе отпадает. Правило может быть понято учащимися со слов учителя. Но независимо от того, индуктивным или дедуктивным методом шло объяснение, понимание правила само по себе не может решить судьбу обучения. Орфографический навык окончательно формируется лишь в процессе применения правила в практике письма, в процессе упражнений. Анализу этого этапа обучения и посвящается следующая глава.
Глава VIII
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
Этап упражнений в школьной практике обычно следует непосредственно за этапом объяснений. Цель его — применение полученных знаний в практической письменной деятельности ученика. Конечный результат — выработка орфографического навыка. После краха схоластических методов обучения орфографии, построенных на наивной вере в решающее действие заученных правил, ни в обобщающих педагогических работах, ни в школьной практике не возникало сомнений по поводу необходимости упражнений и тренировочных работ.
Однако, как мы видели из исторического обзора методических теорий, вопрос о характере орфографических упражнений был предметом долголетней методической дискуссии.
И в настоящее время в методике орфографических упражнений имеется ряд нерешенных вопросов. Поэтому психологический анализ упражнений и их роли в выработке орфографического навыка имеет до сих пор не только теоретическое, но и практическое значение.
Для того чтобы представить реальный ход обучения, следует вернуться вновь к предыдущему этапу «объяснения» учителем правила и представить себе тот характер знаний учащихся, с которыми он приступает к орфографическим упражнениям.
Ученик на анализе нескольких типичных орфограмм впервые познакомился с новым правилом. Он узнал способы его применения лишь на немногих примерах, специально подобранных учителем. Все объяснение правила 326
проходило в несколько искусственной, тепличной обстановке. Процессом выделения данных орфограмм руководил учитель, ошибочные умозаключения ученика тут же исправлялись, думать о других правилах ученику не приходилось, задачи, решаемые учеником, ставились перед ним учителем. Все эти условия деятельности ученика в значительной степени отличаются от тех условий, в которых обычно протекает самостоятельная письменная речь.
Допустим, что то или иное правило при таком методе объяснения учеником было «понято» со всей возможной ясностью и отчетливостью. Допустим далее, что он добросовестно и прочно заучил его правильную формулировку. Означает ли это, однако, что ученик уже усвоил правило настолько, насколько это необходимо для грамотного письма?
Достаточно поставить этот вопрос, чтобы стало очевидно, что каждый педагог-практик ответит на него отрицательно. Педагог заявит, что ученики не сразу приучаются пользоваться правилом, забывают его, начинают «путать» правило и делать ошибки там, где до этого они не делали, и т. д. Поэтому правило должно быть «закреплено» упражнениями.
Необходимость упражнений очевидна и с психологической точки зрения. В краткой форме психологическое понимание роли упражнений может быть раскрыто в следующем общем положении: эффективное усвоение понятия или правила происходит только в процессе его применения. Лишь используя понятия или правила в разнообразных случаях и условиях, достигается такая степень усвоения, которая адекватно отражает сущность изучаемых явлений. Понимание правила и запоминание учениками его словесной формулировки является лишь начальной фазой, отправным пунктом усвоения, дальнейшая же судьба этого процесса зависит от той деятельности, в которой регулирующую функцию выполняет правило. В качестве такой деятельности и выступают упражнения, следующие за объяснением правила.
Учение И. П. Павлова об аналитико-синтетическом принципе высшей нервной деятельности подтверждает правильность такого понимания функций упражнений. Для образования временных связей и их закрепления
необходимым условием является повторение одних и тех же раздражителей, вызывающих корковую деятельность, которая постепенно приводит к специализации или дифференцировке раздражителей и установлению таких системных связей, которые «соответствуют действительности». При выработке новых связей повторение не ведет к механическому воспроизведению первых полученных реакций, обычно широко генерализирующих, а вызывает дифференцировочное торможение на неподкрепляемые компоненты раздражителей, что и позволяет отделить то, что соответствует действительности, от того, что ей не соответствует.
Имея в виду некоторые механистические теории обучения, о которых шла речь в обзорных главах, следует особенно подчеркнуть, что при таком понимании процесса упражнений эффект повторений не ограничивается повторностью восприятия раздражителя (в нашем случае орфограммы), а характеризуется процессами аналитикосинтетического характера, сложность которых во многом зависит от сложности раздражителей, а это означает, что положительный эффект упражнений зависит не только от повторения зрительных или акустических восприятий слов-раздражителей, но и от связанной с этими восприятиями анализирующей и синтезирующей работы мышления, приводящей к усвоению обобщений, лежащих в основе применения грамматических правил, и к их дифференциации.
Выполнение упражнений, таким образом, не только содействует закреплению орфографических ассоциаций, но и развивает мышление учеников, стимулируя те формы аналитико-синтетической деятельности, которые необходимы для выделения грамматических объектов правила, для дифференциации орфограмм по дополнительным признакам, для подведения их под соответствующее правило. Повторные встречи с данным типом орфограмм делают эти формы анализа и синтеза привычными для учеников. Это сказывается в том, что с каждым шагом выполнение упражнений требует от ученика все меньших усилий. Постепенно он научается применять правила быстро по ходу работы. При этом происходит девербализация деятельности ученика, ее «свертывание». Опознавание грамматических форм происходит как бы одновременно с их восприятием.
Таким образом, сложная аналитико-синтетическая деятельность, развертывающаяся при выполнении орфографических упражнений, требующих сознательного применения правила, приводит, с одной стороны, к усвоению правила, а с другой — к выработке навыка.
Такова общая роль орфографических упражнений, как ее можно мыслить, основываясь на психологической теории, опирающейся на законы высшей нервной деятельности, установленные И. П. Павловым. Однако такого общего знания психологической природы упражнений недостаточно. Конкретные условия обучения отражаются на процессе усвоения, вносят в него специфические изменения. Поэтому в дальнейшем изложении мы ставим задачу рассмотреть психологические вопросы упражнений применительно к особенностям обучения орфографии.
Прежде всего на психологию упражнений оказывает свое влияние языковой характер изучаемых орфограмм. Выше мы касались этого вопроса в общей форме, теперь следует рассмотреть его более подробно. Как мы помним, наиболее элементарным с психологической точки зрения является усвоение слов традиционного написания. В таких случаях в основе усвоения правописания лежит образование ассоциаций между семантико-зрительным представлением слова и соответственными реакциями письма. Эти связи единичны в том смысле, что индивидуальные особенности слов здесь не поддаются обобщению и не могут быть связаны с каким-нибудь правилом.
В силу этого для усвоения слов традиционного написания наибольшее значение приобретает зрительное восприятие. Успех упражнения в таком случае определяется в значительной степени частотой повторения зрительного восприятия изучаемых слов. Школьная практика подтверждает данное предположение, поскольку по отношению к таким словам она не знает другого метода, чем простое заучивание: каждое слово должно быть изучено «персонально».
Наиболее резко противопоставлена таким словам другая категория орфограмм, отнесенная нами к семантической орфографии (морфологической и смысловой).
Как было показано выше, усвоение семантической орфографии неразрывно связано с процессами понимания значения морфемы и с процессом абстрагирования ее из слова или предложения. Применение правила
в данном случае раскрывается прежде всего как процесс абстрагирования, предваряющий образование ассоциаций между продуктом абстракции — той или иной грамматической категорией — и соответствующими реакциями письма.
Не меняет характера процесс применения правила при усвоении и тех типов орфограмм, которые мы назвали звуковыми (обозначение мягкости на письме, разделительные знаки и т. п.). Однако содержательная сторона процесса имеет здесь другой характер.
В этих случаях графическая форма также имеет обобщенный характер, поскольку относится к определенной фонетической ситуации, обобщающей все варианты произношения данного сочетания фонем, независимо от особенностей слова, его грамматической структуры. Применение правила в этом случае также основывается на выделении из звучащего потока речи определенной ситуации, но уже не грамматической, а чисто фонетической.
Ассоциации, подлежащие выработке и закреплению, также имеют, следовательно, обобщенный первый член. Однако процессы абстрагирования и обобщения протекают в данном случае в сенсорной области.
Таким образом, мы видим, что для усвоения грамматических правил особо важное значение приобретает абстрагирующая и обобщающая деятельность мышления. Конкретные формы этой деятельности варьируются в зависимости от характера подлежащих обобщению языковых фактов.
В этом отношении уместно вспомнить тот чрезвычайно интересный в психологическом отношении анализ грамматических категорий, который дал в свое время А. М. Пешковский.
«Мы имеем в категории глагола оттенок, который может совпадать со значением вещественной части слова (ходит, бежит), может расходиться с ним (зеленеет, грустит), может, наконец, противоречить ему (ленится)... Здесь тормозит работу грамматиста тот психологический вес, который присущ вещественной части слова... Мы... предостережем читателя от того антиграмматического гипноза, который исходит от вещественных частей слова» L
1 А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, изд. 4-е. Учпедгиз, 1934, стр. 70—71.
Пешковский справедливо указывает здесь на различные степени трудности опознавания глаголов как части речи в зависимости от различия лексического значения конкретных глаголов.
Психологические исследования, которые были проведены с тех пор, как писались эти слова, представили экспериментальные доказательства правильности этих предположений.
Об этих данных мы уже говорили при описании экспериментальных материалов. Так, мы наблюдали, что при усвоении правописания безударных гласных влияние лексической стороны языка ярко проявилось в явлении, названном нами «наивным семантизмом» детей. Мы видели там, что школьникам было трудно отвлечься от житейского, конкретного понимания значения отдельных слов и считать «родственными» слова, в которых значение целых слов сильно расходилось между собой, и, наоборот, эту «родственность» ученики находили между разнокоренными словами, но близкими по своему житейскому словоупотреблению. Сходные данные были получены и в проведении экспериментального диктанта. Там было показано, как влияет на орфографию (через трудность абстрагирования грамматической категории) изменение лексического содержания разных групп слов «внутри» одного и того же правила, т. е., другими словами, относительно одной и той же грамматической категории. Интересны также данные, полученные Н. П. Ферстер 1, о влиянии на процессы абстрагирования содержания и синтаксиса предложения. Исследуя процесс усвоения категории вида, она в индивидуальных опытах предлагала ученикам VI класса для грамматического разбора тексты различного содержания.
В этих опытах Н. П. Ферстер обнаружила, например, что многие ученики, удовлетворительно определявшие вид глаголов в повествовательном тексте, затруднялись с разбором глаголов в отрицательных и вопросительных предложениях. Когда им, например, предлагались для грамматического разбора предложения типа: «Ходили ли вы за грибами?» — «Ходили»; «Нашли ли вы грибы?» — «Нет, не нашли», — ученики, несмотря на полную тожде
1 Н. П. Ферстер, Психология усвоения понятия вида глагола, «Известия АПН РСФСР», вып, 78, 1956.
ственность глагольных форм в вопросах и ответах, относили эти глаголы к разным видам или определяли вид обоих глаголов, исходя из реального смысла предложений. Вот примеры таких ошибочных объяснений учащихся:
— В первом предложении (вопросительном) ходили — несовершенный вид, «потому что здесь только спрашивается, ходили они или нет». А ходили в ответе — совершенный, «потому что известно, что они уже ходили».
— Во втором предложении нашли в обоих случаях вид несовершенный, так как в первый раз «еще только спрашивается и неизвестно, нашли ли они грибы или нет», а в ответе — тоже несовершенный, потому что «действие не совершилось, — ведь грибов они не нашли».
Эти ученические ответы с большой выразительностью показывают влияние на определение вида глагола того «антиграмматического гипноза», который исходит в данном случае от широкого синтаксического контекста.
Трудность абстрагирования заключается в данном случае в том, что значение грамматической категории вида противоречит привычному, житейскому смыслу, заключенному в предложении, и этот смысл определяет ответы учеников.
Все эти данные говорят об одном и том же, а именно о том влиянии, которое оказывает на протекание процессов абстрагирования характер того языкового материала, от которого отвлекаются для того, чтобы выделить ту или иную грамматическую категорию языка. А ведь конкретный, лексический характер речи весьма изменчив; грамматические же категории остаются стабильными (по крайней мере на данном этапе развития языка).
В орфографических упражнениях ученик имеет дело именно с таким, меняющим свое лексическое значение словесным материалом. Грамматическая категория бывает «включена» в различные слова, а слова — в предложения. Между тем, чтобы установить орфографические ассоциации, ученик должен уметь абстрагировать грамматическую категорию из любого контекста. Поэтому при выполнении орфографических упражнений вариация словесного материала имеет весьма существенное значение. Варьируя материал упражнений от более легкого к более трудному, мы тем самым создаем усло
вия для постепенного усложнения сознательной деятельности ученика, направленной на преодоление трудностей, на решение новых задач.
В результате этой деятельности вырастает уровень понимания правила, так как путем повторных «встреч» с данной грамматической категорией в разном словесном окружении в сферу действия правила втягивается все большее и большее количество слов, происходят все более точные дифференцировки и содержание понятия стабилизируется.
Разумеется, подобное постепенное «овладение» данной категорией происходит не только при выполнении орфографических упражнений. Как мы видели, первичное понимание орфографического правила осуществлялось лишь постольку, поскольку ученики опирались на имеющиеся у них грамматические знания. Так и ведущиеся параллельно орфографическим упражнениям упражнения грамматические (грамматический разбор и пр.) оказывают такое же действие на орфографию, поскольку грамматические упражнения основаны на абстрагирующей деятельности учеников и ведутся они на разнообразном лексическом и синтаксическом материале. В этом и сказывается преимущество русской орфографической системы, основанной на грамматической базе.
Однако чисто грамматических упражнений для усвоения орфографии недостаточно, вся работа ученика при грамматическом разборе направлена на грамматические цели, между тем при орфографических упражнениях грамматическая работа из самостоятельного действия должна в конце концов превратиться лишь в подсобное средство для достижения орфографической цели, т. е. нахождения графической формы выражения той или иной морфемы. Для достижения этой цели орфографические упражнения должны вырабатывать и закреплять ассоциации между грамматической категорией и ее графическим обозначением, что не обязательно для занятий по грамматике, так как грамматика является сводом правил о закономерностях главным образом устной речи. Следовательно, грамматические упражнения необходимы для развития орфографии, но они одни, без специальных орфографических упражнений, не могут еще обеспечить формирование собственно орфографических ассоциаций.
Грамматические и орфографические упражнения по
лучают свой основной смысл в зависимости от того, в какой мере они содействуют пониманию данной грамматической категории, умению быстро, по ходу работы, выделять грамматические категории и соотносить их с орфографическим правилом. Это является необходимым условием для того, чтобы между различными словами могли устанавливаться смысловые связи, т. е. то самое «сближение слов» на основе общности грамматических или фонетических признаков, роль которого для орфографии достаточно выявлена в предыдущем изложении. Установление таких связей должно обеспечить постепенное увеличение «емкости» правила, объединение, группировку вокруг него разнообразного лексического материала и в конце концов «моментальный» перенос графического знака на новые слова, что свидетельствует уже о переходе умения на стадию автоматизированного навыка.
* * *
В предшествующем изложении мы показали, что характер языкового материала оказывает существенное влияние на процесс абстрагирования грамматических категорий. В связи с этим возникает вопрос, какие психологические соображения следует иметь в виду для установления некоторых общих принципов такого подбора материала для упражнений, который мог бы в наибольшей степени содействовать усвоению орфографических правил.
С этой целью следует прежде всего остановиться вновь на данных нашего «экспериментального диктанта». В свое время мы использовали их лишь для решения общего вопроса о влиянии семантики языка на орфографию. Наши данные показали, что изменение семантики отдельных слов «внутри» данного правила непосредственно влияет на успешность орфографической работы учащихся, то повышая, то снижая ее.
Как было нами выяснено, условиями, затрудняющими усвоение орфографии, оказались следующие моменты.
1) Отсутствие в языке ученика тех понятий, общий смысл которых выражается в корне слова; 2) «затушевывание» лексическим значением слова значения грамматической категории; 3) «антиграмматическое» влияние синтаксического контекста; 4) непонимание реального значения слова.
Весьма вероятно, что изучение других правил, не охваченных данным исследованием, могло бы вскрыть дополнительные условия, затрудняющие правописание, поскольку конкретный характер каждой грамматической категории, естественно, вносит свою специфику в процесс усвоения орфографии. Но и данный материал показывает, что затруднения учащихся связаны с варьированием характера языкового материала, в контексте которого встречается та или иная орфограмма.
Поэтому для эффективности обучения большое значение должен иметь такой подбор материала упражнений, при котором типические вариации материала систематизируются и предлагаются ученику в определенной последовательности.
Так, например, как показали результаты экспериментального диктанта, было бы целесообразно по отношению к правилу о правописании не с глаголами дать особые упражнения на употребление частицы не с личными, безличными, вспомогательными глаголами; по отношению к правописанию предлогов — с конкретными существительными, отвлеченными, и с местоимениями.
Опытные учителя, убедившиеся на практике в том, что в одном и том же правиле имеется материал различной трудности, обычно делают попытки к его систематизации, вводя в упражнение особо трудные слова и обращая на них внимание учеников. Но, к сожалению, этот практический опыт еще недостаточно проанализирован и обобщен как с лингвистической, так и с методической точек зрения и, что особенно важно, мало использован большинством составителей учебников, сборников орфографических упражнений и других учебных пособий.
Психологическая ценность подобной систематизации материала заключается в том, что она способствует не только обобщению существенных признаков данной грамматической категории, но и помогает также различать и обобщать те несущественные его признаки, которые обычно затрудняют процесс абстрагирования.
То, что процесс объединения и обобщения неразрывно связан с процессом различения, дифференциации — хорошо известно. Дифференцировка, по учению И. П. Павлова, есть не что иное, как оттормаживание всего «несходного» путем образования тормозных, отрицательных свя
зей. В педагогике -между тем обычно подчеркивается лишь первый момент: объединение существенных признаков, в то время как вторая сторона этого процесса остается в тени. В свете учения И. П. Павлова обе стороны аналитико-синтетической деятельности приобретают одинаково важное значение.
Говоря об этой особенности аналитико-синтетической деятельности, нельзя не привлечь к обсуждению интересные данные, полученные В. П. Протопоповым и его сотрудниками.
В. П. Протопопов так обобщает результаты опытов по выработке навыка — отпирать затворы клетки — у животных: «В процессе образования навыков организуются не только положительные временные связи, но и тормозные... В силу этого одни элементы преграды (затвора) возбуждают положительные реакции, а другие части преграды сигнализируют торможение, и таким образом животные приобретают опыт, что надо делать и чего не надо делать»1. Опыты А. Е. Хильчен-ко и И. Г. йовенко, опубликованные в этом же сборнике, показали, что и для детей обобщение того, «чего не надо делать», играет при выработке навыка такую же положительную роль.
Анализируя причины преимущества самостоятельного обучения по сравнению с простым подражанием, авторы пишут: «При самостоятельном обучении испытуемый вынужден изучать все детали ситуации и отношения между ними, устанавливая на одни из них положительные, а на другие отрицательные условные связи, научаясь и тому, что надо делать, и тому, чего не надо делать» 1 2.
Легко видеть, что эти психологические закономерности находят свою аналогию и по отношению к орфографическому материалу. Процесс объединения, обобщения орфограмм по их грамматическому сходству основывается на выработке положительных связей между сходным элементом слов и письменной реакцией на них. Для выделения же этих сходных существенных элементов необходимо отличать их от несущественных (в нашем
1 В. П. Протопопов, Исследование высшей нервной деятельности в естественном эксперименте, Киев, 1950, стр. 20.
2 Т а м же, стр. 304.
случае — от лексических). Если упражнения не систематизированы по признаку «типических вариаций» несущественных признаков, т. е., другими словами, если они (эти признаки) будут повторяться случайно, редко и внимание учеников не будет на них обращаться, то возникающие тормозные (отрицательные) связи без подкрепления будут быстро угасать. Если же в материале упражнений будут выделены отдельные «этапы», соответствующие той или иной «типической вариации» несущественных признаков, то тем самым будут создаваться благоприятные условия для образования и закрепления этих (отрицательных) связей. И в этом случае учащиеся будут научаться и тому, «что надо делать, и тому, чего не надо делать».
При этом встает вопрос, достаточно ли для образования подобных отрицательных связей лишь одного подбора материала и не следует ли в обобщенной словесной форме сообщать ученикам о характере тех несущественных признаков, которые наиболее часто ошибочно принимаются ими за существенные. Решение этого вопроса снова приводит нас к проблеме о регулирующей роли слова при образовании условных связей.
Очевидно, что специальная систематизация материала упражнений по типическим вариациям несущественных признаков окажет свое положительное влияние в том случае, когда ученики смогут обобщенно представить себе причины своих затруднений и ошибок по отношению к любому слову, содержащему данный несущественный признак.
К этому обобщению при вдумчивом отношении к делу они могут прийти самостоятельно практическим путем, учась на своих собственных ошибках. Но это будет длительный путь проб и ошибок, далеко не всегда приводящий к правильным научным обобщениям.
Другой возможный путь — обобщение типических вариаций несущественных признаков при помощи разъяснений и указаний со стороны учителя. Это тот путь, при котором образование условных связей происходит преимущественно при регуляции со второй сигнальной системы.
В этом случае вмешательство в процесс дифференциации грамматических категорий слова, обобщающего
причины затруднений учеников, помогает закрепить успехи абстрагирующей работы мышления учащихся.
Здесь возможны и чисто педагогические аналогии. Действительно, если взять ситуацию, в которую попадает ученик, решая орфографические задачи в упражнениях, то эта ситуация психологически представляет много сходного с той, в которой он находился при первоначальном знакомстве с правилом. Разница заключается лишь в том, что при объяснении правила внимание сосредоточивается главным образом на обобщении одних признаков слов (существенных), а изменяющийся материал упражнений ставит задачу обобщить также и типичные несущественные признаки. Если в первом случае закрепление в правиле результатов наблюдения, анализа, абстрагирования и т. п. (с точки зрения принципа сознательности обучения) считается обязательным, то не менее существенным должно быть словесное обобщение, — а через обобщение и преодоление, — типических случаев затруднений в применении правила. Таким образом, и с психологической, и с педагогической точек зрения, пользу осознания, обобщения в слове типических несущественных признаков вряд ли можно оспаривать.
Вопрос о конкретных формах участия учителя при выработке у учащихся подобных обобщений — вопрос чисто методический. По-видимому, его разработка должна быть связана с характером тех варьирующихся признаков, которые подлежат обобщению, и с состоянием знаний учеников — необходимой опоры для обобщения. Очевидно лишь то, что на определенном этапе упражнений, проходящих на материале «типических вариаций», ученики должны осознать причину своих затруднений, что поведет в дальнейшем к предупреждению ошибок данного типа.
Если взять в качестве примера типические вариации материала, влияющие на усвоение правописания частицы не с глаголами, то простое выделение в упражнениях специального материала на не с личными, не с безличными и не со вспомогательными глаголами еще не может служить гарантией сознательного усвоения несущественных признаков, препятствующих необходимой группировке орфограмм. Для того чтобы это произошло, учащиеся с помощью учителя должны прийти к выводу о том, что данное правило относится не только к личным, но с 38
ii к безличным, к вспомогательным глаголам и к предикативным наречиям. Таким образом, в слове должны обобщиться вариации материала, препятствующие абстрагированию глагольности, а вместе с тем и увеличиться сфера применения правила, его «емкость».
Вопрос об осознании типических вариаций материала упражнений не является частным вопросом орфографических и грамматических упражнений. За последнее время в работах советских психологов (в первую очередь в работах Н. А. Менчинской и Е. Н. Кабановой-Меллер) тот же вопрос возник по отношению к усвоению понятий из школьного курса различных учебных предметов. Это не может казаться неожиданным, поскольку подобный этап обучения, как показано выше, основывается на общих закономерностях высшей нервной деятельности человека.
Так, в работе «Роль чертежа в применении геометрических теорем» Е. Н. Кабанова-Меллер пришла к выводу, что чертежи, применяемые как наглядное пособие при обучении геометрии, должны варьироваться так, чтобы учащийся мог видеть в них и существенное и несущественное, и общее и единичное. «Процесс обобщения существенного при усвоении понятий и теорем должен быть неразрывно связан с осознаванием принципа, по которому варьируются те или иные признаки. Для этого исключительно важное значение имеет словесная формулировка учащимися принципа вариаций» !.
Этот же автор на географическом материале установил, что схема, иллюстрирующая некоторые географические закономерности, не отражая различных варьирующихся условий этих закономерностей, оказывала тормозящее влияние на процесс применения этих закономерностей.
Вредное влияние шаблонизированного чертежа при решении геометрических задач обнаружила также В. И. Зыкова1 2. Она провела экспериментальное обучение при введении чертежей с некоторыми вариациями
1 Е. Н. Кабанов а-Мелл е р, Статьи: «Роль чертежа в применении геометрических задач» и «Психологический анализ применения географических понятий и закономерностей», «Известия АПН РСФСР», вып. 28.
2 В. И. Зыков а. Оперирование понятиями при решении геометрических задач, «Известия АПН РСФСР», вып. 28.
и убедилась в практической целесообразности подобного изменения обычной методики.
Очевидно, что вопрос об осознании несущественных признаков в их типичности, или, как хорошо сформулировала Е. Н. Кабанова-Меллер, осознание их «принципа вариации», далеко перерастает рамки усвоения орфографии и становится тем вопросом, который педагогическая психология вплотную ставит перед дидактикой и частными методиками. Роль осознания «типических вариаций» в процессе абстрагирования настолько важна к значительна, что невнимание со стороны педагогики к этой стороне процесса усвоения, отсутствие работ, обобщающих соответствующий опыт передового учительства, в дальнейшем не могут быть терпимыми, так как именно этот путь ведет к предупреждению ошибок учащихся.
❖ *
В предшествующих главах важность для усвоения орфографии процесса дифференциации фонограмм 1 выяснилась очень отчетливо. В русском правописании, как это показали исследования Рождественского, имеется широкая область таких написаний, которые по-разному передают на письме сходно звучащие фонограммы. Такие фонограммы можно назвать многозначными, поскольку одно и то же звукосочетание выполняет разные языковые функции, в отличие от однозначных, которым на письме соответствует только один графический знак, с одним определенным значением. Различение на письме этих фонограмм в большой степени зависит от различения семантической характеристики той или другой фонограммы. Выше нами была выделена особая группа орфограмм, для дифференциации которых различение грамматических значений становится недостаточным и требуется дополнительный фонетический анализ. Говоря об этапе объяснения правил, мы, основываясь на этих особенностях, выделили две основные группы правил: одновариантные и двухвариантные. В настоящее время нам предстоит рассмотреть, какую роль в подобной дифференциации играет содержание школьных упражнений.
1 Термином «фонограмма» мы обозначаем звуковое выражение тех или иных структурных элементов языка.
Поскольку в процессе абстрагирования грамматической категории обобщение существенных признаков неразрывно связано с различением и обобщением несущественных, то очевидно, что при упражнениях вопрос о методике противопоставления играет не меньшую роль, чем та, которую он играл при объяснении правил.
Ведь при первичном знакомстве с правилом ученик обычно имеет дело не более, чем с двумя вариантами написания звучащей морфемы. (Например, грач — дочь в именах существительных.) В упражнениях он с необходимостью сталкивается с большим количеством таких фонограмм, встречающихся в словах самых различных грамматических категорий. Так, например, с употреблением или неупотреблением мягкого знака после шипящих он встречается не только при письме существительных мужского или женского рода, но при написании наречий (вскачь), кратких прилагательных (горяч), личных окончаний глаголов (ходишь), повелительного наклонения (ешь) и инфинитива (беречь). К тому же степень самостоятельности ученика при упражнениях более высока, чем при объяснении правила учителем.
Все это значительно затрудняет процесс дифференцирования омонимных морфем и потому прибегать к сопоставлению и противопоставлению при упражнениях становится еще более необходимым, чем при объяснении правила.
С этой целью материал для упражнений должен подбираться с таким расчетом, чтобы дифференцирующие признаки взаимно смешиваемых фонограмм выступали в своем противопоставлении наиболее ярко и наглядно. О павловском принципе предъявления противопоставляемых раздражителей мы уже говорили — это принцип постепенного перехода от раздражителей, имеющих лишь отдаленное сходство, к раздражителям, очень близким друг к другу. В какой же мере может быть использован этот принцип при подборе грамматического материала?
Когда обсуждается вопрос о степени сходства или различия грамматических категорий, то казалось бы естественным прежде всего решать этот вопрос по отношению к формальному выражению этих категорий в языке.
Мы, однако, лишены этой возможности, потому что в данном случае звуковая форма является дифференци
руемым раздражителем, а графическая — искомой. Следовательно, дифференциатором орфограмм может быть лишь грамматическая семантика, и павловская «отдаленность» и «близость» должны быть понимаемы в нашем случае именно в этом смысле. Но какова та объективная мера, которой можно измерить эти семантические «расстояния»? Ответить на этот вопрос в настоящее время представляется затруднительным. Как известно, в языкознании изучение семантики языка, по свидетельствам самих лингвистов, относится к одним из самых малоизученных вопросов. Методика русского языка почти совсем не затрагивает этого вопроса, кроме некоторых случаев — значения падежей, суффиксов и некоторые другие. Психологические исследования последних лет, как это видно из всего предыдущего, постоянно сталкиваются с этой стороной дела, отмечая большую роль в усвоении грамматики и орфографии понимания языковых значений, но обычно говорят о «сведении» или «разведении» значений лишь по отношению к данным конкретным фактам.
Поэтому дать в настоящее время более или менее исчерпывающий ответ, несмотря на всю его важность, не представляется возможным. Остается единственный выход — представить себе лишь тот отрывочный материал, который имеется по этому вопросу.
А. М. Пешковский выделяет следующие группы слов, одинаковых по звукам, но не одинаковых по значению:
а) Значения почти одинаковы: «Сижу за столом» и «Нанял комнату со столом».
б) Значения вполне различны, но возможны ассоциации: «Месяц» — луна и «Месяц» — ’/12 года; «баба» — женщина и «баба» — трамбовка.
в) Значения совершенно различны: «Мой брат» и «М о й посуд у».
Переходя далее к группам слов, сходных между собой лишь отдельными составными частями, А. М. Пешковский дает следующую классификацию частей слова, сходных по звукам, но не по значению:
а) Сходные звуковые части образуют морфемы:
1) слова омонимичн о-к о р н е в ы е : половина — полка — длиннополый, поднос — носик, парный — париться и т. д.;
2) слова ом о н и м и ч н о-a ф ф и ксн ы е: стола —-вода — дома; столы — воды; огни — говори и т. д.;
б) сходные звуковые части не образуют морфем: полный — полба; парк — партия; дочь — точь-в-точь; Кавказ — алмаз ит. д1.
При этом автор отмечает, что по отношению к частям слов можно различать те же степени сходства, которые установлены по отношению к целым словам, т. е. те же слова «почти одинаковы», «вполне различны, но возможны ассоциации» и «совершенно различны».
Мы не знаем, как расценивается эта попытка анализа сходства слов и морфем лингвистами, но то, что в ней есть от психологии, мало продвигает решение нашего вопроса, хотя лингвистическая сторона этой классификации дает интересный материал для психологического исследования.
Более значительно для психологии мельком брошенное замечание Пешковского о том, что «нас никогда не запутает употребление хотя бы даже рядом таких омонимов, как «пила» в смысле орудия и «пила» в смысле утоляла жажду, или «весело» и «весило», — мы даже не замечаем однозвучности таких слов». Пешковский не пытался анализировать причины таких фактов, но, нам кажется, что здесь напрашивается два возможных объяснения: либо это несмешение зависит от различия грамматических категорий, к которым относятся эти парные слова, либо от того «психологического веса», который имеет лексика этих слов, различно осмысливаемых в контексте.
Н. С. Рождественский склонен в таких случаях придавать значение различию грамматических категорий, В статье, которую мы уже цитировали раньше, он пишет, что омонимы типа «сыро и сыра, морем и морим легче различаются, чем пары: развевать и развивать, раненный и раненый, новую и новою, потому что принадлежат словам разных грамматических категорий (наречие и существительное; существительное — глагол), в то время как последние пары относятся к одной и той же части речи — глаголу, причастию или прилагательному». Мы,
1 А. М. Пешковский. Понятие отдельного слова. Сборник статей, Гиз, Л., 1925, стр. 139—140.
излагая этот материал, указали, что поскольку грамматическая категория имеет две стороны — форму и значение, то при совпадении звуковых форм двух категорий (случай, рассматриваемый нами) более точно следует говорить не о различии или сходстве грамматических категорий, а о различии или сходстве значений этих категорий, т. е. именно так, как ставил этот вопрос А. М. Пешковский. Все наши материалы, которые были приведены выше, можно рассматривать как экспериментальное подтверждение этого положения, что наиболее «отдаленными» словами будут различные части речи, благодаря различию их лексических значений. Одним из фактов, иллюстрирующих это положение, являются данные «экспериментального диктанта», касающиеся правописания фонограммы -тся. Дело в том, что сходные фонограммы этого типа встречаются не только в глагольных окончаниях, но и в окончаниях некоторых существительных {курица, молодица, водица и т. п.), поэтому, чтобы проследить динамику ошибок и их характер по классам школы, мы включили в диктант такие существительные наряду с глаголами. Излагая ранее результаты диктанта, мы останавливались только на дифференциации внутри глагольных окончаний (-тся, -ться); в приведенных же ниже данных мы даем сведения об ошибках, обнаруживающих смешение двух разных грамматических категорий (имени существительного и глагола), т. е. будем рассматривать ошибочную передачу окончаний существительных на -ца через цца, тца, тся, а глагольных окончаний -тся через ца, тца, цца. К сожалению, некоторые слова проводились не по всем классам, но так как нас интересует передача отдельной фонограммы, то мы приводим все данные, включая и материал отдельных классов (см. табл. 31).
Таковы имеющиеся у нас данные, характеризующие смешение окончаний существительных с глагольными и, наоборот, глагольных с существительными. Мы видим, что в том и другом случае основная масса ошибок сосредоточивается во II и III классе, уже в IV классе заметно резкое снижение ошибок, в средней же школе смешение окончаний существительных с глагольным встречается очень редко. Но нас интересует сравнение этого «межкатегориального» смешения со смешением «внутри-категориалылым».
Распределение по классам ошибок в фонограмме -тся (в процентах)
Классы
Слова
III IV V
VI VII VIII IX X
Имена сущ.:
Курица ....
Водица ....
Молодица . .
8.0
20,0
2 2 1,1
18,0 3.4
Глаголы:
Нравится . . . Водиться . . . Пригодиться Спится . . . . Ложится . . . Стучаться . . Посидится . . Тратиться . .
49 5
23,7
29.9
20,7
25,4
6.6 —
2.2 0.6
48 6 -
12.2 1 2
2,9
6.0
1,5
Для этого вспомним общие данные об ошибках на -1ся, которые свидетельствовали о неразличении учащимися двух глагольных форм: инфинитива и 3-го лица, о которых мы уже говорили ранее (см. стр. 152).
Воспроизведем эту таблицу.
Таблица 32
Распределение ошибок в правописании -тек в глаголах
-тся в личных глаголах . .
-тся в безличных глаголах
1,5
6 3 7,3 9,0
7,0 16,0 ! 28.7,
7,2 8t2 3,8 3,2. 5,8
, I I
18,0- 16,3 13 0 11,3 15,7
I I
Различие в динамике ошибок, изображенных на этих двух таблицах, несмотря на неполноту первой, резко бросается в глаза. Поэтому, как будто действительно можно сказать, что «отдаленность» между двумя частями речи гораздо более очевидна для учащихся (так как правописание легче усваивается), чем различия грамматических оттенков значений внутри одной и той же категории (так как правописание усваивается труднее).
Однако у нас имеется и другой материал, который следует проанализировать, прежде чем так или иначе решить этот вопрос. Мы имеем в виду те массовые данные о правописании слов с безударной гласной корня и их проверке, которые с другой точки зрения уже рассматривались выше.
Мы давали ученикам после диктанта задание проверить правописание некоторых слов, допускающих различные способы проверки.
Одни из контрольных слов допускали проверку тем же словом, но в иной грамматической форме, т. е. путем словоизменения (озеро — озера); другие требовали подбора иного слова, но относящегося к одной и той же части речи (рябина — рябчик — рябь); третьи проверялись словом, относящимся к другой части речи (темнеют — темный). Поэтому количество ошибок проверки может служить нам косвенным показателем степени трудности для учащихся улавливать грамматическое сходство между контрольными и придуманными учениками проверочными словами. Напоминаем, что эти данные получены от 1664 учащихся, принимавших участие в диктанте и в проверке (см. табл. 33, стр. 347). Контрольные слова размешены по способам их проверки; в графе с правой стороны таблицы помещены правильные проверочные слова, типичные для ответов учащихся.
Меньшее количество ошибок в проверке указывает здесь на легкость установления ассоциаций между контрольным словом и проверочным по их сходству, большее количество ошибок — на трудность их сближения. Следовательно, в первом случае установление различия (что нас интересует) было бы труднее, чем по отношению к словам, вызвавшим большее количество ошибок.
Приняв это во внимание, мы видим из этой таблицы, что наиболее «близкими» словами И, следовательно, труд-3<6
Распределение ошибок в проверке по различи .»м группам слов (в процентах)
Классы III IV | Правильные „проверочные“
Группа слов слова учащихся
L Проверка словоизменением 1. Озеро 1.0 0 1 Озера
2. Стволы 5 0 0.5 Ствол
3. Рядами 5.0 4,0 Ряд
4. Влезали 4,0 2,5 Влез
II. Проверка прилагательных существительными । |
5. Полезный 20.6 13,6 । Польза 1
III. Проверка глаголов существительными । 1
6. Заревела 1.0 11.0 . Рев
7. Качаются 20 0 16.0 Качка
8. Освещало 24 J 8,0 Свет
IV. Проверка существительных глаголом или прилагательным 1 1
9. Запахи ... . • . . . ! 24,0 4,9 Пах, пахнет
10. Черника 12,4 3 5 Черный
V. Проверка (уществительного существительным
11. Рябина 30.7 8,0 Рябчик, рябь
12. Сторожка 17,0 5,7 Сторож
но дифференцируемыми оказались слова I группы, образованные при сохранении значения не только одной и той же части речи, но и одного и того же слова. Наоборот, слова, входящие во II, III и IV группы, где проверка осуществляется подбором слов, относящихся к другой части речи, являлись, с точки зрения учащихся, словами более «отдаленными», чем первая группа, и, следова-
тельно, относительно легче дифференцируемыми. Эти данные подтверждают, таким образом, и данные о правописании -тся и мнения Пешковского и Рождественского. Однако данные V группы противоречат этому выводу. Сближение слов, принадлежащих к одной и той же части речи, оказалось если не более, то по крайней мере столь же трудным, как проверка разными частями речи.
Это противоречие трудно было бы объяснить, если бы мы не имели возможности привлечь данные индивидуальных экспериментов, о которых говорилось выше.
И в опытах Божович, и в наших собственных имелось много материала, относящегося именно к последней группе слов; напомним лишь Некоторые ответы учащихся на вопрос экспериментатора, являются ли эти пары слов «родственными».
Пара: сторожа — сторожка.
Ученица: Не родственные, потому что сторож — это человек, а сторожка — дом.
Пара: часы — часовой.
Ученица: Не подходит; часы ходят, а он не ходит. Экспериментатор: А если часовой будет ходить? Ученица: У часов стрелки, а у него ноги.
Пара: выстрел — стрелка.
Ученица: Подходят. Выстрел — это из пулемета, из ружья можно выстрелить... и стрелкой тоже стреляют.
Экспериментатор: А стрелка у часов похожа? Ученица: Нет, ею не стреляют.
Пара: светает — свечка.
Ученица: Свечка подходит. (Думает.) То есть свечка не будет.
Экспериментатор: Почему?
Ученица: Потому что светает, когда солнце восходит, а свечку — ее зажигают, когда уже темно.
Другая ученица: Нет, не подходит. Там светло, а свечка — это такая длинненькая. (Думает.) А если ее зажечь, тогда подходит.
Мы взяли для примера разные пары: сторож — сторожка, часы — часовой, выстрел — стрелка — все они, аналогично нашей последней группе слов, принадлежат к одной и той же части речи; слова же светает — свеч
ка— к разным частям речи. Но, как легко видеть в обоих случаях, психология ученика одинакова: он производит сравнение парных слов не на основе абстрагирования грамматически сходных языковых категорий (в данном случае корня слов), а оперирует с лексическими значениями слов, причем в двух последних случаях (со «свечкой») этот лексический контекст учениками произвольно расширяется, слово «свечка» включается в разные жизненные ситуации и ученик анализирует уже не словесный материал, а сравнивает между собой эти ситуации; поэтому у него и получается, что в одной ситуации слово «свеча» (горящая) оказывается «подходящей» слову «светает», а в другой — нет. Становится понятным, почему наша первая группа (словоизменения), в которой проверка осуществляется в пределах одного и того же слова, оказывается трудной для дифференциации: там лексика слова неизменна, вследствие чего ученики могли успешно решать поставленную перед ними задачу сравнения и подбора, оставаясь в пределах исключительно лексических значений. Таким образом, можно заключить, что различные трудности дифференциации, возникающие внутри одной части речи — имен существительных, возникают под влиянием «антиграмматического гипноза» лексики. Но этот же момент оказывает свое влияние и на дифференциацию разных частей речи. Наши примеры со «свечкой» служат этому наглядной иллюстрацией. Очевидно, что это влияние можно обнаружить и по отношению к примерам Пешковского и Рождественского.
Но не решенным остается вопрос о том, какое влияние оказывают на этот процесс чисто грамматические различия разных частей речи и как взаимодействуют при этом лексика и грамматика. Этот вопрос требует специального психологического изучения того, как происходит различение и группировка частей речи при различно варьирующемся лексическом материале. Но, к сожалению, этот вопрос находится в настоящее время в стадии предварительного изучения.
Таким образом, имеющиеся в нашем распоряжении материалы не дают возможности найти общий языковый критерий для определения степени трудности установления сходства или различия между словами, относящимися к различным грамматическим категориям.
Выяснилось лишь, что главным фактором, оказываю-щИхМ влияние на эти процессы, является лексика языка. Пока это влияние языкового материала нам удалось проследить лишь по отношению к отдельным правилам (см. гл. IV). По-видимому, в целях дальнейшего изучения этого вопроса следует собрать материал о так называемых трудных словах, имеющийся у опытных учителей, проверить его психолого-педагогическими экспериментами, подобными нашему «экспериментальному диктанту», и в согласии с этими данными'подбирать и систематизировать материалы упражнений как грамматических, так и орфографических.
Из всего сказанного о применении методики противопоставления в период упражнений в условиях все более и более расширяющегося языкового контекста вытекает ряд конкретных педагогических выводов.
Основной из них — это принцип «перемежающихся» сходных раздражителей. Практически это означает, что материал упражнений следует подбирать таким способом, чтобы стимулировать у ученика активные процессы сравнения и различения взаимно смешиваемых орфограмм.
Теоретический анализ роли сопоставления и противопоставления дан нами в главе, посвященной объяснению правила. Здесь уместно дополнительно привести некоторые экспериментальные данные, относящиеся к периоду упражнений.
А. Г. Вишнепольская в своей диссертационной работе \ выполненной под нашим руководством, обнаружила следующие факты.
В предварительных обследованиях ошибок учащихся разных классов (III, V и VII) ею была установлена определенная закономерность, а именно: в корнях слов с безударными гласными о и а ошибочные написания о вместо а значительно преобладали над ошибками а вместо о; в приставках пре- и при- преобладали ошибочные написания при- вместо пре-. (Количество ошибок с а в три раза, а количество ошибок с при- в четыре раза превосходило ошибки сои пре-.) Экспериментатор
1 А. Г. Вишнепольская, Влияние соотношения орфограмм в русской лексике на усвоение правописания. Автореферат, 1955.
решил изменить подобное соотношение ошибок. С этбй целью ею в течение 12 дней проводились упражнения с такими текстами, в которых почти исключительно употреблялись слова с безударной а в корне и с приставкой пре-. В результате таких массированных упражнений оказалось, что соотношение ошибок в контрольных диктантах, включающих оба варианта написаний, изменилось в обратном порядке: а стало писаться вместо правильного о и пре- вместо при-.
Тогда автор вновь изменил соотношение этих орфограмм в текстах дальнейших упражнений: теперь в текстах преобладали слова с безударным о и с приставкой при, В результате 12-дневной тренировки с такими текстами соотношение ошибок вновь изменилось — теперь снова резко обозначилась тенденция учеников писать о вместо а и при- вместо пре-.
О чем говорят эти факты? Изменение характера ошибок, несомненно, находится здесь в прямой зависимости от подбора орфограмм в текстах упражнений. А этот подбор носил однообразный характер, так как в нем не было противопоставления двух вариантов сходных орфограмм. Под влиянием частоты повторения одного из смешиваемых вариантов у учащихся образовалась односторонняя установка на обозначение соответствующих корней и приставок именно этим способом, или, как выражается автор, появилась неправомерно широкая генерализация одного способа обозначения.
Мы считаем, что подобное толкование таких фактов: имеет под собой достаточное основание, но оно вдсит/ чересчур общий характер. А между тем в распоряжении * автора имелись и другие факты, позволяющие думать,., что генерализация здесь носит преимущественно, перво- сигнальный характер. Дело в том, что изменение характера ошибок под влиянием массированных упражнений i наблюдалось главным образом по отношению к словам,. морфологический анализ которых был затруднителен для ; учащихся (малознакомые слова и слова с неясной эти- -мологией), что служило препятствием для грамматического анализа и применения соответствующих орфографических правил. В то же время на правописание слов; с очевидным для учащихся морфологическим строением (при написании корней слов) или с ясным смыслом (при/ написании приставок), т. е. слов, к которым ученики-!
Могли легко применять правила, влияние упражнений сказывалось в значительно меньшей степени: ученики продолжали писать их правильно. Иначе говоря, в тех случаях, когда второсигнальные связи были в достаточной мере упрочены, повторяющиеся восприятия словесного материала упражнений (зрительного и двигательного характера) не оказывали на процесс письма существенного влияния. Этот материал имеет, таким образом, прямое отношение к вопросу о соотношении при обучении орфографии влияния первосигнальных и второсигнальных раздражителей. Он свидетельствует о том, что первосигнальные раздражители, сигнализирующие написания, противоречащие правилу, несмотря на большую частоту повторений, оказывают лишь очень ограниченное влияние на орфографические ассоциации, выработанные через посредство правил.
Но опыты Вишнепольской интересны и с точки зрения излагаемого здесь вопроса о роли противопоставления в процессе упражнений. Если данные Жуйкова и Успенской обнаружили преимущество методов обучения, основанных на раннем противопоставлении взаимносмешиваемых орфограмм, то эти материалы рисуют картину того, к чему приводит пренебрежение этим принципом. Они показывают, что однообразный подбор орфограмм (при наличии двух вариантов написания), вызывая у учащихся соответствующую одностороннюю установку, оказывает тормозящее влияние на дифференциацию вариантов правописания. Под влиянием повторения первосигнальных раздражителей одного и того же рода упрочиваются одни орфографические ассоциации, так как при этом ослабляется регулирующая деятельность словесного мышления, направленная на различение орфограмм.
Между тем, несмотря на теоретическую и фактическую обоснованность метода «перемежающихся» упражнений, в практике обучения орфографии далеко не всегда из этого делаются необходимые выводы.
По отношению к двухвариантным правилам, как указывалось выше, этот принцип соблюдается и составителями учебников, и учителями. К этому обязывает сама формулировка правила, содержащая указания на оба варианта. Так, например, в учебнике для четвертых классов дается правило о различном правописании сходных фонограмм винительного и творительного падежей имен
прилагательных: -ую, -юю и -ою, -ею. В упражнениях на это правило оба варианта правописания чередуются. В текст включены слова: счастливою, высокою, дальнею, целую, сухую, длинною, синею, узкую, большую, золотистой, утреннюю, белою, позднею и т. д. Здесь в материале перемежаются оба варианта написаний. Пример этот не случаен. Мы проанализировали с этой точки зрения материал упражнений в учебниках для IV и V классов и не обнаружили нарушения этого принципа. Правда, нередко характер задания в этих упражнениях бывает такой, что перед учащимся не ставится задача дифференцировки (например, при списывании), но с точки зрения подбора материала, что нас интересует в данный момент, двухвариантные правила в учебниках, как правило, основываются на противопоставлении.
Иначе обстоит дело с дифференциацией сходных фонограмм, относящихся к разным грамматическим категориям. Мы об этом уже говорили при анализе объяснения правила. Теперь перед нами встает этот же вопрос по отношению к упражнениям. Возьмем конкретные примеры. Проанализируем содержание и последовательность упражнений на правописание предлогов и приставок. (Как известно, огромное большинство предлогов и приставок полностью совпадает в произношении, однако предлоги в отличие от приставок пишутся раздельно.)
В какой мере принцип противопоставления реализуется в учебниках, имевших хождение в школе до самого последнего времени? Ч В учебнике для II класса дается следующее определение предлогов: «Слова: к, у, в, над, называются предлогами. Они употребляются в предложении для связи слов. Кроме указанных, есть и другие предлоги».
После двух чисто грамматических упражнений на различение предлогов дается орфографическое правило: «Предлоги пишутся отдельно от слов, обозначающих предметы». Затем следует шесть упражнений и сообщается прием, облегчающий использование этого правила: «Между предлогом и названием предмета можно вставить название признака предмета». Дается два орфографических упражнения со вставкой в списывае-
1 Учебники В. П. Полякова и В. М. Чистякова для II, III и IV классов, 1951.
мый текст пропущенных предлогов. Во всех этих упражнениях нет ни сравнения, ни противопоставления приставкам, хотя в тексте встречаются слова с приставками, сходными с предлогами: скрылся, свесились, поднимается, набухли, увидал, захотелось, повис. После этого в учебнике следует другая чисто грамматическая тема — «Корень слова».
Наконец, переходят к приставкам. В определении указывается, что приставка является «частью слова», но никакого прямого указания на то, что приставки пишутся слитно, не дается. Упражнения, которые следуют за этим определением, имеют чисто грамматический характер и никакой орфографической задачи не ставят. О предлогах упоминания нет. Далее целый год ученики пишут, читают и выполняют другие задания. При всем этом они, конечно, многократно пользуются различными словами с приставками и предлогами, проходят все новые и новые грамматические темы, изучают различные орфографические правила, но к правописанию предлогов и приставок учебник больше не возвращается.
Итак, в итоге II класса мы имеем несколько упражнений на правописание предлогов, ни одного — на приставки и никакого намека на их противопоставление. Учащиеся предоставлены в этом отношении своим собственным силам. Однако на этом поучительная история с правописанием предлогов и приставок не заканчивается.
На следующем году обучения, т. е. уже в III классе, дети снова встречают в учебнике тему «Приставки», но уже без «соседства» с предлогами, хотя бы столь отдаленного, какое имелось во II классе. Эта тема несколько углубляет грамматические понятия приставки, дает, наконец, прямое, понятное детям указание: «Помните: приставки пишутся со словами вместе» (стр. 32), но как в правиле, так и в упражнениях предлоги преданы забвению: дети в упражнениях сталкиваются только с приставками. Проходит еще один год обучения. Лишь в IV классе школьники находят, наконец, объединенное правило, сопоставляющее правописание предлогов и приставок, которое, однако, сопровождается лишь двумя чисто грамматическими упражнениями (№ 41, 42). Орфографически же это сопоставление никак не используется, так как учебник после этих упражнений сразу 354
переходит к другим правилам. Следовательно, два года подряд программа и учебник всячески избегают сопоставления правописания предлогов и приставок, предоставляя самим ученикам обобщать материал и делать свои выводы, вопреки учебникам.
Но и этим дело не ограничивается. Как мы помним* результаты нашего диктанта показали, что для начальной школы очень трудно усвоение правописания предлогов с местоимениями (II класс — 43% ошибок; III класс — 20,5%; IV класс — 11%).
Трудность усвоения раздельного письма предлогов с местоимениями, в основном, заключается в том, что местоимения отличаются от существительных как по своей семантике («местоимения не называют самих предметов и признаков, а только указывают на них» — говорится в школьном определении), так и по своим формам, очень разнообразным и имеющим мало сходного с существительными. Это, по-видимому, затрудняет учащихся самостоятельно «подвести» местоимения под правило о раздельном написании предлогов с именами существительными. А между тем ни программа, ни учебник долгое время не приходят к ним на помощь. Лишь в конце учебного года в IV классе ученики узнают, что «местоимения, как и существительные, могут употребляться с предлогами. Предлог пишется от местоимений отдельно» (стр. 89). Но и здесь в упражнениях не дается «перемежающихся» орфограмм. Между тем авторы программы, которая была принята в то время в школах, находили возможным предварительные грамматические сведения о местоимениях дать в середине третьего учебного года, где вводится целый раздел о личных местоимениях. Однако введение этой темы не связывалось с правописанием предлогов; в результате, по нашим данным, пятая часть учеников III класса не справлялась С их правописанием.
Мы остановились на этом примере так подробно, чтобы показать, во-первых, что выявившаяся в экспериментальном диктанте трудность усвоения правописания предлогов и приставок в значительной мере должна быть отнесена за счет отступления методики обучения от принципа ранней дифференцировки сходных агентов (в данном случае предлогов и приставок), а, во-вторых, для того, чтобы вскрыть непоследовательность методи
Стов, которые как будто следуют принципу «перемежающихся» орфограмм в одном случае (двухвариантное правило) и избегают его применения в другом, хотя в обоих случаях психологическая ситуация совершенно тождественна — дифференциация на письме сходных языковых фактов. Этот эклектизм хорошо показывает необходимость скорейшего пересмотра большинства традиционных приемов и методов обучения на основе принципа противопоставления и «перемежающихся» упражнений.
Но если принцип «перемежающихся» орфограмм, как мы видим, в какой-то мере, хотя и непоследовательно, проявляется в школьных упражнениях, то даже этого нельзя сказать о выделении в материале упражнений «типичных вариаций» внутри одного и того же правила, а тем более об осознании «принципа» этих вариаций. В методической литературе мы не смогли найти принципиального обсуждения этого вопроса. Лишь по отношению к некоторым правилам констатируется неодинаковая трудность для учащихся некоторых групп написаний (М. В. Ушаков, Н. С. Рождественский). Последний из этих авторов приходит к некоторому обобщающему выводу о необходимости в упражнения на данное правило включать разнообразный материал с вариантами одного и того же явления *.
Тем не менее, когда мы столкнулись с необходимостью проследить расслоение материала внутри «экспериментальных» правил, показательно было то, что нам пришлось самим проделать эту работу, опираясь главным образом на помощь опытных учителей.
Естественно, что такое положение в методике отражается на фактическом материале упражнений в учебниках. Ни на одно из наших экспериментальных правил мы не могли найти (в стабильных учебниках для начальной и средней школы) попытки систематизировать материал упражнений с учетом различного «коэффициента сопротивляемости» лексики или по какому-нибудь другому признаку, затрудняющему абстрагирование данной грамматической категории. Лишь в отношении безударных гласных в учебниках начальной школы делается
1 Н. С. Рождественский, Обучение орфографии в начальной школе, 1949, стр. 77.
исключение: упражнения группируются по гласным звукам (безударное о, е, и и т. п.), но подобная классификация упражнений никак не связывается с теми реальными трудностями дифференциации корней, с которыми, как мы видели, встречается ученик в процессе упражнений. Обычно же различные степени трудности даются так хаотично, что ни учитель, ни ученик не смогут уловить принципа их подбора (если его, что трудно предположить, имели в виду составители упражнений). При таких условиях говорить о возможности осознания принципа вариации становится просто невозможно. А к чему это приводит, показывают результаты нашего диктанта. Мы видели, например, что в правиле о правописании не с глаголами большие трудности представляют случаи употребления отрицания не с безличными глаголами и с предикативными наречиями. Между тем в учебнике для V—VI классов, по которому тогда шли занятия в школе, в упражнениях на соответствующую тему давались два упражнения, и ни в одном из них нет ни одного примера с безличным глаголом или с предикативным наречием. С безличными глаголами ученики были уже знакомы, поэтому они могли вполне осознанно отнестись к данному несущественному признаку. Наречия, правда, еще не проходились, поэтому можно думать, что эта тема будет дополнена позднее. Однако в разделе «Правописание наречий» в правилах об этом не упоминается, а в упражнениях нет материала на такие случаи употребления отрицания не. Можно предположить, что авторы учебников рассуждают следующим образом: раз ученики усвоили ту или другую грамматическую категорию на уроках грамматики, то, следовательно, нет необходимости в орфографических упражнениях повторять уже проделанную работу. Достаточно лишь дать общее правило о правописании не с глаголами, а ученики уже сами разберутся на основе грамматики, что есть глагол.
Однако такие умозаключения были бы неправильны, поскольку они не учитывают психологических различий, существующих, как мы указывали выше, между выполнением чисто грамматических упражнений, в которых выделение грамматической категории является целью деятельности, и орфографических, где грамматический анализ выступает лишь как вспомогательное средство для выполнения орфографических действий.
Итак, рассмотрение вопроса об орфографических упражнениях позволяет нам прийти к заключению, что как для процесса объединения орфограмм, так и для их дифференциации характер материала упражнений имеет огромное значение. Дидактические требования разнообразия и систематичности упражнений, выдвинутые в свое время классиками педагогики Яном Амосом Комен-ским, К. Д. Ушинским и их последователями и имеющие значение аксиом для советской педагогики, должны быть в первую очередь предъявлены к языковому материалу орфографических упражнений. Однако в современной методической и учебной литературе на этот вопрос обращается незаслуженно мало внимания.
Учение И. П. Павлова о высшей нервной деятельности позволяет конкретизировать общее положение о разнообразии упражнений. Задача методики русского языка состоит теперь в том, чтобы- опираясь на это учение, разработать теорию этого вопроса, и, учтя опыт передовых учителей, создать учебники и учебные пособия, учитывающие закономерности процесса усвоения.
* * *
Вопрос о систематизации материала упражнений не исчерпывает вопроса о системе орфографических упражнений в целом. В процессе обучения варьируется не только материал, но и формы работы учащихся, выполняемые ими по заданию учителя или учебника. Эти формы работы ученика в методике обычно известны под названием приемов, или методов, обучения орфографии. Если вопрос о систематизации материала в упражнениях в методической литературе освещался недостаточно, то вопрос о «методах» обучения орфографии, как это было выяснено в историческом обзоре методических направлений, служил предметом долголетних методических дискуссий. Для советской школы многие из спорных вопросов (как, например, пресловутая дискуссия о диктанте или списывании) кажутся теперь архаичными. Вряд ли, например, найдется сейчас методист, всерьез полагающий, что проблему обучения орфографии можно решить, «открыв» какой-нибудь универсальный прием обучения. Принцип сознательности обучения, разработанный советской педагогикой и психологией, находит все большее и большее отражение и конкретизацию как в методиче-358
ских работах по орфографии, так и в практике школы. Еще в 1939 г. нам приходилось отстаивать принцип сознательности в орфографических упражнениях, и наша критика «вредных предрассудков» в орфографии была в то время признана необходимой и актуальной L Теперь же защищать этот принцип в применении к орфографии было бы излишней тратой времени, ненужным академизмом. Так же обстоит дело и с общим признанием принципа разнообразия приемов обучения.
Однако этого нельзя сказать о дальнейшей разработке этого вопроса, о том, в какой последовательности, в какой системе следует применять разнообразные приемы обучения, выработанные в практике школы. Как ди-дакты, так и методисты русского языка постоянно подчеркивают важность проблемы систематизации упражнений, но в то же время отмечают ее сложность. Обычно ссылаются при этом на положение Ушинского о том, что «систематичность упражнений есть первая и главнейшая основа их успеха, а недостаток этой систематичности — главная причина, почему многочисленные и долговременные упражнения в орфографии дают весьма плохие результаты»1 2. Однако попытки развить это положение нельзя признать достаточными как с количественной, так и с качественной стороны.
В методиках по русскому языку вопрос о системе орфографических упражнений или совсем обходится авторами (Н. П. Каноныкин, С. П. Редозубов, А. И. Воскресенская), или решается очень общо. Вот, например, что говорит по этому поводу Н. С. Рождественский: «Важнейшим условием для формирования орфографического навыка является систематичность занятий по языку и орфографии». (Дается известная уже нам цитата из Ушинского.) «Систематичность в занятиях по орфографии предполагает: 1) постепенное нарастание трудностей, переход от простого к сложному, 2) установление связи между отдельными элементами (чего? — Д. Б,) и отдельными упражнениями, 3) последовательность в повторении и постоянство тренировки» 3.
1 См. журн. «Начальная школа», 1939, № 11—12. «От редакции. По поводу статей о системе обучения орфографии».
2 К. Д. Ушинский, Избр. пед. соч., Учпедгиз, 1945, стр. 440.
3 Н. С. Рождественский, Обучение орфографии в начальной школе, изд-во АПН РСФСР, 1949, стр. 82.
Но такое общее определение мало- что дает автору, когда он переходит к анализу конкретных упражнений. В главе «Общая характеристика упражнений» автор рекомендует рассматривать упражнения по «характеру рецепторов, участвующих при выполнении упражнений», «по мыслительным процессам» и по «степени творческой самостоятельности пишущих». По его мнению, выбор и последовательность упражнений определяются многими критериями, важнейшими (но, следовательно, могут, существовать еще и другие!) из которых он считает:
«1) Насколько данным упражнением обеспечивается сознательное отношение и активность детей.
2) В какой мере упражнение посильно классу (посильный не означает обязательно легкий).
3) Насколько обеспечивается участие зрения, слуха, речедвигательных восприятий. Чем большее количество восприятий участвует при усвоении той или другой орфограммы, тем больше возможностей создается для выработки навыка.
4) Насколько обеспечивается при данном упражнении разнообразие форм речевой деятельности, т. е. участие устной речи, чтения, лексической и грамматической работы.
5) Насколько упражнение способствует развитию внимательности, запоминанию, распознаванию орфограмм и возбуждает интеллектуальные процессы.
6) Насколько осуществляется предупреждение ошибок.
7) Насколько упражнение соответствует конкретной задаче, которая ставится в данный момент» Ч
Мы видим, что здесь, хотя указанные критерии имеют значение для характеристик отдельных конкретных упражнений, но, однако, они слишком разнородны, иногда эмпиричны для того, чтобы служить действительным критерием для определения системы упражнений. Если мы вспомним, что здесь перечислены лишь важнейшие из них, то очевидно, что чем длиннее будет список перечисляемых «критериев», тем дальше мы будем от принципиального разрешения вопроса о систематичности упражнений.
1 Н. С. Рождественский, Обучение орфографии в начальной школе, изд-во АПН РСФСР, 1949, стр. 180—181.
t Для того чтобы разобраться в этом запутанном й сложном вопросе, нам следует всегда иметь в виду, Что упражнения — это прежде всего сознательная, целенаправленная деятельность ученика. Содержание этой деятельности, ее цели, определяется системой той науки, основы которой изучают школьники и которая приспосабливается для школы. Эта система, закрепленная в программах, наперед задана, зависит от развития данной науки, от степени ее общественного значения и так далее и потому определяет то, чему надо научиться, но при этом отнюдь не определяет то, как этому надо учиться. Поэтому смешение системы знаний, определяемой программой, с системой обучения и в том числе с системой упражнений совершенно неправомерно. Когда мы говорим о системе упражнений, мы подразумеваем под этим такое планирование деятельности ученика, которое содействует наиболее эффективному усвоению определенного круга знаний. Но значит ли это, что характер содержания усваиваемого материала не влияет на характер деятельности учащегося. Нет, не значит. Выше мы специально останавливались на этом вопросе и показали, что деятельность ученика должна быть спланирована учителем совсем различно, в зависимости, например, от того, идет ли речь о традиционных написаниях звуковой орфографии, или о навыке, основанном на грамматике. Но при этом оставался нерешенным вопрос о психологических основаниях этого планирования.
Как мы говорили в начале этой главы, период упражнений является прямым продолжением «объяснения» правила, однако при измененных условиях протекания орфографической деятельности ученика. Основные линии, по которым идет это изменение, заключаются не только в усложнении этой деятельности в связи с усложнением материала, но и в изменении степени самостоятельности ученика в зависимости от задач, которые он должен решать при выполнении упражнений. Система таких задач, последовательно предлагаемых ученикам, должна, подчиняясь закономерностям, твердо установленным как педагогикой, так и психологией, требовать постепенно возрастающей степени самостоятельности учеников.
«Линию материала» мы,, насколько это было в наших возможностях, проследили выше. Теперь предстоит сделать то же самое по отношению к «самостоятельности».
Мы только что говорили, что в педагогических работах в подтверждение важности вопроса о системе упражнений часто приводится известная цитата из Ушинского. Однако при этом нередко забывают, что Ушинский не только декларировал необходимость системы, но и раскрыл свое понимание систематичности. Он писал по этому поводу: «Систематичность в упражнениях должна также выражаться в большем или меньшем участии, которое учитель, смотря по силам детей, принимает в их упражнениях. Чем больше развивается дар слова в детях, тем меньше должен помогать им учитель, тем самостоятельнее должны быть их упражнения»
Эта самостоятельность, психологически раскрываемая как интеллектуальная активность, как привлечение к учебной деятельности ученика живой работы мысли, стимулируется постановкой перед учеником определенной задачи. Однако задача должна быть посильна ученикам, т. е. соответствовать уровню их знаний, а в нашем случае — уровню усвоения правила, на котором в данный момент находится ученик. Естественно, что эти аксиоматические положения непосредственно относятся не только к материалу упражнений, но и к характеру заданий при упражнениях. «Посильными» упражнения могут быть не только потому, что их материал подбирается так, что дифференциация одного правила или варианта правописания от другого правила или варианта идет от менее сходных к более сходным орфограммам, но и тем, в какой мере то или иное задание требует от ученика самостоятельности при его выполнении. При объяснении правил аналитико-синтетическая работа мышления ученика направлялась учителем, под его руководством выделялся «объект» правила, тот или другой дифференцирующий признак, указывалось, по какому признаку следует обобщать отдельные факты языка и т. п. Таким образом, в этот период помощь со стороны учителя была наиболее полной. Наиболее простым и «прозрачным» являлся и подбор языкового материала, предлагавшегося для наблюдения и анализа.
В период упражнений перед учеником общая цель остается одной и той же — применение правила. Поэтому задания, предлагаемые ученику, должны быть такого ро-
1 К. Д. У ш и н с к и й, Избр. пед. соч., Учпедгиз, 1915, стр. 342,
да, чтобы при их выполнении ученик ощущал необходимость в привлечении правила. Если те или другие задания выполняются в классе, ученик может рассчитывать при этом получить помощь и руководство со стороны учителя, но многие упражнения предназначены для самостоятельного выполнения учениками по учебнику. Тогда и встает вопрос о такой последовательности заданий, при которой степень самостоятельности работы ученика по применению правила нарастала постепенно.
То, что известно о психологии формирования навьь ков, позволяет эту постепенность прежде всего раскрыть как расчленение сложной деятельности (каковой является применение правила) на ряд «частичных» действий или «операций», причем усвоение каждого из них на данном этапе изучения правила является целью деятельности ученика.
В этом случае уменьшение степени самостоятельности достигается ограничением задачи, стоящей перед учеником. Вместо того чтобы требовать от ученика непосредственно после знакомства с правилом самостоятельной дифференциации грамматических категорий (при морфологической орфографии) или фонетических ситуаций (при звуковой), как это имеет место, например, при слуховом диктанте, ученик становится перед частичной задачей. Если мы обратимся к анализу упражнений, применяемых в школе, то мы прежде всего обнаруживаем именно такие «частичные» упражнения.
В методиках они известны под названием «списывания с заданиями». Среди этих упражнений наиболее элементарными следует считать так называемое списывание с подчеркиванием (в списываемом тексте нужно подчеркнуть данную орфограмму). По своему характеру такое «списывание» представляет переход от грамматического разбора к орфографическим упражнениям. Цель этого упражнения состоит, так же как и при грамматических упражнениях, в выделении в тексте грам1матиче-ской категории, являющейся, так сказать, объектом правила: ученик должен уметь различить ее среди других орфограмм, в том числе (если речь идет о противопоставляемых правилах и вариантах) и сходных. В этом отношении ученик вполне самостоятелен. При этом, однако, эта задача имеет характер «частичной», потому что при ее выполнении ученику не надо думать о способе
написания — перед ним лежит готовый текст. Тем не менее такого типа упражнения по выделению объекта правила преследуют и орфографические цели, так как содействуют запоминанию графической формы данной грамматической категории. Однако это упражнение может не достигать своей цели — выделения формы по ее грамматическому значению. Если не давать перемежающихся орфограмм, ученик может подчеркивать нужные части слов исключительно по их формальному сходству, не думая ни о грамматике, ни о правиле.
Аналогичными частичными упражнениями на выделение объекта правила является так называемое выборочное списывание в том случае, если выбор того, что подлежит списыванию, так или иначе связан с правилом и требует выделения необходимых орфограмм.
Подобного рода частичные упражнения, где снижение самостоятельности идет за счет орфографической части правила, сменяются упражнениями, усиливающими орфографическую «нагрузку» учащихся. Примером упражнения, облегчающего грамматический анализ, но зато требующего знания орфографической формы, служат упражнения на вставку пропущенных слов с указанием их грамматической формы.
«Перепишите, вставляя вместо вопросов, слово, указанное ниже, и изменяя его в нужном падеже в соответствии с фразой:
Оратор сказал (какую?) речь.
Собрание было увлечено (какой?) речью и т. п.
Слово для вставки: горячая».
В этом случае выделение падежа прилагательного облегчено, так как вопрос к прилагательному раскрывает значение падежа; облегчена и орфографическая часть применения правила: от ученика требуется лишь согласовать написание окончаний прилагательных с ударным окончанием вопроса.
К подобному же типу относятся упражнения с изменением грамматической формы по данным образцам.
«Образуйте слова по данным образцам: сладок — сладкий:
гладок — ...; резок —...;
прыток — ...; низок — ...».
Хотя написать слова ученик должен самостоятельно, однако при этом опорное слово подыскивать ему не при-
Ходится: графический образец корней этих слов у него перед глазами.
Обратную цель — подбор опорного слова (как элемента правила) преследуют следующие упражнения:
«Спишите текст, измените выделенные слова так,* чтобы после конечной согласной стояла гласная.
Образец: прут — прутик, прутом, на пруте.
1. Плот спустился вниз по реке.
2. Сочный плод зрел на солнце» и т. д.
Здесь в применении правила ученик также не вполне самостоятелен: он имеет дело лишь с одним элементом правила — приемом изменения слова; орфографическую задачу ученик при этом не решает: слово с сомнительной гласной дается в готовом виде.
Подобного типа упражнений много. Их конкретное содержание изменяется в зависимости от языковых особенностей орфограмм, к которым они относятся. Но общее для них то, что в решении задачи ученик освобождается либо от самостоятельности в определении орфографии слова, либо от подбора грамматических аналогов, либо частично от того и другого.
В таких упражнениях отрабатываются отдельные элементы правила и потому они с полным правом могут сравниваться с теми «частичными» действиями, о которых говорится в психологии навыка.
Другим типом являются упражнения, ставящие перед учеником задачу, требующую от него относительно полной самостоятельности, причем, однако, применение правила облегчается формой работы. Типичным выражением этого вида является так называемое списывание с пропущенной орфограммой. Ученику предлагается списать текст, в котором пропущено слово или часть слова. Эти пропуски он должен заполнить самостоятельно, руководствуясь орфографическим правилом, но об остальном тексте он может не думать.
Психологическое значение таких упражнений заключается в том, что здесь изолируется не отдельный элемент, а само правило по отношению к другим правилам, причем объект правила здесь выделен, но не определен. Эти упражнения, так же как и «списывание с подчеркиванием», следует давать при «перемежающихся» орфограммах, в противном случае ученик, знающий, на какое
правило дается упражнение, решив первый пример осмысленно, может дальнейшие пропуски заполнять механически.
В таком виде «списывание с пропущенными орфограммами» является наиболее актуальным упражнением из всех распространенных видов упражнений, основанных на списывании, так как при выполнении таких заданий ученик самостоятельно определяет как разряд (грамматический или фонетический) орфограммы, так и ее графическую форму.
Что касается упражнений, основанных «на слухе», т. е. на слуховом восприятии текста, то наиболее распространенными видами являются зрительный, предупредительный и контрольный диктанты.
Зрительный диктант проще всего можно определить как «письмо по памяти». Он сводится к тому, что ученики пишут предварительно написанный учителем на доске и разобранный в орфографическом отношении текст, после того как он стерт с доски (или занавешен). Чаще всего учитель напоминает время от времени этот текст, диктуя его по частям.
Зрительный и предупредительный диктанты можно рассматривать как упражнения, заключающие в себе два задания: первое — орфографический разбор; второе — слуховой диктант. При зрительном диктанте, кроме того, присоединяется облегчающий фактор — зрительное восприятие орфограммы; при предупредительном, в его чистом виде, зрительное восприятие текста отсутствует — предварительный разбор его делается обычно устно. В отношении же «предупредительного» разбора текста степень самостоятельности учеников варьируется в зависимости от методов, применяемых при этом учителем. При правильной постановке такого разбора, т. е. тогда, когда учитель позволяет полностью проявиться самостоятельности учащихся и лишь организует и корректирует их работу, перед нами активное упражнение на применение правила (ученики выделяют ту или другую орфограмму и объясняют, как или почему ее следует написать так, а не иначе).
Но, к сожалению, предупредительный разбор в руках неопытного учителя часто теряет ценность такого активного упражнения и превращается в письмо по подсказке учителя. Часто при разборе учитель опирается лишь на 366
сильных учащихся (чтобы сэкономить время); в этом случае именно те ученики, которые особенно нуждаются в осмыслении орфографии, не успевая следить за ходом рассуждения более знающих товарищей, остаются фактически без помощи. Вот как пишет по этому поводу учитель В. С. Попов: «Нужно признать безусловно вредным в этих «предупреждениях» то, что в процессе объяснений, как нужно писать то или другое слово, участвует лишь очень небольшая часть учащихся, зачастую наиболее сильная и знающая, а остальная, большая часть, при всяких таких объяснениях освобождается от самостоятельного размышления, от самостоятельной работы и пишет «по-рассказанному» !.
Правильно проведенный предупредительный диктант служит хорошим средством для укрепления сознательного орфографического письма школьников, так как при разборе внимание школьников направляется на анализ диктуемого текста, подведение орфограмм под известные ученикам правила, а сам процесс письма происходит по свежим следам воспроизведенных правил. Диктант позволяет нормировать размер текста и типы орфограмм, включенных в текст. Благодаря этим особенностям, оба вида диктантов применяются уже в начальных классах школы, но зрительный диктант с его опорой на зрительное восприятие является более легким упражнением, чем предупредительный. Оба вида диктантов предоставляют ученикам возможность лишь частичного применения правила и тем самым суживают пределы их самостоятельности. Однако ограничение самостоятельности в этих диктантах достигается иными средствами, чем в большинстве упражнений со списыванием. Если там имело место расчленение правила на элементы, то здесь при письме ученик пользуется целостным нерасчлененным правилом, но само вспоминание правила и выделение относящихся к нему орфограмм происходит при помощи учителя. Применение диктантов этого вида развивает иные стороны умения применять правила, чем работы, основанные на списывании, поэтому они должны применяться в школе не после всех видов списывания, а наряду с ними.
1 В. С. П о п о в, О постановке обучения орфографии, жури. «Начальная школа», 1939, № И—12.
Большое значение иМеет также акустический способ Цредъявления текста. Хотя и при всякого рода списываниях неизбежно внутреннее произнесение слова, так как, прежде чем написать, ученик, читая текст, проговаривает его, прошептывает или произносит про себя, тем не менее восприятие речи другого человека имеет свою специфику. Словесные раздражители, воспринимаемые на слух, вызывают сложную аналитико-синтетическую деятельность слухового анализатора. Тонкий и точный слух вырабатывается постепенно, а различение фонем — необходимое условие при всякого рода письменных упражнениях. Кроме того, имеет значение и чисто психологический момент. В диктантах более ярко обнаруживается конфликт между орфоэпическим произношением учителя и орфографической записью ученика. Писать вопреки тому, что слышишь, отвлекаться от фонетической формы и на основании правил противопоставлять ей графическую — эта задача в особенно отчетливой форме ставится перед учащимися именно в диктантах.
В следующем типе диктанта, который называется обычно «проверочным», или «контрольным», мы отмечаем ту же форму письменной деятельности учащихся, что и в предупредительном диктанте, — запись по слуху. Однако с психологической стороны между ними имеется большое различие. Запись по слуху при проверочном диктанте ведется без всяких облегчающих условий. Здесь ученик впервые получает возможность вполне самостоятельно испытать свои силы в орфографии. Как известно, на определенном этапе формирования навыка необходимо «частичные» упражнения, посвященные отработке Отдельных частичных действий, частичных умений, заменять такими упражнениями, при которых выполняется все сложное действие в целом. Таким «целостным» упражнением и является контрольный диктант.
Здесь уместно упомянуть об одной неправильной традиции, сохранившейся в школе. Мы говорим об оценке роли контрольного диктанта. По мнению некоторых педагогов, контрольный диктант не имеет самостоятельного «обучающего» значения. Такое мнение сложилось еще во время Шереметевского, с легкой руки которого в широких кругах практиков о «карательном» диктанте сложилось мнение как о зле, которое приходится терпеть
исключительно из-за его удобства для целей учета успеваемости учеников.
Даже Д. И. Тихомиров, который многими считается защитником диктовок, в этом вопросе занимал неопределенную позицию. Так он, с одной стороны, заявлял, что «диктовка не учит, а только поверяет (разрядка автора. — Д. Б.) знание и умение учеников», а с другой стороны, буквально через несколько строчек, пишет, что «диктовка имеет значение упражнения, служащего для поверки и окончательного закрепления (разрядка наша.—Д. Б.) орфографических знаний и умений» L
П. Н. Солонина в своей работе, популяризирующей взгляды грамматической школы, также различает два вида диктовок: диктовка для усвоения известного орфографического правила (статарная) и диктовка поверочная (курсорная): «Если первая из них имеет учебное, обучающее значение, то вторая употребляется только для проверки. Поэтому, если статарная диктовка может иметь место почти на каждом уроке правописания, то диктовка поверочная уместна только в конце учебного года или когда пройден известный отдел грамматики и является необходимость перейти к следующему» 1 2.
В период господства списывания как основного метода обучения диктовка постепенно теряла свое значение, и если отдельные методисты брали ее под свою защиту, то и в этом случае значение в большинстве случаев признавалось лишь за «обучающей» предупредительной диктовкой.
Такое отношение к «контрольной» диктовке свойственно и некоторым современным педагогам. В наиболее резкой форме мы находим перенесение старых концепций в новые условия у проф. С. В. Чавдарова, который, не приводя никаких доказательств и не связывая этот вопрос с декларируемым им требованием сознательного обучения, повторяет те же положения. Он различает два основных вида диктанта: обучающий и контрольный. «Задача первого, — пишет он, — обучать, задача второго — проверять знания учащихся. Контрольный дик
1 Д. И. Тихомиров, Чему и как учить на уроках родного языка, изд. 11-е, 1908, стр. 293—294.
2 П. Н. С о л о н и н а, Записки по методике русского языка, СПб., 1900, отд. Ill, стр. 46.
тант необходим для проверки знаний и орфографических навыков. Этим исчерпывается его задача. Знаний он сам по себе не прибавляет, орфографических навыков не формирует» (разрядка наша. — Д. Б.)1.
Другие методисты, хотя и признают за так называемым контрольным диктантом обучающее значение, но делают это очень осторожно, мимоходом, не аргументируя и не развивая этого очень важного в практическом отношении вопроса. Так, например, проф. П. О. Афанасьев в своей методике для средней школы ограничивается по этому поводу следующим замечанием: «Являясь контрольным, этот диктант, однако, может в некоторой мере выполнять и задачи обучения правописанию, поскольку для данного диктанта нарочито привлечено внимание учеников к определенному правилу или группе правил» 1 2. Аргументация в пользу диктанта, как мы видим, далеко не убедительная; ведь любое орфографическое упражнение имеет целью привлечь внимание учеников к определенному орфографическому правилу. Н. С. Рождественский, хотя и отмечает совершенно правильно, что «проверочный диктант, это — самостоятельная работа, которая требует от ребенка полного применения своих знаний и умений», тем не менее, говоря о «контрольных» функциях диктанта в школе, лишь вскользь бросает замечание: «Кроме того, диктант может быть отчасти использован и как средство обучения, если он употребляется изредка и умело» 3.
Этого, конечно, недостаточно для принципиального решения вопроса о том, является контрольный диктант обучающим или нет. Недостаточно и для практических выводов. Ведь в практике школы до сих пор этот вид диктанта используется, как правило, лишь в его контрольной функции. Другими словами, дети предварительно не упражняются в выполнении наиболее сложной из всех чисто орфографических работ. Между тем в выполнении более легких типов упражнений ученики имеют возможность тренироваться очень часто. Но самым глав-
1 С. В. Ч а в д а р о в, проф., Упражнения, журн. «Советская педагогика», 1939, № 7.
2 П. О. Афанасьев, проф., Методика русского языка в средней школе, Учпедгиз, 1944, стр. 202.
3 Н. С. Р о ж д е с т в е н с к и й, Обучение орфографии в начальной школе, изд-во АПН РСФСР, 1949, стр. 172.
Иым, почему так называемый контрольный диктант является необходимым звеном, завершающим цепь других упражнений, является то обстоятельство, что при «контрольном» диктанте (оставляя пока в стороне творческое письмо) применение того или другого правила происходит в условиях полной самостоятельности учеников; при контрольном диктанте происходит объединение всех частных действий в одну сложную деятельность.
Поэтому самостоятельный диктант (этот термин более правильно определяет его психологическое значение) должен рассматриваться как упражнение, имеющее столь же важное значение для обучения орфографии, как и другие «неконтрольные» работы. Недаром К. Д. Ушинский рекомендовал, начиная с III класса, давать диктанты через день.
Само собой разумеется, что в системе упражнений диктант должен следовать за упражнениями на «частичное» применение правила, но отсюда вовсе не следует, что он должен быть только «контрольным».
Итак, если мы связываем обучение с самого начала с усвоением правил, то на определенном этапе мы обязаны давать упражнения на полное, самостоятельное применение изученных правил. Этой задаче самостоятельный диктант вполне соответствует.
Все, что мы сказали о самостоятельном диктанте, в равной степени относится и ко всем другим упражнениям на полное применение правил. Их психологическое значение определяется тем, что обучение не может достигнуть эффекта, вырабатывая у учеников умение выполнять лишь «частные» действия, что характерно для упражнения на частичное применение правила. Для того чтобы «частные» действия «вросли» в сложное действие, необходимо упражняться в выполнении этих целостных действий. Именно в таких «совместных» упражнениях, как мы уже говорили выше, «частные» действия начинают приспосабливаться к своей новой роли ПОД' собных средств в более сложной деятельности.
Разобранными типами, упражнений орфографическая система не должна ограничиваться. Несмотря на то, что все они, различаясь по степени полноты и самостоятельности применения правила, образуют известную шкалу упражнений, заканчивающуюся вполне самостоятельной работой — диктантом, тем не менее все эти упражнения
представляют деятельность учащихся, специальным образом организованную в орфографических целях. Все эти работы, начиная со списывания с подчеркиванием и кончая самостоятельным диктантом, заключают в себе условия, искусственным образом облегчающие применение правил. Зависит это от того, что ни одно из этих упражнений не ставит перед учащимся никаких других задач, кроме орфографических. Орфография в них находится в особом, «привилегированном» положении. Все внимание может быть всецело переключено на эту сторону дела: «думать» ученику приходится здесь только об орфографии.
В этом заключается как положительное, так и отрицательное значение чисто орфографических работ. Их преимущество состоит в том, что орфографические трудности изолируются в них от других трудностей, связанных с творческим письмом. Тем самым создаются условия, которые на первых порах облегчают формирование орфографического навыка. Их недостаток заключается в том, что чисто орфографические упражнения не учат применять правила в более сложных условиях.
В практике письменной речи орфографическое действие всегда выступает в роли вспомогательного средства для основной цели — выражения наших мыслей. Поэтому обучение орфографии не может быть завершено, если ученик не научится пользоваться правилами при новых, измененных условиях, т. е. в творческом письме. А это требует специальных упражнений, так как эта новая задача, стоящая перед учеником, умевшим до сих пор писать только диктанты, не может считаться легкой. Действительно, при записи под диктовку вся сложная работа над языковым оформлением содержания мысли отпадает; ученик должен лишь различать и правильно обозначать готовые языковые формы. При диктовке орфография исключается из самого существенного процесса речи: «переплавки» внутренней речи в речь внешнюю.
Следовательно, с точки зрения усвоения орфографии, самое существенное различие творческого письма от чисто орфографических упражнений заключается в том, что передача значений в творческих работах впервые становится для ученика вполне самостоятельным процессом. Он пишет уже не для того, чтобы соблюдать пра-372
вила, а для того, чтобы передать свою мысль. Его работа перестает быть письмом, а становится письменной речью в собственном смысле этого слова.
В связи со всем сказанным для нас должно быть ясно, что если строить систему упражнений на основе возрастающей интеллектуальной самостоятельности ученика, то нельзя ее ограничивать лишь циклом чисто орфографических работ, несмотря на кажущуюся полную самостоятельность работ типа контрольного диктанта. Эта орфографическая самостоятельность должна быть дополнена самостоятельностью речевой. Поэтому завершать эту систему должно творческое письмо, при котором ученик не только применяет правила к «готовым» значениям, но и является их автором.
Здесь, однако, встает новый вопрос: на каком этапе орфографических работ должно произойти это включение орфографии в речевую практику. Иногда в методике этот вопрос решается таким образом: сначала орфография, а потом развитие речи. На первый взгляд это рассуждение кажется логичным. Сначала надо создать прочный навык, а когда эта цель будет достигнута, ученика надо ставить перед другой, более сложной задачей. Так, например, полагал Тихомиров, когда он писал: «Нужно повести дело обучения таким образом, чтобы ученик, преодолев на первых двух ступенях учения отдельно каждую из названных трудностей (каллиграфию и орфографию), в состоянии был на третьей ступени излагать письменно свои мысли так же свободно, как и устно» !.
Однако, с психологической точки зрения, такое резкое отделение орфографии от развития письменной речи вряд ли можно считать обоснованным. Здесь опять выступает важная роль «совместных» упражнений в двух различных умениях, при которых орфография постепенно «прилаживалась» бы к роли подсобного средства, которую она должна играть при творческом письме. Творческое письмо — процесс сложный, поэтому вполне естественно, что такое «прилаживание» не происходит сразу, а требует цикла упражнений нарастающей трудности. Пока это не будет выполнено, очень трудно рассчитывать на возможность правильной орфографии в творческом письме.
1 Д. И. Тихомиров, Цит. выше сочинение, стр. 188.
В тех случаях, когда эти «совместные» упражнения не применяются, навык письма, кажущийся достаточно прочным в специальных орфографических работах, с переходом к творческому письму ломается. Случаи, когда ученики, вполне грамотно писавшие диктанты, начинают обнаруживать безграмотность при внезапном переходе к изложениям и сочинениям, к сожалению, хорошо известны в практике школы. В большинстве случаев ответственность за это следует возложить на методику обучения.
Однако из сказанного не следует делать и противоположного вывода, т. е. того, что с самого начала обучение орфографии следует вести на творческих работах и отменить все «частичные» орфографические упражнения. Такой вывод был бы, конечно, абсолютно неверен.
Специальные орфографические упражнения необходимы для того, чтобы ученик мог освоиться с применением правила, с тем характером грамматических категорий, графическим выражением которых служит та или иная орфограмма. Письменная речь также нуждается в особых подготовительных упражнениях, проводимых обычно в устной форме. Их главная цель — облегчить «перевод» внутренней речи в развернутые формы письменной речи через посредство устной. Без этих предварительных этапов ученик, поставленный сразу перед двумя новыми для него задачами, вряд ли бы смог овладеть по-настоящему хотя бы одной из них. Печальный опыт обучения по «методу проектов» в достаточной мере это подтвердил.
Включение орфографии в творческое письмо должно, по нашему мнению, производиться не после усвоения всех орфографических правил, а после каждого отдельного правила или группы их, и рассматриваться как определенный этап их усвоения. Учить применять орфографические правила в условиях творческого письма следует постепенно, не ставя учеников перед необходимостью сразу, в усложненных условиях, иметь дело со всеми многочисленными орфографическими правилами.
К сожалению, в методике мы не находим еще конкретной разработки такого «прилаживания» орфографии к письменной речи, хотя на практике подобные занятия нередко проводятся опытными учителями. Нам кажется, 37-4
что, опираясь на психологические данные, можно рекомендовать для практического использования следующую схему работы. Начинать работу над орфографическим правилом и над развитием речи надо с «частичных» упражнений: для орфографии это будут орфографические упражнения, для развития речи — различные формы монологической устной речи. В дальнейшем ходе обучения надо пробовать включать изучаемое правило (или группу их) сначала в простейшие формы письменной речи, например, ответы на вопросы, составление предложений по опорным словам и т. д. Если это окажется ученикам не под силу, следует вновь вернуться к чисто орфографическим упражнениям, т. е. снова поработать над осознанным применением правила. Если же попытка будет удачной, то, поупражнявшись в простейших типах творческих работ, можно переходить к включению орфографии в творческие работы более сложного характера и снова внимательно изучить, как идет «прилаживание» на этом этапе, и т. д.
При всех недостатках, которые имеет такая общая схема, мы полагаем, что в основном этот характер работы вполне соответствует психологическим особенностям обучения орфографии, о которых шла речь до сих пор.
Подытоживая все сказанное о системе упражнений, мы видим, что при решении этого вопроса, в зависимости от постепенного усложнения задач, стоящих перед учеником, можно прийти к обоснованному распределению разных типов упражнений по этапам обучения. Нам кажется также, что если иметь в виду ту роль, которую играет в усвоении характер языкового материала, разработка системы упражнений для отдельных типов правил также будет представлять вполне разрешимую задачу. Легко видеть также, что понимание усвоения орфографии как сознательного навыка дает возможность по-новому определить функцию упражнений, причем разнообразие их типов является положительной чертой этой системы. Долголетние же споры о преимуществах диктанта или списывания как якобы универсальных методов, исключающих другие методы, должны показаться с этой точки зрения совершенно беспочвенными.
Глава IX
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ НАД ОШИБКАМИ
Работа над орфографическими ошибками является необходимым элементом обучения орфографии и имеет для выработки грамотного письма не менее важное значение, чем усвоение правила и выполнение упражнений. Это вполне естественно, так как работа над ошибками является непосредственным продолжением той же самой аналитико-синтетической деятельности ученика, которая была характерна для предшествующих этапов обучения, с той лишь разницей, что ошибки учеников свидетельствуют о непрочности или неправильности установления ими некоторых орфографических ассоциаций.
Недостатки в работе над ошибками являются одной из причин, снижающих успеваемость учащихся. Учителя, правильно организующие педагогический процесс, вкладывают много настойчивого труда в борьбу с ошибками, допускаемыми учениками. Во всех методических руководствах раздел об исправлении и работе над ошибками всегда занимал и занимает сейчас видное место.
В истории русской методической мысли по поводу исправления ошибок между грамматистами и антиграмматистами длительное время велись споры, вызванные различным пониманием психологии усвоения орфографии. Сторонники грамматического направления, во главе с К. Д. Ушинским, считали, что осознание грамматических основ орфографии должно быть ведущим принципом при исправлении ошибок, потому что орфографический навык — это навык «разумный», складывающийся под руководством грамматики. Сторонники противопо-
ложной точки зрения, представлявшие себе процесс усвоения орфографии как механический процесс накопления «зрительных образов» слов, основным принципом исправления ошибок считали, «недопущение неправильного образа» слова в сознании ученика и многократное восприятие правильного. Этот принцип, провозглашенный немецким педагогом Борманом (1840), получил распространение среди русских методистов после опытов Лая, якобы научно доказавших механическую природу орфографического навыка.
«Оберегайте ученика со всей заботливостью от вида всякого неправильного слова» (Борман). «Никогда, по возможности, не допускай своих учеников ни видеть ошибок, ни делать их» (Кульман) L
«Глаз и рука служат верными, надежными друзьями правописания в том случае, если первый не видит неправильного начертания слов, а вторая не пишет их неправильно, а потому ни под каким видом нельзя допускать, чтобы дети видели, а тем более писали слова орфографически неправильно» (Разрядка автора.—Д, Б.)1 2. «Ни одной ошибки для глаза, ни одной ошибки для руки» (В. Флеров) 3. «Бесспорно установленным нужно считать принцип предупреждения ошибок, т. е. недо-пускание неверных зрительных и рукодвигательных ощущений» (П. О. Афанасьев); так, почти в тех же самых выражениях формулировали практический вывод из этой теории методисты разных поколений.
Такое решение общего вопроса определяло и те конкретные приемы исправления ошибок, которые рекомендовались учителю сторонниками «теории образов». Так как, по их мнению, об|разование навыка зависит исключительно от механического повторения восприятия слова и его записи, то поэтому единственным методом исправления ошибок должно быть, наравне с «недопущением» восприятия учеником ошибочно написанного слова, многократное переписывание правильного образца. Такой
1 Н. К. Кульман, Методика русского языка, СПб., 1912, стр. 181.
2 М. А. Тростников, Методика письма и письменных упражнений, Юрьев, 1910, стр. 43.
3 В. А. Ф л е р о в. Наглядность письма в освещении современной психологии, СПб., 1912, стр. 32.
метод исправления ошибок считался универсальным и распространялся на любые орфографические ошибки.
А. Томсон, выступая против диктовки на том основании, что при диктовке ученик может делать ошибки, писал: «Только вмешательство учителя, заставляющего многократно переписывать исправленные ошибки и сознательно запоминать их, ослабляет это вредное влияние диктантов» 1.
А. Бунаков видел задачу исправления ошибок в том, чтобы «парализовать отрицательное влияние на будущее письмо пережитых искаженных зрительных и двигательных восприятий и образов слов» 1 2. Чтобы достичь этой цели, он предлагал учителям затушевать каждое неправильно написанное слово, написать его правильно и заставить ученика много раз переписать это слово.
Тот же совет дает и Кульман: «Самое лучшее совсем не показывать детям сделанных ими ошибок, а при исправлении работ тщательно зачеркивать ошибочно написанное слово и над зачеркнутым словом или на полях написать правильно. Такое мнение вполне соответствует требованию не позволять ученикам видеть ошибки» 3.
Подобные же рекомендации повторялись с той же самой аргументацией и у других методистов этого направления.
Таким образом, основными приемами исправления ошибок, по мнению этих методистов, были следующие: 1) затушевывание ошибки, 2) четкое исправление ошибки учителем, 3) многократное переписывание учеником исправленного слова.
Взгляды на исправление ошибок представителей грамматического направления были полярно противоположны. Их конкретизацию мы находим у П. Солонина, который, подытоживая опыт грамматического направления, писал: «Исправление ошибок ни в каком случае не должно быть занятием механическим, бессознательным, но должно основываться или на известном ученикам грамматиче
1 А. И. Т о м с о н, К теории правописания и методологии его преподавания в связи с проектируемы м упрощением русского правописания. «Летопись историко-филологического об-ва при Новороссийском университете», Одесса, 1904, стр. 231.
2 А. Бунаков, Методика обучения русскому языку, М., 1914, стр. 73.
3 Н. Кульман, Методика русского языка, М., 1912, стр. 193.
ском правиле, или же на обычае»... «Исправлять должен сам ученик, а не учитель, который только помогает ученику отыскивать ошибки посредством наводящих вопросов, да и то лишь в крайнем случае. Так как исправление ошибок каждого ученика в отдельности, и притом в классе, отнимая много времени, не приносит и должной пользы, то необходимо привлекать к сделанной кем-либо из учеников ошибке внимание всего класса, чтоб каждый видел и замечал ее и постарался избегать ее в будущем» L
Таким образом, основные разногласия двух методических школ состояли в том, что самостоятельность ученика при исправлении ошибок противопоставлялась грамматистами полной его пассивности, на которую он обрекался по воле антиграмматистов; привлечение активного внимания к ошибке — утаиванию ее от ученика; осмысление ошибки на основе изученных правил — многократному механическому переписыванию.
Эти разногласия в вопросе исправления ошибок имеют не только историческое значение. Хотя современная советская школа изжила в основном влияние механистических теорий обучения, которое достаточно ярко отражалось на методике исправления ошибок вплоть до исторических постановлений партии и правительства о школе (1931 и 1932), однако и после того, как преподавание грамматики заняло свое почетное место в обучении орфографии, в вопросе исправления ошибок долгое время не было должной ясности. Методистов и педагогов смущало особенно то обстоятельство, что при активных методах преподавания, провозглашаемых советской педагогикой, становилось неизбежным столкновение учеников с ошибочно написанными словами. Это вызывало, казалось, вполне законное опасение, как бы восприятие ошибочно написанных слов не закрепилось в памяти учеников, вопреки изучаемым правилам.
Подобная «ошибкобоязнь» часто приводила к тому, что при выборе приемов обучения орфографии учитель избегал таких, которые, как, например, творческие письменные работы учеников или упражнения с пропущен-
• П. Н. Солонина, Записки по методике русского языка, СПб., 1900, отд. 3-й, стр. 63.
ными буквами, не позволяли учителю не допускать появления ошибок у ученика. Отразились эти опасения и на методике исправления ошибок. При исправлении ошибок по-прежнему старались применять методы, не допускающие восприятия учеником неправильного образа слова. Так, например, одно время считалось большим методическим «грехом», если ошибки, сделанные учеником в его записи на доске, увидит класс. Учитель должен был исправить их в процессе записи. Сомнения, возникавшие по поводу роли восприятия ошибки, отражаются и до настоящего времени во взглядах некоторых советских методистов.
Так, например, Н. С. Рождественский в своей монографии 1 главу «Предупреждение ошибок» начинает с критики теории образов, с развития положений о сознательном обучении. По этому поводу он пишет: «Теория, сводящая развитие орфографического навыка к накоплению зрительно-моторных образов, не может считаться правильной... Обучение определяется не законами механической памяти, а законами развития обобщения... Мышление, следовательно, не может играть при этом пассивной роли, и задача учителя поэтому сводится к тому, чтобы пробудить активную мысль ученика к усвоению орфографического правила. Поэтому страха перед роковой ролью ошибки, которую увидел или сделал ученик, у нас не должно быть. Не следует думать, что раз ученик увидел или сделал ошибку, то эта ошибка автоматически вошла в сознание, неизгладимо запечатлелась в памяти».
Автор совершенно правильно говорит далее и о том, что все это не значит, что учитель может спокойно предоставить ученика самому себе- и что он не нуждается при этом в руководстве учителя.
Но дальше он, приводя пример орфограммы, не подчиняющейся правилу (собака, сапог, барабан), пишет: «По-видимому, зрительные и моторные образы здесь играют определенную роль: чтение, практика письма, повторение оставляют следы в нашей памяти. Но если это так, то письмо с ошибками создает известную опасность для орфографических навыков.
1 Н. С. Рождественский, Обучение орфографии в начальной школе, изд-во АПН РСФСР, 1949, стр. 111—113.
Ученики запоминают не только правильные написания, но и неправильные... Правда, у учителя есть могучее средство — это объяснение, ссылка на правило, на факты языка, но можем ли мы ручаться, что наше объяснение будет сильнее сложившейся у ученика привычки (курсив наш. — Д. Б.). Первое впечатление, да еще добытое самостоятельно, всегда сильнее последующих. Первое впечатление может остаться, а все остальные выветрятся».
Эти соображения приводятся автором для того, чтобы обосновать конечный вывод, что ошибки должны предупреждаться.
Мы привели эти выдержки для того, чтобы показать, что в вопросе об ошибках до сих пор еще много неясностей, даже у руководящих методистов.
Действительно, Н. С. Рождественский, призывая учителя не бояться рокового действия ошибок, в конце концов приходит к тому, что сам начинает испытывать перед ними страх: а что, как наши объяснения ошибок, осмысление их учеником не в состоянии преодолеть сложившейся привычки? Ведь при овладении орфографией ученики запоминают правильные образы слов, так почему же не будут запоминаться ошибочные образы слов, особенно если эти ошибки «добыты самостоятельно».
Избежать всех этих опасностей -можно, как пишет автор, путем предупреждения ошибок. Однако, что он подразумевает под этим термином, остается неясным. Ведь в широком смысле этого слова цель всякого обучения состоит в том, чтобы научить учеников не делать ошибок, т. е. предупредить их появление. Вопрос же заключается в том, какими методами следует достигать этой цели и, в частности, как следует расценить тот метод, по которому предупреждение ошибок сводится к недопущению восприятия неправильных зрительных образов слов. По этому вопросу мы находим у Рождественского противоречивые суждения.
Как легко видеть из приведенных примеров, основным дискуссионным психологическим вопросом для методики исправления ошибок является вопрос о роли в обучении восприятия ошибочно написанного слова. Остается, следовательно, неясным, может ли и при каких условиях восприятие ошибки отразиться на усвоении грамотного
Письма. Попытаемся психологически проанализировать значение работы над ошибками и те дискуссионные вопросы, которые относятся к их предупреждению и исправлению.
Прежде всего следует отметить то бесспорное для советской психологии положение, что знание результата действия, выполняемого в качестве упражнения, является необходимой предпосылкой для формирования любого навыка. По отношению к усвоению орфографии это означает, что при выполнении различных письменных работ (классных, домашних или контрольных) ученикам необходимо знать, правильно или неправильно выполнены ими эти задания, верно или неверно написаны ими те или другие слова. Обычно результаты выполнения письменных заданий ученики узнают благодаря письменным или словесным указаниям учителя.
Учение И. П. Павлова о значении подкрепления для выработки условных связей позволяет понять причины обязательности знаний о результатах своих действий.
Как было показано выше, усвоение орфографии представляет собой сложную аналитико-синтетическую деятельность, в процессе которой происходит, говоря словами И. П. Павлова, выделение того, что «не соответствует действительности, от того, что соответствует действительности».
Действительность, условия жизни животного регулируют процесс образования связей путем неподкрепления ошибочных, неправильных связей. И. П. Павлов писал по этому поводу: «Для получения правильного отношения организма к внешнему миру необходимо не только образование временных связей, но и постоянное и быстрое корригирование этих связей, когда эти временные связи при определенных условиях не оправдываются действительностью, т. е. их отмена. И эта отмена временных связей осуществляется путем торможения» Ч
Таким образом, можно сказать, что процесс анализа и синтеза действительности зависит как от подкрепления правильных, так и от «отмены», оттормаживания образовавшихся неправильных, ошибочных связей.
В условиях обучения такую роль подкрепления и неподкрепления играют указания учителя. Указание на
1 И. П. Павлов, Поли. собр. соч., т. III, кн. 2, стр. 24.
ошибку затормаживает образование неверной связи, указание на правильность реакции содействует образованию верной. В этом заключается та положительная роль, которую всегда отводили советские психологи знанию правильности или неправильности результатов выполняемых упражнений.
Поэтому в полном соответствии с научными данными можно сказать, что указание учителя на ошибки ученика является первым обязательным элементом правильно организованного обучения.
Но возникает вопрос о характере дальнейшей работы над ошибками.
Известно, что в опытах с животными основным условием для выработки динамического стереотипа, для закрепления системы временных связей являлось повторение в том же самом порядке тех же самых непосредственных раздражителей.
Г. В. Скипин, подводя итоги взглядам по этому вопросу И. П. Павлова, писал:
«Способность головного мозга животного к образованию многочисленной функциональной единицы, копирующей внешнюю среду как целое, и была названа системностью»... «При длительном применении различных раздражителей в определенном порядке вся система применяемых сигналов синтезируется и запечатлевается нервной системой, как одно целое» Ч
При нарушении стереотипной деятельности животного, т, е. при допущении им ошибок, единственным средством для исправления их и для восстановления выработанного стереотипа является возвращение вновь к предъявлению непосредственных раздражителей в первоначальном порядке. Эта особенность «исправления ошибок» у животных закономерно вытекает из своеобразия работы первой сигнальной системы.
Несомненно, что путем такой дрессировки отдельные частные навыки могут быть выработаны и у человека. О возможности создания таких навыков говорил, как мы знаем, еще Ушинский, приводя в пример дореволюционного писаря, который, не зная никаких правил, долголетним переписыванием казенных бумаг добивался
1 Г. В. Скипин, Труды физиологической лаборатории им. И. П. Павлова, т. VIII, 1938.
Относительной грамотности. Но этот путь Ушинский считает отупляющим, тягостным для детей и, следовательно, антипедагогическим.
Но есть другой путь, по которому должно идти обучение детей и в том числе вестись работа над ошибками. Это путь сознательного обучения, основанный на осознавании орфографических ошибок. Возможность идти этим путем человечество получило благодаря языку.
Посредством словесного объяснения учителя становится возможным сделать то, что никогда невозможно сделать при обучении животных, а именно: указать, в чем именно заключается ошибка ученика, как надо ее исправить и почему ее надо исправить именно таким образом. В советской психологии и педагогике сознательное обучение в отличие от «механического» характеризуется именно этими основными Признаками. Осознание правила обычно и заключается в том, что ученик знает ответы на оба эти вопроса: «как?» и «почему?». Именно такой навык, который возникает на основе осознавания приемов правильного действия, и называется в психологии автоматизированным в отличие от действий чисто автоматических. Осознавая ошибку, ученик в словесной форме выражает те отношения, которые существуют в языке между данной орфограммой и соответствующим орфографическим правилом. И если он это сделает правильно, ему будет ясен ответ на оба эти вопроса: как и почему надо писать так, а не иначе. Эти возможности создают язык, речь как средство общения и взаимного понимания, как средство формирования мысли.
Физиологический механизм регулирующей функции речи при образовании условных связей раскрыт Павловым. Поскольку слово есть «отвлечение и обобщение» и поскольку оно способно заменять «массу ощущений», постольку регуляция деятельности человека через речь возможна без непосредственного воздействия раздражителей, идущих от реальной обстановки, а следовательно, при известных условиях исправление ошибок возможно без восстановления первоначально действующей реальной ситуации обучения. Реальную систему раздражителей заменяет в таком случае соответствующее словесное указание. Словесные раздражители оживляют или оттормаживают при этом следы прежде образованных 384
йременных связей и производят, Факим образом, «отмену» ошибочных, неверных связей и замену их правильными. В таком случае регуляция со второй сигнальной системы происходит, как выражается И. П. Павлов, «на основе общих понятий о времени, пространстве, причинности и т. д.» 1.
Применительно к обучению орфографии мы, естественно, можем говорить уже не об общих понятиях, а о правилах орфографических и грамматических. Эти правилу облеченные в словесную форму, регулируют и корригируют орфографическую деятельность ученика. Трудно представить, как шло бы обучение, если бы при каждой ошибке ученика требовалось восстанавливать все те системы непосредственных языковых раздражителей, которые, постепенно наслаиваясь, привели в конце концов к действиям, согласно какому-нибудь орфографическому правилу. Но такой случай при обучении исключается, ибо с самых ранних дней детства первая сигнальная система начинает функционировать в тесном сотрудничестве со второй, которая является, по словам И. П. Павлова, высшим регулятором человеческого поведения.
Однако слово, правило — не маг и волшебник, учителю недостаточно сделать словесное указание ученикам, сослаться на правило для того, чтобы изменить уже сформировавшиеся связи. Для этого необходимо, чтобы в слова, произнесенные учителем, ученики вкладывали то же содержание, которое подразумевает он сам. Если ученик «не. так» понимает сказанное, то очевидно, что толку от таких словесных указаний будет мало.
Каждое слово в языке имеет свое строго фиксированное значение, выработанное в процессе исторического развития данного народа и имеющее обобщающий понятийный характер. С физиологической стороны всякое понятие представляет собой определенную систему временных связей, которые актуализируются при восприятии слова. Слово, таким образом, связано с многочисленными и разнообразными раздражениями, приходящими извне. «Конечно, — писал И. П. Павлов, — слово для человека есть такой же реальный условный раздражитель, как и все остальные общие у него с животными, но, вместе с тем, и такой Многообъемлющий, как никакие
1 «Павловские среды», изд-во АН СССР, т. III, стр. 231.
25 Д. Н. Богоявленский
385
другие, не идущий в этом отношении ни в какое количественное и качественное сравнение с условными раздражителями животных. Слово, благодаря всей предшествующей жизни взрослого человека, связано со всеми внешними и внутренними раздражениями, приходящими в большие полушария, все их сигнализирует, все их заменяет и потому может вызвать все те действия, реакции организма, которые обусловливают те раздражители» Ч
Таким образом, чтобы понять слово, нужно иметь в мозгу сложившуюся систему временных связей, которая соответствовала бы по своему «количеству и качеству» именно тем раздражителям реального мира, с которыми данное слово связано в общенародном языке. Чем шире понятие, выражаемое данным словом, чем оно абстрактнее, тем больше опыта оно требует для образования соответствующих нервных связей, тем больше становится емкость данного слова, тем сложнее и разнообразнее становятся нервные системы связей, которые актуализируются данным словом. Особенно много труда приходится затрачивать ребенку при овладении словами, имеющими своим содержанием научные понятия.
Отсюда становится понятным факт расхождения у разных людей мыслимого содержания слова при тождественности словесного обозначения. Опираясь на павловское учение о слове, можно считать причиной такого явления разную «емкость» слова, различное «количество и качество» нервных связей, оживляемых в мозгу данным словом у разных людей. Особенно ярко выступает такое расхождение понимания слова в случае так называемого формального усвоения школьниками определений, правил и т. д. В этих случаях за словесным обозначением у учеников не лежит никакого содержания или оно совершенно не соответствует научному понятию, хотя формулировка правил и определений может быть правильной. Это объясняется тем, что системы нервных связей, оживляемых в мозгу ученика данными словами, ни по своему количеству, ни по своей сложности недостаточны для того, чтобы связать слова именно с тем участком реальной действительности, который они заменяют при правильном научном мышлении.
1 И. П. Павлов, Лекции о работе больших полушарий головного мозга. Поли. собр. соч., изд. 2-е, т. IV, стр. 429.
Поэтому, когда мы говорим о регуляции письма школьников через словесные указания, следует иметь в виду, что их эффективность для исправления ошибок зависит прежде всего от того конкретного содержания, которое они вкладывают в слова.
Не всякая словесная поправка и не для каждого ученика может принести одинаковый эффект. Учителя хорошо знают, что если для сильного ученика достаточно бывает иногда простого указания, например, на характер грамматической категории, с которой связана ошибочно написанная орфограмма, то для более слабых требуется специальная работа над ошибками данного типа, во время которой словесные указания, формулировка правил должны сопровождаться разбором конкретных примеров. Психологическое значение этого методического приема* вытекающего из принципа наглядности, понятно: конкретные примеры — это непосредственные языковые раздражители, возвращение к которым становится необходимым, так как одни слова учителя не заменяют в данном случае для ученика всей полноты реальной орфографической ситуации.
Мы видим, таким образом, что обучение, основанное на речевом общении, обладает огромным преимуществом по сравнению с дрессировкой животных. Обобщенность и «многообъемлемость» слова позволяют заменять воздействие непосредственных раздражителей опосредствованным действием слова. Однако полноценная «замена» дается лишь в результате предшествующей работы над словом или научным понятием. Для того чтобы слово могло выполнять роль «заменителя», надо, чтобы оно «по механизму вторичного возбуждения» (Иванов-Смоленский) оживляло в мозгу следы прежних непосредственных раздражений, прежний опыт человека. Если этого прежнего опыта, связанного со словом, нет или если он недостаточен, то мы будем иметь или чистый вербализм или по меньшей мере неточное отражение действительности. Для обучения в таком случае следует организовать восполнение непосредственного опыта ученика.
Выше уже говорилось, что сознательное отношение к своим ошибкам с педагогической стороны характеризуется осознаванием того, как надо исправить ошибку и почему это надо делать именно таким образом. Теперь, 25* 387
бСйовываясь на учении И. П. Павлова о взаимодействий двух сигнальных систем, можно более детально представить и психологию этих вопросов.
Что же происходит, когда ученик получает указание, как и почему надо исправить ошибку? При ответе на вопрос как? основным содержанием его мысли будет представление данной правильной орфограммы (ее зрительный или акустически-артикуляционный образ); это представление и вызывает нужную письменную реакцию (на основе ранее выработанных ассоциаций).
В этом случае в качестве осознаваемого содержания сознания выступает отношение между представлением конкретного слова и соответствующей реакцией. Такую ассоциацию можно назвать единичной, не обобщенной. Она возникает под влиянием словесного указания учителя (например: «В слове туманный надо писать два «н») во второй сигнальной системе и, следовательно, «осознается» учеником, но, поскольку эта ассоциация единична, она не может быть «перенесена» на написание других слов той же категории.
В этом случае значение вопроса почему? совпадает с функцией вопроса как? и не оживляет никаких других связей, кроме единичных. «Почему в слове ту-манный пишется два я?» — «Потому что так пишется в книгах, так сказал учитель» и т. п. Никакого другого основания ученик привести не в состоянии. Следовательно, исправление ошибок, ведущее к актуализации единичной ассоциации, совпадает с тем методом, который в педагогике носит название догматического.
Для психологически простейших типов орфограмм (каковыми являются, например, случаи так называемого традиционного написания) исправление ошибки на этом и заканчивается (мы не говорим здесь о необходимости дальнейшего закрепления этой ассоциации).
Сложнее обстоит дело при исправлении орфограмм, регулируемых орфографическими правилами.
Если мы ведем обучение «по правилам», то восстановление связи между восприятием единичного слова и соответствующей письменной реакцией становится недостаточным. Место единичного образа слова в морфологической орфографии заменяет морфема, являющаяся первым членом восстанавливаемой связи. Но поскольку морфема не простое буквенное сочетание, а часть слова, 388
имеющая определенное грамматическое значение и выполняющая ту или иную языковую функцию, то выделение морфемы означает актуализацию целой системы связей или, вернее, ряда систем, последовательно связанных друг с другом.
Так, например, для того чтобы определить по правилу правописание того же слова туманный, следует прежде всего увидеть в нем прилагательное, т. е. актуализировать ту систему связей, содержанием которой являются признаки именно этой части речи; затем выделить в нем основу слова и суффикс, что предполагает «оживление» знаний о морфологическом составе слова; в-третьих, надо определить конечный звук основы, для чего необходимы некоторые знания по фонетике. Лишь опираясь на подобного рода предшествующие знания, становится возможным применить правило: «В прилагательном пишется два н, если одно из них находится в основе». Сложность усвоения правила зависит, следовательно, от характера тех грамматических элементов, на которых оно основано и каждый из которых представляет собой обобщение разной степени абстрактности и сложности.
Когда мы говорим о сознательном исправлении ошибок, то это означает, что в процессе такого исправления должна лежать актуализация всех этих ассоциаций. Дело осложняется тем, что учитель не всегда знает, образно говоря, в каком месте этой многоразветвленной системы ассоциаций имеется разрыв, подлежащий восстановлению. Кроме того, одни и те же ошибки встречаются у разных учеников и могут зависеть от различных причин. Поэтому опытный учитель при работе над ошибками старается проверить, как действуют все линии внутри каждой системы.
Каким же образом может произойти восстановление нарушенных систем связей?
Исходя из предшествующего анализа структуры орфографических ассоциаций, надо признать, что первой задачей при работе над ошибками является восстановление ассоциации между ошибочно написанным словом и словесной формулировкой правила. Такое подведение данного слова под правило и составляет внутреннюю сущность ответа на вопрос, почему надо писать именно таким образом. В этом случае функции вопросов как? и почему? уже не являются тавтологическими.
В грамматической орфографии правильный ответ на вопрос, как надо писать, не может еще свидетельствовать об обобщенном характере ассоциаций, так как правильный ответ может быть получен, как мы видели, и при связях единичного типа (ученик может при указании на ошибку исправить ее либо на основе всплывшего в памяти единичного образа слова, либо просто по догадке) .
Наоборот, ответ ученика на вопрос, почему надо писать так или иначе, свидетельствует, что связь между правилом и данной орфограммой во второй сигнальной системе восстановлена. Однако очень важно для дальнейшего процесса искоренения ошибки, чтобы ученик при подобном подведении ошибки под правило полностью сохранял свою самостоятельность. Если ученик сам «додумается», какое правило он нарушил в данном случае, то можно предполагать, что те системы ассоциаций, которые лежат в основе усвоения правила, у него актуализировались (конечно, если правильная формулировка правила не возникла у него по чисто внешним ассоциациям). В нашем примере в таком случае он слово туманный определит как прилагательное, определит его морфологический состав и разберется в фонетической стороне дела. Но если формулировка правила будет подсказана учителем или, что часто бывает на уроке, он услышит ее из ответа более сильного ученика, то такое пассивное восприятие правила может остаться чисто вербальным, не связанным с конкретными языковыми фактами. К такому случаю относится все то, что говорилось выше о лимитировании сферы действия слова «количеством и качеством» ассоциаций, сложившихся в прежнем опыте ученика.
Кроме того, работа над ошибками не может ограничиться сообщением правила и потому, что прежние ассоциации, возникающие под влиянием восприятия словесной формулировки правила, могут быть недостаточно прочными и дифференцированными вследствие недостаточной их «свежести». В ситуации, когда ученику дается правило (учителем или другим учеником) и тот непосредственный раздражитель (ошибочно написанное слово), к которому относится правило, следы этих связей оживляются и он «понимает» зависимость, существующую между правилом (или его отдельными элементами) 390
и правильной двигательной реакцией письма. Но часто бывает так, что в другой ситуации, например, при самостоятельном письме, ученик не в состоянии использовать правило, так как оно ему никем не подсказывается. Поэтому необходимо не только восстановить нужные ассоциации между орфограммой и соответствующим правилом, но упрочить и закрепить их особыми упражнениями. Советская методика располагает целым рядом приемов, предназначенных для этой цели; к психологическому анализу таких упражнений мы перейдем в дальнейшем изложении.
Учение марксизма-ленинизма о языке и его отношении к мышлению дает нам возможность понять самое существенное, что характеризует процесс обучения человека. Это колоссальная роль слова, благодаря которой мы можем управлять этим процессом, изменять содержание мысли ученика, направлять ее на нужные для целей обучения участки реальной действительности и, благодаря этому, исправлять изъяны обучения. Зная, что «реальность мысли проявляется в языке», сознательным обучением может считаться лишь обучение, результаты которого могут быть выражены в словесной форме (внешней или внутренней), а сознательным исправлением ошибок то, при котором ученик может словесно выразить зависимость между грамматическими законами и написанием орфограмм. Учение И. П. Павлова о взаимодействии двух сигнальных систем позволяет материалистически представить внутренние закономерности, которые осуществляют через слово корригирование ошибочного действия ученика, и понять задачу работы над ошибками как восстановление и закрепление правильных орфографических ассоциаций.
На основе этих общих данных следует сделать теперь попытку психологического анализа некоторых более частных вопросов методики- исправления ошибок, для чего необходимо выяснить прежде всего вопрос о значении восприятия ошибки, что, как мы видели, является весьма важным для методики.
Как неоднократно нами подчеркивалось, зрительный «образец» той или иной орфограммы совершенно необходим при формировании орфографических ассоциаций. Бесспорно также, что представление о таком образце может возникнуть и закрепиться в памяти ученика
в результате повторного восприятия графически изображенных слов. Отсюда как будто следует, что в том случае, когда ученик воспринимает ошибочно написанное слово и это восприятие повторяется, то этого достаточно для образования ошибочных ассоциаций, точно так же, как (что и предполагает Н. С. Рождественский) при восприятии правильно написанного слова образуются ассоциации правильные.
Однако повторением не исчерпываются условия, необходимые для образования временных связей. Для этого необходимо их подкрепление. Роль подкрепления играют, как говорилось выше, прежде всего указания учителя на ошибку, даваемые им в словесной или графической форме (зачеркивание, подчеркивание и т. п.). Поэтому нельзя отождествлять, как это делают некоторые методисты, роль в обучении правильного «образа» слова с ролью неправильного, ибо первый в правильно организованном обучении всегда подкрепляется, а второй — затормаживается.
Может показаться, что некоторые случаи при обучении являются исключением из этого общего положения. Дело в том, что психологически роль подкрепления может выполнять уверенность ученика в правильности ошибочного «образа», рождающаяся не в силу указаний учителя, а под влиянием раздражителей либо внешних по отношению к обучению, либо зависящих от недостатков самой методики исправления ошибок. Примерами таких случаев может служить повторяющееся восприятие учеником ошибочного слова в безграмотных объявлениях, в письмах, в книгах, напечатанных по дореформенной орфографии, и, наконец, в письменных работах самого ученика или его товарищей, оставленных без исправления учителем. Последние случаи наблюдаются в школах, где недостаточно обращается внимания на соблюдение единого орфографического режима и где самостоятельные записи учеников на уроках других преподавателей не контролируются ими. В таких случаях возможность закрепления ошибочных связей основывается на законе подкрепления. Увиденная ошибка в объявлении, книге и т. п. подкрепляется самим фактом публикации, неисправленная ошибка в своих собственных работах закрепляется, потому что она никем не опровергается и ученик получает возможность считать свою запись правильной и т. П-
На практике такие случаи возможны, но они не меняют принципиального решения вопроса, они не могут послужить основанием для «страха» перед ошибкой: надо предусмотреть и не допускать в обучении такого рода «подкрепления».
Кроме того, для образования связей (как правильных, так и неправильных) необходимо, как мы помним, еще одно условие — привлечение внимания к записи, к ее орфографической стороне. Известно, что при автоматизированное™ чтения, при обращении внимания на смысл читаемого мы часто не замечаем орфографических ошибок. Педагоги знают, что «орфографическая зоокость» не является чем-то само собою разумеющимся. Привычка обращать внимание на орфографические особенности слова воспитывается постепенно и требует больших усилий как от педагога, так и от ученика. Сравнительно редкое видение ошибочных написаний само по себе еще не означает, что ученик непременно обратит внимание на ошибку. Павловское условие — наличие активного очага возбуждения в определенных участках мозга, управляющих данной деятельностью, — представляет, следовательно, еше одно условие, ограничивающее возможность врепного влияния восприятия ошибки.
В психологии известны опыты, подтверждающие это положение павловского учения. Это известные экспериментальные работы по памяти А. А. Смирнова и П. И. Зинченко. Эти опыты, как известно, были посвящены изучению зависимости непроизвольного запоминания от характера той деятельности, при которой оно происходит: в них выяснялось, в какой мере запоминается материал без специальной установки на удержание в памяти.
В опытах А. А. Смирнова 1 перед испытуемыми ставились две задачи. Первая из них заключалась в том, что они должны были решить, какому орфографическому правилу соответствует подчеркнутое слово в предложениях, предъявляемых экспепиментатором в письменном виде попарно. Например: «Мой брат учится говорить по-китайски» и «Надо учиться писать краткими фра
1 А. А. Смирнов. Влияние нлправлен1чости» и характера деятельности на запоминание «Труды Института психологии Академии ..наук Грузинской ССР», Тбилиси, 1945.
зами». Вторая задача заключалась в том, что испытуемые самостоятельно придумывали другую пару фраз на те же самые правила. На другой день, неожиданно для испытуемых, от них требовалось воспроизвести предложения как первой, так и второй серии опытов. Результаты показали, что предложений, придуманных самостоятельно, было воспроизведено в три с лишним раза больше, чем предложений, данных экспериментатором в готовом виде.
Опыты П. И. Зинченко1 проводились на числовом материале. В первой серии опытов ученики III и IV классов решали задачи на сложение и вычитание, предложенные экспериментатором; во второй — только придумывали аналогичные задачи, не решая их. После окончания работы предлагалось вспомнить числа, встретившиеся в задачах. Результаты опытов оказались сходными с опытами Смирнова: во второй серии по сравнению с первой продуктивность запоминания увеличилась почти втрое.
Аналогичные результаты, непосредственно относящиеся к орфографии, получил француз Симон, который предлагал ученикам составлять предложение с неизвестными им в орфографическом отношении словами, а потом испытывал, запомнили ли они правописание этих слов. Оказалось, что, несмотря на 'неоднократное перечитывание составляемых учащимися предложений, орфографически правильные написания контрольных слов были случайными.
Советские авторы сделали из этих опытов вывод, что благоприятные условия для запоминания без специальной установки на запоминание создаются тогда, когда материал имеет непосредственное отношение к цели нашей деятельности. Чем меньшее значение имеет он для целей нашей деятельности, тем меньше шансов на то, что он будет правильно воспроизведен.
Наконец, имеется и третье условие образования временных связей — достаточное количество повторений. Мы пока еще рассматриваем вопрос об исправлении
1 П. И. Зинченко, Непроизвольное запоминание, журн. «Советская педагогика», 1945, № 9. См. также П. И. Зинченко, О формировании непроизвольного и произвольного запоминания, журн «Советская педагогика», 1954, № 4.
ошибок, не касаясь той роли, которую играет при этом правило. Мы говорили до сих пор лишь о восприятии или представлении ошибочно написанного слова, т. е. о непосредственных раздражителях в виде отдельных слов или орфограмм, а не о их обобщении. При этих условиях мышление учеников носит преимущественно наглядный характер. В таком случае достаточное количество повторений, как уже говорилось, является совершенно необходимым третьим условием образования ошибочных связей.
Из всего этого следует, что простого видения или написания ошибочного (так же как, впрочем, и правильного) слова далеко не достаточно для образования прочных связей. Для этого нужны еще три условия, установленные в согласии с учением И. П. Павлова: внимание к ошибке, подкрепление ошибки и повторные восприятия ошибки. Можно полагать, что очень незначительное количество ошибочных восприятий учеников может при правильно организованном обучении происходить «при соблюдении всех этих необходимых для их закрепления условий; во всяком случае, их будет не такое количество, чтобы ради них жертвовать тем преимуществом, которое дает обучению привлечение внимания ученика к ошибкам и соответствующая работа по их исправлению.
Однако остается при всем этом неразрешенным другой вопрос, возникающий у практиков: в какой мере объяснение правила может противостоять рлиянию непосредственного вида ошибок. Вопрос этот возникает как будто на вполне законном основании. Действительно, когда мы объясняем ошибку, мы тем самым создаем одно из условий, благоприятствующих запоминанию, а именно: обращаем на ошибку внимание ученика; когда та же ошибка встречается в работах класса, педагог обычно снова обсуждает ее с классом и, таким образом, создается второе благоприятное условие — повторение.
Остается при этом лишь одно условие, не благоприятствующее запоминанию ошибки: она не подтверждается учителем, а запрещается; следовательно, не только не подкрепляется, но затормаживается. Таким образом, возникший вопрос можно свести к более точной формулировке, а именно: может ли в этих изменившихся условиях словесная ссылка на правило противостоять влия-
нию непосредственного впечатления от ошибочного слова. Не слишком ли велик тот риск, на который идет учитель, привлекая внимание ученика к ошибке.
Но, очевидно, что здесь возникает ситуация, которая уже разбиралась нами выше при оценке роли правила в свете учения И. П. Павлова о взаимообусловленности работы двух сигнальных систем. Действительно, если мы допустим, что в этих условиях правило не в состоянии выполнить свою регулирующую функцию по отношению к ошибкам, то это должно означать, что регуляция со второй системы не состоялась, и в таком случае регулирующее значение приобретут такие факторы, как повторение, сила раздражителей, их порядок и т. п. Теоретические, опосредствующие элементы мышления отступят на задний план, а нашу деятельность станут определять закономерности наглядного мышления, и непосредственное восприятие единичного ошибочного слова «победит» действие правила. Но такое резкое несоответствие деятельности двух сигнальных систем возможно предположить теоретически лишь при полном отсутствии ассоциации между правилом, восстановленным в памяти ученика при помощи учителя, и данной орфографической ситуацией, т. е., другими словами, при полном непонимании учеником данного правила. В таком случае повторные восприятия ошибки могут привести к закреплению ошибочных орфографических ассоциаций.
Но такая ситуация при нормальном ходе обучения вряд ли возможна. Обычно правило бывает в какой-то мере «знакомо» ученику, что обеспечивает возможность передачи возбуждения со второй сигнальной системы в первую. В таком случае регулирующая роль правила, как уже говорилось, зависит от степени его емкости для данного ученика, от того «количества и качества» ассоциаций, образованных в предшествующем опыте, которое оно в состоянии заменить. Если этот опыт ученика достаточно богат и разнообразен, то правило может «сработать» сразу, включив данную орфограмму в систему вполне упроченных ассоциаций, по своему содержанию объединяющую большую или меньшую группу хорошо известных ученику орфограмм.
Примером такого «внезапного» действия правила может служить случай с исправлением ошибки в слове прикорнуть, о котором сообщалось в одной из предще-396
ётвующих глав. В диктанте в правописании Этого слова было сделано -много ошибок, даже сильными учениками. Обычно писалось это слово как прикурнуть. Распространенность именно такой ошибки позволяла предположить, что она не случайна. Действительно, опросы учеников показали, что они связывали правописание этого слова с корнем таких слов, как курить, прикурить и т.‘п.
Таким образом, причина ошибок заключалась в том, что при восприятии этого слова (в диктанте) возникали ошибочные межсловесные ассоциации со сходными по внешности, но тем не менее неоднокоренными словами. Сами ученики обычно не могли догадаться, как же правильно решить этот вопрос. Тогда экспериментатор указывал, что слово прикорнул пишется через о, потому что корень его выражает идею короткости, заключающуюся в таких хорошо знакомых словах, как короткий, коротать, коротко и т. п. В ответ на это часто мы имели такие непроизвольные реакции учеников: «Вот как? Теперь я буду знать», «Теперь уже я не ошибусь» и т. п. Психологически такого «внезапного» действия правила, действительно, возможно ожидать, поскольку данная орфограмма включилась в многочисленную группу слов, хорошо знакомых учащимся.
Таким образом, при полном соответствии емкости правила данной орфографической ситуации, «победа» правила над восприятием ошибки может быть обеспечена, даже без специальных вторичных упражнений.
Все остальные возможности действия правила содержатся между этими двумя крайними случаями: бездейственностью правила и его «внезапным» действием. Поэтому, если мы при исправлении ошибок ограничиваемся лишь одной «ссылкой на правило» (а именно о таком случае говорит Н. С. Рождественский), то, действительно, мы -не можем всегда ручаться, что ссылка на правило может быть сильнее, чем непосредственные, повторяющиеся впечатления ученика. Но, как мы указали выше, восстановление ассоциаций с правилом является лишь первым, начальным этапом работы над ошибками. Поэтому сама постановка вопроса, что сильнее, ссылка на правило или восприятие ошибки, — не отражает существующей практики работы над ошибками. Чтобы соответствовать этой практике, вопрос следует сформулировать точнее, а именно: что сильнее, вид ошибки или та
работа над ошибками, которую, в полном согласии с данными психологии, рекомендуют советская дидактика и методика.
Проведенные ранее результаты опытов Вишнепольской подтверждают нашу точку зрения. Как мы помним, ее данные позволили нам истолковать их в плане соотношения- первосигнальных раздражителей (восприятие орфограмм) и второсигнальных факторов (влияние правил).
В этом отношении интересно отметить, что, по данным Вишнепольской, первосигнальная генерализация, возникшая в результате многократного повторения восприятия (слухового, зрительного и двигательного) одного варианта написания, распространялась главным образом на слова, по отношению к которым второсигнальные дифференцировки у учеников не могли возникнуть или же были очень слабыми. В тех же случаях, когда второсигнальные связи были достаточно упрочены, длительные упражнения не могли оказать на них существенного влияния.
Другие экспериментальные данные, относящиеся непосредственно к вопросу о влиянии восприятия ошибок, были получены в исследовании И. А. Сеидова L
Автор поставил своей задачей сравнить влияние методов, предупреждающих восприятие ошибочно написанных слов, и методов, допускающих видение ошибок. В первом случае слова записывались учителем на доске, внимание учеников привлекалось к их правописанию, они должны были по слогам произнести их. На следующий день проводился контрольный диктант.
Во втором случае учащиеся с самого начала действовали самостоятельно, допускали при этом ошибки и зрительно воспринимали их. Но им представлялась при этом возможность осознать допущенные ошибки.
В результате контрольный диктант по первой серии опытов дал 47,7% ошибок, по второй — 27,8%.
Затем обе серии опытов были видоизмёнены таким образом, что после зрительного восприятия слов и посло-
1 И. А. Сеидов, К вопросу о влиянии зрительного восприятия ошибок на усвоение орфографии родного языка в азербайджанской начальной школе, Ваку, 1954 (автореферат).
гового их анализа (в первой серии) и после осмысления ошибок (во второй) вводилось 2—3-кратное переписывание слов.
В таком виде первая серия дала при проверке 23,2% ошибок, а вторая—11,8%.
При раздаче контрольных работ в обеих группах была проведена работа по осознанию допущенных учениками ошибок. Через две недели после этого контрольные слова были вновь продиктованы ученикам. В обеих сериях процент ошибок значительно снизился, но в то время как в первой серии он упал до 15,3%, во второй — до 7,1%. Таким образом, лучшие результаты дали те методы исправления ошибок, которые были основаны на восприятии и анализе ошибочных написаний слов.
Кроме этих опытов, Сеидов подверг исследованию влияние повторного восприятия ошибок, сопровождаемого их анализом. В двух классах был проведен короткий диктант. Ошибки учеников класса А не затушевывались при их исправлении экспериментатором, в классе Б ошибочно написанное слово им целиком переписывалось, так что вторичного восприятия ошибки не допускалось. Оказалось, что у учеников класса А ошибки в контрольной работе достигли 40,5%; у учеников класса В — 46,5 %.
Автор правильно приходит к заключению, что данные этих опытов не подтверждают мнения о том, что после допущения ошибки и зрительного ее восприятия правописание соответствующего слова усваивается с большим трудом. Не подтверждается и мнение, что допущенная ошибка неизбежно закрепляется «зрением и процессом письма».
Как показал наш предшествующий анализ, для подобного закрепления в памяти ошибочно написанного слова требуется наличие ряда условий, не имеющих места при однократном или двукратном повторении восприятия ошибки.
* * *
Во всем предыдущем изложении вопросов усвоения правописания мы старались показать, что в основе усвоения правил орфографии лежит сложная аналитико-синтетическая деятельность учащихся, в результате которой ученик научается применять грамматические знания
к орфографии. Орфографические ошибкй являются йокйа зателем, что те нервные связи, которые лежат в основе грамматических знаний и их применения в орфографии, недостаточно упрочены и закреплены, другими словами, что выработка необходимых стереотипных форм деятельности еще не закончена.
Именно в этом заключается основной источник ошибок и именно этим объясняется повторное появление их в работах учеников, несмотря на правильные приемы их исправления. Поэтому те, кто причиной всех зол считает восприятие неправильного зрительного изображения слова, о причинах орфографической неуспеваемости учеников судят поверхностно, не замечая более глубоко скрытых корней ее происхождения.
На самом деле работа над ошибками есть не что иное, как продолжение той же самой деятельности ученика, необходимой для усвоения орфографического правила, о которой речь шла в предшествующих главах.
Подобно тому, как на предшествующем этапе обучения усвоение правила возникало из анализа конкретных фактов языка и тех первичных обобщений, на которых основано данное правило, так и при работе над ошибками «ссылку» на правило следует сопровождать возвращением к этим, ранее пройденным этапам обучения. В процессе работы над ошибками должны быть восстановлены и закреплены те связи, которые обеспечивают необходимые грамматические знания и их применение к орфографии. Так как, таким образом, работа над ошибками является естественным и органическим продолжением обучения, то и те педагогические приемы, которые применяются при этом, принципиально не отличаются от тех, которые рекомендуются на этапе объяснений правила и при последующих упражнениях. В обоих этих случаях приемы по анализу ошибок могут быть очень разнообразными в зависимости от типа того правила, к которому относится ошибка.
Прежде всего, как уже мы знаем, приемы обучения изменяются в зависимости от характера орфограмм. Усвоение одних орфограмм (звуковых ) основывается на различении звучания слова; других — традиционных — на условном принципе письма; третьих — морфологических — на связи орфографического явления с грамматическими категориями. В отношении каждой из этих
групп, подобно различию процесса их усвоения, различны и процессы исправления ошибок. При ошибках в звуковых орфограммах нарушается, очевидно, связь между слухо-артикуляционными особенностями орфограммы и ее графической формой; в традиционных — между единичным зрительным представлением слова и графемой; в грамматической — между графемой и сложными грамматическими понятиями. Так, например, для восстановления нарушенной орфографической связи при ошибочном написании малчик, требуется осознать мягкое звучание фонемы л, при ошибках в словах, не подчиняющихся правилу, типа карова, саловей, надо укрепить связь письменной реакции с правильным зрительным представлением слова; при работе над ошибкой в слове туманый — обратить внимание ученика на грамматические и фонетические особенности орфограммы (часть речи, характер основы слова, суффикс).
Все эти случаи исправления ошибок имеют различную психологическую сложность в зависимости от того, какова психологическая природа операций, необходимых для выделения и различения первого члена этих орфографических ассоциаций: фонемы, зрительного представления слова, грамматической категории. Поэтому различен и тот «прежний опыт», который необходим, как мы видели, для исправления ошибок, различны в связи с этим и формы работы над ошибками.
Но, как уже нам приходилось отмечать выше, несмотря на все разнообразие работ по восстановлению и закреплению нарушенных ассоциаций, вытекающее из различий в характере орфограмм, в их основе лежит общий прием — конкретизация правила. В тех случаях, когда идет речь о восстановлении единичных ассоциаций (традиционная орфография), задача исчерпывается восстановлением правильного зрительного образца данного слова и повторением его, необходимым для закрепления ассоциации между письменной реакцией и именно этим наглядным представлением. Однако даже по отношению к традиционным орфограммам механическое многократное переписывание ошибочного слова не всегда может достичь цели, потому что при этом притупляется «орфографическое внимание» ученика, так как вследствие повторения однообразных раздражителей ориентировочный рефлекс может терять свое стимулирующее действие.
fi таком случае переписывание может выполняться механически, без регуляции со второй сигнальной системы, в данном случае без мысли об орфографической стороне дела. Поэтому, наряду с наглядным восприятием данного слова, следует воспитывать у ученика процесс активного представления его, так как именно представлением слова должен руководствоваться ученик при любой самостоятельной письменной работе. Поэтому и в этом психологически простейшем случае, при закреплении нарушенной связи, следует применять такие упражнения, которые потребовали бы от ученика самостоятельности (например, письмо с пропущенной буквой или другие, подобные тем, о которых мы уже говорили в главе об упражнениях).
По отношению к другим типам орфограмм, конкретизация будет иметь другие формы, поскольку эти орфограммы подчиняются правилам, имеющим обобщенный характер. В этом случае приходится восстанавливать связь данной орфограммы не с единичным образцом, а с целой группой слов, сходных с ней в грамматическом или фонетическом отношении. Такую функцию и выполняет широко используемый в школе прием подыскивания учениками аналогичных написаний.
В методическом письме Министерства просвещения, составленном М. В. Ушаковым, об этом приеме говорит1 ся следующее: «Самое широкое применение могут получить при анализе ошибок работы творческого характера, состоящие в подыскивании слов или предложений, аналогичных тем, в которых были допущены ошибки. Например, если оказалось плохо усвоенным раздельное написание предлогов с местоимениями или с существительными и учащиеся делают ошибки типа комне, сним, надомной или вовраг, ввоздухе, то дается задание подыскать примеры с тем же предлогом при других местоимениях {к тебе, к вам; с нами, с ней; над нами) или же с тем же существительным, но с другими предлогами {за оврагом, к оврагу, у оврага; без воздуха, на воздухе), а также просклонять письменно данное местоимение или существительное или написать их в разных падежах со всеми возможными при каждом падеже предлогами» L
1 М. В. Ушаков, Работа над ошибками как средство поднятия грамотности учащихся. Метод, письмо. Управление школ Мин-ва просвещения РСФСР, 1951.
Подобного рода упражнения^ конкретизирующие пра^ Нила, выполняют ту же функцию, как и хорошо знакомые нам упражнения, основанные на сопоставлении одних и тех же орфограмм. Цель таких упражнений — достигнуть объединения сходных орфограмм, их систематизации и обобщения. Вводя этот же прием при работе над ошибками, мы достигаем того, что ошибочное слово вовлекается в сферу действия данного обобщения благодаря установлению ассоциаций между этим словом и словами, придуманными учениками и в орфографическом отношении не вызывающими у них сомнения. В основе подобных операций лежит, как было выяснено раньше, образование межсловесных ассоциаций.
Не удивительно, что при работе над ошибками мы находим и другой прием, употребляемый на этапах объяснения правила и упражнений. Это прием противопоставления. В том же методическом документе пишется по этому поводу: «Полезно в некоторых случаях противопоставлять друг другу орфограммы, которые могут быть смешаны учащимися, в результате чего появляются ошибочные написания. Подыскивание таких примеров, их противопоставление случаям, на которые была допущена ошибка, тоже, несомненно, способствует сознательному усвоению орфографии, точному применению правила и расширению словаря учащихся... Итак, подбор не только аналогичных случаев, но и случаев противоположных, не только аналогия, но и противопоставление должны найти себе место при анализе орфографических ошибок».
Роль противопоставления, раскрытая в опытах И. П. Павлова, была достаточно освещена нами выше.
При применении метода противопоставления дифференцировка достигается благодаря выработке отрицательных связей с одним из сходных правил и положительных — с другим. И если при объяснении правила и при выполнении упражнений было важно не забывать об этих двух сторонах процесса дифференцировки и доводить до сознания учеников не только «что надо делать», но и «чего не надо делать», то при исправлении ошибок осознавание того, чего не надо делать, приобретает еще более важное значение. Ошибки в рассматриваемом случае возникают благодаря образовавшейся связи пись
менной реакции ученика с правилом, не относящимся к данной орфограмме.
Поэтому в задачу исправления ошибки входит прежде всего разрушение этой неправильной связи через регуляцию со второй сигнальной системы. Практически это означает, что мы должны довести до сознания учащихся вероятную причину их ошибки, которая далеко не всегда осознается учеником, напомнить им то правило, которое могло привести к образованию неправильной связи, а потом уже противопоставить неверному обобщению обобщение правильное. Если мы, например, встречаемся в работах учащихся с ошибкой типа горячь и знаем при этом, что в противоположность кратким прилагательным мягкий знак после шипящих пишется в наречиях (вскачь, сплошь и т. п.), мы допустим ошибку, если ограничимся подбором аналогичных орфограмм {горяч — колюч, хорош — похож и т. п.), и вспомним с учениками лишь одно правило о правописании кратких прилагательных.
Следует, так сказать, вывести наружу, облечь в словесную форму те основания, по которым ученик мог допустить данную ошибку, и сказать ему примерно так: «Вам могло показаться, что слово горяч надо писать с мягким знаком, потому что вы знаете, что так пишутся наречия на шипящую. Придумайте примеры таких наречий. Запишите их на доске» (учитель организует запись на доске и в тетрадях примеров наречий, тем самым конкретизируя данное правило). «Следовательно, такие наречия мы пишем с мягким знаком. А теперь скажите, к какой части речи относится слово горяч? А какому правилу правописания подчиняются краткие прилагательные? Придумайте примеры кратких прилагательных. Запишите их в другой столбик. Над первым столбиком напишем название: «Наречия»; над вторым: «Краткие прилагательные». Чтобы не смешивать эти два правила, продолжите дома эти списки и дополнительно придумайте примеры на каждое правило».
Примерно таким способом затормаживается неправильная связь и двигательная реакция переключается из одной системы связей в другую (мягкий знак — в наречия) ; аналогично этому слово горяч занимает место в системе прилагательных. Это достигается благодаря словесной регулировке и конкретизации, которая обеспечи
вает правильное взаимоотношение обеих сигнальных систем.
Легко видеть, что метод противопоставления применим не только по отношению к «сходным» правилам. Сходство орфограмм есть лишь одно из условий, правда, наиболее вероятное, вызывающее действие ученика по неверным правилам. Неправильные обобщения ученика могут возникать в процессе обучения и под влиянием других условий. Так, например, Л. И. Божович показала, что одним из таких условий является несоответствие между правилами, сообщаемыми школьнику, и его практикой письма. То обстоятельство, что правило о правописании заглавных букв в именах собственных не охватывает всех типов написания, вынуждает ученика самостоятельно вырабатывать свои обобщения, обычно неточные L Аналогичное явление наблюдается и в тех случаях (особенно характерных для начальных классов), когда практика письма сталкивает ученика с орфограммами, правила правописания которых ему еще неизвестны.
Вероятно, что случаи появления самостоятельных неверных обобщений ученика гораздо более часты, чем эти примеры. Нам важно здесь отметить лишь то, что принцип противопоставления правильного обобщения неправильному относится в равной степени ко всем случаям, когда причиной ошибки является неверное обобщение ученика. Другое дело, что в случаях взаимосмеши-ваемых окончаний учителю легче «догадаться» о причине ошибки, чем в других случаях, но от этого психологическая картина борьбы с ошибками принципиально не изменяется.
Из всего сказанного вытекает другой вывод: если у учащегося образовалось неправильное или неточное обобщение, то ему следует противопоставить правильное. В обучении этого мы достигаем, опираясь на деятельность второй сигнальной системы, пользуясь словесными раздражителями. При появлении ошибок, свидетельствующих о недостаточной специализации письменных реакций учеников, мы возобновляем работу по дифференциации правильных обобщений от неправильных. Эту
1 Л. И. Божович, Значение осознания языковых обобщений в обучении правописанию, «Известия АПН РСФСР», вып. 3, 1946.
цель преследует изложенный выше способ противопоставления правил.
Двухвариантные правила, как мы знаем, отличаются тем, что по-разному определяют написание одной и той же грамматической категории, в зависимости от различия какого-либо дополнительного признака, присущего слову. Эта особенность правила вносит некоторое различие в приемы работы над ошибками. Возьмем для примера следующее правило: «В именах существительных на -ня, если перед -ня стоит гласная, то в родительном падеже множественного числа пишется -нь: яблоня — яблонь; няня — нянь. Если же стоит согласная или и, то ь не пишется: вишня — вишен, сотня — сотен, бойня — боен».
По отношению к этому правилу нельзя ограничиться установлением непосредственной связи между окончанием родительного падежа множественного числа и типом данного существительного (существительное на -ня). Для того чтобы правильно определить правописание данной орфограммы, следует внутри данного типа слов произвести дальнейшую дифференциацию, связанную в данном случае с определением характера звука, предшествующего конечному сочетанию -ня. Соответственно этому усложняется работа по анализу ошибок.
Как и по отношению к однозначным правилам, здесь проводится работа по отнесению ошибочно написанного слова к данной категории слов, но она дополняется работой по выделению дифференцирующих признаков. Эта работа ведется примерно следующим образом (по поводу ошибок учеников типа башень).
«Как будет именительный падеж единственного числа от слова башен? Какие звуки вы слышите в конце слова башня? Назовите еще примеры таких имен существительных на -ня (устанавливается тип существительного). Какое правило вы знаете относительно таких слов? (восстанавливается словесная связь с правилом).
Приведите примеры родительного падежа таких слов с ь на конце. Приведите примеры без ь (процесс конкретизации). Подчеркните в этих примерах буквы, непосредственно предшествующие сочетанию -ня (процесс выделения дифференцирующих признаков). Сопоставьте эти буквы в словах с мягким знаком и без мягкого знака
(процесс противопоставления). Иванов, объясни, в чем состояла твоя ошибка».
В результате такого урока на доске появляется обычно следующая запись:
Им. пад. ед. ч. Род. под. мн. ч.
Башня Башен
Вишня Вишен
Песня Песен
Дыня Дынь
Яблоня Яблонь и т. д.
На дом учитель обычно задает распространить этот список и придумать предложения, в которых нужные слова были бы употреблены в родительном падеже множественного числа.
Мы видим из этого примера, что исправление ошибок против двухвариантного правила проходит два этапа: определение грамматической категории или типа и установление связи между дифференцирующими признаками и способом написания — вместо одного этапа у однозначных.
Однако это не изменяет принципов работы — сопоставления и противопоставления, о которых шла речь выше. Наоборот, по отношению к исправлению ошибок на двухвариантные правила можно сказать то же самое, что говорилось о них при описании объяснения правила, а именно, что двухвариантные правила как при объяснении, так и при работе над ошибками по самой своей сущности требуют противопоставления двух вариантов в большей мере, чем однозначные правила. Таким образом, несмотря на все разнообразие частных приемов, применяемых при работе над ошибками, основными принципами их останутся сопоставление (объединение) сходных и противопоставление различающихся орфограмм, так как именно эти приемы создают, как об этом уже говорилось, те условия, которые наиболее благоприятны для основы всякого обучения — образования систем временных связей.
В этом нетрудно убедиться, если проанализировать приемы, рекомендуемые современной методикой. Возьмем же из них те, которые официально одобрены
Министерством просвещения (см. упомянутое выше методическое письмо).
Важная роль здесь отводится «умению классифицировать ошибки, определять их категорию» (в основе такого отнесения ошибки к определенному правилу лежит, как уже говорилось, включение этой ошибки в группу известных слов путем сопоставления, систематизации). Отмечается прием подбора опорных слов. В основе этого приема также лежит сравнение «сомнительной» орфограммы с ясно произносимой. Например, снег — снега, хлеб — хлеба (правописание глухих согласных); пастух— пас, пятачок — пять (безударные гласные); в деревне — в Москве (безударные падежные окончания) и т. д. В этих случаях происходит сравнение с правильным образцом.
При работе с безударными гласными широко рекомендуется подбор однокоренных слов; во взаимосмешивае-мых орфограммах корней — их противопоставление (например, предполагать, но предположить; колоть, но- калить, посидеть на крыльце, но поседеть от старости и т. п.). В основе всех этих работ лежит сравнение со сходными орфограммами, а в некоторых случаях противопоставление несходных.
Таким образом, работа над ошибками в орфограммах, подчиняющихся правилам, содержит три общих элемента: 1) установление грамматической категории, к которой относится орфограмма («подведение -под правило»), 2) конкретизация правила путем сопоставления ошибочно написанного слова с другими словами этой же категории, 3) дифференциация правил путем противопоставления взаимосмешиваемых орфограмм.
Перечисленные приемы не исчерпывают, однако, всего содержания работы над ошибками, а относятся в значительной мере лишь к первому ее этапу, который в методике принято называть анализом ошибок. Обычно учитель, проверив работы учащихся, выделяет особое время, чаще всего целый урок, который посвящается разбору ошибок. На этом уроке и проводятся те приемы исправления ошибок, о которых мы только что говорили.
Но было бы ошибочным предполагать, что такого анализа ошибок достаточно, чтобы избежать в дальнейшем их повторения. Школьной практике хорошо известно, что требуется много настойчивости и труда как от 408
учителя, так и учеников, чтобы добиться грамотного письма. Поэтому работа над ошибками ведется систематически и после их исправления и анализа. Каждая контрольная работа используется опытными учителями как показатель слабых мест в усвоении орфографии. Они (учителя) ведут строгий учет ошибок; выделяют ошибки, типические для всего класса и для каждого ученика в отдельности, в зависимости от этого индивидуализируют задания; вводят в текст упражнений слова, снова и снова возвращающие ученика к тому правилу, которое у него «недоработано».
Такие повторные «встречи» ученика с одним и тем же типом орфограмм вызывают один и тот же характер аналитико-синтетической деятельности, облегчают ее и вместе с тем упрочивают и закрепляют необходимые орфографические ассоциации. По своей психологической природе дальнейшая работа над ошибками не представляет ничего существенно отличного от тех упражнений, анализ которых мы дали выше, так как типы упражнений остаются при этом теми же самыми.
Учителю открывается лишь возможность при подборе материала для упражнений руководствоваться не предполагаемой степенью трудности того или другого слова или типа орфограмм, а реальной картиной успеваемости своего класса и при определении форм упражнений выбирать те, которые предоставляют ученикам возможно большую степень самостоятельности.
УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ
Аванесов Р. И. и Сидоров В. Н., Очерк грамматики русского литературного языка, Учпедгиз, 1945.
А в а н е с о в Р. И. и С и д о р о в В. Н., Реформа орфографии в связи с проблемой письменного языка, журн. «Русский язык в советской школе», 1930, № 4.
Алферов А. Д., Русский язык в средней школе, изд. «Сотрудник школ», М., 1911.
Афанасьев П. О., Методика русского языка в средней школе, Учпедгиз, 1944.
Афанасьев П. О., Краткая методика родного языка, М., Гиз, 1925.
Асратян Э. А., Системность коры больших полушарий. Труды физиологической лаборатории им. И. П. Павлова т. VIII, 1938.
Балталон Ц. и Б., Воспитательное чтение, М., 1913.
БархинК- и Истрина Е., Методика русского языка в средней школе, М., Учпедгиз, 1934.
Богородицкий В. А., Общий курс русской грамматики, М., Соцэкгиз, 1935.
Богоявленский Д. Н., Против вредных предрассудков в обучении орфографии, журн. «Начальная школа», 1939, № 3.
Богоявленский Д. Н., Орфография и творческое письмо, журн. «Русский язык в школе», 1948, № 2.
Богоявленский Д. Н., Теоретические вопросы методики орфографии. Ученые записки Марийского пед. ин-та, 1943.
Богоявленский Д. Н., К психологии изучения безударных гласных, журн. «Советская педагогика», 1946, № 12.
Богоявленский Д. Н., Правописание как сознательный навык, «Известия АПН РСФСР», вып. 3, 1946.
Б о г о я в л е н с к и й Д. Н., К психологии правописания безударных гласных, «Известия АПН РСФСР», вып. 12, 1947.
Богоявленский Д. Н., Очерки психологии усвоения орфографии, изд-во АПН РСФСР, 1948.
Богоявленский Д. Н., Психологические основы работы над орфографическими ошибками, журн. «Советская педагогика», 1954, № 4.
Богоявленский Д. Н., Учение И. П. Павлова — естественнонаучная основа психологии понимания, журн. «Советская педагогика», 1951, № 12.
Богоявленский Д. Н., Особенности анализа и синтеза при усвоении знаний, журн. «Вопросы психологии», 1956, № 2.
Божович Л. И., Психологический анализ употребления правила на безударные гласные корня, журн. «Советская педагогика», 1937, № 5—6.
Божович Л. И., Значение осознания языковых обобщений в обучении правописанию, «Известия АПН РСФСР», вып. 3, 1946.
Брандт Р. Ф., О лженаучности нашего правописания, 1901.
Бунаков А., Методика обучения русскому языку, 1914.
Бунаков Н. Ф., Родной язык, как предмет обучения в начальной школе, СПб., 1887 (изд. 10-е).
Б у с л а е в Ф. И., О преподавании отечественного языка, Учпедгиз, 1941.
Виноградов В. В., Русский язык, М., Учпедгиз, 1947.
Вишнепольская А. Г., Влияние соотношения некоторых орфограмм в русской лексике на усвоение правописания (автореферат, 1955).
ВоронинА. Г., Анализ и синтез сложных раздражителей у высших животных, Л., Медгиз, 1952.
Воскресенская А. И. и Закожурникова М. Л., Практическое руководство к преподаванию русского языка в начальной школе, 1950.
Выготский Л. С., Мышление и речь, М., Соцэкгиз, 1934.
Гвоздев А. Н., К вопросу о роли чтения в усвоении орфографии, журн. «Русский язык и литература в средней школе», 1934, № 4.
Гвоздев А. Н., Усвоение ребенком звуковой стороны русского языка, изд-во АПН РСФСР, М., 1948.
Гвоздев А. Н., Формирование у ребенка грамматического строя русского языка, ч. I и II,- изд-во АПН РСФСР, М., 1949.
Гвоздев А. Н., Значение изучения детского языка для языковедения, журн. «Родной язык и литература в трудовой школе», 1928. № 3.
Гвоздев А. Н., Основы русской орфографии, М., изд-во АПН РСФСР, 1947.
Г м у р м а н В. Е., К психологии усвоения орфографических правил, журн. «Советская педагогика», 1946, № 4—5.
Г р о т Я. К., Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого до ныне, СПб., 1876.
Гурьянов Е. В., Психологические основы упражнений при обучении письму, изд-во АПН РСФСР, М., 1948.
Гурьянов Е. В., Навык и действие. Ученые записки Моск, гос. ун-та им. М. В. Ломоносова, вып. 90, 1945.
Данилов М. А. Подготовка учащихся к активному восприятию новых знаний, журн. «Советская педагогика», 1947, № 8.
Державин Н. С., Основы преподавания русского языка и литературы в трудовой школе, ч. III — Русское правописание, Гиз, 1923.
Житомирский К. Г.» Молох XX века (правописание), изд-во «Труд», 1915.
Жуйков С. Ф., К вопросу о формировании орфографических навыков, журн. «Советская педагогика», 1954, № 1.
3 анков Л. В. (ред.), Опыт исследования взаимодействия слова и наглядности в обучении, изд-во АПН РСФСР, 1954.
Зарецкий А. И., Строение русской орфографии, журн. «Русский язык в школе», 1946, № 5—6.
Зимницкий В., Способы и приемы обучения правописанию, М., 1912.
Зинченко П. И., О формировании непроизвольного и произвольного запоминания, журн. «Советская педагогика», 1954, № 4.
Зыкова В. И., Оперирование понятиями при решении геометрических задач, «Известия АПН РСФСР», вып. 28, 1950.
Иванов П. П., Методика правописания безударных гласных корня слова, Учпедгиз, 1948.
И в а н о в-С м о л е н с к и й А. Г. (ред.), Опыт систематического экспериментального исследования онтогенетического развития корковой динамики человека, М., ВИЭМ им. Горького, 1940.
И в а н о в-С м о л е н с к и й А. Г., Об изучении совместной работы первой и второй сигнальных систем мозговой коры, «Журнал высшей нервной деятельности», АН СССР, М., т. I, вып. 1, 1951.
Ильинская И. С. и Сидоров В. Н., Современное русское правописание. «Ученые записки Моск. пединститута им. В. П. Потемкина», т. XXII, вып. 2, 1953.
И ст р и н а Е. С., Грамматическая основа правописания, «Известия Ленингр. педагог, ин-та им. А. И. Герцена», вып. 1, 1928.
Кабанов а-М е л л е р Е. Н., Роль чертежа в применении геометрических теорем, «Известия АПН РСФСР», вып. 28, 1950.
Кабанов а-М е л л е р Е. Н., Психологический анализ географических понятий и закономерностей, «Известия АПН РСФСР», вып. 28, 1950.
К а н о н ы к и н Н. П. и |Щ е р б а к о в а Н. А., Методика русского языка в начальной школе, Учпедгиз, 1939.
Красногорский Н. И., «Журнал высшей нервной деятельности», т. I, вып. 6.
Костин И. Т., Правописание и экспериментальная психология, М., 1912.
Корф Н. А., Первоначальное правописание, СПб., 1882.
Кульман Н. К., Методика русского языка, СПб., 1913.
Леонтьев А. Н. Психологические вопросы сознательности учения. «Известия АПН РСФСР», вып. 7, 1947.
Лурия А. Р., О патологии грамматических операций, «Известия АПН РСФСР», вып. 3, 1946.
Малаховский В. А., Очерк по методике русского языка, 1928.
Менчинская Н. А., Психология усвоения понятий, «Известия АПН РСФСР», вып. 28, 1950.
Менчинская Н. А., К психологии усвоения знаний, ш«Изве-стия АПН РСФСР», вып. 61, 1954.
Менчинская Н. А., Психология обучения арифметике, Учпедгиз, 1955.
О р а л ь н и ко в Н., Орфографическое правило и грамотность, журн. «Русский язык в советской школе», 1931.
Оральников Н., Поверочные и бесповерочные написания в письме школьников, журн. «Русский язык в советской школе», 1930, № 3.
«Павловские среды», т. I—III. Изд.-во АН СССР, 1949.
Павлов И. П., Полное собрание сочинений, т. III, кн. 1 и 2, т. IV, изд. 2-е, Изд-во АН СССР.
Палей И. Р., Методика русского языка в занятиях со взрослыми, Учпедгиз, 1941,
Первый всероссийский съезд преподавателей русского языка средней школы, М., 1917.
Петрова В. Н., К характеристике орфографического навыка у учащихся различных ступеней обучения. (Автореферат диссертации, 1953.)
Пешковский А. М., Русский синтаксис в научном освещении, Учпедгиз, М., 1934.
Пешковский А. М., Сборник статей, Гиз, Л., 1925.
Пешковский А. М., Сборник «Вопросы методики родного языка, лингвистики и стилистики», Гиз, М.— Л., 1930.
Пешковский А. М., Школьная и научная грамматика, изд. Нар. ком. по просвещению, М., 1918.
Пешковский А. М., Методическое приложение к книге «Наш язык», Гиз, 1923.
Пешковский А. М., Реформа или урегулирование, журн. «Русский язык в советской школе», 1930, № 3.
Пешковский А. М., Понятие отдельного слова. Сборник статей, 1925.
П о п о в В. С., О постановке обучения орфографии, журн. «Начальная школа», 1939, № 11—12.
Протопопов В. П., Исследование высшей нервной деятельности в естественном эксперименте, Медиздат УССР, Киев, 1950.
Пучков-с ький М. О., Про психолопю правописних нави-чок, Кшв, 1941.
П у ц ы к о в и ч Ф. Ф., Уроки русского правописания, СПб., 1889.
Редозубов С. П., Методика русского языка в начальной школе, Учпедгиз, 1950.
Рождественский Н. С., Обучение орфографии в начальной школе, изд-во АПН РСФСР, 1949.
Рождественский Н. С., Метод сопоставления в занятиях по орфографии), журн. «Русский язык и литература в средней школе», 1935, № 4.
Рождественский Н. С., Противопоставление как одно из свойств, морфологического написания, журн. «Русский язык в школе», 1946, № 3—4.
Рождественский Н. С., К характеристике современной русской орфографии, журн. «Русский язык в школе», 1936, № 3.
Сеидов И. А. К вопросу о влиянии зрительного- восприятия ошибок на усвоение орфографии родного- языка в азербайджанской начальной школе (автореферат диссертации), Баку, 1954.
Сеченов И. М., Элементы мысли, изд-во АН СССР, 1943.
С к а т ки н М. Н., Вопросы теории построения программ, «Известия АПН РСФСР», вып. 20.
С к и п и н Г. В., О системности в работе больших полушарий. Труды физиологической лаборатории им. И. П. Павлова, т. VIII, 1938.
СмирновА. А., Вопросы психологии усвоения понятий школьниками, журн. «Советская педагогика», 1946, № 8—9.
Смирнов А. А., Влияние направленности и характера деятельности на запоминание. Труды Института психологии Академии наук Грузинской ССР, Тбилиси, 1945.
Соболев Ап., Критический обзор способов обучения правописанию, СПб., 1900.
Соломоновский И., Знание и умение, «Педагогический сборник», 1897, № 2.
Солонина П. Н., Записки по методике русского языка, изд. Полубояринюва, СПб., 1900.
С о х и н Ф. А., Некоторые вопросы овладения ребенком грамматическим строем языка в свете физиологического учения И. П. Павлова, журн. «Советская педагогика», 1951, № 7.
Текучев А. В., Обучение орфографии с учетом особенностей местного диалекта, М., 1948.
Текучев А. В., Значение грамматики при обучении орфографии, журн^ «Русский язык и литература в средней школе», 1934, № 4.
Томсон А. И., Общее языковедение, Одесса, 1906.
ТомсонА. И., К теории правописания и методологии его преподавания в связи с проектируемым упрощением русского правописания. Летопись историко-филологического общества при Новороссийском университете, Одесса, 1904.
Труды первого съезда преподавателей рус-ского языка в военн о-у чебных заведениях, СПб., 1904.
Тихомиров Д. И., Чему и как учить на уроках родного языка, изд. 11-е, 1908.
Трошин Г. Я., Сравнительная психология нормальных и ненормальных детей, т. I — Процессы умственной жизни, Петроград, 1915.
Ушаков М. В., Работа над ошибками как средство поднятия грамотности учащихся. (Метод, письмо.) Изд. Мин. просвещения РСФСР, 1951.
Ушаков М. В., Методика правописания, Учпедгиз, изд. 1-е, 1936; изд. 2-е, 1947.
Ушаков М. В., Научно-лингвистические основы методики правописания, журн. «Русский язык в советской школе», 1930.
Ушаков М. В., Еще раз о принципах нашего правописания, журн. «Русский язык и литература в средней школе», 1935, № 4.
Ушаков М. В., Диктант или списывание, журн. «Русский язык в школе», 1946, № 5—6.
Ушинский К. Д.» Соч., т. 8, 10, изд-во АПН РСФСР, М.— Л., 1950.
Ушинский К. Д., Избранные педагогические сочинения, Учпедгиз, 1945.
Фармаковский В., Методика правописания по воззрениям русских педагогов и по учению экспериментальной школы, Одесса, 1907.
Феофанов М. П., Очерки психологии усвоения русского языка учащимися вспомогательной школы, изд-во АПН РСФСР, 1955.
Ферстер Н. П., Психология усвоения понятия вида глаголов, «Известия АПН РСФСР», вып. 78, 1956.
Флеров А. П., Психологические основы нового метода обучения правописанию, «Педагогический сборник», 1904, № 7—8—9.
Флеров В. А., Наглядность письма в освещении современной психологии, СПб., 1912.
Ч а в д а р о в С. В., Упражнения, журн. «Советская педагогика», 1939, № 7.
ill е в а р е в П. А., К вопросу о природе алгебраических навь!2 ков, Ученые записки Гос. института психологии, т. 2, 1941.
Ш е в а р е в П. А., Опыт психологического анализа алгебраических ошибок, «Известия АПН РСФСР», 1946, № 3.
Шереметевский В. П., Соч., М., 1897.
Ш в а р ц Л. А., Роль сопоставлений при усвоении сходного материала, «Известия АПН РСФСР», вып. 12, 1947.
Шестая всероссийская конференция по ликвидации неграмотности. (Вступительные речи и резолюции.) Изд-во «Долой неграмотность», 1928.
Ш и ф Ж. И., Очерки усвоения русского языка глухонемыми школьниками, изд-во АПН РСФСР, 1954.
Ярусов А., К вопросу об изучении орфографических ошибок. «Родной язык и литература в трудовой школе», 1928, № 2.
Bormann, Der orthografische Unterrioht in seiner einfachsten Gestalt, 1840.
Бюлер К., Духовное развитие ребенка, изд-во «Новая Москва», 1924.
Diesterweg A., Wegweiser zifr BiMung fur deutsche Lehrer. В. I, 1850.
Guillaume P., Le probleme du «learning» d’apres E. Thorndike. Journ. d. Psych, normale et pathologique, 1936, № 9—10.
Guillaume P., Le developpement des elements formels dans le langage de I’enfant. Journ. de Psych, normale et pathologique, 24, 1927.
Franken A., Der Rechtschreibunterricht auf experimenteller Grundlage, 1928.
Lay W., Fuhrer durch den Rechtschreibunterricht, 1896.
Л а й В. А., Экспериментальная педагогика, изд. 2-е, 1912.
М е й м а н Э., Лекции по экспериментальной педагогике, М., изд. «Мир», 1913.
Р о г i n i о t L., La crise de 1’orthographe et Fecole primaire. 1933.
Reiff R., Theorie lind Praxis d. Rechtschreibmethoden und Grundsatze d. Rechtschreibunterrichts in experim.-padagog<sche Untersuchung, 1920.
Homer B. Reed, Psych, of elementary school subjects, 1938.
R u s c h e 1 N., Experimentale Untersuchu’ngen fiber das Schreiben als Gedachtnisf actor. Arch. f. d. gesamte Psych., 1926. Bd. 57, H. 1-2.
Simon Th., Pedagogie experimentale, 1924.
Stern Cl. u. W., Die Kindersprache, dritte Aufl., 1922.
T op нд а й к Э. Л., Принципы обучения, основанные на психо-логии, М. «Работник просвещения», 1929.
Thorndike Ed., The foundamentals of Learning, 1932.
Торндайк Э. Л., Процесс учения у человека, М., Учпедгиз, 1935.
Штерн В., Психология раннего детства до шестилетнего возраста, Петроград, 1915.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Стр.
Глава I. Психологические взгляды русских педагогов дореволюционного периода на обучение орфографии . . 3
Глава II. Вопросы психологии усвоения орфографии в советской школе...........................................55
Глава III. Общая теория психологии правописания 89
Глава IV. Роль овладения семантикой языка в усвоении орфографии.............................................128
Глава V. Пути образования орфографических ассоциаций ....................................................187
Глава VI. Роль речевой практики ребенка в усвоении орфографии.................................................255
Глава VII. Психологические основы методики объяснения орфографических правил.................................287
Глава VIII. Психологические основы орфографических упражнений.................................................326
Глава IX. Психологические основы работы над ошибками . ............................................376
Указатель литературы..................................410
Богоявленский Дмитрий Николаевич
ПСИХОЛОГИЯ УСВОЕНИЯ ОРФОГРАФИИ
Редактор И. Л. Бердникова Техн, редактор В. П, Гарнек Корректор Е. Н. Соколова
Сдано в набор 26/VII 1956 г. Подписано к печати 19/XII 1956 г. Формат 84Х108!/з2 = бум. л. 6,5. Печ. л. 21,32. Уч.-изд. л. 21,39. А-11090 Тираж 10 000 экз. Цена 10 р. 05 к.
Изд-во АПН РСФСР, Москва, Погодинская ул., 8. Заказ 1159
Типография. Москва, улица Фридриха Энгельса, 46.